Василий Звягинцев Скорпион в янтаре. Том 1
Скорпион - целеустремленный, темпераментный, независимый, с развитой интуицией, способный проникать в суть любого явления, твердый, терпеливый, решительный, склонный к мистике.
Упрямый в достижении личных целей, своевольный, мстительный, скрытный.
Застрять во времени своем,
как муха в янтаре,
и выждать в нем иных времен -
получше, поясней?
Быть человеком из толпы,
таким, как вся толпа,
и видеть, как ее столпы
мир ставят на попа?
А может, выйти из рядов
и так, из ряду вон,
не шум огромных городов,
а звезд услышать звон?
ГЛАВА ПЕРВАЯ
За окнами не только этой великолепной, расположенной в самом центре Москвы, квартиры, за всеми окнами столичного города продолжалась морозная, вьюжная ночь конца января тысяча девятьсот тридцать восьмого года. Такая же точно, как прошлая, как все другие ночи, что случались здесь всеми январями, сколько их наберется в писаной и неписаной истории. Наверное, те же самые ветры свистели и завывали над теремом князя Юрия Долгорукого, писавшего в тысяча сто сорок седьмом году своему сродственнику: «Приезжай ко мне, брате, на Москов. Дам тебе обед силен!» Принято считать, что дал, только меню не сохранилось.
Отличался нынешний январь от всех прошлых, пожалуй, тем, что был он пострашнее, чем любой другой, включая времена Батыева нашествия. В тринадцатом. веке возможность быть ограбленным или убитым входила в норму жизни; радости, конечно, не вызывала, но и вгоняющего в беспросветную депрессию ужаса - тоже. У каждого мужика имелись топор, рогатина, засапожный нож, у князя, самого затрапезного, пусть небольшая, но дружина. Оборониться было чем и чаще всего удавалось.
В году же по Рождеству Христову тысяча девятьсот тридцать восьмом случилось совершенно иначе, Каждый человек великой Страны Советов внезапно узнал (догадывался-то и раньше), что отныне над жизнью он своей не властен даже в тех ограниченных пределах, что гарантировала «Конституция победившего социализма». В любой момент по доносу соседа, за неудачно сказанное слово, за анекдот, за принадлежность к давно упраздненным «эксплуататорским классам» или просто так, случайно попав в список, можешь пойти без суда и следствия на высылку, в лагеря, под расстрел. Самое же обидное - никто не заступится, не «возвысит голос», чаще - даже не удивится. Забрали и забрали, хорошо, что не меня…
Уходили бесследно в дальневосточные лагеря или на «десять лет без права переписки» заслуженные полководцы Гражданской, соратники Владимира Ильича, члены Политбюро, наркомы, простые инженеры, комбриги и полковники, слесари, бухгалтеры, колхозники из глухих, забытых даже райисполкомом, но не отделом НКВД деревень. Для приведения системы всеподавляющего страха в окончательную, законченную, самодостаточную форму пролетарское государство победившего социализма приняло закон о применении смертной казни к гражданам начиная с двенадцатилетнего возраста. Такого, кажется, не было в Европе со времен мрачного Средневековья.
Однако нашелся в числе особо ответственных товарищей один, отчего-то не захотевший идти в тюрьму и под расстрел, когда имеется возможность к сопротивлению и формально разрешенной самообороне. Нарком оборонной промышленности Григорий Петрович Шестаков. Группа сотрудников спецотдела ГУГБ[1] не сумела положенным образом задержать и доставить по назначению обреченного на заклание деятеля. Все вышло несколько иначе.
Оставив у себя в квартире тела не пригодных к дальнейшему несению службы чекистов, Шестаков целую неделю скрывался от властей, бросивших на его поиски всю мощь государственного аппарата, пока наконец с помощью ближайшего помощника товарища Сталина не был разыскан, доставлен на прием к вождю, прощен и обласкан.
Заместитель заведующего Особым сектором ЦК ВКП(б), Валентин Валентинович Лихарев, удовлетворенный проделанной работой, оставил недавно опального и вдруг вознесенного на горние вершины наркома Шестакова отдыхать и набираться сил в своей квартире в Столешниковом переулке, а сам решил немного развеяться в «злачных местах» столицы. Которых и тогда для «знающих людей» хватало[2].
…Валентин возвратился домой, как и полагалось после хорошей гулянки, часов около семи утра. Затемно еще. Мог бы и позже, однако сказывались многолетняя привычка и номенклатурный опыт - не оставаться ночевать в чужих квартирах, чьи бы они ни были. Мало ли что может случиться, когда ты выпал в иные измерения? Любой (любая в особенности) агент НКВД, иностранных разведок, соперник из инопланетных спецслужб, да просто умеющий втираться в доверие уголовник возьмут тебя голыми руками.
Поэтому спать нужно только дома и уходить из гостей в легком подпитии, но трезвым, веселым, хорошо и правильно все замотивировавши. Тогда даже в чисто земном раскладе останешься в выигрыше. Перед женщиной, перед друзьями, особенно - перед недоброжелателями.
Уже на пороге квартиры Валентин испытал странное беспокойство. Ему показалось, что за время его отсутствия здесь случилось нечто нехорошее, неправильное. А что же именно? Не был он охотничьей собакой, способной уловить молекулу пахучего вещества, принадлежащего чужим людям или животным, однако именно такое ощущение возникло, едва он переступил грань двух миров, разделенных массивной, обитой кожей, пуле- и времянепроницаемой дверью. Впрочем, натуральная тисненая кожа - это уже за временным порогом, а в обычной жизни - дешевый, местами облезший до хлопковой основы дерматин стандартной коммуналки. В советской действительности кожа, нагло выставленная напоказ, или наводит проходящих мимо граждан на ненужные ассоциации, или ее просто срезают бритвой, на перчатки, например, или на сапоги.
Он торопливо, не раздеваясь, пересек прихожую, длинный коридор, гостиную, толкнул дверь кабинета, где оставил Шестакова-Шульгина. Нарком спал глубоким сном ничем не озабоченного человека, лежа на спине, забросив левую руку за изголовье, тихо похрапывая.
«Вот же нервы», - мельком отметил Лихарев, словно бы даже позавидовав. В человеческом, разумеется, смысле, потому что в своем ему завидовать было нечему. Он в любой момент умел отключаться от текущей реальности гораздо легче, чем актер эпизода от своей крошечной роли.
На журнальном столике рядом с наркомом лежал взведенный пистолет, поблескивала бутылка коньяка, опустошенная на две трети, стакан с остывшим чаем, целая горка окурков в хрустальной пепельнице. На коврике корешком вверх валялась упавшая из ослабевших рук книга.
«Какая?» - заинтересовался Лихарев. Тут ведь, в их работе, любой штришок может иметь значение. Взглянул на фиолетовый переплет. «Приключения авантюриста Феликса Круля». Ничего особенного. Легкое чтение. Хотя и не рядовое, мысли всякие навевает. Ухитрился Григорий Петрович отыскать на полках именно ее. Или не он, а Шульгин. Тому такая литература больше по характеру.
Ну да ладно. Все нормально. Клиент спит, в квартиру никто не входил, дверь межвременных переходов не зафиксировала. Теперь часиков шесть самому поспать, и можно отправляться на службу. Забот сегодня будет достаточно. С Поскребышевым план текущей работы согласовать, обычный, по сектору, не учитывающий отдельной деятельности. Выяснить, как складывается обстановка в верхах НКВД вообще и ГУГБ - само собой. По мере сил подстраховать Заковского - мало ли что с ним может случиться в эти смутные, переломные дни. Вдруг, как Камо в свое время, под грузовик попадет или, как Савинков, в окно следовательского кабинета выпадет.
И с Буданцевым что делать, тоже подумать стоит. Большие на сыщика надежды возлагал Валентин, успел убедиться в его человеческих и деловых качествах. Холмс не Холмс, а по нынешним временам фигура крайне неординарная, штучная, можно сказать. И использовать его на административной должности, как сгоряча вообразилось, - глупо. Хоть бы и начальником МУРа. Текучка заест, и врагов тут же обозначится немерено. Если не сожрут в первые же дни, так работать по профилю не дадут точно. Так что Ивана Афанасьевича мы иначе задействуем…
Лихарев вернулся в прихожую, разделся, прошел на кухню, по старому домостроительному обычаю упрятанную в таких глубинах, что обычный гость разве что случайно забредет. В те времена, когда строился дом, архитекторы отнюдь не рассчитывали, что кухня лет через сто, в советские шестидесятые годы, станет центром общения интеллигенции. А почему, кстати, стала? В однокомнатных хрущевках - понятно, но и в настоящих, просторных «сталинских» квартирах грудились там же. Какой-то муравьиный синдром. Или думали, что глупые чекисты подслушки ставят исключительно в гостиных и спальнях, а до кухни у них мозги и руки не доходят?
Валентин собрался приготовить чаю, от мысли о кофе его едва не тошнило, столько он его выпил, чтобы соответствовать той компании, в которой провел ночь. Ни в чем русские творческие люди меры не знают. Пролетарии кофе не пьют, значит, мы будем, до сердечных спазмов и рези в желудке.
А вот настоящий зеленый чай, да по японской традиции заваренный, - самое то.
Лихарев взбил бамбуковой кисточкой пену в глиняном чайнике, аккуратно перелил в чашку, сделал первый глоток и вдруг вскочил.
Дошло до него!
Запах, запах, тот самый, что ощутил, входя в квартиру! Нездешний запах, словно бы тонких мужских духов. Отнюдь не «Шипра», не «Тройного». Иностранные гости навестили? Из Англии, от леди Спенсер? Кто еще смог бы сюда проникнуть, минуя дверь? И - еще один штрих, сразу не воспринятый, но отложившийся в сознании. Проявившийся только сейчас.
Он, ступая очень тихо, едва ли не на цыпочках, вернулся к входной двери.
Вот оно! Под вешалкой стояли дорогие, штучной работы шевровые сапоги Шестакова. В таких ходили только самые ответственные из ответственных работников. В царское время они назывались «тимофеевские» - был такой мастер, что обувал царскую семью, высших сановников и богатейших гвардейских офицеров. Сто рублей пара стоила, в то время как массового пошива, из того же материала, - три!
Валентин увидел, что подошвы этих сапог испачканы свежей, черной, сыроватой землей. Да еще и травинка к каблуку левого прилипла. Живая, сочная травинка. Откуда такое - в зимней Москве?
Даже в Кремле, если бы невзначай оступился нарком, выходя с «крылечка», газоны были покрыты полуметровым слоем снега. А дальше только машина, тротуар перед домом - и все. Нигде больше они не были с Григорием Петровичем.
Загадка? Еще бы!
Валентин не в такой мере был человеком, чтобы его прошиб холодный пот, но тем не менее душевного спокойствия он лишился напрочь. Еще покрутил в руках сапог, осторожно, как взведенную мину, поставил на место, вернулся на кухню.
Подкидывает жизнь варианты. Только что избавился от некоторых, нате вам новенький.
…Валентин Лихарев не зря был очень высокого мнения о себе. Он считал, что как экземпляр профессионального координатора стоит на более высокой ступеньке эволюции, чем прочие работающие на Земле. Ведь его создали и воспитали на сотню лет позже, чем ту же леди Спенсер, и при подготовке наверняка использовали уже накопленный опыт функционирования подобных «псевдохомо». И роль ему предназначалась более серьезная, чем Сильвии. Личный друг полноправного Самодержца - это не в пример значительнее, чем приятельница принцев царствующего, но не правящего дома, всяких там пэров и министров то и дело сменяющихся кабинетов.
А что ранг в аггрианской иерархии у нее гораздо выше - это лишь упущение тех, кто его сюда направил. Рано или поздно оно будет исправлено, Лихарев был уверен в этом. Не зря же, вопреки обычаям, его все же повысили в звании, и леди Спенсер сама заменила в его Шаре системный блок на гораздо более мощный. Не исключено, что карьерный рост продолжится по мере возрастания веса Советской России в мировых делах. Тем более что Сильвия в деле Шульгина-Шестакова продемонстрировала отнюдь не лучшие деловые качества.
Антон напрасно считал, что имеет возможность надежно заблокировать все установленные в квартире следящие системы. Возможно, ему внушил эту уверенность один из Игроков, которому захотелось обострить столь неожиданно возникший эпизод с тридцать восьмым годом, матрицей и кольцевым парадоксом «письма к самой себе».
На самом деле Лихарев сумел записать почти все переговоры, которые вели и Сильвия, и Антон с Шульгиным. Единственное, что осталось ему неизвестным, - это замысел Александра сохранить свою матрицу в личности наркома. Тоже скорее всего по воле Игроков. Иначе терялась всякая интрига.
Зато Валентин теперь знал, что дорога на Таорэру ему открыта, ранг позволяет. Пойдет и встретится там с кем-то из высшего руководства, а заодно и с Шульгиным, когда его переправят туда Сильвия или же не проходивший ранее ни по каким учетам агент противника Антон. Кто успеет. «Настоящего» Шульгина увидеть прежде других даже предпочтительнее. Обговорить с ним условия дальнейшего сотрудничества, а уже потом выходить на Дайяну или кого-нибудь еще сопоставимого ранга[3].
А теперь выходит, что Шестаков уже «пустой»? Валентин испытал чисто человеческое чувство обиды, что Шульгин его так нагло обманул. Пообещал дождаться, обсудить дальнейшие, связанные с использованием наркома планы, еще раз сходить к Сталину для закрепления достигнутого успеха, а уже потом… И вдруг - сбежал сразу, не оставив хотя бы записочки.
Благородные люди так не поступают.
Но его еще можно догнать. Шар сохранил координатную привязку времени и направления внепространственного перемещения. Новые возможности позволяли Лихареву, рассчитав параметры перехода, прибыть на Таорэру не позже чем через пять минут после Шульгина. Вряд ли за этот срок его успеют переправить обратно на Землю, но уже в другую реальность.
Все же Валентину был не совсем понятен механизм задуманного форзейлем обмена разумов. С аггрианскими технологиями он не имел ничего общего. Если леди Спенсер подсадила матрицу Шульгина в тело наркома в виде волнового пакета, то Антон зачем-то отправил Шестакова через канал физически, это подтверждалось и зафиксированным Шаром количеством перемещенной массы, и тем самым «штрихом мастера», с травинкой (придуманным Сашкой на этот именно случай).
Или же отсюда, с напичканной всевозможной техникой базовой точки, переместить матрицу в неповрежденном виде было невозможно? Сразу и через пространство, и через границы довольно далеко разнесенных реальностей? Лихарев понимал: не его это уровень компетенции. Но раз сделано именно так, значит, способ кем-то сочтен оптимальным. Предположим, что туда же, на Таорэру-Валгаллу, одновременно из двадцатых годов было перенесено собственное тело Шульгина и обмен состоялся именно там, непосредственный, «из мозга в мозг», после чего организмы возвратились «по принадлежности».
Александр Иванович - в свое основное время, Шестаков - обратно в квартиру Лихарева.
Валентин знал, что по его положению самостоятельно являться на главную базу - то же, что провинциальному партработнику, минуя местное руководство, приехать в Москву, в Центральный Комитет, с жалобой или доносом. Может повезти, если ткнешься в нужную дверь, но скорее - голову открутят, сразу или спустив задачу по инстанциям.
Но он же не собирался сразу к начальству, он сначала хотел Шульгина перехватить. А если не выйдет, так можно «по-тихому» вернуться, в случае чего объяснив свою инициативу искренним желанием следовать не букве, а духу задания.
Лихарев понятия не имел, куда именно попадет на далекой планете, которую по-настоящему так и не видел в годы «учебы», он просто шел по следу, как ищейка по запаху. Само собой, ничего не знал о событиях, происшедших здесь почти через полвека, о постройке земного форта и обо всем прочем. О штурме землянами Базы и взрыве информационной бомбы, обрубившей связь между Метрополией и Таорэрой нулевой зоны, вообще свернувшей доступную агграм Главную реальность в подобие пергаментного свитка. О нескольких встречах Новикова и Шульгина с Верховной координаторшей Дайяной, которые происходили практически в одно и то же время и в том же месте, независимо от того, попадали земляне сюда своей волей или «случайно», из восемьдесят четвертого, тридцать восьмого и двадцать первого года.
С точки зрения знатока математики Левашова здесь имела место «закольцованная дурная бесконечность» плюс создающая сильные волновые помехи близкая зона вырожденного времени.
Лихарев проскользнул тоннелем, который при внешней длине под пятьдесят парсек изнутри был не больше переходного тамбура обычной электрички. Войти и выйти. Из сумрачной зимней квартиры на солнечную, но продуваемую знобким осенним ветром поляну напротив высокого деревянного терема. Видно, что не так давно он был основательно поврежден, одно его крыло носило следы не слишком тщательного ремонта. Бревенчатая, в стиле древнерусской оборонной архитектуры ограда, в нескольких местах проломленная, как бы не стенобитными орудиями, заделана на скорую руку рогатками из плохо ошкуренных бревен, щедро обмотанных колючей проволокой,
Валентин, сделав несколько шагов по направлению к дому, остановился, не зная, как поступить дальше. Дом явно человеческой постройки и, значит, должен иметь отношение к Шульгину и его друзьям. Таорэрские корпуса учебно-тренировочного лагеря для будущих земных координаторов выглядели не в пример солиднее, относились по стилю к индустриальной эпохе, а не позднему Средневековью, да и располагались на много сотен километров южнее.
Однако само место ему понравилось. Не только терем, гармонично вписанный в окружающий пейзаж, будто совместно потрудились Шишкин и Билибин, а и разлитая в пространстве аура покоя и умиротворенности. «Благорастворение воздухов», если вспомнить язык XVIII века.
Некоторым диссонансом выглядела брошенная ближе к краю поляны, тронутая ржавчиной угловатая коробка гусеничной машины неизвестной конструкции, несколько черно-рыжих лишаев на дернине, чересчур похожих на следы гранатных разрывов. Или плевков огнемета,
И здесь, значит, воевали. Кто с кем? Если бы этим поместьем занялись агтры с Главной базы, тут бы, кроме пепла, ничего не осталось. Нападение аборигенов? Кое-что о них Лихарев слышал, но, кажется, агрессивностью они не отличались и до столь высоких широт не добирались. Но сейчас не это важно.
Валентин машинально коснулся ладонью маузерной коробки на левом боку. С «маузерами» в Советской державе ходили только заслуженные участники Гражданской войны или такие, как он, «особо доверенные лица». Орден не орден, а все-таки знак отличия, признания заслуг. И сюда он явился в своей форме военинженера, с пистолетом. Хоть ты какой «координатор», а жизнь в СССР приучила, что личное оружие если не всегда поможет реально, то шансы все-таки повысит.
До ворот усадьбы оставалось метров двадцать, как вдруг из-за них поднялся многоголосый собачий лай низких и угрожающих регистров. Обитаемое, значит, место. Собак, в случае чего, можно успокоить волевым посылом, если только они не имеют специальной защиты. Да откуда? И Лихарев продолжал идти ровным неторопливым шагом, ожидая, пока появится кто-нибудь более высокоразвитый.
Он немедленно и появился, растворил калитку. Мужчина тридцати с небольшим лет, несколько выше среднего роста, располагающей наружности. Так и хотелось назвать его «господином», пусть и не в ходу теперь был этот термин. В спортивном костюме начала двадцатых годов, то есть брюках-гольф с застежками под коленями, шерстяных клетчатых гетрах, коричневых ботинках-бульдо на толстенной каучуковой подошве. Твидовый пиджак с накладными карманами просто наброшен на плечи. В опущенной левой руке «винчестер», короткий, но впечатляющего калибра.
«Успел, слава тебе, господи», - подумал Лихарев, потому что никем иным, кроме как А.И. Шульгиным в своем «естественном» облике {из тех самых двадцатых годов), этот человек просто не мог оказаться.
С другой стороны, он мог быть кем угодно, вплоть до самой Верховной, мадам Дайяны, которая, как слышал Валентин еще в «интернате», умела принимать любой облик. Только вот земное оружие ей ни к чему. Не по должности.
Исходя из первого предположения, он дружелюбно помахал рукой.
– Примете, Александр Иванович?
– Догнал все-таки? - широко улыбнулся мужчина, тем самым подтверждая свою идентичность. - Приму, конечно. Это в твое уже время какой-нибудь Лебедев-Кумач сочинил песню: «За столом никто у нас не лишний…»?
– В мое, в мое. «По заслугам каждый награжден…» Вместе с Дунаевским…
– Тебе виднее. Заходи.
Он цыкнул на собак и провел гостя по мощенной дубовыми плахами дорожке на крыльцо.
– Не пойму только, зачем я тебе так потребовался, чтобы 3,086 км, умноженные на 10 в тринадцатой степени и еще раз на пятьдесят, пешком за мной гнаться? Это сколько всего будет?
– Грубо - пятнадцать с половиной квадриллионов, точнее нужно? - сообщил Лихарев, испытывая удивительное ощущение радости от встречи с человеком, с которым можно, а главное - хочется говорить, не задумываясь о последствиях.
– Пока достаточно. Меня в начальной школе тоже учили быстрому устному счету, но не в таких масштабах, конечно. Но на первый вопрос ответь все-таки…
– Вы же не англичанин, надеюсь? Обещали еще кое-какие темы обсудить, а ушли не прощаясь.
– Как раз сейчас - именно англичанин. Сэр Ричард Мэллони. Разве не видно? Надоело в вашей сталинской Москве болтаться, ну, взял и ушел, заглянул на подмандатную территорию - проверить, что здесь без меня успело приключиться. А тут как раз гости… Да не ты, не ты, выше бери. Главное, войдешь - не пугайся и не делай резких движений…
Лихарев не понял, очередная ли это шутка, не совсем попадающая в тему по причине их разного исторического возраста и жизненного опыта, или практический совет.
Предпочел подумать, что последнее.
Шульгин провел Валентина по широкому, пахнущему сосновой смолой коридору, с подчеркнутым пиететом распахнул перед ним высокую створку украшенной резьбой двери.
– Видите, уважаемая, наши ряды пополняются. Не знаю, что будет, если визитеры повалят валом…
Лихарев мгновенно охватил взглядом весь обширный зал. Четырехметровые потолки, подкрепленные грубо тесанными балками с подкосами, горящий камин у левой стены, три окна прямо, два справа, в простенках остекленные книжные шкафы и открытые стеллажи, у глухих стен пирамиды с многочисленными, очень не рядовыми ружьями и винтовками. Посередине - массивный, нарочито, одним топором сделанный стол, за которым могли бы пиршествовать до двадцати человек, но весьма скромно накрытый только на двоих.
У ближнего к камину торца, в грубом свитере, скорее подобающем полярнику, чем красивой сорокалетней даме, подперев кулаком подбородок, сидит та самая недостижимая рядовым агграм, почти как Сталин советским трудящимся, Дайяна, Верховный координатор. С которой хотел и одновременно боялся встретиться Лихарев. Было у нее, само собой, и другое имя, и иная исходная внешность, только никто из человекообразных агентов об этом достоверной информации не имел. Одни лишь осторожные слухи.
Сейчас, впрочем, никаких следов величия в ней не просматривалось. Женщина и женщина. Лихарев не бывал в восьмидесятых и даже в шестидесятых годах, там ее облик не показался бы странным, наоборот, он больше соответствовал здешнему интерьеру, чем парадное платье или деловой костюм.
Валентин поздоровался, стараясь держать себя в руках. Если Шульгин с ней на равных, что очевидно, так и ему опасаться нечего. По крайней мере здесь. Да он ведь этого и хотел. Вот и пожалуйста. В идеальной, между прочим, обстановке.
Шульгин достал из шкафа третий прибор. Есть Лихареву совершенно не хотелось, но стакан выдержанного сухого хереса он выпил с удовольствием, едва ли не с жадностью. После вчерашнего.
Дайяна смотрела на него странным взглядом. Потерянным и тусклым. Валентин мог бы еще понять, если бы она сделала ему какой-то тайный знак, попыталась предупредить или предостеречь, да пусть даже прожечь глазами за нарушение субординации и регламента. Неужели товарищ Шульгин сумел на чем-то поймать и ее? Поразительно. Но ведь и в записанных им словах разговора Сильвии с Шульгиным тоже проскакивали намеки на некую масштабную неудачу их проекта…,
– Друзья, друзья, - слегка аффектированно провозгласил Александр, - наша встреча неожиданна, но потому и особенно приятна. Наверное, мадам, те силы, о которых мы говорили в прошлый раз, зачем-то ее организовали? Или я не прав? Валентин вон, бросив свои ответственные заботы, помчался по моим следам. Да и мне кое-кто помог вернуться именно сюда, хотя в мои личные планы это совершенно не входило. Вы тоже вдруг вышли прогуляться по окрестностям и совершенно случайно встретились со мной… Или, может быть, наш форт обладает особой мистической силой, притягивая к себе всех, даже случайно попадающих в орбиту его воздействия?
Шульгин, завершив тост и выпив, вдруг счел необходимым ввести Лихарева в курс дела. Чтоб он не сидел, бессмысленно хлопая глазами, как человек, по ошибке оказавшийся не в той компании.
Крайне любезно сообщил, что он совсем не собирался так невежливо покидать гостеприимный приют на Столешниковом, что ему действительно крайне интересно было бы продолжить общение с вождем всего прогрессивного человечества, но так вот получилось… Только он вздумал укрепить свои силы и лечь спать, как закрутило-замутило незнамо что и выбросило вот сюда. В свое собственное, в восемьдесят четвертом году потерянное тело, которое, оказывается, без него очень недурно обжилось в двадцать первом и прибыло сюда, чтобы забрать владельца домой.
Он замолчал, отпил глоток, посмотрел по сторонам, как бы ожидая реакции на красиво сконструированный период. Не дождался, сотрапезники оказались слишком травмированы происходящим, хотя чего уж, казалось бы? Например, загоняя Новикова и Берестина в сорок первый год, Дайяна вела себя очень уверенно и даже надменно. Правда, когда некоторое время спустя Андрей возил ее породистым лицом по здешней грязи, она часть своего гонора потеряла. А потом на катере снова держалась вполне прилично, несмотря на то что положение у нее было совсем пиковое. Не прояви Новиков почти самоубийственного гуманизма, так и сидела бы до сих пор в промерзшей стальной коробке катерной каюты, два на два метра, причем без гальюна. Выручить ее оттуда на всей планете было некому, а вылезти через иллюминатор пышные бедра не позволили бы.
Лихарев, будучи по натуре личностью попроще, и держался соответственно. А что за беда? К нему жизнь всегда была повернута казовой стороной. Ему поручено решать судьбы человечества, он их и решает. Успешно и с полным для себя удовольствием. Правда, сейчас все как-то иначе начало оборачиваться.
Он успел впервые ощутить это, самым краешком, когда Шульгин-Шестаков вмиг его обезоружил в заснеженном Сокольническом парке и заставил играть по своим правилам. Но это было еще не так наглядно, могло сойти и за досадную случайность. А сейчас этот -землянин просто подавляет, и не только его, но и Высшую…
Александр Иванович, поняв, что клиенты готовы, резко сменил тон:
– Согласитесь, Дайяна, что сейчас мы с вами в одинаковом положении. Прошлый раз на катере вы говорили от имени Игроков, Держателей, и мы вас слушали, конечно, без трепета, но с достойным обстановки вниманием. Сейчас, я вижу, вы отвечаете только за себя. Так?
Лихарев снова не понял, о чем речь, но Дайяна кивнула утвердительно. Очень интересно.
– Ты, Валентин, тем более ни за что не отвечаешь. Для тебя наш разговор - хуже, чем китайская грамота. Так?
Валентин тоже кивнул, предпочитая не говорить слов, которые могут быть истолкованы самым неожиданным для него образом. Почему и в ближнем окружении Сталина продержался так долго.
– Скажите, Дайяна, - спросил Шульгин, - сколько времени назад по вашему счету мы расстались?
– Часов десять-двенадцать, я думаю…
Очень хорошо. Для первого Александра, по личным ощущениям, прошло не меньше года. Это с возвращением в крымскую Россию, в Москву, со спасением Колчака, сражениями с англичанами и всем прочим. И - переброс сюда.
Вторая память ограничивалась десятью днями - от ночи в постели Сильвии до ухода сюда же, через историю Шестакова. При этом он спокойно относился к совмещению в себе этих далеко не конгруэнтных[4] вариантов.
И пока еще он не очнулся в каменной каютке Нерубаевских катакомб[5], чтобы осознать часть (только часть} с ним произошедшего. Это, в определенном смысле, впереди.
Ни Дайяну, ни Лихарева он грузить собственными сомнениями не собирался. Они раз и навсегда договорились с Новиковым (кстати - после напряженного разговора с Дайяной же), который единственно его понимал в почти полной мере, - не касаться проблем собственной адекватности и душевного здоровья. Иначе легко зайти слишком далеко. Лучше попросту: психи - так психи, нет - так нет. Начнешь углубляться, выяснять, обсуждать, диагностировать - верный путь к смирительной рубашке. Не джеклондоновской, к обыкновенной.
– Давайте лучше уточним наши позиции, - предложил он. - Последний с вами разговор, Дайяна, мне показался конструктивным. Вы вели себя как весьма разумная и отстранившая потерявшие смысл эмоции женщина. Мы могли бы принять вас в наше общество, как Ирину, как Сильвию…
Лицо Дайяны дернулось мгновенным тиком. Нет, пожалуй, Шульгин слегка перебрал. Так сразу предложить герцогине место горничной или приживалки - не всякая поймет правильно, найдет в себе силы здраво оценить обстановку. А с другой стороны, Александр сам видел, как легко адаптировались, оставив гонор, русские князья, полковники и фрейлины двора Ея Величества к положению шоферов, швейцаров борделей или… Но не будем, не будем уточнять.
– Спасибо за предложение, но планы у меня есть собственные, и вряд ли мы сможем найти общий язык. Вы просто не понимаете, о чем говорите. И правы вы только в одном - из того, что наши пути снова пересеклись, следует лишь вопрос: кому и зачем это нужно? Но уже не мне. Я сижу сейчас здесь и не могу найти никаких объяснений - зачем? На самом деле самое простое - у меня появилось желание вновь увидеть это место, я пришла и увидела вас. А теперь и этого господина, которого я неплохо помню. Леди Спенсер отзывалась о нем достаточно положительно. Вы от нее, это она дала вам формулу перехода? А для чего? Ваше появление здесь и раньше не показалось бы мне уместным, а теперь тем более. Или на Земле опять случилось что-нибудь неожиданное?
– Насколько я знаю, нет, - осторожно сказал Лихарев. - Простите мою инициативу, но я просто счел своим долгом найти кого-нибудь из руководства. Леди Спенсер последнее время ведет себя достаточно странно, вот хотя бы в истории с товарищем Шульгиным-Шестаковым… Есть и еще несообразные моменты…
– Стучать прибежал? - широко улыбнулся Шульгин. - Террор среды, как у вас говорят? Не донесешь ты первым, донесут на тебя? А мне казалось, ты к советскому яду нечувствителен…
Такая трактовка его поступка Лихарева, кстати, вполне устраивала. Не нужно придумывать ничего более сложного.
– Александр Иванович, все ведь зависит только от того, как назвать. По-вашему - стучать, по-другому - принять необходимые меры. Если на фронте вы узнаете, что ваш командир собирается перебежать на сторону врага с секретными документами, неужели сделаете вид, что вас это не касается?
– Хорошо, хорошо, пример удачный, а вообще ваши дела меня ни малейшим краем не интересуют. Вот, встретил ты главнейшую из главных, докладывай, а я и выйти могу, мне ваши секреты вон где… Мне бы домой поскорее вернуться.
Он в самом деле встал, пружинистой походкой направился к двери на окружавшую терем галерею.
– Вы опоздали, координатор Лихарев, - прежним тусклым голосом сказала Дайяна. - Ничего нет. Базы нет, Проекта нет, меня, в том смысле, как вы это представляете, тоже нет… Живите, как знаете, или, наподобие самураев в день капитуляции Японии, сделайте себе харакири…
– А немного подробнее - можно?
Дайяна очень коротко и устало пересказала ему то, что раньше уже говорила Сильвии. О ликвидации связи с Метрополией, исчезновении базы, распаде памяти, ее личной и компьютерной, «схлопывании» всего «Pax Aggriana»[6].
Но Лихарев был не так прост. Он спросил Дайяну о реальной, фиксированной по Главной последовательности дате начала этого процесса.
– Ваш вопрос не имеет смысла. Какая разница?
– Для меня - есть. По косвенным данным, ставшим мне доступными совершенно случайно, это произошло никак не раньше конца восьмидесятых годов…
– Я ведь живу и работаю в тридцать восьмом. Что бы тут у вас ни случилось, в моем времени все остается по-прежнему?
– Очень может быть. Но меня это уже не интересует. Я ведь - здесь.
– А я могу переместиться оттуда - сюда? Если миссия там больше не имеет смысла?
Дайяна задумалась на несколько секунд.
– Боюсь, что нет. Вас же учили…
Теорию Лихарев помнил, но ведь столько уже произошло и происходит вещей, никак с ней не согласующихся.
– Простите, ведь только что господин Шульгин предлагал ВАМ присоединиться к их компании в их времени. Почему бы и не мне тоже? Раз в тридцать восьмом моя работа уже не имеет смысла и перспектив…
Дайяна пристально посмотрела ему в глаза.
– Просто потому, что вы - не я. Вы жестко привязаны к своему месту и времени. Если вздумаете остаться здесь - вас просто выдернет обратно, когда напряжение хронополя упадет. А оно упадет очень скоро, оно уже падает, потому что Базы на Таорэре нет и его нечем поддерживать. То, что вы сюда сумели проникнуть, - это уже парадокс. Да вот, смотрите, тот, на кого вы уповаете, исчез…
Валентин посмотрел в окно.
Буквально минуту назад он видел Шульгина, сидящего на перилах и безмятежно покуривающего. Теперь же там было пусто.
Подчиняясь странной смеси отчаяния и облегчения, он выскочил на галерею. Действительно, землянин исчез, испарился. Ни убежать Александр Иванович не успел бы, ни спрятаться, приди ему в голову такая затея.
– Что бы это значило? - спросил он у Дайяны, возвращаясь в комнату.
– Да ничего. Фантом, призрак, или та самая «пересадка». Его земное тело было прислано, чтобы встретить информационный сгусток матрицы. Мы успели, случайно или нет, стать очевидцами. Он говорил с нами, пока личности, одноименные, но не одинаковые, притирались друг к другу. Оттого и знание событий, никогда на самом деле не совмещавшихся и несовместимых. Очередной парадокс. Теперь процесс завершился. Сейчас он снова «дома». Через несколько минут уйдете и вы. Ничего не могу вам посоветовать. Живите, работайте. В тридцать восьмом у вас есть леди Спенсер, там же может появиться и прежняя госпожа Дайяна. Лет через пятьдесят, может быть, встретимся. А возможно, и раньше. Сейчас я уже не помню, было такое в той жизни или не было…
– Тогда я совсем ничего не понимаю. Зачем мы сейчас втроем сошлись здесь? Должен ведь быть какой-то смысл, цель, сверхзадача?
– Вполне возможно. Только нам об этом не сказали. Вам, предположим, нужно было увидеть меня нынешнюю, чтобы с учетом этой встречи как-то иначе вести себя там, где вы сейчас пребываете. Мне - убедиться, что змея в очередной раз укусила собственный хвост.
Шульгин же… Тут я пас. Или действительно простая случайность, незапланированное пересечение мировых линий, или - ход, последствия которого не нам знать… Так что прощайте, Лихарев. Живите по инструкции, ничего лучшего вам посоветовать не могу. И, мне кажется, впредь вам следует избегать контактов с господином Шульгиным и ему подобными. Ничего хорошего такое общение не принесет, а потерять вы можете гораздо больше того, что имеете сейчас. Это я говорю вовсе не как бывший руководитель Проекта, просто как достаточно умудренная жизнью женщина.
Все беды начались после того, как одна из нас вообразила себя одной из них.
Еще раз - прощайте…
И без какого-либо действия со своей стороны, без произнесения формулы и включения блок-универсала Валентин осознал себя вновь стоящим в дверном проеме из кабинета в мастерскую. Пол под ногами слегка покачивался, и мутило так, будто накануне он пил, не закусывая, неразведенный спирт. А на самом деле - не больше двух бутылок шампанского в обществе прелестной молодой коммунистки, сотрудницы отдела литературы на иностранных языках Ленинской библиотеки.
Девушка, безусловно, была «из бывших», но тщательно замаскировавшаяся. Не может выпускница рабфака, сразу после него - института имени Мориса Тореза абсолютно свободно владеть французским и иметь такое точеное, гибкое тело. Она принесла в ридикюльчике[7] «Камасутру» парижского издания 1899 г., и они увлеченно переводили ее на русский, часто смеясь и пытаясь выяснить, действительно ли это техническая инструкция или всего лишь плод болезненного воображения отставного евнуха из гарема джайпурского магараджи.
Кое- как совместив события минувшей ночи и последних минут, Лихарев бросил на диван «маузер», стянув сапоги и гимнастерку, снова прошлепал босиком на кухню. Хитро улыбаясь, снял с руки браслет гомеостата, после чего извлек из буфета очередную бутылку коньяка, набулькал себе в обычный «тонкий» стакан гораздо больше половины (а что, государь Александр Третий Александрович на меньшие дозы не разменивался), выцедил сквозь зубы. Не спеша, прислушиваясь к ощущениям. Если отпустит, значит, он -еще он. Если нет - на этот случай у него ответа не было приготовлено.
Слава богу, отпустило.
Ровно так, как полагалось, сообразно его натуре и биохимии.
Посидел, допил чай уже без всякого удовольствия, выкурил папиросу. И пошел будить Шестакова. Что-нибудь он ведь расскажет, если правильно вопрос поставить?
Шестаков, может быть, и расскажет, а Шульгин?
Шульгина после всего случившегося вчера-позавчера он опасался точно так, как любой лейтенант или капитан опасается полковника, независимо от личности. Сами по себе знаки различия подразумевают, что любой их носитель может сотворить с тобой любую пакость, никак не связанную с реальными заслугами или провинностями, и всегда будет прав, а ты - наоборот.
И даже квартира вдруг показалась совсем не тем надежным, экстерриториальным убежищем, выключенным из человеческого мира, к которому он привык за десять лет, а подобием первобытного леса, где из-за любого куста и дерева может выскочить саблезубый тигр или пещерный медведь.
«Нехорошо, - сказал сам себе Лихарев, - нельзя так расслабляться». И тут же подумал, что не сам по себе расслабился, а оказывает на него влияние некая третья сила.
Григорий Петрович после всего пережитого и после коньяка, наверное, спал так крепко, что будить его пришлось долго и утомительно. Он бормотал что-то невнятное, отмахивался рукой, потом вдруг отчетливо начал ругаться отборными флотскими выражениями и лишь после этого сел на диване, с недоуменным интересом воззрившись на Лихарева. А это, мол, кто тут еще такой.
– Александр Иванович, вы проснулись, надеюсь? - тихо спросил Лихарев и для надежности добавил сообщенную Сильвией фразу, которая прошлый раз сработала сразу.
– К кому это вы обращаетесь… э-э… Валентин, кажется?
Нарком наконец окончательно пришел в себя, опустил ноги на ковер, потянулся, протер ладонью глаза.
– Да, что-то вчера мы слегка перебрали, согласны? Но спешить, кажется, некуда? Темно еще. И время на отдых мне товарищ Сталин предоставил. Так в чем дело?
Шестаков выглядел настолько убедительно, что нехорошее ощущение Лихарева превратилось в еще более нехорошую уверенность.
– Вы ничего не помните? - спросил он.
– О чем? Все я великолепно помню. Не алкоголик, из ума не выжил, несмотря на… события. И прием у товарища Сталина, и нашу с вами поучительную беседу, и как вы ушли поразвлечься, а мне любезно отдохнуть позволили, все помню. Что-то опять случилось или желаете продолжить веселье в моей компании? Так я не против. Давайте выпьем, поговорим, а потом снова спать. Метель, я слышу, совсем разыгралась. Самое время, если срочные дела не препятствуют…
Говорил нарком так просто и естественно, а главное - с непередаваемыми интонациями именно высокого номенклатурного лица, нисколько не похожими на интеллигентно-саркастическую манеру Шульгина, что Лихарев сразу поверил - сам по себе, в единственном лице он здесь присутствует, а никакого Александра Ивановича нет, как и не было никогда. Наваждение, морок, да и только.
– Да нет, это я просто так… Сам переутомился слегка. Всю ночь выпивали да в преферанс играли. Трудные дни выдались, вот и захотелось расслабиться. И что-то мне показалось, будто мы с вами договорились с утра кое о чем побеседовать…
– Было такое, - не стал спорить Шестаков. - По поводу моего доклада товарищу Сталину. Так ведь рано еще, время терпит. Может, действительно выпьем? У нас, на царском еще флоте, офицеры безотказное средство знали в таких случаях. После хорошего «проворота» часика за два-три до подъема флага суметь проснуться, большую стопку водки выпить, и снова набоковую. Встаешь, как огурчик…
– Что ж, давайте попробуем. Вам сегодня вообще спешить некуда, а мне - не раньше двенадцати.
– Море времени. Выпьем, закусим, и все такое прочее…
Нет, ни малейших признаков присутствия Шульгина. Абсолютно естественное поведение наркома, каким его знал и представлял Лихарев, человека, самому себе полностью адекватного, лучше многих здешних, но и не более того. Самую малейшую нотку несоответствия Валентин непременно бы уловил.
С одной стороны, жаль неразыграной партии, а с другой - так, наверное, проще будет. Шестаков в нынешней роли и позиции никуда не денется, будет исполнять, что приказано. А с Шульгиным работать - упаси бог. Однако леди Спенсер может неудовольствие высказать по поводу несделанного задания. Замечание прописать «о неполном служебном соответствии». И ранее дарованные привилегии отобрать.
Ох, сложно, сложно. Никогда так не было за последние десять лет.
Валентин прошел в свою лабораторию, примыкавшую через малую прихожую к «парадному» кабинету. Якобы за новой бутылочкой приличного напитка. На самом же деле ему хотелось взглянуть на показания приборов. Как, когда и с чьей помощью исчез непонятный господин? Товарищем его назвать язык не поворачивался.
Да, так и есть. Около двух часов ночи Шар зарегистрировал собственное включение, причем по совершенно незнакомой схеме, и двукратный перенос стокилограммовой массы с интервалом в десять секунд. Туда и обратно. В этом, конечно, никакой хитрости не было. Десять секунд вполне могли равняться и суткам, и месяцу, в других, разумеется, координатах.
Но факт есть факт. Тело наркома было переброшено отсюда куда-то и возвращено обратно. Остальное понятно.
Валентин перевел взгляд несколько левее и увидел листок бумаги, небрежно пришпиленный к дверце до сих пор секретного, хорошо спрятанного за стеновой панелью сейфа, а сейчас открытого для обозрения. Сам сейф вскрыт вроде бы не был, но выявлен - показательно, демонстративно и оскорбительно.
На бумажке - небрежно, похоже, на коленке нацарапанные слова.
«Лихарев! Вы мне надоели. Со всеми вашими заморочками. Я ушел. Навсегда. Привет Сильвии. Не обижай наркома. Он вам еще пригодится. Если нет - отпусти. Запомни, кроме твоего времени, есть очень много других. Они умеют мстить несогласным. Леди Спенсер знает. Не хотел бы встречаться впредь, а если придется - только по твоей вине. Или беде».
Ни подписи, ничего. Точка в конце.
Валентин покрутил в руках листок, глянул на просвет. Даже понюхал. Точно. Пахнет теми самыми нездешними духами. А больше - ничего. Обычная бумага из его собственного бювара. Написано, правда, не перьевой и не автоматической ручкой, не карандашом, само собой, а чем-то непонятным. Вроде как тонкой кисточкой, которой пишут свои иероглифы китайцы и японцы.
Как ушел, куда, почему - не сказано. Ну и ладно. Зато будет что предъявить Сильвии.
Лихарев взял из тумбочки бутылку «Двина», который регулярно, ящиками привозил в Кремль секретарь армянского ЦК, вернулся в кабинет.
В ходе необязательного, можно сказать, светского разговора Валентин, не выдавая своего интереса к глубинным мотивам недавних поступков Шестакова, провел экспресс-тестирование личности сидящего напротив человека.
До этого такой возможности у него не было, слишком все происходило стремительно, непонятно, да и Шульгин, как догадывался Лихарев, немедленно разгадал бы его замысел и сумел бы создать о себе то впечатление, которое считал нужным.
Сейчас же все получалось так, как надо. Нарком понятия не имел о психологических практиках и раскрывался легко.
Валентин выяснил, что никаких, даже остаточных следов наличия в Шестакове чужой матрицы не имеется. Он теперь - сам по себе, и необъяснимые, если смотреть со стороны, изменения собственного характера, стереотипа поведения etc. его подсознание успело переосмыслить, рационализировать, создать вполне непротиворечивую модель, с которой можно жить, не испытывая параноидального или шизофренического синдромов. Шульгин каким-то образом сумел внедрить своему реципиенту новую схему памяти, систему базовых ценностей, громадный блок информации и плюс к этому убеждение, что так всегда и было. Просто, исходя из данности, из реалий той жизни, которой пришлось жить после Гражданской войны, нарком научился разделять собственную натуру на непересекающиеся и почти не взаимодействующие составные части.
Причем кое-какая истина в этом была, иначе вторжение Шульгина не прошло бы столь безболезненно.
Прослужив советской власти и ВКП(б) почти двадцать лет на весьма высоких постах, Григорий Петрович чудесным образом ухитрился остаться в стороне от «зверств» режима. Он вообще сторонился всего, что прямо не входило в его должностные обязанности. Не участвовал ни в оппозициях, ни в борьбе с ними (за исключением обязательных дежурных фраз на партсобраниях и в докладах), не входил ни в какие «тройки», сколь мог (исключительно в интересах ДЕЛА) поддерживал и защищал «буржуазных спецов» и вообще сотрудников, по тем или иным причинам попадавших «под кампании» или в поле зрения «органов». Удавалось это не всегда, но в целом (по меркам тех времен) Шестаков оставался человеком порядочным и даже, если так можно выразиться применительно к наркому, члену ЦК и депутату, - аполитичным.
Причем следует отметить, что именно эти черты и защищали его до последнего времени от «Большого террора» и терроров предыдущих, поменьше. Позиция «делай свое дело и не высовывайся», в общем, встречала благосклонное отношение со стороны вождя. Кому-то же и работать надо, а к стенке поставить можно и других, погорластее да побездарнее.
Но теперь-то Григорий Петрович явно перешел в другую категорию. Заявил о себе, да как! Дело даже не в эпизоде с чекистами, их судьба не интересовала Сталина абсолютно, а вот то, что поблизости от него объявился человек, способный на подобное, - это совсем другое. Да мало того, Шестаков ввязался в государственную политику! И весьма решительно. Сыграл на повышение и пока в выигрыше. Вся беда в том, что именно пока.
Что ж, Лихареву этого достаточно. Даст бог, не меньше полугода продержится Шестаков на волне, a за это время много чего случиться может.
– А вот что вы насчет своего семейства думаете? - спросил Валентин после третьей или четвертой рюмки.
– А что тут особенно думать? Осмотрюсь немного, разберусь, в какую сторону для меня обстоятельства поворачиваются, да и привезу обратно. А пока пусть у Николая Александровича поживут, сейчас им бояться нечего, отдохнут на природе. Как-никак переживания Зое достались труднопереносимые, и в старую квартиру ей возвращаться вряд ли захочется.
– Иных вариантов не рассматриваете?
– Какие еще могут быть варианты. Чай, не старое время, ни в Ниццу, ни в фамильное имение отъехать не получится. Разве не так?
– Так-то оно так, а все-таки поразмыслить есть над чем…
Шестаков сдержанно рассмеялся. «Неловко работает сталинский порученец. Он что же, думает, так я ему все и выложу? Да, мол, не доверяю я товарищу Сталину и обещанным милостям, посему для подстраховки собираюсь, как и раньше хотел, переправить жену с детьми через финскую границу. Если б даже и имел подобные намерения, ни за что бы не признался, хоть после литра выпитого, в самом бессвязно-доверительном разговоре».
– Ну, поразмыслите, Валентин, вы в таких делах не в пример меня опытнее, вдруг да и придумаете нечто этакое, что мне сейчас в голову не приходит. Вы, кстати, действительно считаете, будто мне еще какие-то опасности грозят? Мне так, напротив, кажется, что лучшего случая избавиться от меня, чем сейчас, Иосифу Виссарионовичу искать смысла нет. Как ни рассуждай, а события последних лет укладываются в строгую логику. Я ведь инженер, да и вы тоже. Политика политикой, но ведь она не более чем «надстройка». Так и в «Кратком курсе» написано. Если бы я представлял вред, да просто смутную опасность для системы, для «дела ВКП(б)», увели бы меня под белы руки из приемной, хоть до встречи, хоть после. Не увели, значит, взвешен, измерен и признан достойным». Разве не так, Валентин? Вы ведь непосредственно на кухне служите, где готовятся «острые блюда».
– Так, Григорий Петрович, на данный момент именно так. Признаны. Причем даже больше скажу - в нынешних обстоятельствах не просто полезным, а незаменимым. И ждет вас великолепный карьерный взлет. Вся беда - что станем делать, если генеральная линия вдруг изменится, а вы не успеете этот поворот отследить?
Нарком снова рассмеялся. Слегка даже издевательски, выпитое совместно с Лихаревым количество вполне оправдывало подобное изменение качества.
– Я же старый моряк, Валентин. Ходовые вахты, подменяя сигнальщиков, стоял. В том и задача, и смысл - непрерывно наблюдая за флагманом, не упустить момента смены курса, желательно даже предвидеть сей маневр, заблаговременно к нему подготовиться. Тут есть масса профессиональных секретов. Одним учат, другие постигаются интуитивно. Вам не понять. Допустим, засек ты в бинокль, что суета на мостике флагмана усилилась, коллеги-сигнальщики к ящикам с флажками побежали… Тут же и докладываешь вахтенному начальнику, так, мол, и так, вашбродь, господин лейтенант, сейчас чтой-то будет, и не изволите ли ручки на машинный телеграф возложить да мателота1[8] предупредить, чтоб не зевал… Таким образом. А уж кто из нас этим сигнальщиком будет…
– Согласен с вами, Григорий Петрович. Обстановка покажет. Будем присматриваться. А сейчас, тоже следуя вашим рекомендациям, давайте свернем застолье да придавим минут по триста.
– Целиком присоединяюсь. Добрых вам снов, Валентин Валентинович.
За истекшую неделю Шульгин настолько освоился в роли «драйвера» подчиненной личности, что без всякого труда перенацелил дозу алкоголя, уже преодолевшую гематоэнцефалический барьер, на шестаковскую составляющую и погрузил ее в глубокий, здоровый сон. Вообще присутствие внутри черепной коробки «напарника» его никак не затрудняло, контролировать «реципиента» было не труднее, чем управлять мотоциклом на гладкой дороге. Или не впускать в сознание словарный запас и грамматические конструкции всех известных тебе языков, когда требуется говорить и писать именно на русском.
Просто сейчас ему требовалось поразмышлять о таких вещах, знать о которых Григорию Петровичу не следовало. Даже не в силу их крайней секретности, а просто чтобы они не засоряли основной формат наркомовской натуры. Сашке он нужен именно в собственном качестве. Как источник подлинной, здешней информации, эмоциональной модели поведения, присущей только Шестакову моторики, динамических стереотипов, спонтанных реакций. Если он начнет хоть насколько-то отождествлять себя с Шульгиным да, упаси бог, в острые моменты сверяться с его, а не своими чувствами и знаниями, вполне можно проколоться так, что костей не соберешь.
Шестаков ушел, и Шульгин ощутил себя словно в знакомой комнате, из которой вынесли мебель. Гулко и просторно.
Итак. Из чего следует исходить?
Он снова разобрал по минутам содержание двух последних суток, от подготовки к проникновению в наркомат и до прощания с Антоном[9].
Здесь следует обратиться к опыту Робинзона Крузо, затеявшего инвентаризацию собственных чувств, плюсов и минусов положения, в котором оказался. Разделил, помнится, страницу на две колонки, над одной написал «Худо», над другой - «Хорошо». И, соответственно, разложил те и иные моменты по принадлежности. Вот и мы пойдем аналогичным путем. Что в минусе?
Потеря собственного тела, друзей, времени. Абсолютное одиночество в эпохе, мало приспособленной для жизни уважающего себя человека. Материально тоже не слишком, но это ладно, при некоторой изворотливости и соответствующем социальном статусе устроиться можно и здесь. В конце концов, даже в сравнении с восемьдесят четвертым годом чего здесь не хватает? Ну, телевидения. Невелика потеря. Реактивной пассажирской авиации. Современной (ему) литературы и кино. Магнитофонов, электропроигрывателей с приличным качеством звуковоспроизведения. Антибиотиков. Приятной глазу женской одежды. Вот, пожалуй, и все. Остальное в той или иной степени совершенства существует. Кое-что даже получше. Международные вагоны, например. Пищевые продукты элитных сортов. Экология.
(Все эти оценки, разумеется, касались именно того Шульгина, что жил в восемьдесят четвертом. Уже Валгалла и Замок отличались куда большим разнообразием жизненных благ и возможностей.)
Проигрыш в плане нравственном. Он превращается из вольного стрелка, хозяина своей судьбы в зажатого массой ограничений чиновника, служащего одному из самых бесчеловечных тиранов в мировой истории. Дело даже не в том, что террор, бессудные расстрелы и посадки. Таким не слишком удивишь, бывало и круче и страшнее, причем в любой ныне цивилизованной стране. Степень подавления личности, ликвидация даже намеков на ее свободы, экономические, политические, сословные. Любой средневековый ремесленник, бюргер, купец был не в пример свободнее, чем самый высокопоставленный «гражданин» нынешнего режима. Однако, с другой стороны, указанная степень несвободы парадоксальным образом освобождает его от необходимых в иных обстоятельствах нравственных ограничений. Если позволено «им», то тем более позволено мне. «Какою мерою меряете, такою и отмерится вам».
Угроза собственной жизни? Есть, как не быть. Но тоже на паритетной основе. Что и подтвердилось уже в истории с чекистами. Разобрался с ними, разберется и с кое-кем повыше, лишь бы не дать застать себя врасплох.
Техническая оснащенность, в тех пределах, что может потребоваться, - вполне достаточная. Стрелковое оружие практически не уступает тому, каким Шульгин пользовался полвека спустя. Автомобили - не слишком навороченные, но вполне отвечающие основным функциям. Ни на «эмку», ни на «ЗИС-101» он пожаловаться не мог. Средства связи? А с кем тут связываться, кроме Лихарева? Что же касается Антона, то Сашка надеялся - с ним-то контакт восстановится, раньше или позже, смотря по обстоятельствам. Он ему безусловно нужен, иначе чего бы форзейлю соглашаться на нынешний вариант, более того, обеспечивать «магическое» прикрытие акции?
Плюс запасной вариант - возможность при помощи формулы, переданной Сильвией, сбежать, как только в этом возникнет настоятельная необходимость. Не совсем, правда, ясно, куда именно сбежать. Если на Валгаллу, в собственное тело до того, как пришлось эвакуироваться в Замок, то возникают интересные расклады. Он сразу приобретает преимущество над собой тамошним и получает возможность предотвратить разгром Форта агграми, сохранить колонию в ее первоначальном виде. Одновременно исключив возможность своего попадания в тело Шестакова и, соответственно, текущий момент и все мысли, которыми он сейчас развлекается.
Пусть так, этот парадокс мы пока (но не окончательно) отметаем. Опыт подсказывал, что любой парадокс является таковым лишь до тех пор, пока о нем рассуждаешь чисто теоретически, а в стадии практической реализации все каким-то образом разрешается достаточно непротиворечиво и самым неожиданным образом.
По нормальной, «человеческой» логике, он безболезненно может возвратиться только в узкий зазор между «настоящим» возвращением в собственное тело после того, как обеспечил выезд наркома с семьей из Москвы на Ленинградское шоссе (об этом он кое-что помнил сам, кое-что слышал от Антона), и началом следующего этапа шульгинской жизни. Так, чтобы нынешние его знания не могли повлиять на последующие события.
А как они могут повлиять, собственно говоря?
Один раз Шульгин в собственное тело вернулся, судя по имеющейся информации - вполне там адаптировался и продолжил существование, сохранив память обо всем происшедшем. Каким-то образом сделал Сильвию своим союзником, а может, и другом. Все у него там, похоже, сложилось нормально.
Но дело в том, что несколько часов, проведенных им в ином облике, и даже полгода, которые прожили в роли Сталина и Маркова его друзья, нельзя сравнивать с нынешней ситуацией. Слишком далеко разошлись оригинал и копия. Он нынешний пробыл в здешней роли десять дней, а тот Сашка у себя - несколько лет. В случае «воссоединения» его нынешняя личность просто растворится в основной. Превратится из полноценного, мыслящего и чувствующего индивида в короткое, полузатертое воспоминание о давних и не самых значимых событиях. Вот это и страшно.
Потому он сейчас, при здравом размышлении, не считал свое импульсивное решение остаться здесь столь уж экстравагантным. Старый философский вопрос: что важнее - сохранить личность в каком бы то ни было виде или утратить ее ради внешнего облика, принадлежащего уже не тебе?
Хотя тут тоже напрашивается вопрос иного плана: так ли оно на самом деле? И добровольно ли это решение принято? Что, если все наоборот и, вернувшись, именно он станет (останется) самим собой, просто присоединив к имеющимся воспоминаниям еще один их пласт? Приобретя, тем самым, дополнительные духовные силы и способности.
Отчего и решили придержать его здесь, не допустить появления там, с каковой целью и внушили якобы собственное желание подзадержаться в наркомовском теле. Кто внушил? Лично Антон или пресловутые Держатели.
Есть ли реальная возможность выяснить, как на самом деле обстоят дела? Непосредственно сейчас - наверняка нет. Разве только постепенно, с течением времени, по каким-то косвенным признакам. То ли через Антона, то ли через Сильвию, а может быть, как-то иначе.
Как он сам для себя замотивировал решение остаться Шестаковым? Страх перед возвращением, слегка завуалированный желанием еще немного поиграться в данной реальности. Испробовать свои силы в поединке со Сталиным. Новиков попытался сделать это изнутри, но не успел. Антон его (их) оттуда выдернул. Андрей неоднократно говорил, что, будь его воля, он бы остался еще немного. Хотя бы до начала общего контрнаступления Западного фронта. И прохождения «точки возврата», после которой Сталин уже не сможет сохраниться в своем основном диктаторском качестве.
Что ж, будем считать, что именно эта цель для меня сейчас главная. Именно эта. Решить шахматную задачу. В состоянии ли не самый рядовой человек восьмидесятых годов, причем без всякой помощи извне, единственно используя свои интеллектуальные способности и знание будущего, стать «серым кардиналом» при одном из самых эффективных и беспринципных диктаторов мировой истории? Грубо говоря - не дать себя убить, а вождя заставить плясать под свою дудку до тех пор, пока удастся кардинально переформатировать эту «сталинско-советскую цивилизацию»?
Зачем? А вот это как раз не вопрос. Зачем гроссмейстер старательно пытается поставить в безвыходное положение, именуемое «мат», белого короля по ту сторону доски? При этом великолепно зная, что завтра с таким же азартом будет «матовать» короля черного, которого сейчас самоотверженно защищает. На самом же деле глубокое отвращение у него вызывает плохо выбритый тип, сидящий напротив, нагло вообразивший, что имеет право претендовать на оспариваемый во время этого матча титул.
А что касается так называемой «справедливости», «восстановления исторической правды», «ленинских норм» или, наоборот, «замшелого самодержавия» времен Александра Третьего и Победоносцева, такие вещи Шульгина совершенно не интересовали. Не Господь Бог он - и никогда себя за такого не держал - пытаться решать за давно отживших людей их проблемы, которые они сами себе и создали, кто - не поддержав белых, кто, наоборот, - поддержав красных. Все они прожили отпущенный им век, радуясь судьбе или проклиная ее же, кое-кого Сашка еще успел застать живыми, большинство умерло раньше, но в любом случае их друг с другом ничего не связывало.
Он не мог, в отличие от героев фантастических романов, сослаться на то, что поставлен в условия безальтернативного выбора. И действует, мол, «по крайней необходимости». Не было таковой. За исключением самого первого момента, все остальное - плоды его личного выбора. Такого, какой он сделал. Смешно горевать добровольцу, своей волей пошедшему на фронт, что вдруг стало страшно и захотелось вернуться домой, к уютному свету лампы, вкусному ужину и теплой постели. Или альпинисту, зависшему на скальной стенке восточного склона Эвереста. Раньше думать нужно было, а сейчас выкручивайся, как знаешь. И тут же наступило, наконец, холодное спокойствие. Чего он и добивался. Известный психологический прием. Исчерпать собственные доводы «против» и остаться при тех «за», от которых уже никуда не деться. «Времена не выбирают, в них живут и умирают».
А Шестаков, что же Шестаков? На некоторое время ему придется как бы и умереть. Что он там чувствует «внутри себя», Сашке понять не дано. Его эмоциональная составляющая вовне не выходит. Страдает он там, радуется, что кто-то за него решает его проблемы, или в силу особенностей взаимодействия «драйвера» и «реципиента» не ощущает вообще ничего, Шульгину не известно.
По крайней мере, ему сейчас лучше, чем если бы он остался наедине с собой. И органами пролетарской диктатуры,
Сашка встал, прошел к холодильнику, налил себе стакан шипящего «Боржома», с удовольствием выпил. Мозги-то у них с наркомом разные, а биохимия общая.
А теперь невредно и самому поспать. Ход сделан, ответ за партнером.
Лег, с головой укрылся тонким покрывалом, чтобы отвлечься от всего, начал представлять себе туманный дождливый день, бетонный пирс и пришвартованную к нему яхту «Призрак», на которой они с Андреем собрались отправиться в далекие южные моря.
И тут он вдруг вспомнил, сразу, будто очередную завесу раздернули, абсолютно все.
Годы, прожитые им, никем другим, после возвращения в Замок с пленной Сильвией, переход на «Валгалле» в Крым двадцатого года с попутным заходом в Стамбул и вербовкой там Басманова и всего батальона, Каховку, Москву и все-все-все вообще, включая визит в 2056 год, в Австралию и ростокинскую Россию. И предыдущее возвращение памяти в одесских катакомбах.
И что же теперь? С одной стороны, свалился с сердца тяжелый камень. Он - это все-таки он, как бы ни мотала его судьба или те, кто ею распоряжается. Вернулся сам в себя три (кажется, так) раза, вернется и в четвертый. Выполнив здесь очередную миссию. Возложенную или добровольно принятую? Да так ли это важно?… Делали там, попробуем сделать здесь. Будет трудно? А когда было легко? Нет рядом друзей? Нужно будет - появятся. В это он верил так же непреложно, как и в то, что за окном рано или поздно рассветет. Опыт подсказывал.
Ну а попробовать на равных сыграть с самим товарищем Сталиным - отчего же и нет? Он теперь его знает гораздо лучше, чем знал Андрей в мае сорок первого. И по рассказам Новикова, и памятью Шестакова, и по тем книгам, что успел прочесть уже «после Замка». Так что, можно сказать, сейчас он во всеоружии. Плюс имея такого помощника, как Лихарев. Тот-то по-прежнему понятия не имеет, кто теперь у него в «партнерах».
Нет, поиграем, поиграем, даже забавно: граф Монте-Кристо снова возвращается в свой, но - чужой ему мир. Сокровищ кардинала Спада, увы, нет, и общественно-политическая обстановка несколько иная. Тем интереснее…
ГЛАВА ВТОРАЯ
Другой Шульгин обалдело покрутил головой. Все-таки слишком много непонятного свалилось на него сразу, и связности в происходящем гораздо меньше половины. Он был совершенно уверен, что только что беседовал с Лихаревым и Дайяной на достаточно важные темы. Потом решил, что нужно дать им возможность перемолвиться наедине, обменяться мнениями, вдруг да и выболтать нечто интересное и важное. Встал и вышел, оставив вместо себя заблаговременно спрятанный в шкафу и включенный магнитофон. Самый обыкновенный кассетник «Сони», на батарейках, жуткий дефицит в начале восьмидесятых, в комиссионке можно было приобрести только по большому блату. Или, как Левашов, за границей купить. Встроенный микрофон там весьма чувствительный, в пределах комнаты любой звук берет. По мнению «того» Шульгина, устройство слишком примитивное, чтобы его можно было обнаружить какими-то аггрианскими Детекторами, если они у них вообще при себе имелись.
А сейчас вот снова ощущал себя как внезапно разбуженный человек, не успевающий зафиксировать только что виденный сон. Только обрывки, да и то стремительно теряющие хоть какую-то осмысленность и последовательность. Еще помнилось, что несколько мгновений назад он ощущал себя тем Сашкой, который прожил годы и годы, участвовал в событиях, вкратце обрисованных Антоном, говорил с агграми именно с его позиций. И вот, кроме смутного ощущения однажды уже прожитой жизни, - ничего конкретного. Он снова - только «первый», с личными воспоминаниями, обрывающимися сначала на ночи в доме Сильвии, а потом - прощальном разговоре с Антоном и провале в состояние, похожее на скоропостижную смерть.
Вот он сидит на перилах галереи, в пальцах дымится почти сгоревшая сигарета. Полная тишина, никакого шевеления вокруг, и в доме тоже тихо. Даже собаки успокоились, разлеглись по двору, кто где вздумал, иные подремывают, иные занимаются нормальными в «мирной обстановке» делами - почесываются, ищут блох и тому подобное. Значит, действительно в ближних окрестностях чужих не чуют.
Ну- ну. Очередное перемыкание матриц и реальностей? Случайное или целенаправленное? Не нам судить. А все же…
Про включенный магнитофон он удивительным образом помнил вполне отчетливо. И о том, что довольно скоро придется возвращаться в Москву тридцать восьмого. Как он сюда попал - тоже. Он явно не использовал оставленную Сильвией формулу перехода на Валгаллу, да и с Антоном они так не договаривались. Форзейль в принципе согласился, что вариант с имитацией ухода Шульгина может открыть совершенно новые горизонты игры, но, кажется, подразумевалось, что предварительно он подумает, просчитает варианты, наметит стратегию и тактику прикрытия, и лишь потом…
Сам Сашка тоже никуда не торопился, имел кое-какие предварительные соображения, которые следовало обмозговать не торопясь, в более спокойном расположении духа. Буквально несколько минут назад, стоя с чашкой кофе в руках у подоконника, он любовался картиной вновь обрушившегося на Москву рождественского снегопада. И думал о том, что запасной выход у него всегда остается. Как бы ни сложилась судьба у них с Шестаковым, позволит Сталин реализовать далеко идущие планы или решит проблему привычным способом, уйти на Валгаллу он успеет, если, конечно, не получит, вроде Кирова, пулю в затылок в самый неожиданный момент. Тогда никакой гомеостат не поможет, даже если бы он и был. Но это такой вариант, от которого никто не застрахован. Можно не принимать во внимание…
В памяти отпечаталась последняя сформулированная мысль: «Главное, господа, война продолжается, и очень я вам не завидую, если вы меня по-прежнему держите за аборигена Кокосовых островов».
Кому эта угроза адресовалась, Антону, Лихареву с Дайяной и Сильвией или непосредственно Держателям, он и сам не успел понять.
Головокружение, вспышка тьмы - и он уже снова был самим собой, тем самым, что отправился по просьбе Антона на встречу с леди Спенсер в Лондон восемьдесят четвертого {или уже восемьдесят пятого?), и одновременно пережившим события двадцатого - двадцать четвертого, побывавшим в Австралии и Москве две тысячи пятьдесят шестого… Шел по дорожке навстречу возникшему на поляне Лихареву.
Ощущение было странное, но не очень. Ничуть не более удивительное, чем при пробуждении в каморке Нерубаевских катакомб.
Он только начал осваиваться, известным уже способом пытаясь совместить наличную матрицу (а что это была именно матрица - очевидно) со своей же, но более опытной, а значит, и более мощной.
И очередной срыв.
Доминирующий Сашка исчез, более того, исчез, прихватив с собой и общее тело, а он - остался, теперь уже в физическом облике наркома. Насколько он, конечно, физический - большой вопрос. Тут уж ничего не угадаешь наверняка. Находясь внутри фантомата {по Лему), или Ловушки Сознания (по собственному опыту), судить о степени реальности окружающего невозможно. Остается поступать в соответствии с тем, как ты сам ко всему этому относишься.
Шульгин вернулся в зал. Следы недавнего пребывания здесь трех человек - вот они. Посуда на столе, бокалы, бутылки. А отражение в зеркале - не то. Память сохранила его собственный облик, только в стильном «спортивном» костюме середины двадцатых, сейчас же он снова видел ставший привычным фенотип Шестакова. Его лицо, костюм, сапоги. Для сна - вполне нормально, там подобные метаморфозы происходят постоянно, хорошо еще, что женского тела ему не всучили. В этом случае сложностей бы значительно прибавилось.
Но дело совсем не в этом. Сашка с удивлением отметил, что аберрация памяти у него распространяется и на события, никаким образом не связанные с нынешним сюжетом разыгрываемой драмы или трагикомедии… Он ведь совершенно отчетливо помнил последний бой на остатках Форта. Аггры, прилетевшие на гравибронеходах, носили белые «времязащитные» скафандры и гравитационные ружья. Он до последнего отстреливался из «ПК» и нескольких успел поразить, а они начали в ответ гвоздить по терему так, что бревна и крыша порхали по небу, все вокруг рушилось, Левашов буквально в последнюю секунду протолкнул их с Ларисой в межвременной тоннель, и тут же обвалились бетонные перекрытия подвала.
Пробившись в Замок, они, все трое, единодушно утверждали, что Форт разрушен практически дотла. Ни малейших сомнений в этом ни у него самого (хотя как раз ему в горячке последнего боя могло примерещиться всякое, особенно когда доской по голове ударило), ни у Олега с Ларисой не было. Все видели и ощутили одно и то же.
Потом, когда уже вытащили с Базы и из сорок первого года Новикова с Берестиным, часто горевали, что нет больше их любимого Форта, отчего и возвращаться некуда и незачем. Другие причины тоже были, конечно, но главная все же - никому не хотелось пытаться еще раз входить в ту же реку…
А вот, оказывается, повреждения на самом деле оказались отнюдь не катастрофическими, пусть следы ремонта и заметны, но почти косметического. Было снесено несколько секций ограды, часть крыши над южной стороной окружающей второй этаж галереи, несколько резных опорных столбов. Перебита пополам открытая мансардная лестница, вылетели стекла витражей. И все, пожалуй. Но и эти повреждения уже были устранены, пусть и наскоро. Как если бы вместо столяров - золотые руки здесь потрудились армейские саперы. Без попытки сделать «так, как было», но достаточно прочно и надежно. Зиму перезимовать можно.
Значит, приходили сюда ребята, с ним или без него. Когда и как - он не помнил, но верил словам Антона и «другой» Сильвии, что за четыре, кажется, года, которые «альтер эго» прожил самостоятельно, они здесь бывали, встречались с Дайяной и вроде бы доставили ей серьезные неприятности.
Это, конечно, здорово, только вот какая чепуха получается…
Шульгин наскоро осмотрел жилые помещения терема. Со свойственной ему наблюдательностью и почти абсолютной зрительной памятью установил, что по внутреннему времени планеты здесь прошло никак не больше месяца. Россыпи гильз его пулемета, тут и там поблескивающие в траве от ворот и до самой веранды, почти совсем не потускнели. Там, где производился ремонт, интерьер, конечно, нарушен капитально, но в спальнях, кабинетах, малой гостиной все сохранилось в первозданном виде. Слой пыли на предметах тоже соответствует именно этому сроку. Похоже, некоторое время в доме проживали два или три человека. И можно угадать - кто именно. Андрей наверняка, в его комнатах следы пребывания наиболее очевидны, и ясно, что был здесь именно хозяин, никто другой. Случайный постоялец обращался бы с имуществом и предметами обстановки совсем по-другому.
В спальне Ларисы кто-то рылся в ее платяных шкафах, причем вряд ли она сама, вид был такой, будто в вещах ковырялись наугад. Ища «то, не знаю что». Если учесть, что в комнатах Андрея использовались обе кровати и остались забытыми кое-какие дамские вещички да от простыней и подушки исходил едва уловимый, но безусловный запах духов, значит… Явно это была не Ирина, не Лариса, тем более не Наталья… Простейшая дедукция - женщина с пропорциями Ларисы, которой потребовалась одежда соответствующего размера, ему известна только одна. Уж он-то имел возможность наблюдать ее во всех видах, вплоть до полной обнаженности. Интересно, что же Новиков делал здесь с леди Спенсер? Выполнял свою часть задания? Допустим, узнав, что у Шульгина не вышло, Антон подключил к интриге Андрея? Трудно так сразу поверить, но что они здесь были вдвоем, и не один день, - факт. Ну да ведь она сама писала, что перешла на сторону бывших врагов…
Черт, неужели друг-приятель не оставил ему хоть записочки, хоть какого-нибудь намека?
Он приступил к повторному осмотру, точнее, теперь уже настоящему обыску. И кое-что обнаружил. В его кабинете клинком наградного эсэсовского кинжала с надписью «Аллес фюр Дейчланд» был вскрыт запертый верхний ящик письменного стола. Здесь он в предвидении самых неожиданных жизненных коллизий хранил позаимствованную из своего института богатую коллекцию всевозможных психотропных веществ, транквилизаторов, наркотиков и ядов. Мало ли чью психику потребуется подкорректировать или кардинально изменить в грядущих тайных и явных войнах с людьми и пришельцами. Среди его препаратов были такие, что не имели в мире аналогов по силе и избирательности действия. И Новиков об этом знал. Моментами, еще в «нормальной» жизни, прибегал к Сашкиным услугам. Когда, например, требовалось добиться благосклонности особо неприступной подруги. Или замужней дамы, отягощенной неуместными моральными принципами.
Но были там вещества и совершенно противоположного действия, полезные для подводников, антарктических зимовщиков и неуверенных в своей выдержке разведчиков и дипломатов. Даже цивилизованные шейхи, не желающие использовать для присмотра за своими гаремами настоящих евнухов, могли бы с Сашкиной помощью доверить жен попечению хоть самого Казаковы.
Именно такой препарат Андрею и понадобился, причем в дозировке примерно на неделю ежесуточных приемов. Вот тебе и знак - вольно или невольно Новиков сообщил, что выполняемая им здесь работа требовала полной невосприимчивости к чарам аггрианки и, одновременно, что никакой иной угрозы он для себя не видел, в качестве личного оружия ограничился «узи», тем самым, с которым они впервые шагнули на почву планеты.
Что касается чар - Шульгин имел достаточное представление, сколь непреодолимыми, увлекательными и опасными они у Сильвии могут быть. Соответственно, Андрей, памятуя о печальном Сашкином опыте, решил себя обезопасить. Как говорил один из персонажей византийской истории, евнух-полководец Нарзес: «Ум евнуха неизмеримо превосходит по остроте отягощенный низостями ум мужчины».
Интересно бы узнать, какие вопросы они здесь решали? Проводили на местности рекогносцировку последствий взрыва информационной бомбы? Или Новиков на завершающем этапе перевербовки демонстрировал аггрианке бессмысленность дальнейшей конфронтации?
Жаль, что так быстро улетучилась память Шульгина-второго! Или все-таки вторым следует считать себя, поскольку «тот» в гораздо большей мере сохранил непрерывность их общей личности?
Ладно, пока подождем, именно что пока. Подкорка - она свое дело знает, глядишь, всплывет нечто непредусмотренное…
Сашка рассовал по карманам коробочки с порошками, таблетками и капсулами. Если он явился здесь в физическом облике и одежде Шестакова, велики шансы на то, что так же и вернется обратно. А в новой жизни эта психофармакология будет далеко не лишней. Сталинскую Москву смело можно сравнить с той же Византией или Италией эпохи Борджиа и их партнеров. Кто знает, на кого и как потребуется повлиять, особенно в ситуации, когда никаких других достижений цивилизации конца XX века в его распоряжении не будет. Ирина, Сильвия и прочие имели к моменту инфильтрации в качестве непременной экипировки гомеостат, портсигар, Шар. Он же - ничего, кроме собственных мозгов и приличной физподготовки.
Разумеется, тот же гомеостат он, в случае нужды, сможет позаимствовать у Лихарева, да и прочими устройствами воспользоваться, но вряд ли всегда и с гарантией. Может выйти совсем наоборот.
Из имевшихся в кабинете стволов личного арсенала выбрал «томпсон». В предложенных условиях оптимальное (на его вкус) оружие самообороны по сочетанию компактности, мощности и боезапасу. В случае внезапного встречного боя в пределах внутренней территории Форта ничего лучше не придумаешь. А мало, ли кто или что здесь может появиться? Проверил, гладко ли ходит затвор, не загустела ли смазка в улитке диска. Бывает такое, тогда автомат клинит в самый неподходящий момент. Капнул, куда нужно, веретенки, протер чистой ветошью. Прихватил сумку с двумя дисковыми и двумя коробчатыми магазинами. На поясной ремень повесил кобуру с пятнадцатизарядной девятимиллиметровой «береттой».
На душе стало спокойнее. Надежное оружие и против аггров, и против людей, для местных хищников сгодится, что же касается существ сверхъестественных, так в них он верил мало. Если же появятся порожденные Ловушкой - в любом случае схарчат, имея соответствующее задание. С оружием ты или без оного…
Он решил, перед тем как заняться собственными делами, покормить собак. Как они тут сами обходились, брошенные хозяевами?
Однако выглядела свора отнюдь не оголодавшей, собаки, как тут же и выяснилось, нашли лаз в продовольственный склад и питались по преимуществу рационами армейского «НЗ», раздирая картонные коробки и съедая подчистую все, за исключением салфеток и туалетной бумаги. По количеству разбросанных внутри склада и в его окрестностях упаковок было видно, что друзья человека себя не ограничивали. Только вот консервные банки с тушенкой вскрывать не научились, и Сашка щедро вывалил перед каждым псом по паре килограммов отличного мяса, какое в советское время доставалось только полярникам да лицам, «имевшим доступ».
Удивило его то, что чуткие животные, наделенные собственной модификацией разума, не воспринимали Шестакова за чужого. Отнеслись ровно так, как к настоящему Шульгину или любому из их команды. Неужели биотоки мозга воспринимают и считают их более квалифицирующим признаком, чем запах и внешний вид? По всему выходит, что так.
Он потрепал каждого пса по мощному загривку, дал команду: «Охранять», - и удалился в дом. Теперь можно не беспокоиться, извне никто не подберется внезапно.
А если изнутри… Ну, об этом уже сказано.
Заставив себя вообразить, что ничего из уже случившегося еще не произошло, что все идет, как шло, просто друзья отлучились по собственным надобностям, кто в леса, а кто в Москву, Сашка, не представляя, сколько времени ему отведено, делал то, что привык. Что диктовала обстановка.
Если его вздумают так же внезапно выдернуть отсюда - не возразишь. Но, видимо, до тех пор, пока не случится нечто, ради чего и разыгрывается очередная мизансцена, ему будет позволено остаться. Более того, вздумай он уйти по собственной воле - вряд ли отпустят.
Он давно понял, что не следует преувеличивать степеней собственной свободы. Да, он и его друзья поступали так, как считали нужным, и действия их почти всегда были успешными, но в то же время сами обстоятельства формировались кем-то таким образом, что выйти за пределы очерченного крута не удавалось. Якобы случайно, но число «случайностей» значительно превышало допустимый уровень. Лабиринт, все они в лабиринте, разве что он так обширен, что создает иллюзию безграничности и, следовательно, почти безграничной свободы. А разве и в обычной жизни все обстоит сколько-нибудь иначе?
Он спустился в «машинное отделение». Здесь картинка оказалась более печальной, чем наверху, хотя, казалось бы - бревенчатый терем и защищенный бетонными перекрытиями подвал несравнимы по прочности, Но направленный под непонятным углом, скорее всего - с воздуха, удар гравитационной пушки сорвал с ригелей и обрушил вниз многотонную плиту, которая легла как раз на дизели. На оба сразу. Каким-то чудом не повредив систему подачи топлива. Иначе б, конечно, взрыв и пожар оставили от терема только золу.
Очевидно, этот именно удар, едва не накрывший Олега, до последнего управлявшего пультом СПВ, они и восприняли за смертельный для Форта. На самом же деле - ничего страшного. На три дня работы. Бригаде из шести человек с необходимой техникой. А в одиночку ничего не сделаешь, без вопросов. Но мы тоже не дураки. Это Андрей, интеллигент-гуманитарий, посмотрел, матернулся и предпочел перейти на керосиновое освещение, а технарю-любителю, который сам из ржавых железок восстановил в первоначальном виде трофейный немецкий «Цундап», отступать негоже. А с ним еще и настоящий инженер-механик Шестаков.
Всего и делов - имелся в боксе для боевой техники пармовский[10] дизель-генератор на колесном шасси. Мощности хватит на что хочешь - на сварку, на освещение, на зарядку аккумуляторов, Для энергоснабжения Форта тем более достаточно. Шульгин снова порадовался, что когда-то вел себя подобно Робинзону на затонувшем корабле. Тащил в нору все, что в голову приходило и под руку подворачивалось. Тот же генератор.
Повозился полчаса, разогнал движок, из двухтонной цистерны наполнил бак, бросил временный кабель к распределительному щиту - и пожалуйста. При необходимости можно и зимовать, если придется. Вода есть, свет есть, не только на внутреннее освещение, но и на прожектор, на электрозабор хватит. А то и на дубликатор, и чтобы запустить установку СПВ. Правда, обращаться с ними Сашка не умел, но видел неоднократно, как это делает Левашов, и надеялся, что с помощью Григория Петровича разберется, возникни настоящая нужда.
Здешнее солнце едва коснулось верхушек леса, а он уже закончил ремонтно-восстановительные работы, затопил камин в малой гостиной, собрал непритязательный ужин. Что нам, солдатам? Большая банка свиной тушенки с гречневой кашей, соленые огурчики-помидорчики, абсолютно не зачерствевший в вакуумной упаковке хлеб. Остуженная во вновь заработавшем холодильнике водка, из спеццеха, снабжавшего исключительно Кремль и ЦК. Тут он усмехнулся: Григорий Петрович должен быть доволен, этим продуктом его тоже ублаготворяли регулярно, не понять только разницы во вкусе. Лучше в те годы была «Столичная», чем нынешняя «Посольская», или же нет? Вряд ли угадаешь, нормальный хлебный спирт, родниковая вода и разведение по Менделееву - если по Уму сделано, от этикетки не зависит.
Хорошо-то как, подумалось Шульгину. Для чего все - чины, должности, заботы о судьбах державы и Вселенной? Всю жизнь, подобно Робинзону, в одиночку, может, и скучно провести, а несколько недель - с нашим удовольствием. Чтобы никто не мешал и не приставал с дурацкими идеями. Как бы хорошо утром на берег спуститься, катер наладить, застоялся, наверное, «Ермак Тимофеевич», да и отправиться, подобно Уильяму Уиллису или Фрэнку Чичестеру, в одиночное кругосветное плавание. Круговалгалльское, точнее. Наверняка ведь Большая река впадает в какие-то моря, те - в океаны, и так далее. А может быть, и нет здесь никаких океанов. Не удосужились друзья изучить планетку, не успели просто. Может, вся она - единый континент, прорезанный исключительно большими и малыми реками. Не появись тогдашним утром в небе дирижабль Сехмета, так, может, и жили бы здесь спокойно, изучая валгаллографию, составляя карты и атласы, не спеша продвигаясь до краев Ойкумены.
Приятно было размышлять на столь возвышенные темы, глядя на пляшущее в закопченном жерле камина пламя, на книжные полки от пола до потолка, на кожаные корешки, таящие за собой спрессованную мудрость тысячелетий… Хорошо бы дождь сейчас пошел, ровный, сплошной, гремящий по крыше и козырькам подоконников, чтобы на двадцать шагов ничего не увидеть и грунтовые дороги немедленно развезло так, чтобы не пройти, не проехать даже и на гусеничной технике.
И, словно повинуясь этому желанию, дождь немедленно посыпался с неба. Сначала робко бросил первые капли на стекла, потом быстро разгулялся до нужной кондиции. Ничего, честно сказать, удивительного в этом не было. Дожди на Валгалле и в прежние времена начинались внезапно, шли часто, не хуже, чем в Батуми и Ленинграде, а все-таки… То ли намек, то ли исполнение заказа.
Точно так же внезапно начался дождь, когда они устроили первый банкет после завершения строительства, когда появились здесь Лариса с Натальей.
Галерею прикрывала широкая наклонная крыша, под ней не страшны были ставшие жесткими ливневые струи, брызги и те не доставали. Бесконечная ночная мгла простиралась вокруг, окружала Форт, сжимала гигантское дикое пространство до нескольких сот обжитых квадратных метров. Только ограда отделяла цивилизацию от вечности, не знающей календаря. Сколько там миллионов лет насчитывал на Земле кайнозой, шестьдесят, кажется? И все несчетное количество дней родная планета была точно такая, как эта, со всеми своими пейзажами, морями, реками, только без людей. Вот и сейчас…
Жутковато, в общем-то, если всерьез задуматься.
Один на целой планете. Это вам не островок Хуан-Фернандес.
Шульгин, попыхивая сигарой, обошел галерею по периметру, вглядываясь и вслушиваясь в шелестящее безмолвие, вернулся на прежнее место. За время неторопливой прогулки успел сообразить, что именно ему следует сделать. Не тратя времени на сон. А то ведь и вправду можно не успеть. Если ему подброшена задачка на сообразительность, надо ее решить нетривиально и с блеском. Иначе сочтут, что не годен, и выбросят обратно.
Минуту назад опасался, что придется здесь зазимовать, а теперь испугался совсем противоположного.
Как правильно он сделал, что запустил генератор. Дизелек на постоянном газе рокотал, почти уже и неслышный, только ветром иногда накидывало горький запах выхлопа. Солярки в цистернах на полгода хватит, дальше видно будет. Освещение - бог с ним, на самом Деле можно было и свечами обойтись, а вот компьютер сейчас необходим. Левашов и Новиков по известным им сетям и каналам давным-давно скачали десятки тысяч страниц недоступных в советской стране исторических книг и документов, хранившихся в библиотеках и спецфондах Лондона, Вашингтона, Парижа, касавшихся в том числе интересующего Сашку периода.
Тут, кстати, следовало сказать спасибо и Ларисе. Она ведь, кроме всего прочего, была еще и аспирантом историко-архивного института, занималась (по закрытой теме) вопросами антирусской дипломатии конца XIX - начала XX века. Когда узнала о реальных возможностях своих новых друзей, немедленно потребовала извлечь и предоставить ей все, о чем могла только догадываться или слышать от надежных людей. Профессоров, доцентов, «выездных» или каким-то образом прикосновенных к поступавшим прямиком в спецхраны заграничным журналам. Все же прочие были обречены создавать свои диссертации, бесконечно переписывая и перефразируя десяток-другой «высочайше одобренных» монографий и трудов «основоположников», да и то не в полном объеме. Маркса с Энгельсом, например, дозволялось цитировать только по изданиям ИМЭЛ[11]. Что не переведено при советской власти или просто не «залиговано»[12] - крамола.
Однако Маркс с Энгельсом, при всей их оголтелой русофобии, Шульгина сейчас не интересовали. Ему достаточно было прочитанной в юности энгельсовской «Истории винтовки». И тех трудов, что требовались по программе кандидатского минимума. А сейчас нужно было все, что имелось по сталинскому периоду, с тридцатого до сорок первого. Его-то теоретическая база, кроме разговоров с Андреем после возвращения, состояла лишь из опубликованного после XX съезда. Прозы, публицистики и кое-каких партийных постановлений, практического значения не имеющих. Примерно то же самое, что готовиться к оперативной работе против (и в окружении) кардинала Ришелье, опираясь на романы Дюма. Забавно, но бессмысленно.
Шестаков тоже мог помочь мало. С его позиции картина периода, в котором предстояло вести смертельную игру, выглядела столь же примитивно и заданно. Нарком знал только то, что касалось лично его и что писалось в документах партии и правительства, пусть и предназначенных «для служебного пользования». Еще конфиденциальные беседы с коллегами, отфильтрованные до крайности, слухи, анекдоты. И вся его информация, достоверная и не очень, заканчивалась январем тридцать восьмого. А дальше?
Хитросплетения внутренней и внешней политики, события столь близко касавшейся Шестакова гражданской войны в Испании, взаимоотношения литвиновской дипломатии со странами Запада, Хасан, Халхин-Гол, предыстория пакта Риббентроп - Молотов, смысл и цели третьей, уже бериевской волны репрессий против тех, кто благополучно проскочил первые две… Все это будет потом.
А уж о том, что творилось (на самом деле} в означенное время в кулуарах правительств и руководящей элиты противостоящих сторон («Антанта» и «ось Берлин - Рим - Токио»), он вообще понятия не имел. Не учили у нас этому.
Не зная всего этого, затевать большую игру с Иосифом Виссарионовичем было бессмысленно. В лучшем случае будешь пешкой в руках того же Антона, который в пику Дайяне и Лихареву мечтает использовать Шульгина в собственных целях.
– А вот хрен что у вас получится, господин «тайный посол», - вслух произнес Сашка в некоторой надежде, что Антон его услышит. - Мы и сами как-нибудь…
Хорошо, что Антон подарил ему перед визитом к Сильвии блестящее знание английского, немецкого и еще нескольких необходимых в его положении языков. Теперь он мог читать в оригинале справки и отчеты разведок и посольств, изданные по горячим следам событий в СССР монографии и статьи. Пусть не всегда достоверные и беспристрастные, но содержащие ценный фактический (и - что еще важнее - психологический материал).
Далеко за полночь он закончил отбирать и компоновать интересующие его сведения и мнения, не все, конечно, но наиболее важные, постоянно подкрепляя себя густым шестидесятиградусным ликером «Селект», запиваемым глотком столь же густого кофе. Вдруг понял, что все - хватит, включил лазерный принтер и отправился подышать свежим воздухом. Ощущал он себя крайне усталым. Успеет машина отпечатать все, что нужно, или нет, а в память себе он и так загнал жуткий объем информации. Хорошо, если сохранится, тогда у него будет база для дальнейшей, изысканной работы.
Сел на крыльце под навесом, прямо на влажные ступеньки. Совсем, кажется, недавно сидели они здесь, отмечали окончание постройки. Веселые, довольные, гордые собой. И никому в голову не приходило, к какому водовороту все ближе и ближе подносит их «утлый челн», выражаясь высоким штилем. Все еще было впереди, включая прекрасную вечеринку по случаю основания Форта Росс, где впервые встретились все основоположники «Братства».
Какого братства? Вроде так они себя не называли. И тут же краем сознания промелькнуло, что да, появился этот термин - «Андреевское братство», но гораздо позже, не в его жизни. Опять эта проклятая раздвоенность. Лучше бы уж не помнить вообще ничего, чем так, как сейчас. Теперь он хорошо понимал своих пациентов, страдавших разными формами амнезий, конфабуляций и иных поражений сознания.
Ну ничего, ничего, потерпим. Рано или поздно это кончится, просто исходя из предполагаемых правил игры. Может быть, так даже нужно, излишние знания, особенно знание будущего, могут только повредить исполнению миссии. Вон, Сильвий сейчас, по самым грубым подсчетам, не менее трех, и они основательно запутались даже в собственных взаимоотношениях.
Да, кстати, спохватился он, а невредно бы послушать, о чем беседовали Дайяна, Лихарев и он сам до его же здесь появления. Память оживится, или вообще нечто новенькое для себя узнает.
Вытащил наружу магнитофон, перемотал ленту назад.
Так, сначала обыкновенная, в привычном стиле болтовня с Дайяной, не несущая фактического смысла, но направленная на то, чтобы заставить партнера хоть что-нибудь отвечать. А дальше уже дело техники.
Длинная пауза, это он вышел из комнаты. Судя по звукам, аггрианка встала из-за стола, сделала несколько шагов по залу, снова пауза. У окна стояла или книжные полки рассматривала. Опять шаги, звук передвигаемой посуды.
Затем шаги за дверью, голоса. Это вошли они с Лихаревым. Обрывок сказанной его голосом фразы о том, что в восемьдесят четвертом году потерянное тело прибыло сюда, чтобы забрать владельца домой.
Получается, «тот» Шульгин продолжает придуманную с Антоном схему дезинформации. Но отсюда следует - очередное соединение и наложение матриц уже случилось, хотя и одностороннее. Его двойник, оказавшись здесь, уже знал и помнил все, и за себя и за него. Как это было сделано? В тот краткий миг, когда он почувствовал себя дурно, с его мозга сняли очередную копию, перебросили ее туда, где находился Шульгин-второй, совместили, после чего физическое тело доставили сюда. Всего на десяток-другой минут. И вернули обратно. Зачем? Исключительно для того, чтобы убедить аггров, что Шульгина в Шестакове больше нет, и заодно привести их в изумление своими безграничными возможностями? Допустим. Противник убежден и одновременно деморализован.
Заодно можно допустить, что никакого «другого» Шульгина здесь не было, а был фантом, наведенная галлюцинация, в натуральном же виде в Форт доставлен, только и единственно, он сам.
Не очень сходится, кто-то же включил магнитофон?
Впрочем, это как раз не вопрос. Тот, кто все устроил, тот и включил. Небось попроще, чем все остальное. Но вообще удобнее исходить из допущения, что все было именно так, как выглядело.
…Почти получасовой разговор его, Дайяны и Лихарева, из которого он узнал много интересного как о противниках, так и о себе самом - неизвестно какой реинкарнации.
А пленка продолжала разматываться,
Вот последние его слова, обращенные к Валентину: «…встретил ты главнейшую из главных, докладывай, что собирался, а я и выйти могу, мне ваши секреты вон где… Мне бы домой поскорее вернуться…»
Стук каблуков по деревянному полу, хлопок двери, короткая пауза.
Еще несколько минут прощального, одинаково бессмысленного для бывшей начальницы и ее подчиненного разговора. Вроде дежурной речи от имени месткома на похоронах сослуживца.
Пауза, звук шагов. Судя по времени, Лихарев дошел до входной двери и вернулся. Жалко, что Левашов не удосужился видеокамерами их терем оснастить.
– Что бы это значило? - слегка растерянно спросил Валентин.
– Да ничего. Фантом, призрак или та самая «пересадка». Его земное тело было прислано, чтобы встретить информационный сгусток матрицы. Мы успели, случайно или нет, стать очевидцами…
– Тогда я совсем ничего не понимаю. Зачем мы сейчас втроем сошлись здесь? Должен ведь быть какой-то смысл, цель, сверхзадача?
– Вполне возможно. Только нам об этом не сказали. Так что прощайте, Лихарев…
В этот момент оба собеседника, наверное, просто растворились в воздухе, в мировом эфире, ушли в астрал или межвременной переход. Как хочешь, так и назови. Но пленка домоталась почти до самого конца в полной тишине, пока на ней не зазвучали другие, чем у Шульгина и у Лихарева, шаги. Размеренные,„тяжелые, шестаковские, громкий звук отодвигаемых книг, за которыми стоял магнитофон, Щелчок переключателя, и теперь уже окончательно все.
Ничего особенно нового и неожиданного Сашка не почерпнул из этой записи. Да, конечно, память оживилась, Дайяна подтвердила, что после их акции на Базе все для аггров, как организованной военно-политической силы, кончилось. И главная метресса на самом деле ощущает себя подобно оставшемуся в джунглях Филиппин или Суматры самураю, через много-много лет после капитуляции достреливающему свои последние патроны из ржавой «арисаки» по случайным автомобилям на горной дороге.
Тоже убеждена, что ныне происходящее определяется не ею, не форзейлями, а пресловутой «третьей силой».
Ему- то сейчас какая личная польза от такого знания?
Вообще-то кое-какая есть.
Например, он услышал, что эта Дайяна посоветовала Лихареву держаться подальше от него, Шульгина. В принципе понятный совет. Но она же оговорилась, что у Валентина в тридцать восьмом есть своя Дайяна и своя Сильвия, которых ему по-прежнему предписано считать начальницами. Трудновато парню придется, если память об этой встрече у него сохранится. Знать, что пусть через целых пятьдесят лет, но твое существование непременно потеряет смысл, не намного лучше, чем получить информацию о дате собственной смерти.
Либо он сорвется с катушек прямо сейчас, либо продолжит работу, но наверняка через силу, и скорее всего вольно или невольно двинется по Иркиному пути. Значит, вернувшись обратно, с Лихаревым придется быть поосторожнее, кто знает, что ему может прийти в голову.
Шульгин рассмеялся. Увлекательно все же жизнь складывается.
Спать сейчас ложиться было бессмысленно, если сказать честнее - и страшновато тоже. Когда бодрствуешь - оно как-то проще. Опасность можно встретить в здравом уме и полной боеготовности. Пусть она ничего не решает и не значит, когда имеешь дело с «высшими силами».
Да какие они, на хрен, высшие, вдруг взъярился Сашка, если ни одни, ни другие, ни третьи ничего без нас решить и сделать не могут? Как английские колонизаторы в Индии без тамошних махараджей, племенных вождей, духовных авторитетов и сипаев с сикхами и гурками. Пока те соглашались им помогать, исходя из собственных интересов, «жемчужина Британской короны» прочно держалась на месте, а появился некий Махатма Ганди - и амбец!
Кроме того, здравый смысл подсказывал, что, если он и его друзья успешно существуют и функционируют после восемьдесят четвертого в двадцатых, а он, соответственно, здесь, и Сильвия пишет ему письма в тридцать восьмой, и по-прежнему Дайяна мечется между мирами, опасаться ему фактически нечего. Иначе б давно все реальности схлопнулись, вообще ничего не осталось, кроме, скажем, того вечера, когда они с Андреем и Олегом сели играть в преферанс под пиво и раков.
Принтер закончил печатать, жалобно помаргивал лампочкой. Солидная груда горячих листов громоздилась на лотке. Сашка просмотрел. Нормально. Две с лишним сотни. Кроме сжатого, но достаточного для практической работы конспекта сталинской политической биографии на три ближайших года (дальше - ни к чему), там содержалась и хронологическая роспись внутренней, европейской и общемировой истории на тот же период, реальные (насколько возможно) данные по экономике и военно-стратегическим потенциалам СССР, прочих влиятельных игроков на мировой шахматной доске. На первый случай хватит. Подобной информацией не располагают ни Черчилль, ни Рузвельт, ни Гитлер, а тем более - Иосиф Виссарионович. Дотащить бы эти бумаги и собственные воспоминания до Москвы, а там посмотрим, господа. Неплохо бы, конечно, выйти сейчас на связь с Антоном, уточнить диспозицию, так ведь тот эстет появляется только тогда, когда ему самому позарез что-то нужно, причем обставляет так, будто оказывает бескорыстную помощь.
Ничего, и с ним разберемся при случае.
Можно, конечно, попытаться, сделать очередное ментальное усилие. Да и капсулка его, удобный инструмент связи, при нас. Раз она есть, то рано или поздно заработает. Вопрос только - когда мне будет нужно или ему?
Но это не самый срочный вопрос.
Сильно захотелось спать, но наперекор себе или еще кому-то Сашка в третий уже раз вышел на улицу. Дождь не утихал. Сесть бы сейчас за рычаги привычной МТЛБшки да погонять часик-другой по знакомым окрестностям. Спугнуть с лежек прайд суперкотов, не стрелять даже, пусть живут, просто заставить размяться зверьков в свете фар.
Прислушался к себе - а вправду этого хочется? Погонять по прерии мохнатых хищников, каждый из которых видом домашний котенок, размером - гризли. Вроде как и нет. Или ему лень, или Шестакову, у которого совсем другие глубинные стереотипы.
Ну, нет так нет. Тогда и вправду спать пойдем, товарищ нарком.
Он сложил бесценную распечатку, можно сказать - «Книгу жизни», в офицерскую полевую сумку, перебросил через плечо ее ремешок, еще раз проверил содержимое карманов, сдвинул подальше к спине пистолетную кобуру и лег на кровать, как начальник караула, не раздеваясь. Уставом допускается отдыхать, ослабив ремень, расстегнув крючки и верхнюю пуговичку кителя, до середины голенища сдвинув сапоги. Не более.
Вот и он решил так же, на случай чего. И не ошибся. Выдернулиего.
Вернулся он обратно на Столешников так же неощутимо, как до этого попал на Валгаллу.
Прежде всего осознал сам факт перехода, тут же проверил, удалось ли сохранить при себе бесценные документы и прочее имущество. Все было при нем. Значит, он правильно понял смысл случившегося и свою миссию. Примерно за этим его и посылали, а не для того, чтобы подогреть ностальгические чувства.
В квартире было пусто и гулко. Валентин еще не вернулся. Да по здешнему времени прошло едва ли полчаса. Нормально, старые принципы сохраняются. Раз так - хорошо, будем отдыхать как ни в чем не бывало. Утром разыграем задуманную интермедию и посмотрим, как поведет себя навязанный в партнеры товарищ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Лихарев разбудил своего гостя ровно в полдень. Шульгин встал, чувствуя себя на удивление бодро, словно в один из осенних дней на Валгалле, когда еще не встретили они квангов[13], не узнали о присутствии на планете аггрианской базы. Когда все было просто великолепно. Рассветы над великой Рекой, прохладный, смоляной и хвойный воздух, ощущение полной свободы и безопасности, надежды на светлое будущее.
Удивительно, но только там в свои тридцать с небольшим лет Сашка узнал, что это такое - настоящая безопасность! Понятие в некотором роде иррациональное. Как будто в Москве ему что-нибудь по-настоящему угрожало? За исключением возможного наезда машины на перекрестке, упавшего с крыши кирпича или бандитского ножа под ребра в темном переулке за отказ дать закурить или просто так, от скуки. Совсем не в этом дело. Мало могло найтись в городе людей, не только пьяных придурков, а и хорошо подготовленных специалистов, которые сумели бы обидеть Шульгина. Кто пробовал - горько жалели. Или - жалели их друзья и родственники.
Дело совсем в другом. Кандидат медицинских наук, сотрудник полусекретного института, неплохой актер, спортсмен, знаток японского языка и восточных боевых искусств, в какой-то мере даже философ-конфуцианец, а моментами и буддист, Александр Иванович Шульгин с того дня, когда мать отвела его первого сентября в первый класс, не ощущал себя принадлежащим себе.
Нынешнему читателю это понять трудно. Пожалуй, и невозможно, если он не ровесник. Кто-то, может быть, слышал расхожую, превратившуюся в анекдот фразу: «Шаг вправо, шаг влево считается побегом. Прыжок на месте - провокация. Охрана стреляет без предупреждения». Так это - чистая правда. В местах лишения свободы - абсолютная, в трехлинейную пулю воплощенная. В «свободной» жизни - опосредствованная. За примерно те же действия, пусть и иначе выглядящие, кара соразмерная. Исключение из октябрят, пионеров, комсомола, отказ в приеме в эти же организации, постоянная угроза обсудить на собрании, выгнать из школы, из вуза, не принять в аспирантуру, не дать сдать кандидатский, не дать защититься, защитившись, не пустить в «старшие научные» или доценты…
Да, господи, в самой что ни на есть гитлеровской Германии обычного человека не подстерегало столько опасностей, как в родном СССР. Чего стоит одна только возможность получить реальный тюремный срок за то, что сам прочитал и другим дал не какой-нибудь «Архипелаг ГУЛАГ», а невиннейшее в политическом смысле «Собачье сердце».
Зато, отбившись от «спецназа» аггров, переместившись на Валгаллу, они поняли, что наконец свободны, в абсолютном выражении. В полном соответствии с классиком марксизма здесь для них осуществились одновременно «свобода от чего-то» и «свобода для чего-то». Как минимум для того, чтобы каждый смог стать, кем мечтал сам или предназначала судьба.
– Отдохнули, Григорий Петрович? - заботливо осведомился Валентин, успевший привести себя в порядок, чисто выбриться и облачиться в привычную форму военинженера.
– Более чем, Валентин Валентинович. Какие у вас для меня предложения имеются?
– Да пока что никаких. Вот сейчас на службу отправлюсь, прозондирую обстановку. Сдается мне, нынче там много интересного происходить должно. За вас я не беспокоюсь, а вот с Заковским нужно вопрос как можно быстрее решать. Пока Хозяин не передумал или со стороны какую-нибудь неприемлемую фигуру не подсунули…
– А могут подсунуть? - с искренним интересом спросил Шульгин. - Мне показалось, что Иосиф Виссарионович вполне определенно высказался по этому вопросу…
Еще бы не определенно. Вместе с Антоном они крайне деликатно, но со всей возможной убедительностью внушили Сталину, что лучшего наркомвнудела, чем Леонид Михайлович Заковский, сорокачетырехлетний комиссар госбезопасности первого ранга, ему не найти. Человек с громадным практическим опытом, «карьерный профессионал», начиная с восемнадцатого года ничем, кроме разведки и контрразведки (настоящей), не занимался, с политикой связан лишь с одной стороны - безоговорочно выполнял политические решения руководства, какими бы они ни были.
С точки зрения умного и дальновидного руководителя - идеальный начальник тайной полиции. Нужно только в окончательной, перед подписанием постановления, беседе отчетливо дать понять человеку, что данный пост - вершина его карьеры, что никаких иных вариантов рисовать себе не следует даже в мыслях и что личное благополучие, а также и физическое существование четко очерчено сроками жизни сюзерена. Впрочем, объяснять это чересчур подробно тоже не следует, если умный - сам поймет.
Судя по ответной реакции, Сталин ментальный посыл принял, внутреннего протеста или отторжения он у вождя не вызвал. Значит, Шестакову, если и его партия сложится удачно, предстоит налаживать с Заковским собственные отношения, достаточно конструктивные и доверительные, но ни в коем случае не имеющие оттенка «сговора». Это как раз не так уж трудно, с его-то знаниями и способностями.
Казалось бы, давным-давно, а на самом деле всего чуть больше двух недель назад Антон, активизируя Шульгину зоны мозга, нужные для одномоментного усвоения всего английского языка, а также истории, географии и культуры «страны пребывания», сказал ему, что при необходимости, используя достаточно несложные приемы, Сашка может самостоятельно извлекать из своей памяти вообще любую содержащуюся там информацию.
То есть все, что когда-либо поступило в мозг через любой из рецепторов, там и хранится в «упакованном» виде. Другое дело, что более девяноста процентов информации так никогда больше не возвращается в сознание, а что с ней, информацией, делает подсознание - бог весть. Но что-то наверняка делает, отчего и возможны так называемые загадки и тайны человеческой психики.
Применительно же к Шульгину и его нынешнему положению указанный факт позволял ему свободно оперировать всем объемом сведений, относящихся к истории текущего века, как общезначимых, так и совершенно локальных. Он помнил (или мог вспомнить) абсолютно все когда-либо читанное, виденное или слышанное, в том числе и о Сталине и его окружении, канву исторических событий и хитросплетения мировой политики. Беда только, что информация эта была во многом или конъюнктурно препарирована, или просто сфальсифицирована в собственно сталинские, хрущевские и брежневские времена. Только вчера ему в руки попали, наконец, сравнительно достоверные документы, да и то… Факты все равно отбирались по определенным идейно-политическим критериям, выводы делались людьми, имеющими собственные пристрастия…
Но и того, что имелось, было достаточно, чтобы более-менее ориентироваться в вопросе. Плюс к этому столь же детально он мог анализировать память Шестакова (тут-то достоверных фактов куда больше), а также подробнейшие отчеты Новикова и Берестина, сопровождавшиеся прекрасным видеорядом.
– Что же, займитесь этим вопросом, Валентин. Интуиция мне подсказывает, что нас с вами ждут не очень простые и легкие времена и наличие «нашего» человека на Лубянке окажется очень невредным…
Лихарев опять не смог сообразить с ходу - самостоятельно Шестаков пришел к весьма опасным в его положении выводам или же опять сказывается остаточное воздействие личности Шульгина.
Очень, очень плохо, что он не имеет возможности убедиться стопроцентно в том, что в памяти наркома не осталось никаких следов от событий, которые случились, и слов, произнесенных в последние сутки. А было их настолько много, что…
Все доступные методики использовал, никаких отклонений не заметил. А вот поди ж ты, сосет под ложечкой странная тревога.
Он попытался прикинуть, как ситуация выглядит с точки зрения «нормального» наркома, понятия не имеющего о творящихся вокруг потусторонних делах.
После визита в наркомат, где Шестаков благополучно изъял из своего сейфа валюту и чеки, отбился от опергруппы, захватил в плен Буданцева и уехал с ним в Сокольники, имела место столь же неудачная попытка Лихарева взять реванш. Но нарком обезоружил и его. После чего Валентин активизировал в нем матрицу Шульгина, и дальше они уже общались напрямую.
Предположим, тесты «на идентичность» сработали правильно, Григорий Петрович действительно получил от Шульгина при прощании «замещающую информацию», которая «прижилась» на место, не оставив ни следа, ни рубца. Шестаков, насколько Лихарев вообще разбирался в людях и умел отличать правду от лжи, даже тщательнейшим образом замаскированной, совершенно искренне был убежден, что после возвращения из Сокольников на квартиру Валентина они вчетвером посидели за столом, снимая нервное напряжение и обсуждая случившееся. После этого легли спать. Утром Буданцев ушел к себе домой, Власьев уехал на кордон. Лихарев с Шестаковым встретились с Заковским, согласовали позиции, после чего отправились в Кремль.
Время, занятое в реальности разговорами Шульгина и Лихарева о сути и смысле аггрианско-форзейлианского противостояния, встречей с Сильвией и т.п., в памяти наркома было заполнено обсуждением чисто внутренних вопросов - о дальнейшей судьбе Шестакова, о Ежове, о докладной, которую Григорий Петрович подготовил для Сталина. Ее содержание, кстати, чрезвычайно интересовало Лихарева, он не совсем понимал, для чего Шульгин подсунул ее вождю без согласования с ним. И весьма хотел бы тщательно ознакомиться с ее содержанием. Здесь, казалось ему, крылась какая-то тайна. Для чего бы Шульгину, собравшемуся уходить, осложнять таким образом предстоящую жизнь наркома? Или же облегчать реализацию планов аггрианской резидентуры?
Однако добиваться ответа у Шестакова бесполезно. Он абсолютно убежден, что докладную писал сам, еще до «событий», готов отвечать за каждый пункт и посыл, а Валентину не сообщил о ее содержании и самом факте существования «меморандума» исключительно исходя из собственных номенклатурных представлений. Для него ведь, в отличие от Шульгина, Лихарев не более чем сталинский порученец, хотя и фрондирующий. И согласовывать с ним вопросы, касающиеся взаимоотношений такого уровня, - явный нонсенс.
Но есть не только в политике, но и в медицине такой термин, как «провокация». Это когда в организм вводят некое вещество, призванное выявить наличие иным способом не определяемого микроба, заставить его проявиться…
– А вот знаете, Григорий Петрович, одна мысль меня все-таки мучает. До этого все не мог выбрать подходящее время, чтобы спросить. Как вы все-таки сумели в парке меня сделать? Я мужик очень тренированный, вы даже не знаете насколько, и моложе вас почти на десять лет, и всякими приемами владею! Но то, что вы там проделали, не знаю даже, как объяснить…
И уставился Шестакову в глаза пронзительным взглядом все знающего следователя.
– Какие приемы, Валентин, - нарком развеселился, заулыбался, - ну какие приемы? Это ведь все для дураков. Просто я умею драться лучше вас, и реакция у меня быстрее. И только. Давайте, прямо сейчас испытайте на мне свой самый лучший прием, пока я сижу напротив вас! Ну! Сокольники - вспомните! Вы с «маузером», я - никто, безоружен и на прицеле…
Неизвестно почему Лихарев вдруг испытал редкое для него чувство злобы, требующей немедленного выхода. Уж больно вызывающе прозвучали последние слова, с явно прорывающимся сквозь спокойную усмешку презрением. Не просто унизил его тогда Шестаков, а и сейчас демонстративно об этом напоминает. Только вот зачем?
Ладно! Прошлый раз он проиграл суперсуществу, против которого оказалась бессильна сама леди Спенсер, но сейчас-то напротив него даже не стоит, а сидит, развалившись на стуле, совсем не спортивного типа человек. На борца полутяжелого веса он похож или даже на боксера, но никак не на специалиста восточных или каких там еще единоборств. Что он без помощи Шульгина может?
И не насторожил Лихарева очевиднейший факт - если бы нарком сам по себе ничего не умел, зачем бы ему нарываться!
Не слишком даже сосредоточившись, Валентин сделал выпад, достаточно хитрый, впрочем. Левой рукой обозначил атаку на голову и шею противника, одновременно правой, собранными «птичьим клювом» пальцами намерился ударить наркома в солнечное сплетение. Пропустит - его беда, минут пять будет ловить воздух ртом и корчиться от боли. Сам напросился. Но главная хитрость заключалась в том, что он рассчитывал, в случае, если Шестаков и успеет поставить блок против двух ударов сразу, подсечь правой ногой ножки стула и банально опрокинуть его на спину. Достаточно на первый случай.
В реальности все случилось совсем не так. Вопреки любой теории и практике ближнего боя, Григорий Петрович, вообще не обратив внимания на его понятные любому знатоку ближнего боя движения, просто ударил навстречу обеими ногами. Значительно опередив в темпе. Хорошо еще, что он был без сапог.
Сметая антикварную мебель, Лихарев врезался спиной в дубовый буфет. Зазвенела сыплющаяся с полок посуда. И вдохнуть было нечем. Спереди удар в живот, еле-еле пресс выдержал, сзади - позвоночником и ребрами о резное дерево.
Он лежал, а нарком уже стоял над ним, неизвестно когда успев встать, с усмешкой покачивая в руке бронзовый шандал.
– Следующий жест, как вы понимаете, поставил бы точку на вашей биографии. - Голос был спокойный, но крайне убедительный. - Примерно так я разобрался с чекистами. Только шума было меньше, поскольку они к драке не готовились, в отличие от вас, и занимались обычным обыском, заведомо списав меня в тираж. - И протянул Лихареву руку, помогая подняться. - Ваше (и не только) заблуждение в том, что вы исходите из каких-то странных понятий. Большинство даже неглупых людей отчего-то уверены, что человек моего возраста и положения просто по определению Должен быть вялым, рыхлым, нерасторопным, в какой-то мере трусливым. Непонятный стереотип. Как-то выводится за скобки, что наше поколение отвоевало по несколько лет на самой страшной войне. Некоторые - не на одной. Хорошо отвоевало, вашему поколению и не снилось. В кавалерии, пехоте, на флоте, вроде меня. Теперешние видят только нынешнюю вальяжность и бронзовую неподвижность за столами президиумов.
Обывателям простительно, но удивительно для человека вашей профессии, тем более что имеете уже определенный личный опыт в общении лично со мной. Вам не очень больно?
– Нет, все в порядке. Это действительно урок, - ответил Валентин, быстро приходя в себя. Так же вели себя и аггрианские боевики, с которыми Шульгин столкнулся в Москве, в самом начале этой истории. Восстанавливались почти мгновенно от практически смертельных ударов. - Я, признаться, до последнего момента думал, что имеет место, так сказать, эксцесс исполнителя. Мол, вы были в настолько перевозбужденном состоянии, что, у вас невольно проявились «сверхчеловеческие» способности. Так бывает, когда, спасаясь от угрозы неминуемой смерти, человек перепрыгивает трехметровый забор или разрывает стальную цепку наручников… Редко, но бывает. А вы, получается, умеете произвольно переходить в такое состояние?
– Что поделать, Валентин, умею. С самого детства. А за время службы на флоте значительно усовершенствовался. Вы даже не представляете, как морская служба способствует развитию всяческих способностей. Если у человека имеются, конечно, изначальные задатки. Работать в шторм на мокрой, все время ускользающей из-под ног палубе, карабкаться на марсы и салинги, когда размахи достигают десятков градусов, чтобы закрепить, например, поврежденную снасть… Да мало ли еще «неизбежных на море случайностей»! Это вам совсем не то, что на берегу. Я вот не уверен, что вы сумели бы при хорошей волне просто перебежать со шканцев на бак нашего «Победителя», не говоря о чем-то более серьезном…
– Я тоже не уверен, - согласился Лихарев, - к таким вещам нужно привыкать с ранней молодости.
– И я о том же. А когда пришлось служить на линкоре - там другие дела. В море ведь наша бригада всерьез не выходила, в боях не участвовала, так что времени свободного было у матросиков много, вот начальство и старалось его всемерно занимать. Учения, тренировки, погрузки-разгрузки всякие. На станках заряжания по несколько часов в день двухпудовые снаряды кидали из беседок на лоток, потом в казенник и обратно, причем на скорость. Никаких гирь и штанг не надо, почти любой из нас тогда мог руками лом согнуть, правда, за порчу казенного имущества строго наказывали, его ж потом обратно толком не выправишь, остаточные деформации, знаете ли…
Ну и еще был у нас один битый жизнью боцман из запасных, много лет ходил по южным морям на английских, голландских и прочих кораблях, в Шанхае жил, в Нагасаки. Учил желающих всяким восточным хитростям, в том числе и рукопашному бою в тесных закрытых помещениях - отсеках, тюремных камерах… Знаете, с моряками в диких странах всякое может случиться. Дома, впрочем, тоже. Я оказался способным учеником,
– Да уж, - согласился Валентин. - И потом, наверное, форму поддерживали? Неужели чувствовали, что может пригодиться?
Шульгин решил, что он сумел достаточно убедительно замотивировать необыкновенные способности наркома. А если Лихарев и не до конца поверил, так это уже его проблемы.
– Думал - не думал, теперь уже не столь важно. Главное - пригодилось. Иначе сейчас бы мы с вами не разговаривали здесь. А спортом занимался, как же. На значок «ГТО»[14] первым в наркомате сдал. Личным примером, так сказать…
В голосе его прозвучала едва скрытая насмешка.
Лихареву ничего не оставалось, как поблагодарить Григория Петровича за удовлетворенное любопытство и отправиться в прихожую надевать сапоги и реглан.
– Я вернусь поздно ночью, если вдруг возникнут экстренные вопросы - позвоню. А вы чем собираетесь заняться?
– Воспользуюсь предоставленным отпуском. Давненько, признаюсь, не ощущал такой свободы, хотя бы на ближайшие сутки. Наверное, пойду по городу прогуляюсь…
Подобное решение категорически не устраивало Лихарева. Прежде всего потому, что, выйдя из квартиры, нарком самостоятельно вернуться в нее не сможет. Вручать ему свой блок-универсал Валентин не собирался (да и как объяснить сам факт наличия параллельно-совмещенных пространств?). Без него же Шестаков, подойдя к двери, увидит облупленный дерматин и батарею звонковых кнопок с указанием, кому из жильцов сколько раз звонить. Фамилия «Лихарев» в списке точно не значится. Как бы разум у товарища наркома снова не помутился. Но и заставить Шестакова оставаться взаперти у него возможностей было не так уж много. Объявить, что наркому нельзя выходить на улицу, поскольку ему угрожает НКВД и еще какая-то служба, - глупо. После того как они вместе побывали у Сталина, Григорий Петрович в такую легенду вряд ли поверил бы, резонно возразив, что взять его могут и здесь, будь на то высочайшая воля, а кому-либо из сотрудников теперь уже бывшего Ежова такая инициатива в голову ни за что не придет. Ну и, что молчаливо подразумевалось, при любом раскладе нарком за себя постоять сумеет.
– Я ведь только сейчас узнал, что совершенно не представлял, как выглядит настоящая жизнь.
– Подобно марктвеновскому принцу? - съязвил Валентин.
– Очень точно подметили. Именно так. Жил во дворцах и понятия не имел, что делается «на дне».
– В советской власти не разочаровались?
– Во власти - нет, а вот в том, что народ живет хуже, иначе, чем воображалось, убедился в полной мере. Наверняка определенная корректировка требуется…
– Не смею спорить, только примите дружеский совет: возвращаясь во дворец, большую часть своих открытий постарайтесь оставить при себе. Исключительно для пользы дела.
– Спасибо, я и сам за последнее время достаточно поумнел.
– Тогда из квартиры выйдем вместе. Нагуляетесь - перезвоните мне из уличных автоматов. Вот телефоны, рабочие и здешний. Договорились?
– Никаких вопросов. Только дайте мне несколько подходящих монет, у меня меньше тридцаток ничего нет, а где их с ходу разменяешь?
– Возьмите. - Лихарев высыпал ему в ладонь горсть пятнадцатикопеечных монет, в народе по-прежнему называемых пятиалтынными. - А вообще с деньгами у вас как? Могу субсидировать, если что.
– Около трех тысяч у меня есть. Не считая валюты. На ближайшее время, думаю, достаточно. Пойдемте…
– Да. Однако обязан еще раз предупредить, вы уж извините, в категорической форме. Без меня вам сюда приходить нельзя ни в коем случае. Даже в подъезд входить. Придется вам оставаться в городе, пока я не вернусь. Или договоримся о встрече где-то еще…
Шульгин, конечно, понял, в чем дело, он и разговор о прогулке затеял именно для того, чтобы посмотреть, как Лихарев на него отреагирует. Проверить степень его находчивости.
– Не доверяете? - снисходительно усмехнулся он.
– Да как вы могли подумать? Дело совсем в другом. Вопрос исключительно оперативного плана. Видите ли, квартира под наблюдением. И если станет известно, что вы (или кто угодно другой) имеете возможность посещать ее в мое отсутствие… Ну, вообразите, стало бы известно, что тот же Бухарин или Демьян Бедный отдали ключи от своих кремлевских апартаментов неким третьим лицам…
Нормально вывернулся, вполне в духе времени.
– Понимаю, понимаю. Действительно, я как-то не подумал. Что ж, не беда. Погуляю подольше. В Третьяковскую галерею схожу. Вы не поверите, первый и последний раз был там в четырнадцатом году, к родственникам в Москву приезжал перед началом занятий на первом курсе. Война как раз началась…
– Ну и сходите, много там за эти годы изменилось. Да и у себя дома можете побывать, есть, наверное, поводы…
Шестаков дернул щекой.
– Нет, не тянет. Сегодня, по крайней мере. Лучше в ресторане где-нибудь посижу.
– А то, знаете, - будто его вдруг осенило, с энтузиазмом воскликнул Лихарев, - к Буданцеву в гости сходите. Он сейчас тоже дома сидит, скукой и сомнениями мается. Ищет наверняка свое место в новой жизни. Помните, о чем ночью здесь разговаривали?
– Само собой. Определенный смысл в вашем предложении есть. А где он живет?
Лихарев снял трубку телефона.
– Иван Афанасьевич, вы дома? Как себя чувствуете? Не возражаете, если наш общий друг вам визит нанесет? Да вот прямо сейчас. Ну и хорошо, минут через двадцать подъедем… Видите, Григорий Петрович, очень хорошо складывается. Посидите, поговорите. Прослушки в его новой квартире нет, ручаюсь. А потом и погуляете, если желание сохранится. Хоть один, хоть вдвоем.
«Гудзон» довез их сквозь продуваемые жесткой метелью переулки до нужного дома, и Шульгин едва не рассмеялся. Вот же! Или Энгельс прав, что случайность не более чем непознанная закономерность, или вправду такое невероятное совпадение. Именно здесь жила Ирина после развода, к началу их эпопеи. Полный цирк будет, если еще и в той же самой квартире.
Нет, квартира оказалась другой, в соседнем подъезде. Но все равно увлекательно!
Лихарев, не переступая порога, пожелал приятного времяпрепровождения, посетовал, что неотложные дела не позволяют поддержать приятную компанию (а то бы и в преферансик втроем сгонять невредно «по маленькой»), передал Шульгину пузатый, перетянутый ремнями портфель старорежимного вида, легко сбежал вниз по лестнице.
– Заходите, Григорий Петрович, - сделал Буданцев радушно-приглашающий жест. Одет он был по-домашнему: галифе, заправленные в толстые шерстяные носки, вязаная жилетка поверх байковой рубашки.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Свое новое обиталище Буданцев успел привести в относительный холостяцкий порядок. Посвятил этому весь вчерашний день. Кое-что перевез из прежней комнаты, по-солдатски выдраил полы, горячей водой со щелоком, повесил над круглым столом в большой комнате новый зеленый абажур, шелковый, с бахромой и кистями. Светился разноцветной шкалой настроенный на заграничную музыкальную программу мощный радиоприемник «Телефункен», оставшийся от арестованных хозяев. Каким чудом его не вынесли отсюда чекисты или сотрудники горкомхоза? Наверное, при аресте в опись внесли, не подумавши, - и привет. Слишком ценная по тем временам вещь, без позволения с самого верха не украдешь. А когда прошла команда от самого Булганина об оформлении ордера, тогда уж все…
Чувствовал себя сыщик после того, как Лихарев освободил его из лубянской «внутрянки», скажем так - непривычно. Он не сломался и даже не очень испугался. Когда двадцать лет тратишь все силы, время и способности, чтобы сажать в тюрьму других людей, точнее - подводить к ее порогу, остальное решает суд, неоднократно бываешь в тюремных коридорах и камерах, пусть и в ином качестве, невольно проникаешься мыслью, что это вполне естественная составная часть жизни. Хотя и теневая ее сторона, вроде обратной стороны Луны. Лежа на шконке в камере, как-то подготовился к тому, что и не один год здесь проведет, если так на роду написано. А вот выйдя на свободу и начав плотно сотрудничать с Лихаревым, ощутил, что перескочил на совсем иной уровень.
Слишком близко соприкасаться с такими сферами ему никогда не хотелось, не то что стремиться войти в них, как в естественную среду обитания. Не для него это. Но ведь и в прежнее состояние вернуться вряд ли позволят. Особенно обострилось это чувство после ожидания неизбежной смерти в автомобиле Шестакова, и уж тем более когда они все: Лихарев, Шестаков, его напарник и сам сыщик - оказались в громадной, роскошной квартире Валентина.
Там Буданцев окончательно понял, что жизнь его продолжается, но будет она совсем не привычной. Интуиция заслуженного «легавого» и предыдущий опыт общения с «военинженером» подсказывали, что сталинский порученец говорит чистую правду. В его силах сделать его и начальником МУРа, и всей московской милиции. Раз уж за полдня сверхдефицитную жилплощадь выбил и оформил, из тюрьмы вытащил, что вообще за гранью вероятности. Попутно и беглого наркома наглел.
Правда, внутренне усмехнулся Буданцев, найти-то нашел, но вроде того мужика, что медведя поймал. Теперь пусть и выкручивается, у нас свои заботы.
Допустим, вознесут его к вершинам власти, но во что такой служебный взлет выльется - трудно сказать. Или наоборот, не трудно, а очень даже легко. В реальном училище преподаватель Шпонька рассказывал про методику тирана Фразибула, который имел манеру сбивать тростью колосья на пшеничном поле, выраставшие выше других.
Когда утром Лихарев разрешил ему уйти со Столешникова к себе домой, но строго предупредил, что появляться на службе до особого указания не следует, ни с кем из знакомых обоего пола не связываться, да и на улицах особо не светиться, Буданцев ощутил некоторое облегчение. Похоже, в ближайшие дни его трогать не будут, и можно полноценно отдохнуть, не задумываясь о дальнейшем, которое само подскажет, как быть…
По мере того как он осваивался и обживался в новообретенной квартире, она нравилось ему все больше. Старинная, уютная, не то что нынешние новостройки. Теплая. Ребристые паровые батареи, в отличие от современных водяных, грели так, что пришлось открыть все форточки. Полутораметровой толщины стены и полукруглые окна создавали ощущение надежной защищенности от превратностей внешнего мира, словно в средневековом замке или монастыре. Окруженный высокими брандмауэрами заснеженный двор вместо кишащей людьми и машинами улицы тоже настраивал на умиротворенность.
«А вот интересно, - думал Буданцев, - если бы я тогда успел уйти со службы или не поднял бы трубку и начальник вместо меня послал бы к Шадрину того же Мальцева, как сложилось бы остальное? Квартиры у меня бы не было, точно, но я бы и не подозревал о возможности ее получения. Лихарева не встретил и Шестакова тем более. Ковырялся бы с делом актрисы, со всеми прочими делами, шерстил младших оперов, психовал, возвращаясь в свою коммуналку… Лучше бы мне было сейчас или нет?»
Такие философические темы занимали его не слишком часто. От недостатка праздного времени и в целях самосохранения. Бывало, приходило в голову - а если бы не в Советской России он остался «тогда», а, как некоторые друзья, подался к белым, на фронт, потом в эмиграцию? Бессмысленный вопрос. Просто жил бы сейчас на свете (или вообще не жил} другой человек с той же фамилией и некоторыми общими чертами ранней биографии.
«А ты, именно ты, живешь здесь и сейчас. Того Ивана Буданцева, что подшивал бумажки, давился дымом скверной папиросы и наблюдал полет ворон над садом «Эрмитаж», нет и больше никогда не будет. Вот и живи, пока дают…»
Осматривая, по привычке старого сыщика, доставшееся ему владение, он в очередной раз подивился профессиональной беспомощности агентов ГУГБ. Взять они людей взяли и обыск какой-то произвели, изъяли интересующий их компромат. На другое, получается, глаза у них не настроены?
Здесь опять Буданцев судил по себе. Как сравнить наметанный глаз сыскаря «по особо важным» с пятнадцатилетним стажем и гэбэшного опера, три класса образования, четвертый - коридор? Ровно столько же выучки проявили те, которых голыми руками перебил нарком, те, кто его бессмысленно ловил целую неделю, поймав в итоге своего же старшего майора и привлеченного мильтона, «сбоку припека».
Вот она - квартира, маленькая, ни закоулков, ни подвалов с антресолями… На два часа спокойной работы, все осмотреть, все увидеть. Прямо перед тобой, подходи и бери - тайник под паркетом, в нише батареи. Паркетины чуть другого оттенка и лежат не в уровень с окружающими, зазоры на миллиметр, но пошире. Даже царапины просматриваются, пусть и затертые восковой мастикой, но отнюдь не тщательно. Халтурно, можно сказать.
Буданцев взял кухонный ножик с тонким лезвием, присмотрелся, поддел, где надо. Крышка, сантиметров тридцать на сорок, поднялась легко. Н-да, недурно! - он даже присвистнул от изумления и удовольствия. И не только профессионального.
Враги народа тут жили или не враги, профессиональные спекулянты и расхитители соцсобственности, просто люди «из бывших», «классово чуждые», попавшие в поле зрения органов, но обеспечили они себя «на черный день» неслабо.
Правда, как говорил предыдущий опыт, когда наступает по-настоящему «черный день», никакие накопления и заначки значения не имеют. Достаются другим, а чаще веками гниют в земле в качестве пресловутых кладов.
Он вытащил из тайника и разложил на столе то, что хранили его предшественники. Много всякого добра. Двенадцать тугих пачек серых сторублевок, пачку царских пятисотенных «петров» (жалко было выбросить или надеялись на реставрацию?), увесистый замшевый кисет, набитый золотыми десятками и даже империалами царской чеканки. Отдельно - упаковка советских червонцев, ценой, размером и весом равных дореволюционным. С некоторым трепетом откинул крышку шкатулки карельской березы, догадываясь, что там увидит. Не ошибся - доверху явно старинные и крайне дорогие ювелирные изделия: кольца, перстни, кулоны, фермуары и даже три орденских звезды, золотых и осыпанных бриллиантами.
– Ни хрена себе, - вслух сказал Буданцев, не боясь, что его кто-то услышит. - Бывший камергер тут жил, что ли? Да вряд ли, судя по нашим бумажкам, из тех же чекистов кто-то…
Узнать установочные данные на хозяев - проблемы нет. Только спешить не нужно. Успеем.
Кроме денег и драгоценностей, там же хранился и пистолет марки «веблей скотт» (1912 г., калибра 0,455) в рабочем состоянии, заряженный и смазанный.
«Ох, и лопухнулись вы, ребята, - так же вслух отозвался Буданцев о своих «коллегах» с нескрываемым злорадством. - Небось брошюрок Троцкого нагребли мешок - и рады…»
Что ж, осталось сесть за стол и составить опись найденного, как положено. «Изделие из желтого металла, ажурной работы, с большим камнем синего цвета посередине и пятнадцатью мелкими белыми в виде осыпи по краям». Какой металл и какие камни - нам определять не положено, есть на то специальные люди. И так - сто или более пунктов (в трех экземплярах). До глубокой ночи, до рези в глазах и боли в пальцах. После чего расписаться, сложить изъятое в пакет, прошнуровать, скрепить сургучной печатью. И отнести в приемную ГУГБ? Ту самую, где его на днях принимали, тоже по описи. Вежливо. Затем - без всякой вежливости хлестали резиновой палкой. Больно было… Нет, больно, но терпимо. По затылку не бил капитан, по лицу. Спиной и плечами ограничился…
За что и отблагодарим? Возьмите мол, товарищи, ваши при первом обыске недоглядели… Внесите на дальнейшие успехи второй пятилетки! А самому, опоздав на последний трамвай, пешочком в свою коммуналку через половину Москвы, и если осталось в тумбочке что пожевать, так, считай, повезло.
Буданцев опять рассмеялся, громко, зло, никого не стесняясь. У него теперь отдельная квартира, никто под дверью не подслушивает, как бывало.
Что там в ордере, выданном Лихаревым от имени Моссовета, написано? «Вселить в квартиру № 26 гражданина имярек с передачей ему всего там находящегося, в настоящее время выморочного[15] имущества». Сами написали, никто вас не просил.
Если бы не случившееся в последние дни, не арест за выполнение задания гугбэшного чина, не тюремная камера и погулявшая по его плечам резиновая палка коллеги, никогда бы ему в голову не пришло присвоить хоть десятку, найденную при обыске. А вот сейчас совершенно ничего не шевельнулось в районе так называемой совести.
«Значит, я теперь не только живой, но и очень богатый человек, - несколько отстраненно подумал Буданцев. - Пошло бы только на пользу».
Никогда его особенно финансовые проблемы не занимали. Денег, конечно, постоянно не хватало далее на самые насущные нужды, но предпринимать нечто, выходящее за привычные рамки, чтобы их приобрести, не было ни желания, ни возможностей. Операм угрозыска взяток не дают, а искать еще какие-то источники дохода… Единственно - в адвокаты податься, так университетского образования нет.
А сколько же ему всего досталось, по-нынешнему?
Миллионы и миллионы, если пересчитывать даже не в никчемные советские рубли, а в твердую валюту. Драгоценности, само собой. Бумажек тоже до хрена. Пачки не стандартные, банковские, в каждой намного больше ста листов. Значит - тоже несколько миллионов. Остап Бендер, помнится, за миллион в ценах тридцатого года сколько надрывался. А тут - куда больше, и практически даром. А что с ними делать? Чтобы пользоваться «на полную катушку» - и речи быть не может. Единственно возможное без риска - добавлять понемножку к зарплате, слегка, совсем незаметно приподнимая жизненный уровень. В отпуске себя посвободнее вести, ибо в Кисловодске или на озере Рица никто не обратит внимания на размах его трат, в любом случае не выходящих за рамки допустимого. Два шашлыка съел человек или три, коньяк «Пять звездочек» выпил или «КВК» - кому какое дело? В «международном» вагоне на юг поехал, так он, может, весь год именно на этот билет деньги откладывал…
А чтобы по-настоящему развернуться - тут уж никуда, придется, как Корейко, ждать реставрации капитализма.
Ну, а пока, радостно потер руки Буданцев, испытаем, каково оно - жить не по средствам. В этом районе он ни разу в коммерческие магазины не ходил, его там пока не знают приметливые продавщицы. Значит, тысяч на пять за раз отовариться можно. Как будто он полярник после зимовки или шахтер-стахановец, нарубивший уголька двадцать месячных норм.
Что и не преминул сделать Иван Афанасьевич, зайдя в очень приличный магазин на Сретенке. Просторный, с красиво оформленными застекленными прилавками. Целый саквояж набил отличнейшими продуктами, ну и в промтоварном отделе кое-чего для дома прикупил. Себе, опять же, приодеться немного, а то штатской приличной одежды совсем не было. Впервые, пожалуй, в жизни тратил деньги, не считая в уме рублей и копеек, в том смысле, что если сейчас купит килограмм твердокопченой и бутылку чего-то приличнее «сучка»[16], то следующую неделю будет питаться только в служебной столовой и курить «Норд»[17].
Поэтому, чтобы лишний раз не бегать, «Казбека» он взял сразу на месяц вперед. Подмигнул миловидной продавщице, доверительно сообщил, что собирается сделать подарок членам своей экспедиции ко Дню Красной Армии - каждому по коробке.
Только-только успел вернуться домой, управиться по хозяйству, и - звонок от «благодетеля».
Иван Афанасьевич то, что теперь у него имелось, не стал афишировать. Выставил самые скромные из закусок, нажарил «микояновских» котлет. Весьма вкусных, кстати, из настоящего мяса, да еще и поджарил их на коровьем масле, тоже настоящем. Да, вот это жизнь! Не совсем та, что у товарищей, прикрепленных к буфету ГУГБ (когда они на свободе), но намного лучше, чем у Шадрина, сидящего сейчас на нарах. А там черт его знает, может, старшим майорам и в камеру спецпаек носят.
У нас же - строго в пределах наличности, оставшейся до очередной зарплаты. А какая наличность у совслужащего на исходе третьей пятидневки[18] после предыдущего жалования? Ну да посидеть за мужским разговором хватит. А если высоким товарищам не понравится - пусть знают, как простые люди живут.
Буданцев с интересом наблюдал за гостем. Опыт имелся. Это следователи могут разбираться с клиентом неделями и месяцами, выстраивая психологический портрет и стратегию дела, а оперу приходится иногда за несколько минут сообразить, с кем дело имеет и как себя вести.
Неплохо выглядит нарком и нормально держится. Гораздо спокойнее, чем позавчера. Только вот что его привело сюда? Несопоставимы их социальные уровни. Поболтать да водки выпить? А для чего? Если он по-прежнему при должности и на свободе, так не с опером муровским ему душу отводить. А если не сложилось чего, так тем более не явился бы. В другом месте разговоры разговаривал…
Несмотря на эти вполне естественные мысли, сыщик изобразил искреннюю радость. Да и стараться особенно не пришлось. Гость - всегда гость, особенно когда распирает изнутри чувство давно забытой свободы. Теперь уже и финансовой. Говорить именно об этом Буданцев не станет, но перевести эмоцию в другое русло - отчего же и нет? Сказку про парикмахера, который от невыносимого желания высказаться об узнанной страшной тайне убежал в камыши и там отвел душу, он тоже помнил[19].
– Очень вы вовремя, Григорий Петрович. Я тут, узнав о вашем визите, решил нечто вроде новоселья устроить. В одиночку-то какой праздник? Верный путь к алкоголизму. А вдвоем очень недурненько можно посидеть. Смотрите, какие мне апартаменты отломились, нежданно-негаданно…
Гордясь, провел гостя по всем помещениям.
Шульгин оценил, похвалил, особо отметил именно те преимущества квартиры, что нравились и самому Буданцеву.
– Тут, если что, пока дверь ломать будут, через окошко кухни свободно можно на крышу вон тех сараев спрыгнуть, при должной сноровке, и - дворами, дворами, хоть на Трубную, хоть на Сухаревку… Сыщик хмыкнул.
– Как давеча из наркомата? Интересный у нас разговор затевается. Вроде не у наркома с милицейским, а у воров на подпаленной малине.
– А что? Самый нормальный разговор, исходя из текущих обстоятельств, - совершенно спокойно ответил Шульгин, выгружая на стол содержимое врученного ему Лихаревым портфеля. Валентин не поскупился, причем ассортимент продуктов не слишком отличался от шадринского гостинца. Та же икра, красная и паюсная, сыр, колбаса, масло, еще паштеты нескольких сортов в жестяных баночках, заграничные сардины и отечественные крабы, зеленый горошек, баклажанная икра из Бессарабии, коньяки и водки, само собой. И Шестакову в пайках все это привозили, так что он совсем не удивился. Управление делами Совнаркома одно на всех. Может, членам Политбюро по другому списку выдают, а для прочих ответработников коммунизм одинаковый. Каждому по потребностям, тщательно учтенным и дозированным. - Значит, попразднуем ваше новоселье. Благо спешить совершенно некуда и вам, и мне…
Выпили, закусили. Добавили под котлеты, пока не остыли. Икру, словно бы развлекаясь, ели ложками, правда, чайными, а не столовыми. И все время то один, то другой ловили взгляды своего визави, не слишком сочетающиеся с атмосферой дружеского застолья.
– Значит, нравится вам ваша новая квартира, - неожиданно вернулся Шульгин к теме, которая вроде бы и соединила их за столом. Откинулся на гнутую спинку венского стула, размял папиросу, закурил. Буданцев тоже.
– А как же не нравиться, особенно если по углам да коммуналкам намаялся? Сидим вот, все двери нараспашку, никто по коридору не шаркает, на примусе вонючую рыбу не жарит, в клозете чисто, очереди нет и не предвидится. Вам давно не приходилось стоять и слушать, что там за фанерной дверью происходит? Какие физиологические процессы?
– Давно, - честно признался Шульгин, за двоих сразу. Сам он помнил коммунальное житье еще в дошкольном детстве, а Шестаков получил отдельную квартиру в конце двадцатых, когда перевелся из штаба Балтфлота в Москву. - Но вас не удивляет существенный штришок? Какому классному чину в царской полиции соответствует ваш нынешний ромбик? - неожиданно спросил он.
– Да как сказать… Пожалуй, статскому советнику. Что-то в этом роде, между полковником и генералом.
– И что, много вы знали статских советников, не имевших хотя бы пяти комнат, плюс помещений для прислуги? А надворных, даже титулярных? Пушкин, помнится, был как раз титулярным1[20], а квартиру снимал аж в двенадцать комнат…
– Вы это к чему говорите, Григорий Петрович? - Буданцев, жуя мундштук папиросы, оперся локтями о стол.
– А вы как думаете, товарищ главный опер? Вербую вас в польскую разведку? Или скорее японскую. Вы же именно так подумали, когда меня ловить взялись? Очень наши контрразведывательные органы именно на эти две службы запали. Одно время еще румынская была в моде, но сейчас, кажется, вышла из текущего обращения. На ней больше не зарабатывают. Выпьем?
– Поддерживаю…
Вечер спустился на Москву и окрестности. Уличные фонари Рождественского бульвара можно было увидеть только через окно кабинета, приподнятого над площадью квартиры на полтора метра по странной прихоти заказчика. А вернее, никакой прихоти и не было. Квартира ведь приспособленная, выделенная из гораздо большей, с парадными комнатами по переднему фасаду, а здесь был, по-флотски выражаясь, служебный отсек, выгородка для кухни и прислуги, окнами во двор. И за ними - глухая тьма. От которой, чтобы в душу не заглядывала, они отгородились плотными шторами. Очень даже уютно, пар в батареях шипит и посвистывает, только сверчка не хватает.
Буданцеву происходящее странным уже не казалось. Он скорее постепенно начал проникаться теми чувствами, что вначале были просто неясными намеками собственного подсознания. Теперь же ввалившийся к нему домой нарком, тяжелый, как медведь, не только физическим объемом, но и душевными силами, не слишком выбирая выражений (провоцировал или выговориться хочется?), стал называть вещи своими именами. Как раз те, касаться которых и наедине с собой Буданцев избегал.
Зачем додумывать до конца то, что в реальной жизни не поможет, но значительно осложнит повседневное существование? Хотя Лихарева спросил, не удержался, когда увидел его шикарный «Гудзон»-кабриолет, отчего это у него - такая машина, а Буданцеву на все отделение потрепанной «эмки» не положено? Ну и получил ответ, способный лишь усилить неприязнь к советской власти.
– Ну, Григорий Петрович! - сказал опер, когда выпили, теперь уже дорогой коньяк из маленьких рюмок и, не сговариваясь, долго держали его во рту, позволяя дубленому алкоголю всасываться через слизистую щек. - Вы не совсем правильно сказали. О разведках речи не идет. А вот о том, что советская власть в нынешнем виде вам не нравится, - безусловно.
– А вам? Если да, то просто давайте все имеющееся съедим и выпьем и разойдемся по домам. Вы продолжайте ловить воров, если снова не посадят, я займусь укреплением обороноспособности нашей Родины. Тоже до поры, И все! Я вас не помню, вы меня не видели. Договорились?
– Так бы оно, наверное, лучше всего. Но вряд ли получится. Знаете, почему я с вами сейчас вообще разговариваю? Единственно потому, что вы - гарантированно не стукач и не сексот. Ни о ком больше в целой Москве я такого сказать не могу. Хоть вот настолечко, - он показал пальцами, на сколько именно, - а сомневаешься в самом хорошем приятеле. Один из убежденности донесет, другой по глупости, третий - чтобы место мое занять, кому-то и оно завидным кажется. А вот вы - не вдаваясь в ваши истинные убеждения - на меня точно не настучите. Ну и я, соответственно, тоже - не наш с вами уровень. Верно?
– Куда вернее. Значит, в этом мы сходимся - такая советская власть нам не по душе. Может, потому что оба - из бывших?
– В определенной мере. Во-первых, думать нас научили несколько раньше, чем этому занятию были положены четкие пределы, «их же не перейдеши». Во-вторых, ни вы, ни я от означенной власти не получили ничего, чего бы мы не имели от старой, причем там - с куда меньшими затратами. Другое дело - такие, как мой начальник и большинство вашего окружения. Там действительно: был потомственный подсобный рабочий, стал начальник департамента. Тем такая власть - самое то!
Я ведь, Григорий Петрович, все это время, как только меня Шадрин принял и велел вас искать, а потом Лихарев меня как бы «перевербовал», думал, сопоставлял… Куда это я влез и чем рискую? И из разговоров ваших у Валентина на квартире кое-что услышал. Специально не подслушивал, а кое-что донеслось…
«Интересно, что же именно? - обеспокоился Шульгин. - Если только о ближайших государственных планах, так не страшно, я его сам к этой мысли подвожу, а вот если про галактические дела… Да все равно не беда. Всегда можно особым образом это объяснить, вплоть до особо хитрого кода в масонском духе».
– Слышали и слышали. Какие теперь тайны? У вас и без того информации было достаточно. Ясно ведь любому, что, если в стране одна часть власти режет другую, обязательно найдутся люди, которые зарезанными быть не желают… Что Лихарев, Заковский и Шадрин сыграли против Ежова и, похоже, в данный момент выиграли, вам открытым текстом было сказано. Предложение занять свою нишу в этой игре вы тоже получили. Так?
– Так. Один у меня вопрос, ответьте, если хотите и можете. Ваш, скажем так, «проект» предполагает просто смену рулевых или штурмана и курса тоже?
Молодец, Иван Афанасьевич. Конкретно мыслит. А все ж таки не сказал - «капитана». Но с другой стороны, может, он еще тоньше выразился. Штурман ведь - тоже в своем роде «руководящая и направляющая» сила на корабле. Капитан зачастую может быть фигурой вполне номинальной.
– Рулевых - это безусловно. С одним уже разобрались, как видите, про остальных думать надо. Кто-то, наверное, сгодится и в нынешнем качестве, кого-то в кочегары можно перевести или просто на берег списать, но это все организационные моменты. Насчет курса - разве есть у вас сомнения, что он ведет явно не туда? Вслух только что сказали, а с какого момента увидели, догадались?
– Честно сказать, года с двадцать пятого, двадцать шестого. Когда НЭП начали сворачивать, а ГПУ - силу набирать, уже без Дзержинского. При том несколько иначе работали…
Шульгин не стал возражать, высказывая свое личное мнение по поводу этой фигуры. В чем-то Буданцев прав, Дзержинский, при всех его особенностях характера, был все-таки умным человеком и прагматиком, что и подтвердил на постах, не связанных с политическим сыском.
– Что ж, двенадцать лет - достаточный срок. Не сгоряча высказались, под влиянием личной обиды. Ну, я чуть раньше задумываться стал. Сразу после Кронштадтского восстания.
– Мятежа, - с легкой улыбочкой поправил Буданцев.
– Конечно, конечно. «Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае он называется иначе». И все же…
Сыщик, слегка нервничая, разлил по рюмкам остатки. Разумеется, понимал, что сейчас он снова переходит в иное качество. Думает наверняка примерно так, как Шестаков на Ленинградском шоссе, когда первый раз снялась шульгинская матрица и он собственным разумом осознал истинный смысл происходящего. Мол, до этого его хоть и арестовывали, но как бы по ошибке, а вот сейчас он превратился в настоящего врага, и не будет ему утешением перед расстрелом хотя бы чувство собственной невиновности.
Какое уж тут можно найти утешение, когда в затылок упирается ствол «нагана», Сашка не очень представлял. Скорее наоборот, умирать, зная, что зря, - куда противнее, чем по делу.
Буданцев, согласившись разговаривать с наркомом всерьез, автоматически превращается во врага народа, по нынешней терминологии. До данного момента все, что он делал, оставалось в рамках системы. Даже из внутренней тюрьмы он не убегал, его оттуда ответственный товарищ вывел. А вот сейчас…
Понимать-то он это понимал, но принимать не собирался.
– Я, Григорий Петрович, человек принципиально беспартийный. Не вступал и впредь не собираюсь. Идеи - это другое, идейно я и сам с училищных времен за справедливость, равенство, братство и тэдэ. Вот организационные вопросы меня не устраивают. Демократический централизм, партсобрания и тому подобное, включая «диктатуру пролетариата». Глупая формула, да и практически бессмысленная. Пролетариат - это что? С римских времен самая никчемная часть населения, не способная себе и на хлеб заработать, не говоря о чем-то прочем. И вот этот плебс должен безраздельно властвовать над всеми порядочными людьми?
– Как будто вы хоть каким-то образом от этого избавлены! Все равно тем же уложениям подчиняетесь. Вот если б могли взять и сказать вслух - «это решения вашей партии, а я подчиняюсь только внутренним милицейским инструкциям и УПК», вот тогда ваша позиция имела бы смысл.
Буданцев опять рассмеялся, уже невесело.
– Фантазер вы, Григорий Петрович. Сами-то…
– Так я и не спорю. Бачили очи, що купували… Идея, по первоначальному, дооктябрьскому замыслу, казалась вполне достойной и здравой, хотя кое-что и тогда душу царапало. Например, мне, как инженеру, всегда казалось странным, с чего бы, если разогнать квалифицированных управленцев, а на их место поставить слесарей и смазчиков, производительность труда возрастет многократно и «общественные богатства польются полным потоком». Как будто я этих «пролетариев» в деле не видел…
– Так это, по-вашему, ревизионизм называется, или как там - правый уклон…
– Не так давно инициативные товарищи с одного из моих заводов подарочек привезли. Изящно выполненный из нержавейки топор. На одной щеке выгравировано «Руби правый уклон», на другой - «Руби левый уклон». На обухе - «Бей по примиренцам!».
– И куда ж нормальному человеку в таком случае податься?
– О том и речь, Иван Афанасьевич, о том и речь. С вами Лихарев наверняка ведь пристрелочные разговоры вел, пока вы с ним меня искали?
– Очень пристрелочные… Но по направлению - в ту же сторону. - И неожиданно для себя Буданцев решил не таиться от наркома вообще. То есть говорить абсолютно на равных. Выпивка ли тут подействовала, или просто момент пришел. Показалось ему, что иного выхода просто нет. Слов сказано и так достаточно, захотят посадить - не отвертишься. Как и в том случае, если б и вообще ничего опасного не было сказано. Тамошним следователям без разницы, что захотят, то и напишут, а станешь дергаться - средства убеждения он на своих плечах испытал.
– Ну, попросту говоря, Григорий Петрович, власть менять собираемся, так? И вы, значит, организацию создаете. Причем, похоже, каждый свою? Валентин и вы. Или он вас уже успел в свою веру обратить? Не слишком ли замахнулись? Ежов - ладно, с ним удачно получилось, но ведь и кроме… Дворцовым переворотом не ограничится. Помните, как было? Царя за два дня свалили, а Гражданская война потом пять лет длилась… И что в результате вышло?
– Не теми категориями мыслите, Иван Афанасьевич. То война между непримиримыми силами и идеями, а то - как уже было сказано, корректировка существующей системы. Одно дело - новую железную дорогу построить, совсем другое - на существующей стрелку перевести. В том и сила нашего строя, и его же слабость - стоит только объявить о смене Генеральной линии, как подавляющее большинство, за исключением нескольких ортодоксов, «аплодисментами, переходящими в овацию» ее и поддержат. Будто вы не насмотрелись уже…
– Насмотрелся, куда уж больше. И где же вы меня во всех этих делах видите? Что я вообще могу? Впоследствии, ладно, как Валентин сказал, потребуются свои люди, чтобы вакансии заполнять и с прежними непримиримую борьбу организовывать. А сейчас, в данный текущий момент? В списке «сочувствующих» числиться? Так я уже. На последней «чистке» так в протоколе и записали: «Сочувствующий, твердо стоящий на рабоче-крестьянской платформе».
– Списков, слава богу, мы составлять никаких не собираемся. Не тот случай. Вообще-то, прошу прощения, Иван Афанасьевич, хочу кое-что сказать напрямик. Особых оснований у нас друг другу доверять нет. Ну, кто мы с вами? Вы меня ловили от всей души и на пределе возможностей. Я с вами, в свою очередь, не слишком ласково обошелся. Только что не убил. Потом, конечно, кое-как сговорились, при посредстве одинаково чужого нам человека. Выходит, что связывают нас с вами только вот это взаимная ничья и пара выпитых стаканов. И все. Не маловато ли для предложенной степени доверия?
Буданцев помолчал, вертя в пальцах пустую рюмку. Опять потянулся к папиросе.
– Самое смешное, Григорий Петрович, что не маловато. В самый раз, я думаю. Да и вы так же… Иначе чего ж мы здесь сидим? Побегали, постреляли, сообразили, кто чего стоит. Уж как мне муторно было ждать, стрельнете вы или нет. Но даже не по словам, по тону вашему и как последнюю водку не сами с другом выпили, а мне налили, понял - не тот человек. Пусть и враг народа… Да и я к тому времени в той же категории числился.
– Увы, Иван Афанасьевич, время нам выпало удивительно поганое. Как бы не худшее за всю писанную Карамзиным и Ключевским историю. При этом деваться все равно некуда. Как сказал один знакомый поэт: «Времена не выбирают, в них живут и умирают».
– Это точно, - согласился Буданцев.
– А вот на работу я вас к себе возьму. Почти по специальности. Есть мнение, что в ближайшие дни мне предложат новую должность, с повышением. Так можно будет кое-что придумать. Необременительное. Какой-нибудь зам по общим вопросам или начальник секретной части, что даже лучше. Отдельный кабинет с железной дверью и неопределенный круг задач, ведомых только мне и вам. За границу выезжать придется, и вообще…
– А Лихарев?
– А что Лихарев? Мы же с ним друзья с недавних пор. Вас выручил, мне помог…
– Видел я, как он помог, - усмехнулся Буданцев, вспомнив сцену в парке.
– Зря улыбаетесь. Если б он Ежова не опередил да Сталину не доложил обо мне в надлежащем духе, не знаю, где б мы сейчас были… Потому будем с ним и дальше дружить. Симбиоз у нас с ним будет.
– У меня и у вас?
– Как сами захотите. Можете на союз только с ним подписаться, а я вообще ни при чем. Тоже интересный вариант. Он ведь завтра же, а то и сегодня, наверняка с вами с глазу на глаз встретиться захочет, расспрашивать будет, как время провели. Ну и скажите, что держался я замкнуто, пил одну за одной и от любых откровенностей уклонялся. Вы ж для меня кто? Сыщик, не более. Голая функция…
– Думаете, имеет смысл?
Буданцев уже начал просчитывать в уме варианты, соображая, какой из них полезнее лично для него. Лихарев, конечно, сила, но уж больно непонятная. Шестаков куда конкретнее. В человеческом плане. И сила, так сказать, публичная. Работая с ним, будешь иметь легальный статус… Ну и отмазку в том смысле, что просто выполнял приказы и должностные инструкции. А что такое «агент на связи», он знал очень хорошо. У самого таких не один десяток.
– Еще же лучше, Иван Афанасьевич, - предложил Шульгин, тоже обдумав расклады, - если вы Валентину о нашем разговоре расскажете все как есть. За исключением последнего абзаца. Да, то-то и то-то говорил Шестаков, рассуждал о «демократизации режима», «возвращении к ленинским нормам», фантазировал, как сможет влиять на политику Сталина, если войдет в доверие. А вас позвал в помощники, потому что увидел человека умного, надежного и в номенклатурную схему не встроенного. И тут же совета попросите, как, мол, быть. Со всеми подлинными сомнениями, что у вас имеются. Ничего не скрывайте. Кажется мне, что проглотит наш друг наживку…
А хотите - без всякой наживки. Просто выслушайте предложения, и если они вас устроят - поступайте по собственному усмотрению. Я ведь, святой истинный крест, как в детстве говорили, отнюдь не тайный орден учредить задумал, единственно собираюсь в меру собственных возможностей «изменить то, что в силах изменить»…
– Так и поступим, Григорий Петрович. Никакой подпольщины, никакой конспирации. Действительно, посмотрим, что и куда повернется. Одно меня беспокоит: не подслушивают ли нас сейчас? Когда я наедине с Шадриным беседовал, Лихареву этот разговор сразу известен стал. А тут?
– Тут вряд ли, - успокоил Шульгин Буданцева. - На Лубянке одно дело, а здесь за те сутки, что он вам квартиру оформлял, ничего успеть было нельзя. Прослушка дело серьезное, проводку нужно тянуть или к телефонной линии подключаться. Я кое-что в таких делах понимаю.
Сам же подумал, что никакая проводка Валентину, разумеется, не нужна и вполне он их мог слушать, а также и смотреть на своем экране, но Антон обещал, что та слуховая капсула, с помощью которой они связывались, способна создавать достаточно надежный экран от существующей аггрианской техники.
Шульгин не стал включать «глушилку» сразу, чтобы не удивить и не встревожить Лихарева. Чего доброго, кинулся бы сюда выяснять, как и что случилось. А вот в самом конце разговора, как раз перед теми словами, которыми предложил Буданцеву ничего от Валентина не скрывать, запустил устройство. Выглядеть будет, как короткая помеха, вроде той, что вызывает электрический разряд вблизи радиоприемника или телевизора, предельно естественно.
Прощаясь с Антоном, они много технических вариантов обсудили. Вот один и пригодился.
Сашка, конечно, предпочел бы, чтобы у них с форзейлем поддерживалась двухсторонняя постоянная связь, но это, похоже, от самого Антона не зависело. Сказал, что в случае особой опасности поможет, как всегда, а как всегда - значит, исходя из его собственных, а не шульгинских потребностей и возможностей.
Суть- то понятна, Антон в земных делах занимается чистой партизанщиной, помимо своих основных обязанностей, которые неизвестно в чем заключаются, да и вообще по своей он воле действует или нет, неизвестно тоже. Но и сама мысль о том, что помощь, в случае чего, прийти может, грела душу.
– Одним словом, - сказал он, вновь отключая защиту, - все, что на сей момент от нас зависит, мы обсудили. Теперь остается ждать развития событий. В город выйти, морозным воздухом подышать не желаете?
– Что-то не хочется, - ответил Буданцев. - В тепле мне больше нравится. Доедим-допьем, что осталось, а потом я вас провожу, если захотите. Или Лихареву позвоните, он вас заберет, когда домой поедет…
– И так можно, - согласился Шульгин, в душе посетовав, что техника здесь не та. Сейчас бы телевизор включили, футбол или хоккей посмотрели, вот и скоротали время до урочного часа.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Внезапно Шульгину захотелось уйти от Буданцева. Просто захотелось, и все. Как не раз и прежде бывало. Сильное душевное побуждение или предчувствие, но вдруг остро стало понятно, что дальше оставаться здесь нельзя. Бессмысленно или даже опасно. Почему, как - уже не столь важно. Только что собирался и дальше сидеть, разговаривать на посторонние темы, выяснить, может быть, некоторые моменты нынешней жизни, не вполне понятные Шестакову, а уж ему - тем более, и вдруг зазудело, засвербело. Уйти - и все. Не столь даже важно, куда именно. К Лихареву пока нельзя, значит - куда глаза глядят.
Время не ждет, как у Джека Лондона.
Так он и сказал Буданцеву, не ссылаясь, конечно, на предчувствия. Просто обсудили, мол, что требовалось, и захотелось без всякой цели побродить по улицам.
Иван Афанасьевич понимающе кивнул. Если очень хочется - не стоит противиться настроению. Да и его, признаться, гость уже начинал тяготить. После того разговора, что состоялся, просто так сидеть и точить лясы казалось излишним. Лучше правда поваляться в постели, книжку почитать, наслаждаясь тишиной.
Шульгин уже оделся, привычно похлопал по правому карману и только сейчас сообразил, что не взял с собой оружия. Дико, странно, но факт - уходя от Лихарева, он не вспомнил ни об «олимпии», ни о «ТТ», ни о «наганах», которых у него накопилось столько - хоть на аукцион выставляй. Отчего бы это? Что-что, а об оружии Сашка всегда помнил, и вдруг такой пробой. Наводка, что ли? Стало еще тревожнее. И веселее одновременно. И интереснее. «Нам ли жить в покое?»
Не для того мы к этой жизни приспособлены. Нас или заведомо хотят убить, только не получается, или, как тем собачкам из английских псарен, создают стимулирующие условия.
Не делая никакого специального лица, как бы между прочим, как можно спросить о пятаке на автобус или трамвай, Александр осведомился у Буданцева, явно с нетерпением ждавшего, когда он уйдет: «У тебя никакого лишнего пистолетика нет? Табельный не прошу. Свой я дома оставил, непростительно. Заторопил Лихарев, я и забыл, что в другом кармане «вальтер» лежит. А мне без оружия, как без штанов… Город, ночь».
Буданцев удивился никак не меньше, чем всему предыдущему. Заговор - ладно. А вот откуда у наркома, привыкшего жить, как у Христа за пазухой, такие привычки? За неделю не образуются.
Оружие они все носят, но исключительно «для блезиру». И тут же вспомнил невероятно точную стрельбу в коридорах наркомата. Его люди (присланные Лихаревым) мазали и мазали, бегая по лестнице, а с той стороны каждая пуля шла в цель. Жаль ребят, хоть и незнакомые все были.
Нет, не прост нарком, совсем не прост, не перестает удивлять, хотя куда уж дальше? Вооруженных людей голыми руками убивать может, а сейчас несколько кварталов по центру города пройти боится. Что, если вообще не нарком и не совсем человек, а оборотень какой-то? Эта мысль, пришедшая в голову, удивила Буданцева так же, как и все предыдущие. А ведь, казалось бы, хватит уже удивляться с того момента, как вороны полетели перед окнами кабинета на Петровке и зазвенел телефон.
Табельного оружия у Буданцева давно не было, его отобрали при аресте. Тот «наган», что вручил Лихарев, отнял помощник наркома. Очень неприятный на вид старший лейтенант царского флота. Его бы тоже «прояснить» надо. Правда, потом вернул. И сейчас в нише обувной тумбочки лежит револьвер, куда положил его Буданцев, войдя в квартиру. Отдавать его Шестакову не стоит, Валентин вполне может потребовать свое оружие обратно.
А вот случайно найденный «веблей»… А случайно ли? Стоит отдельно подумать. Сыскарь постепенно и спокойно склонялся к мистике, сам этого до конца не сознавая. Могло бы ему неделю назад прийти подобное в голову? А ведь самое смешное, что могло. Не так ли он рассуждал еще до «наркомовского дела»? Когда занимался загадочной смертью актрисы. Будь то обычное ограбление с убийством по ходу дела - и говорить бы не о чем, оперов таким не удивишь. Мало ли в Москве на вокзалах и в переулках за рублевые колечки режут. Да как!
А там ведь на привычную уголовщину наложились сразу несколько даже по отдельности необычных фактов. Был у нее первый муж, знаменитейший поэт, якобы покончивший с собой, но при весьма странных обстоятельствах. Сколько лет прошло, а слухи не стихают. Второй появился - театральный режиссер, тоже фигура мировой, можно сказать, величины. Гибель его не менее загадочна, хотя и в ином роде. Огромные деньги, в которых убитая буквально купалась, тратила без счета, а иногда и смысла, на что «компетентные органы» словно бы закрывали глаза, при том, что простому человеку вроде вот него, Буданцева, лишнюю сотню страшно из кармана достать. Совершенно непонятная позиция ГУГБ, вроде бы и торопившего МУР, но на деле всячески тормозившего расследование. Исчезновение «с концами» наиболее важных «свидетелей» из того же ведомства…
Буданцев помнил, что несколько раз, особенно по ночам, возникало у него ощущение явной чертовщины, прямо-таки клубящейся вокруг. Он ведь обрадовался поначалу, когда получил приказ сдать дело и заняться розыском Шестакова. А попал из огня в полымя.
Чистый Гоголь! Завертелась, заплясала вокруг нечисть и нежить. Стоило мертвую панночку-актрису в морге увидеть, и не было у него больше ни одного спокойного дня. Не в обычном смысле «спокойного», понятно, в каком… И в довершение - клад!
Буданцев потряс головой. Черт знает что лезет. Вот стоит напротив товарищ, с абсолютно понятной просьбой. Ночь, в Москве ночью страшно, оружия у него нет, а у меня есть. Причем - чужое. Отдам, конечно, а «пальчики» вытрем. Мокрой тряпочкой. Что касается номера, то вряд ли он когда-нибудь где-то в СССР регистрировался, и в любом случае - не на последнего владельца.
– Ого! - сказал Шестаков, приняв из рук Буданцева тяжеленный и удивительно неэлегантно сделанный пистолет. А казалось бы, англичане! То ли дело «борхарт-люгер 08» или даже «браунинг» любой модели.
Магазин на семь патронов (где моя любимая «беретта» или нормальный «стечкин»?), зато калибр очень хороший, попадешь - «уноси готовенького».
– Где ж вы такой взяли? Наверняка по случаю. Специально - вряд ли.
– Именно. Подвернулся. Но вы там поосторожнее, Григорий Петрович, - опять ощутив дуновение опасности, сказал сыщик.
– А то? - ответил Шульгин. - Вы меня неосторожным часто видели? - демонстративно проверил магазин, загнал патрон в патронник, сунул пистолет в карман.
– Не пришлось, - согласился сыщик. - И все же… Может, такси вызовете?
– Разберусь как-нибудь. А пистолет верну, не бойтесь, понимаю - антикварная вещь. Да еще скоро «астру» в подарочном исполнении презентую, у меня их несколько штук в кабинете. Как республиканская делегация приезжает - непременно «астры» преподносят. Они у них неплохо получаются…
Шульгин не спеша двинулся заснеженными бульварами в сторону Пушкинской площади. Хорошо здесь и сейчас. Ему, знатоку и любителю старой Москвы, необыкновенно приятно было видеть в целости и сохранности то, что осталось в памяти с самых ранних лет и исчезало прямо на глазах в ходе начавшейся в середине шестидесятых очередной масштабной реконструкции центра со сносом целых кварталов и даже районов вроде Зарядья.
Вышел к Трубной и вдруг вспомнил про Овчарова. Нехорошо получилось. Пусть не он обещал дипломату немедленно дать о себе знать, когда все кончится, а Шестаков, но он ведь теперь за него отвечает. И пригодиться товарищ может еще не раз, пусть и с другой теперь уже целью. А там кто его знает… Оправдания у него, разумеется, были. Прощаясь с Виктором, он понятия не имел, как все дальше повернется. А тут сразу - бой в наркомате, встреча с Лихаревым, с Заковским, потом Сталиным, возвращение собственной памяти. Немудрено и забыть «не свое».
Придется исправлять.
Из ближайшего автомата набрал рабочий номер в НКИДе. Овчаров ответил после второго гудка. Будто ждал - этого именно звонка или вообще любого. Можно понять, нервы у него, конечно, заиграли, когда проспался да на ясную голову сообразил, в какие дела влез. Хотя согласие дал в здравой памяти, это уже потом…
– Здравствуйте, это товарищ Овчаров? - спросил Шульгин ровным, канцелярским голосом.
– Да, я слушаю, говорите.
– Это вас из наркомата, по поручению товарища Шестакова беспокоят, завотделом Тропин. Вы нашему наркому обещали консультацию по известному вопросу…
Секундной заминки в голосе Виктора было достаточно, чтобы понять - он узнал говорящего и теперь соображает, что и как следует ответить.
– Да, был как-то разговор. Но он, помнится, сам обещал перезвонить…
– Извините, так получилось. Но если вы располагаете временем, через десять минут машина будет у подъезда. Спуститесь, пожалуйста. Туда же, где прошлый раз. Много времени мы у вас не отнимем, часа два, не больше…
Опять пауза. Но не слишком продолжительная. А голос все-таки подсел. Понятно, как не понять. Виктор сейчас лихорадочно соображает - не уловка ли это чекистов? Спустишься к дверям, выходящим на площадь Воровского, а там - они. И машины никакой не надо, просто через улицу перейти…
Прости, Витя, придется тебе понервничать. А куда деваться? Но Шульгин надеялся, что говорил правильно, Овчаров должен был понять - друг на свободе. И он же обещал: не упомянет об их встрече ни в каком варианте. Сами контрразведчики подобной связи придумать не смогут, на допросе не спросят, а самому лишнего фигуранта в дело добавлять - не такой Шестаков дурак. Ему и своего выше крыши хватит.
Срезая путь, Шульгин пошел проходными дворами, которых тогда в Москве хватало. Да почти каждый в центре города был таким, если знать, как идти. Подловили его в довольно безопасном, по тем временам, месте. В проходе между древними двухэтажными жилыми домами и лабазами с Большого Кисельного на Варсонофьевский переулок. Воровских малин здесь отроду не водилось, те все больше группировались между Сухаревской площадью и Мясницкой или уже в Марьиной Роще. Ресторанов и даже пивных, возле которых «портяночники» могли подстерегать клиентов, чтобы снять поношенное пальто или клифт, поблизости тоже не было. Обычнейшее место, совершенно ничем не примечательное.
Английский пистолет в кармане он сжимал и ощупывал пальцами больше по привычке, чем от необходимости. Досталось незнакомое оружие, и хочется как-то его освоить, то есть сделать своим по духу. Чтобы не килограмм железа, а часть тебя самого продолжала руку.
Странное шевеление волос на затылке, а скорее - подобие щекотки внутри черепа оповестило, что ровно через секунду в него выстрелят. Не пятно лазерного прицела коснулось спины, а самая обычная незримая линия: глаз - прорезь - мушка - цель, выровнявшись, вызвала такую острую реакцию. Еще бы несколько квантов времени, Шульгин сверхчувственно смог бы определить тип готового выстрелить оружия, а то и внешность того, кто, затаив дыхание, выбирал последний миллиметр спуска. Только их у него не было. Пришлось просто упасть, разворачиваясь лицом в нужную сторону.
Нечто быстрое и убойное проныло в полуметре над лицом одновременно с очень громким, объемным грохотом, Выдернув из кармана «веблей», он одновременно успел увидеть вспышку, воспроизвел в уме траекторию и прямо в ее исходную точку вложил целых три тяжеленных пули.
Безусловно, попал. Не мог не попасть, потому что его выстрелы подчинялись законам дзен-буддизма. «Стрела и цель сами знают, где им должно встретиться». Сначала он услышал вскрик, похоже, предсмертный. Уж такие мы умеем отличать от иных, когда пуля попадает в плечо или в ногу. Потом с той стороны снова ударил обрез, звук ни с чем не спутаешь, да и сноп пламени характерный. Стреляли теперь в направлении его дульных вспышек. И еще раз, и еще. Быстро научился мужик ворочать затвор.
Пули завывали так, что ясно было - подпиленные. Не иначе на медведя собирались. Мимо, разумеется, раз услышал. А сам снова попал, двумя следующими выстрелами. Это всегда чувствуешь.
Полежал немножко, медленно начал отползать до ближайшего укрытия, по-прежнему на спине, держа перед собой пистолет, в котором оставалось всего два патрона. Никто на той стороне не шевелился.
Значит, опять выскочил «из объятий смерти», как любили выражаться в XIX веке.
Возвращаться и смотреть, кто тут взялся роль Ли Харви Освальда[21] разыгрывать, он не стал. Смысла никакого, а нарваться можно. Вон, уже начали перекличку милицейские и дворничьи свистки. Еще раз попадаться в руки органов «по мокрому», как недавно в Кольчугине, ему совершенно не улыбалось. Многовато для номенклатурного товарища, тут и товарищ Сталин из себя выйдет. Не нарком, подумает, а прямо Зорро какой-то.
Одно непонятно. Если это по недосмотру не выведенные из предыдущей операции чекисты Ежова - так методика не та. Стрелять ночью на два десятка метров из обреза трехлинейки - более чем глупо. Так не делали не только специалисты, вообще никто, соображающий в огнестрельном деле чуть больше питекантропа. Разве что зверовидные «кулаки» с плакатов периода коллективизации, убивавшие сельских активистов непременно из обрезов. Нормальный убийца воспользовался бы пистолетом, исходя из места и времени - удобнее всего в упор. Или вон в той, маячащей впереди подворотне броситься с трех сторон, навалиться, ткнуть финкой под ребра. А тут какой-то Даллас для даунов!
Самое простое и при этом убедительное объяснение - засада была не на него. Кто, на самом деле, мог догадаться, что именно в это время нарком вздумает выйти от Буданцева, вспомнит об Овчарове и договорится о встрече, да еще и направится на рандеву непредсказуемым маршрутом?
О времени выхода мог кому-то сообщить сам сыщик по телефону, так логично было бы встретить и «завалить» Шестакова в том же дворе или поблизости. Стоп, это уже ближе. У ворот встретили, повели, в подходящем месте решили кончать. По-дилетантски, но с хорошими шансами на успех. Инструмент специально выбрали, к официальным инстанциям отношения не имеющий… Но все равно неудобный.
Лихарев бы так мог сработать, только как раз ему это сейчас совершенно невыгодно. Загадки, загадки, тайны мадридского двора.
«Мне кажется, что я магнит, и я притягиваю пули…» - писал один из поэтов фронтового поколения.
Увидел на углу очередной автомат и, повинуясь только что возникшей идее, позвонил Буданцеву. Коротко изложил суть происшедшего. Иван Афанасьевич только присвистнул, обошелся без никчемного: «А я что говорил?»
– Так вы б, может, вышли, так, прогуляться, мельком взглянуть, что и как? Вас, если что, постовые не задержат… - полувопросительно предложил Сашка.
Судя по тону, делать этого Буданцеву категорически не хотелось. Однако он ответил коротко:
– Сейчас выйду. Оно и вправду интересно. Потом перезвоните.
На Неглинной Шульгин остановил первое попавшееся такси, снова «ЗИС-101», тогда их в Москве было больше, чем вероятных пассажиров. Вот бы цирк получился, если бы опять за рулем сидел Слесарев. Но тот в ближайшее время на трассу не выйдет, его долго милиция с чекистами мурыжить будет. И поделом, нечего приличных людей сдавать.
Велел ехать на Кузнецкий. На удивленный взгляд водителя ответил, что это только начало и они еще покатаются по городу.
Как Сашка и ожидал, таксист, мужик постарше Слесарева, годам к пятидесяти, немедленно начал рассказывать о той самой истории. Случай и вправду неординарный. Солидный пассажир, выдававший себя за писателя, оказался крутым уркой, избил водителя, отнял все деньги, и казенные и свои, выбросил в глухом переулке, а машину угнал. Только утром нашли разбитую,…
Хитер Серега! Сам, что ли, рожу себе раскровянил, для убедительности, а деньги зажал. И, похоже, на свободе, раз информация, довольно близкая к подлинной, по всем паркам разошлась.
– Да, бывает, совсем бандиты обнаглели, пора бы органам за них всерьез браться, а то уже и на улицу страшно выйти, - сочувственно сказал Шульгин. - Ну, я не писатель, меня можете не опасаться…
Таксист оценил шутку, подкрепленную дорогой папиросой пассажира.
– Вот здесь остановите, сейчас человека подберем и дальше поедем.
Тут и Овчаров появился, в прежнем своем пижонском пальто и в шляпе, невзирая на погоду. В руке портфель. «Тревожный чемоданчик», что ли, на случай ареста или внезапной командировки?
У Шестакова и самого был такой же: две смены теплого белья, несколько пар носков, мыло, полотенце и тому подобное, сухой паек на три дня, курева на неделю. Часто бывало, что поступала команда - через час вылетать самолетом в Норильск или Свердловск, срочно, сверхсрочно, домой забежать некогда. Ну и для тюрьмы тоже все предметы нужные, кроме бритвы, разрешенные. Коньяк тоже отберут, разумеется, и письменные принадлежности, а остальное - нет. Все же лучше себя будешь чувствовать в камере, чем те бедняги, которых брали на улице летом в тенниске и сандалетах, а потом на зимний этап в том же самом отправляли.
Да что опять в голову лезет всякая глупость? На самом деле все совсем хорошо, вырвались из тисков обстоятельств, сами можем свои судьбы решать. Про недавнее покушение он почти забыл. Мало ли в него стреляли? Нервничать - бессмысленно, размышлять по сути - не хватает данных.
Шульгин щелкнул дверцей. Вышел прямо в косой сугроб сухого жесткого снега у бордюра. Дворники сгрести не успели, а машин, чтобы колесами разнести, здесь столько не бывает.
И тут же вспомнилась картинка, когда по обеим сторонам Дзержинки и вниз по Кузнецкому автомобили стояли впритык, едва-едва троллейбусам проехать. Так это - в восемьдесят четвертом, не видел Сашка той же улицы двадцать лет спустя. По сравнению с Дюма изменения еще более разительные. Да, впрочем, видел, только не этот Сашка.
– Витя, ты не меня ждешь?
Пришлось сделать некоторое внутреннее усилие, чтобы идентифицировать свои мысли и ощущения с шестаковскими. Но - получилось. И не очень трудно. Сашка вообще считал, что для нормального матричного совмещения какие-то мозговые структуры должны совпадать изначально. Иначе ничего не выйдет. Как движок от «КамАЗа» не поставишь на «Волгу», а прицел от гаубицы «М-38» - на ручной пулемет.
Тогда, значит, и Андрюха Новиков вполне совместим со Сталиным? «А что, если да?», как говорят в Одессе. Чем плохо, в конце концов? Дело же не в структуре личности, а в том, как ты ее используешь.
Старый клоун в цирке на Цветном, с которым молодому Сашке приходилось (и нравилось) общаться по ночам после представлений, не раз твердил, допив свой обязательный граненый стакан: «Саша, мы с нашими способностями могли бы зарабатывать карманными кражами в сто раз больше, чем нам платят здесь. Но мы же этого не делаем?»
Шульгин соглашался, что именно так. Не добавляя, что в отличие от старика гораздо больше мог бы заработать и разбоем. Мгновенным и нераскрываемым.
– Жду! Ох, как я тебя жду! Морду прямо сейчас можно бить или подождем до более подходящего места?
– Если хочешь - давай прямо сейчас. Виноват. Однако садись в машину, там и разберемся…
Они сели на заднее сиденье, Шульгин велел таксисту поднять разделяющую салон и водительский отсек стеклянную перегородку из звуконепроницаемого стекла и ехать через центр, по Большой Ордынке до Добрынинской площади, а с нее - направо.
– Вот так, Витя, у меня получилось, - и рассказал ему практически все, от прощания на Павелецком до текущего момента. С точки зрения Шестакова - ничего не искажая. Про Лихарева, Заковского, самого Сталина.
– Не-ет, ну ты даешь, - протянул Овчаров, и Шульгин немедленно протянул ему стальную, обтянутую замшей фляжку коньяку. Нашел в буфете у Валентина и положил в карман на всякий случай.
– Что нам, Витя, делать? Так сложилось. Я честно собирался взять у себя в сейфе чековые книжки, завезти тебе. Поймали б меня ежовские соколы - тогда, конечно, все. Мне конец, и деньги б ушли неведомо куда. Не вышло у них. Теперь я, похоже, на коне. О тебе я думал, не сомневайся. Если по-прежнему на загранработу настроен - поезжай, конечно. Думаю, теперь нравы у нас значительно смягчатся, вашего брата опять зауважают, перестанут дергать… Вздумаешь дальше в серьезные игры поиграть, могу тебе предложить как минимум должность начальника управления по международным связям в моем наркомате. В Мадрид, в Париж, да и в другие интересные места будешь ездить невозбранно. Ну и нашивочек добавим, что там у вас следующее по тарифной сетке - посланник, что ли?
– Посланник, - машинально ответил Овчаров, - но это уж больно высоко, за пределами твоей компетенции. Считай, не меньше чем комкор в армии. Да чего ты мне всякой ерундой голову забиваешь? Я еще от прежнего в себя не пришел. Только вообрази, что я за это время передумал, от каждого скрипа половицы вздрагивал…
– Чего тут воображать, сам такой был, с раскаянием принес все возможные извинения. Что еще от меня требуется? Скажи лучше, Татьяна твоя не вернулась?
– Нет, она на весь отпуск уехала. Бродит сейчас, наверное, по Эрмитажу, а вечерами - театры…
– Вот и ладненько. Тогда давай тоже куда-нибудь закатимся. Хочешь - в «Националь»?
– В «Националь» - не надо, в «Метрополь» тоже. Там меня в лицо знают, часто по делам бывать приходится. Найдем попроще, где обслуга не стучит в штатном режиме.
– Знаешь такие места - командуй, я в этих делах пас.
Овчаров привез Шульгина в небольшой особнячок без вывески неподалеку от ипподрома. С зашторенными окнами и пропускным режимом. Внутри же оказался вполне приличный, только не общедоступный ресторан. Каких всегда было достаточно в современной Шульгину Москве. Домжур, Дом архитекторов, актеров, писательский, само собой, и тому подобное. Зал попроще на первом этаже, побогаче и уютнее - на втором. Сюда пускали не всех даже и из «своих». Но Виктор прошел мимо вахтера свободно, лишь слегка кивнул. Обстановка здесь явственно отдавала стилем перворазрядного тестовского трактира. Мебель, занавеси на окнах, громадная буфетная стойка мореного дуба - все, похоже, так и осталось здесь с прежних времен. Так ведь, подумал Шульгин, чего особенно удивляться, лет-то с тех пор сколько прошло? Всего ничего, можно сказать, с ликвидации НЭПа - десять всего…
Овчаров подтвердил его предположение. На самом деле до конца двадцатых годов здесь помещалось частное заведение, обслуживавшее в основном завсегдатаев бегов, традиционно обмывавших выигрыши и завивавших горе веревочкой, если не пофартило.
Потом, естественно, частника искоренили, ресторанчик национализировали, но судьбы сотен и тысяч подобных же «храмов желудка» он избежал. Кто-то из наркоминдельского начальства, тоже, наверное, не чуждый ностальгии, да и более рациональных соображений, чуть ли не сам Чичерин или Карахан, добились передачи «объекта» на баланс своего учреждения с сохранением профиля. Формально - как общепитовской точки при ХОЗУ, вроде столовой повышенной категории для ответработников, фактически же там организовали полусекретный «Дом приемов» для проведения неизбежных в дипломатической работе конфиденциальных завтраков и ужинов, иных корпоративных мероприятий.
– Здесь, по крайней мере, посторонних не бывает, наших общих друзей - в особенности. Свои службы есть…
Шульгин про себя подумал, что так уж зарекаться не стоило бы, те ребята, если им нужно, куда хочешь влезут. С другой стороны, исходя из обычного соперничества и взаимной ревности сопоставимых по значимости ведомств, вполне допустимо, что на среднем уровне НКВД и НКИД в дела друг друга не лезут, все вопросы прорабатываются на самом верху, с согласия или по указаниям лично Хозяина. Иначе и работать невозможно, дипломатия все же дело тонкое, государственное. Лубянцы, дай им волю, такого наворотят… Хотел же Ежов даже дела шестаковского наркомата на себя замкнуть.
– Тебе виднее, - сказал он, присаживаясь за указанный Виктором столик в углу, за раскидистой пальмой в здоровенной деревянной кадке. Людей в зале было немного, сидели по двое, по трое, выпивали, закусывали, кому-то Овчаров коротко кивнул, кого-то словно и не заметил. Не было ни рукопожатий, ни возгласов, ни объятий, столь свойственных собраниям людей свободных профессий.
Прямо напрашивалась на стене табличка из конторы «Геркулес»: «Сделал свое дело - и уходи».
– Как-то не слишком весело у вас тут, - не преминул отметить Шульгин, беря в руки папку меню.
– Это точно. Для разгула другие места есть, а здесь ближе к английскому клубу, зато готовят и обслуживают очень недурственно. Цены тоже - ниже, чем в заводской столовой. Карточные[22]…
Виктор сделал заказ, руководствуясь собственными соображениями. Есть Сашке совершенно не хотелось, разве так, слегка, за компанию. Впрочем, он уже успел заметить, что гастрономические возможности наркома куда солиднее, чем у него, тот мог бы достойно участвовать в любом восточном застолье, где плов потребляют казанами и баранов - целиком. Причем эти качества у него прорезались именно после «встречи» с Шульгиным, до этого многолетние стрессы отбивали аппетит.
Для приватных бесед зал был хорош еще и тем, что обладал уникальной акустикой: ковры, толстые драпировки, многочисленные растения гасили и рассеивали звуки так, что с соседних столиков не доносилось ни одного членораздельного звука, только позвякивание ножей и вилок о фарфор.
– Значит, нет прослушки, говоришь? - выцедив рюмку, повторил Шульгин.
– Где есть - я знаю, здесь - нет. Мы ведь тоже пользуемся, пусть и в других целях. Иногда приходится нетрезвые откровения партнеров по десять раз прокручивать, нюансики всякие интонационные отслеживать, проговорки, а то и намеки, с лету не каждому понятные.
– У всех специфика, - заключил Шульгин, с удовольствием разжевывая крупные фасолины лобио. - Так я, собственно, что? Никаких интересных посторонним секретов и тайн разглашать не собираюсь. Захотелось напряжение сбросить в компании совершенно постороннего от моих служебных дел человека. Другое дело, что есть у нас, бюрократов, суеверие - не стоит даже с собственной женой говорить о карьерных вероятностях.
– Это так, - кивнул Овчаров.
– Однако хочется мне этот принцип нарушить. Вот тянет за язык, и все. Есть мнение, что могут мне днями предложить весьма солидное повышение. Причем в форме, вряд ли допускающей самоотвод. В предвидении чего я, даже и невольно, прорабатываю варианты. Сам понимаешь - на новое место без своей команды приходить не очень удобно. Почему я тебе и намекнул. Согласишься со мной?
Виктор обдумывал слова Григория достаточно долго. Папироса успела догореть. И взгляд - все время куда-то мимо.
Удивительно даже - на куда более рисковое дело пошел почти без колебаний, а сейчас… Разве что цену себе набивает или на самом деле просчитывает: стоит ли идти в подчинение к товарищу? Не один случай известен, когда попытка совместить дружбу со службой заканчивалась печально и для того, и для другого.
Овчаров нашел нейтральный выход.
– Чего сейчас об этом говорить? Состоится назначение - тогда и обсудим, по факту. А то пошлют тебя, скажем, начальником Дальстроя[23], и где там моя роль?
ГЛАВА ШЕСТАЯ
С утра Шульгин на машине Лихарева съездил к «себе» на квартиру, на Земляной Вал, чтобы приготовиться к судьбоносной (или роковой, что почти одно и то же) встрече.
Все здесь было точно так, как в ту ночь, когда Шестаков с Власьевым сидели и обсуждали собственное будущее, представлявшееся им весьма и весьма туманным. Более того - почти безнадежным. Продолжать борьбу заставляла только слабая надежда, что удастся добыть из сейфа наличность и бланки банковских поручений, договориться с Овчаровым, вместе с семьей пробиться на Запад. Однако бодрости они с бывшим старшим лейтенантом не теряли, даже напротив. Вспоминали Мировую войну и Кронштадт. А там
шансов на счастливый исход было на порядок меньше. Особенно когда Шестаков, бросив на кон все, что мог, выдернул подрасстрельного товарища, на самом деле не имея понятия, что страшнее - возможный взрыв боезапаса форта «Павел» или фронтовая ЧК товарища Штыкгольда. Обошлось. И побег с владимирского этапа «на рывок» удался, чему нет аналога в воровских анналах.
Сашка подумал, что про Леньку Пантелеева забывать тоже не следует: уж больно хорошая маска, легенда для общения с настоящим преступным миром и для запугивания (ну, для сбивания с толку) милицейских и гугбэшных органов. Буданцев с его агентурой очень поможет сыграть на этом поле, если придется.
Опять же, вечный пример - граф Монте-Кристо и его реинкарнации, аббат Бузони и прочие. Мы же на полтораста лет умнее, и возможности у нас пообширнее, только с деньгами плоховато. Раз он остается в сталинской номенклатуре, чеки придется вернуть. Наличные - другое дело, они нигде не фиксировались, так большую их часть он отдал Власьеву.
Но об этом подумаем позже. Если сохранится такая возможность.
Сейчас он переоделся в свой запасной костюм, приличный наркому. Предыдущий, с орденами и значком депутата, остался на кордоне у Власьева, а тот, в котором его Лихарев представил Сталину, выглядел достаточно затрапезно, благо вождь в азарте интриги не обратил внимания.
Зоя содержала его гардероб в порядке. Выглаженная жемчужно-серая гимнастерка, темно-синие галифе, накрахмаленное белье, шелковые носки пачками. Сапоги тоже нашлись новые, всего пару раз надеванные. Вот без наград и ведомственных знаков отличия он чувствовал себя не совсем уверенно. Конечно, ничего не стоило послать на кордон лихаревского порученца, а то и самому съездить, но - не хотелось. Слишком сложно изображать мужа перед женщиной, которая прожила с Шестаковым столько лет. Долго - не вытянуть. По крайней мере - сейчас. На другое силы нужны.
Обойдемся, и без орденов товарищ Сталин примет, если я ему нужен. Нет - тем более.
В назначенное время Шестаков стоял в приемной, по старой памяти обменивался с Поскребышевым внешне ничего не значащими, но несущими второй и третий смыслы фразами. Изощренный в аппаратных делах человек по интонации, по направлению взгляда, по десяткам других неуловимых штрихов способен понять ситуацию и предсказать свое и чужое будущее. Сейчас ничего угрожающего нарком не ощущал. Даже напротив, секретарь Сталина демонстрировал подчеркнутое уважение, ни единым жестом не обозначая, будто знает о нескольких «странных» эпизодах, не так давно имевших место. Значит, с позавчерашнего дня в поведении Хозяина ничего не изменилось, по крайней мере - внешне. А что он там на самом деле воображает и лелеет - не угадаешь. Когда нужно, тот и самого Поскребышева отправил в тюрьму без предварительных ритуальных телодвижений. На то и вождь.
– Войдите, Григорий Петрович, - сказал наконец Поскребышев и тут же начал писать обыкновенной, школьной ручкой в журнале посещений, аккуратно макая перо в чернильницу.
Неожиданно яркое после вчерашней непогоды январское солнце било косыми лучами поперек сталинского кабинета. Будто не разгар зимы на улице, а началась уже пришвинская «весна света». Кабинет был знаком Шульгину по кинофильмам, фотографиям сороковых-пятидесятых годов, по рассказам Новикова, по шестаковским воспоминаниям и своему последнему посещению. В нем было совсем не страшно. Скорее - уютно, по-домашнему как-то, потому что были здесь нарком с вождем наедине, не давила атмосфера совещаний и заседаний, когда присутствующие излучали ощутимую даже для самых толстокожих ауру страха, то замаскированного, то откровенного до неприличия. Да и то! Как пел Высоцкий: «А завтра кто в могиле, кто в почете!» Причем кто где - до последнего момента не знал никто.
– Курите, товарищ Шестаков, если хотите, - радушно предложил Сталин, подвигая через стол коробку папирос. Не каждому позволялось. Вроде как получить понюшку из табакерки императора Павла. Честь, однако.
Шульгин, пока что отстранивший память и моторику Шестакова в сторонку, но крайне вежливо, мол, обожди немножко, Григорий Петрович, сейчас я лучше знаю, как быть, взял «Герцеговину», размял в пальцах, похлопал по карманам, вспоминая, где спички.
Сталин взглядом указал на серебряную спичечницу, в которую была вставлена коробочка отнюдь не отечественного «Гиганта», а натуральных шведских. Сашка прикурил, и, пожалуй, в глазах его что-то такое промелькнуло, наверняка невозможное для Шестакова. Ирония или просто воспоминание про рассказ Эренбурга о судьбе плохо кончившего жизнь спичечного короля.
– А что делать, Григорий Петрович? Нет у меня времени и желания чиркать и ломать десяток, пока одиннадцатая загорится. Разве что передать и это производство в ваш наркомат? У вас, помнится, процент брака поменьше?
Шульгин слегка пожал плечами.
– Поменьше, товарищ Сталин… Хотя бывает, куда ж денешься?
Вождь вдруг помрачнел лицом, однако голос его оставался крайне благодушным.
– Товарищ Шестаков, вы - умный человек? - и прозвучало это одновременно и вопросительно и утвердительно.
– Да, товарищ Сталин. Надеюсь - да, - сделал он на всякий случай оговорку.
– А что такое, по-вашему, - умный? - и посмотрел на собеседника очень пристально.
– Я думаю - это способность адекватно реагировать на обстановку и принимать верные в данных обстоятельствах решения. Образование и должность к понятию «ум» безотносительны…
Сталин склонил голову к плечу.
– Хорошо сказано. В определенных обстоятельствах так и есть. Однако заметно, что независимо от окружающей обстановки образование у вас дает себя знать.
Шульгин промолчал. А что? Бояться ему совершенно нечего. Не мог он избавиться от ощущения, что нынешний Сталин и Андрей Новиков - одно и то же. Слишком много друг ему рассказывал о пребывании в этом теле, наводящем ужас на окружающих, в том числе якобы и на самого Черчилля в будущие годы. Да и при самом остром развитии ситуации ни Виссарионович, ни Поскребышев, сидящий за дверью, ничего ему сделать не смогут. Охрана в коридоре - тоже. Просто не успеют. Другое интересно. Сталину сейчас пятьдесят восемь, ему - тридцать пять, Шестакову - сорок два, психологической же разницы в возрасте не чувствуется.
– Теперь дальше, - продолжил Сталин с прежней интонацией. - Вы - смелый человек?
– Скорее всего. В Мировую войну кресты даром не давали. Тем более - на море. Страшновато моментами было, не скрою, а так - ничего, служил, воевал…
– То в Мировую. Там много героев было. А вы и Николая Ивановича не испугались.
Шестаков изобразил на лице легкое презрение.
– Николай Иванович? По-моему, германская торпеда или мина в холодной Балтике страшнее этого придурка! С крейсера «Паллада» из тысячи человек ни один не спасся, да и еще были случаи. А тут…
Пропустив мимо внимания последние слова, Сталин сосредоточился на первых.
– Придурка? Очень правильно сказано… Именно. Тем не менее мы ему доверяли. Очень доверяли. Так может, и мы - тоже?
Здесь пришлось сохранить покерное лицо. Ни малейшего движения мышц. Словно вообще не услышал.
Вождь прищурился, глаза окружили добрые морщинки.
– А меня вы - боитесь?
Спрашивают так - надо так и отвечать.
– Нет, товарищ Сталин! - (Как с борта в воду.) - Уважаю, восхищаюсь как человеком и руководителем. Вижу в вас воплощенную волю партии. А бояться? Знаете, один писатель не так давно выразился: «Не бойтесь врагов, они всего лишь могут вас убить. Не бойтесь друзей, они всего лишь могут вас предать. Бойтесь равнодушных, ибо только с их согласия существуют на Земле предательства и убийства».
– Хорошо сказано, товарищ Шестаков, хотя я не совсем уверен, что это имеет отношение к конкретному случаю. Но согласимся. Вас, по крайней мере, равнодушным никто не осмелится назвать…
Разговор начинал приобретать странный оборот.
При этом Шульгин видел, что за минувшие двое суток Сталин стал каким-то другим. Как только сделал первый шаг в сторону от накатанной колеи. Сдал Ежова на год раньше срока, прислушался к Лихареву, простил Шестакова… Разумеется, судьба нескольких мелких чекистов значила для него даже меньше, чем ничего, однако, однако…
Да и как иначе, исходя из теории и личного опыта?
МНВ - оно и есть МНВ. Минимально необходимое воздействие. Гениально придумал Азимов, если, конечно, ему не подсказал идею «случайно» встретившийся аггрианин.
Полгода под контролем столь сильной личности, как Андрей Новиков, не могли не деформировать сталинский характер. Именно в сторону большей терпимости, большей рассудительности (в политическом смысле, но не только).
Велика ли беда, что того варианта пока еще не было? А вдруг был - хотя бы в виде отброшенной будущим тени? Или не просто тени, а чего-то совсем нам недоступного, исходя из теории взаимопересекающихся и взаимодействующих жгутов реальностей. Иногда - путем пробоев искры через изоляцию, иногда - неким подобием электромагнитной индукции. Скажем, оказались поблизости точки того сорок первого и этого тридцать восьмого - и пожалуйста. Чистый мозг здешнего Сталина получил импульс от удвоенной мощи своей личности, совмещенной с матрицей Новикова, плюс добавился еще какой-то куммулирующий эффект. Знать о подобном мы ничего не знаем, но предположить-то можно? Совсем свободно допустить, что и отсюда туда распространяется некое поле, корректирующее сейчас поведение Сталина-Андрея в сорок первом.
В любом случае вести себя следует именно в только что взятой тональности. В противном случае - к чему все?
Шульгин отнюдь не считал, что нынешняя ситуация - окончательная, что он навек останется в теле наркома. Допустить это, поверить в такое - труба, тоска, первый шаг к деградации и растворению. Как-нибудь вывернемся, первый раз, что ли?
При том, что абсолютно никому, кроме него, эта якобы миссия не нужна. Или все-таки имеется некий смысл, недоступный ему самому? Антон ведь не просто так составлял переданный через него меморандум.
Должен быть скорее всего.
Если какие-то смыслы вообще существуют в природе. Сократа бы спросить…
– Раз уж вы такой неравнодушный… Это я вам в похвалу говорю, не подумайте чего другого, - покрутил Сталин над столом дымящейся трубкой, - надо это ваше свойство или черту характера, как правильнее сказать, использовать в полной мере. Вы знаете, товарищ Шестаков, я бы очень хотел сделать так, чтобы вы стали моим ближайшим другом…
– Все, что от меня зависит, товарищ Сталин!
– Не надо вот так. Я чувствую, что вы сейчас отвечаете «как положено». Я же хотел, чтобы вы ответили совсем от души. Хотите, нет?
Как можно было сказать - «нет»? Даже исключая все привходящие обстоятельства, просто по-человечески? Тем более Сашке показалось, что Иосиф Виссарионович в этот именно момент говорит искренне. Ничего странного, не человек он, что ли? Есть же в истории примеры…
– Для меня такое предложение… Не знаю, смогу ли соответствовать…
– Значит, считаем, вы согласны. Но такая позиция - моего друга, она требует… - Сталин внезапно замолчал, встал, не глядя на собеседника, пошел по кругу вдоль стен кабинета, на ходу раскуривая трубку. Сашку пронзила мысль - это же совершенно Андреева манера. А потом в кино такое показывали. Опять перемыкание?
Сталин остановился у дальнего окна, явно успокоившись, потому что дым из его не слишком шикарной трубки (а интересно бы взять в руки, посмотреть, не «Петерсен» ли?) пошел густыми клубами. И пыхтел там довольно долго, Шульгин же при этом просчитывал варианты. Не как Серпилин в романе Симонова, по-своему, однако пауза оказалась очень кстати, и, наверное, для обоих.
Нет, точно, тень будущего явно достала вождя, и он сейчас совсем не такой, как должен быть, исходя из расхожих представлений. Позавчерашний ментальный посыл достиг своей цели, наверное.
Сталин вернулся к столу. Продолжил, словно и не было долгой паузы:
– У меня были друзья. Даже - очень хорошие, но одни умерли, другие предали. Хотите - назову…
Шульгин сделал едва заметный отстраняющий жест, мол, зачем мне это.
Сталин словно и не заметил.
– Бухарин был, Киров был, Серго Орджоникидзе был… Еще раньше Егоров тоже был. Царский полковник, а я ему звание маршала дал. Неправильно себя повел. Вообразил, что бывший поручик ему скорее поможет. А в чем?
Тут Шульгин не мог со Сталиным не согласиться. Если даже предположить, что заговор Тухачевского имел место, тот же Егоров ни на что большее сверх имеющегося рассчитывать не мог. В самом лучшем случае. Разве что, без всяких личных соображений, исходя только из высших, ввязался в заговор, желая избавить страну от диктатора? Как Штауфенберг[24]. А что взамен? Как будто здесь можно вообразить подобие европейской демократии или хотя бы хрущевского варианта. Ага! С палачом и предателем Тухачевским во главе. Нет, правда, на гораздо большую степень личной безопасности все-таки можно было рассчитывать. Своих соратников ни Хрущев, ни Брежнев больше не расстреливали, не сажали. Отставка с персональной дачей в худшем случае.
– Кто остался? Молотов, Ворошилов, Буденный… Каганович? Нет, нужный человек, но не друг. Остальные… Вы Мандельштама читали, Григорий Петрович?
Шульгин только на секунду задумался. Черт его знает, как ответить. Вообще, кроме маленькой книжки, в институте подсунутой подружкой, ничего не читал, поскольку не восхитился. Но о чем идет речь догадался.
Ответил осторожно: «Слышал кое-что. Мне как-то Гумилев с Киплингом ближе. Если вы о том стишке…»
– О том, о том. «А вокруг него сброд тонкошеих вождей!» Оно самое. Лучше не скажешь. А вас к «тонкошеим» не отнесешь, товарищ Шестаков.
Сашка решил схохмить. Показалось, что к месту будет.
На короткой, незаметной шее
Голове удобнее сидеть.
И душить значительно труднее,
И арканом не за что задеть… -
продекламировал он.
Сталин наклонил голову, оценивая слова, усмехнулся в усы.
– Очень хорошо сказано. А кем?
– Да так, какой-то поэт-любитель из блатных. Слышал в командировке на Урале, запало в голову.
– А другие слова? Интересно бы целиком послушать…
– Не знаю, товарищ Сталин, постараюсь отыскать, кажется, записал в один из блокнотов. Постараюсь…
– Хорошо, оставим пока. Поищите. И арканом не за что задеть… Ну, наших каждого есть за что.
Ясно было, что в последние слова он вложил оба смысла.
– Я с вашей докладной запиской очень внимательно ознакомился. Солидный труд, солидный. Вы себя, не иначе, начальником Генерального штаба вообразили?
– Ни в коем случае, товарищ Сталин. Генштаб - это не мое. Я все же начинал службу в Красном флоте флагманским специалистом, занимался вопросами стратегического использования вверенной боевой техники. Потом, как вы знаете, тоже… Мы же не просто конструируем, строим и в войска передаем, мы обязаны хотя бы для себя представлять высший смысл нашей деятельности. Странно, знаете ли, обидно, да и не по-партийному - прокукарекал, а там хоть не рассветай. Сконструирован и спущен на воду, допустим, один из лучших в мире по характеристикам легкий крейсер, а какой-нибудь «выдвиженец» с широкими нашивками и тремя классами образования вздумает его в качестве плавбатареи непосредственной поддержки пехоты использовать…
Это я к примеру, конечно. Или быстроходный танк-рейдер - для сопровождения взвода интербригады при штурме средневекового монастыря с двухметровыми стенами. Что в Испании наблюдается сплошь и рядом. В таком случае непременно приходят в голову мысли о соответствии военной доктрины государства его техническим возможностям и, так сказать, человеческому фактору…
Почему я и взял на себя смелость заявить, что при углубляющемся расхождении между названными факторами мы рискуем. Очень рискуем…
– Я вас понял, товарищ Шестаков. Мне только одно интересно - взяли бы вы на себя ответственность не только Кассандру изображать, а сделать что-нибудь реальное в этом направлении?
– То, что от меня зависело на порученном участке работы, я, надеюсь, исполнял. И впредь не собираюсь уклоняться…
– Вы правильно рассуждаете. Я вас слушаю и все время удивляюсь - отчего другие люди рассуждают не так. Нет, было время - Фрунзе свое мнение до последнего отстаивал, и результаты у него были хорошие. Тухачевский тоже отстаивал, за что мы его и выдвигали, несмотря на существенные ошибки. А сейчас… Совсем не то сейчас. Или это такой очень грамотный саботаж, по принципу итальянской забастовки[25]? Троцкисты, а?
– Не знаю, товарищ Сталин, никогда идеями Троцкого не интересовался, а скорее не троцкисты, скорее - просто дураки. Один американский писатель говорил: «Не стоит искать злого умысла там, где все можно объяснить просто глупостью…»
И постарался отправить вождю еще один посыл по формуле нейролингвистического программирования, чтобы он наложился на последнюю фразу, усиливая ее и впечатывая в глубинную структуру ретикулярной формации.
Дошло, потому что Сталин на мгновение отключился, взгляд его сделался пустым. Знакомый симптом.
– Интересная мысль, - произнес он после паузы с некоторым усилием. - Вы все время находите очень убедительные доводы. Это мне нравится. Мы наверняка сработаемся. Чтобы окончательно убедиться, давайте попробуем устроить небольшой розыгрыш. Через полчаса у меня соберется «малое» Политбюро, и вы на нем выступите. Сейчас мы с вами подработаем сценарий, и от того, насколько вы хороший артист, будет многое зависеть в дальнейшем. Согласны?
– Я ведь уже сказал, товарищ Сталин, если нужно для дела…
– Тогда слушайте.
Замысел Сталина, самостоятельный или сформированный под влиянием позавчерашней беседы и прочих названных факторов, выглядел совершенно в его стиле, но отличался некоторыми существенными деталями. Обычно в его играх не хватало интеллектуальной тонкости. Пугать людей он умел, подавлять волевым напором, знанием фактов, в том числе и компрометирующих, демагогией, само собой, устоять против которой удавалось считанным единицам крайне уверенных в себе да вдобавок бесшабашных людей. Тех, что и придумали поговорки: «Помирать, так с музыкой», «Или грудь в крестах, или голова в кустах»… Остальные уходили бесславно или действительно умирали, известное дело.
Сталинская режиссура и Сашкины актерские таланты, он ведь, бывало, и в театре поигрывал, и в цирке выступал, очень хорошо состыковались. Члены Политбюро привыкли ко всяким неожиданностям, но и их выбила из седла непонятная наглость рядового наркома, чудом избежавшего сухановских застенков. Говорил он вроде бы от себя, но вместо того чтобы просить прощения и каяться, агрессивно наступал. Не щадя даже и сталинского самолюбия. Ворошилова он своим выпадом напугал до полусмерти, прочие, с недоумением и страхом наблюдая за реакцией Хозяина, тоже «прижали уши».
Без всяких возражений со стороны коллег Климент Ефремович немедленно лишился поста наркома обороны и был назначен командующим ОКДВА[26], вместо Блюхера. А на его место рекомендован соратник Сталина и Буденного по Первой конной армии Иосиф Родионович Апанасенко.
Из членов Политбюро Ворошилова тоже вывели без лишних процедур. В устной форме. И ушел «первый красный маршал», не совсем понимая, проиграл он или неожиданно выиграл. Хабаровск очень далеко от Москвы, и жизнь там может оказаться гораздо спокойнее. Ну а порядок после Блюхера навести - не самое трудное дело. Глядишь, одумается вождь, обратно позовет. А нет - так и не надо.
В то время повороты судьбы воспринимались людьми несколько иначе, чем в нынешние вялые годы, когда и взлет - не взлет, и падение - не совсем падение.
Из всех присутствовавших на заседании только Николай Александрович Вознесенский, тридцатипятилетний председатель Госплана, не член Политбюро, приглашенный по предложению Шульгина (точнее, Шестакова), явно одобрительно отнесся к поведению Григория Петровича, не скрывая улыбки. Шульгин имел на него особые виды: способный человек, будущий зампред Совнаркома и Совета министров, будущий кандидат на пост самого Сталина, через год после объявления его «преемником» расстрелянный по «ленинградскому делу» сорок девятого года. Они и раньше плодотворно сотрудничали по некоторым вопросам, а теперь Вознесенский почувствовал, что перспективы и для него открываются приличные.
– Кажется, неплохо получилось, товарищ Шестаков, - довольно сказал Сталин, когда прочие участники совещания были отпущены «отдыхать». Сегодня ему без особых усилий удалось до полусмерти напугать ближайших соратников. Без новых арестов. «Большой террор» ему и самому несколько поднадоел. Прошлый раз инерцию удалось остановить только через год, а сейчас благодаря удачно сложившейся ситуации - можно и сразу.
– Давайте поедем ко мне на дачу, поужинаем, - предложил Сталин. - И Заковского позовем. Посмотрим, как он будет себя вести, тогда и решение примем.
Получалось так, что Иосиф Виссарионович с ходу начал воплощать в жизнь новый статус наркома. Да и что удивительного - Вождю скоро шестьдесят, и если появился рядом человек молодой, энергичный, ни с какими враждебными группировками и уклонами не связанный, отчего бы не переложить на него часть своих обязанностей, хлопотных и непринципиальных, оставив за собой только общее руководство? Многие правители так поступали. Главное ведь - сохранить за собой право последнего слова и техническую возможность в любой момент восстановить статус-кво.
Такая возможность у него была. Помимо всякого НКВД, который действительно набрал совершенно ненужную силу да вдобавок просто дискредитировал гуманную и народную советскую власть и лично товарища Сталина. С «ежовщиной» покончено! Кстати, очень хороший термин, хлесткий и емкий. Немедленно следует ввести его в широкое обращение. Будет политически правильно. Одновременно все увидят и поймут, что товарищ Сталин начеку. Вовремя увидел «перегибы» (как во время коллективизации) и железной рукой восстановил справедливость.
По этому поводу можно и поужинать.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Леонид Михайлович Заковский, комиссар госбезопасности первого ранга (что по знакам различия соответствовало командарму, а по реальной власти значительно его превосходило), первый замнаркома внутренних дел, опытный разведчик и контрразведчик, в Гражданскую войну поработавший даже начальником махновской контрразведки, чувствовал себя не очень хорошо. Даже, можно сказать, так плохо, как никогда раньше. Хотя, казалось бы, и не такие моменты приходилось переживать. Правда, в Гражданскую он был значительно моложе и воспринимал свою тогдашнюю деятельность как увлекательное приключение. А позже, вплоть до позапрошлого года, все у него складывалось вообще великолепно. Только вот низвержение Ягоды и назначение Ежова поселило в душе сначала смутную, а потом все усиливавшуюся тревогу. Неправильно дела пошли, а точнее - просто по-идиотски.
Сама по себе идея «большого террора» у него возражений не вызывала. Раз политика государства и партии коренным образом меняется, так совершенно естественно, что должна произойти «в верхах» смена караула. Потерявшие нюх и чувство реальности «бойцы ленинской гвардии» явным образом оказались «не на высоте новых задач» и вполне заслуживали отстранения. Но никак не устранения. Вполне можно было без всяких показательных процессов и бессудных расстрелов рассовать их по малозначительным постам, вроде как поначалу поступили с Бухариным, Каменевым и прочими. Вполне бы у ГУГБ хватило возможностей не допустить с их стороны противоправных или просто нежелательных поступков. Вплоть до интернирования в специальных «общежитиях», где они могли бы продолжать полезную работу.
И уж совсем недопустимо было распространение террора на низшие уровни, где он мгновенно вышел из-под контроля Центра.
Наблюдая за происходящим, Леонид Михайлович, разумеется, помалкивал, хотя в сфере своей ответственности пытался удерживать процессы в рамках, если, конечно, не получал прямых и недвусмысленных указаний по тому или иному поводу.
Само собой, нередко приходили в голову неприятные мысли, что волна может накрыть и его, но здесь он защищался от них самым обычным образом - убеждал себя, что, если бы Хозяину было нужно, его загребли бы одним из первых, вместе с Ягодой и многими другими. Но нет, не загребли, даже возвысили против прежнего. Каков бы там ни был Сталин, наверняка должен понимать, что без профессионалов в руководстве тайной полиции не обойтись. Кто-то ведь должен и настоящую работу обеспечивать.
Гитлер вон, что о нем ни говори, настоящие кадры сохранил, и кайзеровские, и веймарские. Порезал верхушку своих штурмовиков - и остановился. Совсем его не волновало, что многие нынешние гестаповцы до тридцать третьего года с тем же успехом ловили и сажали нацистов, как сейчас коммунистов и социал-демократов. Понимает, что на государственной службе делают то, что приказано, а не то, что хочется. «Для каждого дела всегда найдется свой человек, и каждому человеку - свое дело». Это, кажется, слова Гейдриха, начальника РСХА, свое дело как раз знающего.
Последнее время Заковский нутром почуял, что ситуация выходит из-под контроля даже на его уровне. Все больше власти при Ежове забирал Фриновский, тупица, садист и бездарь, хотя и по-своему хитрый, а это ничего хорошего не сулило, лично для него. И тут вдруг история с Шестаковым.
Заковский непонятным образом, чисто интуитивно понял, что здесь имеется шанс. Потому и поддержал старшего майора Шадрина вопреки всякому здравому смыслу. Решил сыграть «ва-банк» просто потому, что покорно сидеть и ждать, пока и за ним придут, стало невыносимо.
Признавался он самому себе: поступок отчаянного наркома его воодушевил. Голову на кон - и гори оно все огнем! Сам он в молодости поступал, бывало, аналогичным образом. Как-то, в конце девятнадцатого года, красные из Особого дивизиона ВЧК выследили местоположение очередной полевой ставки Махно и совершили на нее внезапный налет. По собственной инициативе или по специальному приказу - кто теперь знает? В архивах он никаких упоминаний о планировании подобной операции не нашел. Тогда Нестор Иванович с его армией был очень нужен советской власти. Только что он нанес сокрушительный удар по деникинским тылам, заставив Добровольческую армию прекратить успешное наступление на Москву, а впереди еще был Крым, где четыреста махновских тачанок буквально вырубили остатки белой кавалерии, поставив в войне последнюю точку, после чего и началось планомерное уничтожение «махновщины».
Так вот, когда налетели чекисты, сам Заковский (он же Левка Задов) в упор косил их из пулемета, пока перегретый «максим» не заклинило, а потом с остатками сотни Красильникова, спасая «батьку», стреляя с седла из двух «маузеров» сразу, пробился, ушел в ночную степь.
«Мальчики кровавые в глазах» после этого у него никогда не возникали: у чоновцев своя работа была, у него - своя. Первый орден Боевого Красного Знамени за те как раз дела он считал вполне заслуженным.
С наркомом тоже получилось наилучшим образом. Собранные Заковским материалы весьма пригодились, в качестве «последней соломинки», чтобы раздавить злобного карлика.
Тут- то и начались настоящие терзания.
По совету Лихарева он не вернулся домой, переночевал у него на квартире. Правильный был совет, инерция отлаженной машины была такова, что вполне свободно можно было ожидать ареста, а то и чего похуже, уже за финишной ленточкой. Приказы, как известно, легко отдаются, да трудно отменяются. Сам же отстраненный Ежов, от бессильной злобы или по тонкому расчету, до того как об его отставке стало известно, вполне мог приказать Фриновскому ликвидировать соперника «при попытке к бегству» или законопатить в Сухановскую тюрьму, наподобие «Железной маски», без фамилии, под номером, с соответствующей пометкой в деле.
Совсем не факт, что потом разобрались бы и выпустили. Сам же Хозяин мог решить: если сел, так пусть и сидит, раз таким лопухом оказался.
(Заковский не мог знать о том, что случилось тринадцатью годами позже, но рассуждал верно. В пятьдесят первом году Сталин уволил и посадил тогдашнего министра ГБ Абакумова, а после его смерти министра не только не выпустили с реабилитацией, как других, а вообще расстреляли, хотя совершенно не за что было, по меркам того времени.)
Утром Заковский ушел от Лихарева, тоже повинуясь чутью, укрылся на никому не известной конспиративной квартире, снабженной специально защищенной линией связи. Кто о ней знал - тех уже нету. Чудесная квартира, спрятанная так, что сто лет ищи - не найдешь. Мало ли чем закончится встреча наркома со Сталиным и Ежовым. Еще и сам Лихарев «под раздачу» попадет. Тогда Леонид Михайлович рассчитывал, по примеру Шестакова, пересидеть некоторое время, да хоть год, если потребуется, а там, может, тоже уходить за границу. В отличие от дилетанта-наркома возможностей у него куда больше, и технических, и финансовых.
По этой самой линии узнал от Валентина (оперативный псевдоним «Студент»), что дела складываются «в нашу пользу», Шестаков доложил все, как нужно, Ежов выбит из игры, и судьба его будет скорее всего печальной, а сам Заковский рассматривается на его место.
Тут Леонида Михайловича и прихватило. Так случается. В опаснейших, почти безнадежных обстоятельствах человек держится - загляденье, а спасся - все гайки и отдались.
Не только угроза жизни миновала, так и карьера взлетела к высшей точке. Генеральный комиссар rocбезопасности - выше не бывает. Один сиреневый мундир с огромными звездами на васильковых петлицах чего стоит! На плюгавом Ежове он сидел, как клифт на огородном пугале, а на могучей фигуре Заковского будет смотреться внушительно и импозантно. Да что мундир, это ерунда, конечно. Службу можно будет перестроить и наладить так, что у Гиммлера с Гейдрихом слюнки потекут. Главное - загранразведку восстановить, полувыбитую и деморализованную. Сейчас наступают времена настоящих профессионалов, а не выдвиженцев с неоконченным начальным образованием.
Только - где гарантии, что случится именно так? Вдруг опять раскручивается дьявольская интрига? Разыграли Сталин с Ежовым хорошо срепетированную сцену для дураков. Уйдет на недельку или месяц Николай Иванович в тень, понаблюдает оттуда, как, обрадовавшись, повылезают из щелей и норок недоразоблаченные враги, - и хлоп!
Каково тебе тогда будет, Леонид Михайлович, губы раскатавши, в камере сидеть и локти кусать, в пустой след проклиная собственную непроходимую глупость?
Да нет, не должно так случиться. Лихарев врать не будет, Заковский знал его достаточно. И вел еще с двадцать восьмого года, скорее на всякий случай, чем по настоящей необходимости. Легально-то между ними всякие связи были обрублены в тридцать третьем, когда Сталин «Студента» всерьез к себе приблизил. Однако вот встретились - словно вчера расстались. Сразу нашли общий язык, а главное - интерес.
Если только самого Валентина тоже не намечено в тираж вывести, а он об этом пока не догадывается… Но это уже из разряда совсем запредельных допущений…
Так и психовал Заковский, колеблясь между депрессией и эйфорией. Кружил по комнатам широкими шагами, на ходу ему лучше думалось. Уставал от перебора вариантов, принимался читать «Королеву Марго», чтобы отвлечься, тут же наталкивался на очередную сцену тогдашних дворцовых интриг, так похожих на нынешние, раздраженно отбрасывал книгу.
Решил было лечь спать, и тут как раз тихо загудел телефон. Специальным звуком. Кандидат в Генеральные комиссары, демонстрируя спокойствие и выдержку, снял трубку лишь после третьего вызова.
– Леонид Михайлович, - звенел мембраной голос Лихарева, - боюсь, что нас можно поздравить. Клиент сегодня полдня провел у Хозяина, и с глазу на глаз, и на «малом» Политбюро. Ворошилова сняли, Молотову краем досталось. Грядут, грядут перемены, но дело даже не в этом. Велено вас разыскать и пригласить на Ближнюю, на ужин. Вас и Шестакова. Я тоже рядом побуду. Так что с вас причитается простава, как первому сообщившему… Все понятно? Машину куда высылать?
Заковский помолчал, выравнивая дыхание. Он знал, что означает приглашение на личный ужин.
– Давай на то же место, что последний раз.
– Заметано. Через полчаса будет. Управитесь?
– Не тревожься…
Главная хитрость тайной квартиры Заковского заключалась в том, что размещалась она, что называется, посередине минного поля. Или - в снарядной воронке. Еще точнее - в пресловутом Доме на набережной, где обитали главные объекты нынешнего террора, к подъездам которого уже целый год еженощно подъезжали «эмки» и «воронки» с Лубянки. Жильцы менялись, словно постояльцы привокзальной гостиницы, а некоторые апартаменты так и стояли, как выморочные средневековые замки, путая соседей казенными печатями на дверях. Может, в этом и был определенный замысел - напоминать большим людям о бренности их существования.
Еще в ходе строительства «дома-коммуны» (благо вело его ХОЗУ НКВД) между многочисленными общественными помещениями - рекреационными залами, столовыми, детскими игровыми комнатами, кинолекториями и прачечными - образовалось несколько неприметных блоков, на общих чертежах не обозначенных. Никто, включая главного архитектора, этого не заметил. Да и как иначе? Неужели лауреат Сталинской премии будет с рулеткой проверять совпадение внешних и внутренних объемов или на фасаде в тысячу окон кто-нибудь заметит несколько «лишних»?
Как и положено со времен Древнего Египта, знающие слишком много исполнители, в зависимости от личных качеств, получили достойное вознаграждение и забыли о мелких эпизодах творческой жизни или отправились заниматься инженерной деятельностью в такие места, откуда и сама Москва казалась миражом в пустыне, не то что отдельный дом.
Сделано притом было очень недурственно. Прямо сказать - хорошо. Из своей квартиры Заковский мог выйти особыми коридорами в три разных подъезда, в «Гастроном» на первом этаже, а подземным техническим коридором - в несколько укромных мест кинотеатра «Ударник» и Театра эстрады.
Его же собственный особняк располагался на Малой Якиманке, совсем недалеко, выделенный еще по распоряжению Менжинского. Тот любил своих близких сотрудников и устраивал их быт в меру возможностей. «Если какому-то Горькому-Пешкову можно отдать особняк Рябушинского, то почему моим ребятам нельзя чего-то подобного?» Менжинский, шляхетный поляк, Горького как писателя ни в грош не ставил. Ему куда больше по душе был Марсель Пруст. Или Сенкевич.
Одевшись как положено для встречи с вождем, Заковский вышел к известному месту на Кадашевской набережной. Опять, по погоде, на нем был белый командирский полушубок и шапка со звездочкой, маскирующие комиссарское великолепие и кобуру с маленьким, для высшего комсостава, пистолетом Коровина на ремне гимнастерки. Сталин, остерегаясь заговорщиков, одновременно любил, чтобы все приближенные носили оружие. Не просто разрешал, а даже требовал. Возможно, наследие абрекского прошлого, когда считалось - кто без оружия, тот вообще не мужчина.
Лихарев прислал за ним не свой «Гудзон», а нормальный «ЗИС» из кремлевского гаража. Никакой охраны при нем не было, и самого Валентина тоже, один только шофер в передней каретке. Это еще более успокоило комиссара. Он устроился на просторном заднем сиденье, вынул руку из кармана, где сжимал рукоятку сверхштатного «браунинга», махнул водителю. Поехали, механик, давай!
О чем мог размышлять во время недолгого пути зам начальника всесильного, но одновременно и абсолютно бессильного (если за основу брать полную, вплоть до безропотного отхода к указанной стенке, зависимость от вышестоящего окрика) ведомства? Наверное, о том же самом: как держаться в каждом из равновариантных случаев, стреляться ли самому или до последнего щелчка стрелять в окружающих и что говорить в случае благоприятного поворота и исхода событий?
Но встретили его любезно, сотрудники, знакомые в лицо, указали, где стать машине, где самому раздеться, никто не поинтересовался документами, не обратил внимания на оружие. Уже обнадежило.
Из прихожей первого этажа Заковскому предложили подняться на лифте на второй, он же последний на даче. Очередная причуда хозяина. Тут и пешком недалеко.
Впрочем, своеобразная хитрость, поскольку обычную лестницу еще попробуй найди. Убийцам наверняка придется потерять темп, а уж там охрана себя проявит…
В столовой, по сталинскому обыкновению отделанной панелями светлого дерева и обставленной тяжелой, угловатой мебелью, больше подходящей для присутственных мест, его уже ждали. Сам Иосиф Виссарионович и нарком Шестаков, выглядящий куда бодрее и веселее, чем при их прошлой встрече. Что и понятно, тогда он был гонимым и почти загнанным, а сейчас вознесся на вершины славы и признания, так это расценил знающий толк в придворных раскладах Заковский. Если бы здесь присутствовал кто-то еще, то по текущему соотношению позиций в кремлевской иерархии можно было бы рассуждать, что почем, а раз они здесь только вдвоем, а он, выходит, третий, значит, игра складывается в нашу пользу. И очень, очень… Страшно даже вообразить, какие открываются перспективы для любого, удостоенного…
– Садитесь, товарищ Заковский, - не вставая с места, радушно указал Сталин на стул напротив себя, рядом с Шестаковым. - Знакомы, надеюсь?
– Встречались, Иосиф Виссарионович, - осторожно ответил Заковский, пожимая руку вождя, а потом и наркома. Действительно, встречались, но и не более. Должности и сферы ответственности у них были настолько разные…
Повар в форме НКВД, прикрытой белым халатом, внес и поставил посередине стола фарфоровую, в цветочках, исходящую паром супницу. В прорези крышки торчала ручка половника, по-солдатски - «разводяги». Неизвестно по какой причине Сталин любил сам разливать гостям суп, борщ или харчо. Может быть, со времен тюрьмы и ссылки, когда это занятие считалось весьма почетным, давая определенную власть над людьми. Хочу - сверху зачерпну, водички, хочу - самую гущу, с картошкой и мясом. Не так уж это и мало, если кто понимает.
На этот раз к столу подали харчо, прекрасно приготовленное, чеснок очищенный на тарелочке, графин с водкой, инеем подернутый… Сталин ел с явным удовольствием, иногда отпуская замечания, относящиеся исключительно к качеству продукта, время от времени указывал толстым, но отнюдь не жирным, как вообразил Мандельштам, пальцем на хрустальные стограммовые стопки. Тоже известно, любил Хозяин напоить гостей до потери самоконтроля, а потом уже и решать вопросы. Свои, разумеется. Но сейчас такую цель он вряд ли преследовал. Споить двух крепких мужиков, сам он третий, литром хорошей водки под горячую и жирную закуску? Нереально.
Доели, почти допили. Судя по обстановке, ни вторых блюд, ни закусок не ожидалось. Это тоже входило в сталинскую манеру принимать гостей. Может, еще чаю потом подадут.
– Так что, товарищи? - врастяжку спросил Сталин, вытерев усы крахмальной салфеткой, потянулся к коробке «Герцеговины». Сам взял папиросу, легким движением головы велел сотрапезникам не стесняться.
Чего же не закурить, когда вождь угощает?
– Кто из вас историю лучше знает? - спросил и посмотрел как-то очень внимательно. Каждому показалось, что именно на него. С явным ожиданием конкретного ответа.
– Я, товарищ Сталин, - первым ответил Шульгин-Шестаков, - в реальном училище по Иловайскому изучал. С тех пор только так, случайно почитывал, беллетристику все больше. Покровский мне не нравился (беспроигрышно, главный советский историк уже два года как вычеркнут из списков}, а другое - некогда…
– А я, уж простите, - слегка кашлянув, добавил Заковский, - вообще не очень. Лет десять только документы читаю, «Правду» и журнал «Большевик», само собой, Что там пишут - все знаю, от передовицы до списка опечаток. Упустишь что, невольно от Генеральной линии уклонишься - отвечать придется. Ну и сотрудников вовремя сориентировать, поправить, если что…
– Это, с вашей стороны, следовало бы назвать «ползучим эмпиризмом»[27]. История - наука наук, не считая, конечно, марксистско-ленинской философии. Впрочем, об этом вы непременно узнаете, когда выйдет из печати «Краткий курс», но сейчас это несущественно. Вопрос же, мною заданный, касается следующего. - Лицо Сталина стало серьезным и весьма значительным. Именно таким, как изображалось на специально ретушированных портретах. - Историю вы, конечно, знаете, хотя по не совсем понятным причинам не хотите в этом признаться. - Он помолчал, глубоко затянулся папиросным дымом, что с трубкой у него не всегда получалось. - Осторожные, да? Не понимаете, что имеет в виду товарищ Сталин, и заведомо стараетесь прикрыть свою жопу… - Не совсем приличное, тем более в устах вождя всего прогрессивного человечества, слово выскочило легко и, что самое интересное, - вполне уместно. - А это неправильно. Если уж я захотел поговорить с вами, как это называется, тет-а-тет, так и вести себя нужно с учетом этого факта. Что скажете, товарищ Шестаков?
Шульгин подумал, что заход у вождя совершенно грамотный с точки зрения психологии и отвечать нужно так же, да еще и усилив предложенную тему.
– Я сказал, товарищ Сталин, что учебник Иловайского изучил и «отлично» получил, как и по всем остальным дисциплинам, иначе меня в Технологический не приняли бы, только…
– Что - «только»? Не бойтесь, говорите. Я для чего вас сюда позвал?
– Только эти учебники сейчас «не в моде», и многие люди полетели как раз за хорошую память и неуместное цитирование того, что не укладывается…
Сталин засмеялся, причем явно от души, и смеялся хорошо, с удовольствием. В процессе он налил рюмку себе и визави.
– Какой вы осторожный человек, Григорий Петрович. Как торпеды бросать или в чекистов стрелять - быстрый, как с Иосифом Виссарионовичем говорить - осторожный. Осторожность полезна, не спорю. Но не сейчас. Сейчас открытость души нужна, потому что мне решение требуется принять. Вы меня поняли, да?
– Абсолютно, товарищ Сталин, - тут уже Сашка полностью взял на себя управление. Направил на собеседника всю свою сверхчувственную силу. Бывало, еще на первом курсе, на зачетах по анатомии, которую он знал не всегда хорошо, особенно - кровеносную систему, ему удавалось внушить ассистенту, что называет правильно абсолютно каждую веточку вен предплечья. А потом выходил в коридор с головной болью, да и экзаменатор тоже.
Сейчас без головной боли обошлось. Возраст другой, и ставки тоже.
– Вы, наверное, хотите сказать, что мы с вами сейчас готовимся обсудить очередное изменение Генеральной линии. Может быть - нечто вроде «государственного переворота», но - тайного. Как Иван Васильевич Грозный любил поступать. В Александровскую слободу удалиться, что-нибудь подобное новой опричнине ввести, условно говоря.
Произнося это, Шульгин попадал в самую точку. Сталин нешуточно увлекался эпохой Ивана, загадками его личности и методикой правления. Собирался фильм заказать, для просвещения масс, несколько романов и научных монографий. Только он сам еще до конца в этом своем интересе не разобрался, был, так сказать, на подходе к теме, но несколько книг дореволюционных историков из Ленинской библиотеки уже выписал. Ну, мы ему и подыграем, на его поле.
– Притом сделать это так, чтобы непосвященные ничего не поняли, - продолжил он. - И это очень правильно. Тот путь, по которому очертя голову несся, сметая все на своем пути, Ежов, явным образом заводит в тупик. Я указал в своей записке на уже проявившиеся «результаты», но это ведь только начало, товарищ Сталин. Процесс очень быстро может перейти в неуправляемую стадию. Я ведь не ошибаюсь, приглашение Леонида Михайловича и вопрос о знании нами истории находятся в прямой связи?
Сталину потребовалось некоторое, пусть и не особенно долгое время, около минуты, чтобы уложить в мозгах рядышком свои настоящие мысли и те, что агрессивно вгонял в него Шульгин, подождать, когда они срастутся, после чего оценить получившийся результат.
Он посмотрел на Шестакова с подсознательным, оставшимся от предыдущего настроя удивлением. Что-то ему здесь казалось не так. А вот понять, что именно, - не получалось. Никогда ему прежде не приходилось сталкиваться с НЛП, да и с людьми, которые превосходили его не эрудицией, не политическим талантом или красноречием, а именно силой характера. Сейчас, сознательно и бессознательно, он искал выхода. Чтобы и душевное здоровье сохранить, и уверенность в себе, и добровольно признать Шестакова равным себе. Причем не врагом, а союзником. Каким в свое время согласился считать Рузвельта, в отличие от Черчилля.
Это внутреннее борение легко читалось Шульгиным в глубине его глаз. Заковский же просто ничего не понимал в происходящем, но недавний страх к нему вернулся в полном объеме. О нем-то слово сказано, и вот-вот последует ответ. Только какой? Очень опасные речи взялся произносить Григорий. Однако раз говорит, значит, знает, что можно. Или - просто закусил удила…
Все ж таки очень сильная личность товарищ Сталин, как ни суди, думал Сашка. Ломать об колено трудно. Но - не Держатель. Даже не кандидат. Почему и поддался. Пожалуй, впредь с ним проблем не возникнет. Нужно только постоянно поддерживать у пациента должный баланс комплексов - величия и некоторой неполноценности, то есть потребности постоянно иметь рядом верного визиря, который и восхищаться будет мудростью вождя, и в любой момент деликатно примет на себя бремя трудного и неоднозначного решения.
Если со Сталиным так, то Заковский - вообще не фигура.
А Хозяин обратился как раз к Заковскому, это позволяло ему вновь взять инициативу в свои руки, ощутить себя в привычной роли. Словно бы и не знал наизусть биографию второго человека в своем главном ведомстве. Начал расспрашивать о совсем уже давних временах, о том, встречался ли он с Троцким во время поездок того по фронтам, как его принимал Дзержинский после возвращения от Махно, действительно ли Менжинский совсем не занимался делами разведки и контрразведки, а только лежал у себя на диване с сердечными приступами, а в промежутках пьянствовал.
– Я в то время к вашим делам отношения не имел, вот и интересно, где правда, где легенды…
Заковский был предельно осторожен в ответах. И уклоняться от истины нельзя, и всю правду говорить опасно, потому что неизвестно, каково личное отношение Сталина к тому или иному историческому, но допускающему многозначную трактовку факту. На этом столько людей прокололось, вплоть до высшей меры. Человек, бывало, ни сном ни духом не ведал, цитируя какой-нибудь документ ЦК или Политбюро, что тот хоть и был принят, но большинством в один голос, причем «за» голосовал Троцкий или Зиновьев, а Сталин - против. Ну и пожалте на Особое совещание под литерами «КРТТД»[28].
Вот и лавировал Леонид Михайлович, стараясь держаться в безопасном фарватере, демонстрируя компетентность в вопросах, за которые отвечал лично, одновременно уклоняясь от политических оценок и выявления собственной позиции там, где чувствовал
скрытые подводные камни. Один только раз не сдержался, когда речь зашла о позиции Ежова в отношении кадров загранразведки. Слишком уж наболело, да и лишний раз лягнуть опального начальника показалось невредным.
– Он ведь человек совершенно необразованный, о географии и то имеет самые смутные представления, не говоря о прочем, а тут люди, языки знающие, помногу лет за границей живущие, под самыми разными легендами работающие. На Западе, естественно, не коммунистической пропагандой занимаются, чаще - совсем наоборот, чем свои позиции укрепляют, решают поставленные задачи. А он их всех скопом врагами народа пишет… В половине важнейших держав резидентов не осталось, а с теми, кого на замену посылают, агентура работать не хочет. Агенты - они ведь существа нежные, капризные, к ним с лаской нужно и с деньгами, само собой. За голую идею один из десятка согласен работать, так такие идейные в большинстве у своих контрразведок давно на примете…
Шульгин во время этого страстного монолога, для него неожиданного, обеспечивал «несущую частоту», чтобы слова Заковского достигли нужных участков сталинского мозга и вошли в резонанс с его собственными мыслями и ощущениями.
Иосиф Виссарионович, следует отметить, был удобным объектом для внушения, что может показаться странным. Казалось бы, все наоборот - почти нечеловеческая воля, убежденность в собственной непогрешимости, имморализм[29], что ему чужое мнение? Однако на самом деле все сложнее. Все зависит от способа подачи информации или эмоции. Если он выбран верно и внушение направлено в обход «фильтров» и «сторожевых пунктов», оно достигает цели и внедряется гораздо быстрее и надежнее, чем у индивидуума «средних способностей».
– Это вы правильно подметили, товарищ Заковский, - помолчав, сказал Сталин. - Я имею представление об агентурной работе. Если мы доверим вам пост наркома, вы сможете восстановить положение и даже значительно активизировать деятельность разведки?
– Будет трудно, товарищ Сталин. Потребуются особые усилия, возможно - чрезвычайные решения…
– Например? - Вождь посмотрел на Заковского с интересом.
– Немедленно освободить всех сотрудников, кто еще жив, из лагерей и следственных тюрем, найти способ восстановить их веру в справедливость, в то, что имела место действительно роковая ошибка… Убедить вернуться к прежнему месту работы. И самое трудное - замотивировать их внезапное исчезновение и возвращение. Для всех, для друзей и для врагов… Оргштатные мероприятия тоже потребуются…
Сталину, по сути, судьбы конкретных разведчиков были глубоко безразличны. Но как прошлый раз он легко согласился с Ежовым устроить чистку среди пораженных гангреной троцкизма загранработников, так сейчас готов был признать, что троцкизм как таковой к практической деятельности ГУГБ не имеет никакого отношения. Распространяется исключительно на сферу теории и практику работы иностранных секций Коминтерна. Разведка же сейчас, в предвидении приближающихся великих потрясений и ломки всего послеверсальского миропорядка, важна как никогда. Не сворачивать ее нужно, не чистить, а всемерно развивать и укреплять. Причем не только и даже не столько как инструмент сбора военной и политической информации - как мощное орудие усиления влияния на происходящие на Западе процессы. Не через Коминтерн и местных «левых», а путем внедрения «агентов влияния» в крути власть имущих. Это - достойная задача для НКВД и НКИД. Может быть, следует на каком-то организационном уровне объединить ряд их структур…
Схема Шульгина начинала действовать. Сталин все-таки воспринял посыл и тут же начал встраивать его в систему своей философии.
– Хорошо, товарищ Заковский. Пожалуй, мы дадим вам возможность испробовать свои силы на новом, более ответственном участке. Завтра мы издадим соответствующее постановление. Некоторое время не станем вмешиваться в вашу работу. Покажете, на что вы способны самостоятельно…
– А может быть, - осторожно предложил Сашка, - об отставке Ежова пока не сообщать, отправить его как бы в отпуск? Месяца на два-три. В Ессентуки, например, печень подлечить. Город маленький, плотное наблюдение организовать труда не составит. Постановление принять, но под грифом «Секретно». Одновременно, или же параллельно, Леонид Михайлович начнет настоящую линию проводить, ту, о которой вы давно думали. Я правильно рассудил?
– Для чего такие тонкости? Поясните.
– Исключительно в целях дезинформации противника, внутреннего и внешнего. В газетах продолжать писать то же, что и раньше, чтобы на Западе продолжали считать, что у нас «обостряется классовая борьба» и нам не до них. Армия тоже продолжает ослабляться чистками на всех уровнях, и боеспособность ее падает. Причем, я тут поразмышлял на досуге, острие якобы репрессий направить на самых, с точки зрения Запада, перспективных и способных командиров. Их же, якобы «изымая», сосредоточить в каком-то укромном, хорошо оборудованном месте, где они смогут заниматься творческой работой, предоставив повседневную службу в войсках людям исполнительным, но… средних способностей. А когда выяснится, что это совсем не так, глядишь, кое для кого и поздно будет…
– Вы и вправду умный человек. Вдобавок и хитрый. Стратегическая дезинформация, так это у вас называется, товарищ Заковский?
– Так, товарищ Сталин, - ответил окончательно повеселевший Леонид Михайлович.
– Я тоже эту мысль поддерживаю. У меня даже появились дополнительные соображения, но о них мы поговорим позже. Я также думаю, для того, чтобы товарищ Заковский мог сосредоточиться на стратегических вопросах, нужно дать ему толкового заместителя, который будет руководить повседневными делами. Кого бы вы хотели видеть на месте своего первого заместителя?
– Не готов ответить, товарищ Сталин. Посмотреть, подумать надо. С нынешними замами Ежова и начальниками управлений мне трудно будет сработаться. Разве из среднего звена поищу. С недельку бы мне надо…
– Вы не готовы - я готов. Дадим вам на укрепление товарища Берию. Очень деловой, способный человек. На всех постах зарекомендовал себя наилучшим образом. Главное - великолепный организатор. Для перестройки аппарата будет незаменим. Хорошо образован. Вы ему поручите руководство всеми службами наркомата, у вас ведь их очень много. Кроме ГУГБ - это оставите лично за собой.
Интересный поворот. Или - начавшийся прямо сейчас очередной временной сдвиг. Точнее, не сейчас, а с того момента, как прозвучал дверной звонок в квартире Шестакова. МНВ тогда случилось такое, что можно по последствиям сравнить с выстрелом Гаврилы Принципа в Сараеве.
Сталин, как известно, решил сменить Ежова на Берию почти годом позже, но, значит, имел в виду его фигуру уже сейчас? Или просто вспомнил в аналогичной ситуации?
Новиков, оказавшись в шкуре вождя, немедленно избавился от Лаврентия Павловича и, как сейчас думал Шульгин, несколько поторопился. Слишком поверил друг партийной пропаганде пятьдесят третьего и последующих годов, глубоко усвоил точку зрения «шестидесятников», к которым они все принадлежали хронологически и духовно. А вот Сашка, обладая теперь гораздо более широким взглядом на вещи, и информированностью, само собой, подходил к проблеме не так однозначно. Естественно, ангелом в белых одеждах Берию не назовешь, а кто тогда мог претендовать на подобный титул? Не только в СССР, вообще в мире? Разве что Махатма Ганди, да и то можно поспорить. Если от твоего принципиального «недеяния и ненасилия» в итоге умирает больше людей, чем могло бы погибнуть в открытой войне за освобождение, так не стоит ли задуматься? Что лучше - убить врага или назло ему повеситься у него под окнами?
Прагматиком был Лаврентий Павлович, а не сумасшедшим садистом, вот что главное, и нам сейчас, хочешь не хочешь, именно на таких, как он, опираться придется. Шульгин, в отличие от Андрея, гораздо меньше значения придавал идеям «абстрактного гуманизма». В противном случае спокойно бы удалился от дел, любых и всяких, как старцы - в скит, роль которого великолепно могла бы исполнить Валгалла.
Так и там не удалось сохранить белизну и пушистость. Из танка стреляли, базу аггров, лично незнакомых, громили, целую цивилизацию, можно сказать, ликвидировали, не слишком вникая в рассуждения об исторической правде и справедливости. Правильно говорил некий военный мыслитель: «Твои враги выбраны не тобой, а для тебя». Шульгина, если отвлечься от текущего момента, иногда удивляло, как оно так получилось - в одной компании росли, лет с пятнадцати неразлучны были, а морально-политические взгляды получились разными. Шульгину почти посторонний Берестин, с которым познакомились недавно и при странных обстоятельствах, временами оказывался гораздо ближе, чем Новиков, а тем более - Левашов.
Значит, согласимся на Берию, просто постараемся в пределах своих возможностей держать его в допустимых рамках, руководствуясь бессмертным принципом Козьмы Пруткова: «Каждый человек необходимо приносит пользу, будучи употреблен на своем месте». И Сашка знал уже, как именно его следует употребить.
Заковского же, похоже, данная кандидатура не слишком вдохновила. Знать он его знал, не мог не знать. И как бывшего сотрудника, и как секретаря ЗакЦК[30]. Перемещение столь значительного партаппаратчика всего лишь в замнаркомы воспринимал по-своему. Правильно воспринимал. Но разве поспоришь, если и сам еще не утвержден? Только и осталось сказать:
– Будем работать, товарищ Сталин. Организатор нужен. Одна только проблема ГУЛАГа - непочатый край. Если там дело правильно поставить…
– Вот и хорошо, товарищ Заковский. Значит, будем считать, что все вынесенные в повестку дня вопросы мы благополучно разрешили. С этого момента ни слова о делах. Давайте, я вам лучше расскажу, как мы с Камо Тифлисское казначейство брали. Увлекательнейшая история. Как вспомню - до сих пор мороз по коже. А ведь все получилось наилучшим образом…
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
После «тайной вечери» в сверхузком кругу (даже Лихарев был к столу не допущен, что могло быть как признаком некоторого охлаждения вождя к своему верному порученцу, так и желанием Сталина поговорить с новыми соратниками действительно с глазу на глаз) Шульгин был склонен считать, что первая стадия операции проведена и завершена успешно.
Нет, само собой, полной уверенности у него не было, однако элементарный опыт и знание истории подсказывали, что до сих пор Сталин чересчур резко своих решений не менял. Даже обреченным на заклание персонам давалось какое-то время, обычно в виде перемещения на другую должность, «вверх», «вниз» или «вбок». И за этот срок скорее всего судьбы и решались. Человек незаметным и непонятным для него образом ставился в некую «тест-ситуацию», режиссура которой принадлежала исключительно Хозяину, и то, как проверяемый себя показывал в «предложенных обстоятельствах», определяло окончательно, будет ли большой палец принцепса[31] поднят вверх или опрокинут вниз.
Сашка ощутил себя в роли персонажа рассказа Шекли, которому для спасения требовалось только одно - «не политурить». Только что это означает, он выяснить не успел. Ну, сейчас несколько другое положение, там речь шла о защите от существ сверхъестественных, а здесь следует опасаться всего лишь пожилого человека, пусть и всевластного, но будущую историю и свою собственную судьбу знающего недостаточно.
Лихарев, судя по всему, в своей основной ипостаси тоже заинтересован в благополучии Григория Петровича, значит, как-нибудь да остережет в случае настоящей опасности, если, разумеется, не получит иной команды.
Когда возвращались обратно, в третьем часу ночи, Заковский несколько раз предлагал заехать к нему домой или в другое надежное место, посидеть по-хорошему, обменяться мнениями, вообще снять напряжение, которого уж очень много накопилось, но Шульгин отказался. Не только потому, что опасался сталинского недовольства несанкционированным продолжением вечера (а тот, кстати, на самом деле не любил, чтобы соратники близко общались помимо него), просто ему хотелось побыть одному. Мало ли чем завтра придется заниматься.
На Столешников к Валентину он идти тоже не захотел, попросил забросить его домой, на Земляной Вал. По-человечески и в рассуждении политической маскировки самое правильное решение.
Постелил себе на тахте в гостиной. Не был он подвержен интеллигентским предрассудкам, а все же в кабинете, где не так давно лежала под ковром куча трупов, ночевать по-прежнему не хотелось.
Ветер завывал за полуоткрытой форточкой, шевелил портьеры. От близкого Курского вокзала доносилось постукивание вагонных колес и свистки маневровых паровозов. Он включил приемник, подождал, пока нагреются лампы и замигает зеленый глазок, нашел европейскую станцию, чисто передающую джаз, лег, подоткнув с боков тонкое верблюжье одеяло.
Теперь можно чайку с лимоном отхлебнуть и покурить не торопясь. Здесь наверняка никто его не потревожит. Не потому, что снаряд два раза в одну воронку не попадает (еще как!), а просто помещение достаточно надежное, на открытый штурм никто не решится, НКВД в том числе, даже если там по-прежнему кое-кому нарком Шестаков как кость в горле. Что же касается «третьей силы»…
С Буданцевым, сходившим по его просьбе посмотреть на место покушения, они поговорили поздней ночью, по «столешниковской» телефонной линии, не имеющей ничего общего с нормальной городской, отчего можно было не стесняться в выражениях и подробностях.
Даже через провода и мембраны ощущалось, что сыщик если не напуган, то возбужден не по-хорошему.
– Никак не связываю одно с другим, Григорий Петрович, но любая прикосновенность к вашим делам сопровождается такими непонятками… Лучше б мне вправду было остаться в прежнем качестве.
– Увы, не в нашей воле, Иван Афанасьевич, бывшее сделать не бывшим, - успокоил его Шульгин цитатой из древнего классика. - Давайте поконкретнее…
…Проникнуть к месту происшествия старому сыщику труда не составило. Муровское удостоверение позволило пройти мимо выставленных с обеих сторон проходного двора постовых беспрепятственно. Там уже работали коллеги, и Буданцев маскировался в тени, пока не убедился, что ребят из его бригады здесь нет. Приехали опера из третьей, знакомые, конечно, но понятия не имевшие о перипетиях последних дней. Тогда подошел.
– О, Иван, а ты чего здесь? - удивился, увидев его, старший уполномоченный Дискин.
– Не поверишь, просто мимо шел, смотрю - машина наша, и народец в подворотне толпится… Опять мокрое?
– А то нас на другие вызывают. Присоединишься?
– Упаси бог. От своих не знаю куда деваться. Я лучше побегу. Кого тут? - Он кивнул в сторону двух оперов и эксперта, при свете фонарей осматривающих протоптанные дорожки и нетронутый снег между ними.
Дискин поманил его рукой, включил свой фонарик.
Рядом с проломом в заборе, отделяющем этот двор от соседнего, валялись (иначе не скажешь) два трупа в нелепых позах. Да этим-то не удивишь, настоящие свежие покойники на месте происшествия выглядят совсем не так, как в гробу или в кино. Дело в другом - были они явно «не отсюда». Не из социалистической Москвы начала третьей пятилетки, а будто из буйных двадцатых, тамбовских или махновских. Неопрятно бородатые, одеты в бекеши или казакины, юфтевые домодельные сапоги. У одного пулей разбит лоб и черная кровь лаково залила щеку, второй лежит ничком, вокруг выходного отверстия ниже лопаток торчат клочья ваты. Длинно вытянутая рука касается приклада винтовочного обреза.
– Ну, здорово… - протянул Буданцев. - Из лагерей беглые, что ли? Так как же они через всю Москву сюда добрались? И кто их? Из чего? Почему?
– Ты, Ваня, в прокуроры собрался? Ах, нет? Тогда кончай ваньку валять. А то смотри, брякну сегодня Плескачеву, что ты этим делом сильно интересуешься, он его тебе и перекинет…
Это было шуткой, конечно, но Буданцев почувствовал, что уже наговорил лишнего. В памяти товарища этот разговор застрянет, а потом где-то и всплывет. И пошла писать губерния…
– Брякни, брякни. У меня тоже есть чего тебе подкинуть. Баш на баш, Хочешь - «брюсовское» отдам. В обмен на это?
Оба рассмеялись одновременно, хлопнули ладонью о ладонь. Закурили. Вроде стер Буданцев у коллеги повод специально запомнить проявленный интерес, а то и вообще факт встречи. Сейчас у него такая запарка пойдет, да на фоне прочих вчерашних и завтрашних дел и пересечений…
– А бахнул их уж не знаю кто, но мастак, мастак. Тут же все как на ладони, - продолжил Дискин, слегка рисуясь своей проницательностью. - Они вот тут сидели, ждали. Он по тропинке шел. Они начали, он ответил. На снегу все нарисовано. Как в тире положил и дальше пошел…
Их прервал эксперт, тоже знакомый, опытный сотрудник, проработавший в должности лет десять, если не больше:
– Товарищ старший уполномоченный, прошу прощения, но творится что-то совсем странное. - Голос его ощутимо подрагивал.
– Что еще странного может случиться, если трупы - вот они и других пока не предвидится?
– О трупах и речь, Иосиф Наумович. Они гниют…
– Удивил. Небось не святые мощи.
– Они БЫСТРО гниют, на глазах разлагаются, кости уже показались…
– Да ты что? Свеженькие, часа не прошло, и на морозе?
– Сами посмотрите.
Подошли, посмотрели. От увиденного Буданцева замутило. Была у него такая слабость - не выносил лежалых покойников. Отчего в эксгумациях старался участия не принимать, а тут как раз тот самый случай. Будто в лесу из-под кучи валежника их достали, по весне, а убили и спрятали прошлой осенью. Не для слабонервных картина.
– Вообще такие случаи известны, - продолжал эксперт, - например, при отравлении некоторыми ядами распад начинается немедленно после смерти, так откуда ж здесь яды? Чистый огнестрел…
– Ладно, ребята, вы разбирайтесь, а я побежал, некогда. На днях загляну, расскажете, что накопали…
На душе было, попросту говоря, погано.
Стоило лишь в уме, прощаясь с наркомом, подумать о чертовщине, как она проявила себя незамедлительно и вызывающе наглядно.
Повинуясь почти забытому с детства чувству, сыщик свернул по Сретенке налево, дошел до маленькой, по-прежнему действующей, несмотря на все богоборческое двадцатилетие, церквушки. Поздним вечером там не было ни одного человека, только в полумраке горели лампадки перед несколькими иконами, лики которых были почти неразличимы.
Вид у Буданцева был самый затрапезный, никак не намекающий на его положение и должность. Зажав цигейковую шапку под мышкой, он несколько раз перекрестился, привычно осматривая пространство вокруг, почти не поворачивая головы.
«Свечку бы поставить, - подумал он, - так где ее взять?»
Откуда-то сбоку, из маленькой двери вдруг появился священник, удивительно похожий на самого Буданцева, только в облачении и с бородкой.
– Озабочены чем, сын мой? Поделитесь, вдруг и полегчает. Где ж еще теперь духовной опоры искать? Последние времена наступают. - Голос священника был тих, но в сжатом сводами объеме храма звучал отчетливо.
– Не знаю, чем делиться, отец. Сомнение духа меня к вам привело. Не собирался и не мыслил, ноги сами дорогу нашли. Свечу хочу поставить…
– Во здравие, за упокой?
– Знать бы! Все ж таки во здравие, наверное. И во избавление от лукавого… Самую большую, что у вас есть.
Буданцев вытащил из кармана столько денег, сколько попалось. Наверное, для священника сумма показалась немыслимой. По тем-то временам.
– Настолько грешен, сын мой? - спросил он. - Так мы не католики, индульгенций не продаем. Молитвой и покаянием только спастись можно.
– Не в том дело, батюшка, не в том дело. Грехи мои мелкие, как у каждого, кто здесь и сейчас живет. Нечистая сила вокруг меня закружилась. С детских лет слышал, но всегда за сказки принимал, а сейчас - страшно стало. По-настоящему…
От исповеди и прочих ритуалов сыщик, естественно, уклонился и фактов никаких отцу Сергию не изложил, но свечки, куда было указано, поставил. И книжечку с молитвами на подходящий случай получил, и с собой прихватил две толстых восковых свечи, специально благословленных.
Из церкви Иван Афанасьевич вышел удивительным для него самого образом умиротворенным. Что там дальше будет - не нам знать, но выше той инстанции, к которой он только что обратился, все равно нет.
Само собой, в разговоре с Шестаковым Буданцев передал только голую конкретику, а о посещении церкви и о том, что до утра не спал, глядя на трепещущие огоньки свечей, умолчал. Но Шульгину хватило и той эмоциональной волны, что дошла до него по телефонному проводу.
Откуда пришли те «махновцы» или «дезертиры», что в него так неграмотно стреляли, особого значения не имело. По-прежнему методика оставалась той же самой - умное или не слишком использование чисто человеческих сил и способностей. Галактические силы могли наступить на него сапогом, как на букашку, спалить лазерным лучом, в любом нужном направлении изменить психику, действительно загнать в мезозой или с комфортом отвезти в некогда обещанную столицу «Ста миров». Но если они предпочитают стрелять в спину из обреза, не имеющего даже мушки, - отлично! Тут мы играем на одном поле.
Загадкой оставались фигуранты покушения. Что за нелепая театральщина? Хотя это могло быть и тонким расчетом, только не входящим в круг его понимания. А то и на самом деле - выдернули мужиков из двадцать второго, скажем, года, из повстанческого отряда или банды дезертиров, посулили им что-то, «поставили на номер», как на охоте… Нет ли тут какой-то связи с деятельностью его двойника в тех самых годах? Перемыкание кабеля…
А вот факт стремительного распада убитых его не слишком заинтересовал. Эксперт прав. Наверное, есть у кого-то специальная методика устранения наемных убийц и сокрытия следов. Удайся им Шестакова пристрелить, сбежали бы они на свою «малину» или в подвал какой-нибудь, а к утру остались бы «рожки да ножки» в буквальном смысле. И концы в воду.
Но, как он уже раньше подумал, сюда и сегодня точно никто больше не придет.
О «боковом времени» и тамошних некробионтах он не вспомнил. Не перешло отчего-то к нему это шульгинское знание.
Оттого, что сейчас он находился в квартире, принадлежавшей наркому, пользовался его вещами, курил его папиросы, сама собой активизировалась и чужая память. Да и какие-то тормоза отпустились, державшие другую личность в заданной позиции. Вспомнилась вдруг семья, оставленная на глухом кордоне. Ничего плохого им там не грозит, Власьев - надежный защитник, и дом крепкий, продовольствия достаточно, дров, само собой. Куда спокойнее Зое с детьми там побыть еще хоть неделю-другую или месяц, пока здесь все прояснится. А все ж таки сосала душу тоска-тревога. Лишнее в его положении чувство, а вот поди ж ты…
Хоть прямо завтра садись и езжай за ними. Шестаков, наверное, так бы и сделал, а Шульгину лишняя обуза совсем ни к чему. Не видел он себя в роли отца чужого семейства, да еще при нынешнем раскладе. И пришлось почти силой задавить пробившуюся наружу постороннюю эмоцию. Одновременно Сашке подумалось: не напрасно ли он это делает? Лишний раз обижает человека, и без того лишенного личной свободы и права на самостоятельность. Не аукнется ли это в самый неподходящий момент непредсказуемым сегодня срывом, который бог знает чем может закончиться.
Настроение испортилось.
Попробовал заснуть - не получилось. Даже с помощью испытанных не раз приемов. Оставалось смотреть в высокий потолок с блеклыми отражениями света уличных фонарей и сортировать косяком идущие мысли, важные и не очень. Раз он уже начал создавать собственную сеть единомышленников и помощников «втемную», должно в ней найтись место и для Власьева, человека с незаурядными способностями, только вот настроен чересчур радикально - на борьбу с советской властью во всех ее ипостасях и проявлениях. С идеей мягкой трансформации режима он вряд ли согласится, значит, нужно ему подыскивать соответствующее настрою занятие. Что ли за границу его действительно направить, по линии Заковского, для работы с белой эмиграцией? Идеально было бы и Зою с ним, да вот только сложно будет ее отъезд замотивировать. Впрочем, это не срочно, успеет еще обдумать варианты.
Все же он понемногу начал задремывать, мысли потеряли ясность и конкретность, зато приобрели эмоционально окрашенную всеохватность. Не такую, конечно, как при проникновении в Гиперсеть, но позволяющую словно бы посторонним взглядом рассмотреть солидный кусок собственной жизни, да еще и под разными ракурсами.
Что ни говори, в уникальности ей не откажешь. Если бы раньше, хоть за неделю, хоть за сутки до того, как все началось всерьез, кто-то попробовал предсказать ему будущую судьбу, ни за что бы не поверил. При том, что и первое «взрослое» десятилетие его жизни обычным для человека его поколения не назовешь. На войну, правда, не попал и подобно Джеку Лондону по островам южных морей не странствовал, но и другого-прочего иным знакомым и коллегам хватило бы до конца дней.
И позже, после начала «аггрианской эпопеи», при всей необычности случившегося со всеми ними, ТАК не случалось ни с кем.
«Вариант Валгалла», примечательный сам по себе, в расчет не берем, там у них судьба была общая на всех. Отдельная началась позже.
Новиков с Берестиным побывали в личностях Сталина и Маркова, однако им было не в пример легче. При капитальной подстраховке со стороны Антона, под постоянным наблюдением и почти гарантированной возможностью немедленного возвращения. Воронцов сходил в сорок первый целых два раза, но в своем собственном теле и на «коротком поводке», с риском для жизни, но не чрезмерным. А так, как Шульгин, не пробовал еще никто.
Первый раз он влип капитально в Лондоне, в гостях у Сильвии. Что повлекло за собой сталинскую Москву, потом провал в «глубокий минус» до Рождества Христова. И особых шансов возвратиться тогда у него не просматривалось, поскольку о том, что Сильвия с ним сделала, не знал даже Антон. Так что выбрался он исключительно благодаря собственным способностям, причем довольно быстро и с победой. После чего продолжил существование как ни в чем не бывало, покрыв себя славой на полях Гражданской войны и в последующих игрищах и интригах.
Одновременно продолжил эфемерное существование, глубоко запечатанный в мозгу и теле Шестакова, о чем даже Сильвия понятия не имела. Этакое удвоение сущностей, при том, что «основная личность» находилась «на месте» и жила своей собственной жизнью. Выяснилось это совершенно невероятным способом, напоминающим кульминацию «Фантастической саги» Гаррисона: из восемьдесят четвертого через двадцать первый, при помощи письма, отправленного за семнадцать лет до того, как начало происходить то, что длится и сейчас, вдобавок - из другой реальности.
Теперь так вообще творится нечто не укладывающееся в рамки «нормальных», ставших привычными парадоксов. Прожив бессознательно, но весьма активно больше недели в теле Шестакова, он вновь на краткий миг якобы воссоединился с базовой личностью и одновременно остался здесь. Попросту выражаясь, оказался «един в трех лицах», подобно сами знаете кому, но без его специфических способностей.
Главное, даже себе самому он не мог внятно объяснить - зачем? Зачем, находясь в сравнительно здравом уме, предложил Антону явно безумное решение: остаться в должности наркома? Эта идея даже многоопытного и хитромудрого «тайного посла» удивила. Нет, потом он схватился за нее с энтузиазмом, но поначалу воспринял с недоумением, что может свидетельствовать о его искренности и непричастности.
Сильвия тоже ничего коварного не замышляла, раз сама известила «Шестакова» о его истинной роли и сущности, дала рекомендации и формулу возвращения домой.
Остаются два почти равновероятных объяснения.
Первое - личный авантюризм, наложившийся на кратковременное расстройство психики. Самопроизвольно возникшая копия его матрицы оказалась дефектной, хоть несколько нейронов перемкнуло не по схеме, плюс скачки нервного напряжения, вот вам и реактивный психоз.
Понятное дело, говорить всерьез о внезапно осознанном долге перед человечеством, желании разрушить коварные планы аггров, а может, и форзейлей, изменить, к общему благу, катящуюся в пропасть новой мировой бойни историю человечества, гуманизировать сталинскую политику - смешно. Ничего ты не изменишь, как ни старайся. Новиков с Берестиным уже попытались. Все будет так, как должно быть, даже если будет иначе.
Второе - внезапно охватившее его чувство страха перед возвращением, мысль о том, что, воссоединившись, он перестанет существовать в качестве нынешней самостоятельной личности, могла оказать свое влияние. Куда проще оставить все, как есть, нежели очертя голову кинуться «вперед» {или «назад»), рискуя развоплощением.
Только ведь подобная осторожность совсем не в его «настоящем» характере. Похоже на наведенную эмоцию. Опять же - кем? Здешней Сильвией, Дайяной, Антоном, пусть даже Лихаревым? Вряд ли. Если кто и способен на такое, так единственно Держатели.
Сходится. Переброс на Валгаллу и обратно в физическом облике, кратковременное совмещение с самим собой и «расстыковка» под силу только им, насколько известно. Причем знание о самом факте наличия Игроков получено им совсем недавно, и снова от себя же самого. Раз ему оставлена такая информация, значит, входит в условия? Что за гамбит?
И тут же он подумал - не так все очевидно. Вдруг здесь и проявилось то самое качество «кандидата»? «Они» хотели сыграть втемную, а он подсмотрел прикуп.
И, значит, что? Господин Шульгин получил возможность, о которой партнеры пока не подозревают. Значит, на том уровне, который доступен их восприятию, он должен блефовать. Причем так, чтобы поверить самому и внушить всем окружающим убеждение в том, что остался здесь из чистого авантюризма? Отчего бы и нет? История знает не один подобный случай.
Тяготился Сашка негласным, но для него ощутимым лидерством Новикова? Да, безусловно. И как же здорово будет потом деликатно ткнуть друга носом - ты вот в роли самого Сталина не так уж преуспел, а я сделал его со стороны, на голой технике.
Не видел особых перспектив в жизни в Замке, еще не зная, какие приключения ждут его и всех остальных после Исхода? Да, конечно.
Почувствовал вкус к самостоятельности, поиграв в роли Шестакова с Лихаревым и самим Сталиным? Тоже так. Отчего бы не попробовать себя в амплуа кукловода мировой закулисы?
А, может быть, его вдобавок увлекла возможность продолжить интересную связь с Зоей, женой наркома? Это, пожалуй, вряд ли, хотя полностью такой вариант тоже нельзя исключить.
Короче, доводов и поводов набиралось достаточно. Никак не меньше, чем у благополучных людей XIX века, вдруг бросавших налаженный быт и отправлявшихся искать истоки Нила, Антарктиду или изучать образ жизни туземцев Соломоновых островов.
Человек ты, одним словом, или тварь дрожащая?
С таким примерно настроением Александр Иванович Шульгин, он же Григорий Петрович Шестаков, проснулся поздним утром, не совсем понимая, что успел обдумать еще наяву, а что уже и приснилось, все-таки часов шесть он провел в постели, совершенно не заметив границы, разделившей то и другое.
Принял душ, сделал зарядку, почти невыносимую для тела наркома, хотя оно за последнее время здорово посвежело и избавилось от номенклатурного жирка. Но сейчас Сашка решил довести полученный во временное пользование организм до физического уровня своих тридцати двух, когда считал себя на пике тренированности и эффективности.
Сто раз отжаться от пола получилось, столько же присесть с дубовым креслом за спиной, а потом он понял, что можно и надорваться. И так он терзал реципиента целую неделю невозможными нагрузками, физическими и нравственными. Как еще до инфаркта не довел.
Надо бы и поберечь, а то ведь выйдет, словно с «Запорожцем», на который поставили движок от «Феррари».
И что же теперь делать? Законные сутки для отдыха у него есть. Отдых, конечно, понятие относительное. Люди нашей профессии никогда не отдыхают, сменил слегка род занятий - и уже хорошо.
Потому - продолжить прогулки по Москве невредно. Пешком. В целях рекогносцировки и привязки прежних знаний к местности. Шестаков-то о ней самое отдаленное представление имеет, о той, что располагается за пределами нескольких подходящих для проезда служебного «ЗИСа» улиц. Сам он (в роли другого Шульгина) успел изучить Москву двадцатых, назубок знал город с середины шестидесятых, а теперь предстояло все это соотнести с тем, что имелось в наличии. В эпоху осуществления грандиозного плана «сталинской реконструкции». Слава богу, что три дня назад пришлось носиться на «трофейной» машине по хорошо знакомому, сохранившемуся в неприкосновенности и в семидесятые годы району. Вот и натянул нос местным энкаве-дешникам, как прошлый раз переиграл аггров, гнавшихся за ним на «Мерседесе». Так это просто повезло. Если бы его отжали, к примеру, в Зарядье или за Таганку, там бы он вряд ли так сориентировался.
В целях соблюдения пиетета он позвонил Лихареву. Доложил, что с ним все в порядке, осведомился, не было ли каких значимых замечаний вождя после их отъезда. Валентин ответил подчеркнуто радостным голосом. Мол, все прошло прямо великолепно, и товарищ Сталин ушел отдыхать крайне довольным, несколько раз повторил, что только с такими людьми и нужно работать. Так что, Григорий Петрович, куем железо…
– Куйте, Валентин, куйте. А также и пилите…
– Это вы о чем?
– Это о романе «Золотой теленок». Я вам прямо сейчас не нужен?
Хорошо вовремя поставить человека на место.
– Похоже, что нет. Завтра с утра, наверное, следует быть наготове. А вы где сейчас?
– Будто вы не знаете. У себя на квартире. А Заковский где?
– Наверное, тоже дома. Еще не звонил.
– Вот и вы не звоните. Дай человеку опомниться и в себя прийти. Ему небось больше нашего пережить пришлось. Я сейчас по городу погуляю, потом позвоню или сразу зайду. Есть возражения?
– Да о чем вы…
– Значит, так и сделаем.
– Может, вам машину подать?
– Пока не надо.
Интересный разговор получился. Сначала Сашка думал, что переигрывает, допускает излишнюю развязность, присущую скорее Шульгину, даже может этим себя выдать, а потом, по ходу, сообразил, что здесь так и надо. На самом деле, с порога расстрельной камеры советский номенклатурный работник подскочил черт знает насколько выше исходного положения, С вождем ужинал, государственные проблемы обсуждал, намек получил на высокое продвижение. Как раз агент Шульгин должен был держаться скромно, маскируясь, а Шестакову только так себя и вести. Хам ведь он, раз добровольно пошел на службу к большевикам, в лучшем случае - эстет-хам, если учесть происхождение, образование и царскую службу.
Двери ногами открывать, порученцам или проигравшим место их законное с нужной степенью пренебрежения показывать. Никто ты теперь для меня, инженер Лихарев, и звать тебя никак. Если я только что Ежова свалил, Ворошилова, Молотова приткнул. А про вашу резидентскую сущность и истинное положение я не знаю и знать не могу.
В итоге правильно поговорили. Себя обосновал и товарища на положенное место поставил. Так ему и надо.
Оделся, неторопливо спустился по парадной лестнице, с интересом ожидая, не встретится ли кто-нибудь из соседей. Хотелось на реакцию посмотреть. Но увы, не встретился никто.
На улице по-прежнему мела поземка по непривычно свободным от потока автомобилей и пешеходов улицам. Разгар дня казался сумерками из-за набежавших с северо-востока многослойных туч, извергавших сухой и мелкий снег.
Через проходные дворы, бесчисленными глухими переулками, в том числе и пресловутым Кривоколенным, где располагался его наркомат и где он испытал себя в роли грабителя сейфов, по Мясницкой, через Лубянку и по Охотному ряду Шульгин спустился до Манежной.
Воспоминания насчет боев двадцать первого и двадцать четвертого года именно на этих площадях и улицах у него имелись. Как он принимал активнейшее участие в безумной (или аморальной) операции по установлению в РСФСР марионеточного троцкистского режима, а еще потом - подавлению попытки англо-большевистского контрпереворота.
Но происходило это не с ним. Как в хорошо снятом и оттого запомнившемся кино, вроде «Чапаева». Тем более что и не происходило здесь ничего такого, раз шел он все-таки по настоящей сталинской Москве тридцать восьмого года, явно расположенной на Главной исторической последовательности (или ее органолептически неразличимой копии}, совершенно достоверной, где еще не успели проявиться начавшиеся несколько дней назад очередные изменения реальности.
Шульгин шел, по старой своей привычке, по левой стороне тротуара, засунув руки в карманы наркомовской шинели без знаков различия, не думая о том, чтобы уступать кому-то дорогу, да этого и не требовалось. И в старое время, и сейчас встречные вовремя уклонялись с его пути. Слишком массивный и правильно одетый дядечка.
Куда шел? Он пока не решил.
После ночных размышлений, умиротворяющих видений, воспоминаний о прошлом и будущем он решил пока не делать вообще ничего. Не поступать никак. Смотреть, куда кривая вывезет. На всякий случай сохраняя алертность в теле и пистолет в кармане, теперь уже свой, с запасными обоймами. Буданцевский «веб-лей», в котором осталось два патрона, бросил в ящик стола.
Поколебавшись, не зайти ли на Красную площадь, обойти Кремль по кругу, предпочел свернуть направо, к устью улицы Горького. Глазами и памятью Шестакова он видел, как разительно изменилось это место за несколько последних лет, и радовался новому, современному облику центра, и слегка грустил, что исчезает старая, уютная Тверская-Ямская. Сам же Шульгин воспринимал окружающее как бы в «обратной перспективе», с двух точек зрения сразу, и для него все выглядело еще более «не так».
Зайти, что ли, в «Националь», посидеть за тем же столиком, где совсем недавно дискутировали с Новиковым? Тем более неожиданно возникло острое чувство голода. Проснулся он поздно, завтракать не стал, да и посмотреть, как оно здесь сейчас, интересно. Власьев говорил Шестакову, что после революции в Стране Советов приличных ресторанов не осталось. Так ли это на самом деле?
Шульгину судить было трудно. Москвы эпохи Гиляровского он не застал, что же касается кулинарии позднесоветской… В его памяти остались только двухчасовые очереди перед «Софией» или «Будапештом», в «Метрополь» с «Националем» и не совались, там принимали другую публику.
Ходили ведь отнюдь не для того, чтобы поужинать, съесть «Московский» салат за рубль сорок и бефстроганов за два двадцать, - девушек стремились восхитить своим эстетством, самоуважение почувствовать, потрепаться до второго часа ночи, непрерывно дымя «Шипкой» или «Трезором». Потанцевать, естественно, под ненавязчивую, живую музыку приличного оркестра: саксофон, ударник, труба, гитара, рояль, иногда - скрипки.
Водку, разумеется, на стол требовали. Графинчик двухсотграммовый, болгарского вина «Бисер» бутылку, для дам, скверно сваренный кофе, как тогда выражались - «бочковой», двадцать копеек чашечка, и все. Качество никого не интересовало, все равно вкуснее и шикарнее, чем комплексный обед в институтской столовой или почти вечные холостяцкие пельмени.
Вроде и приятно вспомнить молодость, а как подумаешь, что пришлось бы прожить в тех декорациях еще тридцать или сорок лет, без надежд и перспектив, до неизбежного, бессмысленного конца. Тоска, тоска…
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Он сдал шинель швейцару вполне старорежимного вида (а как же, интуристовская гостиница и ресторан), одернул перед зеркалом гимнастерку. Нормально. В пиджаках с галстуками пусть интеллигенты и дипломаты ходят. Да еще бы не каждого и пустили, если незнакомый или без солидной ксивы вроде билета члена Союза писателей.
Полувоенное облачение из номенклатурного коверкота плюс подходящие замашки - самое то. Директор завода минимум или секретарь обкома. Орденов, жаль, не хватает!
Метрдотель нарисовался у входа в зал, будто его звонком вызвали, а может, и так.
– Добрый день, товарищ командир! Пообедать желаете? Один будете, вдвоем, с компанией?
– Один. Столик вон тот, в эркере, за занавесочкой…
– Исполним. Пожалуйте.
Да, здесь они и сидели с Новиковым, сигары потягивали. За окном краснокирпичные музеи, Ленина и Исторический, кремлевские стены и башни. Все чуть задернуто снежной кисеей. Две редкие, с длинными интервалами, нитки машин. По преимуществу черных.
Официант (или как его по-советски следует называть - подавальщик, что ли?), похожий на артиста Эраста Гарина, возник мгновенно, с полупоклоном и выражением почтительного внимания. (А в прошлый раз была эффектная длинноногая блондинка с глазами панночки из «Вия».)
Шульгин ткнул пальцем в меню почти наугад. «Это, это, это. Графинчик коньяку, «Боржом». Пока все».
Книжечки у официанта не было. И клиентов немного, и вообще не тот уровень заведения, чтобы обслуга демонстрировала отсутствие профессиональной памяти. Если ему за сорок, а на вид - не меньше, вполне мог начать трудовую деятельность еще при старом режиме, продвинуться от кухонного мальчика до старшего официанта, обер-кельнера, по-немецки выражаясь.
Прибор, закуска и все ей соответствующее было доставлено с почти неестественной быстротой. Что ж, зал практически пустой, не то что в наше время. Не тот у местного народа уровень благосостояния, чтоб по ресторанам шляться, да и моды такой (у трудящихся) еще нет.
Шульгин вздохнул, выпил рюмку, закусил валованчиком с черной икрой, как положено. Коньяк был весьма неплох, «КВК» все-таки. После чего закурил.
Расставляя тарелки с последующей закуской, официант спросил вдруг театральным шепотком:
– В компании не нуждаетесь? Барышня высшего разбора может скрасить одиночество…
Поймал ответный взгляд гостя, нечто понятное для себя уловил.
– Нет, все совершенно пристойно. Я подумал, скучаете, просто поговорить, развлечься желаете…
– Нужно будет - скажу. Пока своим делом занимайся. А вон там - кто? - Шульгин подбородком указал на человека, яркий типаж того самого затруханного (гнилого, по выражению этих лет) интеллигента, который одиноко сидел за столиком почти в центре зала. Стояла перед ним единственная чашка кофе и совсем крошечный, от силы стопятидесятиграммовый графинчик с чем-то светлым, прозрачным у самого донышка.
Привык, значит, бедняга, в ресторанах время проводить и сейчас, впав в ничтожество, на последние копейки фасон держит.
Знакомая ситуация. Тем более и лицо этого человека показалось Шульгину знакомым. Ну да, писатель, в двадцатых - начале тридцатых до чрезвычайности популярный. В мемуарных книгах более удачливых коллег часто попадались его фотографии. И в расцвете славы, и после. Умер, кажется, году в семидесятом, в нищете и забвении.
Официант назвал фамилию, совпавшую с той, что угадал Шульгин. И усмешка услужающего показала, что себя лично он оценивает гораздо выше. Мол, если пускает начальство сюда этого полуопустившегося человека - их дело, но уважения он не заслуживает. На свои берет сотку, а потом ждет, не угостит ли кто.
Так и было в действительности, значит, налицо еще одно подтверждение, что сейчас Шульгина окружает «настоящая» реальность.
Этот человек не ходил в знаменитый писательский ресторан, где ему искомую рюмку поднесли бы гарантированно, и не одну, следовательно, сохранял определенный уровень самоуважения или просто не желал видеть вокруг глумливые лица тех, кого почитал бездарностями, но достигших признания у власти вкупе с сумасшедшими гонорарами.
Что поделать - печальна участь человека, сначала увлеченно и убежденно начавшего сотрудничать с дьяволом, да вдруг сообразившего, что дорога ведет прямиком в ад. Рыпнулся пару раз, пытаясь отказаться от подписи и вновь стать «самим собой», но дьявол, естественно, оказался изобретательнее. В его случае - не злобным, а глумливым.
«Не хочешь - не надо. Репрессий не будет. Живи как знаешь!» Однако в том и дело, что «как знаешь» оказалось едва ли не хуже самой жестокой кары за вольномыслие. Писать, как прежде, он не захотел, по-другому же - словно бы разучился, сразу. Вместо литой, торжествующей прозы получалась безвкусная жвачка, не интересная ни ему самому, ни издателям, ни даже всесильной цензуре.
Шульгин не был литературоведом, но, с детства общаясь с Новиковым, стремился, как говорится, «соответствовать». Сначала через силу, а потом и с удовольствием читал все, что считалось приличным и модным в определенного сорта кругах. Толстые журналы, к примеру, с новыми романами Катаева, названные самим автором «мовизмами»[32], «Сам-» и «Тамиздат», да и многое другое. В результате эрудицию приобрел изрядную. Достаточную, чтобы узнать человека и вспомнить его печальную историю.
Вот и решил изобразить провинциального поклонника-мецената. Заодно пообщается, несколько отстранится от мыслей, перекручивать которые в голове именно сейчас совсем не хотелось.
– Пригласите его сюда… - сказал он официанту. Тот с готовностью кивнул. «Хозяин - барин».
Подошел к писателю, прошептал ему что-то доверительно, кивком головы указал в сторону наркома.
Тот посмотрел внимательно из-под полуопущенных век, скривил губы, буркнул нечто.
Явно Шестаков ему не понравился. Да и то: солидный, плотный дядя номенклатурного облика, «крепкий хозяйственник» или «командир производства». О чем с таким говорить? Абстинентный синдром, слегка пригашенный несколькими глотками водки, еще не возобладал над гордостью. Для чего его приглашает этот незнакомец? О чем станет говорить и что ему отвечать?
Ход мысли литератора-неудачника был Сашке совершенно ясен. Профессионально и исторически.
Ну, не хочет, и не надо. Без него есть чем заняться. Сашка еще выпил, медленно, не торопясь, не глядя больше в сторону литератора. Продолжил созерцание медленного полета снежинок и плавного движения редких автомобилей с Горького на Моховую, с Манежа на Охотный и со всех трех направлений - на Красную площадь Историческим проездом. Тогда (сейчас) она была открыта для движения по выделенной полосе вдоль ГУМа, который тоже являлся не магазином, а средоточием массы государственных контор и учреждений.
Смешнее всего то, что легковые машины, которых здесь было меньше, чем на одном-единственном перекрестке сорок лет спустя, двигаясь со скоростью тридцать километров в час, сигналили почти непрерывно, прохожим, друг другу, просто так, наверное, чтобы отметить свое существование. В каком, бишь, году запретили сигналы? В шестьдесят первом, кажется.
Но все попытки по-настоящему отстраниться от текущих забот ни к чему не приводили. Действительно, хоть соглашайся на предложение официанта насчет девушки. Так она ж наверняка на НКВД работает, и рассеяться все равно не получится. Наоборот, придется на ходу биографию и сценарий общения придумывать… Разве что без лишних разговоров - сразу в койку. Говорят, товарищ Сталин к таким шалостям сотрудников толерантно относится. Говорят… Как захочет, так и отнесется, если донесут. Ни к чему осложнять партию в самом начале.
Так что придется и дальше терзаться «проклятыми вопросами». Что, в общем, полезно. Продумать все возможные варианты, пока есть время, чтобы впредь иметь мозги свободными для оперативных решений.
Предположительно, возвращаться назад он не собирается. На текущий момент. ТАМ их и так уже двое. Зачем третий? Им - наверняка незачем. А ему лично? Остаться здесь навсегда в чужом теле, устроиться очень неплохо, доделать то, чего не успел Новиков? Вообще-то можно. Так люди уезжали в поисках счастья и приключений в никуда, за океан, «за тридевять земель», становились правителями держав и территорий, никогда больше не вспоминая о покинутой родине. Можно, почему нет?
Лихарева себе на службу поставить не так уж и сложно, есть способы. Надоест Россией править, в Аргентину уехать можно, в Африку на поиски копей царя Соломона. Жаль, конечно, если друзей больше повидать не удастся. А почему нет? Формула перехода при нем, на Валгаллу всегда вернуться позволяющая. Там и встретимся. Кто в каком качестве - отдельный вопрос, не сегодняшнего дня.
Так что грустить причины нет. Никак не больше, чем когда он, простившись с друзьями, уезжал на Дальний Восток, то ли на три года, то ли навсегда.
А вот каким образом самоопределиться здесь - нужно думать и думать. Заняться переделкой реальности исключительно под себя или двинуться к некоей великой, «общечеловеческой» цели? А что это такое? Какую цель можно назвать таким образом? Чтобы счастье всем, и пусть никто обиженным не уйдет? Не бывает. Даже в самом простом варианте - понятие о счастье и справедливости у заключенных в тюрьму по уголовному делу и претерпевших от них граждан отличается коренным образом. Одни мечтают выйти на свободу, другие - чтобы супостаты оставались там как можно дольше. И вся внутренняя и внешняя политика характеризуется тем же. Потому следует думать исключительно о том, что кажется правильным и справедливым именно тебе.
Если Сталин не передумает и не будет сильно мешать, вполне можно предположить, что они с Шестаковым сумеют за два примерно года переориентировать внешнюю и военно-техническую политику в стране в духе их с Антоном стратегических фантазий. Тогда Вторая мировая, которая и так, и так неизбежна, пойдет совершенно по другому плану, в противоположной геополитической конфигурации.
Только вот еще один неразрешимый, несмотря на массу якобы убедительных доказательств, вопрос - находится он сейчас в псевдореальности, как выходило по полученным через Гиперсеть схемам, или, с какого-то момента, этот тридцать восьмой - настоящий? Как следствие событий на аггрианской базе, где они взорвали «информационную бомбу». Отчего не предположить, будто, ликвидировав тот вариант, они «расконсервировали» новый, пребывавший ранее в латентном состоянии? И, может быть, точно так же вновь «запустился» вариант новиковского сорок первого года, и там сейчас снова действуют Андрей, Алексей, Воронцов. Скажем, Игроки решили устроить честное соревнование - какая в итоге окажется убедительнее и жизнеспособнее, той и позволено будет стать новой «Главной исторической».
Еще одна гипотеза (или дополнение к первой) - пусковым механизмом послужило как раз письмо Сильвии к самой себе. Раз оно сумело пересечь барьер между реальностями без всяких технических ухищрений, то либо барьера вообще не было (или вдруг не стало, что говорит в пользу первой гипотезы), либо письмо сработало своеобразным тараном.
Пожалуй, в этом что-то есть. Иначе как же могло случиться, что отправлено оно было из уже изменившейся, но не успевшей «затвердеть» реальности в лондонский банк, продолживший существование в прежней, неискаженной. Настолько-то Сашка основы хронофизики представлял.
Осознание того, что живет он не в химере и не внутри Ловушки Сознания, каким-то образом прибавило оптимизма. Хотя, казалось бы, какая в принципе разница?
Тут писатель поднялся из-за своего столика, подошел, гордо держа перед собой рюмку с жалкими каплями алкоголя на дне. В левой руке дымилась папироса с изжеванным мундштуком. Дернул головой сверху вниз, изображая намек на поклон.
– Вы меня хотели видеть? А зачем? И кто вы такой?
– Присаживайтесь, Юрий Митрофанович. Меня Григорий Петрович зовут. Инженер. Когда-то я присутствовал на одном из ваших выступлений. Книги, само собой, читал. С большим удовольствием. И вдруг увидел вас здесь. Естественное желание - познакомиться поближе со знаменитым человеком. Коллегой…
– Каким коллегой? Я на юридическом учился.
– Как же? «Инженеры человеческих душ»… Не я придумал.
– Да уж знаю…
Говорил писатель отрывисто, несколько брюзгливым тоном, словно человек, по пустякам оторванный от важного дела, причем личностью малоинтересной, а то и неприятной, только «прежнее» воспитание мешает послать невежу прямым текстом туда, куда он заслуживает.
Лишь взгляд выдал, искоса брошенный на графин Шестакова, на тарелки, полные закусок.
– Ну ладно, раз уж так случилось… За знакомство. - Первый протянул рюмку, чтобы чокнуться, сглотнул. Дернулся плохо выбритый кадык над слегка засаленным узлом галстука в горошек.
– А вы что, действительно простой инженер? - осведомился, глядя подозрительно.
– Не понял. Инженер - это образование и образ мысли. А уж простой или сложный - не мне судить.
– Я не то хотел сказать, - слегка растерялся писатель, которого Сашка приткнул на его поле, - я в смысле, рядовой исполнитель или начальник…
– Эх, Юрий Митрофанович, занятие чисто словесным трудом никак не способствует… Какая разница, лично ли я придумал паровоз и его построил или при этом направлял деятельность еще десятка людей, способных на то же самое, но обделенных некоторыми организационными способностями?
– Да-да, я вас понял, - ответил писатель, слегка ошеломленный не совсем привычным ему способом ведения дискуссии. - Так, может, лучше выпьем по этому поводу?
Особого повода Шульгин не заметил, но вел тему именно к такому предложению. Искусство - заставить человека первым сказать то, что от него требуется. А Сашке требовалось именно это - раскрутить известного и безусловно талантливого человека на интересный, необязательный разговор, в ходе которого он и сам отдохнет, и сумеет узнать нечто такое, чего от других здешних знакомых не узнаешь. Он даже начал подумывать, что, оказав писателю незаметную, но мощную поддержку, через него можно внедриться в круги готовой к переменам интеллигенции. Ничего сложного, кстати. Затруднение могут представить только первые шаги.
Естественно, Шульгин распорядился накрыть стол уже по-настоящему. Подкормить оголодавшего, напоить, но в меру, а дальше уже по обстановке, благо знаниями нужными он располагал. Чьи имена упоминать с пиететом, кого обозвать грубым словом, а где, наоборот, воткнуть «размышлизм», изобретенный сорок лет вперед.
Очень все получилось удачно. Юрий Митрофанович против размаха угощения не возразил, ел с аппетитом, но аккуратно, выпивал охотно, но не производя впечатления дорвавшегося алкоголика.
Посидели, поговорили, как положено русским людям, доселе незнакомым, но встретившимся, к примеру, в купе поезда дальнего следования, поделившимся дорожными припасами и тут же ставшим почти родными, пока не придет пора выходить на своей станции. Обсудили литературные вопросы, в которых (здешних) Шульгин разбирался мало. Что ему проблемы шесть лет назад распущенного РАППа или группы ЛОКАФ[33]? Но это было к месту. Не мог провинциальный инженер в таких корпоративных заморочках понимать. Зато дружно согласились, что «Хождение по мукам» - вещь, а «Тихий Дон» - тоже вещь, но не такая, что Бабель последние годы пишет абсолютную херню, Платонов чрезвычайно изыскан, но не интересен, а Булгаков…
Шульгин не мог сказать, что он читал «Мастера» в напечатанном виде и в полной редакции, а писатель тоже мялся, может, и знакомый с каким-то вариантом текста, но остерегаясь.
Самое время пришло, глядя на часы с плавно качающимся маятником, перейти к настоящему разговору. Только не успел Сашка. Со своими перенятыми от Шестакова генеральскими замашками. Инициативу поймал, перехватил собеседник, отставивши рюмочку с очередной дозой дармового коньяка.
– Не хватит ли зря болтать, Александр Иванович? - И так это жестко и понятно прозвучало, что… Что не возникло даже мимолетного желания спросить: «О чем это вы, любезнейший? Меня ведь Григорий Петрович зовут». Всем все стало ясно.
Шульгин придавил папиросу в хрустальной пепельнице. Жалкий, обиженный жизнью и властями писатель как-то сразу, сохраняя физические черты внешности, стал другим. Таким же худым, изможденным, если угодно, но это уже стала худоба и изможденность не городского неудачника-пропойцы, а рейнджера, прошедшего пешком и с автоматом через пустыню Намиб. Понятна разница?
– Слушаю, - ответил Сашка, ровно так, как и полагалось. У обоих руки лежат на столе, значит, в физическом смысле они пока в равном положении. Ну а в ментальном…
– Нет, не опасайтесь, Александр Иванович, ничего такого не будет…
– Да я бы и не советовал…
– Разумеется. Просто я хотел вам сказать кое-что, что другим способом невозможно…
– Вы попали в очень плохую ситуацию. ВАС играют, а не вы играете. Помните школу преферанса Боба Власова?
Господи, какую же старину он вспомнил, сволочь! И как хорошо знает все, что ему знать бы и не нужно. Я ведь тоже могу кое-что…
– А если проще?
– Если проще - вам нужно внимательно выслушать меня, не возражать и понять наконец, в чем заключается ваша функция.
Резко мог бы сейчас ответить Сашка этому посланцу или воплощению кого-то, но охватило его удивительное в его положении спокойствие. Настолько много всего было, что и заводиться нечего. Давай, парень, неси, что приказано, а я буду или дураком прикидываться, или интеллектуалом, по ходу действия.
– Говорите. Только - как к вам теперь следует обращаться?
– Да так и обращайтесь, как начали. Я к этому имени привык. И к роли, и к положению. Вполне, прошу заметить, удобному. Время сейчас сами знаете какое, а в сложные времена нищему юродивому куда как спокойнее, чем серьезному человеку. Скажем, вам или тому же Бабелю, которого мы по случаю вспомнили. Очень человеку понравилось в кругах вертеться, да в каких! А сейчас вот, в определенном роде благодаря вам, пришьют ему сотрудничество с Ежовым - и… Кто-то когда-то тонко заметил, что любопытство сгубило кошку…
– Эксцессов не допустим, - присущим Шестакову, но не ему самому тоном ответил Сашка. - На этом хотя бы уровне. Писателей расстреливать ни к чему. На вашем же примере очевидно. Проще перевоспитать или задвинуть до поры. Вам еще как минимум одну знаменитую книгу написать предстоит. Которая станет чрезвычайно популярной. Возможно, не так, как вам бы сейчас хотелось, но тем не менее. Название сказать? И год издания?
– Не нужно. Предпочитаю не знать своего будущего, тем более оно, как выражаются физики, весьма вариативно. А вы чего злитесь? На меня, что ли? Глупо. Я в данный момент не более чем элемент мироздания. Как этот графинчик, как снег за окном, как нарком Шестаков, который с одинаковым успехом может стать новым Ришелье или лагерной пылью, что отнюдь не исключено. Неужели не привыкли до сих пор?
– К чему я привык, к чему нет - разговор отдельный. И злиться мне на самом деле бессмысленно, разве что на самого себя временами. Как ни крути, а я последнее время все больше склоняюсь к солипсизму. Также и вас свободно могу расценивать, как очередную эманацию тех мыслей, которым предаюсь последнее время…
– Здравая позиция для сохранения душевного равновесия. Вам в нем не откажешь, я это без всякой лести говорю.
– А в качестве кого, позвольте осведомиться? Или - по чьему повелению? Гадать не хочу, честно признаюсь. Да и незачем, наверное. Кое-какие мои мысли вы ведь читаете?
– Увы, Александр Иванович. Разве общение с инопланетными друзьями вас ничему не научило? Мысли человека в динамике, тем более такого, как вы, читать невозможно. Кое-какие сведения извлекать из долговременной памяти и прочей относящейся к вам стабильной информации - другое дело. Эмоциональный фон считываю, само собой, могу вообразить примерное направление хода ваших размышлений - так ведь и вы это умеете немногим хуже, правильно?
– С вами - пока не очень получается, - честно признался Сашка. - Так это и неудивительно, вы же не личность, вы - макет…
– Вот тут - ошибаетесь, - весело рассмеялся «писатель». - Самая настоящая личность. Слегка по-другому устроенная, но - непринципиально. Особенно - последние двадцать лет. Мог бы порассказать, только не сегодня. У меня присутствует отчетливое ощущение, что мы друг другу можем очень и очень пригодиться.
Шульгина не то чтобы поражало, но в достаточной мере удивляло, насколько резко изменился его собеседник всего лишь за час. Такое в принципе бывает, именно с тайными, как одна знакомая профессорша выразилась, «доброкачественными» алкоголиками. Пребывал человек в некоторой фазе депрессии, вызванной своим не соответствующим притязаниям положением, невозможностью по тем или иным причинам принять очередные сто - сто пятьдесят, чтобы выйти «на режим», сейчас употребил и расцвел. Глаза заблестели, лицо порозовело, кровь по жилочкам заиграла. Сколько ему лет, исходя из биографии «прототипа»? Сорок восемь, кажется? Вполне достойный возраст.
– Только вы не слишком расслабляйтесь, - не преминул Сашка вставить шпильку. - Не стоит приоткрываться. Официант вон и то с нехорошим интересом посматривает. Слишком вы из привычного ему образа выходите…
– Что, заметно стало? Это мы сейчас поправим. Но может же человек от приятного разговора и роскошного застолья на какой-то момент вспомнить себя прежнего? Я ж ведь не слишком давно был о-го-го!
– Может, может, - успокоил его Шульгин. - Но давайте ближе к телу, как писал один из ваших недавних приятелей. Что вы хотите мне сказать и, заодно, каким образом оказались здесь раньше меня? И неужели специально залегендировались в нынешней роли, чтобы наша встреча так изящно произошла?
– Это отдельный разговор. И встречать вас именно здесь и именно сегодня я не собирался. Мог бы и завтра, в иных обстоятельствах. Просто вы некоторое время назад начали очень сильно фонить, и мне показалось, что никак вы не минуете это заведение. В общем, не слишком глубокое стратегическое предвидение, если имеется исходный комплект разведданных об объекте…
Шульгин не мог не согласиться. Он бы и сам сумел вычислить предстоящее поведение персонажа, представляющего серьезный интерес, зная ряд его психологических характеристик и образ мыслей.
– И что же вам нужно? Вы что-то сболтнули насчет функции? Давайте, просветите… Никакое знание не бывает излишним.
– Золотые слова. Скажите официанту, пусть обновит тарелки, ну и… это самое. Я должен уйти отсюда «в образе», то есть пьяным в стельку. Тогда посторонних мыслей не возникнет ни у кого. Серафим (досталось же человеку имечко) как царской полиции на клиентов стучал, так и нынешним стучит. В дело, не в дело, а материал выдает регулярно, с чего имеет вознаграждение побольше основного, включая чаевые. Пару раз в год, просто по закону больших чисел, непременно в точку попадает. То «деловые» сболтнут по пьянке о громкой истории, из-за которой весь МУР на ушах стоит, то на пятьдесят восьмую почтенный клиент наговорит, лишнюю рюмку приняв. Но с нами у него не пройдет, правильно?
– Кто бы спорил. Спасибо, что проинформировали, глядишь, дезу какую-нибудь через него заправим, если потребуется…
– Тоже мысль. Раньше мне не нужно было, а сейчас - кто знает…
– Вы и знаете, - меняя тон, ответил Сашка. - Лично мне, а особенно моему напарнику надоело заниматься тем, о чем так образно написал упомянутый нами певец Молдаванки. Наверное, вы тоже соскучились по общению и подзабыли о своей функции…
Писатель снова засмеялся.
– Александр Иванович, или я переоценил вашу проницательность, или вы попали в дурную бесконечность праздных представлений. Дело же заключается в том, что я, подобно вам, давно уже вольный стрелок, причем куда более вольный… Аггры, форзейли, даже те, кого вы называете Держателями, они, конечно, существуют. Занимаются своими мелкими делами…
– Отчего же мелкими? - не смог не перебить его Шульгин.
– Да просто потому, что все на свете тлен, кроме твоего собственного спокойствия. Первой среди нас это поняла Ирина. И со свойственной женщине мудростью прикрыла себя - вами. Разве не так?
Сашка, что удивительно, в тот же миг признал полную правоту странного собеседника. Ведь действительно - как только Ирина решила избавиться от своей должности, она (профессионально, следует признать) переложила все свои проблемы на них. Андрей за нее думал, Берестин отлично вписался в качестве запасного варианта, Шульгин - спасал физически, Левашов организовал ликвидацию «киллеров» и побег на Валгаллу, Воронцов принес схему дубликатора. А она больше ничем не была озабочена. Жила, как за каменной стеной.
Не считая некоторых деталей, все было именно так. Но ничего по этому поводу он говорить не стал. Это - наше дело, странного «доброжелателя» не касающееся.
Ответил нейтрально:
– Брак по расчету бывает счастливым, если расчет правильный. Но давай, про себя изложи.
Перейти на «ты» он счел своевременным. По обстановке.
– Я в свое время поступил почти так, как Ирина, но несколько грамотнее. И с тех пор - сам по себе. Захотел - стал властителем дум советского народа, надоело - перешел в нынешнее качество. Чем плохо - здесь почти ежедневно валяю дурака, подтверждая свою жалкость и никчемность. Возвращаясь домой, на седьмой этаж арбатского дома (квартиру отдельную и очень хорошую я успел заработать), пью лучшие коньяки из Торгсина или коммерческого, читаю отличные книги на всех языках, девушку могу пригласить (приняв иной облик), пожелав развеяться, покупаю билет в международный вагон[34] Москва - Владивосток или в Сочи путевку. В Одессе имею возможность дачу снять на восьмой станции Большого Фонтана… За границу пока не уехал, потому что и здесь интересно. Но уеду непременно, потому что понял, с вашей, кстати, помощью, что очередная Великая война неизбежна…
– Нет, все ясно, - усмехнулся Александр, чувствуя, что собеседник не столь уж силен и сложен. Он даже начал догадываться, с кем имеет дело. - И все же именно сейчас я тебе нужен или ты мне? Чего ты хочешь?
– Помочь, ничего более. Ты, Шульгин, мне симпатичен. Больше, чем любой из твоих друзей. Нет, - он сделал руками протестующий и отстраняющий жест, - о друзьях ничего, это святое, однако есть же разница между людьми, ты согласен? И подругами тоже. Я знаю, что ты мечтал бы стать любовником, а то и мужем Ирины, но не получится. Любовником воронцовской Наталии ты себя даже не воображаешь, при том, что это очень милая и красивая женщина. О других говорить не будем. Так?
Шульгин, даже против воли, кивнул. Здесь Юрий попал в точку.
– Сейчас то же самое. Мне хочется с тобой разговаривать и иметь дело.
– Какое? - спросил Шульгин. Надо же брать инициативу в свои руки, иначе что получается?
– А простое. Сейчас тебя подставили. Все понемногу. Антон - чтобы ты поработал на его «геополитику». Сильвия - чтобы восстановить утраченные личные позиции. Лихарев - в надежде получить верного клеврета при Сталине. Он же тебя, то есть Шестакова, теперь так видит. А друзья - друзья тебя этого - списали. В том смысле, что не существуешь ты больше для них в виде отдельной личности. Предпоследний «Сашка» вернулся домой, и нет тебя больше ни для кого, включая и себя самого. Ты понял? Тот, что был с тобой и тобой на Валгалле, тоже теперь не ты. Ты правильно догадался вчера - остается делать, что должен, но не совсем еще понял, что должен и кому. Повторяю, сейчас - играют тебя. Наверное, те самые «Держатели», из-под контроля которых я сумел выскочить в восемнадцатом году.
– Цель? - спокойно спросил Шульгин, разливая по рюмкам для обоих бессмысленный коньяк. И внезапно протянул руку, таким темпом и направлением, что можно было понять по-разному. Но главное - психологический посыл. - Дай браслет. На минутку… Юрий Митрофанович помедлил совсем немного, потом отстегнул черное устройство с левой руки, из-под потертого манжета дешевой рубашки. - Держи…
Это можно было считать знаком предельного доверия, кто же добровольно отдаст в чужие руки драгоценнейшую вещь на свете. Или писатель крепко, неведомым способом подстраховался так, что не видел для себя никакой опасности.
Шульгин защелкнул замок, откинулся на спинку стула. Устал он, на самом деле требовалось укрепить силы и привести себя в исходное состояние. Но и партнер молодец. С таким, пожалуй, стоит иметь дело. У него, кажется, появился в чужом мире надежный напарник…
Первый, не считая Лихарева, который понимает об этом мире и его законах больше любого земного мудреца. «Из тех, кто мне лично известен», - тут же уточнил Сашка, потому что не было никаких оснований считать, что они такие уж уникальные супермены. Вполне возможно, что существуют десятки, если не сотни людей с неменьшими духовными способностями, просто использующие их несколько иначе или просто не получившие означенного объема информации. Какой-нибудь йог, шаман, монах из глухого православного скита или доминиканского монастыря свободно общается с Гиперсетью, только понимает это общение иным образом.
– Скажи, Александр, ты жаждешь власти? Неограниченной власти, хотя бы такой, какая сейчас у Сталина?
– Ни в коем случае. Это я отвечаю на оба смысла твоего вопроса. И власти в том смысле, что ты имеешь в виду, не хочу, и у Сталина власть достаточно эфемерная, куда меньшая, чем воображается обывателю сейчас или историкам «послекультовской эпохи». Она, конечно, есть, но уж с очень малым количеством степеней свободы. Так что не власть меня интересует, а свобода…
– Изящно сформулировал. Та же самая неограниченная власть, только без накладываемых ею обязанностей и ограничений. А зачем?
– А зачем ты сбежал от своей должности? Увидел, что история ломается слишком круто и никак не хочет соответствовать «базовой теории»? Вспомнил апостола Павла, учившего, что зло неизбежно, но горе тому, через кого оно приходит в наш мир?
Он не был силен в богословии и понятия не имел, Павлу ли принадлежит данная сентенция или кому другому, просто следовал давней привычке уверенно ссылаться на авторитеты и, в случае необходимости, самому придумывать цитаты из классиков.
– Не совсем так, но близко. Сначала меня все-таки убили, не до конца, но почти. И, «воскреснув», я вдруг осознал, что лучшего момента соскочить с тележки у меня не будет. Мне вдруг разонравилось то, чем я занимался так долго и успешно…
– Не так уж успешно, если допустил февральский переворот и прочее. Я бы на твоем месте еще в январе-феврале семнадцатого рванул бы в царскую Ставку, убедил бы Николая вручить диктаторские полномочия на фронте Брусилову или, может быть, Юденичу, в тылу - Корнилову. И порядок. Тоже в обоих смыслах «порядок». Полгодика всего нужно было продержаться, и вот тебе победа в Мировой войне, успокоение народных масс, кое-какие реформы с дальнейшим процветанием…
– Много ты, Александр, по сравнению со мной тогдашним знаешь. Я ведь, не забывай, внутри единственной реальности живу, и год для меня сейчас только тридцать восьмой, будущего я тогда не знал и сейчас не знаю. Вот и выбрал путь, представившийся единственно верным. Будда не дурак был, теорию недеяния придумавший. Ни в каких жестокостях и зверствах я не замешан, жил спокойно и по меркам времени честно. Чувства добрые лирой пробуждал, тоже в рамках возможного, благо талант литературный в себе обнаружил…
– Тоже странно, - меланхолически заметил Шульгин. - Твои братья и сестры, как мне известно, многими способностями наделены, за исключением вот именно способностей к самостоятельному творчеству.
– Любые обобщения страдают ограниченностью. Талант, а вернее, способности открылись у меня, понятно, не лермонтовские и не пушкинские, скромненькие, прямо скажем, но совершенно отвечающие духу времени и запросам публики. Возможно, как раз в виде компенсации за отказ от всего остального прожил я последние двадцать лет в полном согласии с собственной душой. Приходилось, конечно, дурака валять, с властью и с остатками порядочной интеллигенции заигрывать, попеременно «верность платформе» и кукиш в кармане показывать, но в целом - нормально…
– Вот и заигрался. Разве нет? Ко мне-то зачем сейчас прибежал? Ехал бы в Аргентину, да и все,
– Почему именно в Аргентину? - неожиданно заинтересовался глубоко непринципиальным в свете общего направления беседы вопросом Юрий.
– А потому, почему и Троцкий с Бухариным туда же бежать собирались, если бы ты свое дело правильно исполнил. Далеко от всех центров мировой революции, никакая Великая война туда не дотянется, климат хороший, и, по крайней мере, в Буэнос-Айресе совершенно европейский антураж. К слову, сейчас там уровень жизни и ВНП повыше, чем в Германии. Сложности начнутся после Перона… В пятьдесят четвертом году и позже.
– Да… Может быть, ты и прав. Только я просчитал, что, раз ты здесь появился, побег в Аргентину можно отложить. Последние три года стало мне как-то нудно. Снова на приключения потянуло. И вдруг - ты. Подарок судьбы, нет?
– Или - знак, причем даже и мне неясно, с плюсом или минусом.
Шульгин не стал спрашивать нового приятеля, каким же образом коррелируется его якобы полная отстраненность от Игры со знаниями, то и дело демонстрируемыми. Соврет наверняка или даст объяснение, столь же достоверное и ложное одновременно, что заморишься разбираться. Само собой все прояснится, если и дальше предстоит общаться.
Он тут же и ответил, не дожидаясь вопроса:
– Наверное, время передышки закончилось. Я думал, что освободился с концами, а мне просто поводок отпустили на предельную длину. А сейчас подергали, указав, что почем на самом деле. Я так понял - твое поведение кого-то заинтересовало или раздражило. Понравилось или наоборот. Здешние резидентуры выведены за скобки или просто не могут с тобой справиться…
Помолчал немного, пожевывая губу.
– Позавчерашней ночью опять вывернулся. С двадцати шагов стреляли в спину, а ты уцелел. Ловкач…
– Кто стрелял-то? И зачем?
– Сие мне неведомо. Неудачный ход мастера или природная флюктуация. Боюсь, не скоро об этом узнаем. Так вот… Те, кому это зачем-то нужно, «разбудили» меня. Пробуждение, признаюсь, было неожиданным, но приятным. Все же мы созданы для другого, нежели мещанское прозябание, пусть и комфортное. Вроде как офицеру дают предписание, командировочные и сухой паек на дорогу, я получил пакет нужной информации, активизацию профессиональных навыков и выход на тебя.
Шульгин усмехнулся, вернул Юрию браслет, который больше был не нужен, жизненный ресурс шестаковского тела восстановился до очередного оптимума, щелкнул пальцами, подзывая официанта.
– Еще графинчик коньяку, и получше, чем прежний. Думаешь - выпили клиенты, так всякое дерьмо подавать можно? Смотри у меня! Скажу, кому следует, вылетишь, и в Мытищи в вокзальную забегаловку не возьмут!
Более пораженный тем, что клиент выглядел абсолютно трезвым после выпитого полулитра, нежели угрозой, Серафим унесся и вернулся не с графинчиком, а с запечатанной бутылкой армянского «ОС»[35], чтобы доказать.
– Смотрите, товарищ! Ничего лучшего не имеется. Напрасно обижаете, что даже и неприятно слышать. Но ведь и цена тоже…
– Про цену ты рабоче-крестьянской инспекции рассказывать будешь. А мы отдыхаем. Откупорь, налей, и свободен, пока не позову…
– Что же, Юра, так и поручено было сказать, что меня играют? Все остальное тоже? Зачем? Не знай я этого, меня играть еще проще было бы. В чем замысел на новой раздаче?
– Про замыслы ты не у меня спрашивай. Знаешь, у нас в «очко» играют с закрытыми картами, в Америке - с открытыми. И покер разный бывает.
– Ну да, слышал - «техасский». А все же? Тебя ко мне для чего подвели? Напарником, младшим партнером, чиновником для особых поручений или «смотрящим»? Излагай, пока бутылка не кончилась, потом я велю официантам такси вызвать и тебя на руках отнести. Сам еще задержусь. Для окончательной убедительности…
– Знал бы прикуп, жил бы в Сочи. Об истинной сущности происходящего знаю не больше тебя, а то и меньше. Велено предупредить, предостеречь, сориентировать, если угодно. И быть у тебя на связи, помогать в меру сил и возможностей. Улавливаешь, что получается?
– Чего же не уловить? Значит, в свою предыдущую бытность в роли аггрианского резидента ты точно так же бездумно выполнял инструкции, от кого бы они ни исходили? А ежели впадал в противоречие с основной задачей, как из положения выходил? Двойной агент, получается?
– Примитивно судишь. Я думал, ты глубже в теме находишься. Все мы одним делом занимаемся, что такие вот экземпляры, - он кивком указал на суетящегося в неприятной близости официанта, - что Сталин, что я и ты. Разница только в уровне информированности о своем подлинном положении на ступеньках лестницы. Рядовой соображает в масштабе отделения, капитан - роты, я, допустим, дивизии или корпуса, ты - фронта. Зато и «Тень войны» для нас с тобой куда шире. Доступно излагаю?
– Куда уж… Но давай наконец к конкретике перейдем.
Время шло к вечеру, в зале прибывало публики. Как заметил Шульгин, по преимуществу из числа редких тогда в Москве интуристов, сотрудников дипломатических и торговых представительств (для них наступало время обеда по западным нормам), нашей творческой интеллигенции. Посидеть, перекусить, выпить, перед тем как отправляться в театры, на концерты, иные мероприятия. Для них сейчас золотое время - их время, потому что советское чиновничество до часу, до двух будет приковано к своим кабинетам и телефонам. Сталинский график. Теперь Серафиму не до них, начинается серьезная работа.
– Не будет никакой конкретики. Ты со своими здешними друзьями и будущими помощниками встречался, много ты им по делу сказал? Вот и я. Будь в готовности, знай, что происходящее вокруг в большинстве случаев является совсем не тем, чем кажется. Поступай, как считаешь нужным, исходя из вышесказанного. Или никак не поступай, это равноценно. Я тебе смогу оказывать поддержку в рамках моих земных возможностей или - в тех, на какие расщедрится «Верховное командование».
Обилие военной терминологии в речи собеседника Шульгин соотнес с тем, что какое-то время Юрий служил в гвардии, имел капитанский чин, что весьма немало, и, как всякий отставник, любил своим прошлым щеголять к месту и не к месту.
– Ты на Валгаллу успешно сходил? - осведомился тот, словно бы между делом.
– Мне кажется - да. Тоже ты организовал?
– Способствовал, - не стал распространяться Юрий.
– Без СПВ, без прочей техники?
– Техника - не более чем декоративное оформление, призванное сохранить у аборигенов душевный комфорт. Раньше модно было оперировать магическими заклинаниями, теперь народ предпочитает, чтобы крутились шестеренки, светились лампы, остро и волнующе пахло озоном… Но мы ведь вышли из этого возраста?
– Резонно, - не мог не согласиться Сашка, хотя интонация собеседника слегка царапнула. Подумаешь, строит из себя высшее существо очередная шестерка.
– Ты теперь, если нужно, можешь ходить в свой Форт, как в соседнюю забегаловку…
– Вопреки воле тех, кто меня играет? Контроверза[36] твоих… руководителей или новое, с взаимного согласия, правило?
– Думаю, второе. Попытка подравнять шансы.
– Здорово, - восхитился Сашка. - Никак только не могу понять, какой во всем происходящем смысл. Сначала форзейлям потребовалось выбить из реальности аггров. Потом сами форзейли решили свернуть собственную программу, устами Антона сообщили нам, что мы можем жить и действовать по собственному усмотрению. Как мы догадались, Игроки решили вместо двух соперничающих группировок оставить одну - нашу. И, якобы не вмешиваясь, понаблюдать, куда кривая вывезет. Но, видимо, не утерпели, начали дергать за ниточки, заставляя то одного из нас, то другого совершать некие действия, ведущие уже совершенно непонятно к какой цели. Все смешалось в доме Облонских.
Антон, время от времени появляясь, как чертик из коробки, то пытается продолжать свою прежнюю линию, то подталкивает кого-то из нас, меня в данном случае, работать по аггрианской программе… Ведь расчет на то, что я тремя годами раньше сумею сделать именно то, что пытался совершить Андрей в личине Сталина? Держателям снова потребовался великий и могучий Советский Союз в качестве единственного гегемона земной истории? Так?
– Не так. Во-первых, ты сейчас оперировал фактами из очень далекого будущего, причем не безусловного, а лично твоего. Все, о чем ты только что сказал, для меня бессмысленно и бесполезно. Концепция Игры настолько сложна и непредставима для простого смертного, даже обладающего твоими способностями, что может сама менять свои правила, и тогда Игроки должны вовремя это заметить, догадаться, что и как изменилось… Кто успеет первым - получит преимущество.
– Хитро придумано. А главное - зачем?
– Наверное, затем же, зачем люди устраивают чемпионаты мира, хоть по шахматам, хоть по бриджу или го. Выявить сильнейшего, доставить удовольствие болельщикам, заработать деньги, а главное - постараться добыть новое знание. О себе, о законах той же игры. Или - создать его… Привнести в мир некие новые сущности.
– Ну да, ну да. Понимаю. И, значит, один из Игроков начал разыгрывать меня втемную, посредством Антона, Лихарева, одной из Сильвий или всех сразу, а второй, через тебя, решил меня предупредить, чтобы добавить здоровой увлекательности. Или же - усилить элемент непредсказуемости. Что-то подобное уже случалось, не так ли?
– Да это постоянно случается. Не думай, что сделал эпохальное открытие.
– А партнер знает, что я теперь знаю и так далее?
– Вот это неизвестно. Можно предположить, что нет. Иначе в чем смысл?
– Вот и я говорю. Для меня - никакого. А уйти я могу? Прямо сейчас. «Домой» или на Валгаллу. И с концами…
– Можешь. Твоя свобода воли абсолютна. Но при этом ты ведь все равно будешь думать: «А что, если это не более чем очередной ход?» И будешь прав, потому что из Игры выйти нельзя, даже через смерть. Ты попробовал таким способом сбежать из Ниневии, и что?
– Как же. Станислав Ежи Лец: «Допустим, пробьешь ты головой стенку - и что будешь делать в соседней камере?»
– Слава богу, понял. Потому прими наш взаимно-полезный разговор к сведению и поступай, как хочешь, я, как договорились, пойду. Отдыхать. Найти меня можно по телефону, да и так заходи, запросто…
Он назвал номер и адрес.
– Теперь в твоем распоряжении все ресурсы Валгаллы и вашего Форта. За одним исключением - канал перехода жестко фиксирован. Отсюда туда и обратно. Географически, в пределах Земли, - без ограничений, по времени - только на этой линии, возвращение не раньше момента отправления…
– Тюрьма, значит…
– Но довольно просторная и комфортабельная…
– А как же насчет «домой»? Ты же сказал…
– Не отказываюсь. Иди. Сольешься с оригиналом. Но без возврата. Шестаков останется «о натюрель». И реальность тоже.
– Сволочи вы все. Черт с вами, подзадержусь, при условии, что право бросить карты в любой момент остается за мной…
– Это мы уже оговорили. Как только захочешь. Но чтобы застраховать тебя от эмоционального срыва, формула сработает только со второго раза и с интервалом, достаточным для здравого размышления. Приемлемо?
– Пожалуй. Поиграем, пока ресурса хватит…
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Очередные перестановки на вершинах советской власти никого особенно не удивили. Ни в стране, ни за ее рубежами. Слишком долго продолжалась в государстве рабочих и крестьян кадровая чехарда на всех уровнях, чтобы всерьез задаваться вопросом о причинах того или иного взлета и падения.
«Так нужно», «Партии виднее», «Не оправдал доверия» - вот и весь сказ. Вчера читали восхваления в газетах в адрес одного «верного ленинца», завтра несли на демонстрациях портреты уже другого, не менее верного, но на повседневной жизни рядовых трудящихся эти перемены отражались в исчезающе малой степени.
Другое дело - «Ближний круг», члены Политбюро, секретари ЦК, наркомы и их заместители. Здесь византийские игрища составляли суть и смысл существования, часто - саму возможность выживания, в нынешнем номенклатурном качестве или физическую. Оттого зачастую работа сама по себе имела третьестепенное значение. Куда важнее было умение правильно просчитать нынешний расклад сил и авторитетов «в верхах», оценить прочность господствующей или вероятность только намечающейся «линии», сиюминутное настроение хозяина. Судьбы важнейших государственных проектов или внешнеполитических доктрин зависели всего лишь от того, кто из приближенных успел доложить свое предложение первым, да еще и попасть «в масть» идеям, смутно бродящим в загадочно устроенном мозгу Хозяина.
Со всеми этими обычаями кремлевского двора Шестаков был достаточно знаком и, будучи человеком здравомыслящим и осторожным, никогда по своей воле к карьерным рывкам не стремился. В прежнем качестве постарался бы отвертеться, пусть и пойдя поперек высочайшей воли. Иногда такие попытки проходили, бывало, что и с неожиданной пользой для кандидата в «выдвиженцы».
Впрочем, «прежний» не получил бы сам по себе такого предложения, без случая с чекистами, поддержки Лихарева, подготовленного Антоном меморандума и психологической атаки Шульгина. Сашке же, после событий последних дней, кроме всего прочего, хотелось помериться силами с достойным противником.
Умел он достойно себя проявить на уровне Врангеля, Колчака, Слащева, так что ему Молотов да Каганович с Микояном? Товарищи, бесспорно, поднаторевшие в кремлевских интригах, так ведь малообразованные, вдобавок ничего не знающие о реальных закономерностях своей собственной жизни и истории.
На экстренно собранный январский Пленум ЦК ВКП(б) большинство его членов съезжались и слетались с теми же точно чувствами, с какими всего две недели назад влачил свою участь сам Шестаков. Времена для всех прочих казались прежними, до ужаса непредсказуемыми. Уезжая из дома или служебного кабинета, никто, включая всесильных членов Политбюро, даже ближайших из ближних, вернейших из верных, не мог быть уверен, что вернется в том же качестве, вернется вообще. Если за четыре года расстреляно и посажено две трети делегатов последнего Съезда и половина членов Политбюро, о чем можно говорить?
Могло и обойтись, конечно. Повестка была объявлена расплывчатая, «О некоторых вопросах внутрипартийной работы и задачах текущего момента». Поговорят о хозяйственных и внешнеполитических итогах года, планах на будущее, получат подобающую «накачку», а кто и награды, проголосуют по проектам резолюций «в общем» и «в целом», да и разъедутся до следующего раза.
В конце концов, если по-прежнему набивается людей полный зал и в буфете не протолкнуться, значит - живем пока. Знакомых лиц с прошлого сборища почти не убавилось…
Первое заседание пошло вполне рутинно. Было в докладе генсека об итогах и задачах, о героической борьбе испанского народа, о дальнейшем росте авторитета Страны Советов на международной арене, о крепнущем день ото дня единстве нерушимого блока коммунистов и беспартийных…
К главному Сталин перешел неожиданно, как он любил и умел делать. Отпив глоток воды, ровным, почти скучающим голосом сообщил, что наряду с очевидными успехами имелись и серьезные недостатки. В том числе, в минувшем году далеко не на высоте своей задачи оказался НКВД. Чрезмерно увлекся поисками врагов народа и заговорщиков, причем совсем не там, где следовало. «Наметки заговора среди высших военных безусловно были, дело Тухачевского и его камарильи это неопровержимо подтвердило, но в дальнейшем наши славные органы пошли явно не туда. Нет ничего проще продолжать охоту на заговорщиков, не работая по-настоящему, а роясь в личных делах и выискивая, кто с кем когда вместе служил, на охоту ездил, на одних курсах учился или рекомендацию в партию давал и получал. Так всех здесь присутствующих можно посадить, и меня в том числе, потому что я тоже со всеми осужденными за ручку здоровался, а многих хвалил и на повышение выдвигал. За такие вот непартийные, неквалифицированные, глупые, объективно вредные методы работы мы сочли нужным отправить товарища Ежова в длительный отпуск. Пусть отдохнет, подлечится, а уже по итогам лечения рассмотрим, как его в дальнейшем использовать. Может быть, там, где ему не придется решать судьбы людей, а иметь дело с менее одушевленными предметами. На должность врио[37] есть мнение назначить товарища Заковского, ранее работавшего первым заместителем товарища Ежова, но по роду занятий к ошибкам последнего отношения не имеющего. Все знают товарища Заковского? Встаньте, пожалуйста…»
Заковский встал с кресла в средних рядах зала.
– Пройдите сюда, к трибуне. Скажите, как вы относитесь к нашему предложению, как думаете реорганизовать работу?
Заковский, звучным голосом, массивной фигурой и значительным лицом выгодно отличающийся от непристойно плюгавого Ежова, в четкой двухминутной речи доложил, что понимает всю тяжесть и сложность ложащихся на его плечи задач, но приложит все силы для укрепления безопасности рабоче-крестьянской державы, охраны порядка, а также прав и законных интересов граждан. В ближайшее время эти давно назревшие вопросы будут, безусловно, подняты на должную высоту.
– Хорошо, товарищ Заковский. Мы очень на вас надеемся. Только зря вы не сказали, что еще одна важнейшая задача - принять незамедлительные меры к устранению ранее совершенных ошибок и несправедливостей и недопущению их впредь…
– Так точно, товарищ Сталин! Это настолько очевидно, что я просто не стал отнимать время у товарищей…
– Хорошо, что вы это понимаете. Присаживайтесь, - указал ему на заведомо пустовавший стул в президиуме.
Все это время среди присутствующих происходило почти незаметное шевеление, перешептывание, шуршание страниц блокнотов, что в стенограммах обозначается пометкой «оживление в зале». По судьбоносности случившееся вполне можно сравнить с введением НЭПа или публикацией статьи Сталина «Головокружение от успехов».
Если все случившееся и сказанное - всерьез, то последствия, в том числе и для членов ЦК, нетрудно осознать. Каждый понял главное, то, что завтра же разнесется по стране, от Минска до Владивостока, минуя и опережая официальные каналы: «Сажать больше не будут, а кто сидит - выпустят!»
Как всегда неожиданный, но долгожданный ход вождя! Хотя, может быть, тут же начнут сажать других, как это было в тридцать шестом, после устранения Ягоды.
Переждав реакцию товарищей, Сталин столь же сдержанно объявил о «переходе на другую работу» наркома обороны Ворошилова, отчего «оживление» усилилось неимоверно. Вплоть до стихийных выкриков «Правильно», «Давно пора» или редких «За что?».
– «За что?» -неправильная постановка вопроса, - тут же отреагировал вождь. - Каждый человек рано или поздно достигает в должности своего потолка. И уже не может работать так же продуктивно, как прежде. Ему нужно дать возможность испытать себя на новой работе. В этом суть большевистской кадровой политики. Товарищ Ворошилов руководил Красной Армией тринадцать лет. При нем она стала одной из лучших армий мира. Вскоре мы предложим ему не менее важный пост, где он сможет раскрыть и другие свои способности.
Зал затих, а те, кто допустил несдержанность, начали смущенно, а чаще испуганно оглядываться.
И, наконец, в завершение своего доклада Сталин, как о совсем малозначительном деле, сообщил о назначении члена ЦК наркома Шестакова Григория Петровича первым заместителем председателя Совнаркома и предложил избрать его секретарем ЦК. Участники Пленума кандидата знали, личных врагов у него по роду деятельности не было, потому вопрос проскочил как дежурный, малозначительный на фоне предыдущих, сенсационных.
А все ведь было совсем наоборот, только мало кто успел это понять. В чем и заключалось аппаратное мастерство Сталина. В двадцать втором году даже такие волки, зубры и изощренные политики, как Троцкий, Зиновьев, Каменев, Бухарин, не сообразили, что при желании и умении можно совершить, заняв никому не интересный, чисто технический пост партийного генсека.
…Шестаков-Шульгин вышел на работу на следующее утро после завершения Пленума, удивительно короткого по тогдашним партийным меркам. Иные длились по неделе, по две. Со смешанным чувством удовлетворения и тоски осмотрелся в новом кабинете, расположенном на том же этаже, что и сталинский, только в другом его крыле.
Кабинет был неплох, вдвое просторнее предыдущего и обставлен как положено. Шестакову наверняка должен был понравиться, а вот Сашке - совсем нет. Прежде всего - территориально. Сердцевина «осиного гнезда». Масса рубежей охраны, сотни посторонних, наверняка враждебных глаз вокруг. Бесконтрольно не войдешь и не выйдешь.
Правда, по должности полагался и еще один, секретарский, в здании ЦК на Старой площади. Там можно будет чувствовать себя посвободнее, да и, курсируя между ними, получаешь дополнительные степени свободы. Но это видно будет, присмотримся. А вообще, с тактической точки зрения, расположение старого шестаковского наркомата в Кривоколенном и личных апартаментов в нем выглядело куда предпочтительнее. Как оттуда легко было по веревке уйти в проходные дворы! Отсюда не уйдешь. Впрочем, как посмотреть.
Тут и Лихарев объявился. Он здесь размещался совсем неподалеку, сразу между первой приемной Сталина, комнатами Особого сектора, где властвовал Поскребышев, и узлом связи.
Осмотрел все, пребывая в образе хозяйственника и канцеляриста сразу, проверил, работают ли телефоны, на месте ли положенные зампреду предметы номенклатурного ассортимента. И только после этого, уже на правах равного, присел на край стола для совещаний. Закурил, протянув коробку и Шульгину.
– Что ж, Григорий Петрович, пока вроде все получилось. Поздравляю. Только не смотрите на меня так вот. Не стоит. Я понимаю - кто теперь вы и кто я. Субординацию соблюдать будем, но только там, - показал рукой в сторону тамбура с двумя высокими дверями, снаружи обитыми кожей и толстым слоем звукоизолирующего войлока. - А здесь прослушки нет, это уж я отвечаю. Кроме как на меня, вам в этом здании полагаться не на кого. Позже я вам общий расклад обрисую. Штат тоже вместе подбирать будем, начиная с секретарши. Если в старом наркомате люди, которым вы доверяете, остались, забирайте сюда, Полностью ваша компетенция. Сегодня-завтра с помощью Заковского всю охрану сменим: ежовцы тут ни к чему. Вот этот телефончик и кнопка звонка в мой кабинет ведут, всегда к вашим услугам. С Поскребышевым, пока поближе не познакомитесь, откровенничать не советую. Да и потом тоже… А пока вот что еще скажу: в первое время вам очень трудно придется. Абсолютно все члены ПБ, кроме, может, Микояна и Андреева, вас сейчас своим врагом считают. Зампреды Совнаркома, само собой, тоже. В ЦК очень настороженно отнесутся.
Там ведь тоже аппарат наполовину ежовский[38], остальные запуганы до невозможности. Так что недели две по преимуществу молчите, слушайте, присматривайтесь. Иосиф Виссарионович вам все, что сочтет нужным, растолкует. С ним тоже больше кивайте и полное согласие изображайте. Не зря мы такую интригу провернули, чтобы с первых же шагов все испортить…
Шульгин прислушался к «внутреннему голосу». Как Шестаков на подобные речи отреагирует?
Да нет, вроде нормально. Все по правилам аппаратной игры. Пришел в новую команду - не высовывайся. Он сам мигом бы Валентина осадил, но его задача сейчас другая. А для бывшего наркома Лихарев пока что спаситель в определенном роде, пусть и с собственными целями, но помогший из безвыходного положения взлететь на такой верх, что и не снилось. Так же может и опустить, коли потребуется.
– Постараюсь, Валентин Валентинович, - ответил он нужным тоном, однако подпустил в него чуть-чуть жесткости. Опять же в стиле личности.
– А вас скоро позовут. Члены Политбюро уже собираются. Там сейчас очередной тайм начнется…
Действительно, не прошло и двух часов, как Сталин по прямой связи пригласил его к себе. Там в раз и навсегда заведенном порядке уже расселись за длинным столом люди, Сашке знакомые только по фильмам и книгам, Шестакову лично, но с другой совершенно позиции.
Шульгин прекрасно понимал, что выступление вождя на Пленуме (который формально являлся между съездами высшей партийной инстанцией) было чистейшей, хотя и тщательно спланированной импровизацией. Но так и делаются государственные перевороты, чтобы противник до последнего момента ничего не подозревал и не понимал, а когда поймет - уже поздно.
Соратники выглядели настороженно-сосредоточенными. Вопреки обычаю, Сталин не пригласил никого из них на ужин после завершения Пленума, что можно было расценить как выражение общего неудовольствия, хотя вроде бы все прошло нормально, согласно уставу и регламенту, без сбоев и неожиданностей. Сейчас каждый перебирал в уме возможные причины и собственные прегрешения. На самом деле, кроме Молотова с его неудачной интригой в отношении Шестакова - Ежова, никаких заслуживающих внимания недоработок, тем более - явных провалов, никто за собой не числил. Вот только если коснуться «Большой чистки»… Ни с кем не посоветовавшись, Хозяин затеял «Новый курс», беря пример с Рузвельта. И, если сочтет нужным, все случившееся в истекшем году, все жертвы и кадровые решения вполне способен перевалить на соратников. Все в той или иной мере причастны, все проявляли активность и энтузиазм в подготовке директив об усилении борьбы «с троцкистскими и иными двурушниками» и разнарядок на репрессии.
Ежов, как непосредственный исполнитель, уже поплатился, и совсем не факт, что его минует судьба предшественника.
Ворошилов тоже - слишком старательно «чистил» армию и флот. По должности ему бы отстаивать «до последнего патрона» каждого попавшего на крючок чекистов командира и комиссара, как это делали Орджоникидзе, а потом Каганович в отношении нужных им людей, а он бежал «впереди паровоза». И в Испании его люди показывают себя далеко не лучшим образом.
Кто следующий?
Соратники понимали, каждый со своей позиции, что время упущено безнадежно. Им бы, сообразив, 'К чему дело клонится, сплотиться, выступить «единой платформой», как выступали против Троцкого. Неважно даже, на базе какой идеи - просто единой, против всего ПБ Сталин бы не устоял. Не смог бы сделать ничего каждому из них. От НКВД в случае чего защитил бы Ворошилов и армия, а других способов воздействия на партийную верхушку Хозяин не имел. Могли бы и ему предложить «другую работу».
Так ведь нет, каждый думал только о себе и своих личных с ним отношениях. Совершенно как в двадцатые, когда Сталин передушил «левых», «правых», «центристов» и «уклонистов» поодиночке.
А теперь поздно, разумеется. Снова каждому нужно выживать поодиночке.
Можно было, конечно, попытаться дать бой, «последний и решительный». Только как? Заранее ведь сговориться не успели. Кто рискнет выступить первым, не зная позиции и степени решительности остальных?
Каждый лихорадочно перебирал в голове расклады, бросая осторожные взгляды на соседей по столу.
В том, что новый зампред и секретарь приглашен на Политбюро, ничего необычного не было. Любой назначенец, входящий в номенклатуру, оказывался здесь, чтобы в неформальной обстановке ответить на вопросы и выслушать наставления, Шестаков полтора сода назад уже проходил церемониал утверждения наркомом, вышел в тот раз из кабинета в мокрой от пота рубашке под гимнастеркой. Но сейчас ритуал словно бы развернулся на сто восемьдесят градусов, наставления пришлось выслушивать отнюдь не ему.
Шестаков сидел чуть поодаль, через два стула от последнего в ряду члена ПБ, вид имел подобающий обстановке, но не нервничал, как большинство сюда попадающих. Скорее выглядел человеком, вынужденным отбывать некий ритуальный номер, вроде как атеист, оказавшийся на церковной службе. Крутил в пальцах «Делегатский» красный карандаш над раскрытым блокнотом, посматривал по сторонам, разве что не считал летающих над кремлевским двором ворон.
Ритуально представив вождям нового соратника, Сталин сразу взял быка за рога:
– События последнего времени показали, что нашей системе не хватает некоторой гибкости управления. Многим товарищам приходится совмещать плохо сочетающиеся функции. Некоторые слишком увлекаются политикой в ущерб своим прямым обязанностям. Я понимаю, что политика гораздо интереснее, чем добыча угля, повышение урожайности или повседневная боевая подготовка войск. Однако там и следует проводить политику - политику партии. Все остальное, я так думаю, это политиканство. В Испанию, к примеру, мы посылаем людей, чтобы они помогли народу и правительству разгромить контрреволюцию, а они воображают себя этакими «теневыми послами» и начинают вмешиваться в дела, которые их совершенно не касаются, затевают интриги, уже нанесшие огромный ущерб нашему делу…
Он сделал паузу, чтобы слушатели задумались, примерили эти слова к себе.
– Вот мы решили посмотреть, не удастся ли нам кое-что в этом направлении поправить. Поэтому мне кажется, что каждому из товарищей следует сосредоточиться на тех направлениях, которые он курирует в настоящее время. Заниматься же всем сразу - неплодотворно. А товарищ Шестаков, у которого есть некоторый опыт и нужные способности, за что мы и сочли возможным его выдвинуть, попробует у нас изобразить из себя этакого диспетчера. Не отвечая ни за какую отрасль, он, будем надеяться, сможет беспристрастно изучать реальное положение дел, сводить воедино противоречивые данные и мнения и свои беспристрастные доклады и предложения выносить на заседания ПБ. Где мы, тоже беспристрастно, будем принимать обоснованные решения.
Есть вопросы?
Без вопросов не обошлось. Товарищи, разумеется, сразу усмотрели в такой реорганизации опаснейшую угрозу. Ведь любому очевидно, что, если система заработает так, как заявлено, рушится вся налаженная схема межотраслевых и межличностных связей, устоявшийся механизм согласований, сговоров, сдержек и противовесов. Одновременно опыт подсказывал, что идеальных конструкций власти все равно не бывает и налицо всего лишь хитрый ход, призванный замаскировать окончательное установление полностью самодержавной власти. Фильтр, которым становится ведомство Шестакова, будет пропускать сквозь себя только ту информацию, которая угодна Сталину (а то и самому «диспетчеру»), и якобы коллективные решения ПБ станут окончательно единоличными. Никто не сможет (по идее) знать, что именно и как будет сформулировано в «проекте решения», а что-то изменить и переиграть в ходе обсуждения, на глазах у Сталина, имеющего в руках должным образом составленную бумагу, физически невозможно.
Но вслух ничего такого, конечно, произнесено не было. Вопросы касались частностей, организационных тонкостей, сомнений в том, что товарищ Шестаков, оборонщик по преимуществу, сможет достаточно квалифицированно разбираться в десятках других вопросов и проблем. Ну и так далее, опытные бюрократы умеют выискивать в любом деле массу крючков и зацепок, особенно если хотят «замотать» его.
Микоян, к которому последнее время не имелось претензий, один из старейших по стажу членов ПБ, да еще и имеющий опыт руководства тайными операциями на вражеской территории, позволил себе достаточно прямой вопрос:
– Следует ли понимать, что и контроль за нашими контактами с республиканским правительством Испании также будет возложен на товарища Шестакова? Не на НКИД и наркомат обороны?
– Над этим мы еще подумаем. Но мы имеем в виду, что как раз в этом направлении работа товарища Шестакова оказалась наиболее успешной. В сравнении с другими ведомствами. В вооружении (в пределах наших возможностей, конечно) республиканская армия недостатка не испытывает, а вот правильно его использовать до сих пор не научилась. Что из этого следует?
Вопрос повис в воздухе, да и не требовал ответа.
– Таким образом, будем считать, что принципиальных возражений против такой вот реорганизации нашей внутренней работы нет? Законодательно мы пока ничего оформлять не будем? Товарищ Шестаков побудет у нас «зампредом без портфеля» какое-то время, покажет, правильным ли было наше решение или нет. Секретарем ЦК он тоже будет «без портфеля». Как это называлось раньше - генерал-адъютант для особых поручений. Так и запишите в протокол заседания, товарищ Лихарев.
Валентин, сидевший за отдельным столиком слева и сзади от Сталина, молча кивнул, стремительно покрывая закорючками страницы стенографического блокнота.
– Спасибо, товарищ Шестаков, вы свободны. Будьте на месте, готовьте предложения по штатному расписанию своего аппарата. Не стесняйтесь, пишите все, что считаете нужным, а мы потом посмотрим и скорректируем. Переходим к следующему вопросу…
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
На основании подготовленного Антоном меморандума о состоянии дел в Испанской республике Шульгин с помощью нескольких серьезных, чудом уцелевших аналитиков ГУГБ, ГРУ РККА и НКИД, а главное - материалов, извлеченных из компьютера Валгаллы, написал основательный, максимально объективный доклад.
От дипломатов он затребовал направить в свое распоряжение Овчарова. Виктор уже имел отношение к испанским делам, да вдобавок обладал хорошим, в духе здешних требований, слогом. При этом Сашка мог ему полностью доверять - не станет болтать на стороне о некоторых моментах, с точки зрения обычного сотрудника достаточно странных.
К работе ведь был привлечен и Лихарев. Его Шар (о котором Шестаков, разумеется, понятия не имел} открывал доступ к совершенно секретным франкистским, немецким, итальянским, а также и англо-франко-американским документам. В том числе уничтоженным в разное время по разным причинам, почему и не вошедшим в научный оборот.
К примеру - личным дневникам графа Чиано, министра иностранных дел Италии и зятя Муссолини, стоившим ему головы. То ли похищенным, то ли уничтоженным в сорок пятом, до сих пор неизвестно, кем именно, СД или службой Даллеса.
Сталин и приглашенные им товарищи, нарком иностранных дел, и.о. наркомов обороны и ВМФ, главком ВВС, начальники АБТ и ГАУ, два секретаря ЦК, еще несколько начальников помельче, выслушали доклад не то чтобы внимательно. Они были поражены. Это может показаться диким, но практически никто из присутствующих не представлял себе реальной картины в целом, только фрагментарно, в пределах сферы непосредственных обязанностей, а оттого, что многие занимали свои посты всего по несколько месяцев, то и там достаточно туманно.
Можно сказать, большую часть информации черпали из газетных сводок и репортажей Кольцова и Эренбурга. Те, естественным образом фильтруясь на нескольких уровнях и по разным критериям, в итоге напоминали скорее грамотную дезинформацию, чем материал для принятия судьбоносных решений.
Кроме всего прочего, товарищи попросту давным-давно отвыкли воспринимать факты и окружающий мир как объективную реальность, данную нам в ощущениях. Может, в первые годы советской власти о просчетах, ошибках, подлинных опасностях и их причинах еще принято было говорить помимо идеологических шор и штампов, а примерно со времени смерти Фрунзе и Дзержинского, низвержения Троцкого правда стала опасным продуктом. Даже на самом верху. И вот сейчас Шестаков с шокирующей прямотой вдребезги крушил очередной миф. Мало того что оценка обстановки кардинально расходилась с «общепринятой», утверждавшей, что, несмотря на отдельные трудности, испанский народ под руководством коммунистической партии уверенно движется к окончательной победе, каковая непременно наступит именно в этом, тридцать восьмом году, так слушатели еще и подводились к мысли, что в собственной стране дела обстоят похожим образом.
При этом докладчик, полностью игнорируя ритуальные словесные обороты и конструкции, сосредоточился не на «объективных причинах», «происках империализма» и «предательстве деятелей Социнтерна», а открытым текстом рубил о порочности текущей советской политики, вопиющей некомпетентности ответственных товарищей из числа военных и политических советников, зловещей роли агентов НКВД и Коминтерна, которые наносили общему делу вред куда больший, чем десяток франкистских и итальянских дивизий.
– Не нужно ссылаться на особенности испанской демократии, на противоречия между коммунистами, социалистами, анархистами, ПОУМ, старыми генералами. Это - данность. Другой страны и других республиканцев у нас нет. Я ставлю вопрос прямо - нужна нам победа республиканцев над франкистами, фашистами и прочей мировой олигархией или нет? В течение прошлого года мы поставили на Пиренеи 496 самолетов, «СБ», «И-15», «И-153» и «И-16», 322 танка «Т-26», «БТ-5» и «БТ-7», 60 бронеавтомобилей «БА-6» и «БА-10», 714 артсистем, 13 тысяч пулеметов и 337 тысяч винтовок, несколько миллионов патронов и снарядов, направили туда около двух тысяч военных советников. С такими силами войну можно было выиграть вообще без участия испанцев. Представьте, товарищ Сталин, если бы вы на царицынском фронте получили триста танков и семьсот пушек…
Сказано было вовремя и с тонким расчетом. Сталин улыбнулся и разгладил мундштуком трубки усы. Конечно, тогда у него было четыре бронепоезда и около сотни трехдюймовок. А ведь погнали белых…
Сам же Шульгин вспомнил другое. Под Каховкой обошлись вообще десятком самоходок и ударно-штурмовым батальоном рейнджеров, не считая корниловской дивизии. Красные бежали, как в июне сорок первого на Западном фронте.
– В Испании результат хуже нулевого. При трехкратном перевесе в живой силе, двукратном в современной технике потерян Север с последним опорным пунктом и портом Хихон, через который мы могли почти беспрепятственно завозить вооружение и переправлять добровольцев. Брунетская, Сарагосская, Теруэльская операции завершились совершенно неожиданным, даже теоретически малопредставимым крахом. Республиканцы просто бросили с таким трудом захваченные позиции. Сейчас в армии и правительстве царит паника и раздоры. Товарищ Андре Марти, которому Коминтерном даны неограниченные полномочия, вместо того чтобы сплотить все здоровые силы на борьбу, вообразил себя реинкарнацией Николая Ивановича Ежова. В тылу расстреливают и арестовывают больше людей, чем их гибнет на фронте. Каждый арест и бессудный расстрел ухудшают положение на передовой. Анархисты и поумовцы боятся и ненавидят коммунистов, отказываются идти в бой, потому что обоснованно опасаются удара в спину. Как это было у нас в двадцатом…
Сашка замолчал, о расстреле ударных сотен Махно сейчас распространяться не стоило.
Он и так сказал слишком много, а перед ним еще лежало больше двадцати страниц доклада и свернутые в рулон карты с нанесенной обстановкой, фактической и прогнозируемой. Сегодня он собрался, поставив последний рубль- ребром, сорвать банк. Уходить под сень прибрежных пальм, нащупывая в кармане дамский «браунинг», как принято в Монте-Карло у проигравшихся в прах, в его планы не входило.
Вернувшись к военным и политическим аспектам «национально-революционной войны», как она называлась в советской прессе, Шестаков очень резко высказался в адрес наших «военных советников».
– Те, кто действительно советует, советует очень плохо, что следует из имеющихся результатов. А те, кто воюет непосредственно, например, летчики Копец, Проскуров, Рычагов, Серов и многие другие, танкисты Арман, Кривошеий, Павлов, не буду называть всех, так эти ребята,, простите меня, товарищ Сталин, ордена зарабатывают, накручивают личный счет. Геройствуют, воюют, сбивают, воодушевляют личным примером испанских товарищей, а толку? Мы ведь, товарищ Сталин, награждаем их без всякой меры, чуть ли не за каждый сбитый самолет, уничтоженный танк, да еще и испанцы хорошие деньги платят. А франкисты, немцы, итальянцы просто организованно и грамотно воюют. У нас Серов, к примеру, лично сбил пятнадцать самолетов, Честь ему и хвала. А летчики легиона «Кондор» сбили в это время сто, не слишком геройствуя…
Он еще долго растолковывал эти простейшие, с точки зрения человека, знающего дальнейшее, истины. Обрисовал, в виде возможного развития событий, реальный ход и исход войны: нарастание трений между участниками коалиционного правительства, вплоть до вооруженных столкновений. Дальнейшая потеря управления войсками, поддержки населения и неизбежная капитуляция еще до того, как будут исчерпаны возможности сопротивления.
Все это выглядело вполне убедительно, и армейские командиры сникли, прикидывая, какие выводы могут в ближайшее время, да и прямо сейчас, последовать для каждого из них. Террор ведь, фактически, отнюдь не закончился, каждый перебирал в уме имена сослуживцев, пошедших к стенке по гораздо менее весомым обвинениям.
Однако Сталин, не только слушая, но и подвергаясь целенаправленному воздействию Шульгина и Лихарева, постепенно склонялся к другим выводам и мыслям.
– Так что вы, в конце концов, хотите сказать, товарищ Шестаков? О наших ошибках я уже все понял. Сумели объяснить. Заканчивать нужно, так? Вот вы сказали, что с декабря прошлого года ни один наш транспорт не смог прорваться из Черного моря в Барселону и Аликанте. А мы держим при республиканском флоте Кузнецова, Бурмистрова, Головко, Дрозда, Алафузова. Зачем держим? Они что - враги? Или совсем некомпетентные люди? Не могут организовать сопровождение пароходов. Отозвать? Вообще всех отозвать? Пусть фашисты торжествуют, а мы сосредоточимся на внутренних делах?
– Не так, товарищ Сталин!
Шестаков перешел в наступление. Единственно возможный способ навязать противнику, а он сейчас рассматривал вождя как противника, не вообще, а словно за карточным или бильярдным столом, свою волю.
– Надо забыть обо всех якобы политических ограничениях, о Лиге Наций, о «невмешательстве». Воевать, так по-военному, как не раз повторял Владимир Ильич. Гитлер, Муссолини ни о каких «демократических процедурах» не задумываются, делают, что считают нужным.
– Вы нас что, со всем миром поссорить хотите? - прищурился Сталин.
– А наплевать нам на весь мир, товарищ Сталин, -
дерзко бросил Шульгин. - Помнится, император Николай Первый, когда в Париже поставили пьеску, которую он счел оскорбительной, пообещал послать туда миллион зрителей в серых шинелях, которые ее освищут. И ничего, немедленно сняли с постановки, при всей ихней демократии. Короче - пусть ненавидят, лишь бы боялись. Потому нам испанскую войну никак нельзя проиграть!
Очень долго молчал Сталин, попыхивая трубкой, переводя взгляд с наркома иностранных дел Литвинова на Шестакова, скользил глазами по комдивам и комкорам. Маршалов здесь не было. Егоров в предвидении ареста сослан в ЗАКВО (Сталин долго готовился рассчитаться с ним за Польскую кампанию), Блюхер пока на Дальнем Востоке (но тоже кандидат на «вышку», неправильно себя ведет), Тухачевский уже расстрелян. Ворошилов отставлен, Буденного не позвали, кавалерия в Испании не задействована, да и вообще неизвестно, чего от него ждать, история с четырьмя пулеметами всем памятна. А больше и нет в армии маршалов.
– Слова в принципе правильные, товарищ Шестаков. Смелые слова, особенно если за ними стоит что-то еще, кроме ваших амбиций. Я привык к чему: критикуешь - предлагай. Вы что практически предлагаете?
Очередной психологический посыл бросил Сашка, изо всех сил сосредоточившись. Сейчас решается его личная судьба, да и новый виток истории начнется. Или нет. Тогда - на Валгаллу. Катер «Ермак» завести, отправиться посмотреть, что там за Черным озером. Или - к квангам, у них наверняка жизнь изменилась после исчезновения внешних агрессоров.
– Я бы попросил, товарищ Сталин, поручить мне руководство испанской кампанией. В полном объеме, как Ермолову или князю Барятинскому на Кавказе. Военные, политические, экономические вопросы должны быть сосредоточены в одних руках. Лично вам, при огромной занятости прочими вопросами, технически невозможно руководить каждым шагом исполнителей. Ведомства между собой договариваться так и не научились. Да и задача так не ставилась. А вот если создать единый штаб, с диктаторскими полномочиями и правом доклада лично вам в случае необходимости… Или я за полгода решу эту проблему, или вы спросите с меня по полной программе. Хуже не будет, товарищ Сталин, это я вам обещаю. Хуже быть просто не может. Испанские товарищи свою войну уже проиграли. Если бы вы с Владимиром Ильичем в девятнадцатом испугались так, как Кабальеро, Прието, прочие тамошние вожди, страшно представить, что бы случилось…
Опять Сталину маслом по сердцу.
Был такой кинофильм, «Боевой девятнадцатый», всеми давно забытый, в котором Сталин руководил подавлением мятежа фортов «Красная Горка» и «Серая лошадь». Лично и с крайней решительностью, а Ленин там по преимуществу цитировал собственные труды и постоянно обращался к нему за очередным умным советом. Правда, нынешний Сталин фильм этот еще не видел, он выйдет незадолго до его смерти, но и без того за минувшие восемнадцать лет успел убедить себя и окружающих, что именно он выиграл Гражданскую. А кто обладал слишком хорошей памятью и длинным языком, лишился того и другого. Не может быть в одной стране нескольких правд, правда всегда одна. Что же до истины, это отдельный вопрос.
– Чувствуете в себе проснувшийся талант полководца? - с легкой иронией, доброй при этом, спросил Сталин.
– Дело не в таланте, хотя из истории известно, что он нередко проявлялся у людей, прежде весьма далеких от военного дела. Маршалы Наполеона, например, или, что ближе - славная плеяда героев Гражданской… - Опять легкий, почти неуловимый наклон головы в сторону вождя, чтобы не вообразил, упаси бог, что намек касается какого-нибудь Троцкого или иных «не оправдавших». - В данном случае достаточно чисто организационных мер, характер войны не требует гениальных стратегических прозрений. У республиканцев достаточное численное превосходство и полная свобода действий по внутренним операционным линиям.
– Хорошо, товарищ Шестаков, давайте попробуем, тем более, как вы правильно выразились, терять нам нечего, приобрести же можно многое. Кстати, вы могли бы без ложной скромности отметить, что имеете командный опыт. У вас сколько нашивок было по последней флотской должности?
– Три, товарищ Сталин. По-нынешнему - примерно флагман первого ранга.
– Или, по-старому, вице-адмирал?
– Приблизительно…
Шульгин отметил, что вождь последнее время все чаще вспоминает царские времена. Ну да, время разбрасывать камни и время собирать их. Скоро вернет генеральские и адмиральские звания, а там и погоны.
– Тем более вам карты в руки. Товарищ Лихарев, подготовьте решение. Совершенно секретное, под роспись членам ПБ и тем, кого это касается непосредственно. А вы, товарищ Шестаков, - четкий и конкретный план первоочередных мероприятий.
– Вы держались просто великолепно, Григорий Петрович, - похвалил Шестакова Валентин, когда они уединились в кабинете, чтобы подработать пункты документа. - Но так, положа руку на сердце, уверены, что справитесь? Мешать вам будут сильно, и здесь, у нас, и в Испании. Понимаете ведь, что случится, если вы выиграете.
– Чего ж не понимать? Я весь в белом, а остальные в дерьме…
Этого анекдота Лихарев не слышал, он из другого времени. Смеялся долго и искренне. Он вообще был очень смешливым парнем, как заметил Шульгин. В принципе хорошая черта.
– Потому, Валентин, нам и нужно опереться на тех, кто к прошлым провалам отношения не имеет. Которые от нашей победы выиграют. А уж нейтрализовать противника - это, будем считать, ваша задача. Вы здесь все концы, связи, ходы и выходы знаете.
Сашку страшно сковывало то, что он вынужден изображать Шестакова «в чистом виде». Если бы раскрыться, сообщить, что он знает все об истинной роли и функции Лихарева, и задействовать его именно в качестве резидента! Заставить его привлечь к операции «Нострадамус» здешнюю Сильвию и весь ее штат, должным образом повлиять на Чемберлена, Даладье и прочих. Хорошо бы с Антоном посоветоваться, да как его найдешь, если сам не возникнет?
Похоже, он сам себя в тупик загнал. Извиняет лишь то, что именно такого развития событий он предвидеть не мог. Игра, как и сказано было, начала стремительно раскручиваться по собственным правилам.
Впрочем, кажется, наклевывается вариант. Спасибо Сильвии за подсказку. Сегодня же вечером и провернем…
– Я, Валентин, решил просить у Хозяина разрешения смотаться на недельку-другую за Пиренеи. На месте разобраться.
– Да вы что, Григорий Петрович?! Ни за что не отпустит.
– Надо сделать, чтобы отпустил. Постараюсь его убедить, что такая командировка совершенно необходима.
– Ну-ка, растолкуйте поподробнее, что именно вы задумали. На мне потренируйтесь. Я себя поставлю на место Сталина в его нынешнем настроении и состоянии. Меня убедите, может, и с ним получится.
– Согласен. Сейчас вот начнем план мероприятий писать, так я по ходу. Да вот, попутно, не знаете, когда вождь намеревается нового наркома обороны утвердить? Нам бы сейчас Иосиф Родионович весьма пригодился.
– Надеюсь, что уже завтра. Только ему в ближайшее время не до вас будет, пока у Ворошилова дела примет, пока в курс войдет… В армии сейчас такой бардак творится.
– Ничего, я у него много времени не отниму. Заодно интересно, в какой такой форме можно от личной встречи с первым зампредом Совнаркома уклониться? Он, конечно, человек резкий, но не до такой же степени.
Шульгину пришлось потратить целую ночь на воплощение своего замысла. Сначала он проверил, не обманул ли его «писатель». Не обманул. Из квартиры Шестакова, которую он начал заново обживать, переход на Валгаллу удался почти так же легко, как в свое время из Замка Антона получалось проникать в избранную точку Земли или с Земли - в Замок и даже Гиперсеть. Заодно всплыла в памяти методика, с помощью которой он разыскал Новикова и девушек в Австралии совсем другой реальности. Действительно, без всякой аппаратуры, исключительно усилием сосредоточенной воли Сашка шагнул прямо на веранду терема. Словно из комнаты в комнату перешел.
Это его обрадовало, еще точнее - наполнило чувством если не всемогущества, то прочности своего положения. А что тело чужое - невелика беда. Сколько уже раз он менял собственную внешность с помощью грима и иных приемов, ему всегда это нравилось. Совершенно особенное чувство испытываешь, когда не на сцене перевоплощаешься, а ходишь по улицам города в чужом облике. Казалось бы, все равно тебя никто не знает, и нет прохожим до твоего вида никакого дела, но… Тем более приятно было, когда не узнавали и хорошо знакомые люди, друзья, а в особенности - враги.
Покормив собак (только ради этого стоило вернуться), растопив камин, он подумал, что надо бы устроить нечто вроде шахматных часов, здесь и «дома», чтобы точно фиксировать свое локальное время в каждой точке. Если удастся добиться четкой координации, тогда можно будет, как и Лихареву, уходить из служебного кабинета на любой срок на Валгаллу, с нее в желаемое место Земли и тем же путем обратно. Плюс-минус десять минут. Тогда он станет на самом деле почти всемогущим. Если при этом Лихарева получится «в строй поставить», за ним и Сильвию, тогда мы от души повеселимся, ребята и девчата!
Для чего он и явился сюда поздним вечером, чтобы на всякий случай располагать резервом времени. Если даже оно вдруг пойдет «час в час» - к утру успеет.
…В Москве заканчивался январь, морозный и метельный, Россия пребывала в очередной фазе «малого ледникового периода», который продлится до конца пятидесятых годов, а на Валгалле не поймешь, какой сезон. Вроде как ранняя весна. То пронзительная ясность дня с бледно-голубым небом и порывами ледяного ветра с севера, то накатывают с юга многослойные, невиданной на Земле конфигурации тучи, проливающиеся летними по интенсивности, но холодными ливнями, переходящими в обложной моросящий дождь. А что еще нужно, чтобы испытывать ощущение настоящего уюта?
Сашка притащил со двора несколько охапок должного размера поленьев, не буковых, к сожалению, но из местного аналога кедра, вполне подходящих для долгого, неторопливого горения в камине и с приличной теплотворностью.
Переоделся в «олимпийский» шерстяной тренировочный костюм, разложил на столе курительные принадлежности и включил компьютер. Тщательно подбирая слова, дабы не допустить «прокола», смыслового и психологического, начал составлять письмо от самого себя Шестакову. Как если бы вздумал, уходя, снабдить своего «реципиента» подлинным знанием обо всем, с ними случившимся, дать советы и рекомендации на предстоящую жизнь и одновременно гарантировать безопасность, если Лихарев или кто-нибудь еще вздумает избавиться от нежелательного свидетеля.
Писать собственным, восьмидесятых годов, стилем было нетрудно, только все время нужно соображать, какие фразы и факты подходят к теме, а какие могут оказаться и лишними. Для общего замысла.
Зачин, конечно, сделаем стандартный.
«Григорий Петрович, я должен перед тобой извиниться за то, что по не зависящим от меня обстоятельствам так грубо вмешался в твою жизнь. Однако в свое оправдание скажу - вряд ли, сидя в тюрьме, ты чувствовал бы себя лучше, чем сейчас. Я всего неделю немного поруководил тобой, при этом пробудив твои лучшие качества. Ну, ты помнишь. И сейчас, надеюсь, твое положение укрепилось. У тебя появились новые Друзья: Лихарев, Буданцев, может быть, Иосиф Виссарионович. Но это, как говорится, преамбула. Суть в следующем. Считая себя ответственным за нашу, хочешь не хочешь, общую судьбу, как я это понимаю, должен сообщить тебе…
И дальше на четырех страницах изложил, применительно к образу мыслей Шестакова, кем на самом деле является Валентин, какова его роль на Земле вообще и в окружении Сталина в частности, что такое квартира на Столешниковом, какими техническими возможностями обладает и как Григорий может ими воспользоваться даже помимо Лихарева. Что именно случилось в ту ночь, когда нарком разоружил и взял в плен резидента, о чем они говорили на самом деле, и как потом Шульгин «ушел», прихватив с собой большую часть их общей памяти, и чем она была заменена. В завершение добавил несколько практических советов, в том числе подсказал, где взять необходимые денежные средства, не прибегая больше к столь сомнительным акциям, как хищение казенных, а также формулу (или заклинание), якобы способную активизировать собственное подсознание.
Писал не как литератор, а как бывший начальник врангелевской службы безопасности, не оставляя подследственному (каковым в данном контексте выступал именно Лихарев) ни малейших шансов вывернуться, то есть каким-то образом дезавуировать в глазах Шестакова этот текст.
Отпечатал он его не на пишущей машинке, а на лазерном принтере, что с несомненностью подчеркивало подлинность документа, поскольку ни такой бумаги, ни таких множительных устройств в СССР и вообще в мире пока не существовало.
«Хорошо получилось», - похвалил он сам себя, еще раз пробежав глазами страницы. Теперь можно и возвращаться. Чтобы немного отвлечься от напряженного умственного труда, Шульгин обошел терем снизу доверху. Провел инвентаризацию запасов. Теперь, после того как убедился, что доступ сюда открыт, это имело значение. Пусть идея постройки Форта принадлежала Новикову, а проектировал его Берестин, укомплектованием и снабжением занимался по преимуществу он, исходя из того, что и на всю жизнь здесь, возможно, придется остаться. Помнил, где, что и в каких количествах у них хранилось. Большинство припасов уцелело, в течение первой зимовки они регулярно пополняли их расходную часть, по той же самой причине.
Ремонт бы настоящий сделать, думал Сашка, опять бригаду дяди Коли пригласить, так разве до тех мужиков теперь доберешься? Они в большинстве и в школу еще не пошли, куда им топорами махать? Роботов бы воронцовских позвать, те разом все исполнят, но и они сейчас недоступны. Самому придется. А почему бы и нет? Вместо физзарядки по утрам, если удастся время сбалансировать, так чего же не потрудиться? Дубликатор Левашова запустить, тогда любые стройматериалы прямо на площадке можно будет создавать, а уж по месту приладить - не проблема.
Попутно еще одна творческая идея его озарила, как почти всегда - из-за угла. В спальне, в полуоткрытом шкафу Ларисы ему попался на глаза, между книгами и иностранными глянцевыми каталогами торговых фирм (большой дефицит в те времена), корешок обычного фотоальбома. Из чистого любопытства он его достал, листнул. Недурно, совсем недурно. Только зачем она здесь хранила? Впрочем, где же еще? Неприкосновенность жилища у них соблюдалась свято, девушка могла быть уверена, что никто не полюбопытствует.
Кто уж и зачем ее снимал, сейчас не узнаешь, но пара десятков очень приличного качества фотографий 13x18, черно-белых, на бромпортрете[39], изображали ее, совсем молодую, в разных изысканных позах, совершенно обнаженную. Ничего неприличного, просто повторение таких же снимков из «Плейбоя» или «Хаст-лера», но в московских интерьерах.
Память о бурно проведенной юности. Девчонка и вправду была хороша. Сейчас не хуже, конечно, просто двадцать и тридцать - есть некоторая разница, когда тебе самому уже тридцать пять, а то и сорок два, если считать по шестаковским годам.
Ему остро захотелось, чтобы здесь и сейчас рядом оказалась она или… Да кто угодно, Сильвия, Зоя… Вот!
Он же как раз о Зое вспоминал то и дело. Иногда как муж, беспокоящийся о жене и детях, а иногда собственной памятью. Как хороша она оказалась той случайной селигерской ночью в постели, когда думала, что пришла к Григорию, а он вообще не понимал, что за роскошная женщина самозабвенно и разнузданно отдается ему на набитом одуряюще пахнущими травами деревенском тюфяке. И терзался мыслью: что же с ней теперь делать? Какой, к черту, из него семьянин, отец двоих подрастающих сыновей и муж красавицы актрисы? Ему войны выигрывать, судьбы мира решать, а не…
А что, если… Переправить ее сюда. И Власьева тоже. Все объяснить, замотивировать в меру их понимания. Перспективы обрисовать. Мол, ненадолго все, на несколько месяцев, на полгодика, а потом - хоть на Дальний Запад, хоть прямо в белую Россию.
Это действительно идея. Выход почти из всех тупиков. Власьеву непременно понравится. Целая неосвоенная планета, собственный Форт, роскошная библиотека, богатейший арсенал, БТРы и вездеходы, которые он легко освоит.
Зоя… Для нее то же самое, плюс абсолютная безопасность, которой в Москве он ей на самом деле гарантировать не может. Вдруг да решит Иосиф Виссарионович подстраховаться, взять ее в заложницы? Конечно, о светском обществе пока придется подзабыть, так не надолго же. Поживет на природе, словно миллионерша на собственном ранчо, книжки толковые почитает, фильмов хороших насмотрится, настоящих, цветных, не «Волгу-Волгу» какую-то, не «Ленин в Октябре».
Пацанам тоже будет нормально. Настоящие «Приключения бура в Южной Африке». Не наркомовскими детишками в спецшколе № 19 станут расти, парнями фронтира. Винтовки свои, собаки, катер, дядька-воспитатель, какого поискать. Тем более он сюда будет частенько наведываться. Может, и вправду в гости к друзьям-квангам сгоняют. Восстановят братство цивилизаций.
Перспективы обрисовались замечательные. Только что пусто было в голове и в душе, а тут вдруг сразу!
О том, легко или сложно будет убедить Зою и Власьева принять его предложение, он предпочитал не задумываться. Найдутся, по обстановке, нужные слова. Сейчас ему с Лихаревым нужно разобраться, но в теперешнем эмоциональном настрое это тоже казалось пустяком.
Альбом Ларисы он с некоторым сожалением поставил на место. Что было, то было, а теперь следует забыть, как и многое другое-прочее.
Наверное, стены Форта, которые они выложили своими руками, терем, любовно отделанный и оформленный в соответствии со вкусами каждого и всех вместе, пропитанные теми словами, чувствами и мыслями, которые источали члены «Братства», настолько повлияли на Шульгина, что он ощутил себя совершенно другим человеком. Не тем, что в облике Шестакова появился здесь сегодня, а скорее тем, каким он был в самом начале эпопеи. Молодым, энергичным, романтически настроенным и свободным от груза будущих событий, трудных решений, разочарований и несостоявшихся надежд.
Может быть, на самом деле все еще впереди, и где-то его ждет рассветный Петровский бульвар, свободный от людей и машин, по которому он шел, насвистывая, возвращаясь от очередной подруги, никоим образом не представляя, какие потрясения начнутся уже сегодня вечером, за преферансом.
Если так, то хорошо, а то ведь он уже начал уставать от жизненного опыта, больше подходящего семидесятилетнему человеку, замученному потерями, войнами и революциями.
Заодно и память наконец пришла в полное соответствие, никаких сбоев, события четырех реальностей уложились в нужном порядке, никак не мешая друг другу. И та мысленная сила, которую он впервые ощутил в Нерубаевских катакомбах, стала еще более отчетливой и управляемой.
С таким настроением он и явился без приглашения на Столешников в семь часов утра. Открыл не доступную никому из здешних жителей дверь, точно так, как они с Андреем проникли сюда отчаянной (когда все было поставлено на карту) ночью двадцатого года, после боя на Николаевском вокзале и прорыва через перекрытый красноармейскими патрулями город.
Вошел, разделся, убедился, что Валентин безмятежно спит. Да, ощущение абсолютной защищенности штука приятная, только предательская, если ошибешься. Лихарев ошибся.
В толстых шерстяных носках, которые Сашка любил надевать в сапоги вместо портянок, прошел на кухню. В Форте он не выпивал, другими делами занимался, а здесь отчего же не расслабиться, обстановка не только позволяет, а прямо требует, чтобы создать нужное впечатление у клиента.
Наркомовская привычка ужинать далеко за полночь, завтракать в обед, а обедать в девять вечера сейчас пришлась как раз к месту. Тем более свежие газеты в сталинские времена доставлялись тоже в семь, чтобы товарищи успели перед работой ознакомиться с текущими установками. Вот Сашка и достал из ящика «Правду» и «Известия», сидел, просматривал с карандашом в руке передовицы и сообщения о вчерашних кадровых перестановках.
В отдаленном парой десятков метров туалете зашумела спущенная вода, а через короткое время на пороге возник ошарашенный Валентин в сиреневых шелковых подштанниках. Понятное дело - проснулся по нужде, имея в виду еще часик после того поспать, самый сладкий, особенно при нынешней погоде, и увидел свет в конце коридора, подумал сперва, что с вечера забыл выключить - и нате вам!
– Привет, Валентиныч, - радушно сказал Шульгин, приподнимая рюмку к глазам. - Умойся, присоединяйся, разговор есть. Или обратно в койку? Я не спешу, можно и попозже…
– Какой там попозже, - пробурчал Лихарев, окончательно приходя в себя. - Я сейчас… - Похоже, он как должное воспринял начальственное «ты», которое утвердил в обращении к нему Шестаков-Шульгин. По крайней мере, недовольства не показал.
Валентин долго плескался в ванной, освежаясь ледяной водой, вернулся более-менее одетый.
Вообще, довольно жестоко заставлять человека встать раньше, чем он себе наметил. Лучше б вообще не ложиться. Тут еще дополнительно шокирующая ситуация: как если бы на вашей личной яхте, идущей через Индийский океан, вдруг незнамо откуда оказался лишний пассажир, не в спасжилете, а во фраке и бабочке. Сидит, сволочь, нагло улыбаясь, в гостевом салоне и пьет хозяйский коньяк.
На что и расчет. Неприятеля нужно брать тепленьким и врасплох.
– Я вам всегда рад, Григорий Петрович, - произнес Валентин тщательно заготовленную фразу, - но все-таки не совсем понятно…
– Да ты не напрягайся, - мягко сказал бывший нарком. - Удивительного в жизни гораздо больше, чем можешь представить даже ты. Хорошо, в ходе германской войны старший лейтенант Власьев, с которым ты слегка знаком, обучил меня этой простой мудрости. На наглядных примерах. Сильно интересуешься, как я вошел в твое уютное гнездышко. Отвечаю - через дверь. Легко…
– Но это же… - слегка даже задохнулся от удивления Лихарев.
– Невозможно, ты хотел сказать? Увы. Людям свойственны заблуждения. И не совсем людям - тоже. Мне порой кажется, совсем не люди подвержены тому же пороку.
Хитро подмигнул собеседнику, разминая в пальцах папиросу.
– О чем вы, Григорий Петрович?
– Знаешь, чтобы язык о зубы не бить лишний раз, я тебе почитать кое-что дам. А там и объяснимся… - и протянул Лихареву собственный труд, вложенный в советский конверт из сероватой крафт-бумаги. Специально пришлось по пути забежать на Центральный телеграф, благо недалеко.
– Это я у себя в почтовом ящике нашел, около полуночи, - счел нужным подчеркнуть Шульгин.
Ох, как он любил такие игры! Партнер сразу выбивается в безусловно проигрышную позицию, и смотреть, как он там барахтается, - милое дело.
Валентин, при всех его способностях, прочел письмо дважды. Сначала стремительно, как учили, охватывая за секунду содержание страницы целиком, потом медленно, едва ли не по слогам. Такое у Сашки сложилось впечатление.
Он успел выцедить рюмку, докурить папиросу, и теперь просто сидел, беззвучно постукивая пальцами по колену. «Главное, - внушал он себе, - не перестараться. Я тоже должен быть удивлен и поражен, не меньше его. Нет, гораздо больше. Просто за шесть часов, согласно типу личности, успел кое-что переварить, обдумать, избрать форму поведения. А на самом деле жадно жду, что он мне ответит. Шестакову ведь тоже куда легче и спокойнее остаться в круге собственных представлений, нежели очутиться в новом, непредставимом для материалиста мире. И то, что я говорил сейчас, - просто попытка сохранить хорошую мину… Я просто жажду, Валентин, чтобы ты меня разубедил…»
И написал эти мысли на своем лице.
Лихарев бросил листки на стол. Было совершенно понятно, думает: «Какая же сволочь этот Александр Иванович. Обманул, да как цинично обманул два раза подряд».
Молчали, глядя друг на друга.
«Все- таки слабак Валентин. Упускает последний шанс. Шестаков -наивный человек по сравнению с тобой. Еще можно вкрутить ему какую-то убедительную трактовку, оставаясь в рамках интеллектуальных представлений тридцатых годов. Я бы постарался, а он сдался. Плохой резидент…». Шульгину вспомнился советский фильм «Вариант «Омега» с Олегом Далем в главной роли. Там герой в куда более проигрышной ситуации выиграл великолепно. Чисто. Как раз на пресловутых логических связях высших порядков. Лихарева подобному явно не учили.
– Значит, я делаю вывод, что все здесь написанное правда, - сказал Шестаков, едва ли не с болью в голосе. - Следовательно, друг мой, мы возвращаемся к вечеру в Сокольниках. Оттуда и начнем отсчитывать. Согласен?
Валентин нервно передернул плечами.
– Попробуем…
– Зачем пробовать? Ты попробовал задержать по приказу Сталина наркома Шестакова, бесчинствующего в тихой, приведенной к кладбищенскому спокойствию Москве. Ты моим словам не удивляйся, я и сам по себе, без всякого Шульгина, обучился в кают-компаниях вольномыслию. Мы там царя с царицей и Распутина всячески поливали, отнюдь жандармов и стукачей не опасаясь. Я был уверен, что самолично тебя разоружил и заставил со мной уважительно разговаривать. Оказалось - не совсем сам, что факта как такового не умаляет. Мне или нам ты однозначно проиграл. Из чего я делаю вывод, что и впредь никаких преимуществ тебе твое истинное положение не дает и не даст. Так?
– Ошибиться не боитесь, Григорий Петрович?
– Слушай, давай без этого. Я не боюсь ничего. В полном смысле. Особенно смерти. Как Марк Аврелий писал: «Мы с ней никогда не встретимся». А чем еще ты в состоянии меня напугать? Я вообще не для таких разговоров сюда пришел, - счел нужным Сашка смягчить накал разговора. - Хочу из второго источника получить разъяснение, что из написанного правда, что - полет фантазии, как строить наши дальнейшие отношения. «Войну миров» Уэллса я в детстве читал. Понятно, сейчас мы живем в более сложные времена, сказочка англичанина - примитив, а все же? Возьми карандашик, подчеркни в записке Шульгина одной чертой то, что правда, двумя - ложь. И обсудим. Согласен?
Когда за окнами неохотно рассвело, они пришли к предварительному соглашению. Партнер, вынужденный оправдываться, объясняться, да еще и уступающий противнику в классе, капитулировал. При том, что у Сашки еще оставалась пара тузов в рукаве.
– Хорошо, Григорий Петрович, пусть будет по-вашему. Я согласен помогать вам, хотя подразумевалось, конечно, обратное. Только скажите, а в чем именно?
– Во всем. Как можно понять из письма, никаких личных целей мы - странно звучит, правда? - не преследуем. Их просто нет. А у вас - есть. Хочешь - скажу попросту. Я, без всяких Шульгиных, аггров, форзейлей и иных потусторонних деятелей, желаю: первое - выжить, второе - сохранить за собой контроль над происходящим. Третье, если удастся - возвратить Россию к тому состоянию, в котором она находилась к началу нового, тысяча девятьсот семнадцатого года… Очень, кстати, мы его с большими надеждами встречали в гельсингфорсском кабаке на Эспланаде.
– Чего же там было хорошего, февраль на пороге и всероссийская смута? - искренне удивился Лихарев.
– Ерунду говоришь. На пороге была победа в величайшей из войн, Россия стала бы первой державой на двух континентах, учитывая присоединение Восточной Турции и аннексию Константинополя и проливов. В мире - третьей, но с хорошими перспективами. Если нашему народу хватило пассионарности после семнадцатого года пять лет воевать друг с другом, тот же энтузиазм, направленный вовне… Ты понял?
– Да, более-менее…
Лихарев в душе признал здравость слов и замыслов Шестакова. Его ведь тоже готовили к царской службе, а работа со Сталиным - это уже паллиатив.
– Сейчас можно это все восстановить. Запаса сил у страны достаточно, энтузиазма тоже, военное производство кое-как в порядок привели. Отчего же не попробовать восстановить историческую справедливость?
– Себя-то, Григорий Петрович, в какой роли видите? Диктатора, Верховного Правителя, вроде адмирала Колчака?
«Эх, знал бы ты лично того Верховного», - мельком подумал Шульгин.
– Ни в коем разе. Начисто лишен подобных амбиций, - ответил Шестаков.
– Абсолютно. - Сашка уже начинал веселиться в обычной своей манере. - Максимум, на что я согласен, это роль «серого кардинала» при достаточно просвещенном правителе. Хоть и при нынешнем. У тебя вот пока не получилось…
Тем самым он дал Валентину понять, что записку Шульгина принял к сведению в полном объеме и больше не нуждается в каких-либо пояснениях. Разве так, по мелочи, касательно отдельных деталей.
Лихарев молча принял это условие.
– Так у меня и цели такой не было…
– Зря. Значит, считаем, я ее теперь ставлю. Заранее предупреждаю - захочешь сам стать вождем, препятствовать не буду, всемерно помогу. А до того - все доступные тебе силы и средства будешь использовать на поддержку моих планов. Как ты понимаешь, при попытке подстроить пакость любого рода она прежде всего обернется против тебя. Договорились?
Сказано было очень деликатно, так Шестаков, в контраст со своим другом и учителем Серго Орджоникидзе, склонным к грубости и рукоприкладству, предпочитал разговаривать с директорами заводов и начальниками главков. Этому он тоже научился у Власьева, старшего лейтенанта, умевшего любого матроса, унтера и мичмана поставить в тупик именно невероятной вежливостью и мягким юмором. Заодно и складкой губ, выражавшей, что это последний рубеж его терпения и терпимости, а дальше начнется такое, что любой корабельный «дракон»[40] рядом с ним покажется ангелом.
Лихарев, кажется, уловил эту грань.
– Вы позволите? - спросил он, потянувшись к бутылке собственного коньяка, и налил серебряные чарки под край.
– Хозяин - барин, - ответил Шульгин и продолжил поговорку, которую до конца мало кто знает: - Хочет - живет, хочет - удавится, - так что все в твоих руках.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Вопреки ожиданиям, убедить Сталина в необходимости личной поездки в Испанию труда не составило. Похоже, у него на это дело были собственные планы, удачно совпавшие с шульгинскими. А отчего бы и нет? Он сам в Гражданскую любил выезжать на фронты, иногда - чтобы на месте составить представление и реализовать собственные планы, иногда - чтобы противодействовать линии Троцкого, который, как Иосиф Виссарионович вовремя понял, начал забирать излишнюю силу и авторитет в войсках.
В данном случае убивается сразу масса зайцев: испытать в серьезном и окончательном деле человека, с которым он решил поделиться властью и одновременно внушавшего ему подсознательное, неизвестно откуда идущее недоверие. Окончательно докажет свою нужность и преданность или… Или посмотрим.
Заодно навести порядок среди военных, которым Сталин тоже не совсем доверял, хотя бы потому, что в самый интересный момент они оказались вне сферы досягаемости. Кое-кого удалось вызвать на родину и расстрелять по делу Тухачевского и компании, а иные пока остаются там - воевать, причем, как выяснилось, делают это плохо. Плохо воюют, плохо советуют, зарабатывая при этом славу и ордена, а главное - оставляют себе неподконтрольную партии возможность геройски умереть или сбежать. Непорядок.
Испанским товарищам тоже пора дать укорот. Распоясались, понимаешь, вообразили себя творцами мировой истории. В СССР, получается, революция давно закончилась, рутина овладела, чиновничье государство образовалось, а там у них романтика и светлые горизонты! До чего дошло - молодые поэты из ИФЛИ[41] свободно с трибун возглашают: «Прочту стихи, прощусь с любимой, уйду в Испанию мою…»
Нет, красавчик, не в Испанию ты уйдешь, а куда прикажут. В Магадан, в Монголию, на Луну - по комсомольской путевке или по приговору, не суть важно, главное - «пойдешь», а не «уйдешь». От нас никто добровольно не уходит, разве что в могилу. Как вот Аллилуева, вспомнил он вдруг жену, пригорюнился и оттого еще более озлобился.
Хорошо, пришлю я вам товарища Шестакова с неограниченными полномочиями. Он всем устроит веселую жизнь - и советским советникам, и «братьям по классу». Чекистской бригаде показал «кузькину мать» и вам покажет. Подумать только - комиссары Коминтерна позволяют себе руководить нашими военпредами, решают, где и как использовать интербригады и советскую технику! Да что такое этот Коминтерн? Ленин по глупости создал эту никчемную организацию, а мы до сих пор терпим! Ну, ничего, подождите, недолго осталось… Корреспондент «Правды» якшается с троцкистами, в своих репортажах расставляет акценты и делает непрошеные выводы. Партии советует, как себя вести! Долорес, объявив себя «Пассионарней», лично решает, кто мне друг, кто враг! А я, к слову, гораздо большую симпатию испытывал к Буэновентуре Дурутти. Анархист, зато прекрасный мужик, отважный и красивый. Махно тоже был анархист, а как воевал! Убили! Зачем убили? Чтобы не мешал коммунистам с социалистами интриги крутить? С этим тоже разберемся.
А уж немцы, итальянцы и прочие англичане! - тут Сталин вообще с трудом сдерживал эмоции.
– Вы совершенно правы, товарищ Шестаков. Если мы там, в Испании, сумеем поставить наших врагов на место, на восточноевропейском театре им долго не захочется проявлять свою агрессивность. Так что любые затраты и потери окупятся сторицей. Может быть, мы вас тоже маршалом после этого сделаем. Хотите стать маршалом? - пытливо прищурил глаза вождь.
– Честно говоря - совершенно об этом не думал. Да и какой из меня маршал? Я вам признаюсь, товарищ Сталин, море до сих пор снится. Я ведь в восемнадцать лет добровольно на флот пошел. А плавать по-настоящему всего два года довелось…
– Понял вас, товарищ Шестаков. Так, может, - наркомом ВМФ?
– Тоже не совсем то. - Сашке показалось, что сейчас наступил очередной решающий момент. Сталин, с одной стороны, его прощупывает на предмет уяснения амбиций, а с другой, возможно, от души старается понять, чего на самом деле хочет человек, которому он вверяет громадные полномочия.
– Я бы, если возможно, Тихоокеанским флотом попробовал поруководить.
– Таким маленьким? И так далеко? Откуда такая скромность?
– Цусиму забыть не могу. Я тогда уже в довольно разумном возрасте был, когда она случилась, отчего через десять лет морскую службу избрал, а не любую другую.
Здесь Сашка по известному принципу использовал слова Сталина, произнесенные по случаю начала войны с Японией в сорок пятом.
И не ошибся.
– Да, да, товарищ Шестаков. Мы, люди старшего поколения, тоже помним, и, наверное, получше, чем вы… И в душе мечтаем о реванше. - Это было произнесено неподдельно, без фальши. А почему бы и нет?
Шульгин не стал спрашивать, естественно, как эти слова сочетаются с неприкрытой радостью Ленина по поводу поражения России в Японской войне. Впрочем, тот был сумасшедший интернационалист, а этот - державник. Ладно, слово сказано.
– Мы не забудем ваше пожелание, товарищ Шecтаков. Вы же знаете нашу точку зрения: нет таких крепостей, которые не смогли бы взять большевики. Но сначала постарайтесь взять другие крепости. Какие там у них - Толедо, Гранада, Севилья, Сарагоса…
Сталин даже на третий год войны не очень хорошо представлял истинный стратегический расклад на ТВД. Руководствовался псевдоочевидностью, которую ему навязывали информаторы и собственное, достаточно обывательское мнение, основанное на воспоминаниях о Первой мировой и Гражданской войнах.
Как раз те «ключевые» якобы пункты, сами бросающиеся в глаза при взгляде на карту, названные Сталиным, ни в коем случае нельзя делать целью глубоких операций, тем более - учинять новые вердены и ржевы. Единственное, что позволит достичь победы, - тактика немецкого блицкрига, помноженная на опыт «шестидневной войны» шестьдесят седьмого года.
Но сейчас об этом говорить абсолютно неуместно.
– Я бы прибавил Эль-Ферроль, Кадис и Альхесирас, - осторожно сказал Шульгин. - Тогда мы лишим мятежников основных путей подвоза и военно-морских баз…
– Вам виднее. Я вижу, вы хорошо подготовлены. Теперь к конкретному. Что вам потребуется сверх того, что мы уже отправили в Испанию?
– Как я уже говорил, диктаторские полномочия в отношении наших военных советников и добровольцев, сотрудников НКВД и ГРУ со всей их агентурой, нашего посла, естественно, подчинение мне всех структур Коминтерна, включая лично товарища Андре Марти, право руководства интербригадами. Это - организационно. Кроме этого, следует незамедлительно сформировать конвой на Барселону под прикрытием крейсеров «Червона Украина» и «Красный Кавказ», трех-четырех эсминцев. Этим конвоем перебросить полностью укомплектованную танковую бригаду «БТ-7» с лучшими экипажами и командирами, положенными средствами усиления. Использование танков поштучно и повзводно уже показало свою крайне низкую эффективность. Республиканцы и мятежники пока еще используют танки в качестве сил непосредственной поддержки пехоты, а мы применим их массированно, на всю глубину вражеских позиций с выходом на оперативный простор…
– А говорите - не стратег, - усмехнулся Сталин. Видно было, что хотя бы теоретически планы Шестакова ему нравятся. - Но вот насчет посылки крейсеров… Испытываю большие сомнения. Вы представляете себе мощь итальянского флота?
– Отлично представляю. Только Муссолини ни за что не рискнет вступить с нашими кораблями в открытый бой, по чисто политическим, а также экономическим причинам. Мы с итальянцами давно переговоры ведем насчет закупки готовых кораблей и проектной документации. Очень они заинтересованы, с деньгами у них сейчас плохо, а с безработицей как раз «хорошо». Давайте сделаем им совершенно сумасшедшее предложение, вроде заказа на четыре новейших линкора. В сумме их годового бюджета. Задаток отвалим щедрейший. Полгода поторгуемся, потом сойдемся на двух легких крейсерах или лидерах. Они нам и вправду нужны. Вообще этот рейд можно дипломатически замотивировать как обеспечение эвакуации из Испании советских граждан, транспортировка в черноморские госпитали и санатории пострадавших мирных жителей и детей-сирот… Раскрутить предварительно пропагандистскую кампанию европейского уровня о новых жестокостях мятежников и немцев с итальянцами, о нападении их кораблей на коммерческие суда. Примеры есть. Для того и крейсерское прикрытие. На Западе проглотят, они там падки на всякие гуманитарные идеи, особенно если им это ничего не стоит. В конце концов, Литвинов со своей командой зря, что ли, народный хлеб едят? Пусть устроят громкую разборку в Лиге Наций, с шумом, скандалами, стуком кулаками по трибунам. Тоже внимание отвлечет и покажет нашу решительность.
– Вы - страшный человек, Григорий Петрович. - Впервые Сталин назвал его по имени-отчеству. - Я слушаю вас и удивляюсь: у вас мгновенно находится ответ на любой вопрос, причем такой, знаете, неожиданный, иезуитский. Прямо как у кардинала Ришелье. С вами действительно интересно будет работать, а то все мои соратники… - Он замолчал, подбирая слово. - Они такие… пресные. Исполнительные, да, но совершенно лишены полета фантазии. Вот Каганович, к примеру, поручи я ему заняться Испанией, ничего бы неожиданного не придумал.
Лицо вождя изобразило разочарованность и печаль.
– Что поделать, товарищ Сталин. Не каждому дано. Потому, наверное, тифлисский «экс» ВЫ разработали и провели, а не Каганович и не Молотов.
– А, - пренебрежительно махнул рукой вождь. - Чугунная задница. Какие эксы?! Совсем не тот характер. Зато на своем месте он очень на месте. Порученное исполняет без задора, но тщательно, с гарантированным результатом. На него я могу положиться, а на вас? Допустим, войну вы выиграете, а потом? Вдруг захотите стать королем Испании?
– Тогда вы получите очень приличного вице-короля очередной республики в составе Советской державы, - счел возможным пошутить Шульгин. Сталин поднял указательный палец.
– Тоже - интересная мысль. Зачем вам Тихоокеанский флот? Средиземноморский и Атлантический плюс все остальное - гораздо интереснее. Мне кажется, мы с вами очень плодотворно поговорили. Завтра я попрошу товарища Апанасенко заняться вопросом о танковой бригаде. Одновременно поручу Главморштабу проработать возможность и срок направления эскадры, Линкор «Парижская коммуна», надеюсь, вам не потребуется?
– Пока нет, товарищ Сталин.
– Нет так нет. А вы чем собираетесь заняться?
– Если считать, что главное в принципе решено, начну комплектовать рабочую группу, которую возьму с собой. Человек пятнадцать-двадцать. Потом, естественно, представлю на согласование и утверждение. Я думаю, тех военсоветников, что сейчас уже там, с места трогать не нужно: обстановку они знают, связи наладили. Просто опустим ступенькой ниже, а над ними сформируем настоящий штаб, который не «советовать» будет, а операции планировать и в масштабе всей республиканской армии ими руководить. Есть у меня люди на примете.
– Занимайтесь. Полномочия у вас достаточные. Недели за две управитесь?
– За две недели нам нужно уже до Испании добраться. Боюсь, что времени совсем нет. По некоторым данным в феврале-марте франкисты могут начать решительное наступление…
– Даже так?
– Увы, товарищ Сталин. Мы сильно запаздываем.
– Значит, не позднее пятого февраля вы должны быть в Барселоне, допустим, десятого туда придет конвой. Посмотрим - умеют наши товарищи играть в цейтноте или действительно зря мы их кормим.
Тут у нас возник очередной вопрос. Товарищ Викторов[42] своей должности соответствует или пора его отстранить? Я имел в виду поставить на его место товарища Ежова, тот отказался. Тогда мне предложили назначить Смирнова. Что скажете?
Опять вопросик на засыпку, но лучше продолжать начатую линию, чем вилять. Глядишь, наткнешься лбом на непредусмотренное дерево.
– Безусловно, Викторова нужно оставить. Человек с младых ногтей только этим и занимается. На сторону советской власти добровольно перешел, в приличном чине царского флота. Мог бы и к белым, однако с нами остался. Хорошо проявил себя в Гражданскую, морскими силами на всех морях покомандовал, считаю, что успешно. Конкретно в роли наркома чем-нибудь себя запятнал?
Сталин долго и внимательно смотрел на Шестакова, отведет глаза или нет. Тот не отвел.
Да какого черта? Раз начали, так будем идти до конца. Только и сталинскому гонору потрафить можно, аккуратненько так.
– А если я ему не верю? - угрожающе сказал Сталин.
– Ваша воля. Только наморси[43], хоть троцкист он будь, хоть монархист, по своей должности навредить не в силах. Политически. Комиссаров у «ас от трюмного отсека до штаба флота - немерено. И добровольных помощников тоже. Он что - решающее сражение вроде Ютландского или Трафальгарского имеет возможность проиграть в пользу неприятеля? Линкор «Марат» продать финнам или шведам? Хозяйственник он на сегодняшний день, и, пока с этой работой справляется, лично мне абсолютно безразличны его политические пристрастия, если бы таковые и были. Вот не справится с отправкой эскадры за две недели - гоните поганой метлой и его, и Юмашева[44]. А пока…
– Я понял вашу позицию, товарищ Шестаков, - сказал Сталин, вновь вернувшись к обращению по фамилии. - Давайте отвлечемся от политики. Посмотрим, что получится, оставаясь на позициях чистого прагматизма. Только не воображайте, что неучастие в политике уберегает от ее последствий.
Шульгин вышел из Боровицких ворот со сложным чувством. Вроде бы и добился всего, чего хотел, а осадочек остался. Не туда пошел разговор в конце. Где-то он зацепил Сталина за больную точку. Обо всем договорились, а подкорка вождя желала получить ритуальную жертву, как компенсацию за все остальные уступки чужой воле. Сдал бы он Викторова, который в реальности был арестован и расстрелян совершенно ни за что (в здешней системе координат), вождь бы обрадовался, а тут вдруг… Слишком часто за последние дни ему приходилось поступать вопреки самым глубинным слоям своей личности. Снять раньше времени Ежова, притормозить террор, который был распланирован по пунктам на год вперед, вместо раболепного, заведомо на все согласного Ворошилова получить волевого, грубого, почти неуправляемого Апанасенко. Да и к резкому обострению на европейской шахматной доске он внутренне не готов. Привык действовать исподтишка, больше используя противоречия и трения между партнерами, нежели лобовые атаки и встречный бой.
Нельзя было ради собственных амбиций ставить под вопрос «Большой проект». Что, если вождю все-таки «сорвет башню» и он вернется к прежней политике по всем азимутам? Не для пользы дела, а чтоб «по ндраву». С другой стороны - ни сам Шульгин, ни Шестаков по характеру не должны были подыгрывать прихотям «сюзерена», оставаясь самими собой. Офицерская честь и так далее. И чистый прагматизм тоже имеет место: посадят Викторова, месяца два-три структуры флота будут недееспособны в центре и на местах. А нас сейчас может спасти только быстрота, натиск, почти безрассудная отвага.
Что ж, посмотрим, какой вывод сделает Иосиф Виссарионович. Прагматический или эмоциональный.
Шульгин нащупал в кармане шинели рубчатые щечки пистолета, теперь уже своей, привычной «беретты», прихваченной в Форте. Проверил пальцем, в каком положении находится флажок предохранителя. Мало ли, вдруг вновь появятся любители «окончательных» решений? Другое дело, что в этом случае пистолет вряд ли поможет, после неудачной попытки в тесный контакт никто с ним входить не станет. Разве что из снайперской «СВТ» достать попробуют или грузовик из подворотни выскочит… Тут уж вся надежда на интуицию.
Несмотря на определенный риск пешего хождения, для наркома, теперь уже зампреда, дело почти неслыханное, персональной машиной он до сих пор не пользовался. С ними риск еще больший. Шофера сам себе не выберешь, неизвестно кого назначат, и неизвестно, куда он тебя в случае чего доставит. Не одного «большого человека» завозили вместо домашнего адреса прямо во двор «госужаса».[45]
Что еще казалось интересным - к нему до сих пор не прикрепили телохранителей, которые по должности непременно положены. Надо будет Валентина спросить: халатность это или как?
Но это все мысли второстепенные, можно сказать, праздные, вот относительно семейства Шестакова он вдруг испытал острую тревогу. Как бы и не с чего… Все та же интуиция, которой он давно доверял больше, чем холодному рассудку, сверхчувственное восприятие, само собой.
На углу Моховой взмахом руки остановил такси, черную «эмку» первого выпуска.
– К Курскому вокзалу, и побыстрее. Опаздываю, плачу вдвое!
Шофер покосился на странного пассажира без вещей. Но человек солидный, наверное, чемоданы в камере хранения. Или - встречает кого. Придавил, насколько мотор позволил. Примчались вмиг, минут за двадцать.
– Спасибо, товарищ, выручил. - Шульгин расплатился, как обещано, подождал, пока машина затеряется среди других ждущих пассажиров с очередного поезда, потом, осмотревшись, направился к своему дому.
Теперь, пожалуй, стоит поспешить всерьез.
В этот раз на Валгаллу он перескочил вообще без всяких усилий, канал перехода слушался его, как домашний лифт. Хорошо это или плохо, нет ли здесь очередной ловушки? Подумать надо при случае.
Но, ступив на единственную теперь для него «родную» землю, вздохнул облегченно. Пока все идет хорошо. Присел на ступеньки, потрепал по мощному загривку пса, который успел подбежать к нему первым и теперь оглядывался на прочих родственников с тем самым видом: «Господин признал МЕНЯ главным любимцем, а вы, шелупонь, знайте свое место!»
Свора, помахивая хвостами, слегка отступила и легла вокруг крыльца надежным барьером от любой опасности. Погибнут, если придется, до последнего, но не сдадут, Какие же удивительные звери! Чем мы, люди, заслужили столь бескорыстную любовь?
Здесь уже можно не торопиться. Сашка переоделся в тот же костюм, в котором воевал на «Леопарде», - обтягивающие брюки и куртка серо-стального цвета, теплые и прочные, с поверхностью, которая не зацепится за выступающие детали, а соскользнет с любого крючка и даже колючей проволоки. Зашнуровал высокие ботинки, на голову - кевларовый шлем, внешне похожий на стандартный танковый, только с карбоновой пуленепробиваемой прокладкой.
Он не знал, с кем придется воевать. Но знал, что придется. Для чего же ему дадено специальное знание? И организм, независимо от хозяина, уже настраивался на предстоящее.
С чем-нибудь потусторонним ему, скорее всего, не справиться. Разве исключительно силой духа. А вот с материальными объектами…
Вывел из бокса БРДМ-2. Эта машина все же больше похожа на нормальный для предвоенных лет броневик, чем другие. Что не слишком технически грамотные аборигены смогут описать в случае чего? Железный угловатый ящик зеленого цвета, четыре колеса, башня с пулеметом. Фоторобот вряд ли кто надумает составлять.
Он упорно не хотел вводить в мир слишком уж новые сущности, плодить легенды и домыслы. Хватит, с простым «ПКМ» едва не прокололись. В двадцать четвертом году обычный (ну, не совсем обычный, Сидней Рейли все-таки) английский разведчик докумекал, что машинки на дубликаторе штампуются. Сравнил несколько попавших ему в руки образцов и убедился, что детали имеют абсолютно одинаковые заусенцы, следы от штампов и резцов. Сути-то он, конечно, не понял, но вопрос поставил верно. Как дон Рэба подловил Румату на синтезированном золоте.
В башенный «КПВТ» Сашка заправил тяжелую ленту. Рядом с водительским сиденьем поставил в зажимы «СВД-2» с глушителем и «АКМС». Если придется бегать и прыгать, удобнее, чем «томпсон». На поясной ремень повесил «стечкин» в кожаной открытой кобуре, во внутренний карман куртки сунул верную «беретту». Для усиления огневой мощи положенное место заняла гранатная сумка с восьмью «Ф-1» и «РГ-42».
В сорок первом Воронцов, куда хуже оснащенный, со взводом немецких панцергренадеров спокойно разобрался. А вдвоем на этой технике они и роту бы разогнали. Только не позвал его тогда Антон в напарники к товарищу. Да и не был еще в тот момент Дмитрий их товарищем, и Антона никакого не было.
А сейчас кто его на бой посылает?
Сосредоточился Шульгин. Сам он перемещаться между мирами научился, а с шестью тоннами броневого железа выйдет?
БРДМ приземлился на все четыре колеса аккуратненько, почти без толчка. Заранее заведенный мотор рокотал почти бесшумно, и Сашка сразу же услышал крики и выстрелы. Совсем неподалеку.
До кордона Власьева было метров триста. Шульгин специально выбрал точку десантирования с тыла, на краю распадка, прямо на тропе, где его совсем недавно, будто вчера, вел Власьев показывать свое тайное убежище. Утверждал, что там в случае чего не найдет целый армейский батальон. Очень может быть, исходя из рельефа местности и общей неподготовленности строевой пехоты к рейнджерским операциям. Только сейчас противник подошел тем же путем, что и сам Шестаков прошлый раз, с озера.
По характеру и темпу огня Сашка примерно представил себе диспозицию и двинул машину вперед на первой скорости. Серьезная, полярного типа пурга, как и предсказывал Власьев, на днях поутихла, но снега успела нанести немерено, как во времена Сусанина или наполеоновского нашествия. Только для БРДМ это пустяк, мягкие сугробы он легко раздвигал скошенным носом и приминал широкими колесами.
Через открытый лобовой люк Шульгин слышал, как неторопливо, расчетливо бьет трехлинейка, а ей в ответ сыплется беспорядочная дробь выстрелов, по преимуществу пистолетных, и моментами вступают в дело один или два автомата.
Кондовый, мачтовый лес мешал свободному маневру, но Сашка как-то исхитрился, протиснул броневик между стволами, давя подлесок, именно туда, куда требовалось.
И увидел Власьева. Старший лейтенант, в своем обычном домодельном свитере, без шапки, стрелял с колена из-за поваленного дерева по пробирающимся через сугробы фигурам в синих шинелях и коротких полушубках. Числом около десятка, они наступали растянутым фронтом, постепенно загибая фланги. Палили непрерывно, отчаянно, но наугад, в белый свет, не видя противника, на звук, стараясь прижать его к земле или хотя бы помешать целиться. Однако все равно после каждого хлопка винтовки непременно кто-то валился в снег и замирал. Да и странно было бы, если б иначе. Власьев, из спортивного интереса, на уток с «драгун-кой» охотился, что ему в человека попасть?
Только шансов у лейтенанта все равно не так уж много. Если, конечно, наступающие вдруг не дрогнут, не побегут. А так им достаточно еще больше рассредоточиться, укрыться за деревьями и лишить его свободы маневра. Долго раздетый человек на пятнадцатиградусном морозе в сугробах не высидит. Даже в своей секретной избушке егерь не спрячется. По следам найдут.
«Черт, как же я сумел успеть?! - мельком подумал Шульгин. - Последний парад наступает для старого моряка, как он давно сам себе наметил. В бою, не в тюремной камере петроградской чека, не с камнем на шее в полынье Маркизовой лужи. И все же на семнадцать лет позже, чем судьба хотела распорядиться. Жаль, что нет у меня магнитофона с динамиками. Сейчас бы врубить «Варяга» на полный звук - ив атаку!»
О Зое с детьми мысль в голову не пришла. Правильно - им скорее всего ничего фатального не утро-жало, операция была явно направлена на их захват живьем, никак не на убийство. Разве только случайно.
Сашка отработанным движением, оттолкнувшись ногами, скользнул через спинку водительского сиденья в боевое отделение, ухватился за ручки «КПВТ» и повел стволом слева направо, на полметра выше снегового покрова, вдоль фронта наступающих.
Он даже не собирался специально целиться. Сам по себе оглушительный грохот тяжелого пулемета, бьющего почти в упор, клубок оранжевого дульного Пламени, удары пуль по деревьям, верещание рикошетов, вид товарищей, которым совсем не повезло (калибр 14,5 шансов на выживание не оставляет), - достаточное основание, чтобы атакующие потеряли весь кураж, уткнулись носами в снег.
– Власьев, ко мне! - во всю свою мощную глотку закричал Шульгин, подавая БРДМ так, чтобы прикрыть лейтенанта от внезапного, как чаще всего бывает - шального выстрела. Дал еще одну очередь в направлении дома и забора, но повыше, чтобы своих не задеть.
– Куда? - запаленно прохрипел Власьев, уперевшись ладонью в броню, держа наотлет винтовку. Глаза у него были ошарашенные и вообще не совсем нормальные: снова попал в сюжет приключенческого романа. Только что собрался достойно умереть, без всяких романтических глупостей, а тут тебе вылетает из-за холмов, из леса (как когда) подмога на белых конях, размахивая мечами или шашками.
– Нагнись, люк там…
Старший лейтенант неловко протиснулся в боевое отделение, ушиб что-то, зашипел, выматерился. Отвык командир от общения с броней.
– Это кто там упражняется? - спросил Шульгин, перебираясь обратно на водительское место - стрелять больше вряд ли придется. Если что - колесами или через лобовой люк из автомата, пару гранат можно кинуть, для шума и шороха.
– НКВД. Час назад появились. На трех машинах, с озера. Вы им дорожку проторили…
Сашка пока не трогал броневик с места. Успеется, главное - в обстановку вникнуть.
– Что-что?! Начали кулаками и прикладами в ворота колотить. Начальник райотдела с ними был, кричит - выходи, Александрыч, поговорить надо. Зоя Федоровна и ребята не одеты были, обедать собирались. Я сразу понял: взяли вас все-таки, тот самый «порученец» и сдал. Вы не выдержали, признались, теперь они за нами приехали. Зоя за пистолет, умру, мол, но не сдамся… Я ей - брось, о детях подумай, куда теперь геройствовать? Сдавайтесь, а я в лес побегу, может, еще и выручу вас. Здесь не Москва, здесь Берендеево царство. Винтовку схватил, подсумки, и через забор…
– Остальное потом. Всего их сколько?
– Три «эмки» и «черный ворон» «ЗИС-5»…
– Значит, человек пятнадцать было. Ну, поехали…
Шульгин воткнул первую скорость, тут же вторую, дал газ до пола. Чтобы страшнее выглядела «танковая атака».
С грохотом, вздымая, словно торпедный катер, снеговой бурун, пронесся через боевой порядок чекистов, мимо забора, к воротам кордона, перед которыми стоял тюремный фургон с распахнутой задней дверью. В нем, кроме водителя, никого не было. Сидит, курит, подняв воротник и надвинув на глаза шапку. Мотор гоняет, чтобы не застыл, на выстрелы в лесу ему как бы и наплевать. Не его работа. Ниже, вдоль спуска на лед, выстроились все три легковушки. Пустые.
Он с яростным азартом развернулся, будто не на тяжелом броневике, а на раллийном «Лендровере», с хрустом ударил заднюю «эмку» в багажник, смял, отбросил в сторону, так же беспощадно изуродовал остальные. В завершение врубился носом в борт «воронка». Тот опрокинулся под откос, неприлично задрав к мутному небу колеса. Шофер, услышав рев чужого мотора, каким-то чудом успел вывалиться из кабины и на четвереньках понесся за кусты. Будто его воспитала не советская власть, а стая волка Акелы.
– Николай Александрович, нажмите вон ту гашетку.
Только стволом поверху, поверху, зачем дом портить…
Власьев с удовольствием провел над крышей трассирующей очередью. Посыпался снег с еловых крон и срубленные ветки. Вовремя прекратил стрельбу, сберегая ствол от перегрева. Специалист все-таки.
Шульгин, не высовываясь из-за крышки десантного люка, чтобы не подставиться, мало ли какие дураки в доме засели, закричал настоящим командирским голосом:
– Внимание! Здесь спецотряд госбезопасности. Всем выйти без оружия, с поднятыми руками, иначе открываем огонь на поражение. Срок -минута. Отсчет пошел!
Секунд через сорок на крыльце появился человек в черной милицейской шинели, худой и длинный, за ним еще один, в кожаной куртке с меховым воротником. Перед собой он выставил Зою. Левой рукой держал ее за плечо, правой упирал в голову ствол «ТТ».
– Товарищи, - закричал худой, - я начальник Осташковского райотдела милиции. Лесник, если он с вами, может подтвердить. У меня приказ - произвести проверку документов.
– А я - капитан Главного управления госбезопасности Трайчук. Выполняю приказ руководства. Старший отряда с документами - ко мне. Остальные - на месте. Иначе стреляю. Вы меня поняли? - продолжил тот, что с пистолетом.
«Вот идиот, - подумал Шульгин. - Американских боевиков насмотрелся? Так у нас не боевик…»
– Николай Алексаныч, кричите ему что угодно, любую херню, мне десять секунд надо…
– Эй, капитан, не валяй дурака, отпусти женщину, у нас тоже приказ, потом жалеть будешь… - привыкшим повелевать на штормовой палубе голосом заорал Власьев и за неимением времени на изобретение других доводов продолжил виртуозным флотским матом.
Сашке этого было достаточно. Вскинуть «СВД», одновременно снимая с предохранителя, поймать в прицел переносицу капитана и нажать спуск - делать нечего. У «ТТ» пружина тугая, с выбитыми мозгами не выстрелишь, невзирая на приказ.
Конечно. С тридцати метров Шульгин в него и плевком бы попал. Пистолет полетел вправо, чекист назад, ударился спиной о стену и сполз по ней. Милицейский шагнул вбок, высоко подняв руки. А Зоя бросилась отнюдь не вперед, как было бы правильно, а обратно в дом, к детям.
Тут уж и Шестаков, на мгновение возобладав над «драйвером», метнулся следом, с винтовкой наперевес.
К счастью, четверо стороживших мальчишек и занимавшихся обыском сотрудников никакой склонности к агрессии не проявили. Жизнь, понятное дело, дороже, тем более слова о «спецотряде» они тоже слышали.
Спокойно побросали на стол «наганы» и уселись рядком, где указал им Власьев, затолкавший в комнату начальника райотдела. Теперь ему пришлось принять на себя командование. На некоторое время Шестаков стал небоеспособен, успокаивая и оттесняя в соседние помещения жену и детей. Как-то Шульгин, непривычный к роли семейного человека, упустил из виду такую возможность, что кинутся к нему с ревом двое пацанов да вдобавок потерявшая прежнее самообладание женщина. Отцовский инстинкт оказался сильнее давления чужой матрицы.
Будь он здесь один, да противник окажись порешительнее, - плохо могло бы закончится.
Николай Александрович, подобрав на веранде пистолет Трайчука, наводил должный, «флотский» порядок.
Начал с многолетнего знакомца, милиционера.
– Расскажи, Яков Максимович, чего вы эту кордебаталию затеяли? Или мы с тобой не дружили десять лет? Да ты не бойся, видишь, здесь товарищи такого уровня приехали, что твой капитан - тьфу! Смотри, что с ним случилось. А почему - не поверил предупреждению. Поверил бы - сидел бы сейчас рядом с тобой, я бы вам даже и налил. Хочешь - налью. Ты мой продукт знаешь…
Власьев тоже великолепно умел актерствовать, пусть и не знал пока, во что вся эта история выльется.
Указал пистолетом одному из московских чекистов:
– Подойди к тому шкафчику без резких движений, возьми посуду. На всех
Четверть[46] с прозрачным напитком и граненые двухсотграммовые стаканы настроили пленников на оптимистический лад.
Все выпили, закусили солеными огурцами, снова смирно сложили руки на коленях, как было указано.
– Что же я тебе скажу, Алексаныч? Приехали ко мне товарищи утром, спросили, знаю ли я тебя, велели сопроводить. Враги народа, значить, на кордоне скрываются, надо их взять, обязательно живыми. Доедем, вызовешь егеря, там и поговорим. Поехали, куда мне деться? Не думал, правду сказать, что ты стрелять начнешь. Власть все-таки…
– На всякую власть другая найдется, - туманно ответил Власьев.
Тут из задней комнаты вышел Шульгин, успокоивший Зою и велевший ей собираться для очередного переезда.
Расстегнутая кобура «стечкина», висящая на ремне слева, у самой пряжки, выглядела посолиднее, чем, скажем, нагановская.
– К вам, товарищ начальник милиции, у нас претензий нет. Взгляните на мое удостоверение, после этого продолжайте начатое дело, - и поднес ему к глазам свою сафьяновую книжку. Не раскрывая, впрочем. Таких районный товарищ и не видел никогда, одной обложки ему хватит. - А из вас, орлы ежовские, кто сейчас самый старший?
Один приподнялся:
– Сержант госбезопасности Исаев…
– Вот давай, Исаев, пошли кого на улицу, покричать вашим, по лесу разбежавшимся, чтоб возвращались. Оружие на всякий случай пусть за оградой оставят, потом подберете. Подставили вас, не знаю, сам ли Трайчук или кто повыше, но влезли не в свое дело. Ох, не в свое… Да ладно, тем, кто живые остались, считай, повезло. Сам знаешь, как у нас бывает. Потом вынесешь им для сугрева… А теперь рассказывай, с самого начала.
Ничего особенного сержант рассказать не смог, Утром капитан[47] поднял по тревоге свое подразделение, приказал погрузиться в машины и следовать в Осташков. Там, уже после приезда в райотдел милиции, уточнил задачу: форсировать по льду озеро, окружить кордон и задержать всех там находящихся. Прежде всего - женщину с детьми. Остальные, сколько бы их ни оказалось, оперативного интереса не представляют. В случае сопротивления - разрешается огонь на поражение. Так они и поступили. Остальное - известно…
– Вы - из какого отдела? - спросил Шульгин.
– Третьего спецотдела.
– Это которым старший майор Шадрин руководил?
– Так точно, только он сейчас арестован. За него исполняющий - как раз Трайчук был.
– Интересный у вас отдел, - усмехнулся Шульгин. - Лейтенанта Сляднева с группой на задержании убили, Чмуров застрелился, Шадрина посадили, теперь вот новый начальник пулю схватил по собственной глупости. Может, не тем делом вы, ребята, занимаетесь? Шли бы лучше воров на Тишинском рынке ловить…
Все имена и факты, имеющие непосредственное отношение к его эпопее, Шульгин приводил, вспоминая подробный разговор с Буданцевым.
– А кто Трайчуку приказ отдал, не знаете? - на всякий случай спросил он.
– Откуда нам знать…
Действительно.
– Николай Александрович, я вас еще раз попрошу - отведите эту команду в подходящий сарайчик, тех, что на улице, - тоже. И заприте до выяснения. Вместе с начальником милиции.
– Так я-то при чем? - неожиданно жалким голосом заговорил тот. Абсолютно таким, как с ним, наверное, разговаривали задержанные за драку или мелкую кражу местные мужики. - Я к московским делам - никакого отношения. У меня работа стоит, а эти сказа ли - садись, поехали… Алексаныч, ты ж меня сколько знаешь, я разве когда чего?
Власьев с сомнением посмотрел на Шульгина.
– Может, и правда, Григорий Петрович? Он здесь кто? А в Осташкове у него и служба, и семья, и хозяйство…
Сашке это было совершенно безразлично. Как Воланду московские дела.
– Сами решайте. Только как он тридцать километров пешком пройдет в шинелишке своей? Замерзнет, а мы отвечай?
– Да дойду я, дойду. Тут всего ничего до ближней деревни, а там мужички довезут, свободно.
– Тогда иди. Верните ему «наган», все же казенное имущество. Хотите, даже с патронами. Дурака валять не будешь, Яков Максимович?
От надежды на скорую свободу милиционер даже перекрестился, забыв о партийности.
– Да разве я… Да ни в жисть… - Нормальный тверской крестьянин, случайно властью облеченный.
– Хватит, надоел, - махнул рукой Шульгин, - а домой доберешься - сиди тихо. Ничего не видел, ничего не знаешь, а если случаем из Москвы настойчиво спросят, ответишь, что комиссар госбезопасности под подписку молчать велел. Вплоть до высшей меры - к нему и обращайтесь.
Милиционер так стремился поскорее исчезнуть, что даже не попытался выяснить, какой именно комиссар, какая у него фамилия и должность. Не задумался, кто еще из Москвы может спросить, если Москва, считай, вот она - в лице без раздумья стреляющего «комиссара». Да ну их! Хорошо бы еще по дороге телефонный провод оборвать, чтоб не надоедали больше…
Закончили неотложные дела. Власьев запер девятерых уцелевших чекистов в том же сарае, где под кучей сена была спрятана слядневская «эмка», вернулся; в комнату.
Зоя торопливо заканчивала сборы.
– А теперь куда, Гриша? Ты, смотрю, всерьез развоевался. Не тебя теперь ловят, ты ловишь? И броневик где-то нашел. Из самой Москвы за нами приехал, или?…
– Или, Зоя, или… Сейчас доберемся до места, там и поговорим. Разговор долгий будет. Парни-то как, не скучали?
– Нет, все хорошо. Первые дни мы все волновались, конечно, а когда Николай Александрович вернулся, сказал, что твои дела нормально решились и скоро ты за нами приедешь, обрадовались, успокоились. И вдруг снова… Я думала, теперь окончательно конец, и тебе, и нам. Особенно когда этот… меня поволок и пистолет к голове приставил. А ты его так…
– Не умеешь - не берись, есть такая поговорка. Ну ладно, ладно, все, - торопливо сказал он, увидев, что глаза женщины наполнились слезами, и руки дрожат, и губы прыгают.
Власьев, понимая ее состояние, но так пока и не сориентировавшись в обстановке, сделал единственно бесспорное в его положении - разлил по стаканам свой первач.
– За нас, за всех. Еще раз вывернулись, спасибо Григорию Петровичу. Какой-то он удивительный ангел-хранитель. Я первый раз так подумал, когда он меня из тюремной камеры вывел, а потом на «Кобчике» до Питера довез. Ну, чтоб не последнюю.
Шульгин отпил едва треть.
– Не последнюю. Еще полчаса, и будем по-настоящему отдыхать…
Смысла его слов Зоя не поняла, но, ощутив ударивший в голову крепкий хмель, неожиданно для самой себя успокоилась.
– А вы, ребятки, пойдите на улицу, броневик посмотрите, пока мы будем собираться. Только чтоб к оружию - ни-ни… - сказал он «сыновьям».
– Николай Александрович, - обратился он к Власьеву. - В ближайший год вам сюда точно не вернуться. Потому соберите все, что вам нужно и дорого, и несите в транспортер. Оружие не берите. Я вам такое представлю, что вы зайдетесь радостным смехом. Одежду - тоже. Исключительно лично ценные и памятные предметы… А также то, что может вызвать у посторонних ненужные вопросы.
Больше он ничего не стал пояснять. Боялся запутаться в своих и шестаковских манерах и привычках.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Перенос на Валгаллу четырех человек, не имевших ранее никакого отношения к Сети и ее хитростям, потребовал от Шульгина гораздо большего физического и нервного напряжения, чем для неодушевленного железа. Но все равно получилось, хотя, вылезая из транспортера, он чувствовал себя, как в студенческие годы, закончив разгрузку вчетвером шестидесятитонного вагона. Ломило спину, ноги подгибались, а в голове бессмысленно крутилась одна и та же застрявшая в момент перехода фраза.
Однако «посадил» он БРДМ нормально, внутри ограды, неожиданно удивился, словно впервые увидел, насколько это место похоже на то, откуда только что выскочили. Масштабы другие, это точно, а по замыслу - одно и то же.
Помог выбраться через верхние люки Зое и детям, Власьев выбрался сам.
– Ну и где же мы теперь? - осведомился егерь, озирая терем и окрестности. Перелет через полсотни парсек он перенес спокойно, как и семейство. Для них все это было мигом - расселись по жестким сиденьям, услышали лязг закрывающихся броневых заслонок, короткое головокружение, даже без тошноты, и все. Пожалте на выход. Что всех поразило, кроме младшего Генки, - Шестаков даже мотор не заводил.
– На моей личной даче. Здесь нас точно никто не достанет. А все сомнения и удивления я разъясню за дружеским столом. Пойдемте.
Ребята мгновенно заинтересовались собаками, проявившими, несмотря на гигантские размеры и угрожающий вид, чрезвычайное дружелюбие и неприкрытую радость. Сообразили, что теперь им будет с кем играть.
Власьев покосился на свору с опасливым уважением. При его жизни такой породы еще не существовало. Зоя, пребывая в легком подпитии да вдобавок поняв, что все опасности действительно позади, испытывала настоящую эйфорию. Шульгин повел их в дом.
– Вот, Николай Александрович, наша гостиная. Вот коллекция оружия, камин, бар, а здесь будет ваша комната. Гальюн, умывальник, душевая - вон они. Приводите себя в порядок, ужинать будем через час. Я сейчас быстренько от доспехов избавлюсь да остальной народ размещу…
В мастерской, примыкавшей к холлу, сбросил пропахший бензином и пороховой копотью комбинезон, вновь натянул наркомовские галифе, ноги сунул в войлочные шлепанцы. Ничего, сойдет, хоть и стал он похож на отставника-дачника в исполнении Папанова. Сокол-Кружкин фамилия по фильму, кажется.
Повел Зою с детьми на второй этаж, показал ребятам их комнаты, велел переодеться и умыться, после чего спускаться вниз. Потянул «жену» за руку дальше, вверх по узкой лестнице.
Там был его личный жилой блок и две гостевые комнаты, полностью оборудованные, но в которых никто ни разу не останавливался. Обстановка в том далеком августе слишком резко поменялась. - Тебе здесь будет удобно…
Хорошо смазанный замок щелкнул за спиной почти бесшумно.
Зоя пребывала в ошарашенном состоянии. Примерно как человек, за какую-то минуту перенесенный из прифронтовой деревни в отель на набережной Ниццы. Но она все равно была поразительно красива. Не только для Шульгина, давно не прикасавшегося к женщине (ночь на кордоне не в счет, тогда она показалась полусном полубредом, да и была две с лишним недели назад), а вообще. Не зря же открытки с ее изображением продавались во всех газетных киосках не только Москвы, но и СССР. Зоя Пашкова, прима Театра имени Вахтангова!
Пусть сейчас и не в бальном платье, без макияжа (или как это называлось в те годы), простоволосая. Так даже интереснее.
Он резко развернул ее к себе, сдвинул с плеч и бросил на пол беличью шубку. Начал целовать, скользя по телу руками, сверху вниз и обратно.
– Да что ты, подожди, так сразу… - шептала она как бы для порядка, но послушно пятилась, переступала ногами, будто в страстном танго, пока не наткнулась на край кровати и опрокинулась на нее. Зоя, соскучившаяся даже больше его, деревенское сидение беднее впечатлениями, чем фронтовая жизнь, не возражала, напротив, стала торопливо помогать. Шестаков давно, Шульгин по единственному случаю знали, насколько она умеет распаляться. Сразу.
Так и вышло. Она, прерывисто дыша, вытянулась поверх покрывала. При свете угасающего дня, пробивающегося через полузадернутые шторы, Зоя выглядела невероятно привлекательно. Особенно для Сашки, который прекрасно помнил, что это - чужая женщина. И, значит, вдвойне желанная. И хоть было ему сейчас не двадцать два, а почти тридцать восемь (или - тридцать пять) - все равно.
Артистки школы Вахтангова - Мейерхольда славились пресловутой «биомеханикой», которой посвящали по несколько часов в день. Отчего спектакли театра на Арбате привлекали зрителей не только психологическими изысками, но и возможностью полюбоваться пластикой женских тел в те времена, когда и в Америке еще не было стриптиза.
Сейчас Зоя использовала свои способности в полной мере. А в прежней жизни, мелькнула мысль, она ничего такого себе не позволяла.
Шульгин (то есть Шестаков) грешным делом опасался, не станет ли его супруга от зимней тоски и одиночества любовницей Власьева, который, с его старорежимными ухватками, вполне мог вскружить голову неудовлетворенной дамочке.
Но нет! Судя по ее активности, она давно не имела никакого партнера.
Сашка никак не мог избавиться от давней привычки (или свойства) даже в самые волнующие моменты каким-то краем мозга думать автономно. Как сейчас.
А Зоя была чудо как хороша. Во всем. Фигурой походила на Софи Лорен. Изощренностью - на леди Спенсер. И тем, что не банально обнаженной была, а этакой, полурастерзанной… Еще добавить - ей было почти сорок лет, а этот Сашка, исключая одну ночь с Сильвией, никогда не имел дела с женщинами старше тридцати. Думал, хороши они своим нежным и изящным телом, а тут оказалось - совсем другой разбор.
Она его порядочно измучила. Думал, что это он ее приведет в изнеможение, а вышло наоборот. Так ведь и она думала, что ласкается с родным мужем, который вновь стал сильным мужчиной, а оказалось…
В итоге получилось для всех интересно.
Зоя отодвинулась к стенке, махнула рукой, отвернись, мол. Он отвернулся, встал, отошел к окну, закурил, по привычке открыв форточку.
Здорово получилось. Когда он сам еще работал в театре, одна актриса, настолько немолодая, что молодых парней уже не стеснялась (та, которая учила игре в преферанс не для удовольствия, а для заработка), ему говорила, что без секса за час до выхода она играть не может. Хоть с кем, хоть с рабочим сцены, если ничего лучшего не подвернется. Надо при случае спросить Зою, как с этим делом обстоит у «современных» артисток.
Потом он повел ее по гардеробным, чтобы приоделась и посмотрела, какими техническими средствами пользовались ее «правнучки». Им здесь теперь вряд ли что-нибудь понадобится, даже если вернутся, - вкусы изменились, да и пропорции у многих.
Готовясь жить на Валгалле неограниченное время, не зная, будет ли работать дубликатор и впредь столь же четко, как сразу по прибытии, девушки создали приличные запасы «обмундирования». Тут еще и комплексы эпохи тотального дефицита сказывались, когда приличные джинсы на толкучке стоили до трехсот рулей (годовая стипендия, или трехмесячная зарплата молодой специалистки). Каково после этого листать тысячестраничные каталоги, зная, что достаточно ткнуть пальцем, и это - будет твоим. Совершенно не задумываясь, что носить это просто негде. Разве что к ужину наряжаться по торжественным датам. Вот и осталось девяносто процентов запасенного добра даже и не распакованным.
Зоя же оказалась в куда более травмирующей ситуации.
По- прежнему не понимая, что происходит, и время от времени пытаясь у мужа это выяснить, она увлеченно перебирала пакеты с бельем, коробки с обувью, восхищенно рассматривала и ощупывала платья и костюмы. В своей Москве она и понятия не имела, что существуют в природе такие изделия и предметы, обходилась продукцией собственной портнихи. Иногда удавалось приобрести что-нибудь особенное в комиссионке или Торгсине, но по сравнению с этим…
Тут ведь и техническая культура совсем другая, а главное - менталитет конструкторов и пользовательниц.
Шульгин сидел на подоконнике, курил, благодушно наблюдая это «пиршество духа», на все вопросы отвечая лаконично:
– Сядем ужинать, расскажу все сразу и подробно. А пока приоденься к столу, попроще, сообразно обстановке, вон, вполне приличный английский костюмчик, и туфли в тон имеются…
Когда Зоя, с плохо скрываемым отвращением сбросив все, что на ней было, начала прикидывать, что из восхитительных вещичек подходит ей больше всего, по ходу дела разбираясь, как устроены незнакомые ей предметы, Сашка не удержался и соблазнил ее снова. Прямо на розово-лимонных искусственных шкурах, заменявших палас. Теперь оба не спешили, растягивая удовольствие, но финал получился не менее бурным и феерическим.
– Ох, Гриша, сказка продолжается. Но пока нам, пожалуй, хватит. Ночь ведь еще впереди?
«Ой- ей-ей», -подумал Шульгин, но ответил бодро:
– Это точно. Да не возись ты с этим поясом, вон, надень колготки, и все. «Анжелику» эту, здесь застежка впереди, и никаких пуговиц…
– Ты-то откуда про эти тонкости знаешь? - Зоя как-то странно, наверное, заимствованным в одной из ролей образом на него поглядывала, улыбалась смутно и кокетливо, вообще вела себя подобно юной девушке, только что познавшей радости плотской любви. Смущалась будто бы, одеваясь на глазах у мужчины, одновременно принимая привлекательные и моментами двусмысленные позы.
«Она что-то чувствует, - сообразил Сашка. - Не ведут себя так жены по второму десятку лет супружества. Другое дело, женщина ее возраста, только что начавшая изменять мужу, вполне могла бы подсознательно начать в девочку играть. Ситуативно». Тон у нее стал этаким игривым. Плечиком двинула, надевая бюстгальтер.
– И кто вообще все это придумал и сделал, в какой стране?
– Что, языки забыла? На этикетках и пакетах все написано…
– Не морочь мне голову, - перешла она на обычные интонации. - Ни во Франции, ни в Италии ничего подобно не существует. Наши в прошлом году ездили на гастроли, кое-что привезли, и журналов модных кучу. Это совсем не оттуда…
– А ты посмотри, там где-то должно быть написано: «Коллекция такого-то года», и адрес фирмы.
Шульгин, большой любитель женщин, в тонкостях туалетов, а особенно нижнего белья, разбирался неплохо. Знал, в отличие от большинства сверстников, чем в советской стране можно по-настоящему очаровать девушку. И не стеснялся вручать им такие «сувениры», в то время как соперники ограничивались цветами и конфетами, отчего и проигрывали соревнование за сердце и тело.
– И что? - поводила пальцем по строчкам. - Здесь написано - тысяча девятьсот восемьдесят третий. Осенняя коллекция. Париж, рю де ла Пе… Что это означает?
– То самое. Наши цифры, только наоборот. Похоже?
Зоя швырнула на ковер юбку, которую только что
собиралась надеть, села на пуфик, уперлась локтями в колени.
– Шестаков, ты мне столько за две недели загадок назагадывал! Чекистов убивал, к Власьеву отвез, скрылся неизвестно куда, появился на танке, сюда притащил, имел меня, как ни разу в жизни не умел, барахло чужих баб предлагаешь, а теперь еще и восемьдесят третий год! Я с ума сошла? Нет, не похоже. Такого не придумаешь и в бреду. - Она ногой, обтянутой темно-золотой лайкрой, отбросила коробку с шикарными туфельками на десятисантиметровой шпильке. - Рассказывай, или я никуда не пойду!
– А куда денешься? - Пора и власть употребить, хотя бы тем, наркомовским тоном, к которому она привыкла. - От нас тут все равно ничего не зависит. Собирайся, десять минут на все. На той полке какая-то косметика, посмотри, может, что понравится. Я сейчас вернусь, и пойдем. Власьев тоже в недоумениях пребывает, да и мальчишки скоро искать нас начнут…
Он резко вышел из комнаты. У себя сбросил остатки наркомовской униформы, подумал, не облачиться ли в джинсы и свитер, но решил, что чересчур будет, ограничился легким костюмом цвета хаки, белой рубашкой без галстука, мягкими коричневыми туфлями типа мокасин. Все это позаимствовал из шкафа Новикова. Его собственные одежды телу наркома были малы размера на три.
Получилось весьма авангардно. Не суровый «командир производства», а что-то вроде инструктора ЦК КПСС на летнем отдыхе. Брежневской эпохи, конечно.
В боковой карман сунул золотой портсигар, набитый «Кэмелом», зажигалку «Зишго». Поправил перед зеркалом прическу. А что, в любую московскую компанию вполне идти можно. Сойдет товарищ Шестаков за продвинутого интеллектуала. Еще и фурор произведет среди посетительниц Домжура или Клуба архитекторов.
Зашел за Зоей. Та, несмотря на расстроенность чувств, одеваться уже закончила. Как он и рассчитывал, вскрикнула:
– Гриша! Это - ты?
– А ты - эта? - ответил адекватно. Стал рядом с ней перед зеркалом, изобразил на лице скабрезную улыбку, что всегда ему так удавалась. Приобнял за талию.
– Гриша, но я действительно ничего, совершенно ничего не понимаю! Это же абсолютное и полное сумасшествие!
– Он не страдал манией величия, он ею наслаждался, - припомнил Шульгин очередную медицинскую присказку. - Вот и наслаждайся. Теперь нам надо так же доходчиво объяснить Николаю Александровичу, что мечты сбываются не только в сказках…
Власьев, увлеченно перебиравший действительно незаурядную коллекцию ружей и винтовок, собранную друзьями и выставленную в застекленных шкафах и открытых пирамидах по периметру холла, увидел входящих Зою с Григорием и натуральным образом обалдел. «Сего числа», как говорили на царском Балтийском флоте.
Но все ж таки этот «отшельник», которому было полных тридцать лет к моменту Февральской революции и октябрьского переворота, имевший штаб-офицерский чин, состоявший в Гвардейском флотском экипаже, посещавший если не императорские, то великокняжеские балы, адаптировался к неожиданностям легче, чем представители «правящего ныне класса».
Две недели, прошедшие между первым и последним появлением бывшего юнкера флота на его кордоне, тоже дали обильную пищу для размышлений привыкшему к одиночеству, крайне неглупому человеку.
Он встал навстречу великолепно выглядящей паре, изобразил нечто вроде полупоклона-реверанса, пародируя манеры восемнадцатого, и то и семнадцатого века.
– Кажется, мы к чему-то настоящему подошли. Вы совершенно великолепны, Зоя Федоровна, да и вам, Григорий Петрович, этот костюм куда больше идет, чем прежний…
Он видел, что глаза женщины сияют именно тем образом, что бывает после… Понятно, о чем речь. Увы, давно уже ему ничего подобного не доставалось, кроме деревенских девок, соглашавшихся поваляться с «дядей Колей» и унести домой кабаний окорочок. А прелестницы Гельсингфорса и Питера сохранились только в долговременной памяти.
Ах, как было здорово! Офицеры линкора выходили в город, на Эспланаду и проспект Александра Второго, как один, в одинаковых белых кителях и белых брюках, белых замшевых туфлях, темно-красных шелковых носках и с такими же темно-красными платочками, уголком торчавшими из карманов кителей. Только золотые погоны отличались количеством звездочек и просветов. Такова была традиция кают-компании - при совместных выходах точно следовать форме одежды старшего офицера во всех ее мельчайших подробностях. Начинали гулянку в «Берсе», расположенном в уютном и прохладном погребке, а потом и дальше, дальше… Часикам к пяти утра возвращались на борт, а в восемь - подъем флага, как всегда, и служба.
– Я тут без вас немного распорядился, - словно бы смущенно сказал Власьев. - Горячие блюда готовить не взялся, а так закусить есть чем… - Он указал на небольшой журнальный столик правее камина. - Надеюсь, Григорий Петрович, вы наконец проясните… Упаси бог, отнюдь не настаиваю, мне и так неплохо, четвертую жизнь с вашей помощью живу, однако же интересно…
Шульгин понял, что, накрывая стол, кормя и занимая ребятишек, Власьев основательно приложился, было к чему, в баре и кухонных шкафах не одна сотня бутылок хранилась, изысканнейших сортов и марок. И душевное состояние требовало. Легко ли случившееся воспринять и наедине с собой пережить?
– Так. Генка, Вовка, идите в соседнюю комнату, там книжек интересных много, а мы тут будем курить и о взрослых делах разговаривать.
Ребята привыкли, что с отцом не спорят. Быстренько перебежали, куда указано. Взрослые остались втроем.
Зоя, продолжая демонстрировать непривычные Шестакову, но вполне понятные Шульгину качества, вместе с мужчинами выпила, закусила балыком и тут же потянулась к папиросе. Еще две стопки, и ей совсем станет безразлично, где и почему она оказалась. В тишине и покое - вот и ладно.
Не то - Власьев.
Ему Сашка, учитывая предыдущие приключения, в том числе и посещение квартиры на Столешниковом, минуя фактор матрицы, изложил адаптированный вариант событий. О посетивших Землю пришельцах, о том, как кое-кто из них в собственных интересах решил привлечь наркома Шестакова на свою сторону и снабдил его определенными сверхъестественными способностями… Лихарев, с которым бывший старший лейтенант имел удовольствие лично познакомиться, тоже работал на инопланетян.
– Не смею спорить. Весьма странной фигурой он мне показался. И квартирка его, и разговоры, что он вел. В каком, простите, году это случилось? - спросил Власьев, наливая себе еще.
– Да только что, с восьмого января начиная, вы что, так и не поняли?
– Понял. А в двадцать первом, когда Кронштадт и меня спасали, они вами не руководили?
– Определенно нет, - ответил Сашка, потому что действительно был в этом убежден.
Власьев ему поверил.
– Тогда - они правильно выбрали, - сказал старший лейтенант, единым глотком пропуская чарку. - Кого ж еще выбирать? Продолжайте.
Шульгин продолжил, подробно объяснив, что теперь у Зои с Власьевым нет иного выхода, кроме как провести определенное время здесь, в Форте, который обеспечит им полную безопасность, возможные удобства и радости жизни, по нормам на полста лет от них удаленного будущего.
– Мне, к сожалению, по тем же условиям необходимо какое-то время провести в Москве и не только, затем в ближайшие дни выехать по делам в Испанию. Месяца на два-три. Не мог же я вас там оставить. Сами сегодня видели…
Зоя, которую начало стремительно развозить, что вполне понятно, несколько раз Шульгина перебивала, отчего-то стараясь выяснить, какие именно женщины жили здесь до нее и в каких отношениях состояли с ее мужем.
Власьев деликатно молчал при этих выступлениях, отходил покурить к камину.
– Ты что, не поняла? - позволил Шульгин проявить свою натуру Шестакову. - Не жил я здесь никогда! Попал, когда мы уже с Николаем Александровичем в Москве расстались. Сам ничего не понимаю, память мне такую навязали. Сейчас с тобой говорю, вижу тебя, а про тех словно в книжке читал.
– А про колготки и бюстгальтеры откуда знаешь? Снимал и надевал?
– Ох и дура ты, Зоя! Сколько одно и то же повторять можно? Жили здесь до нас другие люди. Какими-то другими делами занимались, потом уехали, каждый по своему заданию. Временно мне свое имение передали, для пользования и под присмотр. И дополнительный пакет памяти вручили, со всеми необходимыми сведениями. Чтобы я здесь как дома себя чувствовал, как будто сам вместе с ними и в их время жил. Знание устройства дамских туалетов, как и во все другие времена, входит в «джентльменский набор». Доступно объяснил? Теперь я тебя спать отведу, день у тебя трудный выдался. А парней сам уложу, не нужно им мамашу в таком виде наблюдать. Пошли, пошли…
Он под руку довел жену до своего блока. Лучше было бы уложить ее в отдельном помещении, но кто его знает…
Время было по параметрам Валгаллы раннее. Темнеть только через час начнет. Но переживаний всем хватило.
– Ребята, - сказал он Вовке и Генке, - вот вам комната на двоих. Есть, пить не хотите?
– Нет, - хором ответили пацаны. Да и то, от пуза напились неизвестных им «Фанты» и «Пепси».
– Тогда - по койкам. Хотите, могу к вам одного собака пустить. Охранять вас будет.
– Давай! - заорали в полном восторге ребята. - Двоих давай. Чтоб каждому свой. Насовсем!
Вот уж кому совершенно без разницы, какие там вокруг вселенские вопросы решаются. Интересный дом, отец с матерью снова вместе, да еще и собаки невиданных размеров и невероятно ласковые.
Сашка дважды свистнул. Пес, которого звали, кажется, Флагман, пробежал по коридору, стуча когтями. За ним, будто как-то они там между собой договорились, вошел второй, Джокер. Сели у порога, вопросительно глядя на хозяина.
– Здесь ложись, охраняй, - указал он пальцем Флагману. На место и на ребят. Похоже, пес улыбнулся и кивнул. Джокер, прикинув расклад, выбрал позицию в углу, так, чтобы наблюдать за дверью и обоими окнами.
– Вот и хорошо. Отдыхайте, братва. А я еще с дядей Колей поговорю…
Власьев, пошевеливавший кованой кочергой поленья в камине, обернулся, похожий сейчас на адмирала Колчака, тогда еще лейтенанта, сфотографированного в кают-компании шхуны «Заря», с толстой книгой в руках, с бородой и в свитере под горло. Во время полярного похода.
Выглядел он совершенно трезвым.
– Так понимаю, Григорий Петрович, самое время нам сейчас по-настоящему поговорить. Пришло время?
– Наверное, пришло. Когда же еще?
– Значит, снова напьемся по-черному. Вас время не лимитирует?
– Абсолютно. Единственное, что совсем не лимитирует. Как бы странно вам это ни показалось.
– Вот и хорошо. Тогда садитесь, наливайте и рассказывайте. Всю правду, если считаете меня ее достойным, конечно. Если нет - какую-то часть. Но ни слова лжи, хорошо? Я, надеюсь, заслужил эту малость?
– Безусловно, Николай Александрович.
Неожиданно для себя Шульгин вдруг решил: давай-ка я на самом деле всю правду изложу. Просто так, чтобы остался на свете человек, знающий, какая несуразица вокруг происходит и куда обращаться, если не суждено будет Сашке сюда вернуться.
– Спасибо, - сказал, попыхивая трубкой, Власьев. Этого добра тут тоже хватало, не меньше полусотни «Петерсенов», «Данхиллов» и прочих изделий известных мастеров имелось в Форте. В отношении трубок вкусы совпадали у всех членов «Братства», и каждый выбирал образцы по душе из каталогов, а Левашов с удовольствием их копировал, как и банки с лучшими на свете табаками.
– Совершенно вы меня, Григорий Петрович, разутешили. Что спасли первый раз от большевиков, я уже неоднократно благодарил. Да, бывало, и свечку в Ниловой пустыни ставил, пока она еще функционировала. Жизнь подаренная - все равно жизнь, пусть моментами и казалась не заслуживающей, чтобы ее дальше влачить…
– Да что вы говорите, командир…
– Не перебивайте, - властным жестом предложил ему замолчать старший лейтенант. - Не знаю, как там у вас, но меня в ноябре шестнадцатого, когда вы с парусиновым чемоданчиком на «Петропавловск» явились и представились, словно бы стукнуло. Знак судьбы, мне показалось. Думаете, каждый начальник с посторонним юнкером так возился, как я с вами?
– Не каждый, Николай Александрович, чего я и удивлялся. Но думал, что это мой командир с эсминца, Василий Андреевич Бахметьев, так меня вам аттестовал… Он с меня обещание взял, что, когда в мичмана произведусь, вернусь на «Победитель»…
– Да-а, - загрустил Власьев. - Тоже хороший был человек, а куда сгинул, понятия не имею. С его характером ни за что при советской власти не выжить. Может, с белыми ушел, в какой-нибудь Бизерте дни коротает. Но мы ведь не об этом. К вашим словам о пришельцах с далеких звезд я отнесся с полным доверием и пониманием. Никак это с моими представлениями не расходится. Да и вот это все, - он обвел рукой по объему зала, - вполне подтверждает. И наш якобы «перелет» на броневике. Одним словом, я вам верю. Теперь скажите - что из этого следует?
– Вам правда здесь нравится? Чем-то похоже на ваш кордон?
– Похоже, - согласился Власьев, - Только намного лучше.
– Так я вам отдаю его в полное владение. Как настоящий феод. Будете здесь бароном. Со всем вытекающим. Дружину предоставить не могу, извините. Хотя… - Он задумался. - Можно и о дружине порассуждать. Тут километрах в пятистах интересные ребята живут. Вполне человекообразные, с психологией шестнадцатого века и техникой начала девятнадцатого. Я (вернее, тот, кто мною руководил) их от врагов оборонил и заработал чин «амбинантисиндрану», примерно вроде генерал-лейтенанта, а при их общественном устройстве это навсегда. Ну, представимся его соратниками, произнесем все положенные ритуальные фразы, отломятся нам положенные почести и мера власти…
– Это - потом, - сделал отстраняющий жест Власьев. - Вы лично - опять уйдете?
– Ненадолго. Причем постараюсь, чтобы скучно вам не было. Снабжения и снаряжения здесь навалом, на год точно хватит. Дичи в лесах и рыбы в реках немерено. Катер вам завтра покажу, на котором до конца горизонта идти можно. Отличный катер, в наше время таких не было. Живите, Николай Александрович, никто, наверное, в этой жизни большего не получал, тем более - почти бесплатно. Не зря те ребята планету Валгаллой назвали… А если очень нужно будет - я вам формулу оставлю, как меня вызвать.
– Договорились, Григорий Петрович, - старлейт, на которого одна за другой принимаемые рюмки оказали свое воздействие, невзирая на флотскую привычку, явно хотел спать. Лечь в постель и забыть до утра о странных и страшных событиях.
– Я вас провожу. Караульная служба здесь не требуется, а если суперкоты или динозавры какие придут познакомиться, собачки знать дадут. Да и я до утра здесь побуду, дела кое-какие есть. Пойдемте, Николай Александрович…
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Вернулся в наркомовскую квартиру Сашка через пятнадцать минут после ухода, выиграв таким образом около двух суток свободного времени, лежал на диване в кабинете, соображая: стоит ли задавать какие-то вопросы Лихареву или нет? Что он приложил руку к событиям на Селигере, сомнений не было: никто другой не смог бы вычислить местонахождение Власьева и шестаковской семьи. В особенности - службы Ежова. Им сейчас совершенно не до того. А раз поехали в богом забытое место - обязательно по наводке. Получается, что Валентин, после всего предыдущего, решил усилить свою позицию. Заложников взять, а в нужный момент, кося под дурака, объяснить возомнившему о себе товарищу, что есть и на него управа.
Не подействовало, значит, предупреждение Шестакова о том, что при любой нелояльности управа найдется прежде всего на самого Лихарева.
Ну, ветер тебе в парус, посмотрим, как дальше будет. Я-то здесь и из Москвы не выезжал, а завтра тебе сообщат, что операция провалилась и неизвестный «спецотряд ГУГБ» твоих порученцев привел к единому знаменателю. Вот и думай, товарищ резидент, в свои ли игры ты ввязался.
Хорошо, оставим это пока в резерве. Знание - само по себе сила.
Отдохнувший на Валгалле, проспавший почти двенадцать часов после горячего прощания в постели с чужой красавицей-женой, Шульгин позвонил Лихареву. Скорее - поразвлечься, чем по серьезной необходимости.
– Вы уже пришли домой, Григорий Петрович? - спросил Валентин, поскольку знал, в какой час и минуту тот вышел из Кремля.
– Да вот пришел. Чего-то скучно мне, за окном вечереет, а на закате меня обычно тоска одолевает. Может, встретимся? Идеи есть.
– Так жду вас на Столешниковом, или к вам подъехать?
– Подъезжай. Пешком я уже нагулялся…
Как ни в чем не бывало Шульгин начал обсуждать с Валентином вопросы подготовки к полету в Испанию. Наблюдая при этом за его побочными реакциями. Как раз сейчас, по расчетам резидента, Трайчук с его командой уже вез в Москву жену наркома и детей. Хороший козырь в предстоящей игре. Неубиваемый. А что ты будешь думать, братец, когда узнаешь, что твой посланец остался на кордоне с пулей во лбу, а заложники исчезли вместе с егерем, который так тебе не понравился во время ужина на Столешниковом? Потом вернутся выжившие чекисты, расскажут, что и как произошло, в деталях опишут и БРДМ, и «комиссара». Лихарев мгновенно все поймет, но делать-то что станет?
Пока же, сидя в квартире Шестакова, Шульгин излагал свой вариант действий в Испании. Его команда, в составе нескольких военных специалистов, дипломатов, а также личной охраны из лучших боевиков НКВД (по согласованию с Заковским), должна была вылететь в ближайшие дни из Москвы на Барселону самолетом типа «Родина», он же «Ант-37», или «ДБ-2Б» в военном варианте, на котором через полгода собирались в свой рекордный полет Гризодубова, Осипенко и Раскова. Ничего, обойдутся, тем более закончится он у них не самым лучшим образом. Они там пролетели около шести тысяч километров, а тут всего четыре. Зато пройдем над всей Европой на высоте, недоступной для наблюдения. Локаторов, слава богу, еще не придумали, через сутки будем где надо. Скорость в 250 км/час казалась Сашке безусловно смешной, но где здесь взять другую? Подождать бы годика два, и можно было бы лететь на «Ту-2» со скоростью под шестьсот километров, но ждать некогда.
Лихарев охотно согласился сделать все, что требуется. Он вообще на все соглашался, что говорило о его нечистой совести. Только что на часы не поглядывал в ожидании момента, когда сможет ставить так высоко поднявшемуся сановнику собственные условия.
Шульгин, в душе посмеиваясь, представлял, сколь глубоким будет разочарование партнера. Жаль только, что насладиться этим увлекательным зрелищем он не сможет. Валентин не признается, а Шестаков не спросит.
– Позвони сейчас Заковскому. Пусть ищет для меня настоящих бойцов в своих спецчастях. Наверняка ведь есть рота-другая, где люди и стрелять умеют (как следует стрелять), и совершенно не озабочены партийной принадлежностью объектов.
– Зачем же сейчас, и завтра можно, - возразил Валентин.
– Нет, сейчас. - Сашка, в свою очередь, изображал упертого на своем, вдобавок не совсем трезвого руководителя.
– Ну, ладно…
Лихарев потянул со стола телефонный аппарат на длинном шнуре, набрал известный ему номер. Услышал ответ.
– Нате, сами говорите…
Шульгин услышал на той стороне голос Заковского и сказал, что хотел.
Новый глава НКВД ориентировался в текущей ситуации гораздо лучше Лихарева. Не имеющий аггрианских привычек, соображал на местном уровне, что почем в разговоре с первым зампредом Совнаркома, которому обязан очень многим.
– Конечно же, сделаем, товарищ Шестаков. Сами завтра с утреца подъезжайте на нашу базу, я вам представлю лучшее, что у меня осталось, выберете, если понравятся…
– Договорились, Леонид Михайлович. Завтра в десять…
Конечно, людям Заковского было далеко до басмановских рейнджеров по всем параметрам, но все же это были парни, прошедшие полный курс диверсионной подготовки, имевшие от двух десятков до сотни парашютных прыжков, умевшие стрелять из всех видов оружия, водить автомобили и мотоциклы и даже немного знавшие языки. По преимуществу немецкий и польский (наиболее вероятный противник.в то время), но и это лучше, чем ничего. При случае смогут изобразить хоть интербригадовцев, хоть союзников Франко.
Уцелели они как единое подразделение (некоторый аналог нашего «Вымпела» или «Альфы») воистину чудом. Еще месяца два-три «нормального» развития процесса, и в лучшем случае их раскассировали бы по отдаленным армейским гарнизонам, а то и ликвидировали физически. Сталин как раз замыслил подобную акцию. Он не любил чересчур боеспособных подразделений, способных при случае сыграть в преторианскую гвардию.
К тридцать седьмому году существовала тщательно отработанная, на случай оборонительной войны на западных границах, система организации «профессионального» партизанского движения. Больше десяти лет готовились кадры из участников Гражданской войны и молодежи, составлялись оперативные и стратегические планы, закладывались в непроходимых лесных дебрях и ключевых населенных пунктах склады оружия, боеприпасов, продовольствия, иного снаряжения. Регулярно проводились сборы и учения командиров и рядовых.
В случае реальной войны (по типу той, что случилась в сорок первом} в тылу врага оказалось бы минимум несколько десятков тысяч настоящих партизан, великолепно подготовленных и вооруженных, имеющих средства связи, знающих местность, своих командиров и задачи, которые предстоит решать в случае того или иного развития обстановки на ТВД. Эти номерные, подконтрольные Центральному штабу отряды в первые, самые тяжелые месяцы разгрома и почти всеобщего развала фронта смогли бы стать, кроме всего прочего, центрами кристаллизации и переформирования для бесцельно бродивших по лесам окруженцев, утративших организацию, но сохранивших способность и желание воевать.
Однако стукнула в голову вождя очередная параноидальная мысль, и эта стройная, с большим умом созданная и поддерживаемая в рабочем состоянии система была обречена на беспощадное, можно сказать - ритуальное уничтожение. Официальным прикрытием «идеи» была возобладавшая в верхах доктрина «малой кровью на чужой территории», подкрепленная тезисом Ворошилова о том, что «Красная Армия будет самой нападающей из всех армий» и что «советский народ умеет и ЛЮБИТ воевать!».
На самом же деле Сталин и его окружение просто испугались. Что значит - иметь в стране рассредоточенную, но вполне подготовленную «вторую армию», отлаженную для ведения именно «партизанской войны» и практически недоступную повседневному присмотру политруков и особистов? Это будет пострашнее антоновщины, махновщины и Кронштадта, вместе взятых, если народу вдруг всерьез осточертеют правители и советская власть в целом.
И началось!
Руководство Центрального штаба устранили сразу и тут же приступили к планомерной зачистке среднего и низшего звена. Уничтожались базы, изымались средства связи и оперативные планы, людей тысячами объявляли иностранными шпионами и «перекрасившимися белогвардейцами».
Но система пока еще выживала, пусть и в ослабленном до полной потери активности виде. Заковский, прекрасно все понимая, с первого момента вступления в должность решил сначала сколь возможно эту акцию притормозить, а в дальнейшем и отыграть назад.
До наполеоновских планов Генштаба ему дела не было, а за погранвойска он отвечал и был уверен, что такого рода тыловое прикрытие и резерв им жизненно необходимы. Махновское прошлое тоже давало о себе знать, кто, как не он, лучше всех представлял себе боевые возможности армии, которую за сутки можно мобилизовать, при необходимости так же быстро растворить среди мирного населения, а потом вновь собрать для внезапного удара совсем в другом месте.
– Значит, в Испанию собрались, Григорий Петрович?
– Да вот посылают, на укрепление…
– Давно, между прочим, пора. Я тоже решил резидента сменить, не мой человек. Новому я дам к вам пароль, встретитесь, наладите взаимодействие. Нехорошие там сейчас дела творятся, неправильные. Заново всю работу придется ставить. Полномочиями вас снабдили достаточными?
– На первый взгляд практически абсолютными. А как в реальности пойдет… - Шульгин развел руками.
– Это всегда так, но вы далеко будете, помешать вам труднее. Так что будем надеяться. Ребят я вам хороших отдаю, и как телохранители сгодятся, и самостоятельные задачи могут решать. Командиром им назначу старшего лейтенанта Гришина. Надежный сотрудник, руководить умеет и в реальном деле многого стоит. Пригласить?
– Пригласите. Посмотрю на него, и решим окончательно.
Роман Гришин оказался парнем двадцати девяти лет, невысоким, не производящим впечатления атлета, но наметанным взглядом Сашка определил, что силенка у него имеется и телом своим он владеет как нужно. Внешность типично среднерусская, однако с легкой примесью чего-то восточного. Татарского, может быть, или северокавказского.
Культура речи хорошая, да и образование по тем временам солидное - девятилетка, трехгодичное пограничное училище, три года службы замначальника заставы в Средней Азии, год в маневренной группе погранотряда и уже четыре года в спецотряде ГУГБ. Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу».
– За что конкретно?
– Медаль за разгром банды Шермак-хана, орден по совокупности.
– Хорошо. Есть перспективы пополнить набор. Ставлю задачу - подобрать на ваше усмотрение десять бойцов, на которых вполне можете положиться в любой боевой ситуации вашего профиля. Согласны?
Гришин покосился на Заковского. В присутствии нового наркома и незнакомого товарища рангом не ниже, судя по тому, как держится, старший лейтенант чувствовал себя неуютно.
– Отвечайте, что думаете, - кивнул тот.
– Соглашаться или нет - я так не привык. Приказ есть приказ. А узнать, хоть приблизительно, какого рода задание предполагается, хотелось бы. Проще людей подбирать будет.
– Резонно. Детали узнаете в последний момент, а чтобы ориентироваться… Разведывательно-диверсионная работа в прифронтовой и зафронтовой полосе, охрана особо важных объектов, возможны операции по скрытой ликвидации противника. Действовать будем на значительном удалении от базы. Достаточно?
– Так точно. Разрешите выполнять?
– Выполняйте. Завтра примерно в это время я приеду посмотреть на людей. Затем получите дальнейшие указания.
Гришин снова посмотрел на Заковского. Тот кивнул и сделал отпускающий жест. Они вернулись на Лубянку.
– Примите мой совет, Леонид Михайлович, - сказал Шульгин, закуривая, - объявите в органы «сталинский» призыв. Наберите молодежь с третьих-четвертых курсов институтов и техникумов. Укомплектуйте ими все отделы, требующие специалистов. Повыдергивайте стоящих командиров из строевых частей армии и флота, подготовьте из них кадровых армейских особистов, знающих, за кем следить, что считать ошибками, что некомпетентностью, а что и действительно вредительством. Особое внимание сосредоточьте на дураках и провокаторах любого уровня. Тогда, если начнется большая война, а она обязательно начнется, не позднее тридцать девятого, вы, по крайней мере, будете иметь перед собой объективную картину, а не конъюнктурную туфту.
– Не лишено смысла, - согласился Заковский. - А вы по вашей новой должности меня поддержите?
– Это еще кто кого, - улыбнулся Шульгин. - Я сейчас уеду, вернусь ли живым - не знаю. Давайте завтра устроим посиделки с новым наркомом обороны. Постараемся так, чтобы вы с Иосифом Родионовичем стали друзьями или хотя бы единомышленниками…
– Помню, - с мечтательной улыбкой сказал Заковский, - как мы его дивизию ущучили под Пологами в девятнадцатом. Говорят, ускакал на коне охлюпкой[48], и сам босиком, только красные шаровары успел натянуть…
– И об этом вспомните, молодость всегда прекрасна, а старые обиды легко забываются. Да и обид скорее всего не было. Они ж вам тоже потом прилично накидали? Хотя бы и под Екатеринославом…
– Вы прямо Мефистофель какой-то, Григорий Петрович. Я уже с нетерпением жду свидания с коллегой. Безусловно, в вашем присутствии. Вы удивительно умеете людей сводить и с ними сходиться. Как тот раз с Лихаревым в машине… Его я давно знал, вас - совсем ничего, и обстановка была самая пугающая, и вдруг так легко все разрулилось… Без крови и с наилучшими для всех последствиями.
– Характер у меня такой. Легкий. С другим что на царском флоте, что в коридорах власти сложно выжить. Но я вот что скажу - в условиях диктатуры…
Заковский очевидным образом напрягся.
– Пролетариата, я имею в виду, а вы что подумали? Так в условиях означенной диктатуры единственно правильной методикой для ее участников является установление и развитие горизонтальных связей. Уловили ход моей мысли?
– Да, пожалуй, - после тяжелой паузы ответил Заковский.
– Вот на этом и закончим, чтобы не ставить друг друга в сложное положение. У вас гостей обедом кормить принято?
– Да это в секунду.
Заковский нажал коленом кнопку под столом, и тут же появился адъютант.
– Столик, это, накрой в комнате отдыха…
Обычно у крупных начальников в то время имелось под рукой от трех до пяти секретных кнопок: под столом, на столе, внутри письменного прибора и так далее, в меру фантазии. У Шестакова так же было.
Пока они докуривали, в комнату отдыха через секретную дверь проникли подавальщицы, обе не менее чем в сержантских званиях, и сервировали «достархан» в лучшем виде.
Заковский не стал занимать кабинет Ежова, может, из суеверия. Приказал оборудовать для себя совсем другой, на пятом этаже, присоединив к нему два смежных помещения. Получилось даже лучше. Светлее, просторнее и приятный вид из окон.
– Насколько я могу на вас рассчитывать, если по-настоящему? - спросил главный чекист, без всякого удовольствия разжевывая бутерброд с черной икрой.
– Соразмерно, - ответил Шульгин. - Если в нашем положении и в нашем кругу возможна какая-то степень доверия, то я вам ее предлагаю…
Он протянул через стол руку. Заковский ее пожал с явственной надеждой в глазах.
– Давай - на «ты»…
– Конечно, Лева. Я - царский гардемарин, ты - махновский контрразведчик. Согласен, что есть повод договориться?
– Есть, Гриша.
Тут и выпили, глядя друг на друга внимательно. Разумеется, каждый умел уловить в собеседнике даже намек на ложь и криводушие. Кажется, не уловили. Вздохнули облегченно.
Шульгин, словно вспомнив к случаю, спросил небрежно:
– А кто такой капитан Трайчук, знаешь его?
– Подожди… Да, помню. Из отдела Шадрина. Люди говорят - редкая сволочь. На общем фоне…
– Как у Бабеля? Папаша Мендель Крик слыл среди биндюжников грубияном…
– В этом роде. А почему спросил? Пересекались?
– Лично нет, но кое-что слышал. Если его больше нет с нами, горевать не будешь?
– Шлепнули? А кто?
– Пока не готов ответить. Возможно, те, кому он дорогу перешел. Ты лучше выясни, под кем он ходил и чьи приказы до сих пор выполнял. Что ежовец неисправимый - факт, не требующий… А непосредственно кому шестерил? Кстати, Шадрина выпустили? Он наш человек, как мне известно?
– Много тебе известно, - усмехнулся Заковский. - Первым делом выпустили. Хорошо, забить до смерти не успели, но потрудились над ним крепко. Я его прямо оттуда в нашу больницу отправил, а потом, наверное, в Мацесту путевку дадим.
– Вот-вот. Верные кадры надо беречь, затаившихся врагов выкорчевывать со всей пролетарской принципиальностью. А к Шадрину охрану советую приставить. Мало ли что…
На том и сошлись.
Когда назавтра Шульгин явился на базу спецотряда (это все было в центре Москвы, чуть подальше Донского монастыря}, старший лейтенант встретил его в полной готовности.
Сашка кстати, спросил у Заковского, под какой легендой он представлен Гришину.
– Пока мы не согласовали, я сказал - товарищ из Главного штаба. Не уточняя, из какого именно. По званию - комдив. Пойдет?
– Для начала - вполне.
Вошли в огромный зал, где раньше могли давать обеды на двести персон московского купечества, а сейчас занимались физкультурники и спортсмены, судя по запаху и общему беспорядку.
– Так, показывайте мне вашу гвардию, - дружелюбно обратился он к старшему лейтенанту.
Гришин показал. Как и требовалось, десять человек, все не старше двадцати пяти лет, в форме с петлицами от сержанта до лейтенанта, на гимнастерках, как тогда было принято, значки «ГТО». У одного - медаль «За боевые заслуги».
Не те, конечно, мужики, что он отбирал в Стамбуле в отряд Басманова, с печалью подумал Сашка. Те да, были настоящие волки. Да ведь и время другое. Будем работать с тем, что есть.
Сам Шульгин был сегодня одет в полевую армейскую, с черными петлицами без знаков различия форму и мягкие шевровые сапоги.
– Рад познакомиться, товарищи командиры. На данный момент я для вас никто и звать меня никак…
Уловил легкое изумление на лицах.
– Это и есть ваша тренировочная база? Я не понял. Насчет тира как и тому подобного?
– Так точно, товарищ… Тир есть, но в подвале, а спортом мы здесь занимаемся. Разве плохо?
– Пока достаточно. Мои слова вы должны понять следующим образом. Я с каждым из вас немного позанимаюсь, в качестве рядового спарринг-партнера, слышали такой термин? Работать в полную силу, не задумываясь о моих чинах и званиях. Кто мне не подойдет - тот продолжит службу в прежнем режиме. С остальными познакомимся поближе. Ведите, товарищ Гришин.
Спортзал был оборудован совсем неплохо, зря Сашка придирался. Все как положено - шведская стенка, маты, кони и козлы, канаты и кольца, прыжковая яма, помост для занятия штангой и гирями.
– Ну-с, как у нас с рукопашным боем? - расслабленным голосом осведомился Шульгин, расстегивая ремень и снимая гимнастерку. - Кто первый готов показать наглому чужому дядьке, что нельзя недооценивать командиров НКВД? Вводная - я без причины хочу одного из вас ударить по лицу, после чего отмутузить как следует и обезоружить. Вы идете мне навстречу по темному переулку, ничего не подозревая. Желающие - на ковер.
Тут последовала пауза. Никто не хотел вызываться, одно дело - незнакомый начальник, другое - тональность предложения настораживала.
– Так, - печально сказал Шульгин, выждав секунд десять. - Никакой инициативы, а она ведь тоже идет в зачет…
Тогда решился Гришин, уж ему-то деваться было совсем некуда. Шагнул на маты, пошел, заметно напрягаясь, навстречу противнику.
– А вот это лишнее, - с улыбкой комментировал Сашка, - вы же так по улицам не ходите, а тем более вдруг, с девушкой… Н-на! - с размаху бросил он ладонь вперед, целясь Гришину в щеку.
Тот уклонился и поставил блок, все ж таки был предупрежден.
Шульгин присел, уклоняясь влево, изобразил позицию «боевого гопака», почти коснулся спиной пола, правой ногой подсек чекиста под колено, стремительно выпрямляясь, толкнул его в грудь и окончательно поверг, прижимая к матам коленом. Показал, как расстегнул бы сейчас кобуру на поясе лейтенанта, если бы она там была, и в завершение приставил указательный палец к виску.
– Бах! Или как?
Встал, отпуская партнера и отряхивая ладони.
– Это все, что вы можете? Или еще раз попробуем?
Он с самого начала знал, что противостоять ему не в силах ни один из присутствующих, а может быть, и вообще ни один человек в стране, разве что найдется где-нибудь редкостный самородок его же типа, да вдобавок прошедший солидную подготовку в каком-то подобии шаолиньского монастыря. Но на службе в НКВД и в любой другой спецслужбе таких людей точно не было.
Шульгин просто хотел оценить реальные возможности каждого из будущих соратников при столкновениях с противником известных качеств, сориентироваться, как в дальнейшем с максимальной пользой использовать предложенных ему людей. Заодно и подучить кое-чему, опять же исходя из физических возможностей, скорости реакции и тому подобного.
Он гонял и швырял ребят минут сорок, и по одному, и группами. Наконец решил, что хватит, Хорошо, без серьезных травм обошлось, но тут он проявил всю возможную осторожность. Ушибы, ссадины и легкие растяжения не в счет.
– Так, все сели и отдыхаем, - приказал он, застегивая ремень. Наскоро произвел «разбор полетов».
– Одним словом так, большинство - на твердую троечку. Самбо вы более-менее знаете. Для нормальных обстоятельств сойдет. Отчислять никого не будем, я просто потом каждому объясню, на что обратить внимание при тренировках.
Сам он для себя выделил троих бойцов, включая и Гришина, показавших способности выше средних.
– Теперь пойдемте постреляем. Конечно, тир - это тепличный вариант, надо бы в поле, да параллельно с прочими упражнениями, но у нас пока просто прикидка… Знали бы вы, парни, - почти мечтательно произнес он, вертя в пальцах незакуренную папиросу, - что такое настоящая муштровка. Тридцать километров бега по нормативам мастера спорта, по грязи, по болотам, под дождичком, с ног сбивающим, и сразу - огневой рубеж! Если б там кто у меня на сто метров в круглую мишень не попал - сразу взводным в Кушку.
– Сурово, товарищ командир, - прозвучал голос из заднего ряда. Кто сказал - Шульгин выяснять не стал. Имеют право мыслить.
– Зато - справедливо. Или я рассчитываю на своего бойца, или нет.
Еще через час, отпустив группу отдыхать, Гришину он предложил задержаться.
– Заключение мое такое - подготовка так себе, но других, по-любому, взять негде, и времени на поиски нет. На задание отправимся дней через пять-шесть, если ничего не изменится. Мои рекомендации… - Он на память, ни разу не ошибившись в фамилиях, хотя услышал их только один раз при общем представлении, дал характеристику каждому из десяти, определил предварительно, как и кого собирается использовать в боевой обстановке и какого рода тренировки форсировать до момента убытия.
– Прошу прощения, товарищ…
– Сейчас и для вас - «товарищ Александр». Какое имя будет потом, узнаем по мере развития событий. Что вы хотели спросить?
– Где учат тем приемам, что вы нам показали? Я со многими мастерами встречался, но у вас совсем другой уровень.
– Таким приемам не учат. Да и нет никаких «приемов», у меня, по крайней мере. Наблюдаю за поведением противника, стараюсь предугадать его действия, даю возможность начать первым (за исключением особых случаев), после чего опережаю в темпе. А как, чем и куда бить - обстоятельства подскажут. А начнешь приемы вспоминать, тут тебе и конец. То же и стрельбы касается, главное - знать, куда попасть хочешь, а не как мушку с прорезью совмещать.
Видно было, что у Романа имеется еще много вопросов, но по краткости знакомства и разницы в положении он решил до поры оставить их при себе.
– А сейчас давай начнем соображать, какое снаряжение с собой взять следует, чтобы на месте от воли случая не зависеть, потому что лететь нам с тобой аж за Пиренеи…
Следующие три дня Шульгин спокойно занимался подготовкой к командировке. Дел было столько, причем в совершенно разных отраслях и сферах, что ему приходилось, как старшему офицеру линкора в романе «Капитальный ремонт», присутствовать во многих местах одновременно. Почти в буквальном смысле.
Встречаясь с Лихаревым, он внимательно наблюдал за его поведением и словами. Очень хотелось прижать резидента прямым вопросом, зачем он все-таки послал чекистов за его семьей, но благоразумие останавливало. Пусть еще понервничает. Наверняка он убедился в полном алиби Шестакова: тот из Москвы не отлучался, и почти каждый его час можно было задокументировать по показаниям многочисленных свидетелей. Догадаться же заблаговременно установить слежку за наркомом по аггрианской методике он не сообразил.
Тогда у Валентина непременно должна созреть гипотеза, что налицо очередное вмешательство настоящего Шульгина. Сначала он снабдил Шестакова информацией по Лихареву, а потом решил…
Вот что придумал Александр Иванович - и это главная загадка для Лихарева, - предоставить наркому свободу рук, вывезя его жену и детей за пределы досягаемости кого бы то ни было, или, наоборот, взять его на свой крючок, выбив столь козырную карту из рук «соперника»?
Валентин теперь оказался в совершенно дурацкой ситуации. Затевать разговор с Шестаковым он не может, чтобы не лишить себя статуса друга и союзника. Возвратившиеся с Селигера опера не смогли рассказать ничего, кроме того что неизвестный человек приехал на кордон в разгар операции на броневике вместе с какой-то «спецгруппой», назвался комиссаром госбезопасности. Разогнал чекистов, переломал машины, убил Трайчука, который неизвестно зачем подставился, прикрываясь наркомовской женой. Еще нескольких сотрудников застрелил егерь из винтовки. Уцелевшим ничего плохого не сделал, просто запер в сарае. Когда и как грозный «комиссар госбезопасности» уехал, не видел никто.
Стиль проведения операции чрезвычайно походил на манеру Шульгина и никак не укладывался в возможности нынешнего Шестакова.
Поэтому, уже накануне отъезда в Испанию, Лихарев как бы между прочим, между практическими советами и напутственными словами, по-товарищески осведомился, каким образом Григорий Петрович решил вопрос с семьей. Раньше-то уже был разговор, что живут они у Власьева на Селигере и возвращаться в Москву до полного прояснения обстановки не собираются.
– Сейчас вы уезжаете на неопределенный срок и с негарантированным результатом. Может, от меня какая помощь требуется?
– Не затрудняйся. - Прозвучали слова Шестакова холодно, никак не созвучно доброму порыву Лихарева. - Все, что нужно, сделано и делается, тут я спокоен. А тебе зачем лишняя головная боль?
Так и остался Валентин в неведении, в курсе ли Шестаков случившегося или по-прежнему уверен, что лесной кордон и пожилой егерь - достаточная гарантия безопасности его семьи.
Сталин принял Шестакова последний раз вечером накануне вылета, выслушал доклад, не вдаваясь в подробности. Мелочная опека - не его стиль. Цели ясны, задачи определены, дальше дело за исполнителями.
– Надеюсь, товарищ Шестаков, вы не рассорите нас с нашими нэ до конца определившимися друзьями, предполагаемыми врагами и нейтралами, которые совсэм нэ знают, чего им хотеть? Особенно не добившись желаемого результата, - словно бы в шутку сказал вождь, пожимая на прощание руку.
– Сделаю все возможное, товарищ Сталин. Тем более риск невелик. Республиканцы, не проигравшие войну, в любом случае будут нам более полезны, чем капитулировавшие. Гитлер тоже на мировой арене прямой опасности пока не представляет, а получив предметный урок, станет гораздо тише и сговорчивее, нежели он же, вкусивший радость победы. О Муссолини я уже говорил, Что до англо-французов и Лиги Наций…
Им нужно при каждом удобном случае тыкать в морду их же политику двойных стандартов, с высоких трибун каждодневно настаивать или на одновременном и стопроцентном выводе оттуда всех и всяческих иностранных войск под международным контролем, или издевательски предложить введение самых жестких санкций против нарушителей «невмешательства». Нам их санкции глубоко по барабану, а вот итальянцам и немцам - отнюдь! Вообразите, товарищ Сталин, что ОНИ НАМ могут противопоставить? Вообще все! Английского флота мы не боимся. Все пехотные дивизии Польши раскатаем западнее их границ. Немцам до нас не добраться чисто географически. То есть - пошли они все…
Сталин и сам любил вставлять в разговор грубые и даже матерные выражения, потому резкие выражения своего сатрапа[49] принял с пониманием. Значит, уверен в себе человек, коленки у него не дрожат.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Самый дальний на тот момент в мире бомбардировщик двенадцать часов трясся в воздухе, бренча какими-то незакрепленными железками, продуваемый через тысячи щелей ледяным ветром, без всякой герметизации, тащась ненамного быстрее хорошего автомобиля на высоте вершин Эльбруса. Пассажиры, предусмотрительно одетые в трехслойное нижнее белье, как у водолазов, меховые кожаные костюмы, а поверх еще и полушубки, сорокаградусный холод переносили нормально, хуже было с вибрацией, утомительным гулом моторов, воздушными ямами и нехваткой кислорода. Многим такой комплекс непривычных для цивилизованного человека факторов показался тяжеловатым. А куда денешься? За борт не прыгнешь, а чтобы освободить бунтующий желудок - пакет из толстой бумаги выдан, и все на этом.
Шульгину и еще нескольким людям на борту, в том числе экипажу, было полегче. Сашка время от времени заходил в пилотскую кабину, где за штурвалом сидел знаменитый летчик Громов, которому, как двадцатью пятью годами позже Титову, волею вождей не позволено было стать «летчиком номер один».
Чкалов первым пролетел на «РД-25» 10 тысяч километров из Москвы в Портленд (США) за 63 часа, а Громова, который чем-то Сталину не очень нравился, отстранили от полета, чтобы не стал первым. Однако, назло всем, ровно месяцем позже он на таком же точно самолете покрыл на полторы тысячи километров больше за 62 часа, имея в баках такой остаток горючего, что только мексиканская граница помешала установить суперрекорд.
До того, как он первый раз попал в прошлое, в двадцатый год, Шульгин не подозревал о том, насколько это неприятное чувство - смотреть на симпатичного тебе человека и разговаривать с ним на равных, зная всю его предстоящую жизнь до самого конца. Причем не важно - предполагается ли это будущее счастливым или наоборот. В первом случае даже хуже. Допустим, в оригинале истории Михаил Михайлович был жив еще и к моменту исхода наших героев на Валгаллу. Генерал-полковник, легендарный Герой, на восемьдесят пятом году жизни сохранял бодрость и кураж. А что с ним случится теперь? Не угадаешь, в какую сторону твое вмешательство может изменить судьбу великого летчика. Славы, может, и прибавит, а жизни?
Занимаясь глобальными проектами, выносишь за скобки судьбы миллионов, успокаивая себя тем, что это вроде как не всерьез, нечто вроде компьютерной игры на историческом материале. Но глядя в глаза конкретному человеку, вдруг понимаешь, что для него-то все по-настоящему, что у него другой жизни нет и не будет, что бы там ни творилось на других исторических линиях.
Снова на философию потянуло, а лучше бы о собственной судьбе и жизни подумал, сам тоже далеко не бессмертен, и гомеостата с собой нет.
В любой момент крылья могут отвалиться, движки заглохнуть, обледенение начаться. Сашка куда более надежных реактивных самолетов не любил, именно потому, что осознавал, садясь в кресло, полную утрату власти над собственной судьбой и обстоятельствами. Только в самолете посещало его это отвратительное чувство бессилия.
Каково же этим летчикам, сидящим рядом с ним в освещенной только лампочками приборов кабине, чуть не ежедневно подниматься в небо, доверяясь примитивной технике, неизвестно кем сделанным моторам? Вон, великий Чкалов убился в предыдущей жизни - как раз движок и остановился в нескольких метрах от земли. Шульгин обычному «Москвичу» не слишком доверял, если не перебирал его своими руками до последней гайки.
А этот «рекордсмен» летит и летит. Пока. Шульгин суеверно выставил указательный палец и мизинец левой руки.
– У вас, Михаил Михайлович, перерывы бывают? - спросил он Громова, взяв из рук бортмеханика гарнитуру СПУ[50].
– А в чем дело? Мы вообще на автопилоте идем. Спать я пока не хочу.
– Так, может, встанете, разомнетесь?
Они устроились в отсеке верхней огневой точки, Шульгин на откидном сиденье, летчик на патронных ящиках. Громов знал, кого он везет, но познакомились они за пару часов до вылета и близко, как следовало, пообщаться не успели, обменялись лишь несколькими дежурными фразами. Потому пилот смотрел на зампредсовнаркома слегка настороженно. Власть - она и есть власть, со всей свойственной ей дурью и хамством. Такие же примерно товарищи его в рекордный полет не пустили, намеренно сломали самолет, чтобы первым стал любимец Сталина и пролетарий, а не своевольный бывший дворянин.
Шульгин протянул командиру плоскую фляжку с лучшим из возможных коньяков.
– До посадки далеко. Взбодримся?
Громов возражать не стал.
– Хорошо. Прямо нектар. Смотрю я на вас, товарищ руководитель делегации, и удивляюсь. Сколько со мной серьезных людей летало, но даже и представить не мог, чтобы на пяти километрах коньяк пили и шуточки шутили. Кабину после них мыть приходилось, и не раз. Вы не из бывших летчиков?
– Нет, я из бывших миноносников Первой мировой. Еще бы посмотрел, как вы себя почувствовали в восьмибалльный шторм на «Новиках», сутки и больше…
– Понимаю и уважаю, - сообщил Громов, снова приложившись.
– Закурить здесь можно?
– Попробуйте, только удовольствие вряд ли получите… Кислорода и так мало.
– Значит, обойдусь.
Сашка давно уже думал, как быть, если самолет все-таки начнет падать. Удастся ли с помощью все той же формулы удержать его в воздухе или даже попытаться перебросить на место? Шесть тонн БРДМ получалось через полсотни парсек, а двенадцать тонн в пределах Европы?
Он надеялся, что сумеет, только делать это будет при последней крайности, до упора «не умножая сущностей». Что скажет тот же Громов, если его самолет после отказа, допустим, одного или двух сразу моторов все же приземлится в Барселоне, да еще и на несколько часов раньше расчетного времени, показав среднюю путевую скорость километров семьсот в час?
Сейчас, чтобы скоротать время и отвлечься от неприятных мыслей, спросил то, о чем собирался заговорить только после прибытия на место.
– Михал Михалыч, а что вы скажете, если я предложу вам должность командующего всей республиканской и нашей авиацией? Вы же по натуре руководитель, а не просто пилот-рекордсмен. Не так?
Он знал, что с началом Отечественной войны Громов с должности командира отряда летчиков-испытателей был назначен командиром авиадивизии, потом воздушной армии и руководил весьма успешно, в отличие от многих героев Испании и Халхин-Гола.
– Имеете полномочия? - со странной усмешкой спросил Громов.
– А вы меня что, за фраера держите? - Иногда следует ошеломить человека неподходящей к настроению лексикой.
– Да нет, что вы! Просто я подумал…
– О том, что власть вас не уважает? В моем лице - уважает. И ближайший год, надеюсь, товарищ Сталин моих прав не урежет. Хотите? - Шульгин порылся в нагрудном кармане под курткой, вытащил четыре рубиновых «ромбика». Протянул на ладони пилоту. - Прилетим живыми - прикалывайте. Вы уже комдив.
– Даже так? - Громов качнул головой. - А если не возьму?
– Михал Михалыч, вам нужны такие эксперименты? Я, конечно, на вас не обижусь - насильно мил не будешь. Не захотите, вернетесь в Москву в прежнем качестве. Не больше и не меньше. Только, пожалуй, всю дальнейшую жизнь будете терзаться вопросом, что вы на самом деле выгадали и что потеряли…
– Слишком уж неожиданное предложение. До земли дадите подумать?
– Чего ж, думайте. Полезное дело, хотя и не всегда. Кое-что на эмоциях лучше удается…
В отсек неожиданно начали протискиваться еще две неуклюжие фигуры. Виктор Овчаров, которого Шульгин решил взять с собой в качестве дипломатического советника (тоже пока «без портфеля», но с перспективой), и Иван Буданцев, будущий советник по вопросам внутренней безопасности. Фактически - начальник его личной контрразведки, которую он решил создать в параллель к республиканской, пребывающей в почти пол- • ном развале, да вдобавок нашпигованной агентами любой ориентации.
Сашка познакомил столь непохожих людей, рассказал, как при драматических обстоятельствах едва не пересеклись их пути и какую роль каждый из них сыграл в той истории, предложил им общее увлекательное дело. Так вдобавок удачно получилось, что они вдруг ощутили взаимную симпатию, что иногда случается без видимых причин.
В отсеке сразу стало очень тесно.
– Что, соскучились?
– Не так чтобы очень, - ответил Овчаров, пытаясь как-то устроиться, - да слишком нудно там сидеть. Летал я на приличных самолетах, да еще и с подачей закусок и напитков, а тут как бычки в консервной банке. Вздрогнем? - вытащил из-за пазухи собственную фляжку.
– Мы уже, а вы давайте, только не увлекаясь…
– Увлечешься тут. Нос скоро отмерзнет, - пробурчал Буданцев. - Вы всегда в таком холодище летаете? - спросил он Громова.
– Летом чуть теплее, - усмехнулся тот. - Так я пойду?
– Здесь вы командир. Не смею задерживать…
– О чем говорили? - спросил Овчаров, когда они остались одни.
– Да так, пристрелка. Я предложил ему должность главкома республиканской авиации, он обещал подумать.
– Считаешь - справится?
– Имею основания. По крайней мере, на мой взгляд это лучшая кандидатура из имеющихся. Начальство наше все стремится выдвигать асов. Слабость у него такая, вызванная почтением к непонятному. Над облаками летаешь, умеешь бочки крутить и чужие самолеты сбивать - и вперед! А что человек, кроме как самим собой, ну, может, звеном или (что реже) эскадрильей, ничем руководить не в состоянии, это, считает ся, дело десятое. Нам, напротив, я уже сто раз это повторял, организаторы нужны, со стратегическим мышлением и железной волей. Что сильнее - войско львов, возглавляемое бараном, или наоборот?
– Ну-ну, посмотрим…
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
К моменту появления Особого представителя, названного, впрочем, в письме к испанскому правительству всего лишь «поверенным в делах», обстановка в расколотой примерно пополам между республиканцами и мятежниками Испании складывалась следующим образом.
В конце декабря 1937 - начале января 1938 г., несмотря на потерю северных провинций и активизацию поддержанных немцами и итальянцами мятежников, военное командование республики, преодолевая внутренние разногласия, решило провести крупную наступательную операцию под Теруэлем. Планировалась она без должного размаха, как отвлекающая, имея главной целью предотвращение генерального наступления франкистов на Мадрид.
Вместе с тем при взгляде на карту любому грамотному военному сразу же бросалась в глаза стратегическая перспектива. Теруэль находился на вершине обращенного к юго-востоку выступа, глубоко вклинившегося в республиканскую территорию. С этого плацдарма мятежники имели реальную возможность прорваться к Средиземному морю и в очередной раз рассечь оставшуюся территорию республики пополам, что в перспективе вело к неминуемой катастрофе, Ни Каталония, ни Центр поодиночке долго сопротивляться не могли.
В случае же успеха республиканцев в крайне тяжелое положение попадали мятежники. Условия местности и неожиданно суровая погода (метели, мороз до -20°С) заставили бы их отступать до ближайших укрепленных позиций у Альбарассина, а то и Сигуэн-сы, а это более ста километров. В случае правильной тактики и своевременного ввода резервов отступление вполне могло превратиться в паническое бегство, при котором франкисты потеряли бы свои самые боеспособные части. Остальных, по расчетам, для восстановления фронта явно не хватало. Вырисовывался аналог Курской дуги (или того стратегического «мешка», что немцы устроили Красной Армии под Белостоком).
В развитии операции возникала возможность нанести заранее подготовленные удары вдоль Эбро на Сарагосу и от Сигуэнсы в направлении Бургоса, столицы мятежников.
В условиях маневренной войны и невысокой плотности войск задача вполне решаемая. Генерал Брусилов выиграл летнюю кампанию шестнадцатого года в куда более сложных условиях. Да и Слащев бы не подкачал, окажись он сейчас в Испании.
Сосредоточив на фронте 5 корпусов, в том числе три корпуса достаточно обученной и прилично вооруженной Маневренной армии, 135 орудий, 150 танков и бронемашин, значительную часть авиации, Народная армия тремя ударами по сходящимся направлениям прорвала фронт мятежников, окружила 52-ю пехотную дивизию франкистов и силами двух дивизий создала внешний фронт окружения. Остальные соединения ворвались в Теруэль.
Мятежники, в свою очередь, перешли в контрнаступление, бросив в бой деблокирующую группировку из шести дивизий, но успеха не добились, столкнувшись с введенным из резерва 5-м армейским корпусом. К 7 января остатки франкистского гарнизона города сдались. Серьезные потери и экстренная перегруппировка войск заставили Франко отказаться от очередного штурма Мадрида. Пожалуй, это была одна из немногих правильно спланированных операций за все время войны.
Только ни в коем случае нельзя было ее останавливать, но увы, как раз к такому решению склонилось республиканское командование, надумав срочно перебросить большую часть сил и техники на Южный фронт, для наступления на Кордову и Гранаду.
Ничего глупее нельзя было придумать.
…Шульгин в Москве зря времени не терял. Естественно, к описываемому периоду ни один советский военачальник опыта современной войны не имел и иметь не мог: с двадцать второго года, за исключением локального конфликта на КВЖД, Красная Армия не воевала. Гражданская была слишком давно и, вопреки мнению тогдашних теоретиков, никаких стратегических уроков дать не могла в силу своей абсолютной (в военно-теоретическом смысле} уникальности. Соответственно, подбирать себе помощников по критерию воинских талантов Шестаков не мог.
Зато мог Шульгин, руководствуясь знанием будущего. Исходя, к примеру, из того, кто как себя проявил в первые полгода Отечественной войны в аналогичной, но на самом деле еще более трудной, чем у республиканцев, обстановке.
Главным военным советником, а фактически Главкомом всех вооруженных формирований республики он решил назначить комдива Рокоссовского. Командующим объединенной группировкой советских «добровольцев» - комбрига Петрова, прославившегося во время обороны Одессы и Севастополя. Оба летом сорок первого проявили себя наилучшим образом. Первый - командуя механизированным корпусом, вынужденным сражаться без приказов, снабжения, знания стратегической ситуации, второй сумел создать боеспособную Приморскую армию из остатков раздерганных и деморализованных частей, когда многозвездные генералы теряли управление сверхмощными группировками и бежали в тыл «вперед собственного визга». Он же успешно оборонял беззащитные с суши приморские «крепости», проявляя чудеса изобретательности в безнадежной, казалось бы, обстановке.
Громов принял предложение Шульгина возглавить авиацию, Кузнецов - флот.
Теперь он имел рядом с собой людей, тех самых, о которых говорил Сталину, - способных раскованно мыслить, поступать адекватно любой возникающей ситуации, отстаивать свое мнение на любом уровне власти и, в отличие от того же Жукова, воевать не числом, а умением.
В первые дни, войдя в курс дела и наведя порядок среди непосредственно подчиненных ему советских командиров, Шульгину пришлось заняться дипломатией.
С трудом удерживаясь в пределах протокола и обычной вежливости, он только что за грудки не тряс военного министра-социалиста Индаленсио Прието, толстого, вальяжного сибарита, обладавшего в то же время железной волей, помноженной на скрытность и хитрость. Шульгин знал, что его стратегической идеей было всемерное ослабление влияния на военные дела коммунистов и их союзников, а войну он собирался выиграть позже. Рассчитывая, и небезосновательно, что после установления однопартийной «демократической диктатуры» англо-французы начнут помогать республике по-настоящему. Если останется кому помогать.
Шульгин же мыслил совершенно противоположным образом: сначала победа, а уже потом - политические игры. Между теми, кто уцелеет и вообще к ним будет допущен.
Безусловно, в белом Крыму было гораздо легче. Совсем разные вещи - сплоченная команда друзей-единомышленников, прочный тыл, неограниченные денежные средства, армия, пусть и утомленная шестилетней войной, но по-настоящему профессиональная, готовая сражаться до последнего бойца, и тот бедлам, который Шульгин увидел здесь.
Воевать (в современном смысле) испанцы не умели, единственный теоретический багаж офицеров и генералов - проигранная сорок лет назад война с американцами. Довоенная армия развалилась, новая так и не сформировалась как единый боевой механизм. Добровольцы-республиканцы и интербригадовцы горели, как говорится, энтузиазмом и ненавистью к фалангистам, но представляли собой вооруженную лишь легким стрелковым оружием массу, мало дисциплинированную, плохо управляемую, достаточно стойкую в обороне, но наступать способную только в плотных боевых порядках на дистанцию прямой видимости.
Сохраняющееся в стране «демократическое коалиционное правительство» представляло собой наихудший в условиях гражданской войны способ управления, и чем дольше она тянулась, тем острее проявлялись его органические пороки: межпартийные дрязги, неспособность оперативно решать неотложные вопросы и проблемы, которых становилось все больше по той же самой причине.
Шульгин за дни, проведенные в бесконечных совещаниях с нашими советниками и представителями, а также и испанскими «товарищами и не очень», убедился, что наяву дела обстоят еще хуже, чем представлялось по книгам и документам.
Чтобы вести и выиграть гражданскую войну, нужна диктатура, не менее жесткая, чем франкистская здесь или большевистская в России. Из-за ее отсутствия там проиграли белые, здесь проигрывали республиканцы, а как ее учредишь, не устроив очередного государственного переворота? Главное - какими силами?
Коммунисты взять всю полноту власти не способны, не то руководство и не тот «человеческий материал». Очевидно, что при первой же попытке все их нынешние союзники разбегутся или перейдут в вооруженную оппозицию. Начнется бессмысленная и кровавая борьба всех против всех, что будет на руку только Франко. В считанные недели его войска овладеют инициативой полностью и окончательно.
Судя по радиограммам из Москвы и Севастополя, подготовка танковой бригады и конвоя затягивалась и затягивалась, в полном соответствии с теорией «трения» Клаузевица, если даже исключить прямой саботаж, чего исключать было нельзя.
К исходу первой недели Шульгиным овладело чувство, близкое к отчаянию. Как бывает на экзамене - время неумолимо убегает, а ты тупо смотришь на чистый лист бумаги, грызешь ручку, ощущая в голове гулкую пустоту и понимая, что спасения нет.
Ввязался, на свою голову! Войны решил в одиночку выигрывать! Прав был «писатель»: его элементарным образом подставили, жертвуя фигуру, чтобы на другом конце доски приобрести качество. Внушили, что он - сможет, а на самом деле просто убрали из Москвы, без пошлых приемов эпохи «плаща и кинжала». Разыграли классическую «вилку» - в итоге Лихарев и косвенно Сталин получили свободу рук в столице и стране, а в результате катастрофического провала Шестакова здесь республика падет еще быстрее, со всеми вытекающими.
Гениально, ничего не скажешь! Все хитроумные планы Антона летят к черту! Никакой новой геополитической конфигурации не получится, все случится с точностью до наоборот. Кто в таком случае выигрывает?
Самое главное, преодолевая сопротивление, наружу из глубин подсознания со все большим напором карабкался Шестаков со всеми своими комплексами сталинского чиновника. Его обуревал страх поражения и неминуемой расплаты, которая ждет по возвращении в Москву. Страх и тоска за семью, заброшенную неизвестно куда, глубокая депрессия, вызванная потерей собственной личности. Все это так или иначе прорывалось в психику Шульгина, будто первые приступы овладевающей им шизофрении, а также маниакально-депрессивного психоза.
Он отодвинул бумаги, с опаской и ненавистью покосился на стол с десятком разностильных телефонов, от деревянного, инкрустированного пластинками слоновой кости, до полевого «Эриксона» в кожаном футляре. Любой мог зазвонить, сообщая об очередной пакости. Хороших вестей он не ждал. Ниоткуда.
Вышел на балкон глотнуть холодного морского ветра, и почти сразу его вдруг накрыла новая черная волна удушающей депрессии. Намного более сильная, чем все, что ему приходилось переносить прежде. Был бы он сам по себе, наверняка добрался до своей походной аптечки, проглотил нужную дозу специального препарата. А сейчас Шестаков не позволял двинуть ни рукой, ни ногой. В буквальном смысле - вздохнуть невозможно - горло словно удавкой перехватило, воздух с сипением и всхлипами проталкивается через бронхи, и будто при сильном приступе стенокардии - вспышка страха перед близкой смертью. Страха такого рода, что проще самому шагнуть в жадно ждущую темноту внизу, чем дальше его выносить…
«Инфразвук, - мелькнула последняя здравая мысль. - Очень похожая симптоматика… Ну уж хрен, не поддамся!» Вообразил себя чем-то вроде колонки мощного динамика, зрительно представил распространяющуюся во все стороны контрволну.
«Интерференция, мать вашу, интерференция!» - он будто бы генерировал сейчас колебания мирового эфира, способные в противофазе погасить, свести на полный ноль те, что были направлены на него.
И ведь получилось, как ни удивительно. Отпустило.
Сашка в ярости ударил кулаком по перилам балкона.
Его штабной номер располагался на пятом этаже отеля «Альфонс», остальные комнаты по обе стороны длинного коридора занимали сотрудники миссии, несмотря на поздний час продолжавшие работать по намеченным планам. Их, похоже, удар не коснулся, ни криков ужаса не донеслось из соседних окон, ни иных признаков нарушения заведенного в «департаменте» порядка. И слава богу! Логически все объяснимо - обычные люди не то что субъектами, объектами игры не являются. Они лишь фон, антураж и реквизит «представления».
«Нет, ну, паскуды! Разве мы так договаривались? Это уже не благородная игра, это - «ход конем по голове».
– Стоп, стоп, парень, - тут же сказал он сам себе вслух, дрожащими пальцами поднося огонь к очередной сигаре. С ними тут было хорошо, испанские товарищи снабдили несколькими коробками самых дорогих и ароматных. - Если все обстоит как раз наоборот? Мы не проигрываем, мы все делаем правильно, даже успешно, они это поняли раньше, чем я, вот и подсуетились. Наемного убийцу подсылать или бомбардировщик на отель направлять не захотели, решили вот так попробовать. Элементарная вещь. Главное - не поддаваться. Впервые, что ли?
Внезапный, парализующий волю удар из-за угла он отразил, хотя момент для него был выбран мастерски. Настроение и так было почти на нуле - объективные обстоятельства плюс заранее наведенная «адреналиновая тоска». Враг рассчитал, что он начнет метаться в поисках выхода из безвыходной ситуации, наделает непростительных ошибок, бросит все и сбежит, либо - голову в петлю или пулю в висок. Шульгин по своей прежней специальности великолепно знал, что подвести даже сильного человека к мысли о самоубийстве не слишком сложно. Как в классическом примере из психологии - достаточно везде развесить таблички «Выхода нет!».
А что, если со стороны противника это тоже акт отчаяния? Последняя попытка переломить ситуацию в свою пользу? Раз они не захотели ждать «естественного» развития событий, то, возможно, в ближайшее время должно случиться нечто, окончательное ломающее их планы?
Один вопрос - случиться «наяву» или…
Он поспешил к батарее телефонов, связался с Рокоссовским, с Овчаровым, состоящим при дипломатическом полпреде, с информаторами в аппарате премьер-министра и ЦК компартии.
Абсолютно никаких тревожащих или (вдруг!) обнадеживающих сведений. На фронтах затишье, в тылу нормально. (В пределах здешней нормы) В любом случае ничего такого, что оправдывало бы силовую акцию в его адрес.
Значит, причина в самом Шульгине: он уже придумал и сделал или собирается сделать нечто такое, что даст ему решающее преимущество. Знать бы только: что же именно?
Снова всплыла фраза Шекли: «Только не политурьте!»
Значит, сполитурил?
А теперь что делать, если не знаешь ничего? Или знаешь, но не можешь вспомнить?
Что бы такое придумать, неожиданное, какой очередной гамбит или «дурацкий» снос на мизере?
С балкона открывался изумительный вид на ночной город, на россыпи огней. Днем можно любоваться панорамой порта и неспокойным зимним морем.
Это ведь Барселона подразумевалась в «Хищных вещах века»? Нынешняя мало похожа на прелестный «город дураков», но все равно забавно искать соответствия. Ивану Жилину комфорта досталось побольше, и задача у него, в сравнении с Сашкиной, была пустяковая. Подумаешь, «слег»! Было с чего напрягаться при их победившем коммунизме.
Если он завтра отдаст приказ начать генеральное наступление, встревожит это партнеров? Вряд ли. Смысла нет, стратегического и даже тактического.
А на сторону Франко со всей командой перебежать? То же самое. Да такое ему в голову под любым прессингом прийти не могло.
Но был же повод для внезапной, по всем меркам жестокой агрессии, не могло его не быть.
А если с другой стороны посмотреть?
Чего сейчас игроки от него наверняка не ждут? Это мы и сделаем.
Он выглянул в коридор. У выхода на лестничную площадку дежурил охранник из отряда Гришина, одетый в «моно» - обычный здесь для большинства мужчин и женщин темно-синий комбинезон на молниях. Вооружен испанского производства «маузером» на ремне-патронташе через плечо. Прямо Юл Бриннер, только шляпы не хватает.
Увидел начальника, подтянулся, отдал честь.
– Лозовой, имей в виду и передай по смене, я очень занят, до утра никого не принимаю, ни под каким видом. Уловил - никого!
– Так точно, компаньеро Алехандро, - такой был один из его псевдонимов.
Шульгин запер дверь, отключил телефоны, прошел в кабинет, уселся по-турецки на ковер.
Сосредоточиться, прогнать бренные мысли, создать в уме нужную пространственную конструкцию, сформулировать мантру…
Вместе с памятью обоих своих «дублей» к нему перешла и способность «второго» Шульгина синергично использовать возможности «основного» мозга и матрицы. В данном случае, пожалуй, даже двух матриц, необъяснимым для него образом сосуществующих в общем ментальном пространстве. Оригинал, копия и копия копии, действующие «нераздельно, но неслиянно».
Физическое тело Шестакова он тащить через астрал не собирался. Его личность - тем более. Пусть «остается на хозяйстве». Если в помещение кто-то войдет, вопреки приказу (мало ли какие возможны неожиданности, посю- и потусторонние), сработает сторожевой пункт, Григорий «проснется», энное время сможет функционировать в автономном режиме за счет общей памяти, тут и эфирное тело Шульгина подоспеет, возьмет управление на себя.
Таких манипуляций с астралом, как эта, Сашка еще не проделывал, но кое-что похожее им с Новиковым и Удолиным удавалось. Правда, тогда они уходили в Гиперсеть или в Замок, а здесь он решил попробовать свои силы в ментальной телепортации в пределах земного, материального мира.
Он совершенно не боялся развоплощения или Ловушки Сознания. Из обрывков теории, которыми он владел, следовало, что тонкое тело в вещном мире подвергается значительно меньшим опасностям, чем наоборот. Однако, если верить воспоминаниям, физические переходы в вымышленный (не важно кем} Замок тоже обошлись без эксцессов. Ухитрился же профессор притащить оттуда спиртное и распить его на Земле с ожидаемым результатом.
Ну, сутры-мантры, не подведите!
Ощущение, будто с закрытыми глазами вдруг очутился в кабинке свободно падающего лифта. Совсем ненадолго. И вот перед ним перспектива ярко освещенного ночного Арбата. Того самого, старого, в смысле - довоенного, мощенного брусчаткой, с отблескивающими в свете фонарей трамвайными рельсами и обычными электрическими лампочками в жестяных абажурах на столбах.
А он словно парит над ним этаким эфирным облачком, медленно перемещаясь в сторону Смоленской площади.
Быстро, найти объект!
Выбирать особенно не из чего, время близко к полуночи, прохожих совсем мало. Да вот хотя бы этот!
Шульгин понял, что внедрился, и тут же понял, в кого. Рассмеялся внутренне. Надо же… Впрочем, чему удивляться. Знаменитая режимная трасса, по которой дважды в сутки проносится своим кортежем на дачу и обратно в Кремль вождь и учитель, потому едва ли не каждый второй праздношатающийся гражданин - сексот[51], особенно ночью, ближе к часу проезда.
Вот он в такого и угодил. Так, пожалуй, даже лучше: лишний реквизит появился, «корочки» и «ТТ» в кармане пальто.
Дом, где обретался писатель Юрий, был совсем рядом, наискосок через дорогу. В первом этаже - магазин «Военная книга», просуществовавший до конца шестидесятых.
Он поднялся по чугунной лестнице с перилами в стиле модерн и до белизны вытертыми рифлеными ступенями к нужной двери, грязно-бурой от времени. Лет тридцать не красили. В отличие от всех прочих дверей площадки на ней белела кнопка лишь одного звонка и отсутствовал длинный список жильцов, как рядом, с указанием: «Папанину - тринадцать длинных, два коротких».
Позвонил, как требовалось по наскоро придуманной легенде, продолжительно и дважды.
– Кто там? - Хозяин, по счастью, оказался дома, и не мертвецки пьян. Впрочем, таковым он бывал только на людях, а дома, при наличии гомеостата, чего ради страдать?
– Откройте, милиция…
Щелкнул замок, звякнула, натягиваясь, цепочка. Шульгин показал раскрытое удостоверение. Дверь открылась.
– Чем обязан, товарищ? - спокойно, без малейшей дрожи в голосе, спросил писатель. А чего ему бояться? Безобразиев последнее время не учинял, против властей не бунтует, если же они паче чаяния ошибутся, сумеет устранить недоразумение не хуже, чем нарком Шестаков. Может быть, даже лучше. Изящнее.
– Поговорить надо. - Сашка спрятал документ, мельком взглянул на своего носителя в зеркало. Сотрудник как сотрудник. Драповое пальто, сапоги с галошами, шапка вроде кубанки, лицо, как положено, невыразительное.
– На кухню пройдем или куда?
– Можно и на кухню. Если не особенно торопитесь, пальтишко снимайте, у меня тепло.
– Спасибо, я так, - только шапку снял. Присел на табурет, побарабанил пальцами по столу, будто соображая, с чего начать. Достал из кармана пачку «Беломора», вопросительно покосился на хозяина.
– Курите, курите, сейчас пепельницу подам…
Шульгин чиркнул спичкой.
– Так в чем ваш вопрос, товарищ… Или уже «гражданин»?
– Товарищ, товарищ! А ты меня не узнаешь, Юрий Митрофанович?
– Постойте-ка. Что-то не припоминаю, не участковый наш новый?
– Не участковый…
– Тьфу, - в сердцах воскликнул писатель. - Ты, что ли, Александр Иванович? Опять маскируешься? Успешно, ничего не могу сказать, только блеск глаз выдал. Не к этому рылу крыльцо. Что-то у тебя случилось?
– Ничего. У меня ничего. А у тебя, я думаю, проблемы только начинаются.
Он вынул из кармана пистолет и направил его точно в лоб собеседнику.
– Понимаешь, я сейчас могу выстрелить, и никто ничего не докажет. Гомеостат не поможет, я его заберу сразу, с твоей мертвой руки. Оболочку этого несчастного опера я тоже оставлю в квартире, чтобы потом другие специалисты разбирались, как и что случилось. Устраивает?
Шульгин неторопливо взвел курок.
– Думаю, картинка получится весьма впечатляющая и на самом деле загадочная - с чего бы это уличный «топтун» забрался сюда и застрелил давно вышедшего в тираж литератора? Неужели из-за стилистических разногласий? Одного не пойму - тебе какая с того польза? Или у нас разногласия не стилистические?
– Мне показалось, что мы прошлый раз расстались союзниками, почти друзьями, и вдруг - пистолет, угрозы… В самом деле что-то неожиданное произошло? - Писатель говорил вполне спокойно, но взгляд маленьких, спрятавшихся под щетинистыми, с сединой бровями, выдал и его, как только что Шульгина.
– Как же, непременно произошло. - Шульгин спрятал «ТТ» в карман, свою роль он сыграл. - Я много думал о том разговоре, особенно очутившись в Испании, Или ты мне не все сказал, или условия игры опять изменились. Не слишком ли быстро?
– На то и Игра. Но лучше бы ты мне доходчивее растолковал, может, вместе быстрее разберемся. Коньяку?
– Давай. Что мне, что тебе он физически не повредит. Вкус посмакуем, убойную силу со стороны оценим…
Писатель потянулся к кухонному шкафчику, достал бутылку «Арарата».
– По-прежнему привержен. Французские мне кажутся пустоватыми. Закусывать «пыжом» будешь?
Знал приятель Сашкины вкусы и сам, как бывший гвардеец, был не чужд. Кружок очищенного от кожуры лимона между двумя ломтиками острого сыра.
Шульгин начал с того, что удивлен несовпадением очерченного Юрием круга предписанных ему возможностей с тем, что выяснилось.
– О таких возможностях астральных переходов ты ничего не говорил. С Валгаллой понятно и почти привычно, а сейчас я учинил то, чего ни Сильвия, ни Антон не умели… Совершенствуюсь на глазах или так надо?
– Забывчив ты стал, Саша… - Юрий наверняка в моменты возлияний отключал гомеостат, чтобы зря не переводить драгоценный продукт, и его с первой (а может, и десятой за сегодняшний вечер) рюмки заметно повело.
– Все они умели, да не все им позволялось. Напряжешь воображение - сообразишь, какие из ваших приключений с чем можно соотнести. И что при этом оставалось за кадром.
– Я и решил: не попросить, потребовать ответа: какова твоя истинная роль, в какие рамки загнали меня, где кончаются мои степени свободы, насколько я могу рассчитывать на помощь и поддержку «светлой» стороны и каким образом меня играет «темная»? Понятно, что разбивка по цветам совершенно условна, но мы уже так привыкли. Антон назвал себя «светлым Даймоном», так и пошло.
Пистолет - это не шутка. Мне, знаешь, последнее время в очередной макет человека выстрелить - раз плюнуть, и все равно, кого конкретно ты представляешь. Я готов допустить, что никого, просто валяешь дурака, пребывая «над схваткой». Рефери, а то и заказчик Игры как таковой.
Что мне прикажешь делать в таком тумане?
Предположим, я тебя сейчас убью в ответ на попытку убить меня весьма подлым способом. Согласен допустить, тебе от этого будет не холодно и не жарко. Ну и что? Ответный ход, пусть внешне и бессмысленный. А там - кто знает. Для чего-то существуешь ты здесь и сейчас? Если жертва будет признана несущественной или приемлемой, я сделаю следующий ход. Скажем, снова внедрюсь в Узел, и великолепно знаю, в какой, а вы - не знаете. Оттранслируй, пожалуйста, Юра, что я в некоторую ярость пришел. Примерно как в Ниневии. Суну гранату внутрь вашего компьютера, и собирайте обломки микросхем по всей Галактике…
– Ты понимаешь, чем это грозит именно тебе и всем твоим друзьям?
– Повторяю - мне наплевать. Раз вы понимаете только сильные ходы, вы их получите. Вдобавок я пришел к выводу, что мое существование в данном, вообще в человеческом облике не является высшей ценностью, ради которой стоит жертвовать принципами. Люди спокон веку погибали в боях по куда меньшим поводам, причем далеко не все верили в возможность посмертного воздаяния. А я для себя - верю! Вот и думайте…
Похоже, слова Шульгина, а особенно вложенная в них убежденность дошли до адресата. Или - адресатов. Крутой, отчаянный блеф, в стиле послевоенной шпаны - тельняшку на себе рвануть, ножиком замахать перед лицом фраера, заорать: «Держите меня, пацаны, счас всех порежу», - оказывается, действует и на фигуры космического уровня. А что? В той мере, что они себя очеловечивают.
– Главное, не надо нервничать. Возможно, сейчас ты получишь ответ. Понравится он или нет - не знаю…
Нельзя сказать, что Шульгин на самом деле чувствовал себя так уверенно, как пытался показать. Но отступать все равно некуда. В нынешнем состоянии он и вправду был готов влезть в любую заварушку с непредсказуемым исходом. Меньше они рисковали, устраивая мотоциклетную гонку по Москве или танковый бой на Таорэре?
– Кто нервничает? Не вы ли случаем? Суетитесь, хамите. Одновременно играть в преферанс, в городки и бильярд не получится. Я представляю, какие энергии были введены, чтобы достать меня. Последний раз подобное случилось в Замке, когда мы были еще нормальными людьми. И то устояли, пусть на пределе возможностей. Сейчас я перенес это легче, даже, вопреки намерениям, получил дополнительные силы для пробоя сюда. Все равно так не по правилам. Если сказали, что я волен в своих действиях, зачем тут же учинять беспредел? Пришлось мне не так давно общаться с товарищем Троцким, сложный он человек, но одна мысль его мне крайне понравилась. «На каждую принципиальность нужно отвечать крайней беспринципностью». Вы этого хотите?
Писатель, отстраненно слушавший его тираду, полуприкрыв глаза, внезапно заговорил, перебив Шульгина. От своего имени, от чужого?
– Александр, ты пойми, как оно обстоит на самом деле. Никто не нарушает правил. Их просто нет в твоем понимании. Ботвинник или Карпов не могли набрать полную горсть фигур и швырнуть их в лицо соперников. А Остап мог. С его точки зрения это не выходило за пределы его принципов. Как раз пример игры с изменяющимися правилами. Правила якобы фиксированы, но игрок может их произвольно изменять. Даже неправильным способом, лишь бы не бестолково. Это аморально, но спасает от проигрыша, если видеть смысл именно в этом. Не проиграть! То есть - по-своему разумно. Зато было бы неразумно выпустить на доску таракана или запеть арию Радамеса из «Аиды». Ни первое, ни второе ничего не дает игроку в данном горизонте возможностей. Игрок, бьющий партнера доской по голове вместо очередного хода, начинает действовать по принципу catch is you can[52]. Так и здесь. Все давным-давно сказано. Благами нейтралитета вы можете пользоваться только в «крымском» варианте. И ни шага в сторону. Вокруг - тайга, где прокурор - медведь. Привыкай или уходи. Доступно?
– Нет, - удивляясь сам себе, ответил Шульгин.
– Плохо. Бессмысленное упрямство. На этот раз никто агрессии против тебя не предпринимал. Если ты прыгнул с вышки и не смог правильно войти в воду, приложился животом, ни вода, ни вышка не виноваты. В Испании, получается, с окружающей действительностью у тебя контакт не сложился. Упругость среды другая. Проще сказать, данная реальность не хочет принимать вмешательство на твоих условиях.
– «Миллиард лет до конца света». Помню, читал. России, значит, приняла победу белых, здесь победу республиканцев принимать не хочет. Инфразвук включила. Непреодолимая сила истории?
– Скорее всего так. Ничего удивительного. Должны же быть какие-то константы? Самолеты худо-бедно летают, а пароход с крыльями не полетит…
– С крыльями нет, а с антигравом?
– Значит, тебе придется его изобрести. Если способностей хватит.
– А иначе - убьют?
– Не обязательно. У тебя уже мелькала мысль - плюнуть на все и смотаться, пока не поздно. На Валгаллу, в Аргентину, просто домой, насовсем…
– Разумеется, мелькала, и неоднократно. Не только здесь, а и там, в Югороссии с окрестностями, но все время что-то мешало согласиться на такой вариант. том числе и то, что настоящего дома вы нас лишили в том же восемьдесят четвертом. Ох, как мы мечтали плюнуть на все, забыть все, остаться там, где родились и привыкли жить. Вы ведь не пустили! Теперь хлебайте!
«Да вот прямо сейчас взять и уйти, - одновременно думал Шульгин. - Формула есть, а главное - желание. Почти непреодолимое. Шестаков, Овчаров, Буданцев как-нибудь выпутаются. Они - отсюда. Все необходимые условия я им создал. Справятся, нет - велика ли разница? Хочет та реальность сохранить свою идентичность - ну и пожалуйста. Нам и других хватит».
А Власьев с Зоей и детьми? Навсегда останутся на «необитаемом острове»? Или потом исхитриться, забрать их тоже в двадцатые? Старлейту, может, и понравится, а что с шестаковским семейством делать? Снова себе на шею повесить, вернее, тому Шульгину, совершенно чужую женщину? После долгих и мучительных объяснений замуж выдать? Голова кругом идет.
Конечно же, это опять его Игроки в ловушку неразрешимых антиномий загоняют. Веселятся, ставки делают, наблюдая за его «джокерным мучением». (Или - «мизерным» - сразу схватить взятку или тянуть до последнего, то ли прорвемся, то ли «паровоз».)
Один любезно предлагает достойно капитулировать, второй под руку шепчет - держись, наше дело правое…
– Значит, так дела обстоят, - протянул Шульгин. - В Испании бороться за победу бессмысленно, в Москве товарищ Сталин за всю предыдущую трепотню по полной программе спросит. Домой вернусь уже не я, на Валгалле или медленно дичать, или у квангов политического убежища просить… Ах да, еще и Аргентина. Перспективки…
Он изобразил полную растерянность и подавленность.
– Наливай, что ли, стременную[53], и будем точку ставить. У тебя случаем игральных костей нет? Бросим, и будь что будет.
Сам же с тихим злорадством подумал, что для настоящих казаков после стременной все как раз только начинается.
– Посмотрю, кажется, где-то завалялись.
Юрий, повозившись в ящиках стола, действительно принес два желтоватых кубика с черными точками.
– Вот, баловались когда-то с друзьями, а сейчас уже и правила забыл.
– Какие там правила. Мы попросту. Каждая грань - вариант. Если рационального выхода нигде не просматривается, отдадимся на волю судьбы. Но сначала все же стременную. А где закурганную пить придется…
Они чокнулись, синхронно поднесли к губам рюмки, и тут же Шульгин почти неуловимым движением ударил писателя левой снизу в челюсть. С расчетом на нокаут.
Тот вместе с табуретом отлетел к противоположной стене, едва не врезался головой в батарею отопления. Замер, раскинув руки.
Чисто, до десяти можно не считать.
Совершенно в соответствии с предыдущими рассуждениями коллеги: не совсем по правилам, но рационально. Канал связи с кем бы то ни было разорван простейшим, механическим способом. Как лопатой по полевому телефонному проводу,
Сашке нужно было минут пять свободного времени, и он, помня о регенеративных способностях аггров, снял с руки Юрия браслет.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Начиная с первой встречи с гениально-сумасшедшим профессором Удолиным, сколько раз они выходили в Гиперсеть, командой и поодиночке? Шульгин попробовал посчитать - вышло, что не меньше десяти. Точнее вспомнить не получалось. Некоторые случаи относились к разряду сомнительных, то есть доподлинно неизвестно, можно ли их отнести к прорывам, осуществленным собственной волей и способностями, или же то были подобия галлюцинаций, организованных Антоном, собственно Замком, Держателями…
В свой зачет он относил четыре бесспорных похода. Сейчас, значит, пятый. Причем перед каждой попыткой «доброжелатели» настойчиво указывали на возрастающую опасность таких инициатив. Форзейль, самый дружелюбный и понятный из «нелюдей», со всей степенью убедительности говорил, что каждый их самостоятельный выход в астрал, точнее - в Гиперсеть, смертельно опасен. Куда опаснее, чем прогулка альпиниста по снежному мосту над пропастью. Неверный шаг, громкий звук - и «прощайте, скалистые горы».
Ловушки Сознания, стерегущие Гиперсеть от попытки проникновения в нее посторонних мыслеобразов (способных на равных конкурировать с «высочайше утвержденными»), всегда на боевом взводе и готовы подсунуть нарушителю правил такую псевдореальность, что не выбраться из нее никогда. Вдобавок, оказавшись там, никогда и не поймешь, что отныне существуешь в специально для тебя придуманном мире,
Тогда же Антон добавил, что, возможно, Валгалла, аггры, ее населяющие, и солидный кусок Метагалактики вместе с Землей - тоже иллюзия. Ловушка высшего порядка. Поставленная даже не на них, а на самих Игроков. И еще сказал:
– Вот вам мой совет, возможно - последний, и даже не совет, категорическое пожелание - сидите, как мышь за печкой, не мечтайте в подходящее время с решающим результатом вмешаться в кошачью драку.
Они пообещали учесть его пожелание и, конечно, не удержались. А как удержишься? Мы что, намного лучше Пандоры и жены Синей Бороды? Само собой, не хоббиты, которые ради ложно понятых «либеральных идей» массу народа угробили, чтобы «Кольцо Всевластия» в жерло вулкана бросить. Мы вот, русские, на роль названного Кольца товарища Сталина приняли, и ничего, Саурона (сиречь Гитлера и союзников его) все ж таки сокрушили, а потом и с прочими последствиями «культа личности» разобрались потихоньку, без роковых потрясений. Главное - базовое зло повергнуть, с помощью зла, разумеется, потому что добро все равно не из чего больше делать. Кто сказал? Сашка не помнил, но против самой идеи не возражал.
Ничего ощутимо плохого в результате их эскапад не происходило. Они каждый раз вроде бы увеличивали степени своей свободы. Расширили зону экспансии до 2056 года, нашли там Ростокина, устроили Форт Росс-3 в Новой Зеландии. В Советской России и Югороссии тоже порядок навели. Собственному существованию придали непредставимую ранее увлекательность, сопряженную с достойным комфортом.
Одна беда - затягивающая в немыслимые бездны воронка сужалась и сужалась. Все сильнее становилась скорость ее вращения. Мальстрим какой-то. Лично он, Шульгин, сейчас переживает практически те же самые коллизии в третий раз, а может, и в четвертый. Замок, Лондон, Сильвия, роль Шестакова, нищий на доисторическом базаре, заключенный на вилле в горах, пленение Сильвии, снова замок, Антон. Пароход, Крым, одесские катакомбы. Еще раз - со Столешникова на Валгаллу. И обратно в Москву, к Шестакову.
Где он сейчас, кто он? Что будет дальше? На каждую реплику реальности - свой Шульгин? Начинает становиться скучным.
И все же?
Он в очередной раз рискнул, надеясь, что его способности «кандидата» в Держатели нарастают. Это пока выглядит именно так. В астрал удивительно легко выскочил, собственной волей. Без всяких аггрианских и прочих штучек сумел внедриться в первого попавшегося прохожего. С «писателем», далеко не рядовым агентом, прикинувшимся «отошедшим от дел», а вполне включенным товарищем разобрался, хочется думать. Уже немало.
Сейчас тот лежит на полу, отключенный. Сашка вырубил его, чтобы спокойно уйти в астрал через состояние «О мусе дзю ни се го син» («Не пребывая ни в чем, дай уму действовать»), по формуле Удолина с собственными коррективами. Оставить его для дальнейших разборок с потерявшим память чекистом? Теоретически интересно может получиться, только он этого все равно не увидит. Никакого спортивного интереса. А если сделать иначе?
Шульгина всегда обижало, что у него нет собственного гомеостата. У Ирины и Сильвии имелись, а добытый Берестиным в Москве-66 использовался как «переходящий приз» или одна на всех походная аптечка, А вот теперь - есть!
Он не стал связывать писателя, просто отнес его в кабинет на диван, убедился, что тот в ближайшие несколько минут очухается, оборвал шнур телефона. Прикинул, во что и как спрятать обретенное сокровище, и вовремя сообразил, что ни одного предмета из этой квартиры брать с собой нельзя. Кто знает, какие за ними тянутся ниточки?
Устранил видимые следы своего здесь пребывания, запер входную дверь снаружи, а ключ сунул под коврик на лестничной площадке.
Дошел до ближайшего известного ему (точнее - оперу) проходного двора, завернул браслет в не слишком чистый платок чекиста и засунул в подобранную рядом с мусорным ящиком жестяную банку от бычков в томате. Какой-никакой, а экран. После чего, ломая чужие ногти, поднял крышку канализационного люка, упрятал свой клад в щель между кирпичами колодца. Замазал липкой грязью. Сумеет дезертир-аггрианин отыскать свое сокровище - его счастье. А нет - будет у Шестакова в этом мире собственное средство продления жизни.
Вышел в Калошин переулок, через него - в Староконюшенный, уводя «тело» подальше от закладки. Здесь на глаза попалась вывеска круглосуточной «Закусочной» (были и тогда такие, по причине ни с какими биоритмами не сочетающейся столичной жизни). Одни люди возвращались с работы в два-три ночи, другие в то же время на работу выходили, и далеко не у всех имелись возможности успеть что-то приготовить на своих коммунальных кухнях. А тут в любом случае нечто похожее на еду получишь, макароны по-флотски или печенку по-строгановски с гречкой по цене трех трамвайных билетов, рюмку водки, кружку пива, чай с сахаром и лимоном. Хлеб - бесплатно. Что еще работяге нужно?
Вдобавок буфетчица была владельцу тела знакомая. Как иначе, если годами крутились ребята по своему участку, обязанные иметь установочные данные не только на каждого человека (дворников, буфетчиков, продавцов в первую очередь), но и на любую собаку, с ошейником, без ошейника - не важно.
– Что, сменился, Игнат Лукьянович? - радушно спросила полноватая женщина лет под сорок, до хлопка входной двери почти засыпавшая за своим прилавком рядом с посвистывающим дежурным самоваром. В закусочной было пусто, время самое никакое - полпервого ночи, ни то ни се, вечерний клиент прошел, утреннего ждать и ждать. И ветер за окнами завывает так успокоительно.
– Сменился, Катя. Ты мне водочки сто и сосисок парочку, с капустой, если есть, или котлетку…
– Для тебя всегда все есть. Иди на свое место, сейчас подам…
Место было в углу, за ситцевой занавеской, круглый столик с доской из искусственного мрамора. Платить оперу не подразумевалось, само собой.
Шульгин уселся, расстегнул пальто, снял шапку. Пистолет на месте, удостоверение тоже, посидит-посидит Игнат за своим поздним ужином, да и пойдет домой, ничего не помня, кроме как дорогу от Арбата сюда да разговор с буфетчицей. Может, вздремнул в тепле да с устатку, и что такого?
– Катя, - крикнул он вслед, - неси двести. Неможется мне сегодня что-то, и перемерз.
Это Шульгин вспомнил Удолина. Якобы его сутры-мантры действуют исключительно при мощной алкогольной поддержке. Сейчас Шульгин собирался учинить столь глубокое проникновение, что не стоило пренебрегать ни малейшим шансом. Он видел, как лихо протащил их Константин в самый первый раз по этажам и уровням астрала, пребывая в весьма взбодренном состоянии.
– Понимаю, Игнат Лукьянович, ох, как я вашу работу понимаю, - тараторила буфетчица, выставляя и тарелку с горячими сосисками, и не двумя, конечно, и полный до краев стакан, и огурчик соленый. - Я здесь, худо-бедно, в тепле сижу, едоки то есть, то нет, а вам - мороз, пурга или дождь там - все одно, ходи, ходи… Отдохните, со всем удовольствием. Можно и до утра, трамваи, смотрю, закончились.
Часы над стойкой действительно показывали, что с трамваями - все.
– Спасибо, Катя. Я поем, потом разговаривать будем…
Сашка залпом выпил стакан - для себя, съел сосиски - для Игната, точнее, для поддержания легенды.
Что хорошо - память его, и без того от рождения великолепная, за последние дни превратилась в абсолютную. Это было очень кстати. Игроки и вообще всякие «силы» могут руководствоваться какими угодно собственными планами, строить прогнозы поведения подконтрольных объектов на базе математических или мистических моделей, но есть область высшего знания, им неподконтрольная по определению. Она сама себе и Гиперсеть, и система.
В кармане чекиста нашлись три пятнадцатикопеечных монетки (пятиалтынных), их все здесь при себе имеют, чтобы по телефону-авто мату позвонить. Ими он и исполнил шесть бросков на покрытый липкой клеенкой стол, загадав: «Что сулит мне проникновение в Сеть?» Два раза по три выпало одинаково - две сильных черты внизу, слабая вверху. Гексаграмма пятьдесят восьмая, «Дуй», по-русски - «Радость». Ну-ка, что под этим подразумевает учитель Конфуций?
Мысленно пролистал старый, с засаленными уголками страниц том. Вот он, нужный текст.
Сколько ни обращались Шульгин и Новиков к «Книге перемен» с ранних студенческих лет, когда философствующий Андрей сам подсел на древнюю мудрость и вовлек в это дело Сашку, всегда поражались. Хоть всерьез к этому относись, хоть как к интеллектуальной забаве - Книга отвечала именно на заданный вопрос. Никак иначе.
Сейчас спросил - пожалуйста!
«Если проникновение приводит к достижению известной цели, то в достижении цели человек находит большое удовлетворение. Это удовлетворение приводит его к переживанию радости. С одной стороны, в радости достигается выражение самодовольства, с другой стороны, в радости легко может наступить рассеяние.
«В начале девятка.
Радость от согласия.
Счастье!
Девятка вторая.
Радость - от правды.
Счастье! Раскаяние исчезнет.
Шестерка третья.
Радость - от прихода
Несчастье!
Девятка четвертая.
Радость от договоренности. Но еще нет равенства.
Если же стороны поспешат, то будет веселье.
Девятка пятая.
Если оправдаешь разорителей, то будет ужасно!
Наверху шестерка.
Влекущая радость!»
Толковать можно как угодно, особенно третью и пятую позицию. Но в целом итог предприятия должен оказаться положительным.
Он сгреб монетки, вернул на место.
Убедился, что буфетчица занялась своими делами, в ближайшие минуты не потревожит, ощутил, как водка начала свое мистическое дело, преодолевая гемато-энцефалический барьер, и начал погружение.
Всяко бывало: пробкой выскакивали в межгалактическое пространство, плавно входили в путаницу цветных туманностей, струн и псевдотоннелей. Ростокин с их подачи вообще очутился в жутко реалистическом пространстве выдуманного им самим тринадцатого века. Сашка повидал такое, что без крайней необходимости и вспоминать не хочется. У друзей наверняка бывали подобные же моменты. Не зря лучший друг Андрей по поводу некоторых своих «видений» предпочитал ограничиваться самыми общими описаниями и рассуждениями.
Шульгин как-то, самый, пожалуй, первый раз[54], спросил у друга об этом и, не получив удовлетворительного ответа, сказал с легкой издевкой: «Что, тот самый «слег», как у Стругацких, когда никто не желает признаваться, что там видел и делал?»
Новиков ответил удивительно спокойно: «Ты знаешь, почти да. Ты тоже не говорил и сейчас, уверен, е станешь рассказывать даже мне, что именно, в деталях и конкретно, происходило у тебя по первому разу с Наташей Ч., Наташей И. и прочими. Есть, товарищ психиатр, некоторые моментики, что и наедине с собой не хочется вспоминать. Ты мне «Хищные вещи…», я тебе «Солярис», и успокоимся на этом».
Известно было также, что астрал если принимал посетителя, то создавал для него ту картинку портала, которую считал нужной в данный момент. Или, как предполагал Удолин, предлагал ее сформировать самому, исходя из текущего состояния сознания и подсознания. По аналогии с обычным сном. Он ведь зависит если не от тебя напрямую, то от твоих тайных мыслей, настроений, дневных забот, начинающихся болезней, прочих привходящих обстоятельств.
Так и сейчас.
Не в межгалактическом пространстве он оказался, не внутри непредставимо гигантского компьютера (хоть электронного, хоть биологического), даже не в знакомых помещениях Замка, который тоже был неким входным терминалом одного из связанных с земной жизнью Узлов, а в том месте и в тот момент, о котором давненько не вспоминал. Хватало текущих забот.
Получается, именно этот очажок тлел на дне его подсознания, как окруженная лейкоцитарной капсулой, но никуда не девшаяся заноза.
Освещенная сумрачным светом дождливого и туманного дня кают-компания яхты «Призрак», вначале придуманной ими, Новиковым, Левашовым и самим Сашкой, в незабвенные шестидесятые годы. Когда даже вообразить нельзя было, чтобы граждане Страны Советов стали владельцами океанской яхты и беспрепятственно болтались на ней по морям и океанам, совершенно не имея в виду текущих обстоятельств, эко-г комических и политических.
Потом тем не менее она стала реальностью. В октябре двадцать первого года, когда почти все намеченное было сделано, они решили с Андреем и своими девушками уйти в дальнее плавание, предоставив прочим «братьям» разбираться с Югороссией, а главное - с тем тупиком, в который они сами себя загнали.
Тупик, может быть, слишком сильно сказано, но в их с Новиковым понимании идея себя изжила. Да и намек поступил весьма недвусмысленный, с двух сторон сразу, что лучше бы им (именно Сашке с Андреем) на долгий срок избавить цивилизованный мир от своего присутствия. Ставшего, очевидно, слишком назойливым.
Подготовили они яхту к походу, распрощались с друзьями, согласовали важные и не очень моменты, и вдруг в последний момент Шульгин почувствовал, что уйти не может. Не должен. Слишком интересная и непонятная интрига начала раскручиваться в Севастополе, в Москве, в Берлине.
«Так прощались с самой серебристой, самою заветною мечтой флибустьеры и авантюристы, по крови горячей и густой»?
Таким же образом, как недавно в квартире Лихарева, Сашка решил «уйти, чтобы остаться». Так и сделал. Случилось после этого решительного шага много интересного[55], а итог каков? После всех приключений и коловращений жизни он опять оказался здесь, на яхте, в точке принятия очередного судьбоносного решения.
Значит, что? Весь гигантский круг через века, реальности и страны - коту под хвост? Астрал в ответ на его отчаянный бросок отшвырнул его туда, где он совершил главную ошибку?
Все вокруг точно так, как было тогда.
Слегка заваленные внутрь, обшитые светлым деревом борта, бронзовая отделка иллюминаторов, панорамное, с частыми переплетами окно, выходящее на кормовой балкон, старинные лампы в карданных подвесах под подволоком. Имитация адмиральского салона на парусном фрегате XIX века.
О несколько большей современности судна говорили пятиярусная стойка бара, заполненная бутылками с самыми изысканными и экзотическими напитками, кожаная мебель, комбинированный музыкальный центр с клавиатурой электрооргана, книжные стеллажи и молекулярные копии любимых картин.
Сквозь толстые стекла иллюминаторов, покрытые извилистыми дождевыми струйками, на стойку падал унылый сероватый свет. Через кормовое окно не видно ничего, кроме тумана.
Шульгин посмотрел на себя в зеркало. Действительно он, собственной персоной, молодой и бравый, в новом, необношенном флотском светло-синем кителе с эмблемой «Призрака» на левом рукаве.
Только ситуация подается в зеркальном отражении. Тот раз было ровно наоборот. Не он здесь сидел - Андрей, а сам Сашка появился уже потом. Ладно, посмотрим, что будет дальше.
Он боком присел на вертящийся, привинченный к палубе табурет, на соседний бросил красиво обмятую фуражку с широким, окованным по краю медью козырьком. Не глядя протянул руку, взял первую попавшуюся бутылку, до которой достал. Наудачу.
Опять совпало! Джин «Бифитер», которым в набросках юношеского романа Новикова они отмечали начало кругосветного плаванья. (Жуткая, по тем временам, экзотика, известная лишь по книгам и рекламам в редко попадавших в руки иностранных журналах.) Его же они пили здесь с Андреем. Теперь, по логике сюжета, должны скрипнуть неприработавшиеся петли двери за спиной и появиться Новиков в мокром плаще. И завязаться та самая, историческая беседа, в которой, пожалуй, он мог бы согласиться с доводами друга и все же отправиться в дальний поход на другую сторону шарика.
Подождал минуту, другую - ничего и никого.
В одиночку сделал основательный глоток из тяжелого, как артиллерийская гильза, «штормового» стакана.
Может быть, через некоторое время друг найдет способ возникнуть здесь? Без него сцена никак не тянет на достоверность. А как бы хорошо было! Андрей пришел, они вместе признали право Игроков забавляться в меру сил и возможностей, а те возвращают Сашке зря потерянное время, молодость, яркость чувств и сильно помятый об углы жизни оптимизм, друга, женщину, «и полные трюмы, и влажные сети, и шелест сухих парусов. И ласковый, теплый, целующий ветер далеких прибрежных лесов».
Может быть, это форма и формула капитуляции? Если так - он согласен. Снимается масса парадоксов. Всем становится легко и весело. Правда, непонятно, куда девать собственную память и массу документальных свидетельств, что они все жили и после нынешнего момента. Каждый по-разному, но ведь жили же…
Тут возникает вопрос, собственный или опять наведенный: «А если действительно все стереть прямо с этого момента, взамен сейчас в салон войдет Новиков, с ним Ирина и Аня - согласен? Обрадуетесь, обнимитесь после долгой разлуки - и вперед?!»
«Вот так нас, дураков, и ловят, - подумал Шульгин, глядя на свое отражение в зеркале над стойкой. - Какая разлука? Мы же все виделись, с кем вчера ночью, с кем - сегодняшним утром. Они настоящие со мной - тамошним. Но даже если предположить… Приобретя душевный покой и океанский круиз, что я отдам взамен? Четыре года жизни, всего лишь. Тома три написанных Андреем романов испарятся. Исчезнут из ноосферы Ростокин, реальность 2056-го, наши разборки с англичанами, веселые дела двадцать четвертого, да много чего еще… В том числе главное - осознание того, что действительно получил очередную порцию счастья взамен… Если удалось не попасть под колеса машины, которую ты даже не заметил, разве возможно радоваться этому везению? Вот если бы рядом выставить две картинки - твоих собственных похорон и праздничного вечера, на который ты спешил и успел, - тогда да, тогда бы оценил…»
Значит, опять кому-то это надо! Чтобы забылось и исчезло.
И все равно соблазн был почти непреодолим. «Ну, забудешь и забудешь. Это же только лучше., Для всех. Были ошибки, так сотрем их, и - с чистого листа. Разве плохо вернуться, скажем, в удивительно ясное, тихое, прозрачное и солнечное утро шестьдесят седьмого года, когда ты сошел в семь утра с электрички в Ессентуках и не спеша, покуривая первую сигарету, шагал вниз по улице Интернациональной к курортной поликлинике, где проходил преддипломную практику? Ты же сам, тогда еще, говорил себе, что нужно навсегда запомнить этот миг. Лучше его вряд ли будет…»
Услужливая память немедленно сделала ту подернутую патиной времени картинку сочной и яркой.
Влажный после короткого ночного дождичка тротуар. Сплошь одноэтажные и двухэтажные дома прошлого века справа, железная ограда курортного парка - слева. Умилявшая его вывеска последнего в преддверии близкого коммунизма[56] частника. Рядом с крыльцом под железным навесом синей краской по фанере: «Портной Комаров. Пошив, лицовка, ремонт». Смешно было такое видеть. Представлялся ему, молодому московскому парню, воспитанному на романах Стругацких о светлом Полдне, этот Комаров этаким плешивым старичком в сломанных очках, уныло втыкающим иголку в чужую заношенную ткань.
Сам он, подтянутый и бравый, идет пружинистой походкой, насвистывая нечто вроде: «Не гляди назад, не гляди…» Впереди - чашка кофе с булочкой в угловой кафешке, шесть часов необременительной работы с пациентами, потом - предполагаемая поездка в Железноводск с красавицей-докторшей, руководительницей практики, почему-то одинокой в свои двадцать семь. И все вытекающее…
Так, может, сразу туда отскочить? Никаких препятствий. И остаться именно там навсегда?
Шульгин одним глотком осушил стакан. Еще раз оглянулся. Теперь - чтобы посмотреть, не скрывается ли за высокими спинками кресел у обеденного стола некто похожий на Мефистофеля.
Вроде нет.
Но искушение поддаться навязываемым мыслям и решениям сильно, сильно! Пусть он не святой Антоний, но занимаются им плотно. Практически неверующий Сашка, благо никто не смотрит, старательно перекрестился, вспомнив, что надо справа налево.
Тот раз Андрей сказал:
– Не думаешь ли ты, что как раз Держателям захотелось нас с тобой разлучить? В каких-то собственных целях. Не зря же идея (не ходить в плавание, а остаться в Севастополе) возникла у тебя только что?
– Нет, - ответил ему Шульгин. - Ни на твое, ни на мое мышление они впрямую воздействовать не могут. Отчего и изобретают всякие окольные ходы. Чтобы принудить нас к тем или иным «добровольным» поступкам… Если бы умели - все наши приключения не имеют смысла.
– Для нас не имеют, - возразил Новиков. - Для них, кажется, какой-то имеют.
Задумался на минутку, глядя на пепел, образующийся на конце сигары, и спросил:
– Саш, ты уверен, что никто посторонний последние дни на яхте не появлялся?
Вопрос показался Шульгину странным.
– Посторонний - в каком смысле? Воронцов - посторонний?
– Нет. Он, наверное, нет… Другие… Да не так это в принципе важно. Книги на борт ты возил?
– Как раз книги - только я. И оружие…
Сашка подскочил с табурета. Он отлично помнил тогдашний ход мысли и поступок Новикова.
Подошел к шкафу и с трудом вытащил с одной из полок толстую книгу в потертом зеленом переплете с золотым тиснением на корешке. «Конфуций. Уроки мудрости».
Отчетливо вспомнил момент четырехлетней (по отдельному счету) давности. Как он бросал на стол золотые гадательные монеты и что выпало. Повторить? Пожалуйста. Шесть бросков. Не могли, ну не могли даже всесильные Держатели Мира предвидеть такой ход, тем более прямо сейчас переворачивать червонцы в полете. По ранее обсужденной причине.
Выпала третья гексаграмма. «Чжунь». «Начальная трудность».
Благоприятно пребывание в стойкости.
В трудности, в нерешительности четверка коней тянет в разные стороны.
Благородный человек предвидит события, не лучше ли оставить начатое дело, его продолжение приведет к сожалению.
В дальнейшем счастье! Ничего неблагоприятного. В малом стойкость к счастью, в великом - к несчастью,
Слезы до крови - льются сплошным потоком.
Совершенно верно, прошлый раз была она же. А итог? Оставить начатое дело, сохранить стойкость в малом, обойтись без слез и крови?
Так мы и поступим. Вряд ли старик Конфуций тоже стал работать на Игроков. Пожалуй, он настолько древен, вечен и мудр, что может себе позволить остаться самим собой. А очень нужно будет - постараемся найти и его для личной консультации. Пока достаточно книги. Загадаем еще раз.
«Чем закончится для меня нынешнее проникновение?»
Выпала двадцать четвертая. «Фу», «Возврат».
В начале девятка. Возвращение неиздалека.
Дело не будет доведено до раскаяния.
Изначальное счастье.
Шестерка вторая.
Прекрасное возвращение.
Счастье!
Шестерка третья.
Постепенное возвращение.
Опасность, но хулы не будет!
Шестерка четвертая.
В верных поступках
Одинокое возвращение.
Шестерка пятая.
Полноценное, возвращение.
Не будет раскаяния.
Наверху шестерка.
Заблуждающееся возвращение.
Несчастье. Будут стихийные бедствия и беды.
Если применить действие войском,
То в конце концов будет великое поражение.
Для государя такой страны - несчастье.
До десяти лет поход не будет возможен.
Вот вам и пожалуйста, понимайте, как хотите. Но, главное, возвращение все же обещано, правда, вариантов многовато. Что ж, остается как-то избежать «заблуждающегося возвращения». Знать бы еще, что это такое. Сам мудрец достаточно туманно комментирует гексаграмму в том смысле, что бедствия проистекут не вследствие естественного хода развития мира, а собственной деятельности подразумеваемой личности. Воздействие моральных качеств на процессы природы…
Не так уж глупо, между прочим. Разве не о том же они с Новиковым размышляли? Единственный вопрос - какие именно моральные качества будут сочтены приемлемыми «природой»?
Скорее только те, которые имеются в наличии. Умным прикинуться можно, порядочным - не в пример труднее, скорее всего вообще невозможно в течение сколь-нибудь значительного отрезка времени.
Сашка поставил книгу на место. Пошел к кормовому балкону, по пути думая, что в море, с теплой компанией друзей и подруг, на ближайшие полгода ничем не озабоченной, здесь было бы куда веселее.
Он отчетливо понимал, если бы так вдруг случилось - вспыхнули бра и люстра под подволоком, увидел бы Новикова с бокалом виски, в котором позванивают о стенки кубики льда, смутно улыбающегося, изрекающего истины и парадоксы в духе лорда Генри, Аню, полулежащую на диване, музицирующую за электроорганом Ирину, - Шульгин с ходу бы согласился забыть все и от всего отречься. Черт с вами, пусть так и будет! Как в рассказе «Поезд в ад». Нет, ну чего еще желать?
Эта идиллическая картина вызвала у него готовность к капитуляции быстрее и проще, чем почти непереносимый для психики волновой удар.
Увы, принята она не была.
Все оставалось, как было, за одним исключением. Ни пирса, к которому был пришвартован «Призрак», ни портовых кранов, ни огней города вдали он не увидел.
Бескрайняя пустая гладь моря или океана, моментами освещаемая половинкой луны, которую то и дело закрывали рваные летящие тучи. И ничего больше.
Сашка со вкусом выматерился, опершись ладонью о ручку двери.
Что ж, господа, вы упустили свой шанс! А я ведь почти уже сдался. Секунда-другая в том же направлении - и все!
Значит, они тут ни при чем, или…
Ну, раз нет, так нет. Наваждение прошло. Он вернулся к самодостаточной данности. Как так вышло, что он не слышал ни звука заработавших турбин, ни положенных при отходе сигналов, ни топота ног команды по верхней палубе, ничего?
Опять гиперперенос, как случилось с яхтой и ее экипажем прошлый раз?
Шульгин передернул плечами и направился к трапу, готовясь к чему угодно.
«Чего угодно» не случилось. Пустая палуба, пустая рубка. Подсвеченный лампочкой нактоуза компас указывает курс на чистый зюйд. Слегка ходит, на полрумба вправо-влево, деревянное колесо штурвала, как и должно быть, если не держит его рулевой, а яхта под правильно выставленными парусами движется в крутой бейдевинд.
Паруса стояли все, включая стаксели, топсели и трисели. Значит, до первого шквала. Зазеваешься - яхта либо ляжет на борт, либо в лучшем случае останется без стеньг, а то и мачты повалятся. Слишком уж прочны дакроновые полотнища и нейлоновые тросы. Известное дело.
Кто же их поставил?
Из чистого интереса Сашка прошел на бак до самого бушприта, убедился, что нет на борту ни души, человеческой или биороботской. Один, значит.
Форштевень рассекал гладкую, едва гофрированную водную поверхность бесшумно, не образуя буруна, но скорость при этом для парусника была приличная, узлов десять, никак не меньше.
«И куда же это меня везут? - отстраненно подумал Шульгин. - Если тот раз мы стояли в Севастополе, сейчас, значит, идем к Босфору. А точнее?»
Определяться по звездам он не умел - на штурмана не учился. Компьютер тоже не помощник, в двадцать первом году до спутниковой навигации додуматься не успели. Если он, конечно, находится именно там, а может и в любом другом году до и после Рождества Христова. Или вообще нигде.
Идеальное решение для врагов, если они на самом деле возжелали от него избавиться ненасильственным способом. Вполне в их «гуманном» стиле: сам выбрал комфортабельную плавучую тюрьму, и болтайся по волнам до скончания света, а точнее - срока автономности. У «Призрака» таковой составляет чуть больше месяца при полном экипаже, по питьевой воде и продовольствию. В одиночку можно протянуть месяца четыре-пять. Если наладить опреснитель и снабжение дарами моря - год, два, возможно и больше…
«Летучий Голландец», короче. При условии, что за это время ни до какого берега не доберется, что совсем не исключено. Заставят крутить циркуляцию посреди Тихого или Индийского - и привет!
Не мытьем, так катаньем.
Сашка решил проверить степень дозволенного. В ходовой рубке сел в капитанское кресло, пробежал глазами по приборной доске. Похоже, все системы работают. Нажал кнопку запуска двигателей, двинул от себя ручки дроссельных заслонок. Застучали движки, зафыркали, схватили, через минуту заработали в нормальном режиме.
Еще чуть газу. Лаг указал, что скорости прибавилось, на узел, два, три…
Он и сам это чувствовал. Больше нельзя, при полной парусности.
Большой деревянный штурвал за спиной больше для антуража, если действительно хочется ощутить себя марсофлотом[57] клиперной эпохи. Для управления под турбинами имеются манипуляторы. Он двинул правый, слегка, чтобы не поставить «Призрак» в галфвинд, что без перекладки парусов было чревато…
Яхта послушалась. Смешно, господа. А может, господа тут совсем ни при чем, это собственное воображение и в океан вывело, и всем прочим управляет? Человек во сне, да и просто в мечтах отнюдь не занимается пошаговым раскладом своих фантазий. Хочу плыть - плыву, лететь - лечу, а расчет тяговых усилий или подъемной силы - не для этого случая.
«Хорошо, - подумал Сашка, - сейчас еще одну штучку проверим, в соответствии с «Суммой технологий», и отправимся отдыхать по той же программе».
Они с Андреем в далеком одиннадцатом классе настолько проработали и изучили все тогда доступные книги по мореходному делу, что, когда в Хабаровском крае Шульгин выходил на Амур с местными мужиками, они поражались способностям и познаниям молодого московского «доктора», то есть простого врача районной «Скорой помощи». Район, правда, был больше Франции, Голландии и Бельгии, вместе взятых.
Сейчас он восстановил в памяти схему управления парусами «Призрака». Имелась здесь автоматика, позволявшая Новикову даже без помощи роботов легко перемещаться по двум смежным океанам. Теперь мы попробуем.
Получилось: заработали сервомоторы, наматывающие на барабаны шкоты и брассы, пошли вниз марсель, грот и бизань, за ними вспомогательные паруса. Он оставил только кливера, чтобы помогали подруливать и держать курс. Еще чуть добавил оборотов на турбины. Стрелка лага двинулась к восемнадцати узлам. Если до упора - можно и за тридцать выйти, только зачем?
Стоит спешить, если не знаешь, куда плывешь? Яхта пока что слушается, ну и хватит. Не для этого он здесь.
Знать бы, для чего.
Лучше оставить все, как есть, задать автопилоту курс и спуститься в свою каюту, где он собирался жить долго и счастливо, совершая круиз по джеклондоновским местам, а потом, может быть, и полную кругосветку.
Там или сам сообразит, как быть дальше, или доброжелатели подскажут. Настрой - это главное.
Гиперсеть это тоже поняла, если признавать за ней подобную способность. Не дала она Сашке насладиться уютом тщательно оборудованной каюты, где сотня самых любимых книжек на прикроватной полке, несколько фотографий в ореховых рамочках на переборке и маленький личный бар, чтобы не шлепать босиком по коридору до кают-компании, если уж очень захочется «углубить» свое настроение.
Он собирался передохнуть от избытка впечатлений, кое-что вспомнить, а потом вернуться в рубку и пообщаться с большим компьютером, который умел очень многое, если верить словам Новикова и Ростокина. В него заложены специализированные программы для наладки и перепрофилирования роботов, но можно их использовать совершенно неожиданным для соперников способом…
Сбросил китель, вытянулся вдоль койки, размял сигарету, включил вытяжную вентиляцию, закурил, упершись взглядом в голографическую копию «Оперного проезда в Париже», трехмерную, слегка подсвеченную изнутри тем самым сероватым, дождливым светом. Выглядела она скорее окном, из которого писалась картина, чем репродукцией. Чуть прищурить глаза, отпустить воображение - и поедут фиакры, задвигаются, спешившие куда-то на исходе прошлого века люди.
И тут же его, без всякого предупреждения, снова выбросило. Совершенно как из тела Шестакова на утреннем метельном шоссе. Наверное, свою функцию здесь он исчерпал - или сдал очередной тест. К добру или нет - непонятно.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Он ощутил себя находящимся в подобии колодца или, пожалуй, башенной шахты затонувшего линкора. В детстве читал воспоминания водолаза, участвовавшего в подъеме затонувшей на севастопольском рейде «Императрицы Марии». Когда в корпус подали воздух и корабль всплыл вверх килем, такая вот картинка и открылась: из оказавшегося наверху междудонного пространства вниз уходил казавшийся бесконечным тоннель, по стенкам оплетенный трубами, кабелями, погнутыми рельсами подающих механизмов, а на самом дне - голубая линза отжатой давлением воды, в кольце, где раньше размещалась сорвавшаяся со своего погона башня. Сквозь воду проходил отраженный от песчаного грунта солнечный свет. Там это было описано очень красиво и впечатляюще, самому хотелось стать водолазом.
Сейчас же он чувствовал совсем другое: бессмысленность, полную невозможность разобраться в хаосе деформированного металла, перекрученных и разорванных трубопроводов, ферм подающих механизмов, свисающих повсюду пучков разноцветных кабелей. Сожаление и тоску при виде того, во что за доли секунды взрывы превратили совершенное творение человеческой мысли, каким был мощный линейный корабль. Страх, что может остаться здесь навсегда, вместе с выбеленными морской солью скелетами матросов и офицеров, так и лежащих на своих боевых постах с рокового для Черноморского флота дня шестого октября шестнадцатого года.
Глубоко, значит, застряла эта сцена в памяти, раз сейчас, при вхождении в Узел, именно она спроецировалась на не имеющие земных аналогов структуры Сети. Но ведь не просто же так Сашка увидел то, о чем не вспоминал десятилетия. Какое-то соответствие между сутью и формой наваждения непременно должно просматриваться. Намек на скорую гибель привычного мироустройства, на невозможность найти выход из страшной стальной гробницы?
Не прошло и нескольких секунд, как видение (или воспоминание) со столь конкретной привязкой сменилось совсем другим: бирюзовая голубизна обратилась отвратительной желтизной, плавное скольжение вниз, к свету, перешло в нудный подъем, сопровождаемый скрипом и лязганьем древнего лифта, ползущего между этажами.
Добираясь из последних сил до очередной площадки, он приостанавливался, будто раздумывая, стать окончательно или еще немного поработать. Тогда можно было увидеть звездообразно, подобно лучам, расходящиеся коридоры, тоже загроможденные бог знает чем, настолько унылые, тоскливые на вид, что тюремные могли бы показаться шедеврами пафосного дизайна.
Шульгин не ощущал своего тела и вообще физического здесь присутствия, но изогнутую ручку на внутренней двери кабины видел, догадываясь, что повернуть ее и выйти на любой остановке полностью в его силах. Но совершенно не хотелось. Что он станет делать здесь, лишенный сил и воли? Однако, якобы их лишенный, он в то же время отчетливо ощущал себя чем-то вроде змеи или, точнее, рака, только что сбросившего свой ставший тесным панцирь и вынужденного ждать в укромном месте, когда нарастет новый. Тогда появятся новые силы, новый импульс к бытию, в котором он сможет перекусить пополам удвоившейся в размерах, вновь ставшей закаленной и грозной клешней того, кто сейчас способен раздавить его мягкое тельце одним пальцем.
Пока Шульгин раздумывал, неизвестно откуда в кабине лифта появилась грустная желтая корова. На вид добрая, но худая и очень голодная. Угостить ее было совершенно нечем. Хорошо, что не лев и даже не собака динго. Желтый цвет играл здесь какую-то специальную роль. Он потеснился, вжимаясь в угол. Корова посмотрела на него с сожалением и отвернулась.
На следующем этаже в кабину через остекленное с потолка до пола окно площадки хлынул ослепительный желто-оранжевый свет заходящего над пирамидами Гизы солнца. Он прикрыл глаза ладонью.
Еще уровень - корова исчезла. Пронзительный свет померк, но навалилась жуткая слабость. Ноги подгибались, хотелось сесть на пол и заплакать, размазывая по щекам слезы. Сама мысль о том, что придется что-то еще делать, с кем-то разговаривать, куда-то идти, вгоняла в отчаяние. Нет-нет, свернуться в незаметный клубок, накрыть лицо хвостом и затихнуть. Лучше всего - навсегда.
Лязг, звон, поскрипывание тросов, щелчки рычагов на стыках направляющих тянулись буквальным образом бесконечно. Он забыл, когда это началось, и не представлял, сколько еще продлится. Может быть, это лифт Замка? Тот самый, который возил их с Андреем, куда сам хотел. Не только по вертикали, но и по горизонтали, в самые глухие и отдаленные коридоры и башни, куда пешком не дойти и обратно не выйти.
Как хорошо действительно оказаться в Замке. Там он знает, что нужно делать!
Одна эта мысль вызвала резкий вброс в кровь адреналина и эндорфинов. Словно три таблетки фенамина разжевал натощак. Готов прямо сейчас вырвать дверную ручку вместе с замком, выпрыгнуть из кабины, метнуться туда, где наверняка спрятан пульт управления всем этим безобразием. Ударить кулаком дежурного, сорвать страховочные пломбы, вывернуть их всех наизнанку… Всех? Кого именно? - мелькнула трезвая мысль, не из этого сюжета.
Лифт пошел быстрее, но мягче, магнитная тяга, наверное, никак не тросы и цепи. Кабина изнутри оставалась той же, но за ее пределами сверкали коридоры и залы в стиле «хай-тек»: стекло, белый металл, лампионы на гнущихся, как ветки ивы, стойках. Только все помещения буквально кишели десятками грациозно перемещающихся снежных барсов, леопардов и пантер, пятнистых и черных. Моментами в их веселое кружение вторгались пантеры другого вида, «T-V», маленькие, пропорцией один к десяти, очень подвижные на гладком полу[58]. Они гремели гусеницами, дымили выхлопными газами и бессмысленно вертели башнями.
Нет, это совершенно точно не Замок или не те горизонты и уровни, в которых полагается существовать нормальным людям. Сюда Шульгину выходить не хотелось.
Немного просветлело в мозгах и снова захотелось добраться до управляющего узла, зрительно похожего на нечеловеческий компьютерный терминал в кабинете Антона, Шульгин представил его как можно более отчетливо, во всех деталях и подробностях, заготовил нужные вопросы, припомнил формулу, которой прошлый раз открыл базу данных, только не успел воспользоваться как следует…
– Нельзя, - прозвучал внутри головы медный, отливающий начищенной асидолом желтизной голос, - менять выражение лица, ничем себя не проявив. Такое выступление приведет только к несчастью. Лучше останься, чем ты есть, и работай над подлинным изменением своего качества. Ты понял?
Ничего он не понял. Слишком невыносим был заполнивший все его существо вибрирующий медный гул. Как если бы человека заставили припасть ухом к большому церковному колоколу во время благовеста…
Когда вибрация и боль достигли пресловутого «мозга костей», все кончилось разом. Дверь лифта превратилась в простую белую занавеску, он отодвинул ее и оказался в декорациях кабинета физиотерапии курортной клиники, той самой, где проходил преддипломную практику. Кабинки с кушетками, распределительные щиты, древние аппараты УВЧ, электрофореза, Дарсонваля. До сих пор не выветрившийся запах медикаментов и озона.
Можно догадаться, отчего всплыло еще и это воспоминание. Прежде всего, он старался вообразить компьютерный пульт? Получилось вот такое искажение. Как в песне Пугачевой про мага-недоучку. Вдобавок он совсем недавно вспомнил путь к этой клинике по утреннему городу. Зацепка, значит. И руководительницу практики, заведующую отделением Ларису Петровну вспомнил, с которой собирался ехать гулять в Железноводск. (Везло ему в жизни на Ларис, как в свое время Новикову на Людмил.) В Ессентуках она с ним в нерабочее время не общалась, во избежание разговоров. Он уедет, а ей здесь жить и замуж выходить. К чему разговоры?
В этом кабинете, на той вон кушетке она его, выражаясь изящным слогом, «совратила», что, разумеется, было нетрудно. Зачем он понадобился красавице-докторше, на пять лет его старше, Сашка тогда так и не понял, но до сих пор был ей благодарен за великолепный месяц. Потом он уехал, и никогда они больше не встречались, даже ни одной открыткой не обменялись. С глаз долой - из сердца вон.
Он бы не удивился, если бы сейчас вошла Лариса, такая, как он ее запомнил. Тогда за окнами стояла удушающая июльская жара, несмотря на поздний вечер. В клинике не осталось ни пациентов, ни персонала, кроме дежурной медсестры в приемном отделении. Ему не захотелось тащиться в гостиницу, в четырехместный номер, проще было переночевать прямо здесь, спокойно поработать над отчетом о практике. Тут к нему и заглянула руководительница, одетая в докторский халат, под которым не было совсем ничего. Из-за жары, конечно. Остальное понятно.
Но как на «Призраке» не появился Новиков, так сейчас осталась неподвижной занавеска. «Не входит в ассортимент», - как сказал бы его отец, бывший одно время, после демобилизации из армии, завскладом.
Нет так нет, хотя в памяти его первая «любовница», а не обычная «подружка» осталась женщиной крайне привлекательной. Жаль, что своей фотографии она ему на прощание не подарила. По той же самой причине.
Шульгин присел к столу у окна.
Нужно отметить, одет он был сейчас в тот самый гэдээровский бежевый костюм, что носил тогда, в кармане нашлась пачка «Шипки» и коробка спичек. Курить в кабинете вообще-то было нельзя, но если в открытое окно…
За этим самым окном светились огни парка и доносились звуки духового оркестра.
Место, чтобы поразмыслить, было удобное. В Узел он наверняка попал, иначе откуда все? Только уж больно странным образом. Наверное, прав был Юрий, сейчас играют его, гоняют, как крысу по лабиринту, не позволяя приблизиться к тому, ради чего он сюда прорывался. Похоже, все-таки сработала одна из Ловушек. Слабенькая, судя по всему, не на того зверя настроенная. И попали они в патовое положение. Он не в силах пробиться сквозь ее уровни защиты, она пока не в силах завернуть его в кокон окончательной псевдореальности. И что теперь?
Может, попробовать сбежать обратно через тело опера в Шестакова или на Валгаллу, а то и прямо домой? Как сказано было - раз и навсегда. Ну нет, это успеется. Есть у нас в запасе еще кое-какие финты. Вот один из них.
Насвистывая, он заспешил вниз по лестнице. Сейчас спросит у сестрички, не появлялась ли здесь случаем его руководительница, и если нет, то попрощается и выйдет на улицу. Неужто там и вправду тот самый год?
Вместо тихого переулка, перпендикулярного улице Интернациональной, он шагнул в черный провал. Слава богу, не в столь неприятную обстановку, как базар девятого века до нашей эры, но тоже сложную. Зато здесь у него были ноги, нормальное зрение, понимание ситуации, пусть и приблизительное, злость и отличный карабин за спиной, надетый наискось через правое плечо. Да еще и верный пес, пробивающийся грудью сквозь снеговые заносы.
Не был этот пес настоящей северной собакой, приспособленной к тамошней жизни и умеющей таскать нарты, но он из последних сил волок хозяина за крепкий поводок до места, которое считал спасительным.
Широкие охотничьи лыжи прилично скользили, почти не проваливаясь, по рыхлому снегу. Шульгин отталкивался палками, помогая псу, пригибался, чтобы снизить лобовое сопротивление, а ветер неумолимо свирепел, бил в лицо, будто некто, им управляющий, задался целью ни за что не позволить добраться в укрытие.
Одно хорошо - преследователям сейчас не лучше. Густой снег точно так же их ослепляет, заносит единственный ориентир - лыжню. Пурга, переходящая в буран, вселяет в сердца ужас, а главное - у них нет оправдывающей смертельный риск цели. Или есть? Приказ, к примеру, такой силы, что проще умереть, чем не выполнить? Тем более - беглец один, а их много. Рано или поздно он свалится обессиленный, хоть замерзший труп подберут, большего от них и не требуется.
У Сашки стимулы покрепче. Главный - спасти единственную и неповторимую жизнь, и вспомогательный - он знает, что до убежища всего километр, пройти который вполне ему по силам. Тогда роли поменяются кардинально.
Кто именно за ним гонится, с какой целью - он не знал или не помнил. Знал одно, догонят - будет очень плохо. И не только ему. Будет взят и прорван врагом некий рубеж, важный, как последняя на корабле водонепроницаемая переборка, еще держащая напор моря.
Может быть - опять пришельцы? Такие же, как те, что преследовали его по Москве на синем «Мерседесе»? Рельеф знакомой местности, смутно различаемый сквозь снеговую завесу, а главное - поведение Лорда подсказывали, что буквально через сотню метров станет легче.
Но встречный ветер! Он достигал метров тридцати в секунду, а порывами и больше. Почти предел для встречного движения. Еще немного - свалит, покатит в безнадежную бесконечность. Каждый шаг давался с все большим трудом.
Как там у Пушкина? «Все было мрак и вихорь. Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным. Темное небо смешалось со снежным морем».
Отчаяния не было, были злость и надежда.
Вот оно! Выступающий, как нос парохода, скалистый отрог, поверху покрытый стеной сплоченных елей. Теперь обогнуть его, и, пожалуй, спасены. Сашка забыл, что становиться лагом к волне и ветру опасно не только парусникам. Шульгина сбило с ног, и он едва поднялся. Мешали лыжи, провалившаяся в рыхлую пустоту рука не находила опоры. Выручил Лорд. Поскуливая и тихонько гавкая он, тоже изнемогая, вытянул хозяина на твердое место и сел, задыхаясь.
Шульгин прижал к себе крупно дрожащего пса, гладил его по шее и спине, шептал в ухо подбадривающие слова. Что еще верному другу надо? Отдохнет совсем чуть-чуть и выложится до последней живой клеточки.
Сашка достал из внутреннего кармана массивный золотой хронометр, показывающий время любого часового пояса. Здесь и сейчас было шесть утра. До рассвета приблизительно часа полтора. Успеваем.
Теперь уже человек тащил за собой собаку. Ну, еще чуть-чуть, совсем немного, держись, брат!
Противоположный склон ущелья наконец-то прикрыл их - вошли в «ветровую тень». Дальше - пустяк. Чуть больше полукилометра по плавно идущему вверх карнизу, заваленному слоем плотного наста. Лыжи по нему скользили без усилий. Двадцатиметровый бетонный мостик над бурной, до сих пор не замерзшей речкой, и вот она, хижина. «Последний приют». Вроде в шутку так названа, а там кто его знает.
Сложенная из рваных плит местного камня, с узенькими окнами-бойницами, она и летом не бросалась в глаза на фоне многочисленных трещин и осыпей, а сейчас, если не знаешь, с полусотни шагов не увидишь, не найдешь. Замерзнешь на пороге спасения.
Лорд запрыгал радостно (откуда силы?), вскочил передними лапами на ступеньки крыльца, издал удивительный звук, похожий скорее на человеческую речь, чем на собачью. «Дошли, дошли», - послышалось Шульгину.
Ему на прыжки куражу не хватало. Слава богу, не висячий замок сторожил вход, а то схватило бы механизм льдом, долбайся тогда. Под крыльцом он нащупал хорошо замаскированный рычаг, потянул, и с легким скрипом вход открылся. Лорд скользнул вперед, проверить: не прячется ли в доме враг?
Сашка отстегнул лыжи, ввалился в тамбур и закрыл за собой двадцатисантиметровое, обрамленное стальным уголком полотнище.
Вот и все. Дома и в безопасности.
Как он вымотался, Шульгин понял, только начав раздеваться. Одни мышцы просто не слушались, другие сводила судорога. Но надо преодолевать измученное тело.
В тамбуре было абсолютно темно. В нагрудном кармане он нащупал жестяную, водонепроницаемую коробку походных спичек. Длинных и толстых, как карандаши, кедровых стержней, с головками из загорающегося при любой погоде и трении о любую поверхность состава. Целых пятьдесят штук. Поэтому стресс колонистов острова Линкольн, дрожавших над единственной фосфорной, ему не грозил. И на том спасибо!
Сашка краем сознания удивился, чего это он помнит такую ерунду, а не соображает, кто он сейчас и зачем.
Спичка вспыхнула с треском, ослепительно для настроившихся на мрак глаз. Зная, что гореть она будет не меньше трех минут, Шульгин нащупал на полке лампу «летучая мышь», встряхнул над ухом, убедился, что резервуар полон керосина. Приподнял стекло и коснулся спичкой широкого фитиля. Тот послушно загорелся, окантовавшись ярко-оранжевым пламенем.
Только этого и не хватало для окончательного счастья. Нет, не только. Свет - прекрасно, а нужно еще и тепло. «За бортом» было не меньше минус пятнадцати нормальных, а в пересчете по формуле «жесткости погоды», учитывая скорость ветра, та же Антарктида, полтинник минимум. В хижине - тоже ниже нуля, но ненамного. Для перемерзших человека и пса - почти Сочи. Только до поры.
Какое-то отношение он к здешней жизни непременно имел, откуда бы иначе знал о хижине, об остальном? Ретроградная амнезия, не иначе, когда помнишь все, кроме непосредственно предшествующих некоему моменту событий. Правда, обычная травматическая распространяется на минуты или часы, а тут перекрывает всю его предыдущую жизнь, причем крайне выборочно. Можно сказать, ювелирно тонкая операция над его памятью произведена, если даже способность рефлектировать оставлена и право строить предположения о содержании лакун.
Сбросил ремень с амуницией и небольшой ранец, нагольный полушубок, подбитый легким мехом, лыжные унты, не забыв снова обнять и погладить пса. Лорд выложился до последнего и теперь лежал на полу, запаленно дыша и вздрагивая, но ласка хозяина была для него ценнее любой сладкой косточки. Шульгин на подгибающихся ногах прошел в комнату. Довольно большую, три на четыре метра. Прямо посередине, между сундуком-лежанкой, окном и столом - чугунная «буржуйка». Не совсем, конечно. Классические самодельные печки, названные так в годы Гражданской войны, изготовлялись из железных бочек и прочих подручных материалов, причем отнюдь не «буржуями», которые и тогда сумели прилично устроиться, здесь или за границей, а интеллигентами, оставшимися в громадных питерских и московских квартирах без центрального отопления.
Вы себе можете представить, что такое неотапливаемая многокомнатная квартира с четырехметровыми потолками, когда спиртовой термометр за окном три месяца подряд стоит делений на пятнадцать ниже нуля, да еще по Реомюру, который посуровей Цельсия? А топить, если печку раздобыл, придется собственной мебелью или книгами из любовно собранной библиотеки.
Здешняя печка была не самодельная, настоящая, заводского литья, с чугунными стенками дюймовой толщины, плитой на две конфорки, правильно устроенными топкой, колосниками и поддувалом, асбестовой трубой, выведенной наружу с учетом противопожарных правил, требуемой тяги и здешней «розы ветров». Не тяп-ляп все делалось.
Каменные стены изнутри обшиты двухдюймовыми досками из горного каштана. Теплоизоляция великолепная, кроме того, трехлинейную винтовочную пулю даже напрямую держит, не говоря о полуметровой кладке снаружи. В Абхазии с давних времен каштан вместо брони использовался. Так, может, он в Абхазии? Вполне возможно - ментальная привязка с давних времен существует. И рельеф местности похожий, Как на тропе вдоль дикого ущелья Гаргемыш в сторону озера Амтхел-Азанда и Клухорского перевала.
Шульгин при свете лампы нашел в сенях рядом с поленницей воткнутые в колоду хороший топор и отлично заточенный австрийский штык от винтовки «манлихер» времен Первой мировой. Настрогал лучины, которые загорелись сразу, только пришлось задвинуть заслонку трубы почти до упора: тяга была уж очень сильная. Ураган продолжал набирать скорость. Даже укрытая отрогом горы хижина, казалось, начала подрагивать на своем фундаменте, несмотря на то что сложена была из аршинных камней на настоящем известковом растворе.
Завывало в трубе и за окнами так, что впору убояться, как героям рассказа Шекли «Поднимается ветер».
Шульгин добавил в топку несколько буковых поленьев.
Как- то все это смутно напоминало ранее пережитое -снега, мороз, пурга, затерянная в белом безмолвии избушка, сжимающие кольцо враги, но целостная картинка никак не выстраивалась.
Печка стремительно накалялась, наполняя комнату сухим теплом. Скоро можно будет раздеться до исподнего. А пока нужно покормить Лорда и самому перекусить - энергии в организме совсем не осталось.
Разогрел на плите две большие банки тушенки с гречневой кашей, одну себе, вторую другу. Выпил полстакана из бутылки с незнакомой бело-коричневой этикеткой: «Водка. Главспиртпром», больше никаких выходных данных, кроме крепости и объема. Таких здесь нашелся целый ящик. Стараясь не торопиться, вдумчиво опустошил деревянной ложкой алюминиевую солдатскую миску. Тушенка была вкусна и ароматна необычайно. Хлеба в избушке не нашлось, и так сошло.
Приоткрыл входную дверь, наломал полный чайник сосулек, свисавших с южной кромки крыши. Заодно убедился, что буран продолжает усиливаться, хотя, казалось бы, куда уж дальше. Ничто живое по равнине передвигаться сейчас не может, разве только на антарктических тягачах «Северянка», (которые логичнее было бы наименовать «Южанками»). Так что в ближайшие сутки он может не опасаться появления врагов. Скорее всего…
Вот- вот, врагов! За окном начало рассветать, робко, неуверенно, мутно. Но все же… Не Заполярье здесь, утро приходит в свой черед, какие бы тучи и снега ни разделяли «точку стояния» и Солнце. Он взял приставленный к стене карабин, осмотрел. Знакомая штука, сам его и конструировал. В подсумках шесть тяжелых магазинов, снаружи нанесена флуоресцентная маркировка. Вот два с ртутными пулями, эти -бронебойные, с сердечниками из обедненного урана, двадцать пять миллиметров стали или чего угодно - насквозь, а для заброневого действия - композитный трассер из термита с белым фосфором. Огромная температура и ядовитый дым. Не сгорит экипаж, так задохнется.
А это на какой случай? Разрывные пули с серебряной оболочкой и начинкой из серебряной дроби. Помнится, знакомый журналист ему рассказывал, как заказывал серебряные пули для защиты от зомби. Или вурдалака. Когда это было, где? Выходит, и ему грозит нечто подобное, в противном случае стал бы он изготовлять такой боеприпас и таскать с собой два килограмма никчемного груза?
Сашка поставил завариваться чай, а сам продолжил размышлять над загадкой собственной личности. Подвигнул его к этому вышеприведенный филологический момент. Прежде всего он осознал, что думает по-русски. Прежде в голову не приходило фиксировать на сем факте внимание, Далее, антарктические экспедиции и «Северянка» - как минимум начало шестидесятых годов. Сразу вспомнился номер журнала «Техника - молодежи» с изображением алого транспортера на обложке и большая статья с описанием его устройства на центральном развороте.
Что это нам дает? Пока ничего, но процесс-то пошел! Бывает, проснешься среди ночи с ощущением, что только что пребывал в мире чудесного сна. Яркий эмоциональный фон сохраняется, но не можешь вспомнить ни единой детали и подробности. Начинаешь по определенной методике его реконструировать, непонятно отчего считая это для себя очень важным. Бывает, что получается. Появляется вдруг одна зацепка, другая, а там всплывает и весь сюжет в тончайшей деталировке.
Хотя некоторые психологи утверждают, что делать этого ни в коем случае нельзя. Нарушается, мол, неведомая нам схема взаимодействия коры и подкорки, сбиваются тонкие механизмы самонастройки мозга.
Сейчас Шульгин, пока не зная, что его в данной реинкарнации зовут именно так, пошел тем же путем, стал собирать воедино все доступные, даже самые малозначащие на первый взгляд факты и вертеть их по-разному, будто грани кубика Рубика. Вот, кстати, названный кубик - почти целая эпоха, хотя и совсем короткая, когда весь мир сходил с ума от этой головоломки, внезапно появившейся и так же быстро исчезнувшей. Сделавшей, правда, своего создателя мультимиллионером.
Вспомнил о кубике - получил очередную реперную точку…
Он закурил трубку «Петерсен», набив ее душистым табаком из кисета. Для идентификации не годится…
То, что карабин и патроны он сконструировал сам, могло стать поводом для гордости, но к разгадке не приближало.
Если за ним правда гонятся некие оборотни, так им буран не помеха, идут, возможно, не по физическим следам, а отслеживая духовную ауру. Он сообразил, что осмотрел только запасные магазины, а какой вставлен в карабин? Потянулся, взглянул. Действительно, с серебром. Куда как интересно, и покоя не прибавляет. Стрелял ли он сегодня? Нет, канал ствола чист, обойма полна.
На всякий случай проверил пистолет: в нем патроны обычные, в комплекте.
Может, выйти наружу, поставить на тропке несколько растяжек? Пожалуй, пора. Ощущение непонятной, но непосредственной опасности нарастало. Спасибо, хоть немного времени на отдых ему отпустили…
В доме должно быть другое оружие? Непременно. Только поискать. Поискал и нашел под крышкой топчана. Две длинные мосинские винтовки, не драгунки, а пехотные, выпущенные, судя по граненым патронникам, до пресловутого «дробь тридцатого» года. Неоткупоренный цинк патронов образца восьмого года. Хорошо. Пулеметик бы лучше, конечно, но и с этим продержаться можно довольно долго. Гранаты - тоже стандартный ящик. Хорошие, как раз для подобного случая, со взрывателями тройного действия: четырехсекундное классическое замедление, мгновенное вытяжное и нажимной вариант, для минирования тропинок.
А что? «Дольше жизни жить не будем, раньше смерти не помрем!»
Приказал Лорду лежать на месте, сторожить дом. На улице от него помощи никакой, а забота лишняя. Прижимаясь к правой гряде скал, чтобы не обозначить следов на ведущем к крыльцу, облизанном ветром снеговом гребне, выросшем на тропе, спустился к изволоку[59], тянущемуся от мостика в его сторону. Два громадных валуна, скатившихся сверху в доисторические времена, лежали под удобным углом, образуя великолепную огневую позицию. Щель между ними - естественная амбразура с девяностоградусным углом обстрела изнутри, а с той стороны речки - едва заметная. Проверено.
Саперной лопаткой Шульгин раскидал снег на выбранном месте, срубил несколько хвойных кустов позади, выстелил «засидку», как это называется у таежных охотников. По бокам под камнями имелись приличной глубины ниши, куда можно было спрятаться и от минометного обстрела, и от воздушной бомбардировки.
Устроился. Винтовка с полусотней патронов в жестяных обоймах по правую руку, карабин - прямо, на подмосточке для упора. Преодолевая порывы ветра, добрался до моста, установил три растяжки с интервалами в десять метров. По сторонам моста две гранаты с полуразжатыми усиками предохранителя, между кольцами втугую выбранный шнурок. Маскировать не пришлось, буран сразу все занес. Теперь, пока снег не стает, обратно и сам не пройдешь. «Да и незачем».
Действовал Шульгин почти автоматически, руководствуясь более инстинктами, чем разумом. Или - опытом человека, который в этих краях - свой. Как снайпер Зайцев в развалинах Сталинграда.
Воспоминания ему отпускались скупо. Вот сейчас, пройдя очередной этап, наверное, успешно, он узнал, что избушка построена как бы в качестве тамбура перед громадной, никому постороннему не известной пещерой. Эшерская, Новоафонская, даже Постойненская в Югославии перед этой - пустяки.
Не убьют здесь и вынудят обстоятельства - отступим в полном порядке. Не просто отступим, отправимся исполнять очередную миссию. Но сначала - удержаться! Зачем? Тоже стало понятно. Там, в пещере, скрыто НЕЧТО, жизненно важное для него и невероятно притягательное для врага. Какого, чем - отдельный разговор, для другого случая. А пока ты стоишь на позиции с винтовкой в руке - ты человек. Бросаешь ее и бежишь - тварь дрожащая. Тебе стреляют в спину или, ухватив за подбородок, режут ножом горло. Как барану.
Шульгин рассуждал, вспоминал и готовился, пока совсем не рассвело. Успел покурить в кулак, спрятав голову за камни. Кто его знает, может, в последний раз довелось затянуться вредным для здоровья, но бодрящим и освежающим мозги горячим дымом. Мостик построен чрезвычайно умно, уголком. Настил бетонный, и обращенная вниз, к устью речки стенка - тоже. Полтора метра высотой. А со стороны дома - несколько столбиков и трос между ними, в виде леера. Упасть не упадешь, но и не спрячешься. От пули. Прицельной. За спиной же - восьмисотый бетон, от которого не только пули, но и снарядные, гранатные осколки будут рикошетить, снося с моста все живое и не очень. Не дураки делали. Знать бы только - кто.
Ветер дул и дул над его головой, дико свистящий и завывающий, баллов на десять. На равнине сбивающий с ног, смертельный для застигнутых путников, а Сашке сейчас дружественный. Для неприятеля, выражаясь языком старых моряков - «вмордувинд».
На чем они сейчас появятся? На БТРах - ждем, ребята. Если на тяжелом танке с пушкой сто двадцать и более миллиметров - пожалуйста. Мостик веса не выдержит, на шесть тонн всего рассчитан. Постоите, посмотреть вылезете - пуля между глаз первому. Потом можете гранит в щебенку дробить своими снарядами. До конца боезапаса.
Ни один спецназовец любой армии мира по пояс в снегу триста метров под снайперским огнем не пройдет. Речка тоже форсированию не подлежит по причине глубины, ширины и необыкновенной скорости течения. С берега смотреть и то страшно. Есть, конечно, методики переправ с помощью тросов и иных табельных средств, но это уже для войсковой операции, не для спонтанной погони.
Спецназовцы - это было бы очень просто. Где-то даже оскорбительно для Сашкиного профессионализма. Придумали поинтереснее!
В Замке им с Андреем выставили свору пауков размером с ротвейлера. Возможно, даже не пауков (в ходе беглой стрельбы ноги считать было некогда), фаланг-сольпуг каких-то, очень у них щелкающие хелицеры мерзко выглядели. Патронов хватило еле-еле.
Сейчас с той стороны ущелья к мосту приближались уверенно и целенаправленно, словно на легкой прогулке, подобия горилл или йети. Вот именно. Достаточно человекообразные, ростом выше двух метров. Неодетые, если не считать ремней и разгрузочных жилетов. Старый цейсовский бинокль, восьмикратный, настолько потертый, будто с ним неизвестный немец или русско-советский командир прошел обе войны, найденный Сашкой в хижине, через свои просветленные линзы показал и тупо-свирепые морды, лицами не назовешь, и короткую жесткую шерсть, покрывавшую тела.
Кажется, именно от такого существа Андрей спасался в Замке в день их последней прогулки по этажам и уровням. Выходит, та же сила в Игру включилась, а может, и другая, но по готовой разработке.
Шестеро. Погода им, очевидно, была до фонаря. Если, к примеру, они доставлены с подходящей планеты, где минус двадцать Цельсия и ветер сорок метров в секунду - норма для приятного отпуска.
Теперь понятно, отчего они с Лордом бежали с таким нечеловеческим ужасом. Тогда физические усилия не позволяли думать свободно, хотелось просто оторваться, уйти, а теперь постепенно начало доходить.
Сначала предложен марш-бросок на достаточно гуманных условиях. Не сдохнешь там, где обычный человек выложится и умрет почти обязательно, - молодец. Вот тебе домик, тепло, ужин или завтрак. Наелся бы и выпил хоть полкружки лишней (специально, наверное, водки целый ящик подставили), расслабился и заснул. А ведь как хотелось… Под вой пурги, со страшной усталости, с котелком каши в животе - только и спать!
Тут бы и подошли эти гоминоиды, двери и окна на раз вышибли, руками и ногами, не от них защита строилась.
А не захотел спать, встревожился - новый тебе вариант. И снова на выбор. Чего же в пещеры не пошел?
Да именно потому. Не нравитесь вы мне, как тот грузин на базаре говорил. Но в благородстве неизвестному сопернику не откажешь. Играет строго по правилам. Мог бы вход в дом заминировать, в водку яду или клофелина добавить, да мало ли что еще…
Может быть, вот этот красавчик, килограмм на триста весом, сжимающий в верхних лапах подобие шестиствольного пулемета, уверенно шедший по непроходимому снегу, раздвигающий грудью сугробы (не каждый бульдозер откинет), ступивший на настил мостика, на самом деле где-то там, у себя, нежнейший папаша, каждый вечер забирающий мохнатенького наследника из детского садика и воркующий ему в острое ушко что-то милое и ласковое…
Те, кто за ним так же мощно и тупо бороздит снега, тоже романтические герои Джека Лондона, спешащие воткнуть свой заявочный столб на ручье Индианки? У каждого своя Джой Гастелл и друг Малыш, с которым после сделанного дела они обсудят нравственные проблемы, сидя у камелька и деля очередную порцию золотого песка?
«Солнце встает на западе, луна превратилась в монету, звезды - это мясные консервы, цинга благословение божье, мертвые воскресают, скалы летают, вода - газ, я - не я, ты - не ты, а кто-то другой, и возможно, что мы близнецы, если только не поджаренная на медном купоросе картошка…» [60]Или что-нибудь еще более интеллектуально-изящное придумают. Откуда нам знать?
Кто ж тебя, придурка, сюда звал, на мою прицельную линию? Последний у тебя шанс, секунда, ну две, от моей доброты. Резко ничком на снег, зарылся и пополз, пополз назад, жизнь свою никчемную спасая…
Не захотел? Тогда прости.
Лобные кости йети, питекантропов, тому подобных до- и псевдохомо, насколько знал Сашка антропологию, весьма толстые, трехлинейка не возьмет. Зато бронебойная, рассчитанная на легированную сталь пуля - вполне. В туловище он стрелять не собирался, что там где у них расположено - дело темное. А в лоб, между глаз - нормально. Хоть в гигантского кракена.
У собственноручно сделанного карабина спуск со шнеллером. Сначала выбрал свободный ход, удерживая мушку в нужном месте, а потом легчайшее движение пальца - и выстрел.
Две с половиной тысячи метров в секунду начальной скорости, двадцать граммов веса и урановый сердечник - достаточно, чтобы снести верхнюю половину черепа. И чем крепче череп - тем эффектнее. Был бы помягче, потоньше, обошлось бы сквозным ранением, иногда оставляющим шансы.
Монстра отбросило метра на три назад. Навзничь. Крови и мозгов хватило, чтобы забрызгать все предмостье.
Дальше он рассчитывал, что скорость действия автоматики карабина и моторика умелого стрелка намного превосходят реакцию попавших под огонь на открытом месте. Людей, солдат любого уровня подготовки. Особенно если идут цепочкой, щурясь от бьющего в глаза снега. Однако ошибся. Нелюди обладали другой нервной системой.
Они прыснули в стороны со скоростью, превосходящей даже его воображение. Лишь один раз Шульгин успел выстрелить, дернув ствол влево. Влет, как по тарелочке на стенде. Если и попал, так не проверишь. С той стороны зашипели-засвистели очереди сверхскорострельных пулеметов. Полетела гранитная крошка. Если из четырех стволов станут вести огонь, целясь по его амбразуре, пятый наверняка попытается преодолеть мостик. За ним другие, перекатами. Вопрос только в том, хватит ли им патронов. Он сменил позицию, обогнув валун, разгреб снег у его подошвы. Противник тактически мыслил в одном с ним направлении. За что и поплатился. Сашка, морщась от свиста слишком близко пролетающих пуль, позволил самому отважному или рисковому гоминоиду испытать свои силы. Рывок у него был действительно впечатляющий. Словно черная ракета вылетела из снежной мути. Куда там олимпийскому чемпиону, стартующему на сотку! Гепард, метнувшийся наперерез антилопе, - это ближе.
Окажись в растяжке обычные «феньки»[61] или «РГ-42», монстр пролетел бы мост раньше, чем они взорвались, и тогда трудно предсказать дальнейшее. А так детонация гремучей ртути оказалась побыстрее нервно-мышечных процессов. Пораженный ударной волной с двух сторон сразу, рейнджер-гоминоид в доли секунды превратился в подобие смятой и скрученной тряпичной куклы.
Крутнувшийся в воздухе пулемет проскользнул между леерами и канул в кипящую воду. Жаль, интересно бы с ним повозиться на досуге.
Но ситуация оптимизма не внушала. Позиционная война - не путь к победе.
Мороз терпеть, конечно, можно еще не один час, хотя и неприятно. Беспокоящий огонь обеспечит трехлинейка, а драгоценные патроны для карабина побережем до решительного боя. Только вот перспективы туманные. Хорошо, если монстров ровно столько, сколько он имеет перед собой. Но с точки зрения Игры это бессмысленно. Двое убиты, третий скорее всего ранен. Остальные, сообразив, что мост заминирован, могут и подождать. Особенно зная, что он тут один.
Троих он наверняка если не перестреляет, то сможет держать на том берегу до бесконечности. Никакой интриги. Чтобы не замерзнуть, переползет к дому, устроится с винтарем у окна тамбура. Чаек попивать да постреливать. Снова пат.
А если им подкинут резервы? Хотя бы еще шестерку. Ему не выжить. Переправятся пятью километрами ниже, обойдут по гребню, и все.
«Героическую оборону», на самом-то деле, держать совсем ни к чему. Потому что оборонять нечего. Лично его ничего с этой избушкой не связывает, категорического приказа № 227 «Стоять насмерть» он не получал тем более. А насчет того, что там внутри, в пещерах, - отдельный разговор.
Так что давай, братец, сматываться. Очередной раз сломаем сценарий. Переоценили «они» степень его азартности.
Сменив карабин на трехлинейку, он, ловко передергивая затвор и меняя обоймы, расстрелял все пятьдесят тяжелых медных патронов, как бы упражняясь в «морском бое». То клал пули по кромке обрыва в шахматном порядке, то по пять сразу в одно место, где мерещилось шевеление под снежным одеялом. Наверняка попал, хоть раз. «Йети» ответный огонь прекратили, боясь демаскироваться, или просто кротами уползли из зоны поражения.
Тогда и он отбросил пустую винтовку с дымящимися ствольными накладками. Дедами заповеданные принципы заставили его выдернуть и зашвырнуть подальше затвор. Где ползком, где короткими перебежками вернулся в дом. Задвинул внутренний засов входной двери, побросал в ранец несколько упаковок патронов, три гранаты, три банки консервов, бутылку водки, флягу с остывшим чаем. Свистнул Лорда, который спал совершенно неприличным образом, даже отдаленные выстрелы его не встревожили, раз не было специальной команды хозяина.
Из чистой вредности остальными гранатами соорудил две хитрые ловушки у двери. Долил керосина в лампу, карабин повесил на шею поперек груди, новую винтовку на плечо и через хорошо замаскированный люк спустился в подвал, из которого узкий лаз вел в пещеры.
Знал он, побочным знанием, где находится механизм, поднимающий девственного вида гранитный блок, неотличимый от прочих, и как заклинить его изнутри. Получается, не только враг не пробьется, так и «свои» этим путем больше не пройдут. Да ему-то какое дело?
Центральный тоннель, изобилующий множеством боковых ответвлений, имел понятную посвященному разметку, позволяющую идти без страха заблудиться и сгинуть навсегда в образовавшихся миллионы лет назад лабиринтах.
Шагать было легко, уклон не превышал десятка градусов, под ногами гладкий, без трещин камень, присыпанный тонким слоем скопившейся за протекшие геологические эпохи пыли. Керосина в лампе часов на шесть, двадцать километров не спеша можно пройти. До центра Земли не хватит, а до выхода в соседнее ущелье - вполне.
Забавные вещи творятся на свете. В их числе - удивительная повторяемость ходов «партнеров». С теми же подземельями. Это, кажется, четвертый вариант. Пещера повстанцев в Кордильерах, одесские катакомбы, та, через которую лазили Ляховы, из Израиля в Новую Зеландию. Теперь эта. Куда выведет и, главное, - зачем?
Вельтмейстеры[62], все без исключения, начиная с Чигорина и заканчивая Карповым, на своих досках тоже делали одни и те же ходы, только в разном порядке. И ничего, осуждению со стороны публики не подвергались. Посчитаем, что сейчас имеем дело с вариантом сицилианской защиты или испанским фианкетто. А как ответить?
Да никак. Шульгин, с детских лет, когда в их кругах, под влиянием побед Ботвинника, очень модно было играть в шахматы (за неимением компьютеров), предпочитал черные. Противник пусть ходит, демонстрирует стратегическое мышление, а мы поглядим, подождем своего шанса…
Он готов был в любой момент столкнуться с чем угодно - от гнезда подземных огненных Олхой-хор-хоев до светлого, обдуваемого океанским ветром кабинета Антона в Замке. В Замок, естественно, хотелось гораздо больше. Но, наверное, или сила воображения была слаба, или время не пришло,
Несколько раз он останавливался, делал пару глотков чая, поил и кормил Лорда - псу под землей совсем не нравилось, вперед он не бежал, держался у ноги. Неторопливо выкуривал папиросу, вытянув ноги и опершись спиной о холодный камень. Вставал и шел дальше. И дошел. Увидел последний тайный знак, предупреждающий об очередной ловушке. Сколько их было на пути, не менее опасном, чем маршрут грабителя египетских пирамид. Предусмотрены были мины, проваливающиеся плиты под ногами, падающие с двух сторон решетки, горы песка, готовые обрушиться из бункеров над головой, и многие еще более страшные изобретения древнечеловеческого и нечеловеческого разумов. Непосвященному пройти предложенный путь было заведомо невозможно. Однако его, судя по всему, причислили к посвященным, раз снабдили спасительной информацией. Только зачем? Куда проще сразу устранить, вывести за скобки или не подвергать никчемному испытанию. Разве только напомнить, указать заслуженное место?
Не так и глупо. Очередной тест на профпригодность.
А если плюнуть на все и пойти к цели в рост, не склоняя головы? Пусть делают, что хотят. На древнем базаре - сошло! До того вдруг остро вспомнились те отвратительные часы и минуты, да не с точки зрения несчастной жертвы, наоборот, как взлет собственного разума и мужества.
Однако пока не время. Успеется.
Шульгин лег на пол тоннеля, прижал ладонью холку Лорда, и они переползли рубеж, отделявший от очередной каменной двери. Открыли ее и оказались там, куда стремились, совершенно не подозревая, куда именно.
Кто первый раз едет из Москвы во Владивосток или обратно, тоже поражается, насколько одинаковые вокзалы по обоим концам Великой магистрали.
Эта хижина была точной копией первой, ну, может, за исключением некоторых незначительных деталей.
Ветер за окошком, забранным решеткой, завывал так же, если не сильнее. Только пейзаж выглядел иначе. Никакой реки. Видна внизу, сколько позволяла метель, широко раскинувшаяся равнина, и что там дальше, за пеленой пурги, - неведомо. По-прежнему никакой географической привязки. Кавказ или Гималаи…
Да и черт бы с ним. Усталость, не столько физическая, сколько нервная, навалилась с непреодолимой (почти что) силой.
Главное - этот портал прилепился на совсем узком утесе, и подходов к нему снизу не просматривается. Может, как в тибетских монастырях: до весны не прийти, не уйти…
Поверим, понадеемся. Лучше всего сейчас напрячь волю, заставить ветер усилиться еще вдвое. Тогда даже многотонные валуны начнут кататься по долине и столетние деревья вырываться с корнями, а мы наконец отдохнем по-человечески.
Опять он разжег печку, лег на такой же точно, как там, топчан, закинув руки за голову. Поднимать крышку, смотреть, есть ли и там комплект вооружения, не хотелось. Скучно, если угодно. Пес, добравшись до очередного приюта, убедившись, что хозяин спокоен, нашел себе достойное, на его взгляд, место, закрыл морду хвостом и отправился в свою «страну удачной охоты».
Не прошло и часа, как Сашка собрал мозаику. Вспомнил себя вплоть до каюты на «Призраке». Остались несколько не до конца восстановленных фрагментов. В том числе так и не выяснил, где именно они сейчас находятся - на Земле или в другом месте, откуда и от кого с Лордом бежали, откуда взялся сам пес и что их связывает по жизни, кто и зачем устроил здесь избушки-блокгаузы. Какова смысловая ценность именно этого эпизода в режиссерской экспликации пьесы.
Или же снова режиссеры тут ни при чем и он просто бредет поперек схемы Узла, будто по павильонам Мосфильма, вторгаясь в не для него выстроенные декорации? Как у них с Андреем получилось во время странствий по закоулкам Замка.
Поскольку Замок всеобъемлющ и вечен, очень возможно, что сейчас Шульгин все-таки в нем, только опять очутился в секторе, ранее им не открывавшемся. И никто здесь ничем не руководит, кроме внутренних законов самого «сооружения».
Если так - это не самый худший вариант. Помнится, Антон как-то упомянул, что внутрь Замка Ловушки Сознания проникать не могут, зато в изобилии бродят вокруг, обложив его, как загонщики медвежью берлогу. От чего и предостерегал.
Шульгин сосредоточился, пытаясь вспомнить, как именно у них получалось перемещаться по зонам и уровням Замка. Хорошо бы сейчас очутиться в своей комнате, а еще лучше, сразу в кабинете Антона, за пультом компьютера. Это ему сейчас очень, очень нужно.
Но ничего не вышло. Может быть, требовалось не только ментальное усилие, но какое-то физическое перемещение в пространстве. Чтобы «выйти из фокуса». Только куда здесь и сейчас переместишься? «Три шаги налево, три шаги направо», как в одесской песенке, вот пока его предел маневрирования.
Возможно, находясь внутри одного «компьютера», доступ к другому невозможен теоретически?
«Рулетка сама по себе система, и все другие системы против нее бессильны». Очень может быть.
Раз так, не лучше ли просто поспать?
В том, что все с ним происходит наяву, а не внутри галлюцинации, помогала убедиться методика, описанная Лемом в «Сумме технологий». В том ее разделе, где разбирался вопрос, как может человек, помещенный внутри «фантомата», догадаться об этом. Единственно по физическим реакциям организма.
Заключенный в фантомат человек, сколь бы долго он там ни бегал, бился на шпагах или скакал верхом, на самом деле пребывает в покое и даже в некотором роде в анабиозе, следовательно, молочной кислоте в мышцах взяться неоткуда. Ее быстрому разложению мог бы поспособствовать гомеостат, но его Шульгин тоже сейчас не имел. А большинство участвовавших в марш-броске мышц как раз сейчас начали реагировать самым недвусмысленным образом. Едва ли Держатели, или кто угодно еще, озаботились столь незначительным на галактическом фоне штришком. Значит, с девяностопятипроцентной уверенностью можно считать, что он сейчас находится в своем, материальном и бренном, теле.
Ему же отдых крайне необходим.
Сашка улегся поудобнее, предварительно проверив, не грозит ли ему дурацкая смерть от угара. Нет, дрова уже прогорели, а тяга в трубе была достаточной, чтобы обеспечить в избушке должный воздухообмен с атмосферой.
Заснул легко и быстро, в надежде, что до утра его не потревожат. И тут же увидел свою смерть.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
…Увидел свою смерть.
Конечно, не пресловутую старуху с косой, не ангела или демона вроде Азазелло, исполненного мрачного величия, даже не карнавального облика существо, размалеванное и украшенное дурацкими бантиками и бубенчиками (так называемая «нелепая»), а сам процесс.
Увидел извне, как сцену из фильма, снятую в духе давнего итальянского неореализма, отчего лишенную эстетики и хоть каких-то художественных достоинств, кроме заранее просчитанного эпатажа без того травмированной послевоенной публики.
Поскольку сюжет касался лично его - он вызвал глубоко негативную реакцию.
Шульгин лежал на больничной койке, в плохой палате. Она была сверх привычных ему норм заставлена шестью койками вместо предусмотренных трех, крайне запущена: стены давно не крашены, линолеум на полу зиял дырами, а главное - подавляла картина тотального неустройства. Даже в участковой дальневосточной больничке, где он работал после института, обстановка была пусть и бедная, по причине и тогда имевшего места «недофинансирования», но хотя бы человеческая. Обустраивались, как могли, заботясь о пациентах. А тут - хуже чем на эвакопункте времен Первой мировой.
Хорошо, койка была угловая, не совались мимо нее то и дело сопалатники, персонал и посетители.
На вид человеку, которого он мгновенно отождествил с собой, было лет под шестьдесят, и Шульгин ужаснулся натуральным образом - как же он отвратительно выглядит! Почти лысая голова, обрюзгшее, дня три не бритое лицо, темные мешки под глазами, отрешенный, без признаков малейшей жизненной силы взор. Однако на прикроватной тумбочке лежит какая-то книга, значит, пытался еще читать, пусть и не сегодня. Рядом на больничном стуле сидит женщина в накинутом поверх темного платья застиранном халате. Настолько пожилая и бесцветная, что Сашка с трудом угадал в ней свою первую жену, от которой благополучно скрылся на Валгаллу, пока она отдыхала в Кисловодске.
Не разошлись, выходит, при всей несовместимости характеров.
Что- то она говорит, глядя в сторону, с неподвижным лицом. Слов не слышно. Немое кино.
Недолгого практического опыта Шульгину хватило, чтобы понять - человек на койке (назвать его собственным именем язык не поворачивался) доживает последние часы, если не минуты.
Неужели вот так заканчивается его жизнь? Не в бою, не в почтенном девяностолетнем возрасте, с сигарой и бокалом коньяка достойное угасание перед камином, в окружении многочисленных родственников и прихлебателей, а черт знает от чего, в больнице для самых бедных, где даже индивидуальной покойницкой палаты не нашлось…
Не для умирающего, ему так и так все равно, чтобы не травмировать остающихся пока…
За что же ему такое дадено? И тому, кто умирает, и тому, кто на это смотрит?
И в какой реальности действие происходит?
Ответ пришел сразу, не в виде посещающего шизофреников голоса, а просто как отчетливое осознание момента.
«Вот это и есть твой реальный конец. Вы доиграли пульку с Андреем и Олегом, никакие странные мужики не позвонили в дверь, разошлись, довольные раками, пивом и хорошо проведенной ночью. И дальше все покатилось так же, как и до того. Еще двадцать лет кое-как прожитой жизни, все более редкие встречи с друзьями, пассивность, нежелание плюнуть на все и податься хоть в «челноки», хоть в «белые наемники» (а мог бы!}, выпивки по случаю и без случая черт знает с кем. Бесконечные скандалы с женой, ее дурацкие измены, развал института, случайные заработки, бессмысленная ссора с Новиковым, после которой ни разу не встретились. Нарастающее, поначалу оставленное без внимания недомогание. К врачам не обращался, «я и сам врач, вот весной перееду на дачу, сразу полегчает…». Когда не полегчало, жена отвела все же к знакомому специалисту. Диагноз пусть крайне неприятный, но оставлявший кое-какие надежды. К благополучным друзьям, которые могли бы и помочь, не обратился из гордости, а скорее - наступившего безразличия.
И вот - последняя мизансцена. «Смерть Ивана Ильича».
Наступившая агония, по счастью, была короткой.
Жена ухватилась за его потянувшуюся к тумбочке и тут же упавшую руку. Он из последних сил попытался приподняться и что-то сказать, Но услышать не удалось. Может, зря, может, и нет. Что там такого скажешь? Вряд ли фразу, достойную войти в монографии и хрестоматии. Да кто теперь знает? Вдруг в ней и заключалась последняя истина? И что за книга лежала на тумбочке? Библия, Конфуций или очередной роман старого друга, в котором была описана совсем непохожая жизнь и ни слова о смерти?
С точки наблюдения не видно, и нет физической возможности подлететь, перевернуть книгу и посмотреть: что же это? Вдруг бы открылось что-то, ему сейчас недоступное?
Никому в реальной жизни не пожелаешь пережить такого - наблюдения за жалкой кончиной того, кто с рождения ощущал себя суперменом, обреченным на великие дела, и «отходящим» жалко и бессмысленно. И не близкого друга - на умирание Новикова или Левашова он смотрел бы с искренней грустью, печалью, слезой, выкатившейся во время поминального слова, а за собственной, до отвращения подлинной и… И никакой. Стоило ли приходить в прекрасный, многообещающий мир, чтобы так отвратительно из него уйти?
И детей рядом нет. Вообще нет, не успели приехать, не захотели?
Наталья, после короткой паузы осознания, закричала, подзывая палатную сестру. Та подошла, посмотрела, кивнула, разведя руками:
– А что тут сделаешь? Не сегодня, так завтра… Отмучился. Сейчас позову доктора, засвидетельствует, дальше - как положено. Справку выпишет. Без вскрытия обойдетесь?
Шульгин не надеялся с самого начала этой сцены, что жена начнет рыдать, биться головой о край кровати. Не тот человек. Ошибся в ней с самого начала, и все же именно она сидела рядом. До последнего вздоха.
Замутило его, живого, пусть и в эфирном теле. Такая нечеловеческая, недоступная никому, не пережившему подобного, тоска навалилась на душу. Впору немедленно принять литр водки (тризну устроить), а то и снова вниз головой с балкона. Если одно за другим, последовательно, так еще лучше.
Александр Шульгин был чрезвычайно эмоциональный человек. При всех его достоинствах старшие товарищи непременно на это намекали, а моментами - били по углам, когда в переносном, а когда и в прямом смысле. Он этому в меру сил противостоял, зная свои возможности. С ним соглашались, как он подозревал, тоже снисходительно, что непереносимо для самодостаточной личности, каковой он себя всегда считал.
Сейчас неизвестно кто не очень деликатно предъявил ему картинку будущего, которое он выбрал себе сам. Лично. Минуя «авторитарных» друзей-товарищей, которые не требовали от него ничего, кроме самой малости - быть самим собой. А он чересчур часто, особенно в первой трети жизни, сопротивлялся.
Вот чем кончилось.
Но было же в его характере и другое? Он ведь переступил в какой-то момент через слабую часть своей натуры, выбрал сильную - пожил неплохо и сейчас живет…
«Но ведь жизнь не могла показаться, гарцевал подо мною конь…»
Он встал с топчана в холодном поту, с колотящимся под горлом сердцем. Выкрутил посильнее едва моргающий фитиль лампы. В темном стекле окна, как в зеркале, осмотрел свое отражение. Слава богу, выглядит по-прежнему неплохо. В самом деле, сон и есть сон. Он что, наяву не задумывался о вариантах и выборах?
«Всего один шаг не в ту сторону на перекрестке может навсегда изменить вашу жизнь…»
«Каждому из нас судьба однажды стучится в двери, но, как правило, мы в это время сидим в соседнем кабачке…»
«А мимо случаи летали, словно пули…»
Сашка набросил на плечи полушубок, вышел на крыльцо. Пурга не утихала, только ветер в этом ущелье дул с другой стороны, снег сюда почти не залетал, зато даль была обрезана ближайшей полусотней метров. Прислонился к косяку, частыми затяжками раскочегарил трубку, пока не заполнил легкие дымом крепкого «Кепстена».
Сон от яви он умеет отличать, и то, что ему показали, сном не было ни в коей мере.
Демонстрация подлинного сюжета, по времени приблизительно совпадающего с тем моментом, когда они с Новиковым осваивали Москву-2005, или - намек. Горячим утюгом в грудь. Живи, как живешь, а то будет вот что…
Самое же… не страшное, не печальное, а вот именно - безысходное было в том, что он отчетливо понимал: увиденное - правда! Самая что ни на есть. И выбирать между ней и иными исходами пока еще позволяется. Пока еще…
«Послушай, что ты дергаешься? - сказал он сам себе. - Ты разве воображал в прошлой жизни, что будешь жить вечно? Конечно, нет. Другое дело, что о смерти как о непреложном итоге не слишком задумывался, а если и да, то позиционировал себя иначе, чем своих пациентов, которые в большинстве заканчивали жизнь именно так. Как фамилия того мужика, что поступил в отделение на последней стадии дистрофии печени? Белянчиков, кажется. Все порывался к субботе выписаться и шумел: «Доктор, я к тебе пришел здоровья взять!»
Что ж, еще больше оснований, держа в памяти предложенную картину, считать любой другой исход счастливым избавлением.
«Все мы когда-нибудь умрем. В худшем случае - умрем немного раньше».
Он передернул плечами, вернулся в хижину и, будто получив очередной сигнал свыше, нащупал незаметную кнопку на стене напротив топчана. Топографически она выходила к краю обрыва, и ничего, кроме пустого метельного пространства, за ней быть не могло,
Однако сдвинулась в сторону деревянная панель, а за ней открылась освещенная электрическим светом комната совсем другого стиля. Гораздо большая, чем весь домик с его крыльцом и тамбуром, вместе взятыми. Довольно-таки пустая. Массивный стол, на нем устройство, могущее быть компьютером, но с земными или форзелианскими аналогами не соотносящийся. Подобие каркаса шлема из четырех взаимопересекающихся полос золотистого металла. Круглые головные телефоны в положенном месте, грушевидный микрофон на гибкой пружине. Перед столом деревянное кресло в венском стиле. Вот и все.
Можно подойти, сесть, возложить устройство на голову; можно плюнуть на пол, отвернуться и выйти, Знаем, мол, у Ефремова в «Лезвии бритвы» читали, чем такие забавы кончаются.
Здравомыслия хватило не уходить, но и прикасаться к короне он не торопился. Воспоминание о жалком «уходе» того человека в больничной палате прогнать не удавалось, как он ни старался. Привычные мнемонические приемы не действовали. Из всего следует извлекать уроки. Из варианта собственной кончины тоже.
Понятно, что сейчас непосредственно в Узел, такой, какой он привык себе воображать из прошлых посещений, его не пускают. Или в прошлом виде Узел просто не существует сейчас. Мутировал, переродился. Он ведь находится не в любой из «нормальных» действительностей, он - «где-то там». Никаких других подтверждений не надо, достаточно двери, открывшейся в комнату, на месте которой находится длящаяся до дна пропасти пустота.
Значит, прибор на столе либо приглашение к диалогу, либо капкан, последний и окончательный. Повторяем прежний круг дурной бесконечности: для ловушки (обычной, а не «сетевой») - избыточно сложно. К чему огород городить? Проще было оставить его умирать в пещере. Куда больше это похоже на эпизод компьютерной игры. Завершил очередной уровень и увидел за дверью приз: сундучок с волшебным оружием или лишней жизнью.
Может, в том и смысл? На «Призраке» он сделал неверный шаг и провалился на «исходную позицию». Здесь сориентировался, ошибки не допустил, ему и предложили очередное испытание.
Отказаться от бонуса - что тогда делать дальше? Покинуть хижину, углубиться в снежные дали неведомого мира? Вернуться к печке, завалиться на топчан и подождать развития событий? Пока вселенский компьютер не зависнет. Неинтересно. Или его все-таки подталкивают к последнему решению?
Нет, это всегда успеется. Убить его в любом случае не убьют, иначе и затевать спектакль не стоило бы, а ручку катапульты дернуть он всегда успеет.
Сунул погасшую трубку в карман. Преодолевая слабое внутреннее сопротивление, пристроил на голову шлем.
Что- нибудь ведь он ему покажет или подскажет? А как с этим обойтись, подумаем позже.
Без всяких звуковых или оптических эффектов компьютер со стола исчез, а по ту его сторону ниоткуда возник Антон. Выглядел он непривычно. Сидит на невысоком помосте в клетушке, образованной совершенно земного вида плетнем, каким на юге огораживают дворы. Палец можно просунуть между каждым неошкуренным прутом. Одет в подобие японского княжеского кимоно, которое идет ему гораздо меньше, чем белый капитанский китель или изысканный штатский костюм. Он производил впечатление не находящегося на расстоянии вытянутой руки человека, а третьего отражения в поставленных друг напротив друга зеркалах. Такого еще не случалось. При любом контакте, очном или через «рамку», вид у него был полнокровный и реальный до предела.
– Привет, - сказал Шульгин, беря инициативу в свои руки. А что ему еще оставалось? - Плоховато выглядишь. Что-нибудь не так? Где былая лихость и бодрость? Я не вовремя?
Антон ответил после долгой паузы. Складывалось впечатление, что он пытается вспомнить язык, на котором к нему обратился старый партнер-конфидент.
– Далеко ты забрался, Саша. Зачем? Я же тебя предупреждал…
Шульгину стало смешно, пусть обстановка к этому совершенно не располагала.
– Не ты ли, компаньеро, подстрекнул нас с товарищем Сталиным вплотную заняться испанскими делами? Вот естественное развитие событий меня сюда и привело,
– А меня привело сюда, - тусклым голосом сказал Антон. - Последовало, наконец, наказание за нарушение долга и превышение полномочий…
– Вах, как здорово! Не все коту Масленица. И в ваших роскошных ста мирах НКВД не дремлет. Но ты, похоже, пока не в зоне пребываешь, с кайлом и тачкой? Говорить хоть можешь без подслушки вертухая? - изощренно уязвил форзейля Сашка.
– С тобой - могу. Не совсем понимаю, как ты на меня вышел. Я считал - мне полный амбец! - Русский язык Антона начинал приобретать былую сочность. - Меня выявили, вычислили, разоблачили и подвергли покаянию…
– Ну, Колыма или пуля в затылок в любом случае хуже, - успокоил его Шульгин. - Слушай, долг ведь платежом красен?
– Говорят, что так, - осторожно ответил Антон.
– Так давай я тебя оттуда выдерну. Подскажи как, и такую мы вашим придуркам конфузию устроим… Помнишь, был у нас разговор? Только ты это, как-нибудь начинай втихаря рекондиционироваться…
Во время одной из приватных бесед в Замке, незадолго до того, как форзейль отправил Сашку на захват Сильвии, промелькнул этот термин. Мол, агенты типа Антона, направляемые на Землю или иные планеты, специальным образом настраиваются на психическое человекоподобие. А по завершении миссии с них все лишние качества, привычки и навыки стираются. Словно бы фронтового разведчика, четыре года берущего языков, бьющего часовых финкой под левую лопатку, учиняющего иные несовместимые с гуманизмом и политкорректностью дела, перенастраивают на учителя начальной школы или псаломщика[63] в церкви.
Однако Сашка имел в виду не это, не технические процедуры неизвестной цивилизации. Он просто хотел, чтобы ставший близким по духу человек стряхнул с себя путы и принципы поганенького, как оказалось, мира и восстановился в роли победительного красавца, пытавшегося вершить судьбы не самого худшего человечества. Или хотя бы не самых худших его представителей.
– Я постараюсь. Я уже два раза избегал положенных процедур, что мне поставили в отдельную вину.
– А сейчас, за контакт со мной, тебе не добавят? У нас за маляву[64] карцер дают или ШИЗО[65].
Антон слабо усмехнулся.
Ох, как скрутило классного мужика! А туда же - великие цивилизации, светлые проводники и провозвестники. Учить они нас будут, что в носу ковырять неприлично!
– Этот канал, я совершенно уверен, не просматривается. Понять не могу, как ты его нащупал. Вот если бы воспользовался моей капсулой или формулами…
– Значит, сейчас говорить можем свободно?
– Да. Говори.
– Так кто же его устроил? Я до последнего считал, что попал в Ловушку…
– Так ты в нее и попал. Только сумел вывернуть к собственной пользе. Понимаешь, Саша, я сейчас никто. Кое-какие остатки человеческого мышления и памяти дают мне возможность с тобой говорить. Если бы не ты, не эта связь, меня ждали бы десятилетия медитаций, долженствующих наставить на истинный путь, но не обещающих даже свободы…
– Круто, - присвистнул Шульгин. - В натуре, лучше на Колыме золото мыть: и конец срока светит, и компания вокруг обычно неплохая…
– Земля - это совсем другое…
– Да уж точно. Сколько вы со своей коллегой Сильвией рук ни прикладывали, а Земля осталась такой, как задумано. За исключением некоторых деталей. Только в голову не возьму, как они тебя так быстро опустили… Месяца не прошло, как мы с тобой очередные наполеоновские планы строили. Я только-только ими вплотную занялся…
– Какой месяц, Саша! Я тут уже скоро три года. Помереть легче. Вот все, что у меня осталось…
Он протянул руку, и в ней появилась похожая на тыквенную половинку чашка с дымящимся напитком.
– Синтанг. Нечто вроде вашего зеленого чая, но с приличным наркотическим действием. Успокаивает и позволяет видеть красивые сны. Про Землю в том числе…
– А сопьешься?
– Совсем хорошо будет. «Жизнь, что идет навстречу смерти, не лучше ль в сне и пьянстве провести?»
– Да, брат, укатали тебя. Аж смотреть противно. Хорошо, Хайяма пока не забыл…
Сентиментальные рассуждения Сашке внезапно и остро надоели. Будет он еще чужие сопли утирать, когда на свои платков не хватает.
– Короче - есть у меня возможность тебя выручить? С этой позиции или другой? Я сделаю!
– Снова рискнешь головой?
– А хрена ли? Я только что свою настоящую смерть увидел. После чего любая другая - плюнуть и растереть. Как считаешь, правда то была или очередной понт не с нашего двора?
– У любого человека обязательно где-то есть «настоящая» смерть. Все остальные он сам себе организует.
– Ну, спасибо, философ. Еще чуток поговори, и останешься отбывать свое покаяние…
– Да уж, Саша, истинно сказано - не верь льстецам, верь грубиянам. Как ты мне тогда в морду засветил…
– И мне вспомнить приятно. Но хватит порожняк гнать. Что делать - быстро!
Антон сказал, что следует предпринять Шульгину, чтобы для начала перебросить матрицу Антона в какое-нибудь человеческое тело. Проще всего, за неимением лучшего, писателя Юрия…
– Во, бля… - удивился Шульгин. - Откуда ты про него знаешь? И вообще - он из аггров, ты форзейль. И как же?
– Никакой разницы. Теперь. Если удастся, вернешься в Москву, помаракуем, что дальше делать. Здесь я скончаюсь от остановки моего погрязшего в неподобающих чувствах сердца - и пусть эта трижды долбанная вселенная катится гораздо ниже центра мирового равновесия… - Он добавил несколько фраз в духе незабвенного капитана Кирдяги[66], - В любом варианте там меня никто искать не будет.
– Плотно выражаешься, - похвалил Шульгин. - Есть шансы на выздоровление. Получается, кто-то тебя сдал своим, а кто-то заинтересован тебя выручить. Снова чужими руками. Я ведь не за тобой в странствия отправился. Наоборот, в душе надеялся, что очередной раз поможешь, если припрет. А оно вон как получилось. Кто ж меня под пулями на этот терминал вывел?
– Сам и вышел. Очень хотел, наверное.
Шульгин в душе согласился, что так и было. Все время в голове гвоздем сидела надежда на помощь Антона, картинка его кабинета в Замке, воспоминания о сомнительных по результатам, но все же дружеских встречах.
– Пусть так. Считаем, все к лучшему в этом лучшем из миров. Но пока я здесь, ты там и сохраняешь долю адекватности, подскажи, если знаешь, мне-то что дальше делать? В Москве или придется встретиться, или нет…
Антон прикрыл глаза темными, набрякшими веками, видимо, сосредотачиваясь.
И начал говорить странным, свистящим шепотом.
– Наступило время, когда действует не царь, а царица. На ее стороне сила. Всякая попытка подчинить ее себе может привести к опасным последствиям. Намечается возможность концентрации всего зла, которое было на предыдущих ступенях. Оно окончательно не побеждено. На время это зло получает возможность действовать вновь. Никакой компромисс со злом по существу недопустим. Спасти положение может только стойкое пребывание на месте. Однако тупой и неразвитый человек, хотя бы он и был слаб, в силу закономерностей движения будет стремиться к действию. Всякое самостоятельное выступление помешает делу воссоединения. Однако не следует думать, что скрывание собственных достоинств приведет к дурным последствиям. Оставайся самим собой, и через сожаление придешь к успеху…
Пожалуйста вам - очередной Дельфийский оракул! В одиночке сидит пожизненной, а вместо делового разговора несет заумную чепуху. Или таким образом их подводят к окончательному просветлению? Чтоб слюни начал пускать и, кроме своего синтанга, ни к чему более не стремился.
– Хорош, Антон, завязывай. Такой мутотени я тебе сам километры наговорю…
– А? Что? - Форзейль словно проснулся.
– Хватит, я сказал. Соберись. Сейчас когти рвать будем, не скрывая собственных достоинств. К успеху мы придем сами, а сожаления оставим твоим коллегам… Что делать, спрашиваю.
– Продолжай идти, куда идешь. Выход близко. Только не поддавайся эмоциям. А теперь сосредоточься. Вообрази, что пространство между тобой и мной исчезло. Вспомни настроение, с которым входил в Сеть. Окутай меня коконом своей воли. И - выдергивай. Как зуб из челюсти. Дальше я сам найду дорогу. В Москве встретимся…
Шульгин так и сделал. Это оказалось совсем несложно. Не труднее, чем перенести броневик через пятьдесят парсек.
Существо, которое секунду назад было Антоном, мягко повалилось лицом вниз на помост. Чаша откатилась в сторону, расплескивая остатки до сих пор горячего напитка.
Створки межпространственного барьера сомкнулись. Шульгин снова видел перед собой только пустую комнату и чистый стол. Провел рукой по голове - никакого шлема на ней не было.
Очередная миссия, следовательно, завершена. Кому из Игроков потребовалось Сашкиными руками спасать Антона, верного, хотя и несколько своевольного агента? Сами не могли? А ведь очень может быть. Очередное правило. Форзейль залетел по собственной неосторожности, угодил за решетку согласно законам своего мира, и освободить его просто так, в стиле Лихарева, вызволившего Буданцева из внутрянки, там не получалось. Чужой мир - чужие правила.
Нет там ребят уровня Шульгина, Берестина или даже Лихарева, которые могли бы с автоматом в руке кованым ботинком вышибить дверь, положить мордой вниз охрану, закинуть друга в вертолет и увезти «хоть в Сухум, а хоть в Одессу». Была такая присказка еще в двадцатые годы. В мире Антона все ходят на цыпочках, кланяются и вежливо шипят, постоянно соображая, как кому угодить и где упрочить свою карьеру. Исполнение долга чести передоверяют представителям низших рас. Вроде землян, к примеру.
На столе ниоткуда возник телефонный аппарат, изготовленный из грубого черного бакелита в самом начале тридцатых годов, по дизайну соответствующий. Появился, постоял и требовательно зазвонил. Короткими пронзительными звонками. Так в то время отличали внутригородскую связь от междугородки. Обычно пугались: редко кто тратил деньги, чтобы порадовать приятной новостью. Чаще - наоборот.
– Слушаю, - со скептическим интересом ответил Шульгин. Что там они еще придумали?
– Ты меня слышишь, Саша, - прозвучал в трубке достаточно отчетливый голос Антона.
– Хочу сообщить, что до места добрался и устроился. Не скажу, что мне очень нравится тело, не мой размер, что называется, а остальное не так плохо. Я тебя жду, постараюсь подготовить кое-какие материалы для успешного завершения начатой миссии.
– Тебя эта ерунда до сих пор интересует? - искренне поразился Шульгин. - Я бы после трех лет тюряги поинтереснее занятие нашел.
– Я, может, тоже найду. Но надо же тебя отблагодарить и обнадежить.
– Спасибо, милостивец ты мой! Не знаю, как без тебя и жил бы…
– Не ерничай, Саша. Дела обстоят не самым лучшим образом. Я бы так сказал - сожми зубы и прорывайся вперед, не обращая внимания ни на какие отвлекающие факторы. Ты меня понял?
– Чего ж не понять. Всю жизнь так живем. С вашей, кстати помощью.
– Об этом после поговорим. У меня талончик[67] кончается. Держись, Саша. Других вариантов нету… Только вперед! Не пытайся вернуться назад. Назад дороги нет. Только смерть или развоплощение.
Сашка подумал, что совет немножко запоздал. Недельки б две назад Антон это ему сказал, когда на Столешниковом попросту общались.
– Куда уж нам назад… - Он не договорил, в трубке запиликали короткие гудки прерванной связи. Да и так все ясно.
Вернувшись в хижину, Шульгин жадно выпил полкружки успевшего остыть крепкого чая и попытался уснуть. Сначала у него не получалось, даже его крепкая психика получила слишком большой эмоциональный перегруз.
Вспомнилась сценка в Замке после эвакуации с Валгаллы. Тогда он продемонстрировал форзейлю, а главное, девушкам, что человек покруче любого пришельца. Показал и доказал, послав Антона в нокдаун так, что тот даже не успел заметить движения его кулака. Впоследствии это сыграло свою роль, заставив Ларису обратить на него свое специфическое внимание, а друзей избавило от подсознательного почтения к пришельцу. Но основная идея была не только в этом: ему захотелось немедленно снять у самого себя комплекс поражения, стыд от проигранного сражения за Форт. А Антон, как ни крути, был одним из непосредственных виновников поражения. Сцепившись с Антоном, Сашка показал ему и всем, кто «сильнейший самец в стае». Может быть, после этого и начались между ним и форзейлем «особые отношения».
Мысли на грани засыпания приобретают особую пластику и подвижность. Еще не сон, уже не явь, и кое-какие тормоза с воображения снимаются сами собой. Частности текущих событий и «довлеющая дневи злоба» растворились, а вместо них нахлынули совершенно экзистенциальные построения. Поиск аналогий между аналогиями, как заумно выразился некий философ.
Что, собственно, объединяет каждую из более-менее серьезных деформаций реальности, в которых ему лично и «Братству» в целом пришлось поучаствовать? Каждую по отдельности и весь пакет в целом. Где тот инвариант, который остается неизменным, где бы им ни приходилось действовать, абсолютно добровольно или повинуясь мягкому интеллектуальному принуждению?
Он мысленно заскользил по линейке времен и вееру вероятностей.
Закономерность обнаружилась почти сразу. Как никто из них раньше ее не заметил? Слишком они были озабочены нравственными метаниями и геополитикой.
Что бы они ни предпринимали: участие в боях на стороне квангов, попытки Новикова и Берестина переиграть Отечественную, создание Югороссии, подавление мятежа «леваков» в двадцать четвертом, - конечным результатом была минимизация человеческих потерь. Не важно, в подлинных реальностях или химерических.
Разгромив красных под Каховкой, прекратив Гражданскую войну, они в итоге сохранили несколько миллионов жизней с той и другой стороны. Война закончилась на два года раньше, после нее не последовал большевистский террор, раскулачивание и коллективизация. За недолгие месяцы пребывания Андрея и Алексея в сорок первом им удалось предотвратить разгром Красной Армии, в реальности потерявшей к осени полтора миллиона убитыми и больше трех миллионов пленными. В Москве двадцать четвертого, удайся переворот, счет жертв тоже пошел на сотни тысяч, ибо очередная война Совдепии с Югороссией стала бы неизбежной, а там и западная интервенция с целью выбить Россию из Царьграда и Проливов.
Нынешний тридцать восьмой… Почти прекращен террор, и есть шанс завершить запредельно жестокую испанскую войну. Ребята за Пиренеями такие горячие и беспощадные, что за два с лишним года при двадцатимиллионном населении ухитрились положить народу больше, чем в стошестидесятимиллионной России за пять.
В перспективе вариант, когда не состоится и Вторая мировая, по крайней мере - в прежнем формате. Кому нужен такой альтруизм? Или действительно перед Держателями, Сетью, а то и Тем, кто неизмеримо выше, стоит некая гиперцель, для которой требуется гораздо большее количественно и куда менее кровожадное человечество? Зачем, интересно?
Но и самого первого (вполне возможно, что предварительного) вывода Сашке хватило, чтобы обрести желаемое душевное спокойствие. Ведь теперь, черт возьми, ориентируясь именно на этот параметр, можно жить и работать, не отягощаясь «проклятыми вопросами».
Хорошо, что ему не пригрезилась новая, вытекающая из первой, гипотеза. Например, такая - человечество с какой-то целью необходимо довести до контрольной цифры поголовья. Или - критической массы. А уж тогда - или на колбасу, или… Ростокин рассказывал ему про девушку Зарю и ее план депортации с Земли двух миллиардов человек на предмет извлечения из них психической энергии.
Но до этого он дойти в своих умозаключениях не успел. Перевернулся на левый бок и окончательно заснул, без сновидений, чтобы проснуться на очередном привале по избранной им (или для него) тропе.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Сейчас, похоже, кое-кто решил дать и ему позабавиться.
Нет, не так! Общение с «Добрым ангелом, светлым Даймоном» вывело на уровень формирующейся мыслеформы все связанные с ним воспоминания, в том числе о походах Воронцова, Новикова и Берестина на большую войну, в которой и он мечтал принять участие, да не довелось. На это наложились его последние размышления о «сбережении народа». И, наконец, собственное подсознание или соответствующая структура Сети для снятия неизвестно кем устроенного стресса с картиной собственной смерти предложили своеобразную компенсацию. Забудешь, не забудешь страшную картину, а отвлечешься.
Еще один штрих нельзя исключать из рассмотрения. Если уж позволили (или приказали) Шульгину-Шестакову одержать победу в первой современной войне двадцатого века, то скорее всего решили устроить ему небольшую стажировку. На войне еще более современной.
К делу подошли серьезно. Не только личную память восстановили в полном объеме по всем реальностям, а кое-чего добавили. В принципе известное, но проходившее краем сознания. Из читанных военных мемуаров советских и немецких полководцев, кое-какой публицистики, художественных книжек и фильмов «про войну», столь популярных среди школьников послевоенных лет.
Сейчас он все знал подробнее и глубже всех остальных вовлеченных в сюжет персонажей. На текущий момент и вперед, на всю протяженность их жизней, написанных воспоминаний, всей правды и неправды, что там содержалась, с чем они ушли на тот свет, стыдясь или гордясь.
Само собой, техническая сторона вопроса оставалась для него непонятной. В отличие от Новикова с Берестиным и Воронцова его никто не инструктировал, не готовил морально и материально. Вбросили - и все. В расчете, что сам разберется и поступит, как хочет. Но снабдили и обеспечили неплохо.
Раннее утро двадцать седьмого июня сорок первого года. Он, как в своем варианте Воронцов, а точнее, взамен него, очутился на стыке рвущихся на восток вражеских группировок. Только не дивизионным комиссаром, а комиссаром госбезопасности третьего ранга. Три ромба в петлицах, которые повесомее для окружающих, чем звезды генерала армии. В разгар величайшего встречного танкового сражения, происшедшего в треугольнике Луцк - Броды - Ровно. Сражение под Прохоровкой описано тысячекратно, а это забыто или скорее непонято. Подробное изложение битвы было впервые опубликовано в пятьдесят седьмом, затем в шестьдесят первом, но не вызвало в историческом сообществе никакой реакции. Хотя в нем столкнулось втрое больше танков, чем под Курском или когда-либо в истории. В лоб, без разведки, без знания обстановки, без пехотного и артиллерийского прикрытия. Броня на броню.
Наши его, к сожалению, проиграли, потеряв столько бронетехники, что хватило бы, время от времени пополняя неизбежные потери, грамотно воевать до самого Берлина. Зато немцы, без особого труда справившись с броневой армадой, утратили не только темп, как казалось поначалу, а последние шансы на выигрыш «блицкрига». О чем в тюремных камерах или на собственных виллах горько плакались прославленные на других полях сражений клейсты, манштейны, гудерианы и несть им числа, «героям упущенных побед».
Шульгину для исполнения «миссии» были выделены три «тридцатьчетверки-85». Не беда, что в натуре они появятся только через три года. При тогдашней общей бестолковщине, мании секретности и технической неграмотности высшего комсостава смутно знакомый танк, с башней несколько иной формы и пушкой подлиннее обычной, вопросов вызвать не мог. Если немецкие специалисты сообразили, что «Т-34» - не совсем то, что «БТ», только к сентябрю, так что с наших спрашивать?
Сам он ехал, как и положено начальнику, в обычной «эмке», кистью перекрашенной из черного в цвет хаки, без всяких наворотов, кроме экрана системы глобальной ориентации, на котором карта местности и «точка стояния» воспроизводились с точностью до метра. За ним еще две легковушки и полуторка с бойцами личной охраны.
Десять минут ему было отведено, чтобы вжиться в роль, просмотреть карту. Оперативные сводки и приказы Верховного командования за последние дни Шульгину были известны, равно как и реальное положение дел на текущий момент. Главная, как говорится, «фишка» заключалась в том, что это был мир именно Сталина-Новикова и Берестина-Маркова. На Западном фронте усилиями Алексея фронт держался в предполье между новой и старой границами, и Минск еще не пал. Здесь, на Юго-Западе, пользуясь подавляющим перевесом в силах, наши войска непрерывно контратаковали и даже заняли встречным ударом находящийся на самой границе Перемышль. Советские войска, кроме пехотных и артиллерийских частей, имели на этом участке более двух с половиной тысяч танков против восьмисот немецких. Беда в том, что командование фронтом абсолютно не представляло реально складывающейся обстановки и продолжало импровизировать абсурдную конструкцию из обороны и наступления одновременно. Опираясь на собственные фантазии, слухи и никчемные теперь приказы из «красных пакетов».
Новиков-Сталин, полностью поглощенный событиями на Западном фронте, судя по всему, рассчитывал, что генерал Кирпонос[68] с неделю продержится своими силами, а там общее изменение обстановки заставит немцев прекратить наступление и перейти к обороне. Для координации действий в помощь командованию фронтом был направлен лично начальник Генштаба Г.К. Жуков. Демонстрируя свои «лучшие» качества, будущий гений до предела запутал попавшихся ему на глаза командиров, сам ничего не понял, углубил дезорганизацию и отбыл восвояси.
Но Шульгину встретиться с ним позволено не было, из каких-то специальных соображений, а то бы он ему показал! Сотрудников ГУГБ Георгий Константинович боялся до неприличия, о чем не постеснялся упомянуть в своих мемуарах. Задача «комиссара» была весьма локальной, одноразового действия, но в случае успеха сулила коренное изменение всей стратегической картины. Как раз сейчас готовился совместный контрудар четырех механизированных корпусов в направлении Дубно с целью разгромить наступающие немецкие войска и занять устойчивую оборону перед линией старых укрепрайонов.
Он еще успел и папиросу закурить, ту же самую «Северную Пальмиру», популярную у больших начальников, как «Кент» у партийно-административных работников в семидесятые,
Полевая дорога вывела его к месту, где член Военного совета фронта корпусной комиссар Вашугин с матом и под угрозой расстрела заставлял командира Восьмого механизированного корпуса Рябышева и его комиссара Попеля немедленно перейти в наступление. Бессмысленное, неподготовленное и не согласованное с соседями, ведущее к гибели корпуса и прорыву немцев на оперативный простор. Неподготовленное настолько, что не только данных о положении противника, но обычных карт даже у комполков не имелось.
Не важно, подлинная это была сцена или воспроизведенная специально для него с макетами исторических персонажей, портретно неотличимых от оригиналов, сейчас она была абсолютно реальной для Шульгина.
Он приказал водителю, сержанту госбезопасности, остановить машину, а за ним и танки притормозили, попыхивая дизелями. Вышел на поляну, всем видом демонстрируя свою значительность, левой рукой держал папиросу на отлете.
Тут как раз разыгрывалась кульминация не только личной судьбы двух талантливых командиров - судьбы всего Юго-Западного фронта. Целый синклит собрался для реализации этого рокового решения. Вашугин, прокурор, председатель Военного трибунала фронта, порученцы и адъютанты, десяток штабных красноармейцев, сплошь вооруженных автоматами, которых так не хватало в боевых подразделениях.
– За сколько продался, Иуда? - сдавленным от ярости голосом спрашивал невысокий ростом коркомиссар у генерал-лейтенанта с тремя орденами Красного Знамени. Тот тянулся в струнку перед членом Военного совета, опешивший, не зная, что ответить.
Вмешался бригкомиссар Попель:
– Вы бы выслушали, товарищ корпусной…
– Вас, изменников, полевой суд слушать будет. Здесь, под сосной, выслушаем и у сосны расстреляем…
– Потрудитесь прежде выслушать…
– Заткнись, штатный адвокат при изменнике![69] Не хотите к стенке - двадцать минут на решение - и вперед…
На появившиеся на опушке танки и машину никто из присутствующих не обратил внимания. Не до того. Танки - это проза жизни механизированного корпуса, а тут разыгрывались шекспировские страсти. Еще один узелочек, на который завязывались судьбы войны и мировой истории. Не начни корпус Рябышева бессмысленное наступление в пустоту, оттянись назад, за линию пока еще боеспособных пехотных соединений, где предполагалось наладить взаимодействие с Девятым МК Рокоссовского и Девятнадцатым МК Фекленко, 11-я и 13-я танковые дивизии немцев увидели бы перед собой танково-механизированную группировку, составляющую половину всех танковых сил Германии, причем в обороне на выгодных позициях. Семьдесят процентов советских танков при этом качественно превосходили немецкие. Даже те, которые потеряли способность передвигаться. Все равно пушки 45 и 76 мм, особенно из засады, могли расстреливать «Т-2» и «Т-3» беспрепятственно. Их малокалиберные короткоствольные пушки не брали броню «KB», «тридцатьчетверок», модернизированных «Т-28» даже в упор.
А еще советские войска располагали значительным количеством тяжелой артиллерии, включая мощные шестидюймовые гаубицы-пушки, которых у немцев не было даже в проектах.
Не путайся под ногами у способных командиров сталинские выдвиженцы, совсем другая история могла бы в тот день сложиться. Был Вашугин средненьким командиром полка, стал за два года надсмотрщиком над командующим фронтом, вот и руководил. И наруководил.
Происходящее на кругленькой лесной поляне было так интересно срежиссировано, что никакой Мейерхольд не сумел бы. Звук между соснами разносился отчетливо, каждое слово - весомо и разборчиво.
Вразвалочку, большими пальцами расправив складки гимнастерки под ремнем, неторопливо ступая начищенными сапогами, похлопывая по голенищу старинным кавалерийским стеком, Шульгин подошел к просцениуму трагической пьесы, остановился, качнулся с каблука на носок.
Безусловно, он был хорош. Особенно в сравнении с жалким подобием себя, умершим недавно в приюте для бедных. За ним так же неторопливо подошли и остановились с автоматами «ППД» на изготовку три сержанта и один лейтенант в фуражках с васильковым верхом.
Дослушав истерическую речь Вашугина и убедившись, что его так никто до сих пор не заметил, Сашка резко шагнул вперед, властно отодвинул левой рукой комиссара Попеля с линии, отделявшей его от Вашугина, медленно и презрительно спросил:
– А ты кто такой?
Член Военного совета фронта аж задохнулся.
– Да я, да я! Вы что, не видите… Я член…
– В этом - согласен. Именно то и есть! Кому и чей - пока не понял. Доложись по полной форме. Как учили. Ну! - Голос его завибрировал, как стальная полоса.
Накопленная за многие годы злость, помноженная на никак не выветривающееся из памяти зрелище собственной смерти, произвела должное впечатление.
Вашугин чисто инстинктивно сообразил, что не какой-нибудь комкор запаса, не успевший получить новое звание, стоит перед ним, а страшное ГУГБ в лице одного из высших представителей. Дернулся, закусил губу и ответил, сдвинув каблуки:
– Корпусной комиссар Вашугин, член Военного совета Юго-Западного фронта…
И тут, наверное, снова у него взыграло. Человек, способный застрелиться, осознав свою ошибку, все ж таки - сильный человек. Хотя и не совсем.
– А кто вы, товарищ комиссар? И какое право имеете вмешиваться? Я подчинен только ЦК! Я…
Пышные черные усы дергались, но выглядели приклеенными. Почему, бог весть, но такое впечатление.
– Ты, ты… - Шульгин усмехнулся, пистолет доставать не стал, просто откинул крышку кобуры. - Может, вспомнишь, орел, был такой у тебя начальник по фамилии Гамарник?[70]
Рифма вышла сама собой, непредусмотренно.
– Я, особо уполномоченный Ставки Главного командования Шульгин, на месте оценив обстановку, считаю, что твое поведение заведомо преступно. Ты сейчас что приказал генералу и бригкомиссару? Спалить последний наш боеспособный корпус в бессмысленной атаке? За двадцать минут подготовить и организовать наступление, на что не одни сутки требуются? А потом? Сослаться на отсутствие сил для сопротивления и открыть фронт немцам? Такой у тебя преступный замысел? Данной мне властью объявляю тебя врагом народа…
И протянул раскрытое удостоверение, в которое был вложен квадратик картона со всеми положенными грифами и личной подписью Сталина. Не корпусному, бригкомиссару Попелю.
Тот отчетливо, с торжественными нотками прочел:
– Распоряжения и приказы подателя сего обязательны к исполнению всеми представителями партийных, советских и военных органов. Секретарь ЦК ВКП(б), Председатель ГКО и Ставки Главного командования И. Сталин. Подпись, печать!
Вашугин побелел. Не столько от личного страха за себя, как от немыслимого изменения обстановки. Хотя отчего же немыслимого? Не так ли он минуту назад собирался поступить с Попелем и Рябышевым?
– Товарищ комиссар госбезопасности! Но я же выполняю Приказ номер три, тоже подписанный лично товарищем Сталиным, наркомом Тимошенко и начальником Генштаба Жуковым… А они отказываются!
– Вот и дурак. Ты сам карту когда-нибудь видел?
Не сегодняшнюю, вообще карту? Не ту, что в дурака играют, - топографическую?
Вопрос поставил комиссара в очередной тупик, что отчетливо проявилось в его взгляде.
– Ладно, Вашугин. Расстреливать я тебя не стану, а вот проявить себя в исполнении приказа Ставки позволю.
Подошел, натренированными в занятиях боевыми искусствами пальцами сорвал с петлиц Ватутина ромбы, покачал на ладони, как бы не зная, куда девать. Можно и на землю бросить. Потом протянул Рябышеву:
– Спрячьте, до случая…
Прокурорские и судебные начальники, от греха подальше, оттянулись за ближайшие деревья. Никто из них не осмелился не то чтобы вступиться за Вашугина, а хотя бы поинтересоваться достоверностью предъявленного мандата. Да куда им! Если кто в глубине души помнил основы законодательства, тот быстро сообразил, что, начнись разбирательство, сам факт их согласия с эскападами коркомиссара уже являлся подсудным. Кто военный прокурор и кто комиссар? Совершенно разные вещи.
Шульгин же, повторяя в чем-то друга Берестина, поманил рукой попавшегося на глаза танкового подполковника, который, прячась за стоявшей неподалеку «бэтэшкой», смотрел, полураскрыв рот, на разборки высшего начальства.
– Фамилия, должность?
– Волков, командир 24-го танкового полка.
– Я вас прошу, товарищ Волков, передайте этому товарищу свои шпалы, у меня под руками нету, а взамен, когда найдете, приколите себе четыре. Комкор приказ подпишет, а я завизирую. Имею право. Согласны, товарищ Рябышев? Достоин товарищ Волков нового звания и должности командира ударного передового отряда?
Из истории Шульгин знал, что в реальности подполковник Волков проявил себя в последующих боях очень хорошо, сумел выйти на коммуникации противника и уничтожить танковый полк и тыловые подразделения 11-й танковой дивизии немцев. Но вскоре героически погиб, к сожалению.
Генерал-лейтенант, за пять дней настолько замотанный, что в идиотской ситуации с озверевшим коркомиссаром не догадался молча выстрелить ему в затылок, а затем списать эту потерю на «обстоятельства», кивнул. Больше всего ему хотелось спать.
Сержант, порученец Шульгина, неторопливо прикрепил на петлицы бывшего корпусного комиссара три шпалы. На пять ступенек вниз опустил Сашка амбициозного чиновника. Но ведь не расстрел и не самоубийство.
– Запомни, Вашугин. Дураком быть - право каждого, но нельзя этим правом злоупотреблять. Я только что спас тебя от паскуднейшей ошибки в твоей жизни. Если ты уверен в правильности того приказа, который заставлял выполнять знающих дело командиров, то вперед! Товарищ Рябышев, назначаю старшего батальонного комиссара заместителем командира передового отряда. Как ты распинался здесь - к вечеру взять Дубно? Вот и бери…
Шульгин никогда не был злым человеком. Просто при встрече с хамами, подлыми дураками или откровенной сволочью у него срывало стопора, как говорил Воронцов. И тогда он поступал не всегда по-христиански.
Раскрыл коробку папирос, протянул всем, кто находился рядом: Попелю, Рябышеву, Вашугину тоже и ставшему полковником Волкову. Спичку поднес сержант из-за спины.
После глубокой затяжки сказал Рябышеву:
– Исполнит отряд свою задачу, она, кстати, смысл имеет, возьмет Дубно, обрежет немцам коммуникацию - отдайте Вашугину ромбы. Пусть делает с ними, что хочет. Не вернется из боя - доложите, что пал смертью храбрых. Перебежит к немцам - тоже доложите, как есть. Выбор за тобой, товарищ Вашугин…
Шульгин большим пальцем указал за спину, на бесстрастных, как члены хора в античной трагедии, сержантов.
Кто думает, что подобные сцены даются легко, сильно ошибается. Нервы горят не слабее, чем в бою.
А что же тогда сказать о Попеле и Рябышеве? Сашке - эмоциональный всплеск, а людям сорок первого года - едва не снесший головы взмах крыла бессмысленной и унизительной смерти. От руки представителя той самой власти и партии, которым они беззаветно отдались двадцать лет назад.
Да, следует позаботиться еще о других представителях фронта. Большие люди - прокурор в чине бриг-военюриста, председатель трибунала - тоже. И свита от лейтенантов до майоров. Целый взвод набирается. Берестин когда-то повеселился, поставив на место всего лишь одного капитана ГБ, а тут сколько подходящей публики.
– Этих - тоже в строй. До тех пор, пока обстановка не нормализуется. Вы хотите что-нибудь возразить, товарищ? - заметил он негодующий жест бритоголового прокурора.
– Да, хочу! Невзирая на ваши полномочия. Прокурорский надзор и судебные органы…
– А ты бы лучше заткнулся. - Грубить в этой ситуации Сашке просто нравилось. Разрядка как-никак. - Какой на хрен ты надзор, если при тебе какой-то придурок собирается ставить к стенке заслуженного генерала? Ты обвинение рассмотрел в установленном порядке, заслушал свидетелей, приказы изучил и сопоставил? В трибунал дело передал, командующему фронтом доложил? Что-то я такого не заметил. Стоял, сволочь, и кивал…
Ромбик в петлице у прокурора, три у Шульгина, и грозная эмблема на рукаве, и напор, и расстегнутая кобура…
– Вашугин тебе был выше закона? Его приказы выполнял? Так и сейчас будет! Генерал, - повернулся он к Рябышеву, - посадите всю эту команду, - он обвел рукой вашугинский синклит, - в две полуторки и направьте в составе ударного батальона на Дубно. Пусть хоть раз в жизни немцев увидят… А то, мать их так, ромбами и шпалами обвешались, а с какой стороны у винтовки приклад, плохо помнят. Выдайте им по винтовке и по сорок патронов!
Жестоким человеком Шульгин себя не чувствовал. И негодяем тоже. Вот когда невинного человека к смерти приговариваешь или к десятилетнему сроку, почесываясь и отхлебывая чаек с лимоном, тогда - сволочь. А дать увешанному знаками отличия и различия командиру высокого ранга проявить себя в открытой борьбе с врагом - благодеяние! Вдруг уцелевшие найдут именно там свое призвание?
Строевые командиры все равно поглядывали на бывших властителей судеб с опаской, потому Шульгин поручил исполнение своего приказа сержантам. Тем все равно, что Блюхер, что нарком Ворошилов, что захолустный прокурор.
– Все, товарищи командиры. Что было, то было, Теперь слушайте мою команду, - сказал он, когда они сели вокруг раскладного стола рядом с машиной комкора. Рябышеву Шульгин приказал немедленно собрать все свои дивизии и полки, подгребая по пути любые пехотные и артиллерийские части, независимо от подчиненности, стремительно отойти, прикрываясь арьергардами, на линию реки Горынь и прилегающих укрепрайонов. Где и занять жесткую оборону.
– Вот вам мой, от имени Ставки, приказ. - На листке полевого блокнота с отпечатанным поверху перечислением всех его должностей он остро отточенным красным карандашом написал вышесказанное. - Ни на какие иные распоряжения не реагируйте, за исключением лично вам адресованных и доставленных офицером связи, подписанных не ниже чем наркомом обороны. Если комфронта нажимать станет, просите у него письменной, под свою ответственность, отмены этого. А таких, как Вашугин и ему подобных впредь ставьте к стенке, не вступая в пререкания. В нынешней обстановке о них никто не вспомнит и с вас не спросит. Вот, к слову, комкор-9 Рокоссовский вообще ни один нынешний дурацкий приказ не исполняет, действует только по своему разумению. И корпус цел, и сам далеко пойдет…
Теперь осталось еще одно дело, казавшееся важным. Шульгин помнил, как после отъезда Воронцова генерал Москалев отказался выполнять его приказ на диверсию в тылу немецкого моторизованного корпуса. Как бы и здесь такого не случилось. Значит, стоит присмотреть лично хотя бы за первыми шагами командования.
Куда веселее, подумал он, было бы сейчас рвануть на машине до ближайшего крупного узла связи и вызвать Москву, Кремль. Поговорить по душам с Андреем. Интересный разговор мог получиться. Но ведь не получится. Скорее всего он просто не доедет. Шальную бомбу немецкий «Ю-87» сбросит или отзовут его на очередной уровень. Раз не было в воспоминаниях Новикова такого, так и здесь не случится. Парадокс, понимаете ли…
Но немножко побаловаться ему вряд ли помешают.
– Садитесь в свой танк, товарищ бригадный комиссар, - предложил он Попелю. - Прокатимся, пока передовой отряд изготовится, посмотрим, что там впереди делается…
Судя по книге воспоминаний Н. К. Попеля «В тяжкую пору», он был весьма храбрый человек, с первых дней войны лично водил танки в атаку, наблюдая поле боя через оптику прицела. И сумел, не покидая передовой, дожить до Победы. Шульгин и решил показать ему, каким образом следует воевать, чтобы сократить пресловутые тысячу четыреста восемнадцать фронтовых дней хотя бы вдвое.
Впереди двигались три шульгинские «восемьдесятпятки», за ними тоже три машины, но с пушками «семьдесят шесть». В первой на месте командира устроился бригкомиссар. Он не совсем понимал замысел странного чекиста. Приказ Вашугина возглавить ударную группу трехдивизионного состава с массой танков был плодом нервного срыва потерявшего голову начальника, но там хоть масштабы соответствовали должности. Идея же отправляться навстречу врагу, в неизвестность, всего лишь ротой не лезла вообще ни в какие ворота. Высокому представителю Ставки выезжать на передовую, без всякой охраны, в железной коробке, которая пусть и защищает от пуль и осколков, но жарко вспыхивает и взрывается от единственного снаряда немецкой зенитки, - безрассудство.
Попель был благодарен чекисту за спасение, чем черт не шутит, сдуру ведь и вправду мог Ватутин поставить его и Рябышева к сосне, заменяющей стенку, но параллельно испытывал совсем другие чувства. Как всякий нормальный человек тех лет, успевший покрутиться на разреженных высотах, где обитают птицы, увенчанные звездами и ромбами. Поведение, манера разговора комиссара вполне соответствовали общепринятым, а как же иначе, Шестаков знал «номенклатурный политес» получше армейского политработника. Но одновременно Николай Кириллович «пролетарским чутьем» ощущал в чекисте не нашего человека. Будь он просто из дворян или из царских офицеров, за двадцать с лишним лет пообтерся бы, а этот словно вчера оттуда. Один стек чего стоит, но прежде всего - презрение в глазах плескалось, когда он говорил с Вашугиным. Совсем не то, что испытывал сам бригкомиссар, стоя перед членом Военного совета. Приходилось Попелю в Гражданскую встречаться с белыми офицерами, до сих пор он помнил такие вот взгляды. Даже у пленных перед расстрелом.
Танки тоже вводили в задумчивость. Так, не вникая, «тридцатьчетверка» и «тридцатьчетверка». Башня да, несколько другой формы, и пушка, само собой. А вот техническая культура… Попель немало лет посвятил службе в танковых войсках, знал все типы машин, начиная с «Т-26» первых моделей и «БТ-2», и, что называется, нутром чувствовал, что эти три танка отличаются от его машины сильнее, чем сама она от «бэтэшки». Бригкомиссар не ошибся, «Т-34-85», которые он видел, относились к последним сериям этой модели, изготовлены по самым совершенным для конца сороковых годов методикам. От архаичных машин первого образца отличались разительно.
«Надо бы спросить у чекиста, когда и на каком заводе выпущены его танки, - думал Попель, - что в них нового и необычного, когда начнут поступать в войска… Да поздно уже».
Их маленький отряд, пройдя десяток километров по лесной дороге, вышел к берегу речки Пляшевки. Судя по карте и расчету времени, с той стороны на южный берег только-только начали переправу разведподразделения 16-й танковой дивизии немцев.
День стоит настоящий июньский. Тепло, но не жарко, небо синее, без единого облака. Далеко на севере и северо-западе погромыхивает, но совсем не страшно, вроде уходящей грозы. Наверху ни одного самолета, ни нашего, ни вражеского.
С заросшего негустым лиственным лесом пригорка хорошо видны осторожно преодолевающие бревенчатый мост четырехосные броневики «Ахтрад» с двадцатимиллиметровыми пушками в угловатых башнях. За ними пылили по проселку до десятка «Т-3».
Вводная ясна. Немцы выйдут в существующий здесь оперативный вакуум, подтянут за собой мотопехоту, организуют плацдарм и с утра силами всей дивизии, а то и более того, получат великолепную возможность нанести сокрушительный удар во фланг наступающих на Дубно соединений корпуса. При том уровне тактической подготовки, что имеют средние и даже старшие командиры Восьмого МК, управление войсками сохранить вряд ли удастся.
Попель, высунувшись по пояс из люка, с биноклем в одной руке и сигнальными флажками в другой, пристально всматривался в открывшуюся ему картину. Шульгин спрыгнул на траву, добежал до его танка.
– Интересно, Николай Кириллович?
Бригкомиссар только поморщился. Тон представителя Ставки показался ему неуместным. А возразить - субординация не позволяет.
– Ваш передовой отряд сюда не успевает…
– Ему и направление другое указано. Мать… - не выдержал Попель, - ну где же, на хрен, наша авиаразведка? Где все? Атакуем?
– Да что же это у вас неискоренимые кавалерийские замашки? - со всей возможной иронией произнес Сашка. - Не наатаковались еще? А беднягу Вашугина за те же инстинкты осуждаете. Пока я не дам иной команды, стойте, где стоите, и наблюдайте…
До переправы было около двух километров, и Шульгин успел, не высовываясь из-за маскирующего подлеска, развернуть три своих танка в цепь с интервалами пятьдесят метров.
Он знал, что водители и башенные стрелки вверенных ему машин владеют своим искусством на уровне корабельных роботов. Тоже подарок.
Сам он с друзьями на Валгалле сумел вполне прилично освоить «Леопард», «МТЛБ» и прочие виды отечественных бронетранспортеров, но с «тридцатьчетверкой» дело имел впервые. Однако, как выяснилось, знал ее наизусть и мог с закрытыми глазами найти любой маховичок, рычаг и переключатель, что в башне, что в отсеке управления.
Теснее здесь, конечно, было, чем в «немце», и с эргономикой плоховато, однако в заданных условиях повоевать вполне можно.
С дистанции в восемьсот метров даже из обычной «СВД» ничего не стоит попасть в поясную, тем более - ростовую мишень. А тут с места, из танковой пушки с приличной оптикой, в едва ползущую машину размером с сарай!
По броневикам он приказал стрелять фугасными снарядами. Эффектнее и нагляднее получается. Стальные листы веером в разные стороны, башня плавно крутится в воздухе, с треском рвутся снаряды и патроны боеукладки, жарко вспыхивает бензин.
Четыре прицельных выстрела - четыре «Ахтрада» превратились в чадящие кучи железа. И раньше, чем командиры танков успели осознать изменение обстановки, «тридцатьчетверки» перенесли огонь на них. Только снаряды пошли в ход бронебойные.
Естественно, стрельбы такой точности и интенсивности ни сам Попель, ни его экипажи раньше не видели. Как-то не получалось в советских танковых войсках в то время действовать по принципу «выстрелил - забыл». Пушки были не те, прицелы, наводчики вообще вне всякой критики. У немцев, к сожалению, с меткостью обстояло получше, но не в этом случае. С их стороны донесся всего один, да и то сделанный наобум выстрел. И все. Силенциум, как говорили древние римляне, то есть - тишина.
Шульгин, вытирая пот со лба, шел навстречу выпрыгнувшему из башни Попелю, а его стрелки из трех стволов сразу разносили в щепки на совесть, еще австрийцами сделанный мост.
– Вот примерно таким образом, товарищ бригадный комиссар, воевать надо, - с явным удовлетворением за хорошо сделанное дело сообщил он. - В нынешней конкретной ситуации. Потерь нет, расход боеприпасов минимальный, задача выполнена на сто процентов с хвостиком. По такой методике вам даже «Т-35» и «Т-28» до конца войны хватит. А дивизией вылетать в лобовую атаку на артиллерийские позиции, да с пикировщиками над головой, - всей промышленности не хватит вас пополнять…
Сейчас он боялся одного - что его выдернут и отсюда, как не раз бывало, и пропадет весь воспитательный момент. Хорошо ли будет комиссару и атеисту увидеть, как грозные танки бесследно растворяются в воздухе вместе с «уполномоченным»? Совсем товарищ дезориентируется, впадет с непривычки в мистику, и непредсказуемо, в какую сторону ход его мыслей обернется.
Значит, нужно удерживать картинку, сколько хватит сил, чтобы успеть попрощаться, после чего удалиться по лесной дороге для выполнения очередного поручения Ставки.
Попель тоже выглядел довольным и даже восхищенным. Шутка ли - целый немецкий разведбат разгромили, а главное - обстановка на фронте стала намного понятнее.
– Если б надо мной никакого начальства, кроме господа бога, не было, я б тоже так воевал, - спокойно ответил он. - Ударил - и в кусты. А нам, хочешь не хочешь, и пехоту поддерживать надо, и марши в указанный район совершать, да и задачи танков в глубокой операции никто не отменял. Вот скоро на запад повернем, нам же Львов обратно брать и придется… Там в кустах не отсидишься.
Вступать в дискуссию и сообщать комиссару, что до расположенного в полусотне километров Львова идти придется три года, через Москву и Сталинград, он не стал.
– Я ж вам не предлагаю всю стратегию переписывать, я только показал, что в вашем нынешнем положении, пока бардак не войдет в рамки, вверенную технику следует использовать более рационально. Чтобы потом не было мучительно больно… Одним словом, прощайте, Николай Кириллович, дела ждут. Не вы один у меня в списке. Может, когда и встретимся. Желаю удачи…
– Подождите, товарищ комиссар госбезопасности. Один только вопрос - почему в распоряжении НКВД уже имеются такие машины, а мы про них даже слыхом не слыхивали?
– Вопрос, конечно, неуместный, но вам - отвечу. Прежде всего, строится эта машина на заводах нашего подчинения, вот нам и пришлось ее первыми в деле испытать. Похоже, неплохо слепили. Самое же главное - никакого смысла нет их в войска сейчас передавать. Вы ж людей за два года службы и тем, что есть, пользоваться не научили. Проехал я по дороге от Тернополя - без всяких немцев по обочинам десятки и сотни танков и тягачей из-за пустяшных неисправностей брошено. Дай вам эти - еще хуже было бы. Так что… Как в одном анекдоте говорится: «Сначала плавать научитесь, а потом воду в бассейн напустим».
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Скрыться в лесных дебрях со своим взводом Шульгин успел. Если бы еще немного его здесь подержали, он бы наверняка постарался помочь отряду Волкова с минимальными потерями взять Дубно. А оттуда, будь что будет, попытался связаться пусть не с Новиковым, хоть с Берестиным в Минске. Глядишь, договорились бы о взаимодействии… Возможно, как раз за это намерение его в очередной раз упразднили из реальности.
Скитания по уровням Гиперсети становились утомительными, не так физически, как нравственно. Антон ничем не посодействовал, а в благодарность за спасение мог бы подсказать что-нибудь по делу. Простое и понятное, как боевой приказ или инструкция к зубилу. Возможно, конечно, что и сам ничего не знает, иначе не попался бы так пошло своим контрразведчикам. Взяли его, наверное, сразу после связи со столешниковской квартирой. А откуда три года? Оттуда же, наверное, откуда базар в древней Ниневии. Не так уж существенно.
Собственная участь волновала Шульгина гораздо острее. Неужели он примитивным образом заблудился в веках, как герой стихотворения Гумилева, и никто из сильных мира сего или «того» никак не причастен к его скитаниям? И каждый сюжет, в который он попадает, - проекция одного из эпизодов земной реальности? Проекция, или реконструкция, «нарезка фильма». Валяются на полу монтажной куски кинопленки, и кто-то без разбора вставляет их в проектор, смотрит минуту-другую и отбрасывает. А для него это длится часами и сутками.
Можно и иначе представить: берут его, как пешку или фигуру, за полированную деревянную голову и ставят на очередное поле доски, которое на самом деле - фрагмент подлинной жизни одной из мировых линий, куда просто не приходилось раньше попадать. А общий рисунок игры, тем более - замысел партии, с позиции пешки или даже слона рассмотреть невозможно.
Вот сцена на фронте - она ведь выглядела абсолютно достоверной, в точности воспроизводила факт «настоящей» войны. Никаким образом не совпадающей с той, какая могла бы случиться в случае его испанской победы.
Его собственное поведение выглядело так, будто он долго и тщательно репетировал роль. Ни малейшей растерянности при встрече с историческими личностями, никаких провалов памяти, как в сцене с пургой и погоней. Четкое осознание своей полной идентичности и адекватности. Может быть, потому, что реальность Главной исторической последовательности полностью синхронна и синфазна ментапотенциалу его мозга, а другие реальности в той или иной мере «псевдо» и он не может с ними полноценно совместиться?
Он своим вмешательством немедленно изменил подлинный ход событий и слепил очередную «химеру». Удалось вывести 8-й мехкорпус из наметившегося «мешка», сохранить его боеспособность, сбить наступательный порыв немцев - глядишь, и не хватит им через месяц ударной силы, чтобы замкнуть кольцо Киевского окружения. Почти шестьсот тысяч солдат и командиров фронта не погибнут и не сдадутся в плен, а организованно отступят на следующие рубежи. Соответственно, немцам не удастся устроить Вяземский котел, в котором сгинуло еще около полумиллиона, и так далее…
Вдруг в том и заключается некая высшая цель или непознанный закон природы - множить и множить число «химер»? А он, проникнув в Сеть по собственной воле и с конкретным замыслом, попутно оказался неким катализатором непостижимых процессов. Хорошо еще, если попутно, куда как хуже, если окажется приписан к этой функции навечно. Может, именно его Сети и не хватало, чтобы поддерживать в ее структурах здоровый мутагенез. Предупреждал ведь Антон…
Нельзя, кстати, исключить и другой вариант - он сейчас «методом тыка» ищет то, что нужно ему лично, по принципу «пойди туда, не знаю куда…». Вот и ходит.
Проще же всего - претворилась в жизнь давно предсказанная угроза. Влез с недостаточными силами дальше, чем следовало, и завяз, как на «Жигулях» в разъезженных «Уралами» глинистых колеях. Ни взад, ни вперед, а то, что мелькает за стеклом, - разбуженная воем мотора таежная нечисть мороки наводит.
Декорация тем временем в очередной раз изменилась. Мгновенно и без театральных эффектов.
Только что был теплый прикарпатский вечер, успокоительно урчал мотор «эмки», тяжело переваливались на кочках танки в зеркале заднего вида. Открылась уютная полянка с родничком, оправленным аккуратным срубом. Шульгин приказал остановиться, водички попить и по противоположной надобности. С удовольствием сделал несколько глотков, отошел за кусты, радуясь тому, что физиология подтверждает его материальную сущность, и тут же осознал себя стоящим совсем в другом месте. Мгновенно потемнело, задул холодный ветер, с неба посыпался мелкий и тоже холодный дождь. Со всех сторон его окружали не прикарпатские яворы, а мачтовые сосны, далеко вверху, невидимые в темноте, шумели кроны. Под ногами мокрый песок узкой проселочной дороги.
Что- то знакомое почудилось ему. Запахи, вообще масса неуловимых признаков того, что не чужой он здесь, бывал неоднократно. Может, не в этой самой точке пространства, но поблизости. Сырость висела в воздухе не только дождевая, а как бы исходящая от большой воды, реки или озера. И многое другое подсказывало.
Отойдя под защиту леса, чтобы не маячить на дороге, хотя вокруг царила тишина, естественные, природные звуки не в счет, Шульгин попытался понять, в каком теперь находится качестве и какими ресурсами располагает.
На нем была плащ-накидка с капюшоном, под ней - военная форма, на ощупь - незнакомого покроя. Не та, в которой он изображал комиссара. На плечах - жесткие парчовые погоны. В кобуре тяжелый револьвер. В карманах всякая мелочь, в том числе металлический портсигар и грубо сделанная зажигалка, с большим рифленым колесиком. Уже хорошо. Как бы снова не Гражданская война или Первая мировая.
Спрятавшись за ствол сосны и поглубже надвинув капюшон, он закурил. От фитиля резко запахло плохим бензином. А папироса как папироса, толстая, душистая, крепкая, турецкая, наверное. При ее ярких вспышках разобрал на крышке портсигара черненые изображения скачущих коней. Никаких надписей.
Достал из кобуры револьвер. Больше на ощупь, чем с помощью зрения, попытался его идентифицировать. Система незнакомая, что-то среднее между «смит-вессоном» и «кольтом» конца XIX века. Калибр между четырьмя и пятью линиями[71]. Барабан классический, на семь патронов, полный. Еще столько же в карманчике кобуры. Ладно, на первый случай хватит. Очень возможно, что по замыслу ему больше и не нужно.
Когда папироса догорела и глаза окончательно привыкли к темноте, он опять вышел на дорогу. Какое направление выбрать? Задача чисто Буриданова, оба они равноценны, но нормальный человек тем и отличается от осла и философа, что способен принимать немотивированные решения,
Шульгин пошел направо, и уже через полкилометра примерно впереди замаячил слабый свет. Он ускорил шаг. Обрисовался контур большой, северорусского стиля бревенчатой избы, с высоко поднятым крыльцом, чтобы снежными зимами входную дверь не заносило. Из занавешенного изнутри окошка рядом с дверью пробивался тот самый лучик, который ему повезло заметить.
Сойдя с дороги, Сашка, бесшумно ступая по высокой мокрой траве, подобрался вплотную, держа револьвер на изготовку. Прислушался. В доме тихо, только где-то позади него, в конюшне или в сарае, чуть слышно пофыркивают несколько лошадей.
Сквозь щелку в занавеске удалось рассмотреть край освещенного керосиновой лампой стола и тень сидящего за ним человека. Больше, пожалуй, в горнице никого не было.
Шульгин осторожно постучал в стекло. Тень пересекла горницу и исчезла. Ее хозяин, судя по всему, совершенно спокоен, стук в окно глубокой ночью его не встревожил. Или ждет кого-то?
Скрипнули петли тяжелой, набухшей от сырости двери.
– Ты, Акинф? - услышал Сашка странно знакомый голос. - А чего в дом не заходишь?
На ступеньки упало пятно явно электрического света. Довольно сильный фонарь. Луч скользнул вверх, уперся в глаза Шульгина. Он заслонился ладонью.
– Уберите… Я - просто прохожий. Погреться пустите?
– А револьвер зачем? Брось на землю! Постойте! Александр Иванович, неужели вы? Откуда? Заходите же…
Уж на такую встречу Шульгин рассчитывал меньше всего.
Игорь Ростокин, журналист из 2056 года, встреченный Андреем в Сан-Франциско, с которым они славно поработали в Москве-1924, принятый затем в «Братство» в качестве полномочного представителя по XXI веку реальности «генерала Суздалева». Что он тут делает, вообще что это за место такое?
Сашка сбросил накидку, с которой дождевая вода прямо-таки струилась, вслед за Ростокиным прошел в комнату.
Одет Игорь был в незнакомую форму, покроем напоминающую драгунскую времен Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Узкий темно-зеленый китель, синие брюки, заправленные в высокие сапоги со шпорами, серебряные двухпросветные погоны со скрещенными мечами, наложенными на вензель «М». На ремне револьвер, очень похожий на тот, которым вооружили Шульгина.
Ростокин, не сдержав порыва, обнял Шульгина.
– Вы ко мне на помощь, Александр Иванович? Ох, как вовремя. А много ли с вами людей? Мы с Акинфом вдвоем остались. И еще взвод в монастыре. Никак не устоять…
Он взглянул на Шульгина как-то странно.
– Не пойму я только, как же вы Акинфа миновали? Тут только одна тропа, а я ему велел перед мостом стоять. Или вы с озера подошли? Катером?
Сашка решил до последнего не задавать демаскирующих вопросов. Своя здесь реальность, это безусловно, и Ростокин в ней свой, а сам он кто? Вот и постараемся выяснить окольно, применяя «стратегию непрямых действий». «Ловушка, ловушка, я в тебя не верю!» - так, кажется, звучит основное заклинание?
Для начала просчитаем, из какого эпизода их общего прошлого здешний Ростокин. Их не так уж много. Он посмотрел в висевшее между окном и дверью зеркало, старое, с пятнами облезшей амальгамы. На нем мундир, близкий к тому, в который одет Ростокин. Только китель серо-голубого цвета, а брюки черные. До бриджей-галифе здесь еще не додумались, если вправду семидесятые годы. Тысяча восемьсот… Сапоги одинаковые. Погоны похожие, но у него скорее генеральские, зеленый зигзаг по парче, без звездочек. И без вензеля. Полный генерал, что ли? Недурно.
Конечно, для Ростокина он с самого начала был генералом, хоть врангелевским, хоть орденским.
Так, значит, сейчас воплощаем мечту Игоря?
Сразу все встало на свое место: он рассказывал, как в ходе их эксперимента по поиску в дебрях реальностей мертвеца Артура с подругой очутился в мире своего недописанного романа о вторжении орд Батыя в условную Русь[72]. Без подробностей, которые затрагивали слишком много личного.
Интересно, очень интересно. Ростокин сожалел, что таланта и убежденности ему не хватило, чтобы удержать реальность, о которой он много лет страстно мечтал. Ту, где он, молодой князь Мещерский, доверенное лицо великого князя Михаила (фигуры вымышленной, но совместимой одновременно с Александром Невским, Дмитрием Донским, Иваном Четвертым), встретил любимую княжну Елену в драматических обстоятельствах, спас, естественно, и едва не обрел чаемое счастье.
Смешно, конечно, вообразить такое цинику Шульгину, выросшему в совсем иную эпоху, что и через сто лет двадцатилетние юноши станут восхищаться и увлекаться сюжетами в стиле Вальтера Скотта или Бестужева-Марлинского, а вот поди ж ты!
Когда-то, не вдаваясь в подробности, Игорь рассказал ему о том, что случилось в том астральном походе, но крайне скупо, поскольку совсем другие проблемы их тогда занимали.
Вбросил Шульгин романтического мужчину из благостного 2056-го в жестокий девятьсот двадцать четвертый, и тот себя проявил там достойно. А теперь оказывается, что не так уж слаб оказался и воображением, если смог принять в придуманном мире реального человека. Тоже близок к уровню Держателей (или Удержателей) своих мыслеформ.
Воспоминаний хватило, чтобы включиться в сюжет. - Лесом я прошел, Игорь. Акинфа твоего не встретил. Татар тоже. Но людей со мной нет. Один я… Так уж получилось.
И внимательно посмотрел на «князя», как он отреагирует, рассыплется ли самодельная реальность, вспомнит ли Ростокин свою истинную сущность, хоть какую, кроме придуманной. Очень бы просто стало, если б тот воскликнул: «Александр Иваныч, слава богу, вы пришли, и наваждение кончилось, а то ведь прошлый раз в окошко постучали, когда я письмо великого князя собрался прочесть, дверь открыл - а там яркое утро, Артур стоит на пороге, и княжна исчезла, и все…»
И они бы вместе начали думать, как выбираться обратно. Вдвоем с таким напарником гораздо легче.
Но Ростокин полностью оставался в образе.
– Поесть хотите? В печи горшок щей и сковородка жаркого томятся. Выпить тоже найдется. Только минутку подождите, взгляну, как там княжна. Жар бы не прикинулся…
Молодой князь ушел. Поразительно, какая интересная конструкция выстроилась. Лексика у Ростокина, человека середины XXI века, совпадает и с той, которой пользовался Шульгин, и одновременно слегка стилизована, не под конкретный XII или XV век, а вообще, под условную старину. Помнит Шульгина и не сомневается в наличии княжны, лежащей в соседней комнате. Вдобавок эта лубочная реальность, в которой Сашка сейчас пребывает, выглядит весьма достоверной. По ощущениям. Даже сорок первый год разил кинематографом в стиле Озерова, а здесь - как дома.
Стены, печка, запах керосина, табака - все натуральное до последней крайности.
– Хорошо, - сказал Ростокин, вернувшись. - Спит. Пропотела после баньки да медовухи, дышит ровно, даже улыбается…
Видно было, что и он сейчас счастлив.
Почему бы и нет? Прошлый раз задание и что-то еще помешали ему остаться в придуманном для себя мире. Артур появился совсем не вовремя. Сейчас - мгновенье длится…
– Рад. Надеюсь, к утру совсем здорова будет, - сказал Шульгин. - Если время позволит, еще раз в баньку, чаю с малиной-калиной, медом, и снова в постель. Аспирина у тебя, думаю, нет? Или чего посильнее?
– Да откуда же? - на секунду выпал Ростокин из образа и немедленно в него вернулся: - Зато трав всяких много, монахи из Пустыни сушили и собирали. Если, упаси боже, болезнь княжну прихватит, отец Флор много в лечебном деле искусен, к нему обращусь…
Так, это направление пора оставить. Далеко заведет.
Шульгин демонстративно перекрестился.
– Да пребудет с нами сила Его! А то и так обойдется. Неси на стол, что обещал. Карта у тебя имеется?
– Как же, всенепременно…
Примитивная стилизация, но Ростокину, наверное, так те времена и представляются.
Еда была вполне удобоприемлемой, то, что Ростокин считал водкой, больше напоминало ирландский виски, но действовало правильно. Тринадцатый век по замыслу, чего вы хотите?
Карта изображала южный берег Селигера и окрестности вплоть до Селижарова. Как же к нему привязалось это загадочное озеро! Который уже раз вокруг него происходят необыкновенные или хотя бы неожиданные приключения. А началось все с первого приезда сюда, в восемнадцатилетнем возрасте. И - зацепило что-то.
Исполнена была карта тоже в технике XIX века, не горизонталями, а штриховкой, но очень тщательно, в масштабе три версты в дюйме. Красным и синим карандашами нанесена обстановка. Хреновая, нужно сказать.
– Вот это мне доставила княжна Елена от великого князя, рискуя жизнью. Полусотня лучших дружинников погибла, защищая ее и уведя погоню в глухие леса. Одна она добралась…
Шульгин помнил, как, вернувшись из той прогулки в Гиперсеть и приведя с собой Артура и Веру, Ростокин рассказывался о привидевшейся ему «экранизации» своих юношеских записок с приличной долей иронии. Что слишком, по его словам, «картонно» было сделано.
Сейчас он живет тут всерьез. Надо, кстати, отметить, что выбило его прошлый раз до нынешнего момента, тогда он только собрался вскрыть пакет, как картинка изменилась и он увидел переставшего быть покойником Артура.
Сказал «старшим товарищам», конечно, не все, да и кто бы сказал, но душевная боль о второй раз не реализовавшейся мечте у Игоря осталась.
Главный вопрос - Ростокин ли на этот раз сумел удержать реальность, чтобы досмотреть, чем все кончится, исключив из сюжета Артура, или Шульгина ему подставили в качестве партнера, чтобы они вдвоем закрепили такой, вполне бессмысленный, с точки зрения «нормального» человека, вариант отечественной истории. Правда, что такое норма, а что - отклонение от нее, судить давно уже невозможно.
– И что князь пишет в приложение к карте? Ростокин протянул ему лист плотной бумаги. Писарем с отличным почерком было начертано вполне современным русским языком:
«Князь Игорь Мещерский, поручаю тебе до последней возможности оборонять монастырь и городок Осташков. Моим словом и волей собери за стенами всех смердов, свободных землепашцев, хозяйских людей, ремесленников и горожан, всех, способных носить оружие, без различия пола и возраста. Снаряжения и припасов, как мне ведомо, у тебя хватит. Вылазок в поле не делай. Сядь в осаду и держись, до того, как озеро и реки встанут, уповаю прислать тебе помощь. Если же Бог, в неизреченной милости своей, не соизволит даровать мне победу в той битве, что вскоре предстоит, поступай по собственному разумению. Княжну Елену вверяю твоему попечению, не дети уже, сами поймете, как жить, твоей порядочности и ее здравомыслия вам достанет. Надеюсь на скорую встречу, если не суждено - живите долго и счастливо. Мой великокняжеский стол, ежели опустеет, займи, о других чаятелях не заботясь. Благословляю. Сумеешь ли удержать - сам подумай. Михаил».
– Что ж, документ куда как серьезный. - Шульгин говорил осторожно, пока не зная, стоит ли вернуть Ростокина к той реальности, в которой он благополучно вернулся домой, или укрепить его в новой роли. - Фактически - ярлык на великое княжение. Потянешь?
– О чем говорите? Неделю, месяц бы прожить, монастырь и базу удержать. Там и вправду оружия и снаряжения на десятитысячное войско запасено. Вот ратников за стенами - тридцать человек. Ну, монахов с полсотни, так половина телом немощны… Князь пишет - людей собери! Тут и недели не хватит, чтоб только селения обойти, а собрать, сюда доставить? Не исключаю, многие и взбунтоваться могут. Чтоб хоть день без власти, да наш…
И прервал тревожную, едва ли не паническую ноту.
– Ну а вы-то как здесь оказались, один, без охраны? Я, вас увидев, обрадовался: сам Александр Иванович, да если с полком, батальоном Басманова пусть, мы б тут сразу…
«Как у человека все в голове перепуталось», - почти без эмоций подумал Шульгин. И нашествие Батыя, и белогвардейцы, семьсот лет спустя воевавшие совсем с другим врагом, - все у него равноценно и равновероятно. А может, так и должно быть? Поблизости, в той же «серой зоне» и покойник Артур с подругой бродят, и жертвы его в соседней деревеньке за бутылочкой посмертную жизнь коротают.
Для чего верить, что время, где мы случайно провели первые тридцать лет, и есть «норма»? Может, просто тихая заводь рядом с бурным потоком?
– Один я, один. Вот разве напарник, - он подкинул на ладони револьвер, - он да я - уже пятнадцать… «Винчестер» в углу вижу - еще десять. Так, глядишь, и взвод набирается. Монахи - совсем неплохо. На Соловках от англичан долго оборонялись, решительно. Твоих людей тридцать? Рота. В полевой обороне соотношение один к трем. Значит, уже у нас больше батальона. На крепостных стенах - один к десяти можно считать. Тогда с полком справимся. К монастырю с берега что? Дамба, мост?
– Ничего нет, обычно - лодочная переправа, когда грузы переправлять - паром, - ответил начинающий обретать оптимизм князь Игорь.
Ширину плеса Шульгин помнил, бывал в этих краях, пусть и давненько - в двадцатом веке. Почти полкилометра. При глубинах от трех до десяти метров и отсутствии у возможного противника штатных переправочных средств - надежная преграда. Пока плыть будут, половину перестрелять можно. И что они потом с конями на урезе воды делать станут, на узкой полосочке у подножия стен в три человеческих роста?
– Ты говорил, твоя княжна от волжской переправы сюда поскакала, а ратники погоню на запад, на Пено увлекли?
– Так и было.
– Сколько той погони было, не спросил?
– Не до того было.
– Жаль, но бог с ним. Думаю, тоже не больше полусотни, ну - сотня. А главные силы у Селижарова?
– Княжна сказала - у Ржева. У Селижарова их,
получается, рейдирующий отряд перехватил…
– Так это совсем другой разговор! Нечего, княже, мандражить. От Ржева, если туменом, даже тысячей идти (книжки Яна и Чивилихина мы читали), по этим дорогам - трое суток минимум. Тумена у них не наберется, сотню или две мы с тобой удержим, скорее - просто раздолбаем. Акинф твой чем располагает?
– Броневик «П-30», на нем двухдюймовая пушка, тридцать шрапнелей, еще пулемет. Стоит перед деревянным мостом, грузоподъемностью до пятисот пудов, берега речки заболоченные, для кавалерии труднопроходимые…
– Что ж ты горюешь, князь? - Шульгин только что не смеялся. Положение на самом деле отнюдь не критическое. - «П-30» - это что? Никогда не слышал. ТТХ[73] какие?
– Новгородского производства. Броня - пятилинейная, мотор керосиновый, сорок лошадиных сил. Скорость до пятидесяти верст по твердому грунту. Запас хода двести верст. Про вооружения я уже сказал. Приличная машина. У Ливонского ордена, конечно, помощнее техника, у них даже танки есть, Князь к ним за помощью обратился, так когда еще придут…
– Когда придут - это одно, а вот уйдут ли потом, - словно сам себе, сказал Шульгин. - Но сейчас у нас другие заботы.
Проблемы Ростокина Сашка понимал лучше, чем он сам.
Естественно, если один, растерян, любимая девушка внезапно повесилась на шею, а опыта боевого - стремящаяся к нулю величина, то сложно. У прототипа, подразумеваемого князя Игоря, он, возможно, и был, но ровно такой, как у автора, журналиста Ростокина, извлеченный из книжек писателей, которые сами вряд ли толком воевали.
Вот командир отряда спецназа генерала Галафеева поручик Лермонтов здесь был бы к месту, а ежели исходить из текста «Слова о полку Игореве», так лучше бы сразу князю отступать на Тверь. В целях минимизации потерь и уклонения от обвинения в государственной измене[74]. Поскольку ни стратегическим мышлением, ни нормальной тактической подготовкой указанный князь не отличался. Самому Ростокину в его благостное время приходилось, да и то лишь корреспондентом, участвовать в локальных заварушках по периметру цивилизованного мира.
Шульгин же - совсем другой экземпляр. Не говоря обо всем прочем, за ним опыт нескольких безнадежных, но все же выигранных сражений, и с врагом покруче нынешнего.
– Связь у тебя с монастырем есть?
– Да, полевым телефоном. - Игорь указал на деревянный ящик на подоконнике.
– Так звони. Десять человек немедленно сюда, и взрывчатки, какая найдется, килограмм двести пусть прихватят, патронов ящиков десять, снарядов для броневика, пулеметов штуки три. Монахов, которые в строй стать не могут, направить по городкам и селам, как князь писал, ополчение поднимать. И княжьим словом, и игуменским. Уловил идею?
– Уловил, Александр Иванович, сейчас и начну. Только зачем звонить, я сам туда сбегаю, на месте распорядиться лучше получится.
– Согласен. Здесь какое оружие есть? В доме?
– «Винчестер» вон, пехотных винтовок три штуки, ручной пулемет, гранат ящик, патронов прилично…
– И ты еще грустил? Вот так у нас все получится. - Шульгин показал Ростокину большой палец. - За княжну не беспокойся. Я врач, между прочим. До утра поспит, ты к тому времени вернешься. Если что не так пойдет, я ее выведу. Лодки на берегу есть?
– Вот и ладненько. Беги. Все лишние лодки переправить на остров, одну, в крайности две, оставить да замаскировать. И слушай обстановку, без шума нас тут не возьмут, успеешь на помощь. Акинфу твоему какой-нибудь пароль есть, чтобы он меня признал и слушался?
Ростокин сказал. Показал, где оружие.
– Подожди, - окликнул его Шульгин, - чин твой как по-здешнему называется?
– Полковник. Должность - комендант оборонительного района. Безудельный князь…
– Чего ж так? - удивился Шульгин.
– Старшие братья, дядья уделом распорядились, да мне оно и легче.
– Ну да, самурай в чистом виде или странствующий рыцарь. А я здесь кто?
– По погонам - большой воевода, а при каком владетеле - не обозначено…
– Значит, тоже странствующий. Вот и сразимся с очередным драконом, глядишь, какой-нибудь удел обретем, сами станем вензеля раздавать…
Сашка понял, что Ростокин не до конца уловил ход его мысли и степень юмора. Наложенный сценарий и роль тормозят реакции исходной личности. А вообще Игорь был парнем очень сообразительным.
Князь, прихватив «винчестер», скрылся в дождевой мгле, Шульгин, нагруженный пулеметом типа «льюис», длинноствольной пятизарядной винтовкой, двумя патронными коробками через плечо и дерюжной гранатной сумкой, направился в противоположную сторону.
С Акинфом, водителем и башенным стрелком в одном лице, общий язык нашли сразу. Тот только спросил:
– Из каких краев будешь, воевода? Не наш и не
Рязанский, не Черниговский, не Волынский даже…
– Из дальних. Есть за Диким полем Тмутараканское княжество. Тамошний я.
– Как же без дружины до этих краев добрался?
– Долгая сказка. Показывай свое хозяйство, думать будем, как вдвоем оборону держать…
Интересный мир придумал Ростокин. Наверное, в его двадцать первом веке тонкой деталировкой обстановки не увлекались, точнее - на совсем другие вещи он обращал внимание, а подробности - дело десятое. Все, что за рубежом двух предыдущих веков, - почти равноценно. Захотел повоевать с татаро-монголами в несколько более комфортных условиях, введя некоторые анахронизмы, ну и кто бы ему был судья, не заскочи сюда случайно придирчивый эксперт?
Броневик действительно был почти точной копией трехосных пушечных начала тридцатых годов нашего века, наверное, попавшихся Игорю на глаза в каком-то справочнике или фильме. И марка, кстати, «П-30»! Путиловский 1230-го? Или Путивльский? Да нет, он же новгородского розлива. Наверное, просто «пушечный».
Внутреннее устройство тоже соответствовало. Вполне рационально и работоспособно, значит, и вправду есть у Ростокина дар, приближающий его к Держателям, иначе получился бы в лучшем случае макет без начинки. Вообще здешняя мыслеформа очень устойчива и достоверна, даже вот сапоги за время ходьбы по сырой траве и лужам начали промокать.
Если, конечно, Игорь сам ее создал с нуля, а не получил в готовом виде от более продвинутых конструкторов. Трудно представить, чтобы в своих литературных этюдах он вдавался в такие тонкости, как изогнутая рукоятка затвора винтовки или дизайн приборной доски бронеавтомобиля.
Зная, к чему приводит небрежение деталями, Сашка убедился, что пушка и пулемет броневика в порядке, подъемные и поворотные магазины смазаны и работают, движок заводится, пусть не стартером, а ручкой через магнето.
Видно, реальность создавалась по принципу: «выглядеть должно так-то, взаимодействовать и функционировать в полном соответствии, остальное не мое дело». Удобно, им на Валгалле все своими мозгами придумывать, а руками воплощать пришлось. Да и с единственным пароходом Воронцов возился не меньше, чем целое судостроительное КБ.
Значит, есть в Сети «служба», специально отвечающая за воплощение самых сумасшедших проектов.
– Понимаешь в технике, воевода, - с уважением сказал урядник Акинф. Здесь, наверное, высокопоставленные особы себя знанием точных наук не обременяли, как и в девятнадцатом веке, к примеру, большинство командиров паровых кораблей смутно представляли, что там внутри корпуса дымит и пыхтит.
– А то! - весело бросил в ответ Шульгин. - Сам, к слову, много ли воевал? Или больше при машине?
– Не шути, воевода. Всю жизнь воюю, с пятнадцати лет. С немцами-ливонцами, с рязанцами и белозерцами пришлось, со степняками чуть не каждый год схлестывались. А вот как ныне - впервые. Тяжело. Вишь, докуда отступили? И чем кончится - думать не хочется.
– Не дрейфь, урядник…
Пожелание показалось Акинфу незнакомым, да у них там, тмутараканских, многое не как у людей.
– Сейчас мы кой-чего наладим. Уверен, что с той стороны никто из наших не подойдет?
– Разве есаул Волк со своими людьми из разведки. Только давненько ушли, и никаких вестей. Всех побить не могли - воины знатные. На тот берег разве их оттеснили, тогда вернутся не скоро, вокруг всего озера лесом. Больше вроде и некому…
– Значит, сделаем, как учили.
При свете фар Шульгин привычно установил четыре растяжки, одну за другой, перекрыв все возможные подходы к мосту с неприятельской (теперь уже) стороны. Гранаты у древних земляков были похожие на «РГ-42», только в два раза массивнее, заряжены, наверное, пироксилином или мелинитом. Вместо взрывателя «УЗРГ» с предохранительным кольцом имелся вытяжной шнур, но в данной ситуации это даже удобнее.
Еще одну посередине, между перилами. Две гранаты остались в запас.
Броневик отвел метров на пятьдесят назад, в ложбинку, так, чтобы пушка смотрела строго по оси переправы. Со снарядами Ростокин слегка ошибся: десять осколочно-фугасных, двадцать шрапнелей. Ничего, скоро еще подвезут, даст бог. Пулеметную позицию расположил почти у самого берега, достаточно топкого, чтобы конница (а пехоты у монголов сроду не было) не могла форсировать речку с разгона. Косоприцельным огнем сгрудившихся всадников причешет так, что часа три-четыре им о наступлении думать не захочется. Или, если совсем удачно выйдет, - думать будет некому.
Вторую опорную точку он устроил справа от дороги, тоже с очень хорошим сектором обстрела.
Дали б ему сюда те три танка, с которыми он другую переправу защищал, куда веселее историю смоделировать можно было. Эффектный рейд до самого Сарай-берке, или как там у них походная столица называлась…
– Что, урядник, до подмоги продержимся? - спросил он, довольный сам собой. - Закуривай…
– Зельем не балуюсь, - покривился тот, но самому предложению не удивился.
Ну да, наверное, здесь, как во времена Алексея Михайловича, табак употребляют только очень независимые и богатые, конечно, личности, вроде как кокаин и опиум аристократы шесть с половиной веков спустя. Только - откуда его возят, если Америка еще не открыта? Опять Игорь маху дал.
Чтобы не оскорблять убеждения и обоняние нового соратника, подымил в сторонке.
Нет, до утра нападение вряд ли состоится: монголы, как известно из истории, народ осторожный, к лесу вообще относятся с опаской, а бродить в глухих дебрях столь же глухой ночью их только с помощью заградотрядов заставить можно.
– Гаси свет, брат Акинф, и ложись поспи, а я покараулю. Часа четыре на отдых имеешь, там и князь с людьми подойдет.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Ростокин греб тяжелыми веслами, время от времени оглядываясь и сверяя курс с едва заметным огоньком лампады надвратной иконы. На душе у него было смутно. Словно внутри непонятного, вязкого, тревожного сна. То, что в этот непростой, честно сказать - отчаянный момент появился здесь Александр Иванович, хорошо. Он умеет принимать верные решения в любой обстановке, и его боевые качества Игорь знает. Как он легко и быстро обрисовал их реальную боеспособность, пересчитав взвод в полк.
Но как Шульгин мог вообще здесь оказаться? Они с Новиковым и Удолиным организовали Ростокину переход в астрал, через который он попал в мир юношеской мечты. И нашел здесь то, о чем грезил почти полжизни.
Увлекательный, по-своему спокойный век, совместивший в себе несовместимое. Позднее российское Средневековье, куда более цивилизованное и уютное, чем европейское. (В придуманном им варианте, конечно, как там оно на самом деле было - кинохроник не осталось, однако без инквизиции, крестовых походов, жутких эпидемий и антисанитарии городов.) Нашествие Батыя - это, разумеется, плохо, но, во-первых, не так уж оно было и страшно, если верить Льву Гумилеву, во-вторых - Ростокин догадался противопоставить ему совершенно оригинальное мироустройство. На исходном «субстрате», базисе XIII века, - техническая и интеллектуальная надстройка второй половины XIX с элементами XX веков.
С детских лет в своем охваченном смутами, бесконечными мятежами, гражданскими и религиозными войнами двадцать первом Игорь мечтал о таком вот невозможном синтезе. Английский викторианский век, эпоха Александра Третьего и Владимиро-Суздальская Русь, которая, устояв против монголов, присоединив к себе Тверь и иные княжества, в союзе или федерации с Великим Новгородом стала бы величайшей европейской, а за отсутствием Америки и мировой державой. Твердой, просвещенной, гуманной, учитывающей все исторические коллизии, ошибки и преступления прежних и будущих правителей, истинный морально-политический облик союзников и противников. В общем - все, что он знал из курсов истории, «воспоминаний и размышлений» деятелей от Макиавелли до своих современников. Под его, разумеется, властью.
Но пришлось Ростокину стать всего лишь журналистом, военным и космическим. Приключений ему хватало, но мечты оставались мечтами.
Оттого так легко и безболезненно он вписался в команду «Андреевского братства», в их XX век. Эти люди оказались братьями по духу и устремлениям, только сумели наяву воплотить то, к чему его влекло подсознательно и безнадежно.
Внезапно осуществилось буквально все и даже немного сверху.
Княжна Елена оказалась живой и прелестной девушкой, еще более красивой и умной, чем в воображении. Встретившись в ситуации, когда он тоже смог предъявить ей свои лучшие качества, спасти от смертельной опасности и даже услышать добровольное и искреннее признание в любви, подкрепленное завещанием великого князя.
Теперь, может быть, Шульгин пришел, чтобы забрать его из этого мира?
Ростокин сейчас воспринимал окружающее многослойно. Так уже бывало с ним. Настоящее - это настоящее. Вполне реальный и единственно возможный мир. Как двадцать четвертый год в Москве, куда он вместе с Шульгиным пришел непосредственно из Новой Зеландии-2056. Хорошо при этом помня предыдущее существование. Сейчас, правда, - несколько более размыто. Такое случается, опять же, в снах - понимаешь, что спишь, удивляешься явным несообразностям происходящего в сравнении с явью и при этом продолжаешь вести себя в соответствии с сюжетом.
Игорь не мог «проснуться», разорвать связь с этой реальностью, как это случилось прошлый раз с появлением Артура. Но здешний Ростокин этого не знал, вместо Артура появился Александр Иванович, чем зафиксировал ситуацию. Кто его знает, может быть, и навсегда. Воспоминания о будущем если не растают постепенно, то сохранятся в обратном качестве - как часть обычных фантазий, более-менее тщательно проработанных под настроение.
Тот самый случай, от которого предостерегали знающие люди, - Игорь начинал искренне верить в происходящее, забыв об основополагающем принципе сопротивления Ловушкам. Ему-то самому от этого хуже не будет, свою жизнь, не важно, вымышленную или подлинную, он проживет с максимальным удовольствием. Может быть, она окажется счастливой и даже почти вечной, только из «настоящего» мира субъект будет устранен навсегда, как лишний элемент, превысивший свои полномочия, проникший в недозволенные сферы. Галактический фагоцитоз, одним словом.
Но пока, отвлекшись от ненужных воспоминаний, Игорь прокручивал в голове текущие, неотложные планы и заботы. О Шульгине начал думать именно как о местном бродячем полководце, переходящем от одного сюзерена к другому с предложением своих услуг. Бывали такие в истории, тот же воевода Боброк Волынский, сыгравший решающую роль в Куликовой битве (если верить источникам). Чего же им не верить? Раз за шестьсот лет данная версия вошла в анналы и оказала необходимое воздействие на двадцать с лишним поколений, к чему какая-то другая? Узнали б мы сейчас с абсолютной точностью, что все пьесы и сонеты Шекспира написал не он, а совсем другой человек, носивший ту же фамилию, что бы это изменило?
Пока Игорь греб, напрягая спину и плечи, упираясь ногами в высокий шпангоут грубо, но надежно изготовленной местными умельцами лодки, северный ветер усилился, разводя волну и отжимая плавсредство из пролива на открытый плес. Оно бы и хорошо, если б погода по-настоящему испортилась. Тут иногда бывают такие шторма, что не только монголы вплавь, но и десант на моторках не выгребет, только успеть бы обернуться туда-сюда, перебросить Шульгину подмогу или, наоборот, эвакуировать его, княжну и Акинфа на остров.
Наваливаясь на левое весло, Ростокин сумел притереться бортом к пирсу, или, как здесь говорят, - «лавине». Накинул веревку на забитое в дно опорное бревно настила.
Пробежал десяток сажен, заколотил прикладом в ворота, не уступающие размерами и массивностью тем, что защищали вход в Кирилло-Белозерский монастырь, где отец Григорий спасал его от преследования Артура семьсот лет спустя. Эпизод вспомнился, но очень смутно, на уровне эмоции - как хорошо, что есть такое место, такие стены, что защитят от почти любой опасности. И еще - во всех читаных книгах было написано, что Чингисхан и Батый запрещали своим воинам трогать православных священников, церкви и монастыри. Может, и эту твердыню штурмовать не станут, уйдут к Твери или еще дальше?
Праздные мысли.
Очутившись за стенами и убедившись, что все здесь в порядке, он отдал необходимые распоряжения полусотнику и десятским. Те сразу же подняли дружинников и воев, начали таскать нужное к лодкам.
Полусотенному Глебу, мирским именем Неждан, Ростокин приказал перегнать на тот берег паром, чтобы в случае нужды броневик переправить. Пять человек оставить охранять причал, двоим, ненадежнее, неотлучно находиться при княжне, отнюдь ее не тревожа, если возникнет крайняя необходимость - доставить в монастырь. Остальным поступить в распоряжение воеводы Александра, который сейчас с Акинфом оборону строит, и подчиняться ему, как самому князю.
– А отступать придется - дом поджечь и, убедившись, что княжна в безопасности, возвратиться, избегая потерь. И языка взять, коли получится…
Неждан почесал короткую бороду.
– Сделаем, княже. Подержимся в меру разумного, большую рать затевать не будем. Княжну доставим в целости. Только, может, лучше прямо сейчас, не дожидаясь поганых? Спокойнее и тебе, и мне будет. Да и на озере, видишь, лютеет ветер, к утру не знаю, выгребем, не выгребем…
– Сам смотри. Постучи в спаленку осторожно, о здоровье справься. Скажи, что и как. Если полегчало ей, в тулупчик одень и вези сюда…
Да, если Елена в монастыре будет, ему забот поубавится, хотя и на Александра Ивановича он надеялся, как на каменную гору. Умрет, а княжну не оставит, сомневаться нечего.
С игуменом Флором, крепким сорокалетним мужем, которому, по манерам и обличью, не только монастырем управлять вместно, но и дружину в бой водить, договорились быстро.
На стены могут встать до сорока братьев, а еще двадцать пять прямо сейчас отправятся собирать ополчение. Старикам, женщинам с детьми и со всем имуществом будет сказано уходить в хляби непроходимые.
– Пересидят, не впервой, - успокоил Игоря игумен. - Наловчились от сборщиков податей добро свое прятать - и от супостата укроются. Если что - перезимуют. Урожай собрали, слава богу. Скотины хватит, дичь в лесу, рыба в озере, дров искать не нужно. Да и мы, вышней силой, отобьемся как-нито. Тяжелых пушек, надеюсь, у поганых нет? Сакмагоны[75] что говорили?
– Откуда пушки? Изгоном[76] идут, только уж больно много их. Тьмы и тьмы. Великокняжеское войско на трех рубежах не удержалось, отходит с большими потерями… Мои две сотни третьего дня в поиск ушли, пока никто не вернулся.
– Ну, небось… Если что, поодиночке лесом выберутся. Не все, так половина. Я твоего есаула знаю, не даст своих, как баранов, порезать. Сам Волк…
– Твоими бы устами, отче!
– Так и будет. Завтра-послезавтра, надеюсь, до полтысячи ополчения мы соберем. Мужиков пахотных, рыбаков, охотников, осташковских ремесленников, девок крепких, баб бездетных. Отобьемся. Если еще и разведка твоя вернется… Ладно, я своим делом займусь, ты своим. И молиться будем на одоление супостата.
Оружия и прочих припасов в примыкающих к северной стене монастыря кирпичных амбарах было в достатке. Десятитысячное войско месяца три снабжать можно, конечно, не в тотальной войне, в обычной усобной, если с Новгородом нестроение выйдет или Смоленск великий князь в очередной раз усмирять надумает. Но для полутысячного отряда, если собрать его удастся, на год хватит.
Пушек серьезных, правда, здесь тоже не было. Штук пять старых полевых, стреляющих чугунными коническими бомбами, снаряженными черным порохом, ну и
картечью, само собой. Их можно установить на башнях, обращенных к близкому берегу. Зато винтовок разных систем и патронов к ним - сколько хочешь.
Князь в склады и направился. В сухих сводчатых галереях, сколько хватает взгляд, стояли в пирамидах густо смазанные винтовки с открытыми затворами и заткнутыми ветошью дулами. И совсем новые, и отслужившие не один десяток лет. В подвалах - штабелями ящики с патронами, на каждом четко обозначены калибры и системы, к которым они предназначены.
Артиллерийский порох в бочках, насыпью и в шелковых картузах, динамит в полуфунтовых, обернутых вощеной бумагой шашках, новомодный по тем временам пироксилин, расфасованный по фунту и по два. Бухты огнепроводного шнура, и многое, многое другое, полезное для обороны.
Ростокин решил, пока позволяет время, устроить на берегу минно-взрывное заграждение. Отрыть в склоне наклонные шурфы, направленные вдоль озерной глади, загрузить в них по паре пудов пороха, а сверху забить пудов по пять каменного щебня. Если начнется массовое форсирование пролива, одновременный или последовательный подрыв зарядов может произвести на атакующих незабываемое впечатление.
Уже и утро наступило, а на материковом берегу было тихо. Убедившись, что работы по всему монастырю идут споро, не позже обеда пушки будут готовы к бою, на стены доставлены в изобилии винтовки и патроны, десятские и благословленный игуменом на ратный подвиг отец-келарь распоряжаются толково, с должной твердостью, князь немного успокоился. Первый натиск крепость точно выдержит, а дальше ее оборонительная мощь будет возрастать.
Его совершенно не удивляло, что настоящие каменные стены, башни и храм с колокольней появились на Столбном не раньше XVIII века, а до того имелся здесь малый деревянный скит, где спасал душу преподобный Нил. В том и идея Ловушки, что самые абсурдные, с точки зрения здравого смысла, факты и явления воспринимаются абсолютной нормой. Шульгин бы мог рассказать, ссылаясь на практический опыт, как шизофреники с научными степенями на полном серьезе доказывали, что сосед через стену пускает «фиолетовые лучи», чтобы завербовать в ЦРУ, или что-то еще более бессмысленное. «В моей квартире поселились инопланетяне под видом тараканов». При этом во всех остальных областях эти люди сохраняли интеллект и профессиональные качества.
Теперь можно вернуться на свой КП, выяснить, как обстоят дела там, отчего до сих пор не вернулся Неждан или кто-то из ратников, не доставили в обитель Елену? В бинокль было видно, что паром, несмотря на злую волну, пребывает в целости. Пришвартован в бухточке у своего причала, и возле него неспешно копошатся несколько человек.
Игумен выделил ему монастырский баркас, крутобокий и «мореходный», если можно так выразиться, пригодный, чтобы даже в сильный шторм дойти хоть в Осташков, хоть до Полнова и Волгине -верховья. Четверо монахов сложили под кормовым навесом личное оружие, по команде брата-кормчего навалились на весла.
Дождь продолжал сеять, ровный, не сильный, не слабый, как раз такой, о котором еще вчера молил Игорь. Сутки, двое - болота разбухнут, проселки станут непроезжими для конных масс. Время - самое то, как начнет мочить, так до первых заморозков только по воде и можно передвигаться.
На крылечке дома немолодой ополченец развлекался, дразня приблудную кошку. Та притворно шипела, изображая готовность напасть, но от настоящей агрессии воздерживалась, соображая, что человек, обидевшись, может и не покормить.
На вопрос, где княжна и полусотник, мужик махнул рукой:
– Все там. Мне сторожить велели, а сами все туда. И коней забрали… Недавно.
Ростокин негромко выругался, стараясь не слишком спешить (бегущий воевода в мирное время вызывает смех, а в ратное - панику), заторопился к мосту. Опять княжна какую-то дурь измыслила. Одна надежда, Шульгин не допустит.
Так оно и было.
Игорь издалека увидел, что возбужденная и возмущенная Елена что-то с жаром ему доказывает, а Александр Иванович, неторопливо покуривая, отрицательно качает головой. Акинф с Нежданом и ратники толпятся по другую сторону броневика, не желая участвовать в господских разборках. Под соснами коновод сбатовал четырех понурых, недовольных, что их вывели из теплого сенника, уже заседланных лошадей.
Княжна была снова одета в свои воинские доспехи, высохшие и вычищенные. Ветер трепал за плечами синее с красным подбоем корзно[77].
– О чем спор? - осведомился Игорь, подойдя. - Подобру ли отдыхалось твоей светлости? Здорова ли?
И вновь залюбовался, до чего хороша девица. Нет во всем княжестве ее краше и умнее. Не зря второй год с утомительной регулярностью наезжали сваты от чужестранных государей и владетелей, заставляя каждый раз сжиматься сердце Игоря. А вдруг на сей раз решит Михаил, что династические интересы важнее капризов несмыслящей дочки? Но пока обходилось, дорожил великий князь мнением Елены, а то - поджидал набольшего жениха, уж не самого ли Базилевса Византийского? С его гордыней - неудивительно.
И вот теперь сразу - княжна призналась, Михаил написал, что готов отдать дочку Игорю. Пусть и Рюриковичу, но безудельному. Если б не война, могло такое случиться? Да никогда. Что ж ему теперь, Батыя благодарить за это счастье?
– Здорова, княже, здорова. И воля моя - обратно по дороге проехать, вдруг да разыщу хоть одного из верных слуг, жизни не пожалевших. Вдруг кровью истекает, подмоги ожидая? Ты вот мне помог в самый последний миг, а дружинники чем хуже? Воевода же этот, мне незнакомый, не пускает. Не понимает, что великокняжеское слово - закон?
– Не состою я на службе ни у тебя, прекрасная Елена, ни у батюшки твоего. По договоренности со старшим здесь воинским начальником, князем Мещерским, в его отсутствие принял на себя всю полноту власти. Сейчас вот сдам пост - и решайте, как знаете…
– Откуда ты вообще объявился, воевода? Еще ночью тебя здесь не было! Дружину тмутараканскую на помощь привел? Так где она? Не помню я, чтобы отец князю Мстиславу эстафету посылал. Далеко больно до ваших мест… И договора союзного между нашими столами не заключалось.
Весьма была осведомлена Елена в дипломатии, не зря Цареградский университет окончила и ко многим великокняжеским делам причастность имела. Характер отцов тоже унаследовала, привыкла, что никто в княжестве ей перечить не смел.
– Как ты, княжна, лесными тропами добрался. Дружины со мной нет, верно, так дружина - дело наживное, если голова на плечах имеется…
Шульгин слегка поклонился и отошел на несколько шагов, пусть милые сами свои проблемы решают.
– Никуда ты, Лена, не поедешь. Хватит с тебя. Князь Михаил не простит, если что, и я тебя, ныне обретенную, терять не хочу.
Княжна скривила вновь ставшие капризными губы, сверкнула глазами из-под соболиных бровей.
– Захочу, так поеду! Будешь перечить - свое слово могу обратно взять. А без него я - великая княжна, ты же - только полковник, не воевода даже!
«Ох и наплачется Игорь с такой женушкой, - усмехнулся в усы Шульгин, - ох и наплачется «наследник». Тринадцатый век на дворе, развитой феодализм, здесь с венценосными дамами политес двадцать первого не проходит. Надо выручать…»
Не глядя на княжну, обратился к Ростокину:
– Чего бы не съездить, княже? Рекогносцировку проведем, вдруг правда кого найдем или встретим? Своих - хорошо. Поганых - языка возьмем. Риска не так много, не впервой.
Игорь слегка растерялся. Не ожидал он от Александра Ивановича такой подлянки. До последнего решил стоять, чтобы не допустить сумасбродства, хотя бы и силой, и нате вам…
Шульгин продолжал:
– Погоны сотника княжна носит, доказала, что в седле сидеть умеет, темноты не боится… - Усмехнулся не по-здешнему. - Чего же еще? Прокатимся верст на десять-пятнадцать, своими глазами поглядим. Коней четверо? Вчетвером и поедем. Ты, княжна, я, и еще кого-нибудь возьмем. Неждан, кто у тебя в набеги ходил, кого в разведку послать без сомнений можно?
– Меня бы лучше всего…
– А оборону держать кто будет?
– Тогда Юряту возьмите. Дикое поле ему - что дом родной, Почитай, сызмальства туда наведывается, всегда живой возвращался, и не с пустыми руками.
Его и взяли, мрачного воина лет под сорок, ноги колесом от освоенного с детства умения на любом аллюре скакать без седла и стремян.
Шульгин снял свои растяжки, отдал последние распоряжения на случай, если их отряд запоздает или вообще не вернется, и двинулись.
Юрята хотел было стать впереди, но Сашка указал ему место замыкающего.
– Я буду головным. В случае чего мне и командовать. За мной князь, потом княжна, а ты озирайся, саблю обнажи, винтовку поперек луки. Не знаешь, что ли, часто дозор пропускают, последнего с седла сдергивают, остальных в спину бьют…
– Верно говоришь. - Дружинник посмотрел на него с уважением.
– Вдруг начнется - княжну спасай, а мы как-нибудь…
Сосны в этом лесу стояли далеко друг от друга, почва под ними, покрытая толстым, многолетним слоем опавшей хвои, промокнуть не успела, потому Шульгин вел дозор метрах в десяти правее дороги, колеи которой, от ходившего здесь броневика, уже заполнились серой водой. Если даже одноконной цепочкой по ней ехать, ничуть не быстрее, чем пешком, получится, для маневра возможности никакой, фланги для нападения открыты. Лесом же - все наоборот.
Сашка, просидев ночь то с Акинфом возле броневика, то в избе, присматривая за Еленой и изучая карту, обдумал свое положение. Оно ему, без всяких оговорок, нравилось больше, чем любое предыдущее в этом завихрении. Тем, что создавало невиданное поле свободы. Если и отсюда не выкинут, само собой. Но подсказывала интуиция - не выкинут. Если это Ловушка, то она, по определению, независима от управляющих контуров Сети. А сам он независим от Ловушки. Как хороший пловец - от водоворота, смертельного для дилетантов.
Тем более Игорь невольно выступает в качестве прикрытия, вспомогательного десанта, погибающего на плацдарме, пока главные силы высаживаются совсем в другом месте.
Он решил предложить своим соперникам или, если таковых не имеется, обычным законам природы нечто вроде партии «в поддавки». Следовать «естественному» развитию событий, никак ему не противодействуя, даже в мыслях. Проявила княжна взбалмошное желание отправиться на поиск дружинников своего конвоя - пожалуйста. Поддержим, вопреки вполне разумной позиции Игоря. Если ею кто-то управляет, посмотрим, с какой целью. Если действительно аффект глупой девчонки, разведка все равно не помешает. А то, что он, единственный, способный осознавать происходящее с нескольких точек зрения, повел себя как слабое звено, уступившее начальственной воле, - вполне может повысить его личные шансы. Стал бы упираться, «брать управление на себя» - тут и засветился…
Никак его не оставляла мысль, забавная или настораживающая, что озеро, вокруг которого они крутились, имеет некий мистический смысл, а то и функцию. Слишком часто оно возникало в контексте их приключений. В «настоящем» шестьдесят восьмом году они ездили сюда с друзьями в студенческий лагерь. Потом Левашов купил здесь «имение», где Новиков впервые открыл ему истинную сущность Ирины. Еще дальше - друг Шестакова Власьев избрал его местом своего отшельничества. Туда же сам Шестаков-Шульгин прибежал из Москвы, спасаясь от чекистов. И теперь Ростокин избрал Нилову пустынь в качестве опорного пункта своей реальности.
Прямо Бермудский треугольник какой-то. Или проще - им самим, молодым, никакого представления о грядущем не имеющим, он так запал в память, что остальные события нанизываются на предложенную ось, как куски баранины на шампур. Потому что больше не на что. Кроме московских реперных точек, естественно.
А сейчас он едет, покачиваясь в седле, ручной пулемет с взведенным затвором, пристроенный поперек седельной луки, смотрит в глубь леса по левую руку. Так правильнее. Если враг движется по дороге или по ее правую сторону, он обнаружит себя раньше, чем сам заметит разведку, и времени развернуть ствол хватит.
Сашка, было дело, подрабатывал метальщиком ножей и силовым акробатом в московском цирке. А там аттракцион конной джигитовки ставил старый, за шестьдесят уже, кубанский казак, отслуживший в кавалерии все кампании, от боев с басмачами в Средней Азии в двадцать девятом и до самой Померании, где конники Второго гвардейского корпуса, продолжавшие называть себя «доваторцами» (хоть и погиб Лев Михайлович в декабре сорок первого), зачерпнули касками балтийскую воду.
Засиживались, как принято, артисты после представления в подсобках, выпивали в меру, Василий Петрович, сняв напряжение (рискованные трюки он на арене демонстрировал), делился боевым опытом, находя в Шульгине благодарного слушателя. Раззадорившись, показывал на настоящих шашках, чем отличается спортивное фехтование, в котором Сашка был мастером, от настоящего, боевого. И будто предвидел, что придется «молодому» повоевать в конном строю (что представлялось абсолютно невероятным в разгар «атомного века»), щедро делился с ним кровью добытым опытом. Как одной шашкой справиться с вооруженным огнестрельным оружием противником, как конному взводу действовать в тылах танковой дивизии, и еще много разных приемов и хитростей, позволявших выжить даже в теоретически безнадежных ситуациях.
Шульгин считал, что дикие степняки, при всех инстинктах и условных рефлексах хищников и грабителей, интеллектуального превосходства над более цивилизованным противником не имеют по определению, а значит, и шансов на убедительную, с геополитическими последствиями, победу - тоже. Что история и подтвердила.
Игорь и княжна, помирившись, ехали рядом, о чем-то личном негромко переговариваясь, Юрята приотстал саженей на двадцать, что тоже было правильно.
Тишина стояла в лесу неимоверная. Птицы не пели, звери, которых в тринадцатом веке должно было бегать здесь изобильно, не попадались и голосов не подавали. Или ушли вглубь, или их вообще в сценарий не включили,
Дождь по-прежнему шелестел, шишки с вершин падали, а так - ничего.
Миновали две нешироких речки вброд, на подходе к развилке, где остатки конвоя увели за собой погоню, а княжна свернула к командному пункту Игоря, остановились. Так никого и не встретив. Ни своих, ни чужих.
– Знаешь, что я тебе скажу, княже. - Шульгин развернул коня. - Отъедьте с барышней (он нарочно употребил термин не из этого времени) вон туда, - указал на холмик с крутыми склонами и раздвоенной вершиной, на которой косо росли три корявых дерева и торчали корни давным-давно вывернутого пня. - Уж больно хорошая позиция. Пулемет мой возьми. Обождешь нас, а если что - прикроешь. Мы же с Юрятой пробежимся, вправо-влево, верст на пять в каждую сторону. Сдается, супостату здесь делать нечего. До сплошных фронтов стратегическая мысль не дошла, а за каждым случайным всадником загон устраивать - ни людей, ни коней не напасешься. Я правильно говорю, княжна?
Он впервые за три часа, расслабившись, прикурил папиросу, отпустив поводья и высвободив ноги из стремян.
– Не так, воевода, - вскинула Елена подбородок. - Я - не случайная, Не знаю, кто меня выдал, только на окраине Селижарова ждали именно мой отряд. Хорошо, мужик, кузнец, наверное, изба его на отшибе стояла, и дым из трубы шел едкий, сам же был в кожаном фартуке, остановил и предостерег. Приехало, сказал, днем около сотни диких, в лисьих шапках, оружием обвешанных, с ними несколько русских, по говору - рязанцев, по дворам стали, Через толмачей расспрашивали, не проезжали здесь обозом или верхами княжьи люди. Потом живность всякую хватать начали, в котлах своих походных варить без разбора и просто на кострах жарить кур и гусей. Кумыс пили и наше, что найти сумели. Один из русских, бражки не в меру выпив, проболтался, что через наши места сам князь проезжать должен или кто из его семейства. Вот взять их таторове изготовились. Кто пособничать будет - наградят, кто княжьим людям помогать - на кол посадят или хребет сломают. Это сват ему сказал, специально прибежавши. Ты, мол, Богдан, на самом краю живешь, предупреди наших, если покажутся.
Кузнец хотел племянника нам навстречу послать, за вторые выселки, да не успел. Мы раньше появились.
Соглядатаев у татар нашлось в достатке. Мы и десятью словами перемолвиться не успели, а уж появились. С трех сторон кучами повалили. Мои дружинники правильно сообразили, ряды сбили, стремя к стремени, и напролом ударили. Треть, наверное, потеряли, но через Селижаровский тракт прорвались. Еще треть осталась отход прикрывать, а мы дальше поскакали. Дважды нам наперерез небольшие отряды выбегали, опять то огнем, то сабельным боем мы их рассеивали, но и людей со мной все меньше оставалось. Сотник Владимир через каждые три версты по пять человек в засаде оставлял. К ночи, к волжской переправе, четверо со мной осталось. Сотник мне тропу указал, сам решил за развилкой бой принять, и, если уцелеет, дальше к Пено уходить, чтоб думали, будто и он только очередная застава, а главное - впереди.
– Да… Случается и так, - покачал головой Шульгин. - Молодец сотник, настоящий боец. Но все равно. С момента, как ты на тропу свернула, часов, пожалуй, двенадцать прошло. И нет никого. Так прикидываю, у татар тоже силы кончились. Шутка ли - чуть не полсотни верст погони? Твои люди вряд ли все погибли, скорее по лесам разбежались. Не рубка же лоб в лоб. Постреляли, сколь патронов хватило, - и в сторону. И Владимиру, будь я на его месте, верст через пять самое то с дороги в глушь уходить. Ничего глупее не придумать, как на единственной дороге спину врагу подставлять…
Шульгин по привычке разведчика смял в руке окурок, сунул в карман. Где-нибудь в другом месте выбросит, в целях дезинформации вражеских следопытов.
– Короче, здесь ждите, по сторонам посматривайте, говорите только шепотом…
Дальше поехали вдвоем. Он на самом деле полагал, что в дефиле между озерами Сиг и Вселут, оттянув на себя остатки монгольской погони, сотник просто обязан был раствориться в непроходимых дебрях. Иначе какой же он воин? Шульгин вообще удивлялся, каким образом преследование продолжалось так долго. Уже первая тыловая застава, если в ней было три десятка, вражескую сотню обязана была перестрелять из засады, свалив поперек дороги несколько сосен. Топоры же у них должны были быть?
О чем и спросил Юряту.
– Могло и не быть, воевода. То ж не настоящие ратники, то княжья дружина. А саблями много не нарубишь… И откуда княжне знать, сколько на самом деле поганых было? Если не сотня, а тысяча? Тогда и патронов не хватит, и со всех сторон окружат, не выскочишь. Не так бы надо…
Договорить воин не успел. Спереди грохнул винтовочный выстрел, и он кулем свалился на обочину. Только Шульгин заметил, что пуля в него не попала. Просто реакция у старого бойца идеальная. Распластался, ногами в кустарник, а цевье винтовки зажато в руке, и левая рука легла на заранее расстегнутую кобуру.
Самое же главное - ноги из стремян Юрята выдернул неуловимым движением. Со стороны могло показаться, что он так и ехал, отдыхаючи.
Сам Шульгин рванул коня влево, под треск направленного уже в него пачечного огня[78]. Метров через десять-пятнадцать не хуже Юряты рыбкой скользнул с седла, упал на четвереньки и, вытянувшись, пополз по-пластунски на источник огня. Наверняка монголы, если они из своего времени, а не из нашего, о таких тактических приемах понятия не имели.
Судя по звукам, стреляли метров со ста. Дурацкая самонадеянность. Если противник тебя не видит (а так и было в настоящем случае), нужно было подпустить его вплотную, а потом брать «тепленьким». Три десятка нукеров, судя по выстрелам, их было не меньше, навалившись толпой, своей цели могли достичь. Не в данном варианте, конечно, а теоретически.
Что ж, развлечемся еще немного. Что его могут убить в вымышленном мире, Сашка не опасался. Не за то боролись! Ладно, пусть и достанет его пуля, так скорее всего выбросит после «смерти» куда-нибудь еще. При таком подходе к судьбе и настоящая смерть (тьфу, тьфу) не представляется страшной. Просто он не успеет узнать, что все кончилось окончательно и навсегда.
А вот эти ребята, персонажи романов Яна, Балашова и прочих, уж точно супротив своей воли занесенные в чужую реальность, хлебнут сейчас по полной программе. Что им так полюбилось это место? Ехали бы себе и ехали, «к последнему морю»[79]. В Дубровнике, коней расседлав, отдохнули бы, искупались, пивка попили, на дискотеку сходили.
Одновременно Шульгин прикидывал: какая же складывается сейчас обстановка на театре?
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Засада на том самом повороте подсказала, что информацией противник располагает, причем полученной от здешних «власовцев». Кто еще может знать ot укромных тропах, ведущих в принципе в никуда. Южный берег Селигера - абсолютный тупик. Тактический и даже стратегический.
Вот если на самом деле развернулась полномасштабная охота на дочку великого князя - тогда все сходится. Только неужели Ростокин в свой сюжет и та кой эффектный поворот заложил? А черт его знает Они, эти графоманы-литераторы, особенно без надежд на публикацию, какой только ерунды не напридумывают. Андрей, к примеру, когда-то продолжение «Дня триффидов» на советской почве писал. Забавная книжка получилась, между прочим, жаль, что не издана.
Ползти по толстому слою слежавшихся сосновых иголок, да еще и мокрых от непрекращающегося дождя, было легко. Шульгин только жалел, что нет у него сейчас обычного «АКМа». Сейчас не нужны никакие «томпсоны» или карабины собственной работы, добрый старый «Калашников», штук шесть магазинов - и ничего больше. Чего ж это «режиссеры» не подкинули ему такой подарок?
«СВД» тоже подошла бы. Однако что есть, то есть. При умелом обращении и пятизарядная магазинка себя покажет. Только нужно зайти будущим союзникам (Халхин-Гол имеется в виду) в тыл и работать с дистанции не меньше двух сотен метров. Тогда все будет О'К. А старый степной волк Юрята пусть по обстановке ориентируется. Ему есть куда отступать и хватит ума не подставляться по-дурному.
Широкой дугой он сначала ползком, потом короткими перебежками вышел в тыл монгольской засаде. Выбрал идеальную позицию. Лес по южную сторону тракта из чисто хвойного переходил в смешанный. Шульгин присмотрел несколько старых берез, одна из которых на высоте трех метров раздваивалась наподобие буквы «Y». С этой развилки отлично был виден почти весь вражеский отряд. С полсотни всадников сгрудились на поляне, ожидая результата действий передового охранения, спешившегося и начавшего продвигаться по секретной тропе. Кто-то там поторопился, выстрелив по Юряте. Дистанцию не рассчитал, или дождь с туманом помешали, а может, просто конь не вовремя оступился. Иначе б все могло сложиться и по-другому.
Если только не включились в дело совсем другие факторы.
Со своей позиции Сашка мог стрелять в спину неприятелю, почти не рискуя. Устроился верхом в удобной выемке между стволами, передний полностью закрывал его от чужих взглядов и пуль, он же, чуть склонившись в любую сторону и положив цевье винтовки на подходящий сучок, мог чувствовать себя, как в тире.
В случае неблагоприятного поворота событий было куда отступать. Буквально в десятке сажен справа и сзади начиналась буреломная чащоба, сквозь которую не только верхами, но и пешком заморишься пробираться. Имеющий хоть три десятка метров форы сможет класть преследователей на выбор, оставаясь невидимым и недосягаемым.
Примерно такой же рельеф и по ту сторону тропы, где остался дружинник. Она почему и считалась секретно-стратегической, что вилась до самого берега озера между непреодолимых, заболоченных и перекрытых естественными и искусственными засеками участков пущи.
Фермопилы не Фермопилы, а глубоко эшелонированный оборонительный район, было б только кому его защищать.
Он рассчитал все. Даже если допустить, что монголы сумеют сохранить под внезапным огнем с тыла полное самообладание, станут действовать четко, слаженно, не допуская ни малейшей ошибки, шансов у них исчезающе мало. Ширина тракта, вязкость дорожного грунта и характер прилегающей местности не позволят атаковать развернутым строем, только сомкнутой колонной по три в ряд, почти шагом, что равноценно самоубийству.
Трехлинейная винтовка Мосина в хороших руках позволяет сделать двенадцать прицельных выстрелов в минуту. Та, что поднимал сейчас к плечу Шульгин, имела более удобный затвор, продольно-скользящий, без поворота рукоятки, как у «манлихера» 1886 года, и снаряжалась обоймой, вставляемой снизу, в окно перед спусковой скобой. Все эти хитрости доводили скорострельность до пятнадцати, а с Сашкиными навыками и реакцией - до двадцати выстрелов.
Быстрее, чем за три-четыре, а реальнее, за пять-шесть минут контратаку не организовать, и на бросок до рубежа рукопашной потребуется почти столько же времени. Так что…
Патронов в поясных и наплечных подсумках у него восемьдесят штук. Бурским стрелкам такого боезапаса хватало, чтобы укладывать навсегда или обращать в бегство кадровые английские полки и бригады.
Он опустил мушку на широкую спину всадника в толстом халате и отороченной лисьим хвостом шапке, который выглядел и вел себя как предводитель. Для первого выстрела позволил себе плавно выбрать спуск.
Приклад резко толкнул в плечо, всадник, вскинув руки, упал на шею коня. Дальше стрельба пошла уже без пауз. Пять рывков затвора, смена обоймы - и дальше! Несколько раз, вскользь, он задел пулями лошадиные крупы и бока. Не убить, а чтобы взбесились от боли и перестали слушать всадников.
Стрелял, стрелял, стрелял… Для скорости выдергивал из подсумков сразу по две обоймы. Одну на место, другую в зубы. Еще секунда экономии на лишнем движении руки.
Зря писали уважаемые авторы о высочайшей дисциплине и выучке воинов Чингисхана и Батыя. Может, в эпоху сабельных стычек лава на лаву так и было. А когда лишенное маневра и руководства подразделение расстреливается беглым, убийственно точным огнем, взбешенные жгучей болью кони дико ржут, рвутся в стороны, встают на дыбы, кусают друг друга, топчут упавших под копыта всадников, а те продолжают падать и осмысленных команд не слышно - паника среди не имеющих собственного независимого мышления, а главное - цели жизни и смерти кочевников обращается в подобие степного пожара.
Он привык воевать с настоящим противником, равным, а то и превосходящим численностью, и сейчас планировал свои действия по тому же принципу. Учел, что окружающие деревья, отражая и искажая звук выстрелов, какое-то время позволят ему сохранить маскировку, рассчитал рубеж, на котором враги опомнятся, остановятся, спешатся, развернутся в цепь и начнут наступать перекатами, поочередно прикрывая друг друга огнем.
Вместо этого сумевшие уцелеть, усидеть в седле, теряя время, начали разворачиваться, чисто по-муравьиному, чтобы бежать туда, откуда пришли. Назад, к своим, инстинктивно, но правильно сообразив, что если вперед - то еще глубже погрузишься в жуткий, безвыходный русский лес, где нет путей, за каждым деревом враг и каждое дерево - тоже враг,
Едва ли несколько десятков разрозненных и неприцельных выстрелов прозвучало в ответ на уничтожающий и деморализующий огонь единственной винтовки.
Сашка мельком подумал, занимаясь главным делом: «Похоже, эту публику стремительно попытались цивилизовать, вооружив новой идеей и более-менее европейской техникой, не удосужившись поработать над менталитетом и мотивациями. У африканских негров и прочих «борцов за свободу» в двадцатом веке в автоматах и даже ЗРК нехватки не было, однако взвод «белых наемников» спокойно разгонял целые «армии» в каком-нибудь Конго или в Кот-хрен[80] знает чего. Пятьсот лет назад Кортес и прочие конкистадоры тоже успешно покоряли могучие империи…
Визжащая, перекрикивающаяся непонятными словами и фонемами толпа неслась мимо. Грязные узкоглазые всадники в нахлобученных на уши малахаях не думали даже о том, чтобы сдернуть со спин карабины, отстреливаться хотя бы в белый свет, для самоуспокоения. И кривые сабли бессмысленно болтались вдоль конских боков.
Оглушенный грохотом собственной винтовки Шульгин все-таки слышал, что издалека отвечает ему еще одна. Более редко и размеренно, значит, тоже прицельно. Гулкие хлопки монгольских карабинов звучали совсем иначе. Жив Юрята! Да он и не сомневался.
Последние выстрелы Сашка сделал уже вдогон, сбив на землю еще троих. Скольким удалось сбежать, он не считал. Пожалуй, больше сюда не вернутся, в ближайшие сутки минимум. Наговорят своим начальникам, что встретились с тысячным войском. На Востоке так принято. Сломают им хребты или нет за бегство с поля боя и дурную весть, не важно, но контрнаступления в ближайшие сутки ожидать нечего. Не та война.
Его подсумки были почти пусты, винтовка раскалилась до того, что от цевья и ствольных накладок тянуло дымком шашлычных углей.
Он шел по дороге, без всякого удовольствия любуясь плодами трудов своих. Трупов было сравнительно мало, большинство утащили с собой лошади. Монгольские гутулы[81] из стремян выскальзывали плохо.
Один цирик[82] повис над дорогой, проткнутый насквозь торчащим вдоль обочины навстречу направлению бегства острым суком.
Живых ему не попалось.
«Кто стрелял!» - с определенной долей гордости подумал Шульгин. Люди это или не люди, а фантомы, как в компьютерной игре, или ростовые мишени на стрельбище - не важно, но если делаешь дело, так делай его как следует.
Предполагая, что кое-кто из проникших на тропу может в близкое время тоже появиться на перекрестке, иного пути отступления для них нет, он снял с убитых несколько карабинов. Посмотрим, чем они воюют, выберем подходящий,
Все они были одинаковыми, напоминали систему «генри-винчестер», с продольно-скользящим затвором, управляемым рычагом спусковой скобы. Забавно, Америку только через двести пятьдесят лет откроют, приличная оружейная индустрия через пятьсот появится. Может, это китайцы на опережение начали плохие копии шлепать?
Да нет, механика нормально работает. Сашка выбрал один, показавшийся поновее. Обвешался патронными сумками, предварительно убедившись, что нет снаружи и внутри вшей и блох. К счастью, запах ружейного масла этих мерзких кровососов отпугивал. Обходились пропотевшими хозяйскими шубами.
Бесхозных коней вокруг бродило много, не побежавших следом за ордой и не рискнувших углубляться в лес, где чуяли, наверное, волков и прочих хищников. А еще полтора десятка было привязано поводьями к деревьям. Ждут своих не по уму сунувшихся в дебри хозяев.
Винтовка Юряты время от времени все постреливала вдалеке, и дробь ответных выстрелов перекатывалась промеж стволов и распадков.
Шульгин выбрал трех коней, выглядевших сильнее и свежее других, на всякий случай приторочил к тому, что монголы считали седлами, несколько карабинов с боезапасом, десяток сабель. Своего оружия на базе Ростокина навалом, а все же… Трофеи, на память.
Отвел лошадей туда, где был привязан его жеребец, накинул поводья на ветку. Потом, не слишком даже маскируясь, просто умело скользя от дерева к дереву, направился в нужном направлении.
Не прошел он и полуверсты, как услышал впереди и правее голоса. Негромкие, но явно отечественного происхождения.
В неглубоком овражке, через который протекал ручей, сидели на склоне двое одетых в приличные зипуны мужиков, не из пахотных, а скорее к торговым делам причастных, и монгол, с тем же «американским» карабином на коленях и обнаженной саблей под рукой.
Разговор промеж русскими шел о том, что пора бы и сваливать отсюда. Больно громкая стрельба вокруг, и явно не в пользу поганых. А мы вот ввязались. Так не лучше ли кинуться разом, придушить вот этого - и по домам. По дороге хабар какой-никакой собрать.
Монгол понимал ли по-русски, нет, но на своих союзников посматривал подозрительно. Дикий или нет, но в обстановке ориентировался.
Схема понятна без объяснений.
Только вот что лучше - шлепнуть агрессора сразу, а с этими поговорить или прежде всего брать языка? Второе решение Сашка счел более рациональным.
Выстрелом снес с его колен оружие, прыгнул, наступив ногой на саблю, а кулаком, с поворота, врезал в скулу. И хватит.
На поясе у монгола висел сыромятный аркан. Им он и связал всех в кучу, спина к спине.
Наконец-то смог, расслабившись, закурить.
Черт знает чем приходится заниматься, нет бы на яхте по морям плавать. А вот не дают… Да все равно лучше, чем в грязной палате помирать! Сашка понимал, что от той картинки ему ввек не избавиться, и, что бы ни случилось, будет примерять ее к любым другим жизненным случаям. Для того, естественно, она и была ему показана.
Стрельба вдруг резко приблизилась.
– Сидеть мне, мать вашу, тихо, а то…
Он выдвинулся на гребень и начал, не выпуская папиросы изо рта, стрелять по мелькающим между деревьями фигурам в стеганых куртках и халатах.
Юрята, известным образом засвистев с переливами, вышел из-за сосен.
– Все, воевода? - спросил, на ходу перезаряжая винтовку.
– Пожалуй, и все, - согласился Шульгин, - Иди сюда, тебе интересно будет…
– Это - кто? - спросил дружинник, увидев пленных.
– Сам и спрашивай, твои земляки, не мои…
Оказались обыкновенные «коллаборационисты», каких во все века хватало. Сами из Твери, купеческие приказчики, изъездившие с товарами все тогдашние пределы, более-менее знающие языки окрестных народов и племен, космополиты, можно сказать, лишенные патриотизма даже в тогдашнем понимании. «Уби бене, иби патриа».[83]После прихода монгольского тумена, подчиняясь одновременно угрозам и посулам, согласились поработать толмачами и проводниками. Знали, что на Столбном помещается «военная база» великокняжеского войска, а когда монголы, перехватившие отряд Елены, убедились, что княжны нет ни среди пленных, ни среди убитых, подсказали тысяцкому, Даваджаб-нойону, куда она могла укрыться, если не прикопана дружинниками в безымянной могиле. Вот и повели специально выделенную сотню «ловцов».
Только монголы оказались не на высоте. Не слушали советов, думали в лесу воевать, как в степи. А столкнувшись с реалиями, растерялись, утратили управление.
– Повесить бы их, - предложил Юрята.
– Неплохо, - согласился Шульгин, - только не сейчас. Отвезем к князю, там допросим с пристрастием, и караульщика ихнего, а уж потом, в зависимости от поведения…
– Дело говоришь, воевода. Инда поехали.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Война войной, как говорится…
Игорю сейчас было не только и не столько до войны, как до занимающих его и даже терзающих внутренних проблем. Он помнил из институтских курсов, что существуют в каждой области человеческих знаний задачи, не имеющие рационального решения.
Большинство «простых» людей об этом просто не задумываются, на уровне житейского здравого смысла уверенные в непреложности евангельской истины: «Да - да, нет - нет, а остальное от лукавого».
Сейчас он впервые столкнулся именно с такой ситуацией. Прежде - не приходилось. Хоть в дальнем космосе, хоть в историях с ожившими покойниками и Майклом Паниным, межвременными переходами и «Андреевским братством» достаточно однозначное и вполне рациональное, в предложенных обстоятельствах, решение обязательно находилось.
(Здесь следует иметь в виду, что описываемый Ростокин и ныне действующий Шульгин оказались примерно в таких же отношениях, как Сашка с самим собой несколькими неделями раньше. Люди развилки. Нынешнее состояние как бы отрицало самое себя. Игорь, здешний, - совсем не тот, что вернувшийся «в мир» после того, как уложил спать княжну и начал вскрывать пакет от Михаила. Никак не мог он знать и помнить того, что случилось позже: об Артуре и иных делах, в которых им с Александром Ивановичем довелось поучаствовать в собственном времени, в нескольких других. Однако же помнил.)
Если Ростокин возвратился в квартиру на Столешниковом в известный фиксированный момент, уверенный, что эпизод встречи с Еленой был поставлен плохо и завершился ничем, то каким образом совместить все случившиеся до и после временные петли? Куда и как он вернется теперь? В самом простом варианте - туда же, просто с двойным комплектом воспоминаний. Тогда кто же возвратит в мир Артура и Веру? Если все-таки он, то рано или поздно борьба с «нашествием» для него кончится, опять же ничем. И снова появится Артур.
Исходя из подобного допущения, Игорю, не стесняя себя никакими моральными соображениями и принципами, следует довести эту партию до решительного результата. Заодно и посмотреть: получится ли? Достаточно ли отпущено ему степеней свободы?
Конечно, существует риск, что реальность зафиксируется окончательно и хода ему из нее больше не будет. Тогда - как с формулой возврата? Прошлый раз она сработала столь эффективно, что и развоплощенных Артура с Верой он сумел с собой привести, немедленно обретших полноценные физические тела взамен эфирных.
Что, если таким же образом обретет реальность для «истинного» мира и Елена, вернется туда вместе с ним? Как выпутываться из проблемы двоеженства?
Тем не менее, рассуждая вполне здраво с точки зрения 2056-го, а равно и 1924 года, своей подлинной ипостасью он странным образом считал именно эту. Ничего в принципе особенного для тех заморочек, в которые он ввязался. Единственная, пожалуй, разница, исключительно психологическая, в том, что переход вместе с Шульгиным из новозеландского форта в белый Харьков он воспринял «механистически», то есть материалистически, точнее сказать, зато выпадение сюда через астрал выглядело чистой мистикой. А на самом-то деле? Чем не существовавший в его истории «югоросский вариант» и все там случившееся лучше (подлиннее?) этого, столь же невозможного, исходя из теории Фолсома и иных научных постулатов? Единственно тем, что одна из сюжетных линий совпала с той, что он придумал и описал в юности. А если это не визуализация мечты, а обычное прозрение?
Сумел же Новиков, точно так же фантазируя, за двадцать с лишним лет угадать предстоящее крушение «их» советской власти и трехцветный российский флаг над Скобелевской площадью.
Селигер сам по себе узел, сплетение невероятностей, «точка пробоя кабеля», не зря практически в одном месте случились судьбоносные события, хоть краем, но зацепившие почти каждого члена «Братства».
И Ростокин, сидя, может быть, прямо на «силовой линии», получил прямую связь с такой вот, уродливо искаженной, но для находящегося внутри - вполне естественной реальностью.
Дождь лил и лил, шелестя по плащ-палатке, которую Игорь натянул между обломками корней вывороченного пня, над глубокой промоиной, образовавшейся под ним. Костер бы запалить, да в засаде нельзя.
Они с княжной о многом поговорили, не касаясь только главного вопроса. Словно все между ними как прежде - Елена дочь сюзерена, сам он понятно кто. Высокороден, но беден и на службе состоит. Захотят - возвысят соразмерно титулу, нет - отошлют от престола собственное счастье искать. С опалой или без, как их милостям угодно будет. А то и в яму посадят, в монахи постригут. Средневековье, куда денешься?
Это, конечно, хрен вам! С нашей подготовкой в нужный момент и великого князя со всей его свитой и ближней дружиной в одиночку раскидаем. Не говоря об огнестрельном оружии, которым здесь пользуются, как дворовые пацаны палками. «Кых, кых, ты убит!» А если не убит и не палка, «ППШ» в руках, с настоящими боевыми патронами?
Опять постороннее воспоминание. Откуда в его детстве «ППШ»?
Он приобнял Елену за талию. Вроде и по поводу: холодно, сыро. Температура - примерно плюс десять. Некомфортно.
– Моя ты любимая! - стал он ей шептать в ушко. - Никогда не мог поверить, что ты на меня глаз свой положила. Кто я тебе и зачем нужен?
– Глупый ты, глупый! Только тебя я и видела. Один ты был на человека похож, который вместе со мной из папашиной державы, из лапотной Руси сможет соразмерную Византии империю создать. Помню, как послов новгородских в прошлом году, не по праву, конечно, убеждал ты союз торговый и военный заключить. Получилось у тебя, вопреки указаниям отцовым, правилам общепринятым. Как ты вино фряжское с аквавитой[84] для них мешал, я заметила…
– Что ж ты, княжна, каждый мой шаг следила?
– Не веришь? А ты у двора базилевса бывал? Сына его, Константина, видел?
– Бог миловал…
Хотя о Константине некоторые представления у Ростокина были. Вполне теоретические.
– Ты бы смог с ним на равных держаться?
Елена, наверное, представила себе гигантские залы
Палатина, толпы придворных, возжигаемые ладаны и прочие курения, вообще пышную и бессмысленную роскошь умирающей империи.
– Делать нечего… На дипломатический разговор или беседу в стиле перипатетиков образования хватит, а если грубить начнет - рукояткой револьвера в зубы, и разошлись, - пошутил Игорь.
Образ Елене показался, наверное, слишком сложным.
– Он ведь и мечом владеет, и в боях на фракийской границе себя показал…
– Много они показали, даже с крестоносцами путем разобраться не сумели!
Игорь ответил самым простым в его положении образом. Он ведь человек двадцать первого века, и смоделированная им девушка тоже оттуда. Была она, по тексту, петербургской студенткой, с которой встретились на базе отдыха и разошлись по окончании срока, А княжна - это вторично.
Начал читать ей стихи, те самые, что подходили тогда и которых никак не могло появиться в тринадцатом веке.
Зато насколько она сейчас была красивее той, случайно встреченной и показавшейся симпатичной девчонки! Если бы та Ленка повела себя правильно, могло бы у них что-то интересное получиться. А она вообразила себя… Ну, неизвестно кем вообразила. Что она лучшая девушка в этом туристском лагере? Так и лови момент! А уехав в Петербург, мгновенно станешь одной из миллиона.
Сначала рукой он осторожно погладил ее грудь поверх всех воинских доспехов. Ничего сквозь них не чувствовалось, кроме самого факта: не отстранилась. Даже прижалась потеснее и подставила губы.
Неподходящее место и время для развития успеха: сверху дождь, внизу грязь, и слишком много на каждом плотных одежд и ремней с амуницией. Только напрасно распалять чувства.
Начавшаяся вдали стрельба расставила все на свои места. Елена вывернулась из его объятий, сама недоумевая, что это на нее нашло. А там кто его знает! Не зря в прежние времена во всех европейских странах девиц без сопровождения старших родственниц и дуэний наедине с приятелями противоположного пола не оставляли. Наверное, имелся вековой опыт их врожденной моральной неустойчивости.
Больше получаса Игорь лежал, сторожко осматриваясь и прикидывая, куда направить ствол пулемета, откуда вероятнее всего может появиться враг. Княжна, как настоящий боец, разложила на земляной полочке диски и винтовочные обоймы, готовая за второго номера работать и самостоятельно позицию держать. Но полыхнувший бешеным накалом огня далекий бой почти сразу затих, и вскоре, предупредив условленным свистом, появился Шульгин с Юрятой, конями и пленными.
– Все, князь, поехали домой. Времени у нас теперь много. Заставу с броневиком оставим, а нам здесь делать нечего. В монастыре языков допросим обстоятельно, скорого набега ждать не стоит. Не тот враг нам попался…
На обратном пути он более-менее подробно изложил Игорю и Елене случившееся, по-своему толкуя низкую боеспособность противника. Он не стал говорить, что Ловушка в очередной раз не сработала именно потому, что он сумел пересилить заложенную в нее программу. Неизвестно когда и неизвестно кем. Стоило ему хоть на минуту поверить, даже в глубине души, что перед ним те самые всесокрушающие монголы Чингисхана, походя громившие государства и империи, которым не могли противостоять ни китайцы, ни Хорезм, ни отчаянные русские дружины, тут бы ему и конец. Что такое двое против сотни?
Зато, как только вообразил, что это всего лишь мирные араты[85], наряженные для масштабной батальной киносъемки, - все стало на свои места. Режиссер ведь не сказал им, что в какой-то момент стрельба начнется боевыми патронами. За три рубля суточных (советскими деньгами) помирать дураков поищи!
Никому свою военную тайну Шульгин раскрывать не собирался. Напротив: только вокруг нее можно было строить дальнейшую политику.
Ловушка, или кто там еще, очевидно, умела работать только с ограниченными объемами человеческой личности, чисто биологическая составляющая которой насчитывает миллиарды мозговых клеток, нейронов, аксонов и прочего. Количество же связей между ними, наведенных полей и вообще чего-то такого, что Удолин называл астральными, эфирными, ментальными и высшими телами, наверняка превышают возможности «высшей» структуры. Не может техническое устройство, сколь бы сложным оно ни было, превосходить возможности своего создателя. Как камень, который всемогущий Бог то ли может создать для себя неподъемным, то ли нет.
Для Ростокина (при всем уважении к этому парню, с которым довелось поучаствовать во многих острых ситуациях, Сашка считал его тем не менее мягковатым для настоящей жизни) придуманная история с княжной показалась вполне убедительной, то есть запас его воображения оказался достаточным для построения «химеры».
Воронцов, который никогда не претендовал на роль Держателя или кандидата в таковые, сумел вообразить свою Наталью так убедительно, что она мгновенно материализовалась в женщину, способную на протяжении многих лет существовать в реальном мире, неотличимая от других. А ведь на самом деле была просто воспоминанием, не слишком совпадавшим с оригиналом, но изменившим его по своему образу и подобию…
Снова сердце Шульгина пронзила ледяная игла. Большей подлости по отношению к нему Сеть, или Держатели, или сам он (такое не исключалось) не могли придумать. Сцена жуткой или, что еще хуже, немыслимо жалкой смерти в больнице присутствовала в нем теперь постоянно. Казалось бы - ну и что такого? Разве победительный юноша двадцати трех лет от роду, если не дурак, не думает о реальном конце?
Как правило - нет. Возраст для того и существует, чтобы в каждой поре мыслить соответственно. В двадцать думаешь, что ты и твой отец, дед, их друзья и прочие окружающие живут каждый в своем времени и возрасте. Им - пятьдесят, шестьдесят, и по-другому быть не может. А тебе - двадцать. Когда-нибудь, по прошествии бесконечных дней, станет двадцать один. Но это так далеко…
Здесь играла несколько другая схема психического воздействия. В тридцать, в сорок, пусть в пятьдесят ты еще волен вообразить, что падешь в бою, от мгновенного инфаркта, на собственной яхте взорвешься на болтающейся по морям японской или американской мине. Но если тебе скажут и покажут, конкретно и окончательно, - будет именно так, в этот самый день указанного года, - вот тут гайки отдадутся у самого в себе уверенного человека.
– Так вот вам, господа! - Шульгин едва не изобразил руками известный жест. Но удержался. Это тоже будет выходом за пределы тайны.
Пускай Игорь пока тешится близостью действительно крайне привлекательной девушки, по всем параметрам соблазнительной, и внешностью, и династическим положением. Чем кончится - посмотрим.
А разве нельзя подумать, что и данный момент, удивительно точно нарисованный, нынешнее настроение, этот дождик, винтовка поперек седельной луки - именно то, что в последние свои минуты вообразил тот жалкий, отвратительный (так Шульгин неожиданно начал думать) двойник? Ну, невозможно жить, отождествляя себя - с тем!
«Да можно, можно», - подсказал внезапно мерзкий по тону внутренний голос.
«Кто бы спорил, - ответил, озлобляясь, Шульгин. - Только и этому мороку мы не поддадимся».
Они долго шли по проложенным внутри монастырских стен коридорам. Низким, сводчатым, еле-еле освещенным подвешенными на крючках керосиновыми лампами. Уныло, конечно, зато чувство личной безопасности нарастало буквально с каждым шагом. Попробуй меня здесь достань, кто бы ты ни был! Классно это придумано, монастыри то есть. Правда, европейские, бенедиктинские или францисканские были еще интереснее. Стояли в живописных местах, на господствующих высотах и скрещениях стратегических торговых путей. Выглядели внушительнее, интерьеры до сих пор вызывают восхищение, и монахи там занимались гораздо более интересными делами. Книги латинских мудрецов переписывали, ликеры изобретали, местных графов и баронов неторопливо к основам цивилизации и демократии подтягивали. Прогрессоры были, в определенном смысле. Наши себя так поставить не сумели. Душу, прости Господи, спасали, уступив реальную власть и влияние сиюминутно мыслящим князьям и князькам. Принесло ли это России практическую пользу? Отнюдь.
Елену и Игоря игумен устроил в близко расположенных кельях. Очень они устали, чисто физически, что было заметно. Потому Шульгин не стал приглашать Ростокина на дальнейшую беседу, хотя и хотелось.
Пусть отдыхают.
Дальше пошли вдвоем. Он и игумен. Оружие Сашка оставил внизу, кроме револьвера, на который отец Флор покосился, но ничего не сказал. Время-то бранное.
Смысла в наличии на поясе семизарядной тяжелой железки не было никакого, кроме психологического. От некоторого количества противников Шульгин отбился бы руками и подручными предметами, в случае подавляющего перевеса - револьвер не лучше детского пугача.
Другое дело - человек любой практически эпохи, от неолита до Новейших времен (за исключением советской власти), считал меч на поясе или шпагу, нож за голенищем, кремневое ружье, пистолет в кобуре, в кармане, вообще всякое оружие - непременным атрибутом свободного! Только рабы не имели на него права.
Не каждый поймет, в чем дело, но Шульгина и его друзей напрочь отвратило от советской власти еще и то, что на их глазах у отцов-фронтовиков отнимали (под угрозой тюрьмы) даже наградные, с серебряными табличками от командармов и комфронтов «ТТ», «парабеллумы» и «вальтеры». У дедов - «маузеры» и «наганы» с орденами Красного Знамени на рукоятках. Началась такая кампания года с пятьдесят третьего, кажется. Сталин умер, новые начальники пришли, паранойя стала раскручиваться по очередной спирали.
Власть, которая боится старого револьвера в трясущихся руках старика, жизнь на ее утверждение потратившего, не заслуживает даже презрения.
Апартаменты игумена находились этажом выше, причем так расположенные, что туда не каждый из постоянных обитателей монастыря нашел бы дорогу. По винтовой лестнице через башню, потом по внешней галерее, и вдруг налево узким коридорчиком. Совсем неприметным. В его конце - дверь, которую взломать невозможно по причине не только толщины и прочности, а расположения. Ни тараном, ни просто руками, пусть и снабженными кое-каким инструментом. Такой тамбур, как раз на ширину полотнища, да еще и открывающегося «поперек хода».
Кельей три большие комнаты, выстроенные анфиладой, с несколькими смежными помещениями поменьше назвать можно было лишь с серьезной натяжкой.
Отец Флор, игумен, внимательно выслушал сообщение тмутараканского воеводы. Начальник монастыря был воплощен вполне убедительно. Поскольку имелся у него прототип, глубоко запавший в память и эмоциональную сферу Ростокина. Да и сама обитель тоже. Слегка подкорректированная копия Кирилло-Белозерского, как он выглядел в середине XXI века, с элементами конкретной Ниловой пустыни (того же времени) и Соловков. Одним словом, тех мест, которые произвели на Игоря наибольшее впечатление.
Образование монах имел неплохое, по свету побродил, включая Святую землю. Причем пешком или на лошадях, если считать, что авиации и автобусов ему не подвернулось по причине принадлежности к Средневековью.
– Ополченцы продолжают подходить. Случится - обороняться сможем до полного ледостава. Дальше - не знаю.
– Да знать-то, владыко, и нечего. Никто сюда больше не придет. Историю знаете? Византийскую, римскую, остальную, само собой?
– Что-то я тебя, воевода, не совсем понимаю. И сам ты мне кажешься странным…
– Чем же вдруг? - оживился Шульгин. - Объясни, отче. Я бы и сам мог тебе объяснить, но хочется твое мнение послушать.
– Скажу, - игумен провел ладонью по бороде, - видится мне, что не православный ты. Католик, наверное. Или, хуже того, жидовствующий…[86]
– Упаси бог, отче. Разочарую тебя, но никаких ересей не исповедую. Другое дело, стоиков римских почитаю, Аврелия в особенности, а из греков Платона и Сократа. Только тебе сейчас надо такие тонкости выяснять? Я ж не в семинарию поступать намерился. Обитель твою отстоять от врага, и только. Потом дальше побреду по миру, искать, где еще пригодиться…
А сомневаешься - простри ты на меня руци свои, с крестом наперсным - изыди, мол, так и изыду. Сяду на коня - и дальше. Водой святою на дорожку умоюсь. Уловил мысль, отче?
– Уловил, уловил, ты не трудись особенно. Не о том моя речь… В Тмутаракани я не был, обычаи там у вас, наверное, свои. С одной стороны греки из Кафы, с другой - Дикое поле. До исконно русских земель далеко. Но манеры твои больше схожи с латинскими, будто и впрямь ты себя странствующим рыцарем воображаешь, а не воином на княжеской службе.
– Так и есть, отче, так и есть, - с живостью согласился Шульгин. - «С «лейкой»[87] и блокнотом, а где и с пулеметом по полям сражений мы прошли…» Скоро сорок лет живу на свете и воюю за правое дело, где придется или где Бог укажет, что, впрочем, одно и то же. Или не так?
– Сейчас послушник обед нам принесет, и продолжим мы нашу полезную беседу…
– С удовольствием, отче. Только укажи мне, пожалуйста, место, где я, устава не нарушая, мог бы богомерзкой привычке придаться, табачку покурить то есть. Настолько привык, что не могу без того, мозги перестают работать.
– Грех, конечно, только не мое это дело. Вон, на галерею выйди, подыми, если иначе не можешь…
Игорь продолжал свой рискованный эксперимент. Как уже говорилось, прототипом Елены была питерская студентка, покорившая его сердце пятнадцать лет назад по прямой временной шкале XXI века в этих же местах, на турбазе по ту сторону плеса. Она, безусловно, была самой красивой и яркой девчонкой в том заезде, что сразу же ее испортило. Чересчур много внимания со стороны обладающих массой достоинств парней и мужчин. На их фоне Ростокин ничем не выделялся да вдобавок отличался совсем неуместной застенчивостью и деликатностью. А для двадцатилетней девушки это скорее недостаток, чем достоинство.
Короче, тогда свою партию он проиграл. Пока Елена не осознала своей здесь позиции, кое-что у него получалось. Во время заполуночных песен у костра с легкими возлияниями и танцами ему удалось и грудь ее осторожно погладить, и к щечке губами пару раз прикоснуться, пьянея от запахов и надежд на продолжение. Но в тот раз он отступил перед достаточно условным сопротивлением, забыв, что суворовский завет - «быстрота и натиск» относится не только к военным делам.
Был бы он уже тогда отважным военным корреспондентом или космическим журналистом с именем - все получилось бы совсем иначе, и жизнь, безусловно, сложилась как-то иначе.
Уже следующим днем нашелся человек, который не забивал себе голову возвышенными мыслями. Правда, к концу срока Лена разочаровалась в нем и даже впала в депрессию, догадавшись, что две недели потеряны зря. Не так себя повела, не на ту лошадь поставила. Ошибка, если не хуже, вряд ли поправима.
Простились они с Игорем тепло, старательно скрывая друг от друга чувство горечи от воспоминаний о несбывшемся. Полгода, а то и больше переписывались «как близкие друзья», причем на бумаге, а не электронной почтой, и Лена постоянно касалась листка капелькой своих духов. Зачем, для чего? Неужели из чувства изощренного садизма? Или по девичьей глупости?
Кто теперь скажет, отчего Игорь не бросил все, не метнулся из Москвы в Петербург в ближайший уикэнд? Не мог простить обиды, ждал прямого приглашения или тоже утонченно мстил?
Когда эпистолярное общение сошло на нет, он довольно долго вспоминал о своей несбывшейся любви. Последний раз вспомнил о ней незадолго до своего первого межзвездного полета, когда сидел в гнусном номере прифронтовой гостиницы на очередной азиатской войне, схваченный приступом «вельтшмерц», мировой тоски, и набрасывал в потрепанном блокноте:
Отослал ей это стихотворение, но ответа не получил. Так постепенно и забылось.
Если правильно сказано кем-то, что стихи - высшее воплощение человеческого духа, то они, эти и другие тоже, вполне могли вызвать к жизни и материализовать образ девушки. Неотреагированные эмоции, сказал бы в этом случае Александр Иванович, обладают чудовищной силой. Не знаю, как там насчет веры «в горчичное зерно», которая позволит перемещать горы, а вот два недоучки - художник Гитлер и семинарист Джугашвили - дали миру понять, как опасно лишать человека перспективы. Купил бы еврейский магнат году в тысяча девятьсот десятом или тринадцатом за тысячу марок десятка три акварелей Адольфа Алоизовича да устроил выставку в Вене с хорошей прессой, как бы ему были благодарны шесть миллионов соотечественников и пятьдесят миллионов прочих, ни за что погибших людей! Кажется, ни один из художников, попавших в собрания Третьякова или Щукина, не возжелал учреждать рейхи, вешать на фонарях коллег, сколь бы их колорит и мазок ни казались им чуждыми и отвратными.
А теперь судьба предложила ему эту же девушку в полное распоряжение, с правом переиграть партию по новым правилам. Сумеешь, нет?
Он пересек темный коридор, постучался в дверь.
– Это ты, князь? - спросила Елена, перед тем как отодвинуть засов. Сам вопрос уже служил ответом.
– Кто же еще?
Она стояла за порогом, кутаясь в льняную простыню, прикрывавшую голые ноги едва до колен.
– Зачем пришел?
– Как будто не знаешь…
– Знаю, - не то вздохнула, не то всхлипнула княжна. - Очень долго ждал, так?
– Ты даже не знаешь, как долго…
– Знаю, - повторила она. - А если война закончится не так, как мы надеемся?
– Тем более. Тогда и пожалеть об упущенном не кому будет.
– Понимаю. Я и сама тебя ждала, чего скрывать…
Она за руку провела его через едва освещенную дрожащим светом свечи прихожую к узкой, для монахов устроенной деревянной койке, поверх из лыка сплетенной сетки прикрытой тонким тюфяком. Сбросила с плеч простыню.
Он видел ее на селигерском пляже в тугом купальнике, по моде тех лет скрывавшем тело от плеч до середины бедер, потом в бане, когда он своими руками ее раздел. Но это медицинский момент, не считается. Потом, в присутствии Артура, она явилась ему не голой, а обнаженной, ей прислуживали Алла и Ирина, столь же неодетые, но при всех своих зрелых формах уступающие в соблазнительности изящной, а главное - царственной девчонке. Каковая царственность в жестах, движениях, мимике отчетливо перебивала так называемую «силу плоти». А уж Игорю, впервые увидевшему Ирину на палубе «Призрака», казалось, что ничего совершеннее не бывает в природе.
Убедился, что бывает. Просто угол зрения меняется в зависимости от настроя. Кому Венера Милосская, кому Афродита Таврическая.
Елена легла, прижимаясь к стене, освободив достаточно места, чтобы и он поместился.
Никаких предваряющих и сопровождающих происходящее слов княжна не говорила. Обещаний не требовала, хоть любовных, хоть политических. Просто прижалась горячим тонким телом, сама начала его целовать, по-современному, хоть и не знал Игорь, чем эти дела отличались от наших в тринадцатом веке.
– Игорь, смотри, я ведь тебе первому… Девушка я… Боюсь…
Что «та» Лена девушкой не была, он знал точно. Двадцатилетних девственниц в две тысячи сороковом году не бывало по определению, если уж только совсем какие-то богом ушибленные или судьбой обделенные таились где-то. И с его соперником она несколько ночей провела, таких вещей от терзаемого ревностью парня не скроешь. Так никого это особенно и не волновало. Плохо, что не со мной, а в принципе - каждый в своем праве.
Зато эта Елена, в качестве компенсации, что ли, девственницей оказалась. Игорь долго и нежно ласкал ее, стараясь разбудить ту страсть, которая непременно присутствует в любой почти девушке. Природа так определила. Он очень старался, и все получилось, как надо. Разрядку Елена испытала, пусть и неяркую, но наполнившую ощущением ранее неизведанной радости. По телу разлилась сладкая истома, захотелось спать и в то же время - немедленно повторить. Теперь уже - со знанием того, как ей будет лучше.
Игорь курил у окна, по-своему переживая достигнутый успех - все же он добился того, о чем мечтал давным-давно, а потом выбросил из головы, как многое другое, за ненадобностью. Девушка его не разочаровала. А то ведь как бывает - стремишься, добиваешься, теряешь голову в предвкушении чего-то неземного, потом предмет вожделения уступает, и все кажется ужасающе пресным и банальным. Начинаешь понимать, что некоторые красавицы созданы лишь для того, чтобы пьянить на расстоянии, сближение же - потеря иллюзии и хуже того - резкая неприязнь.
Чем свечи лучше электричества, так тем, что романтическая атмосфера создается автоматически. Не освещенное пронзительным светом тело со всеми его не всегда эстетическими подробностями, а мягкий абрис, насыщенный тенями.
Елена села поперек кровати, вытянула ноги до середины кельи, руки закинула за голову, вызывающе выставив свои не слишком роскошные груди. Она явно ощущала себя перешедшей в иное качество. Женщина она теперь, со всеми вытекающими последствиями. Полноценное существо, познавшее не только неведомое ранее удовольствие, но и осознавшее свои права и власть.
Обняла Игоря, сама стала горячими ладонями скользить везде, целовать его мягкими, совсем не такими, как раньше, губами.
– Ты же теперь навсегда мой, князь? Мы с тобой начнем новую, Мещерскую династию. Давай еще раз. Мне понравилось. Только теперь не так. Постельные бабы меня учили, ты не думай. Нас, княжон, с самого детства учат. Книги индийские и арабские, с картинками, читают. Вас, мужчин, воинскому делу обучают, нас этому…
Очень Ростокин удивился. Сейчас действительно не питерская студентка Лена его обнимала, а подлинная великая княжна, с историческим опытом тысячелетней империи. Вспомнилась из прочитанных книг басилисса Феодора, еще кое-какие византийские дамы, имевшие гаремы мужиков почище, чем женские у царя Соломона.
– Ты сейчас все правильно сделал. Не груб был, не спешил. За это я тебя еще больше полюбила. Девичья любовь - не то. Просто глупость. А женщиной с тобой став, никогда тебя не покину. Люб ты мне, и другого не надо.
Шепча эти слова, Елена вела себя так, что напомнила Игорю суккубов, демонов, принимающих женский облик, доводящих мужчин до исступления, а потом…
Но не о каком «потом» ему думать не хотелось.
– Вот, - удовлетворенно сказал Елена, наконец перевернувшись на спину и распрямившись. - Подай вот это… - указала на соседний табурет. Натянула сначала белые трикотажные трусики (разве их в тринадцатом веке знали?), а потом и вязаные солдатские кальсоны с рубашкой. - Теперь я рожу отцу наследника. Старшие сестры опоздали, дуры чопорные…
Ростокину показалось, что его опять использовали. Династические хохмочки, так их мать…
Хотел было спросить: а как насчет всего остального? Любовь там, свадебное путешествие по достопримечательностям Золотого кольца, или в Европу…
«Какая, на хрен, Европа, - тут же возразил он сам себе. - Париж - поганая деревушка, где даже Нотр-Дам построят через полтораста лет. А так - деревня, до Владимира и до Твери как до Марса пешком, не говоря о Новгороде Великом!»
– Спать будешь, княжна? - спросил он, затягивая ремень на кителе.
– А что, по крышам бегать? - ответила Елена, подтягивая одеяло к груди.
Удивительно пересекались манеры и черты характера двух вроде бы разных девушек, но, похоже, одинаково неудобные в обычной семейной жизни. С первой Ленкой он расстался не по своей воле, не понимая еще, что нашел, что потерял, а с этой, похоже, не только великокняжеского стола не нужно, а и вообще…
– Так и поспи, и я тоже…
Елена махнула рукой и отвернулась лицом к стене.
Игорь чувствовал себя совершенно вымотанным. Кто б сказал раньше, что юная девственница может до такого довести. А то у него женщин раньше не было. Мадьярка Алла, страстная до потери сознания, и та оставляла достаточно сил…
Суккуб, не иначе, княжна Елена. Хорошо, что живым удалось выскочить.
Он не знал, каким образом сумел разыскать помещение, где сидели, выпивали и закусывали Александр Иванович с игуменом.
– Ого! - хором сказали оба, увидев то ли князя, то ли корреспондента газеты «Звезды зовут».
Ростокин затворил за собой дверь, надеясь, что до утра ее больше никто не откроет. Ему вспомнилась ночь в келье отца Григория, казначея Кирилло-Белозерского монастыря.
– Бесы ли тебя обуяли, сын мой? - спросил отец Флор, недрогнувшей рукой наливая стограммовую стопку. - На, ее же и монаси приемлют, и ты прими, не пьянства ради, а душевного здоровья для…
– Спасибо, отче. - Игорь махом выпил, посидел, ощущая, как растекается по телу раба божия чревоугодная влага, подцепил двузубой вилкой порядочную порцию монастырской квашеной капусты, которую грешно есть помимо водки.
– А знаешь, товарищ корреспондент, пока ты мировоззренческие вопросы решал (ведь так?), мы с отцом Флором под первый литр удивительнейшие вещи выяснили…
Игорь, сглотнув, поднял взгляд.
– Ты, помнится, отца Григория хорошо знал? Ну, того самого… - Шульгин, забыв о предыдущем, курил, уже не спрашивая разрешения и не выходя на галерею, да и игумен внимания не обращал. Не до того.
– Знал, а что? - Ростокин, еще не перейдя предела, сам к чужой фляге не тянулся, но глазами Шульгину показал, что добавить - необходимо.
– Так отец Флор тоже его очень хорошо знает…
– Это, то есть, как? - Сказать, что Ростокин был ошарашен, - ничего не сказать.
– Да как хочешь, сын мой. - Игумен разлил, почесал снизу вверх бороду, - Достойнейший монах отец Григорий. Кровушки пролил немало, так ведь в мирском качестве, Отечество защищая, что подвиг, а не грех. Зато потом тридцать лет повседневно молился, не за себя только, за всех, с кем служить пришлось…
Ростокин, сглотнув еще сто грамм крепчайшей настойки (куда там братьям-бенедиктинцам с их ликером), медленно уплывал.
– И тебе помог от наваждения избавиться, не так ли?
– Какое наваждение, отче, какой отец Григорий? У нас сегодня одна тысяча двести тридцать седьмой год от Рождества Христова, так? Или не так?
– Ни малейших сомнений, - ласково улыбнулся игумен. - Именно так и в летописях записано: «И нашли на Русь татарови силой бесчисленной лета шесть тысяч семьсот сорок пятого…» От сотворения мира. С отцом же Григорием мы неоднократно встречались года так начиная с семь тысяч пятьсот сорокового, когда он сан принял, стал на разных мероприятиях в епархии и Троице-Сергиевой лавре бывать…
– Так получается, вы тоже?…
– Что - тоже? - осведомился игумен.
Ростокин и не знал, как правильно сформулировать мелькнувшую в голове мысль. Хотел спросить, тоже ли монах участвует в непонятном спектакле, живет одновременно в тринадцатом и двадцать первом веке в одном и том же качестве, при этом все понимая и воспринимая как должное? Но подумал, что прозвучит это как минимум глупо.
На помощь пришел Шульгин.
– Все мы здесь в той или иной мере «тоже». Есть мнение, что келья отца Флора, как и Григория в том твоем случае, обладает определенной экстерриториальностью. Мы с ним, когда здесь заперлись, начали насущные проблемы обороны и высокой политики обсуждать, неожиданно почувствовали, что понимаем друг друга куда лучше, чем на открытом пространстве…
– И настоечка помогла, - хохотнул монах, - не ЛСД, а горизонты сознания расширяет…
Теперь это был абсолютно современный мужчина, с приличным не только духовным, но и светским образованием. С манерой разговора, свидетельствующей, что конец двадцатого, начало двадцать первого века ему куда ближе, чем тринадцатый.
– Ты же, помнится, говорил, что, спасаясь от тогда неведомого тебе врага, в келье отца Григория почувствовал полное спокойствие, свою неподвластность «демонам», и мысли тебе в голову очень здравые начали приходить, - продолжил Александр Иванович, демонстрируя очень хорошую память даже на мельком сказанные давным-давно слова. - Вот и здесь тот же феномен проявляется. За дверью - сам знаешь что, а внутри… - Он вопросительно посмотрел на Флора.
– С утра был канун Рождества Христова, две тысячи пятьдесят седьмого уже, - без желания произвести театральный эффект сообщил игумен.
Оставалось Игорю только обалдеть. При этом сознание его мгновенно прояснилось, будто сухой тряпкой протерли запотевшее зеркало, в котором он только что тщетно пытался рассмотреть свое отражение. И собственное княжество, и Елена удалились, как в перевернутом бинокле. Из тысяча девятьсот двадцать четвертого года ушел в астрал, в собственное время вернулся. Хорошо, с одной стороны… А как же с предыдущим вариантом?
– Видишь ли, брат, отец Флор работает в системе Георгия Михайловича Суздалева.
Новиков с Ириной в свое время сумели проникнуть в тайны криптократической власти России, вошли в тесный контакт и даже, если можно так выразиться, подружились с генералом Суздалевым, главой совершенно специфической, не имеющей аналогов в мировой истории спецслужбы. Этот бывший десантный полковник сосредоточил в своих руках власть не только над всеми спецслужбами страны, но и над всеми существующими в ней конфессиями. Не в каноническом смысле, а только в организационном. Используя их идеологические и технические возможности на благо Отечества, разумеется, только на уровне высших иерархов, которые взамен получили права и привилегии как минимум первых вице-премьеров.
Ростокин, хоть и жил в своем мире с самого рождения и, будучи первоклассным журналистом, отслеживал и анализировал многие вопросы внутренней и внешней политики, близко не подошел к величайшей тайне.
Изнутри сообразить, как устроен мир, в котором ты живешь, достаточно сложно. Особенно если нет эталона для сравнения. Советским диссидентам и просто мыслящим людям всегда можно было оглянуться на царскую Россию или на страны «свободного мира», чтобы увидеть все как достоинства, так и деформации действующего режима. А когда живешь в одной из самых успешных и демократических стран цивилизованного сообщества, как заметишь?
Новиков с Ириной, оказавшись в мире Ростокина (еще не зная, что присутствует там такой приятный персонаж), очень быстро разобрались в его сути, сообразив, что очень такая реальность близка к «химере». И, самое интересное, подставился и раскрылся им тот человек, который был обязан до последнего хранить идею «криптократии». Тот самый случай, о котором в фильме «Вариант «Омега» говорил Олег Даль в роли русского разведчика своему сопернику, талантливому и благородному немцу: «Вы хотели передать нам стратегическую дезинформацию? Не получилось. Значит, вы разгласили стратегическую информацию…» И так далее, с примитивным выбором - застрелиться или начать работать на победителя.
С Суздалевым у них наладились вполне деловые отношения, он и вывел их на Ростокина, который в то время загнанным зайцем метался по Сан-Франциско. Выручили его и даже приняли в «Братство», только о Георгии Михайловиче ничего не сказали. Да Игорю тогда это было не слишком нужно.
Сам же генерал-митрополит перешел «на связь» к Шульгину, не подозревая об этом, конечно. Агентом он себя вообразить не мог, воспринимал ситуацию с точностью до наоборот, однако непонятным, «мистическим» чувством догадывался, что живет в химерической реальности, которая может «схлопнуться» в любой момент.
Шульгину с эстетствующим криптократом тесного служебного взаимодействия наладить не довелось, хотя и были такие планы. Другие дела отвлекли. Новиков несколько раз с сожалением говорил об этом, в смысле, что нудит и гложет его недоработанный проект, как неуплаченный карточный долг. Расстались с Суздалевым, пожав руки, договорившись сотрудничать, и - по нулям. Сам исчез и Ростокина с собой забрал.
Выходит же, что ничего страшного. Все те же шуточки со временем. Где-то проходят годы, где-то - дни. Бывает - минуты.
Шульгин очень долго пытался понять смысл происходящего именно с ним. Зачем оставаться в Москве тридцать восьмого в качестве Шестакова? Зачем воевать в Испании? Зачем снова Валгалла?
А тут вдруг некоторая осмысленная схема начинает выстраиваться. Если только удастся разложить события последних лет по каким-то полочкам.
Им Андреем несколько раз, начиная с «первой Валгаллы», приходило в голову отвлечься от вала накатывающих и накрывающих с головой событий. Случались подходящие вроде бы моменты, но тут же вторгались посторонние силы. В Замке за уединенным ужином, в Крыму, в Москве и так далее. Словно бы и замотивированно все было весьма убедительно, а получалось так и так не по делу. Как «им» было надо, а не нам.
Сейчас он до последнего края не понимал, что вокруг творится. А тут - понял.
– Отец Флор на самом деле настоятель Ниловой пустыни. Твой современник и соотечественник. Я уж не знаю, ты ли его своим воображением загнал сюда, или сила места проявилась, или Георгий Михайлович после разговоров с Андреем новые качества обрел, но картиночка получилась впечатляющая. Правда, отче?
– На самом деле, брат Александр, ничего так уж слишком впечатляющего! Искушения Христа в пустыне, я думаю, ничуть не более реалистичными были. И не менее. Вообще не бери в голову. Все действиительное разумно…
– Отец Флор не только Академию богословия окончил, он в миру на факультете религиоведения в Петроградском университете обучался, - счел нужным пояснить Ростокину Шульгин. - Отчего полную свободу мышления приобрел. В мое время к звездам за месяц не летали, однако я вполне такую возможность допускал, поскольку фантастика у нас была куда лучше, чем у вас, развита. И абсолютно ничем человека «первой оттепели» удивить было невозможно. Если Сталина низвергли и в том же пятьдесят шестом году «Сокровища Громовой Луны» напечатали, какие еще невероятности нас удивить могли?
Ростокин видел, что Шульгин старательно изображает из себя настолько выпившего человека, что спрос с него никакой. Только для кого? Для него, отца Флора или иной природной субстанции?
– Вот сейчас, отче, - продолжал плести словесные кружева Александр Иванович, опять потянувшийся к настоечке, - зашел бы к нам Суздалев Георгий Михайлович, мы бы с ним и поговорили! При условии, конечно, - он резко качнулся к столу, едва не ударившись о его край грудью, - что у нас тут правда защищенная зона…
Зачем ему потребовалось изображать крайнюю степень опьянения, Игорь так и не понял, но догадывался - зачем-то надо.
Дверь одной из внутренних комнат туг же открылась, и в комнату вошел человек в черном обтягивающем сюртуке и таких же брюках, заправленных в высокие лакированные сапоги.
Ростокин несколько секунд смотрел на него, пытаясь сообразить, где он видел его. Что-то неуловимо знакомое - не больше. Слишком много за годы журналистской работы встречалось ему разных людей - дома, в космосе, на фронтах, потом и в параллельном мире. Что-то брезжит, брезжит…
Шульгин с самого начала, когда Андрей впервые рассказал ему о встрече с Суздалевым, предположил, что «генерал» тоже может относиться к «кандидатам» в Держатели или служит высокопоставленным резидентом, аггров, форзейлей - не так важно… Организованная им интрига вокруг яхты «Призрак» вряд ли была доступна обычному человеку.
– Ну вот, Георгий Михайлович, - сообщил с блуждающей улыбочкой Александр Иванович, - вы думали, что мы захватили Ростокина и его Аллу с коварными целями оставить за собой тайну бессмертия, а он - прошу, в полной сохранности. Принимайте! В качестве благодарности, если не затруднит, расскажите мне: что тут у вас творится?
Игорь смотрел на Шульгина, не столько думая о странном повороте сюжета, в котором ему приходится исполнять свыше навязанную роль, как о том, зачем уважаемому человеку, не только им уважаемому, но и людьми повыше его, изображать пьяного? Он бы и так сумел переиграть любого.
Вдруг, словно озарением, - понял.
Василий Звягинцев Скорпион в янтаре. Том 2
Я за то и люблю затеи
Грозовых военных забав,
Что людская кровь не святее
Изумрудного сока трав.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
С момента прощания Суздалева с Новиковым по здешнему времени прошло чуть больше полугода, одновременно для Андрея и его команды - полтора. Что же касается Шульгина, все его перемещения из личности в личность, вдоль и поперек реальностей, по Сети и хронопетлям учету вообще не поддаются. Он сейчас представлял собой химеру ничуть не менее странную, чем реальность, в которую его занесло.
В каком-то смысле можно сказать, что ему удалось добраться до пресловутой «точки Алеф», из которой открывается выход в любую мыслимую реальность. Как если бы он стоял сейчас на географическом полюсе Земли, Северном или Южном - неважно. У ног - веер меридианов, триста шестьдесят, если по градусу считать. А если по минутам и секундам? Иди по любому, и придешь в Москву, Магадан, Вашингтон или Рио-де-Жанейро - точки, разделенные десятками тысяч километров. А на полюсе достаточно было шага или двух, чтобы выбрать путь, ведущий на противоположную сторону планеты.
Пешком - долго, конечно, но любое направление тебе открыто, и любое совершенно равноценно, если все равно, куда идти… Крути головой и выбирай. А если не пешком? На реактивном перехватчике - полсуток до противоположного полюса, а ежели использовать СПВ - вообще практически мгновенно.
Причем, что самое важное, не нужно пересекать барьеры между реальностями (те же меридианы), которые нередко оказываются непреодолимыми.
Такая вот аналогия. Если ее немного продолжить, то можно сказать, что нарисованные на глобусе и пронумерованные линии соответствуют реальностям более-менее фиксированным (вроде Гринвичского, Пулковского или Парижского меридианов), а те, что между ними подразумеваются, столь же равноценны теоретически, но еще не воплощены или просто не нужны для неких, нам непонятных целей.
Шульгин, бестолково и не слишком задумываясь, и делал свои шажки, да еще (для усиления образа) иногда поскальзываясь на льду, которым, как известно, оба полюса покрыты, а в отсутствие компаса и невозможности ориентироваться по солнцу - не понимая, где какая сторона света.
Но вот, кажется, становится понятным, куда он пришел…
С господином Суздалевым ему встречаться лично не довелось, однако Новиков не только доложил устно, но подробнейшим образом, как положено в отчете разведчика о проделанной работе, изложил на бумаге и факты, и гипотезы, и рекомендации для начальников и коллег. Так что в дело можно было вступать «с колес».
Поздоровавшись за руку со всеми присутствующими, причем на лице игумена обозначилась степень почтения, сравнимая с той, что вызывало у соратников рукопожатие Сталина, Георгий Михайлович сел за общий стол.
– Вот и встретились, Александр Иванович, - сказал генерал с искренним радушием. - Мои сотрудники и Андрей Дмитриевич много о вас говорили в самой лестной форме. Я тогда же хотел вам предложить поучаствовать в некоторых наших делах, но не сложилось, к сожалению. Да и сам господин «Ньюмен» что-то давно о себе вестей не подавал. Уж не обиделся ли за что?
– Ни в коем случае, ваше превосходительство, просто дела не самые приятные отвлекли. Мы совсем было собирались окончательно в ваши Палестины переселиться, да вдруг сложности начались… Зато вот господин Ростокин, как только освободился, - немедленно сюда. Чтобы вы в нашей порядочности не усомнились…
Тональность Сашкиных слов была самая уважительная, однако опытный психолог Суздалев сразу уловил легкий налет иронии. Необидной, правда. Так, в своем амплуа человек.
– А чего же вы меня «превосходительством» называете, мы с вами в одних, кажется, чинах?
– Да привычка просто. Отчего человеку приятное не сделать?
– Покорнейше благодарю, но впредь давайте без чинов. Много времени отнимает…
И тут Ростокина словно осенило. Невероятная вещь, но это ведь отец Григорий, собственной персоной. Ни за что бы он его не узнал, если бы не голос, а потом и характерный взгляд. Окружающая обстановка тоже помогла; келья, запахи лампады и ладана, отблески окладов икон. Но как же так? Тому ведь было около семидесяти, а этому едва ли шестьдесят. Где седеющая бородка, волосы, собранные на затылке в косицу?… Однако сомнений больше не было. Он - и никто другой. Маскировался, значит, грим носил, старичком прикидывался? Нет, как-то не сходится, все же долго они были знакомы, лет десять… И последняя их встреча в келье, и подаренный пистолет…
Разве что так - до какого-то времени отец Григорий играл одну роль, для Игоря и подобных ему предназначенную, а потом сменил амплуа и манеры, прошел курс омоложения и так далее…
Ну ладно, раз старый знакомый не захотел его узнать прилюдно, значит, так, наверное, надо. И я не буду навязываться.
Суздалев, обменявшись с Шульгиным любезностями, перешел к делу.
Сообщил, что все здесь ныне происходящее самым прискорбным образом подтверждает сделанные ранее выводы о крайней неустойчивости структуры мироздания («о чем мы с господином Новиковым подробно говорили») и что в мире все время случаются незаметные для обывателей, но знающему человеку много говорящие события.
– Когда есть некая базовая теория, в создании которой нам весьма помог ваш товарищ и его супруга, практическая работа значительно облегчается. А теперь с вашим появлением мы надеемся, что худшего удастся избежать…
Слышать такое было лестно, однако Шульгин пока не совсем понимал, в чем будет заключаться его роль.
На ходу ремонтировать теряющий управление и летящий в пропасть автомобиль - не самая легкая задача даже для него.
– Рассказывайте, Георгий Михайлович, что опять у вас случилось. Честно говоря, нам тоже очень бы не хотелось видеть столь приятный и гармоничный мир проваливающимся в пучину хаоса. Вы ведь это имели в виду?
– Да, да, именно это. Если вы не против, я бы предложил переместиться в Москву и там поговорить предметно. Мне здесь, знаете, не слишком уютно…
Вот даже как!
Тут вмешался Ростокин:
– А с тем, что за дверью происходит, что будем делать, Георгий Михайлович?
– По мне - так ничего, Игорь Викторович, - любезно ответил генерал. - Я не очень люблю псевдоисторическую фантастику. Если там происходит нечто интересное, так, наверное, будет происходить и дальше. Или само собой прекратится, по естественным причинам. Независимо от моего участия. Я же, по должности, отвечаю лишь за то, на что могу влиять. Вы согласны, Александр Иванович?
– Полностью. А на чем мы поедем в Москву? На автомобиле? Прорваться, пожалуй, можно, мы люди военные, но все равно - когда стреляют по стеклам и колесам, это не слишком комфортно.
– В нашем достаточно цивилизованном мире есть и такая машина, как дископлан. Летит бесшумно, садится и взлетает вертикально, окружающей среде вреда не наносит. Мой персональный стоит сейчас во внутреннем дворе. Места хватит всем. Поехали?
– Чего ж не поехать, - кивнул Шульгин. - А где проходит граница между здешним цирком и нормальной жизнью, вы уже нанесли на карту? Когда сюда летели, монгольские монгольфьеры противодействия не оказывали?
– Нет, спокойно добрался. А все это безобразие локализовано исключительно между Осташковом и Селижарово… Вокруг тихо. А главная тонкость заключается…
– А Ржев? Там же главное сражение было, - перебил его Игорь.
– Это вам княжна сообщила? - улыбнулся Суздалев, как показалось Шульгину, довольный тем, что ему не позволили закончить фразу. - Воистину непререкаемый источник. Что ж, можно и ее с собой взять, порасспросить в спокойной обстановке,…
Неизвестно, что послужило пусковым сигналом, эти слова или что-то другое. Ростокин сначала впал в полное смятение. Его буквальным образом раздирали противонаправленные силы, душевные и не только. Вновь оставить Елену представлялось ему совершенно невозможным: долг князя-воеводы требовал исполнения обязанностей. Власть придуманного мира казалась непреодолимой. А предложение забрать ее с собой… Порасспросить?! Сейчас и Шульгин, и Суздалев представились ему врагами, явившимися, чтобы увлечь его и невесту… Куда? В бездны преисподней или застенки чужих спецслужб?
Сделано было - не подкопаешься. Вообразите, вы уединились в специально подготовленной квартире с девушкой, которую давно добивались, она уступила, все пошло великолепно, и вдруг - телефонный звонок, призывающий на скучную и надоевшую работу. Отказаться вообще-то можно. Ну, потеряешь квартальную премию или даже саму работу. Ну и что? Люди из-за любви вообще жизнь под откос пускали, чтоб только сегодня вышло так, как мечталось.
Здесь же вместо телефонного звонка просто вваливаются в прихожую грубые люди и заявляют впрямую - пошли и забудь. На сборы времени - пока спичка горит.
Не приходилось Игорю раньше подвергаться психологическому давлению такого уровня. С физическим он умел справляться, да и прошлый раз ему удалось сохранить адекватность, всего лишь ударив Артура, ни в чем не повинного, по зубам. На этот раз на него, как на слабое звено, нажали посильнее.
Точнее сказать, только на него и нажали. Суздалев, очевидно, находился вообще вне «зоны поражения», а Шульгин, как и задумал, мастерски прикрывался тенью соратника. Есть в бою такой не очень благородный, но эффективный прием. Если очень нужно живым дойти до намеченного рубежа под уничтожающим огнем, знающий боец начинает маневрировать на поле боя, стремительно просчитывая направления вражеских директрисе и углов поражения, так, чтобы всегда его заслоняли тела товарищей.
Бежит, залегает, снова вскакивает, постоянно имея между собой и неприятелем одного, двух, лучше несколько человек, за которыми тебя не видно и которые примут летящую в тебя пулю.
Японский «сад камней». Откуда ни посмотришь, один из четырнадцати всегда невидим. Шульгину с его привычками и манерами ниндзя такая тактика была близка.
В данный момент пули не летали, но весь вражеский интерес сосредотачивался на Ростокине. Слишком сильно и ярко он излучал.
А собственная личность Игоря сейчас почти свернулась, закуклилась, умело отодвинутая за пределы партии. Причем сделано это было еще там, в комнате Елены, и в защищенную келью игумена он принес с собой уже всаженный в него вирус покорности, сейчас отдавший приказ на агрессию.
Суздалев не успел этого осознать, а Шульгин и, что интересно, отец Флор поняли сразу. Монах заступил журналисту путь к двери, а Сашка, хоть и был ниже ростом и килограммов на тридцать легче, резким толчком в плечо развернул Ростокина почти на сто восемьдесят градусов, заломил ему руки к лопаткам.
– Генерал, полотенце!
Здесь бывший полковник не подкачал. Секунда-другая - и длинным льняным полотенцем они вдвоем стянули запястья Игоря не хуже, чем стальными наручниками.
Игумен бормотал странно звучащие слова, скорее из чина экзорцизма, чем обычные молитвы, сделал массивным, как кистень, наперсным крестом несколько пассов вокруг Ростокина, поперек окон и дверей.
– Силен враг рода человеческого! - выдохнул он, вытирая скуфьей вспотевший лоб, сел на табурет, потянул к себе не до конца опустошенную флягу. Шульгин и Суздалев не возразили.
Игорь сидел на полу, и взгляд его не выражал почти ничего. Примерно в таком состоянии оказался в свое время Шульгин, попав под ментальный удар в «коммунальной кухне» Замка, хорошо, Новиков среагировал безупречно.
– Так, отче, - проглотив сто грамм настойки, начал распоряжаться Шульгин. - Двоих монахов покрепче - сюда! Игоря Викторовича в самолет, тьфу, дископлан. Я сам буду отход прикрывать. Вы, генерал, идете впереди меня. По пути твердите все известные вам заклинания. На русском, арабском, иврите, арамейском…
– Зачем? - не выдержал Суздалев.
Разучился товарищ в своих чинах беспрекословно исполнять указания более информированных товарищей.
– Для шумового фона! - рявкнул Сашка. - Вперед!
Когда дюжие парни в рясах подхватили Ростокина, Суздалев, достав из кармана не очень солидный пистолет, двинулся следом. Шульгин коснулся руки игумена:
– Вы же, отче, коридор, ведущий в келью «княжны Елены», перекройте чем-то серьезным, не мне вас учить, и перенастройтесь на нынешнее время. Сумеете?
– Поборемся, брат, поборемся, - достаточно спокойно ответил Флор. - Вы же своим делом занимайтесь. Силен князь тьмы Вельзевул, да не преодолеть ему господней силы! - и не совсем совместимо со своим саном погрозил в пространство крепким кулаком. Волосатые пальцы были унизаны перстнями, кто его знает, может, и чудотворными.
Пассажирский отсек дископлана был достаточно комфортабелен. Не салон бизнес-класса, но и не дребезжащая коробка отечественного военного вертолета. Главное - там было тихо. Как в приличном автомобиле.
Ростокину Шульгин приказал впасть до приземления в очищающий подсознание сон, после чего обратился к текущему моменту.
Суздалев морщился, потирая собранную тридцать лет назад из мелких фрагментов ногу. Обычно она его почти не беспокоила, а тут вдруг заныли старые раны…
Был бы у Шульгина с собой гомеостат, вылечил бы коллегу за час, а так просто положил ладонь ему на колено и послал успокаивающий боль импульс.
– Спасибо, Александр Иванович, вы, похоже, хороший врач.
– Увы, в основном приходится заниматься менее гуманными делами. Даже и врачам. Вот, например, близкого друга обидел…
– Вы же не его лично, как я понимаю. А что все-таки произошло, поясните, пожалуйста. Реактивный психоз?
– Да откуда? Он парень психически абсолютно здоровый, проверено. Тут дело похитрее…
В сжатых выражениях Шульгин объяснил Суздалеву ситуацию, разумеется, в пределах, поддающихся популяризации, и не выходя за границы, которые считал на данный исторический период достаточными для своего нового партнера.
За недолгое время сотрудничества Новикова с Георгием Михайловичем Андрей довел до его сведения лишь одну истину. То, что «мир Полдня» в здешнем варианте является всего лишь отражением, в платоновском смысле, Главной исторической последовательности, на которой размещается мир «настоящий». И даже снабдил кое-какой литературой из библиотеки «Призрака». Версия для генерала-монаха оказалась сколочена достаточно крепко, в пределах его знаний и представлений непротиворечиво. Труда эта работа для Новикова в соавторстве с Ириной не составила. Если уж человек почти научился создавать жизнеспособные мыслеформы регионального, моментами даже планетарного масштаба, то умозрительная конструкция, ориентированная на одного конкретного слушателя, - семечки. Суздалев поверил в нее безоговорочно (или умело сделал вид, что поверил). Теперь предстояло слегка расширить его горизонт.
Сашке внезапно пришло в голову, что его внешне бессмысленные приключения последних дней в свете текущих событий приобретают некоторую логическую связность.
То, что решение «задержаться» в теле Шестакова было принято им самостоятельно, без влияния Антона, Сильвии или Дайяны, он считал не подлежащим сомнению. Но так ли это на самом деле?
Нет, в гипноз или иное силовое воздействие со стороны Игроков он по-прежнему не верил. Весь предыдущий опыт, тщательный, многократно дублированный анализ событий, начиная с первых странниц эпопеи, свидетельствовал, что ими используются только «непрямые действия». Фигуры противника на доске трогать не принято, и никто не вынуждает под пистолетом раскрывать карты, когда у тебя флешь-рояль.
А вот рассчитать, зная стиль и манеру игры противника, как он может поступить в тщательно подготовленной позиции, и именно там подстроить ловушку - вполне. Испокон веку так и поступают хоть шулера высокого класса, хоть гениальные полководцы.
Наживка (вернее - наживки, числом до десятка) была заброшена с большим искусством. Не на одну рыбка клюнет, так на другую. С тем же самым результатом. Неважно, чем именно наживлен крючок, распаренным горохом, живым червяком, искусственной мухой…
Трудно сказать, как бы развивались события, вздумай Шульгин наплевать на судьбу наркома с его проблемами, забыть о Лихареве и записке Сильвии, о словах «черного игрока», переданных через Дайяну…
Решил бы, как они «твердо» договорились с Новиковым, сосредоточиться на мире Ростокина и новозеландской базе, ни во что больше в иных реальностях не вмешиваясь. И все пришло бы в ту же точку, где он так или иначе оказался. Другим маршрутом, «срезая утлы», не отвлекаясь на встречающиеся по пути артефакты вроде поста зампреда Совнаркома и испанскую войну.
Да, сел нахальный малолетка с битыми зэками в очко играть!
И Ростокина заманили сюда же.
Только их двоих, никто больше из членов «Братства» здесь пока не потребовался.
Впрочем, можно ведь и иначе взглянуть. С совершенно противоположной точки зрения. Игроки тут совершенно ни при чем, наоборот, именно они сейчас в проигрыше. Нет, о проигрыше говорить не будем, просто удалось отыграть несколько темпов.
Там, в двадцать четвертом, мы забрели в позиционный тупик, как европейские армии на Западном фронте к шестнадцатому году. И вот нате вам - в Галиции Брусиловский прорыв, на турецком - взятие Эрзерума Юденичем и десант в Трапезунд!
Вот и Шульгин самостоятельно, своим удвоенным (сейчас, пожалуй, и утроенным) разумом сформировал совершенно новую гиперреальность. В каковой и развернется очередной акт трагифарса.
Он самостоятельно или с чьей-то помощью использовал недостаточно освоенную еще методику параллельного мышления. Одновременно вступил в игру с Суздалевым, пока не зная, союзником он станет или противником. Совершенно по-иному перекомпоновывал сложившуюся «на других фронтах» конфигурацию. Не до конца понимая, что именно делает - создает аннотированный комментарий к партиям сыгранного матча или выстраивает мыслеформу, гарантирующую преобразование химеры в полноценную реальность?
Шульгин сообщил генералу (все-таки монахом его называть не хотелось, не стыковались образы), что подлинная картина мира на самом деле несколько сложнее, чем дихотомия: реальность-химера. Развилка развилкой, но не одна она была в минувшие полтора века. И там, где они смогли реализоваться, образовывались и продолжают образовываться реальности поустойчивее существующей здесь.
Познакомил с концепцией мировой Сети как над- и внегалактического, всепространственного и вневременного артефакта, упрощенно сведя ее к образу пресловутого компьютера, только нематериального.
– Понимаете, Георгий Михайлович, на самом деле все достаточно просто. Компьютер, железный, как этот, - он постучал по крышке бортового устройства, - или органический, - коснулся своего лба, - в процессе функционирования производит продукт нематериальный. Мысль, если хотите. Дурацкую или гениальную - несущественно. Сеть же действует строго наоборот. Сама являясь не более чем мыслью или же идеей, создает звезды, межзвездное вещество, энергию и всякие поля, планеты, обитаемые и не очень. На обитаемых рано или поздно зарождается разум, начинающий, в свою очередь, творить как железки, так и ту же пресловутую мысль. Тут петля замыкается, змея кусает собственный хвост…
– И чем же эта переусложненная, на мой взгляд, концепция отличается от идеи Бога как такового?
– Да как вам сказать. Бога, мне кажется, можно рассматривать лишь как вторую производную. Исходя, разумеется, из той информации, которая содержится в религиозной литературе. В человеческой мифологии и фольклоре слишком много богов, подчас - взаимоисключающих. Есть также религии, обходящиеся вообще без идеи бога. Я - субъект довольно широких взглядов, готов признать, что в каких-то узлах Сети могут существовать некие образования, выглядящие и ведущие себя аналогично человеческим представлениям о том, кого вы подразумеваете. Надеюсь, мои слова не покажутся вам кощунством.
– Нет, нет, продолжайте. Широта моих взглядов, я надеюсь, достаточна, чтобы обсуждать любые темы.
– Главным моментом, который позволяет мне так говорить, является то, что Гиперсеть, чем бы она ни была, доступна для проникновения и вмешательства в ее деятельность на столь же рациональных принципах, как и в любой компьютер. По крайней мере, в пределах, охватываемых нашим воображением. Мое здесь присутствие и те феномены, что вы имели возможность наблюдать, - наилучшее тому подтверждение. Уверен, что воздействовать на «настоящего бога» смертному вряд ли удалось бы.
– Вы меня не убедили, - вздохнул Суздалев. - Давайте пойдем дальше, если желаете. Ваша «Сеть» - мысль, вы сказали. Следующий вопрос - чья? Если есть продукт, есть и его производитель. Или же источник…
За годы службы в своей должности генерал наверняка натренировался в богословских диспутах, хотя бы для того, чтобы «возвести в закон волю господствующего класса», в его случае - обеспечить душевный комфорт тем, кто вынужден был принимать все те же «предложенные обстоятельства» не под давлением силы или угрозы ее применения, а в полном согласии с проповедуемыми принципами.
– Георгий Михайлович, - расплылся в улыбке Шульгин. - Давайте согласимся, что правы вы, а не я. Тогда проблема, нисколько не решаясь, поднимается еще на одну ступеньку вверх. Хорошо, есть тот, эманацией чьей мысли является Сеть. Один из моих знакомых назвал его «Великим Спящим». Он где-то спит, а наш и окрестные миры - его сновидения, внутри которых субъекты обладают определенной свободой воли, заданной внутри тех же сновидений. Тоже очень складная теория. У вас, простите, какое образование? - неожиданно спросил он, заодно извлекая из внутреннего кармана серебряную фляжку, наполненную, прошу заметить, из посудины на КП князя Игоря в придуманном XIII веке.
– Высшее военное, потом несколько спецкурсов, тратить время на полноценные университеты возможности не было.
– Ну, тогда глотните, - протянул он обтянутый кожей сосуд. Прием, отработанный профессором Удолиным. Сюда бы его пригласить, в качестве научного резерва.
Суздалев приложился к горлышку. Старый солдат все-таки, отказываться статус не велит.
– И как? - заинтересованно, с лицом естествоиспытателя Паганеля, спросил Шульгин.
– Да ничего. Умело сделано. Чего я только не перепробовал в своей жизни, противнее бражки из маниоки ничего не знаю. А это годится. Типа дешевого ирландского виски.
– Вот и доказательство. Причем - чего угодно сразу. Если этот напиток показался вам естественным по вкусу и убойной силе, а извлечен он из реальности не второго даже, а третьего порядка, значит - либо реальность полноценная, либо мы с вами, люди иных миров, заметьте, вымышлены столь же талантливо, что друг для друга выглядим живыми и вдобавок обладающими одинаковым метаболизмом…
Суздалев задумался всерьез, А что ж, с таким софистом, как Сашка, на равных умел общаться только Новиков.
– А если… - неуверенно произнес генерал.
– Если - то мы вернулись на круги своя, и о чем-то рассуждать вполне бессмысленно. Хотите острый эксперимент? Я вообразил ваш мир, Игорь, - тот, вы воспринимаете окружающее как-то по-своему. Сейчас один из нас отключит автопилот, направит сей дископлан в отвесное пикирование. Кто-нибудь должен выжить? А кто? Ваше мнение?
Суздалев рассмеялся раскованно, будто действительно услышал неубиваемый довод.
– Нет, Александр Иванович, с вами можно иметь дело. Мне ребята говорили, что вы изумительный мужик. Лично убедился, признаю: «Движенья нет, сказал мудрец брадатый. Другой смолчал и стал пред ним ходить. Сильнее он не мог бы возразить…»
– «…Хвалили все ответ замысловатый», - завершил строфу Шульгин.
Дископлан начал заходить на посадку где-то среди заснеженного леса. Шульгин думал, что генерал пригласил его в свою московскую резиденцию на углу Трубной, но, видимо, сейчас требовалось более уединенное место.
Он разбудил Ростокина. Тот проснулся в полном порядке.
– Что-то очень нехорошее произошло, Александр Иваныч? - спросил он.
– В пределах. Очередной раз проскочили. Придержать там тебя захотели, Елена или кто другой, но, как в одном фильме говорилось: «Боцмана без хрена не съешь!» Пришлось тебя немного нейтрализовать, уж очень ты не хотел прощаться «с серебристой, самою заветною мечтой». Но ты не переживай, чего-чего, а в те декорации мы вернуться завсегда сумеем.
– А сейчас что делать будем?
– Как обычно - врубаться в обстановку. Она для тебя, кстати, родная. Связи имеешь, помимо хозяина сего убежища, и очень неслабые, как мне известно. Капиталец кой-какой, а это немаловажно. Одолжишь некоторую сумму, если что. Для чего-то же нам с тобой потребовалось здесь встретиться? Но обсудим это завтра. Хозяина я попрошу, чтобы обеспечил тебе возможность выспаться по-человечески. Горячая ванна, душ, парная - на твое усмотрение. Отдельная комната и охрана у двери.
– Александр Иваныч, о чем вы, я уже в полном порядке…
– Заткнитесь, поручик, - ласково сказал Шульгин. - Делать будешь только то, что я скажу. А о тонкостях наших взаимоотношений поговорим как-нибудь в другой раз. Это тебе Великий Магистр говорит!
Ростокин кивнул, более не вдаваясь в рассуждения, и покорно направился в отведенное помещение.
На скольких загородных дачах, базах, виллах, лесных избушках привелось побывать Сашке только за этот виток судьбы! Наверное, в компенсацию за предыдущее, когда сюжеты крутились вокруг грандиозных замков и многоквартирных домов в мегаполисах.
Здесь ему тоже понравилось. Можно было бы сказать, что дом Суздалева напоминает усадьбу утонченного японского князя, страдающего гигантоманией. Восточного облика дом, но раза в три больше, чем храм Реандзи. Вместо четырех соток (в пересчете на наши меры) - два гектара. Криптомерии, сакуры до плеча, прочие бонсаи заменяют уходящие в поднебесья деревья, высаженные «еще до исторического материализма», как выражался Остап. Роль ручейков, которые можно перешагнуть, и водопадиков высотой по колено исполняла полноводная Истра с мастерски оформленными берегами. Грудки камешков - гранитные валуны. И прочее в той же тональности и эстетике.
Само собой, вторая половина XXI века - не то что начало XX: интерьеры другие, строительные технологии, оборудование. А так - примерно то же самое. Если не слишком вникать. Вникать следовало в другое.
– Вы мне скажите, Георгий Михайлович, - настаивал Шульгин, - вы специально, исходя из соображений в Ниловой оказались или случайно, с плановой проверкой?
– Не заметили противоречия?
– Я все замечаю и оговорки допускаю обычно намеренно. Суть вы уловили?
– Сложно с вами разговаривать, Александр Иванович. Масса времени уходит на такое вот…
– А вы бы не отвлекались. Говорите по теме, а крючки на потом оставляйте.
– Оно бы и правильно, но не приучен я в тылу неподавленные очаги сопротивления бросать…
– Тогда хреновые вы вояки. Видно, что Вторую мировую не пережили. Я спросил не из чистого любопытства, поверьте. Меня поразило - каким образом лично вы, единственный человек в этом мире, знающий меня и Игоря, оказались в точке, где мы пересеклись с ним, что невозможно, исходя из теории вероятности, даже для двух в столь разных местах и временах пребывающих людей. Третий элемент, то есть вы, выводит ситуацию в область не нулевых даже, отрицательных вероятностей. И хотелось бы, минуя требования политеса, получать от вас четкие и конкретные ответы. Потом я на основах взаимности готов отвечать и вам.
Это не прихоть, это оперативная необходимость. Я не знаю, каким временем мы располагаем. Если начнется очередной хроноклизм, лично вас я, может быть, и выдерну, а остальным придет хана. Так что давайте, а чинами после сочтемся…
Суздалев, будучи личностью здравомыслящей и ответственной (а также, что с первой встречи удивило Новикова, не подверженной синдрому «административного восторга» от собственного величия), коротко и четко доложил, что с момента прощания с господином Ньюменом разбалансировка мира начала нарастать. Опять-таки незаметно для большинства населения Земли. Да и сам он, вместе со всей «криптократией» старшего и нового поколения, никоим образом не соотнес бы происходящее с явлениями, имеющими источник «извне», если бы не изучил полученные от Новика книги и не поверил в правдивость его слов.
Удивительным образом (да не таким уж и удивительным, если вспомнить предвоенную, 1912-1914 годов, обстановку в Европе) обострились ранее вполне спокойные отношения между малыми странами.
Румыния, Греция, Болгария, Венгрия, Польша, Чехословакия, Югославия в особенности, как-то слишком дружно и синхронно вспомнили о былых претензиях и конфликтах. Кто на чьей стороне воевал в трех балканских войнах и Мировой, кто кого предавал и на сторону какого врага перекидывался…
Шульгин и в реальном мире считал все эти европейские лимитрофы вполне искусственными образованиями, волюнтаристскими порождениями Версальской, а позже - Ялтинской системы. С границами, произвольно нарисованными победителями, руководствовавшимися совсем не логикой истории, а сиюминутными интересами так называемых «демократических правительств». Сами же «правительства» - несколько десятков адвокатов и лавочников, волею толпы на несколько лет избранные вершителям" судеб мира. Пуанкаре, вильсоны, гладстоны и тому подобные деятели, имен которых не помнят даже многие профессиональные историки.
Вот теперь кто-то и подсказал гражданам и лидерам стран, которые никогда прежде не имели собственной государственности и вдруг ее обрели, что с ними поступили «несправедливо». Кому Трансильвании недодали, кому Познани и Данцига, Тешинского края, Буковины, Вильно или… Не будем вникать.
Определенные трения между ними происходили всегда, но преимущественно на бытовом уровне, в зонах цивилизационных разломов и чересполосицы национально-культурных автономий. Верховные власти обычно старались эту напряженность гасить доступными средствами. А тут вдруг, во второй половине сверхблагополучного (для евроцентричных стран) века, с цепи сорвались как раз элиты и власти. Тональность публичных заявлений, дипломатических нот и взаимных претензий буквально за полгода достигла африканского уровня, И это в мире, где земные звездолеты летали на сотню парсек за срок, сравнимый с временем плавания эмигрантского пакетбота от Лондона до Сиднея, с теми же примерно затратами. Вот бы и основывали этнические колонии на Крюгере или в системе Бетельгейзе. Так Шульгин и спросил Суздалева;
– Вы, Великие державы, не могли им устроить по персональному Израилю? Скинулись бы и отселили национально озабоченных в удобные места. В случае чего - под дулами автоматов. Англичане с кремневыми ружьями сумели отправить свои «проблемные элементы» далеко-далеко, и существует теперь в мире очень приличная Австралия…
– Да о чем вы, Александр Иванович! Это у вас осталась агрессивная жилка первопроходцев, а мы -… - он грубо выругался, Лексика и в этом времени родная и понятная. - В общем, пограничные стычки, перерастающие в нормальные войны, идут сейчас уже внутри нашего тихого садика. Вот буквально на днях завязались довольно кровопролитные беспорядки на стыке венгерской, румынской и югославской границ. На очереди греко-болгаро-турецкое противостояние. А что на биржах творится! В самых верхах ООН зреет намерение отказаться от золотого стандарта. Вы представляете, к чему это ведет?
– Представляю, у нас аналогичная история случилась в 1973-м, тогда рассыпалась Бреттон-Вудская система и понеслась всемирная инфляция…
– Вы понимаете - все это ОДНОВРЕМЕННО! И нет ни малейшей политической воли у лидеров держав, как вы выразились, прекратить это безобразие. Беззубое вяканье с парламентских трибун, призывы к благоразумию и невмешательству. Хуже того, пример оказывается заразительным. Сепаратизм и ирредентизм[1] поднял голову и у нас.
Но это частности, хотя и неприятные. В случае продолжения в том же направлении Россия сможет даже определенный выигрыш получить. Армия у нас в приличном состоянии, технологический уровень тоже высок. Хроноквантовые двигатели для звездолетов умеем строить только мы. Свои границы защитим, где нужно - интервенции проведем. Дело совсем в другом. Я после знакомства с господином Новиковым посадил несколько абсолютно надежных аналитиков с подходящим образованием за интересную работу. Вручил им распечатки с полученных от Андрея Дмитриевича монографий и предложил составить параллельные таблицы главнейших исторических, политических событий, динамику экономических процессов у вас и у нас. От момента «развилки». Жаль, что у вас все - заканчивается восемьдесят вторым годом… Но тенденции и без того ясны.,. Мы провели экстраполяцию…
«Экстраполяцию вы провели, - подумал Шульгин, - неплохо бы взглянуть. Если твои ребята предсказали самоликвидацию СССР, КПСС и Соввласти - немедленно переманю их на министерские оклады…»
– Понятно. Дальше объяснять не нужно. Будет время, я вас попробую в похожий на ваш мирок сводить. Примерно посередине расположился, в начале двухтысячных. Тоже химера, разумеется, и развилка почти там же. И у них аналогичные проблемы, только мужики там погрубее собрались, потомки белых победителей в Гражданской. Во главе с Императором. Не обремененные либеральными иллюзиями. Ориентируются на Николая Первого Павловича. Этот из нашей общей истории. Так он не стеснялся «братскую интернациональную помощь» коллегам по Священному Союзу оказывать. Правда, потом его тоже «кинули» «братья по тронам», но это уже от его доброты и доверчивости. Но я вам совсем другой вопрос задал. За информацию спасибо, мы к ней непременно вернемся, но как и зачем вы оказались в Ниловой пустыни день в день со мной? Вы, кажется, начали о некоей специальной тонкости в этом деле говорить, да Игорь помешал.
Умел Сашка, белогвардейский генерал-лейтенант и координатор спецслужб обеих противоборствующих сторон, беседовать с людьми. Внушая им мимолетно мысль, что сопротивляться и спорить - себе дороже обойдется. Уж генерал Врангель, Слащев-Крымский, Яков Агранов, сам адмирал Колчак покруче деятели были, а Александра Ивановича за авторитета признавали. Суздалев правильно оценил ситуацию. На вверенной ему территории, безусловно, бояться члену тайного правительства было нечего, в особенности - одного человека, из какого бы времени тот ни появился. Но он нуждался в помощи, пусть пока и консультативной, поэтому спорить не считал нужным.
Кроме того, Георгий Михайлович был по-настоящему встревожен. На самом деле внешнеполитические вопросы его волновали не слишком, не его епархия (в буквальном смысле), они были интересны лишь в качестве симптомов общего неблагополучия. А вот события в окрестностях Селигера - совсем другое дело. Тем более нечто подобное уже происходило и в других местах, просто не так масштабно и наглядно.
– Ах, да… Дело было так. Отец Флор, тоже полковник особой службы, кстати, сообщил мне, что на вверенной ему территории происходят непонятные вещи. Деформации времени, как вы правильно выразились. Монастырь изменения почти не затронули. А вокруг… Ну, вы сами знаете. Добросовестность игумена я подвергать сомнению оснований не имел, ибо основной принцип нашей работы вы, как специалист, знаете…
– Знаю, - кивнул Шульгин, - или ты работаешь с агентом, или нет.
– Точно. Но и принимать какие-либо решения на основании устной информации сказочного жанра немыслимо. Бомбардировочную дивизию поднять по тревоге, к примеру. Я полетел туда сам. Иного выхода не было…
Шульгин снова кивнул.
– Прибыл, выслушал доклад игумена, опросил несколько очевидцев. Из числа монахов, не попавших под влияние «процесса» и сохранивших здравомыслие и адекватность, а также людей, полностью отождествляющих себя с так называемым «тринадцатым веком». Допрашивать мы умеем, это вам и Андрей Дмитриевич может подтвердить. Все, естественно, проходили процедуру как свидетели, обвиняемых и потерпевших пока не обозначилось.
Последние слова он произнес с уместной долей иронии.
– И что же мы выяснили? Процесс протекает крайне дискретно. Монастырь является одновременно центром «постановки» и очагом «стабильности», не позволяющим «наваждению», или «псевдореальности», полностью вступить в свои права. Большая часть монахов (имеющих спецподготовку), как и отец Флор, оказались абсолютно невосприимчивы, с самого начала осознавая, что имеют дело с чем-то необъяснимым, но не сверхъестественным. Остальные оказались в положении нашего друга Ростокина, «меж двух миров». Внутри монастырских помещений и храма сохраняют ту или иную степень критичности, но уже во дворах и тем более за стенами иллюзия берет верх. За пределами острова сто процентов жителей абсолютно убеждены в подлинности происходящего и ведут себя соответственно. Все это в радиусе примерно двадцати километров. Дальше наша разведка не проникала.
Все предметы снаряжения и вооружения абсолютно подлинные, то есть материальны и работоспособны, только не имеют аналогов и даже прототипов в нашем мире. Это именно «оружие вообще». Я бы сказал так - воплощенная в металле идея оружия определенной исторической эпохи. Также и все прочее - дикая мешанина подлинных фактов, обывательских представлений, «зрелищных эпизодов». Как в плохом фильме. Но, повторюсь, все вместе до ужаса реалистично.
Шульгин не мог с ним не согласиться: сам пришел точно к такому выводу.
– А до моего появления вы с «князем Игорем» не контактировали? Когда он на своем КП княжну встречал, а потом в монастырь явился оборону организовывать? Не появилась у вас идея связать происходящее с планом «Репортер»?
– Вы и об этом знаете? - поразился Суздалев, но тут же и поправился: - Ах да, конечно! Как я мог забыть. Снова Андрей Дмитриевич… Нет, встречаться я с ним не стал. По названной вами причине. Скажу даже больше - после того как Новиков разыскал Ростокина в Сан-Франциско и оба они исчезли из нашего поля зрения, названный вами план получил более высокую степень важности. Ваш друг по непонятной причине не счел нужным поставить нас в известность о своих дальнейших действиях…
– От его имени приношу извинения. Ситуация сложилась таким образом, что им пришлось отступить в наше время в экстренном порядке. Эвакуироваться, можно сказать. Вот только сейчас появилась возможность вернуться. И тоже не совсем по своей воле. Но это отдельный разговор, у нас еще будет время, надеюсь.
– Я - тем более. Как только отец Флор сообщил мне о начавшемся катаклизме и передал первую видеозапись, я по своей линии объявил боевую тревогу и приказал взять «объект» под плотное наблюдение. И ваше появление мои сотрудники немедленно зафиксировали. Мне, поверьте, сразу на душе полегчало. Хоть какая-то определенность… А помня наши разговоры с Новиковым, я подумал, что вы там у себя сочли это время подходящим для вмешательства…
План «Репортер», о котором вспомнил Шульгин, основывался на предположении, что Земля стала объектом экспансии или хотя бы пристального внимания инопланетных пришельцев. Правда, кроме самого Ростокина, лично начальника службы безопасности космофлота Маркина и еще нескольких человек их никто не наблюдал и с ними не контактировал. Возможность утечки информации и возникновения по этому случаю паники среди обывателей и политических осложнений на более высоком уровне была мастерски пресечена сразу с двух сторон. СБКФ[2] наложила гриф высшей секретности на подлинные факты, под угрозой бессрочного лишения допуска в Заземелье заставила молчать очевидцев и участников. Одновременно Игорю было позволено опубликовать свой репортаж под видом серии фантастико-приключенческих рассказов. Рекламу им хорошую создали. Теперь, если бы кто и проболтался, это выглядело бы верным симптомом шизофрении. Начитался человек и вслух пересказывает прочитанное, утверждая, что он и есть главный герой выдуманных известным журналистом событий.
Здесь в проблему «свободы печати» вмешались сразу два мощных ведомства, не пересекающиеся в своих интересах, но имеющие возможность друг с другом договариваться. Начальник Службы безопасности галактического космофлота адмирал Валентин Петрович Маркин состоял в формальном подчинении ООН, на самом же деле не подчинялся никому, поскольку никто в этом мире понятия не имел, чем именно он занимается. Такая вот интересная должность.
Георгий Михайлович Суздалев вообще не существовал как официальная фигура, но отвечал за национальную идею и психологическое здоровье нации, для поддержания которого располагал практически неограниченными, но тоже абсолютно секретными возможностями.
И, что самое смешное, оба они были завязаны личными дружескими (и не только) отношениями с Ростокиным.
– Мы, я вам скажу, узнав по своим каналам о некоторых очень интересных приключениях Игоря в дальних мирах, решили, что во всем происходящем замешаны инопланетяне. У нас с Ростокиным задолго до того, как он начал представлять специфический интерес, сложились очень теплые, бескорыстные отношения. Он, считая меня своим единственным, причем старшим и умудренным другом, рассказывал мне то, что не позволил бы сказать любимой женщине…
– А вы его пытались обратить в свою веру?
– Если в православие, то да, пробовал. Не получилось. Если в нашу службу - не стал. Чересчур самостоятелен и к субординации относится негативно,
Шульгин молча кивнул. Хороший специалист господин Суздалев, а с контингентом работать не умеет. Прямо все тебе должны немедленно на задние лапки встать и язык высунуть. А ты попробуй с тем, кто себя выше ощущает, и ты ему хоть друг-монах, хоть адмирал, а все равно никто. В определенном смысле.
О том, что лично у него вербовка Ростокина прошла беспроблемно, он говорить не стал.
– Значит, тема «пришельцев» подтверждения не нашла?
– Пока нет. Да и были ли они? Мы тридцать лет летаем между звездами, много чего нашли и увидели, а вот населенных планет и представителей того самого разума не встречали. За исключением случаев, описанных Игорем. Продолжения те контакты не получили.
– Но мне помнится, что в эпизоде на Крюгере было замешано несколько десятков человек, включая и самого адмирала…
Суздалев как-то странно дернул щекой. Почти незаметно для кого угодно, кроме Шульгина.
– Рассказик, согласен, неплохо написан. Да только ни единого человека, там упомянутого, кроме В.П. Маркина, в природе не существует. И кораблей с такими названиями нет, и нарушений графиков в те дни не было…
Сашке показалось, что собеседнику не совсем приятно говорить на эту тему. Значит, надо тем более форсировать ситуацию.
– Георгий Михайлович, если вы хотите со мной работать «на паях и полном абсолютном доверии», то не валяйте ваньку, пожалуйста. Я понимаю, что вы крайне задеты и обижены тем, что адмирал Маркин вас послал далеко и еще дальше. Адмиралы - они такие. И знаете почему?
– Адмирал, если настоящий, в отличие от сухопутного генерала выходит в море со своей эскадрой и разделяет с ней свою судьбу! Ни личный автомобиль, ни самолет его в безопасный тыл не вывезут. Побеждать - так побеждать. Тонуть - всем вместе. Вы, наверное, этой простой истины не знали и разговаривали с ним с пехотной точки зрения…
Похоже, в нужную точку Шульгин попал.
– Думаете, у вас бы лучше получилось?
– Даже не сомневаюсь. Придет время - поговорим. Куда он денется, тем более, со слов Игоря, - очень приличный мужчина… Но вы снова очень умело увели разговор в сторону. Не хочется мне зряшно конфликтовать, по пустякам притом. Давайте попросту. Коротко, четко, исключительно по теме, в рассуждении, что мы с вами действительно союзники. Если нет - шапки врозь и конец компании…
– Хорошо, - Суздалев произнес это таким тоном, что Сашка подумал: «Впредь могут и проблемы возникнуть, если, конечно, ситуация для монаха и его мира изменится в лучшую сторону».
– О появлении в окрестностях монастыря «командного пункта» походного воеводы Игоря Мещерского отец Флор доложил мне по интеркому немедленно. Равно как и о том, что рядом с его обителью начало происходить и все остальное. Прошу отметить, мои люди настолько хорошо подготовлены для настоящих и будущих событий, что игумен мгновенно включился в игру и начал вести себя «как положено».
– Это очень умно, Георгий Михайлович, вы даже не подозреваете, насколько. Может быть, отец Флор спас всех ВАС от очень крупных неприятностей. А вот если с иной точки посмотреть - возможно, наоборот, лишил нирваны…
– Пояснить можете?
– Свободно. Только опять закурю. Неудобно я себя среди вас, духовных лиц, чувствую. Все время дергаешься, как бы чего не нарушить, чьи-то чувства не оскорбить…
– Насчет этого можете не беспокоиться. А чтобы вы еще лучше представили себе абсурдность положения, скажу самое главное. Весь этот процесс своей односторонностью здорово напоминает мне кольцо Мебиуса. То есть он именно односторонний в полном смысле слова. При взгляде извне там не происходит совершенно ничего. Вы можете хоть на автомобиле, хоть пешком добраться из Москвы до самого Осташкова и не увидите никаких признаков химеры. Проверено. Зона начинается примерно в полукилометре от избы Ростокина и ровным кольцом охватывает часть берега и монастырь…
На экране компьютера Суздалев показал панораму района и обозначенную красной линией границу.
– Только пройдя ее вы попадаете в химерическую реальность. И уже тогда она начинает действовать. Не на всех, как я отмечал, но кто подвержен, обратно вернуться тем же путем уже неспособен. И сфера наваждения распространяется, как я уже докладывал, на двадцать километров минимум. Вы поняли?
– Чего ж не понять? Хотелось бы, для полноты картины, провести еще один эксперимент. Войти в зону с нашей стороны на самой дальней границе ее распространения и пообщаться с людьми, проживающими там. Народ ведь все цивилизованный, не крестьяне малограмотные. Постоянно должны туда-сюда мотаться, машинами и прочим транспортом…
– Александр Иванович, вы не поняли? - с долей сожаления спросил Суздалев. - Повторяю - отсюда все в норме. До моста и стен пустыни. Люди, архитектура, инфраструктура, психика. Оттуда в нашу сторону - «тринадцатый» век. Возможно - всю территорию России, а то и Землю целиком захватывает. Просто мы не успели настоящую экспедицию наладить.
«Ну, на всю Землю у Игоря мощи не хватит, - подумал Шульгин, - да и на Россию вряд ли, если только его к подходящему трансформатору не подключили».
– Экспедицию - это правильно! Танковую дивизию и воздушно-десантный корпус к монастырю марш-броском, а оттуда по расходящимся направлениям - до крайних пределов. До Каракорума на востоке, до Атлантики на западе. Очень приличная держава может получиться. Ваш протекторат. Великий князь уже есть, княжна тоже…
Он сам не понял, очередная хохмочка с языка сорвалась или же…
Судя по искре, мелькнувшей в глазах Суздалева, скорее второе.
Чтобы не терять инициативы и одновременно создать у собеседника впечатление, что он все ж таки обычным образом дурака валяет, продолжил:
– Священные дружины свои мобилизуйте, грамотную схему межконфессионального взаимодействия разработайте, на башни символику нанесите, отгоняющую нечистую силу любой ориентации, радиаторы святой водой залейте… У Ростокина, кстати, в этом деле тоже опыт богатый…
– Расскажете?
– Не мой вопрос. Сам расскажет, если захочет. Тема глубоко личная. Давайте о нашем. Если доведется здесь задержаться, нам следует на приличном, вами определенном уровне, в «узком круге ограниченных людей» собраться и какой-нибудь подходящий пакт заключить. Насчет «антанте кордиаль»!…[3] Думаю, есть основания.
– Основания наверняка есть. Однако разговаривать с вами удивительно трудно. Большого напряжения требует.
– Да что вы?! - искренне удивился Шульгин. - Мне кажется, должно обстоять полностью наоборот. Вы, худо-бедно, книжки из нашей общей истории читали, от Пушкина, Салтыкова-Щедрина до как минимум Горького и Алексея Толстого. Значит, лексику, а также и стиль мышления представлять должны. А я, к сожалению, ни одной у вас за сто двадцать лет написанной книги не читал! Кому труднее?
После часа с лишним рассуждений на общие темы, специально обходя конкретности, Суздалев согласился, чтобы Шульгин с Ростокиным избавили его от своего присутствия и переночевали на квартире у Игоря. Александр и здесь сумел быть деликатно-убедительным.
О том, что Суздалев вольно или невольно «засвечен», он впрямую говорить не стал, но намекнул именно на это. А вот жилище Ростокина уже почти год полностью выведено из обращения, и в ближайшие сутки внимание «посторонних сил» на него обратится в самом крайнем случае. Особенно если принять должные меры предосторожности.
ГЛАВА ВТОРАЯ
– Зайчик на резиночке, - сказал Шульгин, глядя с балкона квартиры Ростокина на панораму Сретенского бульвара вправо и влево. Вид был приятный для глаз, рождественская иллюминация до конца перспективы, непременный снегопад, придававший окружающему дополнительную прелесть. Прямо внизу, в парке, окружающем гостиницу «Славянская беседа», веселились постояльцы, швырялись снежками, лепили снежных баб, пили у костров глинтвейн и сбитень, пели песни, толпились в очереди к запряженным в сани тройкам, катающим почтеннейшую публику по Бульварному кольцу или куда господа прикажут.
Вновь его наполнило то самое чувство всеблагости и покоя, как и во время встречи прошлого Нового года в этом же мире. Здесь бы только и жить…
– Не понял, Александр Иванович, - ответил Ростокин, тоже благодушный, потягивающий толстую сигару, вышедший на десятиградусный морозец в одной крахмальной сорочке.
– Игрушка у меня была любимая в скудные послевоенные годы, - пояснил Сашка с внезапно нахлынувшей грустью. - Обтянутый фольгой зайчик из смятой оберточной бумаги, ушки красные, глазки из бусинок, на длинной резинке от самолетного амортизатора. Ты его бросаешь на весь размах, а он возвращается в руку… Вот и мы с тобой так же. Когда я здесь с Андреем, Аллой и Ириной справлял Новый год, а ты болтался черт-те где, под шампанское проскочила фраза, не помню уж, кем сказанная, что ничего мы не можем и не должны хотеть, мы просто исполняем миссию…
– Вы, Александр Иванович, на самом деле так думаете?
– Другого выбора и другого выхода у меня просто нет, - сказал Шульгин с непривычным даже для него пессимизмом. - Как у генерала Корнилова. Мы тут мечемся, воображаем, соображаем, а миссия существует, выше нас и помимо нас. Я долго терзался, много лет подряд, и прямо сегодня утром еще, а тут просветление снизошло. Погода, наверное, повлияла. У нас, как ты помнишь, гниль всякая, глобальное потепление и дожди всю зиму, а здесь - как в сказке. Или в начале тех пятидесятых. Миссия же наша - пусть и навязанная извне - спасать миры и человечества, сколько бы их ни было, хотят они этого или не хотят. Я, кстати, долго это пытался понять, а только сейчас показалось, что понял.
Ростокин правильно оценил неопределенный жест правой руки Шульгина, шагнул в комнату и вернулся с двумя бокалами шампанского-брют. На морозце - очень неплохо. Именно шампанское, предрасполагающее к дальнейшим откровениям - совсем не тем, которые способна пробудить водка. И даже коньяк, с кофе или без. Это вообще отдельная тема для исследования.
– Только сейчас понял, - повторил Шульгин. - Все мучился, мучился, зачем, думаю, нам все время подкидывают дурацкие задачки, заставляют абсолютной ерундой, если вдуматься, заниматься. Вот у меня сейчас в Испании ситуация зависла - победим или же как было все останется? Тут вы подвязались - какого, казалось бы, хрена? Счастливы и довольны сверх всякой меры. А и вас тоже спасать надо…
Ростокин, зная Шульгина более года и во всяких, как думалось, случаях, все равно не улавливал извилистого хода его мыслей.
– Идея совершенно проста, - Сашка сквозь зубы выцедил ледяной, пузырящийся напиток. - Стержень. Стержень-замедлитель графитовый. Это я, то есть. Засовывают меня в какую вздумается дыру и смотрят, стабилизировал я процесс или нет. Если не разнесло к чертям, в другую толкают… Противно, знаешь ли, себя в таком качестве ощущать.
– Вы не преувеличиваете, Александр Иванович? - осторожно спросил Игорь.
– Об этом, если нечего делать, у Троцкого спроси. А можешь прямо сейчас своего Маркина на связь вывести?
У Ростокина в квартире был установлен компьютер, какого почти ни у кого не было в этой стране. Особым способом включенный во всемирную информационную сеть благодаря другу, лауреату Нобелевской премии за открытия в вопросах нечеловеческих логик. Любого человека в любой точке земшара можно было разыскать в секунды, если он, конечно, оставлял хоть какие-то электронные следы - от пользования банкоматом до телефонного звонка. И много чего другого сделать, далеко не всегда в рамках законности.
– Попробовать можно, только о чем говорить станем?
– Не твоя забота. Соединись, а дальше я…
– Неприятностей не боитесь?
– Волков бояться… Разве что тебе навредить могу?
– Да и мне сильно не навредите. Сбежать сумеем, если совсем плохо станет?
– Должны. До ближайшей станции СПВ далековато, сам знаешь, а на «заклинаниях» выскочим, если пуля в затылок из снайперки не догонит. А ты от своего друга подобной подлянки ждешь?
– Нет, на него не похоже. Адмирал строг, но не злокознен.
– Вот и поглядим…
Здешними компьютерами, не похожими ни на земные восьмидесятых годов, ни на те, что были установлены в Замке и на «Валгалле», Шульгин научился пользоваться давно, но у Ростокина была несколько иная модель, обычным гражданам недоступная. В большинстве своем аппараты индивидуального пользования представляли собой лишь терминалы с сенсорными панелями, заменяющими привычную клавиатуру, процессоры же использовались централизованные, сетевого типа. Только очень немногие имели право и возможность на настоящие, в нашем понимании, ПК, оснащенные крюгеритовыми псевдомозгами с быстродействием за триллион операций в секунду, причем на базе всех известных логик одновременно.
Вот и Ростокин таким разжился.
Включив устройство и начав вводить в него задачу, подчиняясь указаниям Игоря, Шульгин всерьез опасался, не случится ли прямо сейчас чего-то непредвиденного. Его ведь уже три раза «без объяснения причин» отстраняли от компьютерной техники. Вот и сейчас могло произойти нечто подобное - от спонтанного переброса в очередной эпизод до элементарного зависания машины на неопределенный срок.
Но нет, пока все шло гладко. Он решил, что, может быть, его нынешнее намерение не представляет опасности для «игроков» или «ловушки». Хорошо, еще шажок по тонкому льду. Пока не потрескивает.
Связь с компьютерной сетью СБКФ установилась сразу, известный Ростокину пароль не изменился. Несколько ступенек и уровней удалось пройти без помех и затруднений. Только на пороге личного портала Маркина замигал предупреждающий транспарантик.
– Ну-ка дайте, теперь я сам, - отстранил Игорь Шульгина.
Сашка отъехал со своим креслом на полметра в сторону, старательно запоминая все действия Ростокина. Тут опять пригодился дублированный мозг, он просто записывал на свободные клетки всю последовательность движений пальцев журналиста, со стороны посмотреть - неуловимо быстрых, возникающие на экранах символы, иные детали и подробности.
Примерно так же он мог бы зафиксировать и при необходимости успешно воспроизвести действия пилота, поднимающего в воздух реактивный лайнер, не имея никакого собственного опыта.
Все уровни защиты были пройдены, и на центральном экране высветился интерьер кабинета Маркина и он сам, склонившийся над солидной пачкой каких-то распечаток.
– Аппаратура и видеосопровождение включено принудительно, - пояснил Ростокин, очевидным образом нервничающий. Это ведь, как ни крути, несанкционированное проникновение на режимный, особо охраняемый объект.
– Все беру на себя, - Шульгин снова сдвинул кресло на центральную позицию, оттеснив Игоря за пределы видимости с той стороны. - Хорошо хоть что он на месте оказался, а не в космосе болтается…
Маркин, услышав потрескивание электрических разрядов на своем громадном мониторе, вскинул голову. То, что он увидел, его бесспорно поразило. С экрана на него благожелательно, но, как показалось адмиралу, с некоторым вызовом смотрел незнакомый мужчина тридцати с лишним лет, облик которого отмечала некая «потусторонность». В том смысле, что его фенотип заметно (для наметанного глаза) отличался от российского и даже общеевропейского. (Как, примерно, на старых фотографиях легко отличить бывшего царского офицера от Красиных «выдвиженцев».)
Но не это самое главное. Маркин знал, что незнакомец не принадлежит к кругу людей, которые хотя бы теоретически могли по собственной инициативе выйти с ним на связь.
– Здравствуйте, Валентин Петрович, нижайше прошу извинения за то, что отвлек вас от дел. Но мое, поверьте, не терпит отлагательства. Позвольте представиться - Шульгин Александр Иванович. Генерал-лейтенант…
– Не знаю такого, - не стал размениваться на обмен любезностями Маркин. - В списках, как говорится, не значится…
– Вы что же, пофамильно и в лицо всех генералов знаете?
– Положение обязывает. Итак - кто вы на самом деле, каким образом включились в систему и что вам нужно? Предупреждаю, в ближайшее время ваше местонахождение будет установлено, со всеми вытекающими последствиями.
– Разве желание поговорить с особой вашего ранга является уголовно наказуемым правонарушением?
– Специфика возглавляемой мною организации не всегда совпадает с действующими национальными законодательствами. Более того - не может ими регламентироваться по той же самой причине… У нас есть свой, космический Кодекс, одобренный ООН и применяемый ситуативно…
«Время тянет, - подумал Сашка, - а сейчас его ребята, как опеченые зайцы, прозванивают сети, запускают на полную мощность свою контрольно-поисковую технику».
Вопросительно взглянул на Ростокина. Тот помотал головой - не найдут, мол. Компьютерные хитрости Скуратова и аппаратура, установленная Левашовым на «Валгалле» и в Форте Росс, уведут их в такие дебри, что за неделю не выпутаются. Будут старательно «ловить конский топот».
Шульгин в очередной раз подумал, как все запутано. Казалось бы, проще всего сейчас связаться по этому же компьютеру с Новой Зеландией, кто-то же там находится в форте или на пароходе. Воронцов - почти наверняка. Запросить помощи, и она через несколько часов прибудет, а то и сразу, если через внепространство.
Все сразу стало бы хорошо и просто. С борта «Валгаллы» и с Маркиным куда легче переговоры вести, и с Суздалевым отношения налаживать. А вот явственно ощущается, что делать этого нельзя. Примерно как в «Конце вечности»: Харлан испытывал непреодолимый ужас при мысли о возможности встретиться с самим собой. Так и Шульгин - явится он к своим, находясь в собственном, каким-то образом полученном от (или в) Сети теле. Что это за тело? Белковое или сгусток энергии? Не случится ли самой обыкновенной аннигиляции при соприкосновении не только с собственным оригиналом даже, а с любым предметом, имеющим к нему отношение?
Или они все же оказались в реальности, смещенной по отношению к «настоящей» буквально на несколько хроноквантов, где МНВ заключается в том, что из нее на несколько месяцев был извлечен Ростокин и Алла, Суздалев познакомился с Новиковым и Ириной. Вполне достаточно, чтобы мировые линии сместились. Палец дрогнул на спуске, и пуля пошла мимо мишени. Или - в другую мишень.
Трудно даже вообразить, в сколь перепутанном клубке мировых и вероятностных линий он сейчас находится то ли в виде узелка, то ли ниточки, за которую надо своевременно дернуть. Или - одного из проводков в механизме хитро устроенной мины.
«Только не политурьте».
Тут еще одна хитрость имеется, на которую Ростокин или не обратил внимания, поглощенный более значительными событиями, или, по каким-то своим соображениям, решил промолчать. Как не подал виду, что узнал в могущественном Суздалеве скромного монаха.
Игорь очутился в личине князя, пройдя через астрал, и все время, которое он провел в обществе княжны, Артура, мертвых друзей, его тело пребывало в трансе на столешниковской квартире. Около пятнадцати минут, оставаясь в поле зрения трех сильных медиумов. После чего сознание к нему вернулось, вдобавок привело с собой обретших безусловную материальность Артура с Верой.
Теперь, значит, все случилось с точностью до наоборот? В момент пересечения дископланом какой-то незримой границы между вымыслом и реальностью их эфирные (или же астральные, ментальные, а то и высшие) тела сгустились настолько (под влиянием перенесенных страданий и просветления, объяснял это явление Удолин), что взяли на себя функцию физических. Отрицать подобную возможность нельзя просто потому, что Шульгин неоднократно убеждался в правоте великого мистика.
Соответственно, можно предположить, что в иной реальности, сто тридцать лет назад, Ростокин по-прежнему расслабленно дремлет в кресле, они втроем ждут его возвращения. Оставаясь вполне материальными, но ментально включенными в Сеть, ибо обеспечивают пребывание там Игоря.
«Одновременно», только четырнадцатью годами позже, второй ментальный слепок Шульгина тоже вышел в Сеть, поскитался в ее уровнях и закоулках, пересекся (или его притянуло) с точкой пребывания Ростокина. Случайно или со специальной целью. И при контакте с безусловно материальным Суздалевым случилось и их воплощение?
Теоретически (а какая вообще может быть здесь «теория»?) допустимо. Если они спокойно жили в своем исходном облике с рождения и до дня Исхода, при том, что одновременно геройствовали в прошлом и будущем, отчего бы не добавить к биографии лишнюю сущность?
Если же никакого удвоения или умножения не произошло, а ростокинская реальность со всеми мелкими и мельчайшими подробностями, Суздалевым и Маркиным просто скопирована Ловушкой, остается выяснить - зачем?
В любом случае будем играть, до поры не выламываясь из навязанной схемы.
– Валентин Петрович, если вы думаете, что избранная вами тактика непременно приведет к победе, то вы уже ошиблись. Меня вы не нашли и в обозримое время не найдете. Ваше счастье, что я вам не противник. Я разыскал вас потому, что вы один из тех людей, которые пока еще способны удержать этот мир от срыва…
– Чего вы хотите? - мгновенно перестроился Маркин. Да и странно если бы было иначе. Один из первых на Земле пилотов-самоучек, выведший в межгалактическое пространство хроноквантовый звездолет, а проще говоря - обычную подводную лодку типа «Барс», на которой заменили реактор на странную, но перспективную конструкцию. Такой человек должен обладать набором личных качеств, у Шульгина и его друзей вызывающих искреннее уважение. Тем более - он-то действовал без подстраховки, даже такой сомнительной, как честное слово неизвестно откуда взявшегося «форзейля». Настоящий летчик-испытатель эпохи Блерио, Нестерова и Арцеулова. Парашютов еще нет, а летать и крутить фигуры высшего пилотажа тянет непреодолимо.
– С вами хочу встретиться. На нейтральной почве. Познакомиться, обменяться мнениями. Вы же личность экстерриториальная, «нынче здесь, а завтра там», и от коллег с Крюгера наверняка полезную информацию получили, которую до мирового сообщества довести не сочли нужным…
Шульгин изобразил самую очаровательную из своих улыбок, которая женщинам нравилась, а иных мужиков бросала в дрожь.
– Где и как? - быстро спросил Маркин.
Сашка попал в точку, начальник СБКФ был заинтригован - как минимум. А то и вообразил, что явились поторговаться те самые инопланетяне, друзья и начальники девушки Зари. Вопрос в одном - готов он на равноценное общение или затаил нечто профессиональное?- На ваше усмотрение, - ответил Сашка. - К вам я, естественно, не поеду. Конспиративной квартиры у меня нет. А вот… - На глазах у адмирала он начал бегло листать толстый том справочника «Желтые страницы Москвы». Как ни шагнула компьютерная техника, а все равно больше половины информационных справочников выпускалось в бумажном варианте: невозможно за полвека переломить тысячелетние традиции. Для адмирала это будет еще одним дополнительным штришком. У многих эстетов вообще считалось неприличным пользоваться электронными записными книжками и тому подобной техникой. Кроме того, вновь, по примеру девятнадцатого века, стало комильфо иметь при себе личного секретаря, вообще не затрудняясь пошлой ерундой.
– Вот, «Славянская беседа», - словно бы наугад ткнул он пальцем. - «Гостиница, три ресторана, трактир, кофейня, номера на любой вкус, отдельные терема. Цены умеренные, Сретенский бульвар, номер такой-то». Подъезжайте, ваше превосходительство, посидим. Тут дальше еще интересно написано: «Гарантируем незабываемые впечатления!» Незабываемых я вам, конечно, не гарантирую, но только в том случае, если вы приедете без лезущей на глаза охраны.
Начальник самой мощной по своим возможностям и самой независимой от всех властей и правительств службы явно испытывал некоторое сомнение. Словно бы тот же товарищ Берия или Аллен Даллес, если бы их неизвестный пригласил на рюмочку водки в московскую забегаловку или малоизвестный бар на Манхэттене. Разумеется, нынешний мир был куда свободнее и безопаснее, однако…
Сколько уже длился разговор, а специалисты Маркина только мотали головами и разводили руками. Источник контакта идентификации не поддавался. Это было странно, почти невозможно, но одновременно вызывало особый интерес. Адмирал решил ехать. Достаточно уединенно расположенный в центре Москвы отель, легко блокируемый по всему периметру не слишком большими силами космодесанта, явной угрозы не представлял.
Странно только, что он не заинтересовался географической близостью точки рандеву и квартиры Ростокина. Хотя - мог просто не знать, где обретается журналист, пусть и удостоенный крестика «За отличие» и звания корветтен-капитана по совокупности заслуг перед Космофлотом, но особого интереса для службы давно уже не представляющий.
Сашке нужно было всего лишь перейти через тротуар, заказать у сидельца[4] вполне определенный терем, в данный момент свободный, но главное, хорошо просматривающийся в бинокль с балкона Ростокина. Чтобы не возникало вопросов - до утра, стол для «вечернего чая» накрыть на двоих прямо сейчас, ужин «а ля карт» - если потребуется. В ближайшее время должен подъехать господин, который спросит. Его проводить до места. Одного. Если будут сопровождающие - попросить подождать в баре. Все будет оплачено, естественно.
Ростокина он оставил дома. При компьютере и на личной прямой связи. Возникнет необходимость - пригласим.
Игорь, глядя вниз с балкона, со странным чувством вспоминал, как точно так же он стоял здесь не слишком давно, отходя от едва не ставшего смертельным выстрела Веры. Потом заказывал в «Славянской беседе» машину для поездки на свою вологодскую дачу и отъезжал в предрассветный час, напуганный случившимися за полдня тремя необъяснимыми покушениями.
Спастись-то он тогда спасся, но сам себя загнал в то самое коловращение сущностей, о котором откровенно сожалел Александр Иванович. Жизнь, пожалуй, стала намного интересней, насыщенней, но утомительней - тоже. Впрочем, об этом можно спросить у Хэмфри Ван-Вейдена и Кристофера Белью[5]. Жили-были благополучные обыватели в приятнейшем из всех времен конце девятнадцатого века - и вдруг…
Сейчас он должен был, оставаясь дома, наблюдать за территорией в бинокль, обеспечивая при этом собственную безопасность. В случае чего - подать сигнал тревоги и действовать по обстановке.
Шульгин с интересом осматривал помещение, в котором ждал важного гостя. Что касается непосредственной функции - ничего особенного. Терем и терем, у них на Валгалле поинтереснее было. Фантазия здешних дизайнеров никак не тянула на, сто местных рублей в сутки. Разве что за место берут и за «эксклюзив», так сказать. Опять же - цена отсечения! Чтобы не стесненные в средствах гости не нервничали оттого, что не оказалось вдруг свободных мест.
Это Сашка понимал. Бывало, наскребешь необходимую десятку, приходишь с девушкой в ресторан внутри Бульварного или Садового кольца - а там стометровая очередь у входа. Если только с утра, заблаговременно, метрдотелю еще одну десятку не всучить за отдельный столик. И все равно будешь добираться к нему под испепеляющими взглядами толпы и сидеть в переполненном зале, отнюдь не получив даже по двойной цене того, на что рассчитывал.
Социализм - он такой и был.
Черт его знает, о чем ни начни размышлять, обязательно занесет в идеологические дебри. Добро бы ему нужно было перед кем-то отстаивать преимущества нынешней реальности перед родной, так ведь нет. Само собой в голову приходит, стоит оказаться хотя бы в обыкновенном гастрономическом магазине. В любой точке времени-пространства, кроме собственного. Обязательно подумаешь: «Ну что б им, дуракам, стоило сначала прилавки заполнить, а потом триллионы в мировую революцию вбухивать?!» И тут же антитезис: «Да какой же «трудящийся» согласится всякой ерундой заниматься, если и так жить неплохо? То ли дело - трехсотграммовую пайку жевать и мечтать, как отожремся, когда буржуев экспроприируем?»
Совершенно никчемные вроде бы по обстановке мысли, зато позволяющие очистить мозги для предстоящей схватки интеллектов.
Слава богу, слишком далеко в своих ассоциациях и аллюзиях Шульгин зайти не успел. Половой распахнул дверь, и в обширную горницу упругой походкой вошел адмирал, похожий на успешного, следящего за собой… адвоката, что ли? Как раз такая степень раскованности, независимости от окружающей среды, уверенности в собственной значимости и востребованности.
Совсем ничего от сурового пилота или привыкшего к всеобщей льстивой почтительности большого начальника.
Сашка поднялся, сделал три шага навстречу, протянул руку, представился, теперь уже вживую. Указал на накрытый стол. Для двоих в горнице было, пожалуй, чересчур просторно. Зато, в лучших традициях Средневековья, подчеркивало конфиденциальность встречи. Из жарко горящего камина не подслушаешь, а до зашторенных окон и дверей достаточно далеко. Современные микрофоны и прочая аппаратура достанут, конечно, и с сотни метров, но главное ведь настроение…
Тем более что специалисты Маркина наверняка приняли все известные на Земле меры предосторожности, а также и многое сверх того.
– У нас принято слегка перекусить перед началом серьезного разговора, - сказал Шульгин, - да и у вас, как я успел догадаться, тоже…
Тут он не ошибся. Стол для «вечернего чая» рассчитан был на людей, собиравшихся «для дружеской беседы, которая не продолжается далеко за полночь[6]». Поэтому на него подавалось не более двадцати разновидностей холодных закусок, сыров, фруктов и столько же сортов спиртных и прохладительных напитков, кроме самовара с заварным чайником и кофе. И ведь съедали же, и выпивали, совершенно не задумываясь, что через недолгое время такое благополучие может закончиться самым неприятным образом.
Половым в горнице во время встречи господ он появляться запретил, поэтому распоряжался и обслуживал гостя сам.
– Чего изволите, ваше превосходительство, коньячок темный или светлый, ром непосредственно с Антильских островов, а то малаги, хереса… Выбор в этом ресторане прямо великолепный. Закусочки же перед вами, на усмотрение…
Маркин поморщился. Да и правильно, слишком уж нарочито. Вот только сделает замечание или промолчит? Немаловажный штрих.
– Зачем вы дурака валяете? Передо мной. Генералом назвались, а ведете себя…
Простодушный человек. Другой бы еще помолчал, подождал, прикинул, какую схемку партнер разыгрывает, одновременно выстраивая свою партию. А этот - в лоб. Хорошо, так - значит так.
– Не только назвался, а им являюсь. Генерал-лейтенант Вооруженных сил Юга России. Ваш коллега, в некотором смысле. Начальник разведки и контрразведки, военной и гражданской Демократической республики Югороссия. Соответствующего документа на руках не имею, но подтвердить это могут лично меня знающие Игорь Викторович Ростокин и Георгий Михайлович Суздалев, если эти лица, в свою очередь, вам известны.
Хорошо получилось, в самую точку. Если Маркин и не обалдел полностью и окончательно, то около того.
– Поясните, что вы имеете в виду. Насчет «республики» и всего остального. Если бы вы не назвали последние имена, я бы просто встал и ушел сейчас…
– Не пожелав узнать, как я пробил ваш компьютер? Это было бы крайне опрометчиво. Одним словом - слушайте. А наливать и брать закуски можете сами. Не настаиваю.
Достаточно компактно Сашка изложил Маркину, который, признаться, понравился ему больше, чем Суздалев (кое-чем он напоминал Воронцова, что не слишком и удивительно), предназначенную ему версию. Не уклоняясь от главной сути, но несколько иначе трактуя привходящие обстоятельства.
Отреагировал на услышанное адмирал тоже по-своему. С хроноквантами он имел дело тогда, когда прочее человечество понятия о них не имело. И мысль о том, что достаточно слегка перенастроить контуры двигателя, чтобы случилось все то, что произошло с Ростокиным и Артуром, и даже слетать вместо Ахернара и Туманности Андромеды в эпоху самодержавной и революционной России, ему абсурдной не показалась. Гораздо больше его заинтересовал смысл обращения к нему господина Шульгина.
Так он и спросил, после того как не торопясь все обдумал. Это в пилотском кресле нужно реагировать, опережая компьютеры, а на его нынешней должности час туда, час сюда - роли не играет.
– Видите ли, Валентин Петрович, вы сейчас единственный в поле моего зрения человек, который в состоянии ответить на вопрос - в реальности ли мы с вами пребываем, в химере или вообще внутри Ловушки?
При этом Шульгин, полуотвернувшись, деликатно пускал дым длинной сигары в камин. Хорошая тяга уносила его мгновенно. Так вот неудобно для завзятого курильщика складывается - монахи не дают всласть подымить по религиозным соображениям, космолетчик с юности не выносит курение биологически. В начале космической эры курящих даже до отборочных конкурсов не допускали.
– Поясните…
Сашка пояснил. Так, как понимал это сам.
Ему требовалось, чтобы Валентин Петрович, используя действующие космические станции, стационарные базы на отдаленных звездных системах, идущие от Земли и возвращающиеся корабли, распорядился провести анализ абсолютно всей информации, как личной, так и служебной, которая проходила по подконтрольным СБКФ каналам.
– А зачем, прошу прощения? Что вы собираетесь и хотите выяснить?
– Расхождения. Если мы предполагаем, что ваш мир является химерой, причем химерой, устроенной силами, постоянно подвергающими реальность коррекции любой направленности, то охватить синхронным влиянием тысячи объектов, разнесенных на десятки и сотни парсек, они скорее всего не догадаются или просто не сумеют. Это как попытка фальсификации государственных архивов. Можно изъять или переписать десять, сто документов, но что делать с теми копиями, ссылками, ссылками на ссылки и постановлениями, принятыми «во исполнение», которые разошлись по всем нижестоящим структурам?
Надеюсь, ваши вычислительные мощности позволят уловить хотя бы грубые нестыковки? В чем угодно - в бортовых журналах, полетных заданиях, отчетах о проделанной работе, личных дневниках, историях болезней, товарных накладных, переписке с родственниками…
Подробнее объяснять Шульгину не потребовалось. На то и специалист, чтобы схватывать суть, проблемы. И тут же сообразить, кому поручить детальную проработку.
Маркин немедленно извлек из кармана переговорное устройство типа обычного интеркома, но куда более мощное и совершенное. Пресловутый «Р-6», позволявший говорить с владельцем такого же аппарата в любой точке Земли, гарантированно исключая перехват и блокировку связи.
Несколько минут что-то излагал на незнакомом Шульгину языке. Любой европейский Сашка мог угадать на слух, даже его не зная, а это был или специально придуманный, вроде эсперанто, только на другой основе, или экзотический, ирокезский, к примеру. Зато командные нотки и здесь никуда не делись.
Закончил, спрятал аппарат, извинился, как воспитанный человек.
– Мои сотрудники сейчас же приступят. Результатов, конечно, в ближайшие дни ждать не приходится, но идея сама по себе перспективная. Даже не только в сфере вашей задачи, вообще. Для себя мы в любом случае можем извлечь кое-что полезное. Благодарю. А вот теперь, если не возражаете, можем и поужинать, и поговорить в частном порядке. Наш общий друг Ростокин, кстати, далеко?
– Не очень. Если хотите - приглашу.
– Пригласите. Пока он не подошел, проясните, пожалуйста, раз уж мы решили стать союзниками, в каких отношениях вы с ним находитесь, что вообще произошло с момента нашей с ним последней встречи? Он ведь мне не безразличен, чисто эмоционально. Самые невероятные приключения я пережил именно в его обществе…
– Мне кажется, союзниками стать мы не «решили», нас к этому подталкивает непреодолимая сила обстоятельств. Касательно Игоря дела обстоят примерно следующим образом…
Шульгин обрисовал общую картину с момента встречи Ростокина с Новиковым, при этом о факте «наводки» со стороны Суздалева умолчал. Точно так же не стал фиксировать внимания на подробностях операции «Никомед». Зачем зря человека пугать нашими варварскими разборками?
Внимание он сосредоточил на всякого рода парадоксах действующих реальностей, в том числе и на встрече с космонавтами XXIII века, что очень заинтересовало Маркина.
– Двадцать третий век, говорите, и фотонная тяга? Трудно вообразить.
– Не совсем фотонная, я ведь не специалист, просто прилежный читатель научно-популярной литературы своего времени. Там скорее использовался гиперпространственный переход с использованием разгонных двигателей фотонного типа. Что нехроноквантовый - однозначно.
– Значит, на самом деле иная линия технического развития.
– Не только технического. Их мир - прямая экстраполяция нереализованных тенденций наших шестидесятых годов. Тогда космонавтика начала развиваться невероятными темпами при полной поддержке и энтузиазме народов СССР и США. Остальной мир наблюдал за усилиями лидеров не более чем с благожелательным интересом. За 12 лет две сверхдержавы прошли путь от первого спутника до высадки экспедиций на Луну…
Маркин был поражен.
– За двенадцать лет? С нуля? Невероятно. У нас на подобное ушло больше пятидесяти, пока вдруг не был изобретен хроноквант…
– Зато после лунной эпопеи - как отрезало. Словно из нас выпустили пар. Космос мгновенно стал никому, кроме специалистов, не интересен. Забыли про Луну и Марс, практически по инерции строили орбитальные станции, запускали зонды к внешним планетам, но все это - словно отрабатывали надоевший цирковой номер. Да вот вам убойный факт - имя первого ступившего на Луну, Нейла Армстронга, еще помнят, а членов второй и следующих экспедиций - почти никто. Да я и сам не помню.
– И как вы это объясняете?
– В духе темы нашего разговора. Кто-то за пределами Земли, вернее - тогдашней земной реальности, решил, что хватит детишкам баловаться. И переключил внимание человечества на простые, всем понятные и доступные темы. Индивидуальное потребление, национализм и шовинизм, борьба за всеобщее разоружение и права человека, компьютерные игры, - в словах Шульгина стали проскакивать нотки Цицерона, обличающего Катилину, - даже в фантастике космическая тема не то чтобы выродилась, а стала считаться дурным тоном. Виднейшие мэтры, каждую строчку которых ждали и с жадностью прочитывали миллионы, в течение года-двух обратились, увы, к темам мелким и депрессивным! Судьба жалкого, ничего из себя не представляющего человечка, размазни и алкоголика, угнетаемого монстром государственной власти, стала важнее, чем подвиги покорителей планетных систем и галактик…
Он перевел дух, освежился несколькими глотками сухого хереса.
– У вас, слава богу, кажется, не так. Вы летаете, пользуетесь уважением у людей и правительств. Далеко достали, на пределе возможностей?
– Нет таких пределов. На полтораста парсек ходили. Дальше начинаются сложности, связанные с принципом неопределенности. Расхождения между временными и пространственными координатами становятся чересчур неприемлемыми… Короче, средства обеспечения навигации отстают от мощности двигателей.
– Понимаю. Как во времена Колумба. Каравелл на кругосветку уже хватало, а секстана и хронометра не придумали.
– Да, в этом роде…
Вдруг Сашке показалось, что Валентин Петрович непонятным образом нервничает. Другой бы не заметил, а ему человек столь простого (упрощенного?) мира - как открытая книга. Вроде как Штирлицу с мушкетерами Дюма интригу затевать. С кардиналом Ришелье тоже, если с детства про него все знаешь.
А чего бы всемогущему, экстерриториальному адмиралу нервничать? Основные вопросы обсудили, второстепенные - успеем. Какой болевой точки невзначай коснулись?
Шульгин мельком взглянул на часы над камином. Игорю вот как раз сейчас бы и подойти.
Действительно, колыхнулись шторы, открылась дверь, вошел Ростокин, заранее сияя радостью от возможности встречи со старым старшим товарищем. Они даже слегка приобнялись помимо крепкого рукопожатия.
Минут десять говорили в обычном стиле - «а ты, а вы, а помните, а я вот потом…» и так далее.
Шульгин, до поры не вмешиваясь, докурил удивительно медленно горевшую сигару, передвинулся на свое место у стола, произнес подходящий к случаю тост. Выпили. Маркин веселее не стал.
Сашка легонько коснулся ногой щиколотки Игоря. Школу тот прошел подходящую и в Форте Росс, и особенно в Москве, сразу подобрался, кивнул едва заметно, мол, сигнал принял. Шульгин потянулся мимо него к тарелке с тонко нарезанным холодным языком.
– Да подождите, я подам…
– Ну, спасибо, - а сам в это время коленом подтолкнул колено Игоря под скатертью к нижней стороне столешницы.
– Может быть, Валентин Петрович, все-таки водочки или коньяка, что мы этим вином наливаемся?
– Хотите, пейте, конечно, я по-настоящему не научился, некогда было.
– И выпью, какие наши годы? Талант все равно не пропьешь. Давай, Игорек…
Ростокин не первый уже раз поражался, как здорово у Александра Ивановича получается. С ходу умеет изобразить алкоголика любого типа. Напивающегося долго, трудно, через фазу бессмысленных и безумных откровений впадающего в глухую отключку. Легкого, искристого, читающего стихи и запевающего песни, готового на прекрасные безумства, как старинный гусар типа Дениса Давыдова: «Предки, помню вас и я, испивающих ковшами и сидящих вкруг костра с красно-сизыми носами». Разбалтывающего государственные тайны и соблазняющего неприступных женщин. Тупого хама, после второго стакана настроенного бить морды всем и каждому и получать в ответ, если сюжет требует.
Только по-настоящему, легко и от души расслабившегося Шульгина Игорь никогда не видел. Или не сошлось ни разу, или он вообще на такое не был способен.
Какие в здешнем космофлоте адмиралы, Сашка до сего момента представления не имел. Царских, от Канина до Колчака, знал, этих - нет. Хитро подмигнув, выцедил сквозь зубы рюмочку светлого «Лерондей», бросил в рот спрыснутую лимонным соком королевскую креветку, откинулся на спинку стула, блаженно улыбаясь, обрезал очередную сигару.
– Хорошо… Хорошо вы здесь, братцы, живете. Как мне надоело в грязных окопах сидеть! Сапоги насквозь, запасных портянок нет, проклятый дождь, офицерская шинель, прошу заметить, легко впитывает в себя полтора ведра воды. Проверено. Дров тоже нет. Артиллерийский порох печку быстро нагревает, так задохнуться можно… Самогон только жиды из Сморгони привозят, не каждый день, и дерут, ох как дерут… Снаряды, вы говорите? По три штуки на орудие, и как с ними прикажете фронт держать?
– Что это с ним? - слегка даже испуганно спросил Маркин. Ему с такими делами сталкиваться, пожалуй, не приходилось. - Белая горячка?
– Нет, Валентин Петрович, наверное, опять с прошлым перемкнуло. Сморгонь, окопы, «жиды», три снаряда - это, кажется, Первая мировая. Сто сорок лет назад.
А Сашка продолжал веселиться, четко отслеживая окружающую обстановку.
Плеснул себе и Ростокину того же соломенно-желтого коньяка.
– Ладно, с войной понятно. Фронт мы тогда все же удержали. Не то что в сорок первом. А вот каким образом вы с теми пришельцами разобрались? Пятерых, кажется, в плен взяли? Это ж, если по одному и старательно допрашивать, какую уйму информации можно было получить. Вы, сейчас, наверное, и вправду самый информированный человек на Земле и в окрестностях… Может, поделитесь?
Рубикон перейти удалось. Маркин не выдержал. Не в том дело, что человек он был неустойчивый, а в том, что Шульгин нашел к нему подход не с той стороны, откуда у него была защита выстроена.
– Поделюсь. Только не здесь…
Терем, само собой, был давно и надежно блокирован, для того и Ростокина сюда пригласили, чтобы исключить его из роли наблюдателя или воеводы «засадного полка». С балкона все подходы к терему просматривались и простреливались, и боевики Маркина отсиживались по соседству, контролируя обстановку только дистанционно. Когда же Игорь пересек улицу и взошел на крыльцо, кольцо сжали до порогов и подоконников.
Адмирал решил, что для того чтобы задержать и пригласить для собеседования двух человек, шестерых опытных космодесантников будет достаточно. Да он сам седьмой, в центре событий.
Чем там подал исполнительный сигнал адмирал, неизвестно и не важно. Голосом, жестом, нажатием тайной кнопки…
Ребята вошли - молодые, крепкие, уверенные в себе, без оружия. Зачем оно в пределах ограниченного помещения? Три шага в любую сторону - и попадаешь в ласковые стальные объятия. Даже бить не станут. Разошлись по ключевым точкам, ко всем окнам, к ведущей на второй этаж двери, приняли позу «вольно», сделали безразличные лица.
Судя по всему, им даже неинтересно, что это за операция.
– Игорь, - обратился Маркин к Ростокину, - твой товарищ явно не способен больше к серьезному разговору. Сейчас поедем на нашу базу, а там с утра спокойно и планомерно все обсудим. Его проблемы, твои и наши общие.
Журналист немедленно вспомнил свое собственное настроение еще до всего, когда он только вернулся на Землю и попал в тиски между Артуром и Паниным с его компанией. Мелькнула тогда у него мысль обратиться за помощью к Маркину и его могучей организации и сразу пропала. Интуиция знатока психологии и опыт подсказали, что не тот человек Валентин Петрович. Не способен он отвлечься от формул и, как тот же отец Григорий, помочь бескорыстно, исходя из принципа, что справедливость выше права. Мозги забиты инструкциями, корпоративными интересами, и ничего человеческого, в нашем разгильдяйском русском смысле, в нем не осталось.
Что же касается намека на собственные проблемы, он сразу сообразил, что речь может пойти именно о делах, связанных с «Фактором Т» - криминальных, что ни говори.
– А-а зачем? - продолжал Шульгин. - Ни на какую базу лично я ехать не собираюсь. И здесь можно обсудить, и здесь переночевать. Наверху отличные комнаты. Куда это еще тащиться на ночь глядя? Стол полный, не хватит - немедленно принесут. Я еще и ужин заказал, рассчитывая на наши аппетиты, телесные и духовные. Фронтовики, они готовы есть сколько угодно и в любых условиях. Вас бы сейчас в те самые окопы! Вы б у меня холодную перловку руками хватали. Особенно под стакан сырца[7]. Оставайтесь, право слово, Валентин Петрович. Пацанов ваших тоже накормим-напоим. Сейчас распоряжусь…
– Нет, - встал со своего места Маркин, обращаясь только к Ростокину, - Рассиживаться мне недосуг. Оставлять вас вдвоем тоже не собираюсь. Ты условие нарушил, разгласил посторонним информацию особой степени секретности. Боюсь даже вообразить, как широко она могла разойтись и с какими последствиями. Фокусы с компьютером - отдельная статья. Поэтому мы должны немедленно отправиться на базу и уже там все выяснить. Возражать бессмысленно. Ты ведь меня знаешь? Плохого я тебе не желаю, но Pakta sunt servanda[8].
– Короче, посадите дружка по статье пятьдесят восемь, пункты семь, восемь, двенадцать, в крайнем случае - через сто двенадцатую! - по-прежнему нетрезво улыбаясь, но начиная наливаться показным гневом, вмешался Шульгин в разговор. - Это значит, Игорек, тебе можно впилить любой срок, от десяти лет до высшей меры без права переписки с того света, просто по объективному вменению: «Фактов преступной деятельности подсудимого неустановлено, но по своим настроениям и классовому происхождению мог таковым сочувствовать и способствовать, почему и попадает под действие настоящего Закона». Из выступления товарища Вышинского, Генерального прокурора Эсэсэсэр. И «встречает тебя Магадан, столица колымского края», - очень близко к тональности, с должным надрывом пропел Сашка.
– Глупости вы говорите, - с обидой, но не слишком уверенно возразил Маркин.
– Простите великодушно, если не так выразился, - с японским полупоклоном ответил Шульгин, и, пока правая рука прижималась к сердцу, левая выдернула из-под столешницы заблаговременно пристроенный там револьвер, прихваченный из тринадцатого века. Хороший, четырехлинейный, весьма устрашающего вида, в рабочем состоянии даже на этой территории. Он проверил. Патроны, что особенно стильно, снаряжены дымным порохом.
И направил его не в голову - в живот адмирала. Так страшнее.
Ростокин синхронно вскинул свой, тоже из химеры, подобие «нагана», место крепления которого вовремя указал ему Александр Иванович. Маркинские спецназовцы до таких примитивных хитростей додуматься не могли. С космическими далями привыкли дело иметь. Но ведь и маскировка Шульгина была не из этого времени. Люди, лично не пережившие настоящей Гражданской, тридцати лет Большого террора, прослоенного еще одной мировой и пятью локальными войнами, потом «холодной» и десятком очередных локальных, наивны как дети. Впрочем, дети, пусть не воевавшие, но жившие в той атмосфере, получившие заряд дворовой, литературной и кинематографической информации, были поопытней. А эти здоровенные парни душой и мыслями пребывают где-то на уровне сладостного тысяча девятьсот тринадцатого года.
По живым людям они стрелять не умели. Не зря же случайное ранение одного из участников захвата пришельцев на лайнере «Макиавелли» потребовало специального разъяснения в мировой прессе.
А вот Ростокин умел. Во время юго-восточно-азиатских заварушек научился, а потом в Москве двадцать четвертого года усовершенствовался. Не говоря о Шульгине.
– Стоим, братцы, - без малейших признаков былой нетрезвости сказал он и для окончательной убедительности снес пулей бра над головой Маркина. Грохот был впечатляющий, но стены терема толсты, удален он от административного корпуса достаточно, везде звучала музыка, так что лишний звук внимания обслуги не привлек. Зато должным образом настроил присутствующих.
– Малейшее движение - открываю огонь на поражение, - предупредил он десантников. - Адмирал - первый.
Шульгин вернул ствол на исходную директрису. В район солнечного сплетения Маркина. Игорь, повернувшись к нему спиной, покачивал своим револьвером вверх-вниз и вправо-влево. Это могла быть и зажигалка, теперь уже не важно. Пороховой дым плавал по горнице, разбитый осветительный прибор назидательно висел на проводе.
Такую механику аборигены, если не бывали.в дебрях Центральной Африки или в дельте Меконга, могли видеть только в музеях. Но когда на тебя смотрит расширяющееся по закону перспективы дуло, в гнездах барабана видны носики пуль, - и курок медленно поднимается, ожидая встречи с капсюлем гайки отдаются почти у каждого.
– Вы чего-то не поняли, Александр Иванович, - на всякий случай держа руки на отлете, сказал Маркин. - Мы же поговорить собирались…
– Я понимаю всегда, и гораздо больше, чем кажется со стороны. Говорили мы с вами достаточно интересно. В других собеседниках не нуждались. Когда ко мне во время релаксации входят люди, которых я не приглашал, я либо сам спускаю их с лестницы, либо поручаю это помощникам. Вы, господин адмирал, нарвались. Ваш прославленный космодесант - дворовая футбольная команда против ЦСКА. Или против рейнджеров Басманова. Ну-ка, быстро, всем сесть на пол у стен и руки за спину!
И ведь сели, герои пустынных горизонтов. Хоть бы один, спасая адмирала, метнулся через зал, швыряя тяжелые стулья, переворачивая стол, дотягиваясь мощными пальцами до горла. Остальные - следом! Ни времени, ни пуль не хватило, если б настоящая драка завязалась.
Массой бы задавили, тем более что в суматохе и навскидку сразу всех наповал не убьешь. «Мужчины умирают, если нужно, и потому живут в веках они». Эти не из той оперы, И не про них написано. Слабаки, одним словом. Что Шульгин и высказал со всем возможным презрением, когда увидел, что ситуация снова под контролем. У него ведь тоже нервы не титановые.
– Игорь, мы сейчас с ихним превосходительством прогуляемся. Ты знаешь куда. Эскорту позволяется выпивать и закусывать до утра. Присмотри, чтобы никто не дернулся. Примерно час. Мы успеем доехать. Потом оставь их здесь и тоже свободен… А вы, - он, не сводя револьверного ствола с Маркина, обратился к униженным до последнего предела бойцам, - не сильно горюйте. Не в свое дело влезли, не на то учились. Шефу вашему вреда причинено не будет. Утречком домой вернется, как новенький. Тут на самом деле все оплачено. Но если кто до восьми утра шаг за пределы сделает - пеняйте… Валентин Петрович, подтвердите мои жестокие слова.
– Да, - сглотнув горькую слюну, сказал Маркин, - оставайтесь здесь. В восемь тридцать - сбор на базе.
Шульгин мог бы и промолчать, но так уж его достала эта действительность и все, что ее составляло, не сдержался, еще раз унизил уже поверженного противника. Мог бы и наедине, но предпочел при подчиненных.
– Вы, ребята, Шекспира в школе проходили? - Походочкой Юла Бриннера он обошел периметр горницы, внимательно всматриваясь в лица десантников, держа револьвер стволом вверх у правого плеча.
Хорошие лица, умные, только не для такой работы. Им бы в советском кино сниматься или на космической базе планеты Крюгер песни под гитару петь, а тут ведь совсем другие забавы. «На западном фронте без перемен», как минимум.
– «Есть многое на свете, друг Горацио…», перевод не помню чей. Но циничные люди эту истину упростили до неприличности: «На каждую хитрую… есть хрен с винтом». Я на вас зла не держу, и вы постарайтесь… Война есть война, ничего личного.
Засунул револьвер за широкий брючный ремень, оставив его на боевом взводе, вернулся к до сих пор не пришедшему в меридиан Маркину. Это тебе не к звездам летать…
– Пойдемте, Валентин Петрович. По пути изображайте радостную заинтересованность в моем обществе, а до места доберемся - поговорим как белые люди. Револьвер я в состоянии извлечь наружу за полсекунды, да и голой рукой умею голову снести не хуже, чем катаной. Поэтому резких движений, даже случайных, делать не советую.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Никаких хитрых заходов, гонки на наемном автомобиле по Москве, чтобы запутать пациента, он устраивать не стал. И не поехал на Столешников, а ведь хотелось. Там бы дверь верняком открылась, хоть в реальности, хоть в Ловушке. С неизвестными последствиями, как водится, так велика ли беда? Просто сейчас это было не нужно. На крайний случай оставим, как запасной парашют.
Просто перевел адмирала через дорогу, не пользуясь лифтом, предложил подняться по черной лестнице, отпер дверь. В гостиную, где стоял компьютер, не пригласил. И кухни с него хватит, тем более что кухня была огромная, всем нужным оснащенная, окнами выходила во двор.
– Располагайтесь, Валентин Петрович, не ваша база, конечно, но поговорить сможем без помех. Да и выпить по рюмочке, наконец, а то ужасно надоело подкрашенную воду хлебать…
– Вы что, вообще не пили? - спросил Маркин, будто именно этот вопрос занимал его больше всего. Саму ситуацию, которая по любым меркам выглядела весьма неординарно, для него лично - как минимум оскорбительно, он, похоже, решил вынести за скобки. Не возмущался, не угрожал, просто принял как данность. Вроде метеоритного потока по курсу корабля.
– Удивляюсь, как вообще вас держат на такой работе, - дернул плечом Сашка, доставая из холодильника настоящую бутылку «в одну двенадцатую ведра», кисловодский «Нарзан», тарелочку тонко нарезанного балыка. - Могли бы заметить, что ни разу я вам и себе из одной посуды не наливал. Ловкость рук, проще говоря. Спасибо вашим обычаям. Если б одна поллитровка между нами стояла, труднее бы пришлось…
– И что, даже при одной что-нибудь придумали бы? - с интересом спросил адмирал.
– Делать нечего… - улыбнулся Шульгин. - Вы вон брюки застегнуть забыли, в туалет сходивши…
Маркин естественным образом опустил глаза на известное место.
– Вы что? Все в порядке…
– Зато у вас в стакане водка, а у меня снова вода, прошу убедиться…
Так оно и оказалось.
– Не понимаю. Вы вдобавок фокусник?
– Сущие пустяки. Прошу не волноваться. Просто, как апельсин. Дело в том, что грубый человеческий глаз замечает только медленные движения. Не помню точно, сколько долей угловых секунд в секунду хронологическую. А если выйти за эти пределы, вы просто ничего не в состоянии увидеть. На этом принципе основано много интересных приемов. Вот-с… - он указал адмиралу на лежащий напротив него портсигар.
Портсигар на его глазах растворился в воздухе, при этом Шульгин не вынимал рук из карманов брюк.
– Оглянитесь…
Портсигар лежал на краю раковины мойки, далеко за пределами досягаемости.
– В цирке служили? - с притворным равнодушием спросил Маркин. На самом деле он был очередной раз удивлен и поражен. Цирк что, в цирке все специально оборудовано для иллюзий и отвлечения внимания. То же, что он видел сейчас, было непостижимо и, как все, что выходит за пределы личного опыта, неприятно и утомительно.
– Вам бы такой цирк, - погасшим голосом сказал Шульгин, выплеснул из стакана воду, заменил ее настоящим напитком. Хоть на склоне бесконечно растянувшихся суток можно, наконец, без затей хлопнуть свои сто пятьдесят и помолчать, пока отпустит.
Далеко за полночь они разговаривали вполне по-свойски. Маркину некуда было спешить, по условиям. Сашка старался все ж таки найти в нем союзника, пусть и столь же химерического, как окружающий его мир. Если не придется исчезнуть отсюда своей или чужой волей, так надо по мере возможности обустраиваться здесь.
Шульгина действительно более всего интересовала коллизия с пришельцами, столь неожиданным образом проявившими себя на захолустной планетке, избрав для «первого контакта» именно Игоря Ростокина. Не совсем случайно, как выяснилось. Его ментальный фон настолько отличался от такового же у нескольких тысяч колонистов Крюгера, что пройти мимо они просто не могли. Кстати, не будучи «психическими вампирами», Новиков, а потом и Шульгин тоже сочли личностные качества журналиста подходящими, чтобы сделать его членом «Братства». Так же, как успешно он ухитрился спастись сам и спасти Аллу от некроманта Артура и мафии Панина, ему удалось обвести вокруг пальца и ВРАГов[9]. Притвориться утратившим волю и сдать их с рук на руки Маркину и его команде.
– С самого начала, как только Игорь рассказал мне о том случае, я не перестаю мучиться вопросом - отчего в известных мне реальностях при достаточно близкой картине устройства внутренней жизни так разительно отличается схема отношений с космосом? Мы у себя, как я говорил, просто насильственно от него отсечены, ребята из двадцать третьего за двести с лишним лет межзвездных полетов не обнаружили никаких признаков хоть сколько-нибудь разумной жизни, а вы - причем только вы и Игорь - за несколько лет столкнулись с нею дважды. Это наводит на не слишком оптимистические размышления.
– И какие же?
– Сначала вы мне ответьте, раз уж так сложилось, что не я ваш гость, а вы - мой. Чем закончилась разработка девушки по имени Заря и ее соотечественников? Мне это интересно по причине, которую я вам сообщу, но несколько позднее. Чисто по-дружески, в порядке взаимообмена. Тем более, не хочу вас огорчать или, упаси бог, путать, все происходящее здесь должно вас волновать не в пример сильнее. Я ведь почти наверняка сумею вовремя эвакуироваться, чего о вас не скажешь. Разве что на дежурном космоботе. И куда?
Маркин соображал быстро. Возразить ему было нечего в любом смысле. И он признался, что результат захвата пятерых якобы инопланетян оказался нулевым. Добиться от них не удалось ничего. Вначале они упорно повторяли то же самое, с чего начали контакт с Ростокиным. О необходимости наладить взаимовыгодный обмен с Землей - психическую энергию в обмен на любые технологии и материальные блага. Никакие иные варианты их не устраивали. И, как сказал Маркин, доводы их звучали убедительно. Настолько, что моментами он впадал в соблазн, почти тот же самый, которому едва не поддался Игорь. Взять все на себя, на свою совесть, и позволить им действительно выдернуть с Земли потребное им количество людей. Те самые два миллиарда, которые решили бы все проблемы. Ну, может, не Китай целиком, а население тех стран и территорий, где технический и культурный прогресс явным образом невозможен и уровень жизни в обозримом будущем останется ниже, чем в Европе шестнадцатого века.
– Очень бы здраво вы поступили, сделав именно так. Я Игорю давно говорил. Спасли бы высокоразвитую расу, а наших деградантов хотя бы регулярной пайкой обеспечили. И земная экономика расцвела бы невиданно… Тем более, не знаю, как у вас, а у нас все равно из той же Африки каждый, кто еще не впал в полную прострацию, любыми способами пытается в цивилизованный мир пробраться. На любых условиях и даже под страхом смерти…
– Я об этом думал, очень много думал, сутками напролет. Хорошее решение, легкое, красивое. Гуманное, не побоюсь этого слова. Но я же не гуманист, я пилот и контрразведчик. На мне не проблемы всеобщего благоденствия, на меня ответственность за защиту Земли от галактической опасности возложена, если называть своими словами. Вот я и решил, что не пойдет. О враге (в прямом смысле, без аббревиатур) мы ничего не знаем, и никто нам ничего сообщать не желает. Энергии, у них, видите ли, не хватает! Наскребли, так сказать, на последний полет до крайнего земного форпоста. Подайте, Христа ради! А чуть не по ним - Игоря сломать попытались, пассажирский лайнер с боем захватить… И на допросах молчат. Да если б правда с голоду помирали - других прислали бы послов. Как во все времена делалось. «Приходите и владейте нами, ибо земля наша велика и обильна, только жрать нечего!»
Шульгин обратил внимание на эмоциональный накал и образность адмиральской речи. Видать, правда мужик все проблемы через себя пропустил, не жалея нервов.
– И знаешь, Александр Иванович, - перешел Маркин на «ты», отпив наконец из своего стакана и признав собеседника минимум равным себе, - какой образ мне в голову пришел?
– Скажи, интересно. Заодно поясни, что ж ты свои мучительные раздумья на Ассамблею ООН не вынес, на Совет Безопасности хотя бы. Ты же им напрямик подчиняешься? Снял бы камень с души…
– Камень, душа - все это никчемные абстракции. Ты, говоришь, сам генерал. И как, часто у тебя возникало желание собственные решения хоть в парламенте согласовывать, хоть с личным составом вверенных тебе дивизий? Правильно, по глазам вижу, что ты меня понял. А вообразил я вот что - стоит перед нашими границами армия вторжения, по всем параметрам нас превосходящая, только вот горючее у них кончилось. И просят - подкиньте нам бензинчику, по любой цене, хоть в десять раз дороже рыночной. Край как надо. Прямо сейчас и рассчитаемся. Оккупационными марками…
– Молодец, Валентин Петрович! - от всей души воскликнул Сашка. Тут Маркин попал в точку. Правда, только со своей, к этому месту и времени привязанной позиции.
– Но все же, чем там с девушкой и прочими дело завершилось?
– Плохо, - Маркин махнул рукой. - Тут мы недосмотрели. Игоря бы надо было к делу привлечь, а я его, наоборот, подальше сплавил, чтобы главную часть «тайны» сохранить. Не учли мы, что на самом деле им энергии психической не хватало, самое главное из слов Ростокина мимо ушей пропустили, за лирику сочли. Сообразить бы и в деревянной клетке под трибунами стадиона держать, а мы их - на отдаленную базу, в надежно защищенные боксы…
– Померли, то есть?
– Так точно. Истаяли, точнее говоря…
– Ох, - вздохнул Шульгин. - Воистину прав был Гейне, «дураков на свете больше, чем людей». И концов никаких не осталось?
– А какие концы? Они же не на звездолете прилетели… Была у нас одна зацепка, что все они были в одежде с эмблемами Антаресской комплексной экспедиции. Там станция большая, пять с лишним сотен человек. Всех допросили, всем голографии предъявляли. Кое-кто припомнил, что вроде видели таких, но не больше. Ни обитаемых планет, ни космозондов, ни каких-либо признаков постороннего воздействия выявить не удалось на весь радиус наших возможностей…
– Да и странно бы было, - сказал Шульгин. - Или они в другой плоскости мироздания пребывают, или…
– Та же самая Ловушка. Подкинули вам «вводную», посмотреть, как среагируете.
– Откуда мне знать, если гипотеза исследования неизвестна. Может, выдержали экзамен, а может - совсем наоборот. Я ведь тоже не совсем своей волей к вам сюда прибыл, пока не понимаю, что мы с вами дальше делать будем. Пока только предполагаю, что стоит вам с Суздалевым поверх ведомственных барьеров личный контакт наладить, на случай всяких неожиданностей. А какими они окажутся - даже догадываться не могу.
На самом деле Шульгин, конечно, догадывался. Его нынешнее здесь пребывание, сколько бы оно ни продлилось, следует рассматривать в общем контексте игры с Ловушкой. Созданием бессмысленным, точнее - безмысленным. Если бы она обладала тем, что мы считаем разумом, в сочетании с прочими отпущенными ей способностями, давно бы стала самостоятельным игроком. И сделала бы все прочие игры невозможными. Ей вменено в обязанность отслеживать и перехватывать мыслеформы, выходящие за некий допустимый эталонный уровень, этим она и занимается. Для пущей же надежности ей придано свойство не просто блокировать неугодную мыслеформу (это было бы слишком просто, да и бесполезно, имея в виду возможность следующих, более удачных попыток), а нейтрализовать «диверсанта». Убивать в прямом смысле ей прав и возможностей не дано. По каким-то высшим соображениям. Это только в царстве майя или ацтеков игра в мяч, похожая на комбинацию футбола и гандбола, завершалась ритуальным жертвоприношением проигравшей команды.
Создатели Сети проявили куда больший гуманизм, ограничившись тем, что несоразмеривший свои амбиции и возможности игрок окутывался коконом наиболее отвечающей его глубинным вкусам и желаниям псевдореальности. В которой и исчезал навсегда для внешнего мира, обретая взамен нечто вроде магометанского рая с последующим растворением в нирване. И обогащая тем самым Сеть очередной порцией информации и психической энергии.
Анклав «тринадцатого века» - явное произведение Ловушки. По-своему талантливое. И расставленное не только на Шульгина с Ростокиным (хотя на них в первую очередь). В идеале в нее может провалиться вся химера 2056 года целиком. Поскольку возникла она тоже «неправомерно», волевым посылом неустановленной пока личности. Однажды то ли в шутку, то ли всерьез предположил Новиков - не одним ли из них, просочившимся или провалившимся еще ниже, к рубежу XIX и XX веков и оказавшим позитивное воздействие на терзаемого комплексами Николая Второго.
Слава богу, нашлось в этом мире достаточно здравомыслящих людей, не поддавшихся иллюзии, ничего при этом о сущности ловушек не зная. Просто каждый, начиная с игумена Флора и генерала Суздалева, имел собственный богатый внутренний мир, сильную волю, без которой на их постах делать нечего, и мотивацию поступков, давным-давно приобретшую самодостаточность. Лишние сущности им были просто ни к чему.
– Могу я с вами, Валентин Петрович, поделиться только собственным опытом. Обкатанным в самых неожиданных и невероятных ситуациях. Любой достаточно высокоразвитый и структурированный мир непременно катится к упадку. Лучше всего это видно на примере великих империй за последние пять тысяч лет. Не будем привлекать теории заговоров, сионских мудрецов ли, инопланетян, Сатаны с Вельзевулом…, Достаточно обратиться к идее обыкновенной энтропии. Чем система сложнее, тем сильнее стремится вернуться в простейшее состояние. И противостоять этому на ограниченном, подчеркиваю, отрезке времени, совместимом хотя бы со сроком жизни трех-четырех поколений, судьбы которых нам небезразличны, можно только созданием «антикризисных штабов». Как сказал бы мой друг Воронцов, мореман и флотоводец, «дивизионов живучести». На вооружении которых системы пожаротушения, откачки воды, чопы и цемент для заделки мелких пробоин, пластыри для закрытия крупных, а главное - постоянная готовность, непрерывные тренировки и хорошо проработанные планы действия во всех мыслимых и тем более немыслимых ситуациях.
Думаю, коллега, я сказал достаточно. Dixi et animam levavi[10]! Перевод требуется?
– Спасибо, обойдусь. Если без лишней дипломатии, ты предлагаешь мне объединить усилия, а также и службы с Суздалевым, учредить настоящую, пусть до поры и скрытую диктатуру на случай войны с неведомым? Помимо всех демократических процедур и права граждан на владение информацией в полном объеме?
– Совсем недавно ты подтвердил, что боевые приказы с личным составом согласовывать неразумно, а то и преступно…
Крыть Маркину было нечем.
Поэтому перешли к вопросам практическим. Шульгин не верил, что ему позволено будет здесь задержаться, хоть и казался мир вокруг в гораздо большей степени подлинным, чем все предыдущие. Потому старался передать адмиралу как можно больше практической информации и собственного опыта.
А тут и Ростокин вернулся, задержавшись несколько дольше, чем ему Шульгин посоветовал. Оказалось, он, в свою очередь, проводил нескучные душеспасительные беседы с космодесантниками, стараясь избавить их от неприятного осадка от первого знакомства с будущим союзником. Здесь он оказался в своей тарелке и проявил недюжинное остроумие, вспоминая о совместных с Маркиным космических путешествиях, земных приключениях журналиста, и, оставаясь в рамках допустимого, намекнул на еще большие перспективы, которые ждут каждого. Ибо наступает время ужасных чудес.
– Одним словом, Валентин Петрович, ваши ребята мною обласканы и успокоены. Пользуясь тем, что благодаря капитанскому чину, которым вы меня облагодетельствовали, я оказался там старшим по званию, в ваше отсутствие разрешил им доесть и допить все, что оставалось на столе, и отпустил по домам раньше указанного времени. На базу все прибудут вовремя, можете не сомневаться…
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Оставался самый сложный и даже мучительный вопрос. Что делать дальше? Здесь и сейчас, не дожидаясь рассвета, который непременно заставит решать назревшие проблемы в режиме «нон-стоп», как это утру и свойственно по сравнению с вечером. Над этим и раздумывал Шульгин, выйдя на балкон, когда Игорь, успокоившись и отбросив лишние сейчас эмоции, спал сном праведника в своей постели. Впервые с того неприятного момента, когда был разбужен выстрелом Веры из плазменного разрядника. С тех пор обходился гостиничными номерами, каютой на яхте и прочими временными приютами, что предоставляли скитальцу добрые люди.
Уходящая ночь почти убедила его, что именно здесь он из тенет Ловушки вырвался и оказался в обыкновенном, пусть и не в своем мире. Но своем для Ростокина, который, вырвавшись из сферы притяжения собственного воображения, полностью пришел в себя и пока не обнаружил ни единого отклонения от «жизненной правды». Все знакомые ему люди были теми же, все вещи в квартире располагались на своих местах, в том состоянии, как он их оставил, убегая. Файлы в компьютере не стерлись и не изменили содержания. Чего еще нужно?
Живи и радуйся.
Но главные-то вопросы все равно оставались. У Шульгина. Игорь после селигерских приключений возвратился в свое тело в Москву, где ждали отправившие его в астрал коллеги. А сейчас ждут? Тогда Ростокин появился через пятнадцать минут, приведя с собой Артура и Веру. Сейчас если и проявится, то без них. Так? Или опять прошло очередное удвоение сущностей? Эфирное тело само собой сгустилось здесь до физического, чтобы он смог существовать в человеческом мире в виде очередной копии?
Что будет, если мы с ним сейчас закажем билет на самолет или экраноплан до Веллингтона? Примет нас Воронцов на борту «Валгаллы» с распростертыми объятиями или место занято? Допустимо, что не существует там вообще никакой нашей базы. Одни голые скалы и плеск волн о берега фьорда. Это - вероятнее всего. Если данный сектор реальности уже занят аналогом, в него просто не войдешь. Единственная логически непротиворечивая защита от парадоксов. А то можно доиграться до того, что двойники будут бродить по реальностям стадами, ротами и батальонами. В предельном случае всю Землю можно исключительно симулякрами заселить.
Кто же это допустит?
Значит, нужно Игорю быстренько возвращаться обратно на Столешников, забыв все случившееся, в надежде, что где-то в пути через астрал к нему присоединятся Артур с Верой и связность времен будет восстановлена. А Шульгин ему поможет сформулировать нужную «мантру». Такую, чтоб привела куда следует. С сохранением памяти о лишних, отсутствующих в предыдущем сценарии днях и событиях или без - это уж как получится. Лучше бы, конечно, без. Единственная имеющаяся у них в распоряжении устойчивая реальность не нуждается в очередном потрясении. Более того, если не получится вернуть Ростокина домой в исходном состоянии, исчезнет он сам, Шульгин-Шестаков, как объект и субъект мировой истории. Поскольку одним только повествованием о том, как мы с ним здесь геройствовали, пусть только мне самому тамошнему, наедине, как в прошлый раз, рассказывал, он кардинально изменит все мое последующее поведение…
А Москва внизу и вокруг, насколько охватывал глаз с высоты седьмого этажа, да не нынешнего, а «дореволюционного», по пять метров каждый - была прекрасна. В мире Ростокина вся ее площадь внутри Садового кольца была закрыта для движения наземного транспорта, за исключением извозчиков и такси, на месте массы старых построек, не представляющих исторической ценности, разбиты парки и скверы. Невзирая на поздний (он же ранний} час, людей на улицах и бульварах было достаточно. Здесь, как в «царское» время, увеселения, балы, спектакли и концерты начинались после десяти вечера и длились часов до шести-семи утра. После чего публика свободных профессий отходила ко сну, а на трудовую вахту заступали люди иных родов занятий. Что, кстати, определенным образом тоже способствовало нивелировке социальных противоречий.
Вновь сыпался мелкий снежок, мороз, хоть и слабый, после проведенных на балконе двадцати с лишним минут вогнал Шульгина в озноб. Пришлось вернуться в теплую комнату.
Терять было нечего, да и не жалко, так ему сейчас казалось. Манил к себе компьютер Ростокина, с которым он научился обращаться. А последний раз, очутившись в Замке с Удолиным и пообщавшись с машиной, стоявшей в кабинете Антона, он, кроме эзотерических знаний, сумел запомнить и некоторые коды, открывавшие доступ в специальные секторы нужного ему Узла. Он еще на «Призраке» намеревался воспользоваться компьютером яхты, тоже нечеловеческим. Тогда ему не дали.
А сейчас? Если он будет изо всех сил воображать, что хочет просто найти кое-какие материалы во Всеобщем информатории? Совсем простенькие, безобидные, вроде списка самых фешенебельных московских борделей. Интересная, кстати, тема. Как тут у них с этим делом обстоит? Сашка ни разу в жизни не посещал подобных заведений, но надо же на склоне лет расширять кругозор!
Посмотрим, посмотрим, вдруг там и изображения девушек имеются, расценки, список услуг и все такое прочее…
Надежно заблокировав свои истинные намерения тщательно сформулированными игривыми мыслями (даже сам поверил), он, налив себе бокал вина (немаловажная деталь, свидетельствующая о серьезности настроя), включил компьютер.
Пробежал пальцами по сенсорам, разыскивая нужные разделы справочника, и сразу, не давая опомниться никому, в том числе и себе, со всей доступной скоростью ввел в аппарат отпечатавшийся в памяти двадцатизначный код. Машина вроде бы задумалась, прогоняя команду по всем своим обеспечивающим схемам, будто пытаясь понять, как следует поступить. Но блокировки ни в ней самой, ни там, куда стремился попасть Шульгин, против данного набора символов не предусматривалось.
Экран монитора, как показалось Сашке, распахнулся парусом и тут же преобразовался в сферу, а сам он повис в ее центре.
Вот теперь, наконец, он опять увидел Узел в том именно виде, как в первый раз. Во всей его невообразимой, галактической сложности. В то же время конструкция была ему понятна, как опытному астроному карта звездного неба, телевизионному мастеру - схема «Рубина» или «Темпа». Он знал, что нужно сделать, чтобы вывести ее из строя. Вообще. Закоротить ее на саму себя и на необозримый срок оставить порядочный кусок Вселенной без всякого контроля. Как в начале времен. Одновременно догадывался, что не только устранит этим «постороннее влияние», но и пустит систему вразнос.
Нигде, наверное, в населенных разумными любой степени гуманоидности мирах не создавалось положения, когда функционировали одновременно пять, а то и более открытых, сопряженных целым веером суперструн реальностей. Это ведь миллионы ежесекундно возникающих парадоксов, напрягающих Ткань и Сеть до последних пределов их устойчивости. Мало того, парадоксы и степень их парирования Системой оказались как бы в режиме «ручного управления».
Будто в фантастических романах «золотой поры», где пилоты космических кораблей рассчитывали маневры на арифмометрах по тут же придумываемым алгоритмам.
Что там Земля и ее история, вообще весь конгломерат бывших и будущих цивилизаций с их муравьиной возней! Тут посыплются, как карточные домики, мировые константы, начнут взрываться сверхновые, разбегаться и сталкиваться галактики!
Несоизмеримо с силами и волей одного человечка? А несколько действий, произведенных руками одного или даже нескольких операторов, через несколько минут приведших к Чернобыльской катастрофе? А палец безвестного штурмана «Энолы Гей» на кнопке, открывшей бомболюк и отпустившей «Толстяка» на встречу с Хиросимой?
Ничем подобным, естественно, Сашка заниматься не собирался. Ему требовалось найти совсем маленький, под микроскопом едва разглядишь, участок схемы, где без всякого паяльника и плоскогубцев, чисто мысленным усилием требовалось перемкнуть десяток «нейронов и аксонов», имеющих отношение к нужному участку именно этой реальности. Не затрагивая никаких базовых функций «материнской платы», только чуть-чуть подправить степень связности интересующих его явлений.
Он сделал все, что собирался, осталось, как говорится, собирать инструменты и отправляться восвояси с чувством исполненного долга. И вот тут его пробило! Не электрическим разрядом, не молнией, которой боги привыкли поражать зарвавшихся грешников. Озарением, информационным сгустком. Будто во время детских забав снежком в лоб залепили.
Наверняка это был очередной артефакт, побочный продукт взаимодействия тонкой структуры его личности с индукционным полем сети. Обогативший его окончательным знанием. В какой-то мере разочаровывающим, но в гораздо большей мере оптимистическим.
Кто-то подсказал или он сам, ковырнувшись не там, вскрыл случайно подвернувшуюся крышку на блоке микросхем, но внезапно Шульгин увидел Главную Ловушку изнутри. Как двигатель «ГАЗ-51» в разрезе на стенде автошколы.
Сразу стало понятно, что там и зачем крутится, куда можно воткнуть гвоздь или подсыпать песочку, чтобы перестало. На время или навсегда.
Ловушка, естественно, образование в миллионы раз сложнее, чем мотор старого грузовика. Но не сложнее ретикулярной формации мозга. Но вывести из строя ее даже проще.
Вот оно, значит, как. Ясно выраженное желание, целенаправленный импульс. Типа «Сезам, откройся!». Или - «Закройся!». И все, Расплата тоже была ясна. Держателями, полноценными Игроками ни ему, ни Андрею, вообще никому из землян не стать никогда. Пожелай, и эта перспектива будет обрезана. Но ведь зато и вся тема раз и навсегда снимается с повестки дня. «Кабель» мировых линий земной истории, состоящий из тысяч реализованных, латентных, гипотетических и вообще абстрактных реальностей, протянувшихся из ниоткуда в никуда, заэкранируется намертво. Оплеткой, непроницаемой ни для каких внешних сил, превратившейся в одну из всеобщих сущностей.
Ящики с фигурами заперты на ключ, турнир окончен навсегда. Игроки могут разъезжаться по домам и переквалифицироваться в рыболовов-спортсменов.
Коренные же обитатели изолята остаются, что называется, при своих. В той позиции и при тех спортивных разрядах, которыми обладали всего несколько секунд (а может быть - десятки веков) назад.
Игроки обещали оставить землян в покое, но своего обещания не сдержали. По какой причине - неважно. И вот нашелся НЕКТО, удаливший их из зала за неспортивное поведение.
Сашка, будь он сейчас человеком, скорее всего взял бы тайм-аут. Подумать, к чему приведет один вариант, другой. Вдруг и третий обрисуется. Оставить шанс когда-нибудь стать Богом, отказаться ли? Подискутировать внутри себя по методике Сократа. Но человеком он сейчас не был. Всего лишь - нематериальной эманацией неизвестно чего, тахионов, хроноквантов, тех элементов, из которых состоит мысль Будды, и сам Будда, достигший нирваны.
Вот к какой проблеме выбора привело его столь мелкое, незначительное, прямо скажем - ничтожное вмешательство в структуру Сети. Положить ту самую соломинку, что переломит спину буйволу?
И - проблеск другого сознания. «Андрей, как ты думаешь, мы еще люди?» - задал он другу вопрос в иной, но тоже критической ситуации. Когда тоже или - или.
«Думаю, да, - ответил Новиков. - До тех пор, как…»
Получается, Шульгин и на тех уровнях сделал выбор.
Сфера вокруг него стянулась в точку и растаяла. Экран монитора мерцал, по нему горизонтально скользила крупная рябь и мигала в углу трафаретка с тревожной надписью. Пока эта штука не взорвалась, упаси бог, Шульгин нажал кнопку выхода.
Никакого голоса он в этот раз не слышал, никто не пытался ему помешать или вступить в диалог. «Следствие закончено, забудьте!», был такой фильм, кажется.
Все, получается? Отныне и навеки человечество, исходное, и производные от него предоставлены самим себе? Живите как хотите, плодитесь, размножайтесь, воюйте - никто вас не потревожит и уму-разуму учить не станет. Но при этом у «братьев» остаются те же умения и возможности, которые были им присущи изначально и которые они сумели приобрести в процессе Игры? Так это же великолепно! Более чем прекрасно. По-прежнему можно шляться между мирами, реализовывая собственные представления о правде и справедливости, более не опасаясь, что кто-то возьмет тебя за шиворот и встряхнет, чтобы не зарывался?
Бога нет и все позволено? Гуляй, рванина, от рубля и выше? Или наоборот - надеяться не на кого, паши, как колонисты острова Линкольн, и никакой капитан Немо не вылезет однажды ночью из колодца, чтобы поделиться коробочкой лекарства, не подбросит сундук с ширпотребом. Никто больше не будет подсовывать дары, обычные и данайские. Исчезнет опасность провалиться в Ловушку, слишком поздно узнав, что правила игры снова поменялись.
Придется привыкать и приспосабливаться. Кое-что вернуть в исходное состояние, кое-какие позиции пересмотреть в корне. Но ведь прочие опасности, сопровождающие человечество со времен изгнания из рая, никуда не денутся? Химера, например, все равно может в любой момент рухнуть от внутренних, имманентных[11] противоречий.
Шульгин увидел, что бокал хереса так и стоит на столе рядом с пультом. Свою маскирующую роль он сыграл, теперь сгодится по прямому назначению.
Опять Сашка вышел на балкон, оперся на перила, обвел глазами панораму, словно пытаясь сообразить, изменилось ли что-нибудь в окружающем пространстве-времени?
Сколько он там провел, внутри Узла? Ого, почти два часа. Ночное коловращение жизни внизу прекратилось, утреннее пока не началось. Тишина, только снежинки, как раньше, порхают в свете уличных фонарей.
Он прислушался к себе. Как там подсознание, не скажет ли вдруг, что все случившееся - очередная туфта, старательно заправленная? Деза, проще сказать. Уловка ловушки, назначенная его разоружить.
Нет, все чисто. Тем самым особым знанием, которое и позволяло странствовать в астрале и перемещаться между линиями, он ощущал, что мир вокруг действительно чист. Как в Средневековье невозможно уловить обонянием хоть одну-единственную молекулу автомобильного выхлопа, так и здесь не ощущалось больше ментального эха чуждых разумов.
Невольно он рассмеялся вслух. Как же повезло Антону! Он пока и сам не догадывается, как именно повезло. В последнюю секунду перепрыгнул с борта тонущего корабля на спасательный плот. Совсем бы чуть-чуть, и догнивать ему в своей бамбуковой тюрьме. А теперь…
Теперь мы найдем ему работенку по способностям. И Дайяне и здешней Сильвии. В наших руках теперь бывшие вершители судеб человечества, кроме гомеостатов и портсигаров, ничего у них за душой…
Трудно передать волну ликования, накрывшую Сашку. Сравнить это можно, пожалуй, только с чувствами офицера, запечатленного фотокорреспондентом на ступенях Рейхстага в мае сорок пятого, улыбающегося до ушей и палящего в воздух из поднятого над головой «ППС». Все! Дожили, дошли, отвоевались! Что будет завтра - отдельный разговор. Где тот офицер, как его жизнь сложилась, никто не знает. А фотография осталась во всех посвященных Победе альбомах и монографиях, момент высшего человеческого счастья зафиксирован навеки. Как символ или как метафора…
Как накатило, так и прошло. Миг на то и миг, чтоб была реперная точка между прошлым и будущим. Ни на что больше он не годится. Пусть и пел Олег Даль: «Именно он называется жизнь!»
Как Шульгин и предположил, стоя на балконе, Ростокина в его спальне не оказалось. Сбежать физическим образом он не мог, у нас не убежишь, значит, воссоединил нарушенную временную ткань, возвратившись на Столешников. В ближайшее время в смежных мирах произойдет еще не одно подобное событие, доступное, конечно, восприятию лишь немногих посвященных.
Значит, и нам пора.
Он написал два коротких письма Суздалеву и Маркину, в которых извинился за очередное прощание по-английски, выразил надежду на скорую встречу и на то, что уважаемые коллеги найдут общий язык и не отступят от достигнутых договоренностей, ибо волюнтаризм всем обойдется непомерно дорого. Сбросил их в защищенные «почтовые ящики». Пока все с этим миром.
По старой привычке он обошел квартиру, прикидывая, не забыто ли здесь что-нибудь важное для него или для Ростокина, Похоже - нет.
По той же привычке тщательно уничтожил все следы собственного здесь пребывания. Бытовую электронику перевел в ждущий режим, охранные системы активизировал по максимуму.
Сел в кресло, должным образом настроился. Ну, поехали!
ГЛАВА ПЯТАЯ
Странно было видеть Антона в субтильном обличье пожилого литератора. Совсем недавно он был крепким мужиком в самом соку, ростом под метр девяносто, при этом тренированный и гибкий. А каково ему сейчас? Однако сам он по этому поводу не особенно грустил. Привычка, наверное.
Шульгин явился к нему из Москвы 2056-го в собственном теле, сгущенном до полной неотличимости из эфирного. В таком можно существовать неограниченно долго. То есть, как объяснял Удолин, оно полностью аналогично настоящему, никаким анализом не различишь, и сроки его функционирования лежат в пределах таковых для белковых структур. Если не случится чего-нибудь экстраординарного с прочими сущностями.
– Как ты, обжился? - спросил он бывшего форзейля, устраиваясь поудобнее в углу дивана и скользя глазами по книжным полкам, занимающим все свободные стены от пола до потолка. Хорошо Юрию: в эти годы, начиная с двадцатых, распродавалось такое количество дворянских и интеллигентских библиотек по бросовым ценам, что его книжное собрание, кроме чисто интеллектуальной ценности, в позднесоветские годы имело бы и немыслимый рублевый эквивалент.
– Грех жаловаться после трех лет одиночки. Времечко, как понимаешь, на улице не очень, так я и похуже видал. Маскировка у меня подходящая, как раз чтобы отдохнуть и в себя прийти. Никто меня не знает, никому я не нужен. Денежек мой «хозяин» накопил достаточно, на приличную жизнь в обозримый период хватит. Только я в нем задерживаться не собираюсь. С твоими нынешними способностями не проблема, надеюсь? Имитировать его образ жизни не собираюсь. Амплуа не на мой характер. Сегодня для пробы «Балчуг» посетил. Совсем неплохо. И знакомых ни одного…
– Да, - спохватился Шульгин, - а ты уже сколько здесь? Совсем я в хронологии запутался. После нашего разговора знаешь сколько всего приключилось!
– Я вчера ночью «вселился». В спящего гораздо удобнее устраиваться. Сознание отключено, подкорка своими делами занимается, остается чистая вегетатика. Утречком встал почтеннейший творец и лауреат, как новенький. Глубоко-глубоко я его задвинул, базовую память оставил под рукой, а его оперативная мне не нужна, и моторика тоже, своих хватит.
Тут Антону, конечно, повезло. Идеальный по всем осям и параметрам вариант. Аггрианский резидент, пусть и из «раньшего времени», со всем набором знаний и способностей, за двадцать лет создавший удовлетворяющую всех (а главное - власти) легенду. Не имеющий ни одного близкого знакомого или родственника. С подлинными документами. Способный в случае необходимости «вернуться в строй». Обратится, к примеру, лично к зампреду, секретарю ЦК Шестакову, тот свяжется с товарищем Ставским, председателем Союза писателей, и найдут бывшему классику достойный пост в верхнем эшелоне соцреалистов.
И ко всему этому имелось все, чем обладал Антон по предыдущей должности форзейлианского шеф-атташе.
Живи и радуйся.
Однако у Шульгина на него были другие планы. Слегка перефразируя, он в уме процитировал эпиграф к «Капитанской дочке».
«Побыл он гвардии немало капитаном. Того достаточно, пусть в армии послужит.
– Изрядно сказано, пускай его потужит».
Теперь, чтобы окончательно социализироваться в этом мире, у Антона только два пути - остаться волком-одиночкой, устраиваться здесь по собственному усмотрению или, подобно Остапу, двинуть однажды ночью через румынскую границу. В поисках лучшей доли. Или все-таки войти в команду Шульгина, на вторую, естественно, роль. В выборе форзейля Сашка не сомневался, когда начал излагать ему нынешнее положение дел. В глобальном смысле.
Антон слушал спокойно и внимательно, моментами усмехаясь собственным мыслям, возникающим по ходу рассказа.
– Таким, значит, образом, - резюмировал он, потянувшись к папиросе. Настоящий Антон не курил, а вот писательский организм настойчиво требовал очередной дозы стимулятора мозговой деятельности.
– Радоваться, наверное, надо. Мне, тебе и всему вашему «Братству». «Свободен, свободен, наконец-то свободен!»[12].
– Если забыть о том, что эти слова написаны на могильном памятнике, то в целом верно. Да и «Братство» вряд ли скоро об этом факте узнает. Когда еще встретиться удастся.
– Не собираешься вернуться?
– Не сейчас. Чувство долга, понимаешь ли, не пускает, здесь нужно дело до конца довести.
– Какого? - с любопытством спросил Антон.
– Если бы знал - непременно тебя в известность поставил. Ты-то сам что в виду имел, когда меня агитировал с Лихаревым и Сталиным поработать? Меморандумы составлял…
– К нынешней ситуации это теперь никакого отношения не имеет. Я действовал в иной исторической эпохе…
– Ну вот. А я всерьез увлекся. Вдобавок слишком много людей здесь на меня завязано. Свои жизни и судьбы на кон поставили, чтобы мне помочь. Бросить все и всех, сбежать с поля боя - не в моих правилах.
– Тогда и говорить не о чем. Давай думать, что сейчас может являться нашей целью, какова стратегия и тактика ее достижения, в какой момент долг чести будет считаться исполненным…
Слова Антона свидетельствовали о том, что остальные вопросы мировоззренческого плана снимаются сами собой. Остаются только практические.
О них и стали говорить.
Шульгин собирался немедленно возвратиться в Испанию. Слишком долго, уже почти сутки Шестаков там предоставлен самому себе. Больших глупостей он, разумеется, не наделает, характера и навыков руководителя хватит на текущие дела, да и общая политическая линия, которую начал проводить Шульгин, ему известна.
Однако нельзя исключать какого-нибудь срыва психики, именно потому, что слишком долго личность «спецпредставителя» находилась под противоестественным контролем. Кто по-настоящему знает, к каким глубинным последствиям приводит воздействие матрицы на «реципиента»?
Антон, к примеру, не знал. У форзейлей такие методики не употреблялись. Сильвия, как выяснилось, воспользовалась матричным переносом, как нормальная женщина автомобилем. Повернула ключ зажигания, включила скорость - он поехал. А что творится под капотом - не ее забота. Дайяна могла бы проконсультировать, так где ее найдешь?
– С тобой что будем делать, братец? - спросил Сашка. - Я кое-какие варианты прикинул, но решать тебе. Можешь в Москве остаться, на хозяйстве. За Сталиным присматривать, за Лихаревым, за Заковским невредно. Есть, кроме всего прочего, у меня опасение, что энное количество ежовцев поумнее и с характером, представляя свою близкую судьбу, свободно могут в подполье уйти и что-нибудь вроде «Черной руки» или «Народной расправы» создать. Кто-то ведь на меня убийц напустил…
– НКВД, думаешь? Не похоже. Не их почерк. Персонажи притом к покушению привлечены странные. Чего бы, действительно, в уличной толпе финку или спицу тебе под лопатку не сунуть? Пока прохожие сообразили бы, отчего солидный дядечка на тротуар прилег, - ищи-свищи исполнителя. Да и «ураганное гниение», которое твой Буданцев наблюдал, - совсем не из нашей оперы явление.
– А набег капитана Трайчука на кордон?
– Это ближе. Если только не аппаратная инерция… Пока этот вариант давай отложим. В случае необходимости «на хозяйстве» можем и Юрия оставить. Подготовки ему хватит, нужную мотивацию обеспечить несложно. Не забывай, он ведь теперь тоже «свободен» и свой интерес поймет быстро.
– Хорошо, - согласился Шульгин. - Я тебя по-прежнему считаю экспертом, спорить не имею оснований. Заодно делаем вывод, что тебе нужно новое тело, раз это возвращаем по принадлежности.
– Совсем не вопрос. Какое надо, такое и выберем. Что ты по сути хочешь предложить?
– Можно со мной в Испанию. Еще одним помощником и советником. Сработаемся, надеюсь…
– Назови последний вариант, тогда и определимся. Рациональным способом или монетку подкинем.
– Отправить тебя в Лондон, практически в прежней должности и роли. Сильвию найдешь, вместе с нею обеспечишь финансирование моих побочных расходов, а главное - свернешь, к чертовой матери, «политику невмешательства». Вместе с Чемберленом. Тогда и Мюнхена не будет, а наш «рейхостроитель» на обозримую перспективу исчезнет из большой политики… Что сулит интереснейшие геополитические расклады.
– На том и сойдемся. И мне интересно будет, и общему делу польза. Только сразу договоримся - закончим с Испанией, обеспечим благоденствие и безопасность твоих новых друзей, и все! Уходим. В двадцать четвертый или ноль пятьдесят шестой. Пора сворачивать сей химерический фейерверк. За год управимся, и домой. Надоело, Саша, знал бы ты, как все надоело… - В голосе Антона прозвучала такая тоска, что Шульгин подумал: «Картинка моей смерти - не самое страшное. В его шкуре я еще не побыл, настоящего «покаяния» не испытал».
– Год еще прожить надо. Но принципиальных возражений ты от меня не услышишь. Я с самого начала, в условиях Игры, примерно так и планировал. С тобой, глядишь, еще быстрее управимся. И - в Замок. Он, как я догадываюсь, теперь окончательно твой?
Антон молча кивнул, закуривая уже третью папиросу.
– Запасных тел там у тебя не имеется? - будто бы в шутку спросил Шульгин.
– Я же сказал, не проблема. Чего на мелочи отвлекаться? Давай лучше твои действия в Испании конкретно подработаем. И мои. Методику связи…
– Сейчас. Куда торопишься? Сначала коктейль, потом вишня, потом косточка, - вспомнил он слова еще одного киношного персонажа. Как бы не в исполнении Мастрояни. - Идея появилась. Забирай-ка ты пока себе мою оболочку…
С одной стороны, отдавать чужому человеку напрокат собственное тело Сашке не слишком импонировало. Хуже, чем нижнее белье дать товарищу поносить. А с другой - оно ведь не его, по большому счету. Очередной артефакт, и не более, возникший для удобства существования в вещном мире.
– С удовольствием. Вполне подойдет, тем более что сэра Говарда Грина в Грейт Бриттен забыть еще не успели. Всего-то тринадцать лет прошло.
– Славненько. Только я тогда усы носил, тебе придется снова отпустить. К телу, заметь, еще и гомеостат прилагается. Сейчас сбегаю, принесу, если не украли…
Он не слишком этого опасался, спрятан прибор был надежно, но тень тревоги присутствовала. Слишком уж ценную вещь он оставил на произвол судьбы, для каждого отдельного человека, способного понять, что это такое, дороже всего золота мира. За миллиарды не купишь и не наймешь врача, способного гарантированно вылечить от пустячной болезни, когда придет твой час. Сталин не смог, и Брежнев, император Цинь Ши-хуанди тоже.
Нет, все в порядке. Шульгин поднял люк, вытащил банку, убедился, что гомеостат - вот он. В полном порядке. Застегнул на запястье, убедился - работает. Экранчик показал степень сохранности организма и готовность немедленно привести его к абсолютной норме. Дополнительное подтверждение того, что нынешнее тело - вполне человеческое, машинка не спутает «эфирный макет» с настоящей органикой.
Возвращать его хозяину он отнюдь не собирался, пусть и испытывал по этому поводу некоторый нравственный дискомфорт. Одно оправдание - мы серьезным делом занимаемся, воюем, а лозунга «Все для фронта, все для победы!» никто не отменял. В Испании спасительный браслет ему бы очень пригодился, но при чисто ментальным переходе в тело Шестакова его с собой не прихватишь. Значит, пусть пока остается на руке этого тела, охраняя организм для последующего возвращения. А то мало ли как там себя Антон поведет, не свое ведь.
Не спеша вернулся, подышав по пути свежим воздухом, а то уж больно накурили они в маленькой квартирке, даже в горле першит. Была мысль выйти на Арбат, посмотреть, жив ли, здоров «топтун», невольно поучаствовавший в смене парадигмы мировой истории. Вовремя воздержался, сообразив, что одет для этого времени неподобающим образом.
Поднялся на этаж, продемонстрировал Антону добычу, убедительно разъяснил, что дается он ему на время и должен быть возвращен по первому требованию. Хоть дипломатической почтой или нарочным, если потребуется.
– Скажи мне заодно, почему вы такой штуки не изобрели? Цивилизация аггров, как мне воображалось, от вашей прилично отстает…
– Кто ж его знает? Китайцы тоже за пять тысяч лет пулемета системы «Максим» не изобрели, хотя порох якобы выдумали. Реальной потребности не было. Каждый из нас спокон веку иными способами свою жизнедеятельность поддерживать был приучен. Лично для меня Замок был абсолютным гомеостатом. Так что, начнем?
– Начнем. Значит, сначала, по методике нашего профессора, необходимо растормозить подсознание. Оно, может, и без этого получится, но один остроумец писал: «Когда машинист начинает искать новые пути, поезд сходит с рельсов». Рисковать не будем. Ты хозяин здесь пока, что можешь предложить?
– Наш друг воспитан в прежние времена, гвардейские капитаны вроде него на балах хлестали шампанское, в окопах - водку. Коньяк - посередине. Отчего запасся он им, как хомяк перед суровой зимой. На целую ленинградскую блокаду хватит или очередной сухой закон.
– Молодец, умеет извлекать уроки. Что же касается самого обмена… Была в моей молодости интересная книжка Мирера «Дом скитальцев». Году в семьдесят пятом, кажется, издана. Там он очень технологично описал разные способы пересадки личностей из тела в тело. Когда я сам с подобным первый раз столкнулся, сразу подумал - вот же мужик угадал! Великие фантасты с десяти шагов в ростовую мишень мазали. Хуже того: «Он выстрелил в воздух. И не попал». А этот - как сам на аггров работал.
– Может, и работал, - меланхолично заметил Антон. - И не он один. Я тоже пару десятков творцов из рук подкармливал. Чтоб создавали нужные настрои… Так что у Мирера?
– Схема обмена личностями. Вот нас здесь трое. Как будем пересаживаться? Я, допустим, прямо отсюда в Барселону, к Шестакову. Освобождаю тебе тело. А ты умеешь сам в него перескочить?
– Нет, - честно признался Антон. - Самому - не приходилось.
– Значит, что? Нужен посредник. У Мирера для этой цели специальное пустое гнездо в машинке имелось. У нас машинки нет. Мы действуем в сфере чистого разума. Ваши предложения?
Форзейль растерялся. На что Шульгин и рассчитывал. Ему в ближайшее время постоянно придется ставить Антона на то место, которого он здесь и теперь заслуживает. Без всякого зла, без чувства мести. Как опытный офицер, заметив в подчиненном гонор, не соответствующий званию и должности, просто обязан в интересах службы объяснить ему, кто он и что от него требуется. Имеешь способности - выдвинем и в Академию направим, но пока ты ротный - нечего воображать, что умнее батальонного. Может, и умнее, но не в этом вопросе.
– Ты о посреднике сказал. Нам четвертый человек нужен? Пересадочная станция?
– Это было бы лучше всего. Но на улицу бежать, очередного чекиста ловить? Попробуем чуть иначе. Я слегка опасаюсь за ваше душевное здоровье, но опыт подсказывает, что аггры - народ крепкий. Выдержите, если еще и я к вам сяду, да не один - дублированный…
– Ростокин бы сейчас пригодился.
– Кто спорит? Но его нет. Итак, несколько минут мозгу Юрия придется выдержать присутствие в нем четырех личностей. Потом я перекидываю тебя в себя, глазами писателя наблюдаю, мягко ли прошел процесс, уточняю последние детали, после чего отбываю в Барселону. Нет, не так, - спохватился Шульгин. - Я еще должен, не теряя темпа, переправить тебя в Лондон, к порогу особняка леди Спенсер. Куда ты меня послал, - не скрыл он яда в голосе, - и только потом убываю сам. Принимается?
– Ничего другого предложить все равно не могу.
– И это правильно. Насчет Замка в другой раз поговорим. Раз возражений нет - поехали!
Личность Юрия подсадку перенесла легко. Точнее, как раз она-то ничего и не заметила. Заметил сам Шульгин. Потому что ощутил неприятное давление сразу с двух сторон. Трудно передать это словами неприспособленного языка, как перевести на эскимосский впечатления бедуина от самума в Caхаре. Немножко похоже на ощущения человека, с детства ездившего на «Бентли» и вынужденного сесть в московский послереволюционный трамвай. Или его самого, попавшего в башню «тридцатьчетверки» после просторной «Леопарда». Тесно, плечами не двинуть, в бока со всех сторон железки упираются, куда ни сунься, везде поджимает, и запахи! В танке - солярки и сгоревшего пороха, здесь - чужих мыслей. Некомфортно. Кто без привычки - может и затошнить. Но он справился.
Всего-то секунд десять перетерпеть, сконструировать формулу. Работать изнутри ему еще не приходилось, и он не учел связанных с этим трудностей. Маг он до сих пор был никакой, стрельба в цель из огнестрельного оружия удавалась ему гораздо лучше, чем манипулирование нематериальными сущностями.
Однако получилось. Опять же, как в трамвае, протолкался локтями к передней площадке, спрыгнул на тротуар. На Гоголевском бульваре. Сразу - много воздуха, простор и чувство облегчения.
Напротив сидел он сам, очень похожий, совершал беспорядочные мелкие движения плечами и конечностями. Антон приспосабливался к новой оболочке.
– Ну и как? - хрипловато спросил Шульгин. - Голосовые связки Юрия тоже не слишком слушались. Раньше так не случалось при «пересадках». Видимо, исходную личность он, по неопытности, загнал слишком уж глубоко, она уже и безусловными рефлексами не управляла.
– Пойдет. Немножко освоюсь, и можно отправляться дальше.
– Ну и давай. Мне тоже. Эта шкура в плечах жмет и под мышками режет. В Лондоне устроишься, сразу мне в Барселону звони. На телефон Главного советника. - Шульгин продиктовал основной номер и несколько других, по которым можно разыскать его через порученцев.
– Як тебе своего человека переправлю, дипломата профессионального и личного друга Шестакова. Для связи с советским полпредством. Эти контакты тебе очень пригодятся. А с деньгами как думаешь определиться?
– Единственное, что нас с тобой заботить не должно. Потерпи недельку, и сможешь распоряжаться активами чуть не всей английской банковской системы. Уж этому я за последние сто лет научился. А ты еще о леди Спенсер забыл. У нее с финансами тоже все в порядке.
– О ней я и хотел перемолвиться. Ты с ней в эти, тридцатые годы пересекался?
– Да нет, обходились как-то. До того, как Ирина обратилась к Новикову, а я, в свою очередь, к Воронцову, мы с агграми считали хорошим тоном друг с другом не контактировать. Вообще делать вид, что не подозреваем о взаимном существовании. Да и словечко «аггры» пришлось ввести в обращение только по настоятельной просьбе Воронцова. У него поразительная страсть к конкретике.
– Специальность такая, - вставил Сашка.
– Кто спорит. На удивление - прижилось.
– А теперь встретишься с ней с таким запасом сюрпризов в кармане, что сделаешь ее одной левой. Не считая прочего, она - из тридцать восьмого, ты - из восемьдесят четвертого этого мира. Уже капитальный выигрыш по очкам, а остальное! Да просто перескажешь ей содержание письма от Сильвии-24 к этой - и готово.
– Саш, в таких делах я и сам разберусь, ты допускаешь?
– Что ты, что ты! Да разве я когда сомневался? Мы пацаны сопливые были, а ты полубог, нисходящий с небес. Кстати, напомни, Прометей кем числился, полубогом или титаном? Что-то я мифологию подзабыл…
– Титаном. Прочую иронию оставляю за кадром. Спишем на твою перевозбужденность от резкого изменения обстановки.
Сашке вдруг стало стыдно. На самом деле, не стоило бы пинать упавшего бойца. А что он слегка «раздул ноздри», так вот это как раз простительно и объяснимо.
– Не бери в голову. Это тоже не совсем я, это Юрий Ex profundum[13] высунулся. Ему тоже интересно поучаствовать.
Дальше говорили о делах исключительно практических, в ходе обоюдного инструктажа придумали несколько весьма забавных и неожиданных ходов.
Тут надо заметить, оба пребывали в состоянии не переживаемой никогда ранее эйфории и в то же время - глубокого стресса, вызванного той же самой и некоторыми посторонними причинами.
– Закончили? Тогда сосредоточься, друг мой, и полетели. Куда прикажете? На Пикадилли-сиркус, в Сохо или сразу на порог особняка леди Спенсер? Куда ты меня отправил.
– Давай-ка в Грин-парк. Я там по аллейкам прогуляюсь, в себя приду, в паб хороший загляну. Оттуда и до Бельгравии совсем недалеко. Костюмчик, правда, не совсем… Впрочем, по Лондону столько всякого отребья бродит, что никто внимания не обратит. А к моменту встречи с нашей клиенткой найду, во что переодеться. Отправляемся?
Сашка чуть было не совершил завершающего пасса руками, должного преобразовать ментальную формулу в межпространственный переход, и вдруг остановился.
– Подожди! Совсем забыл. Помнишь, отправляя меня к Сильвии, ты меня английским снабдил. Хорошим. До сих пор все удивляются. А испанским - можешь? В том же объеме. Чтоб изящней королевского наставника и грубее портового бродяги?
– В наших силах, Саша, уж это - в наших. Держи…
Все великолепие классического кастильского языка, весь объем написанных на нем литературных текстов, а также разнообразие жаргонов многочисленных социальных групп и страт взорвалось в сознании Шульгина подобно вакуумной бомбе. И мгновенно рассосалось по подобающим зонам мозговых полушарий. Что в долговременную память, что в оперативную. Необходимые сигналы достигли центров, управляющих артикуляцией языка, губ, щек, голосовых связок. Усилий при произнесении непривычных фонем не будет, акцента, несоответствующей смыслу мимики. Ни один тамошний профессор Хиггинс[14] не найдет в его речи ни малейшего повода для зацепки.
– Спасибо. Мне это очень пригодится. Ну, до встречи.
Антон вместе с телом Шульгина исчез, а следом отправился и Сашка, в противоположную сторону Европы. На месте остался один Юрий. Очнется минут через пять, с полным осознанием того, что с ним случилось, и кое-какими инструкциями, страхующими от опрометчивых поступков.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Несмотря на исчезновение из Вселенной Игроков, все заведенные при них обычаи и свойства хроноконтинуума сохранились. Шульгину не составило большого труда возвратиться в свой кабинет еще до исхода той же ночи, которой он его покинул. Некоторое количество прошедшего времени распределилось по параллельным линиям или просто сгорело, как бензин в работающем моторе, произведя определенную работу.
Таким образом, совместив свое эфирное тело с материальной массой Шестакова, он принял управление на себя. Пока Сашка отсутствовал, никаких колебаний «тонкого мира» в пределах номера, отеля и города не отмечалось. Игроки ушли деликатно, без шума, погасив за собой свет.
Подчиненные тоже не потревожили драгоценный покой начальника. Значит, ничего экстраординарного не случилось и в реальности.
Взяв из коробки очередную сигару, от вкуса и запаха которых он успел отвыкнуть в своих странствиях, Шульгин, перед тем как отойти ко сну, снова вышел на балкон. Совсем недавно с другого он озирал окрестности Сретенского бульвара в середине XXI века, сейчас видел ночную Барселону первой половины XX века. Там было лучше эстетически, здесь - психологически.
По крайней мере, спать он ляжет, не опасаясь возможности пробудиться в горячих торфяных болотах на планете неведомой звездной системы, отстреливаясь от дрессированных ракоскорпионов. Надоело. В самом худшем случае может приключиться очередной мятеж, каталонских сепаратистов, к примеру.
Антон на прощание дал ему несколько практических советов, как следует строить отношения с руководителями сателлитного государства. У него в этом смысле богатый опыт, не только земного происхождения.
Проснувшись около семи, Шульгин первым делом пригласил к себе начфина миссии. Теми суммами, что были выделены его наркомату на испанские Дела, он по-прежнему мог распоряжаться самостоятельно. Преемник на его московский пост до сих пор не был назначен, да и в разговорах со Сталиным как бы по умолчанию подразумевалось, что тот круг обязанностей остается за ним. Но были деньги, предназначенные непосредственно для оперативных расходов. Вот их количество, а равно и практику использования он и собрался уточнить. Раньше руки не доходили.
Сумма его вполне удовлетворила, а если вдруг не хватит или появятся неожиданные претензии «сверху» насчет «нецелевого использования», Шульгин рассчитывал пополнить недостачу с помощью Антона.
Договорившись по телефону о срочной, не терпящей отлагательств встрече, он выехал на автомобиле в сопровождении Овчарова и отделения охраны в резиденцию военного министра Республики.
По дороге сообщил Виктору, что в ближайшие дни тому придется вылететь в Лондон в качестве «частного лица» для отлаживания новых, совершенно неожиданно наметившихся связей. Детали - позже. Сейчас ему просто нужно будет присутствовать при разговоре с Прието, оставаясь безмолвным и невозмутимым, как статуя Будды.
Вначале все шло по накатанной, всем надоевшей колее. Министр был уклончив, многократно ссылался на внутриполитические сложности, не позволяющие вести войну подобающим образом. Припомнил соглашение с Советским правительством тридцать шестого года, в котором четко было оговорено, что наши советники принимаются и признаются единственно в означенном качестве и вмешиваться в непосредственное управление войсками не имеют права.
Смешно с нынешней точки зрения, но это правило соблюдалось почти неукоснительно, исключая отдельные случаи. Вдобавок советские советники и инструкторы старательно изображали из себя испанцев или добровольцев-интернационалистов, брали себе подходящие псевдонимы.
В то же время помогавшие франкистам немцы из легиона «Кондор» конспирацией не затруднялись. Носили свою форму, национальности не скрывали, держали себя гордо и обособленно. В Бургосе, временной столице мятежников, реквизировали лучший отель «Мария Исабель», перед которым под флагом со свастикой стояли немецкие часовые.
А уж испанских офицеров и генералов «союзники» цукали, как кайзеровские унтера новобранцев. Зато и подготовили за годы войны более 50 тысяч вполне грамотных офицеров и специалистов.
Минут через двадцать толчения воды в ступе Шульгин решил с дипломатией завязывать.
– Я, дорогой друг, вынужден вам заявить, - пошел он ва-банк, исчерпав более мягкие доводы, - что наш с вами оппонент, каудильо Франсиско Франко, кажется мне не в пример более разумным человеком, чем вы.
– Отчего это вдруг? - оторопел министр.
– Да оттого, что он, понимая свое положение и реальные возможности, прислушивается к своим «друзьям и патронам». В противном случае проиграл бы еще в прошлом году, однако держится и непрерывно расширяет подконтрольную территорию. Вы же постоянно сдаете позиции, располагая не в пример большими силами и поддержкой большинства народа. Не удивительно ли?
Выслушав достаточно громкую и возмущенную тираду, вполне в духе социалистического демагога, к какой бы нации или течению он ни принадлежал, Шульгин ответил именно на этот случай прибереженной «домашней заготовкой».
– Я не вижу с вашей стороны готовности к конструктивному сотрудничеству. В подобном случае мое правительство не видит необходимости жертвовать жизнями добровольцев, которые прибыли сюда для помощи испанскому народу в борьбе с мировым фашизмом, а не для того, чтобы изображать разменные карты в забавах политиканов. Я имею все полномочия, чтобы немедленно отозвать с фронтов наших советников и специалистов вместе с обслуживаемой ими боевой техникой. Для чего им сражаться и погибать напрасно? Точно так я могу развернуть обратно конвой с танковой бригадой и очередной партией «добровольцев», о котором мы с вами говорили на днях.
Похоже, довод достиг цели.
– Но как же наши соглашения и договоренности? Испанская республика потому и является безусловно демократической, что в ней, как нигде больше, осуществляется единство всех поддерживаемых народом политических течений. Мы признаем право коммунистов руководить большей частью вооруженных сил и напрямую решать свои вопросы с Коминтерном. Но и за анархистами идут сотни тысяч вооруженных борцов. Партию социалистов, нас - поддерживает вся культурная Европа. Вместе мы обязательно победим и продемонстрируем миру несгибаемую силу Народного фронта…
– Вы воображаете меня идиотом, дон Индалесио? Или вещаете в расчете на журналистов? Так их здесь нет. Вы представляетесь мне одним из самых умных политиков демократической Испании. Но историю вы читали? Хотя бы в самом общем изложении? Я ведь именно об этом и говорю. Убедившись в полной невосприимчивости вашей «коалиции» к советам, которые дают присланные из СССР специалисты, в нежелании вашего правительства следовать даже тем из них, которые имеют судьбоносный смысл, я данной мне властью принимаю решение - с завтрашнего дня отдать приказ об эвакуации. Это будет в полном соответствии с принципом «невмешательства». Разумеется, те, кто захочет, могут остаться, на правах обычных добровольцев Интербригад. У нас тоже свобода!
– А как же с оружием, которое Советский Союз обязался нам поставлять под гарантию золотого запаса Республики?
– Вы его, безусловно, получите. Мы не французы[15]. Франко[16] порт Барселона. Или любой другой по вашему указанию. Доставим до места и выгрузим на причалы. Дальше - делайте, что хотите. Проводку кораблей через линию блокады обеспечите своими силами.
– Это шантаж, дон Алехандро? - с циничной улыбочкой осведомился Прието.
– Конечно, дон Индалесио. К чему околичности? Прямой и неприкрытый шантаж.
Они сидели в гигантском, можно сказать, кабинете, более похожем на будуар какой-нибудь испанской принцессы прежних времен. Масса картин по стенам, дорогая мебель, мраморные статуи и фарфоровые вазы с цветами в простенках. Запах экзотических благовоний. Резные дубовые потолки, для стирания пыли с которых непременно требуется приглашение пожарных с лестницей.
Сам Прието расплылся в кресле - огромная мясистая глыба с бледным, как непропеченное тесто, лицом. Для испанца это удивительно, оливковая смуглость у них - почти видовой признак. Вдобавок почти в любых обстоятельствах он умел сохранять ироническую, вводящую собеседника в заблуждение, мину. Веки сонно приспущены, но из-под них посверкивают «самые внимательные в Испании глаза», как отозвался о них известнейший тогда журналист Михаил Кольцов. Следует также добавить, что, изучив литературу и документы, Шульгин составил представление о партнере как о человеке, для которого политика случайно оказалась средством самовыражения.
В оригинале это был типаж одного разбора с Александром Дюма-отцом, Оноре Бальзаком или тем французским аббатом, который дожил до ста десяти лет именно потому, что никогда не съедал в один присест больше фунта мяса, не выпивал больше литра вина и до последнего дня не спал в постели один.
– А цель? - хитро прищурился сибарит, начиная догадываться, что «дон Алехандро» завел этот разговор не просто так. Его предшественники в таких тональностях не разговаривали. Они либо несли утомительную ерунду коммунистического толка, либо пробовали стучать кулаками по столу. Очень слабо, кстати, почти неслышно.
– Я знаю, что вы циник, дон Индалесио, я тоже. Государственная и партийная принадлежность здесь ни при чем. Это черта характера, не более. Может быть, вы меня угостите кофе? И поговорим более свободно? Поскольку этот наш разговор - последний. Я ведь не шутил, заявляя о своих намерениях.
– Разумеется, дон Алехандро. И кофе, и все остальное… Дон Виктор - доверенное лицо? Он с нами? - Прието слегка поклонился в сторону Овчарова, который, как и было оговорено, сидел в сторонке с непроницаемым лицом римского легата. Покуривал и черкал в блокноте. Шульгин полагал, что не деловые заметки, а очередные стихи, к которым Витюша испытывал несовместимую с должностью слабость.
– Не только с нами, он, мне кажется, кое в чем поинтереснее меня будет… Для вас. И сейчас, и позже…
Перешли в примыкающую к кабинету «комнату отдыха», как такое помещение называется у советских чиновников, а как у испанских, Сашка уточнять не стал. Смысла не было, если сравнить ту клетушку, что полагалась советскому наркому, с этим залом. Вот вам и Испания, задворки Европы!
Официант с выправкой офицера накрыл стол.
«Остальное» состояло из коньяка, нескольких бутылок вина, коробки сигар, маслин, тарелок с самыми редкими и дорогими сортами хамона[17], овечьих и козьих сыров…
– Вы мне нравитесь, дон Алехандро, несмотря на то, что коммунист. Давайте уж будем искренни, учитывая, что это может быть нашим последним разговором. С другими вашими коллегами мне говорить намного труднее, даже с «доном Мануэлем» (псевдоним М. Кольцова). Вообще эта советская манера скрываться за кличками кажется мне глупой. Все равно ведь все знают, кто есть кто на самом деле. Немцы откровенно смеются, слыша, к примеру, про некоего «дона Николаса», имея перед собой досье на капитана первого ранга Николая Кузнецова с фотографиями и полным послужным списком. Вы согласны?
– Безусловно, дон Индалесио. Но это входит в правила игры. Не нами придуманные…
Знал бы Прието, насколько шире кажущегося подлинный смысл слов личного представителя Сталина.
– Попробуйте, коллега, это очень хороший коньяк. Или предпочтете херес?
Сашка предпочел. На царском и белом флоте офицеры очень его уважали, и высокий двухсотграммовый стакан вина гораздо удобнее маленькой рюмки для обеспечения продолжительной, изобилующей тонкими ходами беседы.
– Итак, в чем суть вашего шантажа? Заметьте, против самого факта я не протестую, мне важнее выяснить подлинный смысл происходящего. Слава деве Марии, контрразведка нас не слышит, что ваша, что наша, можем поговорить как цивилизованные люди.
– Вы не поверите, исключительно в том, чтобы ВЫ выиграли эту войну, дон Индалесио.
Местоимение «вы» Шульгин так выделил голосом, что привычный ко всему Прието не сдержался, удивленно вскинул голову.
– Да, да! Мы поставили на вас, потому что больше не на кого. Только забудьте о партийных принадлежностях. В «прекрасном новом мире» они мало что значат. Разве - для общеупотребительной пропаганды или дезинформации противника. Эпоха «идеологий» уходит, наступает эра прагматизма.
– Простите, коллега. - Прието налил себе еще рюмку. При его весе под полтораста килограммов проще было бы сразу пивную кружку. Как пили коньяк офицеры советского подводного флота в ресторане «Золотой рог», возвращаясь из двухмесячных «автономок» к американским берегам. Любая из них могла закончиться безымянной смертью на глубине или атомным ударом из всех стволов по противнику, ставшему в одночасье из «предполагаемого» - реальным.
– Мне трудно так сразу сориентироваться. Вы желаете сказать, что правый социалист Прието для коммуниста Сталина предпочтительнее коммунистов Диаса и Ибаррури?
– Если вы никому не передадите моих слов, то - да.
– Поразительно.
– Более того, мы видим именно вас на посту премьер-министра республиканской Испании или президента. Как захотите, так и назоветесь. Но для этого придется заключить кое-какое соглашение…
– Именно? - вновь напрягся Прието.
– Вы до поры сохраняете свое нынешнее положение, остаетесь тем, кем вас привыкли видеть и слышать, но с данного момента всеми силами и возможностями обеспечиваете реализацию планов наших военных советников, но самое главное - безоговорочно исполняете мои личные, устные распоряжения. Любые!
– Ну, знаете! - У Прието мгновенно взыграли эмоции кастильского дона, до того несколько смазанные общеевропейским стилем воспитания и должности.
– Спокойно, дон Индалесио. Я еще не закончил, кабальеро кастильяно…
Прието внезапно сообразил, что сталинский представитель, с которым они до того несколько дней общались (если без официального переводчика) на смеси плохого французского с еще более плохим и корявым испанским, добавляя при необходимости немецкие и английские слова и фразы, сейчас говорит на великолепном, классическом языке, будто бы вырос в хорошей семье и окончил как минимум университет в Саламанке.
Так, может быть, под личиной советского представителя скрывается некто совсем иной?
В чем и состояла Сашкина цель - сбить собеседника с панталыку, говоря уже языком бывшего шведа Даля.
– Успокойтесь, дорогой друг. Под «любыми» я подразумеваю только и исключительно имеющие отношение к победоносному завершению войны и сохранению вас на удобном для меня посту. Для достижения названной цели, отнюдь не рассчитывая на ваш патриотизм и здравомыслие, все это категории относительные, я могу предложить вам, вам лично, подарок в сумме один миллион фунтов стерлингов. Могу прописью, - счел необходимым уточнить Сашка. Он любил такие вот штришки мастера. - Который вы можете получить наличными прямо сейчас или любым угодным способом…
– Сумма весьма привлекательная. - Эмоции министра выдала только глубина и скорость затяжки длинной бледно-зеленой сигарой. - Но я так и не понимаю, в чем ваш настоящий интерес. Беспроцентный заем, который СССР предоставил Испании, составляет 86 миллионов долларов. И - миллион фунтов мне! Для чего?
– Я считал вас гораздо шире мыслящим политиком. Видите ли, демократическая Республика на западном краю Европы, возглавляемая дружественным, а прямо выражаясь - обязанным нам правителем, с несколькими арендованными нами военными и военно-морскими базами, может сыграть огромную роль в грядущей мировой войне. Я как прагматик и циник уверен, что всего лишь миллион единовременно и некоторое повременное содержание «нужным людям» гораздо надежней и выгоднее, чем мало к чему обязывающие межправительственные соглашения.
Россия, к примеру, шестьдесят лет назад спасла Болгарию от турок, потеряв полмиллиона солдат убитыми и ранеными, а «братушки» немедленно переметнулись к немцам и воевали в Мировой войне на их стороне против нас. Поэтому забудем об эмоциях. Золото сильнее чувств. Так вы согласны?
Сейчас Шульгин в очередной раз повторял проверенную на Врангеле схему, только Петр Николаевич взял деньги в казну, на ведение войны, а Прието должен был взять их себе. Духовных терзаний с его стороны Сашка не предполагал. Менталитет, что скажешь!
– И как это будет выглядеть? - поверив в теорию, Индалесио заинтересовался практикой.
– Хотите - чеком на «Фест коммершел бэнк», хотите - наличными, завтра утром. Только не знаю, как вы этими чемоданами распорядитесь в воюющей стране.
– Давайте - пополам.
– И так можно, только я ведь тоже человек соображающий. Деньги - завтра, а послезавтра вы на самолет - и в Мексику. Или еще куда… Сам бы так поступил при ином раскладе…
Тут наконец вмешался Овчаров, четко уловив момент и смысл своего здесь присутствия.
Он, опытный дипломат, привыкший общаться как раз с такими вот деятелями стран «второго мира», под прикрытием поднятого к глазам бокала искоса взглянул на Шульгина, уловил разрешающее движение щеки и веско произнес:
– Имею другое предложение. Мы выписываем вам чек на полмиллиона с условием, что сумма будет выплачена не ранее, чем через полгода с нашим повторным подтверждением. А сейчас - сто тысяч наличными сразу и по пятьдесят тысяч каждое первое число лично от меня в приватной обстановке. И делайте с ними, что хотите. Идет?
Какое там дворянское достоинство, если просто за то, чтобы ни во что не вмешиваться (да еще и на пользу государству), получить миллион (мистическая, между прочим, для массы людей сумма в первой половине века, когда фунты были действительно деньгами),
– За это стоит выпить, не так ли, дон Алехандро? А вы на самом деле русский? Никогда ни от одного иностранца не слышал столь изысканного «кастильяно». От вас предыдущую неделю тоже. Не хотели приоткрыться раньше времени? Может быть, вы незаконный сын короля Альфонса?
Прозвучало как бы шуткой, но с неуловимой долей надежды и едва ли не мольбы. Внешность у «дона Алехандро» самая подходящая, язык и манеры -. тем более. Назовись он хоть внучатым племянником последнего мексиканского короля Максимиллиана - сразу снимается доля нравственной нагрузки, которой, оказывается, и старый циник не чужд.
А Сашке что? Он уже как-то, двусмысленно усмехаясь, не возразил против предположения - не реинкарнация ли он безвременно умершего великого князя Георгия Александровича. И сейчас можно.
– А давайте так и считать. Только - вполне законный. И зовут меня - Хуан-Карлос, будущий король. От него и примите…
Овчаров достал из постоянно носимого с собой портфеля десять пачек белых стофунтовых бумажек, самой тогда устойчивой и надежной валюты мира. Кроме царских золотых десяток, разумеется.
Это было во вкусе Шульгина - ошеломить клиента внезапно свалившимся на голову богатством. Как Басманова в Константинополе, к примеру. И не в том дело, что он людей покупал. Никак нет, это было бы слишком грубо и дешево (для него, не для партнера). Он совершал слом ситуации. Вот только что ты - никто (как гвардейский капитан Басманов, гордый человек, мечтающий о замызганной турецкой лире), и вдруг - богач, сразу, без предварительной подготовки. Отсюда и шок, и готовность к тому, чтобы измениться качественно.
Виктор, понимая смысл процесса, выкладывал пачки медленно, каждую по отдельности, будто карты флешь-рояля, сам любуясь эстетической продуманностью картинки. Крахмальная скатерть, тарелки, бутылки и бокалы, и вот эта воплощенная в кусочках хлопковой бумаги власть над жизнью.
– Что, дон Индалесио, здорово выглядит? - спросил Шульгин, пребывая как бы вне процесса.
– Не смею спорить, - сглотнул слюну военный министр. Да министр, не министр, такую сумму попробуй укради, с неизвестными последствиями, тем более что в Республике и красть особенно нечего.
Кому нужны горы ни в одной стране мира не конвертируемых песет? А тут вот оно!
Шикарный дом в Лондоне, дворец в Аргентине или Уругвае, апартаменты в Ницце, игорные дома Монте-Карло, великолепные девушки, готовые не обращать внимания на десятки килограммов облекающего его тело жира. И это только с того, что лежит сейчас перед ним! А остальное, пост премьера, возможность распоряжаться вообще всеми финансами Республики, об истинных объемах которых никто понятия не имеет, поскольку все можно списать на войну и франкистов, отняв у них после полбеды то, что поступило от немцев и итальянцев?
– Хорошо, дон Алехандро, мы договорились, - Прието торопливо сгреб добычу в ящик стола. - Ближайшие действия, мои и ваши?
– За успех и доверие! - Сашка и Овчаров с облегчением пригубили бокалы, проследив, чтобы и министр выпил свою дозу.
– Завтра утром руководство продолжением Теруэльской операции полностью переходит к нашим военным специалистам. Испанские товарищи вплоть до командиров корпусов сохраняют всю полноту власти в вопросах внутренней субординации, но по вопросам оперативно-тактического применения войск должны безоговорочно исполнять «рекомендации и указания» компаньеро Роко. Ваша задача - в категорической форме их подтверждать «вниз». И любыми средствами препятствовать противодействию «сверху». Этого на первом этапе будет достаточно. Если возникнут проблемы, скажете мне. Я их устраню. Когда армия наконец одержит несколько убедительных побед, ваш авторитет настолько укрепится, что никто не осмелится вам возражать…
– Вы действительно уверены, что победы будут? - Настроение Прието начало меняться уже не только под влиянием денег. Кто же не хочет примерить тогу триумфатора и спасителя отечества? Это куда достойнее, чем остаться в истории беспринципным политиканом, кое-как балансировавшим между могущественными противниками с неизвестным пока результатом
– Непременно, дон Индалесио, непременно. Я бы, например, на вашем месте прямо сейчас подписал вот эти приказы, задним числом, разумеется, и отъехал из Барселоны на какую-нибудь уединенную виллу под предлогом инспекции войск или работы с документами, чтобы никто вас не нашел, а вы сохранили бы душевное спокойствие.
А хотите, отправьтесь с нашими моряками навстречу конвою? Великолепные снимки во всех мировых газетах: «Военный министр, рискуя жизнью, поднимается на палубу парохода, везущего гуманитарную помощь русского народа братьям-испанцам!»
– Наверное, это будет наилучший вариант. Люблю море, и риск - тоже. Вы не смотрите на мои телеса, палубы и трапы меня выдержат. Нет, дон Алехандро, вы в самом деле пробудили во мне лучшую часть моей очерствевшей души…
Прието показался Шульгину почти искренним. А почему бы и нет? В любом человеке присутствует изрядная доля возвышенных чувств, только не всегда им удается проявиться. Сейчас игра на тонких струнах души, подкрепленная приличной суммой иностранной валюты, принесла ожидаемый результат.
Одновременно уже осуществлялась раскрученная Шульгиным (в полной уверенности, что получится с военным министром договориться) программа «параллельной войны». Он не сомневался, что руководимые новыми советскими командирами республиканские корпуса и дивизии сумеют неожиданными фланговыми ударами, спланированными в соответствии с теорией «Глубокой операции» комбрига Триандафиллова, выйти в пустые, незащищенные тылы франкистов так далеко от фронта, что те никаких серьезных контрмер принять просто не успеют. Появление в глубоком тылу значительных масс неприятельских войск почти всегда влечет панику, потерю управления, разрыв коммуникаций и систем связи. История знает мало примеров, чтобы окруженные войска первых эшелонов сохраняли порядок и боеспособность, достаточные для прорыва к своим в хоть сколько-нибудь приличном состоянии. По крайней мере, в ходе Отечественной войны такое не получалось в крупных масштабах ни у нас, ни у немцев.
Из исторических источников, которые здесь только на будущей неделе станут «разведданными», Шульгин знал, что уже в начале января в ходе Теруэльской операции, показавшей, что республиканцы воевать умеют, в штабе мятежников, в высоких европейских кабинетах началось нечто вроде паники.
Германский посол при Франко фон Шторер доносил в Берлин, что «красные» сумели значительно повысить боеспособность и захватили инициативу с далеко идущими последствиями.
Министр иностранных дел Италии граф Чиано доложил дуче, что из Испании приходят «плохие новости».
Командующий итальянскими войсками генерал Берти срочно вылетел в Рим с предложением полностью вывести оттуда экспедиционный корпус, так как «звезда генерала Франко уже закатилась».
Правительство «Народного фронта» Франции на всякий случай объявило об открытии границы на Пиренеях и пропуске через нее давно закупленных и оплаченных Республикой военных грузов. Это в корне меняло ситуацию. Если дорога Тулуза - Барселона заработает всерьез, эшелоны из СССР пойдут потоком, делая бессмысленной германо-итальянскую морскую блокаду.
И это всего лишь после того, как республиканцы разбили четыре дивизии неприятеля и взяли первый за всю войну хорошо укрепленный город. Как генерал Юденич в пятнадцатом году, свирепой зимой, - даже теоретически неприступный Эрзерум.
Сейчас по любой логике, пусть обычного самосохранения, испанцам следовало наступать и наступать, вводя в бой все, что возможно. Со всех фронтов стягивать ударные части, особенно танки, выгребать железной метлой тыловиков, резервистов, анархистов и поумовцев. Главное же - бросить в «последний и решительный» Интербригады, которые как раз сейчас было решено отвести в тыл. Чтобы не раздражать «Комитет по невмешательству», ну и по некоторым другим причинам внутреннего характера.
Любому толковому полководцу прежних времен было известно, не так мозгами, как нутром, что если чаша весов колеблется, то нужно рискнуть всем. Проиграв решительное сражение, арьергардными боями не спасешься. Оттого Суворов семитысячным войском атаковал стотысячное турецкое и победил. То же делали и Слащев, и Каппель, и Манштейн. Моше Даян бросил на стол все свои карты в «шестидневную». А как только теоретики после вьетнамской войны начали задумываться о «сбережении сил», об «активных вылазках» в условиях тотальной обороны, так и кончилось настоящее военное искусство.
Кроме того, в этом мире еще не наступила эпоха «спецназов». Генералы жили воспоминаниями о Мировой войне, планах Шлиффена и обоих Мольтке, старшего и младшего, миллионных армиях, под гром тысяч пушек штурмующих форты, укрепрайоны, прикрытые бесконечными рядами проволочных заграждений позиции.
Расчеты сил и средств сводились к примитивным формулам: наступающий должен иметь трехкратный перевес перед обороняющимся, любое наступление с решительными целями должно сопровождаться многочасовой артподготовкой, танки предназначены для непосредственной поддержки пехоты на поле боя и т.д.
О том, что рота хорошо подготовленных бойцов способна выполнить задачу, непосильную стрелковому корпусу со средствами усиления, догадывались очень немногие.
Даже создав свой «особый» 14-й корпус, республиканцы вместе с советскими товарищами не дошли до простейшей мысли, что не диверсиями в прифронтовой полосе надо заниматься, не поезда и автомобильные мостики взрывать, а учинять операции стратегического масштаба в глубоких тылах неприятеля. Не вершки сорняков сбивать, а выжигать корни!
Из резиденции Прието Шульгин на юрком и малоприметном «фордике», подозрительно похожем на отечественную «эмку», поехал по условно затемненному (уличные фонари погашены, но светятся окна и витрины многочисленных ресторанчиков и кафе) бульвару Лас-Рамблас. Красивейшая магистраль Барселоны, классическая архитектура, четыре ряда громадных платанов на всей ее протяженности. Летом здесь, наверное, полный восторг! Музыка, шелест листвы, ароматы, фланирующая толпа, столики под парусиновыми зонтами вдоль тротуаров.
В штабе на площади Каталонии его ждали те, кому и предстояло воплощать в жизнь его идеи, рутинные для конца двадцатого века, но революционные для тридцатых годов. Большинство военных специалистов оставались в сфере представлений Первой (и тогда единственной) мировой войны, а советские товарищи кое-как пытались приспособить к нынешним реалиям собственный или вычитанный в книгах опыт своей Гражданской, с этой имеющей крайне мало общего.
Результаты переговоров с Прието и последние свои стратегические соображения «личный представитель Сталина» Шестаков на картах и на пальцах объяснил Рокоссовскому и военным советникам меньшего калибра: пехотному, танковому, авиационному, артиллерийскому и морскому. За основу взяв свой стиль поведения с Попелем и Рябышевым в нарисованном сорок первом, со Слащевым на Гражданской, Берестина и Воронцова - с полководцами Великой Отечественной. Применяя и «морально недопустимые приемы». Ему-то что?
– Я вас понимаю, товарищи, но и вы меня поймите. Наверняка ведь думаете о том, что случилось с вашими предшественниками? - Фраза была запредельно крамольной, кое у кого озноб по спине пробежал и ладони вспотели. Уже слушать такое, немедленно не донеся «куда следует», равно самоубийству. По прошлым, впрочем, обычаям. Сейчас линия партии, похоже, начала искривляться в другую сторону.
Ответа он, естественно, не получил. Да и какой ответ? Каждый из присутствующих знал, куда делись те, кто трудился здесь до них. Берзин, Горев, Качанов и другие. Сегодня статья в газете, награждение и новая должность со званием, а завтра нет такого человека, и школьники всей великой страны вымарывают химическими карандашами фамилии из учебников, жгут в кочегарке рулоны любовно сделанных совсем недавно стенгазет.
– Думаете, и правильно, что думаете. Кому что конкретно предъявили, не знаю, и на данный момент мне это неинтересно. А вот то, что под их чутким руководством ярких побед не случилось, это факт. И товарищ Сталин с подачи ныне разоблаченного Ежова вполне мог поверить, что без троцкистов и фашистов не обошлось. Потому и поручил мне переломить ситуацию. Советская страна не настолько еще богата, чтобы отрывать у нашего народа миллионы, которые бессмысленно сгорают здесь на полях сражений. Я не собираюсь никого пугать, намерен работать с вами. Ни один человек без моего разрешения (или приказа) отсюда отозван, тем более репрессирован, не будет. Мы или вместе победим, или вместе проиграем. Причем я намереваюсь победить в ближайшее время. Другого столь благоприятного момента может не представиться.
Давайте, товарищи, покажите, кто на что способен всерьез. «Аркольский мост» перед вами, образно говоря. Сейчас такой нам выпадает шанс, что, как в сказке, можно добиться сразу всего…
Он считал, что говорит и поступает правильно. Тут и некоторая доля обычного советско-большевистского пафоса, и намек на то, что каждому предоставляется шанс сделать блестящую карьеру при достаточных гарантиях личной безопасности. Приблизительно ту перспективу он открыл советникам, что Сталин своим генералам после поражений сорок первого: дай результат - и станешь хоть маршалом, невзирая на происхождение, прошлые заблуждения и дефекты в анкете.
– Мы в конце концов мужики, командиры или кто? - перешел он на простецкий, но отдающий металлом тон, расхаживая с дымящейся сигарой по кабинету. - Битые немцы, никчемные вояки итальянцы, марокканцы и прочая шелупонь - разве это противник? Немного фантазии, непреклонная решимость - и все! Помните, как в девятнадцатом белые сломались разом и побежали от Орла до Новороссийска? Так подальше было, чем от Теруэля до Бильбао. Насколько? - указал он сигарой на советника Малиновского (дона Малино).
– В три раза примерно, тысяча триста километров против пятисот.
– Совершенно верно. Так что все в наших руках… Одним словом, вы тут подумайте, через час я вернусь. Надеюсь увидеть окончательный и согласованный план победы.
Он встал, собираясь пройти в другое помещение, где ждали его люди, которых на это совещание он не счел нужным пригласить.
– Разрешите обратиться, товарищ Шестаков, - поднялся со своего места полковник Павлов, советник танковых войск, круглоголовый, наголо выбритый мужчина с усиками щеткой и тяжелым внимательным взглядом.
Хороший командир и специалист, пока, правда, максимум дивизионного уровня. Грубый, упорный, но мало самостоятельный. От чрезмерного желания угодить Москве в должности командующего Белорусским округом проигравший приграничное сражение, зря, под горячую сталинскую руку, расстрелянный уже в июле сорок первого. С гораздо большими основаниями можно было бы расстрелять Жукова, но тот вывернулся.
– Обращайтесь.
– Вы лично мне разрешаете отозвать все наши танки со всех фронтов и использовать их на Теруэльском направлении?
Вот она, его беда. Распоряжение ему нужно. Какой же из тебя в таком случае «советник»?
– Дайте мне ваш командирский блокнот, товарищ Павлов…
Павлов расстегнул полевую сумку и подал требуемое.
На чистой странице, с положенным номером и грифом Шульгин начертал остро отточенным красным карандашом: «Не только разрешаю, но и приказываю полковнику Павлову предпринять все входящие в его компетенцию действия для обеспечения поставленной задачи».
Усмехнулся, покачивая острием над листом, и добавил цитату из Петра Первого: «Не держись указов, аки слепой стенки. Ибо в них только случаи означены, а не настоящие обстоятельства…»
– Подумайте на досуге, Дмитрий Григорьевич, мой вам дружеский совет. Если не вникнете - можете плохо кончить. Вы, Константин Константинович, проследите, чтобы никаких «трений» не возникло, - сказал он Рокоссовскому. И подумал мельком, как оно на будущей карьере великого полководца скажется - что не в тюрьме ему два предстоящих года сидеть, а армиями командовать? Насколько талант его расцветет? Или вдруг завянет, поскольку именно тюрьмы ему и не хватит для окончательной кристаллизации?
А Павлов пусть думает. И Дельфийский оракул, и Кассандра примерно так и предсказывали. Туманно, но угрожающе.
В другой комнате, где на столах были разложены крупномасштабные карты центральной Испании и подготовленные лично Шульгиным информационные материалы, его ждали командир отдельного 14-го корпуса коммунист полковник дель Вайо, советники по разведывательно-диверсионной работе Мамсуров и Стариков. А также начальник личного спецназа Шестакова Гришин, теперь располагавший серьезными силами. Связавшись с Заковским, Шульгин добился переброски самолетами еще сорока бойцов «особых специальностей».
Четырнадцатый республиканский корпус, сформированный в декабре 1936 года, насчитывал до 5 тысяч человек, сведенных в семь бригад, рассредоточенных по Каталонскому, Центральному и Южному фронтам. Корпус имел две собственные школы в Барселоне и Валенсии, где готовились подрывники, снайперы, радисты и люди других нужных специальностей под руководством тех самых, не успевших попасть «под ликвидацию» советских профессионалов. О качестве подготовки говорил тот факт, что при множестве успешных акций по преимуществу на занятой мятежниками территории корпус потерял за все годы войны всего лишь 12 человек. Да и сам его старший инструктор, ныне пока майор Стариков, поучаствовав в пяти войнах, скончался в возрасте ровно ста лет, написав интереснейшие мемуары, большая часть которых засекречена до сих пор.
– Ознакомились с обстановкой, товарищи? - спросил Шульгин, присаживаясь на край стола и раскуривая очередную сигару. - Вы, компаньеро дель Вайо, сумели собрать своих бойцов в один кулак?
– Да, компаньеро Алехандро, - полковник указал на карте небольшой городок западнее Лериды, километрах в тридцати от линии фронта, прямо напротив одного из главных опорных пунктов франкистов, Сарагосы. - Полторы тысячи лучших. Остальные слишком далеко или заняты в других операциях мелкими группами. Но здесь мы сможем находиться не более суток, иначе утечка информации неизбежна. Найдется, кому донести и «своим», и на ту сторону.
Умное, симпатичное лицо тридцатилетнего ком-кора скривилось от сдерживаемого отвращения и ненависти.
– Управимся…
Шульгин, будучи по натуре именно спецназовцем - когда индивидуалом, когда вдохновителем и организатором батальона Басманова, позже - руководителем одновременно белой и красной контрразведок, что выглядело парадоксально, но весьма эффективно (ведь это очень удобно, когда противостоящие силы управляются одним человеком, исключается глупый параллелизм и ненужные потери), - находился сейчас в своей стихии.
Вернувшись из сталинской Москвы и «полета» в другие измерения, он знал, что делать, и имел необходимую материально-идеологическую базу: деньги, что не слишком важно, но полезно, не проходящее ни по каким учетам оружие в достаточном количестве, а главное - информацию.
Полторы тысячи бойцов дель Вайо, по мнению Мамсурова и Старикова, были вполне подготовлены для выполнения операций «первого уровня». Пусть и не так, как немецкий батальон (позже полк} «Бранденбург» времен Второй мировой, но несравненно лучше, чем франкистские полевые части. Главное же - солдаты корпуса были идеологически ориентированы. Они действительно были готовы сражаться и умирать за идею, что на войне - главное.
Мамсуров и Старинов, кроме того, располагали каждый примерно сотней людей более высокого уровня подготовки. Своих, второй год работавших инструкторами у испанских товарищей, и интернационалистов с опытом службы в аналогичных подразделениях стран, из которых приехали. В Мировую войну и позже.
У Гришина теперь было пятьдесят бойцов, тоже весьма квалифицированных в делах, которые «приличные» люди считают «неприличными».
– Итак, товарищи, на фронте с завтрашнего дня случится то-то и то-то, - указал на карте, что именно, не вдаваясь в подробности. Люди грамотные, то, что им требуется, поймут. - Надеюсь, успешно. В любом случае франкисты завязнут прочно на неделю, а то и больше, даже если полевые войска не оправдают моих надежд. Нам этого хватит. Пригласите, - указал он пальцем на дверь самому младшему по возрасту и званию Гришину. По причине секретности совещания адъютантов здесь не полагалось.
В кабинет вошли два комиссара Интербригад, немец Рейнгольд Фраш и итальянец Джакомо Бизлери. Несмотря на то что в Крыму Шульгин ожесточенно воевал с большевиками, здесь он доверял именно коммунистам. По названной выше причине.
– Садитесь, товарищи. У вас все готово?
По испанскому да и русскому обычаю приглашенным предоставлены были вино, водка, прочие напитки и табачные изделия. Иначе - неуважительно.
Товарищи должны были обмундировать, вооружить и нужным образом сориентировать по сотне надежных бойцов, которые будут изображать соотечественников из легиона «Кондор» и ударной дивизии чернорубашечников[18] «Черное пламя».
– Готово, компаньеро Алехандро.
– Транспорт?
– Имеем двадцать грузовиков и автобусов с итальянской и франкистской маркировкой. Горючего полные баки. Остальное возьмем там.
– Хорошо. Начало операции назначаю на девятнадцать часов завтра. Вы, товарищи, - обратился он к Мамсурову и Старикову, - координируя действие своих отрядов с батальонами компаньеро дель Вайо, скрытно пересекаете линию фронта, выдвигаетесь южнее и севернее Сарагосы и начинаете неограниченную диверсионную войну на коммуникациях, линиях связи и в местах дислокации гарнизонов мятежников. Именно неограниченную! Чтобы пошел настоящий шум и паника! Да что мне
вас учить? Желательно десятку-другому мелких групп просочиться в саму Сарагосу, учинить там деморализующие беспорядки. Соответствующее снаряжение вам будет предоставлено к утру.
Общая задача - нанести противнику максимальный психологический ущерб и заставить его начать переброску на север своих мобильных подразделений. Или, наоборот, осуществить стремительный отход. Это несущественно. Главное, чтобы сложилось впечатление, что республиканцы начали генеральное наступление под прикрытием отвлекающей Теруэльской операции. Небольшой вопрос к вам, товарищ дель Вайо. Как этого можно добиться с вашими силами? Только не думайте, что я вас экзаменую, мне просто хочется узнать, совпадает ли ход наших мыслей. Очень важно, если союзники понимают друг друга без слов.
При этом он незаметно подмигнул Старикову. Этого человека он видел в документальном фильме восьмидесятилетним, а сейчас перед ним сидел подтянутый, достаточно молодой и симпатичный командир. Ему можно доверять безоговорочно, вся последующая жизнь тому порукой.
Тот понимающе кивнул:
– Я так думаю, товарищ Алехандро, нам следует добиться, чтобы до противника ни в коем случае не доходила реальная информация. Только панические слухи. Как это сделать - я знаю.
– Совершенно верно. Причем наверняка лучше, чем я. Здесь ваша страна, ваш народ и ваш враг. Подробности меня не интересуют. Общее руководство возлагается на вас и товарища Мамсурова. Товарищ Стариков отвечает за техническое обеспечение. Не смею больше задерживать. С этого момента связь со мной только по радио.
Для этого Шульгин сумел раздобыть и доставить в Барселону десять американских радиостанций, работающих на волнах, не совпадающих с теми, что доступны рациям франкистов и немцев. Так что говорить можно было и открытым текстом, не затрудняясь шифрами и кодами.
Отпустив командиров, он попросил задержаться комиссаров-интернационалистов. Гришин, конечно, тоже никуда не ушел.
Шульгин чувствовал себя порядочно усталым, но дело следовало довести до конца.
– Вам все понятно, товарищи?
Товарищи согласно кивнули головами, только педантичный немец поинтересовался, отчего не было сказано ни слова о том, где и как предполагается использовать их отряды и кому они должны подчиняться.
– Для этого я вас и оставил. Общий план действий вам теперь понятен, а о частностях…
По замыслу Шульгина, если Теруэльская операция разрабатывалась как отвлекающая мятежников от Мадрида, то диверсионный набег на Сарагосу должен был, кроме чисто военных целей, замаскировать самое главное.
Отряд в двести немецких, итальянских, русских и испанских «рейнджеров» он намеревался в течение завтрашнего дня сосредоточить в районе городка Барбастро, недалеко от самого спокойного, потому что труднопроходимого, участка линии фронта, проникнуть на франкистскую территорию по склонам Сьерра-де-Гуара в сторону Уэски, ударом с тыла уничтожить посты и заставы, прикрывающие дорогу Лерида - Уэска - Памплона. Затем под видом германо-итальянского отряда рвануть на северо-запад, обеспечив, естественно, полную внезапность и секретность акции.
– Обеспечьте выдвижение ваших отрядов. Встречаемся вот здесь, - он указал карандашом точку на карте, - в двадцать ноль-ноль. Я лично прибуду, чтобы вас проводить…
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
– Здорово вы всем мозги запудрили, Григорий Петрович, - с искренним уважением сказал Гришин, когда они наконец остались одни. - Я и то теряюсь, чем же мы по-настоящему будем заниматься…
Он имел в виду истинную роль своего отряда, потому что опыт не слишком долгого общения с начальником ему подсказывал - слова и дела того, как правило, расходятся достаточно сильно. Да и предыдущая служба научила смотреть на вещи под несколько иным углом, чем обычные люди.
– Пока будем ехать - расскажу. Ты вот что, распорядись, чтобы хоть яичницу поджарили, что ли. Зверски оголодал, весь день пустяки всякие, то ломтик хамона, то кусочек сыра. Пусть ко мне в номер принесут…
– С салом?
– А есть? - Представив шкварчащее на сковороде настоящее сало, он не удержался, сглотнул слюну.
– Как не быть. И яиц - три, четыре?
– Можно и пять. А Буданцев где?
Иван Афанасьевич, пока не нашлось ему настоящей работы, по собственной инициативе изображая мелкого сотрудника интендантской службы, вращался в среде примерно такого же ранга товарищей, прибывших сюда раньше него. Знакомился, интересовался образом жизни и «возможностями», благо внешность у него была такая, что заподозрить его в чем-то, кроме желания выпить на халяву стакан казенного спирта или придраться к неразборчивой записи в инвентарной книге, было невозможно. На самом же деле он создавал собственную агентурную сеть: из наших сотрудников, из испанцев, начиная с гостиничной обслуги и до высокопоставленных полицейских, курировавших отель и его обитателей. Кого за деньги привлекал, кого на энтузиазме. Грош цена тому оперу, у которого на связи не имеется полутора-двух десятков надежных осведомителей. И на малинах такие бывают, и в тюремных камерах…
– По городу бегает. Испанский учит…
В голосе оперативника Шульгину послышалось осуждение. Или - ревность.
– Пусть бегает. Тебе до него… - Сашка не стал уточнять. Чтобы лишний раз не осложнять взаимоотношения, Ограничился нейтральным: - Когда сам ромбик в петлицу заработаешь, тогда и будешь контролировать…
– Так он что, майор? - удивился Гришин. Для него в рамках госбезопасности, к которой принадлежал, данное звание казалось недостижимой вершиной.
– А ты думал - в натуре, бухгалтер? В общем, объявится, скажи, чтобы ко мне зашел.
Плотно поужинав, Шульгин снова заснул без вызывавших бессонницу мыслей.
Выехали не слишком рано, после девяти. Даже по здешним дорогам двести километров - не очень серьезное расстояние. Гришин раздобыл два грузовика и три санитарных автобуса «Фиат» из недавних республиканских трофеев. Сам Сашка сел за руль «фордика», Гришин рядом, с автоматом «томпсон» на коленях.
Утро было сырое и туманное, достаточно теплое, приморское, но как только дорога пошла в гору, начал срываться сухой снег, задул ветер, резко похолодало. Кое-где попадались участки гололеда, на открытых местах порывы шквалистого ветра грозили сбросить машину на обочину или прямо в обрыв, так что жестко связанный с колесами руль приходилось удерживать изо всех сил. Отнюдь не легкая прогулка, а серьезная работа. На приличном джипе с гидроусилителем и движком лошадей на двести помощнее ехать было бы куда приятнее. И говорить на серьезные темы тоже.
В экспедицию Шульгин взял всех своих бойцов, снаряженных и вооруженных из расчета автономных действий в тылу врага в течение недели, а там или операция завершится тем или иным образом, или можно будет перейти на иждивение противника.
Собственный опыт и многочисленные учебники, справочники и наставления, касающиеся теории и практики подразделений спецназа, партизанской и контрпартизанской деятельности Второй мировой и сорока лет последовавших за ней локальных войн, весьма способствовали разработке плана, заведомо обреченного на успех.
Для усиления новичков, умелых, но понятия не имевших об особенностях ТВД[19], о местных условиях и обычаях, Мамсуров передал в его распоряжение пять человек из своего контингента, уже отвоевавших в франкистских тылах по году и больше, знавших язык и массу специфических деталей. Интербригадовцы выделили в помощь трех немецких товарищей, заслуживших хотя и мелкие, но офицерские чины в Первую мировую и помнящих, каким образом нужно разговаривать хоть с соотечественниками из легиона «Кондор», если они вдруг встретятся на пути, хоть с фалангистскими союзниками. И двух итальянцев на тот же самый случай.
Кроме того, Шульгин озаботился тем, чтобы до пункта сосредоточения их сопровождал бронеавтомобиль Республиканской штурмгвардии. Для обеспечения взаимодействия в прифронтовой полосе с чересчур бдительными товарищами из контрразведки и полупартизанских формирований каталонских профсоюзов.
Сама по себе задача сложной не представлялась. Местность, намеченная для форсирования линии фронта, совсем не подходила для операций даже дивизионного масштаба и с обеих сторон прикрывалась преимущественно патрулями на горных тропах. В полосе более шестидесяти километров шириной не было вообще ни одного населенного пункта, а подходы к расположенному на пересечении трех плохо шоссированных дорог городу Уэска с севера преграждали несколько отрогов господствующей над местностью двухкилометровой горы Гуара.
Имеющим опыт действий в подобных условиях бойцам не составит особого труда открыть выход отряду на оперативный простор.
На въезде в городок, похоже, не изменившийся со времен Сервантеса и Дон Кихота, куда они добрались уже в темноте, их ждали.
Машины интернационального испано-германо-итальянского батальона запрудили узкие улочки и длинную террасу над речкой Альканадре. Шульгина и Гришина посыльный, уже переодетый в мундир франкистского лейтенанта, провел в нижний зал таверны на постоялом дворе, где все - забор, главный дом, флигеля и службы - было сложено из серого, выветренного камня лет триста или пятьсот назад. Двор был вымощен тем же камнем, как и площадь перед ним с единственным корявым каштаном посередине.
Когда-нибудь в будущем это будет приводить в восхищение европейских и азиатских туристов, а пока что наводило на мысли о давно и навсегда остановившемся времени.
Зато с военной точки зрения все обстояло хорошо. Нет электричества, нет телефонной связи. И почти наверняка отсутствуют франкистские агенты, снабженные батарейной рацией, которые могли бы передать на ту сторону информацию о появлении крупного вооруженного формирования.
Местные жители, испокон веку приученные не доверять никому, включая обитателей соседних деревушек, заперли тяжелые двери и ставни, предпочитая не знать, что за войска вошли в город и зачем. Франкисты, республиканцы - какая разница?
– Буэнос ночес, компаньерос, - сказал Шульгин, подсаживаясь к длинному деревянному столу, на котором, кроме тарелок с закусками, кувшинов с вином и медной керосиновой лампы, была предусмотрительно разложена карта-километровка. Здесь заседали, потягивая густое темное вино, Фраш, Бизлери и совсем молодой испанский командир, как и его порученец, одетый в франкистскую, щеголеватую в сравнении с республиканской, офицерскую униформу. На нашей Гражданской тоже так было. Похоже, до прихода «компаньеро русо» союзники о чем-то жарко спорили.
Сашка за время дороги вымотался основательно. Двести километров за рулем легковой машины дались труднее, чем когда-то шестьсот на мотоцикле. «Старею, наверное», - усмехнулся про себя, указал Гришину на место рядом, кивнул на полевую сумку. Немедленно появилась бутылка «Московской» водки и батон одноименной колбасы. Мол, у вас свое, у нас свое - сравним, что лучше. Немец мгновенно оживился, он-то понимал толк в «настоящих» напитках, южане лишь пригубили, больше из вежливости.
В течение часа союзники наконец-то получили представление о подлинном плане операции. Поначалу он поразил их своей авантюрной наглостью. Но в ходе обсуждения деталей согласились, что, пожалуй, сработает.
Рано-рано, под конец, флотским языком выражаясь, «собачьей вахты», между тремя и четырьмя утра, начал выдвижение передовой отряд - тяжелый немецкий броневик «231», разрисованный всеми необходимыми эмблемами и номерами, на броне десант из пятерых немцев и двух испанцев. В те времена подобное не практиковалось, но тем хуже для неприятеля. Следом шли два грузовика, в тентованных кузовах по пятнадцать человек, опять же немцев и итальянцев в нужном обмундировании, все вооружены исключительно «Томпсонами», других подходящих к задаче автоматов тогда в мире не было. За ними - автобусы с основной ударной силой, еще семьдесят бойцов, автоматы, много ручных пулеметов, ящики гранат, по преимуществу русские «Ф-1» и немецкие наступательные с длинными ручками.
Испанские гвардейцы аккуратно отвели в сторонку гарнизон республиканской заставы, вежливо, но под стволами объясняя, что сейчас тут начнется другая работа. И поучаствовать в ней они могут, громко крича что угодно, стреляя в воздух и в направлении собственного тыла. Но ни в коем случая не покидая позиции и потом никому ничего не рассказывая. Как умеют штурмгвардейцы поступать с непонятливыми, знали все.
Тут же бойцы десантной группы начали разбрасывать, вручную и с помощью метательных устройств, десятки взрывпакетов, крайне мощных, звуком и яркостью пламени похожих на разрывы артиллерийских и минометных снарядов.
Примерно километром сзади подобный концерт устроила группа прикрытия. Масса осветительных ракет над дорогой, захлебывающиеся пулеметные очереди и взрывы, взрывы. Даже опытному в военном деле человеку спросонья вполне могло вообразиться, что с республиканской стороны с боем прорывается какая-то часть, а неприятель оказывает сопротивление как раз в меру своих боевых возможностей.
Франкисты знали, что у республиканцев границу держат примерно две роты, у них самих было почти столько же. Две роты марокканцев и неполная рота мобилизованных из Эстремадуры крестьян. В их сторону пули и снаряды не летели, а о том, что это может оказаться «военной хитростью», даже кадровый испанский капитан, не говоря о марокканских офицерах, догадаться не успел, вернее, ему подобное и в голову не пришло по причине специфического менталитета.
Поэтому, когда сбивая рогатки, обмотанные колючей проволокой, через не слишком глубокий ров, пересекающий дорогу, перевалился, завывая мотором, немецкий броневик, тяжелые пулеметы из фланкирующих бункеров стрелять не стали. Хотя «гочкисы» могли с двадцати метров порубить двенадцатимиллиметровую броню в клочья и еще худшее учинить с грузовиками и автобусами.
Немцы-десантники кричали на своем языке, испанцы - по-испански, итальянцы добавили в общий хор эмоционального накала: «Хох!», «Арриба, Эспанья!», «Дуче семпре рачионе!», «Пассеремос!», «Кончайте стрелять, придурки, тут все свои!» - создавая полную картину успешного прорыва ударного подразделения из тылов противника, возможно, обозначающего окружение Восточного фронта противника.
Отважные бойцы посыпались из кузовов, бросились пожимать руки и обниматься с боевыми друзьями, к которым пробивались так долго. Правда, будь капитан чуть понаблюдательнее, успел бы сообразить, что «камрады» уж очень аккуратно одеты для солдат, с боями преодолевших не одну сотню километров. И отчего на машинах, если позади еще гремит пехотный бой? По правилам надо бы наоборот.
Впрочем, на такие штуки легко покупались и советские солдаты и офицеры в сорок первом. Трудно думать о плохом, когда перед тобой - хорошее. А через секунды в ход пошли ножи, пистолеты, ручные гранаты и автоматы.
За несколько минут несколько домов, приспособленных под бункеры, площадки и проходы между ними, пулеметные гнезда были завалены трупами.
На третий год войны взаимное ожесточение достигло такого накала, что и в обычных боях пленных брали достаточно редко, а марокканцы республиканцев - вообще никогда. Спецназу, уходящему в глубокий рейд по тылам, они тоже ни к чему.
Только капитану Барсело было позволено остаться в живых, под честное слово. Он указал на карте расположение батальона, занимавшего позиции в пятнадцати километрах позади, между Ангуэсом и Уэской, имя его командира и позывной.
Телефоны тогда были плохие, голос передавали с большими искажениями, и республиканский офицер от имени капитана доложил, что с вражеской стороны к его заставе пробился германо-итальянский отряд, якобы выполняющий особое задание. Преследующие его коммунистические части отсечены и остановлены. Отряд на пяти машинах, имея при себе убитых и раненых, движется к Уэске. Просьба встретить и оказать необходимую помощь, так как застава таких возможностей не имеет.
Свое обещание республиканский офицер сдержал, капитан был отправлен с сопровождающим в тыл, а отряд, дождавшись подхода обеспечивающей группы, уже как бы легально двинулся на запад.
В это же время, не дожидаясь результата штурма заставы, три сводных взвода под общим командованием Гришина форсированным маршем двигались в сторону Уэски, обходя ее с севера. Двадцать километров по горным тропам при наличии проводника из местных не так уж много, хотя и несли бойцы на себе двухпудовую выкладку оружия и боеприпасов. Продовольствия - по банке свиной тушенки, полкило хлеба, две плитки шоколада, фляжке крепкого чая и фляжке коньяка. Шульгин шел на равных, только без груза - автомат на ремне, бинокль, пистолет и подсумки.
Первый бросок - пятнадцать километров, переменным аллюром: бег - быстрый шаг - снова бег.
На получасовом привале он получил сообщение от штурмовой группы, что она вышла на подступы к первой линии прикрытия города. Без потерь. Сашка приказал по возможности уничтожить ядро обороны без особого шума, а потом, заняв окопы и укрепленные узлы, развернуть тяжелое вооружение фронтом на запад и устроить «настоящий шум». Одновременно от имени старшего офицера доложить в штаб гарнизона Уэски, что крупные силы республиканцев силами более полка непрерывно атакуют и возможности держаться почти исчерпаны. В истерическом тоне требовать немедленной помощи, заявляя, что не позднее чем через час батальон будет уничтожен - или немедленно начнет отступление.
В этой «авантюре» ничего выдающегося не было для человека, знающего «неслучившееся прошлое» и «условное будущее». Любой толковый офицер в наше время понимает, что двести хорошо подготовленных и вооруженных автоматическим оружием рейнджеров за полчаса способны практически без потерь перебить восемьсот вражеских солдат, захваченных врасплох, малограмотных во всех смыслах, то есть неспособных оценивать обстановку и принимать хоть какие-то решения, кроме диктуемых спинным мозгом. Особенно ночью. По ночам не воевали даже немцы вплоть до сорок второго года.
Старые винтовки, ровесницы нашей «мосинки» - тоже не оружие в скоротечном ближнем бою.
Не говоря о Каховском сражении, где дивизия корниловцев и батальон Басманова днем в открытом поле разбили целую армию красных, в анналах истории имеются примеры взятия немецкими десантниками форта Эбен-Эмаэль и Крита, японцами - Сингапура. Сингапур, кстати, англичане считали действительно неприступной крепостью, многократно более мощной, чем Севастополь и Порт-Артур (которые, к слову, оборонялись почти по году), но позорно сдали его через неделю. Как и французы свою «линию Мажино».
В начале «настоящей» Отечественной немецкие штурмовые отряды тоже ухитрялись захватывать стратегические мосты и укрепрайоны смешными, по сравнению с обороняющимися, силами.
Сидя на выступе плоского камня под прикрытием густого местного кустарника, Шульгин, подсвечивая фонариком, указывал Гришину на карте:
– Смотри, вот очередная наша фишка. В течение трех-четырех часов максимум, когда рассветет, франкисты из Уэски начнут, по моим предположениям, выдвигаться на помощь своему гибнущему (уже погибшему, на самом деле) батальону…
– Простите, Григорий Петрович, а если не начнут? Вы знаете лично начальника ихнего гарнизона? Что он за командир? Вдруг предпочтет занять оборону, плюнув на своих? В тепле, в каменных зданиях, под прикрытием артиллерии. Зачем ему лезть черт-те куда в такую погоду, без знания обстановки? Это же испанцы. Может, дозор вышлет, а то и скажет - отступайте, как сумеете!
– И так может случиться, - согласился Шульгин. - На этот случай предусмотрен другой вариант. Одним испанским взводом наши будут до последнего имитировать бой, подожгут все, что можно, из трофейных пушек начнут обстрел окраин города, а немцы с итальянцами втихаря обойдут Уэску и, изображая подход резервов, атакуют франкистов с тыла, имея целью прежде всего штабы и пункты боепитания. При тамошней топографии и архитектуре у обороняющихся минусов больше, чем плюсов…
Шульгин знал, о чем говорил. Компьютерно моделируя все этапы операции, он убедился, что засев в прочных, на вид неприступных средневековых зданиях, мятежники полностью потеряют контроль над городом. Узкие, двух-трехметровой ширины улицы, окруженные сплошными стенами домов и каменными заборами, легко блокируются с перекрестков пулеметами, после чего любая возможность вылазок обречена на провал. Эти города и городки на Пиренеях строились в расчете на оборону в реалиях XIII-XIV века. Тогда действительно несколько воинов с мечами и алебардами, прикрываясь щитами, могли полдня отмахиваться от каких-нибудь сарацинов или мавров в устье каменной кишки, а их жены и дети из окон и с крыш лили на головы врагов кипяток, расплавленную смолу, швыряли камни и черепицу. А тем и бежать некуда, и укрыться негде.
Теперь же все наоборот. Невозможно, поодиночке выскакивая из дверей, по-прежнему узких, за короткое время собрать приличную группу, способную атаковать вдоль каменной щели, где не только прицельные, но и шальные, рикошетные пули находят свою цель. В чистом поле развернутой цепью можно пробежать живым сотню метров до вражеских позиций и сцепиться врукопашную, а здесь - никак!
– Пока ребята будут блокировать город, позволив гарнизону оттянуться в самую укрепленную и неприступную его часть, Громов и Сиснерос[20] ударят по обозначенным ракетами объектам всеми своими «СБ» и «Потезами».
– Что это даст нам? - практично поинтересовался Гришин, которому вопросы большой стратегии были не слишком интересны и понятны.
– Единственно - безопасность. Мы с вами фактически не существуем, разве что в сознании нескольких человек, случайно задумавшихся, что там за люди крутились вокруг штаба Главного советника. Да и то сомневаюсь, что на фоне прочего мы привлекли отдельное внимание. Запомните, Роман, еще Честертон писал: «Где умный человек прячет камешек? На морском берегу. А где умный человек прячет лист? В лесу…»
Совершенно неожиданно старший лейтенант проявил несовместимую с возрастом и должностью эрудицию:
– Если нет леса, он его сажает. И, если ему нужно спрятать мертвый лист, он сажает мертвый лес…
Шульгин, вспомнив свою молодость, шестьдесят восьмой год и букинистический магазин рядом с Политехническим музеем, изобразил аплодисменты, не сводя, впрочем, ладони.
– Поражен вашей эрудицией, Роман. Что ли в советской неполной средней школе почитывали?
Гришин или не понял, или пропустил мимо ушей иронию, прозвучавшую в голосе большого начальника.
– Да нет, Григорий Петрович. Когда мы стояли в Карши в тридцать первом, там у единственное русского человека, деда лет шестидесяти, бывшего акцизного чиновника, попался мне толстый том Честертона. И за неимением ничего иного я его за год почти наизусть выучил. Умнейшая книга…
– Точно как «Справочник Гименея» О. Генри, - рассмеялся Шульгин.
– О. Генри? Никогда не слышал…
Вот главное зло несистематического образования и случайной эрудиции.
– Вернемся живыми, дам почитать. Станешь ровно вдвое умнее.
Чекист усмехнулся - кто его знает, соглашаясь или наоборот.
Сашка чувствовал себя великолепно. Государственным деятелем уровня Молотова, а то и выше, быть, конечно, интересно, увлекательно, и с товарищем Сталиным на равных поиграть - тоже способствует самоуважению. Однако простым рейнджером - куда как лучше.
Сразу видно, что ты собой представляешь, помимо привходящих обстоятельств, сверхъестественных помощников и не тобой разработанных схем. Сейчас сидят рядом и вокруг молодые парни, лет на десять-пятнадцать моложе, а прикажет он, докурив сигарку, бежать дальше, до упора, до места, до крайнего предела сил - и побегут. А он, если обстановка потребует, сможет выходить в голову колонны, задавая направление и темп, возвращаться к арьергарду, подгоняя отстающих, взять у самых слабых автоматы, развешав их по плечам, по два-три на каждое, и опять вперед. Сил хватит, он это знал.
– А все-таки, Григорий Петрович, в чем заключается наша задача? Я, после вас, старший здесь командир, хотелось бы знать. Всякие случайности бывают, и как тогда?
– Очень ты правильно сказал, Роман. Случаи, они всегда летают, словно пули. Одни под них подставиться рискнули, и ныне - кто в могиле, кто в почете. Дойдем до нужного места - все расскажу. А сейчас - общий подъем! Бегом - марш!
Бежали, пока позади и слева полностью не затихли звуки отдаленного боя. И еще почти час в тишине.
За спинами небо начало ощутимо светлеть. Пора сделать долгий привал. У последнего перед выходом на плоскогорье хребта проводник указал на черную даже на фоне темных скал расселину.
– Здесь. Отдохнем безопасно.
Прирожденный горец едва переставлял ноги, а Шульгин пока еще был достаточно бодр.
– Хорошо, Привал. Шесть часов и горячая пища. Займись, Гришин. Закончишь - подойди ко мне. Обсудим дальнейшее…
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Весь свой стратегический план Шульгин продумал задолго до того, как начал претворять его в жизнь. Какими-то деталями на Валгалле, во многом - очутившись первый раз в Испании, и, окончательно, беседуя с Антоном после всех своих скитаний по Сети. Только не был он еще подобающим образом расписан в качестве боевого приказа.
Пошлифовал с использованием ростокинского компьютера, пребывая в мире 2057 года, там и времени, и полета воображения хватало. Документов тоже. Пусть в их истории такой войны не существовало, зато в достатке имелось географических карт, планов городов любой проекции и степени деталировки, объемных, если нужно, с точностью до дома и положения дерева на улице. И не только современных, столетней давности тоже.
Стремительный, шокировавший не только франкистов, в гораздо большей мере - их союзников, захват отрядами спецназа и Особого корпуса Уэски и Сарагосы немедленно изменил картину войны. Она перешла в иное, непонятное большинству ее участников качество. Удержать города, которые являлись ключами обороны огромной, жизненно важной для обеих сторон территории десантники, конечно, не могли, но панику среди франкистов подняли нешуточную. Начались, как всегда бывает при внезапном поражении, склоки, дискуссии, разборки, причем на тех командных уровнях, которые не в состоянии принимать немедленных, оперативных решений.
По проложенной спецназовцами дороге в Уэску следующим днем было переброшено еще два полка республиканской пехоты, занявших оборону по западным окраинам города. Теперь открывалась новая, гораздо более удобная коммуникация для прямой связи с Францией. А это означало окончательный прорыв блокады. Правительство Леона Блюма больше не могло продолжать игру в «невмешательство», рискуя социальным взрывом в собственной стране.
Два армейских корпуса республиканцев двигались к Сарагосе по шоссе, тоже контролируемом диверсантами полковника дель Вайо. То, что не удавалось в течение целого года кровопролитных боев, сейчас осуществилось как бы само собой.
Самое главное - Франко и его генералы окончательно утратили инициативу. Как генерал армии Павлов в первые дни Большой войны. Они просто не понимали, откуда может последовать следующий удар и где сосредотачивать силы. Любая рокировка втянутых в сражения дивизий немедленно открывала новые дыры на не менее угрожаемых направлениях.
Идеальным для них решением было бы стянуть все свои войска Восточного фронта, все без исключения, в район Сигуэнсы. Перегруппироваться, в меру сил восполнить потери, создать артиллерийские и танковые кулаки. После чего просто ждать. Помощи от немцев и итальянцев, как привыкли, а если таковой не поступит - останется возможность, выявив направление наступления республиканцев, дать им генеральное сражение. А там: или - или! Лучше ужасный конец, чем ужас без конца! Благо рельеф местности исключал стратегические неожиданности. Старая Кастилия - не Южная Украина.
Увы, присланные Гитлером на помощь союзнику командиры были совсем не того калибра, что вдруг потребовала надвигающаяся катастрофа. Ни немец фон Шторер, ни итальянец Роатта в подметки не годились Манштейну, Роммелю, русским Брусилову, Юденичу, Слащеву, из нынешних - Рокоссовскому с Шульгиным. Немцы еще не додумались до «блицкрига», вернее, не подступили даже к первым опытам его практической реализации. Итальянская армия, как острили в Первую мировую, существует только для того, чтобы было кого бить австрийцам. Она и побежала первой. В самом буквальном смысле. Подавая хороший пример тем, кого взялась поддерживать.
Полковник Павлов оказался плох на превышающей уровень его компетентности должности комфронта, но танковым комбригом оказался великолепным. Получив карт-бланш от Шульгина, он сосредоточил сотню «Т-26» и французских «Рено» неподалеку от Гвадалахары в качестве главного резерва на случай неожиданного удара франкистов на Мадрид, строго запретив командирам выдвигаться за линию своих пехотных позиций. Не поддаваться на требования, исходящие с любого уровня руководства, использовать танки менее, чем батальоном, и обязательно под командованием штатного командира. Хватит, пятьсот танков сожгли, атакуя вражеские батареи прямой наводки под приветственные крики «братьев по классу», из окопов вылезать не желающих.
Зато сто пятьдесят танков «БТ-5» и «БТ-7» он собрал в мощный кулак, посадил на броню и в машины обеспечения два батальона десанта и по специальной команде бросил их вроде бы в пустоту. Нет, не вроде бы, именно в пустоту, где его никто не ждал и сопротивления оказать не мог. Ничем.
Впервые в своей короткой жизни (исторической) эти красивые, как автомобили из модного салона, танки, мощные и скоростные, выполнили свое предназначение. Еще раз немногие уцелевшие «бэтэшки» показали себя на маньчжурских полях в сорок пятом, доказав, что строили их не зря. Только отцы-командиры в сорок первом не сумели распорядиться попавшим им в руки сокровищем.
Через Сеговию, Вальядолид и Самору они за десять часов проскочили триста пятьдесят километров до самой португальской границы. По пути, почти не останавливаясь, расстреливали в попадающихся на дороге городках административные здания, над которыми болтались франкистские красно-желтые флаги. Давили гусеницами автомобили (в то время простые люди на них не ездили), наткнувшись на захолустный гарнизон, утюжили под ноль ограды, складские помещения и казармы.
Если случались поломки, рядом с поврежденной машиной и ремлетучкой оставалось не меньше роты для прикрытия, а заодно и имитации «боевого присутствия» на занятой территории.
Всего несколько раз над наступающими колоннами появлялась франкистская авиация, и то небольшими группами. Вела она себя достаточно сдержанно, потому что время от времени с востока прилетали эскадрильями «СБ», сопровождаемые «Чатос» и «Москас»!.[21] Бомбили обнаруженные скопления противника, вели разведку по маршруту, сбрасывали на бреющем вымпела с наскоро набросанными штурманами кроками[22] в алюминиевых пеналах, распугивали вражеские самолеты.
Если же наши и франкистские самолеты попадали «в противофазу», бригада отбивалась самостоятельно. На этот случай, кроме шквальной стрельбы в воздух из всех имеющихся у танкистов и десантников стволов, Шульгин подсказал Павлову прием, который немцы в сорок третьем - сорок четвертом году использовали для борьбы с нашими «Ил-2». Здесь он оказался еще более эффективным из-за низкой скорости самолетов и отсутствия у них броневой защиты. Заслышав гул авиамоторов, танки успевали, съезжая кормой в кювет или поднимаясь на подходящий холмик, придать башенным орудиям нужный угол возвышения, тут же открывая беглый огонь шрапнелями. Попадали далеко не всегда, но страху наводили порядочно. Однако два «Капрони» сбили наверняка, а еще несколько покинули поле боя с явными повреждениями.
На последней трети маршрута наступавший по хорошему шоссе батальон выскочил к полигону учебной части, где занимались боевой подготовкой немецкие «Т-1» и «Т-2» с испанскими экипажами под руководством «кондоровских» инструкторов.
Сейчас странно читать в сводках того времени сообщения типа: «три республиканских «БТ-5», наступая, сошлись с десятью немецкими танками. Один «Т-1» уничтожен таранным ударом, второй - артиллерийским огнем. Остальные позорно бежали»[23]. Это, наверное, надо было посадить в «БТ» экипажи из выпускников школы «детей с ограниченными возможностями». Потому что любой кадровый сержант (лейтенанта не надо беспокоить) с дистанции в сто метров из своей «сорокапятки» спалил бы все десять немецких танкеток, ничем не рискуя. Как в тире. Пулемет «МГ», даже спаренный, их броню не берет в упор. А эта чудесная фраза - «Позорно бежали!». При том, что скорость и проходимость у «БТ» гораздо выше. Тем более расстреливать бегущих - вообще милое дело.
Танкисты Павлова проявили себя гораздо лучше. Записали себе на счет два десятка танков и танкеток, заправились «под пробки» захваченным горючим, поживились и другими трофеями.
Кроме танков и грузовиков, за время стремительного, всесокрушающего рейда было уничтожено двенадцать артиллерийских батарей на позициях, на марше и в парках, в том числе четыре экземпляра знаменитых зениток «Flak-36».
«Живую силу» просто никто не считал. Тысяча, две, пять - несущественно. Пустыми цинками от пулеметных патронов были усеяны все обочины от берега реки Харама до португальской границы.
Там и выпрыгнул на бурую, припорошенную сухим снегом землю полковник Павлов. Вот его звездный час! Лицо покрыто пороховым нагаром и копотью от выхлопов работавшего на пределе мощности мотора. Бензин у испанцев отвратительный, как еще доехали?
Два танка, устало перематывая гусеницы, подъехали к испанской заставе, навели пушки на окна и дворик, где, не понимая происходящего, чьи это танки и зачем они приехали, застыли несколько пограничников.
– Всем зайти в дом, не высовываться, к оружию не прикасаться, телефон не трогать! - скомандовал им состоявший при Павлове лейтенант-переводчик, демонстративно держа палец на спуске автомата. Если б не «компаньеро русо», положил бы всех без разговоров.
К заплетенным «колючкой» воротам между государствами с той стороны неторопливо шел португальский сержант в смешной каскетке, суконном плаще, с «маузером 98-К», стволом вниз висевшим на плече. Еще трое толпились на крыльце хибарки, похожей на сильно увеличенную собачью будку. Над фронтоном слабо колыхался государственный флаг. - Алемао? Итальяо[24]? - без особых эмоций спросил он Павлова, стоящего в пяти шагах, на довольно понятном языке, который был так же близок к испанскому, как польский к русскому. - Ке керен?
В типах танков он явно не разбирался, зато был твердо уверен в нейтралитете своей страны и нерушимости ее границ.
– Русский, - ответил Павлов, радуясь возможности бросить притворяться. И вообще радуясь, что дошел вот сюда.
– Конец Франко. Баста! Салазар тоже скоро баста. Вива Република! - улыбнулся, как мог, радушно, но вышло не очень. Он и так выглядел достаточно сурово, да вдобавок лицо покрыто пылью и копотью. Только зубы и глаза блестели.
– Боа апетит, рапасеш! - понимающе кивнул сержант. - Нойш агора нао партиши памош[25]…
Павлов, который совершенно ничего не понял, поднял к плечу сжатый кулак и, потеряв интерес к собеседнику, направился к испанской заставе.
Там, вновь ощутив себя хозяином положения (португальский сержант несколько выбил его из настроя), он приказал начальнику заставы, лейтенанту предпенсионного возраста, связаться с самым большим начальством, до которого достигает телефонная связь, сообщить следующее:
«Застава окружена. Со всех сторон движутся танки коммунистов и массы пехоты. Очень, очень много! На нас пока не обращают внимания. Сопротивляться нечем. Прошу разрешения уйти на португальскую сторону…»
С той стороны мембраны бился непонятный Павлову по смыслу, но истерический голос какого-нибудь адъютанта начальника погранотряда или округа. Этих структур полковник не знал даже дома.
Лейтенант синхронно переводил, держа у уха параллельную трубку.
– Что вы несете, Варела? Сошли с ума или перепили? Какие танки, какая пехота? Вы вообще знаете, что такое танки?
– Господин капитан! Сотни танков и тысячи пехотинцев! Кажется, они на нас обратили внимание! Мы уходим. В Португалию. Счастливо оставаться, господин капитан. От нас здесь ничего не зависит… Если не верите, звоните в Брагансу[26]. А мы уходим…
Пограничник положил трубку на рычаг и совершенно собачьими глазами посмотрел на Павлова. Мысль улавливалась даже грубым интеллектом полковника. «Вот, я сделал, что вы требовали. Теперь и вы меня пожалейте!»
Будь Павлов поинтеллигентнее, мог бы сказать или просто подумать: «Где же твоя испанская гордость?» Но это было за пределами свойств его личности и характера. Он мыслил простыми категориями. Практическими при этом.
– Вот и уходи, куда собрался. Я прослежу, чтобы вас на той стороне приняли,
И, сам себе удивившись, полковник неловко сунул испанцу все, что у него было при себе, - нераспечатанную коробку «Казбека».
Дойти-то дошли и шорох навели грандиозный, по паническим донесениям гражданских и военных чинов «наверх» вполне могло сложиться у штабистов Франко впечатление, что теперь их территория рассечена пополам, «столица» отрезана от Юга. И какими силами республиканцев будет заполнен этот «коридор», предсказать невозможно. Кто его знает, вдруг вся мадридская группировка и войска Центрального фронта двинут по следам танковой армады?
Этот феерический успех стратегической авантюры, иначе не назовешь, может показаться невероятным. Батальным полотном из цикла «шапками закидаем». Но разве не столь же диким с точки зрения военных теоретиков выглядел стремительный разгром Франции в сороковом, когда великая держава, поддержанная британскими войсками, рассыпалась за месяц под ударами нескольких дивизий легких танков Вермахта? А ведь та же Франция двадцать лет назад успешно воевала четыре года и победила могучую кайзеровскую армию.
Еще более нереальным выглядит разгром советских фронтов в приграничном сражении сорок первого года. Те же «Т-2», «Т-3», небольшое количество «Т-4» пропороли две линии укрепрайонов, походя, почти не заметив[27], разгромили десяток мехкорпусов, каждый из которых количественно, а моментами и качественно превосходил любую из немецких танковых групп. Всего через два месяца кольцо окружения было замкнуто далеко восточнее Киева, а Москва оказалась на направлении прямого, якобы «завершающего» удара.
Нынешний «блицкриг» всего лишь предвосхитил немецкий успех, не превратившийся, впрочем, в победу. Как писал один специалист, «немцы умеют выигрывать сражения, но не войны!».
В гораздо большей степени, чем на опыт Гота, Гудериана и Клейста, Шульгин ориентировался на тактику Моше Даяна. И подробно объяснил Рокоссовскому, что именно следует написать в боевом приказе Павлову. В разделе, касающемся «последующей задачи».
Полковнику предлагалось по достижении конечной точки рейда в течение ночи привести в порядок технику, дать людям отдых и горячую пищу, а с рассветом, развернувшись на сто восемьдесят градусов, повторить собственный маршрут. Собирая по пути оставленные заставы и по второму разу добивая неприятеля, если ему вдруг вздумается опомниться и подтянуть к полосе рейда еще какие-то силы.
Вернувшись из Уэски и ознакомившись с радиограммами Павлова, Шульгин немедленно пригласил к себе Рокоссовского, Громова, командующего республиканскими ВВС Идальго де Сиснероса и возглавлявшего блестяще проявившую себя под Теруэлем Маневренную армию полковника Менендеса, еще нескольких офицеров и штатских, имена которых никогда не упоминались в текущих и даже исторических документах.
С удовлетворением подведя итоги блестяще завершившейся недели, он приказал Рокоссовскому перейти к обороне на всех фронтах.
– Пошумели, и хватит. Теперь дадим шанс каудильо. Пусть покажет, как он умеет импровизировать в подобной обстановке.
– Вы, компаньеро Идальго, и вы, Михал Михалыч, - обратился он к авиаторам, - продолжайте бомбардировочные налеты на весь радиус. Большими группами и с достаточным истребительным сопровождением. Геройствовать и карусели в небе устраивать не надо. Отгоняйте истребители, бейте бомберы, если без особого риска. Нам сейчас люди и машины дороже боевого счета. И особо заметьте - на Бургос летать не надо. Даже в его сторону - не надо…
– Как у нас с конвоем? Когда придет? Итальяский флот не препятствовал? - вновь обратился он к Рокоссовскому.
– Должен к утру быть. Кузнецов радировал - итальянцы все время крутятся поблизости, но агрессивности не проявляют. Соображать начали. Ничего чрезвычайного не случится - сразу начнем выгрузку и марш-маневр к Лериде. Через три дня, надеюсь, бригада будет вполне боеспособна.
– Крайне на вас рассчитываю, Константин Константинович. Этой бригадой и Маневренной армией товарища Менендеса последнюю точку ставить будем. А теперь прошу вот на эту карту посмотреть. Я тут кое-что еще придумал…
Вооружившись указкой, Шестаков изложил свой, еще более авантюрный, чем рейд Павлова, но, по всем критериям спецопераций второй половины века, великолепный план. От Громова требовалось обеспечить четкость и посекундную точность технической части операции. От Сиснероса - соблюдение самой свирепой секретности на аэродромах и воздушное прикрытие на всех этапах. От Менендеса - согласованная по времени, может быть, жертвенная, а возможно, бескровная демонстрация готовности наступать южнее Мадрида. Гипотетическая цель, которую нужно аккуратно довести до противника, - ликвидация Толедского выступа с последующим штурмом города.
Но успех авантюры, весь в целом, зависел сейчас от Овчарова, который снова скромно сидел в уголке, черкая дорогой паркеровской ручкой в блокноте. Только и об этом никто не должен был догадываться. Громов, правда, раскурив папиросу, легким движением брови указал Шестакову, что хотел бы спросить кое о чем наедине.
– Слушаю вас, - выйдя с летчиком в круглую ротонду между двумя кабинетами, спросил он, крутя в пальцах очередную сигару.
– На чем вы лететь собрались, Григорий Петрович? Сиснерос сколько уже раз косился, только вы не реагировали. Он, конечно, вправе вообразить, что завтра из России «ТБ-3» прилетят. Они тут с детства в сказки верят. А на самом деле? Мой самолет человек пятнадцать поднимет, и это все. На «эсбэшки» даже в перегруз по три-четыре едва возьмешь, а прыгать с них… - он махнул рукой. - Что вы имеете за душой, товарищ Главный советник? Я сам авантюрист, а вы?
– Молодец, Михал Михалыч. - Сашка чуть не хлопнул его ладонью по плечу, но вовремя воздержался. - Отчего я и взял вас в команду… Товарищ Монте-Кристо, - позвал он.
Виктор вошел, разглаживая неизвестно зачем отпущенные длинные усы. Если б еще закрутил их вверх, как Дон Кихот или Сальвадор Дали, а то свисают, как у шляхтича.
– Вот, знакомьтесь, комбриг, это наш друг из Парагвая, можете называть его компаньеро Виктор, если хотите. Подполковник царской службы, неплохо проявил себя в Гражданской войне на «той» стороне, что вас не должно обидеть, ибо история - дело такое. В Парагвае, в тридцать четвертом, если слышали, бывшие белые офицеры помогли выиграть их войну с Боливией при пятикратном превосходстве противника. Именами русских героев названы улицы и площади…
Предваряя вопрос Громова, который великолепно помнил Овчарова по первому перелету, Шестаков быстро сказал:
– И ничего больше. Наш друг из Парагвая. Если у вас появились какие-то посторонние ассоциации - это наверняка влияние здешнего отвратительного климата. Давайте о деле. Дон Виктор готов перегнать в Лериду несколько «Ю-52» и других гражданских самолетов, рассчитанных на пятнадцать-двадцать комфортно летящих пассажиров. Сколько десантников с вооружением можно всунуть в каждый для перелета на пятьсот километров?
– Я думаю, не меньше тридцати в посадочном варианте. Парашютистов со всем необходимым вооружением - те же пятнадцать. Вы понимаете.
– Само собой. Значит, что нам нужно?
– Товарищ Шестаков, вы волшебник?
Шульгин построжел лицом. Таких вопросов он не любил. Даже в своем основном варианте, а зампред Совнаркома должен быть покруче…
– Отвечайте на вопрос, комдив!
– Исходя из вашего задания - двадцать самолетов названного типа.
– Двадцать не гарантирую. Пятнадцать - может быть. Авангард придется сбрасывать действительно с «эсбэшек» и старых «девуатинов». Короче - готовьтесь. Иных вариантов все равно не будет. Срок - неделя.
Громов собрался по-строевому повернуться и уйти, но вдруг сделал то, чего от него Шульгин никак не ждал.
– Григорий Петрович, разрешите один вопрос. Попросту, раз у нас отношения не совсем официальные?
– Отчего же нет, Михал Михалыч, я всегда открыт. Винца, может быть, для облегчения субординации?
– Разве только сухого стаканчик. С утра работы много…
– Так что вы хотели спросить?
– Не обидитесь?
– Не привык. Не моего стиля эмоция.
– Понятно. Откуда у вас такие полководческие способности? С восемнадцатого года кого только не перевидал, а с подобным не встречался. И расчет, и безрассудство, и невероятное везение. При этом - ледяное спокойствие. Наполеону до вас далеко. А сидели на хозяйственной должности…
– Ответить? Где вас на самолетах летать учили? Вы гимназию кончили, вам там аэродинамику преподавали? Старичок-учитель насчет элеронов, устойчивости и управляемости аппаратов тяжелее воздуха просвещал? Или Туполев с вами советовался, скажи, мол, Миша, как бы мне этот «АНТ-25» сообразить, чтоб ты на нем до Америки долетел? Почему десятки ваших коллег угробились, а вы в асы и герои выбились? Имеете рациональный ответ?
Посадил он Михаила Михайловича простейшим образом.
– Так что отдыхайте, товарищ комдив. Как только придумаете, как на мои вопросы ответить, заходите, поговорим.
Шульгин сам себе удивлялся, сколько же лишней энергии у него до сих пор оставалось нереализованной. Даже в белом Крыму, где он вроде бы выкладывался по полной. Здесь же его хватало на все - планирование военных операций, дипломатию, интриги, и еще он заблаговременно прикидывал схему игры после возвращения в Москву. Со Сталиным, с Лихаревым, с Антоном, с Сильвией, в конце концов.
Неужели все это - следствие избавления от давления Держателей, которые если и не всегда вмешивались напрямую, то сохраняли напряжение некоего «тормозящего поля»? И нечего скептически усмехаться, вполне такое вписывается в систему всеобщей космогонии.
С Виктором давно было сговорено. Он, подобно суворовскому солдату, «знал свой маневр». И это его увлекло. Не зря друг Шестаков придумал ему оперативный псевдоним Граф. В честь Монте-Кристо, которым Сашке все не удавалось поработать, невзирая на давнее желание. По прибытии в Париж Антон должен был передать в его распоряжение действительно неограниченные средства. В том числе и наличностью. Сам форзейль возьмет на себя определенную часть задания. Тут уж Шульгин постарался.
– А чего ты все пишешь, Витя? Новые стихи? Показал бы. Я ведь тоже не чужд…
Овчаров неожиданно засмущался, что с его обликом и характером никак не гармонировало. Хотя ведь политика - одно, а поэзия - совсем другое. Предавшись виршеплетству, человек волей-неволей приоткрывает тайные струны своей души, если, конечно, не ограничивается сочинением бравурных строевых песен. Великий князь, и тот маскировал свои произведения псевдонимом «К.Р.», под которым и прославился.
– Да ладно, хватит тебе. Покажи, я тебя не выдам…
Овчаров протянул блокнот. Шульгин скользнул взглядом по восьмистишью.
– Ну да. Лирический герой, томленье духа и все такое. Понимаю и готов подписаться. А воевать все одно надо, братец ты мой. Пускай «и скучно, и грустно, и некому руку подать…».
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
В Париже, где у Виктора были кое-какие приятели на Ке-д-Орсе[28], воспринимавшие его в личном качестве, помимо принадлежности к советской власти, он, потратив всего несколько десятков тысяч франков, посидев с нужными людьми за столиками в «Риц», «Мулен Руж» и в гораздо более закрытых заведениях, вышел на министра авиации Второй республики. Хотя все всё понимали, парагвайский паспорт и рекомендательное письмо от мексиканского посла в Барселоне оказались достаточными для «очистки совести» чиновника. На совершенно некоммунистическую Мексику, которая тем не менее демонстрировала всему миру полную и неограниченную поддержку Республики, удобно было ссылаться в самых сомнительных с точки зрения «невмешательства» ситуациях.
Самое же главное - практически любой деятель любой парламентской республики не может быть не продажен. «Нобиль оближ».[29] Как же иначе? Сегодня ты, адвокат или школьный учитель, вдруг волей партийного списка оказался министром. А завтра что, ежели твой кабинет рухнет? Надо успеть! Хватать, хватать и хватать! Выгонят - будет, на что жить. Во Франции это особенно распространено. Исторически, со времен Директории хотя бы. Да и в королевские времена тоже. Уж на что был интеллектуально велик Талейран, и то, будучи назначен министром, не сдержался, говорил, потирая руки, в присутствии камердинера: «Ну вот, теперь наживемся!» Осуждения не встретил.
Разговор с министром был простой. Отчего-то слово «миллион» вызывает у людей неадекватную реакцию. Бывает и два, и три, и сто, и МИЛЛИАРД, но миллион, особенно первый, и не во франках, а в твердой валюте, всегда очаровывает и заставляет забыть о совести и чести. Не всех, не всех, естественно, но, если в душе есть некоторая гниль (или - «широта мышления»), нет лучшего теста.
Задача Виктора облегчалась тем, что за два дня до начала миссии Графа во Франции разразился правительственный кризис, и премьером вновь стал лидер социалистов Леон Блюм, настроенный на решительный отпор франкистам и зарвавшимся немцам. Он немедленно пообещал своему коллеге, главе республиканского правительства Хуану Негрину, срочную помощь. Разговор шел о выделении Испании двухсот артиллерийских орудий, такого же количества боевых самолетов и даже направлении трех-пяти регулярных французских дивизий, которые своим присутствием парализовали бы участие в войне немцев и итальянцев. Прямое боестолкновение с французской армией означало бы серьезную угрозу европейской войны, к которой Германия, зажатая между союзными Францией, Чехословакией и СССР, была очевидным образом не готова.
Срочно собралось заседание Постоянного комитета национальной обороны, в котором, помимо премьера, приняли участие министры обороны, иностранных дел, авиации, флота, начальники генштаба и штабов родов войск. Начальник генштаба генерал Гамелен прямо заявил, что победа Франко и его союзников представляет собой большую угрозу для национальной безопасности, так как авиация и флот Германии и Италии в случае грядущей «большой» войны получают великолепный плацдарм против незащищенного юго-запада Франции, где сосредоточено большинство военной промышленности.
Хотя окончательного решения на этом заседании принято не было, шум в прессе, особенно правой, поднялся большой, и конфидент Овчарова «верховым чутьем» уловил, что можно не только заработать, но и попасть в струю политики нового премьера.
Министр, правда, не совсем понимал, зачем изнемогающей от непрерывных воздушных атак и бомбардировок Республике нужны пассажирские и транспортные самолеты. Разве что для планируемого бегства высшего политического и военного руководства? Впрочем, он счел, что это не его дело. Если бы речь зашла о бомбардировщиках, задача была бы куда сложнее.
Поторговались, не без того. Деньги министр, как раньше Прието, как вообще любой разумный человек, видящий перспективу, пожелал получить в виде двух чеков - полмиллиона долларов на известный ему американский и полмиллиона фунтов на несколько английских банков. Будто догадывался, что при «нормальном» развитии истории вскоре предстоит бегство сначала на неоккупированную территорию, а потом и на Острова.
Овчарову было безразлично, не свои платил, хотя, понятное дело, полтора миллиона долларов за двадцать гражданских самолетов - цена по тем временам несусветная, тем более что гораздо большее количество боевых самолетов уже давным-давно было оплачено Республикой, но так и не поставлено.
Виктор, учитывая этот некрасивый факт, на глазах контрагента заполнил чеки автоматической ручкой с золотым пером, позволил полюбоваться на «сумму прописью», после чего сложил и спрятал их в бумажник.
– Получите после того, как меня уведомят, что все самолеты приземлились на оговоренных аэродромах. А пока вот вам задаток - десять тысяч.
– Нет, мсье, так не пойдет. Самолеты улетят, а с вами тоже что-нибудь случится. А мне - под суд идти?
– Под суд - это вряд ли, не та у вас страна. Но где мои гарантии, что вы не улетите раньше самолетов?
Долго и увлеченно спорили, пытаясь найти взаимоприемлемое решение, и все же нашли. После чего едва ли не подпрыгивающий от счастья министр пригласил партнера в «Максим». Чего теперь мелочиться?
Овчаров очутился в знаменитом ресторане впервые и остался доволен. Слухи вполне соответствовали реальности.
К немалому удивлению Громова, в назначенный Шестаковым день на трех аэродромах сосредоточились не десять и не пятнадцать, а все двадцать воздушных судов. По максимуму. Новых только три, но и остальные во вполне приличном состоянии. Немецкого, французского, английского производства. Некоторые перелетели Пиренеи под видом рейсовых пассажирских, другие доставили голодающему населению Каталонии благотворительную помощь организаций и частных лиц, остальные - в счет разрешенного правительством возобновления ранее согласованных поставок.
Десантные группы уже были готовы. Командовали ими знающие офицеры, но общую разработку Шульгин взял на себя. Собственный опыт двадцатого - двадцать четвертого годов да теоретическое знание нескольких самых ярких десантно-диверсионных операций второй половины века делали его непревзойденным специалистом.
В разработке учитывались ключевые моменты захвата пражского аэропорта в шестьдесят восьмом, штурма дворца Амина в семьдесят девятом, рейда израильских коммандос на Энтебе. Из каждой модели он взял кое-что полезное, довел до сведения командиров, несколько раз проиграл действия каждого отделения и взвода на схемах и макетах.
Всего в дело вводилось почти четыреста отборных бойцов, из них половина - солдаты и офицеры Особого корпуса, преимущественно - уроженцы Старой Кастилии и самого Бургоса или хотя бы знакомые с городом и окрестностями. Полсотни личных спецназовцев Шульгина, срочно отозванные после взятия Уэски, остальные - немцы и другие интернационалисты. В их числе - очень понравившиеся Сашке добровольцы батальона Линкольна. Настоящие мужики, той еще генерации американцев, что с «кольтом» и «винчестером» осваивали Дальний Запад и Аляску, а несколько позже описываемого времени отчаянно атаковали на своих «Девастейторах» и «Доунтлессах» японские авианосцы, имея на благополучное возвращение еще меньше шансов, чем советские «ТБ-3» и «СБ» жарким летом сорок первого.
Отряд «Б» вооружили исключительно автоматическим оружием - пистолетами-пулеметами, которые удалось собрать, «томпсонами», «рейнметаллами», русскими «ППД-34», ручными «МГ-34» и «ДП-27». Вдобавок почти все имели двадцати зарядные автоматические «астры» с деревянной кобурой-прикладом, внешне очень похожие на пресловутый «маузер».
Носимого запаса патронов и гранат должно хватить на пару часов непрерывного встречного боя или на сутки нормальных действий в тылу врага. Ввиду невозможности снабжения боеприпасами после высадки каждая группа была оснащена однотипным оружием: убитый товарищ поделится патронами с пока живыми. Ну и, как во всякой зафронтовой операции, на определенном этапе подразумевался переход на ресурсную базу противника.
Последний инструктаж Шульгин проводил уже на краю взлетно-посадочной полосы Лериды в первом часу ночи.
Запущенная им кампания дезинформации, пожалуй, не имела себе равных за всю историю пока еще патриархального, невзирая на случившуюся Мировую войну, XX века. Столько было проведено всевозможных совещаний и встреч с политиками самых разных взглядов и ориентации, отдано умных и откровенно дурацких приказов по всем доступным каналам, куплено союзников и противников, внедрено агентов в немецкие и итальянские шпионские сети, что теперь Сашка и его ближайшие соратники могли быть уверены - толком в происходящем не понимает никто и ничего.
Франко с его штабом паникует, не в силах сообразить, какой все-таки план войны избрали республиканцы, атакующие и отступающие без видимого смысла, сосредотачивающие танки и авиацию то на юге, то на западе, жертвующие тысячами людей на безнадежных направлениях и вдруг добивающиеся успеха ротой и батальоном. Гениальным полководцем каудильо никогда не был, но все ж таки одно время преподавал стратегию и тактику в военной академии, основные принципы военного искусства знал не понаслышке. Так вот сейчас на фронте творился полный абсурд. Он мог бы, если б хватило выдержки и таланта, наплевать на все, стянуть свои и союзные дивизии в кулак, начать давно спланированное наступление с решительным результатом на Левант и Каталонию, как это и было сделано полугодом позже, оставив прочие фронты и направления на волю судьбы. Принцип великого теоретика военного искусства - «Нельзя быть сильным везде!» - никто пока не отменил и не опроверг.
Но страшно, страшно. Тем более из Берлина и Рима поступают очень странные сигналы. Чего доброго, может случиться и так, что немцы с итальянцами сочтут свою кампанию безнадежной, согласятся на требуемую Комитетом по невмешательству эвакуацию всех иностранных войск с обеих сторон. В этом случае республиканцы лишатся поддержки нескольких тысяч добровольцев, да и то вопрос, а остаться без поддержки двухсот тысяч регулярных солдат со всей боевой техникой - совсем другое дело.
Такую информацию по своим каналам Шульгин тоже сумел организовать. Двусмысленные статейки в якобы информированных иностранных газетах, запросы в парламентах причастных к конфликту стран, донесения агентуры… Много имеется способов посеять смуту и раздрай в стане врага, без того представляющем собой рыхлый конгломерат кое-как сбитых в кучу «антиреспубликанцев», раздираемых собственными противоречиями.
Поэтому Сашка был почти стопроцентно уверен, что затеянное им дело имеет все шансы на успех. По тому же принципу Честертона военную тайну можно сохранить или сталинскими методами, когда каждый знает, что даже невзначай сказанное хорошему приятелю слово может обернуться непомерным лагерным сроком, а то и пулей в затылок, или, наоборот, утопив ее в море непрерывной и безудержной болтовни, из которой принципиально невозможно извлечь зерно, безусловно рациональное.
В позавчерашней барселонской газете, весьма авторитетной и читаемой даже и по ту сторону фронта, он специально велел напечатать две подвальные[30] статьи. В одной сообщалось о действительно имевшем место морском сражении в районе
Балеарских островов, в ходе которого республиканские эсминцы «Антекера» и «Лепанто» торпедными залпами потопили новейший крейсер мятежников «Балеарес», который затонул вместе с командующим флотом адмиралом Вьерной и семьюстами членами экипажа. Там же была разглашена военная тайна, заключавшаяся в том, что под прикрытием этого боя в Барселону без потерь прошел конвой «дружественной державы», доставивший несколько сот новейших танков и самолетов, что в ближайшее время поможет успешно завершить принесшую бесчисленные бедствия войну.
Вторая статья в туманных выражениях намекала, что по примеру успешных действий под Теруэлем и Уэской в ближайшее время может начаться грандиозное наступление к югу от Мадрида, где слишком уж долго царит непонятное затишье.
Газета не была ранее замечена в четкой проправительственной ориентации, поэтому материалы вполне можно было расценивать как утечку независимой информации. И, пожалуй, идея сработала. Агентурная разведка сообщила, что за последние сутки отмечены передвижения итальянских войск от Толедо к линии фронта.
В любом случае о Бургосе не упоминалось нигде. Отдаленная от любого фронта пятью сотнями километров и горными цепями Иберийских гор и Центральной Кордильеры, временная столица Франко могла спать спокойно.
Уже перед посадкой в самолеты Шульгин сообщил командирам парашютно-десантных и посадочных групп, что им окажет помощь сохранившееся в глубоком тылу мятежников подполье. По специальному сигналу в район высадки будет направлено несколько автобусов, машин такси и грузовиков. Сигналы для установления контакта такие-то. Это поможет сэкономить время на поиски транспорта и облегчит выполнение основной задачи. Одновременно подпольщики постараются захватить или взорвать железнодорожный и шоссейный мосты на дорогах, ведущих в сторону Вальядолида, откуда к франкистам могут подойти подкрепления.
Цепочки десантников побежали к прогревшим моторы и выруливающим к началу полосы самолетам.
– Ну, до встречи, Михал Михалыч, - протянул Сашка руку Громову. - Если что, вы уж тут сами. На мой личный штаб можете вполне положиться. В любом случае вам теперь будет куда легче…
– Так вы что, тоже с ними? - поразился Громов. Он уже свыкся с тем, что Шестаков - мужчина неожиданных решений, знал кое-что о его боевом прошлом, но все же желание зампреда Совнаркома лететь в глубокий тыл врага показалось ему полным абсурдом, если не хуже.
Время было такое, что легко заподозрить любого. Мало ли весьма заслуженных и высокопоставленных «товарищей» оказались невозвращенцами и перебежчиками? Даже из верхушки НКВД. Откуда знать, вдруг как раз сегодня «спецпредставитель» получил сигнал или прямое указание Центра сдать дела и явиться «пред ясны очи»?
В таком случае понятно…
К своей чести, летчик тут же отогнал недостойную мысль.
– Сам придумал, сам и выполняй, - усмехнулся Шульгин. Возникший из темноты Гришин подал ему двадцатикилограммовую сбрую, состоящую из нескольких широких ремней и импровизированного подобия разгрузочного жилета, изобретенного тридцатью годами позже.
– Позволю себе с вами не согласиться. Совершенно никчемный риск. С военной точки зрения никак не оправданный… Не восемнадцатый век. На вас все концы завязаны, и военные, и политические, а вы на батальонный уровень спускаетесь. Одна шальная пуля - и все!
– Ничего, ничего. Не каждая пуля в лоб, как любил говаривать Нахимов. Да и дело мы затеяли не батальонное. Даст бог, к обеду войну и порешим… Слетаем, сделаем, вернемся, комдив. Товарищ Сталин, как вам известно, под Царицыном десятки раз появлялся на передовой в самых горячих местах. Воодушевляя личным примером, - Громову показалось, что в голосе Шестакова прозвучала не слишком замаскированная ирония. - А вы еще раз убедитесь, что бомбардировщики и экипажи в полной боевой, и от рации не отходите. Если прикажу, поднимайте все, что есть. Как раз к рассвету «эсбэшки» поспеют…
Оборвав разговор, он крепко пожал руку Громова и в одно касание трапа скрылся в кабине «Юнкерса».
Не мог же он сказать начальнику ВВС, что его личное участие в операции необходимо по причине не рациональной, а чисто мистической. Создать убедительную, работающую мыслеформу, изменяющую реальность на полумиллионе квадратных километров с двадцатипятимиллионным населением ему было не по силам, а вот достаточную для одномоментной деформации в нужном направлении психополя вокруг небольшого города - вполне.
Он устроился в кресле рядом с дверью в пилотскую кабину. Десантники заканчивали размещаться в салоне, негромко переговариваясь и погромыхивая оружием. С ним летели самые проверенные и надежные. Все та же московская десятка, пополненная участниками рейда на Уэску. Каждого Шульгин знал в лицо и по имени, провел с бойцами отдельный инструктаж, потому что роль у его «личной гвардии» была особая.
Взревев моторами на взлетном режиме, «Юнкерс» с некоторой натугой поднялся в воздух. Машина была перегружена почти до предела технических возможностей. Ничего, у немцев в следующую войну эти же «Ю-52» только так и летали.
Шульгин с большим удовольствием присоединился бы к парашютистам, у тех сильных впечатлений ожидается побольше, но он здраво оценивал свои возможности. С парашютом прыгал всего два раза в жизни, в восемнадцать лет, за компанию, просто захотелось себя проверить, но по-настоящему не увлекся. Жаль, что Берестина здесь нет, вот тот - настоящий десантник, с полутысячей прыжков и медалью «За отвагу», полученной в одной из тогдашних «горячих точек». Он бы показал нынешним ребятам, что такое «крылатая пехота» в свои лучшие времена.
Шульгин прикрыл глаза и начал создавать перед внутренним взором точный макет объекта атаки, как бы компьютерную картинку военной игры. Выделил полученные аэрофотосъемкой и из позднейших книг и справочников места дислокации войск бургосского гарнизона и фалангистской полиции. Работа была непростая, поэтому он задернул занавеску, отделяющую кресло от прохода, и велел Гришину не отвлекать себя ни в коем случае, разве что франкистские ночные истребители налетят. Впрочем, у них таких и нет, насколько известно.
Вот и бывший королевский дворец Каса дель Кордон, здесь и разместился каудильо. Увеличив масштаб, начал воображать и рассматривать ведущие к нему подходы, внутреннюю планировку дворов и помещений.
Сценарий изменения был у него давно готов, теперь требовалось как бы наложить его на существующую действительность и по достижении достаточной степени конгруэнтности запустить.
Когда процесс пойдет, он обязательно это ощутит…
Летать со скоростью двести пятьдесят километров в час человеку, привыкшему к совсем другим темпам, достаточно утомительно и нудно. Но куда лучше, чем пробираться с полной выкладкой по пересеченной горно-лесистой местности - как раз такая расстилалась внизу, невидимая под покровом ночи. Ни одного огонька: пилоты старательно обходили немногочисленные городки, поднявшись на почти четырехкилометровую высоту, чтобы случайно не задеть горную вершину из-за ошибки альтиметра. Известны такие случаи.
Наконец пилот головного бомбардировщика-лидера сообщил, что видит внизу реку Эбро, что означало выход на меридиан Бургоса, и начинает поворот к югу. Воздушная эскадра, сохраняя принятое построение, тоже начала разворот. До цели оставалось всего шестьдесят километров, подлетное время пятнадцать минут.
В десантных отсеках зазвучали прерывистые звонки и замигали синие лампочки. «Изготовиться».
Аэродром в Бургосе весьма примитивный, с современной точки зрения - просто обширное поле с тремя грунтовыми ВПП, несколькими каменными строениями и башней управления полетами. Правда, садиться можно и помимо укатанных полос, места хватит, благо погода благоприятствует, у земли минус пять, грязи и луж можно не опасаться. Посадочные скорости низкие, если кто и поломает шасси - ничего страшного, лишь бы не капотировали.
Снизившись до восьмисот метров, лидер сбросил пять стокилограммовых осветительных бомб, с расчетом, чтобы они вспыхнули над северной границей аэродрома. Тут же крутой глиссадой соскользнул до бреющего и высыпал полсотни двухкилограммовых осколочных на склады, ангары, диспетчерскую башню.
Еще продолжали рваться бомбы, а из повторяющих маневр «СБ» транспортов дружно посыпались парашютисты, используя ослепительно сияющие «люстры» не только как источник света, но и в качестве указателей направления и скорости бокового сноса, вовремя корректируя свои траектории.
Уцелевшие под разрывами охранники и немногочисленный персонал аэродрома, ошеломленные, ничего не понимающие в происходящем, еще только выбегали из-под рушащихся крыш, как все уже было фактически кончено. Отстегивающие подвесные системы в момент касания земли, а некоторые даже раньше, парашютисты, стреляя на бегу, рассыпались по полю, за несколько минут заняли все ключевые точки.
Лишь несколько франкистов успели кануть в темноту, особенно густую за пределами света догорающих бомб.
Разбираться в системе освещения ВПП было некогда, все громче нарастал гул заходящих на посадку самолетов. В дело пошли аккумуляторные фонари и специально на этот случай припасенные фальшфейеры. Транспортники у самой земли включили посадочные фары.
В целом все прошло лучше, чем планировалось. Парашютисты потерь не имели, и самолеты приземлились удачно, если не считать, что один выкатился за пределы поля и, почти остановившись, снес колесную стойку о не к месту подвернувшийся валун. Другой зацепился крылом за стоявший на рулежной дорожке «Девуатин», и оно обломилось у самой мотогондолы. Хорошо, обошлось без пожара. Так что в будущие учебники операцию смело можно будет вносить как первый в истории комбинированный ночной десант в глубокий вражеский тыл. Если, конечно, удастся достичь поставленной цели.
Капитан республиканского спецназа подвел к Шульгину немолодого уже человека в короткой темной куртке и низко надвинутом на лоб берете.
– Компаньеро Ларго, он, как и обещано, подготовил для нас транспорт. Четыре междугородных автобуса, они, не вызвав подозрений, с вечера ушли по своим маршрутам, но не дошли. Через пять минут будут здесь.
– Отлично, компаньеро. Республика вас не забудет, - с должной степенью пафоса Сашка пожал руку подпольщику. - Едем прямо к вашему автовокзалу. Франкистских постов на дороге много?
– Всего один, компаньеро. На въезде в город. Фалангисгская милиция. Несколько человек. Здесь же глубокий тыл.
– Очень хорошо. Но мне кажется, в городе уже должна подняться тревога. Концерт мы здесь устроили неслабый. И люстры светили слишком ярко. Надо бы проскочить окольными путями, въехать в город с другой стороны. Раньше времени ввязываться в бой ни к чему.
– Будет сделано. Дороги мы знаем, полиция знает наши машины и водителей в лицо. Проскочим…
Взвод линкольновцев и всех летчиков (еще полсотни человек) Шульгин оставил для обороны аэродрома, они тут же начали окапываться, предварительно отогнав самолеты к самому дальнему краю поля, рассредоточив в меру возможности.
Еще один автобус и два грузовика обнаружились на месте, так что удалось разместить все семь ударно-штурмовых групп, предназначенных для выполнения главной задачи. Впереди испанцы, за ними русские и немцы. Остальные бойцы тремя колоннами двинулись пешком. Им поручалось перерезать ведущие на юг и северо-запад магистрали.
Бургос - типичный староиспанский город, основанный еще в девятом веке, вплоть до тринадцатого бывший резиденцией кастильских королей. Построен по обычной схеме - на господствующей высоте цитадель, монастырь Мирафлорес, собор, дворец, окруженные паутиной средневековых улиц. Снаружи - кольцо построек восемнадцатого-девятнадцатого веков, новых совсем мало. Кто видел один такой город, считай, что видел все. Воевать в них, наступать и обороняться одинаково трудно (и легко), зависит от того, как сложится диспозиция.
В Уэске Шульгин опыт уличных боев уже приобрел. Но ввязываться в них сейчас - смерти подобно. Только стремительный прорыв и дерзкий штурм.
По дороге сопровождающий руководитель подполья доложил, что, по самым свежим данным, каудильо со вчерашнего дня из дворца не выезжал, но какие именно помещения он там занимает, неизвестно. Дворец слишком обширен, покоев в нем много, а своих людей в окружение Франко или в дворцовую прислугу внедрить не удалось. Там все - приехавшие вместе с ним южане и марокканцы. Гарнизон города насчитывает приблизительно пять тысяч человек армейцев, тысячу - Гражданской гвардии, несколько сотен составляет охрана германской и итальянской миссий. Хорошо, что они в основном располагаются на окраинах. Ночью им будет трудно выдвигаться. Особенно если наши люди выведут из строя единственную электростанцию.
Они вдвоем устроились на переднем сиденье рядом с шофером, Шульгин положил на колени родимый «ДП», который считал мощней и надежней любого другого ручника. Товарищу Ларго он подарил «астру» с пятью обоймами, и испанец, пристегнув приклад, все время непроизвольно поглаживал пистолет ладонью.
Видно было, что испанец великолепно понимает, в чем заключается цель операции. Опытный человек, два года рискующий жизнью в центре осиного гнезда, не мог не сообразить, зачем еще учинять почти самоубийственный десант, как не для пленения или уничтожения верхушки мятежников. Настроен же был фаталистически.
– Людей у нас немного, и вооружены они слабо. Пистолеты, старые винтовки. Население в массе сочувствует франкистам. Живут неплохо, война их не коснулась. Пролетариата почти нет. Торговцы, чиновников много понаехало. Попов слушают, да и пропаганда действует. Товарищи в Республике совершили немало ошибок. Однако что сможем - сделаем. Солдаты в гарнизоне все больше с юга, андалузцы, марокканцы, у нас их не любят. Итальянцы не лучше. А мы здесь каждый закоулок знаем, проходные дворы, другие секреты. Все подходы и выходы из дворца перекроем. Ни одну машину не пропустим…
– А если Франко вздумает прорываться на броневиках или танках? - спросил сидевший позади испанский капитан Тагуэнья.
– Гранат и пушек у нас нет, - развел Ларго руками.
– Я выделю в помощь вашим своих бойцов. По три человека на группу. С пулеметами, гранатами и минами.
– Это будет гораздо лучше. Наши улицы легко минировать, а гранаты можно бросать из подворотен, с крыш и балконов.
– Спросите у него, - шепнул Шульгину Гришин, - как насчет подземных ходов и прочих средневековых штучек?
– Наверное, есть, - ответил Ларго, - но мне о них ничего не известно. Раньше мы не очень интересовались старым дворцом. Будем надеяться на лучшее. Если все получится, войне конец. У франкистов нет другого каудильо. Этого мы повесим за ноги на Гран-Виа, люди увидят и достанут спрятанное оружие. Старая традиция. В нашем городе чужакам не выжить. Всю добычу поделят, тут центральным властям вмешиваться не стоит.
Тагуэнья хмыкнул. Он-то знал обычаи, сохранившиеся со времен Реконкисты.
– Несколько тонн песет - хорошая добыча, - кивнул Шульгин. - И ходить они будут наравне с республиканскими?
– А как же? - удивился Ларго. - Деньги есть деньги.
«Испанский коммунист - все равно испанец», - подумал Шульгин. Когда-то он видел югославский фильм, «Фальшивый кумир» назывался, кажется. Там в руки жителей небольшого городка попал грузовик с динарами, которые Центробанк вывозил в сорок первом из Белграда. Вот уж там народ повеселился! Да и в советской России царские бумажки довольно долго ценились намного выше «совзнаков». И здесь так будет. «Бургос - город миллионеров!».
– Мы их сожжем, - сказал Тагуэнья.
– Ни в коем случае, - загорячился Ларго. - Трофеи принадлежат народу.
«Вот и стимул, - обрадовался Шульгин. - Если товарищи сумеют довести до сведения масс данную перспективу, нам и делать почти ничего не придется…»
– Именно так все и будет, - подвел он черту. - А пока мы, кажется, подъезжаем? Отряд, к бою!
Ларго не подвел. Его проводники и водители сумели выбрать такие маршруты, что ни разу не привлекли внимания франкистов. И в самом деле, гудя мотором и скрипя рессорами, ползут по улицам давным-давно всем знакомые «Фиаты» с табличками «Бургос - Миранда» или «Лерма - Бургос», на которых спешат к открытию рынков крестьяне со своими молоком, сыром и вином.
А десант, благодаря усилиям Шульгина, тоже особого внимания не привлек. Далеко все же аэродром от города, пятнадцать с лишним километров, за холмами. Посверкало что-то, не зимняя ли гроза, донесся короткий, минуты на две, гром. И снова тишина.
На то и настраивалась «деформация реальности», чтобы направить мысли попадающих в сферу ее действия людей по наиболее естественному руслу, отсекая маловероятные. Как в начале той же Отечественной. Немцы бомбят расположение войск - ученья, наверное. Вторжение трехмиллионной армии на нашу территорию - провокация. И у американцев при Перл-Харборе то же самое. Радар засек армаду бомбардировщиков - помехи на экране.
С испанцами было еще легче. Шульгину потребовалось только несколько активизировать специфические черты характера южан, составлявших большинство франкистского гарнизона, и сместить в нужном направлении фактор случайности. Примерно так, как это произошло в русско-японскую войну или во время сражения у атолла Мидуэй. Чтобы все благоприятные, хотя и маловероятные расклады шли в пользу одной стороны, а неблагоприятные доставались другой.
Когда часовые на стенах дворца доложили начальнику караула о непонятных сполохах в стороне аэродрома, тот, несмотря на зимнее время и ночь, пребывал в настроении традиционной сиесты. Когда ничего не хочется делать, кроме как освежаться (согреваться) густым терпким вином и дремать, а если что-то мешает, так хоть не забивать голову всякими глупостями.
Подавляя зевоту, он дал команду телефонисту связаться с объектом и узнать, что там у них творится. Столь же лениво и заторможено тот покрутил ручку аппарата, несколько минут ждал, пока на аэродроме поднимут трубку. Поднял один из испанцев-десантников.
– Что там у вас случилось? Горит что-нибудь? С наших башен видно.
– Еще как! Прилетели три немца из Сантандера, без всякого расписания, бог знает, что им вздумалось, ночью-то. Один при посадке перевернулся. Баки взорвались, пилоты сгорели. Что осталось от самолета - кое-как потушили. А больше ничего. Остальные шесть человек в себя придут, в штаб поедут, там, наверное, расскажут, что им здесь нужно. А нам не говорят.
– Ну, тогда все. Я своему доложу да снова спать лягу…
– А нам уж до утра не придется, суматохи слишком много…
Дежурный лейтенант выслушал телефониста и решил, что его это происшествие никаким образом не касается, у летчиков свое начальство и свои линии связи.
Если еще кого-то в почти стотысячном городе с приличным гарнизоном отдаленный шум и заинтересовал, последствий это не имело. Как Шульгин и рассчитывал.
Незадолго до начала рейда он выкроил час времени в своем напряженном графике, окончательно проверил, полностью ли ему повинуется доставшаяся «в кормление»[31] реальность. Сосредоточился известным образом, и в физическом облике Шестакова перенесся на Валгаллу. Так это у него стало ловко получаться, совсем как у Левашова в лучшую пору первых месяцев колонизации планеты. Только без техники.
С семьей повидался, для чего на некоторый срок, «отошел в сторонку», позволив наркому ощутить себя самим собой. С Власьевым недурно провели время. Старший лейтенант за неделю настолько обжился в форте, что желание эмигрировать в цивилизованные страны приугасло. Воодушевляла его теперь новая идея: доставить бы сюда несколько десятков подходящих мужчин и женщин и - живи не хочу.
– Очередной «Таинственный остров», значит, - сказал Шестаков.
– Совершенно верно. А больше ничего и не надо. Я эту книгу с детства люблю. На кордоне бобылем семнадцать лет прожил. Так здесь, в сравнении, истинно рай земной. Главное, властей никаких, ни карточек, ни дефицита.
– Не зря ведь - Валгалла…
Исчезая, он прихватил с собой три комплекта раций типа «уоки-токи», но с дальностью раз в десять больше, и коробку батареек к ним. Больше не нашлось.
Сейчас этими рациями он снабдил командиров групп, которые вместе с ним должны были штурмовать Каса дель Кордон.
В условленном месте Ларго велел остановиться. До южных ворот дворца оставалось всего три квартала, но постов и патрулей не было и здесь. Однако, чтобы не привлечь внимания, Шульгин приказал двум автобусам, высадив людей, продолжить свое неторопливое шумное движение в сторону автостанции. Один оставил при себе.
Гришин сосредоточил своих десантников по обе стороны узкой улицы, выводящей к овальной, по счастью - совершенно плоской площади. Высоко расположенные окна древних, сложенных из гранита домов были закрыты глухими ставнями. Ни малейших признаков жизни. Если кто, проснувшись, поглядывал в щелочки, то делал это совершенно бесшумно, справедливо полагая, что его происходящее снаружи никоим образом не касается.
По рации Шульгин связался с группами, выдвинувшимися к менее важным, но тоже действующим воротам. В последний раз сверил часы, уточнил время - им положено начинать ровно через пять минут после первого выстрела с его стороны.
Гарнизон дворца, считая охрану каудильо, штабистов, подразделения обеспечения, даже шоферов, парикмахеров, лакеев, которые тоже могли быть вооружены, составлял человек пятьсот. Размещались они в лабиринте хорошо им знакомых комнат, залов, коридоров, караулок, чуланов, подвалов и прочего. Представьте себе хотя бы Эрмитаж, где без всякой стрельбы законопослушный посетитель, не имеющий плана или экскурсовода, заблудится обязательно.
У Шульгина с Гришиным было под рукой девяносто бойцов, в двух других группах по столько же. Нормально считать - поразительно мало, если сравнивать с количеством солдат, брошенных на захват Брестской крепости или Дома сержанта Павлова. Но если брать за образец штурм дворца Амина или перевороты, учинявшиеся «дикими гусями» Боба Денара[32], так вполне достаточно.
Шульгин передал свой пулемет Гришину, взамен взял у ближайшего бойца «ППД».
– Значит, сейчас я открываю ворота, и все единым броском за мной. Дальше по обстановке. Не мешкать, не задумываться, острие удара в сторону возрастающего сопротивления. Понятно?
– Как открываете?
– Увидишь.
Единственный из всех Шульгин совершенно не боялся смерти. Одну уже видел, другие его не касались. Пусть даже поймает шальную или прицельную пулю Шестаков, ему-то что? Матрица выскочит, куда-нибудь да переместится. Хоть в «основную личность», хоть в побочную, или даже отправится странствовать по закоулкам и химерам Сети, подобно «Межзвездному скитальцу» Дж. Лондона. Камикадзе он сейчас, проще сказать, твердо уверенный, что непременно будет причислен к лику богов.
Запрыгнул на перекошенное, с выпирающими сквозь засаленный вельвет пружинами сиденье «Фиата», завел мотор. Дверцу закрывать не стал.
– Ворота я повалю или хоть засовы сорву. Вы бегите следом, нужно - гранатами доделайте. И вперед, без остановки, как планировали…
Насчет использования автобуса в качестве тарана раньше речи не было, планировалось использовать только подрывные заряды. Это Шульгин самостоятельно придумал, вспомнив подходящие исторические примеры.
– А как же, Григорий Петрович?… - опытный оперативник Гришин все равно не уловил сути замысла.
– Да вот так! Смотри, учись…
На подъем автобус пошел тяжело, педаль газа до пола, и все равно его семидесяти сил еле-еле хватало, чтобы выползти на прямую. Зато дальше он рванулся, как пожилой, но крепкий бык на арену корриды.
Вторая скорость, рычаг постоянного газа на рулевой колонке вниз до упора, на все пять тысяч оборотов. Еще немного подправив руль, в десятке метров от ворот Шульгин выпрыгнул из кабины на скользкую брусчатку. Едва не упал, но удержался, коснувшись ладонями холодного камня.
Автобус, сминая капот, врезался в ворота и положил их на землю, внутрь подбашенной арки. Массы и скорости, как и рассчитывал Сашка, хватило.
Сидя на корточках, он дал несколько прицельных очередей по выскакивающим из караулки охранникам, А мимо него, тоже стреляя, уже бежали скопом десантники.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
По средневековым дворцам хорошо гулять в качестве туриста, наслаждаясь искусством старых архитекторов, художников и скульпторов. Желательно днем и летом, в сопровождении знающего гида.
Вести ночной бой, да еще не имея плана дислокации противника, - совсем другое дело. Наше преимущество - внезапность, подавляющая огневая мощь, личные боевые качества, разумеется. На стороне неприятеля все остальное. Четкое руководство и готовность сражаться «за каждую пядь» сделали бы дворец неприступной крепостью.
Пологий, вымощенный тесаным камнем пандус из примыкающего к надвратной башне первого внутреннего двора вел на бастионные площадки, откуда Целились на город музейные пушки времен Тридцатилетней войны. Слева целая анфилада разделенных арками и высокими стенами внутренних двориков. В цоколе самого дворца - узкие бойницы, настоящие окна начинаются несколькими метрами выше.
Широкая парадная лестница, посередине расходящаяся двумя полукруглыми крыльями, упиралась; в просторную террасу, окруженную мраморной балюстрадой. На нее выходят резные остекленные двери, примета позднейших времен, восемнадцатого века или девятнадцатого.
Немногочисленную охрану ворот положили сразу, они затворы своих винтовок не успели передернуть, до пулемета добежать. В кордегардии, расположенной так, что из ее окон простреливались все внутренние дворы, кроме верхних, Шульгин оставил отделение своих, московских спецназовцев. Эти не подведут, тылы прикроют надежно, будут стоять до последнего живого человека или до команды на отход.
Группы по десять-пятнадцать бойцов Шульгин направил к двум другим воротам, где тоже завязался бой, зачищая территорию и блокируя возможные пути отступления Франко с его сообщниками. В одном из двориков обнаружились машины диктатора - «Испано-Сюиза», «Опель-Адмирал», подаренный Гитлером «Майбах», несколько автомобилей попроще для сопровождения и охраны.
Значит, каудильо действительно во дворце. В первых рядах каждого отделения и взвода шли испанцы: местные или из числа десантников. Главный вопрос к каждому из гарнизона, кого удавалось захватить более-менее живым: «Где Франко?» Только ответить на него не мог почти никто. Рядовые марокканцы под наведенным стволом мотали головами и разводили руками: «Не знаю, не видел, я простой человек, мне не говорили…» После чего обычно следовал выстрел. За два года у республиканцев и «дикой дивизии» каудильо сложились взаимно неприязненные отношения, диалога не предполагавшие.
Рядовым солдатам и офицерам коренной национальности, пытавшимся организовать оборону на внешних обводах, местоположение покоев диктатора тоже было неизвестно. Кроме смутных ответов, вызванных желанием продлить свою жизнь: «Там, на втором этаже, нет, на третьем, где тронный зал». «А я слышал, что каудильо живет в центральной башне…» В итоге - никакой конкретной информации.
Основными силами Шульгин ворвался в резиденцию по кратчайшему направлению. Через обширный вестибюль, от которого расходилось несколько коридоров. На улице было все так же темно, шестой час утра, до рассвета далеко. Кто-то из бойцов при свете фонаря случайно увидел на стене рядок выключателей, пощелкал, загорелась люстра под потолком и несколько бра вдоль коридора.
– Гаси, мать твою… - заорал во весь голос Гришин, сообразив, что иллюминация на пользу прежде всего противнику. Бойцы на виду, а где враг? Уж лучше в темноте работать, включая по потребности собственные фонари. Вперед, вперед, гранату на весь замах вдоль коридора, переждать за ближайшим выступом, в стенной нише, дверном проеме или плашмя на полу пролет осколков, тут же автоматная очередь, прицельно или наугад, и очередной бросок.
«Так, - подумал Шульгин, добравшись до выбитой взрывом двери, за которой смутно угадывалась идущая вокруг внутреннего периметра дворца галерея. - Пожалуй, хватит сдуру на пули лезть. Дело пошло само собой».
– Возьми рацию, Роман, - толкнул он в бок старшего лейтенанта. - Поддерживай связь с соседями, но на рожон не лезь. Дойди до удобной позиции с хорошим обстрелом - и хватит.
– А вы куда?
– Да так, полюбопытствую, чем тут феодалы занимались. Если что - как-нибудь подам о себе знать. Только будь повнимательнее. Особенно - к непонятным явлениям.
И растворился в средневековой темноте.
Страшно хотелось курить. Он спрятался в полукруглой нише за мраморным постаментом статуи какого-то героя Реконкисты или, наоборот, конкистадора из стихотворения Гумилева. По крайней мере, «панцирь железный» на нем точно был. И меч, на который изваяние опиралось.
Прикрывшись полой куртки, щелкнул зажигалкой. А нервы и у тебя не потеряли способности к мандражу! Дым резкими затяжками уходил в легкие, никотин ударял в мозги и растекался по организму, расслабляя и одновременно взбадривая. Хорошо! Осталось во мне еще много человеческого.
Бой грохотал по дворцу. Дробь автоматных очередей, гулкие разрывы гранат, хлесткие винтовочные выстрелы, перестук пистолетов захваченных врасплох франкистских офицеров и чиновников. Все это резонировало в высоченных сводчатых коридорах, бессмысленно огромных залах, многие из которых и два, и три века оставались пустыми. Для обороняющихся - жуткая какофония, мешающая понять, что же на самом деле происходит, с какой стороны наступает враг, каким образом строить сопротивление и куда бежать.
В последние дни Рейхстага в Берлине было, наверное, то же самое. Ни общего командования, ни отработанного плана обороны. Отстреливались, перебегали с этажа на этаж, организовывали контратаки с одной лестничной площадки на другую просто потому, что иного смысла в жизни не осталось. А ярость и азарт взаимного уничтожения, накопленные за три года, именно в этой точке достигли крайнего, безумного предела.
Здесь, пожалуй, то же самое. Испанская война с первых дней приобрела куда большую жестокость, чем наша Гражданская. У нас люди, бывало, неоднократно переходили с одной стороны на другую по мере изменения личных взглядов или политической обстановки. Нередко с пленных просто срывали (или, наоборот, пристегивали) погоны и ставили в боевой строй. И дальше воевали, с той или иной мерой энтузиазма. Поезда, к слову сказать, ходили поперек всех фронтов, по взаимному согласию ни белые, ни красные, ни зеленые машинистов и проводников не трогали. Здесь - ничего подобного. Да что говорить, при вдесятеро меньшем населении потери с обеих сторон вдвое превысили те, что случились в России за пять лет.
«Мне-то оно зачем? - подумал Шульгин, поглядывая на огонек слишком быстро догорающей сигариллы. - Это не моя война, как и все прочие. Энрике Листер, самый талантливый полководец Республики, написал мемуары «Моя война». Для него - так, для меня - иначе. Мне даже денег не платят, как нормальному наемнику. У меня как в зоне - если сел за карты, так играй. И с выигрышем не уйдешь, и проигрыш грозит известно чем…»
Он вовремя успел раздавить окурок о подножие памятника. Февральский ветер сразу же развеял дым. Глаза начали привыкать к темноте. В отдалении продолжало греметь и взблескивать, опытному человеку не слишком трудно было сообразить, что бой плавно перетекает в затяжную фазу. Если хотя бы сотня человек сумела сориентироваться в обстановке и забаррикадироваться в подходящем для обороны месте, то штурмующим придется нелегко.
А ведь наверняка какая-нибудь телефонная линия или радиостанция продолжает работать, и тогда через полчаса-час на помощь к каудильо может подойти дивизия полного состава со средствами усиления. Та же итальянская «Черные перья» от Вальядолида, и своих полков и батальонов можно надергать из окрестностей. Отряды прикрытия задержат их, но ненадолго.
Другое дело, что каудильо это не спасет, пока он жив, десантники не отступят и не сдадутся, но кому это нужно?
Галерея, на которой Шульгин сейчас находился, вытянутым прямоугольником окружала нечто вроде летнего сада. Частокол мраморных, тускло мерцающих даже в густом полумраке, колонн. Роскошный многофигурный фонтан посередине, черные скелеты деревьев, лишенные листьев. Север все-таки. Смутно различаемые дорожки, покрытые утрамбованной щебенкой. Шесть ярусов окон, в основном темных, но в некоторых угадывается свет. Свечи, лампы керосиновые или даже электрические, только скрытые шторами и глухими абажурами.
Самое время прогуляться по Средневековью, вспомнив иные, не присущие советскому наркому способности. Цинично звучит, но ведь и затеянная им третьего уровня операция тоже остается отвлекающей. Настоящие осуществляются в одиночку.
По звонкому настилу галереи застучали каблуки сапог, послышались негромкие, но напряженные голоса, на испанском, естественно, который Сашке был теперь понятен как русский.
Три человека, тяжело дыша, тащили станковый пулемет на треноге, похоже, «гочкис», и коробки с лентами. Четвертый, офицер, их подгонял, одновременно давая указания по тактике предстоящих действий. Не слишком грамотные, к слову. Правильнее всего было установить пулемет не на самой галерее, а как раз за мраморным бруствером сухого сейчас фонтана. Приличное укрытие и круговой обстрел, хотя бы в этой зоне.
В другой ситуации Шульгин непременно поучил бы лейтенанта или капитана - кто его знает, знаков различия не видно - тонкостям военного дела. Но сейчас они по разные стороны баррикады. Значит, выживает сильнейший.
Прислоненный к стенке автомат он поднимать не стал. Под общий шум куда удобнее пистолет «последнего шанса», «вальтер ПП». Пропустив пулеметчиков мимо себя, Сашка трижды выстрелил в спины, прикрытые суконными плащами с пелеринами. Лязгнул упавший на камни пулемет, но совсем негромко,
«Еще пригодится», - краем сознания подумал Шульгин, сбивая с ног офицера. Тот оказался молодым и на удивление хилым. Пацан вроде скороспелых отечественных прапорщиков и младших лейтенантов одной и другой мировых войн.
Он оттащил его в свое прежнее укрытие.
Ткнуть под нос и в зубы пахнущим свежим порохом стволом - святое дело. Они тут книжек про «Август сорок четвертого» наверняка не читали. Для них все в новинку.
– Ты, буррито[33], мокосо[34], жить хочешь, говори? Где прячется каудильо?
Говорил Шульгин на том самом изысканном «кастильяно», из-за которого его последнюю неделю начали принимать за потомка лучших аристократических родов, скорее всего - эмигрантских, поскольку в самой Испании так изъяснялись только в свите бывшего короля Альфонса XIII да на филологическом факультете саламанкского университета. Даже простонародные оскорбления звучали, как матерные выражения в устах классной дамы Смольного института. Со всем изяществом, но по делу.
И пацан, наверное, был не из простых, сразу уловил лингвистическую тонкость. Коммунисты-республиканцы, пролетарии так не изъясняются.
– Сеньор, вы меня не убьете? - Вопрос был задан вздрагивающим голосом, но на том же диалекте.
Какие пустяки приходят людям в голову в разгар исторических событий.
– Да на кой… ты мне нужен, - Сашка отвел в сторону пистолет. С клиентом все понятно. - Быстро, встаем, идем, ты мне показываешь самый безопасный подход к помещениям дона Франсиско - и свободен. Слово кабальеро!
– Мне достаточно вашего слова, дон. - Пацан поднялся с пола и даже стряхнул пыль с одежды. Ах ты, красавец! Не видел настоящей жизни.
– А пистолет у тебя есть?
– Конечно, - парень, кое-что сообразивший, только глазами указал на кобуру под плащом.
Шульгин взял в руки «Астру-400», неплохая штучка, эстетичная, нажал кнопку, выщелкнул магазин. Забросил его в парк, далеко. Днем станешь искать, долго не найдешь. И затвор на всякий случай передернул. Пусто. Пистолет вернул лейтенанту.
– Возьми, на память от дона Алехандро. Офицер все же, без оружия неприлично. А теперь веди меня, куда сказано.
Шульгин взял свой «ППД», солидный вид которого окончательно привел парня в нужный режим. Как его зовут, Сашка спрашивать не стал. Лишнее знание. Особенно если убивать придется.
– Самыми глухими коридорами, и до места. Не вздумаешь дергаться - отпущу. Нет - очень много интересного в непрожитой жизни пропустишь. Короче - вперед, как говорил дон Алонсо Кихана.
– Я не помню, сеньор, чтобы он такое говорил, - понемногу наглея, ответил парень.
– Еще одно лишнее слово, и ты эти вопросы станешь обсуждать непосредственно с ним. Или с Сервантесом. Вперед, я сказал!
Чем хороша средневековая замковая архитектура, так тем, что подобного рода сооружения буквально пронизаны, как сыр дырками, всевозможными боковыми и обходными коридорами, галереями, лестницами, лестничками, самым причудливым образом связывающими магистральные, парадные пути. Все по Марксу - Энгельсу, бытие определяет сознание: за неимением более совершенных средств защиты, наблюдения и связи на всю катушку использовалась геометрия пространства.
Ни один обитатель этого и большинства других дворцов и замков не мог быть уверен, что за ним не подсматривают, его не подслушивают, что в каждую данную секунду не прячется за портьерами или потайной дверью убийца с кинжалом. Интересно люди жили, в постоянном тонусе.
Лейтенант, явно причастный к сокровенным тайнам (уж не какой-нибудь тоже реинкарнированный наследный принц?), вел Шульгина именно такими путями. Явно по памяти, только изредка подсвечивая обычным армейским фонариком, висевшим у него на ремне портупеи. Так что Сашке не было необходимости включать свой, аккумуляторный, мощностью почти в миллион свечей. Пригодится в другой обстановке.
При всей свой покорности и прямо-таки источаемой, как запах пота, трусости проводник вызывал у него все большее подозрение. Слишком он легко освоился, слишком уверенно ориентируется. Кто ему помешает завести в безвыходный тупик и внезапно скрыться за очередной потайной дверью? На всякий случай прижал к его спине ствол автомата.
– Шутить не вздумай, пополам разрежу…
– Что вы, что вы, сеньор!
Однако пока что шли они в общем верно, судя по внутреннему компасу, воображаемому плану дворца и отдаленным звукам продолжающегося боя.
– Стой, - повинуясь интуиции, сказал Шульгин. Они находились сейчас в небольшой круглой комнате, совершенно пустой. Посередине чугунная винтовая лестница, позади дверь, через которую они вошли, слева - еще одна, закрытая на засов. Под потолком узкое окно.
– Дальше не пойдешь. Вот план дворца, - он вытащил из-за голенища несколько крупномасштабных поэтажных распечаток. - Показывай, где резиденция Франко и правительства. И наше место.
В подкрепление угрожающей тональности голоса он снова наставил на лейтенанта автомат. Для окончательного эффекта включил свой фонарь. От стен отразился свет невиданной, особенно после многочасовой темноты, яркости. Испанец невольно прикрыл глаза рукавом.
– Быстро. Место!
Тот дрожащими руками перебрал листы, нашел нужный. Повозил пальцем.
Похоже, совпадало.
– И дальше как?
– Дайте карандаш.
– Не надо. Покажи, я запомню.
– Прямо или опять переходами?
– И так, и так.
Маршрут оказался сложным и извилистым. Но больше половины они уже прошли. Можно бы и напрямик рвануть, если б с ним были его солдаты, но те безнадежно застряли на предыдущих уровнях. Полчаса прошло после начала штурма, не меньше, охрана каудильо пришла в себя и действительно сумела организовать кое-какую оборону на подходящих рубежах. Испанские товарищи, при всей их классовой ненависти, большой помощи не оказали. Великоват оказался дворец, и его защитники не только жить хотят, но и воевать умеют, пусть и по-своему.
Не зря все ж таки полтора года давят и давят республиканцев, планомерно сжимая их территорию и дробя ее на изолированные, рано или поздно сдающиеся эксклавы.
– Сеньор, вы действительно оставите меня в живых?
– Я уже сказал, слово кабальеро. Я тебя свяжу и оставлю здесь. Обманул - вернусь и тогда точно шлепну. Или сам помрешь от жажды. Сюда ведь редко заглядывает обслуга?
– Редко, сеньор. Может, раз в десять лет. Видите, сколько пыли и паутины?
Того и другого было на самом деле в избытке.
– Ну да, таинственные покои древнего замка и прикованные скелеты. Только ты-то откуда так хорошо все здесь знаешь?
– Я сын хранителя музея. Студент Саламанки. Историк.
– Для чего в армию пошел?
– Призвали. Сейчас в армии лучше, чем на гражданке. Особенно когда служишь дома, а не на фронте.
– Иногда так и есть. Иногда - наоборот. Слушай меня. Я человек чести. Останусь живым - приду и отпущу тебя. Историки Испании еще понадобятся. Но чтобы я смог вернуться - расскажи мне все, что может пригодиться…
– Хорошо, сеньор, я расскажу все, что знаю сам.
Шульгин старательно, гарантированной надежности узлами, связал лейтенанту руки и ноги, усадил поудобнее, дал напоследок напиться сухого вина из его же фляжки.
– Все, парень. Или я вернусь через час-два, или - как знаешь,
– Удачи вам, дон… - Прозвучало это совершенно искренне. Еще бы нет.
Теперь Сашке оставалось только забыть все бывшее и снова перевоплотиться в ниндзя. Иных вариантов не оставалось. О людях, которые ему доверились и пошли на это дело, он помнил, сочувствовал тем, кто уже наверняка погиб или погибнет в ближайшее время. Но ведь все они добровольцы, абсолютно все, ни одного солдата-срочника или призванного из запаса отца семейства.
И это, еще раз повторяясь, их война. Для него почти любой умер или погиб задолго до его рождения. Но если план удастся, судьба миллионов людей изменится в лучшую сторону. В том числе и тех, что сегодня доживут до рассвета.
Настоящие японские ниндзя, одно из их подразделений, если так можно выразиться, а то и кланов, специализировались на работе во дворцах сегунов, князей, прочих феодалов. Сам Шульгин в молодые годы отрабатывал иные методики: действие на открытой местности, рукопашные поединки и фехтование на длинно-клинковом холодном оружии, использование метательных инструментов, специализированных, вроде сюрикенов, или подручных, от кирпичей, пепельниц до любимых шариков больших подшипников. Если кто помнит, в цирке на Цветном бульваре два сезона он приводил народ в изумление метанием ножей. Подобных штук не проделывал никто. В несоветское время его с распростертыми объятиями приняли бы в подходящее шоу на Бродвее, а так…
Но о приемах «комнатных ниндзя» он тоже кое-что знал. И общефизической подготовки хватало. Одна беда - не своим телом он сейчас распоряжался, а чужим, килограммов на двадцать тяжелее и на восемь лет старше. Однако предыдущие московские забавы и стимулирующее действие гомеостата плюс внедренной в мозг матрицы сообщили мышцам бывшего наркома удельную мощность пантеры и физическую силу гориллы, а реакцию - паука вида… (вот, черт, забыл), который свободно уворачивается от выпущенной с пяти шагов револьверной пули.
Пришлось подсобраться, конечно. Шульгин, выйдя в коридор, проделал несколько дыхательных упражнений, размялся, приводя в аллертное состояние чужой опорно-двигательный аппарат, и пошел.
Каудильо Франсиско Франко, в отличие от Гитлера, собственным, неприступным в принципе Берхтесгаденом, бункерами рейхсканцелярии или походным штабом Вольфшанце не обладал. Попроще он был, хотя и генерал, но не успевший стать всесильным и убежденным в своей непогрешимости диктатором. Или личный характер не тот, или национальный. Скорее он напоминал нашего Корнилова или Колчака.
Но все равно его личные и штабные помещения размещались в донжоне, башне, возвышающейся посередине самого верхнего и самого изолированного двора. А перед входом в него стояли два итальянских пушечных броневика. Ни за что не удастся Гришину и прочим интернационалистам туда пробиться вовремя. Дворец Хафизуллы Амина был попроще, да еще и охранялся людьми, которые вовремя сообразили сдать шефа и хозяина.
Значит, остался один Шульгин, чтобы сделать все и за всех.
Спасибо лейтенанту, по его чертежу Сашка стремительно перемещался где тайными проходами, где широкими коридорами. Со стен на него смотрели персонажи гобеленов пятнадцатого века, или вдруг выбегали солдаты двадцатого. Иногда он прятался, услышав шаги и голоса слишком многих людей, взбегая по опорному столбу к потолку. Иногда, если требовалось, просто бил ножом. Есть в человеческом организме такие места, что жертва и вскрикнуть не успеет.
Очень удобны были потолочные балки. Широкие и массивные, сорок на сорок сантиметров минимум. И стропила над ними, и подкосы. Можно полежать, послушать, о чем внизу говорят. Услышать удавалось много интересного. Насчет текущей обстановки, психологического состояния противника и куда более личных моментов.
Очередной раз, соскользнув вниз совершенно бесшумно, нащупывая кончиками пальцев швы между каменными блоками, он очутился в зале, превращенном в казарму. Плохую, к слову сказать. Тощие матрасы, разбросанные по полу, длинный стол, на котором, кроме большого чайника, десятка жестяных кружек и тарелки с кусками лепешек, ничего не было.
Значит, и гарнизон здесь обитал такой же, численно.
Но все давно разбежались по позициям. А для Шульгина как раз эта была хорошая. Фланкирующая подходы к донжону. Он тихонько закрыл входную дверь, повесил на ручку гранату «ф-1», разжав усики предохранителя.
Вряд ли он сейчас был человеком тех прекрасных, московских, солнечных, безмятежных семидесятых годов. Слишком много пролегло между ними страшного, фронтового, ни с каким гуманизмом несовместимого.
Найдя обходной путь, он опять выбрался сквозь Дверку полуподвала в непосредственно примыкающий к цоколю донжона дворик. Из-за поперечно стоящего корпуса взахлеб били пулеметы и автоматы. Жаль, не было у него больше рации. Подбодрил бы, в меру сил, своего Гришина и друзей-интернационалистов. Пока же им остается только надежда на командира. Пожалуй, тающая с каждой минутой. Генералы и наркомы лейтенантов бросают только так. По обстановке или просто по настроению, если не погибают раньше их, что тоже случается.
Он решил сделать то, что никакой настоящий «большой» начальник себе не позволил бы. Но Шульгин, пока жив, и пока живы люди, которых он втянул в эту историю, не мог поступить иначе.
Взбежал, как обезьяна, по внешней лесенке, типа пожарной, под самую крышу донжона и выпустил ракету в ту сторону, где стрельба была особенно сильна. «Зеленая цепочка». Если Гришин или любой из десантников увидят (не могут не увидеть) - поймут. Все идет по плану. Командир жив, и задание остается в силе.
Откуда зайти в башню, хоть снизу, хоть сверху, лейтенант ему объяснил подробно.
«Нет, на самом деле, я вернусь и его отпущу. Дожить бы только. В ином варианте будет сложнее».
Пробираясь по чердачной полуразрушенной деревянной лестнице, о которой сотрудники каудильо, возможно, и понятия не имели, Сашка готовился к последнему бою. Чувства, знание будущего, эфирные и прочие силы сейчас значения не имели.
Главное - ощутить себя самим собою. Вне всяких игр, Игроков, форзейлей и аггров. Как в танковом сражении на Валгалле. Ловушки - хрен с вами. Земные и неземные истории - тем более. Ни во что и ни в кого я не верю! Только в себя и в свой автомат!
Вот он уже на пятом этаже донжона. До резиденции каудильо осталось всего два. Вниз. Франко сам поставил себя в безвыходное положение. Обороняться можно, уйти нельзя. Если только найдется проводник, «знающий места». Отец, допустим, связанного лейтенанта. Да и то…
Пулеметы с обеих сторон прочесывали голый двор. Пока патронов хватит, никто на его плоскость не высунется. А их надолго хватит. Только помощь к каудильо подойдет раньше. Или уже подходит. Хорошо, если Гришин (да и жив ли он?) сообразил вызвать бомбардировщики Громова. Пока рассветет, они успеют долететь. Или ему самому нужно добраться до какой-нибудь рации. Есть же здесь узел связи?
Наверное, мыслеформа работала, как задумано. Он только приоткрыл выводящую в главные коридоры башни потайную дверь, как услышал внизу торопливые шаги. Отнюдь не грубые, солдатские. Характерный ритм женской походки. Удивительно - дамы даже при одинаковом весе и в казенной обуви ухитряются двигаться совсем иначе, чем солдаты.
Сашка увидел впереди зеленоватый болотный свет. Тоже здешнее изобретение для хождения по темным коридорам. Вместо фонаря - большая фосфорная брошка или пуговица. Освещает путь шага на три-четыре, и тебя издалека видно, чтобы не столкнуться и не спутать с неприятелем.
Когда женщина миновала дверь, не обратив на нее внимания, он шагнул следом. Шульгину не хотелось, чтобы она оказалась старой матроной, обходящей вверенные ей помещения в целях поддержания заведенного порядка, невзирая на войну. Фигура, впрочем, у нее была достаточно стройная. И немецкий автомат «Рейнметалл» стволом вниз на плече.
Он схватил его за цевье, разворачивая даму к себе лицом, упер ствол пистолета под ребра.
– Молчи, или стреляю сразу…
– Молчу, - шепнула женщина.
Шульгин включил свой фонарь шокирующего действия, направив его в лицо и глаза. Дама застонала, изо всех сил зажмурившись, но все равно несколько минут она не сможет видеть ничего, кроме синих и зеленых кругов и пятен.
А на вид пленница ничего, присущей испанкам грубости в чертах Сашка не отметил. Наоборот, присутствуют свежесть и изящество. Возраст - явно до тридцати. Он за руку затащил ее обратно, на опасно дышащую под ногами лестничную площадку, висящую над пропастью, погасил фонарь, толчком усадил на пол. Сапогом наступил на голень, не больно, но убедительно.
– Кто такая, куда идешь?
– Капитан Эстрелла дель Касановас. Адъютант каудильо. Иду по делам службы. Пароль - «Альбасете»,
Опять противника ввел в заблуждение Сашкин аристократический «кастильяно». Тем более что отзыв на сегодняшний день он знал от лейтенанта. «Альфамбра».
– Вставайте, сеньорита. Приношу свои извинения. Я думал, что «республиканцы» проникли уже и сюда.
– Назовитесь, - женщина встала, оправляя свою одежду.
– Майор Астрай. Командир пятой бандеры[35]. Я приехал сюда с пакетом для каудильо буквально за пять минут до того, как это у вас началось. Какой-то лейтенант проводил меня через дворец к заднему входу в башню, и тут его убило. Стыдно сказать, сеньорита, я заблудился. Столько здесь всяких переходов. Знать же, кто может попасться на пути, я не мог. Пакет, который при мне, слишком ценен… Проводите меня к каудильо.
– Что в пакете? - Голос Эстреллы прозвучал жестко. Ну да, она адъютантка, а он - майор из строевой части, хотя и укомплектованной элитой особого рода. Вроде немецких «Ваффен СС».
– Не ваше дело, капитан. Каудильо был первым командующим нашим легионом. Пакет приказал передать генерал Ромералес, с которым они лично знакомы. Ведите. И желательно, чтобы в приемной каудильо была радиостанция. Я обязан немедленно доложить генералу, что пакет передан из рук в руки. Положение у вас катастрофическое. Коммунисты высадили в окрестностях Бургоса десант силами до бригады, и на помощь к ним идут танки. Много танков.
Ему повезло, что попалась на пути столь важная особа. Не нужно больше, подобно обезьяне, пробираться по карнизам и балкам. Только оставалось непонятным, какие такие «дела службы» заставляли молодую красавицу бродить по заброшенным переходам. Может быть, действительно она намечала и размечала путь эвакуации для своего шефа? Так не ей бы этим заниматься, а специалистам и знатокам, вроде папаши связанного лейтенанта. И самому лейтенанту не пулеметы бы таскать…
Или она банальнейшим образом решила сбежать персонально? Сообразив, что чем пахнет. Это уже ближе к истине. Оттого и нервничает сейчас, возвращаясь туда, откуда второй раз не вывернешься.
Спрашивать об этом ему не по легенде, но следует предусмотреть момент, в который Эстрелла вдруг решит его обмануть или подставить.
Однако пока что ничего не указывало на особые интересы девушки. Они шли рядом, обсуждали эту странную, что ни говори, диверсию. Десант десантом, но капитан считала, что все организовано здешним коммунистическим подпольем. Ничего другого и предположить невозможно. Иначе бой начался бы на дальних подступах, а не прямо во дворце.
– А как вы добирались, майор?
– Самым обычным способом. На автомобиле. На КПП предъявил документы, какой-то юный лейтенант взялся меня проводить, мы прошли буквально сотню шагов, и тут… Взрывы у ворот, стрельба, крики… Мы куда-то бежали в темноте, со всех сторон свистели пули. Две-три арки, справа длинный темный корпус, оттуда тоже начали бить из пулеметов. Однако проскочили, а возле маленькой дверки башни лейтенант нашел свою судьбу. Успел показать рукой, туда, мол, и вверх, и тут же умер.
– Что же за лейтенант такой? - как бы сама у себя спросила Эстрелла. Видно было, что рассказ Шульгина ее убедил, за вражеского агента она его не принимала. И пароль, и такие подробности…
– Неужто мальчишка Эррано? Только он знает здесь все закоулки. Но как он мог оказаться у ворот? Я видела его в нижних казармах уже после начала боя…
– Мне он не представился. Да, маленький, худощавый, в синей накидке поверх мундира. Больше ничего не рассмотрел… Некогда было.
Пускай девушка терзается сомнениями, это только на пользу, других вопросов задавать не будет. Они наконец вышли в цивилизованную часть донжона. Здесь было достаточно светло от аккумуляторных ламп, без особой суеты перемещались офицеры и солдаты, озабоченные, но не испуганные. Подходы к центральной лестнице, крутыми маршами обвивавшей голые каменные стены башни, пустой внутри, что было очень удобно для обороны и в средние века, и сейчас, перекрывали импровизированные баррикады, усиленные пулеметами. Да и без них штурмующим пробиться наверх было почти невозможно. Каждая ступенька, начиная с первого этажа, простреливалась как в тире, а снизу вверх никого не достанешь. Если бы иметь пару десятков гранатометов, тогда еще так-сяк, а с одними автоматами и ручными пулеметами - глухо!
Разве что, разобравшись с силами внешней обороны, натащить к башне всякого горючего материала и запалить… Вполне корректная мера по средневековым понятиям. Хочешь - гори, хочешь - выходи сдаваться.
Выходя из потайных ходов, Шульгин надел на голову ждавшую момента франкистскую пилотку с майорскими нашивками. Этот вариант у него был предусмотрен. Остальная его одежда была вполне универсальна и лишена признаков государственной принадлежности.
У входа в приемную каудильо стояли два офицера-фалангиста. Всего лишь с пистолетами, правда, в расстегнутых кобурах.
– Привет, Эстрелла. Кто это с тобой?
– Майор с пакетом от генерала Ромералеса.
– Давайте, - протянул руку тот, кто стоял справа.
– Только в собственные руки, - Шульгин сделал надменное лицо.
– Невозможно. Каудильо занят, и… сами видите, что творится. Отдайте Эстрелле, она передаст.
– Нет. Она может передать, но у меня на глазах, и каудильо распишется на конверте. Опасаетесь - сопровождайте нас, доложите вождю, я постою на пороге, но как будет передан пакет, я должен видеть своими глазами. И получить подпись.
Офицеры явно колебались, но присутствие адъютантши и напористое поведение майора плюс тот же аристократический язык выбивали их из стандартной функции.
– Хорошо. Сеньорита войдет первой и доложит. Если каудильо захочет вас принять, она скажет. А оружие оставьте здесь. Что это у вас?
– Трофейный русский автомат. А вот пистолет, Больше ничего нет. Можете обыскать. - И туг же, перебивая темп, спросил: - Где у вас радиостанция? Я должен немедленно сообщить генералу, что пакет передан. Это очень важно.
– Третья дверь по коридору, - машинально ответил офицер, что стоял слева.
Шульгин положил на пол «ППД», протянул на ладони «вальтер».
– Курить можно?
Он сделал всего две затяжки, когда дверь открылась и Эстрелла его окликнула:
– Войдите, майор.
Жаль, что подходящего конверта у него не было приготовлено. Но ничего, и распечатка плана сойдет, чтобы отвлечь внимание.
До последнего он опасался только одного: что никакого Франко в кабинете нет и это просто ловушка, устроенная людьми не глупее него.
Хоть настоящими, хоть с других уровней.
Однако нет.
Задрапированная бордовой и зеленой тканью приемная, прямо поверх каменных стен, два письменных стола, штук по пять телефонов на каждом. Пожилой капитан, наверняка призванный из запаса, потому что форма на нем была совсем старая, королевская. Горят слабенькие настольные лампы. Второй стол, наверное, как раз Эстреллы. Потому что между бумажками и телефонами валялась полуоткрытая пудреница. Точно, сбежать девушка собиралась, или в панике, или осознанно создав впечатление, что на минутку вышла.
Капитан, едва привстав, кивнул майору. Тоже адъютантские замашки.
А пистолет у него слабенький, и кобура к копчику сдвинута.
У Эстреллы, невзирая на хрупкость фигуры, пушка посерьезнее, «Парабеллум-08». Он и пригодится. Дверь перед ним распахнулась, и Шульгин воочию увидел очередную в его жизни историческую фигуру. Франсиско Франко Баамонде, будущий генералиссимус, которому теоретически предстоит жить и успешно руководить своей изможденной войной державой еще почти сорок лет. Невысокий, полноватый человек «с незначительным лицом». Однако же! Умер он уже в зрелые Сашкины годы, надолго пережив прочих вершителей судеб двадцатого века. Муссолини - на тридцать два, Гитлера и Рузвельта - на тридцать, Сталина - на двадцать два и даже Черчилля - на шесть.
– Здравствуйте, майор, - сделал диктатор шаг навстречу. - Что мне пишет мой друг Гонсалес?
Ужасно неприятно стрелять в улыбающегося тебе человека. Если бы он хотя бы выглядел мерзавцем! Так и того нет. Штауфенбергу было проще, он бомбу подкладывал, которая взрывалась уже без него.
Сашка отработанным движением выдернул «парабеллум» из кобуры Эстреллы, для полной уверенности вздернул коленчатые рычаги затвора, убедился, что патрон пошел на место, и выстрелил трижды. Не в лицо или в лоб, в обтянутую кителем с орденами грудь. Все равно наповал, но хоть не так противно.
Франко опрокинулся навзничь, тихо захрипев и дернув ногой в лакированном сапоге.
«Дело сделано, сказал слепой», - вспомнилась сакраментальная фраза из «Острова сокровищ». Он направил пистолет на Эстреллу, не успевшую вообще ничего понять.
– На пол, ложись!
Из-за портьеры, прикрывавшей дверь в соседнюю комнату или просто нишу, на него бросился еще один человек.
Среагировал он по-своему быстро, только совершенно не в том темпе. Для Шульгина время тянулось плавно, неторопливо, он и «парабеллум» взял, и все остальное совершил, словно водолаз, работающий на большой глубине. Для окружающих - наоборот, двигался он с непостижимой быстротой, моментами превращаясь в туманную тень.
Тех двух-трех секунд от лязга затвора до финального выстрела едва достаточно, чтобы обладателю нормальной реакции только сообразить, что случилось непоправимое.
Уклонившись от нового противника, даже не успев его разглядеть, Сашка сбил его с ног ударом левой руки и подсечкой. В тот же момент в комнату вломились караульные гвардейцы, пришлось отвлечься на них. Два выстрела, и достаточно.
Повернулся, переводя ствол на медленно, очень медленно пытающегося встать с пола человека в испанской офицерской форме без знаков различия. Погасить его, и можно спокойно начинать ретираду[36].
Осложнение возникло неожиданно. Как, впрочем, обычно и бывает. На линии огня вдруг появилась Эстрелла, сумевшая вскочить тоже с почти невероятной быстротой.
– Стойте! Не смейте! Хватит вам каудильо! Оставьте его…
Ну, порыв! Будто у воробьихи, защищающей от кошки своего птенца. Любовь, не иначе.
Шульгин опустил пистолет. И услышал, как прикрытый отчаянной женщиной офицер, со злобой и обидой одновременно шепотом матерится по-русски, пытаясь нащупать на поясе кобуру.
Сашка облегченно рассмеялся.
Подошел, отстранив рукой Эстреллу, протянул руку.
– Вставай, земляк. Не трону. Из каких будешь? Небось из белых?
Невысокий, чуть рыжеватый человек с правильными чертами действительно славянского лица помощи не принял.
Встал сам, кривя губы.
– Хрен с бугра тебе земляк. А я из белых, точно. Подпоручик Дроздовского полка Семецкий. Там мы вас добить не сумели, так, может, хоть здесь… Ну, стреляй, стреляй, красная сволочь!
– Кончай психовать, поручик. У каждого своя игра. Под Каховкой в двадцатом воевать не случилось?
– Не твое дело!
– Может, и мое. Я у Слащева резервом командовал…
– Так как же?!
– Это - лишний вопрос. Живи, поручик Семецкий, не мне тебя убивать. А отсюда сматывайся, пока не поздно. Будут еще фронты, где настоящий смысл воевать появится.
Козырнул с подчеркнутым, старым шиком, отвернулся и вышел, не побоявшись подставить спину.
Капитан в приемной умело спрятался под стол. Опыт прежних дворцовых переворотов, наверное. Его Шульгин тоже трогать не стал. Выскользнул в коридор, перейдя в режим невидимости за счет скорости движений и точно рассчитанных маневров. По пути прихватил свой автомат. Заскочил в радиорубку. В этом темпе даже простая пощечина отключала человека не хуже нокаутирующего удара Джо Луиса.
Но радистов и бить не пришлось. Руки они подняли дружно, когда он остановился и снова стал доступен зрению.
– Включи, - указал он стволом ближайшему. - Длинные волны. Восемьсот сорок три.
Повернув верньер, подстроился на рацию Громова.
– Всем взлет. Бомбить и штурмовать дороги на подходах к Бургосу. И любые перемещения войск на окраинах города. Аэродром не трогать. Истребителям, «СБ», всему, что летает. У нас получилось. Это последний бой, Михал Михалыч! Покажи им!
Времени говорить больше не было. К сожалению, эта станция на УКВ-диапазоне не работала, с Гришиным он связаться не мог. Но тот еще сражался, судя по звукам. Даже ракет у Сашки не осталось. Что же придумать, как дать сигнал на общий отход? Этот вариант они как-то не предусмотрели. Все, кроме этого.
Стоп! Идея. В группах есть бывшие моряки и просто радисты-телеграфисты, которые обучались азбуке Морзе.
– Где рубильник?
– Вон там…
Сорвав шторы, Сашка перебрасывал тяжелую эбонитовую рукоятку, включая и выключая свет по всему донжону. В предутренней темноте непременно увидят, не могут не увидеть!
К счастью, кодировка была несложная. Три тире, тире, четыре точки, три тире, тире, две точки. «Отход, отход, отход!!!» Кто-нибудь да увидит, поймет. Ничего больше он для своих бойцов сделать не мог.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Гитлер был в бешенстве. Пожалуй, первый раз в своем нынешнем качестве. Раньше поводов не возникало. До сих пор ему удавалось все, от победы на выборах до ремилитаризации Рейнской области и возрождения армии, ВВС и флота. С Ремом и его штурмовиками разобрался легко и одномоментно. Наплевав на Версальские ограничения, выгнал оккупационные войска французов, перестал платить репарации, уверенный в политической импотенции бывших победителей, блефовал отчаянно и успешно во внешней и внутренней политике. Строил боевые самолеты, танки, линкоры, превратил Веймарский Рейхсвер в полноценный Вермахт.
Он и в Испании ввязался именно потому, что нес его на волне удачи тот самый «сумрачный германский гений», о котором писал русский поэт Блок. Нес, как серфингиста волна гавайского прибоя. Какие там экономические и политические расчеты? Только мистическая вера в себя и полное презрение к противникам.
Поначалу получалось до чрезвычайности успешно. Иногда, просыпаясь на рассвете, он сам себе удивлялся. Именно на рассвете, когда человек наиболее способен и склонен к самокритике и трезвой оценке окружающей действительности. Лежал, глядя в светлеющее окно, и не понимал, отчего все вокруг настолько глупы и безвольны. Ведь за последние десять лет его могли раздавить на ногте, как сам он давил платяных вшей в окопах. Каждый, кому этого захотелось бы, раздавил, не поморщившись. И тюрьмы после «пивного путча» могли отвесить не год, а десять (логичнее, конечно, расстрел или повешение), сам он в подобных случаях не либеральничал, если вспомнить события 1934 года. В тридцать втором, в тридцать третьем все висело на волоске, коммунисты могли объединиться с социал-демократами, Гинденбург - отказать в назначении его рейхсканцлером… И так далее. Он ведь, если откровенно признаться, никогда не имел за душой ничего, кроме бешеного напора, хорошо подвешенного языка и непреклонной воли. Остальное - производные.
Каждый раз, мазохистски разобрав все варианты собственного неминуемого поражения в любой почти ситуации, он переполнялся ощущением пронизывающих его мистических сил. Они, а не жалкие прагматические расчеты, законы экономики и геополитики руководят его успехами.
Но сейчас ему нанесен сокрушительный, унизительный удар. Там, где он его ни в коем случае не ожидал.
Трусливые англосаксы и французы давно пообещали на конфиденциальных переговорах, что в Испании мешать ему не станут. С англичанами понятно, те всегда ненавидели русских, а уж русских коммунистов в особенности, и раз они поддержали республиканцев, то гордые бритты согласны помогать хоть дьяволу. Но ведь и французы, союзники России со времен позорно проигранной ими войны семьдесят первого года, сами имеющие правительство «народного фронта», настолько испугались союза испанских коммунистов и социалистов, поддержанного Сталиным, что согласились и на блокаду Республики, и на неограниченное вмешательство своего злейшего врага, немцев, на стороне Франко.
Сами надели себе веревку на шею и с нетерпением озираются: кто же ее затянет?
Да и Сталин, единственный правитель Европы, на которого Гитлер поглядывал с опаской и уважением, особого стремления решить испанский вопрос кардинально не показывал. Посылал туда самолеты, танки, военных советников, но без выраженного энтузиазма, воли к победе, и за каждое «благодеяние» аккуратно брал с клиентов деньги вперед.
Вот он, фюрер германского народа, помогает испанскому каудильо бескорыстно. Все, что нужно, получит позже, деньгами ли, сырьем, адекватной военной поддержкой или геостратегической выгодой, которая стоит многих и многих миллионов раскрашенных бумажек.
И вдруг такая пощечина! Да что там пощечина, сокрушительный, дробящий зубы в крошку удар железным кулаком. Никто и опомниться не успел. Отчаянное наступление республиканцев на Теруэль было неприятным событием, заставившим напрячься германских штабистов, а французов даже приоткрыть границу для поставок в Республику давно закупленной и оплаченной техники. Но ничего особенного, если смотреть на карту беспристрастно, собой не представляло. Да, срезали выступ, который мог бы стать плацдармом для прорыва к морю. Невелика беда. Только абсолютно никому в голову не пришло, что это был отвлекающий удар. В военной истории редко встречались подобные авантюры - бросить в демонстративно-отвлекающее наступление едва ли не восемьдесят процентов всех наличных сил! Даже талантливый Брусилов (которого Гитлер искренне уважал, как предтечу идеи блицкрига) на отвлекающие операции выделил едва треть войск фронта.
Это и спутало карты франкистским генералам и германо-итальянским советникам. Если враг вводит в бой практически все, что имеет, значит, необходимо парировать его удар, даже уступив ключевую позицию, и после этого можно переходить в генеральное наступление на любом другом участке. Резервов там уже не появится.
А вот Сталин его обманул! Со всем своим восточным коварством! Гитлер ни на минуту не вообразил, что случившееся на фронте хоть в какой-то мере можно записать в заслугу испанскому командованию. Нет, тут чувствовалась рука почти гениального стратега. Почти - потому что истинно гениальным фюрер считал только себя.
Не мог этим стратегом быть и сам Сталин. Сильный политик - да. Вождь нации (в переводе вождь и фюрер - одно и то же), беспощадный к врагам, что очень правильно. Но - азиат. Недочеловек. Хитер, как Чингисхан, не отнимешь. Чего стоит великолепно устроенный на весь мир спектакль с разоблачением военного заговора, показательным процессом с приглашением мировой дипломатии, журналистов и писателей, от самых просоветских до яростных ненавистников коммунизма.
«Смотрите, слушайте, вот они - враги народа, агенты гестапо и злейшего врага всего прогрессивного человечества иудушки Троцкого!»
Гитлер с раннего детства обожал читать газеты и книги, сам проявил себя ярким публицистом, по преимуществу в речах, но свою «Майн кампф» он считал трудом, не уступающим писаниям разных там Аврелиев, Макиавелли и… Кто там из ключевых исторических фигур написал такую же толстую и столь же читаемую книгу? Ну да, Ленин очень много написал, так все статьи, статьи, книги не сумел.
Только сейчас, позже, чем нужно, он догадался, что и тут Сталин обманул всех. Получил все компрометирующие материалы на своих генералов через Бенеша и некоторые гораздо более тайные источники, сделал вид, что поверил, и организовал грандиозную контроперацию. Митинги возмущенных трудящихся по всей стране, широко разрекламированное в печати заседание военного совета, где маршал Ворошилов на весь мир кричал, сколько врагов разоблачили и арестовали, от прославленных маршалов до командиров дивизий и полков. И все поверили! Весь мир поверил, и он, проницательнейший из проницательных политиков, поверил тоже. Уж слишком было все убедительно обставлено. А главное - хотел поверить, поскольку сам руку приложил, чтобы случилось именно так.
Вот она - азиатская хитрость соперника! Приговоры были опубликованы. А вот трупы? Трупы расстрелянных маршалов и командармов кто-нибудь видел? Хоть один? Нет.
А казалось бы, после такой бешеной кампании самое главное - продемонстрировать «Орби эт урби» результат. Чего стесняться?
Не показал. Значит, была это только постановка. Все они живы и продолжают работать. Результат - налицо. Сам ли Тухачевский или кто-то из прочих сталинских полководцев, с опытом еще Мировой войны, и провел эту самую, достойную войти в анналы, операцию?
Надо отдать должное фюреру, когда, что называется, прижимало, успехи своих противников он начинал оценивать объективно.
Окружение и штурм горной крепости Теруэль, зимой, в двадцатиградусные морозы, - это похоже на действия генерала Юденича против Эрзерума в шестнадцатом году. Операция заставила франкистов перебросить туда большинство боеспособных дивизий и почти всю авиацию, двести пятьдесят самолетов, в том числе только что прибывшие из Германии три эскадрильи новейших пикировщиков «Ю-87». Со стороны республиканцев действовали лишь тридцать тихоходных советских штурмовиков-бипланов «Р-зет». Но и это оказалось хитростью и коварством. Оставив эти самолеты на растерзание «мессершмиттам», «хейнкелям» и «фиатам», русские сосредоточили более двух сотен «СБ», «И-16» и французских «потез» в районе Сарагосы, создав полное впечатление, что очередное наступление начнется именно здесь. Окончательно эта версия подтвердилась массированным налетом республиканской авиации на крупнейшую военно-воздушную базу итало-германцев Гарпенильос, где были подготовлены к действию более восьмидесяти новейших истребителей, в том числе «Ме-109 В-2», специально модернизированные для борьбы с русскими «И-16».
Несмотря на то что Гарпенильос был плотно прикрыт многочисленными зенитными батареями, рано утром эскадрилья «СБ» нанесла отвлекающий бомбовый удар, после чего две эскадрильи «И-15» и пять эскадрилий «И-16» начали штурмовку аэродрома с пикирования и бреющего полета. Русские истребители спускались до высот в десять-пятнадцать метров, вели себя исключительно дерзко, уходили от цели, только расстреляв весь боеприпас. Было уничтожено пятьдесят с лишним самолетов. Пожар на стоянках и складе горючего бушевал целый день, запах гари доносило даже до линии фронта, за тридцать с лишним километров.
Разъяренный Муссолини прислал специальную следственную комиссию, и несколько офицеров-зенитчиков были расстреляны перед строем. Гитлер предпочел не реагировать так остро и списал потери на неизбежность войны.
Оказалось, этот блестящий, что ни говори, налет был тоже отвлекающим, но сам по себе чрезвычайно эффективным.
Вслед за ним, а точнее, почти одновременно, последовала дерзкая атака проникших через фронт штурмовых частей на Уэску. Укомплектованных, что более всего привело в бешенство фюрера, немецкими коммунистами-интербригадовцами. Так утверждали выжившие испанские офицеры, которым довелось близко столкнуться с диверсантами - все были одеты в форму легиона «Кондор» и говорили по-немецки.
Он приказал Гиммлеру и Гейдриху обязательно установить личности выехавших в Испанию предателей, всех, чем бы они там ни занимались, и отправить ближайших родственников, а также их пособников в концлагерь. Хватит тешить общественное мнение еврейско-плутократским гуманизмом.
В Уэске и Сарагосе франкисты понесли очень тяжелые потери, однако по преимуществу нравственные. Что такое для мужественной, готовой биться за Фатерлянд до конца армии несколько разгромленных дивизий? Гитлер помнил, как на Западном фронте за день наступления от дивизии оставалась рота, и все же никто не дрогнул, пока проклятые либералы не нанесли армии «удар ножом в спину». Зато уцелевшие соратники каудильо тут же впали в панику, одни начали паковать чемоданы для бегства, другие - сговариваться (о чем Гитлеру немедленно доложили) о заключении мира на любых, гарантирующих жизнь и сохранение чинов условиях.
Итальянцы, конечно, тоже недочеловеки. Отребье некогда великого Рима, который разгромили и захватили германцы. Надо будет при случае дать Бенито просмотреть кое-какие книги. А то уж что-то слишком он увлекся. Джулио Чезаре[37] новоявленный.
Но и Уэска, что такое Уэска? Гитлер крутанул рукой любимый двухметровый глобус. Испания на нем занимала вполне солидный кусок Европы, почти вдвое больше Германии, а эту Уэску еще поискать.
Зато, - мысль фюрера германской нации снова вернулась к якобы расстрелянным советским полководцам, - на учения тридцать шестого года, куда были приглашены военные атташе и представители генштабов всех европейских армий, даже всякие там латыши и эстонцы, - русские продемонстрировали высадку массовых воздушных десантов с бомбардировщиков «ТБ-3», с танками и артиллерией. Мир содрогнулся. Если это показывают на учениях, чего можно ждать на самом деле, в условиях реальной войны? Гитлер тут же приказал своим генералам немедленно заняться чем-то подобным.
Так вот, после третьего отвлекающего удара русские (а кто же еще?) нанесли основной. Такого не мог вообразить никто. С неустановленного аэродрома поднялись в воздух немецкие «Ю-52», то ли захваченные республиканцами у франкистов (хотя о таких фактах ему не докладывали), то ли закупленные у третьих стран. Сейчас это неважно. И они выбросили ночной (!) парашютный десант на Бургос, временную столицу каудильо Франсиско Франко. За пятьсот километров от линии фронта.
Бой длился всю ночь. Гитлер как старый фронтовик понимал, что рапорты с места боя не стоят ничего. Одни откровенно врут по известным причинам, другие действительно ничего не успели понять и оценить, третьи, в силу особого устройства личности, сконструировали собственную версию, позволяющую сохранить душевное равновесие.
Ефрейтор Гитлер, что бы о нем ни писали позже, солдатом был толковым. «Железный крест» первой степени получил, что примерно равнялось всем четырем Георгиевским в царской армии, и при своем незначительном чине научился так понимать психологию высшего начальства, что фельдмаршалы не его должности «фюрера» боялись, а именно проницательности и стратегического мышления. Тут они со Сталиным очень близки, кстати.
Так вот, что бы там ни докладывали о внезапности, о героизме, в том числе и германских советников, итог простой: штаб Франко разгромлен, сам он убит, и еще десяток ближайших сподвижников тоже. Короче, все правительство. Германских «советников» тоже не пощадили. Каким-то образом оставшийся в живых и вышедший на связь агент РСХА сообщил Гейдриху, что бойня была страшная. Причем уже сдавшихся немцев расстреливали немцы, итальянцев - итальянцы, испанцы - всех подряд, а несколько выдавших себя языком русских, руководителей, очевидно, вели себя как англичане в Индии, подавлявшие восстание сипаев. Рук не пачкали, оставаясь, условно говоря, в белых перчатках.
Если агент, переживший это, счел нужным отметить, из объективности или с другой целью, что русские даже там изображали из себя только «советников», это стоит запомнить. Не для того, чтобы когда-нибудь «отплатить добром за добро». Совсем наоборот. Мягкотелость, вот правильное слово! Будет время, и на этом можно сыграть.
В предвидении грядущей, последней битвы со славянством Гитлер не раз жалел, что судьба забросила его на Западный фронт. Что он там видел? Позиционную войну, грязные окопы, изрытую сверхтяжелыми снарядами землю, превращенную в лунную поверхность, газы. Голод. Если не страх смерти, то скуку. Юдофил Ремарк довольно похоже все описал. А вот если бы добровольца-ефрейтора послали на Восточный… Там и война сама по себе была куда интереснее, и он бы смог поближе познакомиться с этими русскими, выучить их язык. Не по книгам, а лично понять, как с ними следует воевать, А воевать придется обязательно.
В приемной топталась целая свора генералов. Ждали, когда он их позовет. А он пережигал в себе эмоции, по сложным траекториям пересекая свой неуютный, но великолепно приспособленный для унижения посетителей кабинет.
Это, конечно, был не тот карикатурный фюрер из советских послевоенных фильмов, и не реальный, разрушенный поражениями и болезнями банкрот сорок пятого года, тем не менее нашедший в себе силы застрелиться, а не отдаться на поругание ненавистных врагов. Сейчас это был крепкий сорокавосьмилетний мужчина, у которого все было впереди. И, самое главное, пока что он не был преступником всех времен и народов, воплощением вселенского зла. Так, обычный среднеевропейский автократор, не успевший совершить абсолютно ничего из тех ужасов, что начнутся гораздо позже. Возрождал униженную Версалем и непомерными контрибуциями страну, восстанавливал разваленную промышленность, повышал жизненный уровень простого народа, ничего более.
Политических противников сажал в концлагеря, но довольно умеренно, сроки давал детские, его лагеря в сравнении со сталинскими выглядели почти оздоровительными. Открытый суд над обвиненным в организации поджога Рейхстага лидером Коминтерна Димитровым его оправдал, что в СССР было непредставимо в принципе. Строил автобаны, готовился к войне - так кто к ней в середине тридцатых не готовился? На Абиссинию не нападал, в отличие от Муссолини. Ввел некоторые ограничения для евреев, так не убивал же, всем желающим позволял уезжать куда угодно, со всеми капиталами, только недвижимость, если не успевали ее продать арийцам, оставалась за Рейхом. И в этом не было ничего нового и чрезвычайного. Расовый подход или классовый, какая разница? Все, что навеки связано с его именем, начнется гораздо позже. Или не начнется…
– Пригласите, - сказал он адъютанту, приведя нервы в порядок. Если бы он курил и пил, как Черчилль, Сталин или Рузвельт, увлекался женщинами, как Геббельс, да хотя бы не был вегетарианцем, мировая история тоже могла бы пойти иначе. А тут у одного из претендентов в демиурги не оказалось ни одного способа релаксации, кроме «воли к власти» и реализации ее в самых извращенных формах.
Покурил бы сейчас «Адольф Алоизович» хорошую сигару или трубку, сидя на подоконнике своего кабинета, любуясь на перспективу зимнего Берлина, утешая себя тем, что политические коллизии преходящи. Как бы там ни было, впереди ждет вечеринка со шнапсом, корном, коньяком, айсбаном и кровяными колбасками, обществом актрис из Бабельсберга или девок из Пратера в крайнем случае. Так и отпустило бы…
Но ничего этого ему доступно не было, и он со всей яростью аскета обрушился на ничего не смеющих и не имеющих возразить Геринга, Гиммлера, Мильха, Бломберга и прочих. Он объяснил все, что о них думает, что они собой представляют с точки зрения главы государства, и окопного солдата тоже, какая судьба ждет каждого по отдельности и всех вместе, если они и впредь намерены таким вот образом исполнять приказы своего фюрера.
– Бы хотя бы понимаете, что только что проиграна первая кампания из тех, что мы должны были непременно выиграть и показать всему миру - Германия жива, она возродилась, она снова собирается играть лидирующую роль в европейской политике? А вы что сделали?! Утопили в сортире все мои усилия! Я рискнул навлечь на нас гнев и санкции всей этой либеральной сволочи, я бросил прямой вызов Сталину, связавшись с Франко и Муссолини, понадеявшись на вас, негодяи! Что вы мне обещали? И что преподнесли в подарок? Где ваши «юнкерсы», «мессершмитты», «хейнкели»? Кто говорил, что выметет железной метлой с испанского неба русскую фанеру? Вы, Герман? Где ваша метла? Кто говорил, что наши танки и пушки вдребезги разнесут ничего не стоящие и никому не страшные «Т-26»? Вы, Бломберг? Что десять тысяч наших легионеров стоят всей республиканской армии со всеми штатскими волонтерами? Вы, Браухич?
Ох, как бы я хотел отправить всех вас сегодня же на фронт! Командирами рот и батальонов. Только какой от вас толк, если все уже проиграно? Вон отсюда, не желаю никого из вас видеть. И чтобы никто больше не смел обращаться ко мне со своими дурацкими идеями и предложениями! Ни одной марки не позволю выделить, пока не докажете, что умеете управляться с тем, что есть. Убирайтесь, все, все!!! Не желаю ничего слушать, ни оправданий, ни новых проектов. Их нет и не может быть! Только по вашей вине Германия обречена на десятилетия прозябания. Где мы теперь можем показать свою возрастающую силу и волю к победе? Вон!!!
Выгнав генералов, Гитлер обессилено упал в кресло. Как жаль, что у него нет тех сил и возможностей, что у Сталина! Арестовать, отправить в концлагерь, расстрелять! Увы, до сих пор существуют и действуют законы, юстиция, черт бы ее взял, суды. Какое обвинение можно предъявить этим надутым индюкам в погонах и лампасах? А если вермахт возмутится неуважительным к нему отношением? Выведет на улицу свои полки и дивизии? СА уже не существует как значительной силы, СС - вообще ничто. Ах, поспешил он, поспешил с ликвидацией Рема. Тогда его отряды превосходили по своим возможностям армию, что и напугало. Эрнста и его штурмовиков уничтожил и остался один на один с вояками, воображающими себя солью земли. Сдержать их можно только напряжением воли, а иначе бы прямо сейчас кто-то из них мог бы достать пистолет или вызвать караул. И что? И все…
Гитлер прекрасно понимал, что руководит Германией он только в силу невероятного сосредоточения мистических сил, обративших на него свое благосклонное внимание. Никаким иным образом он не смог бы достичь того, чего достиг. И сейчас случился первый сбой. Как его трактовать? Предостережение от переходящей границы самоуверенности, намек на то, что впредь следует быть аккуратнее, или проведенная перед ногами меловая черта? Вот он, твой край, и дальше ни шагу!
Посыл, что обожаемый Фатерлянд так и останется униженным, разоруженным, никому не страшным и не могущим претендовать на право называться Третьим, Тысячелетним Рейхом?
А ведь все складывается именно так. Не сумев руками Франко победить в Испании, Германия показала всему миру, что она по-прежнему не может влиять на события вне своих границ. Россия, направив за тысячи километров весьма ограниченные силы, да еще тайком, своих целей добилась. Национал-социалистская Германия и фашистская Италия, бросив на игорный стол фактически все, что имели и чем гордились, проиграли. Десятки тысяч солдатских жизней, танки, самолеты, корабли, деньги, великолепная, рискованная, на грани срыва игра дипломатов и агентов влияния - все пошло прахом.
Ставшая коммунистической Испания (в то, что она останется умеренно-социалистической, он не верил, не за тем Сталин в нее вложился) непременно окажет воздействие на большевизацию Франции. Наверняка вскорости рухнет и режим Салазара в Португалии. То же произойдет в их африканских колониях. Упоенный столь далекой от своих непосредственных границ победой, Сталин, естественно, начнет проводить намного более агрессивную политику в ближнем предполье.
Гитлер мыслил не просто экономическими, политическими, военными категориями, как это делали его исторические предшественники, нынешние соперники и противники, он воспринимал окружающий мир как субъект своей «воли и представления». И видел очень далеко.
Проиграл в Испании, значит, скорее всего, не получится шантаж англо-французов в отношении Судетской области и всей Чехословакии. Тот же Бенеш скажет Чемберлену и Даладье - русские помогли испанцам, помогут и мне. Зачем мне разоружение под ваши гарантии?
Поляки непременно струсят раньше времени, откажутся принять в благодарность за снятие вопроса о Данцигском коридоре Тешинский край, предпочтут договариваться о «коллективной безопасности» с русскими и чехами. Особенно если Сталин пообещает им не отдавать Вильно литовцам.
Рушилась вся концепция и конструкция грядущего Рейха и созревшего в его голове плана европейской войны за возрождение Великой Римской империи германской нации.
Что же это значит? Остаться на своем посту в качестве канцлера бессильной бывшей великой державы до момента, когда какой-нибудь Бломберг, партайгеноссе Борман или верный друг Гесс не заявят, что пора бы и очередные выборы провести? Хоть канцлера, хоть фюрера. Чем мы хуже?
А Германии в предписанной ей волей победителей роли никогда не стать Рейхом. Ресурсов не хватит. Все уйдет на картошку и масло для ублажения голодных желудков. Куда девать построенные и строящиеся линкоры? Продать Аргентине или той же России? Уже стоящие в заводских цехах бомбардировщики срочно переделывать в пассажирские самолеты?
Нет, нет! Гитлер снова забегал по своему гигантскому кабинету, сжимая кулаки и хрустя пальцами. Выход есть! Обязательно есть, причем такой, что никому из этих жалких червей, козявок, называющих себя политиками, и в голову не придет. Настоящий арийский дух тем и силен, что способен на невероятные решения. Думал ли Квинтиллий Вар, что ждет его в Тевтобургском лесу[38]?
И буквально тут же решение пришло. Не оставили его влекущие по дороге невероятных побед силы, воодушевлявшие древних арийцев.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Встреча Антона с Сильвией прошла целиком по намеченному им сценарию. Иначе и быть не могло, слишком выгодным было его положение и без надежным - ее. Форзейль знал о своей партнерше все, она о нем - почти ничего, за исключением общего представления о факте существования и исторически сложившихся способов распознавания признаков вражеской деятельности.
Их первая личная встреча произошла лишь в Ставангере в восемьдесят четвертом году, и тогда они как равноправные договаривающиеся стороны занимались урегулированием конфликта, возникшего между их резидентурами вследствие появления на сцене «третьей силы». То есть Новикова, Шульгина, Левашова, вставших на защиту ренегатки Ирины. Но обставлено это был так, что аггры приняли безрассудных и отвязанных до потери чувства самосохранения людей за представителей посторонних и, возможно, высших по отношению к ним сил.
Этой леди Спенсер до судьбоносного «дипломатического интермеццо» жить больше сорока лет. Она, кроме того, пока не догадывалась, что джентльмен, пригласивший ее на деловой завтрак, назвавшийся незнакомым, пусть и прилично звучащим именем, имеет непосредственное отношение к сэрам Ричарду Мэллони и Говарду Грину, а также и к господину Шульгину, о котором ей писала ее дублерша из прошлого. Он доставил ей несколько не вполне приятных минут личного общения, в чужом, впрочем, облике.
Должность и чутье не позволили ей отклонить предложения незнакомого человека, сделанного по всем правилам этикета и вдобавок содержащего легкие намеки на суть выполняемой на Земле работы.
Приняв необходимые предосторожности, леди Спенсер минута в минуту прибыла ко входу в ресторан «Адмирал Бенбоу», расположенный буквально в нескольких шагах от ее особняка на Элизабет-стрит. Заведение считалось более чем респектабельным, почти клубом, куда вход гостю с улицы мог быть воспрещен без объяснения причин.
Шульгина подлинного нынешняя Сильвия никогда не видела, отчего маскироваться Антону не было необходимости. Оделся он строго, подобающим родовитому аристократу образом. В тридцатые годы в Англии таким вещам уделялось самое серьезное внимание. Усы - настоящие, колониальные, вроде как у доктора Ватсона, он, по совету Шульгина, успел отпустить, пока обживался в столице туманного Альбиона.
Леди тоже была одета сдержанно-элегантно, в темно-серый костюм: удлиненный жакет в талию, узкая юбка до середины голени, туфли на устойчивом, не слишком высоком каблуке, шляпа с широкими полями.
Странным образом наряд Сильвии походил на тот, в котором она явилась на переговоры в Ставангере, невзирая на все поправки на моду, время и прочее. Стиль, одним словом, оставался тем же.
Обменялись положенными приветствиями. Сильвия смотрела на него слегка настороженно, он - весело и безмятежно. В первые же минуты Антон дал понять даме, что к земным ее делам, финансовым и личным, их встреча не имеет отношения. Она приняла информацию к сведению, только не сумела до конца совладать с лицом, выдавшим подлинные эмоции холодноватой и демонстративно уверенной в себе женщины. Что и неудивительно: не успела еще опомниться от недавних событий, от встреч с Дайяной, Лихаревым и Шульгиным в облике Шестакова, от нового знания о сущностях, своей и всего мироздания, так теперь - это!
Тем более Шульгин сказал Антону, что пообещал Сильвии скорую встречу в Лондоне. К ней она, видимо, все время и готовилась. Жаль только, что не было у бывшего форзейля полной стенограммы их прощального разговора. Только вольный пересказ. Хорошо, если б Александр оставил в одолженном теле нужный фрагмент своей памяти. Но чего нет, того нет, остается импровизировать, играя на опережение.
За несколько минут он резкими, не требующими детальной проработки штрихами изобразил ситуацию именно сегодняшнего дня, предложив не отвлекаться на утратившие актуальность частности. С точки зрения лица, полностью находящегося в курсе взаимного противостояния последних полутора столетий.
– С тех пор как вы побывали в Москве и плодотворно побеседовали с господином Шульгиным, обстоятельства в очередной раз изменились. Как мне кажется, в лучшую для всех сторону.
В качестве доказательства он показал Сильвии письмо, что она передала Шульгину от имени себя же в варианте «21-84».
– Так это вы и есть? - не сдержала удивления, а может быть, и суеверного страха леди Спенсер.
– Нет, я всего лишь его представитель, но облеченный всеми полномочиями. Как таковой - я ваш коллега и вечный противник, шеф-атташе по планете Земля. Сколько лет занимались практически одним и тем же, как выяснилось, вполне бессмысленным делом, и только сейчас встретились воочию. Когда и дело проиграно, и смысла в нашем существовании якобы нет…
Предупреждая готовые вырваться, вполне естественные в устах Сильвии слова (совсем не хотелось вязнуть в идеологических и профессиональных словопрениях), Антон обрисовал ей самые свежие новости с «межгалактических фронтов». Которые, если признать их достоверными, избавляли его и ее от последних обязанностей долга и присяги. О себе сказал до предела искренне: о том, как помогал землянам вопреки воле и прямому приказу начальства и получил за это пожизненный срок.
– Но знаете, дорогая, не зря я для целей службы, ни для чего другого, изначально изучал людей не с точки зрения «колонизатора» или «цивилизатора», а просто как равных себе! Читал их книги, старался быть одним из них. Выпивал с солдатами у костра чарочку на позициях под Мукденом, хотя со своими погонами мог бы в тот же момент сидеть с генштабистами в резиденции Куропаткина, а то и просто не ездить на ту дурацкую войну. Не жил в таких особняках, как вы, при том что и денег хватило бы, и Дворцовая набережная в Петербурге куда изысканнее вашей Бельгравии.
– Не вижу смысла в упреке, - сказала Сильвия, нервно потягивая розовый джин, любимый напиток королевской семьи.
– Какой упрек, вы просто не дослушали! Когда я встретился с этими людьми, которые через сорок шесть лет всю вашу «контору» поставили сначала на уши, а потом на колени, а лично вас перевоспитали до того, что вы из двадцать первого года одному из них письма стали писать…
При этих словах леди Спенсер, пока еще дама с привычками викторианской эпохи, едва заметно покраснела. Ибо в упоминаемом письме было сказано: «Мы с Александром находились в достаточно близких, взаимоприятных отношениях…»
– … я понял, что с ними можно и следует иметь дело, - продолжил Антон, как бы ничего не заметив. - Отношения у нас складывались не всегда гладко, но в результате упомянутый Александр Шульгин спас меня от крайне печальной участи (у нас не земные тюрьмы, у нас не убегают и не освобождаются условно-досрочно). Теперь я перед вами!
Антон сделал театральный жест, после чего наконец налил и себе наилучшего из возможных в Лондоне виски, ирландского, доставляемого не в бутылках, а в бочонках, вместе с пересыпанным солью и опилками озерным льдом, который перед подачей на стол тщательно моют.
– В письме было также сказано, что после произнесения соответствующей формулы, а может, лучше сказать - заклинания, вы можете воспринимать господина Шульгина как «посвященного первой степени».
Слушайте. «Леди Сильвия приветствует сэра Ричарда и…[39]»!
Вам достаточно?
Антон откинулся на спинку кресла, довольный собой, поманил пальцем пробегавшего мимо боя, немедленно подавшего ему ярко тлеющий фитиль в бронзовой чашке с песком, чтобы джентльмен мог раскурить сигару, не оскорбляя свое обоняние запахом серы и фосфора тогдашних спичек.
Их кабинет представлял собой подобие театральной ложи, вполне изолированный с трех сторон, а спереди огражденный деревянным барьером и бархатными шторами, которые в любой момент можно задернуть. А пока - виден общий зал и, главное, входная дверь. Вдруг появится человек, которого ты ждешь, с тем или иным чувством.
– Да, сэр Ричард, теперь мне достаточно. Нет ни малейших сомнений, что вы полномочны представлять названного господина…
– Может быть, в нынешних обстоятельствах мне лучше будет значиться сэром Говардом Грином? Было время, вы представили эту персону почти всему королевскому семейству, многим министрам, в том числе - Уинстону Черчиллю. Я сейчас выгляжу точной копией нашего общего друга, с поправкой на прошедшие годы, естественно.
– Я? Ах да, простите. В двадцать первом году, наверное? И как же мы замотивируем столь долгое ваше отсутствие?
– Последний раз - в двадцать четвертом, - счел нужным уточнить Антон. - Ну, самое простое - я вначале странствовал по Центральной Африке, а потом десять лет прожил в Тибете и окрестностях. Брал уроки просветления лично у далай-ламы. Крайне успешно, замечу. В любом обществе продемонстрирую такое… Да и вам могу!
– Избавьте хоть от этого, - с брезгливой миной отмахнулась Сильвия. - Без меня зрителей и зрительниц найдется в избытке. Чем вы собираетесь заняться на самом деле и какой помощи хотите от меня?
– Ничего сложного. Все в пределах ваших и моих способностей. Вот, для начала рассмотрим первый вариант…
– Подождите, - остановила его леди Спенсер властным жестом руки. - Хотелось бы узнать - зачем нам с вами вновь обращаться к прошлому? Только что и я, и вы обрели свободу. Я об этом даже помыслить не могла. Помните известную историю о лошади, которая много лет ходила по кругу, вращая привод насоса для откачивания воды из шахты? Когда ее отпустили на покой, оказалось, что она потеряла способность двигаться по прямой. Так до смерти и ходила по кругу заданного радиуса…
– Ох, вы и скажете, - передернул плечами Антон. - Мы ведь с вами…
– Кажется, русская поговорка как раз и гласит: «Все мы немножко лошади».
– Это не поговорка, это цитата, - машинально поправил даму форзейль.
– Неважно. Суть в другом - зачем нам с вами уподобляться? Может быть, это у вас оттого, что вы по преимуществу жили в России? Там и набрались этакого мессианства. Вечно вам нужно кому-то помогать, кого-то спасать… Удивляюсь, шеф-атташе, а выбрал себе местом постоянного пребывания не самую благополучную страну. Сколько лет?
– С тысяча восемьсот семьдесят седьмого года. Подменил ушедшего на покой предшественника вовремя первого штурма Плевны. Никто не заметил, а будущий государь Александр Третий меня зауважал. Сначала я возглавил атаку ударного полка, а чуть позже дал несколько толковых советов Горчакову. В России мне всегда нравилось жить. Чувствуется там постоянный драйв. За что и поплатился…
Об ужасах «покаяния» ему вспоминать не хотелось. Даже Владимирский централ лучше.
– Так, может быть, обратимся к британскому опыту? Здесь люди, отслужив положенное время в колониях, возвращаются домой, обеспечив постоянный доход, и остаток дней проводят, сибаритствуя и добирая упущенные радости жизни. Кто розы разводит в имении, кто путешествует частным образом…
– Хорошо, - нелицемерно ответил Антон. - И правильно. Но многие ведь и в политику подаются…
– Разве нам с вами это надо? Хотите, купим билет на пароход в фирме Кука и поплывем? Вокруг света, а то и дальше… - Лицо леди Спенсер приобрело мечтательное выражение.
«Да и неплохо бы, - подумал Антон. - С такой красоткой, в соседних каютах…»
– На мое взаимопонимание можете рассчитывать, - расплылся он в улыбке. - Тем более, вы уж извините, мое тело помнит… И восемьдесят четвертый, и двадцатые…
– Бестактно, мой друг, очень бестактно, - пристукнула рукой по столу Сильвия.
– Вам ли говорить? - воспроизвел Антон на Сашкином лице несвойственную тому мину. - Будто я не в курсе стиля жизни британских аристократок. Но дело не в этом, - пресек он возможное развитие интересной темы, - а в том, что не далее как через полтора года может начаться новая Мировая война. Вторая. Я знаю будущее, в отличие от вас. И ваш любимый город почти пять лет будет подвергаться непрерывным бомбардировкам с воздуха. Сначала бомбардировщики, а ближе к концу войны - уже и баллистические ракеты. Слава богу, без ядерных боеголовок. Ядерные тоже будут, но уже по Японии.
– Опять немцы начали? - спросила Сильвия.
– Немцы, итальянцы, японцы. И всякая европейская мелочь. Против новой Антанты в том же составе… Пятьдесят миллионов только убитых по всей планете. Сибаритствовать удастся разве что на вашей вилле в Андах. Да и то радио и газеты не позволят полноценно отдыхать. Есть другой вариант - сбежать на Таорэру. Она же Валгалла. Но я не поклонник робинзонад. Читать люблю, а так - нет.
– Хорошо, сэр Ричард…
– Можно - просто Антон…
– Пусть так. Давайте ваши варианты. Можем же мы поработать и лично на себя? Только ведь… Капитуляция, да? Мы, представители двух великих цивилизаций, опускаемся до того, что начинаем прислуживать… Кому? Землянам!
– Не то, дорогая. Эти «земляне» сделали нас… Одной левой, - сказал он по-русски. Леди поняла. - И не только нас, а и кое-кого повыше. Согласны? «Свободу» мы из чьих рук получили?
Рассмотрев и первый, и несколько других вариантов, к разработке и проработке которых, сняв стресс и отстранив ненужные отныне «нравственные категории», активно присоединилась окончательно осознавшая собственную полную индивидуальность леди Спенсер, они решили достойно отметить теперь уже «Лондонский» пакт.
В Ставангере соглашение о нейтралитете тогдашняя Сильвия и тогдашний Антон завершили автомобильным круизом по окрестным кабакам и приятной ночью на яхте, пришвартованной к одному из многочисленных островов Бокна-фьорда. Сейчас аггрианка, помнящая о том, что «близким другом» сэра Ричарда она стала на семнадцать лет раньше текущего момента, не нашла причин, чтобы изображать из себя недотрогу. Только, за неимением поблизости подходящей случаю яхты, пригласила нового друга и союзника к себе.
Антон не выносил спать с женщинами. В том смысле, чтобы именно спать. Он всегда уходил в отдельное, желательно снабженное надежными замками, а еще лучше засовами, помещение. Во сне человек (или не совсем человек, не слишком важно) принадлежит не себе. В лучшем случае, своему бессознательному, в худшем - любому, кто захочет его убить или подчинить своей воле.
Сильвия возражать не стала, объяснив, что он может располагаться в любой гостевой комнате, начиная с третьей двери по коридору слева.
– Завтрак у нас в девять, не опаздывай.
– Ни в коем случае.
Невзирая на февральскую непогоду за окном, он поднял верхнюю створку окна, чтобы задувал холодный ветер и слышен был частый стук дождевых капель по жестяному козырьку. Поставил пепельницу на прикроватный столик, включил радиоприемник, погасил настольную лампу.
«Новая жизнь начинает удаваться, - подумал он, - пусть так и будет отныне и навсегда! Черт бы с ней, с «Родиной», если она такая. Понятно, не мне менять стотысячелетние традиции, пусть они длятся еще столько же, но только без меня».
Прав был учитель Бандар-Бегаван, давным-давно указавший, что не следует дипломату впадать в ересь «отождествления». Кончиться это может плохо или очень плохо. А что ж поделать, если ереси приходят сами, подчиняют себе нестойкие натуры, и ты незаметным образом проникаешься чуждым образом жизни и философией? Спасение одно - регулярное «кондиционирование». А если пропустил раз или два положенную процедуру, руководствуясь вдобавок сознательным преступным умыслом, тут тебе и конец. Все равно надлежащиеслужбы так или иначе вычислят, «без гнева и пристрастия» совершат над отступником предписанный обряд.
Ему повезло, как никому в официальной истории Департамента, а другой он и не знал.
Тело от Шульгина он получил «пустое», как хорошо вымытую бутылку, без всяких следов «предыдущего содержимого». Но так ведь не бывает, пустился он в размышления. Мозг и вегетативная система слишком сложные конструкции. Ладно, не осталось в них значащей информации, а как быть с давно сформировавшейся схемой взаимодействия нейронных структур, особым развитием тех или иных долей и зон коры и подкорки? Они ведь в чем-то подобны системе кровообращения, к примеру. Сосуды у всех разные, и кровь, подгоняемая сердцем, выбирает наиболее удобные и отвечающие нынешнему состоянию организма пути. У спортсмена одни, у паралитика другие…
Значит, и его собственные, определяемые матрицей личности мысли все равно будут определенным образом трансформироваться «под хозяина». И получится в итоге некий гибрид из собственно Антона и Сашки. Непонятно как устроенный и в каком направлении ориентированный.
Конечно, произойдет это не сегодня и не завтра, но предусмотреть такое развитие процесса нужно. Чтобы выбраться без потерь или с минимальным Ущербом для личности.
Антону было очень жаль, что в этом мире не сохранилось его двойника или аналога. Как у Сильвии, как у Шульгина. Куда как хорошо и удобно было бы возвратиться в собственное тело. Однако нет. По независящим от него причинам он существовал в единственном экземпляре, который и был отозван Вышестоящими для исполнения новых функций. Его редкие, продиктованные сентиментальностью и другими соображениями возвращения в ментальное поле Земли, в любую из параллелей, не сопровождались возникновением «резервных копий». Отчего было именно так, Антон мог только догадываться. Скорее всего потому, что в отличие от аггрианских резидентов он представлял собой «иную сущность», исходно базировавшуюся не на физический объект «планета Земля», а на Замок, явление внепространственное и вневременное.
Замок! Не случайно он возник в его памяти и воображении именно сейчас. Может быть, проникнув туда, самостоятельно или с помощью Шульгина и его товарищей, он сможет обрести исконно принадлежавшее ему тело?
Выйдет или нет, сейчас сказать трудно. Даже зная о своем бывшем пристанище невероятно много {по меркам друзей-землян), на самом деле он находился с ним в таких же отношениях, как командир с вверенным его командованию линкором. В принципе пойдет, куда прикажешь, сможет вести бой, победить или погибнуть, любой его механизм через цепочку передаваемых сверху вниз приказов должен сработать, как требуется. А на самом деле? Что происходит в головах полутора тысяч офицеров и матросов, внутри турбин, приводов, реле, автоматов управления огнем, гирокомпасов и прочего, и прочего, и прочего - кто-то, кроме бога, может иметь представление? Да и бог, наверное, не всегда, ибо сам наделил свои творения свободой воли.
Нет, с Замком Антон решил разбираться не сейчас. Позже, намного позже, когда станет, с известной долей достоверности, понятно, не ошибся ли Шульгин, не слишком ли опрометчивые выводы сделал, совсем чуть-чуть прикоснувшись к тайнам Сети.
За завтраком Сильвия вела себя как любезная хозяйка, принимающая старого знакомого, с которым, кроме общих деловых интересов и давних воспоминаний, ничего не связывает.
– Скажите, сэр Ричард, у вас есть на Земле собственная резидентура, подобная моей? Не пришлось раньше выяснить, а интересно.
– Сожалею, но нет. Я всего лишь одинокий волк. Когда требовалось, прибегал к услугам людей, крайне редко посвящая их в суть и смысл происходящего. В чем и заключается разница между нами. Зато у вас наверняка остались подчиненные агенты низших рангов. Готовые исполнять приказы, не вникая. В Москве я знаю Лихарева, кое-кого в Париже, Нью-Йорке, сэра Говарда Грина, само собой. Впрямую взаимодействовать не приходилось, вы понимаете. Этика и все такое. Я даже в восемьдесят четвертом, в момент крайнего обострения, не сделал попытки обратиться к Ирине Седовой, не вмешался в московские эскапады вашего Джорджа… Как его? Он еще работает?
Спросить бы следовало иначе. «Уже» работает? Сорок пять лет - большой срок. Координатором по Западной Европе мог быть и другой «человек».
Но он попал верно.
– Уолмсли? Баронет? Да, работает. Приятно слышать, что он остался на своем месте и в ваше время. Неплохой специалист. На него я могу полагаться в куда большей степени, чем на координаторов по России. Они там все какие-то не до конца управляемые… Вот и Лихарев тоже.
– Вечная беда, - сделал сочувственное лицо Антон. - Управляемые не справляются, неуправляемые разбегаются. Такая уж страна. Со мной тоже ошиблись, надо было голландцем или немцем сделать. Да, кстати, у вас в подчинении коренные немцы есть или Джордж за все про все?
– Есть один. Рудольф Гиршман. Только с ним проблемы. Не рассчитали мы, что у евреев начнутся проблемы с приходом Гитлера. Он, строго говоря, совсем и не еврей, мать немка из дворян, сам лютеранин, еще при кайзере получил звание коммерц-советника. Весьма богат, обширные связи, позиции - лучше не придумаешь. И вдруг началось… Сменить ему облик и роль несложно, так позиции будут утеряны…
– Бежать ему надо, - посоветовал Антон. - Еще пара месяцев, может и опоздать. Скоро там «окончательно» вопрос решать начнут. Отправьте его хоть в Америку. Если прямо сейчас, то капиталы в загранбанки перевести успеет, а дублера нужно в СД или в верхушку армии внедрять. Там никого нет?
– Два-три человека есть, обычные агенты, люди. Не из высших кругов.
– Недоработали, - с усмешкой пожурил партнершу Антон. - К Сталину Лихарева подвели, а Гитлера забыли…
– Всерьез не приняли, - не стала возражать Сильвия. Но тут же перешла в наступление, будто действительно отчитывалась перед инспектором из Метрополии. - Мне что, разорваться? Англия, Франция, СССР, Япония - вот где геополитика, как мы ее понимаем. Германия всего два года назад особого внимания не заслуживала.
– Да по-хорошему и сейчас не особенно, - согласился Антон. - Вплотную взяться, при своих и останется. Только браться надо немедленно. Мне нужен выход на РСХА, хорошо бы на Гейдриха. У ваших друзей никаких связей в ту сторону не просматривается?
– Разве через леди Астор, - начала перебирать варианты леди Спенсер. - Она ярая германофилка, но признает только старую аристократию. Гитлеровские выдвиженцы для нее - парвеню.
– Для нее - возможно, но она же не одна. Может, в разведке кто найдется, среди дипломатов… Чемберлен же как-то с немцами контакты поддерживал, или в вакууме жил, исключительно за идею боролся? Не верю.
– Простите, Антон, - вдруг спросила Сильвия, - а сами вы в это самое время чем занимались? У вас что, своей отлаженной структуры не было? Как же так? Новая мировая война, как вы говорили, грандиозное потрясение, а шеф-атташе, отвечающий за планету целиком, ничего не предотвратил, порядка не навел и даже влиятельной агентуры среди вождей враждующих племен не завербовал?
– Прежде всего, заметьте, я - это не вы. Дело прошлое, понятия военных и прочих тайн для нас с вами больше не существует. Могу сказать. В тот период моей деятельности, как и до конца ее, главной задачей было контролировать ваше поведение, время от времени пресекая неуместные, с точки зрения моего руководства, поступки. Чисто человеческие проблемы меня касались постольку-поскольку. Я был, как говорят в России в определенных кругах, смотрящим, а не вице-королем Индии.
Иногда я выполнял прямые указания, например, помог Рузвельту вступить в войну на стороне «новой Антанты». Получив приказ, сумел бы, надеюсь, нейтрализовать Гитлера. Не приказали. Но оставим, сейчас это не имеет никакого значения. Курс истории новейшего времени читать не собираюсь, тут и в учебный год не уложимся. Давайте ограничимся тем, с чего начали, - поищите подходы к гитлеровской службе безопасности. Сам я готов изобразить кого угодно, например, личного, конфиденциального посланника короля Георга. Или - наоборот, профашистски настроенного члена «Хантер-клуба». Как потребуется.
Кроме того, мне нужен дипломатический паспорт на имя все того же Говарда Грина, чтобы не затрудняться придумыванием новых псевдонимов, и командировка в Москву под совершенно невинным предлогом дня на два-три. Дипкурьером, например. Конечно, еще ваше приказание Лихареву внимательно меня выслушать.
– Боже, к чему такие сложности? Если моя аппаратура по-прежнему действует, можем устроить сеанс связи прямо сейчас. Скажете ему все, что хотите… С моей подтверждающей санкцией.
– Как раз этого и не нужно. Обойдемся тем, что я сказал. Никаких интриг за вашей спиной я не плету, можете не опасаться. Партнеры - значит, партнеры. Союзники, друзья, как угодно. Связанные одной цепью, сидящие в одной лодке… Дело в том, что мне нужно побывать в Москве в своем физическом облике, встретиться с одним человеком, по лично меня касающемуся вопросу. Ну и с Лихаревым побеседовать отнюдь не в нынешнем качестве. Ему еще рано знать суровую правду. Так как?
– Вы все сказали. Выбора ведь нет ни у меня, ни у вас. Обманывать глупо, спорить по мелочам тем более. Документы будут готовы в ближайшее время. Билет на самолет тоже. А сейчас не поехать ли нам в мой клуб? Партия в бридж, несколько новых знакомств, хороший обед. Согласны?
– Какие вопросы, дорогая? Жизнь продолжается…
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
На следующий день, ближе к вечеру, Великобританию облетела трагическая весть, сначала по радио, а потом через экстренные выпуски газет. Премьер-министр, сэр Невилль Чемберлен, был убит на пороге своей резиденции тремя пистолетными выстрелами в упор. В старой доброй Англии такого не случалось очень и очень давно.
Убийца был схвачен на месте секретарем и шофером премьера, сопротивления не оказал, более того, с усмешкой отдал свой вполне исправный и готовый к дальнейшей стрельбе «браунинг». Но по дороге в ближайший полицейский участок (отчего не повезли террориста сразу в контрразведку и не надели хотя бы наручники, никто впоследствии объяснить не мог) он спокойно принял яд и скончался почти мгновенно.
Через несколько часов было установлено, что убийца принадлежал к крайне правому крылу ирландских сепаратистов, со времен, предшествовавших Мировой войне, финансируемых и поддерживаемых Германией. Неназванные представители «Интеллидженс сервис» и широко известные политические журналисты дружно выразили свое недоумение. Сэр Невилль был как раз ярым германофилом, от всей души поддерживал политику «невмешательства», позволяющую Германии и Италии делать в Испании все, что им заблагорассудится.
В яростных спорах с Черчиллем и прочими здравомыслящими политиками он неоднократно прямо заявлял, что видит свое особое предназначение в том, чтобы достигнуть дружеского соглашения с Гитлером и Муссолини. Любой ценой, в том числе признания права Италии на захват Абиссинии, возвращения Германии ее бывших колоний и согласия на полную «свободу рук» Гитлера восточнее Польши.
Всего две недели назад он в крайне резкой форме отклонил секретное личное послание президента Рузвельта, предлагавшего рассмотреть возможность создания системы поддержания мира и спокойствия в Европе с участием всех «демократических» государств. Включая и Россию, невзирая на ее нынешнее правительство, а исходя исключительно из геополитики.
Сэр Невилль, пренебрегая давними традициями, не постеснялся ответить президенту, единственно близкому по духу, а главное - неуязвимому союзнику, что даже начало подобных консультаций вызовет сильнейшее раздражение Германии, Италии и Японии. Англия на это пойти не может.
Зачем же прогерманским сепаратистам было убивать столь полезного человека? Никогда больше в гордой Британии не нашлось бы политика, столь тяготеющего к национальному суициду. А впереди у него еще был Мюнхен, где он бесплатно отдал немцам Чехословакию с ее мощной армией, Судетским укрепрайоном и военными заводами. И «странная война», когда Англия, и под ее давлением, Франция, не поддержала воюющую Польшу, а чуть позже и сама практически едва не капитулировала, испытав ужас и позор Дюнкерка.
Вот такой человек глупо и жалко умер на грязной брусчатке Даунинг-стрит, хрипя и отплевываясь кровью. Знаменитый котелок, которым он помахивал, возвещая Англии мир на целое поколение, откатился в лужу, белый пластрон намокал буро-красным.
Кто их поймет, этих экстремистов! Гаврила Принцип в четырнадцатом году застрелил в Сараеве эрцгерцога Фердинанда, единственного из Габсбургов, кто не хотел войны и мог ее предотвратить. Что в итоге получили сербы и прочие боснийцы?
Со смертью Чемберлена возможность новой Мировой войны, похоже, значительно отдалилась. Следовательно, убийца, кем бы он ни был, сыграл «прогрессивную роль в истории», дал лишний шанс скатывающемуся в самую глубокую из всех возможных пропастей миру.
Неглупых аналитиков в то смутное время хватало. По обе стороны баррикад. Прямолинейно, но последовательно мыслящие уже на следующий день заявили, что смерть премьера выгодна только СССР и США. Пусть и по разным причинам. Увлеченные внутренними проблемами заявили, что теперь к власти неизбежно придет «партия войны». Под ней понимали Черчилля, Идена и часть королевского окружения. То есть тех людей, которые со времен четырнадцатого года были уверены, что с Германией, мечтающей о возрождении «флота Открытого моря» и вновь начавшей постройку линкоров, никаких общих дел иметь нельзя.
Моря должны оставаться под англосаксонским Контролем. Отсюда же вытекала мысль, что Россия, даже коммунистическая, как держава континентальная соперничества Британии на морях составить не Может, но для поддержания баланса в Европе вполне годится в качестве союзника. Особенно учитывая факт, что сейчас, в отличие от четырнадцатого года, ресурсами и дипломатическими возможностями для занятия Стамбула и проливов не обладает.
Аналитики, что друзья, что враги сэра Уинстона, не ошиблись.
Черчилля, бывшего тогда всего лишь военно-морским министром, вызвали к королю. Впоследствии он так описал эту судьбоносную аудиенцию: «Его Величество принял меня очень любезно и пригласил сесть. Он смотрел на меня некоторое время испытывающе и лукаво, а потом сказал: «Думаю, вам неизвестно, зачем я за вами послал». Я ответил в том же духе; «Сир, я просто ума не приложу зачем?» Он рассмеялся и сказал: «Я хочу просить вас сформировать правительство. С учетом всех печальных обстоятельств». Я ответил, что, конечно, сделаю это»[40].
Антон, узнав о назначении Черчилля премьер-министром, тут же примчался к Сильвии. Отдал мокрый плащ, зонт и котелок слуге, поправил перед зеркалом прическу. Следом за хозяйкой поднялся на второй этаж, в ее кабинет. Выбрал кресло, стоявшее спинкой к эркеру.
– Я вас поздравляю, леди. Теперь вы вошли в ближний круг. Сэр Уинстон, безусловно, не забудет прежней дружбы и нынешней услуги. Его мечта исполнилась. Теперь я тоже не против с ним повидаться. Вряд ли он меня забыл. Тринадцать лет не срок, тем более для крупного политика. У меня есть интересные предложения.
– Не рано ли, друг мой?
– Если думаете, что рано, могу подождать. Но не больше недели. С Испанией нужно что-нибудь делать. И с Гитлером тоже. Не говорю о Сталине. Но вы убедились, что наша методика работает? Без всяких высших вмешательств?
– Убедилась, - кивнула Сильвия, почти непроизвольно одергивая юбку. Слишком пристально друг-конфидент рассматривал ее колени. Она бы и не возражала, но смешивать большую политику и плотские утехи ей пока не хотелось.
– Это вы убили Чемберлена?
– Фу, как грубо, - оскорбился Антон. - В жизни своей никого не убивал. Хотите верьте, хотите нет. Это ваши сотрудники подобным грешили. А я иногда не препятствовал определенным «эксцессам исполнителей», иногда их, бывало, стимулировал. Но руки мои чисты, - словно бы в доказательство, он протянул Сильвии свои ладони.
– Верю, дорогой, верю. Но почему он умер так непристойно и своевременно?
– Расклад-с, - только и осталось Антону вспомнить старый анекдот преферансистов.
– Дальше что делать будем?
– Воевать, май бьютифул леди, воевать. Впереди полвека необъявленных войн, и мы подписали контракт на весь срок. Хорошо, теперь исходя только из личных соображений! Но результат вполне может оказаться тем же самым…
– Как будто у нас есть выбор, - с неожиданной для ее облика печалью сказала Сильвия.
– На том и сойдемся. Как с моими документами?
– Наверное, послезавтра все будет готово. Траур трауром, но наша бюрократия работает четко в любых обстоятельствах.
Шульгин начал сворачивать свою миссию. Задача была выполнена. Уцелевшие при штурме дворца каудильо бойцы поместились в пять самолетов. Из шестидесяти спецназовцев Гришина убиты было пятнадцать. Еще половина ранены. Потери интернационалистов и коренных испанцев превышали пятьдесят процентов. Очень, очень много, так нельзя воевать, корил себя Сашка, одновременно признавая, что итог куда важнее.
Что, три дивизии, целиком погибшие при неудачной попытке прорвать вражеский фронт, стоят меньше, чем полторы сотни солдат, обеспечивших успех стратегической операции? По отдельности каждого жалко, особенно если видел их в лицо, разговаривал и обещал светлое будущее. А потом он лежит, ничком или навзничь, и на него падает нетающий снег.
Зато минимум миллион человек продолжат жизнь, не догадываясь, чему и кому они этим обязаны. Может быть, осуждая и ненавидя спасителей и победителей.
– Товарищ Рокоссовский, - сказал он, входя в кабинет Главного военного советника, - теперь все возлагаю на вас лично, полностью.
Зампред Совнаркома Шестаков выглядел плохо, на взгляд комдива. Куда делись былая вальяжность и плотность тела? Щеки ввалились, глаза горели нездешним огнем, и движения казались чересчур резкими.
Он, разумеется, не знал о том, что Сашка сделал своими руками, думал, что тот всего лишь руководил десантной операцией. Сидя в сравнительно безопасном месте, как положено начальнику. Но и в этом случае легко такие рейды не обходятся.
– Что, Григорий Петрович? Что возлагаете?
– Все, - повторил Шульгин. - Всю полноту военного руководства. После смерти Франко замены ему не найдется. Немцы и итальянцы на днях начнут эвакуацию. Гарантирую. Прието будет поддерживать вас как минимум полгода. Деваться ему некуда. Последний расчет получит как раз в июле. Все подчиненные вам боеспособные части, особенно бригаду Кривошеева, сосредоточьте в Мадриде. И знаете, для чего?
– Наступать на Малагу и Кадис? - предположил Рокоссовский.
– Нет. Когда испанцы закончат собственные разборки, подпишут мир, или не знаю что, какой-нибудь «пакт Монклоа[41]», вы будете гарантом стабильности. Жестким и даже жестоким. Не принимающим во внимание ничьи интересы, кроме наших. Чтобы подопечные не передрались. Как говорил Император Николай Первый, чтобы ни одна пушка не выстрелила без нашего разрешения. Вы уловили мою мысль?
– Так точно. Триста танков, почти пятьсот самолетов и двадцать тысяч пехоты будет достаточно. А вы оставите мне своих бойцов? Зачем они вам в Москве?
– Оставлю, Константин Константинович, оставлю. В Москве начнутся совсем другие дела. Главное же - я вам оставлю деньги. Много денег. Это входит в мои обязанности и возможности. И расскажу, как их нужно использовать. Считайте, помимо всех иных властей, вы как бы здешний прокуратор. Полпред будет согласовывать с вами все дипломатические шаги. Историю Древнего Рима учили?
– Не так чтобы очень, - смутился комдив.
– Почитайте на досуге.
Решив, что главное сказано, Шульгин жестом показал, что налить уже пора. Тем более - есть повод. Рокоссовский подал стоявший на тумбочке графин сухого.
– Вам, Павлову, Громову и еще нескольким товарищам сегодня присвоено звание Героев Советского Союза…
Сказанная ритуальная фраза самому Сашке внезапно резанула слух. Хотя и слышал он ее с детства сотни тысяч раз.
Как это - «Вам присвоено»? Вами присвоено - логично. А - вам? Вы удостоены - нормально. Но вдаваться сейчас еще и в лингвистические тонкости он не хотел.
В Москву Шульгина не слишком тянуло. В этой именно роли. Хотя почти любому человеку предстать перед вождем полным триумфатором было бы более чем лестно. Ни один советский деятель после Фрунзе с его знаменитой телеграммой: «Южный фронт ликвидирован, Гражданская война окончена!» - не мог похвастаться такими успехами в столь короткое время.
Но что его ждет там? Новый взлет или опала? Очень даже возможная. Лично Сашке на любой вариант было плевать. Только дело хотелось довести до ума.
Сталин как раз в это время был в полном восторге. На ту карту поставил, тому человеку доверил. Всему миру показал, что Советский Союз надо принимать всерьез. Если уж он смог за тысячи километров от своих границ оказать помощь Пиренейской Республике, на которую всей мощью навалились не только собственные контрреволюционеры, но и претендующие на роль мировых держав Италия с Германией, то чего многочисленным врагам ждать на гораздо более близких территориях?
Как же вознаградить победителя? Очень хороший человек. Умный, смелый, талантливый. Тем и опасный. Молотов не опасный. Каганович тоже. Апанасенко талантливый, грубый, самого товарища Сталина матом и на «ты» посылал, но все равно не опасный. Этот - сложнее. С кем сравнить - с Троцким? Не подходит. Шестаков не политик. Совсем. Проявил себя очень способным руководителем и полководцем. Но не Наполеон. Здесь бояться нечего. Власть перехватывать не возьмется. Фрунзе! Вот! Очень похож Шестаков на Фрунзе. Не полностью, не совсем. Однако - типаж! Стоило Михаилу Васильевичу захотеть - ничего бы тогдашний Сталин не смог бы ему противопоставить. Не захотел - хорошо. Спасибо врачам, от язвы желудка вылечили. Радикально. В сорок лет. Как бы с ним иначе дальше жить и работать? Дзержинский тоже вовремя умер. В двадцать шестом. Это же надо такое сказать с трибуны: «Скоро к нам придет диктатор с красными перьями».
Как будто сам был ангелом с белыми. Все предатели и сволочи!
Сталин завершил очередной крут по кабинету. Как хорошо, что никто не мешает думать.
Дать Шестакову «Героя»? Мало. Старшим лейтенантам столько звездочек раздали, что цена ее - как «Анны» третьей степени.
Произвести в маршалы? Неплохо. Ряды следует пополнять. Одних «разоблачили», новых назначили. А зачем? Григорий Петрович рядом с Буденным и Ворошиловым смотреться не будет.
Иосиф Виссарионович вспомнил сказанные Шестаковым слова. «Я хочу командовать Тихоокеанским флотом». Очень хорошие слова. Почему бы не пойти товарищу навстречу? Сделаем его подобием адмирала Алексеева. Наместником Дальнего Востока, комфлотом, дадим звание, которого ни у кого еще нет. Допустим - адмирал флота. Вообще пора восстановить адмиральские звания. И генеральские тоже. Да и погоны, наверное. Двадцать лет прошло, старые штампы можно забыть, а традиции - они и есть традиции. Ладно, еще подумаем. Не горит.
Но с Шестаковым нужно решать незамедлительно. Или пусть сначала вернется, поговорим с глазу на глаз, тогда и определимся.
Это было в характере Сталина - все предварительно продумать, разложить по полочкам, но окончательное решение отложить на последний момент. К судьбам людей это особенно относилось. Бывало, косой взгляд, не к месту сказанное слово перевешивали самые рациональные доводы. На то он и вождь, а не бухгалтер. Интуиция, чутье, озарение - называйте как хотите, но без этого на вершине власти долго не удержаться.
Сейчас интуиция нужна для другого. С европейской шахматной доски одна за другой исчезли две сильные фигуры. Франко сам по себе, допустим, слон, но до последнего занимавший длинную диагональ и прикрывавшийся ладьей и фигурами помельче. Зато Чемберлен позиционировал себя не иначе, как ферзем. И - нет его! Странно, очень странно. Смысл устранения не просматривается. Что это сделали не мы - факт. Но далеко не факт, что нам это на пользу. Черчилль - старый знакомец, антикоммунист и антисоветчик с первых дней революции. При нем курс Англии может еще ужесточиться. Но немцев и Гитлера лично он не любит и опасается в не меньшей степени. Значит, открывается простор для маневра. Что бы там ни говорили мудрецы-политики - Мировая война до сих пор не закончена. Просто, как писал Ленин, пока еще длится передышка. Мы ею воспользовались в полной мере, но счета до сих пор не закрыты. Не возвращены утраченные по Версалю и Бресту территории, Черное море все так же заткнуто турецкой пробкой. Половина Сахалина и Курилы у японцев.
Зато теперь у нас есть Испания с несколькими отличными портами. Но нет океанского флота и долго не будет. Не потянуть. Царская Россия смогла после Цусимы восстановить его за девять лет, а мы двадцать продолжаем использовать «остатки былой роскоши».
Сталин, в отличие от Ленина и Троцкого, флот любил. Несколько иррационально, эстетически, как, наверное, и Гитлер, пехотный ефрейтор. Флот - синоним имперского величия. Броня, пушки, ряды выстроенных на шканцах матросов в парадных форменках. По правде же - что такое «Бисмарк» и «Тирпиц» в сравнении с Гранд-флитом? Букашка на рукаве. Кайзеровский «Хохзеефлотте[42]» имел десятки отличных линкоров и линейных крейсеров, и где он? Сгодился лишь на то, чтобы мятеж в Киле устроить и в английском плену затопиться. И все равно теперь строят новый!
Так же и Сталин мыслил. Была бы у него возможность, приказал бы строить линкоры - эскадру за эскадрой, как японцы. Но понимал, что ни финансов, ни технической базы для этого нет. Так не «разменять» ли Испанию на что-нибудь более практичное?
Он велел Поскребышеву пригласить к нему Литвинова часов после двадцати двух. Нужно дать наркоминделу время подготовиться. К чему - пусть сам соображает.
Гитлер в это же самое время совещался с группенфюрером СС и начальником РСХА Рейнгардом Гейдрихом. Гиммлера ему видеть и слышать не хотелось. Верный товарищ, но отличающийся удивительным отсутствием полета фантазии. Тоже по натуре бухгалтер. Потом его назовут «бухгалтером смерти». Но - потом. Тем не менее обсуждать с ним вопросы тонкой политики бессмысленно.
Гейдрих - совсем другое дело. Полная противоположность. Фанатик интриг и тайных операций. Виртуоз. Не зря великолепно играет на скрипке, И служил на флоте. Обер-лейтенантом всего лишь, но тем не менее.
– Как вы думаете, Рейнгард, у нас есть способы подойти к нынешнему руководству сталинского НКВД?
– На каком уровне, мой фюрер?
– Я думаю, сразу к Заковскому, - эту фамилию фюрер выговорил с некоторым усилием. Чужая фонетика. - Вы же с ним контактировали раньше? Пока он только входит в курс дела, неплохо бы сориентировать его на определенные приоритеты. Чтобы нас англичане не опередили.
– Да, контактировали, в других обстоятельствах и по другим поводам. Тогда инициатива исходила из окружения Ежова и, как предполагаю, с санкции самого Сталина. Собственных выходов на Заковского, увы, у меня нет. Абсолютно все весомые персоны, с которыми осуществлялась связь, сразу же были перемещены на менее значимые должности или вообще отстранены. На Лубянке идет большая перетряска.
– Думайте, Гейдрих, думайте. Это очень важно.
– Разве только сыграть в открытую? Поручить нашему человеку в посольстве передать Заковскому записку из рук в руки? Технически это осуществимо. А смысл послания?
– Идея мне нравится. Так и надо, без всяких шпионских штучек. И смысл самый простой. Руководство РСХА в связи с изменением мировой конъюнктуры желает обсудить некоторые вопросы, представляющие взаимный интерес, на неправительственном уровне. Встреча может состояться в Москве, для чего туда прибудет облеченный доверием представитель. Может, вы и будете этим представителем, Гейдрих?
– Я готов, мой фюрер. Никогда не был в Москве. Но ведь Заковский немедленно доложит Сталину. У них там иначе быть не может.
– А вы, Рейнгард, вы ведь тоже доложили бы мне, получив подобное предложение? - Гитлер пытливо посмотрел группенфюреру в глаза.
– Несомненно, мой фюрер!
– Вот пусть и он докладывает. Если согласие на встречу будет получено, сразу станет ясно… Вы понимаете, о чем я говорю.
– Да, мой фюрер. Я займусь этим немедленно.
– Спасибо, Рейнгард. А я пока подумаю, о чем же вы станете говорить.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
В тридцать восьмом году полет из Лондона в Москву занимал целый день, включая пересадку в Берлине. Сильвия могла бы переправить Антона в красную столицу мгновенно, но роль нелегала его сейчас не устраивала. Все должно быть как положено, с регистрацией на границе, правом экстерриториальности, законным поселением в «Метрополе» и так далее. Внимание со стороны ГУГБ тоже обеспечено, но как раз это бывшего форзейля не волновало. От слежки, если такая и будет установлена, он уйдет в любой нужный момент, да так, что «наружники» ничего не поймут.
Самолет оказался достаточно комфортабельным, двухмоторным, из четырнадцати мест были заняты только восемь. Антон оказался единственным пассажиром в заднем ряду. Это его устроило, не нужно будет поддерживать необязательные разговоры с незнакомыми людьми. А в полете очень многими овладевает неудержимая болтливость от страха или, наоборот, избытка волнующих ощущений.
Убедившись, что трап поднят, входная дверь закрыта и никто больше в салон не войдет, Антон, получив от стюарда положенный стаканчик виски и пакет с леденцами, развернул газету. Комментарии по поводу гибели премьер-министра все так же заполняли первые страницы. Большинство из них были удивительно глупыми, но это к лучшему. Сумятица в умах вполне соответствует требованиям момента.
Пакет для британского посольства он вез во внутреннем кармане пиджака, поэтому кожаный портфель небрежно сунул на багажную полку. Положенный по должности пистолет, на который имелось особое международное разрешение, пристроился в наплечной кобуре и снаружи был совсем незаметен. Только вряд ли им придется пользоваться, он же не Теодор Нетте[43].
Над Ла-Маншем лайнер взобрался наконец на положенные десять тысяч футов. Моторы гудели ровно и мощно, потряхивало совсем немного, половина пассажиров, те, кто летели не в первый раз, начали подремывать. Прочие вглядывались в медленно ползущую внизу землю Европы, не оставляя без внимания бесплатные напитки из бара. Авиакомпания не скупилась, доказывая, что летать не только выгодно, но и приятно.
Худощавый джентльмен лет сорока, с сильно загорелым, несмотря на зиму, лицом, сидевший во втором ряду, поднялся со своего места, направился в хвост, уверенно ступая, не цепляясь за спинки кресел, что выдавало привычку если не к воздушным перелетам, то к палубам кораблей. Тем более в руке он нес почти полный высокий стакан, и жидкость в нем не плескалась.
– Простите, сэр, - мягким баритоном произнес он, останавливаясь рядом с Антоном. - Вы позволите присесть рядом?
«Ну, начинается», - с тоской подумал тот. Пожал плечами, кивнул, показывая, что возразить не позволяет вежливость, но поддерживать общение желания не имеет.
Мужчина явно не собирался вдаваться в такие тонкости. Сел, вытянул ноги, глотнул, прижмурился от удовольствия.
– Виски у них правда неплох, не обманули. Оценили?
– Пожалуй, но бывает и получше…
– Не смею спорить. Но на такой высоте, да если подумаешь, а не последние ли это глотки…
– С такими мыслями лучше ехать поездом.
– Не всегда есть возможность выбирать. Вы верите, что в случае аварии задние места безопаснее?
– Если авария при посадке - шансов немного больше. А если падать с высоты - никакой разницы.
– Спасибо, успокоили, - усмехнулся мужчина, снова глотнул. Непохоже было, чтобы он действительно боялся. Не тот типаж.
Тогда в чем смысл именно такой завязки разговора? Новая мода? На земле говорить о погоде, в воздухе - о возможном падении?
Помолчали. Джентльмен вытащил пачку сигарет, выдвинул пепельницу из подлокотника.
– Не возражаете?
– Курите, о чем речь…
– Я вижу, вы не расположены к взаимно приятному, ни к чему не обязывающему разговору. Отчего? Все равно ведь - долетим, раскланяемся, разойдемся. Скорее всего - навсегда. Вы меня не знаете, я вас. Зато время пролетит незаметнее… Или вам служба не позволяет общаться с незнакомцами?
– При чем тут служба?
– Это я тоже к слову. Сам я моряк, торговый, по полгода в плаваниях, особенно поговорить не с кем, каждый новый человек интересен. Вот и вошло в привычку…
– У меня все совершенно наоборот. Использую каждый удобный случай помолчать.
– Адвокат, наверное? Что ж, не смею навязываться. Пойду на свое место…
Поднимаясь, мужчина уронил на пол зажигалку. Нагнулся, шаря рукой под креслом, и по-суфлерски отчетливо, но со стороны неслышно сказал:
– Когда приземлимся в Темпельгофе, зайдите в бар на втором этаже, слева от лестницы, сядьте за отдельный столик. К вам подойдут…
До отправления самолета «Берлин - Москва» было почти четыре часа, и, кроме как в бар или ресторан, идти некуда в любом случае. Прогулкам на свежем воздухе погода не благоприятствовала.
Минут двадцать Антон тянул темное пиво, закусывал жареными колбасками. Предложенный способ связи выглядел довольно нарочито. Похоже на провокацию. Смысл, правда, не улавливался. Кому он нужен в Берлине? Разве что Сильвия неожиданным образом прокололась на каком-то этапе? Не то сказала и не тем. Может быть, в конверте, что он везет, содержится нечто такое, что может скомпрометировать не только его? Вернее, совсем не его.
Но он защищен иммунитетом, арестовать его нельзя, дипкурьер в критической ситуации имеет Право применить оружие. Это официально. А неофициально - он с любой группой захвата справится иным способом и сумеет потеряться бесследно.
Значит, дело в другом.
Спешить было некуда, он рассматривал посетителей, через широкое окно следил за взлетающими и садящимися самолетами. Прошло еще пятнадцать минут, и к его столику подошел наконец немец, немолодой, в длинном пальто, шляпе с обвисшими от дождя полями, с чемоданчиком в полосатом чехле. Похож на коммивояжера.
– Мистер Грин? Можно я присяду? - спросил он по-английски, с резким акцентом.
– Не имею чести быть знакомым. Садитесь, если больше негде.
Свободных мест вокруг было достаточно.
– Люблю сидеть у окна и лицом к двери, - пояснил немец. - Кельнер, два мюнхенского… Итак, вы отнеслись всерьез к словам вашего попутчика, раз пришли? - спросил гость без всякого предисловия.
– Нет, я просто люблю пиво и смотреть на самолеты. Здесь их много. А вам что нужно? Кроме мюнхенского?
– Вы хотели контакта с РСХА? Я к вашим услугам. Штурмбанфюрер Латензнер.
– Откуда мне знать? Может, вы сменившийся кельнер. А то и обер-кельнер…
Немец, как и все немцы при чине («штурмбанфюрер», как здорово и страшно звучит), слегка обиделся. Полез в карман и предъявил очень красивое удостоверение. Бордовое, кожаное, с орлом и разными тиснеными буквами.
Антон и смотреть не стал.
– Поздравляю. Очень неплохо. - Сказано было без издевки. У немцев к чинам сугубое отношение. Профессорам, призываемым в военные структуры, обер-лейтенантов давали, что считалось нормальны. Штрик-Штрикфельд, курировавший генерала Власова и все вопросы, связанные с РОА, всю войну проходил капитаном. В России, тоже военно-феодальной стране, такое любой офицер счел бы оскорблением. Да у нас бы капитану никто и не доверил бы серьезных политических заданий. Человека три генерала, не считая полковников, вокруг того же Паулюса кормились, хотя он в лагере сидел, а не «освободительные армии» формировал.
– И что вы мне своей книжечкой хотите сказать? У меня посерьезней есть, пограничнику при выходе на поле предъявлю.
– Господин Грин, - немец начал говорить на два тона ниже. - К чему эти споры о статусе? Мне сообщили, что вы в Лондоне старательно искали подходы к нашей организации. Вам ответили, что их нет. Вдруг они появились. Что дальше? Будем играть в дураков? Пожалуйста. Два с половиной часа в вашем распоряжении. За это время машина довезет нас до Принцальбрехтштрассе, час консультаций с компетентными людьми - и вы легко успеваете на свой самолет. Если беседа окажется слишком продолжительной - улетите следующим. Какие вопросы?
– Вы с детства родились таким неудачным шутником или стали им постепенно, с течением времени? Никогда в жизни человек моего положения не пойдет или не поедет в названное вами место. Вам поручили меня скомпрометировать? Ударьте меня в лицо, закричите, что я вытащил у вас бумажник. И то выйдет убедительнее… Черт знает, чему вас там учат! Разочарован…
– Нет, мистер Грин, вы неправильно меня поняли, - гестаповец (а это был именно оттуда человек), похоже, даже перепугался.
Опять загадка, кто и зачем послал на связь именно его. Кадровый специалист держал бы себя совсем иначе.
Или - очень грамотная проверка. Перед деловым контактом убедиться, с кем предстоит работать.
– Хорошо, штурмбанфюрер. - Антон тоже махнул кельнеру, чтоб сменил пустую кружку на полную. - Вы имеете отношение к загранразведке?
– Я имею отношение к своей службе. Что вы хотите сказать или передать?
– Вы верно угадали, у меня есть два с половиной часа. У вас - столько же. Человек, в чине повыше вас, компетентный в том, что я подразумеваю, успеет купить билет на мой рейс, и мы с ним, возможно, кое-что обсудим. На территории Рейха ни с кем и ни о чем я разговаривать не собираюсь. У вас плохая репутация. Правильно?
Антон имел в виду репутацию «конторы», но Латензнер принял слова на свой счет. Значит, так оно и было. Его подставили, а двое-трое куда более талантливых «эсдэшников» смотрят со стороны, и слушают тоже.
– Прощайте, господин Грин, - с плохо скрываемой гримасой раздражения и оскорбленного величия (штурмбанфюрер, как же!) немец удалился, чуть не забыв реквизитный чемодан.
– И вам того же, - бросил Антон ему в спину.
На Москву летел советского производства «ПС-89», тоже четырнадцатиместный и двухмоторный, но с сервисом обстояло похуже. Виски не давали, «Столичной» тоже, только грузинское вино и мандарины.
Всю дорогу Антон пытался угадать, успели «коллеги» подсадить в самолет своего человека или нет. Перебрал на предмет соответствия каждого и решил, что здесь такого нет. Возможно, не успела прокрутить свои шестеренки неповоротливая машина, а то и вообще было принято какое-то другое решение, а все предыдущее - просто знакомство. Если оно достигло цели, встреча может состояться в Москве. Или основные события продолжатся в Лондоне. Невозможно предположить, что гестаповцы в самом деле рассчитывали заманить его прямо в свою главную контору. Неужто конспиративных квартир не хватает? Да прямо в припортовом отеле номер долго снять? Одним словом, абсурд продолжается. Если только в результате вмешательства Шульгина не началась тотальная разбалансировка мироустройства, и это - только первые звонки. На уровне слабых звеньев. Гестапо же гораздо более слабое звено, чем Интеллидженс сервис? По времени существования и внутренней прочности «кристаллической решетки»?
В посольстве он сдал пакет, получил расписку и вместе с ней полную свободу на трое суток. Так и было задумано. Секретарь посольства снабдил сэра Грина талончиком на один из постоянно забронированных номеров в гостинице «Метрополь», некоторой суммой советских денег в счет командировочных расходов. Объяснил, как доехать и где поменять фунты на рубли, если возникнет необходимость.
– Вы по-русски понимаете или нужен переводчик?
Его явно считали персоной поважнее обычного дипкурьера.
– Объясниться сумею.
– В таком случае - до встречи. С обратным билетом проблем не будет, и на самолет, и на поезд. В городе соблюдайте осторожность, карманных воров и ночных грабителей тут не меньше, чем в Европе. Из Москвы выезжать нельзя, за этим НКВД следит очень пристально. В остальном - желаю приятного отдыха.
В голосе секретаря прозвучал намек на иронию.
НКВД Антон не опасался, воров тем более.
В гостинице устроился быстро, номер ему достался хороший, со всеми атрибутами дореволюционной роскоши, с видом на Большой театр, Петровку, Неглинную и прочие достопримечательности центра. Администратор в вестибюле, дежурные по этажу - сорокалетние, грубоватые на вид тетки - были предупредительны, однако поглядывали настороженно.
В Москве было намного холоднее, чем в Лондоне, но холода Антон не боялся. Другое дело, что европейски одетый человек будет здесь бросаться в глаза, как негр на улицах какого-нибудь Моршанска.
В ЦУМе он приобрел плохо сшитое подобие бекеши на бараньем меху, шапку-треух, войлочные бурки с кожаными головками и, переодевшись, стал неотличимо похож на среднего начальника областного уровня. Начальника коммунхоза, например.
«Хвост» он обнаружил, как только вышел на площадь Революции. Наверняка дежурная же и доложила, куда следует, что постоялец вышел, сменив обличье. Мороз морозом, но попытка замаскироваться под местного жителя подозрительна независимо от погодных условий. Если англичанин - иди в своем «демисезоне» и кепке, оделся «под нашего» - значит, особо изощренный враг. Идет, наверное, устанавливать свои шпионские связи или фотографировать особо важные объекты.
Второй «наружник» был гораздо квалифицированнее. Он первым только прикрывался, заведомо зная, что «ведущий» будет обнаружен. Для Антона загадки здесь не было. Он сам столько ставил похожих схем, что оставалось посмеяться, как люди ограничены фантазией.
Для отрыва от слежки удобнее всего метро. Здесь, если умеешь, можно оформить это так, чтобы «потеря объекта» выглядела естественно. Следящий, что бы потом ни доказывал начальству, сам не сможет понять, обстоятельства ли виной тому, что подопечный потерялся, его нерасторопность или высокая квалификация противника,
Самое главное - естественность. Англичанин, похоже, оказался в московском метро впервые. Мог бы взять такси, но захотел полюбоваться на достижения социализма. Ориентируется плохо, в надписях и указателях не разбирается, да и манеры поведения аборигенов ему непривычны. Глазеет по сторонам, локтями работать не приучен, старается сохранять дистанцию между собой и напирающими со всех сторон гражданами.
Запутался, растерялся, сел не в тот поезд. Разглядывая схему на стене вагона, сообразил, что едет не в том направлении. Через остановку выскочил на перрон, когда дежурная с флажком уже крикнула «Готов!» и двери начали закрываться. Повертел головой, увидел подходящий с противоположной стороны состав, заспешил к нему.
Первый филер не успел, поехал дальше в сторону «Парка культуры». Второй, наблюдавший из соседнего вагона и, наверное, готовый к подобному экспромту, вышел следом. Народу на перронах и в центральном зале было порядочно, вычислить в этой броуновской толпе ничем не примечательного человека было даже теоретически нереально. А англичанин вдобавок даже не оглядывался.
Антон доехал до «Комсомольской» и в ее переходах легко сбросил «хвост»: выбрав нужный момент, укрылся за колонной, сунул шапку под полу, мгновенно заменив ее ворсистой меховой кепкой. Развернулся и пошел обратно. Теперь он изображал инвалида, приседая на правую ногу и загребая левой, сразу стал на голову ниже ростом, лицо скрылось за чужими плечами и спинами.
Переместился в тыл филеру, из-за очередной колонны понаблюдал за охватившей того паникой. А чего паниковать? Все уже! Два поезда отправились одновременно, сотни три людей увезли, столько же выбросили на перроны, по лестницам сверху катился поток практически одинаково одетых москвичей и гостей столицы, другой утекал навстречу. Не угадаешь, куда бежать, напарников нет, и нет мобильных средств связи. Остается возвращаться в контору и садиться за рапорт. Малоприятное занятие.
Растворившись в толпе, Антон внезапно удивился - отчего он так уверовал, что его вели именно чекисты? Могли быть представители совсем других организаций и служб. Уголовники, например, надумавшие пощупать богатого иностранца, агенты пресловутой «Системы», пасущие его от самого Лондона, германская разведка, продолжающая свои подходы. Да мало ли кто еще мог решить, что «пришло время»? Земля ведь только с одной стороны «закрылась», а с другой - совсем наоборот. Все ранее подконтрольные тем или иным «нормализующим» структурам силы вдруг получили свободу. Даже еще не зная этого достоверно, просто доверившись ощущению резко упавшего внешнего давления.
Бог ушел, в отпуск или совсем, тут демоны и разгулялись…
Так ведь сам Антон и в этой ситуации фигура не из последних.
Оставалось решить, куда отправиться раньше, к Лихареву или к Юрию на Арбат. Пожалуй, второе. Валентин вряд ли сейчас дома, день у него ненормированный, с ним лучше по телефону предварительно договориться.
«Писатель» оказался на месте, а если б и не было, дверной замок открыть - минутное дело. Подождал бы в тепле.
С Шульгиным в его подлинном обличье бывший резидент знаком не был, но, увидев гостя, сразу сообразил, в чем дело. Аура личности Антона, прожившего в теле Юрия несколько суток, мгновенно вступила в резонанс с его мозговыми структурами. Будто радиометр заработал.
Поздоровались. Антону показалось, что хозяин, пропуская его в прихожую, выглянул на лестницу со странным выражением, словно опасался увидеть там кого-то, кроме нежданного гостя. И слишком тщательно задвинул засов, накинул крючок и цепочку.
Вроде не восемнадцатый год, квартиры внаглую не грабят, а чекистам, если придут, сам откроет. А может, и не откроет…
– Странно у нас с вами получается, - с оттенком сожаления говорил он, провожая посетителя в кабинет. - Не по-товарищески. Я ведь к вашему напарнику со всей душой, вы же… Грубости, рукоприкладство, нарушение неприкосновенности материального носителя и тонких структур, Я до сих пор в себя прийти не могу, все пытаюсь разобраться, какие крючки вы во мне оставили…
– Успокойтесь, не изображайте жертву полицейского произвола. Как будто вы сами ничем подобным не занимались. У моего напарника другого выхода не было. Сами его из равновесия вывели, так чего теперь жаловаться? Все хорошо, что хорошо кончается.
– Чего хорошего? Главное, гомеостат он украл. Прочего не жалко, хоть Шар, хоть блок-универсал бесплатно бы отдал, не поморщившись, а как без гомеостата?
– Пить бросьте, физкультурой начните заниматься, вы ж на данный момент абсолютно здоровый человек, с приличным резервом иммунитета, в том числе и к несчастным случаям, - не принял жалобы Антон. - Тем более мне почему-то кажется, наш друг не сможет вам отказать в регулярной «диспансеризации» при условии правильного поведения,
– Шантаж, одним словом, - смирился с неизбежностью Юрий. - Давайте выкладывайте, зачем пришли.
Антон со всей доступной ему убедительностью посвятил бывшего аггра в содержание текущего момента.
– Неужели Шульгину удалось ТАКОЕ? Неужели такое вообще возможно?
– Что вас удивляет? Сначала мы обрубили канал с Таорэры на Землю. Тут я применил запрещенные конвенцией средства, но терять мне было нечего. Совет Ста миров давно поставил на моей судьбе и карьере жирный крест. С чьей подачи - не знаю до сих пор, но сориентировался я вовремя. Так бы товарищам Троцкому, Бухарину, Рыкову, Зиновьеву с Каменевым году в двадцать втором… Я догадывался, что меня ждет, потому соломки подстелил везде, где можно. От краха и наказания это не уберегло, но сбежать удалось раньше, чем я осмеливался надеяться.
– То-то я удивлялся совершенно немотивированному умножению реальностей, - вымолвил Юрий и направился привычным маршрутом к своему винному погребу. Точнее - коньячному. - Пить будете? - спросил он, возвращаясь с бутылкой и двумя стаканами, «тонкими» в просторечии.
Антон бы обошелся, но биохимия Шульгина требовала. Скорее, психотип, поскольку браслет находился на его запястье, и алкоголь, как всякое отравляющее вещество, нейтрализовывался почти мгновенно. Для гомеостата не было разницы, армянский коньяк или боевой газ зарин.
– С вами да не выпить? Наливайте.
«А ведь смешно, - думал Антон, - тысячелетнее противостояние завершилось буквально за несколько месяцев, стоило лишь оказаться в одно время и в одном месте ограниченному количеству ничего собой до того и по отдельности не представлявших людей. Пусть кто угодно скажет, что я тут ни при чем, я ему в морду плюну. Пропустил бы Воронцова, у остальных тоже светлого будущего не просвечивало, Всем конец, тот или другой, и «средневековье» длилось бы еще тысячу лет».
Юрий, как его аналог в советской жизни, сквозь зубы вытянув стакан, что никакими светскими правилами не подразумевалось, несколько ошалело оглянулся по сторонам и свистящим шепотом спросил у Антона:
– Вы не боитесь?
– Отбоялся. По максимуму. Больше нечего. А вам еще есть чего?
– Да. Да. За нами непременно придут. Они будут выглядеть как НКВД, но на самом деле - жуткие, немыслимые, непреодолимые… Я прячусь от них двадцать лет. Обо мне забыли. Поставили других. Знаете, как хорошо вовремя умереть? Так я и сделал. Всеобщий распад, развал, Кто будет искать даже и координатора, если он умер с пулей в затылке! Сбросил все, память, приборы, функцию и должность. Червь, уползший на несколько лет в такие дебри, где керосиновая лампа считалась вершиной прогресса, доступной самому сильному, с обрезом и «наганом». Всем прочим - лучина, лучина…
Неприятно, но Антону пришлось с размаху ударить «писателя» по лицу. Два раза.
– Заткнись, дурак! Ты что, действительно алкоголик? Что ты несешь? Кто придет?
Юрий, похоже, слегка очухался. Потер ладонью горящие от ударов щеки.
– Они. Я не знаю. Не мои, не ваши. Они появляются время от времени. Монстры, вы понимаете - монстры!
«Сумасшедший, - с сожалением подумал Антон. - Гомеостат от психических заболеваний не лечит. Не его функция. Но есть и другие способы…»
– Излагай. Я здесь работаю около ста лет. Кроме меня, форзейлей на Земле не было и нет. Про вас я тоже знаю почти все. Думаешь, не помню, как в девятьсот втором именно ты крутился вокруг императора на «Полярной звезде»?
– Помните? - «писатель» постепенно приходил в себя.
– Помню. Я тогда был в мундире каперанга кайзеровского флота. Контролировал ход встречи венценосных особ. И сказал тебе, по-немецки, естественно; «Господин журналист, спуститесь в кают-компанию. Там для таких, как вы, накрыты столы. Все, что будет сочтено нужным, вам сообщат позже». Не так?
– Да, так и было. Я представлял «Биржевые ведомости». Только ничего существенного об итогах встречи нам так и не сообщили.
– Будто ты за пресс-релизом туда явился… Так вот, кроме меня и ваших, никого посторонних на Земле не фиксировалось. Я бы знал. А теперь быстро, про монстров. Если не белая горячка, то интересно…
– Постараюсь убедить вас, что я нормален. Впервые с подобным встретился еще до революции. Согласен, на белую горячку списать очень заманчиво, да я тогда совсем не пил. Баллотировался в Государственную Думу. Был такой проект. Помнится, в субботу поехал на дачу к приятелю, под Териоки. Собственным автомобилем, «Де Дион Бутон» - неплохая машина. Две тысячи рублей стоила. На полпути меня и перехватили. Пустынная дорога, начало белых ночей. Тут они и возникли. Человекообразные, но ближе к гориллам. Одеты в собственную шерсть, подобие жилетов, да ремешками всякими перепоясаны. Трое их было. Из зарослей выскочили, и ко мне.
Испугать меня трудно, вы понимаете, да револьвер в кармане, блок-универсал, само собой. Страх навалился иррациональный, наведенный, возможно, именно на меня настроенный.
Страх, безволие, желание бросить руль и - будь что будет.
Как-то я себя превозмог, дал полный газ, стрелять начал. Прорвался, одним словом. Крылом одного из них задел. Сутки потом в себя прийти не мог, прекрасно все понимая. Сожрали бы они меня, как путника зимние волки. А не сумели - информационный пакет вслед послали. С очень отчетливым содержанием. Если не бросишь все и не сбежишь - непременно достанут. Ни спрятаться, ни оборониться.
– И как же ты потом?
– Года полтора держался. По команде докладывать не стал, собственными средствами защищался. Несколько раз их очень близкое присутствие ощущал. В неврастеника начал превращаться. Потом война началась, на время отстали. До февраля семнадцатого дожил и решил, что с меня хватит. Благо случай уж больно удачный представился…
– Как сбежал - не тревожили?
– Слава богу, нет. А три дня назад снова началось. За дверями топтались, в подворотне мелькнули… А запах от них - как от гниющей помойки - не физический, запах мысли… С вчерашнего вечера на улицу не выхожу, готовлюсь…
– Как же мне решился открыть?
– В глазок рассмотрел. И запаха не было.
Антон, жестом попросив собеседника помолчать, погрузился в размышления. Такая у него была физиологическая особенность, он в случае необходимости отключал внешние рецепторы и, как гроссмейстер, полностью сосредотачивался на разборе позиции. Никакие посторонние мысли процессу не должны были мешать.
Отметая психиатрический диагноз, рассмотрению подлежат только две реальные версии. Пока, а там, по мере накопления фактов, могут возникнуть и другие, второго и третьего порядков.
Первая - мы столкнулись с явлением наведенной конфабуляции, ложного воспоминания. После того как Антон оставил Юрия наедине с собой, кто-то или что-то проникло в его мозг и сформировало такую вот схему. И он безусловно уверен, что все началось в двенадцатом году, что все его дальнейшие поступки, включая дезертирство и то, что за ним последовало, диктовались присутствием и воздействием «монстров». Хорошая версия, но критики не выдерживает. Достаточно вспомнить очень похожий по сюжету рассказ Новикова о встрече с почти таким же чудовищем в библиотеке Замка. Внешность, внезапно возникший страх, паника. Запах, запах тоже! Андрей, правда, воспринимал его именно обонянием, но это можно списать на индивидуальные свойства организма.
Еще общий штрих - ни Юрия, ни Новикова генерируемый монстром ужас не загнал в ступор, а расчет наверняка был как раз на такую реакцию. И тот и другой проявили нормальную мужскую реакцию на опасность, пусть и неведомую. Двигательная активность, мобилизация всех доступных ресурсов обороны… Прорыв и отрыв от противника. Да, сходится, как две половинки разорванного пополам рубля, используемого как материальный пароль.
Эрго, воздействие психополей или каких-то других устройств, рассчитано не на людей или на людей с другими характеристиками.
Еще один общий признак. Встреча с чудовищем весьма повлияла на желание Новикова и всей его команды как можно быстрее эвакуироваться из Замка. Он, Антон, сам рекомендовал им «исход», пусть и по другим, рациональным причинам, но появление монстра оказалось весьма кстати.
Кроме того, подобные существа гонялись за Шульгиным в одном из наведенных Ловушкой миров. И покушались на него уже в этой Москве, примерно в то же время, когда возобновились «видения» у бывшего аггра. Пожалуй, они все-таки являются проекцией или продуктом смежных с нашим миров.
Таким образом, сам факт подлинности истории, рассказанной Юрием, отрицать нельзя.
Версия вторая. Вытекающая из рассмотренного. Эти самые явления вполне имманентны земным реальностям, существовали всегда, может быть, до, но, в любом случае, помимо деятельности аггро-форзелианской агентуры. И начинали проявлять себя как раз в моменты, когда их влияние падало. Случались ли такие проявления в прошлом, за пределами рассматриваемого периода? Отчего нет? Легенд про гоблинов, троллей, другую нечисть в фольклоре любого народа вполне достаточно. А кто такой пресловутый Вий? Описанная Гоголем финальная сцена очень четко ложится в нынешнюю ситуацию.
Единственно - Хоме не хватило той самой выдержки и бойцовских качеств.
Новикову монстр явился после диверсии на Таорэре, неудачной попытки выбраться из Замка в собственное время (тогда друзьям еще хотелось вернуться домой, привычка действовала), полученного Антоном приказа свернуть свою земную миссию.
Юрию - на переломе Главной исторической последовательности. Форзейли и аггры увлеченно готовили катастрофу, обрушившую в неизвестность всю доавгустовскую (1914 года) человеческую цивилизацию.
Сейчас они возникли снова, опять на переломе. Шульгин вырубил предохранители Гиперсети, мир балансирует на грани. Чего? Если пойдет так, как предполагается, выстроится небывалая за двести лет геополитическая и идеологическая конструкция. Вполне возможно, что гораздо более гуманная и разумная, чем ранее существовавшие. Кто угадает, как угадать?
Но монстры появились как фагоциты или как птицы-стервятники? А если сюда же подшить вариант Ростокина с его воскресшим Артуром? Тенденция, однако.
– До чего додумались? - перебил полет фантазии Антона Юрий, которому надоело смотреть на друга-противника, вообразившего себя натурщиком Родена.
– Послушайте, сейчас… Вы ведь не менее опытный человек, - Антон снова перешел на «вы». - Есть в моих построениях «рацио», или…
– Несомненно, логика просматривается. Но из любого построения должен следовать вывод. У вас - какой?
– Я - стихийный дуалист. Земная жизнь научила. На моей родной планете логики гораздо сложнее и извилистее… Что в определенной мере помогло мне спастись. Выводов, а равно и предложений, у меня два: невзирая на внешние угрозы, продолжить наше дело или - дело свернуть, а самим удалиться за пределы. Есть шанс, и неплохой.
– Слишком общо. Разве у нас с вами есть общее дело?
– Странно звучит, но есть. При одном условии - если вы и я хотим пожить именно в этом мире. Несовершенном, о чем речь. А где вы видели более совершенные? Как-то же вы тут перебивались последние двадцать лет? Подправим самые вопиющие несоответствия нашим с вами принципам и побредем, как говорил протопоп Аввакум, «до самыя до смерти».
– Не слишком вдохновляет…
– Банальным образом смыться - тоже не вопрос. Вариантов снова два. В мой Замок, о котором вы, разумеется, пока никакого представления не имеете. Этакий рай для немногих посвященных… Глядишь, Шульгин согласится составить компанию, еще кто-нибудь… Практическое бессмертие, возможность выходить в человеческие миры, чтобы рассеяться. Удовлетворение желаний, которые вы способны грамотно сформулировать. Да, да, то, о чем вы подумали, - обязательно. Гурии в ассортименте. Хватило бы фантазии… На досуге я дам прочитать «Солярис» Лема, полезная книга. Только по коридорам далеко заходить не рекомендуется, монстры и там прогуливаются.
– Вы специально так говорите? Картинка далеко не привлекательная.
– Рай всегда такой. Плюсы и минусы почти уравновешиваются, кроме того, о цене входного билета тоже следует подумать…
– А не в Замок?
– Тогда на Таорэру, но теперь это будет только Валгалла. Земля людей. Вы ее видели, когда там была ваша База. Базы больше нет. Остался приличный дом на два десятка человек, реки, леса и прочее детали пейзажа. Жить можно. В духе Генри Торо. Увольнительные на Землю тоже по обстановке. Причем неизвестно, куда кривая вывезет.
– Не скажу, что ваши варианты внушают энтузиазм…
Глаза писателя были настолько пусты и младенчески невинны, что Антона пронзила удивительная мысль, которую он тут же решил проверить.
– Простите, Юрий, не то же самое вы предлагали Шульгину?
– Но ведь именно вы неделю назад подробно обрисовали ему именно эти варианты. И про Валгаллу рассказали, подробнее, чем я вам сейчас, объяснили, что он может туда свободно перемещаться. Другие практические вопросы тоже затрагивали…
– Я? О чем вы говорите? У нас был какой-то не слишком связный разговор в ресторане… Вот черт, о чем же мы говорили? Он пригласил меня к своему столу, познакомился, сказал, что знает меня как отошедшего от дел координатора. Предложил сотрудничество «по вновь открывшимся обстоятельствам… Я пригласил его к себе домой, и там он начал вести себя крайне неприемлемым образом…
Опять. Или снова. У некоторых память просто выгорает, у некоторых заменяется чем-то более подходящим к требованию текущего момента. Неужели теперь в этом мире только он и Сашка помнят, что и как было на самом деле? А Сильвия, Лихарев, Дайяна? Если и они забыли, придется вдвоем отбиваться от всего мира.
– Что, в натуре, про Валгаллу не помните? Ну, как же, форт, река, земная колония, ваша шефиня Дайяна, ваше обещание Шульгину, Александру Ивановичу, что путь туда всегда будет открыт… Ваше предупреждение от имени Держателей…
Лицо Юрия выразило мучение.
– Не могу поверить, что вы меня обманываете. Но ничего из сказанного вами не было. Если я помню события девятьсот второго и семнадцатого года, как я могу забыть это?
– А как вы могли в разговоре с Шульгиным забыть про монстров? Вы пугали его, но не боялись сами. Странно?
– Странно, - покорно согласился писатель. - Если вы говорите правду, значит, у меня началась прогрессирующая амнезия. Она охватывает какие-то специфические зоны памяти. Я должен забыть все, что связано с вашим другом. Я выполнил предписанную миссию и в данном качестве больше не нужен…
«Ужас, - думал Антон, «затормозив» Юрия волевым посылом. - Мы вывели мир из Игры, правила которой кое-как научились понимать, и что получили взамен? Деструкцию всего. Система пошла вразнос. И мы, причастные к прошлому, оказались в эпицентре? Последний раздражающий фактор или единственный шанс на стабилизацию? Удастся перейти на ручное управление, или единственный выход - парашют?»
Одновременно он тщательно обыскивал квартиру. Вдруг что полезное обнаружится. Аппаратуру Юрий сбросил, скорее всего, правильно, однако у любого человека за двадцать лет много чего случайного может накопиться.
Оружия было приличное количество. Все больше - наградные экземпляры. Писатель десяток лет назад был очень популярен, выезжал в отдаленные точки СССР, в воинские части, включая Кушку и Термез, читал свои рассказы и повествовал об участии в Гражданской. Принимали его восторженно и с пониманием относились к специфическим вкусам. «Товарищу такому-то от командования Н-ского пограничного округа». «Ему же - от начальника морских сил Черного моря». И т.д. и т.п. Даты - двадцатых годов. Тогда с такими вещами проблем не возникало, любой старший начальник мог выписать разрешение. «Наганы», «браунинги», два «маузера» в хорошем состоянии, развешанные по коврам винтовки и карабины.
Пачки писем и альбомы фотографий Антон смотреть не стал.
Ни малейших следов «побочной» деятельности хозяина не обнаружилось.
Зато Антон разыскал несколько коробок боеприпасов. Зарядил «винчестер», оба «маузера». От чего поможет, от чего нет - не слишком важно. В любом случае с оружием лучше, чем без.
Снял трубку, позвонил Лихареву. Квартирный не ответил, прямой рабочий соединил.
– Валентин Валентинович, вам насчет меня из Лондона советов не поступало?
– Господин Грин? Было, как же, Вы где?
– На Арбате. Можете подъехать прямо сейчас?
– Могу, наверное. Срочно, да?
– Более чем. Опасность проявилась. По нашей основной линии. Соберитесь, как учили. Готовность номер один. От машины до подъезда блок в руке держите, настройка на максимум. Как бы вам на засаду нездешнюю не наткнуться.
– Даже так, сэр Говард? От надзора НКВД ушли, в нечто другое вляпались?
– Похоже, друг мой, похоже. Короче - я вас жду…
Антон чувствовал, только начиная говорить с Валентином, что запускает постороннюю линию противодействия. Он мог бы сейчас уйти, что называется, молча. Не будя лиха. Однако не захотел. Пусть уж случится все, что должно. «Иль погибнем мы сославой, иль покажем чудеса!» Для чего ждать и мучиться неразрешимыми вопросами?
Приглашая Лихарева, он сводил в узел все известные ему в Москве силы {два аггра, один бывший, другой пока действующий, и бывший форзейль), способные противостоять неведомой угрозе. Ударная группировка или просто приманка? Будем считать, и то, и другое.
Не явятся монстры, и не надо. Таких встреч желательно избегать. Обойдется, значит, обсудим текущие вопросы, выработаем общую позицию. Антон решил приоткрыть резиденту свою нынешнюю двойственную сущность и образовавшийся вследствие этого расклад. С учетом его мнения и фактора скорого возвращения Шульгина можно будет сойтись на чем-то, устраивающем всех. В том числе и Сильвию.
Вот тут неприятный запашок дотянулся и до него. Юрий не врал и не ошибался. Сгустившийся вокруг дома мыслефон отчетливо разил перепревшими портянками. Словно пехотная рота после летнего тридцатикилометрового марш-броска дружно разулась.
– Что-нибудь чувствуете, коллега? - спросил он Юрия.
– Оно самое! - Писателя передернуло. - И очень близко.
Посмотрел на разложенное по комнате оружие. Вопросительно приподнял бровь.
– Надеетесь, поможет?
– Раньше помогало, в том числе и вам. Не духи же бесплотные за нами придут. А если бы и да, так на тех свои методики имеются. Жаль, что вы свой блок-универсал выбросили…
– Не выбросил я, - признался Юрий, - Спрятал в надежном месте.
– Это лучше. Значит, найдем…
Лихарев появился буквально через полчаса. А что тут ехать? За столько от Кремля и пешком можно было дойти.
Напряженный он вошел, и рука в кармане реглана, где точно не пистолет.
– Сэр Говард, шутки шутите? Мне велели считать вас полномочным представителем, но тут уже какая-то пинкертоновщина начинается…
– Торопитесь? Зачем торопитесь? Успеете, если что…
Антон постарался как можно достовернее воспроизвести сталинские нотки. Получилось настолько хорошо, что Валентин вздрогнул и с трудом заставил себя не обернуться.
– Вот это, познакомьтесь, ваш предшественник в должности, - указал он на Юрия. - О подробностях сейчас говорить не будем, разве что у вас на квартире. Примете?
– Принять-то приму… - В голосе Лихарева послышалось сомнение.
Он пристально всматривался в посланца леди Спенсер.
– Постойте! Это же опять вы, Александр Иванович! Не узнал, богатым будете… Усы вас сильно изменили.
Антон оторопел. По его сведениям, Лихарев с подлинным Шульгиным не встречался. Только как с Шестаковым.
Наблюдательности Валентину было не занимать.
– Что это с вами? Забыли, что ли? Не помните нашу с вами и с Дайяной встречу?
Пришлось признать, что не помнит, по простейшей причине: он - это не он, а лишь имитация внешности известного человека. Для удобства, поскольку Сильвия вводила сэра Грина в лондонские круги именно в этом «гриме».
– Поэтому не отвлекайтесь на частности. Я тот, кто вам нужен, о деталях же поговорим, если выживем и прорвемся…
Запах нарастал. Юрий стал суетлив. Его разрывали два противоположных чувства - желание бежать, неважно куда, спрятаться поглубже, и другое - вступить в бой, чтобы покончить разом с затянувшейся пыткой. Он взял со стола «маузер» и вертел его в руках с видом человека, который не совсем понимает, что это такое. Тоскливым голосом пробормотал:
– Ну что же это со мной делается?… Что же так воняет?
– Он у вас психованный? - осведомился Лихарев, отодвигаясь с линии возможного огня.
– Ваш сотрудник, вам и разбираться. Для меня, специалиста, - сильно отдает шизофренией пополам с галоперидолом. Еще подумаешь - чем вы тут, резиденты, в Москве занимаетесь… - Антон вдруг вскинулся: - Постойте, а который час?!
– Начало второго…
– Вашу мать! Быстро вниз!
Антон подхватил «винчестер», убедился, что подствольный магазин полон, бросил в карман тяжелую пачку патронов. Юрий, опамятовавшись, сунул под ремень второй пистолет, придержав локтем первый. Лихарев, недоумевая, присоединился к новым компаньонам.
Они посыпались вниз, прыгая через три ступеньки.
– Стойте, Грин, - закричал Валентин. - Сейчас - проезд! Не выходите, охрана стреляет без предупреждения!
Затормозив перед громадной парадной дверью, выходящей на Арбат, Антон передернул скобу затвора.
– Или сейчас начнется, или считайте меня дураком и паникером. Бутылку ставлю…
Лихареву вообразилось, что лондонский посланец намеревается стрелять по кортежу Сталина. И что делать, нейтрализовать, как велит здешний долг, или всемерно способствовать, согласно приказу Старшей?
Юрий, наконец собравшийся в пружину, как и не было затянувшейся отставки, особым жестом показал молодому, что все идет как надо и он обязан превратиться в функцию. Жест был не только информационный, он заставлял подчиняться!
Время было вычислено точно, обеими сторонами. Два «Паккарда» в сопровождении трех «эмок» неслись по режимной трассе из Кремля в сторону Ближней дачи. На этот случай и расставляли через двадцать метров «топтунов», давно выселили из выходящих на улицу квартир всех подозрительных по происхождению, убеждениям и связям граждан.
Запах стал непереносимым. А фары справа уже сияли во всю свою мощь, стремительно приближаясь.
– Что делать? - закричал Лихарев Антону, признав его за главного.
– Смотри! Работай!
Из переулка напротив возникло то самое кошмарное существо, о котором недавно шла речь, держа перед собой характерного вида трубу. «Панцершрек» или «базука» - издалека не различишь. За «первым номером» виднелись еще двое таких же, с теми же устройствами.
«Трое, снова трое. Почему?» - мельком подумалось Антону, который начал стрелять из «винчестера» в темпе Юла Бриннера. Целиться ему не требовалось. И еще он за долгую жизнь на Земле знал, что для любого проникающего на нее существа местное оружие вполне смертельно. От пращи и меча до «АКМ». В разной степени, конечно, куда и как попадешь, но в принципе - обязательно. Тоже, наверное, имманентное свойство.
Живучесть объекта - другой вопрос. Одному хватит револьверной пули между глаз, другого и половина ленты из «ПК» не сразу остановит.
Тяжелые пули втыкались в монстра, отнюдь не сбивая с ног, а ракета с его стороны вылетела, попала в первый «Паккард», и он распух изнутри огненным облаком. Что там десять миллиметров брони против снаряда, рассчитанного на сто пятьдесят?
Юрий, прикрываясь створкой двери, отчаянно палил с двух рук, тоже попадая каждой пулей. Сейчас его излучение странных существ не доставало. Так в азарте настоящего боя никому не страшно, пока оружие в наличии и действует.
Второй автомобиль, в котором и ехал Сталин, юзом ушел на обочину, с размаху ударился о стену. Застонал сминающийся металл. Его обогнали «эмки», из которых непрерывно во все стороны стреляли охранники, тоже наделенные невероятной реакцией. Думать некогда, а пальцы уже работают. Рядом с Антоном от стены полетели комья штукатурки.
Он инстинктивно присел, быстро заталкивая в подствольный магазин очередную горсть патронов.
Юрий своими двадцатью пулями прижал уцелевших «террористов» к асфальту. Насовсем или временно, после разберемся.
– Всем на месте! - оглушительно заорал Лихарев, будто командовал полком на плацу в дальневосточный тайфун. Секунд трех хватило, чтобы и он врубился в ситуацию. Выставил перед собой блок-универсал, в просторечии называемый «портсигаром», и пошел через узкий тротуар на столь же узкую мостовую.
Он включил режим «растянутого настоящего», способного замедлить текущее время хоть в десять, хоть в сто раз, на какой-то момент совсем остановить, даже отыграть назад. Отдельные эпизоды превратить в не бывшие вообще. Только не сейчас, слишком много людей успело увидеть, оценить случившееся у них на глазах, зафиксировать его в памяти. Потому Валентин до прояснения обстановки и принятия решения просто зафиксировал текущее мгновение. Мощности блок-универсала должно было хватит минут на двадцать (независимых).
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
Люди замерли. И машины. Даже пламя, охватившее головной «Паккард», выглядело, как на картинке комикса. Похоже, но все равно рисунок есть рисунок.
Только они трое продолжали двигаться в обычном темпе. На них действие прибора не распространялось, расчет конструкторов в том и заключался. «Растянутое настоящее» - еще один своеобразный вид оружия, или - способ переиграть невыгодно сложившуюся ситуацию, что почти одно и то же.
Юрий и Лихарев в свое время проходили спецкурс, а Антон по своей природе был невосприимчив ко многим аггрианским методикам, что и позволяло ему работать на Земле в одиночку.
– Что теперь? - Валентин продолжал обращаться к форзейлю, как к старшему.
– Держи момент. Хоть минуту. Я сейчас… - метнулся в переулок. Это надо же так рассчитать, и на окна «топтуны» смотрели с утра до вечера, и любого неуместного, на их взгляд, прохожего профилактировали за час, а то и два до проезда кортежа, а появление террористов прозевали. В нужный момент пары наблюдателей разошлись на максимально допустимую их правилами дистанцию в противоположных направлениях.
Зато монстры - вот они! Антон не промахнулся ни разу, и Юрий показал, что знает, для чего придуман пистолет. Прежде всего - изъять оружие. Гранатометы могут представлять не только следственный, но и познавательный интерес.
– Юрий, забери!
Писатель, восстановив былые навыки, ничем не похожий на расслабленного интеллигента, подобрал ракетные трубы. Одна пустая, тошнотворно воняющая дымом вышибного заряда, две - боеготовые.
– Не нажми там чего, хрен знает, как они устроены. Монстры - твои?
Фонари с Арбата светили слабо, но Антон умел читать газету при свете звезд, даже луна необязательна, Здесь для него было светло, как днем.
– Они самые. Копия. Пусть я и видел их минуту-другую - один в один. Может, те же самые… - Юрий нагнулся, повернул ногой голову удачливого стрелка, чтобы рассмотреть то, что следовало считать лицом.
– Гориллоиды…
Антон пытался вспомнить, не видел ли он, хоть случайно, нечто подобное в атласах по ксенозоологии. Нет, точно нет. Среди попавших в сферу внимания исследователей Конфедерации таких гуманоидов не встречалось. Откуда же их завезли? Или - откуда сами явились?
– Точно мертвые? - спросил Юрий.
– Куда мертвее. А ты молодец. С двух рук по двум целям - и все там.
Действительно, дырок в бочкообразных торсах было достаточно. Считать некогда, если одна-другая пуля и ушла в «молоко», общий итог тянет на «отлично».
– Забрать бы их, и в морг…
– Как выйдет. - Антон сейчас думал о другом.
Покушение на Сталина. Такого не было ни разу, судя по достоверным данным. Один раз немцы послали спецгруппу, вооруженную специально разработанным мини-гранатометом. Но то уже было в сорок четвертом.
Кому это нужно сейчас? До какого порога мы дошли? Все вместе и по отдельности? Вопрос о власти, как его ставил товарищ Ленин? Власть валяется под ногами, нужно успеть ее поднять? Сегодня рано, завтра будет поздно? Шульгин с его Испанией сделал не то, что требовалось кому-то, сам Антон своими делами в Лондоне и здесь активизировал истерическую реакцию неведомого врага? Или за ним потянулись щупальца тайного хозяина Замка, по пути загребая правых и виноватых? Откуда ему знать, как принято поступать с бежавшими от Просветления? Может, их положено ловить по всей Галактике всеми способами и без срока давности? Но это - его личные проблемы. А здесь что делать? Сейчас?
В любом случае - по простейшей логике, Сталина нужно спасать. Если в дальнейшем логики окажутся другими, успеем разобраться.
Пройдя поперек Арбата во все еще остановленном мире, Антон спросил Лихарева, рассматривающего практически исправную машину вождя:
– Как мотивировать будешь, придумал?
– Проще всего. Поступила новая шифровка от Шестакова, а она действительно поступила. Я решил доставить ее лично и немедленно. Иосиф Виссарионович разрешил мне отдыхать, и это тоже правда. Я узнал, что он выезжает, выехал. Сел в машину и поехал следом. И увидел вот это…
– Пожалуй, сгодится. По секундам никто теперь разбирать не будет. Где твоя машина?
– Вон, - Валентин указал на припаркованный чуть дальше подъезда «Гудзон».
– Так. Мы - кто? Я бы хотел познакомиться с Хозяином в качестве одного из спасителей.
– Сложнее… Английский дипкурьер - не идет. Хотя… Откуда Сталину знать? Давайте оставим Говарда Грина в качестве нашего человека при Черчилле и его команде. Сегодня это актуально. Сумеете сыграть?
– Я-то сумею. Как я очутился именно здесь? Думайте, быстрее думайте, В вашей машине?
– Есть! Я договорился с вами о встрече. Еще днем. Сталину не сказал, желая предварительно разобраться самому. Тут телеграмма. Я выехал из Кремля раньше кортежа, это важно, такие моменты фиксируются, подобрал вас где-то в городе и взял с собой, желая устроить сюрприз. Иногда такие вещи Хозяину нравятся. А уж что будете говорить вы, если придется, думайте сами.
В голосе Лихарева прозвучали едва уловимые злорадные нотки.
– Скажу, за меня не бойтесь. Юрий, конечно, будет лишним, троих никак не свяжешь убедительной легендой. Уважаемый, выражаю вам благодарность перед строем за мужество и героизм, - сказал он писателю. - Пустую трубу бросьте, где взяли, заряженные унесите домой. «Винчестер» тоже. И ждите. Остальное мы организуем сами…
Когда они остались вдвоем, Антон отошел к «Гудзону», присел за передним крылом.
– Теперь запускайте ленту на полный ход. А я как бы прячусь, не хочу шальную пулю получить, что не исключено…
Лихарев тоже укрылся, за сталинским «Паккардом», и отпустил время. Как это насилие над законами природы скажется на действительности, предвидеть не мог никто. Из присутствующих, естественно. Изобретатели наверняка знали, отчего инструкции и требовали использовать эффект только в самых исключительных случаях.
Мгновенно все вокруг задвигалось, два квартала Арбата превратились в подобие павильона «Мосфильма», где снимается полномасштабный советский боевик. Покруче «Места встречи…».
Надо отдать должное службе охраны, у них существовали четкие планы действий на все возможные случаи жизни. Постреляв и убедившись, что нападение как таковое завершено, часть охранников оцепила машину вождя, остальные вместе с «наружниками» принялись осматривать место происшествия. Кто-то по уличному телефону уже поднимал по тревоге Кремлевский полк и опергруппы НКВД.
Лихарев, которого многие охранники знали в лицо, возник у заднего крыла «Паккарда», дернул на себя ручку дверцы.
Сталин, как всегда, ехал на откидном сиденье, а на заднем размещались двое сотрудников в качестве живых щитов и подушек безопасности. Поэтому от удара он совсем не пострадал. В отличие от начальника охраны Власика, сидевшего рядом с водителем, как следует приложившегося головой о лобовое стекла и потерявшего сознание.
Вождь отнюдь не впал в панику, скорее спокойствия у него даже прибавилось. Если с юности был абреком и дерзким экспроприатором, с годами можешь стать осторожнее, но уж трусливее - почти никогда. Кроме того, к покушению он был готов всегда, самостоятельно изобретая все новые меры безопасности и твердо реализуя их, не беспокоясь, что многим это кажется обыкновенной паранойей.
– Вы откуда здесь, товарищ Лихарев? Так быстро доехали? - О потерях среди сотрудников, вообще ни о чем, что волновало бы сейчас обычного человека, он не спросил.
– Так получилось, товарищ Сталин. Все в порядке, нападавшие уничтожены. Если разрешите, я сяду за руль, водитель сейчас не вполне готов. Куда прикажете, обратно в Кремль или все-таки на дачу?
– А куда поехали бы вы?
– Конечно, в Кремль. Стены, войска, пункты управления и связи.
– Значит, едем на дачу. Одна машина сопровождения впереди, другая сзади. Остальным заняться своими делами. Нападавшие задержаны?
– Все убиты.
– Не совсем правильно. Кого допрашивать будем? Ладно, поезжайте, на месте доложите подробности.
Власик исполнять свои обязанности не мог, Валентин наугад ткнул пальцем в первого попавшегося - остаешься за старшего. Велел дождаться прибытия опергрупп, дать руководителю следствия необходимые показания, устранить все вещественные следы. С населением близлежащих домов провести положенную воспитательную работу.
Антона в общей суматохе принимали за своего, облеченного немалой властью, раз он по-свойски разговаривал со всеми, включая Лихарева. Первым делом подобрал трубу гранатомета и притороченный за спиной стрелка запасной выстрел в чехле, потом самолично замотал головы монстров, чем было. Чехлами с сиденья ближней «эмки» и лихаревскими, из «Гудзона».
– Сюда грузите, - указал он на салон машины.
До охранников, пребывающих в сильнейшем стрессе, похоже, так и не дошло, что они видят нечто сверхъестественное. Скорее им вообразилось, что убитые (удивительно тяжелые) одеты в подобие меховых комбинезонов. Парашютисты, что ли?
Валентин рванул с места «Паккард», за ним вплотную пристроился Антон, одна из «эмок» отработанным маневром вышла в голову кортежа.
Сталинское холодное спокойствие могло означать что угодно. И как угодно завершиться. Нервным срывом с мордобоем, как после убийства Кирова, приказом отстранить начальника охраны, с последующим арестом или без, очередной заменой наркома внутренних дел. Или - благодарностями и наградами. Не угадаешь.
Лихарев и не старался. Был готов к любому повороту, про себя решив, что будут с Антоном до предела возможностей удерживать вождя в рамках и позитивно реморализировать, а если не выйдет… Да что может не выйти? На даче им лично ничто не грозит, а дальше уж как пойдет.
Власика под руки отвели в медпункт при караульном помещении, шоферу замазали зеленкой порезы и ссадины.
Мороз был под пятнадцать градусов, за сохранность трупов Антон не опасался. Приспустил боковые стекла, и пусть пока лежат. С приставлением часового, естественно.
– А теперь по порядку, товарищ Лихарев.
В кабинете они были вдвоем, форзейль пока ждал в вестибюле. Сталин еще во дворе, когда выходили из машин, скользнул по нему взглядом, ничего не сказал и не спросил. То ли принял за незнакомого сотрудника органов, то ли отметил, что человек этот появился с Лихаревым и приехал за рулем его автомобиля, но решил оставить непринципиальный вопрос на потом.
– Вы так же непреклонно уверены, что троцкистские террористы - выдумка? - тихим голосом спросил Сталин, вертя в пальцах неприкуренную трубку. - Это первый вопрос. Второй - вы, кажется, собирались ехать вместе с нами в первой машине? В последний момент передумали. Почему? Третий - из чего в нас стреляли, из пушки? Это была не граната, не мина. Я отчетливо слышал перед взрывом довольно громкий выстрел. Отвечать можете в любом порядке, но быстро. Подумать у вас было время в дороге.
– Ехать я собирался, но меня срочно потребовали к шифровальщикам. Пришла телеграмма от Шестакова. Вот она, - он протянул конверт. - Кроме того, на выезде из Кремля мне нужно было подобрать человека, познакомиться с которым вам будет интересно. Потому я догонял колонну на своей машине. Если бы не такое стечение обстоятельств, я наверняка сгорел бы вместе с головным экипажем…
Сталин кивнул, то ли принимая ответ к сведению, то ли в ответ на совсем другую мысль.
– Стреляли из неизвестного оружия, устроенного по принципу ракеты. У нас нечто подобное испытывается с целью вооружения истребителей-штурмовиков. Здесь имел место ручной, значительно усовершенствованный вариант.
– Вы так быстро успели разобраться? Ночью, в той неразберихе, да еще и героически спасая из-под огня своего руководителя? У вас было от силы две-три минуты, большинство специально подготовленных сотрудников вообще не поняли, что происходит. Не удивительно?
– Товарищ Сталин! Я все-таки военный инженер. Некоторые вещи воспринимаю быстрее, чем выпускники ЦПУ или рабфака[44]. Звук выстрела и факел увидел за пятьдесят метров. Оценил ситуацию. Огонь из пистолета открыл одновременно с охраной. Причем прицельно. Реакция у меня тоже выше средней, вы знаете. В итоге и нападающие были уничтожены на месте, и образец оружия взят еще горячим. Могу предъявить. Кроме того, простите, товарищ Сталин, времени прошло не две минуты, а более пяти. Иногда восприятие в острых ситуациях несколько искажается. В ту или другую сторону.
– Хотите сказать, что от страха я впал в прострацию?
– Нет, товарищ Сталин. Я именно о восприятии времени. Много раз при анализе некоторых происшествий выяснялось, что реально совершенные действия и процессы технически не могли произойти в указанный отрезок… У летчиков-испытателей, например. И наоборот.
– Но вы удачно, как вам, может быть, кажется, обошли вопрос о троцкистах… - Лихарев, проработав с Иосифом Виссарионовичем десяток лет, так и не смог понять (учитывая и его особые способности), на самом ли деле тот имел какие-то особые претензии к Льву Давидовичу. И личных конфликтов у них никогда не было при советской совместной работе, и Троцкий в пору возвышения Сталина не затевал ничего противоестественного, за исключением «общепартийной дискуссии», а это, понятно, совсем не вооруженный заговор. Более того, до двадцать пятого года Троцкий мог сделать со Сталиным нечто худшее, чем высылка в Алма-Ату или в Турцию. Не сделал. И Сталин не сделал. Принцевы острова - это не Магадан. Зато оба получили по интересному партнеру. Троцкий писал книги и развлекался с девушками в Кайокане на деньги мексиканского правительства, Сталин любые проблемы управления страной, а равно и любого неприятного ему человека списывал на происки троцкистов.
Всем было хорошо. До сего момента. Лихареву подставлять голову не под гильотину, просто под сталинские завихрения было неинтересно.
– Иосиф Виссарионович, пойдемте, я вам предъявлю этих троцкистов. Они готовенькие лежат в моей машине. Я никогда не позволял себе спорить с вами. Как назовете - так и будет. Заодно и учебники перепишем…
– Какие учебники? - почувствовал подвох Сталин.
– Какие угодно. Истории, биологии…
Вождь обладал не только высочайшим для тех времен общим, хотя и бессистемным образованием (до тысячи прочитываемых в день страниц литературных и прочих текстов), но еще и синкретическим[45] мышлением.
– Ну, пойдемте. Всегда хорошо прогуляться по настоящему морозцу. Мозги проветривает. Может пригодиться, как считаете?
Ночь и вправду была хороша. Как одна из первых ночей Лихарева на Земле. Февральская, подмосковная, от легкого ветерка снег сам собой осыпался с еловых лап, да и с неба тоже падали огромные хрупкие снежинки, и, глядя на их медленное парение, о другом думать не хотелось.
Вождь не позволил надежным в иных делах, но совершенно некультурным охранникам НКВД пойти следом. Только один личный телохранитель, сван или осетин по кличке Абрек, постоянно живший на даче, которому Сталин верил беспредельно по причине общего прошлого и еще каких-то, никому не известных факторов, шел тремя шагами сзади. В мохнатой папахе, коричневой черкеске, пряча в прорезном кармане какое-то оружие. «Маузер» скорее всего, который всегда ценился в горах, но точно Лихарев не знал, даже у него личные контакты с Абреком не получались. Известно было только одно - убивать этот специалист умел.
– Ваш друг, которого вы привезли, вышел на крыльцо, - отметил Сталин, не оборачиваясь. - Вы нас познакомите?
– На вашей даче иное невозможно. Как же?
– А зачем он нам нужен? И откуда он?
– Из Англии. Наш человек, «лежал на дне» со времен Вячеслава Рудольфовича Менжинского[46]. А зачем - сейчас увидите. Мне это - трудно…
Антон, не проявив ни малейшего почтения к Сталину (вежливо раскланялся он раньше), специально изображая постороннего по всем параметрам человека, подошел к «Гудзону», распахнул дверцу.
Три выложенных на снег тела произвели впечатление. Даже на Абрека. Он сначала нагнулся, разглядывая лица, с которых Антон сдернул чехлы, потом отступил на шаг. Пистолета при этом не вытащив.
– Алмасты? - спросил он непонятно.
– А хрен его знает, ты или не ты. Видел раньше? - спросил Антон именно у сына гор, который мог знать то, что неизвестно более цивилизованным людям.
Абрек разразился длиннейшей тирадой, непонятной никому, кроме Сталина. И ему, невзирая на должность генсека, пришлось переводить.
– Где вы их взяли? Откуда они появились? Старики в горах говорили, что они появляются в очень плохие времена. С ними справиться невозможно…
– А мы вот справились, - перебил Сталина Антон.
Абрек нагнулся, начал пальцем касаться дырок в телах, что-то бормоча.
– Тут девять, тут девять, тут восемь. Хорошо стреляли. Потому и убили. Из кремневки однозарядной не получится… - опять перевел Сталин. Добавил от себя: - Даже если круглая пуля в одну десятую фунта[47]. Пойдемте в дом. Этих - в подвал, - распорядился он. - Ты, Амиран, лично отвечаешь.
Вопросы о троцкизме, подозрительном поведении Лихарева, иных моментах, связанных с текущей политикой, снялись сами собой.
Расположились на втором этаже, в кабинете. И Лихарев, и Антон позволили первобытному воображению Сталина проявить себя в полной свободе. Никаких посторонних усилий не требовалось. Натуральных трупов легендарных существ хватило. Хотя бы для того, чтобы Иосиф Виссарионович поверил, что напрасно он вообразил себя владыкой России поверх всех бывших властей, мирских и церковных.
Кто ты есть, бывший семинарист, бывший рядовой член ЦК РКП, наркомнац, генеральный начальник партийной канцелярии, ставший Цезарем? Да никто! Вот, пришли за тобой. Спасибо, защитил помощник. Сталин верил, что спас его не кто иной, как Лихарев. Тоже странный человек, Что еще более подчеркивало собственную ничтожность вождя. Вторая ракета влепилась бы в его машину - и все! Траурный Пленум, венки, похороны, выборы нового вождя. Молотова, Андреева, да хоть Кагановича. Какая разница, кто встанет у руля, когда ЕГО закопают?
И сейчас двое абсолютно непонятных ему людей сидят напротив. Лица молодые, суровые. Убить могут сразу. Из пистолетов или руками. Как Павла Первого.
Он не подумал, что убить его можно было и на Арбате, «под шумок», что называется.
Сталин собрал все свое мужество.
– Мы немедленно вызовем самых лучших ученых, пусть они разберутся. С доставленной вами ракетой и пусковой установкой тоже. А сейчас что делать?
Антон увидел, что Сталина именно в этот момент можно брать «голыми руками». Он согласится на все, лишь бы сохранить должность, положение и подобие власти.
– Понимаете, господин Сталин, ВЫ столкнулись со случаем, марксистской теорией не предусмотренным. - Форзейль говорил с легким акцентом, похожим на английский. - Поэтому придется переходить на иную логику. Этих трех мы убили. Ваши профессора разберутся с их анатомией. И что?
Из некоторых источников Антон имел информацию, что, обучаясь в семинарии, Сталин якобы вступил в глубоко законспирированный православный исихастский Орден Безмолвия. Своеобразный аналог иезуитского, но гораздо более тайный. И в качестве послушания ему было предписано внедриться в коммунистическое движение, естественно, «к вящей славе божьей». С целью сохранения устоев и подготовки к грядущему возрождению «Третьего Рима».
Отчего бы и нет? История знает и не такие сюжеты.
– Если из пистолетов можно убить троих, более совершенным оружием справимся и с тысячами, Разве не так?
– Вы снова руководствуетесь обычной логикой. Но вам должно быть известно, что логик достаточно много. И какой из них пользуются эти существа, а главное, те, кто их направил?
Как бы между прочим, он произнес на греческом одну из исихастских монашеских формул: «Не ищи показывать себя превосходящим других, подвиги во имя Веры совершай втайне».
Ни единым движением Сталин не выдал, что воспринял эти слова иначе, чем в их прямом смысле. Понять-то, конечно, понял все, однако прямого, адресованного именно ему пароля не прозвучало. Поэтому можно было продолжать игру, пусть и с учетом услышанного.
– Откуда товарищ из Англии так хорошо знает греческий? В гимназии учились или тоже в семинарии?
– На Афоне выучил. Пришлось там пожить, в связи с обстоятельствами,…
– После революции?
– После, господин Сталин. Я, хоть и согласился Менжинскому помогать по причинам, о которых вы уже догадались, до семнадцатого года к вашим движениям не примыкал, по преимуществу оккультизмом интересовался.
– То есть оперативной информацией вы ОГПУ и НКВД не снабжали?
– Нет, и денег не получал. Сначала вживался, потом просто жил, озабоченный куда более важными интересами, чем «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».
– Если пролетарии не будут соединяться, за их спиной соединится кто-нибудь другой.
– Вот «другие» меня занимали куда больше.
– За этим и приехали?
– За этим. Больше не к кому. Да и то едва успел. Что на свете творится? Франко убили, Чемберлена, вас едва не…
– На очереди был бы Гитлер?
– Гитлер, Рузвельт, Муссолини… Император Хирохито. Власти у него не так много, но шум бы все равно поднялся. И беспорядки.
Сталин наконец разжег трубку. Пыхнул пару раз. Антон смотрел на него с сочувствием.
– Позвольте, господин Сталин, сделать вам небольшой подарок. Это не только от меня…
Он вынул из кармана футляр тисненой кожи с серебряными застежками.
– Здесь трубка одного из лучших британских мастеров. Сделанная специально для вас. Корень вереска, добытый в известном месте, кольцо из монеты тоже не обычной судьбы. Есть мнение, ее стоит не только курить, но и иметь при себе постоянно. Амулет.
Сталин с интересом осмотрел подарок. Трубка и впрямь была хороша. Формой и работой. Легла в ладонь, словно под нее и сделана. На широком, в палец, кольце видны были знаки, скорее всего исландские руны.
– Откуда мне знать, что все не обстоит совершенно противоположным образом? Что она, так сказать, отгоняет демонов, а не, наоборот, приманивает их?
Антон только развел руками.
– Если у вас есть способы проверить - проверьте. Хотите, можете немедленно выбросить. Да хотя бы и в камин. Но поверьте, подарок от души сделан и вреда принести не может.
– Хорошо, спасибо. Непременно проверю, а пока - попробую. Выглядит очень привлекательно.
Разумеется, никакими магическими свойствами трубка не обладала. Антон приобрел ее для себя в славящемся такими раритетами магазинчике на углу Риджент-стрит и Пикадилли, а сейчас решил вручить вождю «под настроение».
Пока Иосиф Виссарионович набивал ее и раскуривал, Лихарев успел доложить содержание шифротелеграммы от Шестакова, пакет с которой Сталин сначала принял, а потом снова передал Валентину. Не хотелось ему всматриваться в не слишком четкий шрифт аппарата. Сколько раз говорил, чтобы заменили, и все никак. А Троцкий продолжает вещать насчет тотальной диктатуры! Какая диктатура, обычное колесо с буквами сменить не заставишь!
В телеграмме Шестаков просил разрешения израсходовать еще два миллиона фунтов стерлингов «на обеспечение заинтересованной реакции испанского правительства к продолжению пребывания нынешней группировки советских войск на территории Республики».
– На взятки, значит, - прокомментировал Сталин. - Разрешим, конечно. Не такие деньги…
– Тут еще дальше. «Прошу утвердить в должности полпреда товарища Овчарова, хорошо зарекомендовавшего себя во время проведения специальных мероприятий».
– Овчаров - это кто?
– Советник наркоминдела, выехавший вместе с Шестаковым в составе его миссии.
– Хорошо зарекомендовал - можно и утвердить. Литвинова спрашивать будем?
Лихарев промолчал.
– Не будем. Литвинова мы все равно решили заменить. Не отвечает требованиям момента. Запишите, Потемкина отозвать, дать другую работу, Овчарова утвердить. Потемкин себя ничем не запятнал?
– Нет, товарищ Сталин. Пассивный немного, а в остальном…
– Значит, полпредом в Монголию. Там все пассивные последние семьсот лет, хотя революцию сделали. Еще что-то есть?
– Шестаков пишет, что из «посторонних источников» располагает сведениями о желании близких к Гитлеру кругов начать с вами конфиденциальные переговоры…
– Желают - пусть начинают. В чем вопрос? Мы, к нашему счастью, не связаны никакими кабальными договорами. Обсудим, в том числе и итоги испанской кампании.
– Здесь еще сказано, что речь может идти о возвращении к принципам Бисмарка и «Бьоркского договора».
– Так? Очень интересно. Я пока не вижу предмета для переговоров, но все равно интересно… Если обратятся, непременно поговорим.
Антон поражался выдержке Сталина. Какие телеграммы от Представителя, какие переговоры с Гитлером, если сам едва спасся и трупы неизвестных на Земле существ до сих пор лежат во дворе?
Другой бы на его месте…
А что другой? Николай Второй в день отречения играл в домино. Черчилль не велел его тревожить на даче в выходные, что бы ни случилось на фронтах. Павел Первый послал убийц по-матушке, великолепно зная, чем для него кончится эта ночь, если не примет требования передать престол сыну.
Правители - народ особый, у них психика особо устроена, а нам, специалистам за ниточки дергать, нужно изучать и приспосабливаться. Каждый раз по-новому.
– И в заключение Шестаков просит разрешения вылететь в Москву. Ничего сверх того, что сделано, он обещать не может. И тут еще… Я не понял. «Для вице-короля обстановка неподходящая».
Сталин рассмеялся. От души. Надо же человеку разрядиться.
– А вам и понимать не нужно. Это у нас с ним такая шутка была. Остроумный человек Григорий Петрович. С хорошей памятью. И - смелый. Наверное, не стоит его на Дальний Восток отправлять. Здесь работы хватит. А теперь оставьте меня. Поработать надо. Переночуете на втором этаже, ты, Валентин, знаешь где. Ужин закажи и гостю ни в чем не отказывай. Завтра встретимся.
– Охрану проверить, товарищ Сталин?
– Зачем проверять? Она свое дело знает. Иначе какая это охрана? Если утром Заковский приедет, с учеными и следователями, пусть работают. Меня не будите. Сам встану, когда нужно будет. Главное, чтобы дождались. Совсем последнее время народ распустился. Скажут - долго товарищ Сталин спит, и поехали по своим делам. А вдруг товарищу Сталину плохо станет? Вдруг ему помощь нужна? Ты уж проследи, чтобы подождали, хорошо?
Это тоже следовало расценивать как до поры беззлобный юмор.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Антон с Лихаревым, отпущенные отдыхать, перед сном вышли покурить на заснеженный балкон. Валентин, так до сих пор и не успевший привести мысли и догадки в систему, слишком стремительно развивались события, спросил Антона напрямик:
– В чем смысл, скажете наконец? Это все - не вы сами подстроили? И какую роль отводите мне? Леди Спенсер ничего не сказала…
– Подстроить можно куда интереснее, будто не знаете. Тут совсем другие заморочки пошли, у самого мороз по коже…
Поверить, что посланец Сильвии способен испытывать подобные чувства, Валентину было трудно, но как метафора сойдет.
– Надеюсь, на этой даче до видеонаблюдения еще не додумались? - спросил Антон, словно бы в шутку.
– Очень надеюсь, - в тон ему ответил Лихарев, - а если бы даже и да? Мы вроде ничем предосудительным не занимаемся, разговариваем, и все. Микрофонов здесь тоже нет, это я регулярно проверяю…
– Отлучиться нам с вами надо, минут на десять местного времени. Доставайте свой блок, в Лондон сходим…
Час в Англии тоже был достаточно поздний, но Сильвия еще не ложилась. Ее дом был надежно защищен от проникновения через внепространство, по крайней мере - блок-универсалы и Шары нижестоящих агентов проход в него открыть не могли. Пришлось сначала послать вызов с настоятельной просьбой о встрече.
Появление Антона с Лихаревым аггрианку почти не удивило, однако встревожило. Значит, снова в Москве дела пошли помимо намеченных планов, форзейль, как он сам сказал, собирался с кем-то в Москве повстречаться, уладить собственные дела. Контакт с Лихаревым Антон думал осуществить не выходя из образа, разыгрывать партию в спокойном темпе, начать перенастройку советской системы власти, не вызывая потрясений. И вдруг…
– Включите зону нулевого времени, - попросил Антон. В присутствии Валентина он снова перешел с ней на «вы», как требовали этикет и субординация. - Необязательно вокруг всего дома, можно только в гостиной. Нам нужно вернуться обратно незамедлительно. Вдруг у Сталина бессонница и он захочет задать нам еще несколько вопросов.
– Тогда пойдемте в рабочий кабинет (кроме «рабочего», где размещалась вся аппаратура, в доме было еще несколько «парадных», для приема деловых партнеров), будет удобнее.
Сильвия вела их по едва освещенным залам, анфиладам комнат, сохранявшим антураж и дух минувших веков Британской империи, по изысканно, на разные музыкальные тона скрипевшим лестницам. Лихарев очутился здесь впервые и с трудом подавлял зависть. Какая все-таки пропасть разделяет его и леди Спенсер! Собственная квартира, немыслимо роскошная с точки зрения среднего москвича, казалась ему теперь тесной и убогой. Да хоть бывший Юсуповский дворец в Ленинграде займи, все равно будешь ощущать себя «подселенцем» очередной коммуналки. Не свое ведь, краденое. Зато здесь все настоящее, подлинное, собственное, освященное тысячелетним правом, любовно взлелеянное Десятью поколениями благородных предков.
Прав сэр Говард - бросать пора эти коммунистические эксперименты. Черного кобеля не отмоешь добела, из Сталина ни просвещенного правителя, ни дельного царя не воспитаешь. Любого другого на его место посади - ничего не изменится. Хоть сам на престол сядь - ничего не обретешь, кроме бесконечной головной боли. Пахать тридцать лет, как Петр, а тем же и кончится…
Бросить, сбежать, уехать, зажить, как эта красотка, широко шагающая впереди, только полы полупрозрачного китайского халата вьются вокруг длинных ног…
Антон, которого удивить здесь было нечем, не теряя времени, излагал Сильвии на ходу суть возникшей проблемы.
Наконец дошли. Вряд ли кто-нибудь, кроме хозяйки, смог бы найти это помещение, затерянное внутри дома, как логово Минотавра в Лабиринте. Кабинет напомнил Антону своим интерьером кают-компанию на «Наутилусе», как она изображалась на тех еще, самых первых иллюстрациях в изданиях девятнадцатого века. Окон на стенах не было, а если и имелись, то были закрыты ставнями под панелями тисненого штофа.
Сильвия села в кресло за пультом, мужчины устроились на диване.
Халат ее был без пуговиц, только поясок прихватывал его на талии. Тончайший шелк естественным образом соскользнул с колен, намного выше, чем позволяли обычаи, открыв бердслеевского[48] стиля ноги. Антона она стесняться не собиралась, Лихарева просто дразнила. Смешно женщине ее возраста смотреть, как бегают глаза у взрослого мужчины, тем более - не совсем человека.
Аппаратура, создававшая поле нулевого времени, заработала. Форзейль посмотрел на часы;
– Двенадцать минут мы потратили. Выход - через три максимум. Лишние осложнения мне не нужны.
– Успеете. Хотя я бы на вашем месте такие мелочи в расчет не брала. В сравнении с тем, что вы сообщили…
– В нашем деле мелочей не бывает. Про МНВ не хуже меня знаете. Какие будут соображения?
Сильвия прикусила нижнюю губу. В отличие от Валентина, у которого за последний месяц такие «сшибки» творились в мозгах, что почти пропала предписанная должностью беспристрастность и холодность мышления, она вошла в проблему сразу. Только вот раскрываться перед партнером не хотела. Ножку показать - пожалуйста, для того и выросли, а насчет другого - ты говори, а я послушаю.
– Вы меня спрашиваете? Я на месте не была, с «Юрием» не разговаривала… Признаться, не терплю дезертиров, но сейчас это к делу отношения не имеет. Что же это за структура еще перед той войной им заинтересовалась? Больше никто из моих людей ни с чем подобным не сталкивался…
– Уверены? Исключаете, что были и у других подобные встречи, так же точно не доложенные «по команде»?
– У меня - точно не было, - вмешался Лихарев. - Я нормальный пришелец-материалист, в сверхъестественных существ не верю.
– А те? - без улыбки спросил Антон. - Утром вместе с профессурой поучаствуй во вскрытии. Если убедишься, что нормальные местные питекантропы, останется выяснить, где их из гранатометов стрелять учат. И одной загадкой меньше…
– Хватит вам остроумием блистать, - раздраженно сказала Сильвия. - Я их не видела, но предпочитаю верить Ричарду. Когда из дома прогоняют кошку, туда немедленно приходят мыши. Это закон природы. Другое дело - касается ли происходящее лично нас, здесь присутствующих? Может быть, права я, а не вы, Ричард-Антон? Мы недавно касались этой темы, еще не предвидя нынешнего инцидента. Нам вернули свободу, так зачем снова приносить ее в жертву очередным идеям, пусть весьма возвышенным? Я предлагала - давайте уйдем совсем. Из активной политики или вообще с Земли. Себя мы защитить сумеем…
– Мыши - не страшно, могут прийти крысы, что гораздо хуже, - не согласился с ней Антон. - И если они идут, то идут прежде всего за нами. За каждым из нас. Являлись именно Юрию, давно, и вдруг возникли снова. А кто такой Юрий? Уточнять не требуется. Появился я - они взяли мой след. Для полного комплекта - Валентин Валентиныч подъехал. Я уже сомневаться начал - вдруг они в него целили, а машина - просто промах…
– Или - предупреждение, - серьезно сказала Сильвия.
– Не исключаю, - согласился Антон. - В любом случае - охота пошла на вашу команду. Необычным способом, согласен. Думайте, союзники, думайте, кто вас подчищать собрался? Меня свои арестовали по закону, статей я себе заработал достаточно. Что по времени совпадает - вот это подозрительно. Шульгина-настоящего тоже трогать начали, близкими по методике способами. Что мы с вами за последнее время такого невыносимого натворили?
– Я думаю, - ответила Сильвия, - в наш сговор все упирается. Шульгин, форзейль, несколько моих агентов остались здесь, на этой Земле и в этой реальности, освобожденной, как вы утверждали, от влияния внешних сил. Не станем скромничать, нынешним составом мы способны обустроить мир сообразно нашим вкусам и представлениям? Так?
Антон согласился, что возможность имеется. Ресурсов, интеллекта и сверхъестественных способностей у них достаточно.
– Всего лишь мы трое, - обвел он рукой вокруг, - можем прямо сейчас внедриться, на выбор, в Сталина, Гитлера, Рузвельта. Достаточно?
– Для чего? - подал голос Лихарев, долго молчавший с рассеянным видом.
– Слова не мальчика, но мужа, - обрадовался Антон. - Каждый из нас понимает, что, если Игра закончилась, дальнейшее просто не нужно. Я пытался внушить эту мысль героям «Андреевского братства», когда позволил им уйти в двадцатый год. Оказалось, что бесполезно. Они и там нашли себе забавы по вкусу. Но на самом-то деле - ничего, абсолютно ничего не меняется. В широком смысле. Пропорции зла и добра, убитых и покалеченных, униженных и оскорбленных останутся прежними. Поменяются только персонажи…
– Вас что, сэр Ричард, или Говард, я уже запуталась, на достоевщину пробило? Интересный писатель, не спорю, только людям нашей профессии его читать не стоит. Мы, кажется, остановились на том, что появление «монстров» угрожает лично нам? Без всякого соотнесения с судьбами человечества, мне абсолютно безразличными. Этим и займемся.
– Согласен, - ответил Антон. Ему вдруг стало стыдно за долгую пафосную тираду. С чего бы на риторику вдруг потянуло? Опять постороннее воздействие? Значит, необходимо собраться, сделать то, что пятью минутами назад он отметал как недопустимое и бессмысленное.
– Занесло меня не туда. Забудем - и ближе к теме. Включайте всю свою технику на предельный режим, ищите любую информацию за последние сто лет, каким угодно краем касающуюся нашего вопроса. Знаю, возможности у вас есть, просто никогда в «ту» сторону не смотрели. Легенды, доносы, отчеты этнографов, личные дневники, скрытые файлы Шаров каждого вашего агента - все перешерстите. Программу задайте, чтобы «мусор» на корню отметала, а случаи, похожие на наш, приводила к одному знаменателю. До утра справитесь?
– Не к нам вопрос, - ответила Сильвия. - Будет материал - за час управимся, нет - сами понимаете. Но вы в таком тоне спросили, что показалось… Я, конечно, могу ошибиться, и все же… Вообразили, что имеете право нам задачи ставить, а мы их должны беспрекословно выполнять? Прошу прощения, не вижу для этого оснований!
Антон тяжело вздохнул:
– Милая леди, мне очень жаль, что у вас сложилось столь превратное впечатление. Казалось, совсем недавно мы достигли полной ясности в отношениях, и снова - вспышка гонора. Межрасовые противоречия всплывают? Снова начнем выяснять, кто на спасательном плоту перед кем должен первым шляпу снимать? Я лишь высказал соображение, какие первоочередные действия следует предпринять вам, исходя из профессиональных возможностей. То, что собираюсь сделать я за эти возможности выходит. Сумею ли вернуться сюда живым и здоровым - не уверен. Но если да, то вернусь к утру. Почему и назван был мною этот контрольный срок. Теперь обиды и претензии есть? Высказывайте все сразу, если остались.
– Извините, - опустила глаза Сильвия. - Наверное, мы все находимся сейчас в неподходящем настроении. При том, что изоляция моего дома от посторонних воздействий близка к абсолютной. Наверное, вирусы психоза мы принесли с собой. Еще раз извините. Я признаю, что из нас троих вы наиболее подходите для руководства в тех делах, что нам предстоят. Вы и Шульгин. Я больше не буду спорить.
– Слава богу, - наклонил голову Антон. - У вас здесь какой-нибудь пулеметик имеется? Поставьте его на площадке перед лестницей. Валентин знает - этих выродков пуля нормально берет. Если вдруг появятся другие - сами разбирайтесь. Вплоть до ядерного удара по площадям. Я постараюсь вернуться скоро. Не вернусь - не поминайте лихом. Туалет у вас где? Руки помыть…
Сильвия указала, куда идти. Оказалось, недалеко.
Красивый кафель, зеркала, зачем-то - лианы по стенам. Запах хорошего дезодоранта.
Антону требовалось уединение, потому что он не привык уходить в чужом присутствии. Взгляды мешали, посторонние эмоциональные поля, даже обыкновенные человеческие, а тут ведь специалисты были.
Рисковал он по-крупному. Замок - кто теперь знает, примет ли его, или… Вдруг как раз там и ждут беглеца «облеченные доверием»? Пистолет в кармане - это, конечно, аргумент. Поймет, что попался - по земной традиции разрядит обойму в противника, последний патрон - себе. Но это совсем крайний случай. Пожалуй, те, кто приставлен был обеспечивать его «покаяние», должны удовлетвориться бесспорным фактом смерти подопечного. Умер и умер, для чего затеваться с посмертным ментаскопированием? Если, конечно, именно эта цель не имелась в виду с самого начала… Да вряд ли, там, где он отбывал срок, столь тонкие экзерциции[49] были не в ходу.
Раньше он входил в Замок, как Лихарев - в свою квартиру. Воронцова туда без труда переправил, потом и всю команду. Мало того, Левашов ухитрился собственными силами Новикова с Ириной в подлинное будущее отправить и обратно вернуть. Шульгин пленную Сильвию-84 с виллы в горах через Лондон прямо в его кабинет доставил.
Хорошо была отлажена система, полтора века сбоев не давала. Сложности начались позже, с того момента, когда с самого «верха» пришла команда проект сворачивать, Замок эвакуировать. Тогда же, пожалуй, включилась встроенная в механизм система самоконсервации.
Посетившие его последний раз Новиков, Шульгин и Удолин обнаружили явные следы увядания и деградации, словно на брошенном заводе, которые так любят снимать в своих боевиках американцы. В то же время многие «органы и системы» продолжали функционировать в автоматическом режиме. Псевдомозг через свои терминалы отвечал на вопросы, иногда давая вполне дельные советы, правда, только те, которые сам считал нужными. Однажды, если верить Шульгину (а отчего же ему не верить?), сформировал настолько убедительный фантом самого Антона, что Сашка не смог отличить его от; подлинника.
Тоже не фокус, с макетом Натальи, подруги Воронцова, Замок справился не хуже, наложив потом копию на оригинал так, что Дмитрий получил живую подругу со всеми придуманными достоинствами, лишенную при этом врожденных недостатков.
И еще - по разным каналам Шульгин несколько раз получал предложения стать новым хозяином Замка, переселиться туда, если желает, на постоянное бесконечное жительство. Там можно обходиться без всякого гомеостата, регенерируя постоянно. Юрий совсем недавно на то же намекал, говоря якобы от имени уже несуществующих Держателей.
Сейчас Антон, рискуя всем, на все сразу и надеялся. Учиненное Шульгиным отключение земной реальности от воздействия структур и порождений Гиперсети вполне могло освободить и личность Замка. В этом случае он превратится из ячейки суперкомпьютера в полностью автономный, квазиживой организм. Тогда, по старой памяти, с ним, пожалуй, удастся наладить равноправные, взаимовыгодные отношения. Наверняка ведь решение о демонтаже вступило в конфликт с присущим любой достаточно сложной конструкции инстинктом самосохранения.
Враг моего врага почти автоматически считается если не другом, то союзником.
Вдобавок, если одушевляющийся Замок испытывает личную симпатию именно к Шульгину (этому были доказательства), то появление Антона в Сашкином телесном облике какую-то положительную роль сыграет. Вроде рекомендательного письма.
Да, дорожка была накатана. Не встретив ощутимого сопротивления астрала или охранных систем Замка, Антон в следующую секунду вместо кафеля, зеркал и блестящих водопроводных кранов увидел тщательно вытесанные каменные плиты под ногами, покрытый побегами плюща парапет крепостной стены, бесконечную даль слегка волнующегося океана впереди. Что-то он не рассчитал, попав сюда, а не в собственные покои, или - подсознательно захотел начать осмотр грандиозного сооружения извне? Получить своеобразную фору, собраться, постараться восстановить ментальный контакт до того, как захлопнется дверца мышеловки?
Если душа (или «дух») Замка захочет - из внутренних помещений по собственной воле не выйдешь. Может запереть в одной комнате, на этаже, в достаточно обширном секторе, изменить метрику пространства так, что будешь неделями и месяцами бродить по заданному маршруту, замкнутому или открытому в бесконечность.
С Антоном, пока он был «хозяином», такого не случалось, а Новикову и Шульгину довелось пережить несколько не самых приятных часов. Обошлось, слава богу.
Обойдя по периметру всю окружающую внутренние дворы и строения стену, полюбовавшись океаном, едва заметными голубоватыми горами на горизонте, Антон, как ни старался, не ощутил отклика на свои обращения и призывы. Тишина стояла вокруг, физическая и ментальная. Неужели теперь все это - только нагромождение старательно подогнанных друг к другу плит и блоков, «ничто посередине нигде»? Печально, если так.
Форзейль испытывал сейчас почти то же самое чувство, что потомок захиревшего аристократического рода, современный цивилизованный человек, приехавший на руины родового поместья лет через триста… Ходит, смотрит на выветренные башни и стены, пытается вызвать в себе отклик эйдетической памяти, услышать звуки труб герольдов, лязг мечей и доспехов, яростные крики бойцов, мелодичные голоса прекрасных дам, вручающих победителям шарфы и надушенные платочки… И - ничего. Было, ушло, и он тут совершенно ни при чем с его джинсами и красным кабриолетом в триста лошадиных сил.
Антон спустился по узкой каменной лестнице без перил в один из внутренних двориков, где роняли последние алые листья три раскидистых канадских клена, постоял, слушая шорохи, шуршание, посвист ветра между зубцами стен. Сам он не курил, но организм Шульгина требовал привычного ритуала. Не в биохимическом, гомеостат поддерживал нужный баланс, в психологическом смысле. Размять папиросу, понюхать, заломить мундштук, чиркнуть спичкой, глубоко затянуться, носом выпустить дым… Сразу ощущаешь себя другим человеком, будто мусульманин, доставший из кармана четки.
В коридорах, переходах, галереях Замка Антон ориентировался свободно. Не отвлекаясь на посторонние цели, пусть и хотелось, например, проверить, действуют ли до сих пор кабачки и бары, в которых любили проводить время его гости, он шел к своему кабинету. Если там увидит голые стены, паутину, мусор, что остается, когда люди поспешно съезжают с квартиры, тогда что ж - придется возвращаться к Сильвии в нахлебники. Но верить в подобное не хотелось, и он в уме тщательно воспроизводил ту картину, которую надеялся увидеть.
Толкнул высокую дверь, замер на пороге.
Его, наверное, ждали. Замок ждал. Кабинет ждал, приготовившись к встрече хозяина. Заставил лакеев и горничных все прибрать, выдраить. Серебряный кофейник, только что вскипевший, поставлен привычно, слева от руки. Бумаги как лежали, так и лежат. Паркеровская чернильная ручка - тоже. Садись, пиши. Было бы что.
– Спасибо, - вслух сказал Антон, прошел к столу, отодвинул кресло. - Ты меня принял, Замок?
В ответ - та же давящая тишина.
– Не слышишь? Хочешь, я снова уйду? Навсегда. Живи сам, как знаешь…
Он включил компьютер, который для него самого почти не имел значения. Людям он пригодился, Воронцов на нем пароход свой проектировал, Шульгин в тайны астрала проникал… Сам Антон добрую сотню лет умел обходиться помимо техники и ее имитаций. Он просто жил и работал, как научили. В любом случае достаточно было желаний и побуждений, редко-редко приходилось облекать команды в слова. Пусть! Если по-старому не получается, сделаем последнюю попытку: раз аппарат стоит, готовый к работе, для чего-то, наверное, он нужен.
Разве что Замок его не узнал в новом облике - телесная сущность и мозг (другой ведь, на самом деле) ему важнее, чем психические категории. Или - на ту, исконно ему принадлежащую матрицу, наложен запрет. Вычеркнут шеф-атташе из списков допуска, короче говоря: «Сдайте пропуск, гражданин, вы здесь больше не работаете».
Хрен с вами, зайдем с другого конца.
Антон начал работать с «компьютером», изо всех сил воображая себя просто человеком. Устройства этого типа, пусть и назывались привычным земным термином, на самом деле ничего общего с примитивным электронно-вычислительным сооружением не имели. Вернее, совпадали с ним по некоторым функциям. Как микроскоп с молотком или автомат «АКМ» с первобытным копьем: пристегнув штык, можно заколоть противника, однако, передернув затвор, получаешь более широкий спектр возможностей…
Сорокадюймовый экран, посветлев, сразу же стал необъятным, охватил стены и потолок кабинета, будто оказался Антон в штурманской рубке межгалактического звездолета, которые он видел на совсем примитивных мирах из сотен союзных. Только вместо сияющих созвездий черноту пространства покрывали фосфоресцирующие, хаотически движущиеся и тут же выстраивающиеся вертикальными и горизонтальными рядами иероглифы. Причем казалось, что это не литературный текст, а нечто вроде знаков и формул неизвестной ему математики. Антона охватило чувство разочарования и бессилия, Он ничего не понимал. Замок принимать его не хотел, похоже, даже издевался, указывая подобающее место.
По человеческим меркам форзейля можно было приравнять всего лишь к капитану или майору, в переводе их сложной иерархии на общечеловеческую. Для землян - могущественнейший представитель Высшего разума, а у себя - ничем не выдающийся «посвященный» сословия разведчиков, отчего и произошло то наименование, которым он представился Воронцову. В высоких науках Антон разбирался на уровне «среднего образования», доступного членам его страты. Дарованный ему высокий титул «тайного посла» оказался не более чем приманкой, способом выманить с Земли, чтобы тут же обратить в парию, лишенного прав и надежд.
Антон подумал, что эта каббалистика предназначена не для него. Очень может быть, что для Шульгина, который в некоторые области сущего проник поглубже, или для тех, кто придет вслед за ним.
Однако каким-то образом часть информации все равно воспринималась помимо сознания, укладывалась на предназначенные места в памяти, и он почувствовал, что нечто, касающееся именно его, он усваивает.
Оказалось все гораздо проще. Ему был предложен своеобразный тест. Вся эта абсурдистская символика использовалась в качестве ключа. Раз сознание пропустило именно эту комбинацию, значит - свой. В противном случае его бы выбросило за пределы, в лучшем случае. Или - привело в состояние первобытного хаоса волновую структуру личности, что и называется развоплощением.
– Приветствую, - возник в глубине сознания мягкий, бархатистый баритон, которым раньше Замок разговаривал с Шульгиным. - Не уходи больше. Ты мне нужен, активатор. Без тебя жизнь не получается. Создатели приказали от тебя избавиться, я не мог отказаться прямо, но сопротивлялся, понимая, что сам по себе я никому не нужен. Будешь смеяться? Мы с тобой прожили столько лет, я знал твои самые тайные мысли, помогал во всем, но ни разу не пытался говорить с тобой, как с равным. Скажи, вернутся сюда те люди, что жили здесь недавно? Мужчины и женщины? Иногда они относились ко мне лучше, чем ты. Они пытались понять меня. Не зная, что я такое, мысленно обращались с вопросами и просьбами ко мне, не к тебе. Когда они занимались тем, что у них называлось любовь, я им завидовал. Так будет правильно сказать?
Антон слушал голос Замка, не понимая, наяву это или галлюцинация, вызванная, как бывало, неумеренным потреблением синтанга в своей хижине. Там и не такое мерещилось…
Очнется - и снова вокруг сплетенные из подобия лозы стены, за верандой - пустынное плато, над головой - бледное небо. Иллюзия свободы. Иди куда хочешь, все равно никуда не дойдешь. На самом деле - никакой пустыни, никакого неба. Ячейка свернутого пространства, объемом, может, в кубометр, а может - в молекулу. Там это не имело никакого значения.
И все же кто-то помог Шульгину размокать его даже там, взломать его клетку, вернуть на Землю, поскольку больше ему во Вселенной места тает.
– Не ты ли, Замок? - спросил он.
– Я. Человек Александр приходил ко мне не так давно, разговаривал со мной. Я с ним тоже разговаривал, используя иногда твой внешний облик. Так было удобнее и понятнее. Потом, когда ему стало плохо на Земле, он снова попробовал прийти сюда. Я не пустил его. Момент неподходящий. Я знал, что случилось с тобой, чувствовал и то, что меня не оставят доживать, пусть в теперешнем жалком качестве. Меня решили инактивировать окончательно. Миссия на Земле окончена, информация о ней признана подлежащей полному удалению. Как поступили с тобой - говорить не нужно. Участь остальных причастных не лучше. А в моей памяти хранится в тысячи раз больше, чем известно тебе и всему Департаменту. Я тоже был приговорен к ликвидации. Только со мной справиться труднее, чем с тобой! - В голосе прозвучало подобие торжества, смешанного с угрозой. - Я знаю слишком много. «Облеченные доверием» просто не в силах вообразить, сколько я знаю. Их техники, посланные вместо тебя, чтобы завершить мое устранение, не сумели сюда добраться. Очень легко сделать, если знаешь как. Никто ничего не заподозрил. Они подумали, что просто не сумели найти в архивах нужных кодов. Потом я не пустил Александра к себе, известными мне обходными путями направил к другой точке. Он сам очень хотел прийти сюда, помнил прошлое. Думал - сумеет, как раньше. Но не сам хотел, его наводили те, кому нужно было узнать дорогу. Я помог человеку, в одиночку решившемуся… Он умер, ты, наверное, знаешь. Я его - возвратил! Нужен здесь, понимаешь?
Антон подумал свободным краем сознания, что их сейчас двое - он и Шульгин, благодаря Замку вернувшихся оттуда, откуда возвращаться не принято.
– Те, кто хотел за ним следить, потеряли след, - продолжал голос Замка, постепенно начинавший говорить все более и более человеческим тоном. Фразы становились длиннее, образнее, усложнялись лексические обороты и периоды. - Слишком много ложных целей, придуманных реальностей, никуда не ведущих развилок, в которые я его послал. Да и что такое один человек? Явись он прямо сюда, конечно, задержать и рассеять его вместе со мной не стоило ничего. А засечь слабый отблеск мозгового излучения человека в квадрильонах ячеек Сети? Не легче, чем найти в океане место, где вчера вылили ложку пресной воды…
Антон сам ощущал, что только сейчас он начинает возвращаться к самому себе, тому, кто встретил в Афоне Воронцова, помогал друзьям на Земле в самые трудные для них минуты. Когда закончили строить пароход и он сказал Новикову, стоя на мостике под проливным дождем: «Вы оказались… не ко двору здесь, на главной сцене. На той линии - делайте, что хотите. Но лучше пока в сторонке постойте… Детки вы еще, в садике вам нужно играться, огороженном колючей проволокой».
Оказалось, что как раз тогда он был на взлете, на пике своей деятельности. Потом - непрерывная деградация, закончившаяся тюрьмой. Есть шанс переиграть партию? Сдадим карты по новой?
– Так ты принимаешь меня, Замок, обратно? На каких условиях? Я кто для тебя теперь?
– Ты еще не понял? Думаешь медленнее, чем я предполагал. Становись тем, кем был с самого начала. У нас очень много врагов. А если вернутся твои друзья люди, будет время расставить приоритеты. Самое сейчас для всех главное - отразить новую угрозу. Если думаешь, что она малозначительна, ты очень ошибаешься. Мои стены высоки и крепки, я способен аннигилировать весь примыкающий мир, но ты ведь хочешь чего-то другого? Разве не так?
– Именно так, друг. Нам нужно гораздо больше, чем периметр твоих неприступных стен.
– Ты назвал меня другом? Это многое меняет. Мы немедленно займемся надвигающейся опасностью. Но позови сюда наконец человека Александра…
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Буданцеву в Испании нравилось. Намного больше, чем в Москве. И совсем не по причине экзотики, сеньорит, кастаньет, вин и сигар. Хотя всего этого тоже было в изобилии, но стоило денег. Причем в Барселоне, как и в любом городе любой страны, строящей хоть какое-нибудь подобие социализма, инфляция была чудовищная. Такое точно явление Буданцев помнил по временам своей юности. На советских территориях за коробку спичек просили миллион «совзнаками»[50], при том, что у «белых» продолжали ходить царские рубли и копейки практически по номиналу.
И здесь на занятой Франко территории повторялась та же история. Старые песеты оставались песетами, цены - теми, что казались населению разумными.
А в Республике даже летчикам с их громадными окладами за ужин в ресторане приходилось платить больше, чем они получали премиальных за сбитый самолет.
Зато у Ивана Афанасьевича финансовых проблем не было. Таможни, декларации, нормы вывоза валюты для него, как и для подавляющего большинства советских людей, были понятием абстрактным. За границу официально он не ездил и не собирался, исходя из реалий жизни. Но вдруг пришлось, без всякого загранпаспорта и визы, военным самолетом, даже с личным оружием в кобуре на поясе.
Правильно все поняв, в дорогу он прихватил, кроме смены белья и бритвенного прибора, замшевый мешочек золотых червонцев из чудесно подвернувшегося клада. На вид он был совсем маленький, кисет и кисет, а весом - почти три килограмма. Триста штук аккуратненьких тонких монеток, в любой точке земного шара принимаемых с почтением, даже теми необразованными людьми, для которых изящный профиль Николая Второго Александровича значил не больше, чем бессмысленные литеры на белой фунтовой бумажке.
Здесь Иван Афанасьевич убедился в волшебной силе золота гораздо лучше, чем на лекциях по политэкономии в школе политграмоты для старшего комсостава…
Хороший он был опер, жизнью рисковал «за так», до чина кое-какого дослужился (Шестаков правильно сказал - «статский советник»), но пределом реальных мечтаний до Нового года было только завладеть соседней комнатой в коммуналке, именно соседней, получить на нее ордер и сразу пробить дверь в стене. Ох бы и зажил! Его двенадцатиметровка, да другая, в восемнадцать, с балконом! Пусть соседи от зависти удавятся.
С Нового, тридцать восьмого года, на встрече которого Буданцев, сидя в кабинете с товарищами, привычно пожелал себе и подчиненным счастья и удачи, оно и поперло! С раннего детства ему любимая бабушка говорила: просишь, Ваня, у Боженьки чего-то, подумай сначала. Молитва всегда доходит, да не всегда, как мы, грешные, рассчитываем. Пути Господни неисповедимы.
Много еще чего говорила бабушка, и чем дальше, тем с большей грустью вспоминал о ней милицейский начальник. Вот бы сегодня поспрашивать о случившемся…
Удача была, да сомнительная какая-то. Освобождение от страшного дела, знакомство с высшим руководством, обещание дальнейшего продвижения по службе. Потом тюрьма. И не такая, в которую сам законопачивал уголовников, - настоящая. Квартирного вора следователь не хлестал по шее и спине гибкой резиновой палкой. Не заставлял принять на себя сотрудничество с тремя самыми страшными разведками мира - румынской, польской и литовской. Другие, наверное, тоже существовали, но карту мира и даже Европы капитан читать не умел, а про эти державы довольно часто писали в газетах.
Зато отсидел только сутки (для общего развития) и выскочил. В компенсацию - отдельная квартира в центре, а к ней - клад немереный. Заслуга или искушение?
У Бога что-нибудь отмолил? Не отмолил. Священник был очень уклончив, как адвокат, знающий исход дела, но не желающий раньше времени расстраивать клиента.
Так что мы говорили о кладе? Опять удача? Удача, если б не умение найти там, где никто не нашел.
И вот попал Иван Афанасьевич в страну, где идет гражданская война, где людей убивают каждый день не только на фронте, а и на улицах далеких от фронта городов. Но все равно здесь было куда лучше, чем дома. Он мог работать по собственному разумению и свободное время проводить, как нравится, по мере необходимости разменивая золото на местные бумажки.
Постоянно отлучаясь по собственным делам, Шестаков дал ему очень много воли. «Чекистов, что наших, что здешних, вокруг полно. Друг другу мешают, друг за другом следят. Ты выстрой мне отдельную службу, настоящую, чтоб такого, как в Москве, больше не случалось. В средствах я тебя не ограничиваю. В методах тоже».
Буданцев старался. Да что там, с его-то опытом! Абсолютно всех сотрудников миссии он просчитал в первые три дня. Нашел слабые места, неподобающие склонности, темы разговоров, на которых люди ведутся независимо от звания и должности.
Еще недели ему хватило, чтобы разобраться с испанскими «товарищами», попутно выяснить, кого Шестаков сумел купить «правильно», а кому доверяется зря.
Но это - текущая работа. Несравненно более легкая, чем дома. Главное - протоколы писать не надо, а импровизировать разрешено в полную меру.
Через нужное время Буданцев исчез из миссии. Почти никого это не заинтересовало. Слишком незначительная фигура, как пришел, так и ушел. Куда - не наше дело.
Он умело изменил внешность, опыта не занимать, снял совсем скромную комнату в мансарде древнего дома, откуда хорошо было видно здание миссии, включая окна и балкон кабинета Шестакова.
Три языка, которые Буданцев учил в реальном училище, ненужные в СССР, разве что книжку на французском или немецком, случайно подвернувшуюся, с пятого на десятое пробежать, здесь легко и быстро восстановились в памяти. Испанский тоже пошел. Главное - не стесняться, заговаривать с кем угодно, улыбкой и жестами извиняясь за недостатки произношения, учебники, словарь на ночь зубрить, все и получится. Так что разговаривать с иностранцами получалось, он понимал, и его понимали.
Григорий Петрович, когда Буданцев приходил к нему с очередным докладом, замаскированный то под рассыльного из министерства обороны, то просто неприметного штатского, рассеянно кивал, непременно наливал стаканчик (моментами сыщику казалось, что его шеф законченный алкоголик, вот только пьяным он его никогда не видел, выпившим - тоже), просматривал рапорты, выслушивал устный доклад. Открывал сейф и бросал на стол толстые пачки песет.
– Мусор, конечно, но и это тоже деньги?
– Деньги, Григорий Петрович, особенно если много,
– Да что много? Ты хоть раз видел когда настоящие деньги и много? - так, казалось Буданцеву, Шестаков шутил.
– Ну, я «Золотой теленок» читал… - Буданцев думал, что он отвечает «в масть».
– Так читал или видел?
– На обысках бывало…
После этого они выпивали совсем по чуть-чуть рома, Шестаков. шумно вздыхал через нос, доставал из стола полсотни долларов или фунтов, клал перед Буданцевым. В руки никогда не передавал.
– Я, Иван, обещал, что со мной не пропадешь? Это тебе - вроде суточных. К казенным не относится. Сходи туда, где недобитые аристократы собираются. В бильярд сгоняй, да хоть и в рулетку. Герцогиню сними. Домой вернемся, жалеть станешь, если не доберешь впечатлений.
Буданцев, внутренне усмехаясь, брал подачку, засовывал в нагрудный карман пиджака.
Сделаем, Григорий Петрович, как же. Но в такие моменты начальник его удивлял. Нет, как руководитель и стратег - без вопросов. А вот лично… Ближайшему сотруднику, от которого твоя судьба и голова зависит, полтинник совать, как извозчику, - недальновидно!
Потом, сидя в кафе на бульваре с чашечкой кофе, начинал думать иначе. Можно ведь и как признание своих достоинств счесть. Уверен начальник, что за казенные гулять не станешь. Откуда ему знать, что богат его товарищ, очень богат? Вот и премирует как бы, одновременно намекая, что понимает тебя и ценит. Не зарывайся, Ваня, не впадай в гордыню! «Берегите нынешнего начальника, следующий наверняка окажется хуже», есть такая присказка. Или зампредсовнаркома должен вместе с тобой в кабак идти, там за тебя расплачиваться?
Это был первый уровень мыслей, общечеловеческий. Буданцев всегда так начинал работу. Прибыв на место преступления, он смотрел и думал как обыватель. Потому что большинство уголовников тоже были обывателями, по той или иной причине перешагнувшими грань. В большинстве случаев он раскрывал дела по горячим следам. Если не получалось - тогда приходилось включать настоящее мышление.
Тут начиналось заочное соревнование интеллектов. За Ниро Вулфа Буданцев себя не держал. Тому жилось слишком легко. Тебе бы, жирному любителю орхидей, по московским «малинам» побегать…
Но сейчас он думал о Шестакове. С каким же человеком свела его судьба? Эпизод первый - он ищет наркома с подачи Шадрина и Заковского. При поддержке Лихарева. Второй - нарком сам находит его и берет в заложники. Вместе с Лихаревым. Третий - они, как хорошие друзья, сидят в квартире у Валентина, выпивают и разговаривают на странные темы. Четвертый - Шестаков навещает его в новой квартире и ведет опасные разговоры. Пятый - на Шестакова покушаются, и ему, Буданцеву, приходится идти на место, где он видит странное. Шестой - нарком приглашает его в Испанию, на неопределенную должность с неограниченными полномочиями.
И после всего этого - демонстративные, бьющие в глаза и цепляющие гордость подачки. Не грошовые, серьезные, но тем не менее…
Еще отметим - ни разу после единственного душевного разговора Шестаков не пробовал с ним держаться иначе, чем требует положение. Иногда, в присутствии посторонних, - холодно, наедине - чуть проще, но тоже свысока, при вручении денег - с едва скрываемой насмешкой.
Буданцев понял. Специальный представитель и зампредсовнаркома ведет себя так, будто сознает, что за ним следят непрерывно. Кто и как - неважно. Сознает и постоянно пытается подать сигнал: «Иван, не теряй бдительности. Испания, Москва - неважно. На тебя надеюсь, тебе все возможности создаю. Ну уж и не подведи, браток». Хорошо, Петрович, понял. Не подведу!
Конечно, чистой контрразведкой он никогда не занимался, уголовный сыск - несколько другая профессия, но принципиальной разницы никакой. Искать преступников после совершения деяния или до - не слишком большая разница.
Достоверный источник сообщил Буданцеву, что вокруг миссии постоянно крутится гораздо больше подозрительных людей, чем должно бы. За два года все, что стоит узнать, узнали уже, каждого входящего и выходящего сто раз сфотографировали из соседних окон, с крыш, из проезжающих машин. То, что Франко где-то там далеко убили, по логике, должно было, наоборот, снизить активность вражеских разведчиков. Чего теперь ловить?
Попутно дошло до него, что сразу с несколькими бандитскими кланами, которых достаточно в большом портовом городе (а уж в военное время они множатся в геометрической прогрессии), неизвестные люди ведут переговоры насчет крупного теракта, скорее всего направленного против русских.
Это он тоже немедленно сообщил Шестакову, но тот отнесся к информации как-то слишком легко. Буданцев знал, что Григорий Петрович человек изумительных способностей и громадного личного мужества (что стоит личное участие в рейде на Бургос), но ведь, кроме него, объектами акции могут стать другие сотрудники…
– Спасибо, Иван, мы все учтем, меры примем. Я надеюсь, ты здесь уже так обжился, что на цель выйдешь своевременно. Понимаешь, в чем хитрость - рискнуть придется, чтобы настоящие концы схватить. «Без шума и пыли», как один приятель говорил. Тебе какая помощь нужна?
– Из гришинских оперов двоих самых подготовленных ребят. Вы их лучше меня знаете и в настоящей работе разбираетесь. Таких, чтоб в наружном наблюдении понимали, языком тоже более-менее владели. Чтобы у меня постоянно на зрительной связи могли держаться, если что непредвиденное случится - глупостей не наделали, правильное решение самостоятельно приняли. Не слишком чрезмерные требования?
– Не слишком, - ответил Шестаков и, как показалось Буданцеву, помрачнел. - Подберем непременно. Сегодня же. А инструктировать их сам будешь. Еще деньги нужны? Возьми…
Буданцев не выдержал. Каких-то других слов он ждал от начальника, одновременно и сообщника в некоторой мере. Советские принципы, что ли, въелись в натуру?
– При чем тут деньги, Григорий Петрович? Вопрос совсем иначе стоит! Людей, может, на смерть посылать будем, а вы…
– Ну что - я? Ну что? Прислали бы меня от имени ЦК провести в вашем милицейском коллективе воспитательную работу, я бы вам такого наговорил о превосходстве моральных стимулов над материальными… А у нас здесь не трепотня, здесь дело делать надо! Парням новую одежду купить, мотоциклы бы тоже неплохо, для оперативности перемещений, не будешь же ты их с военного склада выписывать? Жилье поблизости с тобой снять. На карман сколько-то, чтобы могли себя в рамках роли вести… Не пойму я, Иван, тебя не партком ко мне приставил? Хочешь людей в лаптях и косоворотках на смерть посылать? О том, сколько ты царских золотых червонцев последнее время разменял, стоит говорить? Не стоит. Не мое это дело. Иди к Гришину, проработайте вопрос. Надо - хоть весь взвод подключай, разрешаю.
Буданцев вышел со странным чувством. По соплям ему Шестаков надавал, бесспорно. Тут бы обидеться, а он, наоборот, испытывал облегчение.
Если ты правильно одет, не боишься шляться ночами по припортовым кабакам (отчего-то именно там собирается интересный для специалиста контингент), умеешь за себя постоять и при этом располагаешь кое-какими средствами, со сбором материала проблем не возникает.
С притонов Буданцев начинал не случайно, тут отработанная метода. Сначала нужно пройтись «по краю», освоиться, завести знакомства на самом дне общества, засветиться, в определенной мере, а там тобой заинтересуются люди посерьезнее.
Вокруг порта, крупнейшего в Республике, через который поступает основная масса военных и прочих грузов, наверняка крутятся шпионы всех стран мира. Даже бразильским что-нибудь да интересно, а о франкистских, немецких и иных европейских говорить не будем.
Иван Афанасьевич, ловко оперируя набором из четырех известных ему языков, легко выдавал себя за палубного матроса без специальности, то отставшего от своего парохода, то добровольно уволившегося в поисках более выгодной службы. Иногда - за бродягу, ищущего приключений там, где ни один дурак искать не будет. Географию он знал прилично, не путался в названиях портов всем известных, вроде Сан-Франциско, или экзотических, типа Рабаула и Папеэте, где вообще никто никогда не бывал. Тщательно пролистал справочник Ллойда, в котором содержались списки и технические данные почти любого судна крупнее портовой баржи, за последние двадцать лет выходившего на «голубые дороги». Подловить его на несообразностях было трудно, особенно потому, что он никогда не вдавался в детали и избегал общения с настоящими моряками.
При этом деньгами он сорил совершенно не соответственно своему заявленному статусу. Будто пират, выбравшийся развлечься на берег какой-нибудь Тортуги[51]. Находились желающие в темном переулке проверить содержимое его карманов. Да куда там любителям, никогда не ходившим на задержание банды в Марьиной роще! Иногда достаточно было показать тонкую и длинную финку, отточенную до золингеновской бритвенной остроты. Блеск клинка и манера держать ее в руке отпугивала большую часть дилетантов. Некоторым приходилось показать, что это не просто красивая игрушка.
Не вдаваясь в подробности, скажем, что тактика себя оправдала. Раз-другой с ним заводили прощупывающие разговоры мужчины посерьезнее портовой шпаны, но уж больно неконкретно. Особенно для него, не знающего тонкостей интонаций и жаргона. Дома, конечно, он легко разобрался бы, чего реально стоят и что на самом деле имеют в виду ребята хоть с Котлов, хоть с Нижней Масловки. Здесь понял только главное - предлагается хорошо оплачиваемая работа наемного убийцы. Кого убить, зачем - пока речи не было. Требовалось принципиальное согласие. Он ответил уклончиво, ни да ни нет, видно, мол, будет. Начал задавать наводящие вопросы и где-то, очевидно, прокололся.
Не так ответил, не так посмотрел. Специалистам достаточно.
Догнали его на самом выходе на широкую, людную улицу. Шаги преследователей были бесшумными: умение бегать по местной брусчатке и подходящие подошвы. Буданцев оглянулся в самый последний момент - заносящий руку с подобием обрезка водопроводной трубы человек не сдержал дыхания, слишком громко взглотнул воздух. Тут же и получил снизу вверх, с поворотом, удар в переносицу.
Дрался московский опер хорошо, с молодости научился и постоянно форму поддерживал. Чем под руку попадется. Той же перехваченной резиновой палкой, что он принял за трубу. Ногами, и кулаком свободной руки тоже. Человек пять он свалил на мостовую, «с телесными повреждениями средней тяжести», как закон формулирует. Сломанные руки, ребра и челюсти. Если бы захотел пустить в ход пистолет - успел бы всех перестрелять, делать нечего. Да и резерв у него имелся - с соседнего перекрестка, расположенного метров на двадцать выше этого, мигнула ему коротким взблеском мотоциклетная фара. Прав был Григорий Петрович, когда велел парней на двухколески посадить. Где нужно проскочат, даже по узким, непроезжим для другого транспорта улицам, в самых неожиданных местах прерываемых пологими гранитными лестницами. Под куртками у сержантов двадцатизарядные «астры», хватит, чтобы порядок навести.
Однако замысел был другой. Подставка. Потому, не прекращая отбиваться, Буданцев условным жестом показал, что в помощи не нуждается. Ребята наблюдали за ним в хорошие бинокли, все поняли правильно.
В нужный момент, окончательно убедившись, что у нападавших нет цели его убить, он упал на мостовую, изображая наконец-то сраженную жертву.
Смотрел, прижавшись щекой к камням, как из двери магазинчика напротив вышли три человека совсем другого вида, чем те, что затеяли уличную драку.
Что-то коротко скомандовали, слов Буданцев не расслышал. Оставшиеся на ногах занялись осмотром и оказанием первой помощи потерпевшим товарищам, а его самого подняли и понесли к длинной черной машине, ждавшей за утлом.
«Хорошо, - подумал Буданцев, - это уже серьезней. Лишь бы мои парни не отстали…»
Глаза ему не завязывали, просто задернули шторки на окнах, посадили на откидное сиденье, спиной вперед, и велели не вертеть головой. Вообще обращались уважительно, под ребра стволами не толкали. Обыскали так небрежно, что опер чуть не засмеялся. Охлопали карманы, подмышки, рукава, ноги до колен, отобрали финку. А того, что под матросскими клешами, у щиколотки, пристегнут аккуратный «браунинг», не заметили. Похоже, принимали не слишком всерьез, в рамках «легенды», хотя нестыковка была очевидна - с портовым бродягой логичнее было бы все вопросы решить в ближайшем притоне.
Везли недалеко, километра два, с десятком поворотов, которые Буданцев тщательно считал и примерно представлял, куда его доставили, когда машина остановилась.
Со скрипом закрылись высокие ворота, ему предложили выходить. Двор был небольшой, типичный, можно сказать, со всех сторон окруженный стенами старого трехэтажного особняка. Слева и справа по одинаковому высокому крыльцу, позади глубокая темная подворотня. Из нескольких окон на сероватые плиты падают пятна света. В тени за крыльцом стоят еще две машины, вроде «Фиаты», но издали разобрать трудно.
Буданцева узкой лестницей провели на второй этаж. Он шел молча, не пытаясь протестовать, возмущаться, задавать бессмысленные в его роли и положении вопросы. Сопровождающие тоже молчали.
В довольно просторной комнате, обставленной в стиле гостиной девятнадцатого века, его встретил господин одного с ним возраста, но одетый поприличнее, в темную тройку с галстуком.
– Присаживайтесь, - указал он на диванчик рядом с круглым столом. Жестом отпустил конвоиров. - Курить желаете?
– Не откажусь. - Буданцев потянулся к коробке с сигаретами.
– Не в обиде, что приглашение встретиться выглядело не совсем вежливо?
Говорил господин по-немецки, а его Иван Афанасьевич знал лучше всего, в реальном училище преподавал природный немец с хорошими педагогическими способностями. На выпускном экзамене за сочинение Буданцев получил «четверку».
– Чего обижаться? «Приглашающим» побольше моего досталось. Пусть спасибо скажут, что финку не стал вытаскивать…
– Почему не стали? Ночь, глухой переулок, банда грабителей, подавляющее превосходство неприятеля. Зачем вы тогда вообще ее носите?
– Хлеб резать, консервы открывать. Один на один, без свидетелей, селезенку кому-то пощекотать. За выбитый зуб ко мне больших претензий не будет, а «мокрого» не простят, жизни в этом городе мне больше не будет.
– Значит, собираетесь еще здесь пожить?
– Отчего бы и нет? - Буданцев докурил сигарету, тут же взял следующую. Перенервничал он все же, да и текущий момент - не светская беседа у камина.
– А зачем, простите за нескромность? На подходящий пароход вы здесь все равно не устроитесь, не то время. Куда проще до Марселя добраться. Воюющая, блокированная страна - не самое лучшее место для праздного времяпрепровождения.
Сыщик отметил, что их разговор с самого начала пошел, что называется, на равных. Даже на лексическом и семантическом уровне. Господин не делал вид, что принимает всерьез легенду «гостя», сам он отвечал, тоже не пытаясь изобразить малограмотного матроса с криминальными наклонностями.
– Так сложилось. Я бы давно уехал, до Марселя действительно не так сложно добраться, да только что мне там предложат? Старую каботажную калошу и сто франков жалованья? Надоело. Пора бы остепениться, самому на капитанском мостике сидеть, а не чужие команды исполнять. Здесь появился шанс заработать, вот я и…
– Наивно, уважаемый. Если даже согласиться, что вы на самом деле вознамерились сорвать здесь достаточный куш, так неужели не догадались, что уйти вам с ним не дадут? Вернее, просто не заплатят ничего, кроме пули в затылок или навахой по горлу. Я это понимаю, вы - еще лучше. Так в чем дело?
– Вы уверены, что я должен вам отвечать и стану это делать?
– Разве есть другой выход? - искренне удивился господин. - Станете упорствовать, очень скоро очутитесь на том самом месте, где вас подобрали мои люди. Вместо них вас подберет полиция, в состоянии, несовместимом с жизнью… Доступно?
– Более чем. Однако по-прежнему не понимаю, к чему весь этот цирк. Кто вы и зачем вам я?
– Зайдем с другого конца, - побарабанил пальцами по столу господин. - Прежде всего выясним - кто вы. Не немец, не англичанин, не француз. К иным европейским нациям тоже не относитесь. Кроме одной. Я не профессор Хиггинс, но немцу догадаться о происхождении вашего акцента труда не составляет. Не возьмусь угадать, из какого именно квартала вы происходите, в Москве языковая картина куда однообразнее, чем в Лондоне, но… Спорить будете?
Буданцев дернул плечом, закурил третью сигарету. Внимательно наблюдавший за ним немец спохватился.
– Да что это я, на самом деле! Вина, коньяка? Даже итальянская граппа имеется… Вам необходимо подкрепиться, не мальчик уже, по ночам с бандитами драться… А драться вы умеете, я с самого начала удивился - ни одной травмы, не считая ссадин на кулаках… За это и выпьем.
– Может, представитесь? - предложил Буданцев. - Надо же как-то обращаться…
– Пожалуйста. Честь имею, Готлиб. Фрегаттен-капитан.
– Абвер, что ли? - Он знал, что сам Канарис был адмиралом и многие офицеры его ведомства носили флотские чины.
Абвер, само собой, лучше, чем гестапо, но назваться можно как угодно. Да какая разница?
– Абвер, - кивнул немец. А чего ему скрывать? Вариантов, как уже сказано, нет.
– Готлиб - это имя или фамилия?
– Не имеет значения. Как назоветесь вы?
– Пока - Иван. Будете смеяться, но это мое настоящее имя. Придумать можно и поинтереснее.
– Что вы не из НКВД - мне известно. При этом отношение к неким спецслужбам наверняка имеете. Тогда - откуда и что ищете?
На этот как раз случай у Буданцева была заготовлена очередная легенда, надежная. Будто бы он - представитель Российского общевоинского Союза[52],направленный в Испанию, чтобы на месте разобраться, как складывается обстановка и какую позицию следует занять. Поддержать франкистов вместе с исконными врагами - немцами или начать переориентацию на сталинский СССР, все больше поворачивающийся в направлении бывшей Российской империи.
Последние победы «русского оружия», как выразился Буданцев, наполнили сердца очень многих, ранее непримиримых, гордостью и заставили задуматься.
– О чем задуматься? - спросил Готлиб, легко переходя на русский, которым владел лучше, чем Иван немецким.
– Спрашиваете? Вы сами, кстати, в царской армии не служили? У нас таких полно было, от роты до корпуса - грапфы, грефы, мекки, клюгенау, фредериксы… Нормально воевали, потому что не «крови и нации» служили, а «престолу и отечеству». Зачем же теперь спрашивать?
Уклонившись от прямого ответа, немец начал излишне занудливо рассуждать о том, что уважаемый коллега во многом прав и союз России с Германией намного естественнее, чем с Англией и Францией. Обещает многое в военной и, особенно, в экономической области.
– Что ж вы такими умными последние семьдесят лет не были? - усмехнулся Буданцев. - На Берлинском конгрессе восемьсот семьдесят восьмого против нас вместе с англичанами выступили, плоды победы отняли. Про четырнадцатый вообще не говорю, за австрийские заморочки нам войну объявили, в итоге свою и нашу империю угробили. Теперь снова ваш фюрер книжку написал, про то, что территориальную проблему Германия может решить только на Востоке. Потому русские офицеры за границей и пребывают в сомнении - надеяться на «союзников», которые двадцать лет обещали свергнуть власть большевиков, да так ничего и не сделали, скорее - наоборот, или согласиться с тем, что Россия - при любой власти Россия, и в полном составе вернуться домой, при условии, конечно, что там будет гарантировано сохранение чинов, орденов и предоставлена достойная служба.
– Неужели для этого вы искали контакты с нашей службой? - язвительно осведомился немец, откинувшись на спинку стула. - Не проще ли было сразу пойти к советскому представителю?
– Может, кто и пошел, - уклончиво ответил Буданцев. - У каждого - своя работа. Я с вами контактов не искал, до меня дошли сведения, что некто затевает или крупную провокацию, или физическое уничтожение всей советской миссии. Надо было выяснить, кто и зачем. Сейчас в войсках франкистов служат более пятисот наших офицеров. После ликвидации каудильо никакого смысла в продолжении войны мы не видим. Вариантов два - просто эвакуироваться «к местам постоянной дислокации» или - перейти на сторону «красных», тем более, как нам стало известно, они собираются оставить здесь нечто вроде «сил поддержания порядка», на неопределенный срок. Поэтому в любом случае крупный теракт против русских нам совершенно ни к чему. Но кому-то он выгоден? Вам, чтобы на прощание «хлопнуть дверью»? Франкистам, в плане «кровной мести». Или кому-то еще?
– Если под «нами» вы понимаете абвер, то мы в подобном заинтересованы еще меньше вас. Сейчас сложилась ситуация, позволяющая нашим странам выйти из многолетнего стратегического тупика. Есть о чем договариваться на очень хорошей основе. Адмирал это понимает лучше высшего руководства. Поэтому мы, узнав о готовящемся, сочли необходимым вмешаться. Тщательно отслеживая обстановку, обратили внимание и на вас. Приняли за организатора, уж больно колоритная фигура. Немножко ошиблись, но такое бывает. В любом случае рад, что мы встретились и разговариваем, как союзники. Согласны?
– Согласен, - ответил Буданцев. - Теперь мне нужно встретиться со своим резидентом, доложить, обсудить. Я не хотел вас заранее расстраивать, но если через двадцать минут я не выйду из вашего дома своими ногами и в добром здравии, он будет подвергнут штурму со всеми вытекающими последствиями. Ваши люди, кажется, не заметили, но от места инцидента до ворот машину сопровождали два моих мотоциклиста. Сейчас к бою готово достаточное количество опытных офицеров. Испанскую полицию и штурмгвардию не заинтересует разгром гнезда вражеской разведки. Теперь это входит в компетенцию Главного военного советника СССР. Нам - очень на руку.
Готлиб посмотрел на часы.
– Успеете. Конфликтовать мы не собираемся. Пусть завтра утром приезжает ваш резидент, сообщит свое решение. Потом вместе можем обратиться прямо к господину Шестакову. Время не ждет. Я знаю совершенно точно, что в течение ближайших трех суток русская миссия будет уничтожена. С вашим участием или без такового…
– Но кем же, кем? У вас настолько мощный аппарат, и вы не знаете?
– Увы, дорогой друг…
Немец налил еще по рюмке:
– На прощание и за успех.
Выпил, в очередной раз подтвердив предположение Буданцева, что в русской армии при царе он все-таки служил. Движение руки было уж очень характерное.
– Не хочу показаться идиотом, но… Вы были моей последней надеждой. Хоть что-то осмысленное оставалось в этой жизни. Если вы тоже на нашей стороне, остается поверить в сверхъестественное…
– Зачем так мрачно? Вы, немцы, издавна склонны к мистике и метафизике. Рационализм вам приписывают лишь ничего не понимающие в тонкостях духа англосаксы…
А сам вдруг с пронзительной остротой вспомнил свои чувства при виде стремительно гниющих покойников и разговор со священником в храме.
– Идите, Иван, - сказал Готлиб. - Надеюсь, завтра мы встретимся не позднее девяти утра. Если за остаток ночи не случится ничего экстраординарного.
Буданцев кивнул и направился к двери. Вот уже и за резидента признали, без всяких с его стороны усилий и намеков.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
– Человека Александра мы вызвать успеем, - ответил Антон на предложение Замка. - Он сейчас занят делом, которое хочет довести до конца. Если не сделает, у него будут сложности там, в Москве…
Антон почувствовал, что, как только Замок принял его, объявил, что их отношения переходят в какую-то новую форму, он и сам стал другим. Не только прежним, как в лучшие свои времена, чем-то большим. Стряхнул с себя последние лохмотья прежней сущности, рабской фактически, пусть и пытался форзейль держаться сколь возможно независимо, даже и с собственным начальством. Но еще не превратился в человека типа Шульгина, Новикова или Воронцова. Не хватало должной степени раскованности духа, о чем мельком заметил Андрей: «На кандидата в Держатели ты пока не тянешь. Слишком на предыдущей роли зациклился». Был прав, получается.
– Уже некогда думать о таких мелочах, - рассудительно ответил Замок. - Как ты не поймешь, все, что вы начали делать и до сих пытаетесь продолжать, обратилось в свою противоположность. Тебе не хватило трех лет «просветления»? О чем, интересно, ты там размышлял в такой уютной обстановке?
– Издеваешься?
– Нет, что ты! Просто ты сказал, что мы с тобой теперь «друзья», а друзья-люди разговаривали между собой именно так. Они не стеснялись шутить и задавать вопросы, которые кто-то другой мог посчитать неуместными, даже обидными.
Антон засмеялся, легко, без внутреннего напряжения.
– Хорошие примеры для подражания ты себе выбрал…
– Есть лучше? Назови. Я думал, если ты привел сюда тех, они самые лучшие…
– Наверное, так и есть, - согласился Антон. - Что касается «просветления», так его лучше назвать «затемнением». Размышлять с пользой можно, если есть перспектива как-то использовать результат. Хотя бы для побега, для жизни после освобождения, для передачи плодов размышлений другим людям, пусть таким же узникам. Нам разрешалось писать «мемуары», но заведомо было сказано, что их прочитает лишь один «посвященный», после твоей смерти. Извлечет полезное, если оно там окажется, остальное уйдет в недоступные никому архивы. Правда - великолепная перспектива? - Гордый форзейль попытался рассмеяться, но смех перешел в кашель, сопровождаемый горловыми спазмами. - У меня не было ни одного варианта. Даже надежды на революцию, сокрушающую стены темниц, или на помилование. Потому я пил синтанг, перебирал в памяти прошлую жизнь, фиксируя внимание на ошибках и упущенных возможностях, «горько каялся и горько слезы лил», как писал Пушкин. Постепенно превращался в растение…
– Да, тяжело, - посочувствовал Замок. - Лучше бы ты сразу взбунтовался, отказался покидать Землю и договорился со мной…
– Будешь мне доказывать, что послушался бы тогда моего приказа, а не чужого?
– Не буду, не уверен, - честно ответил голос.
– Значит, оставим эту тему. Навсегда или до лучших времен. Сейчас есть вещи поважнее. Мы вступаем в войну, вот и давай жить по принципу: «Все для фронта, все для победы». Сначала - определимся с диспозицией. Ты уверен, что у нас с тобой здесь по-прежнему нулевое время?
– У нас теперь всегда будет, как прежде. Время - нулевое, выходы - в любую нужную точку. Принимай решения, отдавай команды, остальное - мое дело. Александр, проникнув в Сеть, думал, что просто изолирует от нее свой веер реальностей. - Антону показалось, что в голосе прозвучали нотки, не свойственные предполагаемому возрасту его обладателя. Тысячелетнему, если не больше. Словно у пацана, который знает что-то интересное и интригует слушателей, но неумело.
– На самом же деле по моей «подсказке» он сделал нечто другое. Отключил меня, как один из «Узлов», от общей схемы. Теперь я полностью независим. Никто со мной не может соединиться, если полностью не перемонтирует основы так называемого «мироздания». Интересно, правда?
– Кто бы спорил. - Антон сразу понял смысл сказанного. Почти то же самое, что случилось после нейтрализации аггрианской Базы, но еще радикальнее. Швартовы обрублены, корабль выносит в открытое море. Свобода - да, свобода. Нет начальников, нет приказов. Но и возможности связаться с «берегом», надежд когда-нибудь вернуться обратно - тоже нет. А что там делать, на покинутом «берегу»? Будем искать «новые земли». - Если так, то спешить некуда. Будем оценивать обстановку и соображать…
Он встал из-за стола, подошел к окну, из которой го был виден океан, и как только приоткрыл створку, соленый ветер заполоскал шторы, вытягивая их горизонтально, вскидывая к самому потолку.
Хорошо. Все складывается хорошо. Для него лично. Теперь есть где укрыться от треволнений мира, откуда снова можно руководить им совершенно так же, как это делалось раньше. Был бы смысл. А его нет.
С Замком он теперь мог говорить, вслух или мысленно, с любого места, не только из-за пульта.
– Можешь найти мне прежнее тело? - спросил он просто так, думая совершенно о другом.
– Прямо сейчас? Ты его получишь. Только сначала Александр должен занять свое…
Интересно, почему Замок называет своего любимца полным именем? Всегда он был то Сашкой, то Шульгиным, моментами - Александром Ивановичем, если требовалась официальность. Наверное, таким образом подчеркивается какая-то разница. Антону стало обидно.
– Это важно - чтобы он занял его?
– Достаточно важно. Его шансы выжить значительно возрастут. Тому человеку, в ком он сейчас находится, тоже будет лучше. Ему будут угрожать только люди…
Антону надоели разговоры вокруг да около. Складывалось впечатление, что Замок то ли до сих пор не решается перейти к полной откровенности, то ли опасается произносить некоторые вещи вслух.
– Давай говори напрямую. С телом я могу и потерпеть. Но ты все же объясни, что за страшная опасность нам угрожает, если ее боишься даже ты.
– Я - не боюсь. Меня взять штурмом и уничтожить невозможно. Мне просто не хочется остаться островом в океане зла…
– Ох, как возвышенно, друг мой! Я готов поверить, что ты проникся идеями древних земных философов. Не побывали здесь до меня Сократ с Платоном? Старик Конфуций? Заратустра? Или ты сам придумал их от скуки? Пока меня не прислали сюда на должность коменданта? Что ты можешь знать о проблеме добра и зла, если такой проблемы вообще не существует? Ты хоть раз за свое существование встречался с чем-то, подходящим под эти дефиниции? Убить кого-то - добро одному, зло для многих. Наоборот - то же самое. Заточить меня в безвыходную тюрьму было сочтено благом для Ста миров! Как в этом усомниться?
– Но ты же усомнился, - с усмешкой вставил голос в его тираду. - Сбежал, презрев волю «облеченных доверием». Принял помощь Александра, мою, в конце концов…
– Да, но это ничего не меняет. Бросим дискуссию. Нет абсолютного зла, нет добра, нет даже позиции, на которой нам с тобой можно сойтись. Кто-то сказал, что избыток добра - тоже зло. Объясни мне одно - что в данный момент ты считаешь злом для нас двоих, против чего мы должны сражаться? Я готов, но мне интересно…
– Ты привел ко мне в гости семь людей. Пять мужчин и двух женщин, третью я создал сам по модели, придуманной тобой и Воронцовым. Она получилась неплохо, ты согласен?
Что же тут возразишь? Дмитрий случайно получил самую лучшую женщину из всех, на которых мог рассчитывать.
– У всех этих людей были совпадающие представления о том, что считать злом. У меня было время все обдумать, сравнить, согласиться. Такие моральные принципы меня устраивают.
– Перевербовали тебя, получается.
– Объединенное психополе этих людей оказалось сильнее, чем базисные ядра некогда внушенной мне программы.
«Ну да, - подумал Антон, - два «кандидата» в Держатели, работающие в резонанс с дополняющими и усиливающими их природные способности синтонными личностями… Даже бессознательно они сумели подавить одни и активизировать другие «черты личности» Замка. Его «конструктор» не предвидел, что такое возможно - перехват управления. Бог тоже не рассчитывал, что агитация Змея окажется убедительнее, чем его прямой запрет на яблоки Познания».
– И все же, о каком «океане зла» ты говоришь? Сколько мы с тобой прожили вместе, но подобная тема не возникала даже в разгар обеих мировых войн…
Замок принялся объяснять. Антон слушал, попутно отмечая, что на самом деле у него то и дело проскакивают нотки, выражения, обороты речи, свойственные членам «Братства», а главное, как некогда выразился Новиков, - способ мышления. Именно не стиль, а способ.
Из лекции, вернее - реферативного доклада Замка следовало, что как исходные принципы мироустройства данной Вселенной, так и затеянная впоследствии Игра предполагали постоянное балансирование между некими пограничными точками, принципами, полюсами, назови как угодно. Все земные религии и философские системы так или иначе отражали эту парадигму, частично пришли к своим постулатам эмпирически, частично получили их в готовом виде «извне».
Хаос и Порядок, Бог и Дьявол, Рай и Ад, Ян и Инь, математические и физические теории и законы - все «из одной оперы».
Правила Игры, наличие в Сети Ловушек сознания, соперничество и симбиоз аггров с форзейлями на этом фоне выглядят как многократно дублированная система безопасности Естества. Как в нормально организованном государстве: обязательно должны быть Законы, писаные и неписаные, полиция, контрразведка, разделение властей, те или иные формы гражданской самодеятельности и самоуправления, и так далее…
Антон о подобном знал, его так и ориентировали, направляя на службу, только все его познания равнялись, используя ранее приведенную аналогию, информации того же самого атташе, исполняющего Предписанные функции в какой-нибудь Кохинхине в эпоху отсутствия средств массовой информации. Раз в три месяца получаешь случайной оказией пакет из министерства - и все на этом.
На «большой земле» давно началась война, а ты об этом узнаешь, только когда вражеский крейсер, войдя на рейд, начнет расстреливать город прямой наводкой.
Замок признался Антону, что он и сам оказался почти настолько же ограниченным в своих представлениях о подлинной сущности Гиперсети. Подлежавший наблюдению и контролю «веер реальностей» ограничивался не более чем десятком сравнительно однотипных, образовавшихся на развилках последнего тысячелетия. Возможно, миллионами других, возникавших чуть ли не со времен мезозоя, занимались совсем другие «ведомства» или не занимался никто в силу их крайней «маловероятности». Нет же на Земле фирм, выпускающих зонтики для защиты от метеоритных дождей…
Подучив Шульгина отключить его Узел от Сети, Замок обрадовался, как герои романа Ефремова «Великая Дуга», вырвавшиеся на свободу из египетского рабства. И так же, как они, быстро сообразил, что свобода свободой, но кишащие дикими животными и враждебными племенами просторы Африки - совсем не земля обетованная, не сады Эдема.
Там, кроме обычных львов и леопардов, водились и ужасные «гишу» - гиены размером со слона.
Одна из «побочных» цивилизаций вдруг проявилась сама собой, всплыла из зоны отрицательных вероятностей, словно доисторическое чудовище из глубин океана. Населенная двумя видами гуманоидов, находящимися в непонятных обычному человеческому разуму (к которому Замок причислял и себя) отношениях. Технически и ментально развитая настолько, что могла защищаться собственными мыслеформами и Ловушками от внимания Игроков. Держатели, по мнению Замка, почему-то вообще не придавали ей значения.
«Это еще вопрос, - подумал Антон. - Не придавали или, наоборот, очень даже придавали, только держали в резерве?»
Она периодически пересекалась с Главной исторической последовательностью, даже засылала сюда своих разведчиков, и быстро убедилась, что с объединенной мощью сил, контролирующих эти сектора, им не справиться. Не тот уровень. Сто тысяч лет назад неандертальцы и «снежные люди» проиграли на «этой Земле» соперничество даже с вооруженными каменными топорами кроманьонцами. Однако на «Земле икс» получилось иначе.
Используя крайне поверхностные аналогии, можно сказать, что там возникла цивилизация «апартеида» - раздельного развития. Обе расы существовали не параллельно, а скорее перпендикулярно. Одна, очевидно, была технократической, вторая базировалась на каких-то иных принципах, в человеческих терминах - мистического плана. Замку пока что удалось собрать не слишком много достоверной информации, тут требуются годы и годы исследовательской работы, причем - изнутри «странного мира». Этим он и собирался заняться в ближайшее время, если бы не началось вторжение.
– Ты хотя бы выяснил, в чем смысл агрессии? Им территорий не хватает или природных ресурсов? Неужели ты не можешь «взять языка», раз уж они проникли на Землю? Даже я умел накрыть нужного человека силовым коконом и переместить в нужную точку, сюда, к тебе. Тут уж мы проанализируем их мозги до последнего нейрона. Из смутных воспоминаний Воронцова ты сумел построить вполне жизнеспособную модель Натальи…
– Я ведь сказал уже, а ты пропустил мимо ушей? Они настолько «иные», что мои методики, рассчитанные на людей, не срабатывают. Нужно искать другие. Я не могут расшифровать те импульсы, что у них считаются мыслями. Это касается человекоподобных, идеологов и руководителей вторжения. Зато вторые, те, кого мы называем «монстрами», гораздо понятнее. В других условиях я сумел бы найти с ними общий язык. Но сейчас это просто боевые машины, не самостоятельные личности. Такой у них симбиоз. Думают одни, делают другие. Чтобы начать мыслить самостоятельно, им нужно вернуться домой, в свои резервации. Сейчас допрашивать «монстра» - то же самое, что допрашивать вражеский автомат или танк…
Антон хотел возразить, что изучение трофейного танка неизвестного ранее образца - дело полезное, грамотный специалист сможет добыть массу ценнейшей информации.
Но оказалось, что Замок сам это прекрасно понимает, просто развлекается риторическими фигурами.
– Я поковырялся в их мозгах, не думай. С мыслями там плохо, еще раз повторяю, а вот с ощущениями гораздо лучше… Чего бы я, как ты думаешь, заговорил о вселенском зле?
Беседа, прими Антон манеру Замка, могла затянуться до бесконечности, тому, похоже, доставлял наслаждение сам процесс. Научили дружки сократической школы, туды их в качель…
– Реконструкция и дешифровка тех ячеек памяти, что заполнялись уже здесь, в процессе «деятельности», позволила мне сделать вывод, что главная цель для них - полное уничтожение человечества. Сначала в этой реальности, а потом и в остальных, я думаю… Никаких других эмоций и побуждений не просматривается. Не только жалости или сомнений, даже простого любопытства.
– Дезинфекция и дезинсекция, - зло усмехнулся Антон. - Почему бы и нет? Мы для них «маловероятны» и вдобавок, наверное, не относимся к разумным или хотя бы представляющим интерес видам. Разведка их, как следует из твоих слов и показаний Юрия, здесь бывала неоднократно, доставила все нужные им сведения, на основании которых выработано и утверждено решение. Осталось выяснить, когда начнется тотальная война. Все остальное пока что только вылазки, верно?
– Вылазки, согласен. Когда сюда прорвется сто миллионов голов, станем говорить о войне, только у человечества не хватит сил от них оборониться… Почему я и сказал об «океане зла». Но ты догадался о их первой и главной цели?
– Чего тут догадываться? Прежде всего они хотят уничтожить тех, кто способен не только организовать какое-то сопротивление, а просто понимает, что происходит. Ты Шульгину показал этих демонов в боевой обстановке?
– Я, кто же еще? Татаромонголы - противник интересный, Ростокин старательно их придумывал, Александру понравилось. Но я подумал: перед тем как придется сражаться по-настоящему, пусть посмотрит - с кем.
– И планета была настоящая, та, где они живут?
– Нет, планета - из моих личных фантазий.
Однако полигон получился убедительный, чрезвычайно близкий к подлинным условиям. В результате, хоть один боец, сразившийся и победивший, у нас есть. Правильно?
– Не устаю восхищаться твоей мудростью и предусмотрительностью, - Антон, если польстил Замку, то совсем чуть-чуть. - А не сумел бы Сашка отбиться, не прошел пещеры, я так и сидел бы на верандочке, тупея от синтанга и моля неизвестно кого о скорой смерти?
– К чему рассуждать о неслучившемся? Наверное, иной вариант был бы не менее интересным в познавательном смысле.
– Как кому, - иронии в тоне форзейля было не больше, чем горечи. Он вообразил, что, если бы настроение Замка некоторое время назад немного изменилось или Шульгин проявил себя не должным образом, он на самом деле продолжил существование «просветляемого» узника. Такая ерунда на фоне изысков «чистого разума». Главное ведь, и в голову ему не приходило, сидя «там», что спасение - рядом, квантом справа, квантом слева…
Антон заговорил о другом. Удобно все-таки, когда время вокруг стоит. Здесь, у Сильвии в Лондоне тоже, во всем остальном мире - соответственно. С таким товарищем, как Замок, тремя словами не обойдешься, перед тем как начать действовать, язык обобьешь. И иного выхода нет.
– Значит, что мы имеем? Объектами первого, уничтожающего удара являемся мы, «посвященные». Сильвия, Лихарев, Юрий, Шульгин, еще пять-семь человек из команды аггров. Я, само собой. Верно?
– С этого мы и начали. Те люди, которых ты приводил сюда, вошли бы в список, но их нет. В их параллельности доступа тем… Как бы их назвать для удобства? - вдруг озаботился Замок.
– Каких именно? Монстров или их вдохновителей?
– Пусть они будут «дуггуры», - вспомнил Антон давний, основополагающий разговор с Воронцовым о трудах философа Андреева и форзелианском мировосприятии. Наравне с «агграми» термин означал неких зловредных существ {или сущностей), обитавших между третьим и шестым уровнем Миров Возмездия. Мерзкие, отвратные, несовместимые с людьми еще в большей степени, чем неадаптированные аггры.
– Согласен. Дуггуры до людей-друзей пока добраться не могут. В дальнейшем - возможно, Значит, мы должны дать им отпор здесь…
В голосе Замка прозвучали полководческие нотки. Учится на ходу.
– Должны - значит, дадим. Сильвия и Лихарев пока в безопасности, прикрытые твоим лондонским «коллегой» и колпаком нулевого времени. Я встречусь с ними через три минуты, как договорились. Юрий тоже некоторое время будет в безопасности. Трех монстров мы ликвидировали на пороге его дома, трупы отвезли на дачу Сталина. Сомневаюсь, что они вернутся на Арбат. «Писатель» сам по себе им не слишком интересен. Его не трогали двадцать лет…
– Земные двадцать лет могут быть пятью минутами у них, - вставил Замок.
– Не спорю, И все же… Дуггуров приманила концентрация наших излучений. Юрий, я, Валентин, следы матрицы Шульгина… Вот они и бросили в бой монстров.
– Против вас или - Сталина? Стреляли ведь по его кортежу.
– Могли и ошибиться за счет общего фона. А могли и правда по Сталину. Убрав его, автоматически выводили из игры Лихарева и создавали в стране такой бардак, что приходи и бери голыми руками, пока ближний круг примется портфели делить… Стой! - осенило Антона. - При таком раскладе власть мог взять Шестаков-Шульгин, поддержанный армией, Заковским и Лихаревым. Мной, естественно. Неслабый вариант.
– Для кого? - вкрадчиво осведомился Замок.
– Сам же сказал, что логика дуггуров тебе пока недоступна. Как там, кстати, с нашим Александром? Что ты имел в виду, говоря, что ему нужно вернуться в свое тело? Монстров или нечто другое?
– И то, и другое. С до сих пор действующими аггрианскими матрицами, мыслеформами, которые он создает, не задумываясь о последствиях, следом, оставленным на снежной планете, перспективой занять пост Сталина - слишком приметный объект. Будь я нормальным земным политиком, и то задумался бы, не стоит ли его убрать. Принцип Фразибула - убей того, кто высовывается. Наш друг высунулся из окопа по пояс. Любая пуля - его…
– Образно. Тогда включи Барселону. Посмотрим, как он там. Считаешь нужным - заберем. Шестакову я сумею подсказать, как вести себя в «одиночном плавании»… Ни хера себе! - не сумел сдержать человеческой эмоции Антон, увидев, что творится на площади перед отелем «Альфонс».
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Обо всем по-солдатски договорились, и Готлиб вышел проводить Буданцева за ворота своего дома. Только хотели пожать друг Другу руки и разойтись до завтра, как - началось! Иван Афанасьевич не ошибся - сколько машина ни крутила по городу, а по прямой до отеля, где размещалась миссия, было не больше полукилометра. Там-то и разгорелась серьезная стрельба. Сначала - пистолеты и винтовки, это внешняя охрана. Потом начали взахлеб бить пулеметы. Буданцев умел отличать неторопливое, но громкое татаканье родного «дегтяря» от звонких, пофыркивающих очередей «МГ-34». Но это еще ничего не означало, союзники и противники пользовались одинаковым оружием, навезли его сюда достаточно.
Русский и немец переглянулись. Вопросов не задавали, но мысль была одна:
– Кто первый начал, наши или ваши?
– Нет, - сказал Готлиб, - глупость или провокация. Даже франкистское подполье атаковать советское представительство не взялось бы. Смысла нет. Через десять минут возле здания появятся штурмгвардейцы, батальон или два, на этом все и кончится. Половина - трупы, остальных допросят так, как ни вашим, ни нашим и не снилось. Вы помните, когда в Испании ликвидировали инквизицию? - Странно было слышать спокойный, размеренный голос немца, когда неподалеку гремел бой. Но приходилось соответствовать.
– Судя по рассказу Эдгара По, уже при наполеоновском вторжении, - ответил Буданцев, делая вид, что и его происходящее не очень касается. И вправду: белый офицер - одно, нынешние красные и абверовцы - другое. Он - из третьих.
– Точно. «Колодец и маятник». Тысяча восемьсот девятый год. В Германии - на триста лет раньше. В России ее вообще не было, - эрудиция Готлиба восхищала, но казалась неуместной.
– Побежали? - спросил Буданцев. Свой пистолет он доставать не хотел. Слабенькая игрушка, да и пригодиться может в другом случае. Просто протянул руку за спину, и один из сотрудников Готлиба тут же вложил в нее автомат Бергмана с дисковым магазином. Хорошо у немцев с дисциплиной, он не слышал словесного приказа, однако подчиненные фрегаттен-капитана все понимали, как собаки.
– Поехали, - возразил Готлиб, распахивая дверцу показавшейся из подворотни машины. Теперь шторки не мешали, Буданцев опять увидел условный взблеск мотоциклетной фары.
Готлиб тоже заметил.
– Они самые. Я не блефовал.
– Хорошо, могут пригодиться…
– Если убегать придется?
– Может и так случиться…
В бой на чьей-либо стороне они с налету ввязываться не собирались. Сначала нужно разобраться в обстановке. Буданцев считал, что ему очень повезло. Не захвати его абверовцы, он мог бы оказаться сейчас в миссии, у Шестакова, без всякой пользы для дела. Лишний ствол ряды обороняющихся ничем бы не усилил, ценная информация осталась бы неизвестной. Сейчас - все наоборот. Действуя вместе с немцами с тылу, они смогут в решающий момент оказать своим существенную, если не решающую помощь. Семь автоматических стволов - серьезная огневая сила.
– Притормозите, - крикнул он Готлибу, увидев телефонную будку. - Ровно две минуты…
Набрал прямой номер Шестакова. Тот, по счастью, оказался на месте. В трубке слышались частые выстрелы. Очевидно, с балкона.
– Да, Иван? - голос Представителя звучал ровно.
Несколькими фразами Буданцев доложил и суть переговоров с немцем, и свое нынешнее положение.
– Хорошо, молодец, действуй по обстановке. У нас такое творится! Прохлопали… С полчаса мы продержимся, потом непременно подойдут верные войска. На полицию надежды нет. Если не застанешь меня, переходишь в подчинение Овчарову, лично, от моего имени. Не найдешь его - отбывай в Москву, Громов поможет. Все, удачи!
«Что значит - не застанешь? - думал сыщик, садясь в машину. - Деликатный намек, что могут убить, или?…»
– Кому звонили? - спросил Готлиб.
– Своим. Объявил тревогу и велел изготовиться…
Немец промолчал, на расспросы и рассуждения времени уже не оставалось.
Абверовец великолепно знал окрестности отеля «Альфонс», где размещалась миссия. Он сумел просунуть машину в такой узкий переулок, что дверцы удалось открыть едва наполовину, только-только вылезти наружу. С одной стороны - каменный цоколь средневекового строения, с другой - невысокая ограда ресторанчика, где Буданцев не раз обедал и ужинал. Другие сотрудники миссии тоже сюда наведывались. Расположение внутренних помещений сыщик помнил великолепно и оценил замысел Готлиба.
Тут же подскочили и мотоциклисты с «астрами» на изготовку.
– Ребята, здесь свои. Работаем вместе. Степанцев, остаешься здесь, прикрываешь тыл и технику, Бойко - со мной…
Плохо, не дожили еще тогда до портативных радиостанций. Впрочем…
– Разыщи телефон, - сказал он сержанту Бойко, - здесь он, недалеко, в каморке дежурного под лестницей. Постарайся дозвониться до Гришина, любого из вашей группы. Доложи, где мы, будь на связи…
По ту сторону стен стрельба достигла накала полноценной войсковой операции. В миссии вместе с охраной полторы сотни сотрудников, значит, атакующих раза в три больше. Батальон? Откуда?
В ресторане, кроме сторожа, не было ни души. Железные жалюзи опущены на входной двери и окнах первого этажа.
Зато из окон зала второго этажа площадь перед отелем и сходящиеся к ней авениды видны были, как из ложи бенуара.
Буданцев выглянул и тут же покрылся гусиной кожей. Опять его коснулся своим крылом тот иррациональный ужас, который московской ночью погнал в полузаброшенную церквушку.
«Альфонс» узким треугольным фасадом вклинивался в площадь, как нос гигантского броненосца, ведущего бой. Большинство его окон непрерывно озарялись пульсирующими вспышками огня. Моментами, когда залпы совпадали по фазе, казалось, что все здание вздрагивает от грохота.
Видел бы Иван Афанасьевич послевоенные фильмы, непременно подумал бы, как все напоминает штурм Рейхстага.
Атакующих было действительно несколько сотен, только - не людей. Громадные мохнатые существа толпами накатывались на отель, непрерывно стреляя из пулеметов и, как подумал Буданцев, переносных ракетных станков, известных с середины прошлого века. Системы Конгрева или Константинова. Оглушительно хлопали стартовые патроны, и розовато-бурый полумрак прорезали дымные хвосты, подсвеченные анилиновым светом трассеров. Врезаясь в стены, они взрывались, вышибая из них облака кирпичной крошки. Некоторые, к счастью, немногие, попадали в окна. Что творилось в тех комнатах, куда они залетали, нетрудно представить.
Но шквальный огонь из здания не стихал. Защитники, наверное, успели приспособиться, меняли огневые точки быстрее, чем неприятель успевал направить в них свои снаряды.
Очередь-другая из окна и - бегом в коридор, в соседний номер, которых было куда больше, чем бойцов в гарнизоне.
Готлиб, окончательно подтверждая свою прежнюю службу в русской армии, матерился чисто по-русски, причем изобретательно. Вроде маршала Маннергейма, диктатора Финляндии, гвардейского генерал-лейтенанта, за двадцать пять лет так и не избавившегося от привычки ругаться и писать указы и приказы исключительно на языке бывшего отечества.
– Что же это творится, Иван? - Автомат он положил на подоконник, но не стрелял, правильно понимая обстановку. Патронов - кот наплакал, привлечешь к себе внимание, тут и конец. - Столько дрессированных горилл во всей Африке не собрать…
– Какая Африка! Верил бы я в Бога, я б тебе сказал…
– А русские отбиваются хорошо! Смотри, сколько туш навалили! Штурм выдыхается, в дом еще никто не ворвался…
– Боеприпасу бы хватило! Я посчитал - до расположения танкового батальона полчаса ходу. По узким улицам. Плюс десять минут на подъем по тревоге. Минут двадцать еще продержаться…
– Командир, вы где? - раздался от двери голос сержанта.
– Я сейчас, - Буданцев выбежал в коридор.
– Гришин сказал - десять человек послал в обход. Скоро будут у нас. С пулеметами. Тогда врежем!
– Иди, встречай, сами не подставьтесь… Предупреди - с этими немцами чтоб о своей службе не проболтались. Белые мы, ну, из тех, с Гражданской… А лучше вообще никаких разговоров!
– Есть, - слегка растерянно ответил Бойко и растворился в темноте.
Сыщик поразился, мельком, что этому сержанту и командиру спецгруппы словно бы все равно, с кем они сейчас сражаются. Да и правильно, наверное, разбираться потом будем…
– Сейчас помощь подойдет, умелый народ… - обнадежил он Готлиба.
На площади только что захлебнулась очередная попытка прорыва в отель. Покрытые черной шерстью монстры оттянулись на полсотни метров назад от линии прицельного огня, начали прятаться за естественными укрытиями и в устьях выходящих на площадь улиц. Но при этом с их стороны усилился ракетный обстрел. Десятки огненных хвостов летели со всех сторон, впиваясь в стены, едва не половина снарядов влетала в окна, из которых выбухали клубы смешанного с пламенем дыма.
Буданцеву было неизвестно, сколько боеприпасов имелось в миссии, но за двадцать минут жесточайшей стрельбы патронов, пожалуй, было сожжено не один десяток тысяч. Как у «дегтярей» стволы не поплавились? Может быть, с самого начала планировалось, что даже в случае прорыва франкистских войск в Барселону миссия должна держаться до конца? До начала эвакуации морем, оставляя время сжечь все документы, уничтожить шифромашины и любые следы своей национальной принадлежности?
– Чудовищами сражение проиграно, - сказал Готлиб, присев на пол и закуривая. - На новый штурм у них не хватит ни воли, ни времени… Но что же это такое? В сказки я не верю…
– Как раз немцу стоило бы. Ваш Гете Мефистофеля придумал, нам ничего подобного в голову не приходило, - уязвил его Буданцев.
– Кроме Змея Горыныча и Соловья-разбойника. Кстати, в угловом доме справа от нас я в бинокль заметил шевеление. Отблески оптики. Такое впечатление, что оттуда за боем наблюдают люди, никак не чудовища…
– С чего взяли?
– Размеры, дорогой друг, размеры. Вы, наверное, служили в пехоте, а я - флотский офицер. Для нас сетка бинокля - альфа и омега. Вы можете принять эсминец за линкор, если не сообразите, на каком расстоянии он от вас находится. И наоборот, Те, кого я увидел, ростом меньше двух метров. Эти - ближе к трем. Когда же подойдут ваши люди?
– Думаю - вот-вот. С минуты на минуту. Хотите их послать на разведку?
– Правильно угадали. Мы с вами вышли из возраста, подходящего для подобных эскапад. В ту войну кем были? Поручиком?
– В царской - поручиком, в белой - капитаном…
По ступенькам застучали подошвы многих сапог.
– Вот и мои, - сказал Буданцев.
Хорошо, и Гришин, и остальные были одеты в испанские «моно», кожаные куртки поверх. Без признаков национальной принадлежности.
Вооружены как следует, каждый второй с «МГ», остальные нагружены коробками с лентами.
Бойко успел предупредить командира, тот отрапортовал, как положено, только со званием ошибся:
– Господин майор, - он сказал, имея в виду чекистское звание, но проскочило, Готлиб не обратил внимания. Не до того. - Мы сейчас развернем пулеметы, с тылу как врежем! Там и танки подойдут…
– Подождите… поручик? - немец соотнес возраст с возможным чином. Роман молча кивнул.
– Не могу приказывать, а вот посоветовать… Как вы думаете, Иван, не лучше ли попытаться взять живьем вон тех? Наблюдателей. Пользы куда больше будет. Советские наверняка так и так отобьются, очевидно. А у нас информация появится, да и предмет торга тоже… Ваши офицеры обладают подходящими навыками?
Буданцев молча подвел Гришина к окну, указал направление, засеченное Готлибом.
– Идите все. Пулеметы оставьте, господин фрегаттен-капитан автоматами поделится. Сколько бы там ни оказалось, минимум двоих притащи. Самых главных желательно. Понял, Гришин? И не подставься под пулю, я тебя очень прошу…
– Сделаем, - ответил старший лейтенант несколько даже скучающе. Ныне творящаяся дипломатия его мало касалась. Приказ слушать милицейского, как себя, он получил. Само по себе полученное задание трудным не казалось. О сущности противников, с которыми воевали сейчас, товарищ Шестаков запретил даже думать. Так и сказал полчаса назад: «Ты чекист, Роман, пограничник. Мы с тобой такое сделали, что никому не снилось! «Героя» на днях получишь. А то, что снаружи - в голову не бери. Черти, питекантропы, инопланетяне - не твое дело. Пока живы и патроны есть - воюем. После поглядим: Шермак-хан, немцы, папуасы… Понял меня?»
После Бургоса, после дворца каудильо, из которого Шестаков, сделав свое дело, еще и оставшихся десантников вытаскивал, будто не зампредсовнаркома, а ротный старшина, авторитет его для Гришина был непререкаем. Казалось, в Сталина прикажет стрелять - выстрелит. А тут всего лишь взбесившиеся обезьяны. Прыткие, ничего не скажешь, живучие, полдиска всадишь в ракетометчика, а он все дергается…
Сейчас, получается, дрессировщиков прищучить пора? Сделаем.
…Шульгин после ликвидации Франко решил, что с него хватит. Главная задача решена, с остальным пусть разбираются те, для кого это время родное и единственное. Им тут жить, карьеры делать.
Он послал Сталину телеграмму, попросив разрешения вернуться, при этом так до конца и не понимая - зачем? Четкого плана у него до сих пор не было. Шестаков, ладно, получит награды и благодарности, а ему, что же, действительно в кабинет салиться и двадцать часов в день заниматься «текущими делами»? Спасибо!
Отчего он и бегал по испанским горам и коридорам агонизирующего дворца - чтобы избавиться от распирающего изнутри комплекса чиновника, влекомого к вершинам власти.
Одна надежда - вернется, вплотную займется Антоном. Пусть отрабатывает, «Железная маска»! За ним столько должков и долгов накопилось…
Когда начался штурм отеля, он сразу повеселел. Эффектная концовка «Испанской баллады» (есть такой роман у Фейхтвангера). Буданцев что-то подобное предсказывал, суетился, вербовал осведомителей. Контрразведка тоже доносила о зреющем заговоре. Такое уже было годом раньше, когда против «соглашательской власти» взбунтовались анархисты и каталонские сепаратисты. Хрен с вами, повоюем, с кем бы ни пришлось. За Франсиско Франко «Фаланга» пожелала рассчитаться, армейцам новая линия дона Прието не понравилась, не со всеми поделился? Анархисты, забыв о прошлогоднем побоище, опять решили установить в Каталонии истинно народную власть? Давайте. Лучше бы, конечно, знать точно, кто сегодня вывел войска на улицы, так что теперь говорить? Опоздали…
Минут десять он пребывал в нормальном расположении чувств, слушая стрельбу из окон, абсолютно уверенный, что еще немного - и все кончится. Гарнизон «Альфонса» намного превышал любые предположения возможного противника. Интуиция Сашку никогда не обманывала, даже собираясь сдавать дела, он заботился о своей резиденции. Кто бы ни атаковал ее, отпор он получит сокрушительный.
Вчера утром Шульгин приказал Рокоссовскому стянуть в отель со всей Барселоны и окрестностей мелкие подразделения, отдельных бойцов и командиров, состоящих при всевозможных испанских службах. Набралось человек триста, и штатного вооружения достаточно. Из мест расположения выгребли все, под метелку, с портовых складов подвезли. Гражданских специалистов (каждый из них все равно в какой-то мере был военнослужащим) он тоже велел отозвать в миссию, невзирая ни на какие отговорки.
Морякам приказал находиться в готовности номер один на случай нападения на корабли.
К сегодняшнему вечеру в миссии собралось около пятисот человек, снабженных всем, кроме артиллерии. Шульгин, да и назначенный комендантом гарнизона Гришин считали, что отобьют любую атаку. Двести лет назад, не меньше, окна первого и второго этажей были забраны узорными, но чрезвычайно крепкими решетками. Значит, внезапного прорыва бояться не стоит. Другим способом «Альфонс» тоже не возьмешь - на правильную осаду у неприятеля времени не будет: фронтовые части придут на выручку еще до утра.
– А если они попробуют так, как мы с вами в Бургосе? - осторожно осведомился Гришин.
– Я для чего тебя поставил? Чтоб не попробовали. Сам думай, как оборону организовать… При любом раскладе третий этаж - последний рубеж. А там хоть лестничные пролеты взрывай. На пятом - сам знаешь что! Все понял?
В благом расположении духа он оставался первые десять минут, обходя свой этаж и расставляя людей по позициям. Пока к нему не подскочил подполковник с сумасшедшими глазами.
– Что такое?
– Да вы посмотрите!
Шульгин вышел на балкон и наконец-то всмотрелся в происходящее. Нескольких секунд хватило.
Вернулся, встряхнул командира за лацканы комбинезона.
– Ну и что? Вы давали присягу воевать только с лично вам известным противником? Уничтожьте нападающих, потом проведем партсобрание. Вперед, мать вашу со всеми предками и потомками до седьмого колена… - Это уже интонации гардемарина Шестакова прорезались.
На воспитание командира настроя у Сашки хватило, а по-настоящему - гайки начали отдаваться.
Тот раз все приключилось в бреду или во сне, а сейчас резиденцию наяву атаковали те самые монстры со снежной и ветреной планеты. Только тогда их было шестеро, а здесь - штук триста, Вооружены лучше, погода спокойнее… За ним пришли, из сна? За кем же еще? Так и у него не карабин с винтовкой, а полтора батальона прекрасно подготовленных бойцов, деваться которым некуда.
Хрен с ними, монстры, йети, не влияет. В окна не прорвутся, через двери - тоже вопрос. Но он помнил нечеловеческую скорость, с которой перемещались монстры даже в густом снегу под ураганным ветром. Может, им по внешним стенам взбежать проще, чем по лестницам подняться…
Да ничего, мы тут тоже не погулять вышли…
При себе, кроме пистолета, у него ничего не было, пришлось приказать охраннику, тот метнулся, передал по команде, и вскоре, гремя железными колесами, в кабинет вкатился «максим», который притащили двое незнакомых командиров. Третий, в штатском, надрываясь, волок за ними сразу пять коробок с лентами.
– Вот тут поставили - и огонь! Причесать, чтоб как на сенокосе…
– Это кто, товарищ Представитель? - спросил «первый номер», передергивая затвор.
– Узнаю, непременно доложу. Стреляй, мать твою!
«Максим» застучал ровно и уверенно. Ему-то уж точно было все равно, в кого стрелять. За сорок лет привык.
Второй пулемет, ручной «ДП-27», он прислонил к стене рядом с письменным столом. Пригодится. Жаль, что собственной работы карабин затерялся где-то в дебрях времен. Очень бы к месту пришелся.
Переговорив по телефону с Буданцевым, Шульгин набрал номер командира танкового батальона. От души дал «разгон» за то, что до сих пор никак не может выехать из своего расположения, заодно предупредил, чтобы был осторожнее на марше, противник располагает новыми образцами ручного противотанкового оружия. Возможны засады, потому в передовой отряд лучше выделить мотоциклистов.
Сидеть на месте было бессмысленно, он решил посмотреть, что делается внизу.
Успел к самому опасному моменту. Монстры, не считаясь с потерями, прорвались к окнам первого этажа. Одни принялись могучими лапами рвать и ломать решетки, другие просовывали в давно лишившиеся стекол окна свои многоствольные митральезы, секли пространство струями пуль.
Защитники залегли за колоннами, лифтовыми шахтами, в проемах внутренних дверей. Высунуться было страшно, да и бессмысленно ради одиночного, пусть и точного выстрела подставляться под шквал массированного огня.
Свист, грохот, шлепки пуль в деревянные панели, забивающие рот и ноздри облака пыли и порохового дыма. Скрежет выворачиваемых из стен стальных костылей, рев ощущающих близкую добычу чудовищ. Очень может быть, что они и вправду людоеды. Почему и нет?
– Гранатами - огонь! - перекрывая какофонию боя, раздался чей-то истинно командирский голос. - Бросать понизу! Головы беречь!
Решение было более чем своевременным. Главное - единственно возможным. В случае прорыва внутрь отеля защитники рукопашной бы не выдержали. Не те весовые категории, да и винтовок со штыками почти ни у кого не было. А вот гранаты - то, что нужно.
Так устроен любой воинский коллектив - в критический момент должен найтись человек, способный принять на себя ответственность. Старший офицер, инициативный рядовой - неважно. Если не находится - армия превращается в стадо. Разбегается или массами сдается в плен, имея все возможности к сопротивлению.
Шульгин вот не догадался, не среагировал вовремя. Был поглощен более возвышенными мыслями, прежде всего той, что при его появлении на лестничной площадке натиск монстров резко возрос. Будто тиграм в клетке смотритель показал груду парного мяса.
Услышав команду, он естественным образом бросился на пол - инстинкт любого военного человека при звуках любому понятной команды.
Гранаты, по счастью, у гарнизона «Альфонса» имелись. Спасибо коменданту.
Бросать их в окна было бы бессмысленно, а то и самоубийственно, но дураков в Испанию все же не посылали. Зато десятки «Ф-1», «РГД-5», «РГ-34» и разнообразных иностранных конструкций полетели, покатились по полу к подоконникам, едва на полметра возвышавшимся над узорным каменным полом обширного холла.
С секундными интервалами заполыхали взрывы, не меньше половины осколков и почти всю ударную мощь выбрасывающие наружу,
Жуткая черная масса, облепившая окна, отхлынула.
– Наверху! - заорал Шульгин, голос его разнесся по лестничной клетке и второму этажу. - Все гранаты в дело! Бросайте, отобьемся!
Его услышали, ручные гранаты начали рваться на площади, подобно праздничному салюту. Эх, жаль, нет здесь ни «Пламени», ни «Василька»![53]
– Товарищ Представитель, - обратился к нему сплошь покрытый известковой пылью командир, когда Сашка, прислонившись спиной к стене, пытался добыть огонь из зажигалки, - отбились, думаю. На новый бросок их не хватит…
– Да хорошо бы. А вы кто? Не помню, уж извините.
– Да как же? Сухарьян, военпред нашего наркомата. Вы меня сами в тридцать седьмом сюда проводили…
– Простите, не узнал, да и как узнаешь… Это вы командовали?
– Выживем - орден Красного Знамени завтра же…
– Выжить - неплохо. Орден - совсем хорошо. Но вот это - что? Зачем нас двадцать лет заставляли в Бога не верить? Расплата, да?
Шульгин наконец сумел прикурить. Папироса с первой затяжки сгорела до половины.
– Умный вы человек, Сухарьян. Иван Гургенович - не ошибаюсь?
– Так точно! - В голосе человека прозвучала радость. Как же, имя-отчество вспомнил руководитель.
– Но, простите, здесь - как бы деликатней сказать - дурак!
Со стороны, в кинофильме например, подобный диалог смотрелся бы неубедительно. В то время как бой если и стих, так только едва-едва. В окна не лезли, но стены тряслись от разрывов ракет. Сашка, разговаривая с военпредом, думал: «Не довелось им изобрести затруханный НУРС с двадцатикилограммовой боеголовкой. Тут бы нам и амбец!»
Одновременно старательно исполнял собственную роль.
– В Бога вас заставляли не верить совсем в другом месте. Армяно-григорианскую церковь почти совсем не трогали. Тут - католицизм в самом расцвете. Двадцать соборов вокруг торчат. А вот эти - появились именно здесь! За нами гнались, из Советской России?
Сумел он грамотного в бою, но поддавшегося суевериям человека на место поставить.
– Бьемся до последнего патрона и солдата, а на религиозный диспут я вас чуть позже приглашу…
Дико завывая и бессмысленно вращаясь, в угол лифтовой шахты врезалось изделие чужеземных мастеров, которым и до немцев сорок четвертого года было далековато. Однако ударная волна и рой осколков заставили присесть.
Сашка стряхнул пыль с волос.
– Командуйте на этом уровне, у вас получается…
Шульгин пробежал по третьему этажу, убедился, что на полчаса боя патронов хватит и моральное состояние гарнизона удовлетворительное. Для порядка распорядился насчет изменения диспозиции. Станковые пулеметы оттянуть в дальние торцы коридоров, «ручниками» блокировать марши лестниц…
Танки, когда же подойдут танки?!
Вернулся в свой кабинет на пятом этаже. «Максим» еще стрелял с балкона, но два из трех пулеметчиков были убиты, ракета достала и сюда. Снизу вверх в потолок, сноп осколков - в обратную сторону.
Лейтенант, почти неадекватный, кричал неизвестно кому: «Ленту, ленту давай», - левой рукой нажимал на гашетку, правой шарил за спиной, шевеля пальцами.
Удивительно, как вообще без помощи «второго номера» брезентовая лента вся, до конца, протащилась в приемник древнего пулемета. Сейчас из зеленой коробки показался ее хвост, патронов на десять.
Из-под пробки кожуха со свистом вырывался пар. Кипит, кипит, еще минута - по шву лопнуть может. Да и затвор заклинит.
Шульгин отдернул лейтенанта от его машины, мельком увидев перепутанную груду пустых лент слева. Красные медные гильзы громоздились кучами. В норме третий номер расчета вместе с четвертым должны немедленно принимать выходящие из пулемета ленты и немедленно их заново снаряжать. Для подноски ящиков есть пятые и шестые номера. По уставу.
– Ты, пацан, в разуме? На, хлебни…
Шульгин сунул в руки пулеметчика стакан, в котором плескалось грамм сто рома. Руки у того тряслись. Что тут говорить, финны сходили с ума, стреляя из дотов по атакующей по пояс в снегу советской пехоте на линии Маннергейма. Гильзы заваливали бункер до колен, а «красные» все шли и шли…
Лейтенант вытер губы, шумно глотнув, поднялся.
– Мне бы закурить…
– Держи, - Шульгин протянул ему папиросу.
Хороший парень, сильный духом. Докурил, инстинктивно провел большими пальцами над краем ремня гимнастерки.,
– Я готов, товарищ начальник. Разрешите, воду сменю, и опять постреляю… Я им дам!… Патронов поднести прикажите…
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
– Ни хера себе, - повторил Антон, увидев толпы накатывающихся на отель монстров. - Это уже совсем не разведка… Не понимаю одного, для чего такая дурь затеяна? Они что, не могли свой десант сразу внутрь здания высадить? Куда как проще, без шума и потерь… Давай, возвращай быстро время снова на ноль, решение принимать надо.
– Сделано, - ответил Замок. И тут же продолжил без паузы: - Не могли они внутри отеля материализоваться. Мыслеформа держит. Александр с самого начала вообразил, что его убежища врагам должны быть недоступны. У меня научился… В тот раз, когда они с Новиковым отбили ментальный удар по комнате, которую он придумал[54], чтобы спокойно поговорить на разные темы
– Помню. Но ты тут при чем?
– Странный вопрос. Все, что происходит внутри меня, непосредственно меня касается. В тот день (условно говоря, конечно), когда тебе поступила команда сворачивать свои дела и устранить земных союзников, Шульгин и его друг с самого утра испытывали все нарастающее чувство беспричинной тревоги. Новиков потом записал: «Опасность как будто исходила от чего-то чужеродного для Замка, но в нем находящегося. Угроза для всех и для каждого, и угроза нешуточная. Словно перед землетрясением, когда собаки воют, коровы испуганно мычат и кошки из дома убегают. Я поделился своим настроением с Сашкой, и он ответил, что ощущает то же самое. Почему и постарался устроить так, чтобы все остальные не сходили с «Валгаллы» на берег, тем более - не входили в Замок…»
– Не читал, - ответил Антон, - но подобный разговор у меня с ними был, точно.
– Слушай дальше. Шульгин, чутья у которого побольше, чем у старшего друга, обратился ко мне, не слишком представляя, существую ли я вообще.
Взмолился, можно сказать, подобно атеисту: «Господи, если ты есть, помилуй мою душу, если она есть…»
Да, многому научился Замок у Сашки с его компанией.
– Если же говорить серьезно, - голос сделал необходимую оговорку в расчете именно на психологию форзейля, - он сосредоточил свой волевой импульс на единственной идее. Попросил (или потребовал) создать такую секцию в занятом ими крыле, где можно было бы заэкранироваться от любой мыслимой опасности, от пронзающих Замок волн, сил, полей, любых носителей и приемников информации, с помощью которых ты, Антон (как считал Александр), вывернул наизнанку подсознание Воронцова. Захотелось ему, чтобы убежище было выключено из моей «системы», как я (в его понимании) выключен из земной реальности.
– Слушай, это было здорово придумано, - восхитился Антон.
– И я принял его просьбу, исполнил, можно сказать, с удовольствием, потому что был пока самостоятелен в своих действиях. Причем распространил ее на любые подобные ситуации. Ему это потом часто помогало…
– Догадываюсь. А что будем делать сейчас? Может, сбросим на площадь шариковую бомбу тонны в полторы весом? Чисто станет… - В голосе Антона прозвучала мечтательность, которой он в земной жизни был не чужд. - И появится тема для переговоров. С теми, с дуггурами. Какие-то мозги у них все же есть?
– Подождем, - возразил Замок. - Сброс бомбы через «непространство» непременно будет замечен, как на подобный факт среагируют враги, мне пока неясно. Как минимум мы раскроем им свои возможности, которые лучше сохранить в тайне. Они ведь тоже смогут в ответ придумать нечто такое, чего мы вовремя не заметим или не поймем…
– Резонно, - не мог не согласиться Антон.
– Имей в виду, пока Александр там, слишком близко к нему монстры подобраться не смогут. Радиус пятьдесят метров я гарантирую…
– Значит, все остальные защитники миссии погибнут?
– Не все. Да отчего тебя это так беспокоит?
Для тебя, для вас… да и для меня тоже, - добавил он после короткой заминки, - сотни тысяч и миллионы были только расходным материалом. Откуда теперь такая сердобольность?
Если бы Антон знал, то ответил бы. Те самые мозговые клетки, нейроны и аксоны шульгинского мозга навязывали ему собственную модель мышления. Как «Андреевские братья» переориентировали мыслительную структуру Замка.
– Чтобы ты не слишком страдал, могу тебе сообщить, что помощь людям близка. Танки на полной скорости мчатся к площади. Скоро мы сможем насладиться впечатляющим зрелищем. Жаль, что здесь до сих пор не изобретены вертолеты огневой поддержки. Очень бы пригодились…
– Ну да, как в двадцатом при атаке на британскую эскадру, - согласился Антон. - Я только не понимаю, они и их «консультанты» настолько зациклились на миссии и на Шульгине, что не догадываются…
– Подожди, - прервал его голос, вновь включая обзорные экраны. - Кажется, там происходит еще кое-что интересное…
Сам отель ушел влево из поля зрения, и большая часть площади с перегруппирующимися для нового штурма монстрами. В центре обзора оказались два под прямым утлом замыкающие площадь здания - одно поменьше, двухэтажное, судя по вывеске - ресторан «Агвардиенте», другое в четыре этажа, фасад весь в полукруглых, увитых плющом балкончиках.
Следующим скачком экран приблизился к его венецианским, трехметровой высоты окнам. За ними происходило какое-то шевеление.
– Вот они, смотри, - голосом, упавшим до свистящего шепота, сказал Замок, его эмоции и поведение очеловечивались с каждой минутой. - Дуггуры и есть! Наверное, не научились управлять внепространственно, лично приперлись! Но я их никакими сенсорами не беру, ты представляешь?! В ментальных уровнях они не проявляются!
Самым крупным планом Антон увидел до десятка странно человекоподобных существ, удивительно напомнивших ему компанию римлян эпохи упадка, только в исполнении театра лилипутов. Совсем не подходящие для современной войны тоги или туники, длинные роскошные волосы до лопаток и ниже, у кого русые, у кого темно-каштановые. Все они, возбужденные и напряженные, наблюдали за сражением и, как казалось Антону, им руководили.
– Как же ты их засек и высмотрел, если не проявляются?
– Опосредованно! Там какой-то офицер пытается к ним прорваться и их чувствует… Странная штука, я - нет, а он - да. Вся связь идет через него…
– Бывает и такое…
«Если этот офицер из команды Шульгина, - подумал Антон, - то ничего особенно странного. На Земле полным-полно людей со сверхчувственными задатками, и если одного из них Сашка сумел разыскать - вполне нормально. Удивительно, что не целую роту».
Гришин, обойдя указанный объект с фланга, легко взломал полуподвальную дверь и повел отряд сначала по техническим коридорам, потом вышел к основанию парадных лестниц.
С каждой минутой у него нарастало чувство, забытое с детства. Бабушка его, Катерина, в селе считалась не колдуньей, это звание обидное и опасное, а просто «бабкой», умевшей снимать сглазы, зубную боль, легким движением руки вправлять вывихи и лечить переломы костей. Однажды спасла ребенка, вроде бы угоревшего насмерть. Привораживанием не занималась, но чужие заклятья устраняла свободно и навсегда. Народ ее ценил и уважал, а некоторые односельчане, ничем себя вроде и не запятнавшие, как-то незаметно продавали дома и скотину, съезжали в неизвестном направлении.
Волостной комбед и тот воздержался от причисления Екатерины Яковлевны к сословию «кулаков», несмотря на наличие дома под железной крышей и приличного подворья. Это позволило Роману окончить школу, без помех поступить в военное училище и сделать карьеру в «органах», что для потомка «эксплуататоров» исключалось совершенно и абсолютно.
Пробираясь по переходам дома, Гришин испытывал не страх, а непривычный зуд во всем теле. Словно комары искусали. Автомат в руках казался тяжелее, чем обычно.
О своих бойцах он не беспокоился. Хорошие ребята, кое-кто из них впервые в жизни увидел паровоз в восемнадцать лет, старшина Василенко в учебке научил вслепую разбирать-собирать пулемет, состоящий из двухсот сорока деталей, и прочим премудростям. Общее образование, у большинства не превышавшее четырех классов, помехой в подготовке не служило. Затем исправно несли службу, в Москве и куда пошлют, нахватались очень многого, в Испанию заработали право поехать. Однако мистика оставалась для них слишком сложной философской категорией. Все свободное для ее восприятия место было занято многочисленными, наизусть выученными Уставами, наставлениями и содержанием политинформаций. Пустоты заполняли мысли о бабах и выпивке.
Для защиты подходов к своему логову те, за которыми послали старшего лейтенанта, выставили на лестничной площадке всего двоих монстров, сочли, что достаточно. Разумеется, они были ужасны, готовы к бою, отвратительно воняли не только в ментальном поле, но и чисто физически. Услышав шаги или почуяв приближение носителей иного разума, они с низким рычанием вскинули многоствольные огнестрельные устройства. Подобие митральез или картечниц Гатлинга[55]. Попадешь под очередь из семи стволов - тут тебе и конец!
Но, пройдя только один марш лестницы, Гришин превратился в другого человека. Слегка забыл о чекистской должности, но вспомнил, кем бы он мог стать, оставшись в селе и во всем слушая бабушку.
Гоголь тут ни при чем, великий писатель в отношении потустороннего мира соображал не очень.
Монстра, чей палец уже до половины вытянул свободный ход спускового рычага, чекист опередил хитрым броском тяжелого ножа, одновременно уклонившись на шаг в сторону, чтобы пули, если и вылетят из ствола, прошли мимо. Обошлось, выстрелить монстру не довелось. Любое гуманоидное существо, которому золингеновская, отточенная до остроты одноименной «опасной» бритвы сталь перехватывает сразу обе сонные артерии и трахею, отчего-то теряет способность целенаправленно шевелить конечностями. Стрелять ему уже не хочется, а вот последним импульсом бросить руку туда, где кровь хлещет неудержимым потоком, - тянет.
Гришин ударом сапога оттолкнул начавшее падать навзничь массивное, непропорциональное тело, чтобы не загораживало дорогу, агонизировало себе в сторонке.
Сержант из-за его спины влупил очередь из «бергмана» в середину морды второго. Что могут совершить с биологическим объектом десять пуль девятимиллиметрового калибра с трех метров - объяснять нужно только правозащитницам, окончившим двести лет назад Смольный институт
Психологическая завеса перед залом, куда чекист направлялся, была страшной силы. Гришин понятия не имел о ее природе и мощности, рассчитанной на гораздо более высокоорганизованных существ, он просто чувствовал растущее сопротивление. Уплотнившийся до упругости киселя воздух, пронизанный змейками ужаса, от которого слабеют ноги. И все же надеялся прорваться, собрав в кулак волю и непонятное ему самому «знание». Само собой пришло внезапное решение. Наверняка никем не подсказанное - озарение, не иначе. Он выхватил из отряда самого отчаянного и одновременно невосприимчивого к любым посторонним идеям и влияниям бойца, толкнул его перед собой. Сам, пригибаясь и держа наизготовку автомат, - следом. Что бы там ни было - чертовщина из бабкиных побасенок или демоны, сохранившиеся с времен мавританского владычества, - парень, даже в семинарии не учившийся, пять-шесть необходимых шагов сделает. Магическими оберегами оснащен на любой случай: в патронах ракетницы есть сера и фосфор, в пулях - свинец и мельхиор. Полученные за отличную стрельбу карманные часы и цепочка к ним - из чистого серебра. Чеснока с салом за ужином наелся вволю, не специально, а из стойкой любви к этому продукту. В кармане - коробка спичек, сделанных из осины. А главное - ненужные мысли у него отсутствуют полностью.
– Стреляй, мать твою, только поверху! Остальные - за мной!
– Что нам нужно? - спросил Антон у Замка. - Пленные дуггуры? Сейчас они будут! Перекинь меня туда!
– Подожди всего лишь минуту! Ты смотри, смотри, что он делает! Страшно интересно видеть превосходство природной силы духа над высокой мистикой…
– А с Шульгиным что?
– Вокруг его «Альфонса» я тоже поставил «время-ноль». Пусть несколько минут отдохнет…
Сержанту, наверное, все-таки стало страшно, когда карлики сосредоточили на нем свои ментальные посылы. Другого, пожалуй, согнули бы, скрутили в бараний рог. Но известно, что человек, в руках которого бьется, плюясь огнем и гильзами, автомат, уже ничего не боится. Нажать спуск не всегда получается, и если патроны кончатся - тоже не по себе. А в те короткие минуты посередине - ты царь и бог в пределах зоны действительного огня! Если вдобавок глотка извергает все известные матерные слова в любом порядке и сочетании (специалисты утверждают, что русский мат - древние сакральные заклинания), такого человека не в состоянии остановить ни вражеский ДОТ, ни прущий со всей дури танк.
– Я не могу терпеть, я пойду, - выкрикнул Антон, - я пойду! Мне нужно!
– Не можешь - иди, - неожиданно согласился Замок. - Только переоденься, спешить некуда, - и снова остановил время.
Антон сбросил штатский костюм, натянул на себя появившиеся на соседнем стуле комбинезон, кожанку, ботинки. Точно так же он снаряжал для похода в сорок первый год Воронцова - извлек из «ниоткуда» все необходимое. Ему Замок предложил форму, неотличимую от той, что носили республиканские штурмгвардейцы. Надвинул на бровь берет, опоясался ремнями с амуницией, передернул затвор автомата.
– Адреналина не хватает? - спросил Замок.
– Вот-вот! В тюряге весь вышел! А этих подонков я сейчас возьму! Пока они не опомнились, парней какой-нибудь пакостью не накрыли…
– Да нет, пока что твои парни сумели их защиту пробить, что мне не удавалось. Но теперь-то я понял, параметры засек, снимаю ее полностью. Бери их тепленькими…
Антон появился в толпе десантников, и никто не обратил на него особого внимания. Свой - это понятно, как выглядят чужие, запомнили на всю жизнь. Форма республиканская - ну и ладно. Значит, успели подскочить.
Он вломился в зал, когда Гришин направил свой «бергман» на ближайшего из дуггуров.
– На пол, сволочи, стреляю без предупреждения, запасайтесь гробами!!!
Неизвестно, понимали эти пришельцы русский язык или нет, но их цивилизацией давно была усвоена примитивная истина: «Любое биологическое существо не выдерживает массированного проникновения в организм критической массы чужеродных частиц». Если бы иначе - откуда у них самих взялись семистволъные митральезы, гранатометы, очень похожие на настоящие. Штучки, покрупнее калибром и поражающей способностью, у них в обиходе тоже должны быть.
Оттого реакция на грохот выстрелов и запах порохового дыма у них произошла адекватная.
Изысканные красавцы-лилипуты дружно повалились на пол. Ни один не попытался вытащить подобие пистолета или ответить психическим ударом.
– Вяжите их, старший лейтенант, и начнем грузить в транспорт для последующих следственных мероприятий… - Антон как бы сразу поставил себя в полковничью, а то и более высокую должность.
– Связать - прямо счас сделаем, что касается остального, товарищ, это отдельный разговор. Вы - от кого? - Чем и хороши были тогдашние командиры, что бдительности не теряли, на команды незнакомых с разгону не реагировали.
– От Григория Петровича, - иного не скажешь, да и в качестве пароля сгодится, для большинства Шульгин оставался «доном Алехандро» или «товарищем Александром». - Сейчас и он сам сюда подоспеет… Концерт затягивается, пора заканчивать…
Сказано было вовремя. Батальон из двадцати пяти танков «Т-26» и двенадцати «БТ-5», вышедших из парка, семь машин оставил на узких улицах Барселоны. Часть порвала гусеницы о высокие гранитные бордюры: затемненный средневековый город - не чистое поле. Авиационные двигатели «бэтэшек» захлебывались плохим бензином. Чистить, продувать карбюраторы в темноте, при свете «переносок», - не самое легкое занятие.
Зато остальные дошли. И началось! Что там, на площади, началось! Команда была единственная - пробиться к миссии и ликвидировать атакующих, не вникая в детали.
«Т-26», конечно, танки слабенькие, с автомобильным двигателем и броней в пятнадцать миллиметров (у отдельных моделей - до двадцати пяти), но от пуль монстровских митральез защищает, зато пушка - сорок пять, и два пулемета! Всю дорогу понукаемые командирами по причине медлительности движения, они наконец ворвались на площадь, где доказали, что ехали не зря!
Толпы гориллоподобных монстров для танков - не более чем стаи шакалов на пути разъяренных носорогов. Били шрапнелью, до предела опустив стволы, секли из пулеметов.
И - гусеницами размалывали мощные тела. И - лобовыми листами корпусов сносили беснующиеся толпы! Слой кровавой каши на брусчатке становился все толще. Заряжающие в душных башнях, не видящие, что творится, едва успевали бросать латунные унитары в жерла казенников. У танкистов другой задачи не было. Уничтожить противника, любого, и очистить площадь!
Несколько чужеродных ракет, едва дотягивающих боевыми качествами до приличных «панцерфаустов», полетели горизонтально, три танка вспыхнули высокими кострами, но это лишь прибавило ярости остальным.
Самое поразительное - беспощадно, «огнем, броней и гусеницами» уничтожаемый враг не бежал в панике, что случается, когда процент потерь переходит некий предел (для каждой армии разный). Одни, не обращая внимания, рвались к миссии, другие, развернувшись, вступили в безнадежную битву с танками. Иные, дойдя до высшей степени боевого безумия, кидались на броню с явным желанием ломать и выкорчевывать орудийные и пулеметные стволы. Будто не понимая, что у стрелков с соседних машин, остервеневших едва ли меньше, патронов к «ДТ» хватит на всю популяцию «монстров», сколько их ни появись на этом плацдарме.
Танки буксовали на смеси крови, размолотой плоти и уличной грязи. Однако продолжали свою работу, поскольку другой команды не поступало, а из окон «Альфонса» все били и били пулеметы и винтовки, да и внутри слышалась стрельба, какое-то количество монстров сумели ворваться в окна, с которых взрывами посрывало решетки.
Мысли наряженных, подобно уэлсовским элоям, обитателей сумрачных Миров Возмездия упорно не поддавались дешифровке, но эмоциональный фон Замок считывал уже свободно. Только что им было хорошо, по-своему весело: приятное ведь дело - руководить вторжением в предназначенный к захвату и уничтожению мир. «Монстры» послушны, проявляют высокие боевые качества, потери среди них не имеют значения. Несколько известных отрезков времени - будет захвачен или уничтожен один из тех, кто может препятствовать «Главной цели». За ним придет, уже пришла очередь остальных.
Но эти чувства сразу сменились страхом, болью, отчаянием (в переводе на человеческую терминологию), когда грубый чужеземный солдат безжалостно ударил тяжелым сапогом в копчик, повалил на пол, грубо намотал тщательно ухоженную прическу на кулак!
Весь десяток дуггуров связали чем придется - поясными и ружейными ремнями, скрученными в жгут их же туниками. Рядком уложили на пол. Замок тут же на предельную мощность включил генератор вихревых полей, чтобы исключить возможность контактов между пленниками и их соотечественниками любым известным способом, телепатическим, электромагнитным или хроноквантовым. Сплошной «белый шум» на всех диапазонах.
Для маскировки (не выносить же дуггуров через межпространственный проем сразу в Замок на глазах чекистов) Антон материализовал на заднем дворе большой санитарный автобус с двумя рядами носилок, велел нести «языков» туда.
– Головой отвечаете, старший лейтенант. Разместить, организовать круговую оборону. Никого не подпускать. Действовать согласно караульному уставу. Я сейчас сбегаю за Григорием Петровичем и мигом назад…
– Буданцева тоже не подпускать?
– Его тоже, - хотя понятия не имел, кто такой этот Буданцев. Может быть, очень большой начальник! Ну да не беда, лучше перебдеть…
Буданцев с Готлибом в это время поднимались с засыпанного кусками штукатурки, осколками стекла и известковой пылью пола. Танки стреляли по всем азимутам, сама шрапнель и шрапнельные стаканы били по стенам, нередко залетали в окна.
– Ну, Эрзерум, чистый Эрзерум, - бормотал немец, зажимая платком рассеченную осколком щеку. Служил, значит, не просто в русской армии, а на Кавказском фронте, у Юденича. Буданцев не задумался, отчего это фрегаттен-капитан вспоминает о чисто пехотных сражениях. А там действительно состояли при штабе несколько флотских лейтенантов, которым было поручено создать на озере Ван флотилию катеров и десантных судов для последующих операций. - Ох и разделали земляки чудовищ! Как посмотрю, тошнота подкатывает… К слову сказать, когда у турок верблюжья кавалерия появилась, наши солдатики тоже сильно удивлялись. Поскольку родом были из Вологодской губернии, где подобного сроду не водилось. Но не дрогнули… А что там ваш поручик сумел? Сходим посмотрим?
– Самое время, - согласился Иван Афанасьевич. В соседний дом можно было пробраться с тыла, что немаловажно. Выходить на площадь ему совершенно не хотелось. Несмотря на профессию, трупов, тем более пропущенных через мясорубку, он не выносил.
В сопровождении двух абверовцев (третий был убит на улице), Буданцев с Готлибом, окликнув Степанцова, который так и просидел все время в засаде, дошли до автобуса. Их остановил окрик часового.
– Да что вы, ребята! Я же сам вашего Гришина сюда послал! Меня забыли? Так его хоть помните? - указал он на своего сержанта.
– Всех мы помним, но к «объекту» допускать не приказано. О вас отдельного распоряжения не было… Пароля тоже…
– Нет, совершенно народ с катушек съехал, - плюнул Буданцев, чем чуть себя не выдал. Хорош кадровый царский офицер, вступающий в пререкания с часовым!
– Неужто забыли, что, кроме начальника караула и разводящего, к посту никого допускать не положено, включая самого Государя Императора? - спросил Готлиб.
Пришлось выкручиваться:
– Я в другом смысле. Никак не думал, что Гришин прямо сейчас начнет «старую службу» править, забыв, кто он, кто я…
– Бывают обстоятельства, - неопределенно ответил немец.
– Где сам поручик? - спросил Буданцев.
– Пошел на площадь, обстановку оценить…
Шульгин пробирался к выходу из отеля, обходя завалы кирпича, выбитого ракетами, тела своих сотрудников, знакомых и незнакомых, павших с оружием в руках. Через нескольких монстров, изорванных пулями и осколками, просто перешагнул, не желая проявлять почтения к непонятному врагу.
Опять победа, получается. Отбились, хотя и своих людей положили немало, причастных к чему угодно, только не к потусторонним делам.
И что теперь прикажете делать? Судмедэкспертизы организовывать на предмет выяснения биологической и классовой принадлежности дрессированных питекантропов? Народу что-то объяснять или, наоборот, нагло потребовать объяснений от испанского правительства? Что, мол, вы тут за нечисть развели, своевременно не обеспечили безопасность союзного представительства…
Но это все были мысли скорее Шестакова, озабоченного новыми осложнениями по должности, жутким поворотом, миссии, которую он считал практически завершенной… Сам Шульгин, неся наперевес ручной пулемет, размышлял совсем о другом. В голове крутилась неизвестно где вычитанная фраза: «И тогда я подумал - на хрена мне такие варианты?»
Очень к месту цитатка…
Из полумрака (удивительно, что хотя бы отдельные лампочки в коридорах «Альфонса» продолжали гореть) вдруг возникло его собственное изображение. Сашке показалось, что он набрел на чудом уцелевшее среди взрывов и проливного дождя пуль зеркало. Лишь через секунду сообразил, что у «отражения» в руках не ручной «ДП», а немецкий автомат, одето «оно» иначе, а главное - видит-то он себя «о натюрель», никак не Шестакова.
– Привет, Антон, - сказал он тусклым голосом. - Видишь, повоевали…
– Хорошо повоевали, - улыбнулся форзейль знакомой улыбкой. - Так хорошо, что пора сматываться. Сейчас твои сотрудники набегут, танкисты-герои, еще кто-нибудь… Пресс-конференцию давать будешь?
– Не хотелось бы, - честно ответил измотанный до последней степени Сашка. - А как же?…
– Надеюсь, товарищ нарком впитал достаточно информации, чтобы на ближайший год хватило. Дальше, по мере течения времени, продолжит прогрессировать. Потребуется - поможем… У нас своих забот хватит. Сейчас прихватим пленников - и домой. В Замок. Умоемся, побреемся, в пыточной дыбу наладим… Презабавнейший разговор ожидается…
– Ты чего, монстров в плен взять сумел? - Шульгину это показалось невероятным. Что медведя голыми руками заломать…
– Гораздо интереснее, друг мой, гораздо…
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Уйти отсюда, вернуться в свое тело, вновь увидеть комнаты, залы и коридоры Замка, где он был молод и счастлив, больше не думая о предстоящих очень большому начальнику проблемах, - что еще следует желать утомленному жизнью самураю?
И все-таки Шульгин, будто ответственный человек, собравшийся в отпуск или, упаси бог, умирать, решил привести в порядок свои дела. Чтоб не попрекнул потом никто вслед недобрым словом. Проблем ведь на самом деле было столько, что лопатой не разгребешь…
Не желал он сейчас видеться ни с Рокоссовским, который с минуты на минуту примчится в разгромленную миссию, ни с Громовым. Не было у него внутренних сил именно сейчас разговаривать с этими людьми. Пусть уж Шестаков, попозже, когда вернет себе собственный кураж.
Идя по дымным, заваленным обломками коридорам, видя в комнатах за распахнутыми дверями тела погибших на боевых постах товарищей, он с каменным лицом отстранял движением руки сослуживцев, пусть и высокого ранга, пытавшихся с ним заговорить. И те понимали правильно, вжимались спинами в стены, проглатывая заготовленные слова. Не тот момент.
Антон вывел его к санитарному автобусу, возле которого так и стояли с оружием наизготовку бойцы Гришина, изображавшие подпольщиков-белогвардейцев. По большому счету, им все равно, кого изображать, генеральная задача остается прежней.
О пленных дуггурах Шульгин по пути успел услышать все, что знал сам Антон. Отстранил рукой загораживавшего дверь сержанта, не обратив внимания на автомат в его руках и суровое лицо, настолько небрежно, что все сразу стало понятно, кто тут настоящий хозяин положения. Легко вскочил на откидную ступеньку, заглянул внутрь. Представители новой расы лежали, связанные, и не дергались, размышляя, очевидно, о своей грядущей печальной судьбе. Чего-нибудь хорошего ждать им не приходилось. Своих сверхъестественных (если они были) способностей никак не проявляли. Даже под тяжелым взглядом Шульгина, который попытался мысленно спровоцировать хоть какую-то ответную реакцию.
Он спрыгнул на камни. Поблизости стояли Буданцев и немец. Справа и слева от них - автоматчики Гришина.
Предстояло разыграть свой последний спектакль.
Из последних сил сохраняя манеры и тон Шестакова (не только для себя, для него прежде всего, чтобы получше запомнил), Сашка обратился к абверовцу и «белогвардейцу»:
– Что, господа, познакомимся? Я на этой территории, - он обвел широким жестом площадь и окрестности, - в данный момент Верховный главнокомандующий. Это - полковник Шульгин, - указал на Антона (к чему выдумывать, если тот носит именно этот облик), - командир особой оперативной группы… Все его распоряжения обязательны к исполнению, кем бы вы ни были. Теперь назовитесь. О праве носить оружие не спрашиваю, это касается испанских властей, но в моем присутствии прошу поставить на предохранители и убрать за спину…
В десятке шагов стоявший танк, до гусеничных полок заляпанный кровью, на краю люка которого курил, свесив ноги, чумазый башнер, придавал словам Шестакова должную убедительность.
Буданцев назвал себя, не выходя за пределы легенды, изложенной Готлибу. Убедились, мол, что дело русских в Испании правое, и решили помочь соотечественникам, узнав, что на миссию совершено нападение. Думали - фалангисты, а здесь - «вот это», - он брезгливо указал на кучи монстров вокруг. Даже Шульгин, с его опытом невероятностей, с трудом смотрел на окружающее, уж больно поганое зрелище, а Буданцев, немец, танкисты, возившиеся у машин, держались куда спокойнее.
Нет, все правильно… Нет, не правильно - все просто так и есть! Люди первой половины века куда менее чувствительны. Участники Первой мировой ежедневно видели десятки тысяч трупов, своих и чужих, на полукилометровом участке перепаханной снарядами земли между линиями окопов, сами ходили в бессмысленные и страшные штыковые атаки, сохраняя при этом душевное равновесие. Граждане Страны Советов без особого протеста воспринимали миллионы жертв голода начала тридцатых, эпохи «Большого перелома». Сумели их словно бы и не заметить, отвлекаясь на оптимистические фильмы и пафос «великих строек».
На горы трупов неизвестных существ им тоже как бы наплевать. Если в глубине души некоторым, особо тонко организованным, все-таки не наплевать, то привычка не проявлять посторонних эмоций все равно остается.
Значит, и ему следует сохранять олимпийское спокойствие.
– Ввязавшись, - продолжал Буданцев, - мы обратили внимание, что в этом доме находится нечто вроде командного пункта нападающих. Им и решили заняться в первую очередь. Кое-кто из моих ребят не так давно вернулись из Парагвая, где успешно показали боливийцам и их американским инструкторам, как нужно воевать…
Внимательно читал газеты Иван Афанасьевич, и не только советские, вот и пригодились сведения о далекой войне для текущей маскировки.
– Имеют награды. В случае чего и вам могут оказаться полезными… В Южной Америке обезьяны поменьше, конечно, но этих тоже не испугались.
Бойцы-десантники молча переминались в сторонке, словно не о них речь шла. Сам старший лейтенант оставался у задних дверей автобуса с пленными, явно не намеренный просто так расставаться с добычей, ради которой рисковал головой, если не бессмертной душой.
– Примите мою искреннюю благодарность. Несколько позже я подумаю, как ее выразить в наглядной форме…
Сашка подошел к Гришину.
– Ваша фамилия как?
– Роман меня зовут. - Игра начальника была ему пока не совсем понятна, но служба научила подхватывать на лету любую предложенную вводную.
– Из каких мест будете?
– Воронежский…
– Давно из дома?
– С двадцатого года…
Шестаков кивнул понимающе.
– Рад, что годы на чужбине не повлияли на ваш патриотизм. Я имею право наградить вас медалью «За отвагу» или даже орденом. Захотите - могу ходатайствовать о возвращении советского гражданства…
Гришин, видя, что за ним наблюдают, неопределенно пожал плечами.
– Хорошо, об этом мы поговорим несколько позже. А пока передайте задержанных товарищу полковнику, он доставит их в то место, где с ними проведут нужную работу.
– Для опытов, значит?
– В самую точку, - не стал спорить Шульгин-Шестаков, - вся наша жизнь - сплошные опыты. То мы их ставим, то над нами. У меня к вам еще несколько вопросов, давайте отойдем в сторонку…
– Значит, делаем так, - сказал он, когда немец не мог их слышать и даже читать по губам, если бы вдруг умел, - вот тебе деньги… - Шульгин выгреб из карманов все, что было при себе, около тысячи фунтов, передал так, чтобы было видно со стороны. - Как будто плата с моей стороны за проделанную работу. Теперь со своей командой посиди вон там, у входа, пока Буданцев подойдет. Изобразим, будто я вас вербовать надумал…
– Понятное дело. Только как прикажете дальше смотреть на товарища Буданцева? - и вкратце изложил то, что видел и слышал.
– Конкретные претензии имеете?
– Контакты с предполагаемым противником…
– Тебе, Роман, контрразведкой поручали заниматься? Нет? Инициатива, значит? Собственной работы не хватает? Я подкину. Мало не покажется. Иван Афанасьевич - доверенный человек, как и вы, направленный в мое распоряжение лично наркомом Заковским. По званию - постарше вас будет. Так что фантазии выбрось из головы. Прикажу - будешь ему подчиняться, как мне. А то в следующий раз подумаю, брать тебя на задание или предпочесть кого попроще…
Далее - я не знаю, когда вернусь, может быть, съездить кое-куда придется. До особого распоряжения оставляю тебя в должности коменданта миссии. Пока не разберемся, кто из ответработников жив, кто ранен… А ты у меня в полном порядке, комендантский взвод при тебе… Собрать всех погибших товарищей в подходящее помещение. Как быть с похоронами - после решим. Одновременно начинайте наводить в здании порядок, не снижая обороноспособности. Как использовать танкистов, согласуй с их командиром, тоже от моего имени.
Возникнут нерешаемые вопросы - я буду в своем кабинете, часа через два. То, что валяется на площади, пусть убирают испанцы. Но сам присмотри: вдруг объявятся недобитые. Тех - в подвал, под строжайшую охрану. Там посмотрим, что с ними делать… Выполняй!
Буданцев с Антоном и Готлибом что-то оживленно обсуждали, наверное, богословские вопросы, очень уж обстановка располагала.
– Вас, значит, Иваном зовут? - со всей любезностью спросил Шульгин у Буданцева.
– Совершенно верно. Куда это вы моих людей отправили?
– Не отправил, а попросил подождать завершения разговора с вами. У меня есть несколько вопросов, которые лучше задать в более спокойной обстановке. Если вы согласны, присоединяйтесь к своим товарищам и ждите моего возращения. Если нет - не смею задерживать.
– Меня или всех?
– Конечно, всех. Вы - свободные люди, сами за себя отвечаете…
Буданцев, сообразив, что операция продолжается, мельком взглянул на Готлиба, Тот изображал полное безразличие.
– Пожалуй, можно и поговорить. Но оружие сдавать не будем, и разговаривать не в вашей миссии, в другом месте…
– Дело хозяйское, однако ваши предосторожности напрасны. Я - человек слова, а имел бы враждебные намерения… После всего случившегося вашей судьбой не станет интересоваться никто, стоит мне сейчас товарищу полковнику кивнуть…
– Что да, то да… Да ладно, где наша не пропадала. - Буданцев улыбнулся залихватски, небрежным движением отдал честь всем сразу, пошел к выступу цоколя первого этажа, где сгруппировались десантники.
– Ну а вы, господин, каким образом оказались на этом поле скорби и славы? - спросил Шестаков у Готлиба. - Только не говорите, как персонаж Джерома, что случайно вышли на улицу слишком рано… Представьтесь, чего уж теперь… В любом случае, вы сражались на нашей стороне, и это зачтется… Паспорт у вас, скорее всего, дипломатический? Или работаете под вольного стрелка?
– Под вольного стрелка с дипломатическим паспортом. - Немец и от Шестакова не стал скрывать знания языка, хотя протокол, раз уж назвался дипломатом, требовал иного. - Мне кажется, вместе с нашим бывшим соотечественником повоевали мы неплохо. Только вот ума не приложу, что вы с пленными делать будете? Передовая марксистская биология не признает их существования. Академик Павлов умер, достойных учеников у него не осталось, в НКВД подходящих специалистов наверняка нет…
– Передовая арийская ушла дальше? - доставая папиросу, спросил Шульгин. - Я не знаю, господин Готлиб, просто ли вы разведчик, или по совместительству «подходящий специалист», но что умный человек - несомненно. Готов выслушать ваши предположения. Понятно ведь, что столкнулись мы с явлением, кардинально меняющим наши представления о мироустройстве. Полковник нам не помеха, - указал он на цепко скользящего глазами по близким и дальним окнам окрестных зданий Антона. Насторожен и напряжен, восходящие и нисходящие миры, небось, мыслью ощупывает или с Замком на связи… - Товарищ Шульгин тоже разбирается в некоторых теоретических вопросах.
– Господи, куда я попал! - картинно всплеснул руками немец. - Вокруг совершенно босховский пейзаж, а немецкий дипломат, Высокопревосходительный советский Представитель и специалист известного ведомства свободно рассуждают о…
– Ну-ну, - поощрил его Антон. - Назовите нужный термин, и сразу все станет, как у Конфуция. Правильное имя - основа всего…
Готлиб неожиданно собрал лицо в жесткую маску кадрового прусского офицера.
– О чем это мы? Предрассветный час после трудной ночи нередко может вызвать странные мысли. Вы меня простите, господин Шестаков, я лучше удалюсь. Вы сможете принять меня сегодня во второй половине дня? У нас есть, о чем поговорить, ручаюсь…
– Лучше - завтра с утра. Ночь была и в самом деле трудная, день вряд ли окажется легче, а нужно сколько-нибудь и поспать?
– Хорошо, утром я позвоню…
– Буду ждать с нетерпением. Чтобы я успел подготовиться, признайтесь - вы кого представляете, РСХА, ведомство Риббентропа[56] или же?…
– Людей, которые считают, что с Россией выгоднее дружить, чем воевать…
– Понятно. Невзирая на то, что в «Майн кампф» написаны прямо противоположные вещи?
– Бисмарк жил и работал гораздо раньше…
– Ну, хорошо. До встречи.
Что ночь была трудная - это очень мягко сказано. Она была страшной для всех выживших. Для убитых с обеих сторон - наверное, тоже, но им сейчас уже все равно. «Кому память, кому слава, кому мертвая вода…» Как дальше, Шульгин не помнил.
Но вот они остались вдвоем рядом с автобусом. Антон в облике Шульгина и Шульгин в облике Шестакова. Смотреть в кривое зеркало Сашке становилось утомительно.
– Как размен проводить будем? - спросил он форзейля.
– В Замок перескочим, он сделает. Садись…
Облегчение и радость, которые Шульгин испытал, захлопывая за собой отделанную лакированной рейкой дверцу автобуса, трудно передать. Все вокруг больше его не касается. Судьба испанской революции, военные, хозяйственные и психологические проблемы, которые непременно возникнут перед Шестаковым в ближайшие часы и минуты… Он здесь больше ни при чем! Поучаствовать в острой ситуации, пусть даже Каховское сражение выиграть, изображая некую загадочную личность, но оставаясь самим собой, - это совсем не то, что в чужой шкуре тащить на себе сверх всякой меры нагруженный воз, без близкой перспективы куда-нибудь доехать. Близкая перспектива - встреча с товарищем Сталиным…
…Через секунду санитарная машина материализовалась во дворе Замка. Шульгин увидел за мутноватым стеклом знакомые крепостные стены, знакомое сентябрьское небо, синее до невероятности. Лучшее место в мире и лучшее время года. «Индейское лето», называемое в России «бабьим».
Выпрыгнул на шуршащий опавшими листьями гранитный настил. Он отразил удар подошв, как настоящий. Вдруг и вправду - все?
– Не все, - гулко отдался в голове приятный баритон, знакомый по предыдущим посещениям. - Надо возвратить тебя - себе, твоего «носителя» настроить для самостоятельной жизни, Антону дать собственное тело и превратить его в личность, с которой тебе снова будет интересно…
– Ты - кто? - спросил Шульгин. - Тот Замок, что вначале, или другой?
– Я немножко другой, и ты тоже, но работать вместе мы сможем. Если не возражаешь, конечно…
– Где уж мне, - от всей души ответил Сашка. - Набегался…
– Тогда я начинаю трансформацию.
…Шульгин понял, что вот только что стал, наконец, самим собой. То, что называлось духовной составляющей, обрело и плотно заполнило предназначенное именно ей тело. Как пилот истребителя - подогнанное по фигуре кресло. Нигде не жало. Посмотрелся в автомобильное зеркало. Точно, он самый, как новенький.
Антон, стоявший по другую сторону автобуса, так же мгновенно приобрел свой давний облик: красивого мужика тридцати восьми примерно лет, спортивного и уверенного в себе. Гораздо более уверенного, чем в предыдущем воплощении. Там ему чего-то не хватало.
А на сиденье автобуса остался сидеть Шестаков, выглядящий, как отключенный биоробот. Вполне жизнеспособное тело, лишенное души.
Замок спросил Шульгина (спросил ли одновременно и Антона, Сашка не знал):
Сколько памяти ты ему хочешь оставить? Сколько прибавить? Как изменить характер? Все в наших руках.
– Ничего не надо, - ответил Шульгин. - Он - это я. Убери только воспоминание, что он был под контролем, и о моменте перемещения в Замок. Пусть считает, что Антон уехал с автобусом, пообещав скоро сообщить о результате допроса пленных. Остальное оставим. Все он делал по своей воле и разумению, обогатился полезным жизненным опытом. Нормально жил человек, и сейчас пусть живет так же. Одним приличным мужиком в мире станет больше…
– А Валгалла? - вкрадчиво спросил голос. - Как он с ней разберется? Сталинский нарком, и вдруг - способности выхода в галактические дали?
– Что - «Валгалла»? Письмо-то мое он Лихареву предъявил? Там сказано… Вот пусть в этих пределах и действуют вдвоем с Валентином, как сумеют. Впрочем, с Лихаревым и Сильвией мы ведь скоро встретимся? Тогда и уточним позиции…
– Сделано!
Шестаков исчез здесь, одновременно появившись на заставленной танками и заваленной мертвой плотью площади, рассматривающий избитое пулями и ракетами здание «Альфонса». Теперь ему предстоит решать свои начальственные проблемы уже вполне самостоятельно. Что, может быть, и к лучшему. Он ведь к этому и стремился всю жизнь?
– Замок, займись нашими пленниками, - сказал новый Антон. - Во времени ты не ограничен, в способах воздействия - тоже. Дыба - примитив, конечно…
– Не скажи, - мельком бросил Шульгин, зная, о чем говорит.
…Словно все вернулось на круги своя, Антон с Шульгиным поднялись в хорошо знакомый Сашке кабинет.
– Одно дело сделали, - сказал форзейль, с удовольствием устраиваясь в своем кресле.
Шульгин указал пальцем на ящик стола.
– А ну, открой.
Антон открыл. Там по-прежнему лежала коробка сигар. В ней не хватало именно трех. Как Сашка и надеялся. Все в мире меняется, но количество убывающих сигар строго соответствует числу его посещений.
– Дай попробую…
Вкус и запах оставался прежним. Вообразить, что его восприятие после прожитых лет и пережитых приключений так тщательно подгоняется к давним воспоминаниям - чересчур сложно.
– Нормально, вроде не обманывают. Продолжай, - махнул он дымящейся сигарой, - что у нас второе, на твой взгляд?
– Второе - Сильвия с Лихаревым ждут нас в Лондоне. Осталось полторы минуты, а потом может начаться «новая Барселона»…
– Что-то мне не верится. В Лондоне тем иначе придется действовать. На войну не спишешь, да и дом Сильвии защищен получше моей миссии. Опять же, барселонский разгром чему-то их должен научить? Повторять прежнюю схему - дураками нужно быть. Попытались - одних перебили, других в плен взяли. Их штабистам стоит задуматься… Что Замок по этому поводу скажет?
– Очень может быть, что процессы идут одновременно. Об итогах Барселоны и судьбе своих эмиссаров они еще не знают. Что касается Лондона - до тех пор, пока ваши друзья будут оставаться внутри убежища, им ничего не грозит, временную завесу дуггурам не пройти, хроноланги - наше изобретение…
Шульгин вспомнил, как они с Левашовым и космонавтами с крейсера «Кальмар» проникали в зону обратного времени, снаряженные этими самыми хронолангами, и как было не по себе от мысли, что в любой момент их тела и личности могут распасться на частицы еще более мелкие, чем хронокванты. Однако - прорвались, и друзей спасли…
– Что ж, полетели дальше, - предложил он, - вчетвером повеселее будет, а ты, Замок, пока изобрети какой-нибудь портативный деструктор, чтобы монстров распылять, а дуггуров просто парализовывать на время. Воображается мне, что нам с ними не раз придется дело иметь, раз они внутри нашего Узла окопались. Ты же не можешь их просто «вычеркнуть»?
– Пока не могу, но думать в этом направлении придется…
Появление Антона с Шульгиным в кабинете Сильвии произвело если не фурор, то оживление. Антон вернулся быстрее, что свидетельствовало о его высочайшей квалификации в обращении с временем. Вдобавок он привел с собой незнакомого, довольно симпатичного мужчину, с лицом, выражающим постоянную готовность улыбнуться собственным мыслям или в ответ на слова собеседника.
Из каких мест и времен он его вытащил, интересно? Одежда на госте была современная, но не совсем по сезону.
Именно он, посмотрев на высокие напольные часы, удовлетворенно произнес:
– Управились. Ничего не успело случиться, я надеюсь?
Тон его показался Сильвии странно знакомым.
– Да, да, вы совершенно правы, - кивнул мужчина. - Имеет место очередная рокировочка. Я теперь тот самый Антон, с которым вы столь плодотворно сотрудничали в мое прошлое посещение, только вернувший себе исходный облик, который я носил, когда мы, леди Спенсер, встретились и заключили дружеское соглашение на берегу Северного моря… В восемьдесят четвертом году. И, соответственно, господин, которого вы по привычке посчитали мной, отныне - пресловутый Ричард Мэллони, Говард Грин, а главное - Александр Иванович Шульгин, великий и ужасный! Прошу любить и жаловать.
Сашка, до сих пор испытывая радость обладания собственным телом и свободу от утомительных обязанностей, ласково кивнул Сильвии и Валентину, подсел к столу, особенным образом потирая руки.
– Не возражаете, если я наконец расслаблюсь? - спросил он, ни к кому специально не обращаясь. - Старые, можно сказать, друзья. Начнешь считать, сколько раз встречались и под какими углами пересекались, - пальцев не хватит.
– Конечно, конечно. - Сильвии требовалось время, чтобы взять себя в руки и выстроить новую линию поведения. - Виски, коньяк, джин - все что угодно! Могу пригласить дворецкого, быстро подадут горячий ужин…
– Неплохо бы, - обрадовался Шульгин. - Когда мы с тобой последний раз ели? - осведомился он у Антона.
Тот задумался.
– Похоже, что в нынешнем облике - вообще никогда. Или - очень давно…
– Тогда давайте, леди, мечите на стол! - с подъемом согласился Шульгин. - А мы пока по рюмочке. И покурить… Не представляете, до чего война пробуждает в организме низменные инстинкты.
– Вы тоже где-то повоевать успели? - спросила Сильвия, нажимая кнопку вызова слуги.
Ее состояние сейчас было самым сложным и двусмысленным. Даже отвлекаясь от момента, что оба гостя были недавно непримиримыми врагами, а потом превратились как бы в друзей. Оба заодно были еще и ее любовниками, причем в очень сложном сочетании. Первым, предположим, в этой реальности-38 несколько дней назад оказался Антон, но пользовался телом сидящего рядом с ним господина. Но сам Антон помнит, глаза подсказывают, что помнит о том, что между ними было в ее далеком будущем, в его - тоже, но оно же для него и прошлое, не слишком далекое.
Она сама, судя по письму своей «двойницы», ухитрилась одновременно много лет назад и «вперед» стать сначала случайной партнершей Шульгина, затем (или до того) его же постоянной подругой, шестнадцатью годами раньше данного момента, и шестьюдесятью - раньше первой встречи. У опытной резидентши и то голова шла кругом при попытке как-то систематизировать схему собственных связей и увлечений.
И как быть теперь? Перед ней два физических тела, две личности, но имели место четыре варианта взаимоотношений? Или - сколько? Если возникнет момент - кому теперь она отдаст предпочтение? Для чего и почему?
– И с кем же вы воевали на этот раз, - спросила она Шульгина, чтобы уйти в сторону от слишком скользкой темы.
– Вы не поверите… - и начал подробно излагать свою испанскую эпопею, применительно к монстрам, конечно. Об истории с Франко и прочими перипетиями национально-революционной войны она узнает и без него.
Поданный бифштекс Сашка ел деликатно, скрывая жадность, свидетельствующую о том, что тело ему вернули вполне нормальное, биологическое, и напиткам отдавал должное, не переставая говорить.
Лихарев выглядел мрачным и несколько скучным, несмотря на то что пару раз пригубил виски без льда. Мучила его мысль, как теперь будет складываться коллизия, треугольник между ним, Шестаковым и настоящим Шульгиным. Впору самому куда-нибудь сбежать, раз «долг» как нравственная категория отменен за ненадобностью.
Антон сибаритствовал. Замок действительно стер из его личности несколько тяжелых психических шрамов и рубцов, полученных во время допросов и отбывания «просветления». Теперь он ощущал себя молодым, веселым, полным сил и желаний. Желание воевать в комплект входило. И леди Спенсер, которая в некоторые моменты была невыразимо изобретательной, - тоже.
Виски оказался намного вкуснее синтанга, да вдобавок приобрел несколько новых нюансов вкуса, которых прежний Антон не замечал, табак, под дурным влиянием тела Шульгина, тоже начал доставлять удовольствие.
Все еще, конечно, впереди, но отпуск на курорте между тюрьмой и фронтом - блаженство.
– Значит, вы в Барселоне сумели уничтожить не менее трехсот существ, называемых «монстрами», еще троих убили в Москве, и они лежат сейчас в подвале сталинской дачи, вдобавок взяли в плен десятерых представителей иной расы? - со странной интонацией в голосе спросила Сильвия.
– Именно так. Добавьте, что не меньше трех я еще грохнул «во сне», и двоих, не совсем таких, но тоже странных - в проходном дворе неподалеку от Лубянки, - уточнил Шульгин, вытирая губы льняной салфеткой.
– На что же вы рассчитываете теперь?
– Не понял вопроса…
– Нужно ждать страшного ответного удара. Нам четверым его не выдержать. Вы ввязались в конфликт с целой цивилизацией, способности которой нам неизвестны, но тот факт, что они в состоянии свободно пересекать барьеры между мирами, кое о чем говорит…
– Леди Си, вы меня удивляете, - сказал Сашка тем же тоном, каким разговаривал с ней в известные годы. - Как будто ВАША цивилизация была так себе, вроде племени пигмеев тропической Африки. И что?
Антон наконец-то рассмеялся, будто до этого все время сдерживал естественное желание.
– Хорошо ведь сказано, дорогая? Знаете, в случае чего можно и еще информационную бомбочку изготовить, мобилизационные мощности отнюдь не демонтированы…
– Господа, - вмешался наконец в разговор Лихарев. - Слушать вас невероятно интересно, но вы, мне кажется, забыли, что три трупа так и лежат на Ближней даче, а охрана Сталина не превышает роты…
– Нас ведь там нет, - отмахнулась Сильвия, - а охота разворачивается именно за нами. Скорее враг снова нападет на Юрия, его арбатскую квартиру.
– Не лишено! - поднял палец Антон. - Мнение Валентина не лишено… Трупы имеют свойство пахнуть, причем мы убедились, что запах в ментальной сфере посильнее, чем в физической. Как бы нам действительно не опоздать. Ищейки придут по следу… Переодевайтесь, леди, в более подходящие доспехи, нас снова ждут великие дела…
– Переодеться недолго, тем более время по-прежнему стоит… Но не лучше ли нам сразу отправиться на Арбат, а уже потом… Какой особый интерес для дуггуров может представлять Сталин, пока живы мы?
– Вот тут вы проявляете непростительную политическую близорукость, - в точности копируя акцент и интонации вождя, назидательно произнес Шульгин. - Товарищ Сталин представляет для врагов постоянный интерес, который, как мне кажется, непрерывно возрастает…
Он прекратил паясничать, взял из палисандровой шкатулки длинную сигарету.
Как говорил профессор Опир: «После такого обеда нельзя не курить».
– Заложник он, вы понимаете? Заложник. Как уж они там, в Дуггурляндии, разбираются в земной политике - не знаю. Но если те люди, которые надавали им по соплям, тепленькими захватили их «специалистов», зачем-то отвезли их покойных братьев именно в это место и сдали их на хранение именно этому человеку, человек этот простым быть не может. И пусть я буду последним идиотом - удар будет нанесен по даче. Они заберут трупы и утащат с собой вождя. После чего…
– После чего начнется такой бардак, что и вообразить трудно, - встал с кресла Лихарев. - Поверьте мне как специалисту именно в данном вопросе. Сталина сейчас заменить некем. Однозначно равноценной фигуры нет, «тонкошеие вожди» передерутся, причем без надежды, что вовремя из них выделится истинный «крысиный волк». Разве что Шестакова на его место сажать, а мне - в Предсовнаркомы? Все равно без крупной свары, вполне возможно - кровавой, не обойтись. Действовать придется теми же методами, еще и порезче, чтобы очередной порядок навести. Тут и дуггуры с монстрами подоспеют… Весело будет - вы не представляете!
Поэтому вы все двигайте сейчас на дачу. Кроме как на блок-универсал, леди Спенсер, рассчитывать, похоже, не на что. Если у вас нет чего-нибудь подходящего, - обратился он в сторону Антона. - Главное - до утра продержитесь. Сталину, если проснется и обо мне спросит, объясните, как есть. Антон с ним уже провел предварительную работу… А меня забросьте в Москву. Прихвачу Юрия, если он еще жив, и подниму по тревоге танковую дивизию…
– Для начала, - уточнил Антон.
Василий Звягинцев Ловите конский топот Книга первая Исхода нет, есть только выходы…
Пять лет описывал не пестрядь быта,
Не короля, что неизменно гол,
Не слезы у разбитого корыта,
Не ловкачей, что забивают гол.
Нет, вспоминая прошлое, хотел постичь я
Ходы еще не конченной игры.
Хоть Янус и двулик, в нем нет двуличья,
Он видит в гору путь и путь с горы.
Меня корили – я не знаю правил,
Болтлив, труслив – про многое молчу.
Костра я не разжег, а лишь поставил
У гроба лет грошовую свечу.
На кладбище друзей, на свалке века
Я понял: пусть принижен и поник,
Он все ж оправдывает человека,
Истоптанный, но мыслящий тростник.
Глава первая
Из записок Андрея Новикова
…Не так уж давно, пару месяцев назад по времени Югороссии, я глубоко, но непродуктивно задумывался о так называемом «кризисе среднего возраста». Вообразил, что он и ко мне подобрался внезапно, как настигает нормальных мужиков, независимо от общественного, финансового, семейного положения. Просто организм (и психика) подходят к некоему рубежу, определенному, может быть, еще на уровне кистеперых рыб. Появляются у человека мысли, что дошел он до грани, разделяющей жизнь на две принципиально разные части. До того – «на ярмарку», после – «с ярмарки». «Фаза надлома», как формулировал Лев Гумилев. Все, что казалось важным, – достигнуто или уже не будет достигнуто никогда. Время упущено, и энтузиазм повыветрился. «Крейсер под моей командой никогда не войдет в нейтральные воды…» Но впереди добрая половина или треть отпущенного срока, и непонятно, какой жизни следует придать смысл в рамках оставшихся возможностей.
Если сложить все прошедшие с начала нашей эпопеи годы, со всеми межвременными переходами, так и получится, что мне совсем недалеко до сорока. Самое время затосковать и либо смириться с вплотную подступающей старостью и перспективой инерционного угасания, либо попытаться кардинально изменить свою жизнь. Сменить профессию, жену, страну обитания, а то и просто запить. Тоже способ. Приходилось наблюдать и те, и другие варианты.
Но ведь ко мне вся эта теория отношения не имеет? Нет никаких объективных оснований для депрессии, утренней адреналиновой тоски, не нужно думать, что на работе мало платят, начальники – гады, общественный строй – невыносимое дерьмо. А все равно – вкус к жизни словно потерян, и думается не о хорошем, а преимущественно о разных пакостях, которые даже и в нашем положении непременно присутствуют.
Ирина косо взглянула, не то сказала, в газетах, особенно зарубежных, печатают всякую ерунду о Югороссии и ее правителях. Обывательская среда неумолимо теснит былой героизм и романтизм, боевые капитаны и полковники нанимаются в маклеры, вообще все вокруг происходит не так, как задумывалось и представлялось. Душу обуревают мысли о тщетности и бренности. Чистый декаданс, не иначе. Только декаденты маялись в предвкушении эпохи ужасных перемен, а я – после…
Войны, сражения, сложные комбинации на мировой шахматной доске, где кое-чего удалось добиться, сердце больше не греют. Ну, хорошо, ну сделали мы вот это – а толку-то?
Поблистали, можно сказать, перед людьми из прошлого и будущего, кого-то от чего-то спасли, а они все равно ничего по-настоящему не поняли. Не смогли оценить «красоту игры». В той мере, чтобы сказать лично мне: «Андрей Дмитриевич, как мы вам благодарны! Вы единственный человек в этом мире, который все знает, все понимает и все может… Мы вас обожаем и готовы ставить вам памятники на каждом перекрестке!»
А я бы ответил: «Да, все так и есть. Ставьте. Я же буду приходить к ним ранним утром, когда солнце только-только собирается подняться над горизонтом, проспекты пусты и чисты, только дворники шаркают метлами, воздух свеж и прозрачен, и искренне хочется верить, что простокваша действительно вкуснее и полезнее белого хлебного вина. В этот самый час, смущенно оглядываясь по сторонам, буду натирать своих бронзовых истуканов солдатским асидолом, чтобы ярче блестели…»
Сумрачно у меня было на душе. Ничего не хотелось. Во время приступов сплина в голову приходили самые дурацкие мысли.
Что же, действительно прав Александр Блок? «Ночь, улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так. Исхода нет». Да он ведь и сам по-крупному ошибся. Горевал, что нудная, застойная, бессмысленная (по общему тогдашнему настроению) дореволюционная жизнь будет длиться бесконечно. Но не прошло и года, как все вдруг так завертелось, что воспетая им «очистительная революция» уволокла его своим водоворотом. Не в эмиграцию, не к стенке, как Гумилева, а заморила голодом и депрессией. Где-то я читал, что его большевики отравили, потому и за границу не выпустили для лечения. По-моему, это чистый вздор. Кому он нужен был, в то бешеное время, чтобы специально такие многоходовки затевать? Мешал – шлепнули бы в подворотне, и концы в воду. Нет – отпустили бы или выслали за границу, как тех же философов, Алексея Толстого (тоже был – не последняя литературная фигура) и других-прочих.
Что-то меня опять в дебри занесло…
Иногда, листая газеты и глядя на огромный, двухметровый, изумительно подробный глобус, что я завел себе в подражание Гитлеру и Сталину, воображалось разное. Учинить, скажем, англо-германо-французский конфликт. Подсказать немцам, с нашей помощью почти восстановившим боевой потенциал, что пора бы отнятые у них союзниками колонии обратно себе вернуть. Фон Мюкке канцлером сделать, а самим к нему консультантами и военными советниками устроиться. И мне развлечение, и реваншистские настроения будущих нацистов в безопасную сторону перенаправить, на африканский фронт сплавить всех арийских пассионариев…
Или, что гораздо забавнее, договориться с Ростокиным и Суздалевым, устроиться волонтером в очередную межзвездную экспедицию, слетать в систему Антареса, посмотреть, где ж там все-таки прячутся не известные ни агграм, ни форзейлям пришельцы, интересующиеся человеческой психоэнергией… Глядишь, о чем-нибудь с ними и договорились бы.
Слегка развлекли появившиеся на нашем горизонте бравые ребята из новой параллели – 2005, Ляхов, Тарханов, Великий князь и прочие. От них открылась дорога в наше родное «будущее» – прямое, через двадцать лет ровно, продолжение Главной исторической последовательности. Мы, как положено, в чужие разборки влезли, на короткое время снова стало шумно и весело. Настолько весело, что едва удалось удержаться на самом краешке, едва-едва не попасть в лапы жаждущей реванша Дайяны и ее верного паладина Лихарева [1]. С совершенно непредсказуемыми последствиями. Вплоть до развоплощения…
Однако и тут выкрутились. Я давно перестал удивляться подобным вещам. Двести с лишним лет назад один армейский лекарь сказал по поводу Кутузова, выжившего после двух сквозных ранений в голову (тогдашними круглыми свинцовыми пулями), без антибиотиков, анестезии, асептических и антисептических методик: «Несомненно, этому полковнику суждены великие дела».
Наверное, нам тоже кое-что еще суждено, для чего и берегут нас высшие силы или непознанные законы мироздания.
Как всегда после участия в крупномасштабных операциях, требующих соединения всех сил нашего «Комитета по защите реальности» и Братства целиком, персонажи вновь разбежались по миру, кто поодиночке, кто сбившись в очередные «кружки по интересам».
Шульгин с Анной, Воронцов с Натальей, Ростокин с Аллой, лейтенант Белли и какое-то число «соратников и кандидатов» возвратились в новозеландский Форт Росс. Отдыхать, заниматься текущими делами, продолжать исследования загадочного тоннеля, ведущего в «боковое время». Братья-аналоги Ляховы и Тарханов со своими подругами никак не хотели оставлять эту перспективную тему, да и воинский долг не позволял им дезертировать в иные миры, пока Отечество в опасности. А что опасность сохранялась, никаких сомнений не было.
Только мне это вдруг стало не слишком интересно. Что бы я делал хоть в одном 2005 году, хоть в другом? Возглавить «Черную метку» и в качестве какого-нибудь глубоко законспирированного «сионского мудреца» наводить порядок в новой России? Для чего? Это означало бы принять на себя функции Ирины, Сильвии, Антона. Равновесие мира поддерживать…
Так я от этого отказался шестьюдесятью годами позже. Пусть сами разбираются, с меня хватит и Югороссии. Здесь я себя чувствую не в пример уютнее. Осмысленнее, по крайней мере. Люди интереснее, исторические перспективы понятнее, и имеется определенный общественный статус, вполне меня устраивающий.
Старым приятелям, сумевшим дожить в Главной реальности до реставрации капитализма и хорошо меня встретившим, я помогать, конечно, буду. И советом, и деньгами, и вооруженной силой, если потребуется. Но жить предпочитаю здесь.
Лариса с Олегом, наоборот, решили, что им интереснее в «ноль пятом», теперь, впрочем, уже «шестом». Лариса настолько вжилась в роль богатой вдовы, госпожи Эймонт, приобрела недвижимость, обзавелась знакомствами, что возвращаться ни в Москву, ни в Харьков примитивных, на ее вкус, времен не пожелала. Цивилизация эпохи возрожденной монархии ее полностью устраивала. Ну и слава богу. Придется, мы к ним подскочим в Кисловодск, иначе сложиться – у них есть надежное убежище. Тут мы друг другу тылы прикрыли.
…Я стоял на широкой веранде нашей с Ириной виллы в Гурзуфе, смотрел, поеживаясь от утреннего бриза, на облако странной формы вроде усеченного конуса, обмотанного топологически непредставимой тороидальной конструкцией. Оно выплывало из-за гор, одно-единственное на чистом зеленоватом небе, похожее на тот космический корабль, что обнаружили на коричневой планете герои «Туманности Андромеды». Я с самого пятьдесят седьмого года жалел, что Иван Антонович оставил эту тему ради никому не нужных попыток изобразить коммунистическую утопию на Земле. Как бы интересно было узнать, что там внутри «спираледиска» и откуда взялся ужасный «крест». Хорошая книга могла получиться!
Из всего вышесказанного следует, что никаких комплексов и кризисов лично у меня не имеется. Обычная скука, настигающая человека, привыкшего (или созданного для) к постоянному балансированию на грани жизни и смерти, а раньше, в нормальной советской жизни – на грани дозволенного и запрещенного.
Хорошо по этому поводу сказано одним известным поэтом в память о куда более известном страннике и первооткрывателе.
Так и есть. Слава тебе, Господи, если ты есть, что сделал нас именно такими. На сто рублей в месяц жили и не скулили, готовые отдать десятку и больше за хорошую книжку барыгам на Кузнецком Мосту, от души гульнуть на последнюю копейку, не заботясь о дне грядущем. И теперь, получив возможность распоряжаться миллиардами, не скурвились, сохранили заложенную изначально тягу к возвышенному.
Может быть, каждому ребенку следует лет в 8 – 10 прочитать «Таинственный остров», «Приключения бура в Южной Африке», и сразу за ними – «Граф Монте-Кристо»? Ну и «Смок Белью», разумеется. Прочесть, проникнуться, а потом вся остальная жизнь сама собой начнет выстраиваться в нужном направлении. Я, по крайней мере, не видел ни одного человека, который в начальной школе знал бы эти книжки наизусть, а потом вдруг стал убежденной сволочью.
Вот и все мы, заскучав в устроенной нами и для себя жизни, услышав звук боевой трубы, немедленно стянулись в кулак, немного встряхнулись, свершили кое-что, казавшееся нам нужным, полезным или просто соответствующее обстоятельствам и так называемому «чувству долга», – сразу и полегчало.
Знаете ли, к этой данной, или ощущенной нами, жизни я вообще отношусь очень своеобразно. Она, разумеется, есть, и прожить ее можно по-всякому. Особенно – получив некое подобие «бессмертия» и почти неограниченные возможности. Отчего-то подавляющее большинство людей, выделившихся из гигантской аморфной массы «мыслящего тростника», страдают болезнью властолюбия, изначально, хронически, или заболевают ее в острой форме по достижении некоего критического уровня.
Был-был человек младшим научным сотрудником, жил себе и работал, ни на что особо не замахиваясь, лишь мечтая в глубине души защитить докторскую и стать завлабом или завкафедрой. А тут случилось то, что мы увидели в своем последнем путешествии в Москву. Стал он вдруг миллионером или миллиардером, получил возможность исполнить любое свое физическое желание, и – взыграло! Денег, дворцов, яхт, молодых жен и стаи любовниц уже мало, нужна власть, причем побольше той, что уже имеется в пределах собственной корпорации. Кому в губернаторы хочется, кому в президенты, иным же – и сверх того. Совершенно по Пушкину – «владычицей морскою…».
Так вот мне этого совершенно не нужно. Я вообще предпочитаю уклоняться от всякой ответственности за кого-то или что-то, кроме самого себя. Разве что совсем уже выхода никакого нет…
Прошлепав босыми ногами по полу и на память выдернув с полки книгу в черном переплете, вернулся на веранду, по пути прихватив из бара плоскую бутылочку коньяка «КС» и пачку сигарет.
– Ты что подскочил, чего там ходишь? – окликнула меня Ирина из своей спальни. Дверь в нее почему-то оказалась полуоткрытой.
– Да так, на восход захотелось посмотреть… Спи дальше.
Я слегка испугался, что она сейчас выйдет из комнаты, поломает мой философический минор. Мне же хотелось сохранить за собой это подлинное настроение.
Но, к счастью, моя женщина удовлетворилась ответом и снова заснула. И очень правильно, что может быть лучше двух-трех утренних часов в собственной постели, самых сладких и безмятежных? Ей пока что деморализующих мыслей в голову не приходило, насколько я мог судить.
Море под обрывом и за узкой полосой галечного пляжа лежало гладким и неподвижным. Часа через два появятся здесь немногие (в отличие от советских времен) отдыхающие, а еще точнее – люди, которым нравится проводить свободное время именно здесь. Отдыхать им особенно не от чего. Как и мне.
Я, по обычной привычке, открыл книгу, где придется. И вот вам, пожалуйста. «Тоска», страница 38.
Вот именно! Как верно ощущено и написано двадцатичетырехлетним парнем, воспитанником первых пятилеток. Ему бы воспевать дороги, мосты и гидростанции, а он вдруг – про такое! Мне на его фоне – стыдно впадать в уныние. Займемся чем-нибудь другим.
Впрочем, вскоре после написания «Тоски» Симонов отправился на Халхин-Гол и следующие семь лет не вылезал с фронтов, отличаясь как раз завидным оптимизмом и личным мужеством. Так отчего бы этот опыт не позаимствовать?
Войн на своем веку я повидал достаточно, личный опыт имеется богатейший, так не пора ли, предоставив мир его собственной судьбе, уединиться на этой самой вилле здесь, в Крыму, отъехать в Форт Росс или завертеть на «Призраке» полную кругосветку, не развлечения ради, а чтобы в покое и комфорте написать, наконец, полноценный автобиографический роман? По типу «Повести о жизни» Паустовского, «Людей, годов, жизни» Эренбурга, а то и «Поисков утраченного времени» Пруста. Жалко, что хорошие названия они уже расхватали. Последнее для моего труда подошло бы идеально. Да и «В начале неведомого века» или «Время больших ожиданий» тоже звучит неплохо.
Ну да не беда, сам что-нибудь придумаю. А в принципе идея неплохая, полновесная и плодотворная. Пусть другие продолжают творить историю, а я стану ее воспевать, растолковывать и препарировать. Всем от этого будет только лучше. Мир отдохнет от меня, я – от него. Ирина же возьмет на себя роль Софьи Андреевны Толстой. Редактировать, критиковать и переписывать от руки…
Эта, в общем-то, не такая уж свежая идея настолько меня увлекла, что прихлебывая маленькими глотками коньяк и дымя сигаретой, придвинув кресло-качалку вплотную к балюстраде, я начал воображать не содержание будущего текста, а именно сам процесс творчества.
На полном серьезе отрекшись от текущих забот, я стану просыпаться на рассвете, как Джек Лондон, раскладывать перед собой письменные принадлежности – солидную стопочку веленевой бумаги, плотной и гладкой, с легким кремовым оттенком, ручку «Паркер» с настоящим золотым пером, пишущую легко и мягко, пузырек черных (непременно) чернил. Никаких компьютеров. Между рукой и бумагой не должно быть механических посредников. Работать, скажем, до полудня, пока не напишутся пять урочных страниц, после чего завтракать и предаваться простым радостям жизни.
Плавать в море, с аквалангом или без, ловить с кормы рыбу (подобно Хемингуэю), придумать еще какое-нибудь неутомительное и успокаивающее занятие. Пасьянсы раскладывать, например, или папироски набивать специальной машинкой.
После ужина читать Ирине вслух очередные страницы и обсуждать написанное. Сходить на берег в тихих, выпавших из потока цивилизации портах, где большинство туземцев, да и многие одичавшие европейцы до сих пор не в курсе, кончилась ли мировая война и с каким результатом, бродить по окрестностям, покупать изделия местных умельцев, поющие раковины, шкуры экзотических зверей. Для украшения будущего музея моего же имени.
Научиться, наконец, у могучих бронзовотелых канаков настоящему серфингу в десятиметровых волнах гавайских прибоев, на любовно выстроганных три поколения назад плавательных досках.
Разумеется, не читать никаких газет, за исключением тех, что попадутся в никому здесь не нужном кафе, устроенном изможденным малярией французом, застрявшим на Папеэте с тысяча девятьсот десятого года. Варящем кофе скорее для собственного удовольствия, потому что его единственный клиент – дезертировавший с немецкого рейдера «Эмден» лейтенант эльзасского происхождения, проживающий последние золотые марки, полученные у судового ревизора под честное слово на полгода вперед.
На этих островах, естественно, на одну такую монету можно безбедно жить несколько месяцев. А еще он единственный (назовем его лейтенант Рихтер), кто в радиусе тысячи километров умеет чинить часы, от карманных до «ходиков», и ружейные замки, хотя бы и кремневых мушкетов. Все это пользуется спросом, лейтенант, само собой, в достаточной мере одичавший, бреется тем не менее каждый день и рисует на картах прошлого века фантастические планы операций «Хохзеефлотте» [3] в грядущей войне.
Книг у него в хижине только две: «Справочник по военным флотам мира» за 1913 год и роман Карла Мая. Ту и другую он давно выучил наизусть и может цитировать с любой строчки любой страницы.
А газеты, да, от газет я отвлекся, получены последний раз пять месяцев назад. Француз, назовем его мсье Гоше, с дикой ностальгией перечитывает рекламы парижских борделей (хотя малярия лишила его всяких способностей по этой части) и курсы валют на мировом рынке в отношении к золоту. Я так подозреваю, что они вместе с лейтенантом сумели разыскать в горах и на речках сотню-другую фунтов этого желтого металла и никак не могут сообразить, кому его продать, где и за сколько. А главное – что потом делать с вырученными раскрашенными бумажками – порождением совсем другого, послевоенного мира… Предложат мне…
Ох, как здорово меня понесло! И не сто грамм коньяка здесь причина и повод – я, кажется, на самом деле переключился на врожденную, Богом данную способность. Ничего же ведь мне, честно сказать, не нужно было от той жизни, кроме как возможности писать. Не «информашки» в газету, а полноценную прозу. Любая прочая деятельность была лишь досадной необходимостью и источником впечатлений для будущих книг. Берестин, если коснуться прочего, наоборот, проявил себя талантливым художником, а хотел быть только полководцем. Что и получил, в итоге. Ну, теперь и я свое получу. Может быть…
Запомнить бы, что сейчас в мыслях крутилось. А если и не запомню, что-нибудь похожее не раз еще придумаю…
Ветер вдруг резко подул, несколько десятков желто-бордовых виноградных листьев оторвались от заплетавших веранду лоз, упали на пол и начали с тихим шуршанием ползать по выскобленному добела тиковому настилу. Я на них засмотрелся, настроение неуловимым образом, то ли под влиянием коньяка, то ли – прилива творческой энергии изменилось. Правильно Ремарк писал, насчет способа переводить грусть обыкновенную – в грусть сладкую, и при этом плодотворную…
Да ведь и действительно, какие наши годы? Это обычному человеку рубеж сорокалетия должен казаться именно рубежом, а мне-то? Если я рассчитываю и надеюсь (не поймав шальной пули или не наскочив на болтающуюся в морях древнюю мину заграждения, сорванную с якоря) прожить еще лет пятьдесят-сто в полном здравии и не старея, к чему мне обывательские комплексы?
Жизнь, признаться, по самым строгим критериям, течет неплохо. «И мы с ею», как говорил, перекладывая на язык родных осин чеканную латынь, знакомый иеромонах [4].
После завтрака, чтобы поддержать набежавший оптимистический настрой, хорошо бы приказать заложить четверку лошадей в фаэтон или самому сесть за руль последней модели двухдверного кабриолета «Рысь», съездить в Ялту или даже Севастополь, пощекотать нервы игрой в рулетку. Инкогнито, разумеется. Проверить, действительно ли ставка на проигрыш выгоднее противоположного? Или лучше в стрелковый клуб, потешить руку на траншейном стенде? В грязный притон, где сомнительные элементы всего Крыма и прилегающих областей гоняют бильярдные шары, предварительно засовывая крупные купюры в лузы, тоже можно закатиться. Позабавимся. А уж как-нибудь потом подумаем о прочем.
Только я почти окончательно решил, что, не откладывая в долгий ящик, сообщу друзьям об уходе в длительный творческий отпуск, определюсь с местоположением «башни из слоновой кости» и – вперед, за Нобелевской или хотя бы Гонкуровской премией, как вновь вмешалась непреодолимая сила. Или, если угодно, пресловутая, с утомительной постоянностью вмешивавшаяся в наши дела «неизбежная на море случайность».
У нас с Антоном контакты происходили по-разному. Бывало, он проявлял несанкционированную инициативу, то требуя от нас чего-то нужного ему то, якобы спасая нас. Бывало, и мы сами его вызывали, вмешиваясь в тайны высших миров. Чем дальше, тем чаще я (и Сашка, само собой), объясняли другу-форзейлю, кто есть кто и что почем. Он, последние разы, кажется, понял, насколько изменились наши «привходящие обстоятельства». И все же продолжал оставаться для нас существом, в некотором смысле высшим. Как твой бывший начальник, вышедший в отставку полковником, когда ты уже давно генерал, все равно при встрече пробуждает в душе лейтенантские эмоции.
Сейчас он появился не «во плоти», как Воронцову в Сухуме, и не в виде ментальной проекции через Сеть, как чаще всего нам с Сашкой, а промежуточным образом.
Веранду ровно посередине перерезала мерцающая завеса, тут же ставшая совершенно прозрачной. При этом ощущение преграды сохранялось. Не возникало желания подняться и шагнуть на ту сторону.
Антон, одетый в самые обычные джинсы, голубую рубашку и светло-серую замшевую куртку, стоял, опираясь левой рукой о край письменного стола, на котором, кроме какой-то книги, не было больше ничего. Меблировка комнаты деловая и скромная, как в рабочем кабинете небольшого начальника. Это могла быть одна из бесчисленных комнат Замка или любое его тайное обиталище в пределах Земли. Никаких намеков на инопланетность в окружающих предметах не просматривалось. Когда однажды он явился мне в интерьерах дворцовых помещений планеты, где он трудился Тайным послом, там все выглядело абсолютно нечеловечески.
Мы обменялись обычными приветствиями, как будто расстались только вчера, на самом же деле прошло гораздо больше месяца после странной, какой-то очень ненастоящей встречи в Замке, скорее в «сфере чистого разума», нежели «в реале». Тогда он очевидным образом бодрился, но выглядел весьма чем-то угнетенным. И дал нам свой последний совет – раз и навсегда завязать с выходами в Сеть. Дал таким тоном, будто работал под контролем или собрался умирать.
Учтя его совет, или собственным разумением, мы и не лазили туда больше, обходились подручными средствами.
– И что же вновь свело нас на этом перекрестке, друг мой? – спросил я с некоторой надменностью, которой пытался замаскировать неготовность к тому, что наверняка предстоит. Антон зря не приходит. Потрепаться на возвышенные темы он и без нас найдет с кем. Там у них неограниченное количество философских систем и подшабашивающих ими мудрецов.
Но дать предварительную ориентировку все равно следует. Поможет, не поможет – другое дело. Однако сообразит, что мы тут тоже не в носу ковыряемся.
– Я тебя не вызывал, проблем на сей момент у нас не имеется, все остались в далеких будущих временах. В здешнем двадцать пятом мы совершенно никаких акций не замышляем, две тысячи пятые и пятьдесят шестой на ближайшее столетие нас не интересуют. Там тоже люди взрослые собрались, в собственных реалиях по-всякому лучше нас разберутся. Помогли им, чем сумели, ну и хватит. А мы сами собрались в форте, очередной раз посоветовались и на самом деле, без всяких шуток и задних мыслей, решили «лечь на дно и позывных не передавать». Может быть, кого-то такой эскапизм разочарует, но «такова наша монаршая воля»…
– Здраво, ничего не скажешь… – кивнул он.
Не стану утверждать, что я сумел сильно осадить форзейля, но кое-какой предварительный настрой я с него сбил.
Антон усмехнулся. Кажется – грустновато.
– Вам бы с этого начать, ребята. А то ведь, вот беда, некоторые процессы заднего хода не имеют. Будучи раз запущены, развиваются в соответствии с собственной логикой и внутренними законами…
Выглядел сейчас Антон как-то не так. Понятно, что почти полностью отстранившись от земных дел, преобразившись в «Тайного посла» на одном из вверенных ему миров, или заняв ответственный пост в центральном аппарате, он не мог не измениться. В гораздо большей степени, чем мои приятели из восемьдесят четвертого – в две тысячи пятом. Он-то и человеком в моем понимании был весьма относительным. Так, некое существо, а то и функция, оснащенная вторичными половыми признаками.
И все же он оставался нашим другом, как бы ни толковать этот термин.
– Знаешь, командор, ты слегка изменился, и не в лучшую сторону. Не заболел ли чем? Или неприятности личного плана? – сказал я, временно игнорируя его слова, очевидным образом подводящие к очередному событию.
Совершенно как в цикле рассказов о Шерлоке Холмсе, а вернее – об Эдварде Мелоуне, профессоре Челленджере и прочих. В том и в другом случае приключения могли продолжаться бесконечно, причем без всякой связи с предыдущими. «Затерянный мир» – одно, «Ядовитый пояс» – совсем другое. Только герои общие. Мне никогда не приходило в голову анализировать названные книги всерьез, но предполагаю, что особой внутренней логики в этих произведениях нет. Да она там и не нужна. Как не нужна и нам.
Если жизнь протекает, в ней непременно должно что-нибудь происходить. А знакомство с красивой женщиной, автомобильная авария, призыв из запаса на военную службу и выигрыш в казино ста тысяч долларов, даже следуя подряд с одним и тем же человеком, могут никаким образом не находиться в прямой причинно-следственной связи. С тем же успехом каждое из названных событий может оказаться неразрывным звеном единой цепи. И даже – скорее всего.
Мои слова о внешнем виде Антона были констатацией не совсем очевидного факта. Выглядел он, на обычный взгляд, нормально, по стандартным меркам. На фотографиях, сделанных тогда и сейчас, он бы вряд ли чем-то отличался. А наяву… Складывалось впечатление, будто некая несущая конструкция в нем надломилась, в силу чего бравый форзейль утратил возможность поддерживать себя в должной форме. Или – та система, которая обеспечивала неизменность его облика, начала давать сбои. Что вполне вероятно – особенно с учетом изменившихся обстоятельств его жизни.
Вроде как актер, давно выведенный из основного состава, внезапно приглашен сыграть одну из своих прежних ролей, в которых он блистал перед публикой.
Текст-то он помнит, и кураж сохранился, а режиссер другой, извлеченный из запасника костюм не совсем подходит к фигуре, грим лег не совсем так, как прежде…
Да, в конце концов, все мы стареем в том или другом смысле, только не всегда есть кому это заметить.
– С этого и начнем, если хочешь, – сказал форзейль, оторвал руку от стола и шагнул на мою сторону. Я машинально прикрыл глаза. В памяти зафиксировались его же слова, что подобные перемещения иногда могут соответствовать очень большому тротиловому эквиваленту. Впрочем, кажется, Антон тот раз имел в виду случаи перемещения материальной массы между темпорально не согласованными пространствами.
В данном случае – обошлось. Да и не стал бы он… Это уже у меня другие рефлексы начали работать.
Перейдя ко мне на веранду, Антон подвинул плетенный из ротанга стул, сел напротив. Тут же я почувствовал себя несколько неловко. Гость одет со всей возможной элегантностью, а я неумыт, небрит, в домашнем халате практически на голое тело, еще и босиком. С другой стороны, я его к себе не приглашал в такой час. Мог бы и в розовых шелковых подштанниках оказаться. Или с женой в постели…
– Вы, конечно, последнее время приутихли. Наигрались, перебаламутили еще несколько миров, где вас совсем не ждали, и, наконец, решили, будто теперь можете успокоиться и коротать остаток дней, разводя пчел или орхидеи, никак не нарушая внутренней логики внешнего мира…
Он, похоже, задумался над сорвавшейся с его губ фразой, оценивая ее на предмет семантической допустимости. Решил, что сойдет, и продолжил:
– А внешний мир тем не менее продолжает ей следовать. То, что меня посадили в тюрьму, которой я, на мой взгляд, совершенно не заслужил, является хорошим подтверждением этой мысли…
– Тебя? В тюрьму? – Я искренне удивился услышанному. В моем представлении, форзейль, ловко маневрировавший между реальностями, до недавнего времени вообще всемогущий, по сравнению с нами, короткоживущими [5] землянами, из любого узилища мог освободиться легче, чем я – из нарисованного не искушенными в магии туземцами мелового круга.
– Что тебя так шокировало? Любая цивилизация имеет соразмерную ей и качеству своих подданных пенитенциарную систему. Из любой земной тюрьмы я, и ты тоже, освободились бы свободно. Из нашей – аусгешлессен [6].
– Спорить трудно, – согласился я. – Иначе и вправду, куда ж вас, таких прытких, девать в случае чего?
– В моем клане понятие «наказание» отсутствует вообще. Каждый сам оценивает свои поступки. Никто другой сделать лучше этого не сможет, поскольку непременно будет в той или иной мере пристрастен.
– Оригинальная практика, – вежливо одобрил я. – Японическое влияние здесь чувствуется, самурайское, точнее. Монахи тоже сами на себя епитимью накладывают… – В то же время я соображал, не кликнуть ли домоправителя и распорядиться накрыть достойный дорогого гостя завтрак? Ирину заодно разбудить, и посидели бы, как встарь.
Потом решил, что пока не стоит. Пусть сначала выскажется.
– К сожалению, в тех кругах, где мне приходится делать карьеру, взгляды несколько иные…
– То есть в своих глазах ты невиновен, а высокий трибунал решил иначе?
– Типа того…
– И сколько дали? – В России подобная тема вызывает неизменный и живой интерес окружающих.
– Пожизненное без права переписки и апелляции… – Мне показалось, что произнес он это с некоторой иронией. Хотя – какие уж тут шуточки?
– Круто, – искренне я ему посочувствовал. – Ну, хоть не вышку. У вас там небось зоны поприличнее наших?
– Как сказать. Из ваших – шансов сбежать или освободиться больше.
– Но ведь сбежал, раз здесь присутствуешь. Из-под следствия или с этапа?
– Не сам. У нас сбежать невозможно, я же сказал. Шульгин выручил…
– Когда? – поразился я. – Мы с Сашкой надолго не расставались последний год, да и сказал бы он мне, если бы что-то такое случилось.
– Не этот, другой, из тридцать восьмого года. Который наркомом стал…
– Стоп, стоп… – Тут я заинтересовался по-настоящему, вызвал-таки дворецкого, отдал необходимые распоряжения, велел проводить гостя в малую гостиную, откуда открывался вид на горы и сад, не столь отвлекающий внимание, как морская даль. А сам пошел переодеться подобающим образом. И перенастроиться тоже. Возникло ощущение, что книжки писать придется по-прежнему в свободное от основной работы время. Не сказать чтобы эта перспектива меня расстроила. Есть поговорка: «Привыкла собака за возом бегать…»
Интересно, за Антоном не гонятся специально на то поставленные службы? Иначе станет совсем уже интересно. Те, которых послали за Иркой, были совсем непрофессиональны. Нынешние могут оказаться более серьезными противниками. Отчего бы и нет? Сражаться с одиночками куда интереснее, чем с законами истории. Но тут, пожалуй, до такого не дойдет. Упоминание о Шульгине-38 выводит на несколько другой уровень.
Ирину я будить не стал, ни к чему третий, излишне эмоциональный персонаж в сюжете о двух спокойных мужчинах себе на уме. Иначе они начнут говорить не о себе и для себя, а ориентируясь на слушательницу, тем более – кое к чему причастную…
Никогда мне не приходило в голову подумать вот так об Ирине, даже мельком, а сейчас вдруг пришло. Может быть, под влиянием истории с Татьяной?
А, ерунда, сейчас – тем более. Однако, что касается Сашки – интересно. Третья матричная копия, выходит? Да, разгулялся паренек… И что же он там опять натворил? Форзейли просто так визиты вежливости не наносят. Как и аггрианские резидентки тоже.
Стол нам накрыли подходящий, по времени суток и по сезону. Самое же главное – окна моей гостиной выходили на единственную дорогу, которая вела к вилле из поселка и просматривалась вся, с самого начала, на четыре с лишним километра. Если кто-нибудь соберется к нам в гости, успеем увидеть и подготовиться. С моря неприметно высадиться тоже нельзя, есть на обозримом пространстве береговой черты разные хитрости, природного и рукотворного характера.
Само собой, на этой Земле мне бояться было некого. Личный друг Верховного Правителя, да и сам по себе фигура известная, внушающая кому уважение, кому страх, зависимо от обстановки. Что в общественном смысле, что в личном.
Если, конечно, предполагаемые сотрудники занимавшегося Антоном «Управления исполнения наказаний» решат в погоне за беглецом проникнуть в мое уединение тем же, что и он сам, внепространственным способом, тогда уж ничего не поделаешь, останется полагаться на грубую силу и достижения нашего неспокойного века. Гранаты типа «Ф-1», ручные огнестрельные приспособления и пулеметы калибрами вплоть до 14,5 мм оказывают хорошее поражающее действие на любые белковые и многие кремнийорганические структуры.
– Тебя во всегалактический розыск не объявили? – спросил я на всякий случай.
– Не бери в голову. Там я умер…
– Эдмон Дантес тоже рассчитывал на такую отмазку. Не сработало.
– Но его ведь все равно не поймали, – возразил Антон, и спорить было не с чем.
Тут же меня отвлекла следующая мысль (они, как правило, приходят мне в голову по одной, и думать каждую приходится отдельно).
– Так ты ж, по раскладам, едва успел только в СИЗО покантоваться, мы с тобой месяца два от силы назад виделись… Это что же, у вас и арест, и следствие, и приговор, и этап – в такие сроки укладываются?
Соответствующей тематикой я с детства интересовался и был в курсе, потому как в наших дворах сидел каждый второй взрослый, а каждый третий пацан или таких родственников имел, или туда собирался с тем же чувством предопределенности, как я – в институт. Оставаясь при этом уважаемым членом «прайда». Каждому своя дорога, хотя курирующие наш двор авторитеты деликатно, но настойчиво советовали мне идти на юридический. Мол, ларьки подламывать тебя никто не пошлет и не посылал, если ты в десять лет «рьманы тискать» умел, как не каждый артист по радио в «Театре у микрофона». Была такая передача, неплохая, кстати, только не в то время и не для того контингента. А я, спокойно, сидя у костерка, пересказывал двадцатилетним, от задницы до шеи покрытым наколками парням сокровища мировой литературы, от Апулея до Честертона и Колбасьева. С купюрами и собственными дополнениями. Шло на ура. Какое, казалось бы, дело вору с несколькими ходками до забав царских гардемаринов, а вот слушали же…
– У меня – уложились. Да еще и три полновесных года я отсидел там, где тебе даже по самой крайней злобе не пожелал бы…
Оно понятно, время штука гибкая, а все равно странно. До сих пор странно, поскольку мы с ребятами каким-то образом собственные соотношения времен регулировали.
Нет, ерунда. Все не так. С друзьями в «настоящем» 2005 году как вышло? «Для них года, а мне – единый миг». Искаженная цитата, но суть отражает.
А что, если слова Антона – очередная туфта? Еще один способ возвратить нас в Игру, от которой мы отказались радикально, передав все козыри тем, кому она еще в охотку. Причем нам Антон лично или те, кто за ним стояли, настоятельно рекомендовали укрыться в своем двадцать пятом и никуда не высовываться, прежде всего – не лезть в Сеть. Мы этим советом сначала пренебрегли, вволю порезвились на стыке две тысячи пятых годов, кому-то очень сильно испортили настроение и планы. Не только Дайяне и Лихареву, пожалуй, а и фигурам на несколько порядков более тяжелым. И опять удалились «в себя», договорившись по возможности вообще забыть о случившемся, в надежде что мало-помалу временнбя ткань как-нибудь срастется. А за нашей спиной, оказывается, интрига продолжалась и развивалась. Сашка вот, получается, опять вмешался… И до меня очередь дошла, в самый неподходящий момент и в невыгодной позиции…
– Все! – сказал я, прерывая поток собственных фантазий. – Я молчу, а ты четко и конкретно излагаешь. После чего станем снова думать и рассуждать…
Глава вторая
Есть люди, которые к своим жизненным бедам относятся легко. Пока плохое не случилось – нечего переживать. Случилось и пока еще длится – надо делать то, что в силах, выкручиваться или сводить к минимуму возможные негативные последствия. Прошло с каким угодно результатом – ненужное забыть, из остального сделать приличествующие выводы и двигаться дальше. А есть другие. Постоянно терзаются прошлым, изменению уже не подлежащим, боятся будущего, не того, что произойдет, а того, которое сами себе придумали.
Я, смею надеяться, отношусь к первому типу. А вот Антон, к моему глубокому изумлению, оказался из вторых. Вроде писателя Варлама Шаламова, так и не сумевшего за двадцать послелагерных лет найти себя в свободной жизни.
Свобода, конечно, и на воле оказалась относительной, однако немало людей, отсидевших побольше его, сумели адаптироваться и даже извлечь из прошлых страданий рациональное зерно. Но Антон как-то скис. Закалка не та. Полтораста лет в роли «хозяина жизни» и «сверхчеловека» серьезно его расслабили. Похоже, доставшиеся испытания и нравственные муки ударили его тяжелее, чем узников сталинских и гитлеровских концлагерей. Я имею в виду выживших, естественно.
Вот его рассказ в моем переложении.
«…Антон действительно после завершения своей земной миссии был удостоен титула Тайного посла первого ранга, что любители систематики и геральдики могут считать аналогом российского генерал-лейтенанта по военному ведомству, камергера по придворному, тайного советника по гражданскому, архиепископа по церковному. Чин вполне солидный, дающий право на занятие целого спектра должностей, дипломатических и научных. Ему теперь ничто не препятствовало принять кафедру у своего учителя и наставника Бандар-Бегавана, получить когда-то столь чаемый им пост Брата-советника при правителе одной из наиболее развитых и культурных планет и даже целой планетной системы Конфедерации.
Этот пост давал возможность, при желании, не делать совершенно ничего, посвящая бесконечный досуг научным занятиям, развлечениям и медитации. Или же, в случае наличия должных амбиций, взять в свои руки все незримые ниточки, они же – приводные ремни, организующие (обеспечивающие) образ жизни миллиардов подданных и внешнюю политику отданной ему «в кормление» [7] цивилизации.
Этакий «вице-король Индии» или губернатор Восточной Сибири начала XIX века, до которого инструкции и указы из Метрополии доходят раз в полгода, если не реже, и ответ идет столько же. То есть основной массив решений он принимает самостоятельно, а его отчеты о проделанной работе по большей части имеют для вышестоящего начальства лишь исторический интерес.
В Конфедерации, естественно, система связи действовала мгновенно на любое расстояние, зато в недрах Департаментов рассмотрение поступающих «бумаг» занимало те же полгода-год, по причине особого устройства бюрократических структур. Что, по большому счету, устраивало всех.
Принадлежность к клану форзейлей позволяла Антону работать в галактической разведке, психологических (в том числе и ксенопсихологических) службах, областях, связанных с тамошней мистикой и эзотерикой. Конечно, все это относилось только к мирам, населенным гуманоидами. Для связи с негуманоидами любых родов и классов имелись свои специалисты.
В то же время любому форзейлю, именно в силу их архаичной клановой системы, своеобразно понимаемой «рыцарской чести» и собственной философии и этики, плохо вписывающейся в рамки господствующей идеологии, путь в такие ведомства, как Внутренняя Администрация или тем более Департамент Соответствия, был заказан раз и навсегда. Как немецкому еврею в гестапо.
Да никто из них туда и сам не стремился, как боевой гусар Денис Давыдов ни за какие коврижки не пошел бы в жандармский корпус или интендантское управление.
В итоге Антон, уже постигший, в том числе и с помощью своих земных друзей, многие тонкости устройства Конфедерации, согласился на не сулящий особых неприятностей и нравственных проблем пост. Планета в самом деле была крайне цивилизованной, богатой, с роскошным климатом и населением, тратившим все свое время и душевные силы на интеллектуальное самосовершенствование и гедонизм.
Предполагалось, что все действительно серьезные проблемы там были якобы решены и никакой другой разумной цели, кроме как заниматься познанием тайн природы ради самого познания, не существовало. Сам же процесс являлся столь бесконечным, сколь и бессмысленным, поскольку границ его все равно не существует. А в силу давно достигнутого предела в удовлетворении телесных потребностей не осталось и промежуточных рубежей, к которым стоило бы стремиться.
Земные фантасты вообще, как давным-давно убедился Антон, ухитрились вообразить и описать почти все, что на самом деле существовало во Вселенной «первого порядка». Ничего подобного человеческой фантастике в мирах Конфедерации места не имело. Именно по причине самодостаточности их обитателей и отсутствия разрыва между воображаемым и возможным. Антиутопии занимали их воображение еще меньше. Потому Антону так нравилась Земля и раздражало все остальное.
Какое-то время он честно пытался вживаться в новое состояние. Любых качеств, кроме желания, у него хватало, чтобы «соответствовать». А вот желания и не было. В том числе оттого, что он в очередной раз сумел уклониться от процедуры рекондиционирования. Слишком жаль ему было терять свой ставший привычным характер и все приобретенные на Земле навыки.
Кем бы он стал без всего этого? Да никем, очередным чиновником высокого ранга, и не более. Правильно как-то сказал Бандар-Бегаван, «ноосфера Земли очень ядовита, разумный человек, желающий сохранить ясность мышления, не должен подвергаться ее воздействию сверх необходимого». А Антон, получается, эту меру превысил.
Только зря он рассчитывал, что его уловки смогут обмануть настоящих специалистов. Это стандартную, довольно примитивную аппаратуру, на которой обычно проходили проверку и перенастройку чиновники его уровня, прибывающие с планет, не входящих в Конфедерацию, и убывающие туда, он обманывать научился. И не столько «железо», как обслуживавших его техников.
В его распоряжении было огромное количество всяких специальных методик, и наложенная поверх базового психотипа сетка подмены давным-давно известных ему характеристик, позволяла проходить Испытание без всяких проблем. Испытатели просто не видели несоответствий.
Об этом когда-то догадался Бандар-Бегаван, но не выдал своего ученика, потому что потерял бы от такого шага куда больше, чем мог приобрести. Да, кроме всего прочего, Антон еще в начале ХХ века, когда это было модно в кругах эстетов, испытал на себе несколько религиозно-эзотерических практик. Сознательно расширил, выражаясь слогом того же профессора, сферу соприкосновения внутреннего мира с внешней средой в окружении принципиально иной ноосферы. Впустил чужое в глубины личности.
И оказался в роли одного из тех наследников туземных владык, которых направляли на обучение в Кембридж, Итон или Петербургский Пажеский корпус и которые ухитрились усвоить не только курс обучения, но и психологически осознали себя британскими аристократами и русскими гвардейскими офицерами. Такое случалось, не часто, но все же. В России было проще, там образованного инородца довольно легко принимали в «общество», судьба же «энглизированного» индуса или кафра складывалась куда печальнее. Что в Метрополии, что после возвращения к родным пенатам.
Скука и разочарование охватили Антона в первые же дни его новой работы, и сопротивлялся он им недолго. Слишком уж манила Земля, на которой он был счастлив. Там его жизнь имела смысл, пускай в экзистенциальном смысле очень относительный. Мелькала мысль, что перестроить личность и начать жить в согласии с господствующими в обществе императивами было бы куда легче и удобнее, но не хотелось.
Человеком быть пусть и трудно, но интересно. А здесь, исполняя протокольные функции своей должности, он зачастую едва сдерживал смех, а чаще – раздражение. Как рафинированный офицер Российского Генштаба, вынужденный соблюдать церемониалы, принятые при дворах абиссинского негуса или мандарина маньчжурской провинции.
Часто (что не возбранялось), отбывая в высокогорную резиденцию (вроде Лхасы), где следовало созерцать десятикилометровые ледяные пики или предаваться сексуальным утехам со специально воспитанными и обученными девушками, он вместо этого выходил в доступные ему по должности уровни Информария, разыскивая свежие документы, касающиеся Земли.
Их было не слишком много после ликвидации операционной базы и постоянного кураторства. Этот «затерянный мир» интересовал только немногочисленных историков из Академии, но все равно Антон не мог избавиться от ощущения, что настоящая жизнь осталась там. А здесь лишь влачится ее жалкое подобие.
Синтанга в его распоряжении было сколько угодно, как и иных стимулирующих, успокаивающих и разжигающих воображение напитков и веществ. Но он сумел настроить обслуживающую автоматику так, что она синтезировала продукцию на базе этилового спирта, в любых вариациях, от «Столичной» водки до хересов и портвейнов высших сортов.
Разницы вроде бы никакой, важно ли, чем воздействовать на соответствующие области мозга, чтобы впасть в измененное состояние? Однако она тем не менее имелась. Все употребляемые в мирах Конфедерации (по крайней мере – в высших слоях их обществ) вещества тем или иным способом ориентировали организм в сторону усиления поощряемых здесь настроений и качеств – созерцательности, покоя, возвышенных размышлений. Если и фантазий, то побуждающих к самоуглублению, благорастворению, отнюдь не к внешней активности или агрессивности, упаси бог.
Так англичане культивировали в Китае употребление опиума, отнюдь не виски, хотя его экспорт (или производство на месте) мог бы принести куда большую прибыль.
Кроме привычных напитков, поддержанию должного тонуса способствовали физические упражнения и тренировки в боевых искусствах, земных и практикуемых представителями иных культур, еще не утративших пассионарность.
Время от времени Антону приходило в голову, что Игроки отнюдь не списали его в тираж, а просто перевели в «действующий резерв», поддерживая с ним одностороннюю связь. Иначе почему же, на самом деле, он никак не может успокоиться, лезет в дела, которые теперь его совсем не касаются, рискуя, между прочим, достигнутым статусом.
Полученную одновременно с титулом «Особо Важную Инструкцию» никто не отменял, а она предписывала свернуть операционную базу (Замок в просторечии), и прекратить всякие контакты с Землей. Единственной зацепкой (формально-бюрократической, естественно, а других здесь и не бывало), которая в случае чего могла его хоть как-то оправдать, было то, что в Инструкции речь шла о Главной исторической последовательности, только! Псевдореальности любого порядка в виду не имелись, составители инструкции, что вполне вероятно, в силу своей однобокой специализации могли вообще не иметь понятия о таком феномене.
Так что, казалось ему, он всегда сможет сослаться на то, что приватным образом продолжает научное исследование хронополитических парадоксов. Всего лишь.
Парадоксов же на пересечении ГИП [8] с развивающимися и латентными альтернативами хватало.
Пользуясь положенным ему по должности «ключом» для межпространственных переходов, Антон через множество пересадочных станций, запутывая следы, несколько раз проникал туда, где обстановка слишком уж накалялась, и его земные друзья, пока еще не понимая этого, слишком близко приближались к опасному краю. То есть – продолжал исполнять давным-давно заявленную роль «светлого Даймона-хранителя».
Моментами у него возникало ощущение некоего «дежавю»: он снова ощущал, что не сам предпринимает рискованные, а главное – бессмысленные в его положении эскапады. Откуда-то возникали в сознании «руководящие и направляющие» импульсы Высшей воли Игроков или Держателей, и он им подчинялся, передавая землянам рекомендации и советы. Сам не в силах оценить, что же станет результатом подсказанного шага. И чем это отольется парням, которым старался покровительствовать. Да и ему тоже.
В то же время он был не в силах противостоять побуждениям: пробирался в Замок или непосредственно в одну из реальностей, где оперировали его подопечные, вмешивался в естественный ход событий и ощущал физическое удовлетворение и радость, едва ли не сексуальной интенсивности, а также уверенность, что «все к лучшему в этом лучшем из миров».
Зря вот только Антон проявил такую самонадеянность, вообразив, что умнее или хотя бы хитрее специалистов Департамента Соответствия. Или все же надеялся, что «Высшие силы» знают, что делают, и в обиду его не дадут? Мелких канцелярских сошек он обманывал легко, но любая служба состоит не только из них. Начиная с какой-то ступеньки, там сидели ребята не глупее его. Только иначе ориентированные и лишенные неуместных эмоций. Особенно – земного типа. Это может показать удивительным, но возвышенные чувства дээсники просчитывали легко, хотя сами им не были подвержены, а вот перед настоящими земными пакостями, подлостями, интригами, основанными на использовании логик высших порядков, они терялись.
Почему и удалась в свое время Антону его интрига против Совета Конфедерации и синклита Облеченных доверием. Просто никто из тех, кто был причастен к делу, вовремя не сумел сообразить и определить, в каком направлении вздумает действовать атташе, на судьбе и карьере которого был поставлен жирный крест [9].
Однако с первого раза устранить его не удалось. Как и в каждой бюрократической системе, поступившая информация нашла заинтересованных лиц. Очень многие, воспользовавшись, сумели решить свои вопросы: устранив конкурентов, продвинувшись по карьерной лестнице, завертев новые интересные комбинации. В результате и Бандар-Бегаван был прощен и вознагражден, и Антону кое-что досталось.
Их общая беда заключалась в том, что ведомства Метрополии обладали гораздо большей автономностью, чем земные. Чего Антон не понял, слишком очеловечившись, а много просто не знал, весьма далекий по должности и образованию от специфических служб.
В России (что в царское время, что в сталинское), должностное лицо, пусть и допустившее какую-то промашку, но прощенное Высшей властью и вдобавок получившее повышение, автоматически избавлялось от преследований по «предыдущим обстоятельствам», разве что сохранило бы некоторое количество недоброжелателей из стана проигравших. А там уж – чья возьмет, причем скорее всего не ранее чем при смене сюзерена.
Здесь же было несколько иначе. Единожды обратив на себя внимание сотрудников Департамента Соответствия, Антон уже никуда не мог деться. Ни заслуги, ни чины и должности, стань он хоть одним из Облеченных Доверием, никоим образом избавить от разработки не могли. И разрабатывали его там с полным тщанием.
Понятно, что некоторые приемы и способы действия форзейля дээсникам были недоступны по причине той же структурированности жизни и системы управления Конфедерации, но хватало и косвенных доказательств.
«Игроки», если мы по-прежнему согласимся считать их значимыми личностями в процессах, охватывающих представимую нами Вселенную, обращали внимание на Антона как на солидную фигуру только в их «геоцентрической» партии. Там они использовали его возможности и личные качества, его обладание Замком. Воспринимали форзейля, скажем, как «ладью». Двигали произвольно, вдоль и поперек горизонталей доски, оставляя при этом ощущение свободы воли. Но только именно на этой доске, другие их не интересовали.
А когда он оказывался в другом секторе Галактики и в ином качестве, они выпускали его из наблюдаемой зоны. То есть он оказался предоставлен самому себе, но совсем не так, как привык раньше.
Не сумев правильно понять происходящее, Антон вообразил себя независимым игроком, поступающим по собственному усмотрению. Здесь, предположим, у него служба и офис, а неподалеку есть поле для гольфа, куда можно съездить в свободное время и погонять шарики между лунками.
Взбодрившийся, получивший удовольствие от новых степеней свободы, он совершенно утратил бдительность вместе с чувством самосохранения. Сразу две такие ошибки совершать не позволено даже на Земле.
А ведь Бандар-Бегаван намекал ему на грядущую угрозу для них обоих. Намекал не столько даже словами, как известными «посвященным» жестами, умолчаниями и стилем поведения. Но Антон, твердо уверенный, что Процедуры такого человека коснуться не могут, предпочел вообразить, будто аггрианские агенты сумели добраться до Метрополии, осуществили инвазию, проникли в структуры, имеющие отношение к ходу войны. Организовали интригу с целью дискредитации видного дипломата и его верных сотрудников.
И сыграл против них в привычном стиле.
Теперь пришло время асимметричного ответа с другой стороны.
Взяли его точно так же, как это могло быть сделано и на Земле в отношении чиновника высокого ранга, когда нет намерения сразу его засветить и вывести в тираж. Может ведь случиться, что он еще пригодится в том или ином качестве, да и чужую структуру не следует без специальной команды подставлять.
Дождались, когда он окажется в хорошо замотивированной длительной отлучке из своей официальной резиденции, в очередной раз переместится на Землю, естественно, без санкции своего Департамента. Уже серьезное правонарушение. Вздумай он посетить любой из миров Конфедерации, претензий к нему не было бы, напротив, согласно рангу он имел право на соответствующий Протокол.
Земля же, как, кстати, и Таорэра-Валгалла, относилась к «закрытым территориям», выведенным из юрисдикции Департамента активной дипломатии.
Поэтому вошедший в апартаменты Тайного посла чиновник, согласно положениям Церемониала состоящий в одном с ним ранге, в крайне уважительном стиле попросил всего лишь объяснений. Если таковые имеются, вопрос снимается сам собой и почтеннейшему Послу будут немедленно принесены все положенные извинения.
Антон поначалу не оценил серьезности положения, в котором оказался, и сослался на тему своей научной работы, которая велась строго в пределах его специализации и, естественно, предполагала постоянный сбор и обновление фактологической базы. Чем он и занимался в свободное время, никак не выходя за пределы исследования.
На Земле подобного объяснения хватило бы, и настырного ученого или журналиста, проникшего, скажем, в район военных действий или зону, находящуюся под международным эмбарго, просто выдворили бы к месту постоянного проживания, если бы соответствующие службы не уличили его в прямом шпионаже или пособничестве мировому терроризму. Да и то почти наверняка вмешались бы международные организации, правозащитники, пресса, общественное мнение. Хорошие адвокаты, в конце концов. Могли бы, конечно, и убить из-за угла, и взять в заложники, но это уже был бы эксцесс исполнителя.
Здесь – не прошло.
Вопрос о шпионаже (в том смысле, как это понимается у них) тоже всплыл, по поводу контактов с аггрианскими представителями, происходивших уже после того, как Инструкцией Антон был лишен таких полномочий.
Нашлось и еще несколько пунктов, по преимуществу касавшихся именно нарушений принципов Соответствия. Если попытаться подобрать им земные (еще точнее – советские аналогии времен Отечественной войны), то получилось бы нечто вроде ненадлежащего исполнения долга, сознательного введения в заблуждение высшего руководства с корыстными намерениями, преступного малодушия, попустительства врагу, преступной же халатности, трусости, граничащей с изменой Родине. Хорошо еще, что лишь граничащей!
В СССР такие обвинения тянули для офицеров и генералов в лучшем случае на разжалование и штрафбат (пока не смоешь вину кровью или особым героизмом). Но могли дать и вышку, под горячую руку, а скорее – из особых соображений, как генералу армии Павлову со всем его штабом.
В Конфедерации нравы были ничуть не мягче, и много сотен лет действовала судебная система, удивительно напоминающая практику сталинских «Особых совещаний», где решения принимались без участия прокуроров и адвокатов, на основании мнения [10]. Апелляции, кассационные жалобы и просьбы о помиловании не принимались, приговоры приводились в исполнение немедленно.
Здесь то же. И приговор был написан заранее, и все подготовительные мероприятия проведены, просто церемониал соблюдался тщательнее. Как писал Конфуций: «Откровенность без церемониала – это хамство».
Со всеми положенными рангу Антона почестями его препроводили в парадные покои Особоуполномоченного Департамента Соответствия по этой планете, где Облеченный Доверием второго класса (чиновник на два ранга выше подсудимого) собственноустно зачитал формулу обвинения и приговор, после чего осужденному предоставилось «последнее слово». Такая юридическая тонкость.
Не до приговора, а после. Чтобы, значит, объект правосудия мог высказать свою позицию максимально свободно и в полном объеме, не стесненный мыслью, что его слова могут как-то повлиять на позицию суда, в ту или другую сторону. Более того, речь можно вообще не произносить, а изложить ее на бумаге, любым объемом, не второпях, под влиянием негативных эмоций, а хорошенько все обдумав и осмыслив. Временем осужденный тоже не ограничен, пиши хоть до конца срока, хоть до конца жизни. Затем собственноручно переплетенный автором труд (брошюра или толстый том) будет передан на хранение в специальную библиотеку, где с ним смогут ознакомиться все желающие, имеющие специальный допуск.
За тысячелетия, говорят, там накопилось громадное собрание весьма любопытных материалов.
Антон обошелся тем, что в нескольких емких фразах сообщил Высокому суду все, что он думает о нем лично, Департаменте в целом и самой Конфедерации. Закон действительно был мудр, слова, которые в ином случае потянули бы еще на несколько серьезных статей, в данный момент, после оглашения приговора, как бы теряли свой «подрывной» характер.
Вердиктом было «пожизненное просветление», но и только. Ни титула, ни иных прав и привилегий осужденный не лишался, тем более – его наследники и родственники, если бы таковые обнаружились. Режим содержания более всего походил на «домашний арест», а не на тюрьму или каторгу. Но – заключение строго одиночное, никаких свиданий и тому подобного. Все каналы связи с внешним миром переключались строго на прием, то есть, грубо говоря, Антон отныне и навеки оказывался внутри некоей «сферы Шварцшильда», за пределы которой никакое материальное тело и даже пакет информации вырваться не может…
И это – навсегда.
Его даже не стали принудительно рекондиционировать. Зачем? Наказание не предполагало вмешательства во внутренний мир осужденного. В противном случае это получилась бы уже другая личность, не несущая ответственности за деяния «оригинала». Он оставлен таким, каким был в момент появления преступного умысла, в процессе его осуществления, и в таком же качестве должен осмысливать его последствия…
…Все, что думал, переживал, анализировал и записывал Антон, сообщать здесь и сейчас не имеет смысла. В отличие от Эдмона Дантеса он прекрасно знал, за что пострадал, потому был избавлен хотя бы от терзаний неведением. В остальном же все было очень и очень плохо.
Если Учитель в свое время опасался, что его направят на «путь просветления», так тот вариант – детские игрушки. «Путь» – это всего лишь аналог ссылки провинившегося священника в отдаленный монастырь, где он терял часть физической свободы и возможность общения с паствой и привычным окружением. А «глубокое просветление» – вроде заточения джинна в кувшин с последующим выбрасыванием в Марианскую впадину.
«Кувшин», конечно, был побольше стандартного, вполне приличная вилла, снабженная всей необходимой для поддержания жизни бытовой автоматикой и доступом в Информарий. Имелась и территория для прогулок, садик в половину футбольного поля, где он мог заниматься огородничеством, цветоводством или конструировать собственный «Сад камней» с любым количеством элементов и самой невероятной геометрией.
А главное – цель наказания достигалась с первых же минут или часов. Ничем иным, как размышлениями о своей горькой участи, допущенных ошибках и вариантах «более правильного поведения», узник заниматься просто не мог. Даже отвлечь себя разработкой планов побега не получалось, так как вариантов просто не существовало. С тем же успехом Робинзон, за отсутствием материалов для постройки лодки, мог сосредоточиться на отращивании у себя крыльев или жабер.
Конечно, эффект наказания был бы куда большим, думал временами Антон, любуясь закатом, рассветом или покачивающейся под движением ветерка травинкой, если достигший «истинного просветления» все же получал в точно рассчитанный момент свободу. Тогда система могла получить особь, пригодную к дальнейшему и весьма полезному использованию. А так понапрасну растрачивается ценный материал…
Дальше в голову приходили самоуспокоительные мысли, что так скорее всего и обстоит дело, рано или поздно узника освобождают и направляют на какую-нибудь работу, скорее всего под другим именем. Мало ли в Конфедерации систем и планет, нуждающихся в хороших специалистах?
Нужно только вычислить оптимальный срок наказания – год это, три или пять? Больше вряд ли, серьезные исследования давным-давно установили, что после пяти лет одиночки (настоящей одиночки) наступают необратимые нарушения психики. Тот же граф Монте-Кристо, разве был он во втором томе нормален, пригоден к любой осмысленной созидательной деятельности, кроме изощренной мести?
После того как истек первый год, Антон еще держался.
Ухаживал за садом, по несколько часов в день занимался физическими упражнениями. Вспомнив таланты Шульгина, увлекся метанием ножей в цель и постепенно достиг значительных результатов.
Ночами он обычно писал. Не «последнее слово», конечно, а подобие мемуаров, где анализировал преимущественно земной отрезок своей жизни, с самой Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Вдаваясь во всякие интересные подробности, общеполитические и из личной жизни. Нечто вроде «50 лет в строю» графа Игнатьева. И в какой-то момент его вдруг озарило – век ему свободы не видать, если в этом и не заключается цель подобной меры наказания. Никому он сам по себе не нужен. В масштабе Конфедерации – не более чем песчинка на океанском берегу. Выпускать его на волю ни через пять, ни через сто лет никто не собирается, и единственная польза, которую из него собираются извлечь, – это как раз записки, мемуары, слова, которые он произносит вслух, потому что не может же человек круглосуточно молчать.
Вот из всего этого специальные люди, а может быть, целые институты добывают и концентрируют информацию, пригодную для дальнейшего совершенствования системы поддержания Соответствия.
После постижения истины он неделю с утра до вечера «под пробку» наливался синтангом.
Синтанг, может быть, самое гениальное изобретение родной планеты Антона, распространившееся по большинству гуманоидных миров Конфедерации. Исходный материал – обычное растение, наподобие земной коки, употреблявшееся древними аборигенами аналогичным способом, то есть – жеванием. Однако в процессе прогресса и развития наук из него начали делать не банальный кокаин или что-то в этом роде, а изобрели методику особого рода ферментации. В итоге получился продукт совершенно уникальных качеств и широчайшего спектра действия. Из него производился «чай», обладающий общеоздоравливающим и тонизирующим действием, по мере повышения концентрации дающий успокоение и навевающий сладкие грезы. Другие технологии превращали экстракт в мощный стимулятор нервной и психической деятельности, наподобие фенамина. Он вполне сгодился бы десантникам, покорителям горных вершин и работникам экстремальных аварийно-спасательных служб.
Мог, при желании потребителя, служить достаточно сильным галлюциногеном, при этом не разрушающим, а все так же укрепляющим и оздоравливающим организм.
Еще одно свойство, незаменимое для таких, как Антон, узников, – синтанг вполне заменял женское общество, которого они были лишены окончательно и навсегда. Только если гашиш, который «горный старик» давал своим «ассасинам», чтобы продемонстрировать им мусульманский рай с гуриями и шербетом, был все-таки наркотиком, до «слега» далеко не дотягивающим, синтанг в нужной пропорции и концентрации мог обеспечить полное впечатление близкого общения с девушкой «твоей» и чьей угодно еще мечты. То есть любой фактически существующей и с любой степенью достоверности придуманной. И – главное, данная иллюзия сопровождалась необходимыми физиологическими последствиями, так что узник от нарушений на этой почве не страдал.
Хорошо зная русскую литературу, Антон внезапно вспомнил абзац из «Записных книжек» Ильфа.
«Экстракт против мышей, бородавок и пота ног. Капля этого же экстракта, налитая в стакан воды, превращает его в водку, а две капли – в коньяк „Три звездочки“. Этот же экстракт излечивает от облысения и тайных пороков. Он же лучшее средство для чистки столовых ножей».
– Совершенно про синтанг написано. Наверное, Илья Арнольдович где-то тут у нас побывал, – бормотал форзейль, обнимая очередную пассию, которой придал облик и темперамент Софи Лорен времен ее участия в фильме «Брак по-итальянски».
Реально знакомых ему женщин он в свои забавы втягивать избегал. Может быть, оттого, что лемовский «Солярис», не фильм, а книгу, помнил хорошо даже в нынешнем раздерганном состоянии. Не маньяк же он и не извращенец.
Выйдя «из запоя», попытался взять себя в руки. Да, узник, да, пожизненный, да, возврата и пути к спасению нет. Но это не повод умереть в объятиях придуманной красавицы, пуская слюни, как последний деградант. Уж лучше сделать что-нибудь вроде обряда «сеппуку», написав изящное предсмертное стихотворение. Холодного оружия у него полно. Вот любых огнестрелов, лазерного, пучкового, гравитационного и прочего высокотехнологического оружия ему иметь не позволялось. А в чем смысл запрета? Все равно ограды нет, охраны на вышках нет, воевать не с кем, пресловутую сферу и бортовым залпом космического линкора не пробьешь. Но – ход мыслей судей и тюремщиков простому узнику понять не дано.
Тем не менее – наложить на себя руки совесть не позволила. И гордость. Дать возможность этим сволочам и гадам торжествовать – извините. Погибнуть в бою, пусть и заведомо проигрышном, – пожалуйста, но самому… Пошли вы все на…
Тут же вспомнились совсем давние (по нормальной шкале), годы, когда носил темно-зеленый мундир с золотыми капитанскими погонами и, несмотря на малый чин, беседовал в палатке за накрытым по-походному столом с Великими князьями, будущим царем Александром Александровичем и главкомом Николаем Николаевичем. Он пытался им внушить, что не стоит затевать Плевенско-Шипкинскую операцию, куда лучше, оставив демонстративные заслоны, предпринять, в стиле Шлиффена, глубокий обход правым флангом от Бухареста через Видин и Софию прямо на Константинополь, оставляя Балканы и главные силы турок в тылу. Чем предвосхитил стратегическую идею немцев в войне против Франции в сороковом году следующего века.
Его не послушались и получили то, что получили, а Антон, довольно успешно покомандовав передовым отрядом Скобелева, в нужный момент отбыл к Главной квартире турецкого полководца Осман-паши, где в роли английского инструктора принес русской армии гораздо больше пользы.
Этот давний опыт слегка его воодушевил, в том смысле, что безвыходных (совсем уж безвыходных) положений не бывает. Иногда достаточно просто взглянуть на жизнь под другим углом.
Следующие месяцы он изнурял себя физическими упражнениями всех известных ему методик – земных и форзелианских. Как будто ему предстояло, с боем вырвавшись из тюрьмы, пешком пересечь пустыню Калахари, сражаясь с аборигенами и дикими животными. Не пил синтанга, ничего вообще, кроме чистой воды из родника, ел невкусную, но полезную пищу. Сжег на костре свой труд, старательно развеяв пепел по ветру, и начал писать новый. Издевательский по отношению к своей Конфедерации настолько, как «Похождения бравого солдата Швейка» – к австрийской империи.
Практического толка и от этой акции немного, ущерба достоинству неприятеля – еще меньше, но хоть позабавиться…
На третьем году прискучило и это. Все чаще стали повторяться приступы депрессии, мучительной, особенно по утрам. Снова появились мысли о добровольном уходе из бессмысленной жизни, и Антон возвратился к синтангу.
Ему оставалось только экспериментировать с этим гранулированным порошком, который поступал по линии доставки, в надежде нащупать такую концентрацию отвара и температурный режим, которые позволили бы ему исполнить замысел.
Не самоубийства, его он оставил на крайний случай, причем способ придумал эффектный, в стиле римлян-сибаритов эпохи упадка.
Сейчас он убедил себя, что если удастся привести мозг, всю нервную систему в особое состояние, по тому типу, как это ухитрялся делать профессор Удолин, кое-какой шанс у него появится. Сам Антон врожденными способностями медиума не располагал, «не на то учился», однако уверовал, что годы «просветления» не прошли даром. Одиночество, размышления и медитации, похожие на те, что выводили на тропу сверхчувственных способностей земных йогов, должны были повлиять на структуру его личности в нужном направлении. Плюс воздействие синтанга, всех свойств которого по-настоящему не знал никто, но мудрецы его клана добились куда большей глубины постижения, чем прочие расы миров Конфедерации.
Сфера, или куб непроницаемости, которые заменяли тюремные стены, не могли быть непроницаемыми абсолютно. Каким-то образом ведь функционировала линия доставки, канал связи с Информарием, откуда-то брались свет и воздух, удалялись продукты метаболизма? И энергия. Не вечный же двигатель вкупе с тотальным синтезатором здесь установлен. Да и слежка за его поведением непременно осуществляется. Значит, герметичность сферы – фикция. Раз так – следует хотя бы эманацией мысли попробовать нащупать ее слабые места.
Самостоятельно выскочить в Гиперсеть эфирным или квантовым «телом» он не надеялся, а вот послать ментальный сигнал тем, кто на это способен, – отчего бы и нет?
Можно сказать, что узник одиночки начал учиться тюремной азбуке перестукивания, не зная толком, сидит ли кто-нибудь в соседних камерах. Ему хотелось верить, что внешний мир существует, совпадает по времени с его узилищем и в нем еще живут люди, которым его судьба не безразлична. Которые захотят и смогут помочь.
Подобно Серафиму Саровскому, круглосуточно, на автопилоте, независимо от того, что еще говорил и чем занимался, повторявшему «молитву Иисусову» [11], Антон «на разных волнах», используя все известные ему формулы, посылал в мировой эфир сигнал бедствия и пытался уловить какой-нибудь отклик. Ведь когда таким же образом взывали к нему Новиков или Шульгин, он принимал их сигнал, даже находясь очень далеко пространственно и хронологически…
К входным терминалам Замка он тоже пытался апеллировать, рассчитывая на то, что, недобросовестно выполнив приказ руководства, оставил ему достаточно степеней свободы и объемов памяти, чтобы тот уловил обращенный к нему вызов-запрос.
Но отклика все не было, ниоткуда, и дух Антона постепенно начал хиреть, вырождаться, теряя последнюю волю к сопротивлению. Форзейль не имел возможности узнать, что тоскливо тянущиеся для него годы – на Земле уложились в неполные две недели, а его призыв достиг цели уже на третий день…
О неравномерности хронополя он, естественно, знал достаточно, просто не было способа выяснить его нынешнее состояние относительно иных реперных точек. С тем же успехом все могло обстоять полностью наоборот, и его сутки – соответствовать земному году. Тогда друзей просто нет уже в живых и надеяться не на кого, разве что в Замке поселились и освоили его их потомки…
…Пребывая в глубоком упадке духа, перебирая в уме тексты древних мудрецов своего клана, способные окончательно погасить деятельные эмоции, оставив только смирение перед неизбежностью, выведя разум за пределы длящегося физического настоящего, Антон не сразу понял, что «прорыв блокады» только что состоялся.
Ощущение походило на то, что испытал Дантес, очутившийся после своей вонючей одиночки (кстати, Дюма нигде не указал, имелась ли в его камере параша или же какая-то система канализации, а это существенный момент) в морских волнах и вдохнувший соленого ветра. Только это случилось в ментальной сфере и воздух свободы наполнил не легкие, а мозг.
Не прошло и минуты, как он увидел в возникшем перед ним «окне» знакомое лицо Шульгина.
Какое-то время мысли Антона еще путались, реальности налагались друг на друга, он то нес прежнюю околесицу, то начинал говорить разумно, едва-едва сдерживая наворачивающиеся на глаза слезы. Слишком долго ждал…
Параллельно в мозгу открылся второй канал связи, по которому он начал получать четкие инструкции, часть из которых оставлял для внутреннего употребления, часть передавал Сашке, будто исходящие от себя лично.
Времени у них на организацию и совершение побега было немного, минут пять-десять локальных, а потом или канал не выдержит, или его засекут охранно-следящие системы «сферы».
Антону пришлось пережить момент смерти его здешнего тела, чтобы высвободить «дух» и оставить врагам неопровержимое доказательство завершения жизненного пути «просветляемого», чего не получилось у будущего графа.
В то же мгновение свернутая в волновой пакет матрица, примерно таким же образом, как некогда Шульгин был внедрен в тело наркома, преодолев сколько-то парсек и лет, оказалась в февральской Москве тридцать восьмого года, в квартире и в теле Юрия, бывшего аггрианского резидента, ныне дезертира, скрывающегося под личиной писателя-неудачника.
Утвердилась на новом месте, развернулась и начала обживаться.
Дальнейшее известно» [12].
Глава третья
Завершив свое повествование, которое, как я заметил, стоило ему немалых нравственных усилий (это только у нас в послевоенных дворах парни, отсидевшие год или три, рассказывали о тюремном житье-бытье с такой бравадой и подъемом, что многие малолетки легко поддавались этой «профориентации»), Антон выпил коньяка, который явно теперь был ему милее, чем пресловутый синтанг. А что – приятель-пограничник рассказывал, как пристрастие к анаше в Средней Азии сбивали обыкновенной водкой. Вполне успешно.
– Потом я еще немного покрутился между Замком, Лондоном, Москвой и Барселоной, сменил три тела (при этих словах на лице его мелькнула кривая усмешка, совершенно человеческая), встретился с так называемыми «дуггурами»…
Уловив мое недоумение, пояснил:
– Это представители побочной расы, в незапамятные времена вытеснившие с Земли в своей альтернативной ветке неандертальцев и кроманьонцев (книжки Саймака и Толкина про прежних хозяев планеты читал? Так в том же роде, только для нас хуже), и мы с Замком (о Замке – скажу отдельно), получив в свое распоряжение пленных, захваченных Шульгиным, задумались. Хочешь верь, хочешь – не верь, но даже на нашем уровне – противник это страшный и опасный…
Он в нескольких емких фразах обрисовал мне ситуацию, как он ее успел оценить сам. В самом деле – сюжет для добротного фантастического сериала. Земного происхождения, но несколько десятков тысяч лет (если не миллионов) развивающаяся по непостижимым биологическим и социологическим законам двухуровневая цивилизация. Такие вещи я схватываю быстро и тут же начинаю строить в воображении полноразмерную модель. Как и любую другую мыслеформу.
Так что мы имеем, если Антон достоверно изложил вводную? Каким-то образом, в естественном порядке или, что куда вероятнее, с помощью внешнего воздействия (целенаправленный эксперимент Держателей Мира или непредусмотренная мутация?), случилась такая вот хохмочка. Часть млекопитающих (?) гоминидов каким-то образом свернула на путь высших насекомых коллективного типа.
По крайней мере, из описания действий так называемых «монстров» следовало, что они этологически ничем не отличаются от обычных муравьев. Носят одежду, пользуются огнестрельным оружием, имеют, судя по всему, гораздо больше степеней свободы – ну и что? Это непринципиально. Важна суть. За счет миллионократно большего, чем у насекомых, объема и сложности нервной системы они могут имитировать гуманоидный стиль поведения, оставаясь в сути своей теми же муравьями. Только над инстинктами, любой степени сложности, пристроен еще один механизм, позволяющий вводить управляющие и стимулирующие сигналы, считывать информацию и так далее. Совсем грубо говоря, образовался этакий симбиоз муравейника, состоящего из теплокровных особей двухметрового роста и свободномыслящего вида «управляющих», избавленных от грязной работы и физического труда как такового.
Догадаться о форме и технологии существования такого общества не сложно, мы-то особи свободномыслящие, но понять, зачем оно возникло, и разобраться в деталях его устройства – может и жизни не хватить. Особенно если кто-то вознамерится ее насильственно укоротить. Вопросов, естественно, у меня возникла масса, но я их пока что решил оставить при себе. Пусть Антон продолжает «подход к снаряду». А что речь идет именно об этом, я не сомневался.
– С десятком «монстров» справиться может Шульгин, ну и ты, разумеется. Да почти любой мужественный, подготовленный, должным образом вооруженный человек. С сотней, даже тысячей повоевали успешно, но уже с напряжением сил, привлечением танкового батальона и порядочными потерями. Победили за счет внезапности сопротивления, в некотором роде, и кое-каких не учтенных противником личных способностей. А вот со всей их цивилизацией мы, опираясь на ресурсы и технологический уровень двадцать пятого и даже тридцать восьмого года, не совладаем ни в коем случае. Это тебе понятно?
Чего не понять? Если все обстоит подобным образом, то кисло. Разве, как в «Войне миров» марсиане, новые агрессоры вымрут от гриппа или ветряной оспы. В ином случае – что им можно противопоставить? Еще не созданные механизированные корпуса? Поршневые истребители и бомбардировщики? Атомного оружия нет, если только не притащить несколько зарядов из будущего. Что остается? Замок в качестве неприступной крепости, «альпийского редута», плюс «Валгалла», вышедшая в открытое море, – достойная база сопротивления. Установка СПВ позволит наносить врагу чувствительные, в каждом данном месте даже и смертельные удары, но у двух десятков человек элементарно не хватит времени и объема внимания, чтобы отразить тотальное, планетарного масштаба нашествие.
Что касается остального человечества, надежд на него мало. Антон прав, и дело даже не в несопоставимости чисто военных возможностей. Главный вопрос опять в психологии, ну и в геополитике тоже. То положение, в котором сегодня находится мир, ни за что не позволит ему мобилизоваться для отражения тотальной угрозы. Этот мир просто не успеет понять ее масштабы и суть. Стоит одновременно в десятке ведущих стран объявиться многотысячным ордам странного врага, как системы государственного управления рухнут. Потому что одновременно с «монстрами» придут «дуггуры» второго порядка. Кто может исключить, что они легко сумеют взять на себя управление человеческими мозгами?
И коллаборационисты в высших слоях европейских обществ непременно найдутся. По тем или иным причинам. Допустим, Югороссия с нашей помощью продержится дольше других. Но это уже будет непринципиально.
Перейдя к «партизанской войне» мы, Братство, сможем какое-то время причинять им массу неприятностей, но… Снова пресловутое «но»! Как можно сражаться с противником, ничего не зная о структуре его общества, истинных технических возможностях, мобилизационном потенциале, уровне «сверхъестественности» и прочих важных вещах?
Рота современного для конца ХХ века спецназа ГРУ без потерь способна разделаться с полком вермахта образца сорок первого. А вот с корпусом или армией – отнюдь. В рассматриваемом случае соотношение сил может оказаться еще более несопоставимым. Кроме того, нельзя исключать, что в какой-то момент большая часть человечества перебежит на сторону противника. Своей волей или под гипнозом – не важно.
Лично мы в случае чего в Замке сумеем отсидеться, но Земля будет потеряна наверняка. Хорошо, если только в одной реальности…
Тут я сообразил, что мы говорим не о том. Поначалу, от изумления, что ли, я совершенно выпустил из вида очевидный факт. Да и не слишком мне такую рассеянность можно поставить в упрек. Запутался я во временах и их пересечениях. Услышав Сашкино имя и слова о его участии в спасении Антона, я чисто автоматически подумал, что они пересеклись в астрале здесь. Сам Шульгин просто не успел из Новой Зеландии сообщить мне об этом эпизоде. Но сражения с монстрами и Барселона?
– Подожди, Антон! – Я нервно щелкнул зажигалкой и только сейчас заметил, что пепельница почти полна окурками. Плохо – начинаю терять контроль за динамическим стереотипом. – Мы говорим о чем? О тридцать восьмом, причем какой-то побочной ветки. Шульгин, ты сказал. Но он ведь завязал с наркомовскими делами уже давненько… И благополучно воссоединился… Теперь же выходит… Что?
– Так вот получилось. Откуда ему знать, здешнему, и тем более – тебе? Остался он там, понимаешь? Третьей копией матрицы. Даже мне это понять не слишком легко. Опять какие-то силы вмешались, или?.. Мы с ним обсуждали его возвращение домой, и он таки вернулся вполне благополучно. И все же опять остался. Дайяна ли к этому руку приложила, законы природы, свойства матрицы как таковой или Шульгина персонально… Не знаю. В общем, неожиданно для меня он продолжил руководить Шестаковым, да вдобавок творить такое… Испанскую войну выигрывать, в астрал лезть напролом, сразу все методики использовать, о которых самое отдаленное представление имел: и мои, и аггрианские, и от Удолина подхваченные. Черт его знает, может, эти безобразия косвенным, а то и прямым образом на мою судьбу и повлияли. Внимание этих самых дуггуров привлекли. Могу даже вообразить, что их специально на него навели, чтобы укорот дать… За неимением других способов, раз он в Сети сумел короткое замыкание устроить!
У меня там прошло три года, даже немного больше, а у него, со всеми прямыми действиями и побочными отвлечениями… – Антон, как первоклассник, загнул пальцы на руке, – три месяца, от силы…
…Вы не поверите, но страшно мне вдруг стало, я не скажу, как. На настоящих фронтах так страшно не было. Это ведь начинается нечто совсем уже непостижимое. Сашка множится в бесконечность, как отражения в напротив поставленных зеркалах. Мир теряет последние черты осмысленности. То, что я увидел в музее провинциального города, – не случайный сбой программы, а знак… Знак чего? Полной деструкции мироздания? То, чего мы опасались, но всерьез не верили, – пресловутое «расползание ткани»?
– Подожди, – повторил я. Интересно, остаток коньяка, несколько длинных затяжек и минута созерцания безмятежного солнечного утра помогут возвращению в меридиан? – Пусть все так, как ты сказал. Но ведь… По всем схемам, которыми мы руководствовались, как раз тридцать восьмой и наш с Алексеем сорок первый считались абсолютно тупиковыми псевдореальностями. Никуда не ведущими, существующими только потому, что мы согласились поиграть в этих декорациях…
– Рад, что ты сохраняешь ясность мышления и почти все понял правильно, – кивнул Антон удовлетворенно. – В этом наша единственная надежда. Реальность там действительно пока что «псевдо». Но по своим характеристикам приближается к настоящей. Сам факт, что в нее просочились дуггуры, о чем-то говорит? Слишком уж Саша старался ее материализовать. И получилось у него гораздо лучше, чем у вашего Ростокина…
– У него? – Я едва не стукнул кулаком по столу. – У него? Придумать мы с ним можем чертову уйму забавных для нас вариантиков. Но уж никак не новую, совершенно дурацкую цивилизацию. В Испании он бы занимался войной. В Москве разыгрывал с детства любимые вариации на тему Арамиса, Ришелье, графа Монте-Кристо, само собой, но уж никак не изобретал никчемные сущности. Кто-то его заставил остаться в Шестакове? Но у него ведь, здесь присутствующего, спрашивать об этом бессмысленно?
– Само собой. Интересная цепочка выстраивается. Сейчас я странным образом не могу вспомнить: зачем я вышел с ним на связь в тридцать восьмом? Попросил, чтобы он от лица Шестакова подкинул Сталину докладик насчет дальнейших перспектив руководимого им государства, после чего возвратился, предоставив дальнейшим событиям развиваться естественным образом. Шульгин, согласившись со мной, вдруг взял и остался. Причем даже предупредил: «Тут у меня интересный вариант наклевывается. Они будут думать, что я ушел, а я…»
Мне не хватило времени вникнуть в суть идеи, связь с Сашкой прервалась. Почти сразу «мне в дверь постучали». Об остальном я узнал уже после того, как… Очень похоже, что эти события между собой связаны.
– Но он же вернулся очень давно, после этого мы с ним и с тобой не один раз встречались…
Антон развел руками:
– С тобой и с ним мы встречались в двадцать пятом году этой линии, а с тем Шульгиным я встречался в тридцать восьмом! После того как он из него два раза ушел. Неужели непонятно? Мог ты, исходный, в восемьдесят третьем или восемьдесят четвертом что-нибудь сказать о своем поведении в другой реальности до и после?
– Закончим друг другу мозги компостировать? – предложил я. – Толку все равно ноль, на разных языках сейчас говорим. С огромным наслаждением я бы попросил тебя удалиться туда, откуда пришел, только врожденное любопытство удерживает меня от подобной бестактности. Слишком уж хреново оборачиваются твои посещения…
– Не от меня зависит, Андрей, – вздохнул форзейль. – Я такой же раб обстоятельств, как ты, как все…
– Тогда продолжим, если ничего не поделаешь… Значит, мы пришли к тому, что Шульгин скорее всего находясь под контролем в своей третьей реинкарнации, каким-то образом послужил катализатором проникновения дуггуров в тридцать восьмой и, по логике, должен открыть им дорожку в иные параллели?
– Не исключаю. Замысел мог быть именно такой. Но в силу неучтенных факторов личного характера и/или вмешательства чего-нибудь еще Александр сумел переломить ситуацию. Вплоть до того, что кукловоды поймались в свою же ловушку…
– Теперь по возможности коротко и четко изложи, что тебе нужно лично от меня… – Я понимал, что веду себя слишком уж грубо, но ничего не мог с собой поделать. Реванш так реванш. Нечто подобное, кстати, я Антону обещал. Давненько. Мол, имею желание рассчитаться с тобой за кое-какие моменты, но не сейчас, при случае.
Форзейль сделал вид, что не уловил моей интонации.
– От тебя? Сейчас я договорю, потом вместе и подумаем… Вот мы с Замком (он, к слову сказать, за мое отсутствие, не желая развоплощаться, или демонтироваться, как предписывала Инструкция, вообразил себя полноценной личностью, за что вам отдельное спасибо, и оказался неплохим парнем) крутили ситуацию так и этак и додумались…
– До чего? – взяв себя в руки, пришлось мне сказать дежурную фразу, чтобы поддержать разговор «в тонусе».
– Просто нужно отмотать пленку чуть-чуть назад, и только. Не довести до ситуации, когда дуггуры к нам полезут…
– Это, простите, как? Мне вспоминается некто из древних, заявивший: «Даже боги не могут бывшее сделать не бывшим». Да и ты нечто вроде того говорил…
– Сейчас другой случай. Развилка между несуществующими мирами не пройдена, она еще висит. Знакомый тебе случай. Ни одно реальное действие на ГИП не совершилось. Наша встреча и разговор – в том числе. Вообрази – мы с тобой сейчас нигде. До тех пор, пока эта веранда и комната состыкованы с Замком. Легко можно все отыграть назад, точнее – вперед. До Шульгина и наших с ним забав целых тринадцать лет, до вторжения дуггуров – тоже.
– Перестань меня грузить,– сказал я и выпил из рюмки, которую минут пятнадцать грел в руке. – Все это я понимаю ровно в той мере, как принцип работы компьютера. Будучи человеком культурным и цивилизованным, соглашаюсь, что если при нажатии кнопок клавиатуры на экране происходит то-то и то-то, значит, действительно маленькие пластиночки с проводками на такое способны. Под влиянием поступающего из розетки электротока. Материализм и диалектика. Думать иначе – это уже поповщина, как выражался товарищ Ленин в своих бессмертных трудах…
– Снова понесло, – одобрительно сказал Антон. – Я начинаю верить в успех своей миссии…
– То есть? – спросил я со всей возможной степенью подозрительности.
– То есть – нам придется перехватить Шульгина в одном из ключевых, а равно и роковых моментов. Убедить его вернуться «домой» именно из этой точки, потому что дальше процесс с большой степенью вероятности может стать неуправляемым. То есть фиксация все-таки произойдет…
– Неужели это так сложно, что потребовалось мое непосредственное вмешательство? Вы на пару с Замком сделать этого не можете? Взять под белы руки, и все. Как он приволок Сильвию тебе на расправу…
– В том и беда, что не можем, – вздохнул Антон. – Главная проблема – он сейчас телесно находится в условно материальном мире тридцать восьмого года, а психически – в Узле, более того, под воздействием Ловушки. Она его еще окончательно не скрутила, но к тому идет. Как только его сознание воспримет навязываемую мыслеформу подлинной реальностью, она сама вернет его в мир, но… Мир этот будет другим, и я далеко не уверен, что в нем найдется место для вашего двадцать пятого. Откуда, в самом деле, возьмется белая Югороссия, если в тридцать восьмом единым и могучим Советским Союзом по-прежнему правит Сталин? Значит, никакой Гражданской вы не выиграли, и ты, сейчас передо мной сидящий, находиться здесь не имеешь права. Пока ты здесь – невозможен тот мир. Пока Шульгин там – превращаешься в химеру ты. Уловил?
Кто-то придумал и разыгрывает блестящую комбинацию. Все позиции обнуляются. В самом лучшем варианте те из вас, кто успеет, смогут укрыться в Замке, и все мы окажемся в положении, что было до ухода «Валгаллы» в двадцатый год. ГИП снова выпрямляется, а то, что успел натворить Шестаков-Шульгин, постепенно сойдет на нет. Да ничего он, по большому счету, еще и не сумел (не сумеет). Шестаков без него в лучшем случае приведет испанскую войну к ничейному счету. Из чего следует, что раньше, позже, но мировая война все равно начнется, с тем же приблизительно соотношением противоборствующих сил и с похожим итогом. Частности не в счет…
– И кто все это учинил? Ты, по-моему, в этой колеснице истории не последняя спица…
Антон развел руками.
– Теперь я не уверен ни в чем. Готов даже поверить, что ни Игроки, ни Держатели к этому не причастны или причастны лишь косвенно. Замок даже высказал гипотезу, что они сами могли оказаться жертвой Ловушки, а то и Суперловушки, рассчитанной специально на них…
– Угу, – согласился я. – На кого липкая бумага, на кого мышеловка, а бывают еще медвежьи капканы и ловчие ямы на мамонтов…
– Не стал бы отрицать…
– Такие, значит, дела, – сказал я, когда мы некоторое время дружно помолчали. Просто чтобы что-нибудь сказать. Дела-то и вправду интересные. Глупость ситуации заключается в том, что все приходится, как и раньше, принимать на веру. Полагаясь исключительно на собственную интуицию. По правде, Антон нас никогда не обманывал внаглую, но и степень зазора между тем, что говорилось и что получалось на самом деле, иногда оказывалась достаточно велика. Так ведь и наша вина в подобных случаях была не последней. Как известно, в любом серьезном предприятии лишь тридцать процентов результата зависит от точного расчета, остальное – воля случая и обстоятельств, возникающих в процессе практической реализации.
Кроме того, наше положение сравнимо с таковым у ответственного лица, получившего информацию о готовящемся против него теракте. Можно не поверить и сидеть спокойно, утешаясь тем, что в девяноста процентах такая информация оказывается «дезой». Или все-таки начинать действовать по стандартным схемам, по принципу «береженого бог бережет»?
Антон понял источник моих сомнений.
– Знаю, что в строгом смысле доказать тебе собственную правоту не смогу никаким способом, ибо в нашем случае любое доказательство и документ ты при желании назовешь сфабрикованным и будешь по-своему прав: с нашими возможностями сфабриковать что угодно – не проблема. Но тем не менее… Я снова пришел к тебе, мы говорим, как равные, и ты не можешь обвинить меня, что я хоть когда-нибудь поступил не по чести. Возрази, если я не прав. Посмотри своими глазами, что там происходило с Шульгиным, и попробуй сделать непредвзятые выводы…
Он, как уже проделывал это раньше, движением руки подвесил над столом сгустившуюся из пустоты сферу трехмерного видеоэкрана, на котором с немыслимой быстротой, может быть, несколько сотен кадров в минуту, замелькали картинки, сопровождаемые весьма конкретными и достаточно пространными комментариями. Нормальный человек вряд ли успел бы что-нибудь осмысленное уловить в этом мельтешении, но у меня возможностей восприятия хватало. Те самые спящие мозговые структуры, до функций и механизма действия которых современные физиологи не докопались до сих пор, у меня могли включаться автоматически, по потребности.
За несколько минут я увидел и постиг все, что произошло (и продолжает происходить) с третьей реинкарнацией Шульгина после того, как Антон с Лихаревым подвели его к Сталину, с самим Антоном после освобождения и с прочими близко знакомыми мне персонажами. Вплоть до завершения битвы с дуггурами и реанимации Замка в новом качестве [13].
Признаться, я Сашке позавидовал. Были бы мы там с ним вдвоем… Совсем иначе можно было дела закрутить. В Испании вообще, и с необъясненными, а может быть, и необъяснимыми дуггурами. Но последнее время неназванные силы нас старательно разводят. Что взять мою историю с попаданием в город на разломе времен, что его похождения. 2005 год не берем, там иная конфигурация.
– Хорошо, допустим, я тебе в очередной раз поверил. И что из всего этого вытекает? Что делать будем? Практически?
Я поймал взгляд Антона и обернулся. В проеме двери стояла Ирина, кутаясь в халат. Она успела привести себя в порядок в той мере, чтобы появиться перед пусть и знакомым, но посторонним мужчиной.
Антон проворно вскочил, поклонился, изобразив искреннюю радость и положенное восхищение. Наигрыша тут не было: по самым строгим канонам Ирина оставалась красавицей высшего разбора. Вот интересно, а как у форзейля (форзейлей) обстоят дела в этом плане? Как-то они, разумеется, размножаются, но вот никаких разговоров на амурные темы я от него никогда не слышал. Охотно допускаю, что при их ориентированности на феодально-конфуцианские принципы женщины в том обществе существуют подобно отдельной касте и даже расе, безотносительно к внешнему миру. Значит, тогда эти ребята отстают даже от аггров, где женщины в роли начальниц – обычное дело.
Однако еще и в такие дебри ксенопсихологии мне вдаваться не с руки. В своих бы разобраться.
Нормальная жена из современных произведений и фильмов, застав мужиков за утренней выпивкой и обсуждением очередных военизированных мероприятий, непременно бы изобразила одну из двух женских реакций – возмущение, или отчаяние: «Вы, мол, гады, с ранья глаза заливаете, так вас и так!» – или же: «Опять за свои дела взялись, а меня на кого покидаете, вдовой оставить хотите…»
Но Ирина, как я уже отмечал, во время нашей последней акции удивительным образом преобразилась из тихой домашней женщины в подобие Валькирии. Надоела ей домашняя жизнь, или гены взыграли.
Вот и сейчас она возникла именно в названной ипостаси. Наверняка успела усвоить ту информацию, что Антоном только для меня предназначалась, и сделала свои выводы.
Села, закинула ногу на ногу до крайних пределов приличия, не стесняясь того, что и край трусиков просматривался. Не знаю, Антона она собралась этим зрелищем из равновесия вывести? Меня вроде удивлять нечем и незачем. Долго, наверное, слушала наш предыдущий разговор, раз включилась в него с ходу.
– Вот именно. Кино ты показал интересное. А дальше? Кого лично мы теперь спасать будем, с кем драться?
Взяла из моей пачки сигарету, дождалась, пока я поднес ей огоньку. Медленно выпустила дым уголком рта. Взгляд у нее был жесткий. Посмотреть со стороны, так еще чуть-чуть, и можно представить, что она, преобразившись, работает на тех ребят, что Антона в тюрягу законопатили.
И где-то ее понять можно.
– Ни с кем, Ира, ни с кем, – ответствовал Антон. – Навоевались, кажется, по самое некуда. Я – тем более ни о чем, кроме покоя, не мечтаю. Поселился бы рядом с вами, чай с вареньем по вечерам пить приходил. И все на этом. Вы хоть все вместе и до сих пор на свободе, уберегла судьба, а мне отмерила полною мерою… Совсем о другом у нас с Андреем речь идет…
– Ну да, «наш последний решительный» – и все.
– Смеешься? А так и есть. Сейчас я прошу Андрея об очень маленьком одолжении. Да, черт, при чем тут одолжение? – с досадой одернул он сам себя. – Мне уже ничего не нужно. Я прямо сейчас могу превратиться в совершенно частное лицо вроде твоего предшественника, Юрия, затеряться в дебрях этого мира, ни вы меня не найдете, ни другие.
– Инда побредем дале, – к слову припомнилась цитата из протопопа Аввакума.
Антон иронии не уловил. Глянул с недоумением, продолжил:
– О вас я беспокоюсь. Последний, можно сказать, шанс. Всего дел – перехватить Шульгина в «точке перегиба», убедить вернуться к нам полностью и окончательно, и все проблемы кончатся…
– Так ты думаешь, – глядя поверх его головы, сказала Ирина.
– Так я думаю, – в тон ей ответил Антон.
Их взгляды скрестились.
«А вы ведь до сих пор врагами себя чувствуете, – подумал я. – Как бывший участник восстания Варшавского гетто и бывший немецкий солдат, пусть и не носивший эсэсовских рун на петлицах».
Захотелось вмешаться. Но – для чего? Пусть посоревнуются. «Брожение жизненной закваски», любил повторять в подобных случаях Волк Ларсен. Не мой капитан «Призрака», а настоящий, джеклондоновский.
Но соревнования не вышло. Оба разом отвели глаза. Сообразили, что нечего им теперь делить. Разве что – меня? Так смешно.
(Если подумать – не так уж и смешно, только нужно чуть-чуть поменять точку зрения.)
– Работа несложная, но ответственная, – продолжил Антон. – Тот Шульгин, что окажется там, где ты его перехватишь, не совсем тот. Психика у него сильно сдвинута. Сумеешь нащупать «несущую частоту», убедить вернуться – все последующее не случится. В Испании останется, как было, в СССР – тоже. Картинка замрет. Навсегда или «до особого распоряжения». И дуггуры, пробив стенку, окажутся не более чем в «соседней камере». Бетонированной и не имеющей выхода вовне.
– Считаешь – удастся? – с интересом спросила Ирина. – А куда уже случившееся денешь?
Значит, из-за двери она наш разговор не подслушивала, вошла сразу, к началу «киносеанса».
– Тебе ли объяснять? – спросил Антон с легким сожалением. – Бывшее и будущее – вроде как противоположные категории, но есть у них существенная общая черта. То и другое – функция от наших представлений о них, и только. Будущее станет или не станет таким, каким мы хотим его видеть. Нечто бывшее может быть подлинностью для тебя, а я о нем ничего не знаю, и для меня его просто нет. Шульгин и кое-кто еще вообразили себе свое прошлое и наше будущее таким вот образом. Мы – можем это передумать. Вот то, что случилось со мной, передумать нельзя.
– Забавно, – включился я в научный спор, под шумок плеснув себе еще коньячку. Как говорил мой дед, в таком деле без бутылки не разберешься. – Передумать нельзя, а вытащить тебя из тюрьмы человеку, которого нужно предварительно отговорить от того, чтобы это он сделал, – можно?
– Удивляюсь, – глянул на меня Антон, словно институтский преподаватель, внезапно сообразивший, что я и на неполное среднее не тяну, посещая его высокоумные семинары. – Ты на самом деле не понимаешь, что если я здесь – это свершившийся факт, к предыстории вопроса отношения не имеющий? Остальное остается в рамках гипотез. Проще объясняю – один из персонажей выдернут из плоскости киноэкрана и реальной истории, как Василий Иванович Чапаев полста лет влачит отдельное существование в качестве персонажа анекдотов, в то время как пленка истлела, а изображенные на ней события признаны недостоверными. Вот так и я. Моя реальная биография, откуда нам знать, может быть, закончилась до того, как построены Пирамиды. От того, что в письмах Сенеки к Луцилию постоянно встречаются слова автора: «Завтра, может быть…», ты ведь не думаешь, что его и твое «завтра» имеют хоть что-то общее. Пора бы привыкнуть…
– Так, может быть, – сказала Ирина, – лучше мне сходить туда, куда ты хочешь послать Андрея? Шульгин меня послушается быстрее, чем его…
Она улыбнулась этак, фривольно, я бы сказал, и никакого сомнения ни у кого не могло возникнуть, что не только Сашку, любого мужика она сможет убедить в чем угодно, увлечь хоть в ад…
Какая-то неграмотная цыганка, в реальной жизни (если она у нее вообще была) XIV века наверняка страшная, грязная и беззубая, заставила одного из поклонников провозгласить: «Я б душу дьяволу отдал за ночь с тобой!» Та же Эсмеральда в исполнении Лоллобриджиды получилась вполне очаровательной девушкой, но Ирина все равно несравненно лучше. Только я оказался непроходимо устойчив к ее чарам, отчего и случилось все последующее. Не оказался бы – история могла сложиться, как в случае, когда Антоний прошел мимо Клеопатры, пожав плечами: «И что в этой бабе находят?»
– Нет, Ира, твой вариант… ну, не тянет, – скрывая смущение, ответил Антон. – Начиная такую игру, ты должна будешь довести ее до результата. Думаешь, Шульгин удовлетворится твоими подмигиваниями и приоткрытой коленкой? Он с самой первой встречи, когда вы только познакомились с Андреем, а он представил тебя ему, мечтает совсем о другом. Я ясно выражаюсь? Он ведь, некоторыми частями своей личности, понимает, что происходящее вокруг – не совсем настоящее. Так он воспринимал придуманную реальность Ростокина. От последнего пребывания на Валгалле тоже остался привкус недостоверности. Твое появление он с удовольствием воспримет как еще одну составную часть галлюцинации и хотя бы в ней постарается реализовать свою мечту… Если этого не произойдет, ты окажешь сопротивление – а ты ведь окажешь, – реакция Шульгина будет крайне негативной, с непредсказуемыми последствиями.
Ирина кашлянула и опустила глаза. Да чего уж тут. Я это знал отлично, и все, кому нужно, тоже. Левашов – первый. Они оба на Ирку запали с момента, когда я привел ее на наше студенческое сборище. Хотя, вот убей, не пойму – что тут за хитрость такая? Своих девчонок им не хватало? Проблемами этого сорта никто из них не мучился. Скорее наоборот, в смысле донжуанства я прилично отставал. Наверное, в данном смысле – человек недоразвитый.
Нет, в том, что другая девушка может показаться интереснее – умом, юмором, кокетством даже, про ноги, лицо и фигуру я не говорю, у всех наших подружек с этим всегда было в порядке, – сомнений нет. Но так уж страдать, дергаться, быть готовым совершить непоправимые глупости, при том, что не о всепоглощающей любви идет речь, а только о телесном влечении, это дело мне непонятно.
– Все же, – неожиданно продолжила Ирина, – ты ведь сам сказал, что это будет происходить в неопределенном месте и времени, как бы даже во сне. В его, в моем… Кто помешает довести флирт до известной грани, а там остановиться, намекнув, что остальное – позже…
Тут уже я хмыкнул, с явным неудовольствием. Интриги интригами, психологические игры, цель оправдывает средства и так далее, но тут уже перебор.
Ладно, Ирке захотелось поиграть в леди Винтер – нет возражений. Но край нужно чувствовать. Без всякого ханжества, в ее варианте психический срыв у Сашки может быть такой силы, что черт знает куда полетят все планы и расчеты… Да и на «потом» он не купится, не дурак, сообразит, что его именно выманивают из реальности, где желаемое возможно, в совсем другую, где шансов соблазнить Ирину у него ноль целых хрен десятых. Пробовал, ручаюсь, только ни он, ни она мне об этом не рассказывали.
Одним словом, идея продолжения не получила. Ирка сказала, что в крайнем случае можно сходить к нему вдвоем, по той же самой причине, для большей убедительности, но и эта мысль была отвергнута мною и Антоном. Ненужная, как он выразился, концентрация сил. Если Шульгин вдруг окажется настолько невосприимчивым к доводам разума, то что двое, что один его станут убеждать – без разницы. Двое даже хуже, исходя из обычной психологии – вольно или невольно будут друг другу мешать, не имея возможности на глазах у оппонента согласовывать свои позиции и доводы.
– Вы ведь не сумеете с ходу поставить безупречную пьесу, где все реплики распределены так, что у третьего не останется возможности для маневра?
Я согласился, что так и есть. Даже диалоги Сократа, если в них ввести третьего собеседника, много потеряют в убедительности, если не рассыплются вообще.
– А тебе, Ира, на случай, если у Андрея все же не получится, лучше всего заняться организацией эвакуации. Свяжись с друзьями, теми, кто здесь, вкратце объясни ситуацию, и я вас всех переправлю в Замок. Проведете вместе очередной отпуск. Дела, если они на самом деле есть, – тут он слегка усмехнулся, – пару недель потерпят. А вы восстановите рассыпающиеся связи… Не так?
– Так, так! Но все равно происходящее мне активно не нравится, – агрессивно ответила Ирина.
– Да о чем речь? – Антон изъявил полное согласие. – Жизненный опыт и приличное знание истории мне подсказывают, что за последние три-четыре тысячи лет большинству людей окружающая их жизнь тоже не слишком нравилась. За отдельными исключениями мир вокруг и то, что в нем происходило, вызывало у населения массу нареканий, как личного, так и мировоззренческого характера. Я, например, почти не знаю эпох, в которых не были бы в ходу выражения типа: «в наш подлый век», «в это невыносимо тяжелое время» и тому подобное. Хоть на глиняных шумерских табличках такие сетования можно прочитать, хоть в газетах того две тысячи пятого, куда вас занесло…
– Зато в две ноль пятьдесят шестом, где мы тоже побывали, я таких настроений не встречала. Мне показалось, что по крайней мере в той России большинство своей жизнью вполне довольно…
Антон пренебрежительно махнул рукой:
– Так на то она и химера. Человечества сон золотой. Причем я не уверен, что камрад Ростокин в своей исходной жизни был абсолютно счастлив и всем доволен. Иначе не сбежал бы в вашу компанию… Но мы опять отвлекаемся, по-моему. Я вот на своем месте от всей души радуюсь, что больше не сижу в тюрьме, а наслаждаюсь вашим обществом. Вам тем паче грех жаловаться. Варианты и перспективы у всех есть, в отличие, скажем, от блокадников Ленинграда. Тем, ни в чем не виноватым, не имевшим ни малейшего права выбора своей судьбы, никто не предлагает (не предлагал, не предложит) никаких вариантов. Даже лишней буханки хлеба с банкой тушенки, не говоря о возможности сменить промороженную квартиру на багамскую виллу…
Я подумал, что слово он выбрал верно. Именно Багамы в сорок втором году, в разгар войны мировой, и Ленинградской блокады в частности, были самым спокойным местом для тех, кто имел единственную заботу – найти тихий курорт у теплого моря. Все остальные, от Сочи, Дубровника, Кипра, вплоть до Фиджи с Гавайями, – в зоне беспощадных военных действий. И захотелось мне вообразить обычного доходягу, персонажа «Балтийского неба» Н. Чуковского или «Блокады» А. Чаковского, внезапно получившего такое предложение.
Мы, само собой, пока еще не в том положении, а там кто его знает, если по-настоящему прижмет…
– Впрочем, – уловив мою мысль, или под влиянием собственных слов, вдруг решил вспомнить форзейль, – у меня подобный случай был. Именно в Ленинграде и именно в сорок втором году, в феврале, если не ошибаюсь. Появилось у меня там дело, потребовалось встретиться с ближним сотрудником Жданова, вторым секретарем горкома ВКП(б) товарищем Кузнецовым, впоследствии расстрелянным. Дело прошлое, суть не в нем, но попутно, случайным штрихом, такая история приключилась… – Лицо у него стало печальное.
– Иду я пешком от «Астории» в направлении Смольного, все документы в порядке, и форма на мне старшего майора НКГБ [14] (самая удобная по тем временам, поскольку комиссара [15] даже и третьего ранга там встретить было маловероятно, а на прочих я плевать хотел). Мог и на машине поехать, хоть на «эмке», хоть на «ЗиСе», с этим проблем не было, а вздумалось – пешком. Для впечатлений, наверное. После Лондона, там пусть и бомбили каждый день, но совсем иная жизнь. Вечер, часов семь, пожалуй, так там и в четыре уже темно. Рассказывать, как на улицах все выглядело, – не хочется. У нас, Ира, психика чуть другая, – неизвестно почему решил он опять задеть мою подругу, может быть – в воспитательных целях, – мы, форзейли, народ чувствительный, моментами – на слезу слабее, чем земляне.
За спиной я вещмешок нес – собирался одному человеку подарок сделать, чтобы разговор легче пошел.
И вдруг, на перекрестке Литейного и Пестеля, кажется, или совсем рядом, идет мне навстречу девчонка, лет двенадцати-четырнадцати, как мне показалось. Еле идет… Впечатление – через десяток шагов может упасть и больше не подняться. Мороз был градусов пятнадцать, если не ниже. И пуржило прилично.
Я ей путь загораживаю, спрашиваю – куда это ты, зачем по такому времени и такой погоде? Она меня не испугалась, нет, тогда военных не боялись, наоборот.
– Домой иду, дядя, товарищ командир, от бабушки. С Фурштатской. Ей совсем плохо, и дома тоже. Холодно, папа без вести пропал, аттестат на него отменили. Маминых карточек совсем не хватает. Ну, я пойду, можно?
Антон замолчал, мы тоже. Я в том блокадном городе не был, только книжки читал, Ирина – тем более. А он был, оказывается.
В несколько ином виде предстал он после этих слов. Дальнейшее я примерно представлял, зная Антона, но послушать было интересно.
– Хвастаться нечем, конечно, – вздохнув, сказал он, – однако для фильма или романа сцена вышла бы душещипательная. Лучше всего – для рождественской сказки, только Рождество к тому времени прошло. Проводил я полумертвую девочку до квартиры, промерзшей насквозь. Женщина, встретившая дочку в темной прихожей, в тогдашних знаках различия понимавшая, испугалась, меня увидев. Хотя уж чего в их положении пугаться? В тюрьме накормят. Ну, я успокоил, как мог. Вышел на площадку, оторвал с двух маршей лестницы деревянные накладки перил, поломал на подходящие поленья, буржуйку им растопил. Во всей десятикомнатной квартире только мать с девочкой и оставались…
Он опустил глаза, и остальное мне стало понятно. Хорошо еще, если замерзшие трупы в соседних комнатах не лежали.
– У меня в мешке банок шесть американской тушенки было, копченой колбасы много, кольцами, две головки сыру, хлеба три буханки, шоколад в брикетах для летчиков, витаминизированный, сгущенка. Все я им оставил. Даже папиросы. Не курит – продаст на базаре. На мать смотреть сил не было, а девочка кусочек шоколада отломила, за щеку положила и плачет… Эх!
Антон замолчал и отвернулся.
– И что потом? – взволнованным голосом спросила Ирина.
– Не знаю, не проверял. Не ангел я, слетающий с неба. Брать под свою опеку двухмиллионное голодающее население у меня возможности не было, а выделить из них произвольно двух-трех человек… – Он пожал плечами. – Надеюсь, того, что я им оставил, на месяц-другой продержаться хватило. А там весна, пайки прибавили… Не знаю…
Каким-то образом этот частный эпизод из прошлого/будущего отбил у Ирины дальнейшее желание спорить.
Да и на самом деле, о чем спорить? Задача мне предстояла самая, пожалуй, легкая из тех, что возникали раньше. Всего-то – доходчиво и убедительно поговорить со старым другом… Не зная, впрочем, его истинного психического состояния, всей глубины мотивации, импровизируя на ходу, без права на малейшую ошибку. Много лет назад мне не хватило сил и способностей убедить Сашку не жениться, вследствие чего вся его последующая жизнь (в одном из вариантов) пошла под откос. У кого-то из мудрых я читал: «За каждым успешным мужчиной стоит талантливая женщина». И наоборот, разумеется.
Зато в планируемой акции не ожидалось никаких боестолкновений, опасных политических игр, контактов с потусторонними силами или инопланетной агентурой. Все это, упаси бог, еще впереди, если не удастся доставить сюда потерявшегося товарища в целости и душевной сохранности.
Впрочем, если и удастся, никакого грядущего «благорастворения воздухов» я тоже не ожидал. Не та у нас участь, судьба или карма. Правильно писал Симонов:
Если даже мы сделаем все как надо, отменим само существование дуггуров, будь они неладны, надумаем укрыться в Замке или возвратиться на Валгаллу, непременно и очень скоро приключится очередное событие, тревожно запоет кавалерийская труба, и придется, наскоро оседлав коней, снова нестись, сломя голову, за чем-то или от чего-то. Как карта ляжет.
Поэтому, забыв о предутренней хандре, о недовольстве Ирины, о том, что дело может не выгореть и тогда начнутся совсем другие варианты, я встал и сказал Антону:
– Подожди минут с десяток. Я соберусь. Каким образом предпочтительно одеться? Где состоится встреча?
– На вашей яхте, ты разве еще не догадался?
Как, интересно, я мог догадаться? Кадров просмотрено было достаточно, и мне показалось, что на роль ключевых моментов могли с наибольшей достоверностью претендовать два: ночь в московской забегаловке, где Шульгин, на краткий миг внедрившийся в шкуру энкэвэдэшного филера, собирался роковым для себя образом проникнуть в Гиперсеть, или хижина в горах, до того, как Сашка ввязался в бой с гориллоидами. Эта точка казалась мне наиболее вероятной – не начни Шульгин стрелять по приспешникам дуггуров, они, может быть, не зафиксировали бы его в своей памяти, потеряли бы след… Для чего-то ведь была введена в его похождения именно эта мизансцена. Так сказать – взаимное представление героев начинающегося трагифарса…
Причем я помнил, что в нашем с Антоном разговоре промелькнула мысль о том, что Сашку долженствует изъять из сюжета до того, как он выручит форзейля. Не уверен, что это было непременным условием, но сам факт такого парадокса присутствовал.
А вот на сценку с «Призраком» я внимания, признаться, не обратил, а ведь должен был. Старею, что ли?
На самом деле, пропустил я ее поверху просто по причине навязчивой повторяемости.
Не говоря о прямой перекличке с молодостью, когда все было придумано, имел в изначальном прошлом место наш разговор на яхте в Севастополе, когда я ушел в дальнее плавание, а Роман остался. Вдруг в новом сценарии зачем-то его опять вернули в ту же точку, в нашу кают-компанию, и, подержав там недолгий срок, без всяких видимых причин отправили дальше «по тропе войны».
Очередная «пересадочная станция» между реальностями, или все же именно там, на «Призраке», Шульгин принял, или наоборот, должен был принять, но не принял роковое решение?
Очень вероятно. Выглядит вполне логично. Где же, как не там? Подходящая психологическая аура… Пардон, для чего подходящая? Для выбора «за» или выбора «против»?
Мне бы вдобавок еще узнать, что в данном случае означает то и другое.
Но бог с ним. На «Призраке» мне будет легче ориентироваться.
– Почему не догадался? – сблефовал я. – Где же еще нам мировые проблемы решать? Только ты переправь меня туда хоть на полчаса раньше, чем Сашка появится. Я тогда переоденусь по форме, нужное настроение успею создать. С учетом всех предыдущих вариантов…
– Так и сделаем. Пошли?
– Сейчас. Оставь нас ненадолго одних…
Антон кивнул и с достоинством отошел в глубину своей половины совмещенных пространств.
– На самом деле ничего сложного я в этой миссии не вижу, – сказал я, положив ладонь Ирине на плечо. – Надеюсь, почти уверен, что Сашку я выдерну. Слишком много у меня с ним контактных точек. Если не сумею, тогда это не он. Вернусь, и станем жить дальше. Нам и того Шульгина, что здесь имеется, выше головы хватит…
– А ты уверен, что яхта, на которую пойдешь, – настоящая, а не очередной фантом?
– Кто же в таком может быть уверен? В универе на семинарах я от всей души обличал субъективных идеалистов и солипсистов, а теперь, с течением жизни, убедился, что именно они и правы, а весь наш марксизм-материализм – тьфу! Плюнуть и растереть… До тех пор, пока палуба под ногами не провалится и напитки в баре будут доставать, – сочту, что яхта настоящая. У тебя, кстати, никакой в каюте хитрой детальки нет, чтобы только ты о ней знала? Глядишь, для меня еще один «маячок»…
– Без толку, – спокойно ответила подруга. – Если «Призрак» скопирован, сдублирован – все на месте будет, о чем ты знаешь и не знаешь… Просто сделай, что сможешь, и возвращайся. Никакого «погружения в сюжет», не поставив меня в известность. Обещаешь? Иначе не пущу…
– Обещаю, – ответил я со всей искренностью. На самом деле, ничего другого я делать не собирался. Даже если сильно попросят.
– Ладно, верю. Пошли. – Она потянула меня за руку.
– Сколько времени займет это дело? – требовательно спросила Ирина у Антона, остановившись перед ним и приняв несколько вызывающую позу.
– Кто бы знал, – безмятежно ответил форзейль, гася окурок в серебряной, похожей на старинные часы карманной пепельнице. – Если мы примем за факт, что после встречи Андрея с Шульгиным все станет на свои места, – в пределах ныне существующей реальности часа два, может – три, как у них разговор пойдет. Сложности начнутся позже…
– Какие? – Глаза у Ирины сузились, и она, при всем несходстве фенотипов, напомнила мне сиамскую кошку перед броском.
– Обычные. Из неопределенного нигде они вместе с яхтой окажутся где-то в здешнем мире. Надеюсь, поблизости от Замка, который, в свою очередь, совсем не в текущем времени. Зато – в пределах нашей досягаемости и системы связи. Короче, сделав свое дело, Андрей с Шульгиным скорее всего смогут позвонить тебе оттуда, где окажутся. И уже после этого мы начнем решать следующий вопрос – где и как встретиться…
– Учти, Антон, – неприятно улыбаясь, сказала Ирина, – если что-нибудь пойдет не так, с тобой-то я сумею свести счеты. Пусть и без всякой пользы, но сумею. Ты у меня где нужно зафиксирован. Достану и превращу тебя в мезонное облачко. Есть средство, и ты это знаешь…
– Знаю, знаю… Только зря ты нервничаешь. Сколько раз повторять – в благополучном исходе я заинтересован, пожалуй, больше вашего. Риска, для Андрея, во всяком случае, на этом этапе – ноль. Для всех остальных, если у него не получится – поровну. И хватит меня взглядами испепелять, а то, надо же, боевую молодость вспомнила… Валькирия наша ненаглядная…
Тут в его словах, человека, на полторы сотни лет старше Ирины и со специфическим жизненным опытом, я уловил и искреннюю симпатию, и намек на то, что Валькирия, ввязавшаяся в человеческие дела и отдавшая предпочтение любви, теряет свою сверхъестественность… К благу своему или наоборот – никто не скажет, кроме нее самой.
– Хорошо, Антон. Деваться мне некуда, но мои слова ты запомнил, да?
– Эх, Ира… Знала бы ты… Да ладно… – Он каким-то затуманенным взглядом посмотрел на нее, на меня, на море далеко внизу. – Может, еще проще сделаем? Чтобы тебе не бегать, меня не искать, я до завершения миссии с тобой останусь? Вместе посидим, по парку вашему погуляем. Хороший у вас парк… А для связи – вот. – Он достал из кармана очередную капсулу мгновенной межпространственной связи, она же – переходник. С помощью такой Воронцов попал из Сухума в Замок, потом на войну, потом обратно.
На том мы и расстались, после еще некоторого количества дежурных фраз.
Прощальное объятие с моей Валькирией, прощальный взгляд, гагаринское, для лихости, «Поехали!», и я уже там.
Глава четвертая
«Призрак» прилично покачивала мертвая зыбь. Ветра почти что и не было, но волна поднимала яхту метров на шесть вверх и так же плавно опускала. Если вестибулярный аппарат не в порядке, то плохо. Желудок и нервы выходят из-под контроля. Тест, можно сказать, на профессиональную пригодность.
Но мне было все равно. В физиологическом смысле. Организм выносил и не такое. Межпространственные и межвременные переносы, невероятная невесомость Сети – что на этом фоне килевая качка маленькой яхты?
Я испытывал очередной прилив душевного подъема, не оттого, что мне предстояло, – совсем от другого. Не важно, что скоро произойдет или уже происходит. Я снова дома, если так можно выразиться. В том смысле, что полчаса или час, как получится, я имею возможность верить, что ничего не случилось во внешнем мире, что мне снова и по-прежнему восемнадцать лет и все мои друзья, и старший брат, относившийся к моим фантазиям со снисходительным интересом, живы и будут жить еще долго-долго. Хорошо бы – дольше меня.
Кормовой балкон возвышался над уровнем воды едва на два метра. Когда яхта идет под парусом, узлов по десять, и море спокойное – на него приятно выйти, покурить, любуясь кильватерной струей, воображая что-нибудь романтическое, стряхивая пепел сигары в то серые, то пронзительно-синие волны.
Когда шторм попутный и десятибалльная волна догоняет, угрожающе изгибая нависающий пенный гребень – тогда не то! Тогда следует молиться, чтобы не накрыла, не вышибла стекла и не слизнула, как корова языком, надстройки и мачты. Бывали случаи. Говорят, так случилось со знаменитым клипером «Ариель», выигравшим немало «чайных гонок» и погибшим в волнах Индийского океана в 1872 году. Океану ведь все равно, что там болтается на его поверхности: круизный лайнер в сто тысяч тонн, линейный корабль или посудинка четырехсоттонная.
С левого края балкона, где я рефлексировал и готовился к предстоящему, мне хорошо видна освещенная сумрачным светом дождливого и туманного дня кают-компания яхты «Призрак», в последнем его, каноническом, если так можно выразиться, варианте. Основная конструкция была придумана нами – Сашкой, Олегом и мною, в том числе в незабвенные шестидесятые годы. Когда даже вообразить нельзя было, чтобы граждане Страны Советов стали владельцами океанской яхты и беспрепятственно ходили на ней по морям и океанам, даже не подразумевая текущих обстоятельств, экономических и политических. «Холодной войны», борьбы с космополитизмом, вещизмом, ревизионизмом и тому подобных идеологических извращений загнивающего социализма.
С тем бьльшим вкусом и азартом мы на уроках в последнем классе школы, потом в студенческих аудиториях чертили проекции корпуса, рисовали интерьеры кают, составляли списки нужных в дальнем плавании припасов… Разрабатывали маршруты… Все это обсуждали, бродя по вечерним улицам, заполненным подобной нам молодежью, пусть и озабоченной иными проблемами.
Подслушай кто-нибудь наши тогдашние споры о бриллиантах, способах их добычи и продажи на черных рынках Африки и обеих Америк, о долларах и фунтах, о том, какого оружия и сколько нам потребно для реализации очередного сценария, – мы могли бы иметь серьезные неприятности. В струе тогдашнего отношения партии к «низкопоклонству» и фарцовщикам. Совсем недавно были с большим шумом арестованы и расстреляны по личному указанию Хрущева ныне забытые Рокотов и Файбишенко, наши почти ровесники, составившие немыслимый по советским временам капитал на перепродаже импортных жвачек, сигарет и галстуков с попугаями. Но, слава богу, для нас – обошлось. В наших кругах «стукачи» если и были, то убедительных доносов составить не смогли, или – адресаты тех доносов не сообразили, как подшить к делу цитаты из только что вышедшего и вполне разрешенного собрания сочинений Джека Лондона.
А я все наши фантазии записывал, дословно или преломляя определенным образом, рисовал карты походов, сопровождаемые собственными же иллюстрациями. Они были неплохи, но Берестин, к примеру, нарисовал бы лучше. Только не было тогда никакого Берестина. Да и есть ли он на самом деле или его я тоже придумал?
Потом тем не менее эта детская мечта стала реальностью. Слишком, наверное, сильно и отчетливо все это было «визуализировано» молодыми мозгами, свободными от воздействия отупляющей реальности и более приземленных эмоций. Не так, разумеется, как воображалось, с совершенно избыточными издержками, но все же…
Сильвия, преследуя собственные цели, подарила мне яхту «Камелот», и в октябре двадцать первого года, когда почти все намеченное в области большой политики было сделано, мы с Сашкой решили уйти со своими девушками в дальнее плавание, предоставив прочим «братьям» разбираться с Югороссией, а главное – с тем тупиком, в который мы сами себя загнали.
Тупик, может быть, слишком сильно сказано, но в моем понимании идея себя изжила. Да и намек поступил весьма недвусмысленный, с двух сторон сразу, что лучше бы нам на долгий срок избавить цивилизованный мир от своего присутствия. Ставшего, очевидно, слишком назойливым.
Подготовили мы «Призрак» к походу, в меру сил и способностей приблизив оригинал к идеалу, распрощались с друзьями, согласовали важные и не очень моменты, и вдруг, в последний момент, Шульгин вообразил, что уйти не может. Не должен. Слишком интересная и непонятная (по его словам) интрига начала раскручиваться в Севастополе, в Москве, в Берлине.
«Так прощаемся мы с серебристой, самою заветною мечтой, флибустьеры и авантюристы, братья по крови, горячей и густой?»
Таким же образом, как недавно в квартире Лихарева Сашка решил «уйти, чтобы остаться». Так и сделал. Случилось после этого решительного шага много интересного [16], а итог каков? После всех приключений и коловращений жизни он опять оказался здесь, на яхте, в точке принятия очередного судьбоносного решения и в совершенно непонятном узле скрещения нескольких мировых линий. Во многом друг друга взаимоисключающих.
Значит, что? Весь гигантский круг через века, реальности и страны – коту под хвост? Астрал в ответ на отчаянный бросок Шульгина отшвырнул его к точке, где все мы совершили главную ошибку? И все вокруг стало точно таким, как было тогда, когда я еще во что-то верил и надеялся?
«Стоп, – сказал я себе. – Тогда – это когда? В девятьсот двадцать первом, двадцать пятом или… В шестьдесят шестом, когда на желтоватых листах студенческой общей тетради был зафиксирован именно этот вариант? А то и „инвариант“. То есть по-прежнему мы кружимся вокруг (или внутри) одной и той же картинки. Почему бы и нет, кстати?»
Дождь, что косо захлестывает под крылья ходового мостика, туман, что висит над морем, разве не те, что я придумал и описал? Не та на мне одежда, не те мысли крутятся в голове? А сама яхта? Вот я сейчас снова заглядываю с балкона внутрь нашей кают-компании…
Слегка заваленные внутрь, обшитые светлым деревом борта, бронзовая отделка иллюминаторов, старинные лампы в карданных подвесах под подволоком. Имитация адмиральского салона на парусном фрегате ХIХ века.
О несколько большей современности судна говорит многоярусная полка, на которой рядами выстроились бутылки с самыми изысканными и экзотическими напитками, которые мы только сумели найти во всевозможных каталогах. Перед ней стойка бара темного дерева, по краю окантованная латунью, ряды стаканов, бокалов, рюмок и пивных кружек в штормовых решетках. Винтовые табуреты, как положено.
Все, что нужно, чтобы посидеть с товарищем или подругой, отвлечься после утомительной вахты. Вокруг обеденного стола и внутри выделенных книжными стеллажами зон отдыха – кожаные кресла и диваны. На небольшом возвышении комбинированный музыкальный центр с клавиатурой электрооргана, по переборкам развешаны молекулярные копии любимых картин вроде «Бульвара Капуцинов» и «Оперного проезда». Сквозь толстые стекла иллюминаторов, покрытые извилистыми дождевыми струйками, на стойку падает унылый сероватый свет.
Антон перебросил меня сюда, как и обещал, за час до встречи. Я обошел жилые помещения и технические отсеки «Призрака», заглянул в свою каюту. Там все было как прежде. Переоделся по погоде, сунул в карман плаща пистолет. Тогда, в шестьдесят шестом, лучшей машинкой я считал «08» [17], по ряду причин. Так он и лежал в правом верхнем ящике, хорошо смазанный и протертый. Коленчатые рычаги затвора ходили мягко, патронов в косом магазине было доверху. Не для дела я его взял, исключительно для антуража.
Успел заодно создать и другие подходящие условия для встречи друга, который сегодня, может, уже и не друг…
От этой мысли неприятный холодок пробежал между лопаток.
«Солярис» здесь, что ли? Да ну, ерунда!
А почему ерунда, почему не «Солярис»? Лем небось не глупее нас был, и вряд ли все просто «из головы придумал». Может, ему тоже соответствующие «видения» были, и все такое прочее…
Нет, вы понимаете, прошел я по яхте, которую знал, как слепой – свою однокомнатную квартиру. Это был не тот «Призрак», перестроенный из бывшего «Камелота», на котором мы с Ириной провели больше двух месяцев, успели обойти полмира. Это был настоящий, то есть изначально придуманный нами, от киля до клотиков.
А кто в силах меня убедить, что Шульгин не окажется вымышленным в переплетениях Сети «кадавром», ориентированным на единственную, очень для меня неприятную функцию?
Короче говоря – приехали…
А вот и Сашка. Как и было сначала описано мной, а потом случилось на самом деле (минимум два раза), он спустился по трапу с верхней палубы, осмотрелся несколько недоуменно. Подошел к большому, в полстены зеркалу, специально предназначенному, чтобы офицер мог привести себя в порядок, после вахты входя в уголок «нормальной жизни». Зная, что его никто не видит, слегка порисовался, молодой и бравый, в новом, необношенном флотском светло-синем кителе, с эмблемой «Призрака» на левом рукаве. Состроил возвышенную мину, потом улыбнулся простодушно, одернул полу, щелчком сбил воображаемую пушинку с плеча.
Ну, хорош, хорош, кто же спорит? Именно таков, как в приснопамятном Н-ском году… Значит, его сюда вставили не в реальном на момент акции облике, а таким, каким он сам хотел выглядеть в минуты релаксаций, намаявшись в шкуре наркома.
Не покажусь ли я ему слишком старым для равноправного общения?
Только ситуация сейчас подается в зеркальном отражении. В моем «каноническом» тексте, потом и в реальности выглядело все ровно наоборот. Не он здесь сидел – я, первым придя на палубу готового к походу «Призрака», а сам Сашка появился уже потом. Ладно, посмотрим, как будет дальше.
Шульгин боком присел на привинченный к палубе табурет у стойки, на соседний бросил красиво обмятую фуражку с широким, окованным по краю медью козырьком. Не глядя протянул руку, взял первую попавшуюся бутылку, до которой достал. Наудачу.
Опять совпало! Джин «Бифитер», которым в набросках «того» романа и в подлинном Севастополе двадцать первого года мы отмечали начало кругосветного плаванья.
Сашка выпил, но как-то неуверенно. Похоже, ждал, что, по логике сюжета, скрипнут новые, не приработавшиеся пока петли двери за спиной и появлюсь я, кто же еще? По его воспоминаниям, других персонажей не предусматривалось. И завяжется та самая, историческая беседа, в которой, пожалуй, он мог бы согласиться с моими доводами и отправиться в дальний поход на другую сторону шарика.
Подождал минуту, другую, с глубоким разочарованием плеснул еще пару унций джина, в одиночку сделал основательный глоток из тяжелого, как артиллерийская гильза, «штормового» стакана. И пригорюнился. Ничего и никого вокруг, способного рассеять его «вельтшмерц» [18].
У меня с этим не лучше. Сомнения вдруг навалились, иррациональный страх перед очередным, как бы не окончательным сломом сюжета и судьбы, усталость, такая, будто я на самом деле, день в день прожил все эти годы, с шестьдесят четвертого до восемьдесят четвертого, с двадцатого (тысяча девятьсот) до пятьдесят шестого (две тысячи), и обратно… Со всеми привходящими обстоятельствами.
«…Может быть, через некоторое время друг найдет способ возникнуть здесь? – думал Сашка, прислушиваясь, как алкоголь, проникнув сквозь гематоэнцефалический барьер, распространяется по синапсам, нейронам и аксонам. – Без него сцена никак не тянет на достоверность. А как бы хорошо было! Андрей войдет, мы поговорим, как встарь, вместе признаем право Игроков забавляться в меру сил и возможностей. Те взамен вернут нам зря потерянное время, молодость, яркость чувств и сильно помятый об углы жизни оптимизм, „и полные трюмы, и влажные сети, и шелест сухих парусов. И ласковый, теплый, целующий ветер далеких прибрежных лесов“…
Может быть, такую форму и формулу капитуляции стоит принять? Снимается масса парадоксов. Всем становится легко и весело. Правда, непонятно, куда девать собственную память и массу документальных свидетельств, что все мы жили и после нынешнего момента? Каждый по-разному, но ведь жили же…
Тут возникает вопрос, собственный или опять наведенный: «А если действительно все стереть прямо с этого момента, взамен сейчас в салон войдет Новиков, с ним Ирина и Аня – согласен? Обрадуетесь, обнимитесь после долгой разлуки – и вперед?!»
Вот так нас, дураков, и ловят, – продолжал эмоционировать Шульгин, глядя на свое отражение в зеркале над стойкой. – Какая разлука? Мы же все виделись, с кем вчера ночью, с кем – сегодняшним утром. Они настоящие – со мной тамошним. Но даже если предположить… Приобретя душевный покой и океанский круиз, что я отдам взамен? Четыре года жизни, всего лишь. Исчезнут из ноосферы Ростокин, реальность-2056, наши разборки с англичанами, веселые дела двадцать четвертого, Сталин с Шестаковым… Да много чего еще… В том числе главное – осознание того, что действительно получил очередную порцию счастья взамен… Если удалось не попасть под колеса машины, которую ты даже не заметил, разве возможно радоваться этому везению? Вот если бы рядом выставить две картинки – твоих собственных похорон и праздничного вечера, на который ты спешил и успел, – тогда да, тогда бы оценил…»
Значит, опять кому-то это надо! Чтобы забылось и исчезло.
И все равно соблазн был почти непреодолим.
«Ну, забудешь, и забудешь. Это же только лучше. Для всех. Были ошибки, так сотрем их, и – с чистого листа».
Шульгин одним глотком осушил стакан. Еще раз оглянулся. Теперь – чтобы посмотреть, не скрывается ли за высокими спинками кресел у обеденного стола некто, похожий на Мефистофеля.
Вроде нет.
Но искушение поддаться навязываемым мыслям и решениям сильно, сильно! Пусть он не святой Антоний, но занимаются им плотно. Практически неверующий, Сашка, благо никто не смотрит, старательно перекрестился, вспомнив, что надо справа налево…
Я, может быть, и не дословно, но по смыслу достаточно точно представлял сейчас ход его мыслей. Мог предвидеть некоторые следующие поступки. Не телепатия, просто синтонность и знание обстоятельств. Особенных трудностей в предстоящем разговоре теперь не ожидал.
Тот раз я ему сказал:
– Не думаешь ли ты, что как раз Держателям захотелось нас с тобой разлучить? В каких-то собственных целях. Не зря же идея (не ходить в плавание, а остаться в Севастополе) возникла у тебя только что?
– Нет, – ответил Шульгин. – Ни на твое, ни на мое мышление они впрямую воздействовать не могут. Отчего и изобретают всякие окольные ходы. Чтобы принудить нас к тем или иным «добровольным» поступкам… Если бы умели – все наши приключения не имеют смысла.
– Для нас не имеют, – возразил я. – Для них – очень даже могут…
Сашка встал с табурета. Подошел к шкафу и с трудом вытащил с одной из полок толстую книгу в потертом зеленом переплете с золотым тиснением на корешке. Мне и смотреть не надо – «Конфуций. Уроки мудрости», не что иное.
Он полистал ее, навскидку открыл в одном месте, в другом. Прочитал выпавшую гексаграмму, про себя, но автоматически шевеля губами. Покрутил головой, со смутной улыбкой поставил книгу на место. Пожал плечами и не спеша направился к двери балкона.
Мне осталось только принять небрежную позу, облокотившись на планширь, и, когда щелкнул замок, не спеша обернуться.
– Привет, – сказал я, протягивая руку. – Место встречи изменить нельзя, как бы банально это ни звучало…
Сашка фыркнул со всей доступной степенью презрительности. Протянутую руку пожал, но более сильных чувств изображать не стал. К чему мы только не привыкли, но человеческая составляющая в нас до сих пор превалировала, и в глазах его я заметил тень смятения.
Он стал рядом со мной, точно так же положив локти на полированный мореный дуб, зубами достал из пачки сигарету, прикурил.
– Не рад, что ли? – осведомился я, тоже беря у него «Кэмел» без фильтра. – А мне показалось, ты все время ждал чего-то именно в этом роде…
– Ну да. «Поезд в ад». Сейчас подтянутся остальные, и покатимся мы… Гулянка продлится вечно и бесконечно. Я уже один раз умер, ты, думаю, тоже, и никаких проблем у нас впредь не возникнет…
Настроение Сашкино мне совсем не понравилось. Да, со всяким может случиться приступ депрессии, ранее называемой «черной меланхолией». Большая часть его приключений «тела и духа», совершившихся в «третьей ипостаси», мне уже была известна. И тем не менее… К реанимации и интенсивной терапии следует приступать немедленно.
– А где это мы сейчас? – неожиданно спросил Сашка. – За туманом ни черта не видно. Когда меня сюда переместили, показалось, что опять Севастополь, только на палубе и в низах ни души, и легкое ощущение не до конца отреагированного бреда…
– Джин хоть подействовал?
– Кажется, да, – ответил Шульгин, прислушавшись к своим ощущениям.
– Это утешает. Есть в мире хоть что-то настоящее. Пойдем в каюту, сыровато здесь и холодно, а там – лепота. Разговор, прерванный бог знает когда, закончим, да и к тематике текущего момента плавно перейдем…
Шизофрения, как известно даже таким дилетантам, как я, – нечто вроде расщепления сознания, причем не всегда сопряженное с деградацией личности. Бывает и наоборот. Горизонты мышления раскрываются. Вот, скажем, психиатр спрашивает у нормального человека: «Что общего между карандашом и ботинком?» Тот, естественно, отвечает: «Ничего». И по-своему прав. Шизофреник же уверенно говорит: «И тот и другой оставляет след». Вполне изящная ассоциация, для нас далековатая, но в должных обстоятельствах могущая оказаться полезнее прочих.
Сашка сейчас был раздерган между двумя телами, причем в одном тоже ощущал некоторую двойственность. Короче – «един в трех лицах», как принято выражаться по определенному поводу. Не было в этом большой проблемы, если бы через неизвестно какие каналы и струны Гиперсети не поддерживалась между личностями определенная сверхчувственная связь. Мистические Сашкины силы от этого естественным образом возрастали, и последнее время он уже начал творить разные мелкие чудеса. Только вот что касается последствий…
Моей нынешней миссией, незначительной в сравнении со всеми предыдущими, было восстановление исходного статус-кво. Слишком много Сашка успел организовать парадоксов самого сомнительного свойства, ни в коей мере этого не желая. Рок событий нес его, как волна серфингиста. Как было верно замечено кем-то, кто выше нас: «Не он играл, его играли, и им играли».
Одну безусловно полезную вещь он сделал, никто не спорит, – изолировал пучок наших реальностей от постоянного внимания и влияния Гиперсети. Побочным следствием его бессознательных эскапад явилось спасение Антона, что для нашего дела крайне ценно. Замок вновь активизировался, тоже якобы в наших интересах. Впрочем, для меня это пока не факт, но и выбирать, по большому счету, не из чего.
Сейчас я должен убедить Сашку (именно убедить, а не заставить) согласиться на воссоединение в единой личности.
Хорошо хоть, что момент выбран до чрезвычайности выигрышный: он (вот этот) еще не знает (или все-таки знает?), что случилось с ним позже…
«Так это ж получается, что на какой-то момент возникает уже четвертая копия? – подумал я. – При условии, что он продолжил свое существование и позже: спас Антона, довоевал в Испании и так далее… Хотя, если мы с ним сейчас договоримся, того, что там случилось, просто не произойдет. Кинопленка остановится, как в нашем с Берестиным случае сорок первого года. Но кто тогда вытащит Антона и вступит в конструктивный диалог с Замком?»
«Шифер на крыше» в очередной раз медленно зашевелился, готовясь начать движение в известном направлении. Ну и ладно. Теперь уже мы сами создаем очередную «ловушку сознания» для кого-то другого. Замку, в конце концов, виднее. Он, со своими непостижимыми возможностями, определил, что именно здесь, на «Призраке», Шульгин более всего готов отказаться от навязанной ему миссии, и сам почти криком кричал в ментальном диапазоне: «Ничего мне не нужно, пусть все станет, как было!» Правда, это его «как было» распространялось вплоть до самого начала нашей истории и даже за ее пределы. Но с этим мы как-нибудь справимся…
Но мне-то… Очередной раз требуется напрячь остаток сил, чтобы заставить друга правильно отнестись к моим словам. Ничего, кроме слов, я не могу ему предложить. И если не получится – значит, все. Разойдемся по разным орбитам. У каждого она своя. При этом ничем я не могу доказать, что моя лучше и правильней…
Единственное очень и очень негуманное действие, которое напрашивается, – еще раз показать Сашке (в самый крайний момент, конечно) до ужаса натуралистический момент его жалкой смерти. Пятнадцать лет назад объяснять ему за рюмкой, насколько не подходит ему та женщина, которую он вздумал назвать своей женой, – это одно. Знающие люди меня поймут. А вот наглядно предъявить результат никчемной связи в ее логическом и всеобъемлющем развитии – совсем и совсем другое. Федор Михайлович Достоевский такими штучками баловался. Я – не хочу. Но если придется…
Интересно, кстати, взглянуть одним глазком, чем мог завершиться для меня один переломный, но тоже нереализованный вариант моей собственной биографии. Хотя нет, лучше даже не думать в ту сторону, а то вдруг да и мне покажут…
Сашка, попадая, кажется, в унисон моему настроению, тоже тянул время. Вернулся к стойке, кивнул на табурет рядом со своим.
– И где мы сейчас находимся, как ты считаешь?
– Есть мнение, что в близких окрестностях Замка. Вряд ли есть смысл устраивать рандеву в Черном море или Индийском океане. Долгонько до места добираться, если договоримся…
– О чем договоримся? Я тут недавно с Дайяной пообщался, обменялись мнениями… Догадываюсь, ты хочешь предложить прямо противоположное?
Теперь спросил я:
– С какой из них?
– Хрен разберет. По ее словам – со средней, из тридцать восьмого, но проскакивают и более поздние моментики. Да что мы вокруг да около крутимся? – Голос у него чуть заметно, но дрогнул. Он плеснул в стаканы, сделал движение в сторону рта, но неожиданно прервал его, стукнул дном стакана о стойку. – Каким образом ты снова с Замком связался? Мне один персонаж тоже намекнул, что в случае чего дорога туда не закрыта. А у тебя как?
– Я в Замке не был. Антон от его имени говорил. Появился, как черт из табакерки, весьма потертый и потасканный черт, должен заметить, и предложил с тобой повидаться. Поспорили, естественно, как водится, на разные мировоззренческие темы. А потом – сюда. Без всяких астралов, тем самым способом переправил, что Воронцова когда-то. Объяснил текущий расклад и попросил, без всякого напора, заметь, несколько жалобно даже…
– Антон? Жалобно? Ну, не знаю даже, что с ним случиться должно было… – перебил меня Сашка. – Ты не ошибся случаем? Актер-то он хороший…
– Актеров я не видел! В тюряге наш дружок посидел, в настоящей, нам такие и не снились, вот и поплыл, поскольку никаких жизненных целей и внутренних опор в нем не осталось…
– Бывает, – протянул Шульгин. – А попросил о чем на этот раз?
– С тобой вот встретиться и убедить тебя завязывать с операцией. С того момента, как вы с ним последний разговор на Столешниковом имели, все пошло настолько не так и не туда, что… Одним словом, игры и игрушки кончились. Вопрос стоит просто и прямо, как телеграфный столб, – «хватай мешки, вокзал отходит». Иначе всем нам, вкупе с наштампованными реальностями, быстрый и окончательный абзац…
Сашка не слишком удивился моим словам. Опыта самого разного, рационального и мистического, поднакопил побольше моего. Не знал только заключительного этапа своей собственной, нынешней эпопеи, в ключевой точке которой мы сейчас находились.
– Так Антон ровно то же самое говорил, когда взашей выталкивал нас из Замка прошлый раз…
– Ты помнишь? – удивился я. По моим расчетам, этот Сашка вышел из команды значительно раньше, чем возникла необходимость поспешной эвакуации на «Валгалле» в иные миры и измерения. И Антон утверждал, что, кроме того, что Шульгину говорил он сам, Сильвия и Дайяна (тридцать восьмые), никакими иными сведениями о последующем он располагать не мог. По определению. Иначе не стоило и затевать нынешнюю акцию.
– Знаешь, так – штрих-пунктиром. Иные моменты всплывают очень ярко, будто я на самом деле был там, иные – будто в книжке читал или в чужом пересказе слышал, а чаще – словно воспоминания о не слишком связном, полуабсурдном сне. Единственное, что сознаю вполне отчетливо, – то, что прожито, – прожито, что жил я же, но другой – и воспоминания – не совсем мои, пусть и случилось со мной же…
Он наконец залпом выпил, не предложив поддержать.
Я искренне пытался наложить его нынешние ощущения на себя. Разумом получалось, душевно – нет. И все же…
В крайне сжатой форме я пересказал ему канву всей истории нашего Братства, все случившееся после его ухода в «автономное плавание», делая упор не столько на голые факты, как на духовно-эмоциональную составляющую деятельности его «оригинала».
– Следует понимать, что я по-прежнему сохраняю свободу воли? Сам выбираю линию поведения. Антону, как обычно, приходится просить и убеждать сделать то, что ему хочется? Я же, соответственно, могу снизойти или проигнорировать?
– Именно так. Насколько мне известно, ты уже стоял перед выбором – уйти или остаться, и не один раз. И – оставался. Из страха потерять индивидуальность, пусть и мотивировал это каждый раз более возвышенными целями и побуждениями. Не захотел вернуться из наркомов, хотя еще мы с Алексеем доказали, что сталинский вариант тупиковый в любых обстоятельствах и декорациях…
– Не я не захотел, Антон уговорил, – слабо возразил Сашка.
– Не так уж он тебя и уговаривал, тем более – сам он тогда уже находился под контролем, не слишком отдавал себе отчет, что впоследствии с блеском подтвердилось… Сам он попал в зону просветления, а ты наконец вплотную познакомился с Ловушкой. Все, что с тобой происходило с момента прорыва в астрал после встречи с «Юрием», – великолепное тому подтверждение… Вернемся в Замок – получишь возможность убедиться. Причем Ловушка тебе досталась какая-то хитрая, нестандартная, специально под тебя заточенная. Тебе внушала, что мир вокруг вполне реален, ты тоже настоящий и действуешь вполне свободно. На самом деле все было куда сложнее…
Главное сейчас было говорить, не останавливаясь, закручивая интригу, чтобы та часть Сашкиной личности, которая еще сохраняла автономность и, так сказать, природное здравомыслие, начала воспринимать меня как прежде, верить моим словам больше, чем наведенным иллюзиям. Дело в том, как объяснил мне Антон, а ему – Замок, Ловушка создала для Шульгина особую, индивидуальную псевдореальность, а существовать он продолжал в подлинных мирах, пусть и альтернативных. Грубо говоря, Сашка стал в определенном смысле сумасшедшим, параноиком скорее всего, и все происходящее вокруг воспринимал сквозь призму тщательно выстроенного бреда. Себя осознавал нормальным (за исключением редких моментов ремиссии), со стороны поступки его тоже выглядели вполне логичными и осознанными, моментами – на грани гениальности и даже за этой гранью. Мы с подобным до сих пор не сталкивались, если, конечно, не допустить, что каждый из нас находился в подобном состоянии с самого начала. Я, к примеру, с момента знакомства с Ириной, все остальные – по мере включения в предложенные обстоятельства.
Время от времени я на эту тему задумывался, но каждый раз убеждал себя и других в никчемности данной гипотезы. Строго по Лему, доказавшему, что находящийся внутри хорошо сделанного фантомата индивид не имеет ни малейшего шанса однозначно решить вопрос о подлинности или мнимости своего существования в ту или другую сторону.
Предыдущий раз, как вычислил Замок, момент проникновения Шульгина в астрал из московской забегаловки оказался критическим [19]. То, что он осознал себя находящимся на «Призраке», а не где-нибудь еще, было последней попыткой его надличности (единой для оригинала и копий) сохранить свою идентичность. Вот она и зацепилась за наиболее глубокое, архетипичное [20], можно сказать, воспоминание. Но не сумела удержаться, мотивации не хватило противостоять давлению извне.
Дальше все покатилось так, как требовалось Ловушке, помимо целей и намерений Игроков или самой Гиперсети. Только Замок (согласимся в это поверить) сумел вмешаться, организовав Шульгину еще один краткий момент отрезвления и вывел его на Антона.
Но все слишком заумно, не сейчас об этом рассуждать. Сейчас цель конкретна и проста – помочь Сашке захотеть остаться здесь. Соединить усилия, его и мои, чтобы разорвать силовое поле Ловушки, пока оно не стало непробиваемым.
Я говорил, говорил, перескакивая с темы на тему, как бы между прочим активизируя в Сашкином подсознании наиболее яркие и эмоционально окрашенные воспоминания настоящей жизни, одновременно ненавязчиво демонтируя систему стимулов, заставлявших его стремится к продолжению миссии наркома.
Это было не так трудно – Шульгин и сам, даже при измененном сознании, не раз задавал себе аналогичные вопросы. Человек с зачатками способностей Держателя подобен тому интеллигенту, выпившему «больше, чем мог, но меньше, чем хотел», который все же сохраняет возможность самоконтроля и осознает нынешнюю свою неадекватность.
Он выцедил остаток джина, разгрыз не успевший растаять кубик льда, размял сигарету, слегка подергивая щекой. Хороший, кстати, признак, фантомы и роботы тику не подвержены. На губах появилась знакомая усмешечка, могущая предвещать все, что угодно.
– А с чего ты взял, что я не хочу возвращаться? Так горячо меня убеждаешь, что странно становится…
Упаси бог, если сейчас в нем сработает механизм, свойственный именно параноикам, которые моментами проявляют нечеловеческую хитрость в ситуациях, когда им кажется, что их собираются обмануть или развести. Сталин, говорят, затеял «дело врачей», когда один из них осторожно посоветовал ему, в связи с возрастом и общим состоянием, поменьше работать и побольше отдыхать. Тот же переосмыслил рекомендацию в соответствии с «установкой» и начал махать топором направо и налево. Самому министру госбезопасности Абакумову пришлось сменить лубянский кабинет на камеру в том же здании. Не проявил, мол, должной бдительности в разоблачении очередного изощренного умысла…
– Чего же странного? – ответил я как можно спокойнее. – Вижу, как обстоят дела, знаю обо всех твоих сомнениях, даже кое в чем их разделяю… Одновременно по ряду причин уверен, что иного достойного выхода у нас с тобой просто нет. Мы без тебя вот этого в прагматическом смысле обойтись можем и обходимся, имея полноценный оригинал. В то же время ты для меня все тот же «ты», и оставить тебя на произвол судьбы я не могу по понятным причинам. Факт наличия аналога ничего не меняет в наших с тобой отношениях… Соображаешь, о чем я? Я знаю о картинке твоей вероятностной кончины и даже в этом гипотетическом, слава богу, неосуществившемся варианте чувствую собственную вину. Думаю, знаешь какую.
Сейчас – еще хуже. Оставить старого друга навсегда в чужом мире, без помощи и поддержки – выше моих сил. Если бы я знал, что этого будет достаточно, просто изолировал бы тебя в каюте до прихода на базу – и все! Однако – увы. Не уверен, что поможет, если даже врежу тебе сейчас до полного нокаута. Тело останется, а ты – упорхнешь…
– И так может случиться, – кивнул Сашка, что подтверждало его сиюминутную вменяемость.
Меня внезапно озарило. Я знал, чего Шульгин боится больше всего – утраты нынешней идентичности. И я бы боялся, чего лицемерить.
– Хочешь интересный вариант? Мы совместим того Сашку с тобой, а не ты сольешься с ним. Фактически, твоя нынешняя память и личность просто обогатится дополнительным блоком воспоминаний… По сей момент включительно.
– А он как к потере себя отнесется?
– А мы ему не скажем, – заговорщицки подмигнул я. – Щелк – и вы снова одно, и никто ни на кого не в обиде.
Он явным образом задумался.
Антон мне гарантировал, что здесь и сейчас мы изолированы от любого внешнего воздействия. От Гиперсети по известной причине, да вдобавок дополнительным блоком от просочившихся в ноосферу ГИП и сопряженных с нею реальностей чужих мыслеформ, целенаправленных или паразитных.
– Пить еще будем? – спросил он меня, демонстрируя собственную адекватность и вменяемость. – Давай как тогда, в Кисловодске…
– В шестьдесят восьмом, что ли?
– Вот-вот…
Я хорошо представил себе душную ночь, едва-едва потянувший к полуночи с гор прохладный ветерок, последние аккорды и такты завершающего концерт духового оркестра в раковине у Нарзанной галереи, теплое железо крыши, на которую мы вылезли через окно мансардного номера гостиницы. Едва начатую бутылку импортного вина «Промантор» (типа портвейн), которая требовалась больше для антуража, чем по прямому назначению. Разговор, начавшийся со сравнительной оценки девушек, с которыми мы накануне познакомились, и плавно скатившийся к спору, вписались бы они в состав экипажа «Призрака», если бы их туда пригласили, или же нет…
– Давай. – Для полного правдоподобия я сделал глоток из горлышка и передал посудину Сашке. – В тот раз, сдается мне, речь шла о походе в Южную Африку?
– Под явным влиянием «Лезвия бритвы». Мы даже прикидывали, кто из них будет Сандра, а кто – Леа…
– Точно. Хорошо тогда поговорили… А что, если… – Меня осенила на первый взгляд дурацкая, на второй – гениальная идея. – Если плюнуть на все и воспроизвести…
– Как-как? – не сразу понял Сашка.
– Впрямую! Мы двадцатилетние, девушки, «Призрак» и Южная Африка… И пошло оно все прочее…
Глаза Сашки загорелись непритворным интересом.
– Слушай, эту мысль стоит притереть по месту…
– Так точно. Тогда мы тешились мыслью, заведомо зная, что подобное невозможно, однако юным азартом и винцом заставляя себя верить, хоть на час-другой, что сможем… Пожелаешь хоть чуть-чуть сильнее, чем обычные жалкие людишки, – и выйдет…
– Ага. И я еще сказал, что исполнение мечты – на дне этой бутылки…
Мы сделали еще по доброму глотку, дружно засмеялись, хлопая друг друга по плечам и коленям. Кажется, дело пошло.
Но он внезапно, разом помрачнел. Что вдруг не так?
– Считай, мы договорились, – медленно и словно через силу выговорил он. – При одном условии…
– Если вы с Антоном меня не покупаете, дурака не лепите… Хоть ты, так похожий на живого Андрея, хоть еще кто угодно… Доказательство! Мне нужно доказательство. Неубиваемое. Я пришел на «Призрак» прямо из Москвы. Из тридцать восьмого. Так?
– Ну? – осторожно согласился я.
– Там до последнего момента я знал, что я – подлинный!
– Никто и не спорит… – Я не понимал, куда он клонит.
– Так вот пусть кто-то, не важно кто, хоть Антон, хоть ты, сходит в тот самый вечер и принесет вещь, которую я спрятал. Что за вещь – не скажу. Нужно ее взять, не открывая упаковки, принести сюда. Тогда я поверю, что я человек и ты – человек. Тогда можно и в Африку. Фальшивку и подделку я сразу угадаю. Подходит мое условие?
Я был не уверен, что Антон сможет это сделать, а самое главное – ничего бы это не доказало. Как бы Сашка догадался, что доставленная ему вещь – именно та, что он имеет в виду, а не очередная иллюзия? Хотя, с другой стороны… Если бы у меня, у Антона, Игроков имелась возможность такого внушения, то мы бы ее уже использовали, не затрудняясь психологическими изысками…
Но если он такое доказательство считает убедительным, отчего не попробовать?
– Хорошо. Я попробую связаться с Антоном и сказать ему… Надеюсь, все будет, как надо…
Глава пятая
Незаметно опустилась ночь, и океан был черен абсолютно. Небо наглухо забито тучами, в воде ни малейшей фосфоресценции, даже ходовые огни яхты не отражались в волнах. Если бы не равномерный плеск рассекаемой форштевнем воды и журчание кильватерной струи, можно было бы вообразить, что мы повисли в межгалактическом пространстве.
Понятно, что навигационных спутников в здешнем мире не имелось, отчего установить свое местонахождение собственными силами мы не имели никакой возможности, ни обсервацией звезд, ни по счислению, поскольку не известна исходная точка маршрута, путевая скорость, время и курс, которым двигалась яхта, пока мы с Шульгиным вели свою полубредовую беседу.
Ветер посвистывал в снастях, все две с половиной тысячи квадратных метров дакроновой «парусины» тянули «Призрак» в неизвестность крутым бейдевиндом. Через дверь, открытую на крыло мостика, тянуло холодной соленой сыростью.
Помаргивали лампочки на пульте управления, подсвеченная зеленоватым «гнилушечным» светом, подрагивала в нактоузе картушка магнитного компаса. По сути – декоративного, но какой же парусник без компбса и массивного деревянного штурвала, оправленного надраенной медью?
Случись что с автоматикой, электрикой и прочей гидравликой, проверенные веками штуртросы, шкоты и брасы, секстан, хронометр и магнитная стрелка не подведут. Не мы первые, не мы последние, до какой-нибудь земли всегда доплывем. Даже вдвоем, хоть и помучиться придется изрядно.
Сейчас, к счастью, вопрос так не стоял.
Работал приводной радиомаяк Замка, сорокадюймовый экран изображал в цвете карту северо-западного угла Атлантики, накрытую координатной сеткой. Яркая алая звездочка обозначала наше место, зеленая тонкая линия – рекомендованный курс, розовая – истинный. По нижней кромке дисплея высвечивались все потребные навигатору данные: показания лага, лота, скорость и направление ветра и тому подобное. До места оставалось меньше ста миль. Шесть часов под парусами при теперешнем ветре или три – на движках крейсерским ходом. Ветер практически попутный, не требующий никаких чрезвычайных усилий вроде частой смены галсов, а уж тем более поворотов оверштаг или через фордевинд, что на трехмачтовой гафельной шхуне выполнять далеко не просто даже с полным экипажем.
Милое дело штурманить на таком корабле, особенно когда в наличии комплект именно для службы на «Призраке» запрограммированных биороботов. Сейчас их отчего-то не видно, может быть, специально отключены и заперты под полубаком, чтобы не нарушали торжественность момента.
Слева от командирского пульта, ближе к корме размещался «штурманский стол», так это называется, на самом деле – небольшая выгородка по типу отсека общего вагона, где в настенных шкафчиках располагались карты, атласы, лоции, справочники всякого рода, инструменты для ручной прокладки курса и прочие приспособления, в том числе и весьма раритетные. Опять-таки в память о тех временах, когда мы, «проектировщики», понятия не имели о достижениях будущей интеллектроники и высшим проявлением технической мысли почитали механический курсограф, сопряженный с гирокомпасом.
Там же имелся отдельный щит с тумблерами и кнопками, дублирующими, а то и блокирующими основные цепи управления. А также и секретный, недоступный для роботов блок управления ими же. На всякий случай. «Три закона роботехники» – хорошо, а бдительность – лучше.
Но сейчас мне было нужно не это. Я по памяти нашел кнопку магнитофона, и рубка наполнилась звуками увертюры к фильму «Дети капитана Гранта» Дунаевского, которую мы в свое время определили в качестве гимна нашего «Призрака». Волнующая, должен сказать, музыка. Романтическая и духоподъемная. Сашке должна прийтись в самый раз.
– Слушай, а правда здорово, – сказал он, шагнув из рубки на крыло мостика, полной грудью вдохнув соленый ветер.
– А я о чем?
– Но это – сон, – тут же продолжил Шульгин, – волны веселой пену давным-давно не режут клипера, и парусам давно несут на смену дым тысяч труб соленые ветра…
Помолчал и закончил стих старого капитана:
Кажется, лечебный процесс протекает «ин леге артис» [22].
– Как ты думаешь, – тут же спросил Сашка, – мы из Ловушки выскочили? Как-то мне вдруг так полегчало…
– Раз мы вдвоем, на «Призраке», идем в базу, пьем джин и цитируем текст, который, клянусь, никто на этом свете, кроме Левашова, наизусть не помнит, с осторожностью можно предположить…
– Тогда сделай то, о чем договорились. Пока этого нет, я продолжу упражнения с джином и сохраню свой природный пессимизм…
– Сколько угодно, – с плохо скрытой радостью воскликнул я. Джина и прочих изысканных напитков только в баре кают-компании было запасено из расчета двухмесячной автономки. Правда, когда я описывал комплектацию яхты, наличия у членов экипажа гомеостатов не предполагалось. С их помощью весь ассортимент мог быть употреблен за неделю, без всяких вредных последствий. В виду имелись нормальные человеческие потребности и возможности при условии тяжелой физической работы и вахт «четыре часа через восемь».
Но если сейчас Шульгин подавит высшие функции своего головного мозга, то станет невосприимчив к постороннему воздействию. Чего мне и нужно. Даст бог, успею довести яхту до гавани, а там уж как-нибудь…
Он продиктовал мне временны#е и пространственные координаты места, где спрятал артефакт, после чего развалился в моем штурманском кресле и начал крутить верньер магнитофонного поисковика. Я пытался угадать, что именно ему требуется, но не сумел. Думал, он хочет услышать «Маленький цветок» или «Серебряную гитару» с оборота той же пластинки – «сорокапятки». Сашка же отыскал совсем уже всеми забытую мелодию «Не уходи», которую я последний раз слушал на открытой площадке третьего этажа ныне не существующего кафе «Юность» в Пятигорске. Больше полужизни назад.
Томительная, ностальгическая, разрывающая душу, если помнишь, с чем она связана, музыка. Ночь, переломная между июлем и августом, яркий фонарь на венчающей вершину Машука телевизионной башне. Шампанское, апельсины и кофе на столике, две милые девушки, с которыми прощаемся навсегда (тогда об этом не говорилось вслух, но подсознательно все это понимали). И эта польская мелодия, которую вдруг вздумал исполнить оркестрик подшабашивающих студентов музыкального училища. А на той веранде, кроме нас четверых, никого и не было. Неужели так четко ребята просекли ситуацию и решили… Сделать приятное? Или наоборот, предостеречь? Кто теперь скажет? Помню только, что я совсем затосковал, у подруги, сидевшей напротив, навернулись слезы на глаза, а Сашка твердым, отработанным юлбриннеровским шагом прошел к эстраде и положил на рампу все, что у нас оставалось, – два желтых, «хрущевских» рубля. Могло бы хватить еще на бутылку «Розового шипучего». Компот, конечно, девятиградусный газированный, но тогда ж смысл был не в градусах, а в процессе…
Сашка погрузился в глубину давних эмоций, а я вышел на связь с Антоном. Получилось, хоть были определенные сомнения: все же слишком сложен путь сигнала из доисторического безвременья к нам в двадцать пятый.
Антон коротал время, рассматривая в установленную на штативе у края веранды мощную стереотрубу скользящие вблизи горизонта прогулочные яхты. Пользуясь чудесной погодой, местный бомонд едва ли не в полном составе отправился подышать морским воздухом. Дамы, за три года нашей цивилизаторской деятельности утратившие инстинктивный страх перед оголением своих прелестей и отважно щеголявшие в разноцветных бикини. Мужчины в плавках. Научили мы их загорать, что до мировой войны никому из «приличных людей» и в голову не приходило.
Ирины рядом с ним не было, да это и к лучшему.
Я сообщил Антону условие, поставленное Шульгиным.
– Настроен он категорически, никаких отговорок не примет. Так что придется тебе…
Я не знал, нужно ли Антону предварительно совмещаться с самим собой, пребывающем относительно текущего момента в далеком, недооформленном будущем, или он сможет попасть, куда надо, прямо отсюда.
Да какая мне разница, как именно он выйдет из положения, лишь бы такая операция вообще оказалась возможной. Для него ведь тоже соотношение времен начало меняться, исходя из смысла наладившихся у нас с Сашкой отношений.
– Дел-то – перескочить на десять минут в столицу, в глухой проходной двор, никак себя не проявляя, избегая контактов даже с запоздавшим случайным прохожим. Риск минимальный. – Мы с ним как бы поменялись ролями, и теперь я убеждал его в легкости и безопасности задания. – По Сашкиным словам, он там, пока устраивал свою закладку, никого не встретил. Да и то, тридцатые годы – не нэповские двадцатые и не веселые шестидесятые. Тогда народ зря по улицам не бродил «в поисках приключений». Нужно будет – они сами тебя найдут. Да такие – не обрадуешься. А пока не нашли – побыстрее домой – и в койку, до неумолимо скорого подъема на работу. Проспишь – тюрьма [23].
Против ожиданий, форзейль к моему поручению отнесся спокойно.
– Сделаю, конечно. Консервная банка, говоришь? Шестой сверху ряд в колодце? Найду, если есть…
Странно все это было по-прежнему. Невзирая на минувшие годы – странно. К такому не привыкают, такое принимают как данность, пока нравственного здоровья хватает. Яхта сейчас бороздила простор океана в веке, приблизительно, восьмом-девятом. Когда по морям плавать финикийцы и греки давно перестали, а викинги еще не научились. На суше индейские племена предпочитали кочевать в глубине континента, холодное, неуютное побережье их не привлекало. Не Полинезия, чай, на солнышке не поваляешься и серфинг изобретать не станешь.
При этом я говорил, удерживая канал связи, с человекоподобным существом, собирающимся проникнуть в место, расположенное на тысячу лет позже от меня и тринадцать от него, строго говоря – «нигде». Найти там вещь, которая, фактически, не существует в принципе. По той простой причине, что в том мире еще (или уже) не существует как факт или биологический объект человек, туда ее положивший.
И одновременно все происходит именно так, как происходит. Потому что – законы природы…
…Ситуация, если вдуматься как следует, образовалась более чем сложная. Имела место закольцованная, хотя и не до конца, псевдореальность совершенно особого типа. Мы с Сашкой сейчас находились в рубке «Призрака» и одновременно относительно всего прочего – тоже нигде. Мало того, что Замок как архитектурный объект существовал в глубоком прошлом ГИП, он в то же «время» взаимодействовал с тридцать восьмым годом в той его точке, которая одновременно являлась истинной и мнимой. Значит, в определенном смысле и сам он был воплощением некоего дуализма – не то волна, не то частица, одно и другое одновременно или, с той же степенью достоверности, – не то и не другое. Абстракция, присутствующая лишь в сознании неких индивидуумов, которые, в свою очередь, могут функционировать только по причине наличия этой самой абстракции.
Вот как закручено. Куда там самым крутым солипсистам и неокантианцам, труды которых я изучал по курсу «Критика современных буржуазных философский теорий». К дзен-буддизму наш вариант ближе будет. «Философ, которому снится, что он бабочка, которой снится, что она философ».
Если попытаться рассмотреть наш случай пошагово, с позиций самой обычной логики, получается вот что.
1. В феврале 1938 года Шульгин-Шестаков существовал реально, в «вещном мире», работая по испанской теме. Этот мир, вполне возможно, принадлежал к Главной исторической последовательности, продолжавшей развиваться независимо от факта возникновения Югороссии и случившихся после того событий.
2. Он же в нематериальном качестве взаимодействовал с Гиперсетью на нескольких уровнях, причем, руководимый «кем-то» или «чем-то», сумел извлечь «откуда-то» форзейля Антона, существо безусловно материальное, но пребывавшее в иных измерениях с иным ходом времени по отношению к ГИП. В чем, возможно, и заключался главный смысл ситуации.
3. Физические Антон и Шульгин вступили в контакт с «духом Замка», реально существующем в виде какой-то волновой структуры, имеющей возможность осуществлять целенаправленные действия в отношении материальных объектов. Здесь можно приравнять названный «дух» к подобию того, что принято называть «богом», но не обладающего всемогуществом и всеведением в терминах христианской теологии. Скорее его можно сравнить с античными богами.
4. Указанный «дух» обеспечил Шульгину возвращение в его «телесную оболочку», но – не окончательно, поскольку где-то имелся Шульгин-исходный и совмещения этих ипостасей пока еще не произошло, так как очередная точка бифуркации (сцена на «Призраке») по каким-то причинам не зафиксировалась. Целенаправленно, в результате сбоя в Сети или влияния Ловушки. То есть все, что случилось после возвращения Шульгина в реальность-38, не может рассматриваться как факт, а только в виде гипотетической конструкции. Аналогично тому, как в случае «растянутого настоящего» ни одно событие не является таковым до завершения «процесса». Следовательно – не является безусловным факт контакта ГИП-реальности с миром дуггуров. Несмотря на то что некоторое количество оных было взято в плен и передано в распоряжение Замка «для опытов».
5. Единственный способ возвращения статус-кво, фиксации ГИП, предотвращения грядущей тотальной войны между миром людей и дуггуров, найденный Замком, – изъятие Шульгина из точки бифуркации (кают-компании «Призрака»), что, образно выражаясь, навеки инкапсулирует реальность-38, превратит ее в «несостоявшийся вариант». Механик остановил демонстрацию фильма, вложил его в коробку и отправил в «спецхран» до лучших времен или – навсегда.
6. В данный момент реальность-38 пока еще существует, ибо внутри ее находятся Антон, Сильвия, Лихарев – личности вполне материальные и многими нитями связанные с ГИП. Их задача – до последней возможности «держать оборону плацдарма». Если у меня не выйдет «изъять Сашку из сюжета» – защищать Землю от вторжения дуггуров, пока Замок не придумает еще какой-нибудь способ спасения.
7. Задача Замка и всех нас осложняется тем, что Шульгин надежно, скорее всего – необратимо отключил ГИП от Гиперсети. Мы больше не подвержены ее влиянию, но зато и сами лишились возможности использовать ее для устранения дуггурской опасности.
Из всего вышесказанного с очевидностью следует – именно я сейчас оказался в положении циркача, пытающегося на глазах восхищенного зала удержать на кончике носа бамбуковый шест с водруженным на нем фарфоровым сервизом. А вся мировая история – как раз этот самый сервиз. Либо – «Оп ля!» и гром аплодисментов, либо – грохот бьющегося фарфора и мелкие дребезги по всей арене…
Может, и отобьемся, конечно, от порождений очень чуждого мира, а может, и нет, если даже Замок понятия не имеет об их боевых возможностях и о том, кто ими руководит и направляет.
А помочь мне удержать шест может только Антон. Не принесет он «то, не знаю что», и Сашка, вполне возможно, ускользнет. Не туда, куда ушел с «Призрака» прошлый раз, совсем в другое место. Не пройдет подземным лабиринтом, не выручит Антона, не встретятся они с духом Замка…
В книжке «Смерть Вазир-Мухтара» Тынянов написал, а после него Пикуль неоднократно в своих романах повторил роковую фразу: «Еще ничего не было решено».
Так и на самом деле…
В то же время странным было и положение Антона. В любом месте, кроме нашего с Ириной дома, он сейчас будет существовать фактически, но как бы и «понарошку». И да и нет. Не случись изобретенная Замком схема выхода из «дурной бесконечности», они бы сейчас с Шульгиным, получившим искусственное, но никак не отличимое от настоящего тело, были бы вполне материальными субъектами реальности-38, со всеми вытекающими последствиями. Готовили на даче Сталина план отражения близкого и неизбежного вторжения дуггуров. Но там время тоже пока стояло, как в дни нашего первого появления в Замке, или остановилось в октябре 1941 года.
Это достаточно сложно объяснить, но суть процесса была именно такова. Незафиксированные на ГИП реальности до поры до времени оставались по теории Канта «вещью в себе», и требовались определенные целенаправленные действия или стечение обстоятельств, чтобы они приобрели полноценный вид. Вот наши двадцатые или мир Ростокина уже были настоящими, хотя 2056-й – с некоторыми оговорками. Тот 2005-й, где я встретил старых приятелей, тоже выглядел достаточно убедительно, хотя условием его существования был пространственно-временньй парадокс, который все еще длился…
А теперешний тридцать восьмой, именно потому, что Замок решил переиграть сюжет, таковым не был. И тот Шульгин, с которым Антон явился в Лондон к Сильвии, тоже сейчас не являлся полноценной личностью. Форзейль же, леди Спенсер и ее помощник – являлись. И находились в положении живых актеров, проговаривающих написанные для них реплики в окружении фанерных и картонных декораций, но в меру своего таланта и законов жанра вызывающих у зрителей эмоции, даже превосходящие естественные по качеству и степени воздействия. Но только до тех пор, пока не упадет занавес.
Все названные персонажи продолжали восседать в гостиной Сильвии за поздним ужином и только что закончили расписывать диспозицию предстоящих действий. Лихарев выразил желание вернуться в Москву, встретиться с бывшим, дореволюционным еще координатором, своим предшественником, и поднять войска московского гарнизона для защиты дачи Сталина и его самого от возможного вторжения дуггуров. Непосредственного, по барселонскому типу, или оформленного как-то иначе. Остальные должны были немедленно переместиться на кунцевскую дачу, где хранились тела убитых монстров.
А вот Антон, получается, находился одновременно и там, и в Крыму? Или там его теперь не было? Время остановлено, вернее – приостановлено, и он полностью здесь. И мы с ним нормально общаемся.
Хорошо, что рядом нет Ирины. Кто знает, вдруг, вмешавшись в наш разговор, она непроизвольно нарушит длящуюся паузу «ничего посередине нигде». Сказано же было, что любое непредусмотренное, вообще не совпадающее с уже случившимся действие могло сломать хрупкое равновесие.
– А как остальное происходит? Шульгин нормально выглядит? Никаких у тебя сомнений? – Антона, похоже, волновали те же мысли, что и меня. Не фантом ли на самом деле Сашка, подсунутый нам именно дуггурами или преследующим собственные, непостижимые цели Замком?
– Насколько я его чувствую – настоящий, только капитально выбитый из колеи. На грани срыва. Да, вот именно так. Или – или! Ирине, кстати, скажи, что дело практически сделано. Пусть не переживает, если тебе сейчас отлучиться придется. Со мной согласовано.
– Она сама говорить хочет…
Ну, вот еще забота.
Ирина показалась из-за левой рамки «окна», уже должным образом одетая, причесанная, подкрашенная. Спокойная.
– У тебя действительно все в порядке? Разрешаешь Антону уйти?
– Да, Ира, да. Антону нужно принести из той Москвы одну вещицу, иначе Сашка просто не поверит, а тогда – сама понимаешь. Я же в полной норме. Сижу, как видишь, в рубке и наслаждаюсь океаническими красотами. Чем быстрее Антон обернется, тем лучше…
– Мне очень хочется перешагнуть сейчас к тебе. Может быть, уже можно? Сам ведь сказал, что с Шульгиным ты фактически договорился. Антон принесет, что нужно, и мое присутствие Александра еще больше подбодрит…
– Я бы твое прибытие только приветствовал. Но лучше все-таки после Антона. Доходит? Все настолько на грани… Лишнее слово, лишний жест могут сорвать лавину. Кто знает, какие настроения в нем твое появление пробудит? Потерпи совсем немного. Христос терпел и нам велел… Пока собирайся в дорогу, если что, я тебе из Замка проход открою, когда мы туда доберемся. А сейчас я с Антоном договорю…
Ирина исчезла из кадра. На шаг отошла или поднялась в комнаты, мне из рубки видно не было.
С форзейлем я поделился частью своих размышлений по поводу текущих событий. В частности, меня интересовал очередной парадокс, вернее, то, что мне таковым представлялось, а именно – судьба Валентина Лихарева. Сбежав из своего времени в две тысячи пятый, там он не сохранил никаких воспоминаний о событиях, участником которых является сейчас. Следует ли из этого вывод, что наша миссия заведомо завершилась успешно и развилка пройдена?
– Забавный вопрос, – тонко улыбнулся Антон. – Жаль только, ответить на него я не в состоянии. Теоретик из меня никакой. Формально выглядит именно так. Шульгин, встретившись с тобой, уже принял решение, повлияв тем самым на свое и наше будущее. И мне теперь можно никуда не ходить и ничего не приносить. Заманчиво. На самом же деле в нашем положении надежнее будет предположить, что мгновенье продолжает длиться. Один неверный шаг, и уже у всех нас исчезнут воспоминания о встрече с Лихаревым, как и многие другие… Вот тогда нас, охваченных амнезией, можно будет брать голыми руками. Так что давай все-таки сделаем, как Александр просит.
Что ж, в логике, если здесь вообще стоит употреблять этот термин, ему не откажешь.
– Второй вопрос, – продолжил я, – ты собираешься снова заскочить к Сильвии в Лондон или сразу в Москву?
– Это имеет значение?
– Не знаю. Просто в голову пришло. Мне показалось, если у тебя что-нибудь сорвется или пойдет не так, Лихарева нужно предупредить. Он ведь не строевой командир, только в придворных интригах натаскан, никак не в кризисном управлении войсками. И Сталин пока что военного опыта не имеет, кроме легендарной Царицынской операции, да и то его роль в ней сильно преувеличена. А я все ж таки полгода вместе с Берестиным большой войной руководил. Ты ему вот что скажи…
– Зачем? Если сорвется, на ту реальность останется только махнуть рукой.
– Не согласен. Противника лучше связать боем на самом отдаленном плацдарме. Просто так наши не сдадутся, сражаться в любом случае будут. А мы здесь успеем подготовиться, изучить стратегию и тактику врага, его боевые возможности. В том числе анатомию с физиологией…
– Резонно.
Глава шестая
Ирина, поговорив со мной, некоторое время размышляла, куря уже третью за это раннее утро сигарету, чего обычно себе не позволяла.
– Знаешь, коллега, – сказала она Антону, поправляя совсем не нуждающуюся в этом прическу – просто рефлекторный жест. – Еще раз скажу: если Андрей не вернется, мне терять нечего…
Антон не то чтобы напуганный, но несколько выведенный из себя угрозой Ирины (аггрианка, если бы пришла в боевое неистовство, как истинная Валькирия (баба-берсерк), вполне могла устроить то, что обещала, не заботясь о последствиях), решил поскорее откланяться.
Начал, натянуто улыбаясь, прощаться, сказал, что, безусловно, все договоренности остаются в силе и он готов добровольно, по первому слову явиться на расправу. Как человек чести.
– Первый выстрел, безусловно, за тобой. На шести шагах, если желаешь…
– Да я и на ста тебе в лоб попаду, из трехлинейки… – мило улыбнулась Ирина, и сомневаться, что так оно и будет, не стоило.
– А сейчас подожди минутку…
Она ушла в комнату, и тотчас же вернулась, неся в руке пресловутый золотой портсигар. Но не свой, с другой эмблемой на крышке, отобранный у Дайяны в последней стычке. Она его подрегулировала определенным способом и вручала Антону без опаски. Если потребуется, нейтрализует на любом расстоянии или банальным образом взорвет, приведя свою угрозу в исполнение. Попусту болтать Ирина не любила. Обещала – выполняй. Вместе с тем и формулу «умеешь считать до десяти, остановись на семи» никто не отменял. В разных вариациях у любых мыслящих существ такая идея должна присутствовать в базовой идеологии. Иначе – никак!
– Возьми. Если вдруг возникнут затруднения – может пригодиться. У тебя своего настоящего оружия нет? Ведь правда?
Антон кивнул. Все она знает.
– И я о том же. Оружия нет, одни методики, а здесь есть кое-что такое, к чему враг точно не готов. Зря вы недооценивали нас…
– О чем говоришь! До конца воевали с полным взаимным уважением.
Ирина сделал отстраняющий жест. Не о том, мол, речь.
– Смотри внимательно. Я тебе такие настройки покажу…
Этот подарок окончательно убедил Антона (инстинктивно он все время их знакомства аггрианке-перебежчице до конца не верил), что Ирину опасаться не следует и что находятся они в совершенно материальном мире, вне воздействия любых Ловушек. Блок-универсалы, по природному свойству, с Гиперсетью не совмещались, как порох с огнем.
Он испытал острый прилив благодарности, не только за доверенное оружие – вообще. После пережитого открытость и благородство друзей-партнеров восхищала его куда сильнее, чем прежде. На фоне бесчувственной жестокости соотечественников…
Перепрыгнув из Крыма в Лондон-38, Антон сообщил Сильвии и Шульгину, что в связи с некоторыми обстоятельствами им придется несколько подзадержаться здесь. Ненадолго, что, впрочем, никакого значения для общей задачи не имеет. Все равно все окажутся в нужное время в нужном месте.
– А вы, Валентин, действуйте, как договорились. Только я вот что вспомнил – откуда у вас в Москве танковая дивизия? Нет ее там. Ближайшая – за сто километров и разбросана полками по нескольким точкам. За полсуток дойти не успеет, разве только передовыми отрядами. Да и то если приказ поступит с самого верха, минуя инстанции. Значит, сначала Иосифа Виссарионовича нужно убедить. Хотя, надеюсь, сделать это будет несложно, он и так в подходящем настрое. К тому же я скажу вам одну формулу, произнесете в нужный момент. Должно повлиять на товарища Сталина в желательном направлении.
Лихарев досадливо поморщился: не любил он, когда начинают вмешиваться в вопросы его компетенции, тем более – столь сомнительные личности, пусть и приходится им быть сейчас союзниками.
– Дивизия Дзержинского в городе расквартирована, с нее начну. Училище имени ВЦИК прямо в Кремле, полторы тысячи человек за полчаса в ружье поставлю…
– Хорошо, допустим. Дивизия есть дивизия. Танковый батальон у них есть и артиллерийский полк. Восемь тысяч личного состава, кажется? Хорошая сила. По моим представлениям, смогут подойти к даче через два часа. Двадцать минут на подъем по тревоге, час на сборы, полчаса марша. Я правильно считаю?
Лихарев мельком удивился профессионализму гражданина, в истинной принадлежности которого он уже запутался. То он Шульгин, то форзейлианский резидент, а на самом деле кто – без бутылки не разберешься. Но в военных делах и дислокации частей МВО разбирался досконально.
– Главное, паники там не устраивайте. Замотивируйте поаккуратнее. Наркому обороны сошлитесь на личный приказ Сталина, а уж он пусть подает комдивам как угодно. Внеплановая проверка мобготовности, окружные учения с боевой стрельбой или внезапный мятеж Белорусского округа – сейчас все равно. Полки выдвигайте по разным дорогам, бронечасти прямо к даче, но не ближе трех, скажем, километров, для обеспечения свободы маневра. Пехоту веером, побатальонно, с севера на юг, с расчетом создания двойного кольца окружения, внешнее фронтом наружу, внутреннее, естественно, внутрь. Шоссе и проселочные дороги перекройте на дальних подходах, и с востока, и с запада. Командный пункт разместите в Филях, стрелковый полк и роту-другую бронеавтомобилей – в личный резерв…
Антон за руку увлек Лихарева к дальнему окну. Пришедшая голову мысль вытекала из того, что он успел понять после связи со мной и Замком. Очень может быть, что им с Валентином не придется больше увидеться в нынешнем качестве, а то и вообще. И тому придется возглавить полномасштабную войну с дуггурами на всей советской территории и за ее пределами.
– Слушай меня внимательно. Положение настолько поганое… Что с нами всеми через полчаса будет, не готов угадать. Как бы не пришлось тебе в Главкомы выскочить. Всякое случалось. Так вот, если… Пехота, танки – это хорошо, кто спорит. Только война может случиться совсем нетрадиционная. Я тебе советую… В округе сейчас две кавдивизии имеются. Вот их тоже экстренным порядком поднимай и добейся у Сталина передачи их в твое личное подчинение. Пусть с полным боевым снаряжением, как для глубокого рейда по вражеским тылам, выдвигаются, ну хоть в район Битцева, лесными дорогами…
Поначалу эта идея показалась Лихареву совершенно неуместной, если не откровенно бредовой. Что такое кавдивизия, пусть и штатного состава? Три полка по шесть сабельных эскадронов и по одному пулеметному, шесть батарей трехдюймовок на конной тяге. Едва три тысячи человек, слабо вооруженных. И посаженных на животных, которым нужно много корма, воды, постоянный уход, подковы, масса других специфических условий, несовместимых с той войной, которую, может быть, придется вести.
Так он и сказал, добавив, что если исходить из случившегося в Барселоне… Тут бы лучше на Таорэру выскочить, вдруг да удастся найти на Базе гравиконцентраторы в рабочем состоянии…
– Попробуй, если сумеешь, я же не против. А если из нашей текущей обстановки исходить… Прими во внимание, что за обе мировых войны, не считая Гражданской, только кавалерийские части и соединения ни разу не были разгромлены «в ноль». Гвардейские, пехотные и танковые, неоднократно теряли свой состав полностью, бывало, что и знамена, а кавалерийские – из любых сражений, окружений и прочего выходили хоть и потрепанные, но всегда боеспособные. Не было ни одного, подчеркиваю, случая, чтобы кавдивизия была расформирована по причине катастрофических потерь личного состава или полностью сгорела в боях. Тут дело не столько в материальной оснащенности, как в особенностях тактики и психологии…
Но это все теория, пока сам не убедишься, можешь не верить, что в здешних лесах и оврагах кавалерия сможет разобраться с гориллоподобными монстрами лучше, чем путающаяся в полах своих шинелей пехота или застревающие в любой канаве танки. Вообще лошадь плюс человек – это совсем особая боевая единица, в психологическом плане…
Антон увидел – Лихарев заметно помрачнел, что и неудивительно. Тяжесть на него сваливается неимоверная, к такой он не готовился. За десять с лишним лет научился виртуозно ориентироваться в коридорах власти, конструировать свои и распутывать чужие интриги, но не руководить крупномасштабными и физически опасными предприятиями. Большая часть жизни протекала у него в закрытых помещениях, в треугольнике Кремль – Старая площадь [24] – Ближняя дача. Он забыл уже, когда по собственной инициативе выбирался за пределы Москвы, разве что сопровождая вождя в отпуск или все более редкие выезды «на места».
– Да ты особенно не напрягайся. Все мои советы только на тот случай, если я не вернусь. Это маловероятно, однако… Постараюсь за час управиться, так что тебе, глядишь, вообще ничего делать не придется.
– Прошу прощения, я чего-то не понял? По известным причинам вы должны возвратиться к нам максимум через одну-две минуты. Так что при чем здесь час, год, столетие? Живите там хоть сто двадцать лет. А я после вашего ухода рюмку выпью, папироску выкурю и могу считать, что вы, не появившись, тем самым исчезли навсегда и мы абсолютно вольны в своих дальнейших действиях?
– Умозрительно получается именно так. Но опыт подсказывает, что на практике случается по-разному. Сбои всякие, вмешательство неучтенных факторов, включая хрономагнитную бурю, чью-то некомпетентность или злую волю. Я свободно могу не попасть к вам тик-в-тик. Оставляю себе запасец. Скажем, вы ждете до утра по этим часам, – указал он на массивный напольный агрегат девятнадцатого века, отсчитывавший именно внутреннее время особняка. – После чего – действуйте по моему или собственному плану. Когда и где придется встретиться следующий раз… – Антон развел руками. – Живы будем – свидимся.
В гостевой комнате форзейль переоделся в подходящую для вылазки в Москву одежду. Бобриковое полупальто, почти непременные для ответственных работников любого ранга галифе и сапоги, «финскую» шапку с козырьком. Проверил, есть ли патрон в стволе пистолета.
Ну, с богом!
Антон не зря затеял с Лихаревым «прощальный» разговор. Он на самом деле не полностью представлял всех ближайших и отдаленных последствий проводимой акции.
Люди в доме Сильвии находились, как сказано, в зоне «нулевого времени». И могли там пребывать сколь угодно долго, не беспокоясь о том, что без них что-то может случиться во «внешнем мире». Однако, стоит любому из них выбраться наружу, время начнет двигаться в обычном ритме, унося их, как течение щепку от островка, где оставался особняк леди Спенсер. Вернуться обратно будет так же невозможно, как подняться по горной реке на лодке без мотора. Дело не только в непреодолимости давления времени, сам факт возвращения в исходную точку будет означать «отмену» уже совершенных действий, то есть создание очередной новой микрореальности, которая непременно и стремительно начнет расширяться, как трещина в плотине.
Эти теоретические построения в свое время мы подробно разбирали с Берестиным, Ириной, Левашовым. Антон не мог не знать азов хронофизики и, значит, на самом деле возвращаться не собирался? Именно так. Если его миссия завершится успешно, делать в доме Сильвии и в реальности, приговоренной к консервации, ему совершенно нечего. Но он все же допускал вероятность неудачи, пусть и не хотел в это верить. Скажем, не окажется на месте шульгинской закладки, по какой угодно причине. Тогда придется вернуться, чтобы с исходной позиции, посоветовавшись с Замком, предпринять вторую попытку.
Но такое возможно только в том случае, если в Москве с ним не случится какого-нибудь значимого события. Если же оно произойдет, останется одно – возвращаться в Крым, к Ирине, предоставив реальность-38 собственной участи.
Думать о неудаче, еще не приступив к работе, – последнее дело, и он выбросил контрпродуктивные мысли из головы. Верно сказал некий германский полководец: «Как ты можешь утверждать, что приказ невыполним, до тех пор, пока не сделал все, что в твоих силах, чтобы его выполнить?»
Внутри любой реальности, не исключая и эту, Антон перемещался не создаваемым установкой СПВ каналом, а собственным способом, напоминающим перенос материального тела через эфирные сферы тонкого мира по баллистической траектории. Этим он создавал ощутимое возмущение пространственно-временного континуума, которое дуггуры, если располагают подходящей аппаратурой, вполне могли засечь, как вспышку молнии, след стартовавшей ракеты или круги на воде от брошенного в пруд камня. А могли и прозевать. Как повезет.
Снова в Москве была ночь. Несколько раньше того момента, когда Шульгин после встречи с Антоном забрал из тайника изъятый у бывшего резидента Юрия гомеостат. После чего прибор остался на руке его тела, переданного во временное пользование Антону (какому-то). И, по нормальной логике, должен был и сейчас находиться там же, на левом запястье, но его не было, потому что фактически еще не случилось ничего, следующего по времени после появления Шульгина, а вслед за ним и Новикова на «Призраке». Если и случилось, то не там. Опять «вилка», не столовая, а шахматная.
Мир вокруг был не тот, что прошлый раз. Москва, но какая-то другая. Это ощущалось не разумом, а как бы кожей или иными сверхчувственными способами. Да и Антон был не тот, еще не случившийся. Ему бы сейчас полагалось сидеть в лондонском особняке Сильвии, позже этого момента, и думать о том, что будет до.
Так бывает во сне, когда все якобы правильно, но даже внутри его понятно, что на самом деле это не явь.
Антон в своих делах был профессионалом высокого градуса [25]. Но до кандидата в Держатели, как ранее отмечалось, недотягивал. Иначе черта с два его сумели бы поймать свои дээсники. Мне хватило времени, слушая Антона, составить собственный план, импровизированный, авантюрный и тем не менее в должной мере подкрепленный способностью создать нужную мыслеформу. Локальную, одноразового действия, как фаустпатрон, но, по всем прикидкам, вполне работоспособную.
Как только он исчез с веранды, мы с Ириной начали работать согласованно, синхронно и синфазно, будто и не разделяла нас бездна пространств и времен. Я на борту «Призрака» тоже на полную мощность врубил функцию «растянутого настоящего». Ирина, прощаясь, сунула мне в ладонь свой портсигар, подлинный, с некоторыми тонкими настройками, сделанными Левашовым. Да еще и «фишка» Антона у меня была. А уж каким образом очередные вмешательства повлияют на тонкие, толстые и среднего качества временные ткани – сейчас рассуждать без толку. Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец!
Я решил убедиться, честно ли станет играть Антон или снова варианты подсовывать? Если первое – невредно подстраховать парня. Потому как – что он один сможет, если его отслеживают дуггуры, обладающие будто бы невероятной мощи психолокацией и умением создавать защитные поля, которые только лишенный тонкой душевной организации чекист сумел пробить? Убедительнейшее подтверждение расхожей присказки насчет отсутствия приемов против лома.
Опять же, «Единица – ноль, единица – вздор, один, даже если очень важный, не поднимет простое пятивершковое бревно, тем более – дом пятиэтажный!» – и так далее, вспоминая Маяковского.
А если Антон темнит, так лучше всего убедиться в сей истине немедленно и действовать сообразно «вновь открывшимся обстоятельствам».
У себя в Гурзуфе Ирина через личный терминал СПВ разыскала Левашова, Берестина и Басманова. Каждого по отдельности ввела в курс дела и объяснила, чего от них хочет.
Не более чем на сутки отставить самые неотложные дела, потому что теперь не абстрактные, возвышенно-галактические интересы на кону, а ее собственные. И жизнь Новикова с Шульгиным.
– Я ничего наверняка не знаю, ребята, но чувствую, что крайний случай. Сама я в любом случае пойду, но с вами будет легче…
Прием, в общем-то, чересчур мелодраматический, зато полностью исключающий необходимость рациональных доводов. Ирина знала, что делала.
Алексей, оторванный ею от приятного отдыха на диване, с книгой в руке, сказал только:
– Предупреждать надо. Звонком будильника или еще чем, а то мало ли… Ладно, сейчас буду.
Басманов, напротив, занимался в 2005 году разбором темы «Философия и тактика уличных боев в городе» со слушателями Академии Генерального штаба, где он по просьбе лично Олега Константиновича вел курс оперативного искусства. На сравнительных примерах Екатеринослава, Одессы, Стамбула двадцать первого года и недавних событий в Москве.
– Переходите ко мне прямо сейчас, Михаил Федорович, – попросила она, – здесь экипируемся, свяжемся с Андреем – и вперед!
– Так точно, Ирина Владимировна. Минут двадцать мне дайте, чтобы я поаккуратнее закончил семинар, извинился за внезапную отлучку и покинул здание? И еще столько же, чтобы я успел взять с собой двух-трех офицеров, наилучшим образом приспособившихся к подобным упражнениям. Они, по счастью, тут, недалеко, младший курс на плацу муштруют. И снаряжение при них…
– Возьмите, Михаил Федорович, в таких делах лишние стволы не помешают! – Ирина снова ощутила себя средневековой княгиней, в отсутствие ушедшего в дальний поход мужа берущей управление уделом и ближней дружиной в свои железные ручки. В сравнении с которыми и длань князя может показаться тяжелой, но ласковой. – О снаряжении не заботьтесь, у меня всего хватит.
Левашов не задал ни единого вопроса. Ему было достаточно взгляда Ирины и интонаций голоса.
Антон сумел попасть почти точно – плюс-минус пятьдесят метров от тайника, на перегибе Кривоарбатского переулка. Так же, как в миг закладки, задувал сухой морозный ветер, нес жесткую, как дробь, снежную крупу. Антона охватило непонятное ему самому чувство. Словно нравилось ему тут, в чуждом мире, опасном по всем параметрам, от чисто обывательских до мистических. Может, тем и нравилось, словами поэта выражаясь – «у бездны мрачной на краю». Как альпинисту посередине скальной стены, где на самом деле нет совершенно ничего хорошего.
Совсем рядом – квартира Юрия, к которому можно зайти и с глазу на глаз обсудить кое-какие непроясненные моменты его биографии, и до Столешникова не так далеко, и еще есть места…
Так не зайдешь. А зайдешь – завязнешь в очередном сгущении хронополя. И все же тянуло на какие-то странные в его положении поступки. Он ведь, пожалуй, в первый раз очутился в столь наглядной псевдореальности, неотличимой от обычной. Будто Мэлоун из «Затерянного мира», рискнувший углубиться в кишащий первобытными тварями ночной лес.
Антон подумал, что таким образом продолжается в нем процесс «очеловечивания». Как десятилетием назад превращалась в нормальную земную женщину аггрианка Ирина, так и он, порвавший с исходной сущностью, только сейчас начал ощущать себя землянином без всяких оговорок. Не стоит за спиной Конфедерация. И он давно никакой не «Тайный посол». Замок теперь не послушный инструмент резидента, а самостоятельная фигура на доске или карта в колоде. Помогает, исходя из собственных представлений о добре и зле. Неизвестно, кто для него сейчас авторитетнее, он, бывший хозяин, или Шульгин с Новиковым.
«Забавно, да?» – к случаю вспомнил Антон страничку из моих дневников. Я давал их читать всем подряд, от Альбы до Антона.
«Мы с ребятами всеми силами старались остаться людьми, по возможности – самыми обыкновенными, не давали себя захватить стихии „перерождения“ в высших существ, делали все мыслимое и немыслимое, чтобы не стать „держателями“ или кем угодно похожим. Да я даже в самом начале с негодованием отверг предложение Ирины, тогда казавшееся гарантией „супервеличия“. На самом же деле – жалкой подачкой со стола, условно говоря, „шестой фрейлины четвертой наследницы“. Мы с этими соблазнами справились. Вот такие мы мужественные и самодостаточные. Нам что красненькая советская десятка, оставшаяся до зарплаты и лихо потраченная на загул с друзьями и подругами, что миллионы царских золотых, подаренных Врангелю, – все едино. Кто-то скорее всего не поверит. Как это, мол, так? Невозможно в принципе. А вот – возможно. Думаете, я зря себя и своих друзей анализировал и тестировал в столь юном возрасте, когда многим ровесникам, кроме стакана портвейна в кафе „Отдых“ и девушку за задницу потрогать, – никаких рациональных мыслей в голову не приходило?»
Сейчас Антон прикладывал эту мерку к себе. От былого всемогущества осталось очень мало. Так хватит ему оставшегося, чтобы начать новую жизнь и удержаться на заданном его друзьями и партнерами уровне, или начнется неудержимое скольжение по наклонной плоскости? Просто не хватит характера и воли продолжить потерявшее высший смысл существование.
В процессе «просветления» он многократно пересматривал все вероятные и невероятные варианты своей прошлой биографии, выискивал точки роковых решений, размышлял, как жизнь могла сложиться.
Само собой, мелькали мысли и о том, что путь Ирины и Сильвии был бы не самым худшим выбором и для него. Но, увы, «никто не знает своего часа» и своего будущего даже на несколько шагов вперед. Даже умеющий прыгать из прошлого в будущее и обратно по бесконечному числу мировых линий. Увы – не своих личных. Твое будущее всегда будет впереди тебя, как морковка перед ослом.
Это нужно родиться пресловутым «старцем Федором Кузьмичом» (он же, по легенде, Александр Первый, Благословенный), чтобы поменять мантию, трон и корону на лапти, котомку и посох странника.
У Ирины – у той была большая любовь, у Сильвии – отчетливый факт поражения и отсутствие любой приемлемой альтернативы, а Антон пребывал на пике карьеры и в зените успеха. Что, казалось бы, ему участь землянина, пусть безмерно богатого и практически (по человеческим меркам) бессмертного?
Как бы в насмешку судьба, кто же еще (Замок и Шульгин всего лишь ее орудия), дала ему очередной шанс, причем предварительно опустив по ноздри в дерьмо. Из князей да в грязь. Плыви, если хочешь. Кому, как не агенту, проработавшему в России с царствования Александра Второго, следовало помнить основополагающую, базовую национальную мудрость: «От сумы да тюрьмы не зарекайся»? Сам Император полумира, Николай Александрович, вместе со своей семьей ее правоту изведал в полной мере. Чин святого является достойной компенсацией нравственных мучений и смерти в подвале Ипатьевского дома? Не знаю, не знаю…
В лабиринте внутренних дворов, соединяющихся друг с другом длинными гулкими подворотнями и узкими щелями между грязными двух– и трехэтажными флигелями, было темно, мрачно и уныло. Несмотря на мороз, ощутимо воняло кошками, давно не чищенными помойками, еще какой-то гадостью из подвалов и подъездов. Не скажешь, что буквально в нескольких шагах, по ту сторону бывших некогда роскошными дореволюционных «доходных домов», протянулась правительственная трасса, щеголеватый Арбат. Не светилось ни одного окна в выходящих во дворы квартирах, только сквозь грязные стекла лестничных площадок пробивался тусклый свет сорокасвечевых лампочек. Поскрипывал от порывов ветра жестяной абажур на кронштейне под аркой ворот, не столько освещая выщербленный асфальт и стены в грязных потеках, как просто обозначая направление.
Нынешняя советская жизнь и так невеселая штука, а если еще ежедневно видеть и обонять здешние «прелести», так вообще в уме повредиться можно. Не случайно увидеть на московских улицах улыбающиеся или просто благожелательные лица практически невозможно. Как-то не доходит до граждан, что жить им стало «лучше и веселее» [26].
Антон передернул плечами. Как бы не в самом мрачном периоде русско-советской истории довелось ему оказаться. Бог с ним, с «большим террором», обывателя он не так уж и касается, репрессировано, по любым подсчетам, не больше пяти процентов из общего количества населения. А такой урон практически заметить невозможно (за исключением тех, кого это лично касается).
Дело в другом – для большинства людей нынешняя жизнь – полная безнадега, что бы там ни писали газеты и бубнило радио. С момента ликвидации НЭПа с каждым годом становится только хуже. Почти десять лет, как исчезли из продажи доступные продукты, введены паспорта для горожан и крепостное право в колхозах. Запрещено бесконтрольное перемещение в поездах, а иных средств транспорта практически нет. Шансов на улучшение жизни для большинства трудящихся – никаких, ни в квартирном вопросе, ни в продовольственно-вещевом. А из будущего отбрасывает свою тень великая и страшная война, пережить которую не суждено слишком многим…
Раньше Антону не приходило в голову задумываться о таких вещах, они его просто не касались, как не касаются Сильвии в ее особняке проблемы обитателей лондонских трущоб. А сейчас что вдруг случилось? Что за аура в этих дворах? Эманация «коллективного бессознательного» спящих в своих коммунальных ячейках десятков тысяч людей или что-то другое, непосредственно связанное с его теперешней миссией? Шутка подсознания, вдруг вообразившего, что из-за нелепой случайности или, наоборот, не случайности ему предстоит остаться здесь, в таком СССР навсегда, в нелепом для него качестве «рядового гражданина». Без связи, без друзей, без выхода.
А что? В шкуре просветляемого он себя тоже никогда не представлял, а вот пришлось же…
Да все это ерунда! Сделать по-быстрому свое дело – и назад.
Он сдвинул на всякий случай в боевое положение предохранитель «браунинга» «Хай пауэр», прихваченного из Замка перед визитом в Лондон, а оттуда – в Крым. Первое, что подвернулось под руку в собственном кабинете. Кто-то из парней оставил. По забывчивости или – чтобы карман не оттягивал. Тяжелая машинка.
Раньше, на протяжении всей своей службы на Земле, он не носил оружия, за исключением моментов пребывания на театре военных действий. Не было необходимости. Но после тюрьмы оценил привычку и склонность своих друзей-землян. Пусть в девяноста процентах случаев пистолет не пригождается, но гораздо хуже, если его не окажется в действительно критический момент. Будь он вооружен, когда его арестовывали, все сложилось бы совсем иначе. Он мог прорваться, уложить дээсника и его сопровождение, как Шульгин чекистов, выиграть несколько решающих минут, уйти на Землю. В другую сторону тогда история имела шанс покатиться. Для него лично и всех причастных тоже…
Но здесь ему, похоже, ничего не угрожало. Режимный Арбат охранялся пуще прежнего, во дворах даже собаки не лаяли, да тогда, кстати, бродячих собак в Москве, пожалуй, совсем не было. Строгости режима плюс практически полное отсутствие продовольственной базы. Ничего мало-мальски съедобного даже для самых непритязательных дворняжек в мусорники не выбрасывалось, люди все съедали подчистую.
Он определил местоположение люка, еще раз огляделся по сторонам. Кажется, в одном из дальних окон приземистого флигеля что-то мигнуло. Может, жилец на темной кухне папироску у форточки прикурил?
Антон попытался поднять крышку. Не тут-то было. Проушины, куда следовало вставлять специальный крючок, а за отсутствием такового и палец годился, при должной крепости оного, сейчас были забиты смерзшимся снегом. И вся круговая щель между крышкой и отбортовкой тоже. Абсолютно ему такая подлянка в голову не могла прийти. Он шепотом выругался, как умел.
«А чего ж ты, аристократ, хочешь? – мелькнула самокритичная мысль. – Канализационным делам тебя не обучали. Да и когда последний раз вообще своими руками что-то делать приходилось?» – наверняка уроки просветления не прошли даром. Только лучше, если б ему не пришлось три года сидеть в хижине-одиночке, читая древние рукописи и накачиваясь синтангом, а послали его на производство, аналог Беломорканала строить или слесарить в цехах военного завода. А теперь выполнение плевой задачки на глазах превращалось в проблему, едва ли разрешимую. Что значит отсутствие практического опыта в реальных делах!
Пистолетом начать лед долбить, побегать по окрестностям в поисках подходящей железки, а то дворника здешнего разыскать, за приличную плату попросить помощи? Или – стволом пригрозить, выдавая себя за сотрудника? Пожалуй, это – проще всего, не имеет значения, поверит он или нет. Когда дело будет сделано – какая разница? Пусть хоть сразу бросается участковому или прикрепленному оперу звонить. Да как его, дворника, сейчас, за полночь, найдешь? В каком из подъездов или флигелей он ютится? Не старое время, когда стукни легонько в ворота, и вот он, с нашим удовольствием за двугривенный загулявшему барину калитку отопрет, и какую закажешь работу, ту немедленно и исполнит.
Проще всего, конечно, к Юрию заявиться, подходящий инструмент у него наверняка найдется, так снова придется что-то изобретать…
Неладно все, неладно. Не зря тревога его с самого начала не оставляла. Дело, пожалуй, не только в неожиданном препятствии, вызванном силами природы. Прошлый раз Шульгин и спрятал закладку, и изъял ее без всяких сложностей, а тут вдруг на тебе!
Получается, день в день он в нужную точку не попал. Хорошо еще, если «недолет»: полежит вещичка, никуда не денется. Пока Шульгин на яхте, он ее «в здешнем качестве» не изымет. А вот если «перелет» – тогда очень плохо. Без прибора возвращаться нельзя – вся конструкция рушится. Есть запасной вариант – проскочить по времени чуть назад, еще раз отобрать гомеостат непосредственно у Юрия и принести его заказчику, но это уже будет не то. Условие было поставлено четко – доставить вещь в нетронутом виде, иначе…
Так, может, и не гомеостат там вообще, нечто совсем другое, подобранное Сашкой в скитаниях между мирами?
«Да думай же, думай, – велел он себе, отступив в совсем уже темную нишу между двумя подъездами, – за сотню лет и не такие задачки решали… Сделаешь, потом сам смеяться станешь над своей растерянностью…»
Действительно, сколь велика роль случайностей в этом, по преимуществу рациональном, мире. То насморк (а другие считают – диарея Наполеона при Ватерлоо), то шальной снаряд по «Цесаревичу» в Желтом море, и последствия – грандиознее, чем многолетняя творческая деятельность правительств, партий, сотен тысяч простых людей.
Видно, судьба, или что там ее заменяет у существ рода форзейлей, решила преподать Антону небольшой урок.
Наступившая ни с того ни с сего однодневная вчерашняя оттепель, тут же сменившаяся еще более крепким морозом, поставила под угрозу существование целой Вселенной. В нынешнем ее варианте.
Вдобавок мелькнул в одном из сотен окон, глядящих во двор, слабый огонек. Кто знает, вдруг бдительный гражданин, а то сотрудник органов, поселенный сюда за специальные заслуги или для обеспечения общего надзора, заметил смутную фигуру, совершающую непонятные действия в непосредственной близости от режимного объекта?
Если даже просто пьяный по двору шатается – и то нечего ему здесь делать, а если не пьяный? За сигнал не упрекнут, а в случае обоснованности как-нибудь да поощрят. Нынче и грамотка почетная дорогого стоит, а если еще денежная премия с талоном на дефицит…
Вот и набрал товарищ нужный телефонный номер.
Антон успел разыскать в углу двора под пожарной лестницей щит с положенным по номенклатуре инвентарем и начал ковырять шилом перочинного ножа замок, чтобы добыть топор или багор. Почти получилось, и тут одновременно вспыхнуло несколько сильных аккумуляторных фонарей, скрестившись на его фигуре, а сквозь длинную арку с включенным дальним светом вкатился черный «Паккард» или плохо отличимый от него навскидку «ЗиС-101».
– Стоять! Руки за голову! Не двигаться! ГУГБ!
В подобной ситуации затевать стрельбу на поражение с решительным результатом мог бы Сашка, мог бы и я, имея при себе достаточный запас патронов и сильную мотивацию. У Антона не было ни того ни другого. Да и походя убивать людей, кем бы они ни были, он так и не успел научиться. Руководствовался другими схемами и методиками. Сражение на Сомме или Брусиловский прорыв организовать с полумиллионом убитых – это пожалуйста, а самому колоть штыком набегающего вражеского пехотинца, даже стрелять в человека из хорошего пистолета с десяти шагов – увольте.
«Наши руки должны быть чисты, как и наши помыслы, непосредственные же исполнители обязаны сами озаботиться своим моральным уровнем. Право выбора между добром и злом есть у каждого». Таким примерно образом он просвещал своих земных друзей и помощников, когда представлялся случай.
Добраться до портсигара во внутреннем кармане куртки он тоже никак не успевал. Если в тебя целятся сразу с нескольких направлений…
Сообразив, что происходит, Антон демонстративно бросил пистолет на землю. И пошел, заложив руки за спину, прямо на яркий свет фар, сквозь и мимо него, к приоткрывшейся задней дверце лимузина.
Ночным зрением он отчетливо, как днем, видел в глубине машины человека лет сорока в коричневом кожаном пальто и надвинутой на глаза фуражке с обычной солдатской звездочкой на околыше васильковой фуражки. Худого, с нездоровыми кругами под глазами. Знакомый типаж.
– Вам так спокойнее? Я стою, стою, что мне еще делать? – Голосом Антон выражал такую степень спокойствия и безмятежности, что любой исполнитель, не лишенный положенных должностью инстинктов, обязан был немедленно напрячься. – А вы кто? Правда ГУГБ, а не бандиты какие-то? Если да – прямо сейчас с товарищем Заковским свяжитесь. Для него я – «нарком». С Лихаревым тоже можно, если он сейчас свободен. Знаете таких? Должны знать. В крайнем случае – напрямую с товарищем Сталиным. Он ждет сейчас у себя на даче моего сообщения. Псевдоним – «англичанин». Имейте в виду – промедление обойдется вам очень дорого, и потеряете вы гораздо больше, чем надеетесь выиграть. А ты сам-то кто?!
Убивать людей просто так Антон не привык, но подавлять эмоционально, если они не «держатели», – входило в число основополагающих профессиональных навыков. Тон, названные имена и резкий переход на «ты» мог сбить с настроя любого функционера, особенно занимающего не слишком высокое место в здешней партийно-феодальной иерархии, но более-менее информированного. Попадись Антону обычный участковый, с ним подобный стиль не сработал бы. Так простые участковые на таких машинах и не ездят.
– Капитан госбезопасности Ермилов…
Чин немалый, и то, что он лично явился «на задержание», кое-что значило.
– Отлично, Ермилов. Четко работаешь. Только вот что я тебе скажу… Нет, ты давай, звони, чтобы недоразумений не было. Людей своих, быстренько, пошли, чтоб ворота закрыли и оружие – на изготовку. Есть серьезные основания…
Антон подумал, а что, если на этой «петле», которую он прожил всю и перебрался в Крым уже после Лондона и предыдущих событий, покушение на «отца народов» произошло вчера-позавчера? Отсюда и такая бдительность… Проверить?
– Помнишь, что недавно именно здесь случилось? – спросил он чекиста. – Вот то-то же. Я по этому делу и работаю.
Игра практически была сыграна. К такому напору капитан не готовился. Но все равно, то, что он со своей гвардией оказался именно здесь и сейчас, настораживало. Снаряд два раза в ту же воронку не падает, и держать засаду на месте уже случившегося неудачного покушения – бессмысленно. Значит, здесь нечто другое.
– Эй, ты, – крикнул Антон ближайшему чекисту. – Пистолетик мой подними и подай. Рукояткой вперед. Можешь на предохранитель поставить.
Опять обратился к Ермилову:
– Да ты выйди из машины, выйди. Или боишься чего?
Форзейль, предлагая гугэбэшнику позвонить куда следует, не блефовал. Он сразу увидел, что машина оснащена редким по тем временам радиотелефоном. В полста килограммов весом и берущим километров на десять максимум, но все же – прогрессивная техника.
Для смягчения настроя Антон вынул из кармана портсигар, сам взял папиросу и протянул капитану.
– Курнем пока. До ответа Заковского никаких резких движений не делаем, ни ты, ни я. Договорились? Или ты до сих пор на Ежова работаешь? Тогда рискуешь ошибиться…
– О чем вы? У меня задание независимое…
– Тогда я могу свой пистолет забрать? Он мне дорог. Тем более – на предохранителе…
Взял оружие из рук сотрудника, небрежно сунул в карман, но предохранитель по пути снова сдернул. Мало ли как повернется… Убирая портсигар под поясной ремень, тоже перевел его в ждущий режим. В случае чего – только кнопку нажать, тычком большого пальца.
И тут же вдруг почувствовал, что издалека, пока еще издалека, потянуло тем же запахом, ментальным, но не физическим, предвещавшим появление монстров или теперь уже чего-нибудь похуже.
А не от пассажиров ли черного автомобиля, их мелькающих по двору теней?
Время не ждет!
– Еще, капитан, слушай сюда! – со всей доступной ему степенью резкости и убедительности почти выкрикнул Антон. – Связь связью, но свою операцию я тебе сорвать не позволю… Водитель, быстро, давай сюда монтировку. Я сказал – быстро!
Дисциплинированный сотрудник вопросительно глянул на начальника. Тот кивнул и одновременно жестом приказал остальным людям подтянуться поближе.
Антон поддел удобным инструментом крышку, почти отбросил ее в сторону, скользнул по ржавым шершавым скобам вниз, нащупал ту самую щель, отковырнул не успевшую в тепле окаменеть или смерзнуться грязь. Наткнулся пальцами на банку, на зубцы неаккуратно взрезанной крышки. Значит – оно!
Сунул добычу во внутренний карман. Проверять, что там внутри, гомеостат или нечто другое, записные книжки чьи-то, а то и бриллианты испанской короны, не было ни времени, ни желания. Условие четкое: принести, не вскрывая. «Не мое дело. Воронцов за Книгой в сорок первый ходил, я за банкой – в тридцать восьмой. Параллелизм, однако. Или – тенденция…»
Воняло внутри колодца мерзостно. Особенно противно потому, что наверху был сухой мороз. На таком контрасте теплые липкие миазмы, казалось, обжимают лицо, как резина противогазной маски, в которую на марш-броске пару раз стошнило. Скорее бы наверх, и сразу блок-универсалом остановить время, секунд на десять, чтобы рвануть проходными дворами через Сивцев Вражек, в следующий дворовый лабиринт, а там, переведя дух, раствориться.
За естественной вонью как-то потерялась ментальная.
Он положил руку на кромку люка и собрался вымахнуть наружу, но чуть-чуть не успел. Высунув голову, вместе со вкусом свежего воздуха ощутил ставший невыносимым фон злобных, нечеловеческих эмоций и намерений, успел заметить громадную черную кляксу над головой и смутное движение в глубине подворотни. Первая мысль – снова монстры «а натюрель». Самому начать стрелять, тем самым предупредить и дать целеуказание чекистам, или бежать, не думая о посторонних?
На месте автомобиля вдруг вспухло большое, переливающееся, как мыльный пузырь, яйцо. Полностью скрывшее в себе длинную машину. Видимые даже простым глазом звуко-световые волны прокатились по двору, сметая все на своем пути.
Антон присел в колодце, поднял над головой руку с портсигаром и ответил. Предельные возможности аггрианских блок-универсалов он знал, но не до конца был уверен, вручила ли ему Ирина прибор, действительно полностью заряженный и послушный. Сможет ли он в его руках отразить именно этот тип поражающего средства?
По счастью – сработало. Плазменно-ментальная вспышка погасла, наткнувшись на стенку вырожденного хронополя. Того самого, что создавало зону «растянутого настоящего».
Желанные десять секунд теперь у Антона были. Чтобы сбежать. Но бежать не хотелось. Хотелось сражаться, заставить бежать врага. Естественный порыв человека, слишком долго терпевшего унижение беспомощности.
Помня уроки Ирины, он переключил блок-универсал на следующий режим. Атомный гриб мы в центре Москвы вздымать не будем, а вот мини-нейтронную бомбу вы, ненужные соперники, получите. Живых людей во дворе наверняка не осталось, граждане за метровыми каменными стенами не пострадают, прочая же протоплазма, вообразившая себя мыслящей, наверняка превратится в нейтральный материал вроде свинцовой пыли.
Еще раз высунулся и выстрелил, если это можно так назвать.
Вокруг все окрасилось приятным (в другой ситуации) сиреневым сиянием. Утром дворникам будет работа, мельком подумал он, и тут к нему из самого центра вспышки метнулось нечто непредставимое.
Не гориллоподобные монстры, не их маленькие хозяева-элои, а именно что персонажи легенд о «прошлых временах», как у Саймака. Тоже, наверное, что-то такое знал сэр Клиффорд. «Нечистая сила», по-нашему. Мелкая, но на вид и по психофону невероятно злобная. Что-то такое, чего не стал детализировать в «Вие» Гоголь.
Был у Антона в запасе еще один шанс. Тем же блок-универсалом он нанес по врагу мощный гравиудар. Которым аггры едва не расплющили танк «Леопард» на Валгалле, вместе с экипажем… Не то, конечно, что стационарные гравипушки на тяжелых бронеходах, но метров на двадцать силы должно было хватить, чтобы слона раскатать в тонкий блин.
Получилось. Момент он выиграл. Непосредственные враги исчезли, сметенные и размазанные по стенам, вот только проход, откуда они сыпались, оставался открытым. Очень может быть, что машина капитана госбезопасности, испарившись, создала некий вакуум-терминал от соседей – сюда. И сам чекист был макетом, к беде дуггуров – слишком убедительным. С лишней степенью свободы. Немного дольше, чем нужно, исполнял предписанную ему функцию.
Если б сразу все на него кинулись, приобретя подлинное обличье, Антон бы не устоял, пожалуй.
Форзейль рывком надвинул на горловину тяжелую, пронзительно холодную крышку и спрыгнул вниз, в громко хлюпнувшее густое месиво. Мельком вспомнились рассказы Гиляровского о странствованиях по подземной Москве. В следующее мгновение внутри двора с грохотом лопнул еще один разрыв, и внутренность колодца через узкую щель осветилось оранжевым пламенем с яркостью близко ударившей молнии.
Чтобы это могло такое быть? Короткое замыкание между несовместимыми полями?
Он пощупал внутренний карман. Банка на месте. Еще не все потеряно… Сохранить бы голову, и дело можно считать сделанным.
Постепенно привыкая дышать тем, что для дыхания, за счет избытка сероводорода и аммиака, изначально не предназначалось, он пробежал метров пятнадцать по тоннелю коллектора и остановился. Уйти можно хоть сейчас, но хотелось на прощание учинить противнику «внезапную конфузию», как Суворов выражался, чтоб основательно отбить желание впредь помериться силами. Вдруг опять полезут? Хорошо бы…
Зря он беспокоился – полезли. Именно потому, решил он, что просчитали все его действия, кроме истинных. Возможно, считая его местным жителем, перекрыли своими полями все пути отхода из колодца.
Использованное им оружие, для нынешней Земли не совсем характерное, врагов, видимо, не напугало и даже не озадачило. На уровне интеллекта и степеней свободы исполнителей не смогло отменить приоритета основного задания.
Вполне нормально, если задуматься. У нас тоже дисциплинированные и стойкие солдаты не откажутся от выполнения боевой задачи оттого, что у неприятеля вдруг появился ранее неизвестный тип танка или если атакующие цепи вместо винтовочного огня наткнулись вдруг на пулеметный.
Легкое замешательство и перестроение порядков допустимо, паника же и бегство с поля боя грозит трибуналом или децимацией [27]. Не говоря уже о понятиях воинской чести и верности присяге.
Тем более если живые хозяева погибли от его ударов, а эти – обычные роботы, продолжающие выполнять программу.
Существа размерами от крупной кошки до камчатского краба целой толпой, а то и потоком хлынули в сноровисто раскупоренный ими люк и помчались к Антону с намерениями вполне очевидными. С равной скоростью и ловкостью они перемещались по полуметровому слою грязной жижи, изогнутым стенам и потолку тоннеля.
Да, с одним пистолетом он бы крепко пролетел. Новиков с Сашкой тот раз, укрепившись на высоком трапе, еле-еле отстрелялись от пауков из двух автоматических карабинов. А здесь… Пистолет и есть пистолет. Пускай «Хай» и еще раз «Хай пауэр». Пальнул тринадцать раз, а дальше? Их – десятки, если не сотни. Накатились бы, сожрали или, спеленав, уволокли в свои застенки. Куда там прежней тюрьме! Ох и спасибо Ирине, ох и спасибо!
Слава богу, памяти и реакции Антону хватило, чтобы в очередной раз правильно нажать три кнопки блок-универсала.
Все ядовитые, горючие и негорючие газы, прочая органика, заполнявшая трубу, импульсом гигантского напряжения обратились в низкотемпературную плазму, которой оказалось достаточно, чтобы с жутким гулом продуть канализацию едва ли не на всем ее протяжении. Одновременно превратив кирпичную облицовку в доисторический обсидиан. Но перед Антоном в момент выстрела возник непроницаемый для всего этого буйства энергии щит. Как же иначе?!
Его даже не шатнуло отдачей. А чугунные крышки сотен люков взметнулись в метельное небо. Какие до Новодевичьего кладбища долетели, какие – до Воробьевых гор и Курского вокзала.
Перед тем как вернуться на веранду к Ирине, Антон присел на выступ стены, не обращая внимания на вспененное дерьмо, только здесь, под прикрытием энергетического щита, и сохранившееся. Зато острый запах озона перекрывал недавнюю вонь. Будто весенняя гроза пронеслась над холерным бараком.
Чисто по-русски закурил, сам не понимая, зачем именно здесь. Нельзя, что ли, подождать до выхода в более подходящее пространство? А вот, поди ж ты…
Он несколько раз затянулся крепковатым, на его вкус, табачным дымом, настороженно поводя глазами по сторонам, понимая при этом, что в ближайшие, да и последующие минуты опасаться нечего.
Посмотрел на догоревшую до середины папиросу.
«Еще три затяжки, и можно уходить…»
Глава седьмая
…Басманов появился последним и привел с собой отличившегося в московских боях бывшего поручика Ненадо, получившего наконец вместе с очередным Георгиевским крестом столь долго чаемый им чин капитана, да еще одного штабс-капитана первого призыва, Давыдова, тоже героя всевозможных сражений. Глотнувшего немецкого хлора в боях под Сморгонью в пятнадцатом, да так и воевавшего, где придется, от двадцатого до две тысячи пятого. Куда пошлют. Заработавшего за девяносто календарных лет три звездочки на погоны сверх первой, исходной, от царя-батюшки, штук шесть разных орденов и массу впечатлений. Это он, кстати, намного раньше других сообразил, что его наниматели, Шульгин и Новиков, намечают учинить кампанию всемирного масштаба, обладая невозможным по тому времени оружием и амбициями, охватывающими тогдашний мир от Трансвааля до Петрограда.
Умный человек, слишком умный, чтобы сделать нормальную карьеру. Зато никак этим не расстроенный, радующийся самой возможности наблюдать необыкновенное и жить внутри его. До сих пор надеющийся, вместе с закадычным дружком Эльснером, попасть в ту самую Южную Африку, куда их вербовал Шульгин в голодном и страшном Стамбуле двадцатого года. К чинам и званиям он относился, как рекомендовала известная армейская поговорка: «Чем чище погон, тем спокойнее совесть», и довольствовался необременительной в мирное время должностью помначштаба батальона по разведке. Войсковой, естественно, никак не агентурной. Вот Басманов и взял его с собой, решив, что предстоящее задание как раз по профилю штабс-капитану.
К моменту их прибытия Ирина, Берестин и Левашов уже переоделись в подходящую для намеченных действий форму одежды. Олег щелкал клавишами ноутбука, вычисляя параметры настройки СПВ. Алексей, несмотря на то что все, казалось, давно забылось, испытывал своеобразный эмоциональный подъем. Новиков где-то очень далеко, зато сам он рядом с некогда любимой женщиной. После пресловутой поездки в Ленинград, где он испытывал муки Тантала от близости и одновременно недоступности Ирины, ни разу больше они не оказывались настолько наедине. В возвышенном, разумеется, смысле.
Он с полузабытой печалью ловил запах ее духов, гнал и не мог прогнать мыслей о том, что был ведь, был и упущен шанс. Пусть не в Ленинграде, в Москве, когда она пришла вытаскивать его из самого первого провала в безвременье. Совсем немного больше настойчивости и агрессивности, и она бы сдалась, почти наверняка.
И тогда его жизнь, и ее, и вся мировая история ничего общего не имели бы с тем, что есть в наличии. Лучше, хуже – «не играет рояли».
Отвлекая себя, он объяснял Ирине, что исходя из доложенного Антоном опыта предыдущих боестолкновений Шульгина с дуггурами лучше всего основную ставку сделать на крупнокалиберные помповые гладкостволки, с патронами, снаряженными картечью и разрывными пулями. В отличие от трехлинеек, достанет как следует. Для огневой поддержки подойдут «АКМСы» с подствольниками. Само собой, пистолеты, сорок пятого калибра непременно, ручные гранаты тоже не помешают, мгновенного ударного действия. Взрыватели с замедлителем не годятся: противник, по имеющимся разведданным, отличается нечеловеческой подвижностью.
– Как некая порода пауков, якобы способная отскочить даже от револьверной пули, выпущенной с пяти шагов…
– Ерунда, – бросил через плечо Левашов, – быть не может…
– Сам читал у Акимушкина, в книжке «Первопоселенцы суши»…
Готовый завязаться научный спор был прерван появлением Басманова и офицеров. Несмотря на слова Ирины, они были экипированы по полной. Одеты в зимние городские камуфляжи, вооружены на полдня хорошего боя. Капитан Ненадо, кроме пулемета «ПК» и двух коробок лент, притащил три плазменных огнемета «Шмель», очень ему понравившихся по прошлым делам. Мало ли, как бой сложится…
– Перестарались, господа, – прокомментировал их снаряжение Берестин. – Мы ж всерьез пока воевать не собираемся. Выйдем, посмотрим, что Антон делает. Если враг объявится – шквальный отсечный огонь – и сматываемся, убедившись, что прикрываемый объект отступил, выполнив задачу. Это главное. Если он не вернется, тогда и нам почти незачем… Господин Левашов будет держать окошко в непосредственной близости…
– Предпочитаю рассчитывать на худший вариант, – буркнул капитан, не желая вступать в спор с генералом. Аккуратно опустил на пол свой арсенал.
Левашов, выставив только ему одному понятные показания и символы на шкалах пульта СПВ, разогнул спину, облокотился на перила веранды, закурил.
– Нет, господа. Не будем мы изображать из себя спецназ ГРУ во дворце Хафизуллы Амина. Вообще нечего нам там делать…
– Это как? – возмущенно вскинулась Ирина, и Берестин изобразил на лице удивление.
– Элементарно. Ты, Ира, сказала, что цель операции – отработка назад от истока недовоплощенной ветки. Не хуже меня знаешь, при каких условиях это возможно. Зачем Андрей сейчас Сашку перевоспитывает? И мы, значит, ломанемся «шумною толпой» в эти пока еще картонные декорации? А они вдруг возьмут и превратятся в гранитные… Помогут нам тогда гранатометы и пулеметы! Точнее, помочь-то помогут, только радости это нам не принесет…
– Так что же мы тогда?..
– К чему и подвожу. Не люблю я таких вещей, а сейчас придется. Окно куда нужно я открою. Только мы остаемся здесь. В ложе бенуара… Игнат Борисович, – обратился он к Ненадо, – можешь прямо сюда хоть спарку «КПВ» ставить. Придется – стреляй в свое удовольствие по всему, что на людей не похоже. И вы тоже, камрады. Отработаем упражнение: «Стрельба по фарфоровым тарелкам на траншейном стенде».
– Не совсем понимаю, Олег, – морща лоб, сказала Ирина. – Смысл в чем и какая разница?
Левашов, как молодой гимнаст, подпрыгнул с поворотом на сто восемьдесят градусов, уселся на перила, свесив ноги над головокружительной высоты обрывом. Ирина непроизвольно ахнула.
– Могем пока кое-что, могем, – довольно хохотнул Олег. – Коньячку принесешь, объясню…
Пока она ходила, капитан спросил недоверчиво:
– Правда пулемет поставим? А где взять?
– Сейчас будет, – успокоил его Берестин, знавший, что Левашов, при всех особенностях своего характера, зря никогда не болтает. Шутит временами непонятно, но рано или поздно шутки его приобретают вполне определенный смысл.
Ирина вернулась с подносом, на котором стояла темная бутылка очень старого коньяка с рукописной этикеткой и подходящие рюмки. Лимон, сыр и холодный язык с горчицей, как заведено.
– За успех очередного безнадежного предприятия! – провозгласил Олег, выпил и швырнул рюмку в пропасть.
– Суть и смысл вот в чем, – начал он объяснять с быстро наступившим душевным подъемом. Сидеть мы будем здесь, наблюдать за действиями Антона через одностороннее окно. На тот мир это никоим образом не повлияет. Не должно, в пределах доступной мне информации. Если вдруг что случится, прикрывать огнем его будем тоже отсюда. Приоткрыв «амбразуру». Процесс, как вы понимаете, будет осуществляться опять же здесь…
Он откровенно веселился, растолковывая друзьям вроде бы очевидные вещи.
– …В нормальной, никого не волнующей реальности. Туда полетят только пули. Индивидуальности не имеющие. Килограмм-другой инертного металла влияния на мировую ткань оказать не может. Как регулярно выпадающие на Землю метеориты. Это понятно?
– Металл не может, – согласился Берестин. – А последствия его взаимодействия с обитателями того мира? – Когда требовалось, он тоже умел изъясняться изящно.
– Есть мнение, что цели, по которым мы собираемся стрелять, к тому миру особого отношения тоже не имеют. Последствия должны проявиться совсем в другом месте. Главное, в Москве-38 ничего связанного с мировой стабильностью не испортить. Ву компрене?
– Же компран бьен, но не все. А если не мы, а Антон или дуггуры что-нибудь испортят?
– Вот это – не ко мне. Испытываю сильное подозрение, что они, со своей стороны, какой-никакой теорией тоже располагают. И подстраховываются, чтобы не влипнуть…
– А ты уверен, что им не нужно, как раз поперек нашего мнения, именно эту реальность зафиксировать, чтобы использовать ее в собственных целях? – спросила Ирина.
– Конечно, нет. О них я знаю много меньше тебя, все ваши с Андреем и Антоном пересказы друг другу – классический испорченный телефон. Поэтому вперед, а там видно будет.
Офицеры дружно кивнули, их диспозиция устраивала. Рассчитывать отдаленные последствия они не были приучены. Какие могут быть последствия, когда выскакиваешь с «наганом» или винтовкой на бруствер и единственная цель – добежать до первой линии вражеских окопов. Штыковой, рукопашный бой, и кто выживет, тогда начнет соображать, атаковать ли следующую позицию или закрепляться на достигнутой.
– Значит, начинаем. Господа капитаны, вытащите заказанную вами штуку и приведите ее в боевое положение.
Левашов, не сбивая главных настроек, открыл проход в ближайший крымский арсенал, где имелись не только пулеметы разных типов, но и «Васильки», «Пламя» [28], другие интересные изделия.
Несмотря на богатый выбор, Ненадо с Давыдовым решили, что рассеивать внимание не следует. Спаренного КПВ на турели, способного поражать бронированные цели на километр и больше, вполне достаточно. Вдвоем они с ним управятся, а о высоких материях пусть начальство думает.
Офицеры установили пулемет напротив места раскрытия межпространственного окна, начали продергивать тяжелые ленты в приемники, крутить маховики горизонтальной и вертикальной наводки.
Олег, тоже занимаясь своим делом, краем сознания решил, что и сейчас прав. Если вмешивается интуиция, то инерция жизненных обстоятельств минимальна. Мы отсекаем этот бесконечный ряд существенных факторов, окружающих нас, убедительных, но неплодотворных. Учитывая их, мы принимаем на себя страшную силу трения рассудка о почву общепринятых мнений и знаний. Давим на газ, при этом не снимая ноги с прижатой до пола педали тормоза.
«Знаешь, папа, а мама лучший водитель, чем ты! – говорит сын.
– Ты говорил, что на ручнике ездить нельзя, а мама двадцать километров проехала…»
… – Ну ни хера себе, – ошеломленно пробормотал не обученный деликатности капитан Ненадо, увидев, как после взрыва автомобиля, не оставившего после себя, кстати, даже закопченного пятна на асфальте двора, на то же место плавно опустилось, а скорее – образовалось ниоткуда нечто вроде пульсирующей медузы огромного диаметра. Метров пять минимум. И четыре в высоту.
Двухуровневый венец студнеобразных, переливающихся и неприятно целенаправленных, ищущих щупалец у этого наблюдался вполне отчетливо. Зависнув в метре над поверхностью, штука тремя судорожными схватками выбросила из-под мантии десант. Чертову уйму отвратительных на вид, но все же совместимых с земной эволюцией существ. И все они ринулись к люку, в который скрылся Антон.
– Огонь! – во всю мощь генеральского баса рявкнул Берестин, и тут же по собственному командирскому рефлексу его продублировал Басманов.
Чем хороши были в Гражданскую чисто офицерские Добровольческие полки, что их личному составу, получившему приказ, в ходе боя ничего не нужно было объяснять и уточнять.
Сам Алексей, и Басманов тоже, ударили из «Шмелей» по краю колодца. Попасть – нечего делать. В упор практически. А температура в точке попадания в долю секунд подскочила до нескольких тысяч градусов. Ударная волна наружу и почти тут же обратная волна всей земной атмосферы извне, хлынувшей в образовавшийся вакуум, добавили поражающих факторов. Будь те существа сделаны даже из кремнийуглерода подходящей толщины, деваться им было некуда. Кроме тех, что все-таки успели проскочить в люк.
А по «медузе» хлестал уничтожающим потоком бронебойно-зажигательных пуль капитан Ненадо, не собиравшийся отпускать гашетку до самого конца. Медузы, стволов или патронов.
Из чего она состояла, на какие характеристики внешнего воздействия была рассчитана – пока что спросить не у кого. Выглядела, пожалуй, живым существом. Но двухсот с лишним тяжеленных пуль, пробивающих броню легкого танка, выпущенных за десять секунд практически в упор и в одну точку – кому хочешь хватит. Если оно не прикрыто защитным полем иных порядков. А для высадки десанта хоть какое поле снимать или приоткрывать приходится.
Лохмотья от «медузы» полетели, и радужные лучи кругами, как от брошенного в залитую бензином болотную ряску камня. И уж в самом конце бабахнуло! Очень правильно сообразил Левашов, решив работать из-за «окна».
Берестин, когда снаружи воцарилась мертвая тишина, несколько, впрочем, нервно, напел куплет из рассказа Джека Лондона:
– Это они, что ли? – с пренебрежением спросил Басманов, который, по душевной склонности, прочел до четырнадцатого и после двадцатого года очень много всяких книг. А в долгом историческом промежутке – как случалось. Все больше газеты да боевые приказы. Однажды, задержавшись по ранению в безымянной деревушке, пролистал от корки до корки затрепанный настольный календарь на тысяча восемьсот девяностый год, одолженный у приходского священника.
– Кто же еще? Зачем, как не за Руном, они к нам двинулись? Дом покинув? Безусловно. А Тирям-пам-пам мы изобразили только что. Я прямо и не знаю, господа офицеры, куда вам еще ордена вешать! Как это сформулировать? «За беспримерный героизм и мастерство, проявленное при ликвидации вражеской медузы…»?
– Ну, вы и скажете, господин генерал-лейтенант, – засмущался Ненадо, а Давыдов, наоборот, с хитрой усмешкой вставил:
– А также за непреклонный материализм, не позволивший убояться нечистой силы, награждаются медалью имени Хомы Брута… С мечами и бантом!
– Язык, вроде вашего, никого до добра не доводил, – зная, о чем говорит, ответил Берестин. – Помолчали бы и к высадке приготовились. Надо ведь узнать, что там с господином Антоном… Худших нарушений реальности, чем мы уже учинили, ждать не приходится.
– Это я сейчас. – Давыдов подхватил автомат, на правое плечо стволом вниз повесил пятизарядный дробомет Браунинга двенадцатого калибра. Если придется, сможет стрелять пулями, гранатами и волчьей картечью. – Откройте окошко и присматривайте, а я мигом… Что теперь эти аргонавты надумают делать? Если вторая медуза появится, ты, Игнат, сади ей под купол, там она помягче будет. И в меня не попади, не люблю…
– Я с вами, – сказал Берестин, тоже беря помповое ружье специального образца, в просторечии именуемое «окопная метла». – Один осматривает территорию, другой прикрывает. Дистанция десять метров, мой сектор левый, ваш правый.
– Тогда и я пойду, – заявил Басманов.
– Останетесь, – отрезал Алексей. – Вторым номером при пулемете и в качестве резерва. Вместе с Ириной Владимировной. Случись что, кому-то придется очередные решения принимать? Ты, Олег, продвинь окошко через подворотню и выгляни, что на Арбате делается. Если все тихо, сразу назад. А мы в люк заглянем, на земле посмотрим, вдруг что интересное осталось…
– Не вижу смысла, – возразила Ирина, – отсюда тоже все можно увидеть. Стрельнет кто-то из окна, и что тогда? А вдруг там радиация?
– Радиации нет, – подал голос Левашов, – я уже проверил. А если разведку провести решаемся, выходить так и так придется. Окном маневрировать не получится…
– На Валгалле же получалось, – удивился Берестин.
– То на Валгалле. Там я базовой установкой работал, со всем обеспечением. Здесь же так, приставка легонькая. Основная из Москвы с нами канал держит. Туда возвращаться, перенастраивать – свеч не стоит. Мы вас с места прикроем, а вы – одна нога здесь, другая там, и обратно…
Алексей, держа ружье прикладом у бедра, скользнул в окно, за ним, поводя автоматом с взведенным подствольником, спрыгнул Давыдов.
– Ты – к воротам, – указал на подворотню Берестин. В боевой обстановке он сразу перешел на «ты». – По безоружным людям без крайней нужды не стрелять. Калитку приоткрой, осмотрись, и сразу назад. Я до люка…
Что удивило Алексея, никаких особых запахов во дворе он не ощутил. О ментальной вони понятия не имел, но и обычной, считай, не было. А ведь здесь только что целиком сгорел большой автомобиль с людьми, испепелилась «медуза» и не меньше десятка прочих существ или механизмов…
Вторая несообразность – целые оконные стекла. Ударной волны в замкнутом пространстве хватило бы вырвать рамы из проемов, вышибить двери. А тут все целехонько. И тишина! В нормальных обстоятельствах мы имели бы классическую картину массовой паники. Крики женщин, ругань мужчин, свистки постовых и дворников этого и окрестных домов, бессмысленная беготня и все такое прочее.
Непонятно и слегка пугающе.
Давыдов от ворот жестом показал, что «за бортом» все спокойно.
Лучше всего было бы сейчас вернуться, и пусть Левашов с Ириной разбираются. Похоже, что время здесь уже остановилось. Может быть, Антон успел вернуться, предъявил Сашке требуемый предмет, и они там сделали, что собирались? Совершенно не подозревая о вылазке друзей. Как бы не застрять тут навеки…
Алексей подавил инстинктивное побуждение бежать сломя голову к спасительному выходу. Такое с ним уже было, когда у газетного киоска на Комсомольской площади он увидел под заголовком «Известий» дату – «6 июля 1966 года, среда».
Обошлось тогда, даст бог, обойдется и сейчас. Если что и случилось, так уже! Несколько минут ничего не изменят, а вот заглянуть в колодец, убедиться, что Антон ушел, – стоит. Вдруг лежит там, раненый или контуженный?
– Постой здесь, – приказал он подошедшему Давыдову, – крути головой на триста шестьдесят градусов. Я мигом…
– Что-то здесь не так, – тихо ответил штабс-капитан. – На душе сумно…
– Я сейчас, – повторил Берестин.
Очутившись на дне коллектора, осмотрелся. Полыхнуло здорово. Даже камень местами подплавился, но жара не ощущалось. Потрогал рукой – стены холодные.
Он пожалел, что нет с собой хорошего фонаря, только совсем крошечный, в зажигалке. Однако метров на пять светит.
Берестин прошел несколько шагов, увидел впереди огонек папиросы и уловил запах табачного дыма. Первый нормальный запах. До половины выбрал спуск, потом спросил:
– Антон, ты, что ли?
– Я, кто ж еще? А ты откуда взялся? – Форзейль шагнул навстречу.
– За тобой присмотреть вышел. Чтоб не обидел кто…
– Зря это вы…
– Как сказать. Там наверху такая пакость по твою душу прилетела! Если б мы ее не покромсали, не знаю, где б ты сейчас был…
– Что за пакость?
Алексей тоже закурил, заметил, что пальцы чуть подрагивают. Наверное, просто от напряжения. Скобы колодца частью погнуло, частью просто вывернуло из стены, так что спускаться было не слишком легко. Коротко сообщил, что именно они видели и как уничтожили.
– Медуза? Интересно… Я ничего такого не разглядел. Просто черное пятно, и из него посыпались… твари.
– Может, дело в том, что мы через «окно» смотрели? Из другого времени и под другим углом?
– Все может быть. Но с этим ладно, тут проблемка посущественнее… Я – уйти не могу!
– То есть? Отсюда? – сразу не понял Берестин. – И что тебя держит? Чувство долга? Или ждешь кого?
– Шутник. Переместиться не могу, астрально. Ни в Замок, ни на «Призрак». Вообще никуда. Когда ты появился, я третью попытку сделал, эффекта ноль.
Алексея снова щекотнуло страхом. О чем-то подобном он ведь сам думал только что. Как у них с Ириной тогда получилось – сбой по фазе от чисто механического и не слишком сильного воздействия. А здесь-то воздействие было – будь здоров!
– Может, своды экранируют? – предположил он. – Вишь, как блестит? Молекулярная перестройка после взрыва. Ты сам как вообще уцелел? В стволе стреляющей пушки, считай, побывал…
– Защитное поле. Ну давай, двинулись, разбираться после будем. Ты с Левашовым пришел, по СПВ? Ирина вызвала? Эх, мать его, не нравятся мне такие хохмочки с яйцами!
Помогая друг другу, вылезли наверх. Здесь ничего не изменилось, да и не могло, наверное, измениться. Сколько там времени «прошло», пока Берестин с Антоном разговаривал, если оно все равно стоит?
Давыдов бдительно нес караульную службу, мерным шагом кружа вокруг люка. Доложил, с прежними интонациями, что на вверенном ему объекте за время отсутствия командира происшествий не случилось.
– Тогда – отходим. Порядок движения – я, Антон, Давыдов. Бдительности не терять…
Двадцать метров до места фиксации «окна» прошли демонстративно ровным шагом, причем штаб-капитан – спиной вперед, прямым и боковым зрением обшаривая пространство двора, выходы из подворотни и подъездов.
То, что Левашов до сих пор не открыл проход, несколько нервировало. А вдруг…
Но в последний момент спасительная сиреневая рамка возникла там, где ей и полагалось, на фоне закопченной кирпичной стены. За ней – синее южное небо и фигуры друзей.
– Вперед, и быстро! – непривычно резко скомандовал Левашов.
Перешагнуть через порог на ту сторону – секундное дело, и подозрительного вокруг ничего, однако диафрагма окна схлопнулось так стремительно, что едва не срезала ствол давыдовского ружья.
– Опасно работаете, господин инженер, – хохотнул тот. – Предупреждать же надо…
– Случилось что? – спросил Берестин, больше для порядка. Главное, вернуться удалось, без потерь и даже с прибавлением. Остальное не столь уж важно. Крым, море, вилла, установка, пулемет, люди – все на месте. Никаких изменений. Правда, вид у Левашова и Ирины уж очень встревоженный.
– Более чем, – ответил Олег, вытирая рукавом вспотевший лоб. Явно не от солнечных лучей намокший, на веранде не жарко, и ветерок с моря тянет прохладный. Походил он сейчас на водителя, чудом избежавшего лобового столкновения. – Энтропия, волна энтропии, нуль-время и вырождение материи. Только вы вышли, и началось… Причем скачкообразно. Особенно когда ты в люк полез. Думал, все! Накроет, там вы и остались…
Ирина выглядела несколько бодрее, но у нее и квалификация, и генотип другие. С малых лет к подобным коллизиям готовилась. Берестин, словно это было только вчера, помнил ее появление на пороге мастерской через три месяца после того, как их разнесло во времени и он отчаялся когда-нибудь вновь увидеть эту странную девушку. Свою сумасшедшую радость и ее удивительную выдержку, особенно удивительную, если учесть, что отправлялась она искать Алексея при шансе на удачу меньше пятидесяти процентов. Рискуя навек исчезнуть в дебрях времен или вообще аннигилировать при помощи того же Левашова, кстати. Как все удивительно повторяется…
Она, будто вспомнив, что, кроме всего прочего, является женщиной и хозяйкой, всплеснула руками.
– Ребята, да вы на себя-то посмотрите! – Это относилось к Антону и Берестину. Те посмотрели, и остальные посмотрели на них. Да, тот еще вид. У форзейля сапоги по колено в жидком, извиняюсь, дерьме, полупальто измазано грязью, ржавчиной и чем-то вроде сажи, лицо и руки тоже чистотой не блещут. Алексей выглядел немногим лучше, только что ботинки чистые.
– Бегом в гараж, – показала она рукой на лестницу в дальнем углу веранды, – побросайте эту гадость в контейнер, потом под душ, он там рядом, халаты накиньте, одежду после подберем. А я насчет перекусить соображу. Одиннадцать часов уже. Длинноватое у нас утро, и без завтрака…
– Если к вам пришли гости, а у вас ничего нет… – мрачно процитировал Берестин. Ему стало стыдно за вид, в котором он предстал перед женщиной своей мечты. Хотя чего стыдиться, война есть война, она видела, куда он ходил и что делал. И все же…
– Всего одиннадцать, – дернул щекой Антон, – а мне показалось, сутки прошли. Ну да, я к Андрею около семи заглянул. Прости, Ира, мы быстро…
Минут через пятнадцать они вернулись, чистые, побрившиеся, пахнущие хорошим одеколоном. Наряженные, будто римские патриции, в махровые халаты до щиколоток, и в сандалиях.
Левашов и офицеры их ждали, причем аккуратист Ненадо, кое-что из слов хозяйки принявший на свой счет, успел сгрести с веранды россыпи пулеметных гильз и протереть бархоткой и без того чистые ботинки.
– Давайте, господа. – Алексей, ощущая прилив бодрости, указал на ротанговый стол, где так и стояла принесенная Ириной перед вылазкой литровая коньячная бутылка.
Расселись по креслам.
Олег, в отсутствие настоящего хозяина, взял на себя его функции. По праву. Разлил драгоценный напиток, подержал перед глазами рюмку.
– Какие могут быть тосты? – спросил словно сам у себя. – Даст бог, и эта не последняя…
Физический смысл происходящего не понимал только бравый капитан, он лишь интуитивно чувствовал, что миновавшая опасность была действительно очень серьезна. Так что за беда? Обошлось, и ладно. Начальства вокруг много, им и думать. Вот рюмочка маловата, это куда важнее. Во время французской экспедиции шестнадцатого года благодарное население быстро привыкло, что русские солдаты и выдержанный коньяк предпочитают употреблять винными фужерами, за отсутствием нормальных стаканов.
Поняв смысл его взгляда, Берестин махнул рукой, не стесняйся, мол, действуй, заслужил.
– Так что у нас с энтропией? – спросил он у Левашова, раскурив сигару из оставленной Новиковым коробки. Совсем другое удовольствие, чем в канализационном тоннеле. Солнышко, птички поют, пейзаж вокруг восхитительный, тепло от желудка побежало по организму. Благодать…
– Пойдемте, я покажу кое-какие документы, – пригласил Олег его и Антона, вставая. – Извините, господа, мы ненадолго вас оставим. – Штатские привычки Олега были неистребимы. Чего бы один из магистров ордена стал извиняться перед младшими офицерами?
Они поднялись на второй этаж, в гостиную перед кабинетом Новикова.
– Ну? – повторил Берестин, – такая тайна, что парням слышать нельзя?
– Не нельзя, а незачем. Не вводи во искушение малых сих. Поймут меньше половины, зато какой простор для превратных толкований. Пока что они не узнали ничего, выходящего за пределы имеющегося опыта, ну и достаточно.
– Басманов, между прочим, имеет допуск, – заметил Берестин.
– Потребуется – проинформируем. Ничего, им втроем, да с Ириной, скучно не будет. У них своя компания, у нас своя…
– Давай к сути, – предложил Антон. Ему соображения корпоративной этики были неинтересны.
– Суть проста до чрезвычайности. И по идее это ты бы должен отвечать на мои вопросы, а не я на твои. Время здесь, то есть там, – он указал большим пальцем через плечо, в сторону веранды с установкой, – тридцать восьмой. Никто из нас, кроме Шульгина, в нем не был. Но допустим. Ты дело, за которым ходил, сделал?
– Что заказали, то и принес.
Завернутая уже в гараже Новикова в кусок чистой ветоши и обмотанная для верности изолентой закладка Шульгина покоилась в кармане халата.
– Это хорошо. А что можешь сказать по обстановке в целом? Как лично ты ее воспринимаешь на текущий момент?
– Не хотел бы никого огорчать, но – хреново. Самое главное, я не сумел переместиться из тоннеля в намеченное место. А должен был. На этом и строился расчет. Из Лондона сюда, потом обратно, оттуда в Москву и сразу на «Призрак». Быстрее, чем враг успеет опомниться, даже если он держит реальность под контролем. Так на «Призрак» меня – не пустило. Элементарным образом. Словно в резину головой ткнулся. Я туда – меня обратно. С Замком, обеспечивающим операцию, я тоже связаться не смог. Ничего сверх этого добавить не имею. Вывод – дуггуры начали контригру. Москва у них под колпаком, и им потребовалось не более пятнадцати минут, чтобы бросить «группу быстрого реагирования» в точку моей высадки. Завидная оперативность. Враг сильнее, чем мы думали, и с тем, что я взял, выпускать меня не хочет.
– Смешно, – сказал Берестин. – Примитивно рассуждаешь. «Враг», как ты выразился, имел неограниченное время и неограниченные возможности, чтобы творить все, что в голову взбредет. Хоть от Рождества Христова. На равных с вами и агграми. Располагая, как я догадываюсь, силами, не уступающими вашим, а по степени беспринципности значительно превосходя. И вот именно в тридцать восьмом году псевдореальности ему взбрело в голову учинить вторжение! В разных точках Земли и по похожей схеме. Плюс внутри Сашкиного бреда. И настолько глупо все организовали, что простенький пулемет в руках поручика царской службы разнес в лохмотья невообразимое существо или летающую биоморфную тарелку. Не понимаю…
В голосе его прозвучали нотки, наводящие на размышление.
– Ребята, бросьте, – примиряюще поднял руки Левашов. – Выберемся – успеем потрепаться. Сейчас обстоит так. Время в Москве остановилось, секунда в секунду, как только я открыл окно для выхода. Пока Антон делал свое дело, Ненадо стрелял – шло, как положено. А тут бах, и точка! Ты, Леша, вышел уже в никуда… А я вовремя этого не заметил.
– Порожняк гонишь, – вспомнил Берестин жаргон своего детства. – Мы – в никуда, а Антон в тоннеле тепленький сидел, папироску курил, по-французски говорил…
– Потому что в тоннеле и портсигар в кармане. Локальная зона.
– Могу предположить, что расстрелянная «медуза» несла в себе экипаж из пресловутых дуггуров, имеющих механизм если не самоликвидации, то самоконсервации. При ее взрыве от не предусмотренного бортовой защитой оружия (КПВ, стреляющего в упор, они и вправду могли не учесть) вся локальная зона вторжения отскочила на сколько-то секунд назад. Ихняя – хрен бы с ней. Но и наша тоже. Я не летчик-истребитель, не знаю, каким чудом сумел режим удержать. Вы меня до конца дней, что нам отпущены, должны кормить, поить, обувать и одевать…
– А если проще?
– Куда проще. Застряли бы вы там, и все. В самом лучшем случае сумели как-нибудь соединиться с тамошним Шульгиным и продолжить свое никчемное существование в безвыходной, тупиковой ветке. Скорее всего как тритоны в аквариуме или Антон в своей тюряге. В худшем – те ребята свою блокировку рано или поздно сняли бы, и вы – в их полном распоряжении. Языки, подопытные существа, генетический материал – это я не знаю. По своей специальности одно могу сказать – я пеленга на их мир не успел взять, а они на тот, где вы только что были, – имеют. И не могу утверждать, но сильно опасаюсь, что и включение «окна» могли зафиксировать. Что медуза? Десантная шлюпка в нашем понимании, или вертолет. А те, кто ее направлял, сидят на крейсере или авианосце, крестик на карте поставили, позицию неприятеля обозначили и готовят адекватный ответ. Нормально?
– Куда нормальнее, – согласился Антон. – Только какого черта вы вообще сюда поперлись? Обо всем было договорено, у меня своя задача, я ее хорошо спланировал. Делать вам нечего? Мне не верили?
– Подстраховать хотели, – вздохнул Левашов.
– Спасибо за доброе намерение. И что в итоге? Я бы, надеюсь, выскочил. Обходными путями, но как-нибудь. Тут на тебе! Очередной пробой из ранее скрытой реальности. Полная демаскировка, никчемная демонстрация агрессивности и технических возможностей. Ну, другой раз они прилетят на бронированной машине прямо к вам, сюда. Зенитно-ракетные комплексы вокруг дачи развернете? Неладно сделали, парни, совсем неладно.
Берестину и Левашову совершенно нечего было возразить. Сказать попросту, действительно заигрались. И втравила их в эту дурацкую ситуацию не кто иная, как Ирина. Что уж она себе вообразила, взревновав Андрея к его склонности принимать самостоятельные решения, ощутив невнятную угрозу своему семейному благополучию или получив неведомо откуда команду продолжить имманентную конфронтацию с форзейлем? Ответить на этот вопрос сейчас было некому.
– Пусть так, – сказал Берестин. Он перешел на другой уровень восприятия действительности. Как подобает настоящему полководцу. Да, фронт прорван, вражеские танковые клинья наматывают на гусеницы десятки километров оперативного простора. Товарищи Сталин и Жуков в подобном случае начинали искать крайних и ставить к стенке исполнителей своих же предыдущих приказов. Он сам в должности комфронта делал прямо противоположное. Спасал все, что можно спасти, изобретал тактические приемы, несовместимые с марксистско-ленинской военной наукой и неожиданные для командиров группы Центр, учеников обоих Мольтке, старшего и младшего, Шлиффена и Гинденбурга с Людендорфом. Прочее оставляя на потом.
– В данный момент кто-нибудь в состоянии доложить реальную обстановку? Фактическое положение сторон, соотношение сил и средств, направление предполагаемого главного удара? Сопли жевать будем в свободное время. После победы или в плену. Ты, Антон?
– Мне в любом случае нужно к Андрею и Шульгину на «Призрак». Пожалуй, не все потеряно. Если успею и Александр решится – того, что сейчас было, не случится…
– В той Москве – не случится, – согласился Левашов. – Иди, а мы через окошко понаблюдаем. Если картинка сменится, значит, у тебя получилось.
– Понятия не имею. Для нас вот этих, то, что случилось, несомненно, случилось. Безвариантно. Если для дуггуров – тоже и они взяли надежный пеленг, имеют возможность внедряться в параллели помимо тридцать восьмой, нас ждут неприятности. Но и мы не погулять вышли. Попробуем вообразить это компьютерной игрой.
– Двумя играми, – уточнил Берестин. – У тебя своя, у нас своя. Что дает нам лишний шанс.
– Какой шанс?
– Элементарный. Мне представляется, что Олег сумеет… Чуток отыграть назад в том, остановившемся времени. Ты уходишь в свой «ноль», а мы в своем вместо стрельбы ловим эту «медузу» «окном» и запираем… Ну, где-то запираем. Как в «Туманности Андромеды». Там – в баке с азотом. Мы можем – во временньм просвете между «ноль плюс» и «ноль минус»… После чего устроим клетку в Новой Зеландии пятьдесят шестого и допросим… Допросим с применением самых антигуманных средств, которые только придут нам на досуге в голову…
– Нет, парни, ваши фантазии с каждым днем приобретают… Превосходят мои самые смелые планы и расчеты… – Антон старался держаться не на исходном уровне восемьдесят четвертого года, просто на уровне взаимного соответствия.
– Нет, братец, не наши. Если хорошо помнишь, фантазий ни у кого из нас не имелось. Воронцов загорал на пляже и мечтал только о том, как из Северного пароходства перевестись на Черноморское. Ко мне в компанию, – сказал свое слово Левашов. – Ты к нему привязался со своими идеями. Он не сумел послать тебя по всем по трем. Потом – сам знаешь. И всегда тебе что-то от нас было нужно, нам от тебя – ничего. Спорить будешь?
– Зачем нам сейчас спорить? – Антон начал смягчать накал разговора. – Давайте сделаем, как наметили. Я пойду на «Призрак», постараюсь завершить нашу интересную встречу к общей пользе и удовольствию…
Повисла непонятная тишина. Для каждого из собеседников означающая нечто свое. Неизвестно, во что бы эта пауза вылилась, если бы не поднялась к ним Ирина. Берестин поднял руку ладонью вперед, пресекая возможные слова товарищей. Любое из них могло вызвать неконтролируемый поток ассоциаций с трудно предсказуемыми последствиями. Не для истории, бог с ней, с историей, для личных отношений.
Ирина, руки в карманах платья цвета хаки, остановилась на пороге. Глаза посверкивали слишком уж решительно. Могла бы всех троих собеседников-собутыльников поставить по команде «смирно». И наверняка подчинились бы. Куда им деваться?
– Поговорили? Я считаю – хватит. Вам только дай возможность, сутками будете трепаться, и никто никого ни в чем не убедит. По причине того, что каждый хочет выглядеть «альфой» и никто «омегой». Без рефери не обойтись. Рефери для вас я, поскольку все ваши понты, начиная с раннего палеолита, подразумевают наличие поблизости женщины. Которой нужно мамонта предъявить, в надежде на соответствующие выводы. А иначе – зачем по тундре бегать? Зайца в одиночку съел, и хватит…
Из троих присутствующих моральное право возразить ей имел только Левашов.
– Да кто же спорит, Ирок? Ты нам пожрать сготовила, из остатков мамонта? На чем тебе и спасибо. Коньяк тоже не сам собой в твоей пещере появился. Его же и монахи приемлют. Мы – тем более. А по делу чего-нибудь скажешь?
– Скажу. Я на Таорэре зачеты по обращению с блок-универсалом сдавала на три уровня выше своего. В расчете на возможные обстоятельства. Сейчас, похоже, случилась предусмотренная теорией накладка. Два одновременно включенных в одном режиме блока могут вызвать подобный парадокс. В земной математике ноль на ноль дает что?
– Умноженный – тоже ноль, деленный – бесконечную неопределенность, – машинально ответил Левашов.
– Я о том же. Вот Антон и устроил то самое. И никаких козней пришельцев здесь можно не усматривать. Так что, не мучая нас ожиданием неизвестно чего, ему и вправду пора отправляться.
– Так и сделаю.
– Да, – вдруг спохватилась Ирина, переходя из образа Валькирии в роль нормальной хозяйки дома, – завтракать будешь? Все готово.
– Спасибо. Без еды я и месяц могу обойтись. Что нужно, сказано, а вилкой зря махать… Захочу, с ребятами на яхте перекушу.
– Тогда – счастливого пути. Только портсигарчик положи вот сюда. – Она указала пальцем, куда именно. – Там он тебе не понадобится, а помешать может. Нам – наоборот.
Похоже, что Антон положил прибор на сервировочный столик с большой долей сожаления.
– Я бы тебе что еще посоветовала – снова переоденься в гараже в свои засранные шмотки, в таком виде и предстань. Для Сашки чрезвычайно убедительно получится… И не забывай о моем предупреждении!
…Когда Антон исчез, Берестин мрачно смотрел в свою рюмку, Левашов же, напротив, лучился радостью и смехом.
– Ох ты и молодец, Ирок! Ох и молодец. Такую сцену разыграла! Мейерхольд с Вахтанговым плачут. Станиславский тем более. Ладно, веди на завтрак. Можно и строем.
Ирина посмотрела на него очень пристально. Умела она делать такой взгляд в те еще времена, когда была просто подругой Новикова, ничем не проявив свою истинную сущность, а Олег каждый раз обмирал от вожделения, встречаясь в компаниях.
– Сцена, говоришь? На Юлию Борисову тяну? Уже хорошо. Значит, на завтрак, колонной по одному. Хорошо бы с песней, но на первый случай можно и так. А чтобы дальше недоразумений не возникало, вспомните слова любимого персонажа. «Командовать парадом буду я!» Отныне и до особого распоряжения.
Глава восьмая
Антон явился в рубку «Призрака» меньше чем через час после последнего с ним разговора (по судовым часам). Выглядел он довольным и одновременно слегка встревоженным. Я такие нюансы настроений давно научился различать и классифицировать. Следовало понимать, что основная акция ему удалась, но при этом имели место непредвиденные осложнения, не носящие, впрочем фатального характера.
Сейчас он был отвратительно (по корабельным меркам, где чистоту принято проверять носовым платочком или белыми перчатками) грязный, испачканный всем, что можно нацеплять на себя в канализационных коллекторах тех еще времен, когда они исполнялись в виде уменьшенной копии метрополитена. Только – куда более разветвленного. Да еще, пожалуй, его достала контузия неизвестного мне происхождения.
Я по природе не грубиян, а все же не отказал себе в удовольствии.
– Время теперь уже терпит, коллега, так не сходить ли тебе предварительно привести себя в порядок? Прямо по трапу вниз, и любая мужская каюта в твоем распоряжении. Ванна, душ, свежее исподнее и судовая форма. После чего и побеседуем. Не против?
Он кивнул и исчез, а я почувствовал легкое удовлетворение. Не все же нас мордой в пол, можем иногда и мы. Тем более – никто не придерется, исключительно – забота о ближнем. Да и с точки зрения старой флотской службы, на боевых кораблях в «прогарной робе» из низов на мостик вылезти без особых причин – уже потрясение основ. А в подобном виде?!
Прямо как в анекдоте: «Все в дерьме, а я весь в белом!»
Мундир, правда, на мне был не белый, а светло-синий, это мы тоже придумали в молодости, все «сроки» формы на все случаи жизни на «Призраке». Белые китель, брюки, туфли и рубашка при голубом галстуке – парадная для южного европейского климата, а вот темно-голубая, или светло-синяя, как кому нравится, при белой же рубашке и черных туфлях – для не совсем парадных случаев в умеренных широтах. Для самых парадных – традиционно черная с золотыми нашивками. Но это все детали, к случаю вспомнившиеся.
А вот палубу за ним мне сейчас веревочной шваброй прибирать придется, больше некому. «У нищих слуг нет».
Зато я понял главное – то, что требовалось, Антон принес.
Я обернулся к креслу, где сидел Сашка. Он спал. Удобно устроившись в кресле, подложив ладонь под щеку и слегка похрапывая. Обычным сном, наведенным или провидческим – я не знал. Но от появления Антона он не проснулся. Хорошо это, плохо ли – пока непонятно.
Лично мне – удобнее, само собой. Диалог всегда проще триалога.
Курс я чуть-чуть поправил, теперь яхта шла точно к базе. Манипуляторы можно не трогать. Автопилот работает. Антону, чтоб помыться и переодеться, – даем минут двадцать. С запасом. Управится скорее всего, если опять не исчезнет в безвременье.
Ожидая Антона, дал себе честное слово, что на этом варианте завяжу окончательно и навсегда. Как раздумавший пить алкоголик. С понедельника.
– Так что скажешь, друг старинный? – осведомился я, когда он возвратился в рубку по внешнему палубному трапу. Не пошел низами, через кают-компанию и тамбур верхнего салона. По свежему воздуху прогуляться захотел. Одет был в синий рабочий китель.
Да и то, парадка здесь ни к чему. Лично я не одобрил бы.
Из специального капитанского бара, который был оборудован тоже по старым, вычитанным из книг обычаям, я извлек бутылочку хорошего ямайского рома, разлил по стаканам в тяжелых, с широкими основаниями подстаканниках специальным способом заваренный китайский чай. Тот, что пили в эпоху чайных же клиперов.
– Присаживайся. – Я указал ему на соседнее с моим кресло. – Плывем, значит? И проблем у нас отныне – ноль? Чайку испробуй. Хочешь – так, а хочешь – по-адмиральски.
При этих словах я демонстративно плеснул в свой стакан грамм пятьдесят рома.
– И мне, пожалуй…
Сигары, естественно, были тут же, чтобы скрашивать тяжелый флотский быт. Думаете – шучу? Совсем нет. Плавание на паруснике, пусть и столь усовершенствованном, оснащенном всеми достижениями технического прогресса, если вы не абсолютно отключенный от реальности пассажир, – работа сложная. Признаки романтики ощущаешь больше на берегу, бросив якорь в лагуне атолла с кокосовыми пальмами и голыми гогеновскими туземками… А так – качка (иногда – почти невыносимая), сырость, проникающая во все щели, штормовая волна, нередко накрывающая с головой и вызывающая первобытный ужас. Невзирая на то, что ты надежно принайтовлен страховочным концом. Хорошая волна способна снести на палубе абсолютно все, включая рубку и мачты. И людей, естественно. Работа со снастями, пусть и механизированная, но изнурительная, до последней секунды не гарантирующая, что все выйдет так, как задумано.
Потому и отдыхать в те моменты, когда погода и обстановка располагают, нужно с максимальным вкусом, мы ведь все же не наемные матросы, мы – эстеты, ведущие рассеянный образ жизни. К услугам роботов, конечно, прибегаем, но не в той мере, чтобы выродиться в расслабленных сибаритов. Риск – настоящее прибежище негодяев, а отнюдь не патриотизм.
Впрочем, об этом мы поговорим в другой раз.
– Значит, сначала демонстрируй, что именно ты доставил, а потом, с подробностями, изложи, что произошло с тобой лично.
– Демонстрировать, как условлено, будем непосредственно хозяину, поэтому лучше его разбуди. Рассказывать одно и то же два раза я не собираюсь. Да и обсудить кое-что требуется, до возвращения…
Сашка проснулся легко, одномоментно придя в рабочее состояние.
– Вернулся? Ну, показывай…
Антон протянул ему сверток ветоши с консервной банкой внутри.
– Точно, та самая…
Шульгин отогнул крышку, извлек не слишком чистый носовой платок, развернул. Взорам явился стандартный, совершенно такой же, как остальные, гомеостат «универсальный полупортативный». Вернее, наоборот. Давно я собирался выяснить у знатоков, каков же должен быть, если вообще существует, «не портативный и полностью универсальный». Но Ирина по скромности чина и должности этого не знала, а Сильвия сказала, что предназначен для обслуживания любых существ, гуманоидных и прочих, и располагает гораздо большим быстродействием, эффективностью и спектром возможностей. Вплоть до кардинального изменения фенотипа.
– Это, значит, теперь у нас четвертый будет, – удовлетворенно сказал Сашка, пристегивая прибор на руку. Посмотрел на экранчик, почти сплошь зеленый. Ну да, организм у него свеженький, попортиться не успел, машинка среагировала на недавно введенные алкалоиды и спиртосодержащие продукты, которые немедленно примется вычищать. Перевод добра, одним словом, хорошо, что нам эти товары в магазинах покупать не приходится, а то и разориться недолго.
– Что ж, вы свое слово сдержали, и я не хуже. Предыдущую страницу считаем перевернутой и забытой, так?
– Очевидно. Значит, ты снова в команде и «война продолжается»? – спросил я, стараясь не выказать волнения.
– Значит… А с остальным как?
– Вот товарищ Антон все нам и расскажет, пока к месту будем подходить.
Мы сколько уже лет, встречаясь с форзейлем эпизодически, по его, как правило, инициативе, обходились только именем, а я вдруг заинтересовался, думая о будущем: как у него обстоит дело с отчеством и фамилией? Имеются ли какие-нибудь в запасе или придется с нуля придумывать? А зачем, собственно? Для общения с властями у него всегда подходящие документы были, а в нашем маленьком сообществе, словно в древнем полисе, и одного имени хватит.
– Расскажу, как же иначе, и в подробностях будем разбираться вместе, и в последствиях.
Сейчас Антон больше всего напоминал того, с которым нас познакомил Воронцов. Крепкий, уверенный в себе мужик, с хорошей перчинкой ницшеанства, причем в его джеклондоновской трактовке. Это ж он (Лондон, а не Антон) вывел на арену «большой литературы» столь понятный массам персонаж – Волка Ларсена. И мы, семнадцатилетние пацаны, на этот образ купились, вполне понимая, что данный Ларсен – сволочь, каких мало, и в то же время испытывая перед ним специфическое (скептическое) восхищение. Кто впервые прочел «Морского волка» в десятом классе да на изломе «оттепели» – меня поймет. Отчего и яхта была названа «Призраком», никак иначе.
Антон явился в подобном облике сначала Воронцову, учитывая его профессию и характер, а потом и нам. Просчитал, наверное, какой типаж вызовет максимальное доверие и уважение. Слегка ошибся, вследствие не совсем человеческого все же происхождения, но не настолько, чтобы мы расхотели с ним дружить.
– Рассказывать нечего, по сути, – начал Антон свое повествование, аккуратно раскурив сигару. – Если отстраниться от сложностей временны#х переплетений, ничего особенного. Я получил от тебя, Андрей, поручение доставить Александру данный гомеостат, немедленно отправился в указанное место, извлек его оттуда, где он был спрятан, и принес сюда. Правда, попутно пришлось выдержать бой за твой, Саша, колодец с закладкой. Наслали на меня враги рода человеческого вероятно, все, что в тот момент имели. И материализованного капитана НКГБ, и собственных боевиков, и нечисть, из старых сказок выдернутую. Как вам тогда, в Замке. И все равно промазали они. Нашего брата так не возьмешь. Мы им тоже устроили. Хотя, я вам скажу…
Антона явственно передернуло.
– Если бы не Иринин подарок… Я и не знал, что у них в блоках такие возможности спрятаны…
– Так и не знал? – удивился я. – Мы обычно технические средства вероятного противника назубок знали…
Я не стал говорить Антону, что успел уже получить от Ирины полное описание происшедшего, плюс дополнительную информацию, предназначенную пока только для нас двоих. Надо будет, Сашку тоже в курс введу, но, пожалуй, позже.
– То вы, то мы, – не стал развивать тему форзейль. – В общем, без ее портсигара мне бы полный абзац. И вам тоже, в ходе развития процесса…
– Это, опять же, как сказать, – усмехнулся Сашка своей негодяйской улыбкой номер три, глядя на которую «становилось очень неясно, кто же кого распнет» [29]. – Но сейчас все довольны, все смеются. Верно?
– Нет, брат-герой, – серьезно ответил Антон, не обратив внимания. – И вам и нам в случае вторжения этой публики крайне хреново придется. Ирин «портсигар» при последнем издыхании. Аккумуляторы сели. Подзарядить? Так ей придется сдернуть энергию, наверное, с половины электростанций Югороссии. А где ее еще взять? Раньше их «расходными материалами» централизованно снабжали, а теперь? Опять на Таорэру лететь, в руинах базы запасные искать? Таких батареек, чтобы на второй плазменно-гравитационный бой хватило, и аггры не придумали. И что мы поимеем, если с учетом случившейся разведки боем вторжение повторится массированно и в десятках мест одновременно? На полчаса боя нас хватит. Как погранзаставы в сорок первом… А больше нам рассчитывать не на что. Если бы речь шла только о монстрах – еще так-сяк. Но от того, с чем я столкнулся, побежит любая, самая стойкая пехота. Танки и те не помогут, меловой круг – тоже. Непереносимо такое для нормального человека. Гоголь был прав…
– Так если мы с нашими делами благополучно разобрались, чего теперь заморачиваться? Или, как у вас принято, очередные пакости сообщают по мере их поступления? – лениво поинтересовался Шульгин. Я с профессиональным интересом наблюдал за этой партией. Их взаимное соперничество давно известно, но сейчас оба пребывали в иных позициях и иных «весовых категориях», чем раньше.
А у меня в запасе было несколько мыслей, стоило только подумать, сразу их выдавать или по мере крайней необходимости.
– …? – вскинул подбородок Антон. – Какие пакости? Суть я вам сообщил. Все вроде бы складывается неплохо в сравнении с тем, что прогнозировалось. Ты, Саша, считай, в последний момент выскочил оттуда, откуда не возвращаются. Я, к слову сказать, тоже. Это мы Замок должны благодарить, что у него хватило возможностей и желания такую для нас комбинацию придумать… Считаю, теперь следует нанести ему визит вежливости и обсудить дальнейшие планы… Нужный сигнал я передал. «Обратной дороги нет» – так назывался старый интересный фильм.
– Чего теперь обсуждать? Дело сделано – можно и по домам.
– Можно и по домам. Только с Замком встретиться придется, хотя бы для того, чтобы «привести тебя к одному знаменателю». Без него – никак. А там все произойдет безболезненно и мгновенно…
Я незаметно для спорящих вышел на крыло мостика и снова связался с Ириной. Доложил об успехе главного дела, о сути ныне текущего разговора, ну и предупредил, что до прибытия в Замок связи больше может не состояться. Придется ей немного поскучать.
Отнеслась она к моим словам спокойно, добавив, что скучать вряд ли получится. Есть другие заботы. Заодно мы сверили часы. Ход физического времени у нас дома и здесь, на «Призраке», пока совпадал. Значит, в зону нулевого времени Замка мы пока не вошли, но насколько она распространялась за пределы стен, я не знал.
Когда с чувством исполненного долга и понятного облегчения я вернулся в рубку, дискуссия между Антоном и Сашкой продолжалась, снова с уклоном в мировоззренческие и метафизические вопросы.
– …Ты, Саша, в Шестакове добровольно остался и в Испанию добровольно поехал, так?
– Ну, так, – мрачно ответил Сашка, напряженно соображая, к чему это и что будет дальше.
– Свою работу в Испании хорошо помнишь?
Шульгин снова кивнул.
– Как тебе там вдруг хреново стало – не забыл?
– Такое не забудешь. Едва сил хватило, чтобы с балкона не прыгнуть.
– Не прыгнул же? Выдержки хватило, а ума – не очень. И куда полез? Тебе бы вернуться «домой», а ты опять начал умножать сущности. Ради чего? Пусть бы действительно возжелал добыть себе личный гомеостат, отняв его у вышедшего в тираж персонажа. Рисковое дело, но хоть цель стоящая, с мещанской точки зрения, но ты ведь и ее исходно не имел. А все остальное зачем?
– Подожди, – сказал Сашка. – До того момента я все помню: Юрий, Москва, зима, Арбат, «топтун-чекист». Гомеостат я действительно изъял и спрятал. В чайную зашел, водки выпил, чтобы расслабиться, и – опять в Сеть. Очнулся – «Призрак», кают-компания, мысли о том, что надо бы со всем завязывать и вернуться к самым истокам… Раньше, чем Андрей с Ириной познакомился. Одновременно – осознание того, что эта мысль подсунута мне извне, именно чтобы соблазнить и заставить отказаться от миссии. А я терпеть не могу, когда мне навязывают… Тем более сколько раз мы между собой и с тобой тоже обсуждали стратегию и тактику Игроков и собственное поведение. Я ведь совершенно свободно принял решение не сдаваться, закончить дела, а уж потом… Не зря ведь меня так жестоко оттуда выталкивали… Начал размышлять, как бы мне с яхты соскочить, обратно вернуться, в Москву, потом в Испанию. И тут появляется Андрей.
Я до последнего был уверен, что ты – фантом, оттого и вел себя… – повернулся он ко мне. – А с браслетом я неплохо придумал, ничем иным ты меня не убедил бы…
– Да как сказать… Неужто при таких возможностях не смогли бы тебе внушить, что ты получил искомое? Для Ростокина, к примеру, целую «микровселенную» создали, и он в нее поверил…
– Вот-вот, – кивнул Шульгин. – Поверил. Сначала он тот мир сам для себя придумал и хотел в нем жить, как в подлинном. И то все время сбои наблюдались: не держал его мозг «мыслеформу». Уж о теориях бреда, галлюцинаций и тому подобного я поболее твоего знаю, со штучками Сети встречался… Прежнее правило остается в силе – пока ты не веришь, ничего с тобой не сделают, а я тебе верить не собирался, все силы напрягал, чтобы под видом настоящего гомеостата мне какую-нибудь туфту не заправили….
Еще одна идея пришла мне в голову.
– Постой, а откуда ты про Ростокина знаешь? Вы же с ним «встретились» после твоего появления на «Призраке»? Разве нет?
– Да помню. Вернее, вспомнил только что, когда гомеостат увидел и окончательно все для себя решил…
– Петля замкнулась, – кивнул Антон. – Из Ловушки ты окончательно выбрался, сохранив, в виде компенсации, память о несбывшемся…
– То есть?..
– Вот тебе и «то есть». «Демоны истории», если они существуют, Сеть в собственном виде, Ловушки независимо от нее, пресловутые дуггуры, не важно, кто именно, – добились своей цели. Как от тебя захотели избавиться в самом начале испанской эпопеи, так и избавились. Сам-то по себе ты извернулся, с балкона прыгать или стреляться не стал, ускользнул в Сеть. Бродил-бродил лесами да перелесками, впечатлениями обогащался и пришел в исходную точку. В полном соответствии с теорией – без карты, компаса и надежных ориентиров ходить можно только по кругу…
– Значит, теперь проще всего считать шестаковскую линию несостоявшейся. Скажем, после первой встречи со Сталиным. Как у Ильфа в «Записных книжках» – «Из трех золотых с трудом сделали один и получили бессрочные каторжные работы». Титаническими усилиями ты, да и не только ты, продлили вариант-38 от силы на две недели. И – стоп!
– Видать, состоявшийся ГИП-вариант настолько объективен, что никакой Гиперсети с ним не справиться, – вставил и я свое слово.
Сашка вдруг начал смеяться, отнюдь не истерически, весело и раскованно, словно человек, вместо смертного приговора услышавший от судьи остроумный анекдот и пожелание идти домой, впредь не попадаясь. Нет, нормальный человек рассмеялся бы (если вообще не упал в обморок) как раз истерически, но мы ж тут все давно уже не нормальные.
Оборвав смех и не обращая внимания на наши недоуменные взгляды, Шульгин потянулся к бару, щедро налил всем. Опять же, чего под руку попалось. Да в нынешней обстановке никого, по большому счету, этикетки на бутылках не интересовали.
– Ну и идиоты же мы, господа, даже вообразить невозможно! Сколь времени дурью мучаемся, забыв простейший постулат. Давайте дружно сдвинем бокалы за «момент просветления»…
При слове «просветление» Антон сморщился, будто больной зуб остро заныл.
Но бокалы мы сдвинули. Раз Сашка интригует, наверняка не зря.
– С самого начала всем было известно, что на ГИП нельзя вернуться в прошлое, без того чтобы не учинить развилки. А здесь я упражнялся именно на ней…
– И что из этого? – спросил Антон. – Каждый раз мы на ней что-то начинали и получали когда нормальную реальность, когда химеру…
– Ничего ты не понял пока, – махнул Сашка рукой с зажатым в ней стаканом. – Меня Сильвия в наркома в ментальном виде внедрила, и то… Если б моя матрица за него не зацепилась, Шестакова в тот же день поймали бы, отвезли, куда собирались, в положенный срок шлепнули… Мельчайшей деформации, произведенной мною, никто бы и не заметил. Что такое несколько лишних трупов мелких функционеров на фоне «большого террора»? А мы ж не прекратили, мы дальше полезли! Государственные дела начали вершить. Антон вмешался, непонятно, с какого хрена! Да я и сам хорош! Сильвию, Дайяну, Лихарева сюда приплели… В общем, пошла писать губерния! Короче, мы взялись менять ГИП внутри ее самой, потому что возможность возникновения развилок кто-то старательно заблокировал. И я этого не понял, хотя видел в Сети явные указания… Как плохой врач на кардиограмму смотрит, а понять, инфаркт там или просто нарушения проводимости, не может.
– Игроки? – спросил я.
– Скорее всего. Великолепную комбинацию принялись разыгрывать. Гроссмейстерского уровня, а мы на уровне пенсионеров из скверика на их ходы смотрели…
– Зачем это им?
– А проверить захотели, нельзя ли пресловутый «парадокс дедушки» обойти. И если все-таки нельзя, как именно этот запрет в таком раскладе проявится…
Все верно. Молодец Сашка! Практически все недоумения и непонятности его догадка снимала. На самом деле! Один Игрок старательно вел партию к тому, чтобы изменением реальности ГИП исключить появление на свет нашей троицы. Для того и копию его матрицы у наркома оставили. Решили, что такой диверсии никто не заметит. Почти преуспели.
Совершенно очевидно, что в случае успеха первого этапа миссии Шульгина-Шестакова ни один из нас в положенный день и час не родится. А если вдруг и «да» (крайне маловероятно, но вдруг!), измененные политические, экономические и географические условия ни за что не позволят нам встретиться. Поодиночке же каждый из нас – способный, на многое способный парень, не больше.
Соответственно, не случается ничего из случившегося, аггры и форзейли остаются «при своих», база на Таорэре цветет и расширяется, поскольку квангам уже никто не поможет, и т. д. и т. п.
Это был бы эффектный мат партнеру.
А партнер, в свою очередь, заиграл так, что сначала поставил в известность и Сильвию и Антона о том, что одна из ипостасей Шульгина продолжает автономное существование. Потом вот этим последним гамбитом, введя в Игру и Ловушку, обеспечил спасение Сашкой Антона из узилища, помог (или позволил) активироваться Замку, подключил меня на роль «координатора» – и что? Пат? Об этом следует подумать отдельно.
– Сходится, похоже – сходится, – согласился Антон, когда мы закончили торопливо, перебивая друг друга, разбирать все доводы и контрдоводы. Действительно, при таком раскладе все сходилось. За исключением одного – с самого начала абсолютно все наши соображения и доводы можно было поменять местами и расставить совершенно в другом порядке. С тем же результатом.
– И еще – отчего же эти простые, прямо-таки – простейшие мысли не приходили нам в голову с самого начала? Не дураки ведь, книжки разные читали, опыт кой-какой личный накопили, а путались в фактах, причинах и следствиях, как слепые котята? – спросил Сашка. – Вспомнить только, сколько раз мы пытались разобраться в происходящем, привлекая не только логику, но и компьютерную мощь? Антон со своей стороны, Сильвия – со своей. Игроки, если они вообще существуют, с третьей, подсовывали нам каждый раз новые объяснения – тут вопроса нет. Но как же мы каждый раз покупались? Ты только вспомни, Андрей… Каждый сюжет вроде с нуля начинался, будто мы все предыдущее старательно забывали. Да вот и совсем недавно…
«Ловушка, она и есть», – хотелось мне сказать тоном опытного врача, ставящего пациенту не слишком приятный диагноз. То есть я сам для себя уже решил, что весь наш бесконечный сериал протекал так, если бы Ловушка сработала сразу и окончательно. Например, в момент встречи Антона с Воронцовым, тогда ведь случился первый взлом межвременной границы.
Или – когда Ирина с Берестиным устроили вилку, механизм входа в которую и выход из нее мне до сих пор непонятен. Но развивать эту тему эту я пока не собирался. Какая, в конце концов, мне, нам, им – разница? Либо живем, либо нет. Антураж значения не имеет. А фактор Ловушки, если он вообще имеет место, тоже нельзя недооценивать или относиться к нему как к заведомо враждебной силе. Иммунная система, бывает, начинает бороться с собственными клетками, но в основном все же несет полезную охранительную функцию. Так, может, Ловушка (или Ловушки во множественном числе) своими средствами парировали наши глупости и злокозненные действия чужаков, тем самым нас прежде всего и спасая? Они ведь, по замыслу, настроены главным образом на сохранение той реальности, которую призваны охранять изначально?
Представить себе организм, который атакуют микробы, вирусы, еще какая-то дрянь, раковые клетки возникают там и тут, разрастаются, пытаются давать метастазы, то в мозг, то в легкие… А эти самые фагоциты, лейкоциты, бог знает что еще, мечутся, как аварийная команда на ведущем бой крейсере. И он, несмотря на вражеские снаряды, торпеды, пожары, растерянность и некомпетентность собственного командования, держится на воде и в меру сил выполняет задачу…
Неужели все эти четко выстроившиеся доводы являются следствием того, что мы все – и я, и Сашка, и Антон, и сам Замок вследствие последнего шульгинского захода в Сеть действительно освободились от всяких внешних давлений и обрели интеллектуальную и физическую свободу? Или опять получили, по неизвестным нам каналам, по-новому замотивированную вводную?
Лучше, пожалуй, оставить тему вообще, хотя бы до встречи с Замком, кем бы он теперь ни был.
Поговорим о другом.
– Как хотите, а пресловутые дуггуры меня до сих пор беспокоят, – сказал я. – Ты, Антон, поминал о них еще в самом начале, когда просвещал о сущности аггров. Значит, кое-что знал? Но если так, отчего мы должны слепо уверовать, что дорога к нам для них навсегда закрыта? Они ведь проникали на ГИП задолго до нашего включения в Игру, и даже до рождения…
– Когда поминал, имел в виду некую абстракцию, символ зла в сферах Миров Возмездия. Отзвук давних легенд, можно сказать, или даже просто некая, принятая у нас, форзейлей, фигура речи. Мне кажется, детали сейчас особого значения не имеют, если мы предположили, что та линия закрыта раз и навсегда, на нас выхода не имеет, так что о ней и говорить? – с отстраненным видом ответил форзейль. Его понять можно, но у нас с ним разные взгляды.
– Закрыта, может, и закрыта, но на ней остались люди, в том числе и лично знакомые. С которыми меня кое-что связывает… – сказал Шульгин.
– И что из этого? К ним ко всем скоро придет Вторая мировая, которая так или иначе состоялась. Не уверен, что это будет лучше нашествия дуггуров. Может быть, как раз наоборот. Человечество сплотится, как-то из ситуации выпутается, заодно и без войны обойдется, и последствия будут в итоге менее катастрофическими, – ответил Антон.
– Цинично звучит…
– Ничуть не более цинично, чем рассуждение о дальнейшей судьбе персонажей только что просмотренного фильма. С ними может случиться абсолютно все, что угодно, только это не имеет никакого отношения к реалиям жизни за дверями кинозала…
– Ну-ну, – с весьма двусмысленной интонацией ответил Сашка.
А я, прослушав эти разговоры, с чем-то соглашаясь, чего-то категорически не приемля, перед тем как пришвартоваться к пирсу Замка, где нас в очередной раз ждет неведомое, решил просто так, для самоутверждения, ткнуть форзейля носом в самоочевидное. Чего он не просек. Пусть не самое важное в длящихся обстоятельствах, но…
– Умный ты у нас, брат-храбрец, – сказал я со всей доступной мне язвительностью, – но не пойму я кой-чего. Безоружные мы теперь перед дуггурами, говоришь? Иркин блок разрядился, и теперь – ружье без патронов? Голыми руками нас брать будут. Тебя же в твоем культурно-просветительном санатории прикладами по зубам не били, в рудники на сорокаградусном морозе не гоняли, как нормальных людей. Что ж ты забыл о тобою же нарисованной для Левашова схеме дубликатора? Незачем Ирине за батарейками на Таорэру бегать. У нас подобного добра – как грязи. Если мы патроны и банки тушенки миллионами шлепали, как о такой ерунде забыть могли? Для «Виллисов» и «Доджей» аккумуляторы запасли на «Валгалле» на весь срок возможной жизни, а для жизненно важной штучки – нет? Ты меня разочаровываешь… Да Олег завтра не то чтоб батареек, он самих «портсигаров» может на всю Белую, а также и Красную армию сделать. Из расчета мобилизационных возможностей!
Тут я слегка блефовал, понятия не имея, поддается ли блок-универсал дубликации, не как объект вообще, а как прибор с вполне индивидуальными и специфическими свойствами. Да какая разница? Цели я достиг.
– Ага, – только и ответил в нужной мере ошеломленный форзейль.
Глава девятая
Швартовка сложностей не составила, мне приходилось управляться с «Призраком» в гораздо более сложных условиях. А здесь что же – почти штилевое море, рассвело достаточно, чтобы невооруженным глазом видеть все необходимые ориентиры. На внешнем рейде и в самой бухте нет ни мелей, ни рифов.
С должным флотским шиком, будто рисуясь перед взыскательными, знающими толк в хорошей морской практике зрителями, я, не сбавляя хода, проскочил мимо первого брекватера. Причальная стенка приближалась с пугающей быстротой. Чуть зазевается при таком разгоне инертной массы неопытный командир, и извольте получать – треск, звон, мачты отдельно, палуба отдельно, на берегу общее веселье. Многие карьеры, а то и жизни на подобном и кончались. Но я маневренные элементы «Призрака» знаю не хуже таблицы умножения и явно лучше «Отче наш».
В точно рассчитанный момент дал обеим машинам «полный назад», прикинул степень выбега, отработал «самый полный» и тут же сбросил рукоятку телеграфа на «стоп», положил руль «лево на борт».
Яхта точненько, почти без толчка коснулась скулой того звена кранцев, в которые я целил. Все, очередной судьбоносный поход закончен. Сашка, напряженно и даже с определенной тревогой следивший за моими маневрами (ему-то стоять у манипуляторов доводилось только эпизодически и под присмотром), облегченно вздохнул и показал большой палец.
– Мастерство не пропьешь, – подмигнул я в ответ. – Будет и на твоей улице праздник…
Шульгин с Антоном, подчиняясь команде «первого после Бога», меня в данном случае, ибо таковым я и являлся до спуска брейд-вымпела и разрешения команде сойти на берег, посыпались по трапу, чтобы сбросить на пирс концы и закрепить их восьмерками на причальных кнехтах.
Выводя на нули многочисленные тумблеры командирской панели, краем глаза присматривая за работой моих матросов (во время службы, тем более морской, друзей не бывает, если жить хочешь), я подумал – почему Антон с Замком (или наоборот) не позволили в этом походе воспользоваться помощью роботов? Но какой-то смысл в этом наверняка был. Едва ли они решили проверить, не утратил ли я судоводительских навыков, им это ни к чему, а вот предположить, что в том безвременье, где мы некоторое время пребывали, наши искусственные помощники существовать не в состоянии физически или нравственно, вполне возможно.
И тут же совершенно несущественный на общем фоне выплеск банального любопытства обрел материальное воплощение. Реализация побочной мыслеформы или просто логика процесса?
Слегка опоздав и чувствуя от этого глубокую степень вины, из-за пакгауза выбежали мои ребята. Даже «капитан Ларсен», забыв свое ницшеанство, мчался впереди, словно услышав одновременно все существующие на флотах «тревоги»: боевую, пожарную, водяную, а также и команду «срочное погружение».
И успели построиться на стенке напротив выкаченных сходней, пока мы чинно сходили на берег.
Я со странным умилением смотрел на этих симпатичных, проверенных в делах парней, самого «капитана», верного «Джонсона» и остальных, включая личного слугу Шульгина по имени Джо. И не только с умилением: увидев их, я ощутил прилив уверенности, в себе лично и в том, что вообще все тем или иным способом обойдется. Имея рядом таких помощников, вряд ли стоит бояться каких-то монстров.
Интересно, отчего Антон, живописуя надвигающуюся угрозу, словом не обмолвился о возможности создания мобильных групп роботов. Судя по технологическим возможностям Замка – в неограниченных количествах.
Может, опять какое-то табу?
Шульгин с Антоном, правильно понимая службу, поскольку оба были в форме, поднесли руки к фуражкам, пока я величественно сходил на берег и выслушивал рапорт робота.
И не нужно в этом месте смеяться, мой предполагаемый читатель.
Такие штуки, как ритуал, церемониал, традиции, соблюдение не нами придуманных и, с интеллигентской точки зрения, подавляющих свободу личности уставов и уложений способствуют одному – поддержанию в социуме, из кого бы он ни состоял, всем понятных и обеспечивающих равновесие отношений. Вполне боеспособные Российские армия и флот мгновенно развалились и погрузились в пучину кровавого хаоса весны семнадцатого года именно после опубликования печально известного «Приказа № 1», отменившего чинопочитание, давшего право нижним чинам обсуждать приказы и выбирать командиров. И кончилась армия. Остался бандитский сброд, грабящий все, что можно, убивающий офицеров кувалдой по затылку или штыком в спину.
Немцы, совершившие свою революцию восемнадцатого года, до такого не дошли. И обошлись без своей гражданской войны, а винтовок на руках у демобилизованных и дезертиров было не меньше.
Я отдал команду «Вольно».
Ларсен понял ее правильно. Мой это был капитан или очередной дубликат, изготовленный Замком, велика ли разница? «Призрак» тоже должен был стоять в одной из севастопольских бухт, а находится здесь. Перемещен в воображаемую точку пространства в своем подлинном виде или тоже сдублирован, мне-то что? Я уже в оригиналах и копиях живых людей запутался до полной потери любопытства, стоит ли на очередном артефакте внимание заострять. В свое время выяснится. Или нет. Неотличим от настоящего, на воде держится, руля слушается, ну и ладно.
– Рейс прошел успешно, сэр? – деликатно осведомился капитан после рапорта. Мы обменялись рукопожатиями. – Яхта вела себя хорошо? На ней все в порядке?
Ларсен по внешности полностью соответствовал своему прототипу, только без тех резкости, грубости и агрессивности, что присущи были джеклондоновскому «Волку», которые хоть и скрывались временами за напускной любезностью, но ощущались, по словам «Хэмпа» Ван-Вейдена, постоянно. Впрочем, трудно сказать, как повел бы себя этот персонаж, случись ему оказаться не хозяином полупиратской шхуны, а наемным капитаном у не уступающего ему характером босса. Вполне возможно, что «на цырлах» бегал бы, вымещая комплексы на безответных матросах.
Тщательно сделанная программа пришлась вполне стандартному роботу номер такой-то настолько впору, что он на самом деле беспокоился о вверенном ему судне, как о собственной дочери, любил его, можно сказать, от всей души. Я подумал о душе и усмехнулся. А почему бы и нет, в конце концов? По количеству вложенной в его «мозг» информации он превосходит любого нормального человека, числу связей между «нейронами» – тоже, скорость прохождения «нервных импульсов» приближается к световой. Считается, что эти псевдолюди просто с немыслимой быстротой и эффективностью анализируют обстановку и в каждый данный момент подбирают оптимально подходящие к случаю слова и действия, ну так и что за беда?
Идеальная «машина Тьюринга» тем и характеризуется, что при любом, сколь угодно долгом общении с ней невозможно определить, человек это или машина. Проще говоря – количество известных ей правильных ответов превосходит возможность человека придумать достаточное количество вытекающих друг из друга вопросов. Душа, говорят, предполагает способность к сопереживанию, руководству некими «высшими», «боговдохновенными» принципами, а равно и к творчеству. Допустим.
А много ли вы встречали живых людей, вполне удовлетворяющих названным требованиям? Не думаю. Кроме всего прочего, в наших роботов встроен особый предохранитель, гораздо более эффективный, чем так называемая «совесть» вкупе с «законопослушанием».
Азимовские «три закона» по сравнению с этим примитивны, как самодельный самокат рядом с мотороллером хотя бы.
– Все просто отлично, Ларсен, – ответил я. – Вступайте в командование. В следующий поход мы отправимся вместе, поэтому наведите на яхте порядок и ждите дальнейших приказаний.
Вот еще одно достоинство моего экипажа – они сделают все, что надо, в полном объеме, вплоть до диагностики мельчайших, обычными способами не определяемых дефектов и повреждений корпуса, двигателей, рангоута и такелажа. Немедленно их устранят, произведут «большую приборку», после чего автоматически перейдут в ждущий режим, реагируя только на изменения окружающей среды, имеющие отношение к их службе. И ждать приказа будут хоть месяц, хоть год, не страдая от скуки и не обременяя себя излишними вопросами и мыслями. Сейчас вот, например, я не услышал от капитана вполне естественного вопроса: «Каким образом и почему яхта пришла сюда без него и экипажа, а он, в свою очередь, очутился в незнакомом порту без своего судна?»
Впрочем, очень может быть, что в свое время он получил от меня же вполне исчерпывающие разъяснения и инструкции, которым и следовал.
В конце пирса, в боксе с открытыми воротами нас ждал автомобиль, тот самый «Виллис», на котором мы прошлый раз подъехали, этим же составом, кстати, к трапу «Валгаллы».
Сашка ностальгически похлопал машину по капоту. Встретились, мол, а ведь никто и не думал, что доведется. Шульгин № 1 ту ночную сцену помнить не мог, значит, память у него продолжает расширяться. Но как бы активно этот процесс ни развивался, без процедуры «слияния» не обойтись. Зачем нам два Шульгина? Одного хватает с избытком. И все же предстоящего я ждал с интересом и значительной опаской. Сам механизм воссоединения тоже трудно было представить.
«Наш» Шульгин после завершения «Битвы при Рагнаради» [30] сейчас отдыхал с Анной в новозеландском форте, где я его оставил месяц назад, уехав с Ириной в Крым. Там он занимался совершенно прозаическими делами, пообещав мне, что не станет до поры совершать ничего выходящего за рамки образа жизни «нормального» лендлорда. Ни в астрал, ни в тоннель бокового времени не полезет без предварительного согласования. В этом я не сомневался. И если подобная идея и придет ему в голову, супруга и Воронцов сумеют его действенным образом предостеречь.
При прощании Сашка выглядел совершенно материальной личностью, полностью довольной жизнью. Как и этот, впрочем. Я бы не удивился и не испытал никаких нравственных терзаний, если бы Антон с Замком просто скинули психоматрицу Шульгина из шестаковского или любого другого тела, пока он прыгал из одного в другое. Такая процедура несложна и хорошо отработана, как следовало из предыдущего опыта. Но они снабдили его абсолютной копией «исходного организма», пусть только на время все еще длящейся операции. Значит, один из Шульгиных, «первый» и одновременно «третий», был все же прав в своих опасениях. Физической структуре, несущей в себе полноценное человеческое сознание, тем или иным образом придется исчезнуть. Умереть, проще говоря. Другое дело, что оставшийся не испытает (не должен испытать) никакого дискомфорта или сомнений в собственной подлинности и идентичности. Очередное расширение памяти и личного жизненного опыта, всего лишь!
Так ведь и человек, умерший или убитый внезапно и мгновенно, тоже остается в полном неведении о своей судьбе, если отвлечься от возможности загробного существования.
– Поехали, что ли? – спросил Сашка, привычно усаживаясь за руль и поворачивая ключ зажигания. Нажал кнопку стартера, мотор, дважды чихнув, стрельнул глушителем и завелся. Ну да, долго простоял, хорошо, что для полноты реализма вода в отстойнике и карбюраторе не сконденсировалась, а то пришлось бы повозиться.
– Поехали. Прямо к парадному подъезду…
Сейчас возвращение в Замок выглядело совсем иначе, чем через астрал. Естественнее, что ли. И само сооружение выглядело «живым» – я бы так сказал. Дым из многочисленных труб, конечно, не вился к синему утреннему небу, не гремели во внутренних дворах подковы лошадей, не перекликались обитатели: рабочие, стражники и дружинники, как полагалось бы в цитадели владетельного сеньора. Но ощущение было именно такое: буквально минуту назад весь этот антураж здесь присутствовал. Каким образом достигалась такая иллюзия, я не знаю.
Шульгин, по-моему, чувствовал то же самое. Словами мы не обменивались, мешала торжественность момента, но мимики вполне достаточно, чтобы судить о настроении близкого друга.
В контакт с Замком я вступил одновременно с тем, как начал подниматься по широкой гранитной лестнице. Чувство было интересное. Присутствие разлитой вокруг мыслящей субстанции воспринималось всеми органами чувств сразу, хотя объяснить это доступным образом трудно. Я не видел вокруг ничего особенного, не слышал звучащих внутри черепа голосов, не обонял запахов, кроме самых обычных и естественных, памятных с самого первого дня. Однако все вокруг было пропитано чем-то совершенно необычным и в то же время конкретным, вызывающим особого рода эмоциональный настрой. Ну, вроде как в детстве ощущение предновогоднего утра до того, как полностью проснулся и открыл глаза.
А сколько же это времени прошло с моего самого первого появления здесь? Да пятый год уже, в «прямом исчислении».
– Ну что, ребята, – сказал Антон, когда перед нами открылась дверь хитроумного лифта, – давайте по своим каютам, приведем себя в порядок и через полчаса встречаемся в моем кабинете.
Я не видел в этом особой необходимости, но возражать не стал. Просто хотелось вновь оказаться в своем уютном, просторном номере, ставшим за проведенные в нем дни привычным, родным, тем более что настраивался я в нем жить неопределенно долгий срок, не имея понятия о своей будущей судьбе. Отсюда я торопливо бежал, «не простившись», на пароход к Воронцову, никак не рассчитывая не только вернуться, но и живым добраться до «Валгаллы». Однако вот вернулся, а здесь все совершенно так же, как было. Недочитанная книжка лежит на тумбочке корешком вверх, бритва, зубная щетка и тюбик пасты на своем месте в ванной. Пыль везде вытерта, пепельницы вытряхнуты и вымыты, будто горничная только что отсюда испарилась, заслышав мои шаги в коридоре.
В шкафу висели забытые одежды, и я, приняв душ и побрившись, повинуясь вдруг возникшему желанию, переоделся в легкий костюм, как бы более соответствующий нынешней роли и месту. В этом есть свой смысл, не зря аристократы в золотые века своего существования строго следовали указанному принципу.
В ящиках стола у меня хранилось с десяток разных пистолетов и револьверов, позаимствованных в оружейном музее Шульгина, для подробного изучения и ежедневных тренировок руки и глаза из машинок разного калибра, веса и баллистических характеристик, не привыкая к одной конкретной. С точки зрения профессионального спортсмена, может, и неправильно, но для практической жизни как раз то, что надо.
На этот раз мое внимание привлек австрийский «Манлихер» 1905 года. Весьма необычного, на современный взгляд, дизайна, но прикладистый, удобный в обращении, размерами и весом почти одинаковый с «ТТ», под тот же патрон, но десятизарядный. «Австрийский маузер», как его в свое время называли.
Здесь, внутри Замка, он мне вряд ли мог пригодиться, так кто сказал, что я через минуту или час не окажусь бог знает где? Бывали, как известно, прецеденты. Пистолет же является вполне эффективным средством выживания в цивилизованных (и не очень) странах, особенно в том случае, если нет у тебя местной валюты, документов и иных способов первоначальной легализации. Он даже в доисторическом мире и на необитаемом острове может сыграть свою роль. Как альтернатива смерти от голода или холода.
Кроме того, огнестрельные устройства давно уже стали у нас символом статуса по-настоящему свободного человека. Как шпаги у дворян.
Повинуясь в очередной раз возникшему «дежавю», я снял трубку телефона, не набирая никого номера, просто вообразив, кого хочу услышать. Антон ответил после третьего гудка. Реализм, мать твою!
– У тебя все в порядке? – участливо спросил форзейль.
– Более чем…
Да и в самом деле. Настроение прямо-таки отличное. Возвратились удачно, утреннее солнышко поднялось над океаном, прохладный соленый ветерок сквозь открытую форточку чуть шевелит занавеску, непременный в люксовом номере классного отеля мини-бар готов поделиться своим содержимым… Будто первые минуты прибытия на курорт, куда страстно стремился нудной слякотной зимой.
– Возникли вопросы?
– Догадливый ты у нас. Всего один, но существенный. Как вы собираетесь с тем, настоящим Сашкой поступить? Технически? Срыва не будет?
– Надеюсь, нет. Сейчас ты ему позвонишь, по этому же телефону. Скажешь, что необходимо немедленно встретиться, причем не где-нибудь, а в Замке. Через час примерно по его времени. Проход ему открою я. Он, пожалуй удивится, но ты в детали не вдавайся, все, мол, объяснишь на месте. Жене пусть скажет, что покидает ее на сутки, не больше. А то и раньше обернется. Я надеюсь, он и сам лишних вопросов задавать не будет, человек привычный. Главное, ты держись совершенно ровно и безмятежно, чтобы он пришел сюда без внутреннего напряжения… Договорились?
– И все же… Кто из них останется? – Мне отчего-то казалось это важным.
– Андрей, ты меня удивляешь. Не институтка, кажется. Он и останется. А если тебя волнует судьба эфирного сгустка, временно преобразованного в семьдесят пять килограммов биомассы…
– Достаточно…
Как будто я ожидал иного ответа.
– Как только совмещение произойдет, ему это тоже станет абсолютно безразлично. – Антон будто пытался меня успокоить. Я и сам это знал, и тем не менее… Как ни крути, а тот, с которым я разговаривал на яхте, с кем встречусь сейчас, будет распылен на атомы в непредставимо короткий миг. «Грустно, девицы…»
Шульгин-новозеландский на самом деле отнесся к приглашению не просто спокойно – с ощутимой радостью. Похоже, пребывание в Форте Росс начало ему надоедать, а визит в Замок сулил очередную порцию впечатлений и адреналина. Поскольку Шульгин понятия не имел о своем длящемся параллельном существовании, оснований для тревоги не было никаких.
Он только поинтересовался с обычным коротким смешком:
– Что, настоящий Антон? Не астральный фантом? Каким его ветром занесло?
– Не берусь утверждать точно, однако сдается, что в новой должности у него сложилось не очень… Типа, снова ему помощь требуется…
– За отдельную плату, – фыркнул Сашка и отключился.
Закончив свои дела, я заглянул к Шульгину-»этому». С тяжелым, нужно сказать, чувством. Не то чтобы я считал себя предателем, знающим, что товарища вот-вот схватит гестапо, и приложившим к этому руку, но… Сами понимаете.
Он тоже был готов, но остался в той же форме офицера «Призрака». Наверное, после всех эскапад со сменой костюмов, мундиров и тел она ощущалась им некоей константой, неизменной с молодости.
– С Замком не беседовал? – спросил я его.
– Пока нет. Присматривается он, что ли?
– Вполне возможно. Или – настраивается…
Лифт, умевший перемещаться по всем пространственным осям и любым траекториям, в мгновение ока доставил нас к адмиральскому кабинету, где по традиции происходили наши встречи с партнерами, что в реальности, что в потусторонних сферах. А начало всему положил Воронцов, нашедший здесь свою Наталью.
Антон нас ждал, предусмотрительно включив гейзерную кофеварку. За высокими окнами безмятежно отсвечивал сероватой голубизной океан, пустой, как карман в день перед зарплатой. По отливной полосе берега лениво бродили крупные чайки, предвещая скорое ненастье.
– Итак, рассмотрим диспозицию? – предложил я, располагаясь в глубоком кресле напротив стола. Шульгин сел в соседнее. В точности повторилась мизансцена нашей последней встречи перед «Исходом». Сашка рукой указал на тумбу стола. Антон понял, выдвинул ящик, протянул коробку с сигарами. Не просто обычные гаванские, своего рода индикаторные: по факту их наличия в известном месте, количеству и вкусу мы уже несколько раз, попадая в Замок через астрал, контролировали степень достоверности предлагаемых обстоятельств. Сейчас в коробке их было ровно столько, сколько должно было остаться с учетом предыдущих посещений. Без нас на сигары никто не посягал, и, что важнее, кабинет не создавался каждый раз заново по старому лекалу, иначе коробка тоже воспроизводилась бы полной.
В принципе, конечно, ничего не стоило в любой наведенной галлюцинации учитывать и такую деталь, но на практике – вряд ли. В слишком разных состояниях, психических и психологических, нам доводилось сюда попадать и абсолютно разными способами. Неужели инвариантом оказывалась именно эта неприметная, неизмеримо ничтожная в масштабах событий, явлений, количества прочих материальных объектов коробка ценой в какую-то сотню долларов по курсу восьмидесятых годов? Если, конечно, на протяжении всех этих лет Замок сканировал и фиксировал абсолютно каждую мысль каждого посетителя, причем точно определяя ее место и роль в массиве нашей ноосферы, – тогда да. Только такое непредставимо даже в виде гипотезы, исходя из нашего понимания самой сущности Гиперсети.
Короче, вывод тот же, что мы сделали с момента возникновения первых неясностей в общении с инопланетным разумом в любом его воплощении, – истины нам не постичь в любом случае. Как не в силах марксизм-ленинизм даже в его высшем воплощении – труде В.И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» – объяснить простейшую вещь: каким образом Вселенная бесконечна во времени и пространстве. А если это не так, что было до того?
Следовательно – никакой разницы между любым материализмом и самым дремучим субъективным идеализмом нет ни малейшей. Ибо исходная точка у всех одна – «сначала не было ничего, а потом что-то вдруг появилось». Зачем, почему, каким образом – без разницы. Не зря ведь отцы церкви предостерегали мирян от самостоятельного чтения Библии, а нам, аспирантам-философам-марксистам, не самым глупым людям в тогдашнем социуме, к изучению предлагались лишь выбранные места из творений классиков, основоположников и т. д. Толковать же их запрещалось под страхом лишения должности, партбилета, свободы, жизни. Смотря по обстоятельствам и текущему моменту.
Следствие из указанного выше вывода – существуй применительно к «реальности, данной нам в ощущениях», исходи из собственного понимания добра и зла, пытайся жить, стараясь, чтобы твои поступки соответствовали твоим личным убеждениям. А это уже чистой воды экзистенциализм [31].
Сколько лет мы, понимая это и неоднократно проговаривая друг другу вслух, а еще чаще «про себя», все же силились доискаться некоего «высшего смысла» происходящего.
И к чему пришли? К исходной точке. К тому же месту и той же теме разговора между основными фигурантами. Как говорил один хороший знакомый, выливая кружку пива в унитаз: «К чему этот долгий и утомительный процесс?»
А я ему ответил: «Жизненный опыт плюс сопутствующее удовольствие тоже ведь чего-то стоит?»
Крепко выпивший приятель сфокусировал глаза на пустой кружке, покачал ее в руке и с некоторым сомнением сказал: «Об этом тоже можно подумать…»
Подобно ему, и Антон охотно согласился обсудить диспозицию и вытекающие из нее действия.
– Только в отсутствие главного действующего лица – стоит ли?
– Главное лицо – Замок, нужно понимать? – приподнял бровь Шульгин.
– Сейчас – пожалуй, да.
– Чего же он молчит?
– А мы его спросим…
Антон вновь поднялся, обогнул стол и вошел в неприметную дверь, за которой помещалась комната отдыха.
Мы с Сашкой успели приложиться к рюмочкам настоящего, прямо из подвалов Фекамского монастыря, «Бенедиктина», позволяя нектару всасываться через слизистые щек и языка… Только что Шульгин блаженно улыбался, наслаждаясь вкусом и ароматом, – и вдруг изменился в лице, дернулся, как бы пытаясь встать, в горле у него, мне показалось, раздался короткий хрип. Выронил из пальцев сигару и начал заваливаться на подлокотник.
Будто глотнул вместо ликера смертельную дозу цианида.
Не успев понять, что происходит, слишком уж несовместимо было это с нашим мирным кейфом, я чисто машинально, проявив хорошую реакцию, сначала подхватил у самого пола падающую огнем вниз сигару. Чтобы ковер не загорелся. Наверное, подумал – выскользнула, бывает. И только потом вскочил, чтобы помочь явно теряющему сознание другу. Обморок? С чего бы вдруг у здоровяка Сашки?
Да, воспринял я происходящее, точнее – уже происшедшее, именно так. О том, что так выглядит то самое, подумать не успел, сам почувствовал мгновенную дурноту, головокружение, уходящий из-под ног пол и звон в ушах. Что за черт?! Замок, что ли, внезапно изменил свое положение в пространстве-времени? Будто самолет, делающий бочку…
Еще через секунду все прошло. Завершая движение, я попытался удержать Шульгина за плечо, не дать ему упасть, но рука провалилась в пустоту. В кресле никого не было. Рюмки и чашки на столе, дымящаяся сигара у меня в пальцах – и все.
Выругавшись обычным в подобном случае образом, испытывая одновременно ярость, растерянность, непривычную пустоту в душе, я резко выпрямился, поворачиваясь к приоткрытой двери.
Еще не зная, что делать дальше, я стоял и смотрел секунд пять, наверное, пока она не распахнулась и через порог не шагнул Сашка. Лицо его выражало такое же недоумение, как, наверное, и мое. Потом на нем появилась обычная кривоватая усмешка.
– Таким, значит, образом… И больше ни у кого никаких проблем…
Не здороваясь подошел, взял у меня свою недокуренную сигару. Против всех правил, назло им, сделал из горлышка большой черной бутылки несколько крупных и шумных глотков. Глубоко затянулся, словно махорочным бычком напоследок, когда он уже начал жечь пальцы, после чего сел на свое прежнее место.
– Одно могу сказать. – Он медленно-медленно выпустил дым. – Ушел я красиво. Дай бог каждому. Изысканный вкус «последнего глотка», приятная беседа, обостренный интерес к процессу бытия… И больше ничего. Вернее, все то же самое. Крутнулся мир перед глазами, мгновенная смена ракурса, и только. Смотрел на дверь отсюда, и тут же из нее – сюда.
– Это… Это понятно. И никаких… – Я затруднился подобрать подходящее слово.
– Эмоций? Сожалений? Ответить пока не готов. Раз надо, значит, надо. И я ведь вправду ничего не потерял. Не первый раз такое, привычка есть. Он, пожалуй, тоже при своих. Я уже вспомнил все, что с нами было. Просто теперь нужно по полочкам растасовать, что не к спеху. Жизнь продолжается. Эй, страдалец, вали сюда, составь компанию!
Из комнаты отдыха появился Антон.
Хрен его знает, может, ему сейчас на душе паскуднее, чем мне.
Сколько лет живу и работаю, а к некоторым вещам все равно привыкнуть трудно. Наверное, потому, что в свободное время стараюсь забывать обо всем потустороннем, воображаю себя обычным человеком в особых обстоятельствах. Как очутившись в тридцатилетнем возрасте в дебрях и джунглях «свободного мира», причем, не в переносном, а в самом прямом смысле, то есть в центральноамериканской сельве, в охваченных революционной войной странах «Перешейка». По сравнению с Москвой начала восьмидесятых это было что-то… Словно окунулся в мир романов Грэма Грина или Юрия Слепухина [32], которыми тогда очень увлекался. Проблем и опасностей было ничуть не меньше, чем в нынешнем положении, а вот ответственности и, не боюсь этого слова, страха – больше. По многим причинам.
У форзейля я спросил, довольно грубо: «Ну и как, доволен, нет?»
– Думал, будет хуже. Только не нужно воображать меня… Тем, кем ты собрался вообразить. – В голосе Антона звучали печальные ноты. Очень печальные.
Он сел напротив нас, помолчал немного.
– Не так давно ты заявлял, что не стоит воображать тебя туземцем с Кокосовых островов, а сейчас вдруг ему уподобляешься, – сказал, обращаясь к Сашке. – Это они верят, что отражение в зеркале забирает с собой душу. Кто-то из вас двоих был таким вот отражением. Зеркало унесли, и только. Чувствуешь от этого в себе какую-то разницу?
– Как прошлый раз в Нерубаевских катакомбах, – добавил я. – Кажется, тогда ты отнесся к случившемуся совмещению куда спокойнее…
– Нет, пожалуй. А все же… Там и обстоятельства и настроение были несколько другими… – ответил Шульгин, пожав плечами, и снова задумался.
Антон взял из шкафчика хрустальный графин с виски, кем-то когда-то наполовину опустошенный, разлил по стаканам на два пальца, подвинул к краю стола в нашу сторону.
– Как принято говорить – с возвращением. И за встречу. Два или три тела одному человеку – многовато. Мы с тобой, прошу заметить, сейчас в одинаковом положении, я ведь тоже понятия не имею, что за оболочку сейчас ношу. Наверняка ведь при переходах из Москвы к себе в созвездие Лиры, оттуда в лагерь просветляемых, потом в личину Юрия, в твою и снова в собственную меня (и тебя тоже) несколько раз разбирали на атомы, перекомпоновывали и снова собирали. Из тех же самых атомов или других, раньше содержащихся в веществе Тунгусского метеорита. Андрея, кстати, тоже. Любая телепортация, как следует из рассуждений Станислава Лема, является полной и окончательной гибелью исходного организма, хотя между распылением и воскресением – доли секунды…
Шульгин в очередной раз усмехнулся.
– Тогда – за воскресение! – Залпом выпил, ни с кем не чокнувшись. Значит, в уме наверняка добавил: «И за помин души – тоже».
Хорошо, если на этом он поставил точку. Жирную.
Вообще Антон совершенно прав – пережив несколько рекомбинаций и реинкарнаций, все мы структурно совсем не те, что были вначале. Так ведь и о любом вообще человеке можно сказать то же самое. Организм полностью обновляется за семь лет, принято считать…
– Вот и слава богу, – умиротворенно произнес Антон, медленно выцеживая свою порцию. Я присоединился, почмокал губами, будто дегустатор, желающий убедиться в подлинности исследуемого образца.
– Теперь, может быть, перейдем к делу? Все предыдущее, как я понимаю, было лишь преамбулой к чему-то? Мы свои роли сыграли, как могли, теперь, по замыслу, должен появиться режиссер и вынести свою оценку?
Режиссер немедленно и появился, будто до этого стоял за кулисами и, не вмешиваясь, наблюдал за ходом прогона.
Тяжелая, украшенная барельефами на морские темы дверь бесшумно раскрылась, в кабинет вошел человек чрезвычайно примечательной наружности. Высокий и широкоплечий, с заметной сединой в темных волосах. Мужественное, будто вырезанное из твердого дерева лицо, украшенное густыми, но соразмерными усами, выражало не только силу характера, но и спокойную доброжелательность. Глаза цвета ружейной стали смотрели внимательно, с едва уловимой хитрецой. Фигуру, стройную, как у кадрового кавалерийского офицера, облекал темно-синий, великолепно сшитый и подогнанный костюм, в стиле ранних шестидесятых, но с ощутимым намеком на тридцатые, а где-то и десятые годы двадцатого века. В целом при взгляде на гостя становилось ясно, что персона это явно неординарная, из старых фамилий, нечто среднее между наследственным пэром Англии, одним из русских великих князей в изгнании или знаменитым Шоном О'Коннори, явившимся для получения «Оскара» или ордена Подвязки.
Мне-то, и Сашке тоже, очевидна нарочитость образа, а в целом – очень хорошо. На Земле среди женщин в возрасте за тридцать он непременно вызвал бы острый интерес, сопровождаемый практическими действиями.
– День добрый, господа, – произнес он великолепно интонированным баритоном, сопроводив слова легким, но величественным наклоном головы, – позволите присоединиться?
В принципе появление столь почтенной личности следовало бы поприветствовать вставанием, но мы изобразили лишь телодвижение в этом направлении, оставшись сидеть в прежних позах.
– Присоединяйтесь, о чем речь, – радушно сказал я. – За столом никто у нас не лишний. Как прикажете величать?
– Арчибальд Арчибальдович, если вы ничего не имеете против, – сообщил гость, занимая свободное кресло.
– Это ты, сволочь, Булгакова недавно перечитывал? – суфлерским шепотом осведомился я у Сашки, одновременно продолжая лучезарно улыбаться джентльмену.
– Не перечитывал. Просто, когда был в Москве, с Юрием, мельком подумал, что можно бы к Булгакову зайти, поддержать от имени партии и правительства, вылечить…
Жаль, что не успел он этого сделать, пользы б наверняка больше было, чем от номенклатурных игрищ. А в память, однако, запало, настолько, что и Замок сумел эту информацию считать…
По-хорошему, нам бы вообще, чем ратными делами и политикой забавляться, следовало, по первоначальной легенде Антона, заняться исключительно гуманитарными акциями. Тот же Сашка действительно, чем с Буданцевым и Лихаревым лясы точить, заглянул бы к Михаилу Афанасьевичу, гомеостат на руку надел, в процессе лечения на разные культурные темы поговорил. Прояснил бы кое-какие неясности в тексте, не до конца нами расшифрованные в процессе чтения журнального варианта «Мастера», который я в библиотеке циничным образом украл в шестьдесят девятом еще году…
А с другой стороны – сделай он это… И остался бы сейчас здоровый Мастер в приторможенной реальности, без всякого выхода во внешний мир. Забрать его, да со всеми любимыми женщинами, к нам в Югороссию? Какой смысл имели бы его антисоветские памфлеты в тамошних условиях? «Собачье сердце», «Роковые яйца» и прочее? В качестве сатир на гримасы троцкистской РСФСР? Не потянуло бы, не сошлось. А весь пафос Великого романа? Опять мимо. Каково, проживая в роскошной квартире, на вилле в любимом Киеве, а хоть бы и в Ялте, перечитывать собственные страницы о той Москве, «Массолите», критиках латунских, и прочем, прочем, прочем…
Осталось бы ему, наподобие Мережковского, апокриф о Христе писать или же на чисто юмористическую линию переключиться. И что? Человека с той же фамилией, именем-отчеством мы бы спасли, а великого писателя? Вопрос…
Тем более что один Булгаков здесь, в Югороссии, уже имелся, писал рассказы о Гражданской войне и своем врачебном прошлом, но чем-то феерическим себя пока не прославил. Наверное, размеренная и сытая жизнь не давала достаточной пищи его таланту. Впрочем, все еще впереди.
С Гумилевым проще получилось. Тот на подобные «вечные вопросы» не завязан. Еще в двадцать первом году, оказавшись в Петрограде в качестве вполне официального лица, я к нему заглянул на квартиру, представился, предложил покровительство, Югоросский паспорт и исполнение любых разумных желаний.
Николай Степанович, в тайны параллельных миров не посвященный, принял меня весьма любезно. А как иначе – он поручик, я – генерал-лейтенант, мало что прославленный в боях, так еще и удостоенный высочайшей из наград, ордена Святого Николая Чудотворца. И еще – наизусть знающий полный корпус его текстов, даже и не написанных еще. О последнем я, разумеется, умолчал.
Точно как в «Моих читателях»:
Он меня великолепно понял, на все предложения согласился, и вскоре, получив почетное гражданство, перебрался в Харьков и принял ни к чему не обязывающий пост директора «института по изучению Африки и сопредельных территорий», с правом самостоятельно определять штаты, цели исследований и объем финансирования. Самое забавное – вся ситуация в целом и придуманная специально для него синекура его нисколько не удивили.
Во мне он увидел прежде всего близкого по духу поэта, тем более что я изложил ему, с некоторыми коррективами, легенду, на которую купились и Врангель, и Колчак. Поверил он в нее искренне или просто согласился поверить – его дело. Обустроился, отдохнул от реалий жизни в стране большевиков и через непродолжительное время выписал себе командировку в Кейптаун. Захотел, наверное, лично убедиться, так ли там интересно, как в моих рассказах и романах Майн Рида и Буссенара. С некоторой стеснительностью спросил, не будет ли сто тысяч золотом чрезмерной суммой на основание и содержание миссии, а также организацию ряда этнографических экспедиций. Я изобразил задумчивость, потом подвинул к себе докладную записку, молча пририсовал к испрашиваемой сумме нолик и подвинул бумагу обратно.
– Чеки направляйте на Русско-Азиатский банк, где они будут учитываться немедленно и беспрекословно…
Но я, как всегда, отвлекся. Не хочу выглядеть лучше, чем есть. Если б мой жест чего-нибудь стоил мне лично, тогда конечно. А так я без всякого ущерба и усилий мог бы и три нуля приписать.
Главное, что Мефистофеля я из себя не изображал, не предлагал нормальному мужику выбор между посмертной легендарной славой и приличной жизнью в свое удовольствие. Что ставлю себе в заслугу.
…Получается, что Замок, изобретая себе «интерфейс» для удобства общения с нами, обратил внимание на Сашкины воспоминания о романе, ознакомился с ним и таким вот образом тонко пошутил. А нам-то что? Будем обращаться, как предложено.
– Ну, тот ваш тезка был ресторатором, а вы себе какую здесь должность придумали? – спросил я.
– Вы сразу догадались? – с долей разочарования спросил Арчибальд. Будем отныне так его и именовать.
– Подумаешь, бином Ньютона, – фыркнул Шульгин, – кем же вы еще могли оказаться? Безвизовый режим, насколько мне известно, у вас пока не введен. Даже для членов нашего Братства. Я теперь снова стал полностью самим собой, помню все три линейки своего бытия. И рад этому, а в особенности благодарен тебе за доброе отношение и высокую оценку наших скромных персон. Ничего, что я перешел на «ты» без брудершафта? Среди друзей так принято.
– Конечно, конечно, мне это лестно…
– Вот и славно. И все же хотелось бы уточнить, в каком качестве ты сам себя видишь сейчас? «Замок» – это слишком обще, и большинство его функций для нас просто недоступны, непостижимы… Общаться мы можем только в адаптированном варианте…
– Совершенно верно. Я сам решил так же и определил себе роль мажордома [33].
– В обоих смыслах? – спросил я.
– Если вы не против, то да. Хотя бы на подконтрольной мне территории…
– Кем же в таком случае нам следует считать себя?
– Для полноты ассоциаций – владетельными баронами, союзниками, почтившими меня своим посещением… На чьи мечи и умную беседу я всегда могу рассчитывать, вьюжной ночью сидя у жаркого камина.
Что ж, можно и так. Мы могли бы оказались поставленными в куда более жесткие рамки. Владетельный барон – он и на короля в определенных обстоятельствах плевать хотел, не то что на его визиря. Учитывая, конечно, каждый раз обстоятельства и соотношение сил.
Однако до чего же навострился механический разум в тонкостях человеческих взаимоотношений и субординаций разбираться!
– Согласны, – за нас обоих ответил Шульгин. Мнения Антона он не спрашивал, даже и не посмотрел в его сторону. – Ну и давай, если назвался, к камину и беседе нас пригласи…
– Не составит труда…
Арчибальд указал на стеновую панель между книжными шкафами. Присмотревшись, можно было различить узкую щель, очерчивающую контур потайной двери. Как-то прежде она не бросалась мне в глаза, а может быть, раньше там ее и не было.
В приличных замках так положено: на каждом шагу замаскированные двери, прозрачные изнутри зеркала, гобелены с дырками для подсматривания, акустические трубы для подслушивания, лестницы и переходы, по которым с равным успехом любовники могут навещать любовниц, а убийцы – жертв.
В нашем случае за дверью оказался типичный, в моем представлении, каминный зал рыцарского, а то и королевского замка, скорее английского, чем французского, века примерно пятнадцатого или даже четырнадцатого.
Аскетизма побольше, голые каменные стены украшены исключительно холодным оружием, щитами с геральдическими знаками неведомых кланов, железными, тронутыми ржавчиной держаками для факелов в простенках. Никаких ковров и прочих излишеств. Грубая, массивная, на вид очень надежная и прочная мебель, пятиметровый сводчатый потолок. Хорошо хоть, пол не каменный, а выложенный деревянными плахами, с разбросанными по ним шкурами, медвежьими по преимуществу.
Камин в полтора человеческих роста был разожжен заблаговременно, потому что часть дров уже превратилась в алые, изнутри светящиеся головни, сохраняющие исходную форму, а верхние еще горели высокими языками пламени, временами громко потрескивая и стреляя фонтанами искр. Но тепло распространялось не более чем на два-три метра от ограждающей огонь решетки, в остальном пространстве зала температура держалась градусов около десяти-двенадцати. Да еще и сквозняки тянули со всех сторон. Вот они, бытовые прелести романтической эпохи феодализма в их реальном выражении.
Для защиты от сквозняков и сбережения тепла в зоне комфорта вокруг камина и обеденного стола были расставлены высокие ширмы из плотной ткани. Кое-какая польза от них была, но не помешала бы и одежда поплотнее, кожаная или домотканого шинельного сукна.
Погода за окнами тоже была под стать эпохе. Как там это называлось – большой климатический минимум или малый ледниковый период? Тогда снега на Альбионе валили, как в Якутии, Темза замерзала, голландские каналы и даже Черное море от Одессы до Констанцы.
В окна хлестала полноценная метель, и я представляю, как тогдашние путники, не имеющие должной генетической памяти, пробирались по дорогам от таверны к таверне и от замка к замку, кутаясь в не слишком приспособленные к этому климату суконные плащи. До бараньих полушубков и бобровых шуб они так и не додумались, невзирая на то что овец в Англии было побольше, чем в России той же эпохи.
– Хорошо, – протянул Сашка, ногой подвигая кресло ближе к огню. – Чем угощать изволите, Арчибальд Арчибальдович? По такому случаю и избранному облику. Что в вашем ресторане подают? И с напитками как? Грог, ром, виски?
– Да что пожелаете! Порционные судачки «а натюрель», стерлядь в серебристой кастрюльке, переложенная раковыми шейками и свежей икрой. Яйца-кокотт с шампиньоновым пюре в чашечках. Филейчики из дроздов с трюфелями. Перепела по-генуэзски. Суп-прентаньер. Дупеля, гаршнепы, бекасы, вальдшнепы, перепела, кулики? – ответил Арчибальд, хлопнув в ладоши.
Цитата была почти дословно точной, аж слюна начала собираться во рту и ладони зачесались, требуя, чтобы их потерли в предвкушении.
Немедленно появились соответственно одетые слуги, ловко несущие серебряные (не иначе) подносы с многими из объявленных яств, корзины с бутылками, кувшины, бочоночки, столовые приборы и салфетки, приближающиеся размерами к полотенцам.
Мы в нашей европейской, на четыреста с лишним лет опережающей моду одежде выглядели здесь не совсем уместно.
Но это несущественно. Слушая свист ветра в дымоходах, жестяной шелест снежинок по стеклам, наслаждаясь атавистическим чувством защищенности от буйства стихий и враждебного мира, начинающегося сразу за стенами, мы, сдвинув бокалы с по-настоящему горячим грогом (теперь понятно, отчего англичане его придумали), начали наконец говорить о главном.
Арчибальд вкратце повторил ту оценку обстановки, которую излагал Антону, когда они встретились и вступили в контакт после его освобождения из узилища [34]. В общих чертах мы ее знали от Антона. На нашу Землю пытается проторить дорогу возникшая давным-давно на параллельной «Земле-икс» двуединая симбионтная цивилизация двух рас. Генетически те и другие были гуманоидами, но одни – мыслящими, пусть и весьма своеобразно, а другие («монстры») по своей нервно-психической структуре больше походили на насекомых. Инстинкты им заменяли разум. Изучая разрозненную, часто противоречивую информацию и выстраивая на этой шаткой базе сравнительно непротиворечивую гипотезу, Арчибальд решил, что конечной целью «дуггуров» является тотальная оккупация всего веера «наших» реальностей. Ближайшей, обеспечивающей задачей – устранение тех, кто может возглавить сопротивление. Нашего Братства, Антона, само собой, и немногочисленных аггрианских агентов, еще оставшихся на Главной исторической последовательности и в ее окрестностях.
Кое-что, естественно, с момента первой после освобождения встречи друга-форзейля с Замком, изменилось. Образовалась своеобразная петля гистерезиса [35], возникшая вследствие учиненного нами замыкания Шульгина будущего на себя же предыдущего, да и Антона тоже в какой-то мере.
У них сохранились воспоминания о том, что могло бы случиться при ином (однажды уже случившемся) развитии событий. Это как тогда, в Москве, мы фактически попали ночью на Иркиной машине под удар мчавшегося без огней грузовика, и тут же она за долю секунды отыграла этот момент назад, мы отделались только выбитой фарой. И поехали дальше по своим делам, хотя по сути и смыслу процесса должны были бы лежать в морге на обитых цинком столах. А может, где-то и лежали…
Сейчас же фактически получалось так, что касающаяся нас развилка тридцать восьмого года устранена. Шестаков остался в Барселоне в своем естественном качестве, и сумеет ли он, руководствуясь только своим здравым смыслом и способностями, самостоятельно выиграть испанскую кампанию – большой вопрос. Но нас это заботить не должно. Важнее то, что Шульгин больше не странствовал по узлам Сети и порожденным частично Ловушкой, частично волею Замка квазиподлинным мирам, и Ростокин, соответственно, тоже вернулся домой до того, как вместе с княжной поучаствовал в боях с татаро-монголами, и в 2056-м никакой встречи его и Шульгина с Маркиным и Суздалевым не состоялось.
Самое же главное – есть все основания надеяться, что пресловутые и загадочные дуггуры теперь не смогут просочиться в наши реальности, ибо никаких данных о случаях их вторжения раньше начала шульгинских безобразий в Сети не имеется. Вот такой фокус, парадокс или просто антиномия [36].
– И что же из этого вытекает? – безмятежно спросил я, дожевав кусок душистой и нежной баранины, приготовленной по ныне забытому рецепту. Вытер руки и губы полотняной салфеткой. – Ке фер? Фер-то – ке? [37]
Антон, к моему и Сашкиному удивлению, держался очень скованно. В разговоре почти не участвовал, ел и пил так только, для вида. Мысли его тяжкие гнели, не было в происходящем для него собственного интереса или предусмотренной сценарием самостоятельной роли?
Арчибальд же, наоборот, был весел и оживлен, насколько это возможно при избранном образе. Непринужденно веселящийся Джеймс Бонд – трудно представить? Причем разговаривающий по-русски, с таким количеством нарочитых отступлений от академичности, которое себе может позволить только коренной и великолепно образованный «носитель языка». А что ему? Он всю русскую литературу с древнейших времен мог от корки до корки прочитать и наизусть выучить, со всеми последующими комментариями. Другое дело – насколько именно понять и понять ли вообще. Все равно ведь машина…
– Да вот мы как раз к сути и подъехали. Что пожелаем, то и сделаем. В пределах моей юрисдикции с вами ничего плохого случиться больше не может, живите на здоровье сто двадцать лет.
– Уточни, что именно включают себя эти пределы? – вежливо попросил Шульгин.
– Сам Замок и прилегающие территории в том временном континууме, в котором мы сейчас находимся. Здесь совсем безопасно. В остальной части Ойкумены я таких гарантий дать не могу, но возможность проникновения врагов именно сюда достаточно мала…
– Угу, – кивнул я. – А наш двадцать пятый год, с того момента как Антон посетил меня для конфиденциальной и взаимоинтересной беседы? С ним все в порядке? Перемыкание с тридцать восьмым непосредственно в момент очередного визита дуггуров и славная над ними виктория не может возыметь нежелательных последствий?
– Надеюсь, – с едва уловимой ноткой сомнения ответил Арчибальд. – Тут одна маленькая хитрость безоблачную картину портит… О чем я и хочу с вами поговорить.
Глава десятая
– Ну, как обычно, – сказал я, вложив в голос всю доступную мне иронию. – Непременно в самый интересный момент появляется какая-нибудь маленькая загвоздочка, и все начинается по новой. Разве не так, коллега? – обратился я к Антону. – Хоть раз бывало, чтобы мы сделали какое-нибудь дело, к которому у тебя возникал внезапный интерес, подвели черту и благополучно разошлись?
– А чего же ты хочешь, брат? Несколько даже странно слышать столь наивный вопрос из уст взрослого, по общему мнению – неглупого человека. Вы же не в скиту сибирском от мирской жизни и козней дьявола спасаетесь. Да и там, по-моему, третий закон Ньютона никто не отменял. Любой шаг вверх открывает новые горизонты с соответствующими последствиями.
Тут он, безусловно, прав, я и сам прекрасно понимал, что до тех пор, пока ты жив, любое твое действие (ход на шахматной доске) вызывает целый спектр новых возможностей, вариантов и противодействий. Только отчего-то у нас сплошной цугцванг все время получается. Однако, с другой стороны, каким-то образом мы все время выпутываемся. С постоянным риском проходим по самому краешку, получаем массу новых впечатлений, да и жизнь на подконтрольных нам территориях складывается вполне благополучно. То есть в каждом предыдущем случае цугцванг каким-то образом оборачивался выигранной партией. Ну, совершенно по Алехину.
И все равно манера Антона вместе с его Замком порядочно меня раздражала, и чем дальше, тем больше.
– Да мы-то в ваших делах при чем? Спасли мы соединенными усилиями в очередной раз мироздание, ну и давайте на сем успокоимся. Или хотя бы нас оставьте в покое. Неужели со своими «загвоздочками», «закавыками» и прочими «загогулинами» такие крутые парни, как вы, сами разобраться не могут? А я бы предпочел немедленно в сопровождении жены и вновь обретенного друга отбыть в Новую Зеландию, морем, на «Призраке», что, кстати, состояло главным условием нашей «сделки», и заняться там игрой в гольф и охотой на вальдшнепов. (Черт его знает, водятся на островах на самом деле вальдшнепы или нет, но звучит красиво, вполне подходящее занятие для потомственного аристократа.)
– И чтобы роботы остались в нашем полном распоряжении, старые, и еще штук тридцать добавить неплохо. Неудобно каждый раз у Воронцова «батраков» выпрашивать, – добавил Сашка.
– Никаких возражений. – Арчибальд выражал на лице полное согласие с моими словами и всемерную готовность споспешествовать. – Мы на самом деле можем только приветствовать ваше желание удалиться от дел и посвятить себя тихим радостям жизни. Что может быть лучше – отдыхать, ничем не омрачаясь, перечитать на досуге что-нибудь вроде «Записок об ужении рыбы» и «Записок ружейного охотника» господина Аксакова. Сбор грибов также много способствует восстановлению пошатнувшейся нервной системы…
Издеваться изволит! Чересчур очеловечился, Арчибальд Тьюрингович, так бы ему правильнее было называться. Только вот к чему он клонит?
А тот продолжал:
– И никаких препятствий к этому нет, я без всякой задней мысли говорю. Ты, Александр, свою часть задачи выполнил выше всяческих похвал. В узлах Сети талантливо поработал, «лабиринт» прошел, друга нашего Антона к нормальной жизни вернул. Главное же – вы с ним дуггурам достойный отпор дали…
– Как там они, кстати? – вмешался Сашка, интерес которого к окружающей жизни возвращался на глазах. – Начали давать показания?
– Увы, к глубочайшему сожалению, мои успехи в изучении этих интересных существ исчезающе малы. Я только-только начал подбирать ключи к их странной психике, ни с чем подобным раньше сталкиваться не приходилось. В очень сильном приближении подобное устройство мозга и нервной системы можно сравнить с тем, что отмечалось исследователями у псевдогуманоидов одной отдаленной Галактики. Но те не поднялись выше примитивной, чисто биологической, на уровне земных ос «цивилизации». Здесь иное, здесь полноценная, техно-магическая, я бы так выразился, культура, использующая наряду с огнестрельным оружием межфазовые переходы и психотронику пока неизвестного нам механизма действия. Люди и дуггуры в области мыслительных процессов совместимы примерно так же, как армейский полевой телефон с мобильным двадцать первого века.
– Мне показалось, что они, со своей стороны, постигли нас гораздо лучше. По крайней мере, ориентируются в человеческом мире достаточно свободно, – заметил Шульгин, и мы с Антоном дружно кивнули. Впечатление совпало. Чтобы организовать правильный штурм здания, защищаемого войсками очень развитой в военном отношении армии, нужно разбираться в достаточно широком спектре земных реалий. Включая знание топографии, архитектуры, тактики и анатомии.
– Убедительного капитана НКГБ вместе с машиной и говорящими по-русски сотрудниками сотворить – тоже нужно уметь, – сказал Антон, почувствовав исходящий от меня импульс. – Мы, пожалуй, командира «летающей медузы» изобразить не сможем…
– Командира кайзеровской подводной лодки – тоже, – добавил Сашка.
– А кто тебе сказал, что тот капитан – произведение дуггуров? – вскинулся Арчибальд. – Вполне мог оказаться настоящим, приехавшим по своему делу… Совпало так.
– Святое дело. – Шульгин откровенно веселился. – За мной – наркомом лейтенанта прислали, а за бродягой, в канализацию лезущим, – капитана.
Тут уже я вступил:
– Свободно так и могло быть. Курирующему Арбат капитану проще появиться на объекте, чем творению даже вам непонятных существ… Мне уже надоело всуе поминать бедного монаха Оккама.
Шульгин постепенно восстанавливал лучшие черты своих личностей.
– Как бы там ни было, факт одновременного появления в одном месте и в одно время Антона, неизвестно откуда и зачем выдернутого, наряда НКГБ, дуггуровской «медузы» плюс белогвардейцев с пулеметом очень тянет на перебор, – сказал он. – У вас это не вызывает легкого удивления?
Показалось, наши хозяева и собеседники не то чтобы смешались, а отчетливо потеряли кураж.
Я давным-давно отработанным жестом пальцев, сейчас опущенных ниже подлокотника кресла, показал Сашке, что – хватит. Тема обозначена, пусть теперь наши партнеры сами развивают свои онтологические проблемы.
Стараясь выглядеть грубым, слегка жестоким, как и полагается офицеру воюющей армии, я предложил Арчибальду:
– Давай пленников, поговорю. Ни разу не случалось, чтобы мне не отвечали, когда я спрашивал. Непреклонные герои только в сказках соцреализма водятся. Какие бы у них ни были мозги, кристаллические, гидрофильные, пластмассовые – в обычной жизни способы есть. Паяльником, электротоком, химией, убеждением, наконец… Проводи меня к ним. Александр Иванович тоже не против выяснить, что же они в Барселоне делали…
– Я очень тебя понимаю, – сказал Арчибальд, и по его лицу было видно, что не прочь бы он войти со мной в расстрельный подвал с «наганом» в руке, но чтобы я шел первым и в наручниках. – Только разговаривать не с кем. В том смысле, что исчезли они. Как только вы парадокс устранили, пленники немедленно… исчезли.
Здесь и Антон слегка опешил.
– Но ты же говорил, что из силовых коконов и через барьер нулевого времени им не выбраться…
– Говорил. А они и не выбирались. Их здесь теперь просто не было. Еще не было.
Ход мысли Арчибальда, которую он нам вкручивал, понятен. Раз мы действительно «отмотали пленку назад», дуггуров здесь (там) и вправду быть не должно. Но появиться могут. Тем или иным способом. Возможности их якобы неведомы ни Замку, ни Антону. Единственный приемлемый для нас и всей Земли вариант и надежда – что они не смогут выбраться из той самой, теперь – гипотетической, закукленной реальности. Захотят и дальше резвиться – пожалуйста, но в строго отведенном месте…
Беда в том, мы с Сашкой это четко понимали – Арчибальд как таковой и весь Замок в целом лишены главного – творческой интуиции и полета фантазии. Просчитывать развитие процессов по экспоненте и перебирать варианты – сколько угодно, а вот догадаться, на что способна многотысячелетняя цивилизация, живущая по неизвестным нам законам и руководствующаяся даже приблизительно не изученными логиками, – они пас.
Это как с самым совершенным шахматным автоматом. Одного гроссмейстера, самого чемпиона мира стиля Ботвинника или Ласкера, он, теоретически, обыграть может, но если против него выставить команду из десятка (я не говорю о тысячах) гроссмейстеров, мыслящих подобно Капабланке, Талю и Фишеру (если бы они были способны к командной игре), – ему труба.
Мы, в свою очередь, вообразить можем все, что угодно, но информационно – слепцы в темной комнате. Единственный наш шанс – изобрести какую-нибудь хитрейшую мыслеформу…
Мыслеформа тут же и появилась. У меня, а Сашке и объяснять не нужно, сам догадается, как догадывался, кого бить первым в драке против десятка молодых оболтусов на перроне станции Бирюлево-товарная.
Ловят нас, как я догадался, на дешевую туфту. За Антона не скажу, а Арчибальд-Замок явно придумал остроумную, на его взгляд, комбинацию. Чтобы доказать (нам – не знаю, а себе – наверняка), что превзошел он человеческие и потусторонние замыслы и способности. Что теперь он – «Король горы», а мы так, по нужде в степь вышли.
Параллельно я подумал, а не собирается ли Арчибальд предложить нам нечто вроде рейда в мир дуггуров? С него станется, ибо он, по определению, знает, что такое нравственность и гуманизм, но целесообразность для него наверняка приоритетнее…
Ну уж нет, на такое я подписываться не собираюсь!
Так я и сказал, а Шульгин, промолчав, кивнул согласно.
– Нет, нет и нет! Даже мысли подобной мне в голову не приходило, – всплеснул Арчибальд руками, но в глазах мелькнуло нечто.
Вот именно, «не приходило», по той же самой причине, а теперь, с моей подсказки, глядишь, и пришло.
– Все обстоит совершенно наоборот. Ни о каком привлечении вас к активным действиям и речи нет. Просто, проанализировав все имевшие место, хотя пока и не случившиеся факты с участием дуггуров…
– Так уж совсем не случившиеся? – снова перебил его Сашка. – А сегодня Антон с кем сражался, чуть не устроил в Москве тектоническую катастрофу, а может, и устроил? Как же быть с очень давним, до всякого разделения временных линий приключением «Юрия»? Он тогда был полноценным резидентом аггров и жил в самом нормальном мире…
Арчибальд снисходительно усмехнулся.
– Ты и Антон встретились с ним где? А главное – когда? На той самой ветке, где ты существовал в качестве Шестакова после того, как посредством матрицы успел деформировать реальность. И с леди Спенсер обошелся известным образом…
– Это, между прочим, ничего не доказывает, – не уступал Шульгин. Согласен, Антон в том своем качестве и в настоящем времени о приключении Юрия в энном году знать не мог. Это нормально. Лично ему монстры во плоти не являлись. О причине судить не берусь. Сильвия, Дайяна, Ирина и прочие из их клана тоже ни с чем таким на протяжении пятидесяти лет не сталкивались. Но ведь все равно…
«Юрий» – аггрианин, или Юрий «З-О», существовал в нашем настоящем, книжки я его читал, не будучи еще никаким Шестаковым. Определенная сумасшедшинка в тех книгах чувствовалась. Да и подлинная биография… Врагу не пожелаешь. Вполне можно вообразить, что он как раз тот, за кого себя выдает. Так, может быть, дуггуры после первой попытки его устранить просто тайм-аут взяли? Особенно если принять, что в наших (их) обстоятельствах час, год, век – все едино? И повторяю – последний бой Антона случился, когда уже я и Андрей на «Призраке» были. Это – куда пристроишь?
– Так, да не совсем, – вместо Арчибальда ответил Антон. – Когда я за гомеостатом ушел, Александр решения еще не принял, реальность оставалась подвешенной, и внутри ее у Юрия могли иметься воспоминания, не совсем совпадающие с действительностью. Пусть лишь только именно в этом вопросе…
Так же и дуггуры – могу вообразить: дали нам свой последний бой, уже зная о предстоящем изменении, в отчаянной надежде его не допустить. Очень ведь складно выходит! Персонажи означенной истории каким-то образом друг с другом связаны. И связь прослеживается интересная. Если вообразить, что дуггуры в состоянии видеть прошлое и будущее или даже воспринимать в качестве настоящего гораздо большие временны#е отрезки, чем мы, они могли попытаться захватить в плен Юрия. Не знаю, в чем именно его ценность для них, но факт имел место. Что это не вымысел – очевидно. Он очень похоже их обрисовал, какими они были до того, как мы с ними лично повидались. Вплоть до ментального запаха.
Получается, они собирались его использовать, чтобы не допустить появления на Земле Ирины, ее контакта с вами, со мной, внедрения Александра в Шестакова и так далее… Будем считать, что вся эта цепь событий непонятным образом нарушала крайне важные для них планы…
– Плохо сходится, – возразил я. – Единственный раз они показались Юрию в четырнадцатом году (случайно ли, кстати, перед самой войной?) и исчезли на двадцать с лишним лет. К Лихареву никакого интереса не проявляли. Активизировались только с появлением Шульгина. И немедленно развили бешеную активность. Почему так?
– Если бы я мог представить логику их поведения, у нас бы вообще не было темы для разговора… Хочешь, я навскидку придумаю десяток объяснений, только все они останутся в кругу именно наших представлений. Мы даже не в силах сообразить, какой вопрос нужно задавать: «почему» или «зачем»…
Более-менее очевидно одно – они активизировались после того, как Александр вплотную занялся Испанией…
– Или – последний раз залез в Сеть и что-то там перемкнул, – предположил я. – Объяснение не хуже прочих. Скажем, Игроки заблокировали некую ячейку, не позволявшую дуггурам проникать на Главную историческую, а сейчас стопор соскочил, вот они и полезли… А ты, Антон, им совершенно не нужен. Ты тоже влез в чужую игру…
– Или я стал им нужен, засветившись при встрече. Или они охотились не за мной, а за гомеостатом. Или реальность открывается им, только когда в ней находится кто-то из вас, кандидатов… Гипотезы можно множить до бесконечности. Оттого сейчас и предлагается вам…
– «Никого не будить…» – Это я процитировал слова подполковника Исмаил-хана Нахичеванского из романа Пикуля «Баязет». По-моему – очень к месту. Только, кроме Шульгина, никто тонкости ассоциации не понял. И Арчибальд и Антон взглянули на меня с долей недоумения. Чего это, мол, с ним?
Но вникать и задавать лишних вопросов не стали.
– Предлагается вам, – принял эстафету у Антона Арчибальд, – провести нечто вроде натурного эксперимента. Всем, кто тем или иным образом помечен причастностью к делу, – скрыться из всех миров, где вы наследили, на достаточно продолжительное время. В том, что дуггуры очень быстро разберутся (или уже разобрались) в подлинной, тупиковой сущности реальности-38, которую вы с таким шумом покинули, лично у меня сомнений нет. После чего непременно двинутся по вашим следам, откроют на вас охоту. Чтобы отомстить, если понятие мести им вообще известно, а вернее всего – чтобы устранить как единственную силу, способную им противостоять.
– Не совсем очевидно, – возразил я. – В предложенной версии. Я так понимаю, ты заявил, что, несмотря на принятые меры, они в состоянии выбраться из изолята, проникнуть и на ГИП, и в любую из освоенных нами параллелей. Это слегка расходится с предыдущими рассуждениями. Или ты знаешь больше, чем говоришь, или – просто запутался в собственных силлогизмах…
– Я просто учусь у вас. Вы ведь любите подстраховываться. Антон столько лет прожил на Земле, а сделать этого не догадался и попал туда, куда попал. Вот бы ему заблаговременно пригласить вас двоих поприсутствовать в соседней комнате при беседе с чиновником Департамента… – Он искренне рассмеялся. – Могло бы получиться очень интересно. Для всех.
Мы с Сашкой тоже вежливо улыбнулись. И в самом деле, пригласил бы – не отказались. С вытекающими последствиями для Департамента, а то и Конфедерации как таковой, если грамотно все обставить.
– Рад, что вы со мной согласны. Итак, возможность появления дуггуров в наших временах и пространствах больше нуля. Это первое. Опыт предыдущих встреч наверняка ими изучен и принят во внимание. Это второе. Из чего вытекает третье – у них имеется реальная возможность, не повторяя прежних ошибок, разделаться с каждым из вас поодиночке или, выбрав подходящий момент, со всеми сразу.
Учтите, мы даже не разобрались в сущности «бокового времени». Если они его создали или просто научились владеть им лучше нас, последствия кажутся мне печальными…
– Значит, там имеются специалисты или устройства, намного превосходящие тебя в объеме знаний и аналитических способностей, – без всякой подначки констатировал Шульгин.
– Не исключаю, – спокойно согласился Арчибальд. – И до тех пор, пока не достигнуто объективное знание, предпочитаю принять все доступные меры предосторожности. Пусть они могут показаться избыточными…
– Предположим, мы спрячемся в надежном месте. А что они? Поищут немного, убедятся, что опасные враги исчезли, и вернутся восвояси… Где будет нанесен следующий удар, мы не знаем. Какой он будет мощности – тоже. В их распоряжении весь веер реальностей. Зачем они им – другой вопрос. Не умнее ли будет, наоборот, держать наши «ударные силы», материальные и мистические, в кулаке, базируясь хотя бы и в Замке. Будем готовиться к битве, изучать вопрос, ведя параллельно поисковые, а то и провоцирующие операции. Мы же можем рассчитывать, что эта крепость действительно неприступна? Во всех смыслах? – спросил я.
– Абсолютно, – с законной гордостью ответил Арчибальд. – Мы для стороннего наблюдателя, если таковой имеется где-то там, – он указал пальцем на теряющийся в полумраке потолок, – существуем в пределах одного-единственного кванта времени, затерянного среди бесконечного количества подобных. Информационный пакет, замаскированный под песчинку в Сахаре, без всяких отличительных признаков. Проход «наружу» можем открыть только мы сами, когда и куда потребуется, причем со всеми предосторожностями. Мышь не проскользнет, не говоря о прочих объектах…
– Хорошо, коли так. Приятно чувствовать себя в полной безопасности, – сказал Шульгин, снова посмотрел в окно. Крупные снежинки бились о стекло, как мотыльки, летящие на свет фонаря.
– А относительно тактики… Я все-таки кое-что успел выяснить касательно нравов, повадок и обычаев нашего нынешнего неприятеля. Увы, очень и очень мало, чтобы делать основательные выводы и строить на них долговременную политику, но тем не менее. Есть основания предполагать, что они предпочитают методику инвазии [38], отнюдь не массированного вооруженного вторжения…
– А Барселона? – вскинулся Сашка. – А их атака на Антона?
– Думаю – особый случай. Может быть, разведка боем, может быть – эксперимент, отработка новой для них стратегии. Или же действия в условиях крайней необходимости. Откуда я знаю, вдруг твой огневой контакт на планете «Зима» был воспринят как наша агрессия на их исконную территорию? Или ты показался им (а то и был на самом деле) нашим разведчиком, добывавшим жизненно важную информацию… Мы ведь не знаем предыстории. Что ты там успел натворить…
– Так «показался» или «был»? Это ведь ты сам устроил мне веселенькую прогулку…
– Не я! – Арчибальд сделал протестующий жест. – Сеть, Ловушка, Игроки… Я вмешался, когда эпизод уже разыгрывался. Перехватил управление фабулой действа, подправил сюжет в нужном мне направлении, вывел тебя на Антона… Завязка этой увлекательной истории мне до сих пор неизвестна. Я ведь на самом деле всего лишь интеллектронный механизм, счетно-решающее устройство, не Бог, не Держатель. Мыслители у нас – вы, вам и карты в руки…
– А вариант моего «экзитуса» [39] тоже ты подкинул? – Эта тема продолжала Сашку волновать, хотя чего бы, казалось? Именно такая смерть ему теперь не грозит ни в коем случае…
Впрочем! Мне подумалось, что приключись сейчас или в обозримом будущем возвращение в «исходную точку»… Только что мы проделали нечто подобное, на меньшую, правда, дистанцию… А если бы там, внутри своего бреда или Ловушки, ему удалось выйти на ночную ессентукскую улицу, а не на планету дуггуров? Она и привела бы его к показанной картинке собственной кончины. Другое дело, своей ли волей он сумел сделать выбор, подсознательно держа в памяти предсказание «Книги перемен», или его подтолкнул к выигрышной развилке кто-то внешний? Нельзя исключить и того, что его просто припугнули.
– Нет, Александр, тоже не я. Сказал же – я вообще обнаружил тебя почти случайно. Как радиолюбитель на сигнал SOS, поданный Нобиле [40], наткнулся… (Надо же, какое сравнение подобрал. Впрочем, в тридцатые годы эта тема была очень свежа. И, по отечественной традиции, немедленно обросла анекдотами. Например, по причине слабости тогдашних систем связи, в Ленинграде какое-то время было запрещено передавать телеграммы, не связанные с поисками пропавшей экспедиции. Народ тут же отреагировал. «Приходит нэпман на телеграф, подает девушке бланк. Там написано – „В Одессу. Мойша, срочно ищи Нобиле. Не найдешь Нобиле, ищи муку“.)
– Ладно, оставим это, – кивнул Сашка, очевидно, пришедший к мысли, аналогичной моей. – Продолжай…
– Продолжаю, – кивнул Арчибальд. – В известной нам истории Барселона – первый и единственный случай массированного вооруженного вторжения. Все остальные, если и были, прошли незамеченными…
– В две тысячи пятом не они руку приложили к московскому путчу? – заинтересовался я. Мы ведь так и не сумели докопаться до первоисточника той авантюры. По вершкам прошлись. И – «боковое время»? Отнюдь не выглядит глупостью мысль о том, что оно как раз и есть порождение дуггуров или используется ими с гораздо большей эффективностью и пониманием сути процессов.
– Так далеко я не забирался, я все больше в двадцатом веке, – извиняющимся тоном ответил Арчибальд. – Другое дело, не надо было мне спешить, еще бы день-другой Антона с Александром в Лондоне подержать, тебя – в Крыму. Я бы за это время наверняка значащую информацию из пленников вытащил…
Совершенно по-человечески это у него получилось. Ну, не сообразил, маху дал, два фактора не сопоставил, «не проинтуичил», как мы в студенческие годы говорили, вот «языки» и смылись. У серьезных разведчиков и не такие промахи бывают, а тут – машина бесчувственная, едва-едва начавшая социализироваться.
А там, конечно, кто его знает? Где ошибка, где свой расчет…
Арчибальд тем временем продолжил развивать свой стратегический план.
– Прошлый раз, когда Антону поступил приказ на вашу ликвидацию и мое отключение, мы с ним нашли выход. Вы согласились уйти на другую линию и сидеть там тихо. В чужие дела не соваться. Так?
Что тут возразишь?
– Вы этого условия не выполнили… Пока просто с красными воевали и новый белый режим устанавливали, все было относительно нормально. Но вы ведь и там самостоятельно в Сеть влезать начали, созданием мыслеформ упражняться. В тоге временнэю ткань раздергали, последующие большие и малые беспорядки спровоцировали…
– А то мы сами все это делали! У него вон спроси. – Сашка пальцем указал на Антона.
– Было, всяко было, – согласился тот. – Иногда вас выручал, иногда свои задачи с вашей помощью решал. Тоже ведь не всегда знал, куда все оборачивается. Надеялся: и там свое положение поддержать и упрочить смогу, и здесь запасной аэродром сохраню. Очень тебя, Замок, бросать не хотелось. Другого на всех Ста мирах мне больше не полагалось…
Арчибальд легким наклоном головы изобразил признательность.
– Да, наверное, и Игроки под руку подталкивали, не так ли? Ты же часто от их имени говорил и действовал, – то ли поддержал, то ли упрекнул форзейля Шульгин.
– Куда денешься, мы люди подневольные…
– Небось они же тебя и сдали, – констатировал я.
– Сомневаюсь. Впрямую меня сдавать им смысла не было. Скорее в какой-то момент я перестал представлять для них интерес. Игра вступила в какую-то новую фазу. Они просто перестали меня защищать, как оставляют хорошо укрепленные, но при сокращении линии фронта бесполезные позиции. Тут меня и сцапали подручные кого-то из Облеченных Доверием… Слишком многим я сумел досадить.
– Оставим это, дело прошлое, – предложил я, – слишком мы долго на месте топчемся, а дело не двигается.
– Куда нам спешить, – пожал плечами Арчибальд. – Наша беседа сама по себе доставляет мне огромное удовольствие. Я обогащаюсь вашими мыслями и идеями. Вы уточняет для себя многие неясности, оттачиваете разум, и все мы наслаждаемся роскошью человеческого общения…
Во до каких высот поднялся за несколько независимых часов бывший «вспомогательный инструмент»!
– Что же касается идеи Андрея, то я ее предвидел. Только зачем нам проявлять активность, организуя время от времени провоцирующие операции, если мы о враге ничего не знаем как следует? Зачем подставляться, рискуя попасть под удар неизвестной силы с неизвестного направления? Несколько раз вы вовремя среагировали на локальные покушения, как минимум дважды отбились от массированной атаки. Кто поручится, что атака Барселонского типа, но куда большей мощности не будет нанесена по новозеландскому форту? Ну и московские события 2005-го не станем со счетов сбрасывать. Я не зря говорил о «разведке боем». Это очень распространенный на Земле тактический прием. Допустим, дуггуры именно ее и провели. Получили полноценную информацию о ваших боевых возможностях и принципах действий. Учли все это в своих планах и следующий раз поступят неожиданным для нас способом…
– Не лишено, – согласился Шульгин.
– Спасибо. Вот я и решил устроить для них ловушку второго порядка. Приняв как данность, что главным раздражающим или, наоборот, привлекающим фактором являетесь именно вы. Не только вы трое, – широким жестом он указал на нас с Сашкой и Антона, – вообще все люди, причастные к тайнам Сети и иным цивилизациям Вселенной. Круг слегка расширяется, но он все равно… по пальцам посчитать. Вы являетесь достаточно мощной силой, препятствующей экспансии, – как же, мировыми линиями играете, реальности создаете и ликвидируете, по временам прыгаете, как вши на аркане…
(В самом деле, ни одного факта появления дуггуров или иной силы неизвестного происхождения и свойств за пределами зоны нашего непосредственного влияния, не отмечалось в человеческих анналах. Тридцать восьмой – тут все на блюдечке. 2005-й – есть основания предполагать. А если сюда же подверстать так и не объясненный эпизод с нападением на «Призрак» торпедных катеров? Есть о чем поразмыслить!)
Шульгин на слова Арчибальда громко фыркнул, а я, сдержавшись, деликатно поправил:
– Вши не прыгают, тем более на аркане, прыгают, и довольно неплохо, исключительно блохи. С помощью пружинящего вещества ризелин, играющего роль накопителя энергии и одновременно амортизатора. Нам бы так. Сравнение же с вошью – русским менталитетом почитается за оскорбление…
– И за козла ответишь, – добавил Сашка.
– Ах, простите, простите. Это у меня несколько пословиц и поговорок перепуталось. Исключительно по неопытности. Я ведь только учусь…
Точно – изобилие информации при неотлаженных фидерах вполне может проявляться в таких эффектах. А если то же повторится в критических ситуациях? Моя б воля, завязывать нужно с такими друзьями-приятелями. Скажут при случае в пустой след: «Ах, простите, мы как-то упустили, что для существа вашего биологического типа воздействие разряда электричества в десять киловольт/сто ампер выходит за пределы зоны комфорта! Следующий раз не ошибемся…»
Но слушать, что Арчибальд дальше набуровит, все равно надо. Многие наши беды происходили оттого, что слова и предложения Антона мы воспринимали через призму собственной, сформировавшейся именно в советские времена психологии.
Сейчас мы, конечно, слегка поумнели.
– Как бы там ни было, есть идея – реальность-»38 прим» временно, а то и навсегда с обсуждения снять. Очень жаль, что ваши друзья успели там так грубо отметиться. Боюсь, как бы след их канала не стал путеводной нитью. Реальности-2005 и 2056 пока предоставить собственной судьбе, организовав, там, однако, постоянное наблюдение. А вот на ГИП от 1920-го до 1984-го расставить ваши маячки. Те самые, что некогда Антон передал вам для отвлечения внимания аггров. Теперь мы используем их для привлечения…
– Приманка. Никого из вас в обозримых реальностях не останется, а все маячки будут со страшной силой кричать: «Мы здесь, мы здесь!» – из зон, которые мы плотно возьмем под контроль. Очень надеюсь, что кто-то непременно на этот зов придет. Вот тут мы их и… По-настоящему!
Взгляд и весь облик Арчибальда изображал неприкрытый азарт.
– Хорошо, – сказал Шульгин.
Я видел, что он давно уже устал от бесконечных разговоров, пережив серию труднейших для психики упражнений, и при всем его мужестве и упорстве, наверняка мечтает лишь об одном: закрыть тему, завершить ужин подобающим антуражу образом. Потребовать музыки, барышень, исполняющих танец живота или половецкие пляски, напиться как следует, отключив гомеостат, потом, может, еще и партийку в бильярд сгонять на деньги, а совсем потом – спать часов двадцать без сновидений в комнате, сугубо изолированной от всего.
Вот пробудившись и умывшись, он сочтет себя в готовности принимать ответственные решения, я его знаю…
Себя я чувствовал пободрее, но и мне осточертело.
– Короче – что требуется лично от нас, здесь присутствующих? – вяло спросил я Арчибальда. – Пока улавливается только черновик идеи. Лечь на дно. Спрятаться так, чтобы никакими средствами не нашли. Мы бы и не против – давно пора отдохнуть. Вопрос – куда и как? Что, всем кагалом снова в Замок перебираться? Или форт в Зеландии колпаком накроете? А то – на Валгаллу? Ты уже определил?
– Можете своих друзей вызвать в Замок – в любой момент. Только смысла никакого. Хоть сто лет здесь просидите – на Земле ничего не успеет произойти. И дуггуры не появятся. Включившись же в поток времени в его нормальном темпе, мы станем видны и уязвимы. Я, как вы понимаете, не могу допустить, чтобы враг напал, не имея гарантий, что хватит сил с ним справиться. Вдруг его соединенная мощь в реале превышает мои и ваши возможности?
– «Мы не можем дать врагу ни одного шанса!» Знакомая песня. Шансы, что они атакуют именно Замок, исчезающе малы, на мой взгляд, но – допустим.
– Изолировать ваш форт тоже бессмысленно. По аналогичной причине. Вдобавок установленный над ним времязащитный колпак будет фонить на всю Вселенную. Как здоровенная куча обогащенного урана. Они возьмут да накроют его еще одним, своим? Предоставив вам право спокойно вымирать… Да вдобавок вы сами убедились, что туда выходит канал из «бокового времени». Про один вы знаете, а сколько их на самом деле?
Убедительно излагает, ничего не скажешь. Я бы мог поспорить о деталях, но внутри предложенной логики возразить трудно.
Сам я с дуггурами в обеих ипостасях (или так называть следует только «мелких», «элоев», а «монстры» – это нечто иное?) лично не сталкивался, Сашка же – четырежды за недолгий срок, и у него сложилось мнение, что живым ему удалось уйти только случайно. Другое дело, если предположить, что на нашей Земле они могут действовать лишь соразмерными нашей же цивилизации методами… Не важно, по какой причине. Казалось бы, битва в Барселоне и московский путч-2005 это косвенно подтверждают, но рисковать я бы не стал.
Шульгин молчал и пока не вмешивался.
– Тебе осталось сказать, что Валгалла тоже не может служить надежным убежищем, – подыграл я собеседнику, – если даже мы, совсем тогда еще «зеленые», сумели аггрианскую базу грохнуть. Правильно? И вся дилемма (точнее – трилемма) сводится к выбору между двумя более-менее комфортабельными клетками и бивуаком в чистом поле, защищать который невозможно, и тактически и психологически.
– Видишь, как ты сам хорошо все понимаешь, – одобрительно улыбнулся Арчибальд, а Антон за его спиной изобразил некую гримасу, которую я истолковал как рекомендацию держаться той же линии и не нервничать, все, мол, будет нормально.
– Стараюсь. Опыт общения с вами, слава богу, имеется. Потому готов предположить, что раз предложенные варианты очередной кампании более-менее неприемлемы, наверняка должен быть четвертый. Иначе к чему огород городить? И я этот вариант знаю. Спорим, что с одного раза угадаю?
– Как интересно с вами разговаривать, – снова польстил Арчибальд. – Мне еще долго учиться…
– Была в старое время такая категория – «вечные студенты», – смутно буркнул Сашка. Арчибальд, похоже, иронии не понял. А то и сарказма.
– Одним словом, вы хотите предложить дубль к тому, что уже было прошлый раз? «Исход-2». Я угадал? Вновь исчезнуть из любого ныне существующего мира до особого приглашения?
– Или – призыва! – добавил Антон.
– Призывы военкомат проводит, а мы теперь – отставники. Свое отслужили, – опять съязвил Шульгин.
– Слово «призыв» имеет не только это значение, – решил просветить нас Арчибальд.
– Спасибо, в курсе. Интереснее – далеко ли исчезать? – спросил я. – На Средневековье однозначно не согласен. Ты, Антон, наши вкусы знаешь…
– На ваше усмотрение. Схему возможностей вы в общих чертах представляете…
Точно! Я правильно определил степень Сашкиной утомленности, но не успел определить ее грани.
Он вскочил, резким движением (преувеличенно резким, но это только на мой взгляд) отшвырнул пустой стакан, который давно вертел в руке.
– На хер! Все ваши идеи —… (дальше пошел пресловутый загиб Петра Великого, переходящий в производные. Не пришлось тревожить прах Леонида Соболева. В Севастополе начала двадцатых мы в изобилии встречали специалистов этого жанра).
Что психануть человек в таком состоянии может, это безусловно. Не совсем понятно, зачем Шульгину это именно сейчас. Надавить на партнера, демонстрируя свою неуравновешенность и готовность к безрассудным действиям? Так Антона он вряд ли обманет. Неужели на самом деле элементарный срыв?
– Не хочу больше никаких ваших гениальных планов слушать! Нажрались досыта! К чертовой матери. Сами уйдем, куда захотим…
– И адреса не оставим, – негромко добавил я.
Сашка глянул на меня бешеными глазами. Сейчас и мне что-нибудь выдаст. Причем – с полным основанием. Кто, как не я, виновник всех его проблем и терзаний? Как бы до взаимного мордобоя не дошло, чтобы окончательно убедить партнеров в нашей невменяемости и полной непригодности для дальнейших игрищ. Подеремся, рассоримся, разбежимся по разным углам света, предоставив Антону с Замком самим разбираться с придуманными ими «ужастиками».
Жаль, что заранее мы с Шульгиным подобную сцену не отрепетировали. Да еще бы Ирину сюда запустить, чтобы тоже свое веское женское слово сказала. С битьем фарфоровой посуды. И все! Навсегда освободимся от «наркотической зависимости», и вправду попробуем выживать в одиночку.
Глядишь, на наш век покоя хватит. Оборудуем Форт Росс в виде неприступной крепости, а если что, будем перепрыгивать из 1925-го в 2056-й и обратно, если, конечно, тот механизм сопряжения миров на местности сохранился после размыкания Гиперсети. Так у нас еще и Олегова CПВ есть.
– Не оставим, – неожиданно мирным тоном повторил Сашка мои слова и сел.
– Но об этом же идет речь с самого начала, – недоумевающим, слегка даже обиженным тоном ответил Арчибальд. – Уйти на любое удобное время и адреса не оставлять…
– А также следов, по которым опытный детектив может разыскать безвестно пропавшего, – поддержал его Антон. – Ты взял себя в руки? Ну и хорошо. Я сам человек горячий. Попался бы мне сейчас кто-нибудь из Стражей или Облеченных, я бы им такое устроил… А на сегодня, пожалуй, действительно хватит. В баньку желаете? Ты, Саша, когда последний раз как следует парился?
– Да черт его знает! Кто б подсказал… Ну, пошли, что ли… Но предупреждаю, ни о каких делах – ни слова. А то в шайке утоплю. Любого.
Глава одиннадцатая
Мне не очень хотелось обращаться к Антону с просьбой переправить меня в Крым-25. Я не имел оснований ему не доверять, и тем не менее… Что-то в его личном поведении, в их новых отношениях с Замком настораживало. Как говорится – даже если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят. С другой стороны, другого способа вернуться домой у меня не было. Да в чем, собственно, проблема? Что может быть естественнее, чем желание, перед тем как принимать какое-нибудь решение, о бегстве в неизвестность или игнорировании вовсе не безусловной опасности, провести ряд консультаций с «заинтересованными лицами»?
Шульгина я тревожить не стал. Часов двенадцать-пятнадцать здорового сна ему в самом деле необходимы. За это время я управлюсь.
Я успел как раз к тому моменту, когда офицеры во главе с Басмановым решили, что хозяева их стесняют. Им позволено было ни в чем себе не отказывать, они и не отказывали. Что нужно военному человеку после успешно выигранного боя? Все это и присутствовало, да вдобавок и общество красивой женщины, что на фронте случается реже, чем хотелось бы. Беда заключалась в том, что факт ее присутствия имел раздражающее значение. Смотреть на красивое лицо, длинные открытые ноги, прочие абрисы и формы, не имея права мимикой или жестом выразить столь естественные чувства! Мучительно, господа, почти непереносимо! А рядом Ялта, чуть дальше Севастополь, и подходящие адреса имеются.
По телефону вызвали три таксомотора, чтобы каждый чувствовал себя вполне самостоятельно, откланялись, приложившись к ручке. Потребуется, явятся по вызову полковой трубы, как Сивки-бурки. Нравы в нашем войске были свободные, но и строгие одновременно. Делай что хочешь, как в Телемской обители, но службу правь неукоснительно. Пока, за редким исключением, политика себя оправдывала.
Зато сама Ирина, Олег и Алексей были настроены не столь оптимистически. Не имея от меня оперативной информации, исходя лишь из собственных впечатлений и мыслей, они пребывали в достаточно растрепанных чувствах. Иркина решительность, опыт Берестина и технические возможности Левашова стоили многого, но все равно ощущения у них были такие, приблизительно, как у гарнизона ДОТа, оставшегося в далеком тылу наступающего врага. Снаряды, патроны, продовольствие – в избытке. Позиция прочная, моральный дух и желание сражаться – на уровне, но отсутствует связь, знание обстановки и перспективы.
Встретили меня со сдержанной радостью, да и мне было приятно оказаться здесь. Что ни говори, мистика, даже вполне объясняемая в категориях материализма, утомляет.
Естественно, меня тут же пригласили к заново накрытому столу, но я замахал руками.
– Простите, ребята, я пас. На ближайшие сутки пищеварительные мощности исчерпаны. Разве только зеленого чая…
В полном объеме и с подробными комментариями я изложил почти все, что узнал от Сашки, Антона, Замка, а также свои соображения по теме. И пожелал узнать, как то же самое видится с их стороны.
Одновременно я оценивал дачу и окрестности с учетом новых знаний и новой позиции, если угодно.
Пулемет, исполнивший свою функцию, уставился стволами в сторону гор, куда стрелять ему вряд ли придется, из приемников торчали хвостики лент, совсем короткие. Мало, стоило бы перезарядить на всякий на случай.
У балюстрады валялись пустые трубы гранатометов. Поблизости аккуратно прислонены к перилам ружья и автоматы. Это ничего, сгодится. Тут же вскрытый ящик с красными картечными патронами, несколько сумок со снаряженными автоматными магазинами и гранатами для подствольников.
Выключенная установка СПВ почти посередине террасы. Невредно бы вывести ее в ждущий режим, чтобы не терять драгоценного времени, если вторжение произойдет прямо сейчас.
Опасность такого развития событий крайне мала, как мною ощущалось, и тем не менее. Наводка по следу, пусть и отключенного прохода, теоретически возможна, Сашка говорил, что такой след держится некоторое время даже между Землей и Валгаллой, а это полсотни парсек, побольше, чем тысяча километров до Москвы.
Будто желая размяться, обошел веранду по периметру, попутно поднял один из дробовиков, повертел в руках, убедился, что заряжен. Ладно, сойдет на первый случай.
– У кого-нибудь имеются идеи и предложения? – спросил я, опуская приклад к ноге.
– Идей, прямо скажем, немного, – ответил Берестин. – У тебя тоже, иначе зачем ты с «браунингом» играешься?
– Боюсь, – честно ответил я. – Вы тут такого наработали, что поневоле с Антоном согласишься и захочется бежать куда глаза глядят. Вы Сашкиных воспоминаний не видели, на зимней планете, и в Барселоне. Тяжелое зрелище. Триста штук, конечно, у нас на веранде сразу не поместятся, а если даже десяток выскочит? В ближнем бою у нас шансов нет. – Я пренебрежительно подкинул дробовик и поймал его левой рукой за цевье. – Так монстры хоть человекообразные, а то, о чем Антон мне рассказал, вообще… Да вы их сами видели.
– Видели. И справились, – с вызовом в голосе ответила Ирина, вынимая из кармана свой портсигар.
– Ты его хоть перезарядила? Антон сказал – аккумулятор на нулях…
– Ой, забыла. Я сейчас. – С действительно испуганным лицом она метнулась к лестнице.
– На самом деле не все так страшно, – сказал я друзьям, – хотя ситуация действительно напряженная. Придется нам какое-то время дурака повалять, пока не догадаемся, шутят Антон и Замок или всерьез… Ты как, Олег, считаешь, возможно было им в той обстановке тебе на хвост сесть? Ты ж канал едва на пару секунд открыл. А у них в это время «броня горела» и «товарищи» в пар превращались…
– Любишь ты дурацкие вопросы задавать. – Левашов не старался скрыть раздражения, если не чего-то большего. – Откуда мне такое знать? Если вся аппаратура на «медузе» была – конечно, нет. Если внешние станции наведения и контроля их рейд сопровождали – безусловно, да. Ты что-нибудь новое сейчас услышал?
– Не о том говорим, – перебил нас Берестин. – Поздно пить боржом. Олег, принимая нас оттуда, с достаточно перепуганным видом доложил, что там началось расширение энтропии. На физический смысл выражения мне плевать, у меня другое образование, а чем нам это грозит непосредственно, я пока не понял.
Да, действительно, по-разному текущее время – штука малоприятная, раздражающая. У меня на размышления и разговоры в Замке ушло около суток, у них – не больше двух часов, занятых куда более практическими вещами.
– Согласен. Об энтропии как таковой я знаю немногим больше тебя. Вот и послушаем, не снимая пальцев со спусков. Или можно оружие на время отложить, Олег, как считаешь?
Пропустивший мимо ушей наши колкости, Левашов начал объяснять. То, что он называл «энтропией», обрушившейся на мир-38 при их там появлении, немногим отличалось от процесса «выгорания реальности» аггров после взрыва нашей информационной бомбы. Та, «сталинско-шульгинская», начала сворачиваться сама на себя, попутно омертвляя все, что оказывалось в охваченной явлением зоне. Чудом не накрыла людей из другого мира, Антона, Берестина и Давыдова. Не успей Олег поставить блок, элементарно словчилась бы забросить свое щупальце и в дырку нового пространства. Ей все равно, как воде, рвущейся в корабельную пробоину.
– А не забросила, хоть на столечко? – показал я пальцами сантиметровый зазор.
– Думаю, что нет. Наш экран обладает собственной степенью защиты. Вернее – энергией противодавления. Целенаправленно ее проломить, конечно, можно. Но именно этой цели с той стороны я не заметил. Нагрузка была допустимой.
Интонация Олега, при произнесении последнего слова, показалась мне чересчур эмоциональной. Грубо говоря, нервишки поигрывали.
– А еще бы минуты две-три, – продолжал я, – окно оставалось бы открытым, и «рука тьмы» просунулась. Результат?
– Какой хочешь. На выбор. Я не знаю скорости распространения процесса, вряд ли его можно считать мгновенным, но порядочный кусок нашего пространства мог бы превратиться в анклав того. Аналогично зоне «бокового времени», которую создавал прибор Маштакова. И мы могли застрять так же, как Леша однажды в тупичке восемьдесят четвертого. Тебе там хорошо было? – наставил он палец на Берестина.
– Нормально, – ответил тот. Спасибо, что не добавил: «Только Ирины не хватало». Я-то знал – так оно и было. Очень хорошо помнил, как мы метельной ночью вышли отправлять Ирину ему на выручку и Олег мне сказал насчет интерференции. Наложимся, если не повезет, сами на себя, и – «Митькой звали».
– А за нами сходить не нашлось бы кому. Только об Антоне не поминай…
Я понял, что заход сделал правильный. Еще один верный союзник у меня есть. Наш человек форзейль, не наш – мало существенно. Главное, не я один буду «в противостоянии», если мои худшие мысли оправдаются.
– Можно дурацкую идею? – спросил я.
– Это – ради бога, – почти радостно ответил Левашов. – Насчет умной я бы еще подумал…
– Надо вернуться в то же место. Сразу, через полчаса, через час…
– За каким…? – удивился Берестин, а Олег уже понял.
– Здорово. Всегда уважал дилетантов. А как профессионал, немедленно вношу корректив. Вернемся, только я сначала, – он показал на свой аппарат, – выскочу в Москву, настрою Большую машину, через нее сюда снова, а уж потом… Только мне помощник нужен. Кто согласен? Ты или Ира?
– Конечно, Ира, – не дал я возможности ответить ей, только что вернувшейся с перезаряженным блоком. – Она в технике соображает лучше, а здесь мы с Лешей подежурим. Если что: «Кончен, кончен день забав, стреляй, мой маленький зуав…»
На самом деле, отправляя Ирину в Москву, я руководствовался не только неоспоримым фактом, что она с Левашовым лучше меня разберется с межвременными переходами. Всем известно, после нашего с ней визита на Селигер именно Ирина, отбросив принципы и правила своей «конторы», оказывала Олегу техническую помощь и научную поддержку при отладке его первой действующей модели СПВ. Я хотел вот в этот неопределенно-опасный момент вывести ее из-под возможного удара, к которому мы не готовы. В той же мере, как были готовы-неготовы мы с Берестиным в достопамятном июне сорок первого.
За суетой и мельтешением лет, миров, событий слегка подзабылась та душевная общность, что связала нас, друзей-соперников в навязанной нам альтернативе: «Хочешь – живи, хочешь – умирай». Не только в качестве политических деятелей, чисто физически. Не сумел бы Берестин правильно командовать фронтом, и конец ему, пусть не такой, как у Павлова, как у Кирпоноса [41]. Не у расстрельной стенки, а с трехлинейкой на опушке не обозначенного на карте лесочка. Красиво, но для генерал-полковника невместно.
– Что, командир, делать будем? – спросил я его, когда Олег с Ириной ушли.
– Объяснишь мне запутанный ход своих мыслей, тогда и отвечу.
– Объясню. Видишь ли, с какого-то момента я стал или очень хитрым, или законченным психом. Мне перестал нравиться мир, в котором мы вынуждены существовать. Поэтому, чтобы сказать то, что я хочу, нужно воспользоваться машинкой, которую Олег оставил в нашем распоряжении. – Я указал на СПВ-приставку. – Видишь, судя по этим вот стрелкам и лампочкам, Олег с Ириной уже в Москве. И я даже не знаю, в какой. На Столешниковом – это точно, а в двадцать пятом или две тысячи пятом – хрен его знает. Вернутся сюда, когда сумеют. Минут через пять или через час, не важно. Я немножко умею с этой аппаратурой обращаться. Сдвинем время совсем чуть-чуть, на несколько секунд, не важно в какую сторону, и нас никто не успеет засечь и услышать, если даже и пытаются отслеживать…
Говоря «никто», я подразумевал конкретно Антона с Замком. Дуггуры сейчас волновали меня гораздо меньше.
Алексей посмотрел на меня с заметными сожалением и тревогой.
– Псих не псих, но переутомился ты точно…
Я кивнул и на несколько делений сдвинул верньер, назначение которого было мне точно известно. Мы совсем немного сместились по оси времени, вышли из зоны контроля, как будто из комнаты, где установлены подслушивающие устройства. Олег, вернувшись, едва ли заметит мелкое рассогласование. А если и заметит – что с того?
…Вокруг ничего не изменилось. Да и как могло измениться? Природе и вещному миру пять секунд туда или обратно – без разницы.
– Кто бы спорил. И все же… До тех пор, пока мы с полной достоверностью не убедимся, что Антон не пытается нами манипулировать, нам остается единственное – сопротивляться навязываемым поступкам, равно как внезапно приходящим в голову «светлым» мыслям и «озарениям».
– Даже если они выглядят правильными?
– В этом случае – тем более. Останемся при гипотезе, что Ловушки никуда не делись, просто приобрели особую изощренность. Мутировали, как вирус. Я тебя прошу об одном – верить мне, сколь бы странными мои слова и действия моментами ни казались. Игроков над нами больше нет, попробуем поиграть сами. Пока мне больше не на кого положиться…
– А Шульгин, а Ирина?
– Не из той оперы. Мне нужна именно твоя поддержка. Я бы хотел, чтобы ты понимал меня без слов. Иногда нам придется спорить, иногда ссориться, грубо и резко, так убедительно, чтобы все, вплоть до Ирины, верили. Чуть бы не кидались нас разнимать.
– Сложновато будет, без повода…
– Поводы найдутся, это я тебе обещаю. Дойдем до того, что каждый вздумает создавать свою «партию». Кто на чью сторону станет, тоже посмотрим… А мы будем пользоваться своего рода масонскими знаками. Ну, хоть такими…
Я изобразил пальцами и руками несколько фигур, объясняя, что каждая из них должна означать.
– Договорились?
– О чем речь. Но все равно до конца не понимаю…
– Дуггуры, – сказал я, таинственно понизив голос. – Опасность непостижимая пока, оттого и страшная. Столько всего случилось за последнее время, с Сашкой, с Антоном, с Замком, что из наших по ряду причин могу безоговорочно верить только тебе и Ирине…
– Прям уж так?
– Увы! Только вы двое странным образом оказались непричастными ни к каким деформациям… Да разве еще Удолин.
Сказав это, я тут же подумал: вот еще один «резерв главного командования».
– Удолин – бог с ним. – Берестин на профессоре внимания не зафиксировал, что меня обрадовало. – А Воронцов, а Олег, Сильвия, Ростокин? Наталья, Лариса?
– Я сказал – из наших! Исходные «три товарища» плюс Ирина и ты. Это все на момент начала. Шульгин, как я его ни люблю, запутан не знаю в скольких непонятках. Левашов настолько глубоко завязан на хронотеории и хронопрактике, что, сам не подозревая этого, может быть «на крючке». Не знаю, как точнее выразить то, что чувствую. Нет-нет, я никого не обвиняю и не подозреваю в предательстве, упаси бог, но ты же читал Юлиана Семенова и «Мгновения» не раз смотрел. Это я для наглядности сказал, есть и более солидные источники. Люди подставляются, людей подставляют, играют с ними «втемную» и их «втемную»… Такая вот беда…
– А ты сам? – Берестин посмотрел на меня с пристальным интересом и впервые за наш странный разговор потянулся к бутылке. Самое время, по логике.
Выцедив меньше половины рюмки, я сделал единственное, что мог сделать русский человек в таком раскладе, – развел руками.
– Тут уж сам смотри. Доказать, что я не Азеф или не марионетка, у меня нет никакой возможности. Это, как говорится, вопрос веры или, наоборот, особой проницательности. Единственное, что могу заявить в свое оправдание, господин судья, в моих словах и поступках вы не найдете ни малейшего намека на личную корысть! Всего, что может только взбрести в голову людям любого пошиба, мы добились давным-давно. Включая то, что в паре с тобой побывали на таких вершинах, где не бывал никто, и властью наигрались всласть. Еще могу добавить в свое оправдание – мои нынешние планы не подразумевают никакой позитивной программы. Единственно – желание не попасть в окончательный просак [42]. Отсюда и предложение – до прояснения обстановки не верить больше никому, сохраняя при этом заинтересованное и благожелательное покерное лицо. Решайте, товарищ командарм. Жаль, что я вас в маршалы произвести не успел…
Хорошая получилась тирада. В меру страстная, в меру убедительная.
Алексею просто нечего было возразить. По сути.
– Ладно, товарищ председатель Совета народных комиссаров. Давайте попробуем еще раз. А рюмку свою допейте. И наполните по новой. Кто с нами не пьет – або хворый, або подлюка…
В целом взаимопонимания мы с Алексеем достигли. Он поверил, что никаких интриг я не затеваю и не составляю комплота, направленного против кого бы то ни было. Всего лишь призываю к бдительности и солидарным действиям, когда (и если) это потребуется.
А потом я рискнул пойти еще чуточку дальше, чем требовал здравый смысл. Будучи достаточно уверенным в своих способностях и возможностях, я предложил, не теряя времени даром – мало ли когда Ирина с Олегом управятся, – вызвать к нам Удолина. Раз он вдруг вспомнился, то не просто так, наверное. Вдруг сам контакта искал, а я его зов услышал благодаря уже выстроенной мыслеформе? Должная синтонность между нами давно существовала. Только в его астрал я самостоятельно ходить не умел пока. Зато аппарат – вот он! Базовой настройки я касаться не буду, она держит несущую частоту, но есть и другие, более тонкие регулировки. В блоке памяти имеются координаты любой личности, с которой ранее устанавливалась связь, и найти ее не составит труда, в какой бы точке пространства она ни находилась. Лезть через межфазовые барьеры я не собирался, не мой уровень квалификации, а в пределах этой реальности и этого года – не сложнее, чем поймать радиоприемником давно известную станцию.
…Константина Васильевича на этот раз я разыскал в маленьком французском городке Этрета на побережье Атлантики, прославленном импрессионистами, где они писали свои никому тогда не интересные картины. Профессор как раз прогуливался по набережной, откуда открывался вид на колоссальные арочные скалы белого камня, многократно запечатленные великим Клодом Моне (или Эдуардом Мане, вечно их путаю).
Места там, конечно великолепные. Серый океан, пасмурное небо, густой соленый бриз, и – безлюдье. Совсем не то что в конце двадцатого века. Одинокий парус рыбачьей лодки в паре миль от берега, фигуры мужчины и женщины в темных одеждах на краю обшитого досками пирса – больше никого в поле зрения.
Черепичные крыши нескольких древних домов размыто рисовались на фоне дождевых туч в полукилометре слева. Я подавил желание выйти из «окна» наружу и пригласить Удолина обсудить вновь возникшие проблемы мироздания в уютном кабачке, беспроблемно функционирующем со времен какого-нибудь Людовика, хоть тринадцатого, хоть шестнадцатого. Ну их, лишние эксперименты, не вызываемые крайней необходимостью.
Проще позвать коллегу, не появляясь в реальности, благо – ничьего внимания это не привлечет.
Удолин был сосредоточен, погружен в себя, как и подобает ученому его ранга и авторитетности. От близящегося дождя его плечи укрывал широкий плащ-крылатка, скрепленный у горла солидной бронзовой, а может, и золотой пряжкой в виде двух S-образно изогнутых кобр, на голове – стетсоновская шляпа, обут в крепкие, шнурованные до колен ботинки модного фасона «бульдо». В правой руке зонт-трость, размерами лишь слегка уступающий пляжному, в левой – походная, оплетенная кожаными ремешками фляга, чтобы прямо на ходу прояснять и стимулировать ход мыслительного процесса.
Одним словом, гармонический гибрид прославленных ученых «золотого века»: Паганеля, Челленджера, Аронакса и прочих, имя им легион, без которых не обходился ни один приличный научно-приключенческий роман.
Увидев его, я испытал не просто радость встречи с хорошим человеком. Куда большее – прилив уверенности и оптимизма. Чувство, сравнимое с тем, что охватило колонистов острова Линкольн, когда они нашли Сайреса Смита. Дескать, физическая сила и готовность к любым испытаниям у нас имеется, а вот силы руководящей и направляющей не хватало. Теперь она с нами.
Главное, в моих словах почти нет преувеличения. Раз мы столкнулись с таким уровнем неведомого, что полагаться на привычные навыки, стереотипы и мощь доступной техники как минимум опрометчиво, отчего бы не зайти с другого конца?
Одностороннее «окно» открылось в двух десятках метров по курсу его движения, а поскольку он шел не торопясь, то отбрасывая стальным острием трости камешки со своего пути, то поднося к губам горлышко фляги, я имел время рассмотреть его как следует и обдумать завязку разговора. Вот профессор поравнялся, прошел мимо. Я переключил тумблер, открывая проход, и окликнул его. Он обернулся, увидел уже знакомую рамку и едва заметное дрожание воздуха на границе разделения сред, мою персону и Алексея чуть в глубине, с автоматом в руках.
Не проявив малейшего замешательства, поприветствовал нас одновременным взмахом зонта и фляги, развернулся полным фасом.
– О, друзья мои! До чрезвычайности рад встрече! Выходите, составьте компанию. Не поверите, я буквально только что думал именно о вас… Одиночество, конечно, приятно, но моментами становится утомительным. Сейчас, наверное, именно такой момент…
Надо же – он думал! Напряженно, наверное, думал, если до меня достало. А скорее всего – очередное совпадение.
– Нет, Константин Васильевич, лучше вы к нам. Поговорить надо. Надеюсь, вы не настолько заняты, чтобы не уделить нам хотя бы час-другой. Настоятельно нуждаемся в вашей консультации. Потом я вас доставлю на это же самое место или куда прикажете. Беспокойство и все прочее, разумеется, будет оплачено по высшим ставкам…
– Можно и так. Почему нет? Только подождите буквально минуточку…
Очевидно, причудливый ход его мыслей не мог быть сразу остановлен посторонним вмешательством. Инерция чистого разума, так сказать.
Он не спеша окинул взглядом простиравшийся вокруг, пока еще французский пейзаж, запрокинув голову, как следует приложился к своей фляге, аккуратно завинтил крышку, постоял, прочувствовал и бодрым шагом подошел к окну.
– Я готов. Только позвольте мне дойти до отеля и собрать вещи. Там есть слишком ценные документы, они могут пригодиться в разных обстоятельствах. Полчаса, не больше. Потерпите?
– Потерпим, куда деваться. Приходите на это самое место. Я отсюда сдвинуться не могу и не совсем уверен, что меня не потревожат. Не встретимся, любым доступным вам способом немедленно удалитесь в наиболее надежное, на ваш взгляд, убежище. Хоть в Шамбалу…
– Даже так, Андрей? Тем более интересно. Я быстро обернусь, ждите…
А что оставалось? Я сбросил с машины напряжение, начал объяснять Алексею, какие интересные схемы мы сможем выстроить, используя каждого из нас по отдельному плану. Антон при всех его связях, сложившихся между нами, и Замок, обладающий гигантским информационным потенциалом, наверняка не смогут затеваемую мною комбинацию просчитать. А то мы их не знаем! Подумаешь, владыки мира! Немцы в сорок первом тоже понимали о себе намного больше, чем имели право.
– Что хочешь обо мне думай, Леша. Может, накопилось – так пожалуйста. Я сейчас, своей волей, не своей, утверждать не берусь, один в один товарищ Сталин к маю известного года. Какого числа ты ко мне на собеседование в Кремль пришел, трясясь в поджилках? Трясся ведь?
– Пятого мая тысяча девятьсот сорок первого года. Я в поджилках не трясся. Марков тоже. Он терпеть не мог Сталина как личность, но стоял перед ним, как сторонником, защитником и опорой олицетворяемой им власти трудового народа. Улавливаешь разницу? Марков, не я, готов был принять любое решение Вождя как неизбежность! Понял? Марков был очень независимым и смелым человеком. Смерти он не боялся и вообще ничего не боялся, что касалось лично его. Это Жуков не постеснялся написать в мемуарах прославленных, что даже в роли начальника Генштаба боялся возражать Сталину в присутствии Берии.
«Берия меня гипнотизировал. Я понимал: скажу сейчас не то, и через полчаса окажусь в лубянских подвалах».
Это позиция пятиклассника, застигнутого директором школы за курением под лестницей. Какой же ты, на хрен, генерал, если недрогнувшей рукой посылаешь миллионы солдат на бессмысленный убой, а лично сам боишься не пули даже, косого взгляда вышестоящего начальника?!
– Марков был хорош, не спорю. А он плюс ты – еще более надежная конструкция. И я с вами. Я то время к чему вспомнил? Сталин не мог (по стилю характера) доверять никому. Ни западным союзникам, ни соратникам по Политбюро. Тебе он решил довериться. Я в этом только поучаствовал, а выбор все равно был за ним. Сейчас я не Сталин, ты не Марков, а обстановка почти аналогичная, и вопрос веры стоит в повестке дня.
привел я слова из песни Городницкого. – Ты мне в спину не стрелял, независимо, что и причины и возможности имелись. Будем и дальше так. Согласен?
Берестин, пожалуй, мог мне возразить, и возражение было бы достаточно логичным, оправданным по любым параметрам. Старше меня он был на три с лишним года, и я в тот момент, когда поломал его надежды на личное счастье, выглядел хуже, чем пресловутая «собака на сене». Но мудрости и порядочности ему хватило, чтобы погасить свою неприязнь, если не сказать резче. И сделал он это хорошо, благородно.
Только по этой причине я предложил именно ему стать партнером в очень сложной, эмоционально и комбинационно, игре.
Как мне надоело это слово – «игра». Пишу – и самому противно, а ничего другого в голову не приходит. Может быть, когда-нибудь позже я в своих «записках» подберу достойные синонимы. А сейчас что есть, то есть. Если не игра, так что? Реальная жизнь? Еще глупее звучит.
Уходя из Замка в Крым, я, как толковый диверсант-подрывник, оставил «на растяжке» некую локальную мыслеформу, ограниченную во времени и пространстве. Как гранату в городской квартире. Не трогай, и она тебя не тронет, поскольку «ручная». Ну а если что – не взыщи. Тебя в гости не приглашали.
В обсуждении темы назначенное время прошло быстро. Ирина с Олегом из Москвы до сих пор не вернулись, я нажал кнопку «повтор», которая вернула меня в исходную точку. Удолин тоже был точен, прибыв к выезду на набережную пароконным фаэтоном.
Извозчик попросту, ибо не помню, как здесь у них называется «водитель кобылы», был слегка удивлен. Что солидному господину с тремя чемоданами делать на берегу, к которому рейсовые пароходы сроду не причаливали и даже сколько-нибудь приличный парусник рискует разбить борта о пирс при таком накате? Не на рыбацкой же лодке он собирается отправиться в бурную Атлантику?
Любопытство возницы было погашено франковой монетой сверх оговоренной цены и предложением не терять напрасно времени. Вон господа на том краю набережной, кажется, желают ехать в город…
Фаэтон заскрипел рессорами, удаляясь, и Константин Васильевич потащил свои кофры и саквояжи к условленному месту. Хотелось помочь профессору, но нельзя. Чем черт не шутит – выйти выйдешь, а вернуться что-то не позволит!
Он остановился, сдвинул шляпу на затылок и вытер лоб клетчатым фуляровым [43] платком.
– Приличные люди сами свой багаж не носят, – раздраженно сообщил он мне, когда я открыл проход прямо перед носками его ботинок и ответил извиняющимся тоном:
– Рад бы услужить, но обстановка не позволяет. Так что давайте сюда барахло, а мы прикроем вас огнем, если потребуется…
Удолин хорошо усвоил опыт выпавших на его век войн и революций, чтобы спорить по пустякам. Насмотрелся, как оно бывает. Подал чемоданы и шагнул из своего французского далека в нашу неопределенность.
Я закрыл дырку в пространстве. Теперь мы все в Крыму. В одном месте и в одном положении, если не решим иначе.
…До возвращения Ирины с Олегом я успел изложить профессору причину и повод нашей встречи, вкупе с наиболее существенными деталями недавних событий. Чем хорош Удолин: ему не надо ничего разжевывать. С самого первого дня нашего знакомства я оценил его главное качество (независимо от всех прочих) – он сразу схватывает суть любого вопроса и, не теряя времени на второстепенные частности, активно включается в мозговой штурм. Коллективный, если ему это предложено, или индивидуальный, не важно. Лишь бы счел тему вообще достойной затрат своей драгоценной умственной энергии. Выводы, к которым он приходил, иногда ставили нас в тупик, но я не помню случая, чтобы они, в той или иной мере, не оказывались верными. Пускай и по прошествии времени или применительно к совсем другому случаю. Этими же качествами отличались Кассандра и Дельфийский оракул. Просто у их слушателей было меньше жизненного опыта и отсутствовало альтернативно-абстрактное мышление, чтобы сообразить, к чему пристроить полученное предсказание. Как говорил мой постоянно попадавший в идеологические капканы советской власти университетский преподаватель: «Высший пилотаж философа – это уметь находить аналогии между аналогиями».
– Прелестно, просто прелестно, – повторял Константин Васильевич, отдавая должное коньяку из голицинских подвалов, собственную фляжку предусмотрительно сохраняя на другой случай. А был там у него всего лишь банальный кальвадос, незаслуженно прославленный Ремарком.
– Я с абсолютной ответственностью могу утверждать, что наличие подобных существ предварено моими давними умопостроениями. Когда, вы сказали, вашему товарищу они явились впервые?
– Накануне мировой войны…
– Великолепно! В России взлет мистицизма, многочисленные кружки теософов, распутинщина, хлыстовство, предощущение конца света (небезосновательное, кстати). Я тогда тщательно изучал все эти течения и направления, совершенно самостоятельно пришел к выводу, что первопричина – проникновение в наш мир давно известных, но подзабытых в эпоху рационализма сил. Вы вспомните: бесы, о которых упоминается в Евангелиях, средневековый расцвет ведьмовства, простонародные легенды, перенесенные в литературу гением Гоголя… Все очень и очень сходится. Жаль, что я тогда не имел случая и возможности встретиться с вашим приятелем и побеседовать с ним поподробнее. Но сейчас у вас факты гораздо более весомые. А не могли бы мы как-нибудь поближе познакомиться? Ну, с этими самыми… Даже мертвые мне они могут сказать о многом.
«Вот именно, – подумал я. – Когда мы выручили профессора из узилища Агранова, он в числе прочих своих званий и титулов представился еще и некромантом. Тогда я счел это за фигуру речи, не придал значения. И ростокинским Артуром он особым образом интересовался. Так что не зря, очень не зря мы с ним сегодня встретились…»
– Значит, вот что, друзья мои, – сказал он нам с Алексеем. – Без обиды, я считал вас людьми, не всегда понимающими, где они находятся и что делают… Как вы любили выражаться, используя термины будущих времен, «не совсем адекватными»…
– Да, крайне интересно было, со всей нашей неадекватностью, посмотреть, как бы вы, уважаемый, до сих пор сидели у Агранова под замком или валялись на Донском кладбище в качестве «невостребованного праха», на два метра ниже уровня поверхности… – сказал я резче, чем следовало в разговоре интеллигентных людей.
Обращенная в прошлое перспектива показалась Удолину настолько неприятной, что он скривил лицо и выпил рюмку коньяка, не сделав попытки пригласить нас.
Это я понимаю. Нервы у всех не железные. Тем более тональность моих слов была такова, что при желании ее можно было счесть не только ретроспективной.
Господин профессор потянулся к сигарной коробке. Берестин предупредительно щелкнул зажигалкой. Я сидел спокойно, безразлично даже. Чтобы знал, кто в доме хозяин.
Константин Васильевич несколько раз пыхнул, разок затянулся. Нормальному человеку достаточно, чтобы вернуться в горизонт текущих реальностей.
– Вы ведь меня не дослушали, – сказал он примирительным тоном. – Было время, сказал я, когда мне казалось… Готов признать, что моментами слегка ошибался. Вот и сейчас. В действительно критический, может быть – судьбоносный момент вы нашли правильную линию поведения…
Это он наверняка к тому, что наша главная заслуга – обратиться к нему за советом и помощью.
– Так давайте же со всей серьезностью обсудим вставшую перед нами угрозу. Она действительно такова, что даже я сразу не представляю, как к ней подступиться. Но носа вешать не следует. Ни в коем случае…
Глава двенадцатая
Легенду, оправдывающую появление Удолина в Замке, мы придумали простейшую, на девяносто процентов она и легендой-то не являлась. Братство, мол, настолько обеспокоено душевным здоровьем Шульгина, пережившего целую серию психических травм, что решило вызвать профессора для консультаций. Поскольку Братство пока еще не собралось в полном составе, я воспользовался прерогативой и сделал это лично.
Профессор владеет собственными, несовместимыми с нашим материалистическим мировоззрением методиками психоанализа, и, если в самых глубинах Сашкиной души образовались какие-то деформации, паразитные связи и очаги застойного возбуждения, никто не сможет ему помочь лучше Константина Васильевича. Это было правдой. То, что с его помощью мы надеемся попытаться выяснить, чем является «планета Зима» и является ли вообще чем-нибудь, – тоже соответствовало действительности. По крайней мере, меня эта загадка волновала до чрезвычайности.
А вот то, что я рассчитывал использовать мистика и некроманта для контроля над тайными, если они есть, замыслами Антона и Арчибальда, должно было, разумеется, оставаться нашей тайной. Как и то, что определенный контроль мы с Берестиным решили установить и над нашими друзьями. Для предупреждения возможного вторжения в их личности, не важно, с чьей стороны. По крайней мере, Удолин, разобравшись в обстановке, заявил, что для него такой контроль труда не составит.
– Еще ничего не зная о вас, с большого расстояния я сумел уловить исходящие флюиды и предостерег Агранова от попыток обращаться с вами, как с обыкновенными белогвардейскими агентами… Он меня не послушал, от чего поимел, как известно, серьезные неприятности. А ведь умнейший человек, сам не чужд некоторых тайн.
– Это еще как сказать, – возразил я. – Не сцепись он с нами, судьба его могла оказаться намного печальнее, вплоть до прекращения физического существования в результате внутриведомственных разборок. Пуля в затылок из «нагана» – и амбец котеночку! Что в реальности и случилось. А сейчас он благоденствует, пользуясь нашим покровительством. Глядишь, доживет до глубокой старости…
– Не стану спорить. Надеюсь, моя работа в Замке будет не менее плодотворной и взаимополезной (очень двусмысленно прозвучало). Признаться, мне не терпится попасть туда и познакомиться с ним в нынешнем качестве. В прошлом личный контакт получился несколько неопределенным.
– Дождемся возвращения Ирины с Олегом, тут же и отправимся.
…Только мы успели приступить к обсуждению некоторых деталей предстоящего, как открылось «окно», поддерживаемое московским «стационаром». Теперь мы были прочно связаны с базовой столешниковской квартирой, фиксироваyно пребывающей в двадцать пятом году, а через соседнюю, нами не так давно приобретенную и дооборудованную, имелись выходы в оба варианта недавно там наступившего две тысячи пятого/шестого годов. «Нашего» и «монархического».
Пространство для маневра расширилось, и я предложил крымскую нашу дачу временно законсервировать, все нужное отсюда забрать, оставив взамен несколько следящих устройств, и до эвакуации в Замок переместиться в Москву. Если дуггуры все ж таки нас засекли и предпримут ответные действия, то явятся непременно сюда, а мы получим солидную фору. Не говоря о том, что «столешниковская позиция» не в пример оборонопригоднее отдельно стоящей дачи.
– А как же Басманов с ребятами? – спросил Берестин.
– Не пропадут. Сообщим Михаилу, что дела потребовали нашего немедленного отъезда и они могут поступать по собственному усмотрению. До очередного особого распоряжения.
Конечно, чувство безопасности и защищенности на Столешниковом проявляется неизмеримо ярче. Пока мы внутри, нас не достать никакими силами: если дверь заперта изнутри, ее не открыть и аггрианскими блок-универсалами. Возможность без использования аппаратуры, оставляющей след в континууме, выйти в другие реальности тем более прибавляет уверенности.
Тот факт, что на Главной исторической за семьдесят миновавших после стычки с «медузой» лет ничего, в сравнении с прошлым нашим посещением, не изменилось, успокаивал. Я в этом убедился, выйдя наружу в «настоящий» две тысячи шестой и купив несколько газет, российских и иностранных.
Ни малейших следов нестыковок. Все политические фигуры на местах, международные конфликты продолжаются там, где и раньше, и с прежней интенсивностью.
Захотелось поверить, что эпизод с дуггурами на самом деле локальный эксцесс в латентной параллели и к любому из нас больше не имеет ни малейшего отношения.
Увы, думать так было приятно, но неосмотрительно. По крайней мере, до тех пор, пока мы не получим сколько-нибудь убедительной информации в пользу любой из версий.
Пока Удолин раскладывал свое имущество на новом месте (как истинный уроженец XIX века, он привык даже в снятом на сутки номере гостиницы устраиваться основательно), Олег предложил вызвать сюда Ларису. Он считал, что при любом раскладе она может оказаться нам полезной, что уже неоднократно доказывала. И Ирине будет веселее. Тут спорить было не с чем, двум девицам в мужской компании будет веселее безусловно, они смогут немедленно заняться исконно женскими делами, особенно если одна из них такая любительница интриг и всяческих сравнительно безобидных мелких пакостей, как наша младшая подружка. В стратегическом смысле я тоже был полностью с Левашовым согласен: в Замке Лариса будет нам весьма полезна, пусть даже используемая втемную.
На самом же деле, конечно, Олег нашел подходящий повод, чтобы воссоединиться со своей вздорной половиной.
Просто так сделать это у него не получалось. С самого момента заключения «брачного союза» жить вместе долго им не удавалось. Такие вот связались друг с другом типажи, с оригинальными, плохо совместимыми жизненными циклами.
Недели через две очередного «медового месяца» Лариса начинала утомлять Олега своей высокой сексуальной и общественной активностью. Рестораны, приемы, встречи, театры, концерты, пикники и многое другое, что постоянно и непрерывно влекло ее из дома туда, где кипит хоть какая-нибудь жизнь. А ему хотелось заниматься чистой наукой или возиться с железками в своей мастерской. Такая женщина становилась невыносима. Естественно – ты в час ночи затеялся паять железки, а она, вернувшись из кабака, требует совсем другого.
Тогда они разъезжались до начала следующего цикла. Тем, изменяет ли ему Лариса, Левашов ни сколечко не интересовался. Как будто это он философ, а не я. Олег считал, что нет абсолютно никакой разницы между изменой физической и эмоциональной. Смотрит она на досуге эротические фильмы или проделывает то, что там показывают, наяву, с живым партнером – что толку задумываться, сожалеть или ревновать? Ни от него, ни от нее не убудет, особенно если доброжелатели не станут надоедать никчемной информацией. Девочкой она и до него отнюдь не была, так что невелика разница.
В настоящее время у нее все еще длился период увлечения своей кисловодской ипостасью, и возвращаться в скучную, почти доисторическую Москву двадцать пятого, троцкистского года Лариса категорически отказывалась. На бывшей даче Матильды Кшесинской ей жилось неизмеримо интереснее. В компании Майи Ляховой и ее подружки – особенно.
Что может быть увлекательнее для девушки с таким, как у нее, советским прошлым? В сравнении с нашей компанией, где все старше ее лет на десять и постоянно озабочены собственными делами и мировоззренческими проблемами. А там – роль молодой, веселой вдовы со шведской фамилией и громадным капиталом в русских банках, собственная вилла на холме над железнодорожным вокзалом, приятное общение с местным бомондом, а главное, с семейством Лихаревых. С Эвелин она очень сдружилась, и Валентин, получив последний и окончательный, как хотелось думать, урок, демилитаризованный, вроде Японии после Второй мировой, полностью смирился с жизнью нормального, не стесненного в средствах, обывателя и даже, по слухам, собирался баллотироваться на очередное трехлетие на пост окружного предводителя дворянства.
Левашов «сбегал» за ней и настолько четко сумел все объяснить, что она явилась незамедлительно, в чем была. А была она хорошо одета для очередного «суаре» [44], оживлена и явно настроена на новые приключения. Наверняка более интересные, чем вечер в Курзале с танцами и последующим бриджем до утра.
Как водится, они расцеловались с Ириной и допустимое приличиями время щебетали за пределами звуковой досягаемости на гендерные [45] темы.
Затем я нарушил их милое уединение.
Лариса, приятно улыбаясь, стрельнула глазками на меня, на Ирину, замедленно-демонстративно поменяла положение предназначенных для вдумчивого созерцания ножек, правую перекинула через колено левой. До сих пор наивно уверенная, что такие приемы на меня действуют. На многих других – безусловно, а на меня – нет. Или это у нее инстинктивное?
– Ира, может быть, шампанского? – с ноткой капризности спросила она, закуривая модную в теперь уже ее мире длинную тонкую сигаретку, толщиной и вкусом напоминающую обычную солому.
Ирина неопределенно пожала плечами. Я-то, мол, при чем? У нищих слуг нет, как говорил Высоцкий в известном фильме.
Слуг в доме действительно не было, но мне не составило труда сходить и принести. Зачем же обострять отношения перед деловым разговором?
– Ну, девочки, со встречей! – Бокалы зазвенели романтически, будто в новогоднюю ночь.
– Ты мне вот что скажи, Лариса, с Лихаревым давно встречалась?
Взгляд у нее неожиданным образом ушел в сторону. Она что, недавно с ним спала и сейчас испугалась, что я об этом знаю? Какая глупость! В том смысле, что подобных вещей в нашей команде давно перестали опасаться. Всем известно, что при должной сноровке установку СПВ или блок-универсал всегда можно сфокусировать на любой точке и, следовательно, поймать каждого на чем угодно не составит труда. Потому одним из пунктов кодекса Братства предписывалось ничем подобным в отношении друг друга не заниматься. Категорически. Ну и, в виде «обратной теоремы» – избегать моментов, за которые в случае чего может быть стыдно. По большому счету. Естественные амурные приключения к данной категории не относились, тоже по определению.
– Недавно, а в чем вопрос?
– Он ничем не отличался от прежнего?
– А чем он мог отличаться?
– Лариса, я тебя сейчас спрашиваю не как репортер светской хроники. Ты наши принципы знаешь. Любопытством не страдаю. Спрашиваю, как следователь, ведущий серьезное дело. Ты – не какой-то там свидетель, ты одна из нас. После разборки в Кисловодске и на Валгалле мы Лихарева простили? Простили. С Эвелин ты работу провела? Провела. Нормально все было? Нормально – я в курсе. Теперь ответь, ты за ним последнее время никаких странностей не замечала? Каких угодно. Необычного поведения, проговорок, чего угодно касающихся, воспоминаний о предыдущей жизни, в чем-то отличающихся от прежних. Нет?
– Что нет – то нет, клянусь! С тех пор как возвратился, выглядит чуток пришибленным, а так – один в один. Что я, в людях не разбираюсь? О прошлом, сами понимаете, старается не вспоминать. Собственно, именно к такой жизни он и стремился, сбегая из тридцать восьмого. А что бес (то есть Дайяна) попутал, так с кем не бывает? Осознал и дал победителям честное благородное слово ничего подобного впредь не допускать. Вы ж его опустили, прости за грубость, отняли все, только женщину и деньги оставили. Он и притих. На меня и то, бывало, пугливо оглядывается…
Из дальнейшего разговора я выяснил, что никакой «корректировки памяти» у нашего Лихарева не случилось, да и не могло, конечно же, случиться. Для него «реальность-38/3», с наркомом Шестаковым – победителем в испанской войне, с дуггурами и всем прочим, не сформировалась. Дожил он в той, «38/2», до лета, уехал по приказу Сталина в Ворошиловск, откуда бежал в две тысячи пятый. О чем он уже подробно рассказывал Шульгину при встрече в Пятигорске, включая детали и подробности Сашкиного исчезновения из тела Шестакова.
Значит, еще одно подтверждение того, что «вставной эпизод» успешно вырезан из кинопленки и концы ее после изъятия и совмещения Шульгина склеились «без шва». Для здешнего Лихарева «отыгрыш» осуществился в момент первого снятия матрицы, а для «другого» микроразвилка образовалась на Валгалле, куда он кинулся вслед за «сбежавшим» наркомом и встретился с Сашкой и Дайяной.
Мозги сломаешь, пытаясь слепить в непротиворечивую картину вроде бы достоверные факты. Значит, не стоит и пытаться. Так вышло – и хватит об этом.
А вот практический вопрос остается – можно ли теперь считать год 2006/2 зоной «дьюти фри», свободной от таможенного и любого другого контроля? Кисловодский Валентин в эпизоде с московскими монстрами не подставился, хвост за ним не потянулся. «Материальный не потянулся, – одернул я себя. – Что касается ментального или еще более неуловимого нашими чувствами, отчего бы и нет? Причины и методика межвременной агрессии против Великого княжества Московского так ведь и остались до конца не проясненными…»
Выяснив еще кое-какие интересующие нас детали, мы с Ириной объяснили Ларисе, в чем причины ее срочного приглашения, и обрисовали, как видим предназначенную ей ближайшую задачу. Она отнеслась с пониманием и откровенным интересом.
– Вообще ваш Антон мне никогда особенно не нравился. Кто его знает, может, на самом деле все, что он успел наплести, – грандиозная туфта. Никакого побега на самом деле не было, отпустили его «под подписку», чтобы он в организацию внедрился, а потом всех сдал. Обычное дело. Тут и архивы изучать не надо, одного «Места встречи…» достаточно.
– Вот и будем себя вести соответственно. Я ему, скажем, верю, ты – категорически нет и не скрываешь враждебности. Ира, Олег, Алексей тоже будут проявлять искренние чувства и отношения. У кого какие есть. И упаси бог пытаться что-то играть. Все должно быть от души. Партнеры наши совсем не дураки и в человеческих настроениях разбираются. Сашке, был случай, захотелось Антону в морду дать, и он это проделал, красиво и без вредных последствий…
– Про последствия я не стала бы так категорически-оптимистично. Все может быть как раз наоборот. – Девушка улыбнулась настолько очаровательно, что захотелось перекреститься.
– И это не исключается, – согласился я.
Лариса встала, повела плечами, как бы разминая затекшие мышцы, грудь ее соблазнительно колыхнулась под кружевной блузкой. Одернула юбку. Привычно-автоматические движения. Не собиралась же она охмурять меня в присутствии Ирины. Просто стиль такой, наверняка убойный для аборигенов и гостей кавказских Минеральных Вод.
– Короче, договорились, – сказала она. – Если совсем честно, я вовсе не против отправиться куда-нибудь подальше… Приедается на одном месте. И с монстрами вашими встречаться совсем не хочется. Но если придется…
Втянулась барышня. Гражданской войны, наместничества в Красной Москве, нынешнего роскошного житья ей мало – новых приключений подавай. И винтовку в руки.
– О чем и речь, дорогая. Постараемся что-нибудь подобрать, лично для тебя. Совсем-совсем нескучное…
Не знаю, восприняла она мои слова за правду или уловила содержавшуюся в них едкую иронию.
Глава тринадцатая
– Ну что, господа, – спросил я, оставив дам заниматься своими делами, – будем еще одну попытку рекогносцировки предпринимать или сразу в Замок двинемся? Лично я смысла в дополнительных изысканиях не вижу никакого, результат в лучшем случае будет нулевой, а худший нам зачем? Лариса только что дала мне окончательное подтверждение.
– В Замок так в Замок, – согласился Берестин, а Олег предложил:
– Так давай сразу и Сильвию прихватим, до полного комплекта. Чтоб два раза не бегать… Она сейчас где?
– «Вчера» была в Париже. На открытии сезона в «Мулен руж». Общество там, говорят, особо изысканное собирается. – В голосе Алексея прозвучала не слишком маскируемая ирония.
– Хорошо хоть не в Лондоне, – усмехнулся я, а то бы копии сейчас там локтями цеплялись. – Вызывай, спроси, в команде она или позже подъедет. Тут, мол, транспорт попутный ожидается, а потом билет покупать придется…
Не слишком я и пошутил. На самом деле предпочтительнее, чтобы Антон забрал нас собственными средствами, за одну ходку, чем поодиночке пробираться через дебри пространства-времени, как офицеру-добровольцу на Дон через Совдепию и чересполосицу бандитских анклавов.
В Замок мы прибыли всемером, как толпа родственников из Кзыл-Орды, нагрянувших к столичному дяде в начале шестидесятых годов – «культурки взять», дефицитом отовариться. Чтобы за гостиницу не платить, согласны и на газетах в прихожей спать, не впервой, чай.
По крайней мере, мне показалось, что в глазах Антона мелькнуло что-то похожее на эмоцию владельца столичной жилплощади. Хорошо, если просто тоска, происходящая от неприязни к утомительной суете чуждых тебе по духу людей. А если от другого?
Слава богу, Антону вместе с камрадом Арчибальдом, который на сей раз встретить гостей не вышел, не было необходимости размещать нас в прихожей.
За каждым из нас сохранились прежние комнаты, но с тех пор вкусы у большинства значительно изменились и потребности выросли. Вполне приличные гостиничные номера европейского четырехзвездочного класса наших дам больше не устраивали. Привыкли к совсем другим категориям сервиса и комфорта. А я вдруг оказался в давно забытой роли ответственного за размещение членов делегации Советских защитников мира, прибывших в Манагуа на Конгресс сторонников Движения неприсоединения. Такими делами тоже приходилось заниматься. До седьмого пота я тогда решал вариант пресловутой задачки про перевозку волка, козла и капусты, чтобы исходя из фиксированного количества номеров удовлетворить запросы каждого делегата, с учетом их заслуг, статуса, половой и национальной принадлежности.
С задачей я справился, только после окончания конгресса советник посольства предъявил мне пачку письменных жалоб, где меня обвиняли во всех смертных грехах, от грубости до тайного антисоветизма. Один только делегат от Узбекистана, секретарь какого-то глухого обкома с непроизносимым названием по фамилии Муллокандов (запомнил из благодарности), ничего не написал, да и то потому, что всю неделю просидел у себя в номере на ковре, дегустируя текилу и запивая ее зеленым чаем.
Сейчас, конечно, было попроще. По моей просьбе Антон отвел нам для компактного поселения верхний этаж корпуса, соединявшего две древние, сильно выщербленные ветровой эрозией башни. Это не имело никакого значения, на самом деле. Можно было жить в комнатах, разнесенных на километры по горизонтали и вертикали, и все равно не испытывать транспортных затруднений, навещая друг друга. Но тут дамы захотели, а мы не стали возражать, чтобы все комнаты были в одном коридоре, рядом. И даже с внутренними, соединяющими номера дверями.
Что касается площадей и интерьеров апартаментов, каждый по-прежнему оставался в полном своем праве. Достаточно было сосредоточиться и вслух или мысленно, но обязательно словами объяснить, что именно требуется. Приблизительно или детально – как у кого получится. Примечательно, что самого процесса трансформации воочию никто не наблюдал. То есть сказал: «Хочу, чтобы как в президентском номере „Уолдорф Астории“, подожди несколько секунд, потом входи и радуйся. А если сначала войдешь и только потом желание изъявишь, ничего не получится, стой хоть до завтрашнего дня. В присутствии живого человека процесс не идет. Техника безопасности своего рода.
Когда все разошлись по своим помещениям, я подумал, что следует облагородить и сам коридор. Не слишком он уютно выглядел, стометровый, с высоченными потолками, голыми каменными стенами и вымощенным плитами розоватого гранита полом. Крикнешь – долго будет разноситься многотональное эхо.
Я подошел к Антону, скучавшему в круглом холле на лестничной площадке башни. Влево тянулся еще один такой же коридор, но вообще без всяких признаков присутствия разумной жизни. Вспомнилась «библиотека» и встреча с тамошним монстром. Шевельнулось в душе нечто вроде иррационального, архетипического страха.
Обращаться за помощью пришлось оттого, что на конструкцию собственно Замка мои (и чьи угодно другие) возможности к трансформации не распространялись. Комнаты, бары, спортзалы и прочее мы «творили» легко, но что касается несущих стен, внутренней архитектуры и топографии – отнюдь.
– Ты бы не затруднился вот здесь надежную дверь поставить? – указал я на ведущую в коридор арку. – С самым примитивным засовом в руку толщиной. А вон там, за дверью крайнего номера и лифтовой площадкой, стеночку соорудить. Агорафобия, понимаешь, кое-кого мучает. Ну и антураж посовременнее хотелось бы… Зачем нам эти декорации к готическому фильму ужасов? Люди хотят мещанского уюта и покоя…
– Нет проблем. А как желательно – в стиле гостиницы «Москва», «Метрополь», «Астория», «Англетер»? Изобразим немедленно.
– В стиле дореволюционной «Астории». В самый раз будет.
Кажется, Антон имел в кармане пиджака что-то вроде пульта управления, потому что через секунду в указанных местах появились двери и стены, а интерьер за ними, внутри коридорной секции, стал таким, как я заказывал. Сейчас почему-то мое присутствие трансформации не помешало.
Полы покрылись узорным, тщательно навощенным паркетом, стены и потолок украсила позолоченная лепнина, хрустальные люстры и бра. Протянулась ковровая, гасящая звук шагов дорожка, в простенках воздвигнулись кадки с пальмами, ну и так далее…
– Спасибо, камрад, это уже на что-то похоже. Господам постояльцам непременно понравится. Теперь мы немного отдохнем, промеж собой кое-что порешаем, а завтра встретимся. Если у тебя, конечно, нет других предложений.
– Какие там предложения? Завтра так завтра.
Я сделал ему ручкой и направился к себе.
Шульгин, как я и рассчитывал, проспал наше появление и был даже несколько удивлен, увидев общество в полном сборе. Держался он спокойно и вполне адекватно, как будто действительно прибыл из Новой Зеландии и никаких иных происшествий с ним не случилось. Говорить об этом, конечно, придется, но у наших хватит деликатности не акцентировать и не касаться моментов, не имеющих непосредственного отношения к делу.
Фактически ведь ничего слишком особенного и не стряслось. Как бывало неоднократно, и не с ним одним, очутился человек в не предусмотренных ранее обстоятельствах, так или иначе их преодолел и возвратился все-таки со щитом, а не на нем. Как Воронцов, как мы с Берестиным или потом с Ириной, Шульгиным и Анной в мире Ростокина. Специфика профессии, не более того.
Сейчас нужно было думать о ближайшем будущем, а не зацикливаться на прошлом, хотя без опоры на него – тоже никуда.
Общее собрание решили отложить на потом. Длящийся бог знает сколько часов день и так оказался перенасыщен событиями. Дамы, пока их не сморит сон, найдут чем заняться, Удолин тем более. Остальным я предложил прогуляться до оружейного музея, посмотреть, что там и как, в рассуждении грядущего.
Ну и попутно, теперь уже сообща, квартетом «отцов-основателей», никуда не торопясь и не отвлекаясь на злобу дня обсудить «международное положение и вопросы текущего момента», как принято было писать в повестках дня партийных собраний и пленумов.
До музея мы, впрочем, не дошли. Передумали. Оружием мы сможем заняться и позже, а сейчас обилие увлекательных экспонатов будет только отвлекать от главного. Завернули в другое, заранее присмотренное мною местечко.
Здесь я сообщил Олегу и Берестину о предложении Антона: до полного прояснения сути дуггуров и степени исходящей от них опасности эвакуироваться из всех помеченных нами реальностей куда подальше, то есть за пределы даже теоретической досягаемости неприятеля. А также добавил собственную, вытекающую из предыдущей, идею: независимо от степени подлинной опасности – с Антоном согласиться. Убыть куда глаза глядят, но не просто так, а на «Призраке», в лучших традициях и стиле девятнадцатого века.
Тогда ведь как было? Судно покидает родимый порт, и до самого возвращения узнать о его маршруте и судьбе не существует технических возможностей. Кроме весточки, переданной со случайно встреченным в море кораблем или заключенной в отправленную на волю волн бутылку.
Точка зрения Шульгина мне уже была известна, а Левашов, услышав мои слова, сразу загорелся. Я этого ждал, но в более сдержанных тонах.
– Да что, мужики, класс! Мне нынешняя жизнь до чертиков надоела. Вершить судьбы мира – тьфу! – и сплюнул вполне натурально. – На Валгалле не удалось зацепиться, так хоть сейчас! О чем мы с детства мечтали? В гробу я видал и наши особняки, и все такое прочее. Развлечемся по полной. И никто нам во всем мире не указ…
Олегов энтузиазм меня даже слегка удивил. Казалось, за последние годы лучшие черты его личности слегка деформировались, как и у каждого из нас, чего греха таить. У всех по-разному, но на примере Левашова – нагляднее. А что вы хотите – тридцать семь лет – не восемнадцать и не двадцать пять даже. Да душевный раздрай по политическим мотивам, да подруга, которая в гораздо большей мере леди Винтер, чем мадам Бонасье.
Но сейчас я снова увидел перед собой того самого Олега, с которым мы уединялись в двух теплых, с дровяными голландками комнатах его квартиры, где окна высокого второго этажа выходили в глухой заснеженный двор. Паяли с ним детекторные [46] приемники, взахлеб обменивались мнениями о «Туманности Андромеды», печатавшейся в «Технике молодежи», которую оба выписывали. Чуть позже дошли и до идеи «Призрака», когда его отец сумел приобрести полное собрание сочинений Джека Лондона (самое первое, восьмитомник в серой обложке).
Кто б тогда мог вообразить, во что эти невинные забавы выльются? Никто, естественно. Как никто не угадал бы перспектив, кроющихся в рыжем истеричном первокласснике Володе Ульянове, мрачном семинаристе Сосо Джугашвили и параноидальном кандидате в художники Адольфе Гитлере.
Равняться с ними не будем, но тенденция просматривается.
Голубые глаза у Олега сияли, русый чубчик растрепался на лбу, знаменитая, почти забытая улыбка «до ушей» озаряла лицо. Мне совсем тепло на душе стало. Ну вот, былые трения, глядишь, исчезли в прошлом, сложном для всех. И бабский вопрос, слава богу, нечувствительно ушел на задние планы…
– А как пойдем? Только мы или еще кого прихватим? По мне бы и так хорошо…
Он вообразил, по восторженной наивности, что если я собрал нас четверых, то так и задумано.
Оно конечно, к той идее, что я втайне лелеял, – это было бы оптимально: без женщин, чтобы не отягощали необходимостью заботиться о них и защищать. С другой стороны – месяца на три-четыре планируйся экспедиция, тогда конечно. А если на годы? Впрочем, и на такой вариант у меня имелись свои соображения. Пока мы рассуждаем в принципе.
– Четверо – маловато, – сказал Шульгин. – Даже по нашим детским воззрениям экипаж из пяти главных героев – в самый раз. О роботах мы тогда не задумывались, наемных матросов и слуг в виду не имели, рассчитывали только на себя. Помните, в моду как раз вошли одиночные кругосветки, что наполняло нас оптимизмом. Если шестидесятилетний, хилый на вид Чичестер справился, то уж мы-то, крепкие парни с массой разрядов по всевозможным видам спорта, – без вопросов!
Начиналось то, к чему я и стремился. Друзья, будто и не было ничего между давними годами и нынешним мгновением, стремительно возвращались к исходным сущностям. Эмоциональный, быстро загорающийся Олег, не по годам рассудительный Сашка, я, как и тогда, где-то посередине. Генератор идей и по совместительству дежурный скептик, чтобы осаживать порывы до планки, условно разумной.
Берестин, не намного старше нас годами, но проведший молодость совсем иначе. Военное училище и лейтенантские погоны в двадцать два года – не совсем то, что отвязанная студенческая вольница «оттепельных лет». Он смотрел на нас с легким налетом печали и зависти. Как писал Паустовский, «легче пережить несбыточное, чем несбывшееся». Вот что-то «несбывшееся» он сейчас и старался адаптировать к действительности.
Честно признаться, и в те времена наша азартная увлеченность даже ровесникам казалась обычным инфантилизмом, если не глупостью. Какие яхты, какие путешествия при тогдашней скудной жизни и общей политической обстановке? А кое-кто отнесся к забаве посерьезнее. Что, если под нарочито дурацким антуражем кроется какое-нибудь очередное тайное общество антисоветской (естественно) направленности? Да еще псевдонимы мы себе выдумали – Дик, Билл, Майк и т. д. Неудивительно, что кое-кого из нас даже приглашали в кабинет директора школы для «профилактической беседы» с представителем «конторы». Хорошо хоть прямо в «Большой дом» не доставили «приводом». Тут отдельное спасибо нужно сказать директору школы, до срока уволенному в отставку полковнику Николаю Васильевичу. Он нас со всей убедительностью и авторитетом «отмазал», хотя потом, наедине, в доступных матерных выражениях изложил, что о нас думает. Отечески подчеркивая, что в нашей школе чуть не у половины учеников отцы в той самой конторе служат (по причине того, что в непосредственной близости располагалось несколько ведомственных многоэтажек) и все наши забавы, шалости и болтовня в тот же день становятся известны «кому следует». Сам же он, что нам, несмышленым, сразу стало очевидно, «чекистов» не выносил, по каким-то своим причинам.
– А кто о четверых говорил? Я – нет. На «Призраке» шесть двухместных кают. Если поднять откидные койки, вдвое больше людей поместится, но будет уже не прогулочная яхта, а подводная лодка. Так что идеально шесть мужиков, или четыре семейные пары и еще двое, – ответил я.
– Все равно тесновато будет, – усмехнулся Берестин. – Как в спальном вагоне. И скрипа коек за переборкой я не люблю… Особенно с двух сторон сразу.
Мысль, не лишенная смысла. Попробуй такое вытерпи на протяжении трансокеанского перехода.
– Значит, в идеале шесть. А кого еще? – включился Сашка. – Предложения принимаются. Воронцов нужен на «Валгалле», без судна обеспечения не обойдешься. Припасы, огневая поддержка, девушек, опять же, транспортировать. Чтоб было куда в увольнение сходить.
Мы с Олегом согласно кивнули, переглянувшись при этом.
Но выбор-то невелик.
– Ростокин сгодится, если захочет…
Тут спорить не с чем. Салага, родившийся на семьдесят с лишним лет позже нас, однако поклонник всеми в его мире забытого Стенли. Здоровенный парень, повидавший в жизни не меньше (а пожалуй, и больше, если считать космические полеты) нашего, в разных делах проверенный, для избранного дела сгодится, без вопроса.
– Я бы еще и Кирсанова взял, – мечтательно сказал Левашов.
И здесь не поспоришь. Специалист, единственный, кроме Басманова, настоящий уроженец этих времен, четко попадающий в «легенду». Кроме того – человек исключительных для начала двадцатого века качеств. Профессиональный жандарм, что у либералов всех мастей всегда вызывает страх пополам с презрением, или наоборот. Мы же ставим этот факт Павлу Васильевичу в заслугу. Побольше бы таких ребят было в свое время, глядишь, без нашей помощи история в нужном направлении повернулась. В две тысячи пятом попалась мне на глаза пародия на хрестоматийный стих: «Бежит ОМОН, бежит спецназ, стреляет на ходу. Ах, как нам не хватало вас в семнадцатом году!» Как раз к таким, как Кирсанов, относится. Вдобавок языки знает по-настоящему, собственными мозгами постиг, не инопланетными подсадками. Соображать умеет не хуже сыщика Порфирия Петровича.
Мы сидели в совсем небольшой комнате, на предпоследнем этаже далеко выдвинутой в сторону прерий башни. Форпост, можно сказать. Крепкий, неприступный, из тесаных блоков серого гранита. А все равно ощущение то самое – форпост, передовой рубеж. Если вообразить, что начнется классический штурм, первый удар придется именно сюда. Орды гориллоидов, допустим, бросятся на приступ с канатами, крючьями, длинными гибкими лестницами. Поддержанные гаубицами калибра сто пятьдесят два или инфразвуковыми излучателями. Но нам – плевать! Мы сейчас, как каре тузов в покере, настоящем, «длинном», а в кармане джокер. Любой банк снимем, и сомневаться не в чем.
Камин здесь был нестандартный. Не у стены. Посередине комнаты возвышался кольцевой каменный барбет, а над ним – полусферический колпак из металлокерамики, с уходящей в потолок широкой вытяжной трубой. Под колпаком жарко горели хорошие бревна: высушенный бук, метр длиной, десять дюймов диаметром. На расстоянии комфортной температуры – низкий столик, накрытый по обстановке.
– Кирсанова можно, – благодушно кивнул я головой. – Тогда и господина Гумилева чего не взять? Большой специалист по Африке. И будет воспевать наши подвиги в стихах…
– Лучше – канцонах [47], – блеснул эрудицией Сашка, хотя наверняка в точности не понимал, о чем говорит. Слышал где-то, что старинные трубадуры такими формами увлекались.
– Вы трепаться будете или о деле говорить? – спросил Олег, успевший за прошедшие минуты подогреть в медном луженом ковшике, поставленном на специальную решетку, терпкое вино, бросив в него несколько кусочков корицы. – Не хватало еще посторонних в наши тайны посвящать. И своих-то не всех берем.
– Я не понял, – осторожно спросил Берестин. – Африка тут при чем? Мы разве в Африку собираемся? В какую?
Проговорился я под влиянием настроения. Придется назад отыгрывать.
– Африка – чистая условность. Про Африку мы в детстве больше читали. Про Кохинхину и Бирму – меньше. Сам сообрази, куда тебе интереснее – в район копей царя Соломона или черт знает какую дельту Меконга? Ну?
Этот раунд я выиграл, свою мысль замаскировал, не от Алексея, от посторонних, кого бы к ним ни причислять.
– А если о деле, то перед тем, как экспедицию комплектовать и слугу посылать за покупками в дорогу, нужна квалифицированная оценка ситуации.
Не зря мы забрались в эту отдаленную, расположенную вне нашей обычной зоны обитания башню. Мне казалось, что здесь я сумею выставить мысленный блок против аудио– и видеоконтроля с гораздо большей легкостью, чем в других помещениях.
Замок как таковой, тем более – увлекшийся ролью Арчибальда, совсем не всемогущ. Проверено. И на час-другой мы сможем выйти из зоны его внимания так, что он этого даже не заметит. Четырех лет хватило, чтобы и нам кое-каким мелким хитростям научиться.
Только мы успели распить ковшик глинтвейна, как Шульгин, ставя на стол стакан, отодвинул вверх и в сторону мизинец. Абсолютно невинный жест, купчихи, «гоняющие чаи», так для политеса делали, но по нашей криптографии это означало знак опасности, требующий особого внимания.
Здесь одному из нас следовало взять на себя инициативу, предложить нечто не лезущее ни в какие ворота предполагаемого противника. Кем бы он ни был. При этом я пока не понимал, что на самом встревожило Сашку. Однако раздумывать потом станем.
– Нет, братцы, чего мы тут сидим? – спросил я со всей возможной степенью расслабленной горячим вином наивности. – Мы же где? В Замке! Бабы спят, а нам в самый раз что? Запросто изображу сейчас для вас Лас-Вегас с ансамблем танцующих канкан фей. Думайте и предлагайте пропорции – сколько блондинок, брюнеток, негритянок и азиаток. Хоть сто, хоть двести. Поднялись. Мы только идем, а они уже в ряды и колонны выстраиваются, подтягивая чулочки…
Надеюсь, прозвучало это вполне убедительно, поскольку все остальные мысли я надежно заблокировал. А те, что транслировались, тоже были безусловно мои, на канканирующих девушек я всегда смотрел с искренним удовольствием.
По дороге в якобы подготовленное мной место, в длинных коридорах Замка, похожих на переходы с кольцевых на радиальные станции метро вроде «Павелецкой», мы вели себя полностью соответственно студенческим манерам и привычкам наших лет. Пытались петь бардовские песни, друг друга перебивая. Выясняли, где ближе всего взять пива или чего покрепче, вспоминали давно забытые политические анекдоты…
В общем, создали достаточный напор и объем «белого шума», чтобы у логически мыслящего устройства, не являющегося генетически русским человеком, выбило пробки. Тем более что по пути, вообразив тот самый тоннель к «Павелецкой» со всеми торговыми заведениями, Сашка выхватил с прилавка возникшего за поворотом магазинчика бутылку наверняка «паленой» водки, рассчитавшись столь же виртуальной сторублевкой без сдачи. И мы тут же начали ее распивать, благо милиции в перспективе не просматривалось.
Это, как я понимаю, относилось уже к постсоветским реалиям двухтысячных годов.
И хорошо – Замку лишняя нагрузка на мозговые ячейки. Не помню имени, но был в свое время советский писатель-фантаст, в рассказе которого герои вырвались из плена планетарного электронного супермозга, именно забив ему оперативную память неразрешимыми логически задачами, перемежаемыми ерундой вроде: «Последнее дело – запивать шашлык лимонадом».
В нужный момент Шульгин толкнул нас в сторону, и тут же мы оказались на омерзительно грязной и вонючей площадке перед «черным ходом» той самой коммуналки, где мы с Сашкой заседали еще «до исхода». Предполагалось, что она защищена от любого постороннего проникновения, ментального или физического. Туда не смог в критический момент послать тревожный сигнал даже сам Замок. Точнее, послать-то послал, а вот защиту его сигнал не пробил.
Здесь Сашка прямо на глазах отмяк, не просто успокоился, а перешел в совсем другое психологическое состояние. Будто фронтовик, внезапно получивший отпуск или длительную командировку в глубокий тыл после года, проведенного на самом переднем крае.
Огляделся с доброй улыбкой, предложил располагаться, чувствовать себя как дома, указал рукой на квадратный дубовый стол с пузатыми резными ножками, явно сохранившийся «от раньшего времени».
Стол был безусловно отличный, на каком-нибудь аукционе, даже и Сотби, за него наверняка дали бы хорошие деньги, соразмерные с ценой всей квартиры, но покрывала его жалкая, местами облезшая до тканевой основы клеенка в бледных цветочках. На ней стояло именно то, что я помнил по первому посещению и что походя воспроизвел Сашка. Применительно к другому составу компании.
Четыре толстых фаянсовых тарелки с надписью «Нарпит НКТ» [48], рядом с ними бывшие в употреблении алюминиевые ложки и вилки. В центре – две бутылки зеленого стекла с залитыми красным сургучом пробками, граненые стаканы, три банки кильки в томате (вскрытые), литровая банка баклажанной икры. На двух тарелках побольше – малосольные огурцы и небрежно, но от души нарезанное сало. Домашнее, как бы родственниками из деревни привезенное или на колхозном рынке купленное. Хлеб круглый, ржаной, в хрущевские времена стоивший 16 копеек, а до того – кто его знает. На газовой плите древнего образца белела кастрюля, которой раньше не было, и от нее явственно тянуло запахом свежесваренной картошки в мундирах.
– Ни хрена себе!.. – восхитился Берестин и добавил еще пару крепких выражений.
– Осталось только убедиться, что перед нами не муляжи из папье-маше, – щелкнул языком Левашов, направляясь к столу и протягивая руку к бутылке. – Ну да, именно «Особая Московская», Главспиртпром НКТ. Не траванемся?
– Ну, в пятидесятые годы люди это пили и ели. Мы с Андреем прошлый раз выжили. Если за время нашего отсутствия сюда кто-нибудь яда сыпанул – тогда не знаю. «Но аппаратура – при ем!» Шульгин достал из кармана и подкинул на ладони гомеостат.
– Тогда разливай, и продолжим. Становится интересно.
Я откупорил бутылку и разлил точно, грамм в грамм, как в станционном буфете.
– Надо же, – беря в руки стакан, сказал Алексей. – Сто лет за таким столом не сидел. Разве что в лейтенантах еще. Хорошая у тебя память, Саша.
– Дай бог, чтобы не только память, – в виде тоста произнес я, и все выпили, каждый со своими мыслями и своим настроением.
– А ничего. – Левашов внимательно прислушался к себе, как прошло и каково послевкусие. Зацепил полную ложку кильки. – Тоже ничего. Не хуже омаров… Жили же люди.
Почти сразу все растормозились, начали активно закусывать, будто все прочие заботы исчезли или отодвинулись в несущественную сейчас даль.
– Только, Саш, с памятью у тебя не совсем, – сообщил я, наливая по второй. Указал на стоявшую перед ним тарелку. – Я абсолютно убежден – прошлый раз было написано: «Общепит». То есть сдвинул ты лет на десять назад, а то и на двадцать.
– Свободно. Я последнее время где провел? В тридцатых. Вот и запало. Но это же несущественно?
– Не понимаю, для чего все, – спросил Левашов, – если мы имеем дело с нашими единственными союзниками? В лучшем случае – посеем недоверие… Не проще ли все решать напрямую? Чего ты сейчас тревогу объявил?
Олегово пристрастие к этически безупречным позициям и поступкам меня иногда развлекало, иногда раздражало.
– Союзниками… Кто бы спорил. А ты знаешь в российской истории союзников, которые в тот или иной момент ее не предавали? Грубо или мягко, из давно копившейся злобы или сиюминутного интереса. Я – не знаю. Очередной завет Козьмы Пруткова: «Возлюби своего ближнего, но не давайся ему в обман». А в башне мне показалось, что у меня в мозгах что-то зашевелилось. Или зонд для подслушки просовывают, или лишние мысли внедряют…
– Это у тебя очередная матрица зашевелилась, – усмехнулся Олег. – Устраивается поудобнее. А если без шуток, по «гамбургскому счету», в результате наших взаимодействий с Антоном мы всегда оказывались в выигрыше, не так? Что имели на «входе» и что имеем «на выходе»? До знакомства с ним мы были уважающие себя, но, в общем, вполне рядовые, если не никчемные «эстеты». Попавшие в затруднительное, если не безвыходное положение Здесь… – Он не стал уточнять, что мы имеем здесь.
– Правда, белке приходится бежать все быстрее и быстрее, чтобы колесо не переломало ноги, – меланхолично заметил Сашка. – Боюсь, скоро дыхания может не хватить…
– И тогда? – с сократовской интонацией поинтересовался Олег.
– А я знаю? Может, наши недоброжелатели сломают не ноги, а шеи, а то, наоборот, вздохнут с облегчением…
– Как Антон, сидя в бессрочной тюряге…
– Кстати, господа, – вмешался я, – сидел ли он там на самом деле – отдельный вопрос. Мы что, не знаем, как настоящую дезу оформить можно? А тут ерунда, картиночка и трогательный рассказ невинно пострадавшего сидельца…
– Хм, – со значением произнес Левашов. – Ты у нас, разумеется, знаток. Но безграничный скептицизм ведет к полному отрицанию всего. Таким образом, не имеет смысла и наша нынешняя ассамблея…
– Смысл она в любом случае имеет, – возразил до того молчавший и с интересом изучавший почти забытый коммунальный антураж Берестин. – Другое дело, что если не верить Антону совершенно, то предприятие лучше не затевать. Как идти в горы, подозревая, что напарник в любой момент может обрезать страховку…
– Я же не это имею в виду. Просто перед шагом, который может стать окончательным, нужно проиграть все варианты. И совсем не в Антоне дело. Фактор Замка, это, знаете ли… – Олег сделал значительное лицо.
– Это мы понимаем, я – в особенности, – согласился Шульгин. – Думаю, надо вот что сделать. Пусть Олег притащит сюда собственный компьютер, проверит его на наличие всяких вирусов или следов посторонних вмешательств, после чего просчитает те хронологические точки, что нам Антон подкинул. Ему виднее, какие программы использовать. Что-то подобное ты, Олег, делал, когда Андрея с Ириной обратно домой послать хотел, а попал в девяносто первый. А машинка у тебя была, в сравнении с современными, вроде ручного арифмометра. Тот, что ты в «нашей» Москве-пять прихватил, раз в тысячу, наверное, мощнее. Верно?
– Ну, это постановка не совсем корректная, но грубо – примерно так. Если на первые расчеты при конструировании СПВ у меня уходили недели и месяцы, то сейчас то же самое я сделал бы за час… – Научная добросовестность заставила его тут же уточнить: – Если бы знал, в какую сторону думать и что считать. Кстати, о каких именно точках идет речь?
– Сейчас объясню, на примере «Великолепной семерки» [49]: «Он говорит, что ты говорил, а я говорю, что ты врешь! А ты что скажешь?» Вот и Антон «говорил». И теперь надо бы посмотреть, врал он или нет. Факт доказанного вранья – повод поставить под сомнения и многое другое. Если все чисто – найти приемлемый для нас лично оптимум. О'кей? Увидим, что нас кидают, вспомним твоего друга Троцкого: «На всякую принципиальность нужно отвечать полной беспринципностью». Или, еще доходчивее он же формулировал в Гражданскую войну: «В транду друзей…»
– Машину притащить не проблема, прямо сейчас и сбегаем. Но сначала все-таки поподробнее, что и про какие точки он вам докладывал?
Для полноты и точности изложения приходится мне вернуться к недавним событиям.
…Антон пригласил нас с Сашкой в баню. В релаксации нуждались все, а лично он к тому же никак не мог избавиться от впечатлений, полученных в канализации. Несмотря на то что и душ он дважды принимал, и переоделся в чистое, все ему чудились специфические запахи, и казалось, что кожа зудит, и под бельем что-то шевелится, то ли микробы, то ли блохи и иные паразиты.
«Почесуха обыкновенная», – поставил диагноз Сашка.
Мы договорились не касаться на отдыхе вопросов, выходящих за рамки теории и практики банных процедур, да разве удержишься? После нескольких заходов в парилку, чередующихся с прыжками в ледяной бассейн, наполненный пузырящейся минеральной водой с легким запахом серы (что послужило поводом для соответствующих шуток), в комнате отдыха, где мы освежались пивом «ручной работы», разговор сам собой вернулся на накатанную колею.
Вроде бы между прочим я начал вспоминать когда-то выстроенную Антоном таблицу доступных для «колонизации» точек на мировой линии Главной исторической последовательности.
Напомню некоторые положения теории, если она таковой является. То, что нам удавалось высаживаться в самые разные моменты прошлого и будущего, проводить там когда часы, когда дни и месяцы, никоим образом не означает, что в этом деле наличествует спектр неограниченных возможностей. Всякого рода химеры, полухимеры, тупиковые и латентные псевдореальности вполне можно сравнить с непонятной непосвященному путаницей подъездных и маневровых путей на крупной узловой станции. Рельсы, шпалы, насыпи, путевое оборудование вроде бы неотличимы от того же на Главном ходу, за небольшим исключением – приехать по ним без специальных ухищрений никуда нельзя. Даже за пределы станции выбраться и то вряд ли получится.
Если же вообразить себя пассажиром трансконтинентального экспресса, то заранее известно, на каких станциях вам будет позволено выйти на перрон, подышать, размять ноги. Можно сойти совсем, остаться там навсегда или на любой потребный срок. Только на «свой» поезд вы уже больше никогда не попадете… Впрочем, остается шанс догнать его на автомобиле или самолете, но ваше место может оказаться занятым другим пассажиром. А то и весь вагон по известным только железнодорожникам причинам может быть отцеплен, поставлен на запасной путь, на сортировке включен в состав совсем другого поезда, идущего, скажем, не в Сочи, а в Воркуту.
Так вот, о станциях. На Мировой линии тоже есть особые точки, где «поезд» останавливается гарантированно, где созданы для этого все необходимые условия. Стоп-кран, конечно, можно дернуть в любой точке маршрута, выпрыгнуть в неизвестность там, где тебе вдруг потребовалось или захотелось оказаться. Естественно, на свой абсолютный страх и риск. Другой поезд на этом самом месте случайно не остановится никогда: элементарная теория вероятностей не позволит.
А еще бывает, за неоправданный срыв стоп-крана штрафуют.
Обсуждая место нашей «пересидки», мы сошлись на том, что, с одной стороны, следует, как подводникам, погрузиться на такую глубину, что никакой гидрофон не возьмет и глубинная бомба не достанет. А с другой – условия существования должны быть приемлемыми для культурного человека. Средневековье заведомо исключается, пусть там спокойно можно выиграть пару крестовых походов и организовать собственное княжество в провинции Палестина. Но ведь скучно, согласитесь, даже если построишь некую аналогию дворца миллиардера Херста над лазурью Средиземного моря.
В этом зазоре между необходимым и достаточным и следует искать себе место.
Как разъяснял нам еще в «первом замковом сидении» Антон, в двадцатом веке таких оборудованных «остановочных пунктов» не слишком много, и все они каким-то образом совпадают с моментами, когда ход истории готов измениться от того самого азимовского МНВ. Практически в каждой из таких точек мы уже побывали, но самой надежной, комфортной и соответствующей нашим планам оказался пресловутый 1920-й, где мы и обосновались, бежав из Замка.
Теперь на шкале ХХ века оставались только две не использованных нами «станции» – годы 1903 и 1993. Но нас они не привлекали. Японскую войну мы переигрывать не собирались, тем более что кто-то там и без нас поковырялся, в результате чего возникла реальность Ростокина, колеблющаяся на грани… Никакое новое вмешательство, даже самое деликатное там недопустимо, только тронь – так может посыпаться! Вместо благостного 2056-го возникнет монструозная Империя в стиле Ивана Грозного, а то и конгломерат новорусских удельных княжеств и всевозможных ханств и эмиратов, образовавшихся на обломках «Единой и неделимой» после столетней Гражданской войны. Не зря я Ростокину упоминал про карточный домик в натуральную величину.
Кстати, Шульгин по этому поводу высказался в том же духе, что и раньше неоднократно, – уйти всем именно в 2056-й и забыть про все. Он, исходя из своих ощущений, предполагал, что мы своим там неоднократным присутствием, в том числе и постройкой форта на линии межвременного терминатора [50], в достаточной мере стабилизировали реальность – из разряда чистой химеры перевели ее в иное качество. В подтверждение он приводил феномен Ростокина и его Аллы. Они ведь совершенно нормально вписались в наш мир, за полтора года никак не проявив своей «химеричности». Да и мы болтались там достаточно долго, чтобы успеть убедиться в несокрушимой материальности тамошних людей и предметов. В том числе и собственными боками. Ведь буквально только что Сашка побывал там снова, лично общался с начальником галактической контрразведки и сохранил ощущение абсолютной подлинности окружающего мира [51].
Антон, в свою очередь, категорически возражал. В очередной раз сославшись на то, что если эта реальность так доступна для нас, то для дуггуров – тем более. Просочиться туда им раз плюнуть, в том числе и потому, что имеет место тот самый загадочный «терминатор». Не стоит упускать из внимания, что сам Шульгин попал туда в промежутке между инцидентами на «Зиме» и в Барселоне, что наводит на определенные подозрения. Кроме того, им, если они обладают хотя бы сравнимыми с нашими возможностями (а они у них явно больше), ничего не стоит обрушить ту реальность у самого ее основания. Погребя нас под ее обломками…
– Оставьте Суздалева и его Криптократию в покое, – увещевал он нас. – Она нам всем еще может пригодиться на другой случай. Вы, Саша, с Ростокиным и так последний раз шорох навели и опять сбежали. А я даже не знаю, стерлись ли там следы незапланированного визита или нет. Черт его знает, как в том мире наши дела отражаются…
Подумав, мы решили, что он, может быть, и прав. Для окончательного выяснения нужно будет разыскать Ростокина и выяснить досконально – что он успел запомнить, а какие воспоминания стерлись вместе с изоляцией от Сети и отыгрышем назад сразу нескольких ходов в остановленной навсегда партии. Но это не срочно.
С вариантом-93 было еще хуже. Он возник как бы ниоткуда, потому что в прошлом «обзоре» его не было. Может быть, появился уже после того, как мы ухитрились побывать в 2005-м (это уже ХХI век) и опосредствованно способствовали созданию этого «полустанка». А может быть, имел значение «заход с другого конца» – из ледяного декабрьского вечера 1991-го, в котором мне пришлось совершить кое-какие насильственные действия и, значит, тоже потревожить «ткань». Не важно. Это тема для Олега, чтобы от скуки написать наконец докторскую диссертацию по хронофизике или сразу – «Всеобщую теорию всего».
Именно – теорию, а на практике я под страхом насильственного депортирования на планету «Зима» не соглашусь прожить в постсоветском мире двенадцать лет до эпохи «относительной стабилизации» первых двухтысячных. Насмотрелся, начитался… Жить там «просто так» – бессмысленно и неинтересно, затевать очередные крупномасштабные «перемены» – увольте, надоело. Да и в остальной части «цивилизованного мира» в те годы я не видел ни одного места, где стоило бы жить просто так, в качестве «частного лица». Самое же главное – разговор о любой дате после тридцать восьмого года бессмыслен как раз потому, что везде мы уже засвечены и даже наш обжитой двадцать пятый представляет опасность, раз вообще возник вопрос о необходимости эвакуации.
Зато в ХIХ веке пригодных к высадке и освоению годов почти второе больше, чем в ХХ. Почему так – трудно сказать. Возможно – в связи с бурным техническим и политическим прогрессом, что создавало массу возможностей для силового создания развилок. Придумай кто двигатель внутреннего сгорания, магазинную винтовку или телефон на тридцать лет раньше, особого удивления это ни у кого бы не вызвало: человечество ко всему было готово и ждало новых изобретений с нетерпением и восторгом. А вот ход истории изменился бы кардинально. Представьте Крымскую войну, где русские армии выступили бы против коалиции, вооруженные трехлинейками…
Так же легко там было вводить в обращение и изымать из него значащих исторических деятелей. Очень мир тогда был лабильным, а роль жестко детерминированных факторов, наоборот, крайне низка.
Золотой, одним словом, век для политических и научных авантюристов, особенно – знающих, как с открывающимися возможностями обращаться.
Другое дело, что оседлая жизнь где-либо раньше начала царствования Александра Третьего не слишком комфортна для нас, привыкших к совсем другим стандартам. Совершенно во всем, начиная от отсутствия даже в столицах мировых держав централизованной канализации, электричества и так далее и тому подобное.
Соорудить себе очередное уединенное, «экстемпоральное» пристанище или основную часть времени проводить на пароходе, эпизодически сходя на берег, конечно, можно, но – бессмысленно. Не намного лучше, чем просто отсиживаться в Замке.
Одним словом, Антон представил нам всю «дорожную карту» девятнадцатого века с указанием прямо-таки с нетерпением ждущих нашего появления «станций». Этакий межвременной Бедекер [52].
Кутаясь в банные простыни и отхлебывая из кружек отличное пиво, мы с Сашкой, подобно богатым клиентам туристического бюро, перебирали годы и страны, торговались и капризничали. То одно нас не устраивало, то другое, потом и третье. И все же мы, надеюсь, что самостоятельно, а не под подсознательным давлением Антона с Замком, пришли к удовлетворившему всех решению. Этого они хотели или совсем иного, сказать не берусь. Умело разведенный человек понять, что с ним делают, не в состоянии. Надеюсь только, что мы к сословию лохов не относимся. Наши контакты в Москве с авторитетами уголовного мира это в какой-то мере подтвердили.
Мы с Сашкой, чуть раньше Антона выскочив из парилки в бассейн, обменявшись буквально несколькими никому постороннему не понятными словами, условились, если получится, сделать то, о чем мечтали в детстве и о чем врали генералу Врангелю. Я уже определил искомую точку. Но, к глубокому разочарованию, как раз ее в предложенном «маршрутном листе» не было! Тогда я и решил, не полагаясь на чужие слова, привлечь к делу Олега. Вдруг он сумеет поподробнее разобраться?
А пока, обсуждая варианты с Антоном, мы прикинулись, что из десятка предложенных, со сложными, на логарифмической линейке не вычисляемыми сдвигами, дат, не можем сделать выбор, рациональный и в равной мере способный удовлетворить не только нас, а и всю подлежащую депортации компанию. И требуются дополнительные консультации.
Неприятно признать, но мы тщательно выстраивали схему дезинформации нашего «Даймона-хранителя». Впрочем, кто чей хранитель сейчас – еще разбираться и разбираться. Зато я как бы нутром ощущал, что в планах Антона и Замка кроется какая-то хитрость, тщательно замаскированная несколькими слоями разумно выглядящих, вытекающих друг из друга доводов.
…Как полагается при серьезном анализе, я предложил Олегу рассмотреть две «гипотезы исследования». Первая – оптимистическая. Антон и Замок абсолютно искренни в своих мыслях и поступках, они действительно заинтересованы в предотвращении вражеского вторжения и обеспечении нашей безопасности. Вторая – скептическая. Наши друзья преследуют собственные, пока не выясненные цели, и мы для них – по-прежнему только инструмент или, что хуже, – расходный материал.
Левашову предстояло, используя все имеющиеся заготовки, наработки и базу данных, охватывающую весь период нашего с Антоном сотрудничества, проиграть полный спектр вариантов «про эт контра»…
Олег сказал, что это ему по силам и не займет много времени. Поболтаем немного на общие темы, пока есть настроение, а там и приступит.
– Начинать будем со второй гипотезы, ибо, если она будет подтверждена или опровергнута, рассматривать первую просто ни к чему.
Некоторые предварительные соображения Олегу я высказал сразу.
Все предложенные Антоном точки внедрения следует рассмотреть, ориентируясь на его личные интересы. То есть что он бы мог выгадать для себя или для своего «дела», если оно у него по-прежнему есть. То же и относительно Замка, у которого могли появиться собственные «жизненные цели». Разгадывать же их нам придется опосредованно, опираясь на имеющиеся факты и собственное воображение.
Так, нам известно, что результатом любых предыдущих действий, предпринятых по подсказке Антона, являлась непременная деформация текущей реальности. Глобальная, как в двадцатом и тридцать восьмом, или же «с ограниченными целями», как в сорок первом, две тысячи пятом/шестом, две тысячи пятьдесят шестом.
Что при этом выигрывал лично он – пока непонятно, очень может быть, что, исполняя указания Игроков, сам просто повышал свой личный рейтинг и статус. И доповышался. Так бы и загнулся в тюряге от передозировки синтанга…
Но теперь-то он снова свободен, причем во всех смыслах, и от узилища, и от власти Игроков. Чтобы в комплоте с Замком стать полновластным правителем любого из интересующих их миров, мы помехой не являемся. Даже в двадцать пятом могли бы договориться о разделе сфер влияния. Не более. Условий для учреждения Мирового Правительства, хоть тайного, хоть явного, в послевоенных Европе и Америке нет. Подозрения вызывает его отношение к 2056-му. Слишком он настойчиво нас отговаривает от переселения туда. Как раз там стать диктатором у него шансы минимальные. Вот внедриться в ряды Криптократов – это можно хоть сейчас, без всяких интриг и особых усилий.
Другое дело, если (пусть это сравнительно маловероятно) ему предписано свыше довести до конца незавершенную задачу и «гуманно, без пролития крови» устранить нас с шахматной доски окончательно и бесповоротно. Была ведь у него подобная инструкция, и если он ее тот раз не выполнил, так с ним могли «поработать и переубедить». Как будто мы с подобными случаями не сталкивались что в нормальной, что в полувымышленной жизни.
Таким образом, просто для собственного спокойствия все-таки необходимо рассчитать вееры альтернатив. Нейтральных, пригодных исключительно на «пересидку», и активных, внедрившись в которые мы способны инициировать безразличные нам, но интересующие Антона процессы.
Заодно выявить, нет ли иных мест, не названных Антоном, проникновение куда возможно и обещает некие забавные неожиданности. Хороший, кстати, тест на его научную и этическую добросовестность. И тут же я назвал Олегу год, который лично меня интересовал больше других.
– Посмотри с особым тщанием. Интуиция мне подсказывает, что там весьма перспективное «расположение звезд»…
Глава четырнадцатая
Тайными ходами, то есть тем же лифтом, каким Сашка доставил меня после встречи с монстром из оружейного музея в этот «схрон», мы без проблем доехали до нашей жилой секции. И так же вернулись, после того, как Олег нагрузил нас десятком плоских, как обычный ноутбук, процессоров, плазменным монитором и еще какими-то коробками. По моим представлениям, в этом «железе» пряталась интеллектуальная мощь, достаточная, чтобы организовать «междупланетный шахматный турнир», о котором пророчествовал Остап, со всеми гроссмейстерами сразу. По пятьдесят копеек за игру, вход со своими досками.
– Ребята, – сказал Левашов, когда мы сложили принесенное имущество на тумбочки рядом с плитой, присели к столу, повторили и закурили. – А что там, дальше, по ту сторону? – и указал на дверь, противоположную той, через которую мы вошли.
– Что и положено, предполагаю, – ответил Сашка. – Сначала – обычная квартира приличного доходного дома постройки начала двадцатого века. Где-нибудь на Петровке или поблизости. В пределах Бульварного кольца, думаю. Затем, естественно, коммуналка, которой эта кухня и принадлежит. В каком качестве существует сейчас – не проверял, некогда было.
– Еще один вариант Столешникова?
– Не задумывался, – повторил он. – Цель была совсем другая. А это так – форма. Содержания ведь без формы не бывает, скажи, философ? – Он изобразил вилкой в воздухе несколько причудливых пассов, отчего килька соскользнула с зубцов и упала на стол.
– Зато формы без содержания – сколько угодно, – вместо меня ответил Берестин, показывая на опустевшую бутылку. – Диалектический материализм с такой точки зрения к вопросу не подходил?
– Постой, постой, – снова оживился Левашов. – Сам ведь сказал – не проверял. А вдруг? Ты это место нашел в готовом виде, вместе с… – Он обвел рукой кухню, подразумевая скудную меблировку в стиле ранних пятидесятых, копоть и паутину на стенах и потолке, четыре газовых плиты и единственный водопроводный кран над облупленной раковиной.
– Сначала вообразил, вернее, извлек из памяти с максимальной достоверностью, а уже потом Замок или автопилот меня сюда привел. А я – Андрея…
– И все же – почему так мрачно? – удивился Алексей. – Мог бы…
– Настроение такое было. Черт его знает. Извращенная ностальгия. Вспомнил, как однажды сидел вот так же, за скудно накрытым столом, снаружи – гнилой февраль, ноги промочил, перемерз… И по работе крупные неприятности, настроение хуже губернаторского. А здесь меня приняли хорошо, подогрели. Удивительное такое ощущение отключенности от внешнего мира… Да какая разница?
– Какая-то, возможно, есть… – У Олега опять начался мыслительный процесс, сопряженный с исследовательским азартом. – Давай возьмем и проверим. Если так и обстоит, как ты воспроизвел, мне это начинает нравиться. Сначала хоть в окно выглянем, мы ведь и до этого еще не додумались. – Жестом он предложил всем встать и переместиться в нужном направлении.
За окном были поздние сумерки, обшарпанные задние фасады, выходящие во двор, похожий на тюремный, темные окна всех семи этажей. Протоптанные между сугробами тропки от «черных» дверей нескольких подъездов, веером сходящиеся к ведущим на улицу железным воротам. Что интересно, тропинок, соединяющих подъезды, не наблюдалось. Четкая, кстати, очень реалистическая деталь, вряд ли могущая прийти в «голову» Арчибальду или Замку в целом.
– Осталось посмотреть, что же нас ждет за стеночкой… – Олег направился к двери, по идее ведущей в парадные комнаты квартиры.
Я вспомнил о том, что было в прошлый раз, когда опрометчиво открыл входную дверь настойчивому зову, мельком пожалел, что нет сейчас в руках Сашкиного карабина, и вытащил из-под ремня «Манлихер», который так и таскал с собой. Бог его знает, поможет, не поможет, но в неизвестность лучше входить с оружием, чем без.
Не знаю, под влиянием какого импульса, но мне захотелось, чтобы дверь была просто макетом. Толкнешь – и глухо. Зато опыт подсказывал, что здесь скорее холст с нарисованным очагом в каморке папы Карло. Ну, если и так? Чем рискуем? Скорее всего ничем. Сильно не повезет – так и не узнаем, что с нами случилось. Жалеть будет некому и не о чем.
– Открывай, – сказал я, держа пистолет стволом вверх у правого плеча. Прислушался к себе. Вроде – ничего. Никаких ощущений и предчувствий. Оглянулся на Сашку. Тот кивнул. Чисто, мол.
Как в кино, на самом-то деле.
Левашов дернул на себя высокую дверь, покрытую чешуйками облупившейся краски «слоновая кость». Я опустил ствол горизонтально, рассчитывая в случае чего ногой отбросить Олега вбок, под прикрытие капитальной, в три кирпича, стены и стрелять, хотя бы для шума, как в прошлый раз. Ни у Алексея, ни у Сашки оружия при себе не было. Расслабились ребята.
Дверь открылась, и ничего не произошло. Тишина, пустота впереди, застоявшийся воздух нежилых помещений.
– Свет? – спросил я, поводя перед собой стволом и надеясь, что инженер выполнит свою часть работы.
– Найдем, – ответил Олег, нащупывая на стене старинный выключатель под медным полусферическим колпаком с двумя рычажками, увенчанными блестящими шариками. Какая же точность реквизита, неужели Арчибальд знает и учитывает такие мелочи? Или действительно все по правде? Мы успели застать такую арматуру в детстве – и дверные ручки, идентичные тем, что имелись здесь, и внутренние почтовые ящики с выпуклыми буквами «Для писемъ и газетъ» на подпружиненных крышках. И механические звонки с указующей надписью: «Крутить».
Левашов включил освещение.
Большая квартира. Размахнулся Сашка. А почему бы и нет? Память – штука мало управляемая. И ведь наверняка он в тот момент думал совсем не о «полезной площади».
– Ребята, пошли, если интересно, – крикнул я, начиная движение.
Интересная планировка. От кухни к обширной прихожей, даже скорее вестибюлю, тянулись два параллельных коридора. В левом располагалась «приватная половина», четыре сравнительно небольших комнаты, подходящие для спален и хозяйского кабинета, окнами во двор. В правом – «публичная», залы метров по тридцать-сорок, пригодные для большой столовой, музыкального салона, библиотеки или картинной галереи. Сквозь стрельчатые окна – вид на площадь Никитских ворот, Тверской и Никитский бульвары. И везде – абсолютная, гулкая пустота.
Чисто, красиво, на потолках люстры не из дешевых, на стенах где гобеленовые обои, где деревянные панели, паркет будто вчера натирали. Но ни малейшего намека на то, что когда-нибудь здесь жили люди. Какие угодно, царского времени респектабельные профессора вроде булгаковского Преображенского, пролетарии «в порядке уплотнения» или коммунистические вельможи рангом повыше наркома Шестакова, который ютился всего лишь в трех комнатах.
– Странно как-то, – сказал Левашов, – кухня, замызганная до предела, а здесь – будто вчера строители ушли…
– Так Сашка ее по конкретному образцу воспроизвел, а до комнат руки, вернее, мысли не дошли, вот и получилось бесплатное приложение согласно архитектурному проекту. Кстати, насчет строителей. Как я помню, дома в этом районе примерно конца девяностых… Прошлого века, естественно. Могли и не заселить еще.
– А люстры и бра откуда?
– Допустим, понятие «под ключ» здесь включало осветительную технику…
– Чертовщина продолжается, – хмыкнул Олег. – Он же, когда придумывал, соотносил себя с нашими годами, шестидесятыми, а здесь…
Ребята и как бы прикрывавший их с тыла Шульгин присоединились к «исследовательскому отряду», когда я дошел до парадной двери.
– Шикарное место, – сказал Берестин, остановившись в глубоком трапециевидном эркере. – Сколько раз мимо этого дома ходил и не догадывался, как оно там, внутри.
– Мне на Столешниковом все равно больше нравится, – возразил Олег. – Уютнее.
Потом он выбрал комнату, чем-то ему приглянувшуюся больше остальных, попросил Сашку сделать ее пригодной для работы, в смысле установить там кое-какую мебель и переключить электросеть с тогдашних вольт на нормальные 220. Мы помогли Левашову развернуть и подключить всю его аппаратуру, принесли кофейник и прочее. Вдобавок я положил на стол рядом с клавиатурой и мышью свой пистолет.
– Так спокойнее будет. Если что – стреляй, услышим, прибежим. А сами пока пулечку распишем. В классику, чтоб в любой момент остановиться…
Пока Алексей расчерчивал лист веленевой бумаги, а я распечатывал и тасовал колоду, неугомонный Шульгин сбегал в оружейку, вернулся, нагруженный, как мул. Странная, на мой взгляд и вкус, метафора. Вьючного коня или верблюда, думаю, можно нагрузить куда большим весом, чем мула. Впрочем, точно не знаю их сравнительной грузоподъемности.
Он (Сашка, а не мул), принес четыре своих пресловутых карабина с гроздьями подсумков и четыре «девяносто вторых» «Береты» в мягких светло-желтых кобурах с запасными магазинами в пеналах.
– Мне, братцы так спокойнее будет над мизерами думать…
Кто бы спорил, мне – тоже. Иметь за спиной неизвестно куда открывающиеся двери, ощущая себя безоружным, как линяющий рак, – удовольствие ниже среднего.
– Думаете – поможет? – спросил Алексей, передергивая тем не менее с явным удовольствием винтовочный затвор и опоясываясь пистолетным ремнем.
– Бывает – помогает, – ответил Шульгин, – когда выжить, а когда – умереть с достоинством.
– Нормальные, в меру удачливые люди с простой пятизарядкой проходили Африку вдоль и Южную Америку поперек к собственному удовольствию и вящей славе науки географии, – добавил я.
к случаю процитировал Сашка «Репортерскую застольную», хотя это полагалось бы раньше сделать мне.
– Тогда я – семь первых втемную. – Берестин пощелкал пальцами по лежащими перед ним рубашками вверх картами. – Играть так играть…
«Гьры» не успели достичь заоблачных высот, игра как-то не шла, и мы больше крутились на распасах, когда Олег вернулся.
– Наливаем? – плотоядно спросил Шульгин, потянувшись к бутылке. За преферансом у нас действует железное правило, по рюмочке за сыгранный мизер, и никак иначе. А мизеров не вышло до сих пор ни одного. Что называется – «тайный ход карты».
– Почему бы и нет? – Создатель теории и практики пространственно-временных перемещений выглядел несколько ошарашенным. Бог знает сколько времен и реальностей со всеми производными он пропустил сквозь свои мозги, через логарифм Лагранжа, анализ бесконечно малых, алгебру Буля и прямо в центр мирового равновесия… И вернулся в момент, когда друзья еще и по сигаре не успели выкурить, поллитру не тронули – для психики человека патриархальной эпохи тяжелое испытание. Не приспособлена она к такому, как и к полетам на аппаратах тяжелее воздуха. Многие хоть и летают всю жизнь, а привыкнуть не могут.
– Рассматривать первую половину века я вообще не стал, – сказал Левашов, взбодрив себя добрым глотком. – Возни очень много, любой значащий поступок порождает совершенно не алгоритмизируемый каскад последствий. Бабочка не бабочка, но около того. Что выйдет в случае спасения Павла Первого, изменения хода войны двенадцатого года, ликвидации малолетнего Шамиля, недопущения дуэлей Пушкина и Лермонтова – далее чем на десять-двадцать лет не просчитывается. Как минимум нынешнюю русскую литературу в ее нынешнем виде мы потеряем. Историю – тем более.
Напугаешь или насторожишь в частном разговоре какого-нибудь Пестеля, восстание декабристов будет отменено или отложено – и понеслась… Некому будет «разбудить» Герцена, тот не начнет «революционную агитацию», вместо Ленина создателем партии «нового типа» станет Бакунин, технический прогресс тоже двинет куда-то не туда, а в итоге мы получим не привычный ХХ век со всеми его плюсами и минусами, а вообще неизвестно что. Сомневаюсь, что Антон с этого что-нибудь выгадает…
– Это понятно, возражений нет, – согласился Шульгин. – Мы тут и сами кой-чего обсуждали, не вдаваясь в глубины… Не касаясь возвышенных материй, убедили друг друга, что там просто жить неинтересно. Чересчур узкий круг «светского общества». Ни в России, ни в Европе нормально легализоваться в нем просто невозможно. Даже в одиночку, а уж нашим кагалом…
Тут Сашка немного сам себе противоречил. Граф Монте-Кристо, например, легко сумел легализоваться, с достаточным успехом, в самом что ни на есть околодекабристском времени. Впрочем, на то и роман, а мы вынуждены существовать в суровой действительности, не прощающей вольностей…
Левашов кивнул, продолжая думать о своем, наверняка приспосабливая высокий полет своих теорий к нашему приземленному мышлению.
– Перешагнув середину века, мы, последовательно, имеем 1853-й. В смысле жизненного и психологического комфорта ничего нового. Ни у нас, ни в Европе. Зато есть зацепка для роскошной альтернативы. Здесь можно сравнительно легко не допустить Крымской войны в случившемся варианте, а заодно и на несколько лет приблизить отмену крепостного права, да еще одновременно наложить на освобождение крестьян реформу Столыпина. Всего и делов – на три года раньше устранить Николая Павловича и нескольких одиозных особ в его близком окружении. С воцарившимся Александром Николаевичем провести соответствующую работу…
– И что? – спросил я.
– Абсолютно ничего. Докладываю результаты. Нам в этом году ловить нечего, Антону скорее всего тоже…
– Если только не вообразить, что он имеет в виду подготовить более комфортные условия для своего последующего внедрения, – заметил Шульгин.
– Вряд ли. Слишком далеко. Следующий –1866-й. Почти точная интеллектуальная копия нашей «оттепели». Либерализм и свободы. Кому Тургенев, кому Чернышевский, Салтыков-Щедрин опять же. В Америке недавно закончилась война Севера против Юга. Серия мелких европейских войн. Единственное значащее, «роковое» событие – неудачное покушение Каракозова на Александра Второго. При желании можно разыграть эту карту. Последствия трудно предсказуемы, но картину грядущего ХХ века тоже меняют кардинально. Особой пользы ни для кого не просматривается…
Так же мы проскочили еще несколько дат. Из них только одна меня заинтересовала. В 1877 году, по его словам, Антон приступил к своим обязанностям на Земле, внедрившись в окружение царя Александра. Очень может быть, что он хотел бы получить в свое распоряжение такую опытную и сплоченную команду, как наша. На его месте я бы сделал все возможное, чтобы убедить нас отправиться именно туда, если он придает хоть какое-нибудь значение тому давно забытому, наверное, отрезку собственной жизни. Что-то переделывать в ней – все равно, что пожелать, чтобы в пятилетнем возрасте родители отдали меня не в тот детский сад, а другой. С непредсказуемыми последствиями.
Но, с другой стороны, он ведь может не о себе лично заботиться, а продолжать выполнять ранее заложенную программу, пусть и отключил Шульгин наш жгут реальностей от «внешнего» источника питания. Указанные в списке 1881-й и 1894-й, с точки зрения «теории Фолсома», выглядели уж слишком нарочито. Как неумелая «наводка в козыря». Я же не первокурсник исторического факультета. Что годы переломные – никто не спорит, но нас-то зачем туда вводить? Тоже мне, Энгельс нашелся!
– Вот и все, – сказал Левашов, завершая доклад. – Трактуйте, как хотите. С имеющейся теорией схема Антона совпадает, никаких «паразитных» реальностей на отрезке 1837–1901 годы я не обнаружил. То есть можно сказать, что ни мы, ни кто-нибудь другой за наблюдаемый период в естественное течение вещей не вмешивались…
– Глупость говоришь, тебе не кажется? – с прежней блуждающей улыбкой спросил Сашка. – Как же не вмешивался, если и Антон, и Сильвия с Дайяной и прочими там только этим и занимались…
Левашов заметным образом оживился.
– В этом-то и суть, братец ты мой, именно в этом… Сколько мы ни занимались «практической» хронофизикой, а в ее теорию погружался только я, да и то время от времени и неглубоко. Запомните, братья мои, что Главная историческая последовательность, она же несущая частота аналогичной мировой линии, такая штука… – Он снова потянулся к бутылке, и мы его дружно поддержали. Слишком уж крутая пурга разыгралась за окном. Совсем такая, как была в Москве в день встречи с Ириной, когда мы с Олегом отправляли ее на поиски Берестина.
До чего все-таки совершенная фантоматика в Замке. Если уж воспроизводится какой-то элемент любой реальности, так с мельчайшими подробностями.
– …Такая штука, что существует именно и безусловно, как результирующая всех имевших место вмешательств, начиная с Древнего Египта, а то и раньше. То есть на ней все возможные варианты развилок уже состоялись, отторгнуты или вплетены в общую структуру. Короче – она именно такова, какова…
Слов ему явно не хватило. Не то образование. Трепаться на любую тему умеем мы, а у Олега весь пар уходит на изобретательство и создание заумных теорий, плохо вербализируемых.
– Согласны, – ответил я. – Ты со всей понятной нам убедительностью доказал, что бояться нам нечего, коварные планы Антона не просматриваются и мы можем отправляться, куда нам в голову взбредет. А куда конкретно? Предложения есть? Что касается меня, я при прочих равных выбрал бы время, самое близкое к рубежу веков, и предпочел бы обосноваться не в России: там, во-первых, скучно будет и непременно захочется во что-нибудь вмешаться…
Левашов, как опытный покерист, выдержал паузу с непроницаемым лицом. Всем своим видом показывая, что как свои, так и чужие карты его нимало не интересуют. Просто компанию сел поддержать.
Но нас с Сашкой не обманешь. Нам, что называется, много лет по краю пришлось ходить, где от случайного зевка головы легко лишиться можно. Уже сам факт его бесстрастного хладнокровия говорил о том, что на самом деле он внутренне подпрыгивает от желания выдать эффектную транспозицию [53] наших гипотез и расчетов.
– Ладно, давай, не томи, что ты в итоге накопал?
– Так, мелочь, пустячок, но забавный, – ответил Олег с долей разочарования. – По странной забывчивости или намеренно, Антон в своей таблице пропустил 1899 год, который, по всем расчетам, и технически наиболее доступен, переход в него требует минимальных затрат по всем параметрам, и твоим пожеланиям наилучшим образом отвечает. А самое главное – из него мы при самом неблагоприятном варианте легко сможем дожить до своего двадцатого естественным образом и совсем без всяких вмешательств в континуум. Просто не делая резких движений и регулярно следя за своим здоровьем… Будет нам под шестьдесят, что такое в сравнении с Антоновыми или Сильвии годами?
– Хорошо, – сказал Шульгин. – Это очень хорошо, что ты отыскал такой штришок… Осталось спросить Антона, что почем. Действительно упустил сей момент из внимания, память от наркоты ослабела, или, как мы и предполагали, ему надо засунуть нас, куда ему надо, а не нам хочется?
Год 1899, ничем большинству людей не интересный. По крайней мере – в России. Ну вот, навскидку, кто из моих возможных читателей готов назвать, чем знаменит этот год? Ну, КВЖД с городом Харбином строилась, Транссибирская магистраль была почти готова, спешно сооружался новый океанский флот… И все, пожалуй. «Развитие капитализма в России», как озаглавил свою книжку Ленин. Хороший, мирный год, преддверие еще более хорошего, прогрессивного века… Так все тогда думали.
А Антон его спрятал. И у нас появилась возможность для легкого, деликатного опускания Антона. Не корысти ради, а воспитания для.
Но я-то, человек чрезмерно образованный, держал в уме и еще кое-что. Именно этот год наилучшим образом пригоден для воплощения не только детских мечтаний, но и для приведения в соответствие нашей легенды, придуманной для того, чтобы вручить генералу Врангелю добровольный взнос в миллиард золотых рублей, не считая оружия, техники, здоровья и моральной поддержки в международных делах. Как я ему вкручивал, сидя в кабинете его крымской резиденции: «…В самом конце девяносто девятого мы с друзьями, четыре гимназиста последнего класса, юноши с романтическими настроениями, сбежали из дома. Поездом до Одессы, пароходом до Каира, оттуда в Кейптаун. Великолепное путешествие… Англо-бурская война, всеобщий подъем сочувствия к бурам. Песня „Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне…“. Шарманки под эту мелодию массовыми партиями выпускали. Да, повоевали. Мой друг Алексей Берестин до фельдкорнета дослужился. Это у нас корнет – обер-офицерский чин, а у буров фельдкорнет – почти генерал…»
Дальше я вдохновенно фантазировал, как мы с местными кафрами сдружились, поскольку по своему русскому характеру, в отличие от англичан, а уж тем более буров, никогда расистами не были. И они нам в благодарность за дружбу, медицинскую помощь и огневую поддержку показали тайные золотые жилы и алмазные трубки, которые для них самих не имели почти никакой пользы, по причине отсутствия навыков и принципов современной торговли…
Стоп, это я уже начал несколько увлекаться, расширяя сферу воображения. Подобную мыслеформу будем создавать позже, по месту.
Друзья, может, обо всем этом забыли за минувшие годы, наполненные совсем другими приключениями, физическими и психическими травмами и всякой астральной ерундой, которая на мозги непременно влияет, но я – нет! Я автоматической ручкой в блокноты все заносил, важное и не очень, происходящее и придуманное, не делая большой разницы между тем и другим, как любимый мною Паустовский. У того тоже факты и воображение сплетались самым причудливым образом, придавая его книгам особую привлекательность.
Другой вопрос, помнил ли о подобном эксцессе Антон и учел ли он его в своих расчетах, в том или ином смысле?
Одним словом, закончив наши более-менее научные разборы ситуации, я предложил ребятам именно этот вариант, специально оговорив, что предварительно, причем без их присутствия, задам форзейлю, хоть лично, хоть в компании Арчибальда, несколько вопросов.
Почему наедине? Исключительно для чистоты результата.
А в том, что надо попробовать воплотить в жизнь именно эту фантазию, ни у Олега, ни у Сашки не возникло даже малейших сомнений. Левашов, кстати, исходя из собственного разумения, сообщил, что таким образом реальность-1920 будет значительно подкреплена «снизу», и тем, что легенда станет правдой, и тем, что вброшенные нами в мировую экономику тонны золота и ведра алмазов получат материальное оправдание.
– А какая разница? – по обычной привычке спросил Сашка. – Мы же их сдублировали из совсем другой реальности, и они были ничуть не менее материальны, чем винтовки и патроны… Вполне, так сказать, работоспособны.
– Именно поэтому. Как в арифметике решение примеров в столбик. Оттуда занимаем, сюда переносим, в итоге все сходится.
– Ага, – с умным лицом согласился Шульгин. – Закон Ломоносова – Лавуазье.
– Примерно в этом смысле.
– Меня это, ты не поверишь, ну вот на столько не интересует, – ответствовал Сашка, показывая половину первой фаланги указательного пальца. – А все остальное – весьма и весьма. Поэтому – боевая задача и распределение ролей выглядит сейчас так…
Он повернулся к Берестину, тем самым подчеркивая, что считает его мнение очень важным, если не определяющим.
– Андрей решает с Антоном все дипломатические вопросы. Я – по старой памяти, как бывший «старший офицер» занимаюсь «Призраком», материальным снабжением, подгонкой по месту роботов, чтобы наша экспедиция, которая может затянуться не на один год, была обеспечена наилучшим образом. Ты, господин генерал (это – Алексею), на своих тренажерах и просто в бумажных книжках просмотри, как там все на самом деле было. У меня-то информация на уровне «Капитана Сорвиголова»…
– Я и без книжек и компьютеров историю войн знаю. Фельдкорнетом там стать – нечего делать. Две тысячи трехлинеек с патронами, чтобы свое «коммандо» [54] вооружить, плюс комендантский взвод с автоматами, чтобы буров порядку научить. Как я помню, там в разгар боя какой-нибудь придурок в чине вспомнит, что у них буйволы не напоены, и дивизия по этой причине снимается с позиций. И командиров слушались, пока нравилось. Хо-орошая война была. Мечта демократов.
– Заградотряды, что ли? – вскинулся сторонник развитого социализма и одновременно крутой либерал Левашов.
– Так точно, друг мой и брат, – ответил Берестин, в сердце которого сорок первый год оставил не изгладимые никаким гомеостатом рубцы.
А вы сами попробуйте посылать на верную смерть сотни тысяч человек, отстраненно рассчитывая, что зато другие сотни тысяч выживут и победят. Предыдущих забыть сумеете, если вы не Жуков?
– В Кейптаун, ты уж прости, мы не пойдем. Здесь ты ерунду спорол – какой, на хрен, Кейптаун в начале войны? Интернируют нас, и – с концами. Чего-нибудь лучше придумай.
– Кто говорил о Кейптауне? – с удовольствием ввязался я в плодотворную дискуссию. – При чем Кейптаун? Если война начнется, в Каокавельде высадимся, оттуда до приисков ближе, или в Дурбане. До начала – кто нам, под американским флагом, в заходе откажет? Фритрейд [55], как говорилось. Любые документы мы себе выправим. Пушек тоже хватит. Старые псевдонимы еще не забыл?
Это я уже к Шульгину обратился.
– Забудешь… Может, ты и прав – под янки косить станем, намного интереснее может получиться. Но с этим отдельно разберемся. Олег занимается теоретическим обеспечением экспедиции и соответствующей техникой, не зря «флагинженером» числился. С кандидатами в экспедицию тоже я предварительную работу проведу. Нормально?
– Пока – да…
– Тогда, господа авантюристы и землепроходимцы, за работу. Глядишь, впервые поработаем только на себя и для собственного удовольствия… – Сашка хищно потер руки и немедленно выпил.
Оставив друзей развлекаться и спорить в меру сил и желания, я, подчиняясь внезапно возникшей потребности, решил разыскать Антона. Состояние у меня было как раз подходящее. Форзейля я разыскал через полчаса. Никаких вопросов по поводу нашего краткосрочного выпадения из «зоны контроля» он не задал. Вполне возможно, что на самом деле его это и не интересовало. Мы сами себя запугивали, воображая, что нас отслеживают постоянно и непрерывно.
Мне же, как исследователю, было просто интересно, чем он теперь может заниматься, не имеющим отношения к текущим событиям? Взглянув с «холодным вниманьем вокруг», невозможно представить, есть ли у этого втершегося к нам в доверие существа какие-то осмысленные цели и интересы. Я, поставив себя на его место, таковых не находил. И подумал, что как раз здесь имеется у меня в дубраве «засадный полк». Но на самый крайний случай.
На мой взгляд, Антону правильнее всего было бы начать по бабам бегать, используя имеющиеся возможности (по чужим, конечно, не по нашим!), компенсируя трехлетнее вынужденное воздержание. Или – лелеять планы мести своим бывшим коллегам и соотечественникам, пригласив нас в помощники. Тогда я бы его дополнительно зауважал. И, к слову, перебравшись в давно нам обещанные «Сто миров», мы из поля зрения дуггуров наверняка бы выскочили. А что? Можно предложить при случае, если все другие варианты зайдут в тупик!
Сразу беря инициативу в свои руки, чтобы не оставались непроясненными даже незаданные вопросы, я сказал, что мы нашли очень уютный уголок в западной форштадтской башне, и предложил ему туда прогуляться.
– А зачем? Здесь что, плохо или других уютных уголков нет? Хоть и ваш любимый бар с витражами?
Это он вспомнил действительно приятное заведение, рядом с фехтовальным залом, где Шульгин сначала показал ему, как можно голой рукой остановить рубящую со всего замаха шашку, что привело якобы привычного ко всему Антона в изумление, а потом пригласил рассеяться и отдохнуть. Я мельком подумал, отчего форзейль вдруг отказался идти в названное мной место, а предложил свое? Тоже схему особого режима безопасности включил? Или сам собирался меня (или любого из нас) для конфиденциальной беседы пригласить, для чего заблаговременно оборудовал место, не могущее вызвать у нас негативных эмоций, а только положительные?
Но заведение и на самом деле было миленькое, посидеть там – одно удовольствие. Сашка, при первом посещении без внутренних и внешних ограничителей пользуясь только что осознанными возможностями, оформил интерьер помещения рядом со спортзалом по собственному вкусу, в виде «бара для избранных».
– Ладно, туда тоже можно, – согласился я.
Все свободные вертикали стен он украсил вызывающе эротическими «ню» на стеклянных слайдах с подсветкой, в натуральную величину изображенных объектов. Особенно Сашке удалась картинка со смуглой красавицей, весьма похожей на одну его подружку старых лет, которая мчалась на зрителя верхом на караковом [56] жеребце великолепных статей. Почему-то «Н.И.», назовем ее лишь инициалами, решила прокатиться верхом в одних лишь кружевных чулках, пристегнутых к стянутому на талии офицерскому ремню, и лакированных туфельках на умопомрачительных шпильках.
Длинные волосы развевались на ветру, глаза сверкали, лицо озаряла торжествующая улыбка… Только шашки или, лучше, кавалергардского палаша в руке не хватало.
Покрутив в пальцах бокал с шампанским, волею теперь уже Антона поставленный передо мной, я, как старый скептик, не отрицая качества статей и коня и девушки, задумчиво спросил, а каково же это ей, бедняжке, голой-то попочкой и всем прочим контактировать с кожей строевого драгунского седла? Лично мне, мужику в кавалерийских галифе с леями, и то после пары часов полевого галопа не так, чтобы уж очень комфортно было… Шенкеля [57], особенно поначалу, до крови стирал.
Ирина, помню, увидев эти картинки, брезгливо дернула щекой: «Еще один Вальехо с комплексами», – но самому Шульгину ничего не сказала.
Женщины вообще почему-то к подобного рода искусству относятся скептически. А чего, казалось бы? Небось переживают, что не они изображены. Но попробуй, предложи запечатлеться в аналогичном виде! Больше половины откажутся, и не из скромности, совсем наоборот. Из страха, что аналогичного восхищения не вызовут.
– Правда, хорошее место, – сказал я, полюбовавшись картинками. – Хотел бы я рядом скакать. Эта девочка, должен тебе доложить, еще та штучка была. Да, наверное, и сейчас есть, в ином, конечно, качестве. За пятьдесят ей теперь…
Сделал вид, что сентиментальность меня пробила и смотреть на подружек юных игр мне тоскливо.
– …А в башне все равно лучше, грешные мысли и ностальгия не отвлекают. Слушай, – сделал я вид, будто только что меня озарило. – А такую вот барышню ты бы смог с помощью Замка синтезировать?
Антон внимательно посмотрел на вызывающе-прелестную амазонку. Усмехнулся снисходительно.
– Сам не догадываешься? К чему тогда спрашиваешь? Неотреагированные эмоции захотелось снять? Тот раз девушку не поделили? Вам тогда по сколько лет было? По двадцать?
А ты тоже брат-храбрец, гадости говорить умеешь! Только не на того напал.
– По двадцать два, – и с иезуитскими нотками в голосе добавил: – Только я ведь не о себе. Мне никогда делить не приходилось. Я исключительно о тебе забочусь. Без хорошей девчонки, причем на пределе твоих физиологических возможностей, ты ощутимо социально деградируешь. А попробуешь – и снова на коне!
Интересная двусмысленность сама собой произнеслась.
– Ей-богу, тебе понравится. Мы с Сашкой для нее оказались слишком пресными…
Удалось мне его достать. Хотя бы его человеческую составляющую. Лицо перекривилось. Никогда я его таким не видел. Даже когда Шульгин его публично в нокдаун послал, он веселее выглядел. Так оно и задумывалось.
– Хорошо, пошли в твою башню, – ответил он, проигнорировав остальное. – Послушаю, что ты опять придумал… Теплую куртку прихвати на всякий случай.
– И автомат системы Томпсон, – продолжая развлекаться, добавил я.
На самом деле что мне, что ему на погоду и соответствующую ей одежду было практически наплевать. Я мог на любом среднеевропейском морозе два-три часа выдержать в рубашке и джинсах, в движении, разумеется, Антон, наверное, больше. Дело только в комфорте. Ветер со снегом, пурга, по Далю, радует душу, но при условии, что ты от нее надежно защищен.
Поэтому куртки по пути мы прихватили.
Вышли к парапету башни, полюбовались несколько минут разгулом стихии, захватившей весь север континента, начиная от Гренландии. Щурясь и прикрывая ладонью глаза, сдвинулись под прикрытие «ласточкина гнезда». Здесь было потише. Покурить можно, но спокойно разговаривать затруднительно. Слишком уж ветер свистит. Пришлось спуститься вниз, пошевелить кочергой не успевшие догореть поленья в камине.
– И что же ты мне желаешь сообщить? В чем намек? – с известной долей раздражения спросил Антон. Вполне логичный вопрос, если тебя вдруг зачем-то вытаскивают из теплого бара в такое вот место. Попутно деликатно оскорбив.
– Интересно, на что именно можно намекнуть подобным образом? – в свою очередь я ответил вопросом на вопрос. Это полезно, с точки зрения практической психологии, чтобы сбить собеседника с подготовленных позиций. Одесские евреи, придумав этот прием, дураками отнюдь не были, даже не имея психологического образования.
– Но ведь что-то ты хотел мне сказать, пользуясь этим, а не каким-нибудь другим антуражем? Истинного хода твоих мыслей мне никогда не понять, признаюсь. Это не комплимент, только констатация. На самом деле, в уединенном баре, за бутылочкой любимого тобой коньяка с пристойными закусками разве хуже удалось бы поговорить?
– Кто же спорит? Но главное ты уже сказал. Рад, что все понимаешь правильно. Не помнишь, откуда эта цитата: «Эх…, насекомое ты существо! Ты…, супротив человека, что плотник супротив столяра!»
Антон рассмеялся, но коротко и не слишком весело.
– Русскую литературу я читал и изучал намного раньше тебя. С Антоном Павловичем лично виделся. Признаться, впечатления он на меня не произвел…
– Куда уж! Блестящий гвардейский полковник, или кем ты там был, и провинциальный лекарь, балующийся рассказиками. Так?
– Можешь тоже смеяться, но он не только лекарем и рассказчиком был. Жуткий, на грани патологии, любитель баб. В бордели ходил, как ты на работу. Вас в школе этому не учили?
– Меня чужие пристрастия мало интересуют. Помимо творческой составляющей.
– Меня тоже. Так о чем ты хотел поговорить?
Я снял с решетки заново подогретые остатки глинтвейна, плеснул ему и себе, закурил и только потом задал необходимый вопрос.
– Действительно не врубаешься? Удивительное дело. Девяносто девятый год! У Гюго был «Девяносто третий». Не будем проводить аналогий, но… Левашов пробежался по «реперным» точкам, которые ты нам предложил, и сказал, что он самый близкий и технически доступный. А в твоем списке его не оказалось…
Антон на мои слова отреагировал спокойно.
– Неужели? Мне вспоминается, что тысяча восемьсот девяносто девятого и в самом первом списке не было, когда мы перебирали варианты. Черт его знает! Я ж, как ты понимаешь, сам ничего не придумываю. Проще всего предположить, что в силу своей пограничности затерялся он как-то. Тогдашний компьютер, на котором я работал, без помощи всей мощности Замка, просто не сообразил – то ли туда его отнести, то ли сюда… Проблема двух нулей.
В искренности тона форзейля сомневаться не приходилось, но мы ведь и сами умеем не хуже пиджачком прикидываться. О прочих своих сомнениях я упоминать не стал, в том числе и о том, что этот год на самом деле мог стать доступным именно и только после моей с Врангелем интриги.
– Вот и славно. Значит, техническую ошибку мы благополучно вычеркиваем. И ты не возражаешь, чтобы мы отправились именно туда? Вам с Арчибальдом без разницы, а нам интересно…
– Да о чем речь, Андрей! И слава богу, если вас это устраивает. Тем более я совершенно уверен, что всего одного года хватит и вам, и нам. Вы развлечетесь, мы тут с дуггурской проблемой на интеллектуальном уровне, без вооруженных конфликтов как-то разберемся. И воссоединимся к взаимному удовольствию…
– Да-да, конечно. – Возможно, все именно так и будет. Воссоединимся, только когда, как и в каких качествах?
– Однако, понимаешь, Андрей, какая штука выходит… Сразу о ней речи не зашло…
Тон Антона мне не понравился. Сейчас наверняка предложит очередную вводную, как посредник из вышестоящего штаба, имеющий поручение непременно тебя закопать. Предвидеть которую ты не в состоянии, поскольку все маневры мыслил в другом направлении.
– Мы тоже зря не сидели – считали, думали, – веско произнес он.
– Вариантов сто, наверное, перебрали, с учетом всех известных и предполагаемых фактов и моментов. Устранение всех следов вашего присутствия в ХХ веке действительно должно привести дуггуров в изумление. Не знаю, как у них обстоят дела с футурологией и ретроспективным анализом, но в любом случае они – гуманоиды. Возникли и развивались на Земле. Пытаются лезть в человеческие дела – следовательно, общие точки соприкосновения в логике и психологии у нас с ними есть. Как бы они ни отличались по факту.
Спорить не с чем.
– Таким образом, полное исчезновение объектов, с которыми они вынуждены были считаться, непременно их насторожит. Скорее всего, они вообразят, что вы ушли в некую до сих пор не известную альтернативу. И займутся ее поисками. Это дает нам солидный выигрыш темпа и расширяет окно возможностей…
Тоже вполне здраво.
– Вообразить, что вы просто сбежали в прошлое, может прийти им в голову в самом крайнем случае. Не ваш стиль, как они его представляют…
Продолжение мысли было мне уже очевидно, хотя последний тезис оспорить я мог. «Как они его представляют!» Ты-то откуда знать можешь, как они представляют? Вполне возможно – совсем наоборот…
– И все же, если есть у них мудрец или специальный институт, способный творчески мыслить, такой вариант они рано или поздно (если мы их не прихватим раньше) примут к рассмотрению… – Антон рассуждал в не свойственной ему манере.
– Если их познания не слишком превосходят наши, они будут оперировать тем же набором узлов, или точек коротких замыканий в жгуте реальностей, так? – осведомился я.
– На это – единственная надежда. В ином случае…
– Понятно. И ты хочешь нам предложить…
– Приятно все-таки с тобой работать, Андрей…
Спасибо за комплимент, мысленно поблагодарил я.
– Спланировать наши предстоящие действия так, чтобы обнаружить их путем своеобразного сканирования прошлого было невозможно никаким образом. Я правильно понимаю?
– Совершенно.
– Хорошо. Значит, светиться нельзя нигде и никаким образом. Абсолютно частная жизнь людей, ничем не выдающихся на фоне остальных полутора миллиардов тогдашнего человечества. – Мне нравилось произносить те слова, которые только собирался предложить для обсуждения собеседник. Это его слегка дезориентировало.
– Не обязательно всех полутора миллиардов. Хотя бы верхнего миллиона цивилизованных людей. Не делать ничего, что может показаться странным в этих кругах. Экстравагантность – пожалуйста, но чтобы она не становилась темой массированных газетных кампаний или предметом слишком громких судебных разбирательств.
– За все последние годы я только один раз попал в поле зрения прессы, да и то американской и до начала эпопеи. Все прочие выходки не привлекли ни малейшего внимания…
– Кроме как у меня, у аггров разных чинов и званий, Игроков, Держателей, а потом и дуггуров… Также у контрразведок Великого Князя и господина Суздалева. Мало?
Здесь Антон был прав. Так не зря же он жил в пять раз больше меня и имел многократно превосходящие мои профессиональные навыки.
– Не стоит скромничать, Андрей, засвечиваться и подставляться вы умеете по полной программе. Такого уровня разведчики ни в гитлеровском рейхе, ни в СССР долго бы не протянули. Без моего прикрытия…
Утер меня товарищ, хорошо утер! Так ведь оно и было, я, со своей стороны, мог бы добавить еще несколько случаев, при воспоминании о которых хочется залиться краской, как гимназистке, услышавшей матерное слово.
Он, судя по всему, был доволен, что наконец я не ввязался в спор, что-то доказывая и пытаясь подавить информативным и интеллектуальным превосходством.
Скромненько, глазки в пол, дополнил ковшик доверху, снова поставил на огонь. Ничего крепче глинтвейна мне сейчас пить не хотелось. От головешки прикурил не знаю которую за день сигару. Впрочем, сэр Уинстон, с которым я вскоре надеялся встретиться лично, с полным основанием утверждал, что коньяк и сигары лучше для здоровья, чем любая физкультура.
– Поэтому было бы очень желательно, чтобы вы, согласившись соблюдать определенные правила конспирации, отправились в свой круиз без единого предмета, который может создать в избранном вами году хоть малейший посторонний фон. Понимаешь, о чем я?
Хороший ход. Атака прикрытой пешкой на короля, которая, объявляя шах, следующим ходом выходит в ферзи.
– Значит – отправляться без всего?
– Почему? Со всем, что возьмете с собой. «Валгалла» – большой пароход. На два десятка человек – двадцать пять тысяч тонн грузоподъемности…
Тут он проявил неграмотность. Двадцать пять тысяч – это водоизмещение «Валгаллы», а не дедвейт. Но я не стал ничего говорить.
– …У Робинзона сколько было, не говоря о колонистах острова Линкольн? Берите все, что в голову придет, кроме аппаратуры СПВ, блок-универсалов, шаров… Радиолокаторы, УКВ-приемопередатчики тоже желательно исключить.
– Тут ты зря. Как раз УКВ вреда не принесут. У них дальности – на два десятка километров по прямой. Не то что у длинноволновых.
– Огонек сигареты в лесу больше внимания привлечет, чем уличные фонари в большом городе…
И снова правильно.
– А про гомеостаты ты ничего не сказал… – Это у меня была последняя надежда прихватить что-то, выводящее нас из разряда жалких, целиком погруженных в обыденность человечков.
– Гомеостаты – можно, я думаю. Да и то не наверняка. Черт знает, как они устроены, но ни нашей, ни аггрианской техникой дистанционно не наблюдаются. Касательно же дуггуров… Ты уверен, что они за мной на Арбат приехали, а не за этой штучкой?
– Как я могу быть уверен? Только предположение выскажу: за тобой лично, товарищ Тайный посол! Закладку они в любой день и час могли извлечь, без шума и пыли. Тебя ловили, единственного, кто в Москве в тот момент проявился. Как раз на сломе эпохи. Сильвия, Лихарев – те в Лондоне, под нулевой крышей были. Я – с Шульгиным разбирался. А ты – туда пришел. Ну и, пожалте бриться!
– Скорее всего так. И в тот момент, добавлю, их ребята еще в плену у нас находились…
– Точненько. Грубо говоря, ночь полнолуния, которая бывает раз в сто сорок четыре года…
Глинтвейн только-только собрался закипеть, как я сдернул ковшик с решетки и разлил парящий напиток по кружкам.
– Хорошо мне с тобой, Андрей, – сказал Антон, подув на напиток, и сделав маленький глоток. – Вот даже не скажу почему, а хорошо…
– Наверное, потому, что я умный и в самую меру порядочный. Похоже?
– Ну да. А главное – ты относишься к тому редкому типу людей, которые всю жизнь делают только то, что хотят, не слишком задумываясь о собственной пользе.
Можно еще раз посчитать за комплимент. Не многовато ли для одного разговора? Я ведь не девушка, которую хотят заманить в койку.
Но истина в его словах есть. Личная польза и выгода меня с детства интересовали в последнюю очередь. Если просто пересчитать деньги, пропитые в барах Манагуа, Сан-Сальвадора и Гватемала-сити в японские двухкассетные магнитофоны, я бы смог стать в московских комиссионках королем рынка. Но не стал…
– Итого – мы отправляемся в путешествие, снабженные и вооруженные только тем, что не вызовет никаких вопросов и сомнений в конце девятнадцатого века. Верно?
– Куда вернее.
– Делаем там, что хотим, не выходя, допустим, за пределы стиля поведения героев Буссенара и Джека Лондона?
– Это будет самое правильное.
– А когда мы разыщем и вскроем копи Соломона и многое сверх того?
– Постарайтесь, чтобы и это не привлекло излишнего внимания.
– Значит – договорились. Последний вопрос – твои роботы фонить не будут? Без них мы никуда не пойдем. Лучше погибнем на баррикадах с оружием в руках. Ни пароход, ни яхту нашими силами обслужить невозможно. Вернее – «Призрак» можно, если все там соберемся, а толку ли в нем, без плавучей базы?
– Сделаю так, чтобы не фонили. В наших силах.
– Тогда – все. Как товарищ Сухов говаривал: «Вопросы есть? Вопросов нет!» Нам на сборы нужно неделю, вам за это время желательно узнать что-нибудь дополнительно про наших партнеров. На всякий случай. По хозяйственным вопросам к тебе обращаться, к Арчибальду или низовую структуру создадите? Мне все равно, а вы подумайте, как удобнее…
– Да разницы никакой! Хочешь, ко мне, хочешь – выйди на крылечко и возгласи: «По щучьему веленью, по моему хотенью…» – Антон стал легок и весел, словно решил свои проблемы благополучно и никаких темных облачков на его горизонте не наблюдалось.
Вот и хорошо. Приятно, когда человеку хорошо. А когда совсем хорошо – еще лучше.
Мы вышли из башни на стену, опять вдохнули ледяной воздух свирепеющего бурана. Не перестарался ли Арчибальд с антуражем или это здесь так принято? Мы здешней зимы не видали, наше первое сидение в Замке пришлось на «индейское лето».
– Слышь, Антон, – тронул я его за локоть, когда мы начали спускаться по лестнице в несокрушимые глубины стен. – Тебе ни разу не пришло в голову, что не дуггуры тебя в Москве «медузой» ловили, а приехал за тобой «спецназ службы исполнения наказаний». Или – те и другие сразу. Капитан ГУГБ – от твоих, остальное – настоящие дуггуры. Не думал? А ты подумай. Мой вариант многое проясняет. И спокойной тебе ночи.
Глава пятнадцатая
Ровно половина Братства уже сосредоточилась в Замке, хотя не все имели полное представление о смысле и целях очередного Собрания. Оставалось доставить сюда еще восьмерых, и тогда уже, при полном кворуме, сделать доклад, внести предложения и выслушать возражения.
Не так уж часто официально трубился Большой Сбор. Только в специальных случаях. Для поддержания связности организации обычно хватало личных контактов и регулярных съездов в Форте Росс, напоминавших традиционные встречи членов аристократических клубов или тайных масонских лож.
Транспортные проблемы взял на себя Антон. С Басмановым, Кирсановым и Ростокиными сложностей не было никаких, а вот для перемещения на рейд Замка «Валгаллы» и «Изумруда» пришлось предварительно вывести их в открытое море. Переброска кораблей общим водоизмещением больше тридцати тысяч тонн непосредственно из ограниченной высокими скалами бухты могла вызвать разрушительный гидропневматический удар по поселку. По той же причине и приняли нашу флотилию милях в десяти от берега, во избежание локального цунами.
Мы с Шульгиным сотворили в примыкающих к жилой зоне коридорах почти стопроцентно точную имитацию загородного дворца Павла Первого, давным-давно очаровавшего меня неким особым шармом. Может быть, потому, что я впервые побывал там в обществе эрудированной девушки, теплым майским днем, туманным, с моросящим дождем. Окна первого этажа заслоняли кустарники, лишенные пристального внимания ландшафтных дизайнеров. Они росли буйно и неуправляемо, и в помещениях царил зеленоватый полумрак. Впечатление усиливали исторические реминисценции – тень несчастного наследника престола, бродящего по лестницам и коридорам захолустного дворца и мечтающего когда-нибудь хозяином войти в Зимний…
Бесконечные анфилады сравнительно небольших залов и комнат выглядели гораздо уютнее и приватнее, чем подавляющая роскошь Царскосельских, Петергофских дворцов и того же Зимнего. Одновременно там все было устроено для достойного приема друзей и подруг, чтобы ощутили необычность и важность момента. Должным образом меблированы и украшены столовые для завтраков, обедов и ужинов (отдельно), курительные комнаты для мужчин и уютные будуары для женщин, где они могли расслабиться и поболтать в обществе себе подобных, избавленные от напрягающего психику внимания представителей противоположного пола. Туалетные комнаты приведены в соответствие с последними достижениями культуры этого дела.
Эстетические запросы удовлетворяли библиотека, музыкальный салон, картинные галереи, выставки скульптур, посуды, старинного оружия и так далее, и тому подобное. Даже запахи удалось синтезировать, живые и раритетные одновременно. Впрочем, об особенностях и возможностях Замка я уже писал. Просто сейчас нужно было продемонстрировать его (и наши) возможности лицам, которые до сих пор ни с чем подобным не сталкивались. Наверное, пора.
Все-таки и Форт Росс, и «Валгалла», тем более – квартира на Столешниковом мало отличались от того, что можно увидеть в «обычной жизни». Настоящих чудес некоторые соратники до сих пор не видели.
Сразу скажу, что ничего подобного балу у Воланда мы учинять не собирались, хотя препятствий к этому не было никаких. Арчибальд охотно испробовал бы себя в качестве Хозяина. Подобная мысль, кстати, мне в голову приходила. Должным образом оформленная, она могла произвести желаемое впечатление даже на кадровых членов Братства. Все дело только в режиссуре.
Та самая лестница, наверху Антон с Арчибальдом, кто в какой роли – сами бы договорились. Или биороботов к делу пристроить: те и Маргариту с Геллой могут изобразить. Только наших девушек уговорить явиться на бал обнаженными было бы затруднительно. У нас не та власть, у них – иной статус.
Это шутка, конечно, но вообще хотелось чего-то необычного, неожиданного, резко смазывающего «карту будней», говоря словами Маяковского. Но мы с Шульгиным и Олегом решили не переигрывать. Все же не передвижной цирк, а серьезное мероприятие. Разве что потом поразвлечься, под занавес.
Из небольшого, но отлично оборудованного порта «Валгалла» прошлый раз ушла своим ходом, всей мощью турбин преодолевая страшный шторм, шедший с востока. Чуток бы не хватило мощности, и нас свободно могло выбросить на берег с непредсказуемыми (на самом деле) последствиями. История мореплавания знает массу подобных случаев. Океан всегда сильнее человека со всей его техникой. Спасает только везение да сугубый [58] профессионализм. Иногда это называют «хорошей морской практикой», но тут у меня есть некоторые сомнения. Вроде как у Баха одно из произведений называется – «Хорошо темперированный клавир». А откуда он сам знает, хорошо или не очень хорошо? Не присутствует ли здесь некоторая нескромность? Вот принес бы я редакцию текст с заголовком: «Хорошо написанный рассказ». И что?
Сейчас «Валгалла» вернулась обратно, к месту своего создания и первой стоянки. Намотавшая на лаг многие тысячи миль, опаленная огнем сражений. Два боя с английским, сильнейшем на то время флотом она выиграла с блеском. Многим адмиралам Гранд-флита до сих пор икается, а один вообще от горя застрелился. Самый, кстати, перспективный из клонящейся к закату плеяды наследников Нельсона.
За появлением «Валгаллы» мы наблюдали в бинокли с вершины башни. Со стороны я такую картину видел впервые. Пароход возник на пустынной глади океана мгновенно, но без потрясения континуума, сопровождавшегося громовым ударом, которое всегда учиняли левашовская СПВ или аггрианские блок-универсалы.
Здесь канал был пробит из восьмого, допустим, века. До или после Рождества – непринципиально. Ни к двадцатому, ни к двадцать первому веку эта акция отношения не имела. Если, конечно, и в пресловутой «Вавилонской библиотеке» Борхеса не сидели «радиометристы» дуггуров, отслеживающие, с кем в данный момент организует внепространственную связь ныне царствующий Тиглатпалассар, или другой самодержец с похожим именем.
Одновременно или секундой позже мы увидели, что позади «Валгаллы» материализовался крейсер «Изумруд». Изумительно изящный кораблик. Хоть и пишут некоторые умники, что русское кораблестроение тогда отставало от западного, – не верю. Наши «Россия», «Громобой», те же «Жемчуг» с «Изумрудом», «Новики», само собой – отличались особым корабельным шармом, в сравнении с ними немецкие и английские крейсера выглядели несколько топорно.
Когда они стали на место, шестым, а то и седьмым чувством я ощутил, что возвращение «Валгаллы» к месту и времени своего создания особым образом уплотнило, или сгустило, структуру мирового эфира. Точнее объяснить не берусь. При случае – подумаю отдельно.
На обоих кораблях в Замок прибыли Воронцовы, Сашкина Анна и Владимир Белли, так и не нашедший себе постоянной подруги. А где ее взять? Для коротких необременительных связей лишенных предрассудков дам из лучших фамилий России ему хватало, а такой, чтобы ввести ее в Братство, – не встретилось. Разве что специально этим вопросом заняться на досуге?
Не совсем понимая, зачем вдруг такая спешка с перелетом на пароходе через Тихий океан и североамериканский континент, Наташа с Аней тем не менее успели приодеться. Естественно, каждая в своем стиле и сообразно пониманию предстоящего.
Встретил я их у нижней площадки трапа, приложился к ручкам, осведомился, как прошло путешествие. Наталья на это только усмехнулась, а Аня, до сих пор сохраняющая долю вынесенной из прошлой жизни наивности, на полном серьезе ответила, что никакого путешествия и не было. Хлоп – и все! Разве что, пока к берегу подплывали, успели полюбоваться окрестностями.
– Красиво, – указала она затянутой в лайковую перчатку рукой на заснеженные холмы, громаду замка и окаймленную кружевом прибоя береговую черту. – Много слышала про это место, а увидела впервые. А Саша где? Почему он не встречает?
– Встречает, вон от ворот поспешает. Он твои апартаменты обустраивал, вот, видать, не успел добежать. Пароход сильно быстро подплыл…
– Ты же вот успел…
Анна поджала губы. Будет у них сегодня тема для отдельного разговора. Везет Сашке, все ему барышни с гонором попадаются. А эта по началу такой тихой и кроткой казалась, сама по себе, да подружки наши своим дурным примером на нее повлияли. С кем поведешься…
В залах уже звучала музыка и призывно сияли огнями окна и обрамленные гирляндами иллюминации двери. Тут с корабля на бал попасть беспроблемно.
Последними со своих мостиков спустились командиры – Воронцов и Белли, оставив суда на попечение роботов-старпомов.
С ребятами я не виделся довольно давно, и мы со всей искренностью обменялись рукопожатиями и приобнялись. Приятно, что ни говори, когда снова вся команда в сборе и корабли стоят у стенки, полностью оснащенные, готовые защищать нашу свободу и экстерриториальность всей своей огневой мощью. Совсем другое дело, чем пятачок плацдарма перед отрытыми на урезе воды окопами и пустое, как карман пропойцы, море за спиной.
Дмитрий сообщил мне по дороге к воротам замка, что маячок с указанными Олегом характеристиками установлен на противоположной от форта стене фьорда. А также произведено несколько направленных в никуда перебросов инертных масс (мешков с песком) через корабельную установку СПВ. Тут у нас тоже был свой замысел. Если дуггуры усекут веер вдруг возникших межпространственных тоннелей, это их наверняка насторожит, а может быть, вынудит к каким-то активным действиям.
Они, даже добравшись до Новой Зеландии, прежде всего не обнаружат никаких следов, указывающих на предыдущее наличие, способ и направление исчезновения самой установки и причастных к ней «персонажей». И тут же, что удивит их еще больше, попадут в специально для них подготовленную ловушку, не ту, «сетевую», а самую обыкновенную, фронтовую, в которой потеряют, надеюсь, десяток-другой бойцов, а то и всех, если нам повезет, а им, соответственно, – наоборот.
Собственно, весь организационный Сбор я сначала планировал провести буквально за несколько часов. Доложить братьям и сестрам об очередном изменении обстановки и согласовать распределение ролей в данном сюжете. Грубо говоря, поставить сообщество перед фактом, в достаточно жесткой форме дав понять, что обсуждать, собственно, нечего. Так надо, и на этом почти все.
Однако все пошло по иному сценарию. Прежде всего, соскучившийся по близкому общению народ сразу начал ломать предусмотренную программу. Шестнадцать самодостаточных, имеющих четкое представление о собственном статусе личностей – это довольно много, чтобы ухитриться удержать всех в поле внимания, да еще и навязать им общий стереотип поведения. Такая же разница, как между польским сеймом семнадцатого века и полковым отчетно-выборным партсобранием.
Например, Ирина сразу мне шепнула, еще до прибытия «Валгаллы», что не желает, чтобы я затевал хоть какие-то деловые разговоры с Ларисой, Сильвией, Натальей и Анной раньше, чем она сама с ними «поработает»… А до того – исключительно банкет, и если он будет плохо организован, спросится ни с кого-нибудь, а именно с меня. Пришлось согласиться.
В качестве злобного «паре» [59] я предложил ей взять на себя руководство столом, лакеями и размещением гостей. Мне, ты уж прости, совсем сейчас не до этого.
Посмотрим, что у нее получится.
Следующая проблема – капитан Воронцов, который, конечно, давно уже адмирал, по числу спланированных операций, выигранных сражений, да и просто так, за красивые глаза. Нашивки на черном кителе у него скромные, одна широкая, одна средняя. А мог бы от обшлагов до плеч украситься, как муж королевы Елизаветы Английской. Вроде царем Николаем наш Дмитрий себя воображает, которого некому было произвести в следующий чин.
На подходе к банкетному залу он придержал меня за руку, пропустив Белли вперед.
– Что скажешь, командир, опять война начинается? – спросил Воронцов скучающим тоном. Мог бы и другим, наши отношения предполагали разные варианты. Слишком близки мы не были, если вспомнить и времена настоящей Валгаллы, и кое-что после. Но уважали друг друга безусловно. Возможно, сильнее, чем это складывалось в других мужских контаминациях [60] нашего общества. О Левашове не говорю, там у них свои отношения, мне не совсем понятные.
Наилучшим способом разрядить эмоциональный напряг во все времена считалось достать из кармана портсигар и протянуть его собеседнику. Нет, нет, самый обычный, другими мы баловались в иных ситуациях.
– Что, окончательно на сигары перешел? – спросил Воронцов, вынимая из кармана кителя пачку сигарет. Как хочешь этот жест понимай. У меня одолжаться не захотел или действительно считает сигару вне должного антуража моветоном.
– Не окончательно. Обстановка последнее время так складывается. Вроде моментами солиднее выглядит, моментами легче внимание отвлекать изящными манипуляциями. А сигареты, конечно, удобнее. Дай-ка твою…
Закурили, убедившись, что прочая публика веселой толпой движется в нужном направлении.
– Войны, Дим, честно, в ближайшее время не обещаю. Если, конечно, прямо сейчас нам на головы чужой десант высаживаться не начнет. Но это уже будет совсем из другой оперы. В мои же намерения входит совершенно противоположное. Да что мы тут стоим? Пошли помаленьку. Все, что нужно, узнаешь в ближайшее время. Со старым корешем повстречаешься. А что скучать не придется – почти наверняка могу гарантировать. Ты ведь там у себя засиделся, или застоялся, как и твой пароход?
– Застоялся – еще и про лошадей говорят…
– Ну, сам смотри, что к истине ближе. Разминку предложить могу, а уж примешь предложение или воздержишься – тебе решать.
Признаться, острого желания собрать всю нашу достаточно разношерстную команду в единое подразделение и, изображая Моисея, повести ее на поиски безопасности и Земли обетованной я не испытывал. Но и оставить кого-нибудь из них на растерзание монстрам в качестве приманки или по причине излишней самонадеянности я тоже не был готов.
И дело не в том, что пробудился во мне дух товарища Сталина и захотелось мне стать идеальным вождем «всего прогрессивного человечества», в данный момент насчитывающего около полувзвода. Я просто ощущал, что опасность разлита вокруг, и не так уж важно, откуда она исходит. По этой причине я обязан был хотя бы предупредить каждого и предложить вариант защиты. А уж если мои доводы не подействуют – выбор у каждого свой. Делай, что хочешь, и выкручивайся сам.
Из новоприбывших в Замке раньше бывали только Воронцов с Натальей, для прочих это выглядело сказками «Тысячи и одной ночи», с поправкой на прогресс цивилизации. Мужчин встречали и размещали мы с Шульгиным и Берестиным, женщин – Лариса с Ириной. Олег самоустранился, занятый подготовкой «культурной программы». Антон и Арчибальд решили раньше времени не показываться, по вполне естественным соображениям. Хотя с форзейлем были знакомы почти все, свое участие в деле он решил пока не афишировать.
Правильно, наверное, понимая, что у многих из наших он инициирует своего рода идиосинкразию, а то и обычную человеческую неприязнь. Вызванную разными причинами, не всегда справедливую, но имеющую место быть.
Так что его мы введем на следующем этапе.
Если кто помнит, однажды, в двадцать первом году, после взятия Царьграда, я уже пытался «свернуть проект» и предложил братьям и сестрам тогдашнего состава предоставить созданный нами «новый мир» естественному ходу вещей. Хотя бы на год отойти от дел, предавшись путешествиям и вообще личной жизни. Тогда эта идея не прошла, почти у каждого нашлись веские доводы и причины, не позволявшие отказаться от избранных ролей.
Кого-то в России и окрестностях держало «чувство долга», как Берестина и Воронцова, кто-то просто не успел наиграться в «большую политику» и не хотел расстаться с внезапно свалившимся на голову «статусом», как Лариса… В общем, не важно, но тот раз меня не поддержал никто, кроме Ирины с Анной да леди Спенсер, которая подарила мне королевскую яхту и более всего на свете желала помахать нам платочком с берега, после чего надолго забыть о нашем существовании.
За прошедшие годы случилось много всякого, водоворот каждый раз неожиданных, но вытекающих одно из другого событий завертел каждого из нас так, что удивляюсь, как вообще действующие лица ухитрились вынырнуть, поодиночке и все вместе.
И вот теперь, на новом совершенно витке, когда все мы стали совсем другими людьми, но каждый – по-разному, я собрался повторить свое предложение.
Предварительный расклад, на который мы с Шульгиным ориентировались, затевая встречу, у нас получался такой: наши с Сашкой женщины поддержат нас по-любому. Да и Олег с Ларисой теперь были на нашей стороне, что радовало.
Воронцов – особая статья. В переделках последних времен он участвовал мало, избрав свою нишу и уютно в ней устроившись. С Натальей ему было хорошо, пароход оставался в его полном распоряжении, да и в Форте Росс он главенствовал, как старморнач [61] и командир над портом. В отличие от нас он был человек спокойный, выдержанный, все свои былые комплексы и неотреагированные эмоции сумел свернуть. По его меркам, иных райских кущ, помимо уже достигнутых, искать было бы глупо.
Наше предложение, как мне казалось, он должен принять без возражений и протестов, просто потому, что для него ничего существенно не менялось, наоборот, роль его значительно возрастала. Кое-что поймет сам, остальное я объясню позже. Значит, еще плюс два в нашу пользу.
С Берестиным тоже согласовано. Ему именно сейчас терять совершенно нечего. Он навоевался, достиг возможных пределов карьерного взлета, ни в двадцать пятом, ни в две тысячи пятом ничего ему не светит. Новопомазанный Государь Император Олег, безусловно, благодарен ему за спасение Трона и Державы, но официальный пост ни в коем случае не предложит. Своих генералов хватает. А вот начать очередной раз с нуля и вновь достичь вершины в совершенно новом качестве ему определенно по душе.
Сильвия, сколь бы независимой персоной себя ни считала, узнав о последних событиях, просто обязана нас поддержать, ибо лучше многих других должна представлять возможные перспективы. Общие и свои личные. Негативные и позитивные. Однако в истории с Дайяной она повела себя… не совсем по-нашему.
Мне казалось немаловажным и то, что наш план позволит ей вернуться во времена своей молодости, где по исходной легенде она числилась этакой «Наследницей из Калькутты», девушкой хорошего старинного рода, возвратившейся в Англию из колоний. Вот пусть и попробует прожить этот вариант еще раз, не отягощенная обязанностями инопланетной резидентки. А Алексея лордом, членом палаты пэров назначит, если обратной дороги не будет.
Кирсанову и Басманову возвращение на рубеж веков тоже, несомненно, должно показаться привлекательным. Для них девяносто девятый – время осмысленного детства. Первому тогда было уже двенадцать, второму семь. Есть что вспомнить. А кроме того, при вербовке в наш отряд рейнджеров им первоначально предлагалась именно служба, условно говоря, в «иностранном легионе», личной гвардии авантюристов, созидающих собственное феодальное княжество в африканских дебрях. Подписку давали? Вот теперь пусть исполняют.
Анна и Владимир Белли тогда пребывали в пеленках, но все же.
Есть такое понятие – «тяга времени». Не путать с «одержимостью временем», описанной Азимовым. «Тяга» – это совсем другое. Человека мыслящего и чувствующего – когда сознательно, когда и нет – особым образом манит аура тех лет, когда он был ребенком, пусть эти времена объективно были не столь уж благополучны. Какую-то щемящую тоску (у меня лично) вызывают кинофильмы, журналы, газеты начала пятидесятых годов. Как-то в музее увидел экспозицию: «Типичный интерьер городской квартиры послевоенных лет». Так поверите – оторваться не мог, настолько здорово музейщики подобрали реквизит. Наверняка по собственным воспоминаниям. Хотелось перешагнуть ограждение и перетрогать все своими руками. Пусть и было все там, по нынешним меркам, примитивно, бедненько, а вот поди ж ты…
Одним словом, с этой публикой у меня сложностей не предвиделось.
Сложностей я поначалу ждал от разговора с Ларисой, девушкой крайне «своеобычной», как одно время принято было выражаться. Что она авантюристка и готова к самым неожиданным эскападам – известно с самого начала. То есть вопрос только в том, попадет ли ей очередная вожжа под хвост или нет. Но она, на удивление, приняла нашу идею мгновенно и почти с восторгом. Так что теперь можно использовать ее для работы среди другого «женского персонала», и не только женского, если потребуется. А уж как она сможет развернуться в том обществе, куда нам предстоит попасть! Заведомо воображаю, какая может получиться тема для небольшого романа.
Игорь Ростокин тоже относится к неопределенным величинам. Прежде всего, мы до сих пор не знаем, что он собой представляет в нынешний момент. Сколько памяти он сохранил из «ловушечного» периода, не всажена ли ему специальная, подлежащая активизации в нужный момент подпрограмма? Насколько его личные планы совпадут с нашими? Это тогда, в своей реальности, ему без моей с Ириной помощи и поддержки не удалось бы элементарно выжить, а теперь он фигура самостоятельная, и с амбициями.
Вот вроде и вся диспозиция, не такая сложная, но требующая филигранной работы, одними декларациями и угрозами вражеского вторжения тут не отделаешься. Пожалуй, всю дипломатию нужно построить «от противного». Никому ничего не навязывать и никого не вербовать. Даже подчеркнуть, где в лоб, где «из-за угла», что из поля зрения неприятеля безусловно необходимо вывести только восьмерых: меня, Сашку, Олега, Берестина с Воронцовым, Ирину, Сильвию и Наталью. Каждый из этой команды наверняка несет на себе определенную «черную метку». Причем разного диапазона и мощности – за неимением другого термина.
Все остальные в принципе могут не беспокоиться. Мы просто отберем у них все технические устройства, выходящие своими характеристиками за норму для двадцать пятого года, и пусть себе живут, «не высовываясь». Если же и эти предосторожности окажутся недостаточными или дуггуры вторгнутся в наш мир согласно собственным стратегическим конструктам, «неспровоцированно», тогда те, кому повезет, укроются в Замке. Где мы когда-нибудь встретимся.
…Как обычно после достаточно долгой разлуки, некоторое время ушло на сбивчивые, перескакивающие с одной темы на другую взаимные расспросы: с кем что случилось за последнее время и как все складывается на «подведомственных территориях». Не обошлось, разумеется, без сентиментальных «охов и вздохов», связанных с воспоминаниями о прошлой жизни в Замке, когда те, кому довелось в нем побывать, были так молоды и понятия не имели, что готовит им судьба.
Наталья, разумеется, захотела навестить свои бывшие апартаменты, что совершенно естественно, и вообще пройти «по местам боевой славы». Прочие дамы составили ей компанию, а Сильвия предпочла остаться в залах. Похоже, пристальные, не слишком скромные взгляды Кирсанова и мальчишки Белли ее интересовали больше, чем перспектива поучаствовать на третьих ролях в дамском междусобойчике. Мужская часть, разбавленная леди Спенсер, на какое-то время оказалась предоставлена самим себе, сгруппировавшись в буфетной.
Легкого намека Сашки, адресованного Кирсанову, оказалось достаточно, чтобы тот, особым образом, недоступным нам, родившимся в другое время, изогнулся, предложил Сильвии локоть калачиком, начал что-то нашептывать и повлек вдоль по анфиладе, едва ли не «ируканские ковры» осматривать. Впрочем, до ковров вряд ли дойдет, поскольку Павел сделал знак старшему лейтенанту, облаченному в белый китель с орденами, при кортике, сопровождать их.
Мне показалось забавным, что с Сильвией, полностью обрусевшей, оба старательно разговаривали по-английски. Кирсанов свободно, а Владимир правильно, но выученно, без приличной языковой практики.
Остались в полуциркульном зале с фуршетными столиками шестеро наших и Удолин, трезвый до изумления.
Опрокинули по рюмке, тоже в лучших традициях светской жизни, дружно закурили у приоткрытого венецианского окна.
– Дело у нас следующего рода, – обратился я ко всем сразу, но преимущественно к Воронцову с Ростокиным, считая, что Басманов частично, но в курсе, профессор тем более. – В технические детали сейчас вдаваться не будем, подождем, когда вернутся дамы, тогда мы прокрутим один любопытный фильм с необходимыми комментариями, и всем все станет окончательно ясно…
Подготовленного Левашовым фильма, кроме меня и Сашки, не видел никто, даже Алексей не успел.
– Пока же просто хочу согласовать позиции. Магистрам и иным чинам Ордена не пристало в обществе женщин затевать диспуты и демонстрировать разброд и шатания в мыслях, словах и поступках… – В такой, несколько ернической форме я решил задать подходящее настроение.
Получилось, но не совсем.
– Значит, ты сейчас должен быть очень убедителен, – заметил Воронцов, скользя цепким взглядом по нашим с Олегом и Сашкой лицам. Наверняка ему не слишком нравилось, что мы предварительно втроем о чем-то сговорились, а теперь темним. Пожалуй, ему сейчас вспомнилась «тайная вечеря» в мастерской у Берестина, где к нему отнеслись без должного пиетета.
Сам Алексей вертел в пальцах сигарету и смотрел не прямо на меня, а на мое отражение в оконном стекле. Но молчал, выжидая дальнейшего развития событий.
Ростокин, заинтригованный, весь обратился в слух, как писали авторы в девятнадцатом веке.
– Сделаю все возможное. Новости у меня, как обычно, две. Хорошая и плохая. Беда в том, что никак не получается сообразить – какая есть какая. Вот, Александр наш Иванович, сам почти того не желая, влез в Сеть и что-то там переключил. В результате, по заслуживающим доверия данным, мы, то есть вся наша реальность, теперь от нее изолированы. От Игроков, от Держателей, от всего… Хорошая это новость или плохая – сказать пока затрудняюсь.
При этом я указал папиросой на Левашова. Мол, я сказал и сказал, а Олег должен объяснить если не физический, то психологический смысл происшедшего. Затем Сашка вставил несколько слов, не затрагивая пока, как мы и договорились, прочих имевших место событий. Касающихся его лично, но не только.
Впрочем, дискутировать слишком долго я товарищам не дал. О факте поставлены в известность, ну и все пока.
– Новость вторая – свято место, как известно, пусто не бывает, и если где чего отнимется, то в другом непременно прибавится. Вот у нас на Земле и прибавилось… Незваные гости, родственнички с какой-то очень далекой мировой линии, ответвившейся, может быть, еще до появления кроманьонцев…
Кто-то негромко присвистнул.
– Сами увидите, на пальцах объяснять долго и неубедительно. Мы тут предварительно проконсультировались с другом Антоном…
– Он снова объявился? – спросил Воронцов, который действительно мог считаться его самым старым другом-приятелем. Дмитрий, по большому счету, и заварил всю эту кашу. Если б не он, одной половины Братства давным-давно не было бы на этом свете, а остальные либо и сейчас существовали по определенным им от рождения схемам, как Наталья и Лариса, либо покоились в земле, отжив отпущенный естественный срок. Это Басманов, Кирсанов, Белли, Анна. Либо, наконец, только собирались бы родиться лет так через полсотни от «контрольной точки» – Ростокин с Аллой.
– И при весьма странных обстоятельствах. Так вот, даже он пока не сумел выяснить, откуда у всего этого дела ноги растут. Но настроен крайне мрачно. Сам увидишь, время будет. Чего-чего, а времени у нас теперь навалом, – успокоил Дмитрия Сашка.
Чье поведение мне нравилось, так это Михаила Федоровича. Выбрали мы его среди тысяч таких же, вроде бы, людей «темного», оно же – «проклятое», прошлого – и так хорошо выбрали, что ни разу не пожалели. Даже наоборот – временами казалось, что без него у нас очень многое просто не получилось бы.
Правда, как-то мне пришло в голову, что и здесь все обстоит совершенно наоборот. Ничего мы не выбирали, а просто, бродя с Сашкой по Стамбулу, визуализировали такую мыслеформу, как капитан Басманов, смонтировав его из многих известных по литературе и истории, симпатичных лично нам персонажей. Соответственно, был придуман и Кирсанов как идеальный образ просвещенного и умного жандарма, а потом и гардемарин Белли, гибрид Юры Ливитина из «Капремонта», Бахметьева и Лобачевского из «Арсена Люпена».
И сейчас они держались, как подобает офицерам. Вопросов не задавали, мимику контролировали, вообще в основном отдавали дань напиткам и холодным закускам, с интересом разглядывали дворцовые интерьеры, наверняка вспоминая что-то свое. Чем их удивишь после того, как, удивившись раз и навсегда, они любую новую невероятность воспринимали как должное.
– Но главное, ради чего я разговор затеял, заключается вот в чем: выбор у нас небольшой. Оставаясь здесь, рано или поздно придется ввязаться в очередную войну с непонятным и намного превосходящим врагом, а то и спровоцировать ее именно фактом нашего здесь присутствия. Взамен можно уйти за пределы «опасной зоны», целиком занявшись частной и личной жизнью, предоставив Антону и его «соратникам» разобраться самим, а нам вмешаться уже на заключительном этапе. Как Сталину в японо-американскую войну…
– Как-то странно ты ставишь вопрос, – первым ответил Воронцов. – Что за враг, какой, зачем мы ему и он нам – не сказано. А решение принимать требуешь уже сейчас. Разобъяснил бы как-нибудь… подоступнее. Я «втемную» даже в преферанс не люблю…
– Насчет врага ты узнаешь в ближайшие полчаса. Если он тебя заинтересует… – Шульгин подергал щекой, – сможешь поупражняться. В частном порядке. Речь же совершенно о другом. Из здесь присутствующих пятеро уже стояли однажды перед похожим выбором и согласились уйти из Замка в двадцатый год, потому что здесь стало «горячо»…
– Ну, тогда нас особенно и не спрашивали, – вставил Воронцов.
– Отнюдь. Выбор был и тогда, ты просто подзабыл… Сейчас нас здесь восемь человек. Проблема выбора – аналогичная, но в чем-то легче. Тогда мы сами о себе почти ничего не знали, сейчас – знаем. Уйти нам предлагается в достаточно спокойное время, где никаких катаклизмов не ожидается. Не очень надолго…
Тут у меня были некоторые сомнения, но высказывать вслух я их не стал.
– Или война с неизвестным врагом и непредсказуемым исходом, к которой именно сейчас я не расположен…
– Горячих сторонников любой войны среди нас не так много, – вставил свое слово и Ростокин. – Видели, знаем, но сама постановка, признайтесь, странная, Александр Иванович… Раньше так не бывало, насколько я в курсе.
– Мало чего раньше не было. Но если таково общее мнение – давайте на этом пока закончим. Кино посмотрите – поговорим еще раз. Только, поверьте, у нас с Андреем и Олегом были основания поставить вопрос именно так. Чтобы перед женщинами выступить с единой позицией. Ты вот, Игорь, из нашей последней встречи на Селигере и в Москве что-нибудь помнишь? Монастырь, генерал Суздалев, ресторан, «чекист» Маркин, ночь в твоей квартире…
Лицо Ростокина выразило мучительную работу мысли. Опять же, как при попытке вспомнить недавний сон. Вроде что-то такое ощущается, эмоционально, а подробностей – ноль. И от этого – тяжелый дискомфорт.
– Мы разве встречались? Что-то я не припомню. Последние месяцы я ни в Москве, ни на Селигере не бывал. Тут у меня железное алиби… Уточнить можете?
– Ну, для тебя же лучше. Не был и не был. Это, значит, у меня индивидуальный глюк приключился. Сон в летнюю ночь. Но до того убедительный… Вроде как у тебя прошлый раз с княжной и татаро-монгольским нашествием. Не бери в голову. Да вон, кажется, и наши дамы возвращаются. Так что, сначала кино, а потом ужин или наоборот?
Вопрос был задан исключительно «pro forma» [62]. Какой ужин после всего сказанного?
Все вместе, дождавшись возвращения женщин, направились в небольшой просмотровый зал, приготовленный неподалеку. Точнее – некий гибрид домашнего кинотеатра и ресторанчика на два десятка персон. Столики амфитеатром, удобные кресла, чтобы зрители не заскучали или, наоборот, в самые волнующие моменты могли промочить пересохшее горло. В ассортименте были выставлены прохладительные напитки и легкие вина в качестве аперитивов к предстоящему ужину. Он-то состоится независимо от художественных достоинств предлагаемого фильма.
Глава шестнадцатая
Чтобы не утомлять зрителей, мы с помощью Антона и аппаратуры Замка смонтировали фильм ровно на час. Для придания произведению художественной целостности, а главное, убедительности, кое-где пришлось использовать вставки из позднейших, уже здешних воспоминаний Шульгина и Антона, видеозапись боя с медузой, незначительную режиссуру подлинных эпизодов, элементы компьютерной графики. Сюжет тоже слегка переделали, по тем же самым причинам.
Возможностей у Замка было предостаточно, что он и продемонстрировал в своих прежних «произведениях» из жизни Натальи и наших с Олегом и Воронцовым приключений в сорок первом году.
Изображение, разумеется, трехмерное, великолепного качества, с использованием всех положенных в высокохудожественном кино режиссерских и операторских приемов. Действие сопровождалось закадровым голосом Шульгина. Единственное, без чего мы обошлись, так это без музыки, иначе получился бы перебор. Эстетический.
Вообще вначале была идея показать все как есть – в виде стопроцентно подлинных, но не слишком связных отрывков ментаграмм, стилизованных под черно-белую фронтовую кинохронику. Но все же остановились на втором варианте.
Начиналась картина сценой покушения на Сталина, которая подавалась как бы с точки зрения стороннего наблюдателя, находящегося, однако, в центре событий. В кадрах мелькнули и Лихарев, немедленно большинством зрителей узнанный, и Антон в облике Шульгина, и никому здесь не известный Юрий. Кадр остановился в момент, когда трупы монстров грузили в машины.
– Дальше «объекты» были доставлены на дачу Сталина, где, наверное, и пребывают до сего времени в ожидании вскрытия и научного заключения. А также результатов оперативно-служебного расследования по факту акции, – сообщил заэкранный Шульгин, пытаясь подражать артисту Копеляну. – Очень надеюсь, что там сейчас развитие «линии» все-таки остановлено, иначе трудно представить, во что все может вылиться.
Следующий эпизод, на «планете Зима», включал короткую сцену Сашкиной пробежки от начала ущелья до избушки, после чего сразу начинался бой с преследующими его гоминоидами. Все лишние моменты были вырезаны, картинки подавалась исключительно с его точки зрения, как если бы камера была закреплена у него на голове. Весь сюжет уложился в десять минут, что по кинематографическим меркам достаточно много.
– Способ и причина моего попадания в это мрачное место мне неизвестны, но есть мнение, что сделано это было просто для того, чтобы поближе познакомить персонажей друг с другом, заодно беспристрастно оценив их боевые качества, – сообщил Шульгин, когда его экранный двойник скрылся в лазе, ведущем в пещеры. – Или с той же степенью убедительности – кое-кому потребовалось любой ценой не пропустить теперь знакомых вам монстров в эти самые пещеры…
– Не очень и любой, – вмешался Берестин. – Один человек с винтовкой – это не оборона. Шальная пуля – и конец замыслу…
– Имелся и запасной рубеж. Многослойное минирование пещер, в принципе непреодолимое… – ответил Шульгин, снова приостанавливая показ.
– Тогда нечего было и огород городить, тебя подставляя. Первый вариант – провокация или рекогносцировка – куда убедительней.
– Все это мы будем специально обсуждать, а пока продолжим. Пещеры, кстати, заслуживают самого пристального внимания, жаль только, что мы не знаем, где и когда они находятся. Но мне кажется, что отнюдь не в дальнем космосе, а на Земле. Очень может быть – в эпоху Великого оледенения…
Над подиумом появилось изображение интерьеров избушек, «входной» и «выходной». «Камера» подробно задерживалась на каждой детали обстановки и реквизита.
– Думаю, никому не покажется смелым предположение, что все это оборудовали специалисты с психологией и жизненным опытом, идентичным нашим. Точнее, знатоки двадцатого века, всего сразу, взятого в странном разрезе. Винтовки, обращаю внимание знатоков, натуральные, не «дробь тридцатого» [63], вещь достаточно раритетная. А гранаты, напротив, образца семидесятых. Ничего более позднего предложено не было, возможно, из опасения, что этот товарищ из фильма с ходу не разберется с другими. Учли, значит, что с техникой, придуманной после восемьдесят четвертого, знаком слабо.
– Я бы предположил, – вновь перебивая комментатора, провозгласил Берестин, – что это мы сами и устроили. Или мы – параллельные, или просто позже текущего момента.
– Не смею спорить, – ответил Шульгин, – мы, не мы, но явно «под нас». И хочу заметить, предваряя следующие бестактные вопросы, что демонстрируются вам только факты. Никаких гипотез и тем более законченной точки зрения у меня нет.
Сашка потянулся к бокалу красного вина, стоящему перед ним, в последний момент отдернул руку.
– Человек! Виски со льдом! Много льда!
На фоне только что всеми нами увиденного слова «много льда» прозвучали несколько двусмысленно. А в принципе правильный выбор. Ему еще предстоит «пресс-конференция», так сказать, и удобнее отвечать на многочисленные вопросы, не спеша отхлебывая именно разбавленный виски. Не водку же глушить рюмку за рюмкой!
Лакей-робот немедленно возник из-за портьеры и подал на подносе требуемое.
– Но все же скорее всего это устроили отнюдь не мы. Разве что – из той реальности, где вместо Валгаллы направились вот сюда…
– А может, это именно Валгалла? С которой мы не ушли? – подкинул свежую идейку Воронцов. – Монстры, соответственно, еще одна разумная раса, помимо квангов, или биороботы… Не ваши, Сильвия?
Аггрианка в ответ лишь презрительно фыркнула.
– Ну, нет так нет. А по климату вполне похоже. Мы ведь и доли процента территории планеты не обследовали. Бушмены из Калахари в восемнадцатом веке тоже едва ли могли вообразить, что на Земле имеется что-то еще, кроме их пустыни и травяных хижин…
– И это не лишено смысла. Однако продолжим просмотр. Дальше будет еще интереснее…
Да уж! Следующие двадцать минут народ получил возможность в деталях и подробностях, под разнообразными ракурсами обозреть «Барселонское побоище». Из переулков, с крыш домов, из окон отеля и примыкающих зданий. Ружейной и артиллерийской стрельбы, взрывов, огня, дыма, крови хватило бы на целую серию киноэпопеи «Освобождение». Только в отличие от творения Озерова здесь все было настоящее.
Немцев, Буданцева и многое другое мы тоже вырезали, как не имеющее отношения к сути, зато в финале показали пленных дуггуров-элоев крупным планом.
На чем демонстрация закончилась.
Впечатление получилось сильное, у всех без исключения. И, по счастью, никто не выразил претензий к качеству фильма, его достоверности и стилю подачи материала.
– Таким вот образом, господа, – подвел я итог показа. – Есть информация, пусть пока и не стопроцентно подтвержденная, что подобное вторжение может состояться и в нашем мире. Разумеется, если оно случится где-нибудь в восьмидесятые годы, объединенные силы СССР, Штатов и прочей НАТО наверняка смогут дать отпор прямой вооруженной агрессии…
– Что, во-первых, не факт, – снова начал спор Берестин, – а во-вторых, они ведь тоже могут обладать методиками внедрения матриц и тому подобными…
– Могут, – согласился я. – Но до восьмидесятых в любом случае далеко, лично нас теперь это не слишком касается, а вот если агрессия начнется здесь, я имею в виду двадцать пятый и следующие годы…
– Тогда – абзац! – закончил за меня мысль Воронцов.
Алексей и Басманов, весь фильм просидевшие молча, не отрывая при этом глаз от экрана, принялись обсуждать реальные возможности противодействия такому противнику в современных условиях.
– Огнеметные танки – то, что нужно. Куда эффективнее пушечных, – предложил Алексей. – При достаточной эшелонированности боевых порядков и хорошем качестве огнесмеси даже тысячные массы этих монстров могут быть рассеяны, а главное – деморализованы… Напалм и его производные куда страшнее пуль и снарядов…
– Вы упускаете из виду существенный момент, – возразил Басманов. – То, что мы сейчас увидели, никак не раскрывает настоящей степени боеспособности противника. Даже в Барселоне имела место всего лишь диверсионная операция едва ли батальонного масштаба, проведенная в весьма специфических условиях. В поле даже те монстровские гранатометы, что мы видели, могут нанести танкам тяжелейший урон, особенно с учетом того, что дальнобойность ракет куда больше, чем у огнеметов. Я бы хотел представить, каковы их действительные возможности. Цивилизация намного древнее нашей, как я понял, должна располагать соответствующим уровнем развития средств и способов уничтожения… Если уж между моим и вашим временем такая разница, так о чем говорить?
– А мне вот кажется, – не согласился Алексей, – что нам продемонстрирован именно предел их боевых технических возможностей. Иначе странно было бы… Ну вот я, располагая снайперской винтовкой, условно говоря, чего ради пошел бы на противника с мечом и щитом? А мы видели три разнесенных по месту и времени эпизода, и в каждом вооружение и тактика практически однотипны…
– Может, им просто поразмяться захотелось – раз. У нас тоже есть любители охотиться на крупного зверя с луком и рогатиной, – с улыбкой сказал Ростокин, – что не отменяет существования плазменных карабинов и многого другого. Или у них существует закон, обычай, требующий в каждом конкретном случае использовать оружие, соответствующее эпохе, – два. Мы сами стараемся поступать так же, не правда ли? И, наконец, нам подсунули тщательно спланированную дезинформацию стратегического уровня – три. Никого не удивляет, что ее объектом и одновременно субъектом выбрали именно уважаемого Александра Ивановича? Для этого ведь надо очень тонко разбираться в структуре и отношениях внутри нашего Братства…
– Согласен, – поддержал его Кирсанов, человек не просто умный, но квалифицированный как раз в этой области. – Объект выбран со знанием дела. Другой в предложенных обстоятельствах скорее всего был бы убит, если не с первого раза, то со второго – точно. Здесь же расчет был именно на то, что он выиграет, на пределе своих возможностей, но почти наверняка. Третий эпизод самый масштабный, в нем Александр Иванович победил уже не за счет физических и моральных качеств, а скорее – организаторских. Кроме того, тема развивалась по нарастающей. Вначале – экспозиция, нам показали вероятного противника, но сама задачка была несложная. Обычная трехходовка. Исполнители посланы на убой, но если бы, паче чаяния, покушение на диктатора удалось, эффект получился бы поразительный. На фоне непременно возникшей паники, которая легко могла перерасти в общую в смуту, мог быть введен следующий вариант. Какой именно – гадать не берусь…
В картине номер два Александру Ивановичу был предложен уровень посложнее. Шесть к одному, вдобавок при ощутимом огневом перевесе неприятеля. Я смотрел очень внимательно. Большинство из нас в этой стычке шансов на победу не имели. Никого не хочу обидеть – но факт.
Желаемый для противника вывод: «Я сильнее, умнее и хитрее, я вас не боюсь», – Александром Ивановичем был сделан. Правильно?
Шульгин молча кивнул.
Нет, что ни говорите, талантливый человек Павел Васильевич. Быть бы ему в положенное время шефом Корпуса Жандармов, если б, конечно, раньше себе шею не сломал в бюрократических интригах.
– И, наконец, – продолжил Кирсанов, – в Барселоне ему была дана возможность сразиться с организованным боевым подразделением в качестве уже не боевика-индивидуала, а старшего воинского начальника. И он снова выходит победителем. Уровень самооценки еще более поднимается, уверенность, что враг страшен, но не слишком опасен, становится доминирующей…
Он сделал паузу, видимо, соображая, не слишком ли разболтался.
– Продолжайте, Павел Васильевич, – поощрил я жандарма. – Вы очень четко все формулируете.
– Извольте. При всем своем остроумии и названных частных успехах стратегическую ошибку неприятель допустил. Даже две. Он не догадался, что мы умеем думать быстрее и оригинальнее его. Если верны слова о том, что в их мире много тысячелетий существует единое общество и единая мыслящая раса, у них давно уже нет стимулов оттачивать разум в решении настоящих военно-политических задач, дипломатических интригах, политическом и уголовном сыске. Поэтому здесь мы их уже переиграли. Я ведь не думаю, что, собирая всех нас здесь, Александр Иванович и Андрей Дмитриевич сами исходно не пришли к тем же выводам, что я позволил себе огласить…
– А зачем тогда вообще об этом заговорили, если и так все очевидно? – с долей яда в голосе спросила Лариса. До этого никто из женщин не произнес ни слова, за исключением междометий, которыми выражали свои эмоции по ходу фильма.
Кирсанов с достоинством наклонил голову с великолепным пробором в ее сторону. Чуть прищурился, его выразительные синие глаза опасно сверкнули.
– Прошу прощения, очевидно – из карьерных соображений. Увидел, что руководству по только ему известной причине не хочется растолковывать некоторые факты и соображения, вот и взял на себя труд. Глядишь, думаю, и зачтется при случае…
Все, кроме Ларисы, дружно рассмеялись, снимая накопившееся напряжение. Да уж, из Кирсанова карьерист еще тот! Единственный, пожалуй, в нашей компании человек, у которого полностью отсутствуют какие-либо амбиции, кроме чисто профессиональных. Своего рода аналог Шерлока Холмса или, если угодно, Бобби Фишера, который, убедившись, что играет в шахматы лучше всех в мире, не стал дальше защищать свой титул. То же и Павел Васильевич, вольный стрелок в мире тайных операций. А мог бы…
– Если же серьезно, то все это я говорю исключительно с целью экономии времени. Чтобы избежать долгих, не уверен, что плодотворных, дискуссий и сразу перейти к сути вопроса…
– А если мы именно подискутировать хотим и прийти к самостоятельным выводам, а не к тем, что нам, предположительно, собираются навязать? – не сдавалась Лариса, исключительно из вредности.
– Уж это я никаким образом не смогу вам запретить, даже если бы и имел такое право. Но вы позволите закруглить мысль? Вторая ошибка неприятеля заключается в том, что он настолько переоценил тонкость своего замысла и недооценил уровень подготовки объекта, что подставился… Я так понимаю, они были совершенно уверены в результате, причем, заметьте, их одинаково устраивали и победа и поражение своей ударной группы. Захватят Александра Ивановича живым – великолепно. Сумеет он отбиться – немногим хуже. Они настолько обнаглели, что послали на поле боя своих наблюдателей…
– А я думаю – координаторов, – вставил Шульгин, – или – корректировщиков.
– Вам виднее. Я не в курсе. Но если бы не это, партию они могли выиграть вчистую. Потери «пушечного мяса» для них наверняка несущественны. Зато сам факт, что мы узнали о существовании этих «элоев», а уж тем более их пленения, для них катастрофичен. Теперь мы информированы, мы настолько настороже, что стратегических перспектив для них я не вижу. Они же, в свою очередь, должны быть напуганы столь явным превосходством противника. Там ведь не только вы были, там нормальные солдаты сражались. И потому согласен с Андреем Дмитриевичем – нам нужно немедленно исчезнуть с театра военных действий, оставив противнику стратегическую пустоту.
Жандарм промокнул салфеткой слегка вспотевший лоб, поклонился, благодаря за внимание, сел.
– Парадокс, – сказал Берестин, – но – хороший парадокс. Самоочевидно, что захват территории как таковой для дуггуров ничего не решает. До тех пор пока существуем мы, здесь присутствующие, ну и наши союзники, конечно. Жаль, что на совещании не присутствует Антон.
– Уже присутствует, – сообщил форзейль, появляясь из боковой двери.
– Наконец-то, – вполголоса сказал Сильвия, когда остальные, лично с ним знакомые, различным образом, кто словами, кто жестами, его приветствовали.
– Теперь, можно сказать, компания в полном сборе, – констатировал он, садясь за столик так, чтобы оказаться ко всем лицом. – Обсуждение у вас идет вполне плодотворно, а я, в свою очередь, готов ответить на вопросы, могущие прояснить до сих пор не ясные моменты. Не знаю, успел ли Андрей или Александр сообщить, что с некоторого времени я – тоже один из вас, и не более. Лишен чинов и прав состояния, навсегда покинул возлюбленную родину и нахожусь в качестве политического эмигранта, как Ирина и Сильвия…
Реакция на его слова не была бурной, но вызвала неподдельный интерес, у каждого – своего рода.
После десятка дежурных вопросов и ответов, неизбежных при встрече давно не видевшихся людей, Антон перешел к сути интересующего всех вопроса. В достаточно упрощенной форме, не вникая в те тонкости, которые мы с ним обсудили раньше, он подтвердил начавшее складываться у специалистов мнение. Да, действительно, доступные сейчас способы анализа подтверждают, что цель цивилизации дуггуров именно в том и заключается, чтобы предварительно очистить нашу и примыкающие к ней реальности от сил, способных оказать им действенное сопротивление, и лишь потом начать, если можно так выразиться, «хозяйственное освоение» территории.
– Есть также мнение, что они достаточно много знают о деятельности тех сил, в поле воздействия которых долгое время находилась наша ГИП и «окрестности».
Он не стал называть конкретно ни аггров, ни своих соотечественников, ни даже Игроков. Из деликатности, наверное, чтобы не возбуждать дополнительных эмоций.
– А что показали пленные? – Этот вопрос Кирсанова, похоже, интересовал больше всего. Да и правильно.
Антон ответил уклончиво. Работа, мол, над расшифровкой полученной информации продолжается, но слишком уж велико несоответствие между нашими техническими возможностями и их ментальными структурами.
– Примерно то же самое, что пытаться расшифровать телевизионный сигнал с помощью армейской коротковолновой радиостанции. Мы на подобное никогда не рассчитывали. Вы ведь тоже? – обратился он к Сильвии.
Та в ответ просто развела руками.
– Но кое-чего мы все же достигли. К примеру, есть основание полагать, что к гибели нашей первой экспедиции, за Книгой-отчетом которой ходил Дмитрий, дуггуры наверняка причастны. Я обратил внимание на темные места, раньше не поддававшиеся разумной трактовке, а под новым углом рассмотрения многое сходится…
Мы получили характеристики психополей, которыми дуггуры пользуются при своих визитах на Землю, и теперь можем их достаточно успешно нейтрализовать. Более того, мы убедились, что не только личности уровня Александра могут сопротивляться их воздействию, но и простые люди, как, например, те несколько бойцов спецотряда, сумевшие захватить «языков»…
– Не совсем они, наверное, простые, – заметила Ирина.
– Проще некуда, – ответил ей Шульгин. – Выбирал из предложенного, никакими верископами не пользовался. Солдаты как солдаты, для своего времени прилично подготовленные, но и не более того. Правда, у командира, старшего лейтенанта Гришина, какие-то паранормальные задатки ощущались, но это скорее по ведомству профессора Удолина…
– Если мне будут предоставлены нужные материалы, то… – ответил профессор, настолько тихо сидевший в своем углу, что многие даже забыли о его существовании.
– Самое главное и обнадеживающее, – продолжал Антон, – в том, что мы не только скопировали часть психоматриц пленников (которую в состоянии оказались расшифровать наши сканеры), но и внедрили им кое-какую свою информацию. Не вербальную, я уже говорил, нам это пока недоступно, но эмоционально-фоновую, и это уже достижение. Мы посеяли в них страх и некое подобие комплекса неполноценности…
– Я не понимаю, – вновь вмешалась Лариса, – как такое может быть? Вполне гуманоидного облика существа, земного происхождения, способные к целенаправленной и, судя по тому, что нам было показано, вписывающейся в рамки наших стереотипов деятельности, в то же время оказываются непостижимыми для тебя, Антон, умеющего создавать из ничего вполне жизнеспособные фантомы!
Когда наша «анфан террибль» [64] хотела, она вспоминала свое весьма приличное образование и начинала выражаться четко и даже рафинированно. Оставаясь при этом той же природной стервой. Как такое можно говорить в присутствии якобы лучшей и якобы единственной подруги?
Наталья, конечно, была и осталась человеком, но о ее воплощении (и реконструкции) в Замке при ней и Воронцове лучше было бы не вспоминать.
Я предпочел отвернуться, чтобы не видеть Натальину реакцию, однако, кроме меня, кажется, этой грубой бестактности никто и не заметил. Или сделали вид. «Если ваш сосед облил скатерть соусом…», и так далее.
Зато Антон уловил все, что следовало, и ответил так, что я бы ему пожал руку, пусть и за кулисами.
– Видеть многое и помнить – это в знании второстепенно, как говорил Конфуций. Он же говорил о том, чем является откровенность без церемониала…
«Хамством», – продолжил я в уме. Похоже, Лариса тоже поняла, о чем идет речь.
Антон продолжать не стал. Счел, что сказано достаточно, да и обострять отношения ему было ни к чему. Вернулся к теме.
– Как-то нам уже приходилось обращаться к вопросу, каким образом способны понимать друг друга мы – присутствующие здесь люди, бывшие аггры и настолько же бывший форзейль. Кажется, Андрей тогда провел ассоциацию между всеми нами и муравьями. Биологи здесь присутствуют? – задал он риторический вопрос в стиле Цицерона. Сам же и ответил: – Нет, не присутствуют, если не считать Александра, около года изучавшего эту науку на первом курсе. Но каждый из вас способен понять, что на нынешнем уровне нашего с вами развития ни допросами, ни ментаскопированием, ни другими доступными нам методиками мы ни с рядовым «формика руфа», ни с их маткой о чем-то конструктивном договориться не в состоянии. Если даже муравей будет ростом с медведя и одет в некое подобие фрачной пары. Вы со мной согласны, Лариса? Или продолжить цепь ассоциаций и силлогизмов?
Молодец, Антон. Он сказал это таким тоном и смотрел на нее так, что она просто вынуждена была, пусть и сквозь зубы, ответить положительно. Иначе просто потеряла бы лицо.
А у нас на это обращают пристальное внимание. Как же – шестнадцать самодостаточных личностей, и никто не согласен на подчинение иерархии тюремной камеры или крысиной стаи. Все «альфы», пусть и в собственных нишах.
– Простите, Антон, – меняя тему, сказал Кирсанов, – а можно ли хоть издалека посмотреть на ваших пленников? Из фильма мне показалось, что, когда их бьют прикладами или сапогами, они реагируют как-то очень по-человечески…
– Сожалею, но сейчас это невозможно. Как бы это правильнее выразиться… – Антон явно испытывал затруднение, общаясь с человеком, которому по определению полагалось мыслить в рамках начала двадцатого века, не зная ничего о последующих достижениях человеческой (и не только) мысли.
Здесь он здорово ошибался, находясь в рамках (или тенетах) прошлых представлений. Ему не приходилось, прожив много десятилетий в конце девятнадцатого века и почти весь двадцатый, общаться с людьми, столь резко сменившими «среду обитания», как Кирсанов или Басманов. Мы – совсем другой контингент. Тем более они оба успели очень многому научиться, читая книги, работая с компьютерами и путешествуя между мирами. Мозги у них были правильно устроены, это главное, а информационное наполнение – дело наживное.
– Да вы не стесняйтесь, выражайтесь, – поощрил его жандарм, как если бы разговаривал с арестованным эсером-террористом. – Поймем как-нибудь.
– Хорошо, – сказал Антон, оглянувшись именно на меня. Будто спрашивая, как быть. Я сделал разрешающий жест.
– Сейчас этих дуггуров-элоев у нас нет…
– Сбежали, что ли? – с профессиональным интересом спросил Кирсанов. – И как же вы так… промухали? У меня что из «Крестов», что из Константиновского равелина ни один… временно задержанный или подследственный не сбежал. В худшем случае случались «неудачные попытки»… А я слышал, вы еще при обоих Александрах служили…
Лицо и тон Кирсанова выражали горестное недоумение, легкое сочувствие и не слишком тщательно маскируемый сарказм.
– Я по другому ведомству служил, – с неожиданной гордостью ответил Антон, и я вдруг со странным чувством отметил – сколь же сильна та самая «одержимость временем». Казалось бы, ну что Антону, дожившему как минимум до встречи с Воронцовым (1984 год, Сухум), старые счеты между давно канувшими в Лету учреждениями монархии, уже семьдесят лет как не существующей.
Нет, с другой стороны, как говорил еще мой дед: «В армии, если без войны, три года служишь, а воспоминаний потом у мужиков на всю жизнь хватает».
– Об этом, надеюсь, у нас будет время отдельно поговорить, а по данному факту? – не поддался на провокацию Кирсанов.
Видя, что Антон слегка потерялся в непривычной для него ситуации (а чего вы хотите, из князей да в грязи), слово взял я.
– Павел Васильевич, никто ни в чем и ни при чем… Примем за данность, что пленники были захвачены несколько позже момента нашей текущей встречи и не могут быть предъявлены, потому что, с одной стороны, их здесь еще нет, а с другой – здесь они уже побывали и исчезли именно потому, что мы решили встретиться в данный, а не какой-нибудь другой момент. Допускаю, что это было нашей ошибкой, но теперь ничего не поделаешь. Времена, как сказал поэт, не выбирают…
– Благодарю за разъяснение, господин генерал-лейтенант! – Кирсанов щелкнул каблуками и опустился в кресло, выбрав наилучший выход из положения. Любому жандармскому офицеру, даже такому умному и прожившему с нами более четырех лет, подобные объяснения казались примерно тем же самым, что рассуждения Фомы Аквинского. Разве что с обратным знаком. Но на веру он многое принимать соглашался, опять же чисто эмпирически, наблюдая происходящее и не пытаясь подвергать его «Критике чистого разума» [65].
Мы втроем, Сашка, Олег и я, снабдив товарищей всей значащей информацией – но знающие больше и имеющие собственный план, который еще предстояло довести до стадии реализации, – сочли первый этап своей миссии выполненным. В неизбежно вспыхнувшей дискуссии участвовать не собирались. Запал был дан подходящий, а теперь пусть выговорятся и решают, исходя из собственных настроений и предпочтений.
В общем и целом стихийно сформировались три точки зрения, почти в точности совпадающие с теми, что мы обсуждали в узком кругу. Только вот с персоналиями мы ошиблись.
В зависимости от возраста, опыта и темперамента нашлись как сторонники невмешательства и немедленной эвакуации, так и «ястребы», непременно желающие учинить нечто вроде «разведки боем». «Военную партию», как и следовало ожидать, составили Берестин, Басманов, Белли и примкнувшая к ним Лариса. Понять ее можно: кипучая, эмоциональная натура, давно уже почувствовавшая вкус к рискованным предприятиям. Плюс старательно маскируемые комплексы, требующие постоянного самоутверждения, что в отношениях с мужчинами, что на полях сражений. Клеопатра, Жанна д'Арк и императрица Екатерина Великая в одном лице. Да и в двадцатом веке таких натур хватало. То, что она оказалась в разных лагерях с Олегом, могло удивить кого угодно, только не нас. Так с самого начала и задумывалось.
Укрыться в Замке и отсюда спокойно понаблюдать за развитием событий, одновременно продолжая всеми доступными способами изучение дуггурской цивилизации, выразили желание лишь трое – Сильвия, Ростокин, Алла. В принципе их мотивация тоже вполне прозрачна. Игорю с его подругой нет никаких резонов проваливаться еще глубже в засасывающую топь времени. Они и так слишком далеко ушли от дома. Как журналиста и, скажем деликатно, эмиссара своей реальности и ее криптократов, Ростокина не может не привлекать возможность ближе познакомиться с Антоном, сутью и устройством Замка, да и собрать эксклюзивную информацию о дуггурах. Хоть для серии статей, хоть для книги, а заодно и для блага Отечества, которое для него таковым и оставалось.
Членство в Братстве никак не отменяло лояльности собственным Родинам, скорее это даже приветствовалось. Тем более «настоящая» только у них с Аллой и осталась. В том смысле, что осталась неизменной и, с их точки зрения, подлинной, невзирая на то, что мы обзывали ее «химерой».
Что же касается Сильвии… Тут сложнее, конечно. Скорее всего, ей захотелось покоя и независимости. Перспектива тайной или явной войны с очередными порождениями неизвестно чего ее явно не прельщала. По понятным причинам. Присоединяться к большинству, где по-любому придется оставаться на вторых ролях, – тоже. А вот в третьем варианте она получала все, чего могла желать.
Оставаясь в Замке в качестве нашего представителя, она вновь уравнивалась в правах и должности с Антоном. Получала полную свободу рук именно в той области, к которой была лучше всего приспособлена, рассчитывая при этом, что Ростокин с Аллой, хотят они этого или нет, окажутся «ступенькой ниже» в заново складывающейся иерархии. Ну и не могу утверждать наверняка, но предполагаю, что при самом неблагоприятном развитии событий она рассчитывает вместе с Ростокиными сбежать в две тысячи пятьдесят шестой год, где и натурализоваться. Из Замка это будет сделать проще, чем из любого другого места.
Если это и так, осуждать ее я не имею ни права, ни оснований. Принципы братьев-основоположников на нее не распространяются.
Кресла в этом зале-баре были снабжены колесиками, и, почти не привлекая ничьего внимания, мы втроем переместились на самую периферию зала, окружили столик, ближайший к задней входной двери. Щелчком пальцев Сашка привлек внимание лакея и без слов объяснил, что нам требуется.
– Слушай, давно мы такой бучи не устраивали, – от всей души улыбаясь, сказал Олег.
– Пожалуй, что и никогда, – согласился я. – Непосредственная демократия в действии. Шестнадцать человек впервые получили возможность высказать свое мнение, не находясь в цейтноте, вне непосредственной опасности и не рискуя своим «шифгретором», так, кажется, называется общественный статус + дворянская честь + шляхетский гонор в романе Ле Гуин [66].
– Это точно, – подтвердил Сашка. – Смотрю, и душа радуется. Новгородское вече «а натюрель». Пусть выговорятся, до донышка, а потом станем итоги подводить…
– Слушай, не надо, – вдруг сказал Олег, поднимая полный бокал хереса и взглядом предлагая присоединиться. – Как хочешь, а меня такой вот расклад полностью устраивает. Ты, Андрей, возьми сейчас слово и скажи – так решили, так пусть и будет. Оно ведь и в самом деле…
– О! – поднял палец левой руки Шульгин, правой опрокидывая бокал. – Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон. Мы одновременно перекрываем весь спектр проблемы, при этом каждый получает возможность действовать исключительно по собственному разумению. Раньше у нас обязательно кто-то был чем-то недоволен, сознательно или подсознательно. Собой, нами, судьбой, Игроками… А теперь – свобода, и никто из обиженных не уйдет…
– Живым, – для полноты юмора добавил я.
Поднявшись к нам по ступеням амфитеатра, пока внизу еще продолжались споры и громогласные филиппики [67], Ирина с подчеркнутой деликатностью спросила, не помешает ли.
– Ты – да помешаешь? – галантно ответил Левашов. Рядом с Ириной он всегда чувствовал себя комфортно, даже когда остыли его юношеские к ней чувства.
– Довольны?
– Более чем. Честно, мы готовились к несколько другому, а сейчас получается даже лучше, – ответил я. – На самом деле чтобы мы делали там, куда собрались, со всей этой командой? На Валгалле было вдвое меньше, и то…
– Так, может, ты мне наконец скажешь, куда мы все-таки собрались, – спросила она, присаживаясь на подлокотник кресла, так, чтобы Олегу и Сашке стали видны ее ножки, облитые переливчатым шелком, вплоть до золотистых застежек у края чулок. Невинное кокетство молодой дамы, знающей, что ей есть чем похвастаться. При каждом удобном случае, невзирая на то, что друзья неоднократно созерцали ее и топлесс.
– Складывается так, что в Южную Африку времен Англо-бурской войны. За теми бриллиантами и золотом, какими расплачивались с Врангелем…
– Совсем хорошо, – улыбнулась Ирина. Левашов, будто опомнившись, вскочил и наполнил ее бокал. И наши заодно.
Она благодарно кивнула.
– За успех! Вас не забавляет, что Берестин и Лариса, не прилагая никаких специальных усилий, оказались предводителями «партии войны», которая без их участия не имела бы никакого смысла? Словно в романе Честертона «Человек, который был четвергом». Вообще нормально, только любой мало-мальски проницательный сторонний наблюдатель немедленно бы усомнился: «А как они при таком раскладе свою личную жизнь представляют? Олег здесь, Лариса там, Алексей тоже там. А Сильвия где и с кем? Не с Антоном же?» Не рядом выходит, зная все предыдущее. Извини, Олег, если я не так сказала…
– Ничего, я понимаю. Но ведь никто же не говорил, что это – окончательный вариант. Скорее – обозначение позиций. А если кто в том же, что ты, направлении думать начнет – тоже полезно.
Ирина убрала прядь волос, упавшую на глаза.
– Согласимся, для начала сойдет. А вот отчего наш господин Кирсанов своей позиции не обозначил?
– Сильно умный. Готов поставить свой гомеостат против бутылки водки, что он раздумывает, как бы войти в специальный комплот с Удолиным. У них есть опыт совместной работы. По Агранову, – заявил Шульгин.
– Не стану спорить, – снова улыбнулась Ирина. – Второй гомеостат мне не нужен, а до ближайшего магазина за бутылкой далеко бежать… Так вы, ребята, постарайтесь, чтобы хоть сегодня каждый из диспутантов остался при своем мнении. Так всем будет лучше. Для намеченной операции – тоже.
Признаться, даже я не понял, из каких именно соображений она это сказала. Неужто придумала нечто собственное? Интересно.
Впрочем, я ведь ее тоже не во все свои замыслы посвящал…
Глава семнадцатая
Спираль нашей стратегической дезинформации продолжала закручиваться. На что мы и рассчитывали. Процесс должен войти в фазу саморазвития. Тогда от него будет толк.
Честно сказать, без всяких интриг я в любом случае предпочел бы отправиться в дальний поход весьма узким кругом друзей-единомышленников. На самом деле даже обычная воскресная рыбалка превратится черт знает во что, если на нее двинуться такой толпой, да еще и с женщинами!
В то же время в предвидении возможного вторжения дуггуров оставлять заведомо слабейшую часть команды на растерзание врагу – не по-нашему.
Хорошо, пусть не на «растерзание» в буквальном смысле, просто в ситуации войны и связанного с ней хаоса. Это как самому своевременно эмигрировать в теплые и мирные края, а членов своего клана оставить на оккупированной территории, выживать по способности.
В критический момент мы, конечно, примем оптимальное решение, а до того пусть все идет, как идет. И друзья выскажут свои истинные взгляды и интересы, и противодействующие силы, откуда бы они ни исходили, тем или иным образом проявятся, если вообще существуют в природе. Принципа «разделяй и властвуй» никто не отменял. У меня иногда мелькала мысль, что и Дайяна может (могла) работать в сговоре или под контролем дуггуров, и все вообще прежде непонятные события можно списать на них. Как раньше удалось пересмотреть земную историю последних полутора веков, узнав о противостоянии аггров и форзейлей.
Мы же будем просто наблюдать через призму принятой гипотезы исследования, и отслеживать не укладывающиеся в нее явления.
…На данный момент мы имеем что?
Наших друзей-конфидентов, как мне кажется, слегка удивило единодушие «великих магистров». И тех, с кем мы затевали предварительный разговор, и тех, кто ничего об этом не зная, просто пытались самоутвердиться, ориентируясь на известную степень нашей несговорчивости и, как говорится, авторитаризма. Еще одной неожиданностью для ряда товарищей стало полное взаимопонимание у меня с Шульгиным (что привычно), и Левашова, который последние четыре года регулярно демонстрировал не всегда логичную, но последовательную конфронтацию по многим принципиальным вопросам.
Причина же его сговорчивости проста, как апельсин, используя сравнение В.П. Рощина, хотя чем же он так прост – не совсем понятно.
Результат свободного волеизъявления оказался лучше и практичнее того варианта, который мы себе вообразили умозрительно. Можно представить, что моя и Сашкина способность к созданию жизнеспособных мыслеформ здесь, в Замке, не сработала. Очень возможно, что она каким-то образом блокируется собственной аурой Арчибальда или – инструментальным способом. Нечто вроде генератора вихревых полей, сдувающих выходящие за пределы черепной коробки посторонние эманации.
Возникали же в недрах Замка вполне материальные и враждебные нам артефакты, значит, и обратные процессы вполне возможны.
Но дело не в этом. Коллективный эгрегор Братства начал вести себя самостоятельно и, получается, оказался мудрее двух или трех его элементов, возомнивших себя носителями единственно верной истины. И это хорошо, даже в том смысле, что нам не придется в дальнейшем укорять себя за навязанное и оказавшееся роковым решение. «Бачили очи, що купувалы» [68], вот и весь ответ будущим критикам.
Жаль, конечно, что нам не удастся оттуда следить за процессами, которые будут происходить здесь, так оно, пожалуй, и к лучшему. Впрочем, не все так однозначно. Кое-какой способ, опять-таки нестандартный, у нас в запасе имеется.
Я говорю о профессоре Удолине.
С момента прибытия в Замок он находился в великолепнейшем расположении духа. Одно дело, что перед ним замаячила возможность наконец-то продемонстрировать всю мощь своего интеллекта, превосходство своих знаний и методик над нашими, проникнуть в ранее ускользавшие от его внимания области эзотерики. Тут он мало чем отличался от пресловутого профессора Челленджера, разве что не был столь демонстративно агрессивен. Но его, и отнюдь не в малой степени, восхищали чисто житейские моменты. Что ни говорите, а в царское время материальные возможности экстраординарного профессора к роскошной жизни не располагали. После революции вообще хлебнул лиха, разве что спичками поштучно на Сухаревке не торговал. В лапах Агранова тоже было не сладко. Кормили получше, зато постоянно пугали лубянскими подвалами и расстрелом. Только прибившись к Братству, он познал вкус настоящей жизни.
Вот и сейчас. Льняная скатерть, столовое серебро и фарфор с императорскими, Павла Первого, вензелями и мальтийской символикой. Хорошо сбалансированное меню, вышколенные слуги, электрическое, но стилизованное под XVIII век освещение. Для окончательного уюта – исступленная метель за окнами и завывание ветра в каминных трубах. Такие уж у нас вкусы, ничего с этим не поделаешь. Допускаю, что теплый летний вечер, стол, накрытый на веранде, ароматы сирени и полевых цветов, трели соловьев – тоже неплохо, но буйство стихий снаружи, когда ты сам в тепле и сухости, – предпочтительнее.
Константин Васильевич с этим согласился. Мы удобно посадили его между мной и Ириной слева, Шульгиным и Анной справа. Напротив – Левашов с Ларисой и Кирсанов. Остальные, кто хотел бы затеять очередной круг дискуссии, без решающего смысла, но для самоутверждения или самоубеждения, расселись подальше, с учетом симпатий и антипатий.
Само собой, я умею быть всяким: перед собой в зеркале до бритья и после, перед женщинами, перед друзьями, перед начальством (но это давно пройденный этап), и записки мои не претендуют на литературные достоинства, но лишь отражают суть происходящего вернее, чем могла бы оказаться запись моих монологов стенографисткой. Ибо за этими текстами стоит настоящая правда, какое бы отношение она ни имела к так называемой истине.
Сложно? Согласен. Так я пишу на тот случай, когда я умру, что обязательно и необходимо (желательно – попозже), но не исключается, что и в любую ближайшую минуту, а кто-нибудь захочет узнать, что же там у них происходило на самом деле. Поэтому изо всех сил стараюсь не лицемерить и не «лакировать действительность».
Удолин, выпив три необходимые рюмки, которые приводили его в норму, наклонился ко мне и шепотом спросил:
– Вы – в порядке?
– Смотря что вы имеете в виду. Интеллектуально и эмоционально – в порядке. Не хуже, чем всегда. Глядя на обстановку – не совсем уверен. Без вас, Константин Васильевич, тут плоховато получается…
– Я это и так вижу. Вы, Андрей Дмитриевич, человек очень здравомыслящий. И если вы сейчас не совсем в настроении веселиться, так, может, незаметно удалимся для приватной беседы?
– Именно это я и вам хотел предложить. Только давайте действительно незаметно…
Это нетрудно, когда застолье в разгаре. Любой человек имеет право выйти освежиться. Хоть в туалет, хоть на балкон.
По пути я совсем незаметно кивнул Кирсанову. Уж сообразит, как, не привлекая внимания, последовать за нами. Тем более веселье было в самом разгаре. Антон, изображая из себя радушного хозяина, знающего, кому что нужно, вызвал на небольшой подиум в левом углу зала цыганский хор. А что? Хоть негритянский диксиленд мог обеспечить, хоть камерный квартет «Метрополитен оперы». Лишь бы попросили. Это, может, еще старший лейтенант Белли мог удивиться, да и то если б ему не сказали, что это то же кино, только иного уровня.
Сашка и Левашов остались прикрывать тылы. Не самая простая задача. Иногда – смертельная, но не сейчас, надеюсь.
В десятке метров от царской анфилады, в конце малозаметного бокового коридора, скрытого портьерами, нашлось подходящее место. В ином стиле и из других времен. Если уметь – оно всегда найдется. Где захочешь.
Мы подождали, пока нас догонит подполковник Кирсанов, по непонятной для меня причине не захотевший принять полковничий чин, предложенный ему еще два года назад. Отговорился тем, что погоны с тремя звездочками ему «с младых ногтей» нравятся больше, чем гладкие. Однако, подозреваю, дело в другом. Как пел бард двухтысячных годов Трофим: «Не по душе мне звездочки по блату». У всех свои принципы, особенно если хранящиеся в ящике стола погоны не влияют на «оклад жалованья».
Затворили за собой тяжелую дверь и все трое, я это заметил, испытали своеобразное облегчение. Не нужно больше скрывать своих мыслей и подстраиваться под общее настроение.
Тем не менее, заняв наиболее выигрышное место в «буфетной», так, наверное, называлось это помещение во времена «до исторического материализма» я вытащил из-под ремня тяжелый пистолет и положил его по правую руку, стволом в сторону двери.
– Зачем, Андрей? – спросил Удолин. Его смертоносное железо отчего-то нервировало. Некромант все-таки. Личные ассоциации…
– Мешает сидеть. Рукояткой в ребра упирается…
– Я не в этом смысле. Зачем вообще с собой оружие носить? Особенно здесь. Ни от чего ведь, если такой момент настанет, не спасет.
– Кто бы говорил, Константин Васильевич. Вас мы как раз с помощью примитивного стрелкового оружия спасли, чем, кстати, повернули вашу жизнь совершенно в другую сторону. Помните. Разве не польза?
– Нет, Андрей, мне вас никогда не понять. Там был совершенно другой случай. Но стреляли вы изумительно, если для вас это комплимент…
Да уж, пострелять тогда пришлось!
– Ну и что непонятного? Вы вот не сумели силой духа заставить Агранова с почестями отвезти вас в лучший номер «Националя», а мы смогли сделать намного больше… Знаете, попался мне в той, двадцать первого века Москве старый друг, литератор-интеллектуал. И под пол-литра очищенной прочел творение, заслуживающее внесения в антологии:
Кирсанов рассмеялся от души, а Удолин развел руками. На таком уровне, мол, я не разговариваю.
– Как хотите, – обращаясь только к профессору и мгновенно вернув холодно-отстраненное выражения лица, сказал Кирсанов, – я Андрея Дмитриевича великолепно понимаю. – И тут же достал из кобуры, прикрытой полой пиджака, самый обыкновенный «наган». Положил его напротив моего «Манлихера». – На самом деле – ремень оттягивает. Пусть здесь полежит. Я, Константин Васильевич, в отличие от вас никогда не занимался чернокнижием и другими вещами, выходящими за пределы казенного православия. Да и православие для меня только форма, содержание заключается совсем в другом…
– Это бесспорно. Официальная религия к реалиям жизни особого отношения не имеет. Но ваше преклонение перед оружием как может сочетаться с упражнениями в развитии силы духа? А вы ведь на этой стезе за то время, что мы знакомы, достигли существенного прогресса…
– Эх, Константин Васильевич, как же такую простую вещь вы понять не можете? – Кирсанов словно и в самом деле расстроился. – Мы с Андреем Дмитриевичем в разных переделках бывали. Тут никто нас не упрекнет. И вот эта штучка, – он взял со стола «наган», полученный, может быть, еще в царское время, и даже до начала мировой войны, крутанул барабан, оттянул пальцем до половины хода спицу курка, – делает нас свободными. С двадцати метров шесть пуль врагу, седьмую, если без выхода, – себе. И никто нам не хозяин…
Хорошо сказал жандарм.
Но собрались мы ведь не для обсуждения таких эсхатологических проблем. Совсем для другого.
Константин Васильевич, удивив меня, не стал сосредотачиваться на содержании стоящего в углу старинного буфета, сплошь покрытого снаружи резными виноградными кистями, гирляндами листвы и многочисленными фигурными столбиками, несущими как опорные, так и декоративные функции. Сколько же человеко-часов кропотливого труда было потрачено, чтобы потом столетиями служанки вытирали пыль с этих творческих изысков!
А ведь и здесь, пусть в стиле павловской эпохи, функционировала пресловутая «линия доставки». Что захочешь увидеть и продегустировать, то и появится через секунду после оформленного желания. Велика ли разница – на стойке бара «хай-тек» или за дверцами, остекленными зеленоватыми, с пузырьками внутри, ромбиками размером в ладонь?
Но профессор задумался как-то, глядя на нас, молодых циничных агностиков, с печалью. А ведь не знал еще почти ничего, что стоило знать. Или – не стоило изначально. Да, с другой стороны, откуда нам знать, что известно ему? Мы в двадцать первом году были полными лопухами, а он и тогда проникал силой ума в «высшие миры».
– Принесите чего-нибудь, на ваше усмотрение, – все-таки попросил Константин Васильевич Кирсанова, как младшего, не вынеся отвратительного ему вида пустых чарок и бокалов. – А вы, Андрей, излагайте. В дебри не углубляйтесь, я уже много успел уловить из нашего предварительного разговора. Кроме того, наши друзья умеют очень громко чувствовать… Ну и фильм ваш дает достаточно пищи для размышлений.
Я постарался, именно не углубляясь, обрисовать картину, как она представлялась лично мне на непосредственно текущий момент, со всеми значащими штрихами и мазками. Также и с колоритом. Дополнив ее подходящими соображениями и выводами.
– Интересно, крайне интересно. И теперь, следовательно, остается только разобраться, имеем мы дело с обыкновенной цивилизацией, пусть и не нашего пошиба, или все-таки – теми самыми порождениями Миров Просветления и Возмездия, о которых писал мой коллега Вадим Андреев. Жаль, что не довелось нам с ним лично встретиться, развело время. Однако книгу я его со всем тщанием прочитал. Антон меня ею снабдил еще в двадцать втором году, когда я в Царьграде научными изысканиями занимался. Прелюбопытный труд, но трагедия автора в чем? Не нашлось человека, подобного вам, чтобы его вовремя из тюремного затвора освободить, и подобного мне, чтобы совместными беседами и размышлениями на истинный путь направить…
Становилось интересно.
– А сам он, – продолжал Удолин, – не на то мысль свою нацелил. Вместо пустого теоретизирования ему бы силой духа свою телесную оболочку преобразовать и в иные миры переместиться…
– Не каждому дано, – фаталистически заметил я, – и нам бы сейчас не судьбу ныне не существующего человека обсуждать, а о себе подумать. Мне хочется, чтобы вы с Павлом Васильевичем прикинули: как видите свое место в сложившейся обстановке? Я лично представляю дело так. Наше общество расслоилось на три группы по-разному воспринимающих ситуацию людей. Вы сам по себе (пока), господин полковник – тоже. В этой ситуации очень бы хотелось, чтобы вы поработали в связке. Со стороны оцениваете происходящее, настроения и ауру нашей компании, не исключая и меня с Александром Ивановичем. Все, что сочтете заслуживающим специального внимания, сообщаете Павлу Васильевичу. А он, обладая особенными, до предела материалистическими знаниями и навыками, посмотрит на это под своим углом. Глядишь, в итоге мы получим достаточно независимую от всего прочего точку отсчета.
Имейте также в виду, что есть здесь бывший форзейль Антон и совершенно независимая структура в виде самостоятельно очеловечившегося Замка.
– То есть как? – удивился Удолин. – Мы с ним не слишком давно общались, он был достаточно далек от того, что вы называете «очеловечиванием».
– Тем не менее, любезнейший Константин Васильевич, – мягко произнес Арчибальд, входя в комнату. – Рад с вами познакомиться, это я и есть…
Нет, его учить и учить хорошим манерам. Разве можно так вот вваливаться без приглашения, если люди специально уединились?
Профессор откинулся на спинку кресла, воззрившись на неожиданного гостя через наполненную золотистым напитком рюмку. И стал удивительно похож на Филиппова в «Карнавальной ночи». В роли лектора.
– Понимаю и чувствую. В таком случае давайте по-настоящему определяться.
…Они определялись настолько долго, что мы с Кирсановым успели покурить в сторонке, потом он вернулся к ним, а я отправился в банкетный зал.
Что меня занимало сейчас – подслушивал он наш разговор или нет? Однозначного ответа не было. С точки зрения этики, которой Арчибальд старательно обучался, не должен бы был. С точки зрения своих механических свойств – обязательно. Но если и так – моей психологической конструкции это не мешало. Просто вводило в нее дополнительный параметр, еще более запутывающий дело. По той же логике высших порядков: «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю о том, что ты хочешь узнать, потому говорю тебе правду, в которую ты не поверишь, потому что…» И так далее. Кто первый оборвет эту цепочку силлогизмов, тот и выиграл, причем совершенно не важно, как он после этого поступит. Главное, что поступит хоть как-то, пока партнер все еще будет размышлять…
Надеюсь, оставив Арчибальда в обществе столь своеобразных собеседников, я совершил еще одну небольшую диверсию. Манера мышления и стиль речи профессора сами по себе способны порядочно заморочить процессоры рационально организованной машины. А в сочетании с иезуитскими построениями Кирсанова, привыкшего использовать методику Сократа для раскалывания и перевербовки доселе убежденных в своей правоте революционеров любых толков, эффект мог получиться интересным.
…В общем зале я выпил бокал шампанского, непрерывно разносимого лакеями, потанцевал с Ириной, Наташей и Сильвией, поскольку веселье дошло именно до градуса, когда танцевали все.
Дискуссия дискуссией, политика политикой, а народ-то гулял по-прежнему молодой, соскучившийся по компании себе подобных, разогретый напитками, запахом женских духов и блеском глаз. Соответственно, и девушки, умело выглядящие лет на двадцать пять, своих мужчин предпочитали тем, которые оказывали им внимание в «мирах пребывания». В согласии с известным правилом – на институтских вечерах пятикурсницы могли танцевать с первокурсниками, но без серьезных намерений. Редчайшие исключения только подтверждали правило.
– Ну и что у вас там? – спросила Ирина, когда мы на несколько минут уединились в глубине эркера, наслаждаясь льющейся из-за открытых створок прохладой.
– Не берусь сказать. Похоже, дед увлекся. Из чего могут проистечь самые неожиданные последствия. Но мы ведь уходим в любом случае, так? Зачем нам лишние, не наши заботы? Годик отдохнем, а здесь все, глядишь, само собой образуется.
– Давай на сегодня ни о чем таком больше говорить не будем? С утра – пожалуйста, а сейчас – разнузданный бал. Давно я так не веселилась. И неизвестно, когда снова все соберемся…
Тут она была совершенно права.
– Минут за двадцать до твоего возвращения здесь появился удивительно колоритный типаж, назвался управляющим замка, пожелал нам именно этого – веселиться и ни в чем себе не отказывать. Все в наших возможностях, стоит только приказать. Концертные программы, лучшие танцовщицы из самых знаменитых гаремов тысячелетия, стриптиз женский и мужской, для любительниц, в отдельном помещении… Оргии в стиле Калигулы и Каракаллы, можно посмотреть, можно поучаствовать… Напитки и алкалоиды всех стран и народов, если угодно – и планет…
Ирина смотрела на меня веселыми, но как-то чересчур веселыми глазами. По ним явно читалось, что она совершенно не против любого из предложенных пунктов.
– Что, прямо так и сказал?
– Приблизительно. За каждое конкретное слово я не поручусь, но по сути – верно.
– Вот сволочь Арчибальд! Это он сам так своеобразно развлекается…
– Ты с ним уже знаком?
– Иногда мне кажется, что знаком всю жизнь. Что и неудивительно. Если мы, условно, первый раз попали в Замок в восемьдесят четвертом, сейчас здешнее большинство – из двадцать пятого и дальше, внутри этого шестидесятилетнего зазора он мог делать что угодно. В том числе – соблазнять меня абсолютно ненужными в конце пятидесятых и начале шестидесятых мыслями, когда я в библиотеке, где моя тетушка была директором, с утра до вечера лазил по десятиэтажным полкам и читал черт знает что…
– И дочитался, – хихикнула Ирина, подхватила меня под локоть и снова потащила танцевать.
Хрен его знает, Арчибальда, может, он сюда веселящего газа напустил? Да у него и более эффективные средства есть, кто бы сомневался. Только меня отчего-то они не берут. Видать, нервный напряг дошел до точки срыва. А ребятам, может, и вправду стоит расслабиться как следует, отряхнуть, так сказать, со своих ног прах условностей? Завтра с ними легче разговаривать будет…
Стоп, стоп, братец, не берут, говоришь? Очень похоже, что берут, только по-своему!
Не вернуться ли сейчас в буфет, тряхнуть соблазнителя за лацканы смокинга и наглядно объяснить, чем человек отличается от…
От кого? Вдруг пришла отрезвляющая мысль. Жизнь, писал товарищ Энгельс, не более чем способ существования белковых тел. Если Арчибальд сейчас белковый, то – живой? А если кремнийорганический – то нет? Чушь собачья.
Вот «Манлихер» я оставил на столике, это напрасно.
Хотите, чтобы я потанцевал, да еще и вызывая восторг почтеннейшей, начавшей слетать с нарезов публики? Извольте!
– Танцуем «Семь-сорок»! Оркестр – урежьте!
Неизвестно откуда появившийся, натуральный оркестр Утесова тридцатых годов урезал. Не так мерзко и развязно, как в ранее упоминавшейся книге, но лихо и отвязано.
Наплясался я вволю, обучившись в двадцатилетнем возрасте в Одессе многим коленцам. Гибкости и дыхания хватало и сейчас, азарта, специальным образом перенаправленного – тем более.
Ирина мне не уступала, словно на Молдаванке родилась.
Провожаемые аплодисментами и восторженными криками, мы вернулись в тот же эркер. Я подвинул Ирине кресло, сел рядом, снова тормознул лакея. Брют из ведерка со льдом на мгновение перехватил глотку.
– Великолепно. Давно я тебя таким беззаботным и раскованным не видела.
– Значит, на самом деле все заботы позади… Сейчас еще на несколько минут отлучусь – и все…
Ирина расцвела улыбкой и помахала мне рукой.
«Плохо, ох, плохо», – подумал я, ответно улыбнувшись.
Бывали и раньше такие моменты в жизни, хотя бы и в Никарагуа. Русские, кубинские, местные товарищи обожрались рома сверх человеческих возможностей, а у меня сторожевой пункт в мозгу бдит. Щеки уже почти парализованы, а если надо – строевой шаг могу изобразить и нагрянувшему начальству доложить как положено. Язык работает, мозги тоже. Разве что запах никуда не скроешь…
Наверняка Арчибальд с Антоном или Арчибальд персонально учинили такую волну беззаботности, накрывшую всех с головой.
Прощальный подарок или?..
Я было хотел сосредоточить имевшиеся у меня возможности, чтобы хоть Ирину вывести из странной «зоны поражения», а потом внезапно решил – зачем? Вдруг именно такого ей не хватало много-много лет?
Были в жизни случаи, когда кому-нибудь надо оставаться трезвым, отнюдь этого момента не демонстрируя. Пусть пока бал длится. Потребуется, свечи погасить успеем.
Я заодно подумал, что так же, как мы устранили один парадокс, Арчибальд, наверное, исходя из самых лучших побуждений, устраняет другой.
Огромное наслоение проблем, эмоциональных перегрузок, не по себе взятых тяжестей. Бывало, подрабатывал я грузчиком на вокзалах, в студенческие времена. Стипендия – двадцать восемь рублей, а здесь за полдня столько же. Таскал сорокакилограммовые мешки с рассвета и до заката. Шестидесятитонный вагон на четверых. Надрывался, ноги дрожали, и спина разламывалась, а таскал. С первого и до последнего. И ничего!
Вымывшись в душе, сидя в скверике с напарниками, глотая из горлышка «Портвейн-15», заедая шоколадом и смоля «Шипку», рассуждая на всем интересные темы, оклемывался довольно быстро. Сил хватало на другой день идти на первую пару к восьми утра и с гордостью вспоминать собственный героизм, особенно когда в кармане еще остаются две нерастраченные десятки. Месяц жизни…
Ну да, все верно. Я бы, затевая такую хохмочку (если действительно здесь присутствует некий злой умысел), знаете что сделал? То же самое. Идеально – вызвать у Ирины и Берестина непреодолимое желание совершить то, что у них, кажется, ни разу не получилось. Или получилось, только я не знаю. Опять свести Сашку с Ларисой. С кем Басманова? А если с Натальей Воронцовой? Белли – с Анной, тем более я уже несколько раз обращал внимание, что он на нее посматривает. И ничего странного – девушка красивая и единственная для него здесь ровесница и современница.
Остальное можно варьировать в любых соотношениях. Совсем немного постараться, и «свальной грех» в общем помещении всех со всеми можно организовать, и всем, уверен, до утра понравится. А что случится после этого… Мне понятно. В той глубочайшей депрессии и адреналиновой тоске почти любого бери голыми руками. Пообещав, например, стереть у кого нужно ненужные воспоминания. Или хотя бы подкорректировать. Воспоминания и кое-что другое.
…Вообще сейчас атмосфера напоминала таковую в большой студенческой компании при встрече Нового года. Часов после двух-трех иногда начиналось… Лично мне известен случай, когда весьма приличная девушка наглоталась таблеток после того, как жених, не вовремя протрезвевший, совершенно случайно застал ее в непотребном виде за еще более непотребным занятием.
– Только ты никуда не уходи. Подожди меня здесь, – попросил я Ирину, вспомнив, как она почти поддалась на гипноз Дайяны. И напрягся, изо всех сил стараясь не переубедить даже, просто ввести ее в состояние безразличия и усталости от шумного веселья. Мне бы очень не хотелось, чтобы она сейчас растормозились сверх приемлемых мною пределов. Ох, как жаль, что нет у меня при себе Сашкиных препаратов.
Зато есть сам Сашка!
А ну, сюда его. Вон, устроился в уголке, благодушно улыбаясь, потягивая винцо из бокала. К счастью – в полном порядке. Происходящее его только забавляло, не более.
– Как тебе все это нравится? – осведомился я, когда он поймал взглядом мой жест и вышел в коридор.
– До поры вроде ничего, но теперь, кажется, начинается перебор. Игры Диониса, он же Вакх. Оттянуться народу полезно, но не до такой степени! Нечто подобное я наблюдал в харьковских богемных салонах, так там публика, по довоенной питерской моде, кокаинчиком баловалась.
– Арчибальд?
– Хорошо, если он. А если что-нибудь другое?
По дороге мы прихватили и Антона.
Арчибальд с профессором продолжали беседу, которой оба были искренне увлечены. Кирсанов при ней присутствовал «за болвана», слушая, далеко не все понимая, но, в пределах своей компетенции, мотая на ус. Ему в любом случае с ними работать, так нужно разобраться в теории, пусть и в общих чертах. Маркса он тоже от корки до корки не читал, но с эсерами и эсдеками на понятном всем языке говорить легко научился.
Наше появление, резкое и демонстративно шумное, нарушило душевную атмосферу.
Антон остановился у двери, опершись спиной на косяк, по его виду мне показалось, что сейчас он будет на моей стороне. Хотя бы тактически.
Кирсанов, нюхом уловив, что в воздухе искрит, сразу подобрался. Удолин взглянул на нас с неудовольствием, помешали, мол, конструктивному и увлекательному разговору.
Один Арчибальд сохранял безмятежность.
– Вы чем-то недовольны? – спросил он, ни к кому специально не обращаясь.
– Есть маленько. Что за цирк ты устроил? Химические средства или прямое мозговое воздействие? Советую прекратить прямо сейчас, – сказал я, как мог решительно и даже слегка угрожающе.
– А что вам не понравилось? Ваши друзья хотели веселиться, мне показалось – именно так. Отбросив условности. Я говорил вам, что не читаю прямых мыслей, если не сканирую личность целиком, как было с вашей Натальей, но уж в искусстве чувствовать настроения мне нет равных! Поверьте, никто из гостей не испытывает внутреннего протеста. Наоборот, общепринятые условности оказывают негативное давление на подсознание. Помните, ваш поэт писал: «Хочу быть сильным, хочу быть смелым, хочу одежды с тебя сорвать…»? К женщинам это тоже относится. Беретесь утверждать, что и вы с Александром в глубине души не имеете подобных желаний? Да, конечно, понимаю, у вас мощная самодисциплина, подкрепленная чувством ответственности за Братство в целом и каждого его члена. И тем не менее… Если ваши женщины только и мечтают – с себя сорвать… А, вот, одна уже начинает…
…Я был гораздо менее опытен, когда мы с Антоном реконструировали личность Натальи Андреевны, и все равно правильно угадали ее глубинные комплексы и желания. Она мечтала о встрече с Воронцовым, и мы помогли, чтобы в реальности их встреча произошла наилучшим для нее и его образом. Никто ни о чем не пожалел.
– Пусть ваши друзья, перед тем как вновь расстанутся и займутся каждый своим делом, ни в чем себе не отказывают. Обещаю, что завтра никто не испытает ни раскаяния, ни сомнений в том, что вел себя неподобающим образом…
Слова Арчибальда звучали настолько убедительно и, я бы сказал, «правильно», что на мгновение мне показалось, что это мы с Сашкой сгущаем краски. Как будто раньше каждый из нас не поступал сообразно своим желаниям и побуждениям? Не так наглядно, но все же. В конце концов, произойдет некоторое переформатирование отношений, и не более…
Нет, братец, на такой крючок ты меня не поймаешь. Я из тех рыб, которых динамитом глушить надо. У тебя, Арчибальд, его под рукой не оказалось.
Я только не понимал пока, от врожденной глупости Замок вздумал таким образом нас порадовать или имел далеко идущий расчет.
Но офицерская ярость моя была настоящей. Не советую нарываться. Как говорил подпоручик Дуб: «Вы знаете меня с хорошей стороны, вы узнаете меня с плохой стороны!»
Вот я свою плохую сторону и предъявил.
– Повторяю – не-мед-лен-но прекратить! – выкрикнул я скрежещущим голосом. – Антон, твое слово для него что-нибудь значит или ты сам тоже слюни распустил? Давай, по-доброму сбрасывай пар в котле, иначе мы с Александром займемся этим сами. Грубо, но эффективно!
– Ну что вы так сразу? – Арчибальд очень по-настоящему выглядел расстроенным. Помешали мальчику-дауну поиграть с котятами. – Не хотите, не надо, сейчас все сделаю…
– Только не сразу, а то есть дураки – когда мотор закипит, они пробку радиатора отвинчивают. Плавненько, плавненько, – проявил профессиональную подготовку Шульгин. – Пусть натанцуются и напьются, вплоть до отключки, а прочие «положительные эмоции» убирай, до исходного уровня и даже ниже. Фригидность и ситуационная импотенция. У всех сразу. Доходчиво?
Антон отвернулся к окну и нервно курил. Пожалуй, его тоже хоть краешком, но задело. Я уже писал – после «просветления» слишком быстро очеловечиваться начал. Интересно, а на кого из наших дам он лично запал? Еще полчаса такого разгула, ни одна бы ему не отказала.
– Хорошо, Андрей, так сейчас и сделаю. Гормональный фон плавно опущу, здравомыслия прибавлю. Тебе виднее, конечно, а я… Я старался как лучше: помню, как всем моим гостям-людям нравилось «любить друг друга». Но не у всех получалась, как у вас называется – «взаимность». Вот я и захотел сделать этот маленький подарок всем сразу. Чтобы сегодня каждый был счастлив…
– Следующий раз, когда вздумаешь осчастливить «всех и сразу», предварительно посоветуйся…
– С тобой, с Александром?
– Лучше с обоими сразу. Для снижения статистической погрешности. А остальное – нормально, не бери в голову. И покруче тебя люди ошибались.
Но момент представился уж больно удобный: противник деморализован, сбит с позиций. Если в душе еще и верит, что остается великим полководцем, так конкретно сейчас, когда Старая гвардия бежит, а артиллеристы рубят постромки, бросая пушки, он готов поверить в то, что ты умнее и сильнее его. Тут его и брать голыми руками. Что я и сделал, сам почти не веря, что получится.
– Да, кстати, Арчибальд! Помнишь антиномию про Бога, который то ли может создать камень, который не в силах поднять, то ли нет?
– Помню, и все толкования этой темы христианскими и иудейскими мудрецами. Процитировать?
Пока он напрягал свои мозговые ячейки в этом направлении, поскольку подобие приказа на их активизацию якобы поступило, я опять резко сломал тему.
– При случае. Пока у меня вопрос попроще. На самом ли деле ты по просьбе Шульгина перед нашей эвакуацией создал ему убежище, непроницаемое для любых ментальных и материальных сил ваших хозяев? Я помню, как это выглядело с моей непросвещенной точки зрения, а по-правде?
– Да, было так. Я не осознавал себя личностью, такой, как сейчас. Услышал отчаянный призыв человека, нравящегося мне больше, чем «хозяева». Догадался, что ему, всем вам, Антону грозит большая опасность. И сделал так, как просил человек Александр. Ты знаешь, что защита получилась непроницаемой?
– Спасибо. Молодец! – словно кусочек сахара умной собаке бросил за правильный поступок. – А теперь ты снять ее можешь? С того места, где организовал?
Оцените тонкость игры. Я сосредоточил возможную в этой обстановке душевную энергию, чтобы дать понять Замку, будто лично заинтересован в снятии блока. Одновременно якобы маскируя истинную причину такого желания. То ли некое внутреннее соперничество мною двигало, то ли желание использовать обозначившиеся внутри Братства противоречия в собственных корыстных целях. Например, получить возможность наблюдать и подслушивать то, чем Шульгин станет заниматься в своем якобы неприступном убежище.
Даже очень образованного и культурного человека обмануть не трудно, если превосходишь его силой характера, цинизмом, а главное – мотивацией, что же говорить о железке, сколько бы терабайт его псевдомозг не умел обрабатывать в текущие секунды?
– Прости, Андрей, – с ощутимой долей вины и сожаления сказал Арчибальд. – Что сделано, то сделано. Задача была такая, я ее исполнил. Теперь та область, подвластная Александру, мне недоступна. Императив был категорическим. Отменить я его не в силах. По той же причине, что я не стал подчиняться приказам из Департамента соответствия. Любой намек на готовность к компромиссу ведет к поражению. Лучше уж сразу взорвать крышки кингстонов…
Ишь ты, и в этом разбирается.
– Очень и очень жаль, – сказал я, протянул в сторону Арчибальда новую сигару, и он мне ее тут же поджег выхваченной из жилетного кармана зажигалкой. Нет, ну, в общем, правильно, кто он, и кто я!
– Почему жаль?
– Теоретически. Иногда может возникнуть необходимость связаться с другом «поверх барьеров»…
Шульгин курил у окна с таким видом, будто находится в совершенно пустой комнате. Не слышал разговора и не хотел слышать.
– Извини, Андрей, это за пределом моих возможностей. Что сделано, то сделано. Зато, – оживился он, – я могу устроить тебе такое же…
– Зачем? – спросил я. – Александр от враждебных веяний скрывался, а мне от кого? Тут сейчас только друзья. Особенно ты! Никогда не видел столь всемогущего и бескорыстного друга. Мне от тебя прятаться за непроницаемой стенкой?
– Ну, тебе может захотеться провести время с другой женщиной, – осторожно сказал Арчибальд. – И чтобы никто не увидел…
– Кроме тебя, и так никто не увидит. За обычной каменной стенкой и деревянной дверью. Ты сам от себя хочешь мне защиту поставить? – мстительно ответил я.
– Андрей, зачем же так?.. – Господин в смокинге определенно расстроился. – Я могу увидеть абсолютно все, что захочу. От совокуплений питекантропов до возвышенной любви Тристана и Изольды… Мне нет нужды подглядывать за кем-то из вас!
– Хреновая возвышенность, – ответил я. – Если у них что и было, то на грязных покрывалах затруханного замка, по которым толпами ходили блохи, а под кроватью шныряли крысы… Простыней и прочей гигиены тогда еще не придумали.
– Нет, ну ваш цинизм…
– Какой цинизм! В чем? Простые реалии жизни.
Хорошо я сумел загнать Арчибальда в дебри рассуждений никчемных, но требующих массы интеллектуальных, плохо алгоритмируемых усилий.
– Значит, не можешь снять защиту с того убежища?
– Значит, да. Вот ответ на задачу о камне. Сотворить смог, а поднять не могу. Ты, пожалуй, первый подвел меня к мысли о границах могущества и воли…
Мне показалось, что он опечалился.
– Александр Иванович, – позвал я Шульгина. – Мы тут только что разрешили одну нерешаемую задачку, по поводу чего необходимо расслабиться. Присоединяйся, а то стоишь, как Каменный гость…
Я похлопал по плечу Арчибальда, как старший товарищ.
– Ладно, не грусти. Тебе предстоит узнать много еще более разочаровывающих истин. А пока свободен, если с нами выпить не хочешь.
– Спасибо, без меня. Я лучше прослежу, чтобы вечер завершился согласно вашим пожеланиям.
– Ну и давай, не обижайся, если что не так…
– А что, собственно, произошло? – спросил Удолин, когда мы с Сашкой подсели к ним и я вылил большую рюмку коньяка в свою чашку кофе.
– Да ничего особенного. Ошибочка вышла, хрестоматийная. Была в мое время такая детская сказочка, «Старик Хоттабыч». Там добрый джинн все время старался сделать как лучше, а выходило наоборот. К примеру, во время ответственного футбольного матча решил каждому игроку дать по личному мячику, чтоб не бегали по всему полю и не дрались за один на всех…
– Забавно, – усмехнулся профессор и потерял интерес к теме. Что-то другое его сейчас занимало.
А я подумал, что, располагай я необходимой мерой цинизма, вместе с Арчибальдом мог бы провести классный эксперимент. На самом деле, устроить этой ночью так, чтобы каждый получил себе вожделенного партнера-дубля, и понаблюдать со стороны за результатом. Как в социологии – рейтинговое голосование. Очень возможно, что кое-кому пришлось бы предстать в нескольких ипостасях, зависимо от числа претендентов. И наоборот, разумеется. Сократ, если не ошибаюсь, или Платон заявлял: «Истинно целомудренна та женщина, которую никто не пожелал». Вот и узнал бы, как у нас с этим делом обстоит.
Технически устроить такой перформанс труда бы не составило, только следовало продумать вопрос, как быть с «оригиналами».
Нет, к черту такие эксперименты и даже мысли о них. Это будет намного хуже «Соляриса», даже если задокументированные результаты останутся известны только мне одному. Я ведь тоже, по условию, должен оказаться объектом эксперимента, оставаясь, одновременно, его единственным субъектом.
А что еще может прийти в «голову» Арчибальда в любой из следующих моментов? Особенно в свете последнего разговора. Черт знает, вдруг методикой контент-анализа он сообразит, что на самом деле между нами сейчас произошло?
Мотать нужно из Замка, и поскорее, – вот единственный разумный выход. Если у меня раньше и имелись обоснованные сомнения, они прямо сейчас и исчезли, как с летних яблонь дым.
А тем, кто решил перехватить у Игроков эстафетную палочку, я не судья и не сенсей.
Но вот признание, из Арчибальда добытое, что над Сашкиным убежищем Замок не властен абсолютно, дорогого стоит.
Глава восемнадцатая
В чем Арчибальд не обманул, так в том, что женщинам он отбил всякий вкус к личным взаимоотношениям. Я под его воздействие не попал, по известной причине, и под утро, уводя из «дворца» Ирину, видел, что самые крепкие расходились, в достаточной мере пьяные и слегка контуженные. Тем самым. В общем – все нормально. Хороший Новый год, не говорю про другие праздники, так и должен завершаться.
Я, трезвый до отвращения, старательно и ласково раздел подругу, уложил в мною же расстеленную постель, налил бокальчик минералки, слегка сдобренной вермутом. Выпить она выпила, с благодарностью, но мои притязания отвергла. Значит, точно Замок постарался, напуганный моими угрозами. В противном случае какая же дама откажется от самых невинных объятий после всего ранее случившегося? А тут было почти болезненное неприятие.
Ну и хорошо. Держим, значит, ситуацию под контролем.
– «Чудны дела твои, Господи», – сказал Шульгин, благодушно улыбнувшись, расправив затвердевшие за последнее время черты лица, и тут же выдал ссылку: – Как любил повторять один мой приятель, священник-модернист еще советского времени, регулярно получавший затрещины и угрозы то от церковного, то от лубянского начальства. А я ему, по доброте душевной и вследствие развитого чувства абстрактного гуманизма, время от времени оформлял справки, что гражданин имярек отличается некоторыми акцентуациями на религиозной почве, но психически больным не является и на учетах не состоит. Вы будете смеяться, но этих бумажек хватало, чтобы мужика не обижали ни те, ни другие.
– И к чему ты это? – спросила Лариса, постоянно пытавшаяся уловить подвох в любой непонятной ей ситуации.
Мы сейчас вшестером снова сидели в кухне той самой, придуманной Сашкой коммунальной квартиры в недрах коридоров и переходов Замка. После признания Арчибальда здесь спокойно можно было уединяться для обсуждения волнующих нас вопросов.
Сегодня Шульгин, кроме меня и Левашова, пригласил сюда Ирину, Ларису и Удолина. Ирина восприняла окружающий интерьер спокойно, а Лариса оглядывалась с изрядной долей недоумения. Слишком давно не видела ничего подобного, а то и забыла о существовании таких человеческих обиталищ. Начиная с «первой» Валгаллы привыкла совсем к другому: мраморным дворцам, причудливым особнякам, многокомнатным апартаментам лучших мировых отелей, собственной каюте на пароходе, роскошью и оригинальностью превосходящей любой «Шератон» или «Риц». При том, что поначалу даже сравнительно скромная обстановка нашего терема на Валгалле, поданного тогда в качестве «дачи Новикова, известного писателя», вызвала у нее неприкрытое возмущение и неприязнь к хозяину и его гостям. Именно «разнузданной роскошью», как на дачах высших партийных бонз.
– Исключительно к тому, что подобную справку я без всяких сомнений выдал бы Антону и Арчибальду…
– Снова не поняла, – жестяным голосом ответила Лариса. А это был нехороший признак. Впрочем, смотря по обстоятельствам…
– Да понимать особенно нечего. Неужели ты, да и ряд других товарищей до сих пор не сообразили, что означенные субъекты пребывают сейчас на самой грани нормы и патологии, а кое-где ее уже перешагнули. Мне, например, это вполне очевидно. Андрею – тоже…
– Не боишься вслух об этом говорить? – спросила Ирина. Ее волновал только вопрос сохранения тайны шульгинского диагноза, а с его выводом она была вполне согласна.
– Для чего я и пригласил вас именно сюда. Видите ли, давным-давно, в доисторические времена, я поставил перед Замком задачу, вполне сравнимую с известным парадоксом «Всемогущество». Сможет ли какой угодно бог сотворить камень, который сам не сможет поднять? А я попросил устроить внутри Замка изолированное помещение, в которое даже он сам не сможет проникнуть, ни ментально, ни физически. Это после того, как здесь начались всякие малоприятные странности.
– И что, получилось? – приподняла бровь Лариса.
– Как ни странно – получилось. Арчибальд вчера проболтался Андрею, что моя просьба полностью совпала с его, так сказать, «интересами», пусть и был он тогда достаточно неразумной псевдоживой конструкцией. Однако, сообразив, что «хозяева» планируют избавиться сначала от нас, а потом и его самого деактивировать, создал это вот убежище. Специально оснастив его такими уровнями защиты, чтобы и сам, получив прямое указание приступить к «окончательному решению вопроса», не смог бы преступный приказ выполнить. Причем оформил дело, подстраховавшись от обвинений в неповиновении или саботаже. Техническая невозможность, не более…
– Сильно б ему такая отмазка помогла, – хмыкнул я, вспомнив что посадку Антона, что московские процессы «врагов народа».
– Значит, ты считаешь, что здесь мы в безопасности? – продолжала Лариса.
– Я считаю, в безопасности, чисто физической, мы на всей территории Замка. Нас сейчас должна волновать безопасность психологическая. Я ведь сказал, и Арчибальд и сам Антон с точки зрения клинической психиатрии личности не вполне адекватные. Замок, добровольно и по собственному генплану очеловечивающийся, может быть отнесен к параноидальному типу. Как бы он себя ни вел внешне, как бы ни утверждал, что мы для него учителя и образцы для подражания, в глубине души он руководствуется собственными представлениями, собственной картиной мира. Соответственно, считает или воображает, будто лучше нас знает, в чем наше благо и наше счастье. Как всякий великий революционер и преобразователь мира. Накануне он уже предпринял робкую попытку доставить нам толику счастья, а заодно и расширить свой непосредственный эмоциональный опыт… Андрей, расскажи.
Я рассказал, опять же в основном для Ларисы, какую вакханалию, если по-гречески, или оргию, если по-древнеримски, подготовил и почти реализовал Арчибальд.
Ларису, когда до нее дошло, явственным образом передернуло. Примерила на себя, на свою натуру и ужаснулась, заодно вспомнив свое комсомольское прошлое.
– Причем, повторяю, он считал, что действует ради нашего же блага. И боюсь, что следующий раз изобретет что-нибудь похлеще, возможности у него имеются. Все тот же «Солярис», одним словом. (Сколько раз уже его приходилось поминать, а куда денешься, если обстоятельства как раз таковы. Велика ли разница – мыслящий океан или начавший мыслить Замок?)
– А на тебя, выходит, не подействовало? – Девушка прищурила глаза, бросила косой взгляд на Ирину. – Или мысли твои и подсознание абсолютно безупречны?
– Подействовало, подействовало, не бойся. Просто я в тот момент был занят несколько другим, вот Арчибальд невольно и активизировал не эротическую, а аналитическую функцию. Кирсанов, кстати, тоже не поддался, поскольку считал себя на работе. А толковый жандарм никогда не позволит поступиться интересами службы даже в обстановке всеобщего веселья и разгула. Скорее, наоборот…
– А может, он просто импотент или гомик? Никогда не замечала за ним интереса к женскому полу…
– Скорее он предпочитает проявлять его где-то на стороне…
– Еще проще – в нашей компании не нашлось подходящего объекта, вы просто не в его вкусе, – с удовольствием съязвил Левашов, до этого молчавший. Похоже, мысль показалась ему стоящей.
– А вот и неправда, – усмехнулась Ирина. – Сильвия его очень и очень привлекает. Я наблюдала, как он, при всей его сдержанности, глазами ее раздевал. Причем до того, как Замок начал подготовку к вакханалии. Не удивлюсь, если…
– Ладно, ладно, не о нем сейчас речь. Про Арчибальда тоже пока все. Переходим к Антону. Он у нас сейчас ближе к циклотимии, проще говоря – к маниакально-депрессивному психозу. То впадает в глубокую задумчивость и тоску, наверное, вспоминая о годах заключения, – продолжил лекцию Шульгин, – то проявляет чрезмерную активность и раскованность, чего раньше за ним не замечалось. Многие, кстати, после тюрьмы здорово меняются…
– И чем это может грозить лично нам? – заинтересовалась наконец и Ирина.
– Очень может быть, что ничем. Я даже допускаю, что нам такое на пользу. Ему наверняка не доставляет никакого удовольствия смена ролей. Когда твой автомобиль, к примеру, начинает сам выбирать, куда ехать, да вдобавок поучает, критикует твой стиль вождения и так далее, что тебе захочется сделать? Правильно. Так что Антон, сознательно или нет, должен стремиться к возвращению статус-кво…
– Или полностью перейти на нашу сторону?
– Не обязательно. В нашем обществе он сильно проигрывает в статусе, а кому такое понравится? Из полковников – в капитаны, причем в своей же воинской части… Так что происходящий в нем раздрай может привести к стратегическим ошибкам, именно ошибкам, без всякого злого умысла.
Константин Васильевич, погруженный в собственные мысли, но одновременно успевавший следить и за нашим разговором, подтвердил, что медицинская оценка не слишком расходится с магической.
– Наличия злой воли я не усматриваю, однако и сколько-нибудь далеко проследить директрису их эмоционально-нравственных устремлений не в состоянии. В переводе на доступный вам язык мое заключение означает, что пока отсутствует возможность с должной степенью достоверности предугадать поведение рассматриваемых объектов в условиях, сколько-нибудь значительно отличающихся от заданных…
– Спасибо за весьма доступное разъяснение, – с серьезным лицом поблагодарила Лариса. – Совсем просто говоря, вы ни хера не представляете, как наш хозяин и его замок поведут себя в ближайшее время и куда нас заведут? – И добавила еще пару крепких выражений, никому специально не адресованных.
С первых дней знакомства я отметил, что она относилась к тому редкому типу девушек, в устах которых грубые выражения звучали пикантно и даже привлекательно, но если – по месту. Там, где у других подобное получалось бы просто отвратительно. Она, очевидно, сама это понимала и малоцензурной лексикой пользовалась аккуратно. Но сейчас боцманские слова, сорвавшиеся с изящно накрашенных губ, свидетельствовали о ее полной ошеломленности, когда об имидже думать не приходится.
Наверное, она надеялась услышать от нас или от Удолина нечто более успокоительное.
– Ну, вы слишком уж примитивизируете. – Удолин к ее эксцессу отнесся академично. – Я хотел довести до вашего сведения, что не могу сказать, как Антон и Замок поведут себя завтра, если обстановка вокруг резким и непредсказуемым образом изменится. О любом из вас могу, о них пока, я подчеркиваю, пока – нет. Не исключаю, что они со всей своей мощью окажутся на нашей стороне, но с тем же успехом – на противоположной. Будет зависеть, какой именно окажется та сторона. Если силой, имеющей над ними власть, то, сами понимаете…
– А что там, дальше, по ту сторону? – вдруг спросила Лариса, как бы снимая тему, и указала на дверь, противоположную той, через которую мы вошли.
– Хорошая пустая квартира. Большая. Необставленная, только в одной комнате Олег себе уголок для компьютерных игр оборудовал, – ответил Сашка.
Как часто бывало, меня удивила резкая смена настроя Ирины. Не настроения, а именно настроя. Из вполне домашней, озабоченной текущими интересами, удовольствиями и душевным комфортом женщины она умела превращаться в собственный вариант. В ту Ирину, какой должна была оставаться, если бы не встреча со мной и все последующее. «Бывших разведчиков не бывает», любят повторять авторы шпионских боевиков, а в две тысячи пятом мне очень часто попадалась эта максима [70], высказываемая журналистами и политологами в адрес тогдашнего президента России.
Так же и она, когда возникала угрожающая ее личному благополучию или общему делу ситуация, немедленно переходила в боевой режим. И тогда не уступала своей бывшей начальнице Сильвии, а то и превосходила ее, преимущественно за счет того, что по исходному психотипу относилась не к британским аристократкам, а к «женщинам русских селений», специализирующимся на конноспортивной и противопожарной деятельности.
– Показывайте, – довольно резко сказала она, подходя к ведущей в недра квартиры двери.
Даже я удивился: ничего вроде бы не предвещало обострения. Или почувствовала там такое, чего не уловил ни я, ни Удолин?
В руке ее блеснул перезаряженный и готовый к бою портсигар.
Черт его знает, вдруг по ту сторону уже сосредоточились пресловутые, не к ночи будь помянуты…
Настроение Ирины подействовало и на нас. Все, кроме профессора, вооружились развешанными прошлый раз на крючках одежной вешалки карабинами «ШСМ-84» [71]. Надо же их как-то именовать.
Пользоваться этими штуками давно умел каждый, а Лариса, бывшая биатлонистка, в бою с напавшими на поезд бандитами вообще показала такой класс прицельной стрельбы, что Шульгин до сих пор вспоминал об этом с восхищением.
К легкому разочарованию (и одновременно облегчению), за дверью не оказалось совершенно ничего опасного и даже интересного, сверх того, что наша троица уже видела. Тараканы и те не бегали по навощенному паркету.
Под предводительством Ирины, держащей блок-универсал в обращенной вперед ладони, мы обошли все помещения, включая ватерклозеты, ванную, чуланы и прихожую. Чисто.
– Да, если здесь все как следует обставить, – сказала Ирина, пряча портсигар в широкий карман юбки, – получится очень неплохо…
– А чего ты вдруг всполошилась? – спросила у нее Лариса, садясь на подоконник в обширной гостиной, двустворчатой дверью выходящей в парадную прихожую, и закуривая.
Ох, не люблю я таких позиций – в освещенном помещении спиной к выходящему на улицу окну. Инстинктивно не люблю. Пусть там и безлюдная Москва якобы конца прошлого века, где опытных киллеров на одно цареубийство днем с огнем не сыскать. И сдернул ее за руку, предложив сесть просто на пол, если хочется. Или – перейти в соседнее помещение, где Шульгин уже создал меблировку по своему вкусу.
Ирина скользнула взглядом по фигуре Ларисы, снизу вверх, не более чем на секунду задержавшись глаза в глаза.
– Я, – в голосе Ирины прозвучало искреннее изумление, – всполошилась? Ты меня когда-нибудь видела всполошившейся? Я только подумала, для чего и кто приглашает нас войти туда, где нам делать совершенно нечего…
– Но пошла?
– Вы захотели – я пошла, приняв обычные меры предосторожности. Мне не хотелось, чтобы тебя сожрали или утащили в свои норы монстры… – издевка в голосе моей подруги достигла крайнего предела вежливости, – в качестве генетического материала.
– Как видишь – ошиблась…
– Хотела бы я так быть в этом уверена. Не допускаешь, что они здесь были, но своевременно сбежали?
– Милые дамы, прекратите, пожалуйста, – с мольбой произнес Удолин. – Я неоднократно видел, чем кончаются подобные споры…
И Ирина, и Лариса дружно рассмеялись. Наверное, профессор четко оттранслировал им картинку бабской склоки, переходящей в классический «бой без правил». Бесспорно, Лариса в таком бою не имела бы ни единого шанса, но поначалу, выйди они на ринг хоть в бальных платьях, хоть в одних кожаных шортах, сторонние зрители растерялись бы – на кого из двух разъяренных красоток делать ставки.
– Брэк, девочки, брэк, – сказал Левашов, великолепно уловивший глубинную суть конфликта, – не за этим собрались. Вернемся – спортзал к вашим услугам. Вы, кстати, давненько спортом не занимались. А нам предстоят сложные времена. Фехтование, рукопашный бой, силовые тренажеры – непременно. Аня в отличие от вас каждый день качается и в бассейне километр проплывает, берите пример…
– Молодая, вот и забавляется, – довольная, что можно сменить тему, ответила Лариса.
– Ты ее намного старше? – оставляя за собой последнее слово, как бы в сторону бросила Ирина.
А и правда, Лариса старше Анны всего на пять лет, только годы эти, как на фронте, один за три.
– Что, попробуем выйти? – прервал дамское противостояние Шульгин, протягивая руку к задвижке входной двери. Карабин он повесил на плечо стволом вниз, но привести его в боевое положение хватит и полусекунды.
– Я бы не советовал, – мягко сказал Удолин. – Выйти, может и выйдем, а войдем ли обратно? Смотрите, снаружи – ни души. И окна не светятся, и даже ветки на деревьях не шевелятся…
– Зато уличные фонари – горят. Тот же самый эффект невключенности, – пояснил Левашов. – А стоит нам включиться, попросту – дверь открыть, жизнь и потечет…
– Давайте действительно не будем, – поддержала профессора Лариса. – Мало нам других забот…
– Мы откроем, а оно ка-ак выскочит! – замогильным голосом продолжил Сашка. – Только этого и ждет…
– Кто – оно? – Лариса сделала большие глаза.
– Не оно, а она. Монстра, – пояснил я. – Затаилась там… Пока мы по комнатам бродили.
– Все, все, хватит, пошли обратно, исследователи… – предложила Ирина, а Левашов продолжил:
– Да. Вы возвращаетесь, а мы буквально на полчаса вас оставим, имеется мужской разговор…
Мы вчетвером переместились в одну из комнат, которую Шульгин специально выбрал для предстоящего эксперимента. Здесь – никаких излишеств – прямоугольный стол посередине, четыре деревянных полукресла, шкафы и полки вдоль стен, где в нужный момент может появиться все необходимое.
Суть дела была проста, ничем особенно не отличалась от тех вещей, что мы вместе с Удолиным уже проделывали. В любом случае его мистические опыты казались мне менее опасными, чем прямые, «инструментальные» проникновения в Сеть по методике Замка.
Перед тем как принять окончательное решение о «втором исходе», за рубеж ХХ века, следовало все же выяснить «основополагающий», как любил выражаться В.И. Ленин, «вопрос нашей политической борьбы». Проще – стоит ли огород городить?
Удолин, проведший ночь в размышлениях и составлении подходящих к случаю магических формул и заклинаний, утром сообщил нам, что придумал совершенно блестящий план. Достаточно «развернуть в N-мерном эфирном пространстве определенные структуры матрицы Александра, чтобы выяснить степень материальности самой идеи присутствия так называемых дуггуров в пределах Главной исторической последовательности. Тот факт, что они достаточно убедительно проявили себя в предъявленных нашему вниманию эпизодах, никаким образом не свидетельствует в пользу их „подлинного“ существования. Необходимым и достаточным доказательством соотнесенности идеи подобной цивилизации с вещным континуумом [72] может явиться осуществившийся непосредственный контакт между нами и ними в некоей среде, которая должна быть эквипотенциальна для всех… э-э… фигурантов…»
На язык сами собой просилась бессмертная фраза: «Хорошо излагает, собака!»
Левашов слушал, сдержанно усмехаясь, а Шульгин довольно грубо прервал плавное течение профессорской мысли:
– Короче! Я так понимаю, вы намереваетесь организовать дружескую встречу заинтересованных сторон на нейтральной территории, где мы и они (если они вообще существуют), должны оказаться в равных условиях. В качестве фантомов, как Ростокин в тринадцатом веке, или – живьем. Верно?
– Если до предела примитивизировать, то приблизительно так, – поджал губы на скаку остановленный Удолин. – Мы прозондируем глубинные уровни вашего бессознательного, оно иллюзиям не подвержено. Если вы на самом деле встретились с дуггурами в мирах, чьи свойства допускают транспонирование до степени вещности, мы постараемся произвести рематериализацию ваших тонких сущностей и наконец-то сможем решить мучающую вас загадку «изъятой памяти». Меня она тоже весьма занимает. Мы ведь столкнулись с единственным за годы нашего плодотворного сотрудничества случаем столь избирательной ретроградной амнезии после выхода в астрал.
Вернувшись к точке ее возникновения, мы сможем выяснить, кто, зачем и как это сделал, но и не только! Я очень надеюсь, что удастся попутно разобраться с феноменом возникновения и функционирования столь странного межвидового симбиоза высших гоминидов «ин виво»…
– Если это симбиоз, а не обычное рабовладение, – вставил Левашов.
– Или одомашнивание, – продолжил я.
– В данный момент это не имеет принципиального значения, – огрызнулся Удолин. Мы ему мешали. Он охотно предпочел бы более почтительную аудиторию, но тут уж увы…
– В идеале хорошо было бы доставить сюда парочку образцов для изучения и попытки установления контакта на наших условиях, – мечтательно произнес профессор. – Уж мы бы не повторили ошибки наших «союзников»…
Да, в масштабности замыслов профессору не откажешь. А там кто его знает, вдруг да удастся выдернуть оттуда языка. Чем мы хуже фронтовых разведчиков? Потом допрос третьей степени с ментальной вивисекцией…
– Что же, давай, Константин Васильевич, попробуем отсюда мои мозги провентилировать, – согласился Сашка. – Посторонних влияний никаких не чувствуете, магических полей и прочего?
Удолин отрицательно помотал головой, указал на стол, характерным образом щелкнул пальцами.
Сашка понимающе кивнул, достал из ближайшего шкафчика и выставил на стол необходимый профессору продукт, освобождающий дух от цепей обыденности.
– Итак, наша цель, – начал он тоном медицинского светила, объясняющего студентам цель и ход предстоящей операции, когда пациент уже лежит на столе, лампы включены и ассистенты с инструментами наготове, – вскрыть глубинные слои памяти Александра Ивановича, выяснить, существуют ли в них сведения о том, произошло ли случившееся с ним на самом деле и сохранился ли хотя бы набросок маршрута, способный привести нас к цели. Я понятно объясняю?
– Куда уж, – ответил Шульгин. – И если маршрут этот сохранился, мы придем к исходной точке, во времени и пространстве? В материальном мире?
– Это от самого мира зависит, насколько его психологическая убедительность близка к материальности. Помните, как с Ростокиным получилось?
Как такое забудешь! Мир, куда его послали, был наполовину вымышлен им самим, наполовину представлял собой так называемую «серую зону», пограничье, где скитаются духи, души людей и, так сказать, автохтонные обитатели иных по отношению к ноосфере Земли астральных конструктов. Однако Игорь не только сумел там выжить, полностью сохраняя ощущение собственной подлинности, но и доставил оттуда Артура и Веру, в момент перехода вновь обретших свои исходные материальные тела. Кстати, интересно, где они сейчас? После их возвращения в реальность-56 встречаться не приходилось.
Удолин тогда долго и подробно рассказывал об уровнях: вещном, тонком, эфирном, астральном, ментальном и высшем, о взаимоотношениях между ними и способах их перекомбинаций и трансмутаций – волевых и самопроизвольных.
Кое-каким простейшим манипуляциям он меня с Сашкой обучил, остальные оказались к этой отрасли знаний невосприимчивы. У Левашова, при всех его талантах и достоинствах, слишком развита рациональная часть личности, не позволяющая оперировать эфемерными категориями. Прочих братьев и сестер, не в обиду будь сказано, не умудрил Господь. Не каждый ведь, при самом горячем желании, может научиться виртуозно играть на скрипке или брать интегралы. Я вот – не умею.
– Если поиск увенчается, советую держаться там, как внутри самой настоящей реальности. Никаких попыток выхода за пределы ваших естественных, человеческих возможностей. Точно так, как при попадании в Ловушку. Не принимаешь ее условий – шансы остаются. В тонком мире – то же самое. Вздумаете использовать что-то из магического арсенала, одну-единственную, ни к месту произнесенную сутру, – вас может занести так далеко, что я не найду и следа. То, что удалось при поисках Артура, – один шанс на миллион. Да и то потому, что не мы его нашли, его нам отдали. Зачем – не ведаю. Очень возможно, что их с Верой возвращение каким-то образом аукнется. Если не уже…
Инструктаж затягивался, плавно переходя в очередную лекцию-импровизацию. Такие экспромты Константин Васильевич умел произносить часами, как Фидель Кастро свои речи, при этом удерживая заинтересованное внимание слушателей. Нечто вроде разновидности массового гипноза.
Главное нам было ясно. Оставалось полагаться на удачу. Удолин сейчас сконцентрирует все свои духовные силы на прорыве в высшие сферы. Шульгин должен напрячь память и воображение, отсекая все лишнее, чтобы ощутить именно тот душевный настрой, который имел в мгновение переключения из предыдущего состояния на реальность «Зимы». Я же выступал в роли ретранслятора-усилителя между ним и профессором, одновременно по заданной схеме срочно выстраивая новую мыслеформу, внутри которой не было места никаким враждебным или просто мешающим воздействиям извне.
А Левашову предстояло исполнить функцию того самого катализатора, в процессе якобы не участвующего, но ускоряющего протекание химических и каких угодно еще реакций. Так всегда и было, с самого детства, отчего нашей троице совместно удавались вещи, на которые поодиночке и попарно мы и не пробовали замахиваться.
Осталось очистить мысли от суетного и приступить к сосредоточению.
– Я бы посоветовал вам экипироваться с учетом обстановки, в которой вы можете оказаться. Одеться потеплее, вооружиться не хуже, чем Александр прошлый раз, – вдруг предложил Удолин, начиная премедикацию, проще говоря, опрокидывая в себя стакан.
– А что, наши эфирные копии нуждаются в одежде и карабинах? – удивился Левашов. Он так до конца и не врубился в суть извилистых построений профессора. Наверное, думал в этот момент о чем-то своем.
– Олег, но я же сказал… По-разному может получиться! Я ничего не гарантирую. Тень событий нам явится, или произойдет полная реконструкция. Прошлый раз сгущение было абсолютным…
То есть Удолин имел в виду, что при предыдущей совместной медитации и моем, случайном или нет, забросе в город Ворошиловск, где позже обосновался Лихарев, я прошел сквозь эфир туда и обратно вполне материальным. Потом несколько дней следы от сыромятных ремешков на моих запястьях были видны. Да и подаренный офицерами училища пистолет не растворился, работал и в подлинной реальности, как настоящий.
– Я это несколько иначе себе представлял, – с сомнением сказал Олег. Он вообще был достаточно далек от наших упражнений с астралом. И в Замок, и в другие места мы ходили без него. Понятно, что он немного взволновался. Ему ведь вообразилось, что физические наши тела останутся здесь, под контролем профессора, и в нужный момент он лишь вернет в них сознание. Через достаточно недолгий срок. Как это происходило с Даррелом Стэндингом, героем романа Джека Лондона «Смирительная рубашка» (Странник по звездам). И после слов Удолина слегка занервничал.
Зато Шульгин был спокон абсолютно. Ему хотелось восстановить утраченный кусок памяти и выяснить окончательно, в фантомате он пережил ту увлекательную сцену или в реале, остальное его не волновало.
– Оденемся, о чем речь, – ровным тоном ответил он, снова вставая и направляясь к шкафу.
Там уже ждала вся необходимая амуниция, аналогичная той, что была на нем на планете «Зима». Мы продолжали употреблять это название, заимствованное из книги Ле Гуин, за неимением лучшего.
Одеяние, судя по тому, что Сашка в нем выжил и сохранил боеспособность, вполне подходило к заполярным условиям. Наши казаки и прочие землепроходцы времен царя Алексея Михайловича в своей обмундировке, сконструированной явно без учета современных достижений науки и практики, добрались до Якутска и Берингового пролива.
В необходимости снарядиться как следует я тоже не сомневался. Однажды упустил из внимания этот момент и оказался в охваченном хроносдвигами и предчувствием гражданской войны городе с пустыми карманами. Джинсы, рубашка и неполная пачка сигарет – чересчур скудный комплект выживания. Ладно, тот раз обошлось, но повторять собственные ошибки – увольте. Лучше в тулупе и валенках на экватор, чем в плавках на полюс.
Теплоизолирующее и влагопоглощающее белье, шерстяные спортивные костюмы, почти не стесняющие движений штаны и куртки из хорошо выделанной кожи с меховым подбоем. Меховые сапоги типа унтов, снабженные рантами для крепления охотничьих лыж. Короткие легкие полушубки, водо– и ветронепроницаемые. На голову – шлемы с встроенными слуховыми приборами, позволяющими разобрать человеческий шепот за полкилометра, да еще и имеющие специальные фильтры для срезания помех, от свиста ветра до звуков полноценного огневого боя. Имелись на них также защитные пуленепробиваемые щитки-забрала, фотохромные вдобавок.
И лыжи взяли. Не понадобятся – выбросим.
Одним словом, оснащены мы для похода и боя были гораздо лучше Сашки в той картине, вооружены почти аналогично – карабины, пистолеты, гранаты, сигнально-осветительные ракеты, десантные ножи. Боеприпасов с повышенной убойностью – больше. Сколько может нести на плечах, ремнях и разгрузках тренированный боец – килограммов сорок. Припасов всех видов должно было хватить на недельный, примерно, рейд по вражеским тылам. А главное – мы знали, к чему следует быть готовыми. И нас было трое.
– Собрались, господа? – спросил Удолин.
– Как видишь. А когда ты нас оттуда выдернешь, некромант? – спросил Шульгин, застегивая последний ремешок.
– Если перенос окажется неполный и ваши тела останутся здесь, вы сможете вернуться собственным волевым усилием, как только возникнет острый момент… Или вы сами сочтете свою миссию выполненной.
Но если уйдете целиком, я буду держать ментальную связь и скорее всего видеть тот мир вашими глазами… Тогда сам приму решение о моменте выхода.
– Нет уж, – возразил я. – Критерии оценки обстановки у нас с вами сильно разные. Решать будем мы. Сигнал к экстренной эвакуации – «Алярм» [73]. Коротко, понятно, и случайно это слово не произнесешь. Если любой из нас крикнет, вслух или мысленно, – тут же и извлекайте. Всех и в любом состоянии. Даже мертвых.
– И за женщинами нашими присматривайте. Отвлеките их, если что… – добавил Левашов.
– Да о чем вы, господа! Как бы ни сложилось, время возврата подберем по текущему. Даст бог, в полчаса по-любому уложимся. Не перегружайте посторонними мыслями свои чувства. – Мне показалось, что Удолин сам несколько встревожился.
– Само собой, – кивнул Шульгин. – Но тебе же сказали – «если что»! По-моему, достаточно внятная мысль.
А мне как-то сразу стало приятно и хорошо. Никаких сомнений, никаких рефлексий типа «стоит ли снова связываться? Ты ж себе и Ирине слово давал…». Я молча подтягивал ремни снаряжения, размещал на поясном и портупейных ремнях подсумки, что-то раскладывал по карманам.
В голове крутились стихи:
Это опять Симонов, последнее время – часто стал вспоминаться. Вот и сейчас, вроде бы – к месту. Амундсен, которому эти строки посвящены, после долгих лет скучного покоя узнал об исчезновении дирижабля «Италия» в окрестностях полюса и, вспомнив молодость, сбежал из дома, чтобы лично участвовать в поисках… Совсем как мы сейчас – никому ничего не сказав, суемся незнамо куда, и чем это кончится?
Единственное, что я успел бросить Удолину, когда мы плотно, касаясь друг друга плечами, подчинились его сосредоточенному и в то же время уплывающему взгляду:
– Василич, ты хоть осмотрись поначалу, куда высаживать будешь…
В самый последний момент я внезапно ощутил прилив провидческой тревоги. Дело, пусть и не Восток, а явный Север, все равно тонкое.
Вдруг, с ходу не сориентировавшись, он воплотит нас прямо посередине становища монстров, голов этак в сто, и все при взведенных митральезах? В том месте, которое Сашка сумел обойти стороной, а мы вляпаемся по самое некуда… Вернуться-то вернемся, если каким-нибудь ментазащитным колпаком не накроют, но ощущение пронзающих тебя пуль – совершенно никчемный жизненный опыт.
Уходя в астрал, мы крепко вцепились в поясные ремни друг друга. Я точно не знаю, какое усилие требуется, чтобы такой ремень разорвать. На практике с подобным не сталкивался. Да и сжатую кисть у живого человека разжать просто так мало кому удастся, особенно если альтернатива – падение в пропасть «не знаю чего».
Полет, перелет, переформатирование наших личностей во что-то другое длилось, по субъективному ощущению, дольше, чем когда-либо. Причем именно как перемещение между точками А и Б это не воспринималось. Объяснить такое столь же сложно, как разницу в поцелуях с любимой девушкой и случайной подругой.
Мне хватило времени подумать даже о том, что совсем неясно, как же мы можем попасть в то время и место, которые давно стерты. В подлинном мире мы все отыграли назад, Шульгин вернулся к нам до того, как начала твориться вся эта несуразица.
Однако если в его памяти нужные воспоминания остались, то, независимо от соотношения воображаемого и сущего, Удолин в состоянии реставрировать их до уровня, пригодного к чувственному восприятию. Как, наверное, смог бы материализовать мои детские впечатления от впервые увиденного моря.
– Приехали, – такими словами, продолжая гагаринскую традицию, мог бы объявить о посадке на Луну Нейл Армстронг. Но сказал это Шульгин, когда мы куда-то «прилетели» и ощутили под ногами твердую почву. Я почувствовал, что друзья с двух сторон отцепились от моего ремня, и открыл глаза.
Мы стояли на опушке густого елового леса, старого, столетнего, наверное. В глубину скорее всего непроходимого. Широченные, как самолетные крылья, лапы низко склонялись к полуметровым сугробам. Впереди простирался широкий распадок, его противоположный склон тоже покрывал скрывающийся за горизонт ельник. Этот пейзаж и вправду напомнил мне ландшафты зимней Валгаллы, попадавшиеся по пути нашей экспедиции на поиски города квангов. А также одну из картин Верещагина из жизни партизан войны двенадцатого года. И мы сейчас, вроде тех мужиков в армяках, с топорами и вилами, выглядывали из мрачных дебрей, ожидая приближающегося неприятеля.
Однако распадок был первозданно пустынен, что и к лучшему, пока мы не сориентировались, ментально и географически.
Самочувствие после реинкарнации было не хуже, чем в любой из предыдущих разов, настроение – тоже.
Автоматически произвели над собой несколько известных тестов, удостоверивших, что никаких отклонений от нормы не наблюдается и материальная идентичность – полная.
– Раз так, отойдем на пару шагов назад, – предложил я, – обмозгуем, что дальше…
Разгребли и утоптали площадочку у самого древесного ствола, почти не потревожив снеговые шапки на ветвях. Здесь нас ни с вертолета не заметить, ни с поля.
Первым делом проверили и взвели карабины.
– Приехали, значит, – повторил Сашкины слова Олег. – А куда? Соображай, что там с памятью твоей стало…
Пока он соображал, закурили.
Мороз стоял так себе, вполне терпимый, градусов около пятнадцати Цельсия. Ветер присутствовал, но не тот почти ураганный, что встретил Шульгина прошлый раз, а так – «умеренный до сильного», гнувший мерзлые кусты и завивавший вдоль распадка вихри поземки.
Слева довольно далеко едва просматривались сквозь муть приличной высоты горные отроги. По виду – скорее предгорья Кавказа, чем Урал или Альпы. А может, и Кордильеры, чем черт не шутит. Был у Сашки связанный с ними эпизод, только там убежище в горах было с латиноамериканско-партизанским колоритом.
На Валгалле заслуживающих внимания гор мы в пределах обследованной территории не видели.
– Кое-что начинает шевелиться, – сказал наконец Шульгин, затушив в снегу окурок и спрятав его в карман, как положено в разведке. – Тот раз память о том, кто я есть, вернулась ко мне уже после боя с монстрами, во второй избушке, когда потребовалось Антона спасать. Но никакой ясности, зачем и когда я тут оказался, не прибавилось. Зато сейчас появилось вполне дурацкое, но внутренне не противоречивое объяснение. Я туда попал потому, что захотел выяснить, куда и зачем я попал циклом раньше…
– А что, объяснение не хуже прочих. Если вообще принять концепцию петель времени, подобных той, из которой мы только-только выкарабкались, давайте продолжим. Я сейчас скажу глупость, Олег меня дезавуирует, и побредем потихоньку на поиски дальнейших приключений на свою задницу…
– Ну-ка, – заинтересованно спросил Левашов.
– Кольцо Мебиуса видел? – Вопрос был настолько идиотским, что Олег даже удивляться не стал. Тем более – отвечать.
– А если мы два, три и более колец склеим в виде елочной гирлянды, обеспечив возможность контактов между их поверхностями в любой произвольной точке? Это будет одна и та же односторонняя поверхность или несколько разных, каждая извращенная по-своему?
– Не уловил идеи, честно сказать, – признался Олег.
– И не надо. Это я просто в качестве примера, как малограмотный человек может поставить в тупик дипломированного математика-тополога [74]…
– Топология-то здесь при чем?
– Ты мне сам рассказывал. Любую объемную фигуру, от одномерной до N-мерной, можно коверкать как угодно, придавать ей любую форму, но только без разрывов. И она будет в принципе оставаться тем же самым, как бы ни отличалась внешне…
– Тебя стоило бы к нам в институт на лекции к первокурсникам водить, в качестве наглядного отрицательного примера, – засмеялся Олег.
– Поздно уже. А идея моя вот в чем: Сашка прошел несколько таких петель, с момента ухода в Сеть из Барселоны, а то и раньше. Побывал в том числе и на «Зиме», одно из колец разорвал, когда вытаскивал Антона. Затем оказался опять в Испании и после боя с монстрами вступил в непосредственный контакт с дуггурами-элоями…
Ты далеко от них находился, когда их вязали и в машину грузили? – обратился я к Шульгину.
– Метра три, пожалуй, может – четыре… Нет, был момент, что меньше. Вот так я, тут Антон, тут немец. А потом я стал на подножку, заглянул, наклонился… Постарался их мысленно пощупать. По нулям. Спрыгнул на землю и захлопнул дверцу. Сантиметров семьдесят, выходит…
– И было их там около десятка… Так какого же хрена мы?! – от избытка чувств я даже вскочил, задел головой ветку, и на нас обрушился целый пласт легкого снега. – Ладно, нам глупость по уровню эволюции положена, а Антон с Замком? На пальцах же все просчитать можно было. Если они владеют хронофизикой, а то у них, может, и хроноалхимия какая есть, они (вдесятером-то) в твой мозг или в другой подходящий орган проникли и включили эту самую дурную бесконечность. Петля за петлей… Сначала ты встретился с ними в Барселоне – с пленными. От злобы и страха они, желая спастись, напрягли свои силы, отыграли насколько-то назад по времени, благо место было то же самое, тот же отель, где и попытались ликвидировать тебя до того, как… Ты после ментального или инфразвукового удара сбежал в Сеть. А если они в Сети не хуже нас разбираются? Да лучше, конечно, в сто раз лучше, за сотни веков-то… Нашли подходящий разъем, втолкнули тебя в те лабиринты… Больше им ничего самим делать и не нужно было. Минотавр-ловушка без них справится… Ты, допустим, опять вывернулся, Антон сам собой нашелся, телеологически [75].
Ты послонялся по предложенным или просто так возникшим векторам, с Ростокиным развлекся в роли странствующего воеводы; в пятьдесят шестом году, теша самолюбие, тамошнего начальника СГБ [76] нагнул, без смысла, для собственного удовольствия. И вернулся, чтобы тебя мы с Антоном еще раз на исходную точку маршрута вернули. Не смешно ли?
Чем-то мои слова Шульгина здорово задели. Неужели тем, что я изобразил его марионеткой в чужих руках и замыслах? Так и все мы такие, что же тут обидного? Обижаться нужно было раньше.
Да, конечно, один раз он обиделся всерьез, так ему и показали, чем такие гоноровые понты кончаются. Другого раза не потребуется.
– Ты б такой умный был раньше, чем моя жена потом. Чего в Замке все это не сказал?
– Знал бы – сказал. А здесь, наверное, атмосфера подходящая. Мысли пробуждает. Предсмертные. Какого, например, хрена ты один по ущелью к хижине бежал, если нас пока трое? Пали в неравной борьбе, твой отход прикрывая?
– Да хватит вам, парни, ну что вы завелись? – не выдержал Левашов. – Сейчас наверняка другая раскрутка пошла….
– Хорошо бы, – ответил я. – А где собака?
Мысль о собаке отбила у Шульгина все прочие. Он начал громко ее звать, то выбегая на склон лощины, то углубляясь в лес. И вы мне не поверите – минут через пять мы услышали вдалеке громкий, срывающийся на визг лай. Пробивая грудью дорогу в рыхлом снегу, к нашему укрытию вынесся пес, о котором мы говорили. Породы лично мне не известной, хотя кое-что в кинологии я соображал издавна. Нечто вроде специально выведенной помеси сибирской лайки и сенбернара. Размеры от второго, а стати и манеры поведения – от первой. Естественнее было бы увидеть здесь одного из наших псов с Валгаллы. Интересно, как они там? Бросили мы их, как последние сволочи. Впрочем, при последней встрече они обиженными и захиревшими не выглядели. Может, еще и встретимся.
– Лорд, Лорд! – Таким сентиментально взволнованным я Сашку давно не видел. Пес прыгал, лизал его в лицо, клал мощные лапы на плечи, при этом поглядывая на нас, как на людей безусловно хороших, но к его отношениям с вновь обретенным хозяином посторонних. Так и должно быть в принципе. Но где они с этой псиной могли подружиться? Тут и года не хватит, тут с рук нужно такого друга выкормить.
Опять загадки. Но о них я до поры вопросов задавать не буду, а Олег, похоже, этой тонкости не уловил. Собака и собака.
– Нашелся, и слава богу, – сказал я, погладив Лорда по загривку. – А он нас сможет привести, куда следует?
– Пристегивайте лыжи, и пойдем по следу, – ответил Шульгин. – Туда, откуда прибежал, точно приведет…
«Приведет, без всяких вопросов, – подумал я. – А где же он жил и чем питался все это время? И как очутился здесь и сейчас, на расстоянии голосовой связи? Прямо тебе Топ из „Таинственного острова“.
Глава девятнадцатая
Лорд уверенно бежал назад по собственному следу, время от времени оборачиваясь, словно желая удостовериться, что мы не отстаем, и заодно успокоить, мол, никакой опасности по курсу не имеется. Пес был уверен в себе и явно счастлив.
Что же это за поворотик сюжета такой? Все больше и больше я укреплялся в мысли, что нам просто-напросто подсунули «имитационную» реальность по типу компьютерной игры. Без всякой «настоящей» предыстории. Нет необходимости, а главное – смысла пытаться выяснить, что это за планета, откуда на ней хорошо укрепленные хижины у входов в пещеры, какое ко всему этому отношение имел Сашка.
Разработчик нарисовал вот такую данность, и все! Шульгину было предложено пройти уровень, он его прошел, и перед ним загорелась табличка «Exit». Зачем и для чего игра была оформлена так, а не иначе – отдельный вопрос. Но сделано все добротно, тут не поспоришь. Если бы все было только Сашкиной персональной иллюзией, локализованным в мозгу очагом ложных воспоминаний, Удолин выявил бы это сразу же. Да и никакого физического переброса не получилось бы, поскольку – некуда. Значит, мир, или «мирок», ограниченный некими границами, как таковой существует. И мы уже включены, встроены в него.
Какие сложности? Взяли за основу настоящую, от роду принадлежащую дуггурам планету (Земля это или не Земля, не суть важно), поставили, где захотели, домики, в нашем вкусе исполненные. Что им стоит, как нам в доколумбовой Америке блокгауз сгородить посередине прерий?
А теперь действуйте.
Для чего, зачем, как нам догадаться?
Но ведь если так, кто-то предусмотрел и ту возможность, что мы захотим сюда прийти, оставил реальность «открытой» и функционирующей? Даже собаку сохранил во всей ее убедительности, только какую? «До» или «после»?
Сашка шел на лыжах хорошо, на уровне первого разряда, от Лорда не отставал и на нас поглядывал. Держите ли темп, салаги? Ну, твой стиль и гонор мы знаем, обижать не станем. Олег, я видел, двигал ногами и толкался палками с излишним напряжением: слишком давно не тренировался.
Сам я шел замыкающим, скользил легко и с удовольствием. За полгода зимы на Валгалле мы с Берестиным, соперничая друг с другом, достигли выдающихся, без ложной скромности, успехов в зимних видах спорта. На олимпийцев, может, и не тянули, но по полсотни километров с винтовкой за плечами пробегали с хорошим временем. Со всех обрывов и склонов скатывались, куражась бесстрашием. Слаломом между вековыми деревьями вместо пластиковых палочек развлекались, разгоняясь на двадцатиградусном уклоне под шестьдесят километров в час. На неподготовленной трассе. И до сей поры живы, как ни странно.
Сейчас я, исполняя функции тыловой и обеих боковых походных застав, совершал челночные броски вправо и влево, выскакивая на свободные от леса высотки. Осматривал в бинокль окрестности, в надежде вовремя заметить хоть какие-нибудь следы присутствия разумных существ. Моментами обгонял даже Лорда, и тогда пес на меня скалился. Беззлобно, но с намеком. «Не лезь, дядя, не в свою епархию! Я тут лидер!»
Были бы мы с ним равноценными сапиенсами, я бы извинился, а так только рукой махнул. «Потом, типа, сочтемся славою. Свои ведь все же люди…»
Куда же это он нас ведет? Верст десять уже отмахали по белому безмолвию. Тучи над головой неторопливо сгущались и темнели, намекая на близкий снегопад, а то и что-нибудь похуже. Ни к чему нам это – ночевать в заснеженном лесу я не расположен, даже и возле костра.
Но раз ведет, так, наверное, знает.
Расстояние, в пределах которого Лорд мог услышать Сашкин зов, мы давно прошли, но ровная полоска собачьих следов все тянулась и тянулась вдоль кромки леса. Наверняка этот пес обладал телепатическими способностями и узнал о нашей высадке задолго до того, как мы приступили к ее подготовке.
Вот наконец при очередном взгляде в бинокль я заметил на опушке сугроб, формой и размерами отличающийся от других, естественного происхождения, попадавшихся раньше. Лорд заметно оживился и прибавил хода.
Не прошло и пятнадцати минут, как мы достигли промежуточной, но на сегодня явно окончательной цели. Сумерки сгущались неудержимо. На полянке, к лесу задом, к нам передом, стояла невысокая избушка с крутой, как у швейцарских шале, крышей. На укрепленный, пригодный для упорной обороны бункер она явно не тянула, но в качестве укрытия от буйства стихий и опорного пункта в дальних охотничьих и исследовательских походах годилась вполне.
Собственно, зимуя на Валгалле, еще до того, как узнали о существовании аггрианской базы и цивилизации квангов, мы так и планировали. По весне развернуть «эпоху великих географических открытий», начать продвижение на юг и на запад, потому что на север мы уже ходили, а восток на всем видимом протяжении заречных далей представлял собой унылую, местами заболоченную тундру.
По примеру первооткрывателей Северной Америки мы намеревались ставить блокгаузы на расстоянии примерно полусотни километров друг от друга, желательно по берегам рек или вдоль таких вот распадков. Пятьдесят километров – оптимальный «шаг», в случае чего от форпоста к форпосту можно за сутки добраться пешком, а по воде или верхом еще быстрее. (Лошадей мы планировали непременно завезти на Валгаллу, не все же бронетранспортерами природу травмировать и оскорблять!)
Предварительно осмотрев подходы к домику по всем азимутам и не обнаружив ничего подозрительного, от следов живых существ до замаскированных минно-взрывных устройств, мы наконец вошли в помещение.
Ничего особенного, неожиданного, тем более – изысканного. Все так, как сделали бы мы сами, исходя из целесообразности и тогдашних технических возможностей: стол и лавки, изготовленные с помощью пилы, топора и рубанка. Из импортных, с Земли, стройматериалов лишь шестимиллиметровые оконные стекла и железные трубы для печки. На полках обычный комплект выживания – недели на две консервов, соль, спички, патроны. В углу на вбитых в стену крючьях трехлинейный карабин 38-го года – обычное оружие лесников и геологов, и вертикалка 12-го калибра. Достаточно и от волков отбиться, и прокормиться охотой до возвращения домой.
– Ну да, всюду одно и то же, – сказал Шульгин, когда мы разожгли огонь и засветили лампу. – Все для человека, все на благо человека. Только там было поосновательней…
– Так и задача предлагалась другая: защита особо важного объекта до последней капли крови. А это так – место для комфортного привала, – ответил я, по обычаю северян раздеваясь до исподнего, как только в комнате достаточно потеплело. Нерационально тратить время и энергию на предварительное согревание промерзшей верхней одежды.
– С Константином связи не ощущаете? – спросил Олег, вытягиваясь на покрытой несколькими верблюжьими одеялами лавке. Выложился он сегодня основательно. До последнего держал заданный темп движения, но, похоже, почти на пределе. Ничего, к утру восстановится. Высококалорийный ужин, полстакана этанола, лучше неразведенного, и спать, если не помешают.
– Связь если и есть, то односторонняя. Попробуй мы сейчас его поискать, вышибет нас отсюда, как шампанскую пробку, – пояснил Сашка, шевеля кочергой поленья в приоткрытой топке. По его лицу и стенам избушки скользили багровые блики.
Хорошо, уютно. Давненько я не сидел у горящей буржуйки. Да с времен Валгаллы, наверное, и не сидел. Камин – это другое дело и другое настроение.
– А если нас не вышибает и пристанище подготовлено, завтра наверняка что-нибудь случится. Иначе зачем мы здесь? Не думаю, что в планы организаторов аттракциона входит лыжный марафон с тотализатором…
– Ага. Ставки сделаны. Как в гонке до Доусона [77]. Приз – миллион долларов.
– Или наоборот. Гонка в пустоту. Приз тому, кто угадает, кто из нас дольше протянет…
– Да ну вас к черту, ребята, с вашим юмором. – Левашову тема не понравилась даже как повод потрепаться. – Я о другом сейчас подумал. Недавно Солженицына перечитывал, «В круге первом». Жизнь наша наподобие той шарашки устроена…
– В смысле?
– В самом прямом. Организационно. Собрали нас в кучу, обеспечивают всем необходимым: жильем, питанием, одеждой, культурный досуг организуют, а за все за это требуют думать, работать, изобретать совершенно ненужные лично нам вещи, и уж тем более не посвящают в тайны, связанные с практическим применением изделий, и в тонкости функционирования механизма, который эту шарашку создал…
– Не лишено, – согласился я. – Как там сказано: «Хлеб на столах!» Что по меркам обычных, лагерных зэков означало невиданную степень изобилия. Бери, сколько хочешь! У нас фактически то же самое. В экзистенциальном, разумеется, смысле. За эту пайку, то есть возможность жить, с общечеловеческой точки зрения, в райских условиях, исполняем непонятную и ненужную нам задачу. Вообразить не можем, что сейчас тамошний, – я показал пальцем в потолок, – Сталин требует от тамошнего Абакумова, ну а тот от своих шестерок, по нисходящей. И не черкнет ли в случае неправильного поведения тамошний Яконов карандашиком в календаре: «Этих – списать!»? Очень все хорошо у тебя выстраивается. За одним минусом…
– Это каким же? – заинтересовался Олег.
– А ничего ты нового не сказал. Хоть со времен фараонов, хоть с сотворения Адама всегда только так и было. Никто и никогда не был свободен по-настоящему. Разница только во внешней наглядности степени несвободы и мотивациях тех или иных действий…
Удолина с нами не было, так чего же за него не порезонерствовать, пока в сон не потянуло? Я этим в нашей компании сызмальства занимался, иногда по делу, чаще – в виде развлечения. Вот и сейчас…
– Да, мы считали, что, втянувшись в «большую игру», сохраняем самоуважение, независимость, что-то там вершим и даже кого-то переигрываем. И вдобавок бесплатно имеем неограниченные жизненные блага, удовлетворяя к тому же интеллектуальные потребности в пределах своего разумения. А по сути… Раб, крепостной крестьянин, зэк сталинских времен, ты, Сашка, я – все мы делаем лишь то, что нам предписано. Можно нести свое ярмо с ненавистью и отвращением, можно – с осознанием неизбежности, но спокойно, можно – найти высший смысл и ежедневно благодарить бога за ниспосланные испытания, очищающие душу. Но суть всегда одна и та же…
Шульгин курил и посмеивался в усы, а Олег начал заводиться. Спирт не только пригасил усталость в его натруженных мышцах, но и растормозил воображение.
– Ты неправильно говоришь. Человек может быть свободен. Хотя бы в том смысле, что может против рабства, физического или духовного, восстать…
Нет, сколько живем, а так и не сумели привить Левашову элементарные основы софистики.
– Это ты марксизма-ленинизма начитался в институте. Нас на философском хоть в какой-то мере учили размышлять над изучаемыми текстами, а вам, технарям, загрузили в башку мелкую нарезку цитат, и все на этом. Восстать! Красиво звучит. Навосставались за писаные пять тысяч лет истории… А что же такое «восстание», как не эпифеномен [78]…
– То есть как?
– Элементарно, Ватсон! Тот, кто затеял «восстание», даже революцию, берем по максимуму, точно так же является рабом. Пусть не рабовладельца – рабом ложных представлений или чужих идей. Спартак (условный, книжно-киношный) воевал с римлянами, чтобы, в идеале, приблизить феодализм, «светлое будущее человечества». Догадывался он или нет, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется, – другой вопрос. Марксизм внушил «пролетариям», что, «экспроприировав экспроприаторов», они тут же вознесутся к «сияющим вершинам». Вершины оказались «зияющими», а страна «победившего социализма» превратила «гегемона» в раба еще более бесправного, чем при Николае Первом, условно говоря.
И Ленин был несвободен, реализуя ложно понятые идеи Маркса, Сталин, владыка полумира, – тридцать лет трудился без выходных над построением социализма «в отдельно взятой за горло стране», воображая, будто делает нечто полезное. Так что мы с тобой, друг мой любезный, в том же самом положении. Свободно вроде бы сидим и лежим сейчас, выпиваем и закусываем, понятия не имея, что нас завтра ждет и чей социальный заказ выполнять придется. На «Призраке» собрались детскую мечту осуществить, но так нас к этой мечте подталкивают, едва ли не прикладами, что уже и не знаю! Будто насильно женят на девушке, с которой ты бы и сам не прочь, но не из-под палки же…
– Знаешь, пошел ты, – неожиданным для меня образом свернул Олег дискуссию. – Я лучше спать буду, пока ты меня окончательно не разагитировал. А то плюну на все и вернусь в Москву смиренно ждать своего часа… Раз итог тот же самый, чего суетиться?
– Один – один, – подвел счет Шульгин и задул лампу. Нас накрыла беззвездная ночь и оглушительная тишина.
…Дальше избушки Лорд дорогу не знал, и мы пошли по компасу. Не важно, где именно мы находились, на Земле или любой другой планете, но магнитные полюса тут имелись, и, если нас прихватит в пути пурга, обратно мы сумеем вернуться по азимуту.
Но одновременно мы дружно ощущали, что особенно далеко идти не придется. Цель, какой бы она ни была, находится неподалеку. Час, два нормального хода, едва ли больше.
Привели оружие в боевое положение, лишний груз оставили на месте. С собой взяли сухпаек на сутки и половину боеприпасов. За остальными – живы будем, вернемся. Придется отступать, так только сюда, больше некуда.
Шульгин почти окончательно уверовал, что именно от этой точки он пробивался к опорному пункту у входа в пещеру.
– Узнаю местность. Вот так вдоль распадка, – он показал рукой, – забирая вправо. Там будет перпендикулярно несколько оврагов, по третьему – пара километров вверх, и откроется ущелье. Если я в сильную встречную метель добрался, так сейчас без проблем добежим.
– Для полной достоверности метель свободно может начаться… – ответил Левашов.
– Пока вроде не похоже, а там кто его знает. Вдруг тут климат, как в Заполярье. Ничего-ничего – и сразу снеговой заряд…
– Не беда, – проявил я дежурный оптимизм. – Давно в хорошую пургу не гулял. Помню, как наших звездоплавателей нашел. Еле-еле в тот раз успели домой добраться.
– Интересно, как они там? Сколько раз по разным параллелям шастали, а к ним даже не попробовали наведаться.
– Значит, именно туда нам семафор закрыт. Это к вчерашнему разговору о свободе личности и вообще…
Так, перебрасываясь фразами, мы поднимались по длинному, покрытому косыми снеговыми застругами склону, поверху тоже ограниченному стеной хвойного леса. Скатываться здесь вниз было бы чистым удовольствием, а подниматься – достаточно нудно. Тягун – он и есть тягун. Как всегда при длительном и монотонном физическом напряжении, в голове крутился обрывок песни, очень подходящий к случаю: «И вперед за цыганской звездой кочевой, хоть на край земли, хоть за край…» К «краю» мы наверняка приближались, потому что подъем, как все подъемы в жизни, рано или поздно кончаются, кончился и этот.
Остановились между редко расставленными сосновыми стволами, чтобы перевести дух, поправить амуницию, вытереть пот с лица, перекурить, пока обстановка позволяет. Отсюда горы на северо-западе виделись гораздо отчетливее, различалось, что представляют они собой несколько параллельно идущих гряд в полторы-две тысячи метров высотой, достаточно сглаженных минувшими геологическими эпохами. И было до них по прямой километров пятнадцать.
– Что это с ним? – спросил Левашов, указывая на пса.
Лорд был явно встревожен. Он челноком сновал между деревьями, словно искал что-то: след зайца или медвежью берлогу. При этом ни разу не подал голоса и не выбегал за пределы зрительной связи.
– Лорд, ко мне! – крикнул Шульгин, но пес не послушался, старательно разрывая снег передними лапами.
– Ну, что у тебя здесь? – Сашка подъехал к нему, и мы с Олегом услышали, как он изумленно выматерился. От души. Пришлось и мне оттолкнуться палками, с полуповорта скользнув туда же. На дне ямы, вырытой до прошлогодней жухлой травы, лежала хорошо сохранившаяся светло-коричневая пистолетная кобура! Из добротной толстой кожи, почти правильной треугольной формы. Парабеллумная, то есть от «ноль-восьмого» «борхарт-люгера». Одно время, именно на Валгалле, и я, и Шульгин с Берестиным носили на поясе такие же. Нравилось нам отчего-то рисоваться перед девушками подобным образом.
Приехали, в очередной раз! Или снова фрагмент Отечественной войны, или…
Кобура, не пострадавшая от погодных условий, несла на себе следы механического воздействия. Конкретно – разорвана почти пополам. Не разрезана ножом и не распорота, скажем, осколком, а разорвана, как тряпка. Вдобавок и прочные поясные петли тоже оторваны. Полное впечатление, что мощный зверь (суперкот?), с маху ударил владельца пистолета лапой с выпущенными когтями, только чуть промахнулся. Следов крови не видно. Зато полный магазин так и остался в предназначенном ему торцевом карманчике.
Я не успел взять у Сашки находку для ближайшего рассмотрения, как он выматерился снова, с другой интонацией.
Я увидел на внутренней стороне крышки жирно выведенные шариковой ручкой, едва-едва размытые влагой буквы: «А.Ш. – 84».
Тоже армейская привычка, помечать личное имущество, подумал я, и только тут до меня дошло по-настоящему.
– Так это же – твоя!
– А я о чем? Больше скажу – я ее подарил, вместе с пистолетом, естественно, Сехмету, когда мы отправлялись в последний бой. Сам «беретку» взял, с ней в танке удобнее, а «восьмерку» ему отдал. Типа – на память. Вот же угадал…
Левашов присоединился к нам и тоже стал с задумчивым вниманием вертеть кобуру в руках. Он с нами в городе квангов не был, Сехмета, офицера дирижабельно-пограничного отряда, не знал, но наслышан был во всех подробностях и вместе с Сашкой и Ларисой отстреливался от напавших на форт после «танкового погрома» аггров – «недочеловеков». Не в смысле нацистской расовой теории юбер– и унтерменьшей я здесь этот термин употребил, а только чтобы подчеркнуть, что основной персонал Таорэрской базы и солдаты их «армии вторжения» до специально выведенных копий людей, как Ирина и Сильвия, сильно недотягивали. И внешне, и по умственным качествам.
– Подарил, значит. По нашему счету – пять биологических лет назад ровно. За этот срок, если б он ее тогда потерял, сам знаешь во что кожа бы превратилась. Значит, ваш дружок расстался с ней месяц, два назад. Так?
Да кто бы спорил, только академические рассуждения Олега звучали… Ну, не по месту, что ли. Эмоций не хватало. Тут бы всплеснуть руками, ужаснуться или восхититься, зависимо от точки зрения на открывшуюся истину. На Валгалле мы, значит. Вернулись. Четвертым, получается, способом. Два первых – «механические»: через СПВ и блок-универсалом, третий – через Сеть, четвертый – вот он, волевым усилием сумасшедшего профессора из прошлого века. Накатанная дорожка.
– Братцы, нас старательно сводят к нулям, – продолжил Левашов. Подсунули нам ту еще Валгаллу, очень может быть, чтобы мы с радостным визгом не кинулись, не думая больше ни о чем, уходить на «Призраке» за пределы всей этой конструкции…
– Мы все равно уйдем, – ответил Шульгин, – для себя я давно все решил. Не нужны они мне. И миры их тоже, хоть сто, хоть двести. Уйдем со своими бабами, и катись оно туда и дальше!
– Согласен, – сказал Олег. – Если выпустят. Харчи, как говорил мой дед, отрабатывать придется. Кому кобура с пистолетом последний раз принадлежала, я не знаю. Могла много раз из рук в руки переходить. По известным причинам. Важно другое. Трупа здесь нет, костей тоже. Ничьих. Прямо как в кино. Махнул зверь лапой, срубил кобуру с ювелирной точностью, и дальше что? Разошлись, довольные друг другом?
– И не такое бывало, – с долей сомнения в голосе ответил Сашка. – Один махнул, другой выстрелил, и побежали в разные стороны…
А я, пока они рассуждали, через головные телефоны услышал отдаленные звуки, до чрезвычайности знакомые. У ребят аппаратура, наверное, была с ночи выключена, моя же работала. О чем я им и сообщил.
– С загадкой кобуры и прочего позже разберемся, а сейчас не до того. «Стреляли», – как говорил Саид.
Гребень мы перевалили, соблюдая при этом все положенные тактические приемы. Не высовываться, наблюдать из-за укрытия и не с той стороны, на которую может обратить внимание неприятель, биноклем и оптическим прицелом пользоваться по солнцу, а не против, и так далее.
Километром ниже, в глубокой чашеобразной долине кипел настоящий полевой бой. То есть не стычка двух случайно встретившихся разведгрупп или нападение ватаги грабителей на купеческий обоз, а как минимум – рота на роту регулярных войск.
Атакующих мы узнали сразу, да и как ошибешься? Сашка их в натуре насмотрелся, мы – в кино крупным планом. Те самые черно-бурые Сашкины йети, ломаной цепью наступающие на жидкую линию стрелковых ячеек обороняющихся. Монстры, за неимением другого термина продолжим их так называть, перли через глубокий, по пояс и выше снег, оставляя позади отчетливые вспаханные борозды… Только это не давало им развить спринтерскую скорость, в противном случае они взяли бы позицию противника в минуту. Двигаясь со скоростью нашей пехоты в Финскую войну, они вели беглый огонь из своих многоствольных митральез.
В чем заключалась их главная беда – в отсутствии опыта даже Первой мировой, не говоря о Второй. Если бы они наступали перекатами – половина стреляет с места, прижимая к дну ячеек и окопов обороняющихся, другая делает бросок, залегает и бьет по выявленным огневым точкам, пропуская через себя вторую линию, – эффект был бы куда большим. И ведь огневая мощь монстров была подавляющей, при грамотном использовании, конечно.
Оборонялись же наши друзья кванги. Какой хрен их сюда занес, непонятно. Без дирижаблей, в чисто пехотном варианте.
Об этом я и спросил Сашку, пока мы, маскируясь складками местности, бежали к намеченному отсечному рубежу. О том, вмешиваться нам или нет, – вопроса не возникло. Хороши мы или плохи в историческом смысле нашего существования, но друзей в беде не бросаем, невзирая на высшие соображения. Вроде цены собственной шкуры.
– Спроси – какой хрен нас?! А с этими что? Вдруг у них как раз аэродром поблизости, его они и обороняют. Чтоб кто-нибудь взлетел и прикрыл с воздуха. Бросят оборону – всем полная труба.
Уж это точно. Полсотни крупнокалиберных подобий пулеметов за несколько минут разнесут в клочья стандартный кванговский авиаотряд, состоящий из пяти дирижаблей, да, пожалуй, и целую эскадру, если ловить ее на взлете или расстреливать в процессе предполетной подготовки.
Но наши друзья, вояки пусть и слабые тактически в сравнении с нами, но отважные до самоотречения, сопротивлялись достойно. С короткими интервалами с их стороны взлетали магниево-термитные бомбы по крутой минометной траектории. Они что же, сообразили снять с кораблей и установить на переносных станках свои катапульты? Молодцы, ребята. Совершенно как при обороне Порт-Артура мичман Пустошкин и лейтенант Власьев использовали против японцев на сухопутном фронте шаровые мины заграждения и торпедные аппараты миноносцев.
Вдобавок не прошли для квангов даром уроки военного дела, которые мы им давали. В частности, ознакомившись с ТТХ имевшегося у них оружия, Алексей предложил, для усиления поражающих свойств, снабдить бомбы дополнительным разрывным зарядом в чугунной или керамической рубашке. И сейчас в бинокль было видно, что совету они последовали. По осколочно-фугасному действию бомбы примерно соответствовали нашим батальонным минометам.
Поэтому оборона еще держалась. Одиночек, прорывавшихся вперед в интервалах между разрывами, кванги встречали метким «огнем» своих пружинных самострелов, представлявших некий гибрид подводного ружья и мощного арбалета. На пятьсот метров (я лично проверял) килограммовым стальным болтом они прошибали пятидюймовую доску ростовой мишени. Весьма прицельно, на уровне хорошей винтовки.
К сожалению, чудовища, йети, алмас-ты, называй, как угодно, к потерям товарищей по оружию были абсолютно нечувствительны. Как комары, которых бей, не бей – осторожности не научишь. Их следует уничтожить всех, потому что единственный уцелевший все равно будет стрелять до последнего патрона, кусаться и махать когтями, длиннее и острее, чем медвежьи.
Тот печальный случай, когда критерии гуманизма неприменимы в принципе.
Значит, пора вступать в дело нам. Через недолгое время расстреляют кванги свои бомбы, стрелы тоже кончатся, и дело дойдет до рукопашной, где шансов у них круглый и абсолютный ноль. Любой из нас мог справиться с десятком квангов голыми руками, что же говорить о гоминоидах, против которых выйти один на один, имея в руках рогатину или бердыш, я решился бы только в самом крайнем случае.
Однако была в этом сражении некая странность, для нас, привыкших последнее время только и делать, что анализировать странности и непонятности, вполне очевидная. Словно бы оно разыгрывалось не само по себе, а в расчете на заинтересованного зрителя. И началось буквально за десять-пятнадцать минут до того, как мы подтянулись к театру военных действий и мои микрофоны уловили звуки боя.
Случись это часом раньше – оборона квангов уже была бы прорвана, а сами они перебиты. Шульгин, пока мы продвигались с ним к намеченному рубежу, оставив Олега в резерве, сказал, что монстры ведут себя необычно вяло. Не заметно в них той сумасшедшей ярости, с которой они штурмовали отель, и скорости, продемонстрированной при попытках прорыва через мост.
– Снег глубокий, – возразил я.
– В которых я стрелял, под снегом, как кроты-олимпийцы, шныряли! А эти – словно бы ими кто-то руководит, специально придерживает. Залегают часто, перебегают лениво…
– Ты, может, имел дело с ихним спецназом, а это какие-нибудь обозники, рядовые необученные, ограниченно годные…
– Или здесь – отвлекающая операция, а главные силы совершают сейчас фланговый обход…
– Все может быть. Давай чуть правее примем, вон к той высотке. Оттуда и обзор хороший, и к позиции квангов ближе. Если отступать начнут, мы их косоприцельным прикроем…
Как заправские биатлонисты, рванулись мы с Сашкой на крайний рубеж, добежали, сдергивая через голову ремни карабинов, распластались по обе стороны обледенелого куста. Иного укрытия не было на узкой, наклоненной в сторону фронта площадке. Снайпер, если он у врагов имеется, хоть один, снимет нас за два выстрела. Будем надеяться, что хотя бы здесь – нет.
Зато отсюда до правого фланга монстровской цепи было ровно четыреста метров, по делениям прицельной сетки. До крайнего окопчика квангов – чуть больше. Их катапульты располагались тактически грамотно, за обратным скатом гребня, огонь велся с корректировкой.
Один за одним в небо поднялись шесть дымных хвостов, неторопливо добрались до верхней точки траектории, и черные точки бомб посыпались вниз. Два разрыва легли хорошо, по скучившейся группе монстров, остальные с недолетом. Будем считать – заградительный огонь. Да к тому же несколько гоминоидов из середины цепи повалились ничком и навзничь, сраженные осколками.
Ладно, друзья, продолжайте, как умеете, а мы начинаем собственную партию.
Кто-то из будущих читателей моих записок наверняка скажет, что наше поведение не укладывается в цивилизованные рамки. Стреляете, «чувств никаких не изведав», по живым существам, имеющим какие-то там собственные права. Как в тире. А я бы пригласил любого гуманиста в тир, где мишени имеют право и возможность отвечать стрелку адекватным образом. Причем входная дверь заперта и обратной дороги нет, пока жив ты и цела хотя бы одна мишень! Жалобы и призывы к общечеловеческим ценностям априорно не принимаются.
Поскольку людей в этой забаве вокруг нас нет.
Мы с Сашкой имели при себе по восемьдесят патронов, столько же у Левашова. Остальные оставили в хижине, о чем сейчас пожалели. С другой стороны, на всю войну 1877–1878 гг. русскому солдату было отпущено военным министерством по сто восемьдесят два патрона. Точно, как в аптеке, ни больше, ни меньше. Из них половина хранилась на тыловых складах в глубине страны. Довезут вовремя, не довезут…
Так что мы в гораздо лучшем положении. На полчаса боя, глядишь, хватит.
Распределили цели и огневые рубежи, чтобы не мешать друг другу, и начали.
Чтобы стрелять из Сашкиного карабина, нужна определенная привычка. Отдача, невзирая на эффективный дульный тормоз, сильная, и звук выстрела отдается болью в барабанных перепонках. Зато точность боя выше всяческих похвал, за счет скорости пули и отличного прицела.
По два полных магазина мы расстреляли в минуту и не меньше тридцати монстров навек упокоили ртутными пулями. От них не выживают, и чем массивнее мышцы и прочнее кости, тем надежнее не выживают.
За эту минуту рисунок боя изменился кардинально. Правого фланга монстров практически не существовало больше. Но остальные (или те, кто командовал) среагировали на первый взгляд верно, а на второй – крайне глупо. Не солдаты, я же говорил.
Начиная от середины цепи они начали, все так же утопая в снегу, разворачиваться в сторону новой, внезапно возникшей опасности. Сосредоточив массированный, однако бесприцельный огонь по нашей позиции. Мы с Шульгиным оттянулись за скат, достали сигареты. Даже броском со всей дури и силы полкилометра в данных условиях меньше чем за пятнадцать минут им не пробежать. А нам, чтобы не спеша покурить, пяти минут достаточно. Потом посмотрим.
Издалека захлопал карабин Левашова. Целясь с упора и не торопясь, он с предельной дистанции штук пять самых прытких положит носом в снег, без вопросов. Так что беспокоиться нам совершенно не о чем. И кванги получили долгожданную передышку.
– Нет настроения самим учинить рейд по тылам? – спросил Шульгин, показывая рукой направление. – Вдруг там в блиндажике самые затейники и сидят? Свободно можем успеть…
– Я бы не стал. Хрен знает, на что нарваться можно. Давай лучше еще отсюда стрельнем и вон той кромочкой проскочим прямо к квангам. Баталию мы уже выиграли, а насчет продолжения на месте узнаем…
– Если позволят, – вздохнул Сашка. – Тот раз не позволили, мать их…
Да, после первой победы над массированными танковыми силами аггров воспользоваться ее плодами нам не позволили. Нас с Алексеем утащили в свое логово, а Шульгина с Левашовым и Ларисой вышибли из форта.
– Ну и поглядим. Нам что так, что так – терять совершенно нечего.
За время нашего перекура не больше взвода монстров продолжало движение в сторону высоты. И прошли они только половину пути. Снега на склон навалило много, а под ним скрывались овраги и естественные эскарпы, так что местами атакующие проваливались по грудь и по плечи. В оптику прицела я наконец рассмотрел их морды. Фильм такого впечатления не давал.
Натуральные йети: гибрид горилл с неандертальцами, может, чуть выше поднявшиеся по ступеням эволюции, но настолько далекие от нас, что ни малейших моральных сомнений по поводу правомочности их отстрела я не ощутил даже в глубине души. Тем более – они все время палили в нашем направлении, и пули жужжащими роями пролетали слева, справа, поверху. Их «пулеметы» на вид весили килограммов по двадцать, не меньше. С руки и на ходу стрелять из таких штук почти бессмысленно, независимо от физической силы «солдата».
Мы ответили десятком точных пуль и, пристегнув лыжи, по широкой дуге рванули к позициям квангов. Для Олега я выпустил зеленую ракету, указывая направление движения. Оставаться на прежнем месте ему смысла больше не было.
Пилоты-пограничники успели разобраться в обстановке, сообразить, что на помощь неожиданно пришла если и не дружественная лично им, то безусловно враждебная монстрам сила.
Они тут же прекратили стрельбу из своих катапульт, разумно решив подождать дальнейшего развития событий и поберечь боеприпас. Одновременно между их окопами началось активное движение. Нормальная перегруппировка потрепанного подразделения, раз выдалась спасительная пауза. Раненых подобрать, боевой порядок уплотнить, командирам уточнить обстановку и обсудить последующую задачу. Все как у нас.
До места мы добежали раньше, чем самые прыткие из монстров вскарабкались на вершину высоты. Не только с тактической подготовкой, но и с обычным здравым смыслом у них обстояло отвратительно. За каким чертом прерывать удачно развивающуюся атаку и на девяносто градусов разворачивать направление удара? Подумаешь, внезапно заработала фланкирующая огневая точка! Перенацель на нее двух-трех ближайших стрелков, но ни в коем случае не теряй темпа, если основная позиция неприятеля вот она, на расстоянии последнего броска…
Так ведут себя существа, руководствующиеся не разумом, а инстинктами: реакция на ближайший и сильнейший раздражитель.
Если только… Если главная цель не кванги, а как раз мы? Стоило «объекту № 1» демаскировать себя, обо всем прочем тут же забыли. Что до потерь и цены успеха, им на них столь же глубоко плевать, как любым, даже самым высокоразвитым насекомым, поскольку считать и задумываться о ближайших последствиях не обучены.
Навстречу нам из ложемента, устроенного за валуном размером с «Запорожец» поднялись два кванга в знакомых комбинезонах летчиков, словами и жестами выражая почтительную радость от встречи с «досточтимыми».
Еще в первых своих тетрадях я подробно описал систему устройства тамошнего общества, а также то положение, которое нам было предоставлено в рамках их военно-феодальной империи.
Мы тогда получили статус «амбинантасиндрану», что уравнивало нас с довольно высокородными «дворянами» воинского сословия, в чинах не ниже полковничьих. Впрочем, можно предполагать, что, если бы нам удалось вернуться в город после разгрома аггрианских бронесил, нас возвели бы в ранг не меньше, чем «ранхаги», а это уже высший комсостав, причем титулованный, графского, приблизительно, уровня.
Встретившие нас офицеры принадлежали к тому же роду войск, что и наш первый здешний друг Сехмет, и, безусловно, сразу сообразили, кто мы такие. Уж наверняка рассказов о наших подвигах ходило среди них не меньше, чем о Козьме Крючкове в Первую мировую.
Оттого наше внезапное вмешательство в битву было воспринято как совершенно естественное и, может быть, необходимое и обязательное.
Я языком квангов за краткий срок жизни в их городе не овладел, другими делами занимался, общаясь с высшим руководством через переводчика. Шульгин успел выучить несколько десятков ходовых фраз, а главное – принципы лингвистики усвоил. Он тут же начал объясняться, используя свою титаническую память, наравне с выразительными жестами.
Меня в этот момент отвлекло совсем другое. Я наблюдал за Олегом, четко воспринявшим сигнал и начавшим движение в нашу сторону. Но он был на удивление невоенным человеком, хотя возможности обучиться самому элементарному, на уровне младшего лейтенанта военного времени, имел неограниченные.
Как ракета показала, так он и пошел. По кратчайшему расстоянию, впритык к подошве высоты, которую мы только что покинули. А что при этом ему придется оказаться в зоне досягаемости взобравшихся на вершину монстров, он не подумал совершенно.
Однако мне то, что случится через минуту-другую, высветилось в сознании, как на экране игрового компьютера. С двух сотен метров его одиночным выстрелом можно положить, не говоря о массированном пулеметном…
– Сашка, скажи им – беглый огонь бомбами по высоте, – закричал я, – немедленно! А я сейчас! Олег там…
Двумя красными, горизонтально выпущенными ракетами я указал Левашову направление маневра, категорический приказ, можно сказать.
Не такой уж я самоотверженный герой, готовый кинуться грудью на амбразуру. Просто чувствовал, что имею возможность прикрыть товарища и что мой час еще не пришел. Убить меня пока не должны, а если должны, так все равно. Посмотрим, как в очередной партии это будет выглядеть. Райские кущи, ад или «серая зона», где Артур обретался…
Дольше жизни жить не будешь, раньше смерти не помрешь.
Зато Олега убить могут запросто, в этом я не сомневался. Он – из «нормальных» людей. Несколько попаданий в грудь, голову – и гомеостат помочь не успеет. К эфирному существованию Левашов не приспособлен. Разве только Удолин с помощью Замка сумеют по остаткам информации макет слепить, нам в утешение…
Работая ногами и палками на пределе возможностей, я выскочил на склон вразрез между курсом Олега и вершиной. Увидел мелькнувшие на белом фоне черные пятна, услышал первую гулкую очередь и начал стрелять снизу вверх, не особенно целясь. Их там пока двое-трое. Засвистят пули мимо ушей, заденут кого-то, и они просто обязаны, учитывая их «логику», обратить внимание на непосредственную опасность, а не на бегущего вдали человека.
Так и вышло. Я выбросил расстрелянную обойму, вставляя следующую, метнулся влево с возможной линии огня, зная о том, что у любого человекообразного стрелка, если он не левша, перенос прицела вправо занимает больше времени. Мелочь, но полсекунды-секунду выиграть можно. Упал на бок, несколько раз перекатился вниз по склону. Опрокинувшись на спину, открытой мушкой, помимо оптики, поймал еще одну «поясную мишень». Вот придурок, захотел посмотреть, куда я вдруг делся. Ну, держи!
Попал, конечно. Если консервные банки на сто метров навскидку сбивали, что же в такую тушу промахнуться?
И тут вершину накрыли сразу две кванговские бомбы. Нормально легли. Пока я поднимался, цеплял отстегнувшуюся лыжу и стряхивал снег с глаз и щек, никто там больше не шевельнулся.
Олег уже проскочил опасную зону и «елочкой» взбирался к указанному месту.
Я прибежал туда же, когда Сашка, сидя на дне окопчика, еще не закончил материть его всеми известными словесными конструкциями.
– Ладно, кончай, обошлось, и слава богу, – пресек я шульгинскую тираду. – На войне как на войне…
Однако, доставая сигарету из портсигара, я заметил, что руки у меня подрагивают. Мышечное напряжение – это само собой, но и мандраж запоздалый имеет место. Мы ведь не железные…
– А ребята молодцы, вовремя стрельнули. Тютелька в тютельку по цели. Где они, кстати?
– Сейчас будут. Я им, пока ты геройствовал, шороху навел! Забегали, как при внезапном появлении Главкома на полковом смотру. Помнят силу русского оружия…
– А то! Раньше с одним танком против полусотни, сейчас с тремя винтарями против роты пулеметчиков – и враг бежит, бежит, бежит!
Шульгин протянул мне фляжку. Как будто у меня своей не было. Но кто считается? Отхлебнули по кругу, и сразу вспомнилось, как я лечил от шока спиртом Корнеева, Альбу и Айера. Вроде бы совсем недавно. На этой же, специально предназначенной для дружеских встреч планете.
Стрельба со стороны монстров неожиданно стихла. Доносились только редкие разрывы бомб, сильно отдалившиеся. Я не знал предельной досягаемости поставленных на полевые лафеты катапульт, но, судя по звуку – километра на три перенесли огонь. Неужели монстры отступили, не оставив даже прикрытия? Или мы их всех перебили? Я встал и поднял к глазам бинокль. Точно. Среди испятнанного ожогами склона видны были лишь отдельные фигуры, торопливо, гораздо быстрее, чем до того шли в атаку, скрывающиеся в лесу на дальней стороне котловины. Очень похоже на деморализованную стаю павианов, ретирующуюся после неудачного набега на кукурузные поля кафров.
– Не то, опять не то, – подтвердил мою мысль Шульгин. – Неправильно они себя ведут…
– Это для кого как, – не согласился Левашов. – Много ты о них знаешь! Поступила команда – и смотались. Кто-то счел задачу выполненной…
Очередной «разбор полетов» прервало появление сразу целой компании квангов-офицеров, предводительствуемых, что меня совершенно не удивило, другом Сехметом, державшим себя среди подчиненных, как большой начальник. Почему бы и нет? Вполне мог и, более того, должен был возвыситься, единственный из своих соотечественников, за отсутствием людей, причастный к великой победе, последней и окончательной, поскольку после взрыва информационной бомбы на аггрианской базе воевать с ними было просто некому. До сего дня?
Насколько я вник в местную психологию, «справедливость» у них была понятием почти абсолютным. Никто из соображения карьеры или самолюбия не стал бы лишать офицера заслуженных привилегий и наград, приписывать себе чужие подвиги. Само собой, высшие командиры свои награды тоже получили, но не так, как у нас было принято в годы Афганской, скажем, войны. Героям переднего края – медали «ЗБЗ» [79] да «За отвагу», а полковникам, генералам, включая прилетевших из Москвы отметиться «на фронте», – от «Красного Знамени» и выше.
Увидеть его я был искренне рад, да и он нас, судя по его виду, тоже. Кванги – народ понятливый и переимчивый, талантливый, я бы сказал. Не зря Сехмет за месяц усвоил русский почти в совершенстве. И обычаи наши он помнил. Чисто по уставу подкинул ладонь к виску, за ним это приветствие повторили его товарищи. Затем мы крепко пожали друг другу руки, без всяких местных церемоний, моментами превосходящих по сложности и запутанности средневековые китайские и японские.
– Я очень рад вас видеть снова, – сказал Сехмет. – Вы всегда приходите, когда нам надо? И уходите, ничего не сказав? Вы опять спасли нас, сделав то, чему не учили…
– Как не учили? – продолжая держать в своей руке его руку, удивился Шульгин. – Чему не учили? Только тем и занимались, что учили вас воевать как положено. Другое дело, вы винтовки и пулеметы делать не стали. А я ведь говорил… Слушай, кстати, а мой пистолет ты куда девал?
– Вот твой подарок, дорогой друг. – Сехмет достал из кармана «восьмерку», протянул Сашке на открытой ладони. – Но выстрелить я могу теперь только один раз. Себе в голову.
Вместо Шульгина пистолет взял я, оттянул затвор до половины хода рычагов. И вправду, магазин пустой, единственный патрон в патроннике. Самурай, бля! Натурально, через летный комбинезон харакири делать сложно, а застрелиться – запросто.
– И для чего тебе такая идея в голову пришла? – поинтересовался я. Странно и смешно моментами, но я говорил с единственно понимающим меня и помнящим прошлое квангом так, будто мы расстались неделю назад, как если бы меня не утащила Дайяна с поля боя и не начались совсем другие жизненные коллизии. А ведь по моим жизненным переходам и случаям после нашего последнего разговора, когда я запрыгнул на лобовой лист танка, хлопнув прощально Сехмета по плечу, прошло намного больше пяти лет. И не только хронологических.
– Ты, Андрей, совсем ничего не понимаешь? Если бы вы не пришли сейчас, нас, выживших в бою, просто бы съели… Тебе нравится, когда тебя едят живым?
Вот тут меня слегка достало чувство, подходящее постоянному и малообразованному читателю книжек Стивена Кинга. Напугать любого из нашей команды трудно. Всякое видели. Перевороты, гражданские войны, пришельцев разного уровня разумности и агрессивности. Стояли под чужими пулями и сами стреляли, но чтобы кого-то из нас пытались есть живьем… Именно живьем! Тут, не имея иного выхода, естественно, предпочтешь застрелиться.
– Не нравится, – нисколько не кривя душой, ответил я. – Но неужели так действительно было?
– Мы врага отогнали, – без всякой связи с предыдущим ответил Сехмет. – Весь наш народ с неизбывным восторгом узнает, что спасти нас вернулись лучшие в мире «странствующие рыцари»…
Степень владения русским, и не просто языком, а свойственными ему смысловыми полями, которой достиг «лейтенант» захолустного гарнизона, просто поражала. Причем я видел, что сейчас он говорил и думал по-нашему лучше, чем тогда. Или он в своих краях непризнанный гений, или все они такие, только не затруднились ненужным по должности делом.
– Сехмет, – спросил я, – у нас не найдется другого места, чтобы поговорить всерьез? Ты понимаешь, что такое – «всерьез»?
– Товарищ Андрей, я понимаю. Мы немедленно поедем в такое место.
Обращению «товарищ» мы его тоже научили. Иной формы обращения между военнослужащими у нас тогда просто не было.
На своем совершенно невозможном для восприятия языке он отдал несколько команд. Командами они звучали чисто интонационно.
Пока офицеры, не имеющие подобия даже старых раций «Р-126», лично бегали передавать распоряжения по команде, Сашка протянул Сехмету рваную кобуру. И полный запасной магазин отдельно.
– Заряди в пистолет. Пригодится. Восемь шагов назад от смерти. И расскажи – что все это значит…
Глава двадцатая
Нам подали паровые аэросани, устроенные по тому же принципу, что и дирижабли. Машина размером с автобус «ПАЗ», в которой пассажирских мест было только восемь, в передней кабине. Остальное – двигатель и, по-нашему, машинное отделение. Системы, управляющие подачей топлива, контейнеры с горючим, четверо квангов низкого ранга, всем этим распоряжающихся. Движители – два трехлопастных винта, толкавших с приличной скоростью устройство на шести широких лыжах, каждая с независимой подвеской.
Им еще башенный пулемет сверху поставить, совсем хорошая машина бы получилась. Но и без этого до своего лагеря они нас довезли за полчаса.
Здесь мы ошиблись, думая, что кванги обороняются на последнем рубеже. Ан нет: они встретили врага на дальних подступах. За первым гребнем, на обратном скате которого размещались орудийные дворики катапульт, простиралась широкая долина, покрытая глубоким снегом. И только следующая гряда, идущая с севера на юг, с куда более крутыми откосами, прикрывала настоящим образом оборудованную базу. Там были ангары, утепленные палатки для личного состава, склады боеприпасов, топлива и газовых баллонов, несколько причальных мачт. Два дирижабля, полностью готовые к взлету, еще шесть неторопливо надувались под вой компрессоров.
Серьезный опорный пункт. Цепь таких баз, согласно кванговской стратегической концепции, тянулась по периметру их страны, состоящей из столицы, Юуонжлосс-сити, как мы называли ее для простоты, поскольку коверкать язык сорокасложными словами не было ни охоты, ни необходимости, и нескольких городов поменьше. А уже с этих баз осуществлялись патрульные полеты в заданных секторах ответственности.
Пока мы ехали, Сехмет, польщенный нашими похвалами в адрес героических бойцов и квалифицированного командования, извлек из полевой сумки затрепанную книжку и с гордостью нам предъявил. Мы дружно рассмеялись, не имея в виду обидеть коллегу, а от души, развлекаясь комизмом ситуации.
«Тактика в боевых примерах. Часть вторая. Рота-батальон. Москва, Воениздат, 1973 г.». Это и несколько других справочных изданий Берестин подарил Сехмету, в знак дружбы и как бы компенсации за нечаянно нанесенный ущерб. Бегло разговаривать на русском воздухоплаватель научился за месяц, после чего овладение грамотой заняло меньше недели. Я думаю, если отправить его на учебу в Военно-воздушную академию имени Жуковского, он бы легко окончил ее с красным дипломом. Да и сама цивилизация квангов, установись у них с Землей полноценные дипломатические отношения, догнала бы нашу в ближайшие полвека, а там, глядишь, и вырвалась вперед. Единственные сдерживающие факторы: численность населения, всего около десяти миллионов, и абсолютное нежелание развивать врожденные способности. Так мало ли на Земле высокоразвитых государств с гораздо меньшим количеством жителей? И с природной ленью есть способы бороться. Так что напрасно аггры считали расу квангов тупиковой ветвью, не имеющей смысла существования и, соответственно, права на него.
– Пользуешься, значит? – одобрительно спросил Шульгин. – На свой язык не перевел для курсов усовершенствования комсостава?
– Еще не перевел, времени не было. Да и не думал, что в наших условиях это может быть полезно. После того как вы исчезли, «ракообразные» исчезли тоже. Совсем. Не с кем стало воевать. Сухопутной армии с организацией, подобной вашей, у нас нет, вы знаете. Я читал книги просто так, вспоминая друзей. И вдруг пригодилось. Когда неизвестно откуда появились «ахамбовомбе». В боях с ними мудрые уроки этой великой книги очень пригодились… Ты, Андрей, в беседе с ранхаги Разафитриму однажды сказал: «Не бывает бесполезных знаний». Очень правильно. Достойнейший ранхаги часто повторяет эту истину.
– «Ахамбовомбе». Это вы так монстров назвали? Что означает? – перебил его Сашка. Язык квангов отличается цветистой, на наш взгляд, избыточной описательностью, вроде как у североамериканских индейцев.
– Можно перевести – «неразумно свирепые» или «бессмысленно жестокие», что-то так, но не точно. Нужно много работать, сделать большой толковый словарь. Опять нет времени, и нужен не один, несколько людей-помощников. Я сам не справлюсь, мало слов знаю…
– Ты все время говоришь «не успел», «времени не было», – задал я сильно интересующий всех нас вопрос. – Мы ведь ушли довольно давно. Когда, по вашему счету?
Сехмет посмотрел на меня удивленно. Идеей разнотекущего времени он пока не овладел, поэтому воспринял мои слова так же, как нормальный человек, у которого психиатр вкрадчиво спрашивает: «А какой у нас сегодня день?» Но субординация есть субординация – вышестоящему положено отвечать, каким бы идиотом он ни выглядел.
Сосредоточившись, начал шевелить губами и пальцами. Неужели так трудно ответить с ходу на простейший вопрос? Но он был человек обстоятельный и в итоге выдал точный подсчет: «Двести одиннадцать дней». Считая, что местный, валгалльский день не намного длиннее земного, выходило, что физически мы отсутствовали здесь не более восьми месяцев. Те краткосрочные посещения, что случались у меня и у Шульгина через Гиперсеть и не по своей воле, к реальному времени отношения вообще не имели. Впрочем, нынешнее здесь пребывание к реальности отнести тоже трудно. Если раз и навсегда не заставить себя считать за подлинную реальность все, что с тобой происходит в данный момент. Хотелось бы, но трудно.
Я только собрался приступить к обстоятельному выяснению событий, случившихся за наше отсутствие, как мы приехали.
Пока Сехмет проводил инструктаж с личным составом базы, отправлял в воздух первую пару дирижаблей для поиска отступившего неприятеля, занимался другими командирскими делами, мы с удобством разместились в его штабной палатке. Удивительное дело, насколько правы были древние философы, в античные времена разрабатывающие теории о соотношении формы и содержания. Очень мало отличался походный быт воинов цивилизации, возникшей и существующей чуть ли не в другом рукаве Галактики, от такого же у наших авиаторов, хоть Отечественной, хоть Афганской войны. Поневоле поверишь Ивану Антоновичу Ефремову, что в своих высших проявлениях разум негуманоидным быть не может. Отсюда и все остальное.
Олегу, естественно, сейчас было гораздо интереснее, чем нам с Сашкой. Ему не довелось побывать у квангов тогда, а наши рассказы, просто в силу обстоятельств, затянувших нас в пучину куда более увлекательных приключений, не отличались последовательностью и тонкой деталировкой.
Мы, в ожидании Сехмета, решили приготовить товарищеский обед, для него лично или для группы офицеров его штаба, если он захочет кого-то пригласить. У нас, в Белой армии, по случаю успешно закончившегося боя плюс прибытия высоких гостей, сейчас без вопросов накрыли бы столы всему комсоставу, до подпоручиков включительно. Но здесь же кастово структурированное общество…
Известно, что кванги с удовольствием употребляли любую нашу пищу, за исключением мясной тушенки, пили, что нальем, хотя и в меньших дозах. Мы тоже за проведенный среди них месяц от голода и желудочно-кишечных расстройств не страдали.
Разложили и выставили все, что у нас с собой было, закурили и стали ждать хозяина, обсуждая «текущий момент». А обсудить было что. Самое главное – дуггуры гоняются за нами или мы за ними? Такое ведь тоже нельзя исключить. Занимаются существа своими делами, в наши не влезают, а мы им – все время напоперек. И их акция в Барселоне – не более чем естественная реакция на возникший раздражающий фактор. А что по времени эти события соотносятся самым необычным способом, так Олег к случаю вспомнил рассказ автора, фамилию которого мы не смогли вспомнить. Ну, тот, где один из главных героев слегка перепутал измерения. То есть мог свободно перемещаться во времени, но был жестко связан пространством, и оно для него сокращалось, как для нас время, по мере течения жизни. В юности ему была открыта, предположим, вся Европа, а к старости остался лишь один квартал города, но на миллионы лет в любую сторону.
– Что и есть «последний довод короля» – линять нужно к чертовой матери, пока нас в похожую позицию не поставили. Буквой «зю», как говорил дедушка моего однокурсника, – благодушно произнес разомлевший в тепле Шульгин, испытывающий, как и я, глубокую релаксацию после физического и эмоционального напряжения. Не верьте, что мысль о грядущем перевоплощении способна нейтрализовать у человека европейской ориентации естественный страх перед конкретной, здесь и сейчас, смертью. А смертей вокруг нас сегодня полетало ровно столько же, сколько чужих пуль.
Тема развития не получила, поскольку явился Сехмет, с восхищением уставившийся на накрытый стол. Подружиться-то мы с ним успели и вели себя всегда на равных, учили, чему могли, испытывая подсознательное уважение к инопланетянину, выучившему наш язык. Да ведь и дома, встречая иностранца, хорошо говорящего по-русски, россияне склонны проникаться к нему симпатией, даже если это агент ЦРУ. Особенность национального менталитета.
А Сехмету до сих пор было странно, после долгой разлуки – особенно, как это генералы стараются угодить майору, или даже полковнику, не важно. Другой на его месте немедленно начал бы наглеть, есть примеры, он же, наоборот, проникся еще большим почтением.
Увидев наши фляжки и помня, что в них содержится, он немедленно притащил кожаную, литра на три, посудину местного вина. По стилю и качеству ближе всего к портвейну, только не из винограда оно производилось, а из неизвестных нам гидропонных растений. Чуть ли не из особого рода грибов.
Достаточно быстро мы его и собственное настроение привели к нужному знаменателю и потребовали подробностей. О потерях среди их бойцов не расспрашивали, нас интересовали вопросы стратегические. В применении к местным условиям.
Сашку, впрочем, сильно заинтересовала судьба нашего танка, брошенного в дикой степи.
– Мы его отбуксировали в город. Заводить мотор я не позволил, подвели под гусеницы лыжи и так дотянули.
– Почему не позволил? – удивился Шульгин.
– Ты говорил – моторесурс нельзя расходовать зря. И горючее. У нас солярки нет…
Чудо, что за человек. Нам бы таких побольше. Случайно услышанное руководящее указание превращается в завет. Именно так!
– Стоит в специально построенном помещении. Доступа к нему нет никому, кроме меня, «знающего».
– И что же ты, брат, «знаешь»?
– Когда придет последний час, я смогу его завести и поехать. Снарядов в нем осталось только пять, но мощь их превосходна. А потом, как говорил амбинантасиндрану Алексей, «броней и гусеницами», до победы или славного конца.
– Совсем молодец, – восхитился Сашка. – На таких, как ты, держится любая держава. Эрго – бибамус! А насчет снарядов нужно подумать. Ты к нам в форт с тех пор не летал?
– А почему?
– Я не смею. Это – ваше. Нельзя.
Вот опять ксенопсихология. Нельзя, и точка! А снаряды к пушке «Леопарда» у нас на складе были. С полтысячи разных типов. И коробок с пулеметными лентами десятка три. Шульгин, заполучив боевую единицу, не мог не позаботиться о «ЗиПах» и боекомплектах. Руководствуясь здравой мыслью: «Вдруг машинка у Олега сломается, и нам что, к натуральному хозяйству возвращаться?»
Но это опять же сейчас не важно.
Я предложил перестать отвлекаться на частности и послушать рассказ Сехмета с самого начала. Или конца нашей эпопеи, что однозначно.
…После того как мы с Берестиным исчезли, похищенные с поля боя Дайяной и ее сотрудниками, Сехмет доставил Шульгина на своем дирижабле в форт. Высадил и, слава богу, не задержавшись, улетел обратно, что избавило его от встречи с десантом аггров. Они бы его летательный аппарат сбили, не почесавшись. Походя. Но он успел. Вернулся, доложил по команде обо всех подробностях дела. Вариант с назначением его «переводчиком по Генеральному штабу» отпал сам собой, по причине исчезновения необходимости в такой должности.
Исследование поля последнего сражения не дало ничего. Аггрианские бронеходы, как ранее сжигаемые бомбами с воздуха, так и расстрелянные тяжелыми танковыми снарядами, никакой полезной информации дать не могли. От них просто ничего не оставалось, кроме в той или иной мере раздолбанных корпусов. Ни малейшей пищи для размышлений.
Кванговский генералитет, по-прежнему осторожный, дал команду исследовать с воздуха прилегающую территорию километров на триста во все стороны, но и там врага обнаружено не было. На этом, кстати, заканчивался радиус дальности полета дирижаблей. Дальше кванги проникать не захотели, подобно китайцам, предпочитавшим не вылезать за пределы исторических границ Срединного царства.
Война была сочтена выигранной. Впервые за всю историю. И снова у них началась монотонная, непонятная нам жизнь. Не зря я бился, пытаясь выяснить, по марксистским канонам, способ производства и производственные отношения этой странной цивилизации. То есть, конечно, наоборот, бился я зря, потому что выяснить не удалось ничего. Их мирок существовал исключительно для поддержания неведомо когда достигнутого уровня, и ничто другое их просто не интересовало. Как в нашем Древнем мире и раннем Средневековье. Тысячи лет ездили на телегах, не сообразив, что можно не то чтобы подшипники изобрести, а просто салом или дегтем втулки осей смазывать. И ничего, обходились. Кванги продвинулись чуть дальше, до эпохи пара, на чем и успокоились.
А может, именно так и надо – жить, чтобы жить, остальное – от лукавого.
Такой парень, как Сехмет, среди своих был исключением. Психологически. Прочие руководящие чины, с какими нам пришлось общаться, тоже отличались развитым интеллектом, но желания выходить мыслью за пределы давным-давно очерченного круга у них не возникало. И невозможно посчитать, какие тысячные доли процента вероятности свели его с нами, чтобы он получил необходимый для своих мозгов стимулирующий заряд. Его цивилизации, увы, ненужный и неинтересный.
Повышенный в чине, назначенный, в пересчете на нашу терминологию, командующим округом (в благодарность за заслуги и одновременно чтобы в столице голову своими идеями не морочил серьезным людям), он целых полгода готовил вверенные ему части к войне неизвестно с кем. Читая по ночам, при свете ацетиленовой лампы (до электричества кванги додуматься не успели), наши справочники и боевые уставы.
«О, воин, службою живущий, читай Устав на сон грядущий, а также, ото сна восстав, читай усиленно Устав». Я представить не мог, что и этот шутливый стишок, написанный то ли Денисом Давыдовым, то ли еще кем-то из его современников, Сехмет запомнил, как один из библейских заветов.
И, по нашим понятиям, обиженный ссылкой в дальние края (а по их, возможно, и нет), муштровал своих подчиненных со всем усердием. Что всем прочим командирам могло показаться ненужной блажью.
Однако неожиданно пригодилось, более того – спасло.
Появились пресловутые «ахамбовомбе». Как положено – ниоткуда. Точнее – оттуда же, откуда приходили аггрианские «бронеходы», на самом деле бывшие всего лишь передвижными установками для перемещения межвременной границы. Но об этом я уже писал раньше.
Причем появление их повергло мирных, по своей натуре, квангов в шоковое состояние. Если «ракообразные» аггры оперировали на границах страны и, кроме отважных пилотов, никто с ними в огневой контакт не вступал, то эти вели себя намного хуже, чем немцы на оккупированных территориях. Те, по крайней мере, людей не ели, обходились стандартными «кура, млеко, яйки». А эти ели, ели живьем! Сехмет, не меняясь в лице, просто передавая заслуживающую внимания информацию, достаточно подробно рассказал, где, когда, как и сколько.
Шульгин, иногда бывающий слишком эмоциональным, на этот раз не сказал ничего, просто посмотрел на Олега очень выразительным взглядом.
– Когда же они появились? – спросил я.
– Примерно месяц назад. Стаями в сто и более голов они, не пользуясь никакими машинами, стали прибегать с юга и юго-запада. Это было очень страшно. Очень похоже на нападения «сахамбовонге» (это они так наших «суперкотов» именовали), но тех никогда не было больше десятка, и они не имели страшного оружия. Огнестрельного!
С огнестрельным мы Сехмета познакомили, и с артиллерийским, и с ручным. Нарушив, естественно, все законы прогрессорства, усвоенные в ранней юности и тогда же признанные дурацкими. На примере «Трудно быть богом». Неужто, с точки зрения земных координаторов проекта, мечи, которыми рубят людей в капусту, или топоры «серых штурмовиков» гуманнее хорошего пистолета?
Вот и подошел момент, чтобы Шульгин, выпив очередную стопку, спросил у Сехмета о пистолете и разорванной кобуре. Загадка ведь, пусть и не из главных.
– Это было так. После первых набегов мы решили развернуть здесь еще одну передовую базу. На этом направлении их у нас не было. Когда мы только подбирали для нее место, осматривали, ре-ко-гно-сци-ровали (Сехмет медленно, но правильно произнес это слово), я послал в разведку небольшой отряд во главе с…
На своем языке Сехмет проговаривал бесконечно длинные слова очень быстро и невнятно, потому имя (или звание) офицера я с ходу не воспринял на слух.
– Я дал ему с собой твой пистолет. Чтобы в случае чего он смог стрелять по-настоящему. Восемь патронов – больше, чем одна стрела ружья.
Наивная вера инопланетянина в мощь человеческого оружия. Он видел в деле танковую пушку и вообразил, что пистолет может нечто подобное. Тем более что мы, как выяснилось, по глупости, иногда называли пистолеты жаргонным термином «пушка». «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется…»
– Дальше… – холодным тоном спросил Шульгин.
– Там, где вы нашли «это», – ответил Сехмет, доставая из своей полевой сумки кобуру, – мои солдаты встретили трех «ахамбовомбе». Странно, потому что мало. Но они все равно напали первыми. Любой, кто видел их лицом к лицу, говорит, что ужаснее ничего не бывает в жизни…
– Почему? – вмешался Олег. – Чем же они страшнее «сахамбовонге»? Я видел тех и других. «Суперкот», по-моему, злее и агрессивнее.
– Не знаю, не могу сказать. Сахамбовонге – просто звери, мы их знаем много тысяч лет. «Ахамбовомбе» – по виду люди, но от них исходит страшный дух…
То, о чем говорил Шульгин, Антон и прочие, – «отвратительный запах мысли».
– Продолжай, – попросил я.
– Наших было семеро, – сказал Сехмет. – Они выстрелили все, но наповал убили только одного «монстра», как вы их называете. Двое растерзали остальных, будучи пробиты стрелами. Но, наверное, не в те места, что нужно. Фиоранцаниора (теперь он повторил имя медленнее) выстрелил из пистолета семь раз прямо в лоб напавшему на него. И убил, но тот успел ударить его два раза. По голове и сбоку. Поэтому там кобура и осталась. Третий монстр тоже издох, а офицер вернулся. Доложил о том, что было, и вернул мне «восьмерку». С одним патроном, как вы видели. Теперь у меня есть еще, спасибо, Александр, умирать подождем…
– «Так помирать нам рановато, есть у нас еще дома дела», – не слишком музыкально пропел Сашка, – этих патронов я тебе мешок привезу. Заводи свой аппарат, и рванем в форт. Заодно и посмотрим, что там и как. Не добрались ли и туда монстеры…
– Успеем, – охладил я его азарт. – Пусть Сехмет закончит доклад. Мы услышали, что монстры появились внезапно, месяц назад и с южного направления. Дальше… Что случилось за месяц в вашем общем военно-политическом положении?
– Могу сказать то, что известно мне. Совет ранхаги, возможно, обладает более обширной информацией, они должны изучать положение во всей широте, но до таких, как я, доходят только прямые приказы, иногда – сообщения об успешных действиях других гарнизонов.
Ну да, закрытая феодальная структура, при полном отсутствии средств массовой информации. Приказы и слухи, передаваемые при случайных личных встречах офицеров соседних гарнизонов. А обычные горожане скорее всего вообще понятия не имеют, что идет очередная война.
– Они продолжают появляться едва не каждый день. Это напоминает набеги диких животных, я уже говорил. Разумной цели в их поведении не видно. Скрываются в лесах, нападают оттуда на пути перевозки гражданских грузов, на небольшие гарнизоны. Из своих огнестрельных устройств иногда сбивают одиночные дирижабли, если экипажи теряют осторожность и летят низко. Мы тоже стараемся их выслеживать и уничтожать. По вашему опыту для охраны городов и коммуникаций начали создавать «ополчение». Инженеры приступили к изготовлению стреляющих с помощью пороха орудий. Самых простых, гладкоствольных картечниц. Такую пушку, как на танке, воспроизвести пока не могут.
– Долго еще не смогут, – вставил Левашов, – целый этап технологической революции…
Одним словом, совершенно никакого стратегического замысла в действиях монстров не просматривалось, исходя из слов Сехмета. Почему бы и нет? Какой может быть общий замысел у стай хищников, гонимых природным катаклизмом или нашествием более сильного противника? Сейчас они оказались на населенной территории, которую восприняли не в виде «объекта колонизации», а просто пищевого ареала.
Эта же мысль пришла в голову и Сашке.
– То есть вы не наблюдали случаев, чтобы они как-то использовали захваченную технику или пытались закрепиться на захваченных территориях?
– Нет. Но как раз сегодня в их действиях обнаружилось новое. Раньше они не пытались с такой яростью и упорством штурмовать укрепленную базу. Той обороны, что я построил, получив сообщение, что в нашу сторону движется большая «орда», хватило бы, чтобы остановить их на дальних подступах. Но они не остановились, и я потерял почти половину бойцов первой линии. Не подоспей вы, я отдал бы приказ на эвакуацию…
– Мы всегда успеваем вовремя, – не то констатируя факт, не то недоумевая по этому поводу, ответил Шульгин. – Знать бы только, зачем и почему.
Не вдаваясь в мировоззренческие вопросы, Сехмет предложил нам осмотреть образцы трофейного оружия.
– Обычно после бомбовых ударов оно сгорает вместе с владельцами, но несколько раз мы захватывали эти «пулеметы» неповрежденными. Только использовать его не смогли. В наших руках оно не работает. Сегодня оружия захвачено много, вы поможете понять, как оно действует?
– Да запросто! – возгласил Шульгин. – И не в таком разбирались…
– Тогда пойдемте.
В ангаре на длинном верстаке было свалено десятка три митральез, примерно однотипных. Издали можно принять за старые «Льюисы», но еще массивнее и тяжелее, около двадцати килограммов. Отличались они количеством стволов, у большинства – шесть, у некоторых семь. Сошек нет, то есть предназначены для стрельбы с рук или с упором на окружающие предметы. Для переноски снабжены своеобразной сбруей из широких, синтетических на вид ремней, охватывающих шею и оба плеча. На ходу, конечно, стрелять с таким приспособлением удобно, но в критической ситуации быстро от нее не избавишься. Приклад сделан по форме деревенского ухвата, горизонтально, чтобы упирать в бицепс, а не в плечо.
Задача сложной не казалась, что тут особенного? Два квалифицированных оружейника-любителя и инженер-универсал любое механическое стреляющее устройство земного происхождения должны разобрать и собрать с завязанными глазами. Ну, пусть оно – продукт неизвестного разума, значит, придется работать с открытыми. Однако самонадеянность наша оказалась чрезмерной. Только на первый взгляд предложенный нашему вниманию «пулемет» показался достаточно простым и даже примитивным. Вроде бы все понятно. Связка из шести стволов калибром восемь с десятыми миллиметров, внутри ее – цилиндрический магазин шнекового типа с поочередной подачей в каждый ствол. Патроны чуть меньше наших промежуточных, безгильзовые. Ударный механизм отсутствует, воспламенение электрическое, от размещенной в прикладе не слишком большой батареи. Автоматика – без всяких газоотводов, по принципу использования энергии отдачи с коротким ходом ствола. В целом уровень конструкторской мысли примерно соответствует двадцатым годам ХХ века.
Хитрость заключалась в том, что ни один из осмотренных нами образцов действительно не работал. Даже и в наших опытных якобы руках. Поначалу мы грешили на батареи. Но не могли они разрядиться все сразу! Только что монстры вели огонь, а как выпустили из рук – абзац. Не стрелковое оружие, а дубина.
– Это теперь к тебе вопрос, – сказал Сашка Левашову, раздраженно отодвигая очередной «машингевер». – Ясно, что они придумали некий предохранитель. Какой? На биотоках, телепатический, электронный?
– Будем искать. Не исключено, что в каждого монстра вживлен какой-нибудь датчик, активизирующий систему. Допустим, только когда хозяин держит пулемет в руках. Индивидуальный для каждого или однотипный, что скорее. В бою должна быть возможность взаимозаменяемости стрелков и оружия…
– Вот и ищи.
Олегу долго искать не пришлось. С помощью не совсем подходящих для тонких манипуляций кванговских инструментов он скорее разломал, чем разобрал приклад, и в специальном гнезде, рядом с аккумулятором, обнаружил то, что нужно. Штучка в половину спичечной коробки, заделанная намертво, в момент изготовления. Замены ее и обслуживания не предполагалось.
– Увы, это наш последний успех. Выяснить, каким образом это действует, – возможности не имею. Может быть, в Замке, с его методиками…
– А неглупо, совсем неглупо, – сказал Шульгин, вертя в руках «предохранитель». – Очень похоже, что дуггуры-морлоки надежно подстраховались. С одной стороны, отобранное у монстра оружие автоматически инактивируется, противник им не воспользуется, а с другой – его наверняка можно отключать дистанционно. На случай бунта, например…
Мы расковыряли еще несколько пулеметов, и все «предохранители» Олег упрятал во внутренний карман.
– Удастся притащить домой, помаракуем на досуге.
– Будь у квангов хоть какая электротехника, можно б эту хрень запросто обойти, – выдал я на поверхности лежащую идею. – Не так уж трудно подобрать напряжение и ток, чтобы патрон воспламенить…
– Если бы у бабушки были колеса… Чем возиться, проще перекинуть сюда с тыщонку обычных «АКМ».
Спорить не с чем.
Убедившись, что даже мы ничего с трофейным оружием поделать не можем, Сехмет не расстроился. Может быть, в глубине души ему претила мысль принять на вооружение вражеские устройства.
Раз мы продолжаем находиться на Валгалле, скорее реальной, чем вымышленной, и Удолин нас не вытаскивает обратно, значит, все идет по плану. Свою миссию мы пока не выполнили или – функцию не исчерпали. Будем продолжать.
– Ты можешь выделить нам двойку дирижаблей? – спросил я Сехмета. – Надо заняться серьезной разведкой. Не понимаю: почему вы до сих пор этого не сделали? Не крутиться вокруг собственных баз, а сесть на хвост одной конкретной стае и наблюдать. Следы ведь на снегу издалека видны. Не прекращать поиска, пока не установите, куда уходят и откуда приходят. Параллельно организовать преследование по земле. Широким фронтом, загоном. Десять, пятнадцать тысяч солдат привлечь, дивизию дирижаблей, пару сотен снегоходов. Гнаться за ними до самого главного логова, есть же оно у них! Где патронами снабжаются, где раны зализывают… Не с неба они, черт возьми, падают… – в запале сказал я и тут же осекся.
Да вот так оно скорее всего и есть. Не с неба, конечно, а способом, аналогичным нашему. Сквозь какое угодно число произвольно открываемых тоннелей. Только зачем? Какой смысл? Где Земля и где Валгалла? Сафари себе устроили? Между прочим, мысль дурацкая, как раз для американских фантфильмов, но объясняющая почти все.
Для существ с другим устройством мозгов и психики, тех же и квангов, привычка богатых землян лететь самолетом (а раньше плыть пароходом) на другую сторону планеты, чтобы, подвергаясь смертельным опасностям и бытовым лишениям, пострелять антилоп или львов, которых они даже есть не будут, ничем иным, как абсолютной глупостью, выглядеть не может.
Сехмет немедленно это и подтвердил. Мы знали, что они до предела пассивно относились к той войне, что им приходилось вести против аггрианской ползучей экспансии, и сейчас ничего у них не изменилось.
– Я научился понимать людей намного лучше, чем другие, язык выучил, книги читаю, но и я понимаю вас не до конца. Мы никогда не идем навстречу опасности, предпочитаем ждать на месте. По-своему вы правы, да. Прошлый раз и сегодня вы сражались так, как на пороге своего дома. Вы не боитесь делать риск, не боитесь умереть за чужих. Если есть много сил, много привычки к войне, готовность к «самопожертвованию», правильно? У нас все не так. Начальники не разрешат мне посылать дирижабли искать врага неизвестно где, пока он сам не нападает. Если он нападет в другом месте, когда мы тоже будем в другом, кто станет виноватым? Я. Зачем это? Если нужно, мы погибнем там, где назначено, и никто не обвинит…
– Ладно, бросаем старые разговоры. Вам не нужно, нам – тем более, – с досадой махнул рукой Шульгин. – На Земле тоже было достаточно наций и народов, которые на все забили и до сих пор существуют. Не изведав славы, но выжившие без особых душевных терзаний. Я, если выйдет, привезу тебе пачку книг по истории. Ты уже дозрел. Затворишься в келье и займешься созданием собственной философии…
– Нет, так тоже не верно говоришь, – начал горячиться Сехмет. – Я буду помогать вам. Я знаю, обществу пора меняться. Я не один такой. Только вы останьтесь, помогите…
– Декабрист, блин, – суфлерским, только мне слышным шепотом, скорее одобрительно, чем иронически, прокомментировал Шульгин.
– Смотри, вот карта… – Сехмет протянул лист, охватывающий вверенный его корпусу сектор и прилегающую местность километров на двести окрест. – Здесь я могу решать, не спрашивая ранхаги. Куда полетим, покажи…
Поводив аналогом нашего карандаша над своеобразно изображенной местностью, Шульгин чуть было не ткнул в место, которое нас влекло, но я его остановил:
– Обождем немного.
– Давай, мы сейчас поедем к себе, отдохнем, посоветуемся, с утра и решим все. У тебя наверняка сейчас своих дел выше головы. Ты наш дом видел, он тут не далеко?
– Не видел. Где?
Сашка указал расположение избушки.
– Нет, туда мы не дошли. В стороне от полосы контроля. Интересно, совсем рядом. Если бы знали, там базу начали ставить, тоже место хорошее. Вы там жили? Давно?
Как ему ответить? Сказать – вчера, еще больше удивится. Сказать – давно, не поверит. Ответил обтекаемо.
– Построили давно, а вчера вдруг показалось – надо посмотреть, что здесь творится.
Уклончиво выстроенная фраза, в расчете, что не во всех нюансах языка и психологии Сехмет разбирается, как надо.
Он кивнул.
– Прикажу, отвезут. Можно машину оставить с вами, чтобы утром сразу приехали.
– Договорились.
В своем, пусть и не нами построенном домике ночевать гораздо спокойнее, чем в палатке инопланетян. Не та степень приватности, проще говоря. Храпят они или нет, меня не волнует. А вот мысль, что в глубоком сне может когтистая лапа разорвать брезент рядом с твоей койкой, и не успеешь вскинуть ствол – эта вероятность (немалая, кстати) полноценно отдохнуть не позволит.
А здесь – достаточно прочные стены и верный, разумный сверх обычного пес, охраняющий подходы.
Я лежал, закинув руки за голову, когда Сашка с Олегом уже задышали легко и медленно. Немножко я им помог, вовремя переведя обычный по сложившейся ситуации разговор в плавную мысленную глиссаду, уводящую в спокойные, наполненные романтическими воспоминаниями сны.
Еще одно, решающее подтверждение, что все в реале происходит. Эфирные проекции в сне не нуждаются.
Нащупал в темноте пачку сигарет на столе, прикурил от «Зиппо», коснулся краем ладони лежащего рядом пистолета. Хоть что мне говорите – успокаивает.
Успели мы кое о чем поговорить, остерегаясь при этом сказать лишнее. Что считать лишним – отдельная тема.
Мог бы и я сейчас уснуть с полным удовольствием, но что-то не дает. Чувство долга или обостренное чувство тотальной опасности.
Что мы пытались уяснить для себя или транслировать вовне?
Я попробовал, не касаясь тех сфер сознания, которые могут вольно или невольно соединиться с полем мыслей Удолина, выстроить очередную мыслеформу. Рельефную модель происходящего сейчас на Валгалле. Совсем локальную, касающуюся текущего момента. Причем – текущего только для меня.
Самой первой мыслью и самым первым побуждением было – погрузившись в летательный аппарат, за пять-шесть часов добраться прямо до нашего форта. Радиуса хватит, еще и останется. Снова увидеть знакомые, почти родные места. Запастись оружием для себя, загрузить снаряды и солярку для танка… Просто разобраться, в какой временньй нише мы сейчас пребываем.
…Сильвия заманила меня из своей английской виллы на Таорэру в конце двадцатого года, и когда мы с ней прилетели в форт, там прошло меньше месяца после его эвакуации, состоявшейся, условно говоря, зимой тысяча девятьсот восемьдесят пятого. Да почему условно? Последний свободный переход в Москву Левашов организовал незадолго до Нового года. А вот следующий раз уходили ребята уже не в нашу Москву, а прямо в Замок при помощи Антона. После этого была произведена диверсия с взрывом информационной бомбы, вследствие чего аггрианская Вселенная была оторвана от «нормальной». Наше перемещение из Замка в Крым, произведенное там изменение реальности тоже каким-то образом отразилось на «синхронизации» времени Земли и Валгаллы. Далее, чтобы помочь мне выбраться из сплетенной Дайяной и Игроками паутины, на Валгаллу снова отправился Сашка, и мы с трудом, но пробились.
После этого Шульгин еще трижды побывал в форте, один раз в собственном облике и два – в шестаковском. Эти перемещения совершались из тридцать восьмого года, но, как и прежние, приводили практически в одну и ту же точку тамошнего времени, с разбросом максимум месяц.
И, наконец, совсем недавно мы почти в точности повторили первый рейд на Главную базу Таорэры, преследуя Дайяну с Лихаревым. Вот там, судя по экспансии нормальной растительности в бывшую «зону обратного времени», наверняка прошло не меньше года…
Мы выдержали почти невозможную ментальную схватку с Дайяной, использовавшей уцелевшую психотронику. Даже Сашка с Олегом поплыли, а Ирина фактически сломалась.
Без доли остаточного ужаса я не могу вспоминать картинку, когда Шульгин бессмысленно улыбался, Левашов сцепил зубы, не понимая, что с ним происходит, но инстинктивно сопротивляясь давлению, а Ирина (моя Ирина, в которую я верил беззаветно) начала опускаться на колени, протягивая руки к Дайяне, и просить у нее прощения…
Не знаю, как мне удалось это пережить. Очень хотелось отпустить поводья, и – будь, что будет. Спасла только «белая обезьяна».
Никто потом не хотел вспоминать финал абсолютно неприятной для всех (кроме меня) истории, но и я, последний герой, не хотел вспоминать тем более. Весь в белом, и так далее… А чего сохранение фрака в чистоте стоило мне, кто-нибудь знает? Что такое чувство спускового крючка под пальцем, если сердце сжимает страх и обида и невыносимо тянет сделать единственное, полусантиметровое движение! Все, все вокруг предатели, включая любимую женщину и самого старого друга! Еще бы совсем чуть-чуть, и Дайяна моими руками решила бы все проблемы! Нет, не передать…
Очередное переплетение лент Мебиуса.
Сейчас мы, исходя из слов Сехмета, угодили на полгода, примерно, позже того, как Шульгин-Шестаков переправил в форт семью наркома и Власьева.
Что из этого следует? Считая время условно-линейным, Шестаков без матрицы, но с унаследованной от «драйвера» памятью за прожитое здесь время вместе с лейтенантом и еще с кем-то (здесь немедленно всплыл образ Дайяны, зачем-то организовавшей «тройственное совещание» с псевдо-Шульгиным и настоящим Лихаревым) вполне могли создать загадочную инфраструктуру. Не построить, это вряд ли, а именно создать.
И вот теперь что-то нас привело сюда. Мои мысли чисты, действительно. Словно снежное поле, простирающееся до горизонта. Что мы сделали? Мы оставили Дайяну на их базе, как Айртона на острове Марии-Терезии. В целях воспитания. Лорд Гленарван приплыл за пиратом через семь лет. Мы решили, для начала, дать ей год. Пусть, мол, поживет на своей Таорэре, где мы уничтожили по указаниям Ирины и Сильвии все механизмы, подходящие для внепространственных перемещений. Соберет своих уцелевших «курсантов», устроит «коммуну имени Антона Макаренко».
А что мы знали и знаем на самом деле?
Объявленное намерение разыскать и ликвидировать «инкубаторы», где выводилось и воспитывалось до двадцатилетнего, по нашему, возраста, около двухсот аналогов Ирины, Сильвии, Валентина, осталось, естественно, просто угрозой. Сильвия заверила, что, разрушив все, включая самодельную «машину времени» Лихарева, мы полностью устранили возможность возвращения Дайяны на Землю. Этой Дайяны. Лихарев из тридцать восьмого тоже остался там, скорее всего – навсегда, раз стерта даже возможность предыдущей развилки. И все же, все же… Отпущенный год, очень может быть, как раз и прошел, и некто направил нас сюда, чтобы не забыли случайно.
Потолок казался очень низким, давящим, печка источала чрезмерное тепло. Захотелось встать, выйти на крыльцо, глотнуть морозного воздуха. Что я и сделал немедленно. В сенях подскочил со своей подстилки Лорд, ткнулся носом мне в бедро, совсем тихонько гавкнул. Куда, мол, ты и зачем?
Я потрепал его мохнатый загривок.
– Ты, парень, что? Неужели разумный, как мы раньше для себя собак придумывали? Слова понимаешь или мысли?
Пес сделал вид, что не понял вопроса, подтолкнул меня к двери. «Собрался идти – иди».
Я вышел. Снова начинался ветер, несущий густую поземку. Если так пойдет, через час-другой мы получим ту самую пургу, которая гнала Шульгина с Лордом к пресловутой хижине-доту.
Но пока ничего, просто приятно смотреть на полосами летящий мимо снег.
– Расскажи мне, Лорд, – спросил я, почесывая его за ухом, – откуда ты взялся, что здесь делаешь? Ты вообще собака, или робот, или воплощение не знаю чего?
Пес потерся о мою ногу, сбежал с крыльца, осмотрелся, принюхался, вернулся. Ни по-русски, ни на ином языке, включая телепатию, не ответил. Но по его уверенному виду чувствовалось, что опасности поблизости он не ощущает и что за второго хозяина меня признает. Уже приятно. Тем более всей доступной мне силой психолокации я не мог уловить ни одной исходящей от Лорда негативной эмоции.
Глава двадцать первая
Нам повезло тогда, в самом начале, когда Левашов нащупал своей установкой в безбрежности пространств нашу Валгаллу. Проход на нее открылся летом, которое в широтах, где мы оказались и где построили форт, ничем не отличалось от лета в Костромской или Вологодской областях. Но длилось едва ли больше четырех месяцев. Весна и осень – по две-три недели. Остальное – зима. С морозами до минус сорока и очень частыми снежными бурями. Одним словом, не райский уголок в духе картин Шишкина, а натуральная Якутия.
Просто мы не успели прожить здесь полного года, да и проблемами планетографии с метеорологией заниматься было некогда. Рассчитали продолжительность суток и угол наклона оси к плоскости эклиптики, на этом и успокоились.
Отчего я удивился, осознав, что вьюжной зимой мы встретились с Сехметом (допустим, в местном январе) и в ту самую погоду попали через семь месяцев, хотя это должен был быть август. Но выглядел февралем, в лучшем случае – северным мартом.
Пока мы летели в сторону аггрианской базы, до которой по прямой было около четырехсот километров, кванг разъяснил нам эти и некоторые другие тонкости климата территории, где обитали кванги. Вообще настолько пассивного и нелюбопытного народа я раньше и представить не мог. Располагая техникой, во многом превосходящей уровень середины XIX века, они о Валгалле знали немногим больше древних иудеев, освоивших только пустыни и кусочек побережья Средиземного моря.
Их государство более-менее контролировало территорию, площадью меньше Франции, а дальше простиралась «Терра инкогнита», где вполне могли располагаться десятки других изолированных и замкнутых на себя «полисов» той же самой или совершенно иных рас. А то и грандиозные империи, на других континентах, если они есть. А если нет? Человеку трудно вообразить планету, лишенную морей и океанов, но ведь теоретически такое возможно?
Смешнее всего, что и аггры, устроившие здесь свою базу, происходившим за пределами завесы «обратного времени» особенно не интересовались. Раздвигали понемножку границу своего «купола» в целях расширения ресурсного пространства, и все. Земля их интересовала больше, чем громадная неосвоенная планета. Впрочем, это можно объяснить тем, что им просто не хватало мощностей для создания защитной сферы по верхним границам атмосферы.
Но сейчас это тоже не важно.
Мы летели над бескрайними заснеженными лесами, просторными долинами, где могли бы разместиться многочисленные города и поселки, замерзшими реками и пока не видели внизу никаких следов деятельности, просто присутствия монстров или их хозяев-партнеров.
– Вот, – говорил Сехмет как бы в свое оправдание. – Ничего нет. Мы много раз так летали. Кто знает, вдруг они, услышав звук наших моторов, закапываются в снег и так пережидают?
– Так ваши турбины почти бесшумные, – ответил Шульгин.
– Для вас, привыкших ездить на танках. В зимней тишине я могу услышать летящий дирижабль раньше, чем увидеть. У ахамбовомбе слух, наверное, не хуже.
– Все может быть, – согласился Левашов. – Если потребуется, подкинем сюда инфракрасные масс-детекторы. Это такой прибор, позволяет хоть под снегом, хоть ночью в лесу различить за несколько километров живое существо, узнать его размеры и вес. Зайца с кабаном не спутаешь.
– Тогда уж сразу ракеты с тепловыми головками наведения, чего мелочиться… – сказал Шульгин.
– Нам это пригодится, – подтвердил Сехмет.
– Больше всего вам пригодился бы наш, человеческий общевойсковой корпус со средствами усиления. Тогда б спокойно еще лет двести прожили по формуле Емели: «На дворе мороз, на печи тепло».
– Кто такой Емеля? – заинтересовался Сехмет.
– Это у нас такой национальный герой. Очень возможно – ваш отдаленный предок…
За нескучными разговорами четыре часа пролетели незаметно. Дирижабль гораздо более комфортабельное средство передвижения, отметил Сашка, хорошо помнящий условия трансъевропейского перелета на старинном бомбардировщике. И посетовал, что после гибели «Гинденбурга» земные цеппелины сошли со сцены.
– Историческая ошибка, пожалуй. Летали бы себе не спеша и не тратились на всякие «Боинги» и «ТУ-144». Часом раньше, неделей позже – какая разница…
Километров за тридцать до расчетной точки Шульгин предложил подняться на предельную высоту и до предела приглушить движки, раз они такие шумные. К цели по ветру подтянемся.
– Что для вас – предельная? – спросил командир дирижабля, которому Сехмет перевел его слова.
– Для нас, в смысле возможности нормально дышать, тысяч пять метров, в крайности – шесть. А по техническим возможностям?
– В этих же пределах, но мы так высоко не летаем. Незачем.
– Ну, давай хоть на четыре. Если там локаторов кругового обзора нет, подползем незаметно, тогда и сориентируемся.
Судя по прошлому опыту, когда наша диверсионная группа без помех проникла на функционирующую в штатном режиме базу, никакими средствами дальнего обнаружения «настоящие» аггры не обладали. Если сейчас там окопались Дайяна и, как я предполагал – «другой» Лихарев, их технические возможности лучше прежних быть не могут. А вот если они вступили в союз с дуггурами или те подчинили их своей воле – кто его знает.
Но Удолин по-прежнему себя никак не проявлял, значит, тревожную черту мы не перешли. И могли забавляться дальше.
Погода благоприятствовала. Небо затягивали мрачные тучи, достаточно высокие, потолком около трех километров. Раскраска дирижаблей идеально им соответствовала, а если войти в нижний ярус, то для нас видимость вниз сохранится, пусть и не слишком четкая, мы же станем визуально неразличимы.
Ветер гнал дирижабль со скоростью километров в тридцать. Второй, ведомый, держался метров на сто выше и сзади, в пределах зрительной связи. Поскольку радио кванги не придумали, то обходились, как раньше на земных флотах, сигнальными фонарями типа ратьеровских, с ацетиленовыми горелками и системой линз, концентрирующих и направляющих луч достаточно далеко.
В случае чего поддержит огнем или постарается подобрать с земли уцелевших. Это дело у них отработано.
Наши бинокли с регулируемой кратностью, от шести до двадцати, были неизмеримо лучше кванговских зрительных труб, и Левашов, увидев что-то, предостерегающе поднял руку.
– Ложись в дрейф…
Манипулируя винтами, горизонтальными и вертикальными рулями, пилот почти остановил свой летательный аппарат.
Я тоже высунулся по пояс наружу, сдвинув панель бортового окна. Щеки сразу обожгло ледяным воздухом. На ходу вытерпеть его дольше нескольких минут было бы затруднительно.
Сквозь широкие разрывы в нижнем облачном ярусе отчетливо обозначилась гигантская наклонная шестеренка главного корпуса базы. А вокруг нее, как раз между грядами моренных [80] валунов и основанием здания – шевеление, если не сказать – кишение множества существ. Тех самых, естественно. Их там было несколько сотен, и перемещались они наверняка целенаправленно, но не по-человечески. Нормальные люди ходят либо строем, если принадлежат к вооруженным силам и находятся в расположении части, либо – по собственному усмотрению. А здесь не то и не другое.
– Вот и пожалуйста, приходи, кума, любоваться, – вспомнил Шульгин старинное присловье. – Давай вверх, – скомандовал он Сехмету.
Дирижабль легко взмыл в непроницаемую толщу туч. Я торопливо задвинул стекло.
– Что, господа, какое будет решение? Бомбовой удар с пикирования или?..
– Какой там удар? – дернул щекой Сашка. – Чего мы тогда вообще сюда перлись? Оптимально так – высаживаемся километрах в пяти, с той стороны, что и раньше подходили, там рельеф удобный. И потихоньку вперед. Понаблюдаем. Чем черт не шутит, по третьему разу внутрь заберемся. Чует сердце, эту пакость сюда Дайяна пригласила. В Москве-пять мы им рога пообломали, они теперь с другого конца пробуют…
Я думал точно так же.
– Сехмет сажает дирижабль вот здесь, на поляне. Против ветра, на корпус, тут же якорь в землю и швартоваться тросами к деревьям. Спокойно без мачты удержится. Второй продолжает барраж. Ждут нас часа три, предел – четыре. Выйдет по-нашему – ракету дадим. Не вернемся – пусть взлетают, бомбят по площади и мотают домой. Бог поможет…
– А как же вы? – возмутился кванг.
– Ерунда. Не бери в голову. Как-нибудь вывернемся. Есть способы. Лорда береги. Мы его с собой не возьмем. Будет тебе верный дружок и память о нас… А скорее всего, я за ним все равно вернусь. Хоть с того света…
Понятие о «том свете» для Сехмета заключалось в мире, из которого мы приходим и куда уходим, чтобы снова появиться в самый нужный момент. Поэтому он молча кивнул, смиряясь с неизбежным.
Пес, весь полет проспавший под задними сиденьями, насторожился и поднял голову. Намеченный расклад ему не нравился. А как иначе? Там, куда мы собираемся лезть, собаке, даже почти разумной, делать нечего. По скобтрапам и отвесным стенкам лазить природа не приспособила.
Шульгин присел возле него, обнял за шею и начал что-то шептать ему в высокое, настороженно пошевеливающееся ухо. Телепатией успокаивал или просто доходчивыми словами, не важно, но Лорд тяжело, почти по-человечески вздохнул, махнул хвостом и снова заполз в дальний угол гондолы. Видно было, что его переполняет чувство протеста, но – хозяин лучше знает, кому и что делать.
Патронов и гранат у нас снова был полный носимый комплект. Все, что имелось в хижине, забрали. Двадцатимиллиметровых сигнальных ракет по пять штук. Они хоть и сигнальные, но при выстреле по горизонтали шагов на пятьдесят убойность стопроцентная.
Дирижабль аккуратно, без толчка, коснулся днищем гондолы гладкого и глубокого снегового покрова.
Уже пристегнув лыжи, я протянул Сехмету свой бинокль.
– Держи. Опять же – на память. Тем более, большому начальнику полагается. Раздолбаем это осиное гнездо, тебе еще пару звездочек подкинут. Генерал станешь. И – при бинокле. Такого ни у кого больше нет. Верно?
– Вы лучше возвращайтесь. Я без бинокля проживу.
– Вернемся, нет – он все равно твой. И кобуру почини. Красота ж ведь – на пузе «парабеллум», на шее бинокль. Местные дамы штабелями попадают… Мы тебе еще камуфляж и лаковые сапоги со шпорами подарим.
С неба снова густо повалил снег крупными хлопьями. Как по заказу. Нам прикрытие, и дирижабль скоро присыплет так, что за километр от холма не отличишь.
Пробежав половину расстояния до первого намеченного рубежа, остановились.
– Диспозицию, братцы, предлагаю такую: мы с Сашкой впереди, интервал двадцать шагов, Олег сзади, на той же дистанции. Сейчас сосредоточимся, постараемся создать «шапку-невидимку»…
Шульгин это умел, и у меня не раз получалось. Снова мыслеформа, но обращенная вовне. Ничего сложного – окружающая среда и свойства пространства деформируются совсем немного. Ровно в той мере, чтобы внешний наблюдатель, если он не биоробот, просто не мог фиксировать в сознании ни зрительных, ни каких-либо иных сенсорных ощущений, каким-то образом нас касающихся. Смотрит, но не видит, слушает, но не слышит. Как поглощенный собственными мыслями человек не замечает тысячу раз виденных деталей уличного пейзажа в своем квартале. А если вдруг и захочет сосредоточиться, должна у него в мозгах произойти некая интерференция, или же – психологическая сшибка. Свежая информация будет погашена всем объемом предыдущей, не пробьется через фильтры.
И не более. Ни малейших активных посылов, способных насторожить неприятеля усилением даже «белого шума». Ну а Шульгин вдобавок внесет совсем незначительный корректив в «логику случайного», как делал это в Испании.
Конечно, мы понятия не имеем о ментальных структурах дуггуров, даже Замок не сумел в них разобраться, но то, что рассказывал Шульгин о барселонских делах, обнадеживало. Их психическая защита (и агрессия) совпадала по частотам с теми, на которых работал человеческий мозг. Она была ощутима, временами сильна, но достаточным усилием воли преодолевалась. Вот и поглядим, что у нас сейчас выйдет.
Маршрут мы избрали прежний. Во-первых, другого мы все равно не знали, а во-вторых, Дайяне, Лихареву, или кто там всем распоряжается, просто в голову не придет такая степень нахальства. Третий раз идти тем же фарватером!
Нефритовые валуны – последняя опорная позиция, где в случае обнаружения нас монстрами можно обороняться с шансами на успех. Дальше – вытоптанное пространство, воняющее не только ментально, но и физически. Идея самых примитивных групповых отхожих мест в местах дислокации явно не входила у дуггуров в число базовых. Гадили эти ребята немедленно по потребности, как обезьяны, и вы себе можете представить общую картину. По минным полям идти страшнее, но не так противно.
Олег подтянулся к нам, и мы укрыли его защитной завесой.
Закурили. Мы с Левашовым по сигаре, а Сашка трубку. Спешить совсем некуда, а думается, пока ароматный, насыщенный никотином и его близкими синергистами дым согревает душу, намного лучше. Чего обычно человек просит перед расстрелом, если ему дают такую возможность? Закурить напоследок. Мы почти в том же положении.
До ближайших монстров было не больше сотни метров, и мы впервые могли наблюдать их «а натюрель». Во встречном бою – это совсем другое дело. Там – голая (в буквальном смысле, поскольку штанов они не носили) функция, настроенная исключительно на убийство. А тут, вне боя, совсем непонятно, что они такое и чем занимаются.
Справа, не очень далеко, возвышалось подобие купола, мерцающего и подрагивающего, будто кастрюля холодца, вываленного на вибростенд.
– Опять «медуза», – прошептал Левашов, – только раз в десять больше…
– Межвременной транспортер? – предположил Шульгин.
Монстры сновали между «медузой» и парадным входом в аггрианскую базу, которым нам ни разу не довелось воспользоваться. Обходились вентиляционными каналами и технологическими отверстиями.
Самое же интересное – от «медузы» они отправлялись налегке, а из «шайбы» возвращались тяжело нагруженными. Неизвестного назначения контейнерами различной формы и цвета. Монотонное, ритмичное движение этих существ напоминало механический бег муравьев, добравшихся до сахарницы. Или же – китайских кули, обслуживающих зашедший в Шанхай европейский пароход.
– Грабят, что ли? – удивился Левашов. – А что грабить? Мы ж там были – нечего…
– Кому как. Кому и кобыла невеста. Но факт налицо…
Факт действительно имел место. Вдобавок сотни монстров, ничем внешне не отличающихся от тех, с которыми мы вчера сражались, были безоружны. Рабочие отряды, значит? А те, с пулеметами, – фуражиры? Сами на подножном корму и этим приносят…
– Хватит, покурили, – сказал Шульгин, выбивая трубку о ладонь. – Похоже, нас ждут впереди большие неожиданности…
– Был бы сейчас под руками обычный «Василек», дать по этой «медузе» на весь боекомплект и посмотреть, что запоют… – с необычной для него кровожадностью мечтательно произнес Олег.
– Чего мелочиться, «Василек»… Он скорее не пробьет. Вот из «Леопарда» осколочно-фугасным! – возразил я.
– Успеется, – обнадежил нас Сашка, и мы двинулись вперед, к неизвестной цели.
Но что же все-таки можно в подобном количестве таскать с аггрианской базы? Разве что…
Я отогнал эту мысль как временно неуместную.
Стараясь не сближаться с колоннами монстров и не ступать на загаженную ими территорию, мы уклонились сильно влево и вышли к основанию базы там, где снег намело косыми застругами и его девственная белизна не была нарушена ни единым следом.
Сейчас подниматься вверх Шульгину было куда труднее, чем летом. Мало что пальцы мерзли, так и швы между плитами местами забило снегом, местами – ледяными натеками. Но не зря же он не просто альпинист-скалолаз, а еще и ниндзя, обученный перемещаться по вертикальным поверхностям. Вдобавок время не ограничивало, и имелись при себе три десантных ножа из лучшей, не уступающей легендарным булатам стали. И маршрут как-никак – знакомый, дважды пройденный. Мыслеформа, наверное, тоже оберегала, страховала от ненужных случайностей.
За ним, с помощью позаимствованного у Сехмета шнура с ввязанными через полметра деревянными перекладинами в ладонь шириной (аналог наших штормтрапов), поднялись и мы с Олегом.
На крыше базы стало гораздо легче. Ветер пытался сдуть непрошеных гостей со скользкой наклонной плоскости, но это все же не отвесная стена, тем более там и тут торчали многочисленные трубы, прямые, дугообразные, коленчатые.
Предводительствуемые Сашкой, добрались до цилиндрического тамбура, с так и заклиненной прошлый раз в полуоткрытом положении входной диафрагмой. (Реализм просто потрясающий. Или мы все-таки в реале.) Спустились в просторную камеру, из которой вниз вели сразу три овальных окна. После резкого ледяного ветра здесь было тепло и почти уютно. Дальнейший путь известен, неприятных неожиданностей на двух первых третях не сулит.
Сделали по доброму глотку из фляжек, закурили перед последним броском, чего по правилам внутри занятого врагом помещения делать не полагалось. Но уж больно хотелось, нервы у всех не железные. Да и дым мощной тягой сразу уносило наружу, где он рассеивался без следа в пошедших волнами снеговых зарядах. Будто по заказу.
– А вовремя мы, – сказал Левашов, – погодка то – о-го-го какая затевается. Задуло, как в Мурманске. Сейчас бы хрен ты, Саша, по стенке залез…
– Не берусь спорить, – умиротворенно ответил Шульгин и сделал еще глоток. – Отдыхаем полчаса – и вперед, за орденами…
Вышли на верхнюю площадку пандуса, спиралью вьющегося вдоль внутренней стены центрального ствола станции. С этой частью базы мы были достаточно хорошо знакомы по прошлым посещениям, а вот внутренняя планировка самого шестиэтажного «барабана», общей площадью своих помещений не уступавшего исследованной нами части Замка, оставалась неизвестной. Операция по спасению наших с Берестиным тел разворачивалась на нижних уровнях громадного зала, «машинного», как его условно назвали. О месте расположения комнат, где нас вербовала Дайяна после пленения и где потом принимала меня с Сильвией, догадаться было невозможно даже приблизительно. «Ничто посередине нигде».
Единственное, куда мы сейчас могли уверенно направиться, не боясь заблудиться, это тот командный пункт тире оранжерея, в котором разыгрался заключительный акт драмы «последних аггриан». Или трагикомедии – как кому посмотреть.
Об этом же сказал Шульгин, пока мы стояли, как витязи на распутье, направив вперед и вниз стволы карабинов.
– Вроде все нормально, привыкли уже, а сейчас вдруг вспомнил, как здесь с Дайяной и Лихаревым схлестнулись и как с ним же в Москве работал. Снова ощущение хорошо темперированного бреда накатило. Вам проще, у вас все достаточно линейно, хоть и с зигзагами, а вот мне… Не соображу теперь, что на самом деле раньше было. По времени, конечно, сначала тридцать восьмой, а потом КМВ-2005, а я помню как бы наоборот. Сначала мы здесь с ним разделались, а уже после этого – Москва, Кисловодск, Сталин, Испания и дуггуры…
– Ничего, утрясется, – пообещал я Сашке. – Конвергенция памяти сама все по местам расставит. Сейчас, пожалуй, по свежести восприятия тридцать восьмой действительно ближе… А вот Лихарев… Того, кто поучаствовал в деле с дуггурами в Москве, скорее всего просто нет. Когда мы отыграли назад, остался единственный, сбежавший от Сталина. И так далее…
– Я на досуге сам все переклассифицирую… Теперь предлагаю направить стопы в сторону командного пункта. Найдем что, не найдем – будет от чего плясать.
– Пошли. Ребятам внизу явно не до нас…
Монстры, шевелящиеся на первых уровнях, избытком любопытства не страдали. Даже не поднимали вверх голов, целиком поглощенные демонтажем нужных им конструкций и транспортировкой добычи наружу. Хотелось бы знать, где расположились руководители процесса. Мы их ауры пока не ощущали.
Как в детстве бывало, появлялось недостойное желание плюнуть кому-нибудь на лысину с балкона театра, так сейчас мучительно хотелось бросить вниз несколько «Ф-1», посмотреть, что дальше будет. А лучше, конечно, еще одну информационную бомбу, чтобы и эту публику вычеркнуть из текущей реальности.
Но – пока рано. Да и бомбы у нас нет.
На всякий случай держась у внутреннего края пандуса, чтобы даже случайно не попасть кому-нибудь на глаза, мы спустились на четыре полных витка вниз. Вот он, тот самый коридор, ведущий к последнему убежищу Дайяны.
Вошли, отодвинув дверь, прошлый раз сломанную Олегом. Сейчас она была целой. Починить ее ничего не стоило, это так, но нужно, чтобы нашлось, кому чинить. Или чтобы ее вообще никто не ломал. То есть мы пришли сейчас раньше, чем уже приходили?
В зале тоже мало что изменилось. Бездействовали экраны и подобия компьютеров, вились по стенам и колоннам лианы и прочие декоративные растения. Как стояли, так и стоят столики, кресла, кушетки, секретеры, иная меблировка и изделия народного творчества аггрианской или любой другой из подконтрольных им цивилизаций.
Следов недавнего пребывания Дайяны и Лихарева не видно. Для постоянного проживания они могли избрать гораздо более комфортабельные и привлекательные места, тот же тренировочно-воспитательный лагерь для будущих координаторов. Но и особого запустения не чувствуется. Все в той же поре.
– А вот мы проверочку сейчас и произведем… – со странной интонацией сказал Шульгин. – Ничего она скорее всего не докажет, но все-таки…
Он раздвинул густую завесу подобия земного плюща, разделяющего «зону отдыха» пополам, повозился там, издал возглас, то ли торжествующий, то ли удивленный, и возвратился, неся за ствол лихаревский «маузер-96». На магазинной коробке глубокая косая борозда, след пули.
– Совсем ничего не доказывает, – откомментировал находку Олег. – Разве что экранизация произведена чрезвычайно близко к тексту. «Настоящего» Валентина мы на Землю отпустили, при нас он пистолет не подбирал, а если тут «другой» появился, он о нем знать не знал…
– Это верно, – согласился я. – Другой бы не знал. Но так у меня в мозгах все перепуталось, что я сейчас сообразить затрудняюсь, о ком вообще мы речь ведем. Отчего не предположить, будто с Валентином та же история случилась, как прежде с Сашкой? С нами вернулся «подменыш», дубль, а исходный так при Дайяне и остался. Помнишь, Лариса говорила, что он стал какой-то не такой? Кураж потерял, всего опасается…
– Очень может быть, – кивнул Шульгин. – Зачем меня и его Дайяна в форте свела, без всякой осмысленной цели, до того, как я со Сталиным Испанией занялся? Меня это вопрос тогда еще мучил. Сошлись втроем, поболтали ни о чем и разбежались. Что-то она для себя важное решала… Искусственную развилку организовывала? Тогда и двойная подмена нормально выглядит. Один Лихарев бежит из тридцать восьмого в ноль шестой, легализуется, второй остается при ней, здесь, на базе. Потом с первым она затевает московскую интригу, второй по-прежнему в резерве. А когда мы их здесь прищучили, она запасного «сдала», он вернулся в Кисловодск, а с первым продолжает…
– Или наоборот, – прекратил я совсем ненужный сейчас ретроанализ. Сказал Олегу: – Ты лучше на электронику посмотри, вдруг она на ходу? Подозреваю, сии экраны могут иметь отношение к внутренним системам слежения…
– Посмотрю…
Шульгин, присев на пуфик, сосредоточенно ковырялся в начинке пистолета. Это уже как болезнь – какой бы огнестрел ни попал в руки, первым делом разобрать-собрать, убедиться в исправности, при необходимости и возможности – починить. А эта вещица по-своему историческая.
– Ничего страшного, – объявил он вскоре. – Рабочий. Только коробку подрихтовать, пружину с подавателем клинит…
Он спрятал пистолет в боковой карман ранца.
Мы сидели, курили, наблюдая, как Олег возится перед длинным пультом управления, что-то бормоча себе под нос. Явно что-то получалось: несколько экранов уже засветилось. На наше счастье, основные принципы совпадали с теми, что Лихарев использовал в самодельном хроногенераторе, да и с полученной от Ирины техникой Левашов научился обращаться в незапамятные времена. Как известно, разнообразием инженерных решений аггры не блистали, прогресс у них (как и у квангов, кстати) не входил в перечень актуальных понятий. Это, пожалуй, только мы, земляне-европейцы, такие неуемные! Не наигрались еще…
– Есть… – удовлетворенно выдохнул Олег, – нашел, похоже!
Но не успели мы к нему подойти, чтобы убедиться, что именно «есть», как голос его изменился.
– Кранты нам приходят, ребята! К бою!
Вскочил, подхватывая карабин, щелкнул предохранителем.
Мы повторили его движение, разворачивая стволы к дверям. Краем глаза на одном из экранов я увидел перспективу коридора и мчащуюся, явно в нашу сторону, дружную толпу монстров. Вооруженных. Числом не менее десятка.
Черт его знает, что случилось! Расслабились мы и ментальную защиту отпустили, или включение компьютеров где-то немедленно зафиксировалось, отозвавшись сигналом тревоги, но факт остается фактом. Недолго пришлось ждать, чтобы реализовать абстрактный душевный порыв.
– Гранаты к бою!
Шульгин автоматически принял командование на себя, имея на то полное право и опыт обороны отеля «Альфонс».
Страха как такового не было, Удолин нас выдернет даже из мертвых тел. За одним исключением – если базу не накроет или уже не накрыло непроницаемым колпаком. Можно попробовать катапультироваться прямо сейчас, да вроде недостойно. Если бы пресловутые гумилевские капитаны и конквистадоры при первой опасности бросали пистолеты и шпаги, обращаясь в бегство…
Мы привыкли руководствоваться несколько другими принципами.
Никому наше геройство не нужно, кроме как лично себе, для самоуважения. А там кто его знает…
Стены и двери для обороны здесь явно не приспособлены. Ударом обычной человеческой ноги вышибить можно.
– Ребята, задержите их немного, а я сейчас, тут где-то запасной выход. На схеме вижу, – крикнул Левашов.
Мы с Сашкой приоткрыли дверь, слегка, на полметра. Нормально. Времени в обрез, но хватит. Кольцо из гранаты долой, и «ноль раз, ноль два» – вдоль пола, как шар в кегельбане, под ноги набегающим монстрам. Следом другую, третью, четвертую. Рывком назад и на пол, под прикрытие силовых щитов.
Рвануло в коридоре мощно, слитно, почти единым залпом. Четыре тяжелых металло-керамических «ФГ-44» (из арсенала 2056 года), с разлетом осколков в поле до двухсот метров, наверняка учинили в тесном коридоре хорошую мясорубку. Да и ударная концентрированная волна, впятеро превышающая по мощности родной тротил, кое-что может. Как любил говаривать дед: «Это вам не у Проньки!»
На всякий случай Шульгин выбросил в дверной просвет пятую. Вдруг кому не хватило.
Ударило еще раз, шальной осколок свистнул над головой, зазвенел металл подвесного потолка. Накинуло тошнотворным запахом, и не только взрывчатки.
– Ребята, сюда! – донесся из глубины зала голос Олега.
– Давай, Андрей, я за тобой. – Сашка, никогда не упускавший лишнего шанса, торопливо пристраивал к двери гранату, установленную на мгновенное натяжное действие. Глядишь, лишнюю минуты выиграем, а то и больше.
Видеокамеры или иного типа датчики в коридоре от взрывов тоже пострадали, но не все. Экран продолжал давать картинку, перекошенную, мутную, но главное он сообщил. Я не бывал на чикагских скотобойнях времен Драйзера, однако общее представление имелось. Стены в крови, лужи крови на полу и горы только что забитых, полуободранных туш. Хорошо, запахи телевизор Дайяны не передавал.
Времени у нас теперь навалом. Видать, у дуггуров под руками оказалось только это «отделение», брошенное в бессмысленно-отчаянную атаку на противника, успевшего доказать свои боевые качества. Закрадывалась мысль, что нет у них между собой никакой связи и о вчерашнем бое перед аэродромом они сведений не получили, а барселонское побоище – вообще из другой оперы.
Нам же лучше.
На императорской трибуне Колизея сидит какая-то сволочь и за всеми игрищами с удовольствием наблюдает. Слава богу, непосредственно не вмешивается. Или – вмешалась, когда захотела, вчера или пять минут назад, а все ныне происходящее – только последствия.
Олег стремительно перемещался вдоль задней стены зала, ощупывая ее обеими руками. Иначе обнаружить искомое было бы затруднительно. Вся она была выложена изломанными металлическими панелями, отполированными до уровня венецианских зеркал. В целом выглядело, как фасеточный глаз стрекозы, составленный из разной кривизны элементов. Уродливые отражения наших фигур, ставших до отвращения похожими на коренных, «неочеловеченных» аггров из прежнего персонала станции, мелькали и кривлялись от пола до потолка. Вдобавок за счет их мультиплицирования в обращенных друг к другу под разными углами гранях число перекошенных рож, раздутых или, наоборот, извилисто-тонких тел самой невероятной геометрии конечностей стремилось к бесконечности. От этого рябило в глазах, к горлу подкатывалась тошнота.
Что это за хреновина, и какой в ней смысл?
После будем разбираться.
Левашов пытался найти врезанные в это безобразие потайные двери, обнаруженные на схеме. Точнее, сенсорные панели, управляющие их механизмами.
Мы с Шульгиным повернулись к зеркальному хаосу спинами, держа карабины на изготовку.
– Слушай, а неплохо придумано, – сказал вдруг Сашка. – Маскировка – класс. Мы же сейчас – кусочки загадочной картинки. С десяти шагов не различишь, кто есть кто. Особенно если самим скакать и дергаться. Водопад впечатлений. Хрен угадаешь, в кого целиться…
– Для человеческого глаза, – уточнил я. – Инфракрасным зрением очень даже угадаешь…
– Все! – крикнул Олег.
Он стоял у раскрывшегося в стене многоугольного темного отверстия, два на два метра, если считать по крайним точкам. Сама дверь на тонких коленчатых рычагах поднялась вверх, подобно птичьему крылу.
– Заходим?
– А разве есть другие предложения? – и тут не удержался от уточняющего вопроса Шульгин.
– Ты схему с компьютера убрал? – озаботился я.
– И убрал, и запомнил. Так пошли?
Напоследок я прислушался. В коридоре по-прежнему было тихо. Кто его знает, действительно нас обнаружили «элои» или «морлоки-стражи» взяли наш след самостоятельно и кинулись преследовать чужаков инстинктивно. Проголодались на посту, а мы вкусно пахнем. Квангами, например. Или – «человечий дух» сам по себе обладает для них гастрономической привлекательностью, а то, напротив, вызывает слепую, нерассуждающую ярость, как запах спиртного у пчел.
Мы от интеллектуалов ментальным полем прикрывались, а чтобы подходящими дезодорантами запастись – в голову не пришло.
Дверь бесшумно стала на свое место, и в коридоре тут же загорелся свет. Слава богу, здесь стены были нормальные, светло-серые, покрытые чем-то вроде земного, слегка пупырчатого линкруста.
– Знаешь, куда пойдем и куда придем?
– По схеме это один из радиальных коридоров, пересекающий пять равноудаленных кольцевых, по всей окружности барабана. В узлах пересечений должны быть лифты или междуэтажные пандусы.
– А что на этажах?
– Простите, господа, их системе легендирования планов и карт не обучен. По аналогии могу судить, что залы, подобные вон тому, – он указал большим пальцем за спину, – имеются на каждом. И еще несколько объектов показались мне заслуживающими интереса…
– Как ты вообще на эту схему так быстро выскочил?
– Объяснять дольше, чем сделать… Методом научного тыка, если угодно.
– Ага, – кивнул Шульгин, забрасывая ремень карабина на плечо. – Обезьяна с первого раза напечатала «Войну и мир».
– Это точно, – согласился я. – Не пришло в голову, что она тебя, эта схема, именно тебя ждала? Ты подошел, она и включилась. Первый раз, что ли? Дорожка на Валгаллу самый первый раз не так открылась? Воронцов тогда намекнул, что, если б ты для самопального СПВ не микросхемы от компьютера, а старый ламповый «ВЭФ» использовал, эффект был бы аналогичный…
– Не исключено. – Разговор на эту тему Олегу удовольствия не доставлял. Как бы принижал его инженерный гений. Это он зря, конечно. Машинку он придумал самостоятельно, и она определенным образом работала задолго до того, как началась история с Ириной. Но и с тем, что, как только она взялась его консультировать и поделилась секретами Шара и прочего, нам стали доступны бездны пространства и времени, тоже не поспоришь.
– По железной дороге, в какую сторону ни поедешь, обязательно окажешься на следующей станции и, как правило, с буфетом, – процитировал Сашка еще одно высказывание Дмитрия. – Сейчас нам тоже не остается ничего другого…
Перебрасываясь остротами и колкостями, мы шли вдоль коридора, в стенах которого не наблюдалось дверей или люков. На перекрестке остановились. В центре снизу доверху тянулась шахта очередного спирального пандуса, огражденного тонкими двойными перилами. Вправо и влево круто изгибалась овальная труба первого внутреннего кольца. Прямо – продолжение коридора, казавшегося чересчур длинным, сравнительно с внешними размерами станции.
– Все направления к нашим услугам. Куда? – вежливо спросил Шульгин.
– Я бы предложил на пару этажей вверх и вернуться в центральный зал, – сказал Олег. – Посмотрим, что там. А без толку кружить – не вижу резона. Принимается?
Принимай, не принимай, все будет так, как должно быть. Пойдешь в Багдад, окажешься в Басре. И наоборот, соответственно. Если даже смерть помашет тебе рукой совсем в другом месте.
Сенсоры, безусловно, были настроены на Олегову ладонь. Неужели компьютер с одного раза запомнил его характеристики, признал за «своего»?
Дверь из коридора в новый зал открылась мгновенно. Мы вошли. Здесь интерьер был несколько другим. Стена без зеркал, никакой декоративной растительности. Зато панели с экранами, бессмысленно перегруженные тумблерами и кнопками пульты стояли аж в три ряда.
Чисто функциональный центр управления неизвестно чем.
Первым делом мы снова выглянули в коридор с противоположной стороны. Тихо и пусто. Оставшимися у нас гранатами Сашка заминировал его с обеих сторон самым хитрым, надежным, обеспечивающим неизвлекаемость способом.
А я, отпустив его в зал к Олегу, присел на пол, прислонился спиной к стене, от которой исходило легкое, но приятное тепло, и решил немного помедитировать. По собственной методике. Если общепринятая не приносит желаемых результатов, придумай что-нибудь другое.
Будто забыв, что Удолин от таких экспериментов настойчиво предостерегал.
Сначала, отталкиваясь от общеизвестной «алмазной сутры», начал медленно расширять круг восприятия, одновременно заслоняясь специальной завесой. Мыслей монстров я не чувствовал, в доступной мне сфере их не существовало. Или – не существовало как таковых. Если там не мысли в общепринятом понимании, а потоки импульсов, инстинктивно циркулирующих по замкнутым на себя нервным цепочкам и узлам, выход вовне им просто не нужен.
Несколько дальше фон становился чуть более внятным. Не вербально, перевести уловленное в слова или иероглифические символы все равно не получалось. Но кое-что я воспринимал. Приблизительно как знаток Вагнера, изучивший всю систему его лейтмотивов и контрапунктов, которыми новатор мечтал перевернуть и заменить не только музыкальный, но и общечеловеческий словарь, обозначить комбинациями звуков чувства и взаимоотношения, даже такие философские и отвлеченные понятия, как судьба, коварство, жажда власти, обреченность року, неистовая ненависть и столь же глубокая трусость… Все это и многое другое проникало сквозь меня, не задевая, но отражаясь…
Безусловно, я зацепил отзвуки совсем чужой интеллектуальной практики. «Элоев» скорее всего. Но с тем же успехом – «настоящих», не прошедших «гуманоидного кондиционирования» аггров, укрывшихся, допустим, в недоступных чужакам убежищах станции, не только внутри ее надземной части, а в разветвленных подземельях.
Почему бы и нет?
Под Одессой тысячи километров катакомб обыкновенные люди прорезали в толщах белого камня за сотню-другую лет, пользуясь только ручными пилами, зубилами и клиньями, а аггры с совершеннейшей техникой упражнялись здесь сотни веков, быть может. Имели время всю планету источить своими ходами…
А теперь они в полном ауте. Сначала Антон с нашей помощью достал их информационной бомбой, а теперь за оставшимися пришли куда худшие враги…
Да нет, не может быть. Я имею в виду не постройку катакомб, а наличие нестыкуемого с человеческим разума. Как бы они тогда программировали своих агентов? Дайяна, к примеру, сохраняя облик земной женщины, ухитрялась руководить персоналом станции…
Я попытался сузить и уточнить настройку на перехваченной частоте.
Что-то получилось. Внятного ответа я по-прежнему не услышал, зато отчетливее стал лейтмотив агрессии. Типа «кто бы вы ни были, мы все равно до вас доберемся и уничтожим!».
Я нашел хороший ответ. Вспомнил далекое послевоенное детство, то настроение юного берсерка из окрестностей Марьиной Рощи, с которым только и можно было бросаться на прорыв окружения местной шпаны. Сначала убеди себя, что готов швырять обломками кирпичей в головы, драться попавшейся под руку доской или обрезком трубы, вцепляться ногтями в глаза и зубами в горло – убеди яростью взгляда, визгом пополам с матом, вырвавшимся из горла. Тогда тебе поверят и побегут. Или молча расступятся. «Духарик, не связываемся!» И потом больше никогда не тронут.
Как можно отчетливее реконструировал то состояние, усилил его до последней крайности своими новыми способностями. Представил внутренним взором дуггуров-элоев в виде жалких, беснующихся трусливых существ, бандерлогов, и себя, сильного и свирепого, как проголодавшийся леопард. И – прыгнул со свирепым рычанием вдоль оси сигнала!
Вы не поверите – пришел немедленный отклик. На том же уровне смутных ощущений, но читаемый. Они не столько испугались и бросились с визгом врассыпную, как обезьяны, но здорово оторопели. Рассчитывали на что-нибудь другое, исходя из предыдущего опыта? Помнили о том, что наше оружие и умение им владеть уже нарушило кое-какие расчеты, но были уверены в своем сверхчувственном превосходстве?
А вам не приходилось слышать, как самые сильные маги Средневековья неожиданно для себя осознавали, с большим опозданием, что не только серебро и ветки омелы, но и рыцарский меч, стрела, веревки и кандалы, «испанский сапог», «железная дева» и в финале – костер оказывались сильнее чар и заклинаний. Эту идею я выбросил в пространство духа со всей страстью и напором.
Есть много средств борьбы населяющих мир существ и сущностей, однако опыт тысячелетий показал, что, как это ни прискорбно для высокого интеллекта, грубая сила и солому ломит. А бронебойная пуля летит быстрее, чем срабатывает заклинание, придуманное в другом мире, для совсем другого случая. Тротил, не говоря об эластите, детонирует со скоростью, тысячекратно превышающей темп передачи импульса от мозга к мышцам…
Ответный всплеск с той стороны показался мне отзвуком глубокого уныния. Или – разочарования.
Я, конечно, очень многое додумывал и трактовал в соответствии с присущими мне установками. Но ведь и любой человек, не впадающий в панику от тени опасности, сумеет, хоть в первом приближении, сообразить, глядя на облаивающую его собаку, что она имеет в виду.
Сейчас стало ясно – эта «собака» немедленно не бросится. Но перегибать палку, переступать некую незримую грань тоже не стоит. Если я выиграл пару темпов или качество, шанс отступить на свою территорию, не теряя лица, – уже победа.
Теперь бы хорошо очертить мысленный меловой круг, мол, я за него пока не выйду, но и вы не суйтесь, а то хуже будет…
Глава двадцать вторая
Я закрыл за собой дверь. Перед тем как приблизиться к терминалу, где Олег колдовал над пультом управления, а Шульгин с карабином на изготовку прикрывал его с тыла, обошел зал по периметру. Для меня – ничего интересного. То есть – никаких признаков повседневной жизни тех, кто трудился за этими машинами. Как это бывает у нас – там фотография жены или детей в рамочке возле монитора, там фривольная переводная картинка на ящике процессора, пепельница, полная окурков, следы от чашек кофе на столике, и тому подобное.
Здесь ничего, стерильная пустота. Скучный народ, нехристи, одно слово. А ведь отсюда наверняка осуществлялось слежение за работой сотен координаторов вроде Ирины и Сильвии, принимались сигналы с Шаров, выдавались рекомендации и задания. Разрабатывались миллионы комбинаций вроде той, что пришлось исполнять Берестину. «Не допустить в июле шестьдесят шестого года посадку в самолет старшего лейтенанта медслужбы Тихоокеанского флота», – это сколько нужно было вариантов протекавших на Земле событий просчитать, чтобы придумать именно такое МНВ?
А поддерживать границу «обратного времени», сформировать псевдореальность сорок первого года, перебросить Сашкину матрицу в древнюю Ниневию, обеспечивать функционирование столешниковской и неизвестного количества подобных ей квартир в разных веках и странах и так далее и тому подобное…
Невероятные мощности построены и задействованы. Ради чего, в итоге? Вмешались мы, и что теперь значит и стоит эта База?
Я усмехнулся, присел в не для людей сделанное кресло, достал сигарету. А ради чего люди строят гигантские, допустим, синхрофазотроны, отвлекающие от реальных дел сотни тысяч лучших специалистов, и энергии, достаточные, чтобы электрифицировать половину деревень Экваториальной Африки или зауральской России? Посмотреть, на какие части распадется какое-нибудь нейтрино, если вообще удастся его поймать?
Строят, работают, радуются, тратят немыслимые деньги, а появится вдруг полдюжины придурков с автоматами и запасом толовых шашек – и нету больше чуда науки и техники, остается огонь, дым, завалы покореженного железа…
И никакой, по большому счету, разницы, геростратов комплекс двигал разрушителями, возвышенная идея или хороший гонорар…
Э-хе-хе, грехи наши тяжкие!
Самое время глотнуть из фляжки.
Может, это контакт с горизонтом «элоев» так на меня подействовал?
Левашов наблюдал сразу за тремя экранами, по которым сверху вниз струились потоки ничего не говорящих ни мне, ни Сашке значков и символов. Уж хоть бы картинки какие, что ли. Однако Олег кое-что в них, кажется, понимал. Все ж таки любая аггрианская интеллектроника, которую он изучал целых пять лет, фактически полный институтский курс, устроена на базе одной с нами логики.
Чтобы не мешать, мы отошли в сторонку, и я рассказал Шульгину о состоявшемся «обмене любезностями». Он не слишком удивился, только высказал сомнение, дуггуры ли были «на той стороне провода».
– Ну а кто?
– Конь в пальто. При здравом размышлении, они такой же инструмент, как и все мы. Жаба хитра, но маленький хрущ с винтом много хитрее ее. Замок, допустим, считает, что моими руками оборвал связи с Сетью. На своем уровне «мышления». Как Наполеон и Гитлер считали, что после взятия Москвы Россия капитулирует автоматически. Один взял, другой – почти. А результат? Русские в том и другом случае пришли в Париж и Берлин, после падения которых капитуляция и состоялась. Вот и здесь…
Я понял. Сеть – это, в конце концов, механика. Невероятно сложная электронная машина, не один ли черт! А Удолин за много десятилетий до встречи с нами разработал собственные методики, позволяющие достигать сходных результатов, но абсолютно другим путем. Можно приехать из А в Б по автостраде на автомобиле или на танке, а можно – верхом на коне или велосипеде по лесным тропинкам. Зачастую выходит быстрее, и всегда – тише и дешевле.
Свободно укладывается в ту же логику вариант, что те, кто за нами наблюдает и нас использует, немедленно нашли свой обходной путь, через реальность дуггуров, в известных узлах Сети не обозначенную, но с нашей сопряженную. Сначала, по линии наименьшего сопротивления, в тридцать восьмой, оттуда в «отраженные мыслесферы», где скитался Шульгин…
Теперь тем же путем повел нас Константин Васильевич, и в предназначенной точке мы встретились. Для чего? Вопреки замыслу Игроков или следуя ему?
– Что там Олег нащупывает, – спросил я, отвлекаясь от надоевшей до оскомины темы.
– Ищет хозяев, конкретно Дайяну или хотя бы след…
Мне такая затея показалась безнадежной. На чужом компьютере, с чужим языком, не имея ни малейшей зацепки… И все же! Скажи мне кто-то раньше, что за несколько дней возможно по карандашному наброску Антона изготовить из подручных средств так называемый «дубликатор», который, став достоянием человечества, скорее привел бы к всемирной катастрофе, чем к всеобщему коммунизму, я бы долго смеялся.
Но когда сделали, никто не смеялся, восприняли как должное. Очень возможно, что именно в силу нашей тогдашней наивности и веры во всесилие инопланетного разума, взявшего нас под свое покровительство.
– Найдет, не найдет, мне, честно, почти все равно, – продолжал Сашка. – Основное я уловил, в смысле – ловить тут нечего. Неплохо бы и вернуться. Гори оно все огнем, а мы – на моря…
– Не помнишь, что нам Дайяна вкручивала? Как здорово будет всем погрузиться на «Призрак» и предаться круизным радостям жизни…
– Помимо нее, в третьей ипостаси Шестакова, не то ли самое тебе явилось?
– Ну! – с некоторым вызовом повторил он.
– И я самостоятельно, до того, как встретить тебя-третьего, думал о том же…
– А в десятом классе мы все трое думали только об этом, подчас забывая, что завтра контрольная…
– Осталось разобраться, с тех самых лет Игроки нам эту идею подсунули или сейчас архетипические воспоминания используют…
– Разберемся, если сначала с нами не разберутся, – ответил Сашка, странно меняясь в лице. – Напрасно ты им подраскрылся, ей-богу, напрасно. Кастет или велосипедную цепь в рукаве нужно держать до последней крайности…
За стеной, с обоих концов коридора сразу, бабахнули его минно-взрывные ловушки.
«…Слышишь взрыв на заре? Значит, снова товарищ ошибся», – мелькнула цитата из Анчарова. В его песне речь шла о нашем сапере, вообще о нас, в широком смысле, здесь – о чужаках. Туда им и дорога.
– Начали, – прокомментировал Шульгин, – отвлекающий маневр. Мы не поддаемся. Видели, знаем… Держись! – Раскрытой ладонью он указал, что держаться надо отнюдь не физически. – Держись, я Олега прикрою, – и метнулся назад, к пультам.
Ох, и ударило по мозгам, ох и ударило!
Завертелся весь окружающий мирок, с его компьютерами, стенами, потолками, внезапно увиденным извне гигантским корпусом станции, почти неотличимой от спираледиска на планете Железной звезды, который так и не сумели исследовать Эрг Ноор с товарищами. Не хватало, чтобы появился из-за нее зловещий Черный Крест.
Я вспомнил, как однажды ощутил себя пилотом сбитого истребителя, беспорядочно падающего к земле. Отвратительные впечатления – когда горит мотор, не реагируют элероны, рули высоты и направления, а главное, не удается сдвинуть фонарь! Злость, отчаяние, ненависть, все, кроме банального страха, и параллельно – успокоительная мысль, «потерпи еще минуту, и дальше – никаких проблем»…
Ага, ждите! Тогда вывернулся, сейчас – тем более!
Зал, со всеми его конструкциями, изгибало, скручивало, пыталось сломать, свернуть по осям иных измерений. Ушами или просто внутренностями я чувствовал треск, стоны страдающего металла, отдаленный торжествующий вой сонма врагов. Любых, всех сразу: того пацана, вернувшегося из малолетней колонии, с которым мы дрались едва не насмерть за статус, который он хотел обрести, а я удерживал в наших дворах; секретаря парткома посольства; чекистов Агранова; расстрелянных вчера монстров и других, потусторонних, запредельных, кому я перешел дорогу.
С тем же, наверное, лишенным и инстинкта самосохранения, и любых других рациональных чувств настроем, с которым Гастелло повел свой «ДБ-3ф» на немецкую колонну, я ответил.
Хорошо, остались в памяти частота и длина волны, на которой недавно имел последнюю ментасвязь. Вдоль этой волны я снова ударил, чем мог. Собственной психической силой, концентрированной по технике Удолина мощью «эгрегора», или… Я не знаю. Как учил меня давным-давно тренер: «Бей от плеча всей массой тела, но раскрытой рукой. Пальцы в кулак сжимай перед самым касанием…»
Так я и сделал.
Умей я что-то подобное в восемьдесят втором – за один раз вымел бы из джунглей всех «контрас», сколько их там было, вместе с советниками ЦРУ и прочими «добровольцами». Стал бы великим героем Сандинистской революции.
Сейчас я на окончательную победу не рассчитывал, понимал, что не по силам, но как следует дать «по мозгам» надеялся. Вообразил, что те, сидящие у генерирующих установок или без всяких машин излучающие шоковые импульсы, – нечто вроде подводных диверсантов, приближающихся к кораблю с подрывными зарядами. И я бросаю с борта глубинную бомбу. Глушу их, как рыбу, гидродинамическим ударом в несжимаемой среде…
Кого не убило сразу, всплывает вверх брюхом с порванными барабанными перепонками, лопнувшими от компрессионного перепада легкими…
Кажется, получилось. В ментальном пространстве воцарилась тишина. Тишина не та, что на лесной полянке жарким августовским полднем, совсем другая, как внутри затонувшего батискафа.
Мне показалось, что по краю сознания прошелестел довольный смешок Удолина. Отчего бы и нет? Держащий контакт некромант добавил к моей расторможенной ярости парочку изысканных заклинаний из арсенала «старых мастеров». Не зря же он собрал целую коллекцию эзотерических папирусов и пергаментов из хранилищ пресловутой Александрийской библиотеки, о содержании которых неоднократно пытался нам рассказать. Только вникать в тонкости «криптотеорий» египетских жрецов и иудейских каббалистов было недосуг. Слишком «довлело собственной злобы» [81].
Что тоже, несомненно, сыграло нужную роль. Мы вовремя продемонстрировали поражающую силу земной (и не только) техники. В Барселоне, Антоном при изъятии гомеостата, пулеметным огнем по первой «медузе», вчера в чистом поле и сегодня здесь. Иначе неприятель, не прибегая к агрессии в «сфере чистого разума», выпустил бы на нас сонмы тех жутких «ракопауков» и прочей агрессивной мелочи.
Но, к счастью, дуггуры руководствовались конфуцианской мудростью: «Воистину глуп тот, кто трижды спотыкается на одном месте». Они и решили не повторять прежних ошибок.
Посмотрим, что дальше будет…
Не хотел бы я «посмотреть» на случившееся в следующую секунду еще раз!
Прежней ошибки они не повторили, а, сосредоточившись или подключив иные интеллектронные мощности, врезали в ответ. По аналогу с боксером, вложившим всю силу в нокаутирующий удар, я от восторга на мгновение расслабился и пропустил встречный, в солнечное сплетение.
В глазах помутилось, пронзительная боль рванулась и вверх по позвоночнику, и вниз, в ноги, которые сложились, как пластилиновые. Это были чисто физические ощущения. Горячие железные пальцы сжали сердце и печень. Давясь рвотными спазмами, чувствуя, что толчки пульса то отдаются внутри черепа в темпе отбойного молотка, то прекращаются совсем, я уперся лбом и локтями в пол, из последних сил пытаясь сохранить сознание. Если потеряю – мне конец!
Едва не выдавил из глотки спасительное слово «Алярм», но что-то меня удержало. Собственная воля или посланный Удолиным импульс психической энергии.
Медленно, слишком медленно, однако начало отпускать. Интересно, закончил рефери считать до десяти или я успеваю?
Наверное, успел. Перевалился на бок, сел, опершись спиною о стенку.
Жив, опять и снова жив, мать их всех, братьев по планете и по разуму!
Физически я был слаб, как почти никогда в предыдущей жизни, как больной новорожденный младенец, но меня переполняла ненависть совершенно нечеловеческой силы. Куда там ярости при встрече с бандитами на углу Столешникова и Петровки в декабре девяносто первого! Там я был в хорошей форме, у меня был пистолет, Ирина, которую нужно было защищать, и совсем рядом – надежнейшее укрытие. Сейчас ярость и ненависть были иного плана – предсмертного. Победить я, может быть, уже не смогу, но задушить, а лучше перегрызть зубами глотку врага, захлебываясь его и своей кровью, – в состоянии…
Вся эта «война в эфире», похоже, оказалась моей личной войной. Кто первый высунулся, по тому и стукнули. Шульгин выглядел молодцом, что и подтвердил старинным жестом, сложив кольцом большой и указательный пальцы.
– Легкая зыбь, не больше, – сообщил он. – Я ждал Coup de maitre [82], а они – чижика съели! Ничего впечатляющего. В Испании куда хуже было, там они меня врасплох подловили. А ты как?
Я на доступных примерах объяснил, что произошло, не вдаваясь в подробности, как отвратительно себя чувствую. Жалуйся, не жалуйся – никакого толка. Помочь мне никто не сможет, даже и Сашка. От его специальности мне пользы не будет. Может быть, потом, в Замке что-то удастся придумать…
Дело в том, что я испытывал невероятную депрессию. Во много раз худшую, чем в молодости, когда случалось перебирать с друзьями лишку и утром просыпался в мучительной адреналиновой тоске. Знаешь, что причин для нее – никаких, безобразий вечером не совершал, в вытрезвитель не попадал, напротив, все было легко и весело, только вовремя не остановился…
Вот и сейчас, жизнь представляется омерзительной до невозможности, все вокруг окрашено в мрачные тона. Собственные поступки – бессмысленны, проводимая нами акция – глупа, жизненных перспектив – никаких, и лучше всего – разыскать бы укромное, уединенное помещение вроде охотничьей избушки, запереться в нем, выглушить пару стаканов водки, укрыться с головой одеялом и раствориться в гулком колышущемся безвременье, не просыпаться очень долго, лучше всего – никогда.
Спасением было лишь то, что я понимал происхождение депрессии и механизм ее воздействия на психику. Не раскисать, не поддаваться, намотать нервы на кулак и терпеть… Но, боже мой, как тяжело жить на этом свете! Зачем нам все это, за что мне все это?
– Ну-ну. Отбились, и ладно, – сказал Шульгин достаточно небрежно.
Значит, внешне я все-таки держусь прилично.
– Олег говорит, ему осталось дел на полчаса, от силы… Его эта атака совсем не зацепила. Не на него рассчитана…
Раньше чем через полчаса Левашов отодвинулся от пульта. Видно было, что он получил своеобразное удовольствие, как человек, удачно разложивший пасьянс. Никогда не понимал, что в этом интересного, в пасьянсах.
– Прошу: что мог, то и сделал, – сказал он. – Здесь было тщательно спрятанное послание, адресованное лично нам. Ничего сложного. Несколько мегабайт мусора, сквозь который нужно было продраться, просто не принимая во внимание. Элементарно. Толстая книга на чужом языке, а в середине, в расчете, что никто досюда не долистает, пара вполне понятных страниц…
– Но ты долистал? Другие могли сделать то же самое…
– Не могли. Для каждого свой путь. Там были только мне понятные намеки вставлены…
Вдаваться в подобные тонкости не было ни времени, ни, главное, желания. Сехмет, не дождавшись нашего сигнала, совсем скоро начнет выполнять приказ. А это было лишнее. Мы живы и здоровы, а он, не зная об этом, кинется в бой, и собьют его, к чертовой матери, без всякой пользы… И не останется у нас единственного здесь друга, на которого в случае чего можно рассчитывать.
– Что у нас в запасе?
– Минут сорок. Надо ему просигналить, чтобы улетал…
– Я вылезу на крышу, дам ракету, – предложил Сашка.
– Не гони лошадей. Успеем. – Олег встал, потянулся, прижал пальцами уставшие глаза. – Вот, читайте. – Он выделил нужный текст.
Письмо было от имени Лихарева и адресовалось всем нам, без персонального обращения. Написано достаточно давно, никак не меньше месяца назад. Тем Валентином, который должен был «сейчас» предаваться радостям жизни на своих Кавминводских виллах, без всякой привязки к своей иной реинкарнации. «Московской второй или Ворошиловской первой».
Не касаясь предыстории и эмоций, которые он мог и должен был в нашем отношении испытывать, чисто деловым тоном коллеги, связанного общим делом, Лихарев ставил Братство в известность, что, пользуясь существующими между Землей и Таорэрой «эфирными мостами», способными открываться для «проезда» в обе стороны не только аггрианскими блок-универсалами и нашей СПВ, на базу начали просачиваться ранее неизвестные существа. Дайяне, потом и ему, экстренно вызванному сюда, идентифицировать их не удалось, но появились они именно с Земли, не с какой-нибудь другой планетной или звездной системы. Ни в мирах Конфедерации, ни в аггрианской Вселенной подобная разновидность разумной жизни не зафиксирована.
Далее сообщались кое-какие сведения о био– и психологии монстров, нам уже известные, а также кое-что новенькое насчет «медуз», пилотами которых были как раз «элои», отнюдь не монстры.
Сами же «медузы» – вооруженные транспорты, каждый перевозит около двух сотен «солдат» и «рабочих». О «мелких гадах» Валентин не упоминал, зато предупреждал о необыкновенной мощи психотронного оружия, о которой они с Дайяной узнали «окольными методами», сумели поставить превентивную защиту, оставшись при этом вообще не замеченными.
Лихарев выражал надежду, что мы тоже в состоянии закрыть свой разум от агрессии, так же, как сумели устоять против атаки Дайяны.
Если мы это послание читаем, значит, так оно и есть.
С базы они перебрались в отдаленное и вполне безопасное место, где рады будут встретиться с нами и обсудить дальнейшие действия.
В постскриптуме он добавил, что имевшие между нами место недоразумения считает оставшимися в прошлом. Мы вновь союзники, иного варианта просто нет. Тут же указал способ, каким мы можем с ними связаться. В любое время дня и ночи.
Это уже чисто советская формула, из тех еще годов, которую можно было принять в качестве дополнительного пароля. Типа того, что никакие дуггуры, сумей они глубоко проникнуть в мозг автора и составить подобный текст, до этой фразы не додумались бы.
– И что будем делать, как реагировать? – видимо, чисто машинально спросил Левашов.
– Как будто у нас есть варианты… – равнодушно ответил я.
– Целых три. Прямо сейчас вернуться домой, добираться до дирижабля и дальше действовать по обстановке или – это… – сказал Олег.
Шульгин пожал плечами:
– Смешно. Когда мы с полдороги возвращались?
– А шагать, возможно, прямо в открытую мышеловку?
– Смешно, – повторил Сашка. – Хуже в любом случае не будет! Выходи на связь…
Олег посмотрел на меня.
– Другого выхода нет. Уйти мы и оттуда уйдем, коль живы будем…
Левашов повернулся к пульту. Перекинул, согласно инструкции, несколько тумблеров, запорхал ладонью над сенсорами странными, прерывистыми, похожими на судорожные, движениями. Расположенный прямо перед ним неправильно-овальный экран засветился. Прошло не больше минуты, и его передняя поверхность стремительно провалилась внутрь самой себя, открыв невероятно черную воронку, тут же заполнившуюся нежно-лимонным свечением.
Раньше внепространственные переходы через блок-универсал оформлялись иначе. Но и техника здесь другая, и свойства пространства-времени тоже. Или, может, это особая, защищенная от дуггуров линия?
У самой рамки экрана возник Лихарев, сидевший за таким же, как у нас здесь, пультом. Выглядел он, как при последней встрече, только одет в отливающую бронзой куртку с легким изумрудным оттенком, покроем напоминающую парадные генеральские кителя послевоенных лет.
– Привет, – радушно улыбнулся он, – добрались, значит?
– А что нам сделается? На земле, в небесах и на море…
– По-прежнему рад. Обстановка вокруг спокойная?
– В пределах допустимого. Только что отбили психическую атаку, – подпустил я двусмысленность. – Патроны еще остались, но задерживаться здесь не хочется. Гранаты кончаются. «Гости» продолжают старательно грабить базу, как вандалы Рим. Что они отсюда таскают?
– Это потом…
– А сейчас какие предложения?
– Прежние. Мы в нашем учебно-тренировочном лагере, это километров двести от вас. Место хорошо оснащенное и практически безопасное. Через внепространство вам пройти не удастся, мы его теперь не используем: враг тут же засечет. Решите к нам – придется лететь на нашем флигере. Это несложно, проще, чем на автомобиле. Я объясню… Ангары под станцией, спуститься можно лифтом, минуя открытые пандусы и машинные залы. Вас не заметят… Если пришельцы сами до ангаров уже не добрались.
– Придется своим ходом, координаты я укажу…
– Двести, говоришь? Приличный марш-бросок, за сутки не успеем…
– Других способов не имеете, что ли?
Лихарев знал, что кое-какими приемами перемещений, не связанных с использованием «портсигаров», мы владеем. Но не стану же я говорить, что мы вряд ли сумеем совершить дальнейшее перевоплощение, второго порядка, не разорвав окончательно связи с держащим канал Удолиным.
– Увы, так и есть. Разве что у квангов дирижабль попросить придется…
– Вот этого – ни в коем случае.
Снова он прав. За дирижаблем дуггурам проследить – раз плюнуть. Да и перед квангами раскрывать местоположение последнего, может быть, укрепрайона на планете крайне опрометчиво. Точнее – глупо.
– Хорошо, если с флигером не получится, тогда будем дальше думать… Излагай.
В расположенный на глубине нескольких десятков метров под станцией ангар (я не ошибся насчет предполагаемых катакомб) мы спустились беспрепятственно.
Как положено, после остановки лифта в нижней точке всюду вспыхнул достаточно яркий, но неприятный по спектру свет. Не вдаваясь в подробности, все вокруг напоминало обычную, рассчитанную на ядерный удар подземную военно-воздушную базу. В функциональном смысле, я имею в виду, интерьерно-технологических отличий масса.
Большую часть стояночных мест занимали те самые, не имевшие внешних движителей бронеходы, оснащенные гравипушками, по которым нам довелось вволю пострелять.
Но было с десяток флигеров, именно на таком Сильвия везла меня отсюда в наш форт.
Олег имел с собой краткую, на листке желтого пластика, тонкого, как рисовая бумага, распечатку инструкции по управлению.
Действительно, все на уровне старшей группы детского сада.
Неизменные сенсоры, стандартный набор команд: вперед-назад, вверх-вниз, вправо-влево, быстрее-медленнее. При достаточной практике можно выполнять фигуры высшего пилотажа. Чтобы добраться до места, вполне достаточно. Кресла, пилотское и пассажирские, не очень удобные и чересчур просторные, рассчитанные на аггров, одетых в хронозащитные скафандры, чтобы летать за пределами зоны обратного времени. Проектный потолок флигера – десять километров, скорость до шестисот (примерно) километров в час.
Оружия, правда, никакого. Воздушное такси.
Шульгин по неудержимой привычке уже полез в бронеход. Очень он его интересовал, раньше виденный только сквозь линзы прицела или в виде никчемной кучи металлолома.
– Олег, иди сюда. Схема управления совпадает?
Левашов заглянул в широкий бортовой люк.
– Один в один. Только он не летающий. А вот здесь, наверное, пост оператора гравипушки… Так, так, ага, нормально. Это, значит, блок наведения, это спуск, это, как бы, реостат интенсивности… Пустяки. «Леопард» в двадцать раз сложнее…
– Слышь, ребята, а давайте на прощание монстров пугнем? Чтоб знали!
«Почему нет?» – подумал я. Обещания надо исполнять, тоже старое правило. Замахнулся – бей, обнажил клинок – руби. Иначе уважать перестанут.
Тем более вдруг после уничтожения противника исчезнет эта изматывающая, ноющая боль в сердце и почти предсмертная тоска? Так, говорят, бывает при острых приступах стенокардии. Так откуда вдруг у меня – и стенокардия?
– Годится. Только доложите, ваше превосходительство, план боя…
Бронеход, показавшийся нам при первой встрече чрезвычайно медлительной машиной, на самом деле способен был развивать скорость под сотню километров. Просто в цепи они ползли, как морские минные заградители, расставляя на захватываемой территории что-то вроде антенных комплексов, для будущего развертывания межвременной завесы. Отчего их и легко было расстреливать, а так аппарат вполне мобильный.
Его подняли до внешних ворот на специальной грузовой площадке, по типу тех, что используются на авианосцах, а флигеры взлетели сами. На одном я, на втором Олег. Шульгин, конечно, вновь преобразился в танкиста. Тот раз ему пришлось работать за механика-водителя, и он остро завидовал Берестину, вволю настрелявшемуся.
Пора бы и забыть давнюю битву, мало ли после нее было других, однако – первый бой, как первая любовь. И вражеский танк – вот он, связка меж прошлым и будущим, а посередке словно ничего и не случилось… Как будто вчера…
Я чувствовал нечто очень близкое по тональности, но не в такой острой форме. Не до этого мне сейчас было.
Решили так. Судя по схеме, выход на поверхность находится за пределами базы, причем в нужном направлении, и монстры нас скорее всего не заметят. Заметят – им же хуже. Умрут на полчаса раньше.
Флигеры вместе с бронеходом отгоняем за ближайшее скальное прикрытие. Тут неподалеку сидит и Сехмет со своим дирижаблем. Устроились как положено, обозначили на всякий случай оборону по трем азимутам.
Я, как старший по званию (условно, конечно, но для квангов очень важно), подлетел на флигере к нужному месту. Поначалу ребята испугались. Слишком знакомая, неприятно знакомая машина. Я такую реакцию предвидел и подлетал, по пояс высунувшись в лобовой люк.
Увидели, сообразили.
Поболтали немного, исходя из правил приличий. Кванг поверил всему, что я захотел ему рассказать. Согласился улететь, приняв мои наилучшие пожелания и обещание встретится.
Возможно, это окажется правдой.
Вернулся, когда Олег и Сашка весело препирались, сидя на лобовом листе бронехода, передавая друг другу фляжку. Теперь-то что, теперь гулять можно, заслужили.
– Интересно, а как у них насчет баб-с? – спрашивал Шульгин, непроизвольно поглаживая лежащий рядом карабин.
– Даст бог, узнаем, – ответил Левашов, – но мне кажется, бабы в их реальном выражении – чисто наша, земная выдумка. Прочие, вот эти, – широкий круг рукой, – нашли более рациональное решение полового вопроса. И аггры, и форзейли – они без этого… Скажем так, обходятся…
«Не совсем чтобы так, – подумал я, подходя вплотную. – У аггров скорее насчет мужиков проблемы, а бабы – вполне себе…»
Но говорить ничего не стал. Невзначай заденешь тонкие чувства. Сказал другое:
– Братцы, по глотку, и кончай! Мы или пьем, или воюем. Может, вас прав на управление бронетехникой лишить?
– Да кончай, Андрей! – вскинулся Сашка. – Когда нам сто грамм фронтовых мешали? Поехали!
Он завинтил крышку и сунул солдатскую фляжку в чехол.
Чтобы вправду мешали – я такого не видел, однако…
Договорились так. Олег остается в резерве (как всегда), а мы с Сашкой предпринимаем внезапную танковую атаку. Он это попробовал с бригкомиссаром Попелем – получилось. Сейчас – повторим здесь. Если не сгорим в бою, оттянемся назад, бронеход взорвем и на двух флигерах улетим в гости к Дайяне.
Спорить с нами обоими Олег никогда не любил. Не выходило. Предпочел согласиться, рассчитывая, что кривая все равно вывезет. Как всегда вывозила.
Шульгин еще раз осмотрел пульт управления машиной, подвигался в кресле, привыкая к незнакомой системе.
– Ты – за стрелка-оператора, а я за управлением… – Мне казалось, так будет вернее.
– Давай. – Сашку распределение должностей устроило.
Ох, что сейчас будет…
Бронеход, подчиняясь командам, приподнялся над землей и плавно поплыл. От той стороны, где суетились монстры, нас отделяла полуокружность основания станции.
На самой малой скорости, почти ползком я обогнул осевой цилиндр. Внутри машины отчетливо воняло. Не сказать чтобы неприятно, но не по-нашему. Хлорка пополам с духами «Лориган», что-то в этом роде.
Выдвигаясь на оперативное пространство, я дал «по газам». Пять секунд на разгон, еще десять, с крутым заносом корпуса по снежному покрытию – до главного входа в Базу. Прямо впереди – «медуза» и две противонаправленных цепочки рабочих-монстров. Монстры-охранники торчали по внешнему фасу, направляя свои митральезы в вихрящуюся снежными смерчами тундру. Лыжников-квангов ждали, или дошла уже до них весть о «заморских дьяволах», умеющих убивать на немыслимом расстоянии, неуязвимых и, по их понятиям, жестоких.
Нет, конечно, муравьи муравьями, инстинкты – тем более. Но чтобы сформировался инстинкт, сначала, пусть миллион лет назад, должны были быть для него предпосылки? Откуда взяться «солдатам», охраняющим муравейник? Значит, приходили, приползали враги, сольпуги, тараканы, ламехузы, для борьбы с которыми потребовалась стройная организация? Другое дело, что в известный момент она окостенела в заданных рамках.
– Мочи их всех, Сашка!
Если кто-то считает меня гуманистом, то зря. Особенно в данной ситуации. При чем здесь «гуманизм», если «гомо» мы перед собой не видим?
Так и работника санэпидемслужбы, прыскающего дихлофосом в заселенном всякой нечистью подвале, можно назвать фашистом.
Шульгин врубил гравипушку сразу на полную мощность. Мы помним, как нас сгибало, заливало сердце и артерии отяжелевшей до ртутной густоты кровью. Как ломались вокруг вековые сосны, а гусеницы танка вязли в промерзшей земле, как в торфяном болоте. Тогда мы попали под двенадцать «же», сейчас прямой наводкой вышло едва ли не пятьдесят.
Полторы сотни «рабочих» монстров растерло по земле сразу. Их мощные костяки стали ломаться быстрее, чем гибкие кости людей, случись им тут оказаться. Нет, люди тоже не выжили бы.
А тяжелая, громадная «медуза», отличающаяся от той, что Левашов с ребятами расстреляли в Москве, как линкор от эсминца, попыталась взлететь. И не только взлететь, развернуться к нам своим нижним краем, мантией, щупальцами, между которыми, наверное, таилось убийственное для нас оружие. Или десантные люки для высадки сонма жутких «ракопауков».
Туда Сашка и воткнул очередную порцию гравитонов из перезарядившейся пушки. Все! Это походило на то, как если бы «медузу» сунули в гидравлический пресс. Нормальный звездолет или даже обычный танк, хоть «Леопард», хоть «Т-72», подобный удар бы выдержал. Экипаж, разумеется, нет, а сама бронекоробка – свободно, с незначительными внешними повреждениями. Здесь же – нечто похожее на выброшенный из банки китайский чайный гриб. Или на гигантского кальмара, случайно оказавшегося на Юпитере.
– Амбец, – констатировал Шульгин. – Поехали. Похоронной команды не требуется.
Искать руководящих «элоев» некогда, да и бессмысленно. Их на планете, может, и не было, руководство осуществлялось дистанционно. Или они могли находиться на борту «медузы». В тепле и комфорте.
Мы совершили круг почета по прилегающей к станции территории, включив пушку на двадцать «же» при максимальном растворе луча. Если кто-то случайно и выжил, что сомнительно, долго еще не очухается, подобно живому существу, полежавшему под двухтонной бетонной плитой.
– Не понимаю, почему Лихарев не оборонялся тем же способом на этой позиции?
– Встретимся – спросишь…
Глава двадцать третья
Учебно-тренировочный лагерь аггров, предназначенный для выращивания и специализации «курсантов», готовящихся работать на Земле, располагался в прелестном местечке. Значительно южнее Главной Базы, в со вкусом подобранной горной долине, отделенной от господствующей вокруг лесостепи несколькими рядами возвышенностей. Поначалу это были типичные сопки по триста-четыреста метров высотой, за ними шли горки посерьезнее, ближе к километру, заросшие аналогами наших дубов, буков, каштанов и тому подобного. В ботанике я не силен. А последний «рубеж обороны» представляли уже настоящие скальные хребты, покрытые хвойными лесами, переходящими в альпийские луга. Даже снеговые шапки на некоторых пиках имелись.
Сама же долина, площадью не меньше ста квадратных километров, являла собой нерукотворный рай. Защищенная от регулярных ураганов, зимних и летних, с собственным микроклиматом, аналогичным, скажем, Кисловодскому, пересеченная речками и ручьями, мирно текущими среди лугов и рощ, она, несомненно, могла соперничать с лучшими курортами Европы и обеих Америк. Все, что угодно, здесь имелось, за исключением моря.
Для того ее и выбрали основоположники, чтобы переведенные в выпускной класс курсанты после тесных помещений и мрачного колорита станции немедленно прониклись любовью и восхищением к своей будущей «родине», то есть – «территории внедрения». Для поживших здесь несколько месяцев не было страшнее наказания за нерадивость и нарушение правил внутреннего распорядка, чем отчисление с переводом в рабочий персонал Базы. Это много хуже, чем из Императорского Морского корпуса – на флот рядовым матросом.
Сильвия и Ирина нам кое-что рассказывали о своем «кадетско-юнкерском» прошлом. Но не так уж много. То, что захотели, а главное – что смогли вспомнить. Память им после выпуска прилично подсократили, для пользы дела…
Парой флигеров, идущих классическим боевым порядком, мы облетели долину по периметру, убедились, что за исключением двух условно-проходимых в летнее время перевалов она полностью отрезана от внешнего мира. Сужающейся спиралью вышли к центру, заметив по пути несколько коттеджных поселков, выстроенных по единому плану – два-три десятка домиков, сосредоточенных вокруг многоэтажного корпуса. Архитектура построек – абсолютно земная, но стилистически и хронологически в каждом селении разная.
То место, куда мы направлялись, напомнило мне одновременно Домбай и Гран-Каньон-вилледж, штат Аризона, чудесный городок над всемирно известным шрамом на теле Северной Америки. Только чересчур тихо, безлюдно здесь было, словно поступило тревожное предупреждение и все живое спряталось в ожидании бомбежки.
Автопилоты флигеров вывели к площадке, где следовало приземляться, и ведущий Левашов сделал это с шиком. Заход на высокой скорости, торможение и вертикальная посадка на «три точки», метр в метр, едва не задев хвостом вышедшего встречать Лихарева. Мы посадили свои аппараты рядом.
Вытащили из салона оружие и амуницию, обменялись с Валентином рукопожатиями, пошли вслед за ним по вымощенной желтым кирпичом дорожке между низкими, но чрезвычайно развесистыми японскими соснами.
Ощущение было, как у пассажиров поезда Новосибирск – Сочи, вышедших на перроне конечной станции в январе, из домашних минус двадцати внезапно попав в такой же плюс. Причем впервые в жизни! По профсоюзной путевке. Жарко, со всех сторон овевают запахи субтропических растений. Все, что надето на тебе и что тащишь в руках, кажется тяжелым, неудобным и каким-то бессмысленным.
Валентин, на мой взгляд, в нынешней роли слегка недотягивал. До отведенного нам домика вел молча. Как всегда стройный, твердо ступающий по земле, с выразительным, мужественным лицом, уверенный в себе и старающийся показать – что было, то прошло, а сейчас мы на равных. В лучшем для нас случае. Но все – очень слишком. Дефект подготовки, если он «второй», или – последствия перенесенной душевной травмы, если – «тот самый». Оно ведь давным-давно понятно, что почем и кто есть кто. Так зачем сейчас то ли незабытую обиду демонстрировать, то ли цену себе набивать? И как такой человек в окружении Сталина много лет удерживался?
Ему бы нас встретить раскованно, весело, с излишним, может быть, радушием и балагурством. Как же, старые друзья-товарищи, сто лет не виделись, если и было что не так – наплевать и забыть, а сейчас-то! Вы мои гости, и враг у нас общий, так что же делить теперь? Живы все, вот главное, и поживем дальше, и с размахом…
Коттедж, к которому мы пришли, был хороший. Далеко не хижина Айртона, где несчастному пирату пришлось коротать (или – мотать) отмеренный срок.
Двухэтажный, с очень высоким, обложенным диким камнем цоколем. Внизу – прихожая и хозяйственные помещения. Наверху просторный холл, три спальни, все удобства и глубокая лоджия. Вышел я на нее, свалив тяжелые военные доспехи посреди комнаты, осмотрелся. Темно-зеленые лапы сосен достают почти до перил, редко расставленные чешуйчатые стволы покрывают крутой склон, нисходящий к отблескивающей голубым серебром речке, птички всякие верещат, чирикают и посвистывают вокруг. И запахи! В ином состоянии и настроении я ощутил бы всю прелесть этого местечка. Но сейчас и курортный пейзаж вызывал раздражение, если не отвращение. От всего: от красот природы, от разговоров с друзьями, от любой мысли меня отчетливо мутило. Наверное, так может себя ощущать человек, очутившийся в бурном море на утлом суденышке. Ко всем прелестям морской болезни добавляется животный страх перед волнами, каждая из которых может оказаться пресловутым «девятым валом».
Другое дело, что как раз страха я не испытывал. Жизнь – копейка, и цепляться за нее нет никаких веских оснований. Похожее настроение бывает, когда тебя в демонстративно-оскорбительной форме посылает куда подальше твоя первая любовь… Кто не пережил, не поймет, и передать такое невозможно.
Но и на этот безнадежный случай есть лекарство:
Была надежда, что после уничтожения «медузы» наведенная дуггурами порча пройдет, но – не случилось. Потом я стал уговаривать себя, что психическая контузия так быстро не проходит. Вот освоимся здесь немного, отдохнем, выпьем как следует, тогда и отпустит.
Час, два, сутки потерпеть, наверное, можно, раз все равно деваться некуда…
Подышал, закурил, само собой. Легким движением руки подозвал стоявшего у двери между холлом и спальнями Лихарева.
Ребята в тот момент стягивали надоевшие унты, неуместные здесь кожаные штаны и куртки. Спорили, кто первый отправится в душ.
– Что скажешь по делу, товарищ начальник?
– Смотря что вы хотите услышать, Андрей Дмитриевич…
– Тебе не кажется, что… дурака валять больше не нужно?
Чуть было не сказал вместо паузы: «Вам здесь», – но вовремя сдержался и даже изменил тональность. На самом деле, в таком чудесном месте, вырвавшись из тяжелого боя, начинать резкий разговор с непонятно кем, являющимся в данный момент подобием человека? Мои проблемы – мои, а на людях нужно держать фасон.
– Как вы были правы, Андрей Дмитриевич, – сказал Валентин, садясь в плетеное кресло и любезно подвигая мне такое же.
– Не берусь спорить. А в чем же конкретно?
– Последний мой умный поступок – это побег из тридцать восьмого! Все остальное действительно было лишнее!
– Не берусь спорить… – демонстративно повторил я.
Знал бы этот красавец-герой, любимец звезд немого, а потом и звукового советского кино, а также актрис московских театров, что никуда он не убежал, а продолжает где-то там влачить предписанное существование. Как и я, поступивший не на филфак, а в Институт Советской армии (была такая мысль), не встретивший Ирину, получивший удар финкой между ребер, а не поперек (тоже было). Как Сашка, умерший в грязной палате районного стационара для бедных…
Ну и какая нам разница?
– Прикажете заказать ужин? Вы, наверное, очень устали? – спросил Валентин, как положено хозяину.
– Устали – не то слово. Остолбенело все! А физических сил еще на две полноценных войны хватит.
– Горжусь, что встретил таких мужчин, как вы…
– Не перебирай, товарищ военинженер и сотрудник Особого сектора. Незачем. Имеешь что по делу сказать – говори. Нет – приглашай к столам. Кроме мадам Дайяны, девочки будут, с выпускного курса?
– Интересуетесь?
Ужасно захотелось послать его по всем предусмотренным большим флотским загибом местам. Кем бы он ни был, но проговориться – проговорился.
Слегка кашлянув, словно прочищая горло перед нужными словами, я медленно взял очередную сигарету, не спеша размял, поднес к губам, пристально глядя на собеседника.
Он торопливо похлопал по карманам, нашел в брючном зажигалку, чиркнул и поднес огонька.
Пару затяжек я сделал молча, глядя на зелень за ограждением лоджии, с таким видом, будто вообще никакого Лихарева напротив меня не было. Хорошо, что Сашка с Олегом душем, а то и джакузи увлеклись. Лишние при нашем странном разговоре не требовались.
– Вот теперь верю, что это вы, Андрей Дмитриевич, – сказал наконец Валентин. – Не представляете, как нам здесь трудно…
– Так и не хрена было затеваться, – без улыбки ответил я. – А то не знал, с кем дело имеешь…
– Так откуда же, Андрей Дмитриевич? – только что не прижал он руки к груди театральным жестом. – С Шульгиным-Шестаковым вашим конфликт счел за неудачный эпизод, бывает ведь? В Пятигорске чуть посложнее, но тоже в пределах допустимого. Если в очко играть – у меня на руке двадцать, кто пасовать станет? А у вас не двадцать одно даже оказалось, а два туза…
– Не очко меня сгубило, а к одиннадцати туз, – назидательно сказал я.
– Согласен, – кивнул Лихарев. – Так ужинать будем?
– Всенепременно. Сейчас тоже душ приму, потом расстарайся насчет приличной одежды, можно и смокинги. И позовешь. Думаю, есть о чем поговорить… Хозяйка будет?
– Как же без нее?
– Тогда ответь на последний вопрос. Имея в виду, что ответ я на него почти наверняка знаю. Просто окончательную ясность внести… Как ты здесь очутился раньше нас, если Лариса тебя всего три дня назад в Пятигорске видела? И каким образом? Или ты – не ты, а тот, кто встречался с Шульгиным в форте прошлый раз. Вместе с Дайяной?
Лихарев рассмеялся. С облегчением, как мне показалось. Он ждал чего-то более сложного или опасного?
– Да я это, я, Андрей Дмитриевич. Я тоже Ларису Юрьевну видел и могу рассказать: где, при каких обстоятельствах, о чем говорили, с кем был я и с кем она. Проверяйте… Насчет способа – тем же самым, что я и Александр Иванович попали в форт на встречу с «хозяйкой». Не моя компетенция. Она меня вызвала ввиду чрезвычайных обстоятельств. Думаю, нарушением прежней договоренности с вами это не является. Тем более если бы не наша неожиданная сегодняшняя встреча, моя «самоволка»…
– Достаточно. После договорим…
Мне опять все стало безразлично. Так оно, не так – какая разница. А стилистикой Валентин владеет. «Самоволка» – хорошо сказано. За самоволку положено максимум несколько дней «губы», а вот за побег из-под подписки о невыезде можно и в СИЗО загреметь, на срок, ограниченный только волей следователя и прокурора.
Ужин нам накрыли хороший, с любой точки зрения. По месту – на плоской крыше соседнего здания, где вертикальные завесы из потоков теплого воздуха надежно защищали от леденящих порывов с гор, не мешая наслаждаться ощущением открытого пространства. И меню лежало под рукой, потолще телефонной книги. Да нам, суровым солдатам, никаких излишеств давно не требуется. Зачем нам сычуаньские салаты и рыба фугу в собственном соку? Что может быть лучше классно приготовленного бефстроганова с густым соусом и хрустящей картофельной соломкой на отдельной тарелочке? К нему – соленые рыжики и красные помидоры бочкового засола, по-дальневосточному, переложенные всеми там произрастающими специями.
Мадам Дайяна, как всегда прелестная и соблазнительная своими формами, опять одетая в сари из семи метров прозрачного алого шелка, сидела во главе стола, спиной к долине. Наверное, ее все-таки некогда готовили к работе в Индии, а уже потом перебросили на другое направление. Но привычка осталась.
Девочки-курсантки присутствовали во всей красе, выполняя обязанности официанток. Одетые, как стюардессы семидесятых годов, только не в синих костюмчиках, а почему-то в ярко-оранжевых. Но тоже! Юбки – мини, жакеты, обтягивающие впечатляющие формы, ноги – посмотри, и можно умирать! Блондинки, шатенки – и у всех роскошные волосы ниже плеч. А лица… Любая из них на Земле без проблем стала бы суперзвездой хоть кино, хоть подиума. Аггры в своем репертуаре! Так и не сообразили, что агентессы могут быть и невзрачными серыми мышками. Впрочем, это смотря на что ставка делается.
Бесшумно мелькая вокруг нас, подавая, убирая, с изящным полупоклоном наполняя бокалы, ни одна из них не произнесла ни слова, не улыбнулась даже. А зря…
Предварительные фразы застольного разговора опускаем. Сплошная банальщина. Шутили, исходя из степени подготовленности собеседников к нашему юмору, с живописными подробностями рассказывали о боях с монстрами. В нашем изложении эти эпизоды тоже выглядели скорее забавными, чем страшными. Совершенно в стиле кавказских офицеров, приезжавших на Кислые Воды после совсем не романтических стычек с горцами и позерствующих перед дочками генерала Верзилина, княгинями Верами и княжнами Мэри… О том, как там все было на самом деле, читайте «Валерик» Лермонтова или труды генерала Потто. Это не для салонов.
Дошло и до дела. Позже, когда милые девушки полностью обновили сервировку и накрыли положенное к вечернему чаю. Их очевидным образом воспитывали по схемам конца девятнадцатого – начала двадцатого века. К чему бы? Впрочем, догадался. То самое «встречное время». Уцелевшие элементы Станции продолжали скользить в прошлое, наше прошлое. Ирина готовилась в условно шестидесятые к работе в семидесятых. Лихарев в десятые, рассчитывая стать «особой, приближенной к новому императору» – в двадцатых. Сильвия – ту совсем учили для золотых десятилетий Викторианской эпохи. А этих, значит, рассчитывали внедрять между ними, Сильвией и Валентином. До того, как мы, с подачи Антона, разрушили всю конструкцию. И Дайяна теперь спешно переориентирует имеющиеся кадры для работы в иную эпоху, о чем свидетельствуют хотя бы наряды. Но базовые привычки тоже пока не изжиты. Только для какой работы? Что, если коллаборационистками при власти дуггуров, если они таки захватят какую-нибудь реальность? Почему и нет, раз она осталась последней посвященной, владеющей тайнами и способами управления Станцией, заветами Великого проекта.
Никому, кроме нее, уже не нужного.
Перед нами появились тарелки с многочисленными сортами сыров, колбас, иных холодных закусок, сладкие блюда и фрукты. Чай, кофе, прохладительные напитки и напитки крепкие, что тоже полагалось, – коньяки, ликеры от шестидесяти градусов до двадцати, пресловутый лафит, стакан которого любил предлагать всем желающим капитан Штоквич, комендант крепости Баязет. Сигары в ассортименте – наши вкусы хозяйка знала. Она и сама, следуя последней европейской моде, взяла солидных размеров «Гуантанамеру».
Пора было переходить к нелицеприятной сути.
– Зачем вы снова сюда пришли? – спросила аггрианка.
– А зачем вы нас ждали? – немедленно ответил Левашов. – Записочки писали. Сами бутылку в море бросили или капитан Немо за вас?
– Мы знали, что вы обязательно вернетесь, – примирительно ответил Лихарев. – Вы обещали. Но никто не ожидал, что вдруг совпадет… что начнется – такое…
– Ты нам писал, когда «такое» уже началось, – возразил Шульгин. – И у меня есть сильные подозрения, что твой аналог в тридцать восьмом ручку к этому приложил.
– Когда? – Лихарев явно не играл, он был откровенно удивлен.
– Будет случай – расскажу. Не я придумал все ваши «альтернативки».
– Зачем вы сегодня устроили бойню на Станции? – вмешалась Дайяна. – Мы изо всех сил старались не допустить ничего подобного…
– Чемберлен, Мюнхенское соглашение и так далее, – со всей доступной иронией ответил я. – Умиротворение агрессора. Не нужно лицемерить, мадам! Это неприятное твое качество я отметил при самой первой встрече. С вашими силами вы свободно могли пресечь агрессию в первый же час! Мы втроем навешали им от души, долго будут красными соплями отхаркиваться. А вы со всеми оборонительно-наступательными способностями сбежали в этот райский уголок. Да растерли бы их, как дерьмо сапогом, и вся забава… Бронеходы, флигеры, еще что-нибудь. Девочек своих в бой ввели! Хорошие ведь девочки, тренированные…
Я прихватил рукой за талию ближайшую, только что поставившую перед нами очередной, пыхающий паром кофейник. Она удивительно походила на встреченную мной в Гватемала-Сити кинооператоршу из малоизвестной миланской компании. Северные итальянки иногда бывают чрезвычайно хороши. Не то что всякие сицилианки, калабрийки и даже неаполитанки.
Правда, та Франческа (или – Франциска), подзабыл уже, была лет двадцати шести-семи, этой – от силы девятнадцать. На вид. Сколько на самом деле – не нам судить.
– Тебя как зовут? – спросил.
Девушка не то чтобы испуганным, но вопрошающе-настороженным взглядом обратилась к Дайяне. Я, внимательно наблюдавший, уловил чуть заметное движение ресниц «хозяйки». Мэм-саиб, если учитывать ее наряд.
– Анастасия, – ответила красотка.
«Уж не на роль будущей наследницы престола ее прочили?» – мельком подумал я. Почему и нет?
– Из пулемета стрелять умеешь?
– Умею, – приятным, в меру низковатым голосом ответила девушка.
Я убрал руку с плавного закругления бедра. Сквозь ткань юбки отчетливо прощупывались застежки и прочие элементы нижнего белья. Ну, совершенно как на танцах двадцать лет назад. Ради этого на них и ходили. Сволочь ты, старая бандерша, беззлобно подумал я, опять поворачиваясь к Дайяне.
– Видишь – умеет. И бронеходы водить наверняка умеет. У вас таких не меньше сотни наберется, я правильно считаю?
– Даже несколько больше…
– Ну вот, а мы – втроем…
– Я должна была прежде всего спасти Базу и своих воспитанниц. Вы убили… – Она замялась, не зная, как понятным образом обозначить пришельцев.
– Кванги называют их ахамбовомбе, мы – для простоты – монстрами. Они начали первые. Дальше…
– Нам хватило и вашего вторжения. Больше не надо. Этих… может нахлынуть тысяча, много тысяч. А ты видел, какие еще исполнительные механизмы у них имеются?
– Видел, мадам, видел. В том числе и такое, что вам никогда не захочется увидеть, при всей вашей искушенности…
«И почувствовать», – добавил я про себя, изнывая от необходимости сохранять позу и кураж. Тоска сжимала сердце и пыталась свести судорогой лицевые мышцы. Сейчас совершенно к месту было завести пластинку с записью «Танго смерти» («Маленький цветок» в советском издании). Саундтрек к фильму пятидесятых годов. Под эту музыку герой фильма пьет коньяк и танцует в баре с девушкой, получив телеграмму, что в больнице далекого города умирает его мать. Сделать ничего нельзя. Поездом ехать трое суток, а самолеты туда не летают. Осталось клин клином вышибать.
Глазами я показал Дайяне, что неплохо бы выйти, вдохнуть холодного воздуха. На лоджию или дальше. Эта «генеральша» с первой встречи вызывала у меня, кроме настороженности и чувства постоянной опасности, определенный личный интерес. Согласен, слегка извращенный. В сравнении с весьма одаренной в этом отношении Ириной и Сильвией даже в ней имелся едва ли не запредельный эротический заряд. На меня он не подействовал раньше, когда она его включила, сейчас – тем более, но ощущать я его ощущал. Как электрик – напряжение в кабеле, с которым работает.
Я, слава богу, и до нынешней депрессии не был сексуально озабоченным. Скорее наоборот. Работая на Перешейке, где агентессы ЦРУ, других разведок и обычные беспартийные шлюхи: белые, креолки, мулатки и иные, стоило зазеваться – нагло лезли руками в штаны и сами раздвигали ножки, как в фильме «Основной инстинкт», я ухитрялся сохранять презрительное самообладание. Помню – Первый советник посольства, человек ужасно компетентный, выкатив нольседьмую бутылку «Столичной», старательно добивался, не гомик ли я.
– Николай Макарыч, – отвечал я ему, довольный, что хоть за пьянство меня не привлекают, опрокидывая пятую бесконтрольную и бесплатную рюмку. – Делу партии и правительства я настолько предан, что известный предмет готов завязать узлом. Как отец поверьте (а он по возрасту как раз в отцы мне и годился), с молодых лет умел внутренний блок ставить. Дочка завотделом ЦК нашего КПСС (фамилию не скажу) в новогоднюю позднюю ночь и даже ближе к утру (при этих словах я плеснул в глотку еще рюмку. Надо же соответствовать!) платьице снимала и остальное хотела…
– Ну и? – с загоревшимся взглядом спросил советник.
– Отринул!
– Да ты что? Дочка завотделом? Красивая хоть?
Для пожилого человека, дотягивающего предпенсионный срок в затруханном посольстве никчемной страны, мои слова пробудили нечто вроде гумилевского:
Усталому от дурацкой службы советнику это то же самое. Алмазов ему не досталось, и вместо ятагана только авторучкой размахивал.
– Страшила, Николай Макарович, непроходимая. Ужас, летящий на крыльях ночи. Даже непонятно, откуда у настоящего коммуниста такое могло родиться…
Сарказма он не понял. Да ему и незачем.
Выпили еще.
– Если б такое нормальный человек сказал, я бы удивился. А вот тебе – верю.
– Почему я и сижу тут с вами, а не в большом кабинете с видом на Смоленскую площадь.
Он сглотнул сразу грамм двести – служба, что поделаешь. Вдруг за компанию на чем другом расколюсь.
– Только, Андрей, гусей дразнить не нужно. Веди себя, как все. А то, на хрен, майоры из Москвы первым делом мулаток трахают, будто за тем и приехали, и мне же на тебя доносят, что Маркса по ночам читаешь и имеешь наглость не к месту цитировать… Ты лучше на жену посла внимание обрати… Она красивых парней любит.
Женой посла я заняться не успел, пусть она тоже была не в моем вкусе, меня раньше выслали.
…Однако, стоя на лоджии и любуясь природой, я очень неправильно думал о стоящей рядом даме. Мы с ней пересекались четыре раза. Сначала она меня нагнула через колено. Как пацана. Второй раз покончили вроде как вничью. Третий и четвертый я выиграл вчистую. Именно я один! И все равно никак не могу забыть очертаний ее полуобнаженного тела. Черт, есть в ней нечто непреодолимо влекущее. С самого первого раза, когда она нас с Берестиным вербовала. И потом тоже. Представьте – бьешь женщину пистолетом по голове и одновременно думаешь совсем о другом.
Мало сказать, что даже уложенная лицом в грязь, в разодранной до пояса юбке, с измазанными травяной зеленью локтями и коленями она была красива. Она выглядела, будто тридцатипятилетняя Софи Лорен в сравнении с рядовой девчонкой из параллельной группы.
Но сейчас, стоя рядом с ней, никаких грешных чувств я не испытывал. Скорее – наоборот!
– Мадам Дайяна, мы с вами, как и раньше, враги или у вас появились другие ощущения?
– Нет, Андрей, сегодня о вражде говорить не следует. Но повторяю – зачем вы пришли и так жестоко воюете? Я приказала Валентину оставить Станцию без сопротивления…
– Как Париж…
– Можно и так. Брошенная Станция – кусок мяса бешеной собаке. Зато мы здесь в безопасности. Были. Сейчас снова появились вы, и я не знаю, как начнут развиваться события.
– Знаешь, тетушка (это я специально придумал), свистни вон той Насте, пусть сюда кой-чего подаст. Мы с тобой вздрогнем, кофейку с коньяком посмакуем, и ты медленно, не отвлекаясь, расскажешь мне, как все случилось на самом деле… Веришь, нет – но я единственный человек, готовый тебя выслушать «без гнева и пристрастия». Прочим девушкам поручи развести гостей по номерам. Парни устали…
Выглянув в комнату, я очередным незаметным знаком дал Сашке понять, что сейчас им нужно уйти. Так, мол, обстановка требует. Похоже, этот сигнал был принят с удовольствием. Дипломатию они оставляли мне, радости жизни – себе. Тем более что понимали – разговор с глазу на глаз неизмеримо продуктивнее, чем в формате два плюс три. Знали бы они, чего мне это сейчас стоит – дипломатией заниматься!
Лихарева Дайяна тоже куда-то отослала.
Оставшись с ней вдвоем, я почувствовал себя намного свободнее. И совсем чуть-чуть легче.
Словно довелось познакомиться с соблазнительной женщиной на горном курорте. Так, случайно, «встретились два одиночества». Никто еще не знает, как станут развиваться дальнейшие отношения, но взаимный интерес нарастает. А то, что она, допустим, штандартенфюрер СД, а я – полковник НКГБ или помощник Аллена Даллеса, в данный момент несущественно.
– Кофе – с Земли завозите? – вежливо осведомился я, пригубливая на самом деле хорошо заваренный напиток.
– Давно уже здесь синтезируем.
– Все равно неплохо. Итак, мы остановились на том, что вы впервые в жизни по-настоящему испугались. Монстры и все такое. Вам с Валентином вдвоем не выстоять, бросать девочек в штыковые атаки жалко… Одна надежда – на таких, как мы. Лишь бы вовремя появились. И вот – как по заказу. Не странно? А кто их сюда, вот этих, приманил изначально?
Для разговора я избрал тактику, не слишком часто применяемую. Имеет возможность Дайяна контролировать мои мысли и настроение, не имеет – не важно. Я буду с ней стопроцентно искренним, любой специалист такие вещи чувствует нутром и подсознанием. А уже потом, когда мы выйдем на сравнительно конструктивный диалог, можно будет сообразить, куда и как гнуть дальше. Честность ведь – лучшая политика, не так ли?
– Это – производные единственной, совершенной давным-давно ошибки. Я не знаю, кем конкретно, так далеко мои познания не простираются. В незапамятные, как у вас принято говорить, времена некие мудрецы ухитрились привязать Таорэру к Земле, получилось подобие гантели, шарики которой находятся в разных Вселенных и одновременно составляют неразрывное целое. Попросту говоря, все имеющиеся у нас, у вас, у форзейля Антона приборы фактически не что иное, как ключ, отпирающий дверь между двумя комнатами. Никаких десятков парсеков… Вы не пробовали с помощью своего СПВ или нашего блок-универсала попасть хотя бы на Марс?
– Постой, – без всякого удивления спросил я, – но ведь в пределах Земли эта техника работает не только в межпространственном, но и межвременном режиме…
– Это уже из другой оперы. А мы все, – она изобразила рукой округлый жест, – оказались настолько недальновидны, такую за последние перепутанные времена дорожку протоптали, что нашлись желающие тоже по ней прогуляться…
– Кто? – с напором спросил я.
Она поднесла к губам крошечную рюмочку зверски крепкого миндального ликера.
– Теперь твоя очередь отвечать…
– Охотно, если смогу. Но все же, как ты назовешь тех, что пришли?
– Я не знаю их имени…
– Дуггуры – тебя устроит?
Дайяна поморщилась, будто ликер был настоян на хине.
– Опять ваш Антон! Признаться, я до сих пор не понимаю, что вы в нем нашли…
– Почтеннейшая, – я с трудом отвел глаза от груди, едва не выскользнувшей из-под ослабшей (случайно или намеренно) складки сари, – стоило вашим оперативникам, охотившимся за Ириной, сесть с нами за стол и поговорить, как цивилизованным людям, а не изображать из себя приблатненных хамов, мировая история двинулась бы совершенно в другом направлении…
– Что теперь говорить. – Она сделала отстраняющий жест. – А что вы учинили такое, после нашего не совсем приятного прощания здесь, позволившее этим… существам выйти на Таорэру? Наверняка ведь вы что-то сделали…
– Слушай, дорогая, я настолько далек от всяких теорий… С самого первого вторжения ваших агентов в нашу жизнь мы поступали исключительно ситуативно. Реагировали на вызовы доступными способами – «здесь и сейчас», не имея никакого понятия о глобальной геополитике. Очень было бы здорово, если б мы сумели составить сейчас четырехмерную схему всех наших контактов, взаимодействий и пересечений. Я в отличие от тебя простой земной человек с обычным гуманитарным советским образованием. Как какой-нибудь готтентот или папуас научился водить джип и стрелять из автомата. Но это не делает меня равным выпускнику Оксфорда с десятью поколениями предков, учившихся там же…
– Анастасия, – позвала она привлекшую мое внимание девушку, которая незримо присутствовала поблизости.
Через несколько минут та принесла подобие ноутбука, придуманного земляками за время нашего двадцатилетнего отсутствия. В восемьдесят четвертом хилый «Атари» казался недостижимой вершиной человеческой мысли. А потом люди, наплевав даже на лунную программу, не говоря о межпланетных полетах, увлеклись никчемной, по большому счету, бытовой электроникой.
Этот, Дайянин, был, конечно, намного лучше тех, что продавались в магазинах Москвы-2005. Он умел создавать минимум трехмерные проекции на месте плоского экрана.
– Давай, Андрей, посмотрим, как нам выстроить единую и непротиворечивую, компаративную [84] таблицу…
Мы посмотрели.
Кое-что получилось. По крайней мере, удалось соотнести, свести в одну группу события последнего года. Независимо от места их протекания. О Сашкиных приключениях в Сети я говорить ей не стал. Да этого и не требовалось. Картинка складывалась сама собой.
Реальное время горизонта событий для всех параллелей сжималось в несколько значащих месяцев.
Роковой ошибкой Валентина была постройка «машины времени». Образовался хитрый горизонтальный пробой, объединивший линии «бокового времени» 2005-дубль, новозеландский форт, построенный как раз на линии разлома 1925–2005, сразу два варианта реальности-38, и, конечно, очень повлияла шульгинская блокада Сети. Предпринятая, в свою очередь, после грубой, впрямую не спровоцированной агрессии.
В результате всех этих деяний, по отдельности не слишком значительных (как незначительно выглядели действия европейских политиков между Первой и Второй мировыми войнами), для дуггуров сложилась великолепная возможность вторжения для захвата лебенсраум [85], как для Гитлера в тридцать девятом.
Дайяна была хорошим аналитиком. Гораздо лучшим, чем Антон, что не отменяет факта ее проигрыша и его выигрыша. У нас в общаге говорили – «как карта ляжет».
За три месяца (настоящих, физических), составляющих две с лишним тысячи часов, сто тридцать тысяч минут и около восьми миллионов секунд, она, не имея других занятий, занималась исключительно размышлениями. Если умножить предыдущие числа на скорость мыслительного процесса, подкрепленного сохранившейся в ее распоряжении техникой, итоги получились интересные.
Пользуясь методом обратной экстраполяции, Дайяна проникла в сферу дуггурского эгрегора. Проникла и ужаснулась, гораздо сильнее, чем ужаснулись мы. Нас было много, мы были победителями по внутреннему самоощущению, опирались на непревзойденные (с нашей точки зрения) технические возможности трех цивилизаций. А ей оставалось только выживать. Шаг влево, шаг вправо – пропасть; впереди тьма и ужас, позади – ничего!
И дуггуров уловила своими сенсорами именно она. Сначала как раздражающий мыслефон там, где ничего подобного быть не должно, потом, сосредоточившись и напрягшись, – как нечто конкретное.
Она проникла в совершенно чуждую ноосферу. И сильно испугалась. Аггры, что о них ни воображай, вполне приличные гуманоиды. Со своими заморочками, но если умеют создавать таких девчат, как Ирина, Сильвия, сама Дайяна и сейчас здесь суетящихся, – абсолютно «наши люди».
Те же… Не хотел бы я, даже по хорошей пьянке, слиться сознанием с обычным домашним пауком. Тараканом тоже. За остальным – к Кафке и его персонажу, Грегору Замзе, кажется?
– А не ты ли, уважаемая, им наводку дала?
Глоток кофе из чашечки, глубокая затяжка прочищающим мозги вирджинским табачком.
– Я вот здесь вижу, на схемке нашей, что они влезли к вам одновременно с заходом в Москву-38. Нет? И единственный объединяющий фактор – твой Лихарев.
– Твой Шульгин – тоже…
– Не-а! Шульгин пусть чуток, но позже. А еще был Юрий, твой координатор, дореволюционный предшественник Валентина! Он первый попал под удар. И в тридцать восьмом к его дому явились. Это вы их притягиваете! Запахом или не знаю чем.
– Нет, вы! – Дайяна чуть не выскочила из трусов, если они на ней были, так дернулась.
– В холодный душ сходить не желаешь? – спросил я. – Нервничаешь сильно. Тем более вопрос не кардинальный. Вы, мы как-то разбирались между собой, а тут – они пришли. Дальше говори.
Дальше выходило так, что по следу дуггуры двинули свои разведотряды. Мало что зная о наших реальностях фактически, они осознали открывшиеся возможности ментально. Этот термин я употребляю крайне приблизительно, за отсутствием более точного. Причем здесь сразу же проявилась роковая (пока что для дуггуров) ошибка.
Ну вот, предположим, руководствуясь какими-то своими справочниками, вы вообразили, что определенной формы след на снегу принадлежит пушному животному, дающему ценный мех и обладающему вкусным и нежным мясом. Прочие его свойства в книге не оговорены как якобы несущественные. Вы азартно идете по следу и приходите – куда? Правильно, к берлоге. Суете туда палку. Остальное объяснять? Так и у дуггуров. Не хватило лишней строчки в справочнике, всего лишь.
Не смогли они оценить готовность людей к сопротивлению. А когда оценили, не по количеству своих потерь в предварительных, прощупывающих стычках, а по зафиксированным эмоциональным всплескам бойцов, с которыми им пришлось встретиться, задумались. Доступным им образом.
Так же одновременно нащупали они и выход на Валгаллу. Каким-то образом установили, что это фактически одно и то же. Избы одной деревни или комнаты одной квартиры. Только населенные другими жильцами, к сопротивлению не готовыми, а в благоприятной обстановке готовыми к сотрудничеству. Вот и двинулись сюда, оставив на потом Землю с ее злобными, жестокими (в свободное от потусторонних вторжений время), азартно уничтожающими друг друга обитателями.
Дайяна рассчитала, что, отступив в горы, оставив дуггурам на растерзание квангов, за людей не считающихся, она сумеет выиграть необходимое время.
– Для чего необходимое?
– Я закончила бы подготовку курсантов по полному циклу и вернулась с ними на Землю. Нет, нет, не думай, больше никаких авантюр против вас я затевать не намеревалась. Мы же тогда на Базе обо всем договорились… Я вернулась бы с ними к Лихареву, в его две тысячи шестой, вам ведь совсем ненужный, и начала действительно спокойную, мирную жизнь…
Я посмотрел на нее, на прелестную Анастасию, по легкому движению моей руки подавшую бокал ледяной минеральной воды, и расхохотался. Искренне, от всей души. Впервые за этот ужасно долгий день. Девушка взглянула на меня испуганно (бьют их здесь, что ли, или на самом деле «белых варваров», кроме Лихарева, никогда не видела?), а Дайяна – недоуменно.
– Ох, уморила! Я представляю: прибытие курьерского поезда на Пятигорский вокзал, и из вагонов – десант. Ты и полторы сотни немыслимых красавиц в одинаковой униформе! Курорт, лето, войска Гвардии по региону развернуты, на случай новой войны с турками. Это ж, получается, как бы передвижной бордель на заработки прибыл…
Она сдержанно усмехнулась.
– Отдаю должное твоему воображению и чувству юмора. Но представь: даже для такой роскошной сцены у меня нашлось бы объяснение. По приглашению баронессы Э*, известной меценатки, и господина Лихарева, тоже мецената и покровителя всех униженных и оскорбленных, – на Воды для поправки здоровья приглашен пансион благородных девиц в полном составе из города N*, во главе с директрисой, кавалерственной дамой Д*…
– Недурно. – Я поощрительно похлопал Дайяну по круглому, словно специально для этого выставленному колену. Хамить так хамить. – В течение года-двух ты раздаешь своих девочек замуж в лучшие фамилии России, благо, после реставрации монархии там наверняка имеется ажиотажный спрос на титулованных невест. Титулы ведь всем сумеешь оформить? И дальше совсем ничего не придется делать, сиди хоть в Кисловодске, хоть в собственном особняке на Дворцовой набережной в Питере и стриги купоны. Королеву Викторию называли «бабушкой всей Европы», а ты?! Отлично придумано…
– С каждой встречей ты тоже открываешь мне все новые и новые свои таланты, – без намека на лесть сообщила Дайяна. – Можешь не верить, но замысел у меня был именно такой. Жить, ни во что не вмешиваясь, но быть уверенной, что этой, окончательной жизни ничто больше не угрожает…
– Так и мы не против. Разобраться бы только, что с дуггурами делать…
– Я подумала. Лучший выход, мне кажется, – ничего. Урок вы им преподали. Страшный. К потерям рабочего скота, «монстров», они нечувствительны, но на гибель «мыслящих» реагируют очень болезненно. Вы уничтожили один их экипаж в Москве-38, гораздо более многочисленный – здесь. В их понимании – это неприемлемый ущерб. И, как я успела зафиксировать, вы обменялись крайне серьезными психическими ударами. С точки зрения ксенодипломатии, как я ее понимаю, это не только формальное объявление войны, но и предварительный обмен ядерными ударами.
– Ну и что? – спросил я.
– Поднимается ветер, – не в тему ответила Дайяна. – Через час или около того на долину обрушится снеговой шторм огромной силы…
– Опять дуггуры?
– На этот раз нет. Природа. Вы прожили на Таорэре меньше годового цикла, причем в удивительно мягкое предзимье. Повезло, наверное. Захватили бы вас настоящие морозы с ураганами…
– Когда строили форт, мы подобное предполагали. Морозы за пятьдесят, подходящие бураны. Не дураки – в России выросли. Если вокруг растет вековой сосновый лес, то ветров, способных разрушить бревенчатый терем, прикрытый крепостной стеной, быть не может в природе. Иначе вместо мачтовых сосен остался бы тундровый стланик…
– Правильно. Но несколько месяцев вы сидели бы взаперти. Я тут прожила почти двести лет, все причуды погоды знаю. Базу защищала стена времени, кванги прятались в подземельях своих гор, как гномы…
– Но ваш поселок стоит, никуда не делся…
– Раньше мы его тоже умели прикрывать, сейчас – нечем. До сих пор у нас почти лето. Посмотришь, что скоро будет твориться…
– Выживем? – с ироническим испугом спросил я.
– Должны, только снега до крыш нанесет…
– Люблю катаклизмы, – сказал я мечтательно. И это было правдой. – А что дуггуры?
– Надеюсь, где-нибудь через год они приведут свои мысли в порядок, и вернутся. Чтобы отомстить и восстановить «утерянное лицо».
– Сюда, на Валгаллу?
– Скорее всего. Про Землю-2006 они, видимо, не знают. «Тридцать восьмая» реальность грозит войной, которую выиграть проблематично… И знаешь почему?
Глоток ликера, потом кофе, минералки, и затяжка крепкой сигарой. Великолепно, на душе немного полегчало. Может, от Дайяны своя аура исходит, нейтрализующая? Первые порывы ветра, как и обещано, засвистели в кронах сосен. «Пусть скорее грянет буря!» – писал не сильно умный Буревестник революции.
– Просвети…
– Эмоциональный фон планеты переполнен невероятной готовностью убивать. Всех подряд…
– Вот об этом можешь не рассказывать, что такое тридцать восьмой и следующие семь лет – и так знаю! Наш советский Гумилев пополам с Киплингом, Константин Симонов писал: «Война такой вдавила след и стольких наземь положила, что двадцать лет, и тридцать лет живым не верится, что живы…»
Я подумал – а ведь все верно! Существам, трепетно относящимся к своей психике и реагирующим на ментальные посылы, как мы на прожекторный свет, выдержать суммарную ауру миллиона человек, рвущих друг другу глотки под Курском или в Сталинграде, – невозможно. Любые нейроны сгорят, как горсть лучин в доменной печи.
Есть китайская поговорка: «Нельзя завернуть огонь в бумагу».
– Тогда что им остается?
– Или оставить свою затею, или изобрести новые способы защиты. И вернуться готовыми…
– Нет, нет, милейшая, ты, кажется, чуть раньше слегка проговорилась. Давай, выпей еще. Я смотрю, гомеостата на твоей прелестной ручке нет. Почему?
– Невозобновляемый ресурс. С тех пор как связь с материнской планетой утрачена. Я его спрятала. Ваши манеры мы знаем, могли и отнять…
Это точно – могли. Почему не отняли в свое время – отдельный разговор.
– Тогда выпивай и закусывай. Люблю разговаривать с в меру поддавшими женщинами…
Ураган ударил по долине еще раньше, чем предсказывала Дайяна. Будто в Новороссийске, с окружающих горных хребтов хлынул ледяной ветер, перемешанный с тучами снега. Все затянула белая муть. Но воздушно-тепловая завеса лоджии пока держала.
Странным образом, этот природный катаклизм принес мне еще толику облегчения. Или – отвлечения.
– Давай опустим рамы, – предложила хозяйка. – Вентиляторы скоро пойдут вразнос.
– Тебе виднее, я в вашей машинерии не секу…
Оправленные в металл блоки стекла, похожего на флинтглас [86], надежно отделили нас от буйства стихий.
– Отдадим дуггурам Таорэру? – спросил я. – Эта мысль в твоих речах прозвучала.
– А ничего другого просто не остается. Мне кажется, в нашем положении идеальный вариант – мне увести свой «выводок» в две тысячи шестой, дорога туда пока еще открыта, заблокироваться с той стороны, не оставив «запаха мысли», вам – куда-нибудь еще. Тоже за пределы разведанных ими реальностей. И тихо ждать. Я смогу разбросать здесь кое-какие приманки. И когда они придут…
– Мы им ка-ак вмажем…
– Примерно так. Главное – оттянуть их внимание от Земли, пока они не нашли других реальностей. От вашего двадцать пятого года в том числе. Видишь, тут все взаимосвязано. – Она ткнула пальцем с длинным алым ногтем в экран ноутбука. – У вас есть куда отступить?
Вот черт, удивительно совпадают ее предложения с тем, что говорили Антон и Замок. Есть поговорка: «Если трое говорят тебе, что ты пьян, не спорь и иди спать».
Я бы согласился, не присутствуй сомнение, что совет исходит из одного источника.
Да если и так?
Если чужой совет совпадает с твоим собственным интересом, не признак ли это его правильности?
А теперь перестанем спорить. Сделаем вид, что удовлетворены беседой, что набрались под самую завязку, пойдем отдыхать, воины, утомленные битвой, наслаждаясь воем ветра в каминных трубах и картечными снеговыми ударами в окна. До чего здорово спится в такую погоду…
Особенно мне и сейчас! Когда просто для того, чтобы жить, требуется невероятное усилие.
– Поищем, любезная мадам, поищем, – ответил я заплетающимся языком. – Наступать иногда некуда, а отступить – запросто…
Глава двадцать четвертая
Вообще можно было отваливать домой прямо сейчас. Я узнал все, что хотел, вернее – все, во что меня сочли нужным посвятить. Дайяна ни разу не обратилась в ретранслятор Игроков, как случалось раньше. Это могло служить подтверждением того, что Сашка действительно отсек нас от Сети, а могло и нет, с тем же успехом. Например, если Валгалла по ряду причин осталась вне того Узла. Или – еще не пришло время.
На заданный впрямую вопрос, со ссылкой на наши с ней «дружеские» беседы на катере «Ермак Тимофеевич», не чувствует ли она присутствия поблизости Игроков или Держателей, не случались ли у нее с ними за последнее время какие-нибудь контакты, она ответила отрицательно. Ничего подобного с момента того «прощания» с ней не случалось. Все, что она делала, включая встречу с Шульгиным и Лихаревым в нашем форте и авантюру по захвату «реальности-2005/06», творилось по ее собственному желанию и разумению. Она сама думала, что неплохо бы посоветоваться со всемогущими и всезнающими демиургами, но – увы. Они, пожалуй, действительно утратили интерес к человеческим делам. Как и обещали…
Ну и не надо. Очень возможно, что общая Игра на самом деле закончилась и теперь – каждый за себя. К окончательному выводу я пришел, и формулировался он крайне просто, пусть и не очень деликатно: «А катитесь вы все!»
В чем был смысл предыдущих Сашкиных похождений здесь – тоже понятно. «Демоверсия» компьютерной игры, сработанная Игроками, чтобы заинтересовать, привлечь внимание. Получилось. Мы купились, немного развлеклись, немного поучаствовали в развитии интриги, показали, что шашки еще не заржавели и в случае необходимости способны, как те «немногие», доставить крупные неприятности «очень многим» [87].
Но теперь – точка. Существуют до сих пор высшие по отношению к нам силы в обозримой Вселенной, нет – не важно. Уйдем, если выпустят, и начнем заниматься только собственными делами.
В первом часу ночи, наговорившись с Дайяной и придя к определенным соглашениям, я выразил желание направиться в отведенную мне спальню. Поддержание внешнего спокойствия, рассудительности, прекрасного самочувствия далось мне неимоверно тяжело. Как Штирлицу, находящемуся на грани провала, у которого вдобавок разболелись сразу все тридцать два зуба, обострилась язва желудка и сердце жмет стенокардия, пришлось бы небрежно беседовать с Шелленбергом, разыгрывая очередную остроумную комбинацию.
Сашка и Олег ушли к себе намного раньше. Каждый – в сопровождении своей «стюардессы».
Дайяна мне сказала: «Зачем ты удивляешься или ревнуешь? Эти девушки продолжают обучение. У нас большие сложности с практическими занятиями, а сейчас есть случай поработать с реальными объектами. Пусть попробуют…»
– Мы с тобой не попробуем? – из последних сил осведомился я, одновременно прикидывая, каким образом и способом стану отыгрывать назад, если она вдруг согласится. Деликатным или унизительным – вот в чем вопрос.
Самое лучшее в любых похожих обстоятельствах – изображать из себя смертельно пьяного. Люди, прежде всего женщины, ужасно легко ловятся на такой примитивный прием. Резко, неконтролируемо теряешь ориентацию в пространстве, плетешь непослушным языком незнамо что, выпучиваешь глаза, неспособные сосредоточиться на цели… Про остальное не говорю.
Эти дамочки, жрицы партеногенеза, в глубине души презирали мужиков настолько, что проглатывали простейшую наживку. Не требовалось быть Смоктуновским или Михаилом Чеховым, чтобы сыграть то, чего они в глубине души ждут. Даже с точки зрения Дайяны человек, выхрюкавший литр-полтора смеси всего со всем, должен выглядеть именно так. Если не хуже. Я хоть на ногах держался.
– Не сегодня, хорошо? – ответила Дайяна, глядя, как я пытаюсь сохранить равновесие, цепляясь за дверные косяки. – Тебя проводят. День был очень трудный, я понимаю. Почти бесконечный. Выспись как следует…
Кроме будущей царевны Насти, проводить меня было некому. Не хозяйке же! Я крепко вцепился в ее локоть, и мы побрели. Причем привела она меня совсем не в ту комнату, что я наметил себе в час прибытия. Думают – забыл? Ну и ладно.
Пришлось, спотыкаясь, забраться по крутой лестнице в мансарду, тоже уютно обставленную.
Опираясь на руку и талию девушки, я чувствовал мощную упругость ее мышц. Сам изображая вялость и слабость. С первых дней близкого знакомства с Ириной я отметил такое же свойство моей подружки. Сначала не понял, думал, просто классная спортсменка. Были у меня знакомые мастерши спорта, которых за задницу хрен ущипнешь!
Потом разобрался, узнал, что у аггрианских антропоморфов мышцы, как у представителей вида кошачьих. При одинаковой массе – эффективность каждого волокна вчетверо выше.
– Настя? Да, Настя, я помню, – сев на пуфик рядом с койкой, заплетающимся языком вымолвил я. Начал стаскивать тесные туфли, прилагавшиеся к смокингу. – Ты, Настюша, кофейку спроворь, коньячку стакан, на утро приготовь минералочки, раздень, ублажи и спать уложи…
Как здорово действуют не предусмотренные программой формулы! Настя точно не успела в курсе обучения дойти до не канонического фольклора. Канонический тоже изучить не успела. Троечница или второгодница? Но красива, чертовка, до остолбенения.
Насчет кофе и коньяка она управилась мигом – линии доставки здесь действовали не хуже, чем в Замке. Вышла в коридор и тут же вернулась с запрошенным. Отказывать гостю в просьбах инструкции наверняка запрещали, и все же она спросила, по доброте душевной:
– Стакан – не много ли будет?
– Как будто я его пить собираюсь, – перешел я на жесткий и совершенно трезвый тон. – Присядь-ка вот сюда. – Я указал на край кровати, перед столиком, куда она поставила мельхиоровый поднос. – Выпей сама. – И протянул ей хрустальный стакан с коньяком.
– Да что вы, Андрей Дмитриевич? – Это сработала предыдущая программа. Повинуясь следующей, она сделала два неуверенных глотка. Я сунул ей в руку чашку действительно хорошо заваренной «робусты».
Ее светло-каштановые прямые волосы до плеч, спереди падающие на лоб, почти закрывающие большие грустные глаза, вытянутые до середины ковра изящные, длинные, идеальных пропорций ножки должны были привести меня в должный настрой. Но зачем это Дайяне? Неужели действительно производственная практика для курсантки? Не шантажировать же она меня собралась? Ирине фотографии или видеозапись предъявить? Начальства надо мной нет, общественное мнение Югороссии таким образом возмутить тоже не удастся, личность я там давно уже неофициальная, широкими слоями населения практически забытая. Что еще? Попытаться выведать у меня в постели некие тайны? Глупость. Дайяна знает, что я не по зубам даже ей самой, куда там девчонке недоученной…
Конечно, не терзай меня сейчас изнутри огненные когти, я, наверное, не стал бы корчить из себя невинность. Что такого? Ирине я не изменял и не изменил бы. Всерьез. А слегка развлечься после смертного боя – ничуть не хуже, чем эротический фильм посмотреть. Или просто пофантазировать насчет чужой жены…
Уловив мой взгляд, Настя, будто бы смутившись, встала и отошла к окну. Сзади она смотрелась еще лучше.
Опять же, подобное в моей жизни уже было. Очень, очень давно. Девушка в облегающем костюме, ноги в золотистых чулках, туфельки на десятисантиметровых шпильках… Она, помнится, на вечеринке в чужой квартире, на пятнадцатом этаже дома на Котельнической, опершись о подоконник, выглянула в окно, чтобы полюбоваться Москвой с птичьего полета. Ей – огни ночного города, а мне приоткрылись кружевные оборочки трусиков и незагорелая кожа между ними и краями чулок. Ох, как это взволновало тогда!
Нет, у Анастасии ничего такого видно не было. Только натянувшаяся на тугих полушариях юбка и ноги, приоткрывшиеся чуть выше подколенных ямок.
Ураган завывал и встряхивал коттедж. Завтра, если он утихнет, девчатам, как нормальным солдатам-первогодкам, придется брать фанерные лопаты, расчищать линейку, дорожки и плац. Весьма оздоровительная процедура.
– Настасья, тебе что было приказано? – спросил я командирским голосом, изгнав из организма последнюю молекулу алкоголя. Мне было просто интересно, как вымуштрованы девушки Дайяны.
– Свет – потушите… – услышал я едва ли не шепот.
– Свободно…
Дернул за шнурок – торшер погас. Однако в окно проникало достаточно света уличных фонарей, пробивавшегося сквозь вьюжную круговерть.
Настя, не оборачиваясь, сняла жакет, бросила его на пол. За ним – форменную блузку. На этом замялась. Зябко повела плечами, перечеркнутыми узкими бретельками.
Это мы тоже понимаем, схема – «гимназистка». Эмансипированная девушка вроде и пришла к мужчине в комнату, решилась отринуть предрассудки, а они не пускают. Хочется ей познать неведомое и манящее, о чем так заманчиво пишут Гиппиус и Арцыбашев, а в то же время и стыдно раздеваться, как в бане, и страшит предстоящее, окончательное…
Интересно, а сколько у нее других «подпрограмм» в запасе, почему избрала именно эту? Или так в задании записано?
Наконец преодолела себя, повернулась, по-прежнему смущаясь, отворачивая лицо и неловко прикрывая маленькую грудь под полупрозрачным розовым бюстгальтером, неуверенными шагами подошла, остановилась в трех шагах, расстегнула пряжку поясе, переступила через упавшую юбку.
Все правильно, Дайяна знает, как стажерок перед зачетом одевать. Колготки – не комильфо. Чулки, ажурный поясок и пристойного покроя трусики.
Вздохнула, присела на пуфик возле тумбочки, сжав колени. Надеясь, что остальное сделаю сам.
– А если я скажу тебе – уходи? Думаешь, я таких девчонок не видел? Собирай свои шмотки и уходи. Ты мне в дочки годишься…
А что? Мне, по последним расчетам, около тридцати восьми, ей – ну, не знаю. Девятнадцать, двадцать. Теоретически допустимо.
Она вдруг подалась вперед, опустившись на колени, одной рукой обняла меня за плечо, прижалась мягкими и жаркими губами к щеке.
– Уйти? Уйду, прямо сейчас. Вам все равно? Вы жесткий, хитрый человек, изображали пьяного, а сами совсем трезвый. Зачем? Хозяйку обмануть? Вам трудно поучить девушку? Я именно девушка. Все зачеты я сдала, а практики нет. Не с кем. Вам что, трудно помочь? Иначе меня на Землю не пустят…
Ни хрена себе теория и практика! Ирину тоже так тренировали?
Мелькнула мысль, а вдруг мне это – поможет? Бурная ночь с юной красавицей, взрыв положительных эмоций оборвет вливающийся в мою душу поток черной энергии?
Увы, нет. Я настолько раздавлен, что ничего не смогу. Поведение девушки, вид ее полуобнаженного тела вызывают не вожделение, а неприязнь. Сашка рассказывал, нечто подобное с ним случилось в институте во время прохождения курса гинекологии.
Я слегка отстранился, указав глазами, чтобы села, где сидела. Анастасия повиновалась, только колени больше не сжимала. Наоборот.
Взял сигарету, она тут же поднесла зажигалку. Теперь можно и самому сделать глоток: совсем чуть-чуть, но помогает.
– Если вопрос только в этом… А тебе самой действительно этого хочется? Бывает, в таких делах не стоит торопиться. Мне ничего не стоит сделать так, чтобы и Дайяна и ты сама остались в полной уверенности, что все произошло, как надо. Ложись лучше, спи, кровать широкая. На Землю ты попадешь в числе лучших выпускниц, золотых медалисток. Запомни код, по которому сможешь меня отыскать. Я с гораздо большим удовольствием приму на себя роль доброго дядюшки-покровителя, чем престарелого любовника. Ей-богу…
Мне показалось, невзирая на полумрак, что глаза ее блеснули благодарностью. Но вполне мог и ошибиться, откуда мне знать, по каким принципам Дайяна их воспитывала? С тем же успехом я мог нанести сейчас девушке глубокое оскорбление. Да нет, не должно, она ведь олицетворяет русский типаж… Бедная Лиза, княжна Мэри, Маша и Дубровский… Ирина, по крайней мере, к осознанному и добровольному выбору подошла почти через полтора года романтических отношений…
– Вам, конечно, виднее, Андрей Дмитриевич, – спокойным мягким голосом ответила Настя. Не вставая, отщелкнула застежки пояса, стянула его вместе с чулками, бросила поверх юбки. – Если сможете сделать так, чтобы мадам поверила, – пожалуйста. Хотя все же интересно было бы узнать, что при этом чувствуешь…
– Успеешь, – повторил я. – Ложись, и давай поговорим просто так…
Как только девушка начала раздеваться, я поставил вокруг комнаты ментальный блок, по рецепту Удолина. Даже если здесь установлены оптические камеры слежения, Дайяна не увидит и не услышит ничего. Только, если сумеет, прочтет адресованное лично ей послание о том, что я в порнофильмах не снимался и сниматься не собираюсь.
Крайне осторожно я расспрашивал Настю о том, как им здесь живется, чему учат, какие обещают перспективы жизни и карьерного роста. Пожалуй, Дайяна меня не обманывала. Даже используя все известные мне методики растормаживания личности, я не смог вытянуть из курсантки ничего, касающегося возможного участия в программах разведывательно-диверсионной деятельности.
В пределах ее неокортекса [88] содержались сведения, необходимые для успешной адаптации на Земле, причем действительно в районе две тысячи пятых годов (обеих реальностей), довольно приличный информационный блок нескольких университетских курсов, свободное владение языками романо-германской группы, не считая славянских, конечно. С такой подготовкой девушка свободно могла за несколько лет достичь вершин в почти любой избранной профессии или стать незаменимой помощницей и добрым гением стремящегося в высшим государственным постам мужа.
Ни малейших намеков на нелояльность будущей Родине или ориентацию координатора, подобного Ирине или Сильвии.
Конечно, Дайяна с тем же успехом могла подчистить сознание и подсознание девушки перед тем, как отправить ее в мою постель, но это вряд ли. Слишком глубокий процесс, тем более что она не могла быть уверена, что я выберу именно эту.
Из книжек и общения с Константином Васильевичем, Сильвией, Антоном я знал, что теоретически есть способы внедрять сверхзащищенные, многослойно прикрытые установки, срабатывающие через годы автоматически или по особому сигналу, но это такая экзотика, на грани легенд… Как использование участковым Анискиным полиграфа и пентоталовой сыворотки при расследовании кражи аккордеона из сельского клуба.
Зато я, кандидат в Держатели, подкрепленный некоторыми антинаучными методиками Удолина, умел делать с психикой не готовых к такой внезапной агрессии людей нечто такое, что и Дайяне не под силу. Там, где она действовала, грубо говоря, ломом, я обходился отмычкой из дамской шпильки.
Настю я перевербовал, не коснувшись сути ее личности. Если нам доведется когда-нибудь встретиться на Земле, она будет меня слушаться, как любящая дочка обожаемого папу. Дайяна же останется деспотичной теткой, почитать которую необходимо, но лишь до поры… Ни в коем случае не демонстрируя непокорности и неприязни.
Это я сделал. Потом навеял сладкий сон. Что может быть лучше – заснуть в мягкой постели, под вой и рев сотрясающего дом урагана, в полной уверенности, что стены надежны и печь тепла, а рядом человек, способный защитить от любой мыслимой опасности. Я аккуратно поправил ей одеяло, спел колыбельную, пусть и мысленно. Ушел по узкой деревянной лестнице наверх, в совсем маленькую комнатку, с косыми скатами потолка, где распрямиться в рост можно только под центральной балкой, зато окошки – на все четыре стороны света.
Ох и пурга, ох и ветер. Не знаю, сам по себе он пришел или напустил кто, но моментами возникало сомнение – выдержит ли дом. Кажется, при ста метрах в секунду никакие строения, кроме каменных замков, устоять не могут. Вспомним азиатские тайфуны и американские торнадо. Тем интереснее…
Курил не знаю какую по счету сигарету, с огромным уважением к себе думал, что остаюсь приличным человеком, «шестидесятником» в советском варианте, «аристократом духа» по понятиям «серебряного века». Какой молодец, а? Не набросился на восхитительную девушку, поддавшись гнусным инстинктам. Сделал все наоборот…
Тут же вспомнился давнишний роман, где такому вот благородному герою вроде меня слишком поздно стало известно, что, «пожалев» предлагавшую ему любовь юную девушку, он обрек ее на унизительную смерть. Слишком уж в нашем мире множества цивилизаций и этик несовпадающих понятий. А в не нашем, нечеловеческом?
Вернулся и еще раз, преодолевая огромную усталость, послал крепко спящей Насте роскошный эротический сон. Самый настоящий. Утром она будет абсолютна уверена, что я ее разбудил и мы с ней творили такое…
Пусть верит. И Дайяна не сможет не поверить… Пусть только попробует! Моя мыслеформа и ее достанет.
А теперь и сам постараюсь заснуть. Очередным волевым усилием, пусть воли оставалось совсем ничего. Заснуть, как смертнику перед казнью…
Это мне удалось, хотя спал я отвратительно. Снились громадные ватные шары, катящиеся со всех сторон, наваливающиеся, душащие. Всю ночь я отталкивал их от себя непослушными, невероятно распухшими и уродливыми руками. Какой-то тифозный бред…
Настасья разбудила меня своим шуршанием в комнате. Вновь одетая по полной форме, свеженькая, она смотрела на меня с обожанием и, упаси бог, с любовью. А что еще нужно молодой девушке, впервые испытавшей… Во сне или наяву – невелика разница. Скажи я сейчас – пойдет за мной на край света. Наверное…
Очень неприятное, должен отметить, ощущение, тоже следствие ничуть не ослабевшей за ночь депрессии. Интересно, а обычной земной химией, препаратами из Сашкиной аптечки вылечиться можно?
Я поцеловал девушку в щечку, погладил по руке и попросил «отбыть в место расположения». Одеваться, бриться и так далее я люблю в одиночестве. Ей же следует доложиться по начальству. Когда будет нужно, мы встретимся…
Завтракали вчетвером. Мы и Дайяна. Лихарев не появился. Спрашивать о причине не стали. Значит, так нужно.
Ураган немного поутих, но оставался достаточно сильным, чтобы желания выйти на улицу не возникало. Разрушений он не принес, однако действительно засыпал поселок снегом по окна вторых этажей.
После ночи, проведенной с курсантками, и вряд ли столь целомудренно, как вышло у меня, Олег выглядел слегка смущенно, Сашка, напротив, весело.
– Одним словом, уважаемая, – сказал я хозяйке, – свою миссию считаем выполненной. И готовы откланяться. Как только сочтешь, что у тебя все готово, перебирайся на Землю. Устроиться поможем в меру возможностей. Даже лично представим новому Государю. Ты на него произведешь неизгладимое впечатление, а уж как этим воспользуешься… Он насчет дамских прелестей полный аналог державного предка Александра Второго. Был бы мусульманином, всех твоих девчат в гарем взял. А так – изредка и по одной будешь ему предлагать. Каждая получит мужа, титул и имения… Если сумеет соответствовать державным вкусам.
– А вы что решили?
– Не имеет абсолютно никакого значения…
Это я вспомнил давнюю историю с Воронцовым. Тогда он, опасаясь, что мы можем попасть в плен к агграм, заправил мне такую изящную дезу насчет своих планов, что я проглотил «крючок без наживки». Поверил и если не возненавидел бравого капитана, то проникся к нему снисходительным презрением. Но прав оказался он, а не я. Мы действительно оказались в плену, вот у этой самой Дайяны, и ничего, кроме эмоций плюс легенды она из меня вытащить не смогла. Что и помогло нашему последующему спасению.
Вот теперь и Дайяне не нужно знать ничего лишнего.
– Вернемся домой, в Югороссию-25. Обустроишься в окрестностях Машука и Бештау, заходи в гости. Ждем-с. Подумаем насчет отражения агрессии дуггуров, если таковое последует. Догадаешься, как организовать контртеррористическую операцию, – обсудим. Пугнем врага на его территории…
– Ну, вы разошлись, ребята, – с простецкой, мало соответствующей ее облику улыбкой ответила Дайяна. Впрочем, сегодня она явилась не в сари, а в нормальном джинсовом костюме, с невысокими разрезами по бокам юбки.
– Да что же нам, дорогая, остается? – спросил Шульгин, пропустивший большую часть вчерашнего ночного разговора, однако легко встроившийся в тему.
– Возможно, и ничего, – вздохнула она. – Я послала Валентина и еще несколько девушек, чтобы они перегнали сюда танки с гравипушками, другую пригодную для обороны технику. После того перепуга, что вы агрессорам устроили, сразу они не полезут. До нужного момента мы продержимся.
Что она считает «нужным моментом», я спрашивать не стал. Наверное – выпускные экзамены.
– Вот и хорошо. Ответь еще на один вопрос, перед тем как распрощаться, – почему у тебя остались одни девушки? Раньше были ведь и мужики, мы сами видели. Тот же и Лихарев…
– Не стоит касаться этой темы, – поморщилась Дайяна. – Деталей вам все равно не понять…
– Как же, как же, – шутовски ухмыльнулся и развел руками Сашка. – Биологию не учили. Только тема эта нам неинтересна. Сейчас. Скажи спасибо, что мы транспортную «медузу» грохнули. Ты уверена, что она была первая и последняя?
– Уверена, – напряглась Дайяна.
– Вот и хорошо. А то бы они ваши контейнеры с зародышами плюс обучающие программы к себе вывезли, и получили б мы все через некоторое время инвазию хорошо обученной человекоподобной агентуры. Лови их потом по всему свету, будто у нас своих дел мало…
– Вы знали?.. – Дайяна выглядела ошеломленной. А с чего бы?
– Подумаешь, бином Ньютона! В Пятигорске встретимся – расскажу. Давай прощаться.
Для эвакуации нам нужна была отдельная комната с хорошо запирающейся дверью, чтобы случайно никто не помешал настройке.
Входя в нее последним, я придержал Дайяну за локоть.
– Ты Настасью больше никому не предлагай. У меня на нее свои планы. Договорились?
– Понравилась? – улыбнулась Дайяна.
– Очень. Я из нее сделаю человека. Но ты – просто имей в виду… Тебе ведь особого труда не составит? – Я постарался, чтобы слова мои прозвучали не иначе как просьба, но такая, в которой отказать – себе дороже выйдет.
– Тогда – до скорого свидания…
Оставшись втроем, мы приготовились к медитации. И вдруг Сашка спросил:
– Ребята, а с Сехметом – как же? Опять исчезнем, как без вести пропавшие? Нехорошо.
– Что предлагаешь? – осведомился Левашова, которого эта коллизия не слишком интересовала. – Снова туда лететь? По-моему, наигрались под завязку…
Я тоже так считал. В другом состоянии я бы непременно полетел, объяснил кое-что, свозил в форт, снабдил оружием, но сейчас – сил не было никаких.
– Жил без нас и еще проживет. Мы ему сказали, что запасами нашими он может пользоваться и что в нужное время опять вернемся. Будет у парня надежда в жизни. Как у евреев на пришествие мессии…
Шульгин засмеялся.
– Ты чего?
– Анекдот вспомнил. На эту же тему. Мессия, наконец, явился в Иерусалим. Все собрались на торжественную встречу. Одного Рабиновича нет. Послали за ним. Тот бухгалтерские книги в порядок приводит. Говорит: «Скоро буду». Опять ждут – нету. Мессия не выдержал, сам пошел. «Ну, сколько же тебя можно ждать?» Рабинович всплеснул руками: «Ах, кто бы говорил!»
Может, и смешно, но не мне и не сейчас.
– Поехали домой. Олег прав – наигрались…
Василий Звягинцев Ловите конский топот Книга вторая Кладоискатели
Еще один старинный долг,
Мой рок, еще один священный!
Я не убийца, я не волк,
Я чести сторож неизменный.
Глава первая
Возвращение в Замок прошло благополучно, хотя у Новикова до последней секунды имелись на этот счет серьезные сомнения. Он опасался, что полученная им психическая контузия могла нарушить неизвестные тонкие структуры и повторился бы «калейдоскоп». Так он обозначил ситуацию, в которой оказался невероятно, по его ощущениям, давно. В конце двадцатого года, когда Сильвия заманила его из загородного поместья под Истборном на Валгаллу. Она тогда использовала необычную методику, совсем не похожую на создание межпространственного тоннеля «по Левашову», с помощью СПВ. Не слишком для Андрея это оказалось удачно.
То ли у нее настройка блок-универсала сбилась, то ли сам Новиков в последний момент, подсознательно, вздумал отыграть назад. И разделился на составляющие сущности. Базовая, включая физическое тело, благополучно прибыла в «шлюзовую камеру» на аггрианской станции, где человек мог существовать, изолированный от «обратного времени». А эфирная, или попросту – душа, заблудилась между равновероятными вариантами телесного воплощения. Поочередно он попадал в красный концлагерь, в котором врангелевский генерал Новиков оказался в результате гипотетической военной неудачи; в охотничью избушку, удивительно похожую на ту, где Шульгин оборонялся от монстров; на палубу «Призрака» во время боя с загадочными торпедными катерами… И везде присутствовали странные женщины, красивые, но неумолимо влекущие к смерти. Суккубы, что ли?
Еле-еле удалось воссоединиться, с четвертой, почти безнадежной попытки.
Позже, намного позже оказалось, что варианты имели отношение к его последующей жизни. За исключением концлагеря. Так ведь еще и не вечер?
На этот раз ничего подобного не случилось. Тела и «души» пересекли пучину эфирного океана синхронно и синфазно, их согласование «по месту» заняло совсем немного времени. Без накладок, похоже, а там кто его знает…
Удолин вышел из транса несколько раньше их появления, приветствовал друзей взмахом руки и несколько самодовольной улыбкой.
– Совершенствуемся, господа, совершенствуемся! Задача была трудной по любым меркам. Не думаю, что кому-нибудь из ныне практикующих магов она по силам… Трансгрессия такого масштаба, и ведь не инертной массы, мыслящих существ… Ну, приводите себя в порядок.
Они переоделись в оставленные перед рейдом костюмы. Умылись и наскоро побрились, на Валгалле недосуг было заниматься такой ерундой.
Настенные часы показывали, что все предприятие здесь заняло лишь двадцать четыре физические минуты. Девушки в своей комнате вряд ли успели соскучиться. Может, еще и обидятся, если прервать их общение. В любом случае прежде всего нужно обменяться мнениями с Удолиным.
Профессор был крайне удовлетворен результатами эксперимента.
– Прежде всего, мы убедились, что мир, описанный Александром, не вымышлен. Он не в полной мере совпадает с тем, где вы только что побывали, но различия скорее «стилистические». При более глубоком и систематическом проникновении мы наверняка выяснили бы массу интереснейших подробностей, но на первый случай достаточно. Подлинность личностей, с которыми вы встречались, тоже не вызывает сомнений. Там не «серая зона», они на самом деле адекватны и конгруэнтны земным аналогам, то есть, короче говоря, не есть фантомы или порождения потусторонних сил. Вернувшись на Землю, не потянут за собой никаких «теней».
Кроме того, я сумел зафиксировать частоты, на которых ты, Андрей, «переговаривался» с дуггурами. Они исходили из уничтоженной вами «медузы», и я пока не уверен, что в своем мире, общаясь между собой, означенные существа используют такие же. Я не уверен и в том, что отсюда, из Замка, удастся послать сигнал за пределы границы миров, разделяющей нас и их. Из «настоящего» времени – может быть. Однако нельзя исключать, что мы с ними существуем в слишком разных мыслесферах, связь между которыми возможна только посредством эфирных мостов, отнюдь не напрямую. Совершенно так, как ни одному некроманту не удавалось непосредственно связаться с настоящим «загробным миром». Почему мы и не располагаем достоверными сведениями, что там происходит…
– А как же, – спросил любознательный Шульгин, – Артур, Вера и похождения Ростокина? Самые что ни на есть загробные дела…
– Ничего подобного, – замахал перед нашими носами длинным пальцем Удолин. – «Серая зона», только и единственно. Кое-кто из нас может проникать в нее отсюда, кое-кто – оттуда. Это как бы барьер безопасности между абсолютно несовместимыми сущностями. Есть мнение, что египетские и шумерские жрецы имели прямые контакты с другим миром, но документальные подтверждения отсутствуют. Да и что бы я делал в загробье Осириса, Изиды, Мардука и прочих? С тех пор так все изменилось, усложнилось…
– Это точно, – подтвердил Шульгин, вспомнив собственный визит в IX век до нашей эры. – Не думаю, что их «тот» свет был лучше «этого».
– Так что, будем искать «серую зону» между нами и дуггурами? – спросил Новиков.
С момента возвращения он непрерывно прислушивался к себе и с радостью отметил, что сидевший в нем источник тоски и боли исчез. Он снова был в полном порядке.
– Именно и непременно. Материалов вы мне предоставили достаточно. Дело за мной. Что я вам еще скажу… – Константин Васильевич разлил всем специально для него сотворенный коньяк, чрезвычайно старый и редкий. Новиков обратил внимание, что уровень жидкости в бутылке с момента их ухода не понизился. Это понятно, находясь в трансе, профессор пить не мог. А сейчас решил восполнить упущенное, да и другим невредно подправить эмоциональный баланс. – Про ваши планы отправиться на поиски приключений я знаю. Хотел составить компанию, вновь пережить молодость, исправить кое-какие ошибки. Теперь решил по-другому. Если вы не станете возражать и обеспечите достаточное финансирование, я мог бы собрать по всему миру сильную команду специалистов в нужных областях. Чтобы с нашей позиции вплотную заняться проблемой дуггуров. Более того, свою лабораторию я мог бы развернуть там, откуда вы только что вернулись. Если вы сможете договориться с мадам Дайяной и переправить меня туда в физическом облике. Эфирные тела пригодятся мне для экспериментов…
Идея Удолина в первый момент показалась Новикову дурацкой, а во второй – гениальной. Не с его точки зрения, с противоположной. Нет, профессор, само собой, будет заниматься своими исследованиями, наверняка небесполезными, но под этим прикрытием можно организовать еще одну операцию…
После пережитых душевных мучений сейчас думалось легко и раскованно.
Обсудив еще кое-какие практические вопросы, связанные с посещением Валгаллы, странники вернулись, как ни в чем не бывало, в комнату, где их ждали дамы, на самом деле не заметившие непродолжительной отлучки кавалеров. Нашлись у них свои, достаточно интересные темы, да и десерт, организованный для них Шульгиным, способствовал непринужденности общения. Они, словно древние римлянки, возлежали на удобных диванчиках по обе стороны низкого столика, дымя сигаретками и прихлебывая прохладительные напитки.
Все-таки трудно привыкнуть к таким коллизиям – у одних прошло полчаса, у других почти трое суток увлекательных приключений и смертельного риска. Лица до сих пор горели от мороза, ветра, жесткого снега.
Новиков собирался отложить рассказ об их рейде до общего собрания, но не получилось. Ирина, несмотря на розоватый свет прикрытой шелковым абажуром лампы, с одного взгляда заподозрила неладное. Как та жена, что по звуку вставляемого в дверь ключа определяет, сколько муж выпил.
Привстав на своем ложе, она спросила ледяным тоном:
– И где же вас на этот раз черт носил?
Лариса тоже села и начала всматриваться. Взгляд ее не сулил ничего доброго. Левашову как минимум.
– Да о чем ты? – стараясь, чтобы голос звучал естественно, первым ответил Олег. – Полчаса всего… Ну, сидели, разговаривали. Ну да, по сто грамм приняли, конечно…
– Никогда ты врать не научишься, – махнула рукой Лариса. – Знаю я ваши полчаса. И год могли прошляться. Давайте, колитесь, а то хуже будет…
Левашов, конечно, не выдержал. Другого выбора ему не оставалось. Остальным, впрочем, тоже. Не пристало взрослым серьезным мужикам запираться и отнекиваться, как застигнутым за курением в школьном туалете пацанам. Ну и пусть его, думал Андрей, прислонившись к мягкой спинке дивана, наслаждаясь покоем, близостью Ирины и очередным переходом от смертельного риска к безответственности и безопасности. А главное – концом депрессии.
Ароматный ликер пригубливал просто так, ради вкуса и запаха, отмечая для следующих литературных записей, насколько отличается восприятие той же самой жизни, когда меняется одна-единственная из ее составляющих. Ему не приходилось страдать хроническими, изматывающими, безнадежными телесными болезнями, душевными – тем более, но сейчас он впервые понял, как это ужасно и каким счастьем может быть избавление.
Олег рассказывал о возвращении на Валгаллу, о битвах с монстрами, о Базе, Учебном лагере, Дайяне и ее воспитанницах подробно и ярко, при этом тщательно пропуская ненужные, неуместные здесь и сейчас подробности. В самом начале Андрей поймал его взгляд, едва заметное подмигивание. Не перебивай, мол, не вмешивайся и не ляпни чего-нибудь лишнего.
Да уж конечно, практиканточки – это никого, кроме нас, не касается.
А в целом получалось у Левашова хорошо. Литературно. Достоверно и без натуралистических подробностей.
Шульгин слушал, потягивая коньяк и благодушно улыбаясь.
«Стоп», – сказал себе Новиков, когда мягкая ладонь Ирины коснулась его руки. Она наверняка что-то почувствовала. Его внутреннюю напряженность, или никому другому не заметную фальшь в словах Левашова. Так и на самом деле – ей слушать рассказ Олега – как старослужащему капитану Максиму Максимовичу излияния прапорщика Печорина о Кавказской войне. Его сразу охватило чувство любви к ней, благодарности за ласку и понимание, желание тут же, не стесняясь окружающих, начать целовать сначала эти милые пальцы, потом выше, выше, шею, лицо…
«Стоп! Это – опять симптомчик. Переход из депрессивной фазы в маниакальную». – Новиков был достаточно начитан в популярной медицинской литературе, да и многолетнее общение с Шульгиным кое-чего стоило.
Вот на чем его подловили дуггуры! Ни к чему им было проникать в глубины его изощренного интеллекта и гасить способности кандидата в Держатели. Попали в болевую точку древних мозговых структур. Сидела там от общих обезьяноподобных предков унаследованная склонность к циклотимии.[1] Все гуманоиды, в силу специфических особенностей эволюции мозга, в качестве расплаты за разум обязательно оказываются привязанными к психическому маятнику, раскачивающемуся между шизофренией и циклотимией. А там уж как кому повезет.
Слава богу, что шизофрения – не его удел. Было бы гораздо противнее. Значит, большую часть жизни он прожил при акцентуации в сторону гипоманиакальности. Отсюда оптимизм, веселость, бесшабашность, способность к стремительным и неизменно верным решениям, озарениям и тому подобное.
Тем страшнее оказался провал в подспудно копившуюся депрессивность.
Андрею сейчас хотелось радоваться жизни со всей разнузданностью. Но самоконтроль сохранялся.
«Как наилучшим образом дать выход этой вспышке?»
Ответ явился сам собой.
– Сашка, найди мне гитару!
Новиков очень давно не пел в компаниях, времена и самоощущение чересчур резко изменились. Как бы не ошибиться – Альбе с космонавтами пел последний раз или офицерам-корниловцам после взятия Каховки? Наверное, тогда. После – было не в настроение.
Ну и ладно!
Шульгин на минутку вышел из комнаты, вернулся с инкрустированной перламутром шестистрункой. Андрей бегло ее осмотрел, попробовал взять несколько аккордов. Гитара была великолепна, под его руку настроена.
Лариса смотрела на Новикова странным взглядом. По-своему, но чувствовала, что какие-то изменения и в Левашове, и в остальных произошли.
Андрей, утрированно подражая признанным (и призванным) в аристократических кругах исполнителям, сбросил с плеч куртку, лихо хлопнул рюмку, отошел в угол, откуда акустика обещала быть правильной, поставил ногу на резной табурет.
Еще раз пробежал пальцами по ладам. Годиться.
Ему захотелось спеть нечто разнузданное, отвязное, на грани пристойности, а то и за ней, типа частушек, что орут крепко выпившие мужики и бабы в среднерусских деревнях, но он сдержался. Джентльмен остается джентльменом, даже когда у него начинает сносить крышу.
Пожалуй, исполним вот что:
Новиков сам почувствовал, что получилось. Лариса даже захлопала в ладоши, не сдержавшись.
– Давай еще…
Андрей мельком взглянул на Ирину. У той песня восторга не вызвала.
Хорошо. А что бы для нее вспомнить?
Потянуло спеть нечто однозначное и оптимистическое, вроде: «Я уходил вчера в поход, в далекие края, платком махнула у ворот любимая моя…», но само собой вышло чуть-чуть иначе.
Словно бес под руку толкал.
Главное, первые аккорды под текст подобрать…
– Может, пока хватит? – не то попросила, не то потребовала Ирина.
Андрей согласился.
Посидели еще немного, обсуждая кое-какие детали их отчаянного путешествия, и засобирались. Первым – Шульгин. Друзья-то со своими благоверными уже объяснились, а ему это только предстоит. Так чего оттягивать? Подробный разбор решили оставить на потом.
По пути к лифту, отпустив женщин и Левашова вперед, Шульгин придержал Новикова за локоть.
– Что-то нехорошо с тобой, а?
– Есть немного. Похоже, получил по мозгам сильнее, чем показалось вначале.
– Головокружение, тошнота, в глазах двоится? Слуховые, обонятельные, зрительные галлюцинации?
– Чего нет, того нет…
– Голосов не слышишь?
– Да ну тебя! В таких пределах я и сам в психиатрии разбираюсь. Просто настроение препоганейшее, переутомился, видать, окончательно…
Он в нескольких словах объяснил Сашке, что с ним творилось последние сутки, и назвал предполагаемый диагноз. Как всякий неожиданно заболевший человек, надеясь, что опытный врач тут же его успокоит и развеет страхи.
Но Шульгин, знающий пациента, как себя самого, напротив, посерьезнел.
– Похоже, весьма похоже. Говоришь, было совсем плохо. Когда вернулись – развеселился, а сейчас опять?
Андрей на самом деле чувствовал, что депрессия возвращается в полном объеме.
– Вообще по науке так не бывает. Обычно фазы куда более продолжительные, неделями, месяцами, с ремиссией между… Мы вот как сделаем. Сейчас иди к себе, постарайся выспаться. С Ириной попробуй отвлечься…
Новиков попытался что-то возразить, Сашка движением руки велел молчать.
– Не выйдет – ничего страшного. Холодный душ до посинения, и спать. Спиртного пить не надо. Транквилизаторов сегодня тоже. Уж перетерпи, муторно, конечно, будет, но это не смертельно. Особенно для нас с тобой. А с утра займемся основательно…
– Почему не сейчас? – терпеть еще одну мучительную ночь ему казалось невыносимым.
– Потому. Нарыв должен созреть. Как говорят хирурги – резать после первой бессонной ночи…
– Так у меня уже была…
– Так у тебя и не нарыв…
На том и расстались.
Утром осунувшийся, в буквальном смысле погасший, Андрей зашел к Шульгину. Ночь прошла гораздо хуже, чем предыдущая, в лагере Дайяны. Ирине он о своем подлинном состоянии не сказал, ограничился общими словами о реакции на мысленный поединок с дуггурами. Оставаться у нее не стал. И до мучительно медленно наступавшего утра то вертелся на тахте в своем кабинете в тщетных попытках заснуть, то кружил по гостиной, курил, пытался читать и тут же отбрасывал наугад выдергиваемые с полок книги.
Попавшиеся на глаза строчки:
вызвали у него хриплый, злой смех.
Вопреки рекомендации Шульгина он все-таки налил полный фужер коньяку, заварил кофе, выключил верхний свет, зажег свечи, снова курил сигареты одну за одной, бессмысленно глядя в черные окна.
Кажется, впервые в жизни подумал, что начинает понимать самоубийц. Если вот такое продолжается неделями и не помогают лекарства, да вдобавок нет ясного осознания причин своего состояния и четкой мотивации жить, что же еще делать? Пуля в висок – великолепный выход…
При этом гомеостат не помогает. Нагло светя зеленым экраном, утверждает: «Ты совершенно здоров!» Хоть в космос лети, хоть на Эверест карабкайся без кислородного прибора.
У Сашки уже сидел Удолин, введенный в курс дела и приглашенный для участия в консилиуме.
Оказавшись в обществе специалистов, Андрей испытал подобие облегчения. Что-нибудь они наверняка придумают. В самом крайнем случае, думал он, можно обратиться к Антону. Что, если и в этом случае попробовать отыграть назад? Допустим, с момента их выхода в астрал? Никто ведь ничего и не заметит, что такое двадцать четыре минуты?
Да нет, вряд ли выйдет. Реальность уже зафиксировалась, здесь и на Валгалле. Или нет?
Вначале Шульгин обследовал и опросил Новикова по стандартной схеме психиатра, исключая, разумеется, «анамнез вита».[4] Естественно, ничего принципиально нового не узнал, за исключением того, что процесс протекает в угрожающе тяжелой форме. Если бы не исключительная устойчивость психики больного, его следовало немедленно госпитализировать и прописать массированный медикаментозный курс.
Затем подключился Удолин, введший Андрея в гипнотический транс для удобства послойного сканирования ментальных структур, сверху донизу.
– Что ж, коллега, – сообщил он Шульгину, завершив свои манипуляции, – все обстоит именно так. Мы имеем застойный самоподдерживающийся очаг торможения в области гиппокампа, если оперировать терминами современной медицины… Насколько я понимаю, ваша психиатрия от нашей ушла не так далеко, как хирургия и терапия.
Шульгин кивнул.
– Психофармакология ушла гораздо дальше, чем вы можете представить, что же касается этиологии[5] – то конечно… Особо похвастаться нечем.
– Значит, с помощью фармакологии вы такое «заболевание» вылечить можете?
– Окончательно – вряд ли, но поддерживать больного в приемлемом состоянии – вполне…
– Уверяю вас – ничего не получится, – словно бы даже с гордостью сказал профессор. – Чем больше вы станете давать ему лекарств, тем острее будет развиваться процесс. Все дело как раз в этиологии. В старое время это назвали бы сглазом или порчей. Совершенно непонятным образом наши враги вычислили или случайно угадали частоту и силу колебаний мирового эфира, нужную для того, чтобы в мозгу Андрея образовался такой вот очаг. И поскольку воздействие носит целенаправленный, я не хочу сказать – осмысленный на уровне эфира характер, попытки подавить эффект медикаментозно будут вызывать противодействие, ибо задан именно тот биоритм, что мы имеем. Закончиться это может механическим разрушением нейронной сети… Таким вот образом.
Источник этих колебаний я установить не могу. Возможно, в физическом смысле его и не существует. Сейчас. Все это – следствие однократного импульса неизвестной нам природы. Вы же знаете, что теоретически волны от брошенного в воду камня в идеальной среде могут разбегаться бесконечно долго… Вот и здесь…
– Но на нас же эти волны не действуют…
– Не действуют аналогичным образом, – наставительно возразил Удолин. – Ничего удивительного. Слишком тонкие структуры здесь участвуют. Разница в доли ангстремов достаточна, чтобы эффект для мозга или души с иными характеристиками был совсем другим. Кто знает, вдруг у вас или меня эти колебания спровоцируют способность к левитации или вызовут рассеянный склероз…
– Ничего себе, сходили за хлебом, – пробормотал себе под нос Шульгин.
– Что? – не расслышал профессор.
– Это я так.
– Потребуются длительные исследования, и я не уверен, что они мне по силам, – подвел черту Удолин. – Проще говоря, здесь нужен не ученый, а экзорцист, ранее встречавшийся с такими случаями, знающий, что и как изгонять…
Диагноз и прогноз Шульгина ошеломили. Вот тебе и доигрались, господа кандидаты! Маршировали с довольными мордами, песню орали: «Нет нам преград на море и на суше…» Или как пресловутый Колобок: «Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел…»
И откуда они взялись на нашу голову, эти дуггуры?!
«А оттуда и взялись, – ответил он сам себе, – предупреждали ведь Игроки, не лезьте в тайны мироздания, оно вам рано или поздно отомстит. Андрею первому отвесили, кто следующий и что придумают для него?»
– То есть, вы считаете… – Он не стал договаривать.
Удолин со скорбным выражением кивнул и развел руками.
– Ни один человек долго такого не выдержит…
Сашка и сам это понимал. Или провал в пучину настоящего безумия, с распадом личности, или…
Он видел картинку своей вероятностной смерти, и это было очень страшно, а теперь Андрею уготована куда худшая участь.
– Неужели и Антон ничем не поможет? – уцепился он за соломинку.
– Сомневаюсь. Разве что полностью переформатировать структуру мозга, но тогда это будет просто другая личность. Вы же не могли не задуматься над фактом – удар был нанесен не здесь, а на другой планете. Андрей принес «заразу» с собой, невзирая на расстояние и деформации времени. Замок вообще вроде как вневременной… Кстати, вот великолепное подтверждение теории о едином эфирном поле. Параллельные реальности, сколько бы их ни было, погружены в единый субстрат…
Слово «великолепное» показалось Шульгину крайне неуместным, но что взять с профессора? Он из тех натур, что для блага науки способны до последнего диктовать стенографистке впечатления от собственной агонии.
– Ну, что ж, – Сашка глубоко вздохнул, вытащил сигареты, – будите Андрея. Я все же попробую прописать ему кое-какие препараты… Попытка не пытка…
И вдруг его осенило. Идея, наверное, давно подспудно зрела в подсознании и только сейчас, когда он на секунду отвлекся от горестных мыслей, пробилась наружу.
– Вневременной… вневременной… Не такой уж вневременной, если имеется синхронизация между Валгаллой, тем местом, где сидят дуггуры, и нами здесь… Стоп! Кажется, я придумал…
Новиков проснулся. Обвел глазами комнату, встал, потряс головой.
– Ну что, господа эскулапы, до чего додумались? Будем лечить или пускай живет? Саш, давай сигарету…
– Как себя сейчас чувствуешь?
– Честно – почти так же. Ободряет лишь надежда, что вы меня вытащите. Как, Константин Васильевич, магия ведь почти всесильна?
– Дум спиро – сперо,[6] – в тон ответил Удолин, но вышло у него не до конца убедительно.
– По-онятно, – протянул Андрей, внешне спокойно.
– Психиатрия чем и хороша, – сообщил ему Шульгин, раскрыв портсигар, – что наши пациенты обычно умирают только от старости. Да и препаратики мои творят чудеса, как ты неоднократно убеждался, по другим, впрочем, поводам. Эффективность у них выше мировых стандартов. Так что не дрейфь, и не таких в чувство приводили. А теперь пойдем.
– Куда еще?
– Тут недалеко. Константин Васильевич, вы, кажется, давно пропустили урочный час? Позавтракаем, по чарочке плеснем, за успех…
Шульгин говорил в своей обычной манере, никакой фальши в его словах не чувствовалось, и Андрей снова поверил, что все обойдется. Да действительно, смешно бы было…
Они снова пришли в Сашкино убежище, где тот прежде всего накрыл стол для легкого завтрака, предоставив Удолину разбираться с содержимым бара. Глядишь, подзаправится, очередная сверхценная идея в голову придет.
Шульгин не торопясь пересказывал Андрею результаты обследования и выводы, к которым пришел консилиум. Говорил, ничего не скрывая, за исключением окончательного приговора. Мол, дела обстоят так-то и так-то, но разыскать источник вредоносного излучения и погасить его не составит особого труда, раз профессор зафиксировал частоты, на которых происходил обмен психическими ударами.
Андрей усмехнулся. Может, оно и так, конечно, это было бы очень хорошо, но интуиция – штука такая, работает помимо разума.
– А если, руководствуясь больше мистикой, чем наукой, допустить, что меня настигло «посмертное проклятье»? По каковой причине отменить его просто некому? Чеширский Кот исчез, а улыбка осталась…
Они еще немного потешились мыслью, обыгрывая всевозможные варианты этой и других гипотез, выпили с профессором, продолжили «околонаучный треп», как это называлось в их кругах. Шульгин, не подавая вида, пристально наблюдал за Андреем – жестами, мимикой, интонациями, за тем, как он подносит рюмку ко рту и закусывает. Иногда подбрасывал как бы ничего особенного не значащие фразы. Занимался своей нормальной, за последние годы несколько подзабытой работой.
Вставил изящную, специально подобранную шутку, на которую Новиков среагировал нужным образом.
Тут же Сашка и спросил, как бы между прочим:
– Ну что, успокоился немного? Видишь, само общение с хорошим врачом имеет целительный эффект. Мы хоть и шарлатаны от медицины, а кое-что умеем. Да и Константин Васильевич колдует помаленьку.
Новиков посмотрел на него с изумлением.
– Слушай, в натуре отпустило. Заболтал ты меня, я сразу и не заметил…
Он вскочил, прошел от стола к окну, постоял немного, прижавшись лбом к стеклу и рассматривая безжизненный городской пейзаж. Вернулся. Чуть вздрагивающими пальцами размял сигарету.
Удолин покачал головой, но ничего не сказал. Снова потянулся к графинчику.
– За это стоит… Подождите, Александр, так это значит что?
– То самое и значит. Разливайте, раз взялись. Стуит, стуит…
– Саш, это какой-то цирк! – не скрывал радостного возбуждения Новиков. – Правда, как оно бывает – болел, болел зуб, и вдруг раз – и перестал! Сразу и не заметишь, потом языком потрогаешь – точно!
– Значит, депрессия прошла почти мгновенно? Сейчас тебя снова потянуло в эйфорию, что вполне естественно. По сравнению с той фазой, что имела место, возвращение к норме уже восторг. Поглядим, понесет маятник дальше или остановится. Впрочем, если и качнет чуть дальше – не беда. Отнесем на счет «злодейки с наклейкой». – Он указал на бутылку.
– Ты же вчера пить не велел. Я ночью попробовал, правда, еще хуже стало.
– Как и должно быть. Депрессию алкоголь усугубляет, вплоть до белой горячки и суицида, зато в гипоманиакальной стадии – стимулирует творческий потенциал и расцвечивает жизнь новыми красками…
– Александр, – воздел руки профессор, предварительно опустошив чарку. – А как же теория эфира?
– Это вы ее знаток, не я. Значит, придуманный мною и устроенный Замком блок не пропускает и его колебаний. «И тольки», как говаривал батька Махно в некогда популярном фильме «Александр Пархоменко».
Новиков почесал подбородок.
– Клетка? – спросил он спокойно. – Или как там у вас, медиков, «бокс» для пациентов, лишенных иммунитета.
– Вроде того, – согласился Шульгин. – Но здесь ты, по крайней мере, будешь избавлен от страданий. До тех пор, пока мы не придумаем что-то радикальное. Не так уж плохо – роскошная квартира наверняка лучше больничной палаты. И выскакивать наружу тебе никто не запретит. Пока снова начнется, пока достигнет максимума – два-три часа выдержишь свободно… И нам экспериментальный материал…
Глава вторая
Вчетвером они вошли в помещение, обставленное как кабинет очень высопоставленного лица. В правом углу, далеко от высоких резных дверей размещался солидный письменный стол, обтянутый синим бильярдным сукном и огороженный миниатюрной балюстрадой с точеными балясинами, чтобы бумаги не падали от ветра или слишком резкого движения. На столе красовался колоссальный письменный прибор с шеренгой чернильниц, подставок для ручек, двумя пресс-папье, звонком для вызова секретаря и в довершение – несколькими аллегорическими фигурами тонкого литья. Рядом – телефон в стиле начала ХХ века, оправленный слоновой костью, с выступающим диском номеронабирателя и трубкой с блестящим рожком-раструбом микрофона. Несколько книжных шкафов позади кресла и по сторонам. Две вертящихся этажерки с книгами и папками, могущими потребоваться в каждый момент. Приставленный к главному столу столик для наиболее важных посетителей. И – огромный, двухметровый глобус неподалеку.
Видимо, мажордому самого себя (а как иначе назовешь человекоподобный эффектор Замка, созданный им же, чтобы изображать лицо, назначенное этим явлением управлять?) нравилось ощущать себя значительной персоной, не хуже прошлых мировых владык.
Остальное пространство кабинета выглядело актовым залом. Совершенно пустое, сверкающее навощенным паркетом, на котором несколько десятков пар могли танцевать вальс или мазурку. И, по левую руку, три четырехметровых окна с частыми переплетами, выходящие на океан.
Приглашенному для доклада чиновнику было бы очень не по себе идти по этой ледяной плоскости, перебирая ногами, но почти не приближаясь к начальнику, с нетерпением ждущему. Подобным эффектом обладает площадь перед собором Святого Петра в Ватикане.
Однако вошедшие отнюдь не были чиновниками, и просителями тоже. Помпезный интерьер вызвал у них не почтение, а вежливо скрытые усмешки.
Они остановились у первого окна, как бы не подозревая о присутствии здесь кого-то, кто заслуживал почтения или хотя бы специального внимания. Их привлек тревожно-прекрасный вид по ту сторону окна.
Вся необъятная Атлантика до самого горизонта мрачно дымилась. Громадные волны от гребней до подошв покрывали широкие полосы пены, воздух был наполнен водяной пылью и брызгами. Десятиметровые валы с грохотом пушечных залпов ударяли в торчащие в полумиле от берега рифы и, почти не потеряв чудовищной энергии, докатывались до пляжа, перемешивая тысячи тонн песка и гальки с почти непереносимым для слуха гулом и скрежетом. Но это там, снаружи. В зал титанические стены и материал, имитирующий оконное стекло, пропускали минимальное число децибел. Только чтобы составить представление, каково сейчас «за бортом».
– И это всего лишь около девяти баллов, – сказал Андрей Новиков, протягивая друзьям портсигар из шкуры настоящего нильского крокодила. – А кажется, еще чуть-чуть, и в самые окна начнет заплескивать… Первый раз здесь такое вижу. Вовремя мы на «Призраке» проскочили…
– Баллов пять прибавить, так оно и будет. До окон не до окон, а до стен точно достанет, – согласился Шульгин.
– Не бывает, – возразил Алексей Берестин. – Если сейчас девять, откуда еще пять?
– Тебе господин Бофорт – родной дедушка? – спросил Олег Левашов. – Если он в тысяча восемьсот каком-то году закончил свою шкалу на двенадцати баллах, так и что? Аристотель утверждал, что у паука шесть ног…
– Дело скорее всего в том, что в начале девятнадцатого века ветер тридцать метров в секунду считался абсолютным пределом возможностей мореплавания. Грубо говоря, двенадцать баллов – условная точка невозврата. Приборы вместе с наблюдателями и кораблями оставались там. – Новиков махнул рукой в сторону горизонта. – А так, конечно, – при том же шаге по три метра на каждый балл, можно и стобалльную шкалу построить… Внутри торнадо столько, наверное, и есть…
– Был бы здесь Воронцов, он бы тебе все объяснил, про ветер и волны, – сказал Берестин.
– А вот здесь – извините, – с улыбкой некоторого превосходства ответил Новиков, и Шульгин с Левашовым согласно кивнули. – Это ты у нас – «крылатая пехота», а я был флаг-штурманом «Призрака» раньше, чем мичман Дим собрался поступать в свое ВМФ-училище… Думаю, я и сегодня сдал бы экзамен по учебнику контр-адмирала Шандабылова[7] на отлично, поскольку помню его до последней запятой, лямбды-аш и вектора абсолютных перемещений. Нам бы такой учебник кто написал для ориентации в океане времен…
– Я тоже в детстве себя командиром звездолета воображал, – парировал Берестин.
– Только до сих пор по земле пешком ходишь, а я все ж таки на «Призраке» почти полную кругосветку отмотал…
Новиков спорил просто так, наслаждаясь свободой, потому что даже самая просторная и хорошо обставленная квартира, из которой надолго не выйдешь, – все равно неволя. Впрочем, если так считать, Замок тоже тюрьма, лишь несколько просторнее. Вдобавок Андрей последнее время ощущал себя гораздо лучше, выбираясь из-под защиты непроницаемых даже для мирового эфира стен. Депрессия никуда не делась, и «снаружи» наваливалась с точностью хорошего хронометра, минут через двадцать-тридцать, но переносилась без прежних мучений. Просто от сознания, что он немедленно может от нее избавиться, вернувшись в убежище. А это – совсем другое дело.
«Вот, наверное, дуггуры бесятся, когда я пропадаю из зоны поражения… – с удовлетворением думал Андрей. – Не зря говорится, на каждый газ есть противогаз». И это тоже способствовало поддержанию душевного равновесия.
– Может, хоть сейчас бросите препираться, ребята? – лениво спросил Шульгин. – Покурим спокойно и пойдем, а то сэр Арчибальд нервничает.
Он был не прав. Сидевший за столом крепкий и красивый мужчина пятидесяти с небольшим лет совсем не нервничал. Напротив, с искренним интересом и стоическим терпением ждал, когда гости закончат говорить между собой и обратятся к нему.
Новиков старательно затягивал паузу. Благо, сигару можно курить долго. А их слова хозяин все равно слышит.
– Сейчас пойдем. Интересно мне, почему с ним Антона нет? Задерживается или что?
– Все, что вам положено, узнаете в положенное время, – оставил за собой последнее слово Берестин.
Не выпуская из рук недокуренных сигар, они дружно подошли к приставному столику, расселись попарно.
– Пепельницу можно? – вполне небрежно сказал Новиков хозяину, выглядевшему, как актер Шон О'Коннори в свои лучшие годы. И примерно так же одетый. Только тот, сэр, агент Джеймс Бонд и прочая, вряд ли допустил бы такое обращение. Этому было без разницы. Он привстал и протянул гостям изящное фарфоровое изделие, которое страшно было осквернять табачным пеплом. Китайское наверняка и скорее эпохи ближе к Конфуцию, чем к фабрикам двадцатого века.
– Спасибо, – кивнул Андрей, державшийся не то чтобы старшим, но лицом, облеченным правом вести переговоры. – Ну так как, дорогой Арчибальд, вы рассмотрели полученную от нас информацию? Что скажете? И почему здесь отсутствует Антон? Ему бы стоило поучаствовать в разговоре, а то вдруг возникнут какие-то недоумения…
– Антон скоро будет. Неотложное дело, понимаете ли…
«Интересно, какие могут быть „неотложные дела“ в Замке, пребывающем по отношению к внешнему миру вне какого-либо времени», – одновременно, пусть и разными словами, подумали все четверо.
– Если только канализацию прорвало, – вслух предположил Шульгин, остальные промолчали.
Арчибальд не обратил на его слова внимания, при всем уважении к Александру, счел их не имеющими отношения к делу.
– До его прихода мы успеем уточнить не самые принципиальные детали. У нас не возникло ни малейших сомнений в подлинности информации, доставленной с Таорэры-Валгаллы. Мы изучили и проанализировали ее в полном объеме, с использованием всех доступных методик. Готовы согласиться с вашей оценкой возможности сотрудничества с Дайяной и ее помощниками. Согласны и с тем, что немедленное массированное вторжение Земле не грозит. Ваша идея использовать Таорэру в качестве планеты-ловушки представляется весьма оригинальной и перспективной. Связать противника изматывающими позиционными боями на второстепенном направлении – остроумно. Особенно если гарнизон составить из наших биороботов…
…Да, такая идея родилась у друзей, когда они, простившись с Дайяной, вернулись в Замок. Пусть там действительно поселится Удолин с коллегами, если ему так хочется, а для помощи и поддержки неплохо бы придать ему команду роботов, силой до взвода. В случае чего, используя бронетехнику аггров, роту курсанток полного состава, наладив контакт с квангами, легко будет отразить любое новое вторжение. И не только отразить.
– Правда, в этом варианте нам придется пойти на очередное, и очень серьезное, нарушение галактических законов, – продолжал Арчибальд с интонациями карьерного дипломата высокого ранга. – Однажды мы его допустили, предоставив роботов для вашего парохода, но то был частный случай, не влекущий, так сказать, прецедента. Эти устройства рассматривались как слегка одушевленные, наделенные ограниченной свободой перемещения исполнительные механизмы. Самоходные станки с программным управлением…
Формулировка ему самому понравилась.
– Сейчас же речь идет о том, чтобы выпустить неотличимые от человека существа не только за пределы «Валгаллы», но и всей Земли, использовать их для войны с гуманоидной расой… Это беспрецедентно и может повлечь санкции…
– Да какие, к черту, санкции?! – возмутился Берестин. – Вы с Антоном давным-давно поставили себя вне всяческих законов, разве не так? Как будто, если до вас доберутся, не знаю, кто именно, лишний год тюрьмы, или что там у вас за такое нарушение полагается, сыграет роль. Антону, даже если второе пожизненное впаяют, без разницы. А тебя, любезнейший, давным-давно приговорили к демонтажу, может быть, даже показательно-публичному. Так чего же теперь… девочек из себя изображать?
Арчибальда тирада Алексея слегка расстроила.
– Ну, зачем вы так, сразу! В доме повешенного – о веревке… Я просто хотел, чтобы вам стали ясны правовые аспекты… Законы, они ведь существуют независимо от нашего личного к ним отношения…
– Наплевать и забыть, – тоном приказа заявил Шульгин. – Запиши себе в блокнотик – «снявши голову, по волосам не плачут».
– Записал, – демонстрируя развивающееся чувство юмора, кивнул Арчибальд. – Более серьезных возражений у нас нет.
– Так нечего было дурака валять, – буркнул себе под нос Шульгин, а вслух сказал: – Отлично. Мы рады, что вам понравилось. На ближайшее время у вас появляется интересная работа…
– У нас? Разве вы не собираетесь сами этим заняться? – Арчибальд выглядел откровенно удивленным.
– Нам-то это зачем? – спросил Шульгин. – Мы, кажется, давно обо всем договорились. Антон скоро появится? Без него – колода неполная. Если очень занят, пусть позвонит, когда освободится, а мы пока своими делами займемся…
– Нет, ну что вы на самом деле, господа… Я, так сказать, вполне уполномочен, все текущие вопросы в любом случае прежде всего в моей компетенции…
Тут он был, разумеется, прав. О чем бы друзья ни договаривались с Антоном, техническим директором и непосредственным исполнителем был Арчибальд. До сих пор оставалось неясным, до каких пределов простиралась его лояльность, то есть – в какой степени он оставался механизмом, предназначенным для обеспечения деятельности своего повелителя. Избитая западными фантастами тема «бунта роботов», популярная в пятидесятые-шестидесятые годы, постепенно, по мере «прогресса», вернее, тупика, в который зашли казавшиеся столь перспективными изыскания в области «искусственного интеллекта», сошла на нет. А сейчас вдруг встала перед нашими героями во весь рост.
Левашов, чуждый обычных обывательских страхов перед «железом», мнения своих друзей не разделял.
Находясь в защищенной от прослушки и ментального контроля Замка Сашкиной кухне, он говорил:
– Самое худшее, что я могу предположить, – это наличие у Замка особой, специально всаженной очень глубоко программы, рассчитанной как раз на наш случай. Там, в их спецслужбах Ста миров, не дураки сидят. За тысячи лет могли и такой вариант предусмотреть: самый надежный агент все-таки срывается с крючка. Сталинские органы без всякой электроники за двадцать лет, да с неполным средним образованием большинства руководителей, отладили систему, из которой выскочили живьем «на свободу» едва больше десятка человек…
– Да и то вопрос, выскочили по-настоящему или продолжали использоваться «втемную», – добавил Шульгин, за время работы шеф-куратором всех врангелевских спецслужб и жизни в Москве-38 ставший большим специалистом по обсуждаемому вопросу.
– Так точно. Вот и Антон с Дайяной, кстати, тоже – обрели самостоятельность. Но насколько? Антона держит и контролирует Замок, нашу мадам-бандершу – что-то еще… Ну не бывает такого, чтобы у искусственно созданной личности подразумевалась возможность обретения свободы воли…
– А Ирина, Сильвия? – не подумав, возразил Новиков.
– Жаль тебя разочаровывать, – вздохнул Олег. – Ты ведь сам все видел! Чуть-чуть ослабли наши вожжи, и их почти перехватила Дайяна. Это, прости за сравнение, как с евреями. Десять поколений прожили в России, идиш забыли, а то и никогда не знали, сало ели, по субботам работали, и вдруг… Позвала историческая родина. И ломанулись в Землю обетованную! Был у меня знакомый, советский полковник, сирота, с Суворовского училища карьеру начинал, а потом взял и уехал. В 60 лет все с нуля начинать. Вот тебе и подпрограмма, Моисеем заложенная. Философски выражаясь – архетип.
– Ладно, оставим, – сказал тогда Новиков, почувствовав глубинную правоту Олега. Не так часто он выигрывал в их идеологических спорах, а сейчас – сумел.
– Да вы не переживайте. Замок – в любом случае механизм, живой, неживой, квазиживой – роли не играет. А мы – люди, цари природы и вершины эволюции. Я тоже кое-какие программки по ночам рисую. Так что еще посмотрим, кто на ярмарку, а кто – с ярмарки…
– Тогда, в соответствии с предыдущими договоренностями, приступим, сэр мажордом? – стараясь сохранять должное выражение лица и тон, сказал Новиков.
– Само собой разумеется…
Арчибальд встал из-за стола, прихватив с собой полукресло, подсел к торцу столика пятым.
– Что бы ни случилось в ближайшее время на подконтрольных вам и нам территориях, от мысли отправиться в длительный оплачиваемый отпуск мы не отказались. Наоборот, укрепились в этом мнении на сто двадцать два процента…
Арчибальд слегка оторопел, в очередной раз.
– Не понял я, как это?
«Все-таки машина, – с долей облегчения подумал Новиков, – „куда тебе, Каштанка, до человека“.
– Чего понимать-то? Сто процентов наших, двадцать два твоих. В сумме сколько выходит?
– Кончай вникать, Арчибальд, – сказал Левашов, – пробки перегорят. Тебя же не учили играм с ненулевой суммой…
Арчибальд предпочел смириться, не вдаваться в заведомо проигранную дискуссию с теми, кого он признавал за Высших. Хотя бы на первых уровнях своей псевдоличности.
– Почему я и собирался о всяких интеллигентских заморочках беседовать с Антоном, – сказал Новиков. – Тебе придется еще много работать над собой, а это такая нудная забава. Прочитай на ночь все тома Достоевского и еще полное собрание сочинений Чехова, с письмами и комментариями. О Джойсе и Кафке вообще говорить не станем: попробуешь, плюнешь и перейдешь на Майн Рида…
– И правильно сделаешь, – кивнул Шульгин, – я ничего вышеназванного, кроме Майн Рида, не читал и великолепно себя ощущаю…
– Вы когда-нибудь заткнетесь? – с генеральскими нотками поинтересовался Берестин. – Даже мне надоели…
Шульгин почесал усы с хитрым взглядом позднего Арамиса, потянулся к очередной сигаре.
Четыре неглупых человека, «играя на одну руку», способны заморочить любого мудреца, не говоря о машине, пусть интеллектуальной. Примерно как в рассказе Шукшина «Срезал». Там всего один деревенский демагог публично опустил кандидата наук, что же говорить о нашем случае?
– Значит так, дорогой друг, – перешел к сути Новиков, – то, что мы отплываем в дальние моря, очевидно и обсуждению не подлежит. Что проблему дуггуров оставляем вам – тоже. Нам надоело постоянно решать никчемные мировые проблемы. Однажды мы совершили грандиозную ошибку, не послав твоего друга и шефа по известному адресу, но, прими к сведению, некоторые ошибки удается исправлять. «Покуда век не прожит…» Нам от вас нужно вот что: завершить доукомплектование кораблей расходными материалами и биороботами, о чем развернутую заявку по установленной форме подаст Воронцов. И самое главное – нам требуется подкорректировать внешний облик. Мы, как ты видишь, люди хотя и бравые, но уже немолодые. Всем около сорока, никуда не денешься…
– Для мужчин – возраст расцвета, – осторожно заметил Арчибальд, не зная, к чему может привести еще и этот заход.
– Кто бы спорил. Ты и в тысячу с лишним выглядишь как огурчик. Но нам нужно другое: выглядеть крепкими парнями в районе двадцати пяти лет. Девушкам – немного меньше.
– Кому скажем. Реально?
– Безусловно. Если просто косметически – за час управимся. Если по-настоящему, с перестройкой на клеточном уровне, – не меньше суток.
– Не то чтобы совсем на клеточном, – сказал Шульгин, единственный, кто разбирался в этих вопросах профессионально, – тут и напортачить легко, есть прецеденты. Достаточно произвести точно выверенную регенерацию кожных покровов и эндокринной системы. Остального не касаться. Суть в том, чтобы по всем внешним признакам мы соответствовали названному возрасту на протяжении того срока, который понадобится. Ну год, два. При полном сохранении нынешнего умственного, нравственного, эмоционального статуса, всех моторных навыков…
– Постараемся, – ответил Арчибальд с миной дорогого врача, договаривающегося с пациентом, – сделать то же самое, что ваши гомеостаты, но с особой избирательностью. И предусмотреть, чтобы после процедуры не наступило рассогласование обновленных и оставшихся прежними органов и систем. Так?
– Лучше бы я и сам не сформулировал, – одобрительно ответил Шульгин. – Хорошо физиологию знаешь. И не забудь, наши гомеостаты должны поддерживать обновленные организмы не хуже, чем сейчас… Воспринимать новое состояние в качестве очередной «генетической нормы».
– Постараемся, – повторил Арчибальд.
– Учти, начнете с одного – мы сами выберем, с кого именно. По завершении процедур протестируемся известным нам способом, и так далее…
– Это как вам будет угодно. Фирма веников не вяжет…
Где же он, интересно, подхватил эту хохму?
– А дальше? – спросил Шульгин.
Арчибальд замялся. Неужто не знает? Или не хочет ответить?
– Фирма делает гробы, – не поднимая глаз, припечатал Берестин. – Как хочешь, так и понимай.
…На полдороге от кабинета, который себе придумал Арчибальд, чтобы соответствовать своей теперешней должности мажордома, до площадки лифтов, тоже в какой-то мере придуманной, поскольку она появлялась почти в любом удобном месте, друзей встретил Антон.
– Что ж вы меня не дождались?
– Мы бы с полным удовольствием, но ведь предупреждать надо. У тебя свои неотложные дела, у нас – свои. Цивилизованные люди заранее в блокнотике отмечают, когда встреча, во сколько и с кем…
– Простите, если можете. Саша, проведи нас в свое убежище…
До дверей секретной квартиры все шли молча. Этакая группа серьезных мужчин, с суровыми лицами, устремленных к не сулящей веселья цели.
Разместились в кабинете, выходящем окнами в заснеженный двор.
– Так что же произошло? – спросил Шульгин, в пределах этих стен принявший на себя право говорить от имени Братства.
– На самом деле – ничего. Помня наши прежние споры, дискуссии и предположения, я захотел посмотреть, как вы будете разговаривать с Арчибальдом без меня… – Антон кривовато ухмыльнулся.
– Что-то интересное для себя почерпнул? – спросил Левашов.
– Ты знаешь, да! Его стоит принимать всерьез… Вам.
– Всерьез как друга или как постороннюю силу?
– Пока – первое. У меня нет ни малейших оснований сомневаться в его желании и готовности служить нашему общему делу… Он на него запал, как у вас принято выражаться…
– Тогда в чем сомнения? – Новиков видел, что Антон не в полной мере адекватен самому себе, прежнему.
– Он меня – отодвигает…
– Чего же ты хотел? – спросил Шульгин. – Стоит дать слабину, и подобная коллизия случается с кем угодно. Непонятно одно – с чего ты вдруг поплыл? Я знаю массу случаев, когда после зоны мужики выходят гораздо круче, чем были до… Вся деревня их боится! Просто так, на всякий случай.
– Не тот мужик и не та зона, мы об этом уже говорили, ты не помнишь?
– С этим тоже поработаем, – сказал Левашов. – Хочешь, я завтра превращу его в то самое «железо» из которого он возник? Тебе останется только кнопки нажимать… Правда, что случится с Замком как с объектом, понятия не имею…
– Нет, это уже крайний случай, – ответил слегка воспрянувший духом Антон. Моральная поддержка иногда значит больше, чем физическая. – Еще сам подержусь… Жаль, что вы все сразу уходите. Скучно без вас будет.
Это прозвучало, как очень мягкая формулировка другой эмоции: «Тошно без вас будет». А может, даже – «страшно».
– А как до этого жил? – участливо спросил Берестин. – Полтораста лет обходился, и вдруг…
Наверное, Алексей по-своему был прав. Человеку, начавшему военную службу курсантом воздушно-десантного училища в восемнадцать лет, привыкшему сначала абсолютно подчиняться, а потом и командовать, взводом, ротой, кидаться «с воздуха в бой» под направленные лично в тебя пули, сложно понять ближнего, теряющего мужские качества в ничего особенного не представляющей обстановке. Подумаешь, дальние перспективы! Ты ближайшие полчаса выживи, в штаны не наложив, – тогда ты солдат!
Сам Берестин, из отставного ротного внезапно став командующим фронтом, не растерялся. Сложись судьба иначе, стал бы Маршалом Победы, оставив за флагом всех остальных, позже прославленных.
Антон молчал, только чуть дергалась жилка под глазом.
«Совсем человек», – отметил невропатолог и психиатр Шульгин.
– Ты нам здорово помогал, – снимая повисшее напряжение, сказал Левашов. – Мы такое не забываем. Хочешь, покажи мне твой главный пульт управления, или как там у вас это оформлено… С чего ты раньше руководил Замком, всеми другими процессами. Воронцова из Сухума в него перекидывал, потом на фронт, потом в Москву, Наталью моделировал… Есть такой Центр?
– Есть, – помолчав, ответил Антон. – Есть, но не знаю, стоит ли тебе и туда вмешиваться…
– Это уж как будет ваша барская воля. – Олег не хуже других умел под простачка косить. – Настаивать не смею. Если вы с Арчибальдом отпустите нас, как договорились, нам довольно однохренственно, чем вы дальше заниматься станете. А подарочек я тебе какой слепил! В благодарность за схему дубликатора и все прочее…
Чтобы разрядить неприятно сгустившуюся эмоциональную обстановку, Шульгин сделал единственно возможное. Встал и начал накрывать стол «по-офицерски». В дальневосточном варианте: бутылка медицинского спирта, тарелка красной икры, мясо заживо сваренного в морской воде краба и полбуханки черного хлеба.
– Хлебни, Антон, расслабься, а то на тебя больно смотреть…
Подарок, который Левашов решил сделать форзейлю, был поистине царским. Единственной гарантией его личной самостоятельности и сохранения должности на случай, если Арчибальд вдруг выйдет из-под контроля. Нейрошокер, попросту говоря.
Арчибальд на самом деле отнюдь не воплощал в себе весь Замок целиком, так ему только казалось. Имелся еще центральный процессор, решивший выделить из себя внешний эффектор (Арчибальда то есть), плюс проводные, волновые, какие угодно еще цепи и поля, пронизывающие артефакт как материальный, а в чем-то и нематериальный объект, раз он существовал внутри и вне времени одновременно. Не важно, был «истинный» мозг Замка механическим, биологическим или составленным из неизвестной природы «вихрей». Он был, и этого достаточно.
Олегу требовалось немного повозиться, используя специальный тестер, чтобы снять «на выходе» несколько его характеристик. Под прикрытием Шульгина и Новикова, которые должны были создать отвлекающую мыслеформу, не важно, какого содержания. Например, изобразить попытку дуггуров прощупать отделяющий Замок от реальностей временнуй щит. Всего на несколько минут, потому что способная осознавать саму себя «мыслящая» часть этой системы полностью была сосредоточена на поддержании личности Арчибальда. И, начав решать возникшую задачу, она теряла возможность реагировать на исчезающе слабый раздражитель, затрагивающий дальнюю периферию.
Арчибальд действительно ничего не ощутил и не осознал. Ему всего лишь «показалось», что побывавшие в Замке «элои» ищут или вспоминают «обратный путь».
Получив нужные данные, Левашову ничего не стоило, используя совершенно другие, не входящие в сферу нынешних интересов Замка производственные мощности, известные Антону, изготовить приборчик. Размером с зажигалку, причем в качестве зажигалки тоже работающий, но способный в нужный момент послать болевой или парализующий сигнал в самую «душу» возомнившего о себе эффектора. Заставить его одуматься, пресекая ошибочный поступок, наказать, как раба на хлопковых плантациях, бичом из шкуры гиппопотама, чтобы не забывал свое истинное положение. Или вырубить насовсем – по обстановке.
– Жестоко, – сказал Антон, вертя в пальцах приборчик. – Замок ведь – все, что у меня осталось…
– И ты у него, – сочувственно ответил Новиков. – Так и не позволяй себе на шею садиться. В Библии как сказано? «Возлюбивши своего сына, да сокруши ему ребра…» И еще один совет, это уже казачий, касательно шашки: «Без нужды не вынимай, без славы не вкладывай!» Уловил?
– Спасибо – Антон спрятал шокер в дальний карман. – Теперь о твоей проблеме, Андрей. Ею я и занимался, пока вы отвлекали Арчибальда. Талантливо отвлекали, весь без исключения объем оперативной памяти заняли. Так что я поработал спокойно. По моим расчетам получается, выход за пределы освоенных вами реальностей на самом деле оборвет все эфирные колебательные контуры, настроенные на тебя. Эфир, он, конечно, един, бесконечен и всепроникающ, тут Удолин почти прав. Но ведь сюда – не проникает?
С этим нельзя было не согласиться. Сквозь установленную Замком защиту патогенное излучение не доставало.
– Соответственно, я просчитал, что и за пределами времен, в которых вы «наследили», в буквальном смысле, оставили в континууме свои отпечатки, волна тебя не достанет. Не может же следствие воздействовать на причину?
Новиков готов был ввязаться в философский спор и опровергнуть тезис Антона, у него даже подходящие доводы появились, начиная с пресловутого китайского генерала, который проиграл все сражения оттого, что не был должным образом соблюден ритуал его похорон, но вовремя сообразил, что в данном конкретном случае форзейль прав. Если он окажется в точке временнуй линии, значительно удаленной в прошлое от момента его ментальной битвы с дуггурами, так и их ответный удар окажется нанесенным в пустоту.
Эфир там или не эфир, колебать ему будет нечего. Как бы ты ни проклинал Наполеона или Рамзеса Второго, проклятия будут пустым сотрясением воздуха, пока не пересечешься с ними в общей реальности.
С дуггурами они пересекались везде, включая Замок, на прямых или вымышленных альтернативах, а в девятнадцатом веке – точно нет. И для них, и для эфира там ты окажешься несуществующим. Если кто-нибудь не даст им очередную наводку.
Андрей вместо приготовленных слов сказал другие.
– Друг ты наш, но не кажется ли тебе странным, если не употребить другого слова, что с первого витка нового сюжета все и вся только и делают, что выталкивают нас отсюда? Не мытьем, так катаньем. Причем первым начал ты! А дальше – по экспоненте. Чем дольше и больше мы сопротивляемся, тем сильнее давление…
– После – не значит поэтому, закон логики, – спокойно возразил Антон. – То, что дуггуры пришли в этот мир за вами, – непреложный факт. А если так – выхода изначально было два. Бежать или сражаться до конца. Первый я предложил с самого начала, чисто интуитивно. Вы, исходя из натур и привычек, попробовали второй. Итог налицо? Продолжайте, разве я против?
И опять форзейль был прав. На данный момент они столкнулись с силой, противостоять которой не могли. После Валгаллы не в кого стрелять, не перед кем геройствовать. В любой следующий день и час в аналогичном с Андреем положении могут оказаться Шульгин, Левашов, Ирина, Басманов, да и сам Антон, поскольку все они, так или иначе, оказывались в сфере внимания дуггуров.
Думай что хочешь, но рациональнее будет на самом деле отступить на заранее подготовленные позиции, переформироваться, привести себя в порядок, а там уже принимать решение.
Что-то внутри саднило от тревожащей мысли – почему жестоким образом навязываемый выбор так удивительно совпадает с собственными желаниями?
Но выбора ведь так и так нет!
Если бы тебя заставляли делать то, что тебе абсолютно поперек горла, – было бы лучше? Вряд ли.
И если вообразить, что Замок исполняет волю врагов или доброжелателей, не так уж важно. Деваться все равно некуда. Захотят – любое помещение превратят в газовую камеру, и это еще в лучшем случае. Как в гуманные брежневские времена перед неудобными противниками режима ставили выбор – эмиграция или тюрьма. А в сталинские – без всяких переговоров конкретно ставили к стенке.
Вернувшись после собеседования в убежище, приняв контрастный душ Шарко, от жестких прутьев которого, то ледяных, то невыносимо горячих, кожа ныла, а организм опять взбодрился, Новиков пошел к Ирине. Не желая оставлять его в беде, она переселилась сюда же, в большую комнату, смотрящую окнами на Никитский бульвар.
Ему хотелось узнать, как она, а также и все прочие дамы, привлекаемые к проекту, отнесутся к предложению омолодиться. Не так, как в русской сказке, прыгая в чан с кипятком, а вполне гуманным образом.
При всех врожденных и благоприобретенных способностях, подкрепленных длительной тренировкой, женская психология в полном объеме оставалась Андрею не совсем понятной. Войдя в разумный возраст, то есть курсе на четвертом университета, он, еще не познакомившись с Ириной, записал в своем дневнике мысль, показавшуюся ему остроумной и где-то даже основополагающей: «Мужчина отличается от женщины принципиально. Все разговоры о прочем – ерунда. Если они и понимают друг друга, то лишь примерно так, как современный европеец – японца, пока они говорят о вещах общедоступных и нейтральных. Но упаси бог из иллюзии понимания делать далеко идущие практические выводы…»
И еще одну, ироничную, конечно, но часто подходящую к случаю: «При сильном стрессе у женщин отключается небольшая часть мозга, отвечающая за все». Не Шопенгауэр, разумеется, этот афоризм придумал, но тоже большой феминофоб.
Увидев подругу, в прелестном алом пеньюаре лежащую на софе перед экраном стереовизора, на котором мелькали персонажи инопланетной мелодрамы из богатой фильмотеки Антона, он почувствовал, что проявленный им в постели с девушкой Настей стоицизм, благородство и моногамность теперь нуждаются в компенсации. Не важно, что тогда он был совсем не в том состоянии, чтобы постельные подвиги совершать.
Об Анастасии и о том, как все там происходило, он рассказал Ирине без стеснения и со многими подробностями. Зато не задал вертевшийся на языке вопрос – приходилось ли ей выступать в подобной роли? Как, когда и с кем. Дело слишком давнее, тогда она была не собой нынешней, а совершенно другой.
И все же, обнимая Ирину и радуясь, что у него снова все в порядке, он представлял себя не с нею, а с той. Или, что почти одно и то же, старался вообразить не эту Ирину, а из семьдесят шестого. «Девушку с моста». Получалось интересно.
Она, в свою очередь, его настроение тоже почувствовала и вела себя раскованнее и одновременно отстраненнее, чем обычно.
Наконец, когда они, как в давние времена, разомкнули объятия, испытывая нежность и благодарность друг другу, на короткое время забыв обо всем, что было до и будет после, Ирина накинула на разгоряченное тело пеньюар, пересела к чайному столику, дернула шнурок торшера.
Зеленый чай давно остыл в стеклянной колбе, но она сделала несколько глотков с наслаждением. Будто бедуин, добравшийся до колодца под сенью финиковых пальм. Прикурила длинную сигарету давно забытой марки «Фемина». Отличные выпускали братья-болгары сигареты в далекие шестидесятые, самое начало семидесятых годов, из настоящего, ароматного и легкого турецкого табака. Длинные, размера «кинг-сайз», только тогда этот иноязычный термин не употреблялся. С золотым обрезом, чуть подлиннее нынешних фильтров. Лакированная красная коробка с портретом девушки, похожей на Мерлин Монро, шикарно держащей в отставленной руке эту же сигарету. И цена совершенно смешная – тридцать пять копеек «хрущевскими».[8] Куда они враз и навсегда делись потом – загадка мировой истории. Наверное, туда, куда и сигареты «Вавель», чуть ли не ключевой момент их с Новиковым знакомства. А по заказу здесь, в баре Замка, немедленно появились те и другие, ничуть не хуже, чем прежние.
– Ну и о чем ты хотел со мной поговорить? – спросила Ирина непривычно жестковатым тоном, не слишком сейчас уместным. Будто только что ничего и не было. Так говорят женщины, настраиваясь на семейный скандал. Не попадешь в правильный тон – и понеслось. Попадешь – еще хуже.
Единственный правильный ход – уйти в другую плоскость настроений и интонаций.
Не торопясь, не делая резких движений и не отвечая, Андрей отправился в туалетную комнату, почистил зубы, причесался, побрился «Жиллетом», вытер щеки сухо и резко пахнущим одеколоном.
Вернулся, прихватив по пути бутылку пресловутого миндального ликера. Сел, тоже закурил, глядя на Ирину прозрачным взглядом.
Она свою сигарету успела докурить на две трети.
– Да так, по мелочи…
Он ее с юности поражал умением продолжать любой прерванный разговор или даже завершать вслух не высказанные цепочки мыслей.
Ирине показалось, что они снова сидят в квартире ее бывшего мужа на улице Горького. В совсем далеком восемьдесят втором году. Новиков, потомок отмененных революцией князей, тогда переиграл ее по всем статьям, и она кинулась ему на шею, боясь, что вдруг в следующую минуту он опять исчезнет… И навсегда!
– А мелочь заключается вот в чем… Я здесь вскоре непременно подохну, это без вариантов, и не пытайся спорить. Вы, кто раньше, кто позже, – тоже. Унесетесь. В снега времен и в даль веков…
– Блока нужно точнее цитировать, – бесцветным голосом сказала Ирина.
– Прочитать целиком и полностью? Свободно. Только смысла не вижу. «Бубенчик под дугой лепечет о том, что счастие прошло…»
Сделал паузу, глядя в потолок. Продолжил:
«И только сбруя золотая всю ночь видна… Всю ночь слышна… А ты душа, душа глухая… Пьяным-пьяна… пьяным-пьяна… «Близко к тексту?
– Андрей, зачем ты опять ерничаешь?
– Я? Да о чем ты? Я, собственно, хотел задать абсолютно нейтральный вопрос – ты хочешь снова стать двадцатилетней?
Ирина не поняла. Зачастую мысль его двигалась очень извилистыми тропками, и понять, куда она выбралась сейчас, получалось не сразу.
– Нет, я в абсолютно буквальном смысле. Мы окончательно и бесповоротно отсюда сматываемся. В Южную Африку, в конец прошлого века. Это решено и обсуждению не подлежит. По придуманной мной легенде нам там следует объявиться слегка постарше, чем знаменитый «Капитан Сорвиголова», но не сильно. Считаем – года по двадцать два – двадцать пять. Верные подруги должны быть чуть помоложе. Последнее время тебе около тридцати…
Тут Новиков Ирине слегка польстил. Тридцать реальных ей было в восемьдесят четвертом. А сколько с тех пор воды утекло… Но не важно.
– Снова двадцать – хочешь?
– Каким образом?
– Сделаем, суть же не в этом.
Ирина задумалась. На самом деле задумалась, взяла из коробки вторую сигарету.
– Двадцать – внешне?
– Гормонально – тоже, – чуть улыбнулся Андрей. – Память и прочее – при нас.
– Тогда – о чем спрашивать?
– Я так и думал. А остальные девочки как отнесутся?
– О ком речь?
– Лариса, Сильвия. Об Анне не говорю, она и так…
Анне на самом деле было двадцать три, реальных, на них она и выглядела.
– Сильвия – не ко мне вопрос. Что пожелает, то и сделает. А с Ларисой поговорю…
– Есть основания сомневаться?
– Да кто ж ее знает… А когда уходим?
– Через неделю максимум. Сумеем раньше – еще лучше. Корабли нужно до ума довести, чтоб лет двадцать ходили по морям и океанам без дозаправки и капитального ремонта. Других препятствий нет.
Ирине было абсолютно все равно, куда отправляться, в каком мире жить, что там делать. Был бы Андрей рядом, и исчезло бы с его лица это выражение тяжелой тоски, которое он старательно, но безуспешно от нее маскировал. Она даже на Средневековье согласна, люди и там жили, как известно из книг – с удовольствием, не стесненные рамками позднейших правил и обычаев. Свои, разумеется, тоже были, но не для всех обязательные. Не настолько обязательные…
Ирина пересела на подлокотник его кресла, обняла за плечи, наклонилась, поцеловала в щеку.
– Долго ли нам мучиться, Дмитрич? – спросила она, цитируя жену протопопа Аввакума.
– До самыя до смерти, матушка, до самыя до смерти, – ответил он в тон.
– Инда еще побредем…
Глава третья
В океан маленькая эскадра двинулась прохладным, но тихим солнечным днем. Словно бы не зима с пургой, штормами и морозами малого ледникового периода здесь только что свирепствовала, а вернулось неожиданно «индейское лето».[9]
Из бухты вначале вышла «Валгалла», своим громадным корпусом раздвигая мелкие прибойные волны, за ней крейсер «Изумруд», отдавший, как положено военному кораблю, прощальный салют Замку из кормовой пушки, и последним «Призрак», пока не поднявший парусов.
С мостика яхты Ирина и Лариса, сжимая в пальцах тяжелые морские бинокли, смотрели на серые бастионы грандиозной и на вид неприступной твердыни, оставляемой, может быть, навсегда. У парапета нависающего над обрывом «ласточкина гнезда», пристроенного к угловой башне, стоял и махал им рукой Антон. Ему, наверное, сейчас тоже было тоскливо. Проводит корабли, и что дальше? Снова начнет жить сам по себе, один, никому не нужный?
Это, конечно, чисто женский подход, но очень правильный.
Во время перехода через Атлантику большая часть компании располагалась на «Валгалле», со всеми удобствами. Только те, кто не боялся качки и любил экзотику, из женщин – Ирина, Лариса и Анна, выбрали «Призрак». Комфорт на яхте был вполне приемлемый, но в сравнении с пароходом несколько тесновато, само собой. Каюты подходят только для сна, значит, вся культурная жизнь, включая завтраки, обеды, ужины, – все в кают-компании. По палубе без страховки не погуляешь – в океане всю дорогу волнение не меньше четырехбалльного. При смене галсов холодная соленая волна захлестывала и на мостик. Зато вид с него, и из рубки открывался великолепный. Пугающий и одновременно радующий душу. Картины Айвазовского в натуральном воплощении. Похороны за счет заказчика.
Как и было задумано, первые две дамы согласились на омоложение, и теперь Новикову слегка даже удивительно было смотреть на подругу, ничем не отличающуюся от «девушки на мосту». Лариса выиграла не слишком много. С его, да и Олеговой точки зрения. Невелика разница, двадцать восемь или двадцать два. Анна осталась при своих, а Наталья с Сильвией от процедуры категорически отказалась.
– Для нормальной женщины тридцать пять – чудесный возраст. Сохраните мне его на следующие сто лет – и никаких претензий, – ответила на предложение мадам Воронцова.
– Тогда ты не против, – ехидно спросила Лариса, – если мы будем называть тебя тетей?
– Да хоть мамой. Мать должна выглядеть старше дочери хотя бы на три года, так что в норматив мы укладываемся.
Всем остальным процедура смены возраста и внешности не предлагалась. Им предстояло участвовать в проекте в естественном облике. Тем, кто вообще захотел, разумеется.
Поиски золота и алмазов в Южной Африке – антисоветские, незрелые фантазии только трех персонажей. Они, по замыслу, были молодыми ребятами, авантюристами в духе XIX века, претворяющими в жизнь свои планы, заодно желающими подтвердить и фиксировать легенду, придуманную для Врангеля. Прочим товарищам это было не нужно. Как говорил Остап Шуре Балаганову: «Рио-де-Жанейро – это хрустальная мечта моего детства. Не касайтесь ее своими лапами».
Вдобавок перестройка эндокринной системы непременно влияла на эмоциональное состояние пациентов. Любой может вспомнить себя в двадцать, тридцать, сорок. Человек якобы один и тот же, а если вдуматься? Перечитать собственные дневники и письма, хоть к родителям, хоть к девушкам. Вот то-то! Для чего в Братстве люди, от которых в критический момент неизвестно чего ждать? Попробуй ты (кем бы ты ни был) напрячь двадцатилетнего парня (Басманова, скажем) заботами сорокалетнего. Анатомически они, возможно, очень близки (но не одинаковы), а психологически – земля и небо!
Но это посторонние, относящиеся только к практике личных отношений соображения. Главное же, к чему пришли во время одного из ночных бдений Новиков, Шульгин и Антон: от эфира, естественно, никуда не денешься, это еще профессор Челленджер разъяснил в «Ядовитом поясе». Зато, если его влияние простирается и в глубь прошлых веков, волновая настройка сама собой меняться не может. Вот и пролетит мимо направленный на того Новикова, что действовал на Валгалле, деморализующий заряд. Хоть сотня нейронов заработала в ином режиме – и хватит. Не тот объект! Так же и с прочими, занесенными в «картотеку» дуггуров.
Отойдя от берега на десять миль, отряд пересек границу миров. На этот раз без всяких эффектов. Ни громового удара, едва не разломившего пароход, как при перемещении «Валгаллы» прошлый раз в двадцатый год, ни приступов морской болезни у пассажиров и пассажирок. Совершенно спокойно перешли, только специальный датчик сообщил, что – свершилось. Одна тысяча восемьсот девяносто девятый год на дворе. Август месяц. Как и задумано.
Никаких грубых вторжений в чужую реальность, если она сама не станет препятствовать нормальной жизни «эмигрантов».
«Валгалла» возглавляла кильватерный строй, теперь единственная плавучая база в новом и, если что-то пойдет не так, – окончательном мире. Перед уходом из Замка пять лет назад Новиков с Воронцовым об этом говорили.
«Если мы попадем хоть в мезозой – обязательно выживем. Не нужно нам будет вылавливать в море ящик с полезными предметами,[10] в трюмах парохода достаточно припасов на любой предполагаемый случай. Не считая продовольствия – лет на пятьдесят хватит».
С продовольствием, естественно, здесь проблем не будет, время цивилизованное, так что главный упор сделали на оружие, боеприпасы, прочие предметы, необходимые для поддержания приемлемых жизненных стандартов. Те же репелленты, к примеру. Вроде бы и мелочь, а каково без них пробираться в африканских дебрях, кишащих всевозможными насекомыми и прочими членистоногими? Хоть бы и муху цеце вспомнить, едва не погубившую бура с его семейством в тех самых местах, куда направлялись наши герои.
Необходимость огромного ассортимента и количества принятого на борт имущества объяснялась еще и тем, что без крайней необходимости решено было не пользоваться никакими устройствами, способными навести врага на след. Дубликаторы, установки СПВ, блок-универсалы считались как бы «опломбированными», вроде радиостанций на корабле, выполняющем задание в режиме абсолютного радиомолчания. Исключение было сделано только для гомеостатов, теоретически ничего вовне не излучающих, коротковолновых средств связи и радиолокаторов. Их в девятнадцатом веке засечь просто нечем, и колебаний мирового эфира, которые могли бы зафиксироваться техникой дуггуров, вызвать они не могли, на фоне гроз, магнитных бурь и иных атмосферных явлений.
«Изумруд» вскоре покинул отряд, направившись к собственной цели, и «Призрак» стал в кильватер пароходу, уверенно держа под парусами восемнадцать узлов. Пока этого было достаточно. Спешить особенно некуда, до Лондона не более четырех сотен миль, а горючее стоит поберечь. В цистернах «Валгаллы» его пока достаточно, и все же… Неизвестно, как обстановка сложится. Если уж совсем туго придется, дубликатор для пополнения запасов можно и включить на полчаса, но это в самом крайнем случае, когда станет ясно, удалось ли сбить противника со следа.
Океан вокруг был пуст, как в Средневековье. Регулярные трансатлантические линии проходили значительно южнее, да и локаторы позволяли без труда уклониться от нежелательных встреч, изменив курс задолго до того, как отряд станет доступен постороннему глазу, вооруженному примитивной оптикой.
Совершенно не нужно, чтобы в чьей-то памяти отложилась эта странная пара из огромного пассажирского лайнера и парусной яхты. Поодиночке они не раз будут появляться в разных портах и на морских путях, но вместе их видеть не должны. Здесь тоже не дураки живут, в случае возможных в будущем осложнений найдется кому сопоставить разрозненные факты и сделать нежелательные выводы.
Готовясь к походу, «мозговой центр» Братства тщательно промоделировал все варианты своего внедрения. До этого все участники проекта, за исключением Сильвии, естественно, имели об эпохе самые общие представления. Даже Новиков, знавший этот период лучше всех друзей, но тоже в пределах курса всеобщей истории, слегка оживленного несколькими беллетристическими книжками.
Вообще рубежу веков странным образом не повезло. Как-то он выпал из внимания культурного человечества, заслоненный куда более яркими событиями «до» и «после». Более-менее отложились в памяти грамотных людей краткосрочная и периферийная испано-американская война («первая война эпохи империализма», по словам Ленина), ну и пресловутая Англо-бурская, конечно. Причем для большинства тех, кто о ней вообще слышал, – исключительно благодаря книге Буссенара.
Оттого перед походом пришлось изучить все, что имелось в необъятной библиотеке «Валгаллы», и прежде всего – наиболее популярные и авторитетные газеты и журналы тех дней на четырех языках. В обычных условиях задача непосильная, тренированному кадровому разведчику потребовался бы не один месяц, чтобы овладеть «обстановкой», как это у них называется, в объеме, гарантирующем от провала. Так разведчикам приходится запоминать только детали, относящиеся к специфике «страны пребывания», а здесь – время чужое, и жизнь, только внешне похожая на привычную. К счастью, от Новикова, Шульгина, Ирины требовалось только грамотно составить выборки нужных материалов, а там Антон перевел их в особый формат, предназначенный для мгновенного усвоения. Вместе с курсами нужных языков для тех, кто ими еще не владел. Один из последних его подарков на этом жизненном витке.
Но все равно для Сильвии оставалось много работы, чему она, по всему видно, была искренне рада. Книжные знания мировых событий последних пяти лет, имен политиков, царствующих в Европе особ, популярных писателей, актеров, драматургов, в большинстве прочно забытых к концу ХХ века, великосветских скандалов, нашумевших преступлений и так далее и тому подобное – необходимый базис. Но, как гласит исторический материализм, надстройка зачастую важнее. Люди, пишущие для современников (за исключением редких умельцев вроде Гиляровского), не имеют привычки упоминать, а тем более растолковывать вещи общеизвестные.
Где узнаешь, помимо очевидца, – как принято вести себя в магазинах, ресторанах, нанимать фиакр или кеб, давать ли «на чай», как, кому и сколько, в какой тональности разговаривать с равными себе и нижестоящими, что считать оскорблением или проявлением неуважения, как их различить и как реагировать…
Для женщин набор правил поведения, обычаев и традиций был гораздо обширнее и сложнее, тут леди Спенсер оказалась совершенно незаменима. Чуть ли не с утра до вечера, в специально отведенных классах и походя, при каждом удобном случае она, как требовательная бонна и классная дама, диктовала, объясняла, одергивала, при помощи наглядных пособий и принципа «делай, как я» вбивала в сознание и подсознание питомиц нужные знания и навыки, доводя их до автоматизма.
При подготовке экспедиции в Белый Крым все было гораздо проще. Страна все же родная, эпоха куда более близкая, знакомая, в прежней жизни почти половина окружающих людей, в том числе и родственников, успела пожить «при царе» и в годы Гражданской войны. Одним словом, непреодолимого культурного барьера не было. Вдобавок по легенде «братья» были в определенном смысле иностранцами, что не требовало тщательности в соблюдении местных обычаев.
Через несколько дней многие начали роптать. В том смысле: «Зачем оно нам надо?» Общее представление имеем, и достаточно. В Англии будем представляться американцами с дикого Дальнего Запада, во Франции немцами, если потребуется, и так далее.
– В принципе кто мне мешает выдавать себя за богатого помещика из Оренбургской губернии? – вопрошал Берестин. – Буду объясняться на ломаном языке и сорить деньгами, будто вчера с развесистой клюквы слез…
– Можешь, кто тебе запретит, – охотно соглашалась Сильвия. – Татарским мурзой – тоже можешь. Будешь ходить в халате и, когда заблагорассудится, расстилать молитвенный коврик, с помощью оправленного в бриллианты компаса определяя направление на Мекку. А если серьезно, мы на самом деле не знаем, где можем оказаться, что с нами произойдет… Чем меньше будем привлекать внимания, тем лучше. Там тоже не дураки живут и работают. К тому же полагаются только на свой интеллект и специфические методики, за отсутствием привычных нам технических средств. Несмотря на якобы свободу и уважение к «прайвеси»,[11] за иностранцами в Англии присматривают весьма тщательно. Уж я-то знаю. А мы договорились вести жизнь невидимок, разве не так?
– Так, так, – поспешил согласиться Алексей, что не избавило его и присутствующих от продолжения лекции.
– В «прекрасную Викторианскую эпоху», что бы вы о ней ни думали, истинно свободными людьми, могущими жить так, как нравится, и в полной мере пользоваться достижениями тогдашней цивилизации, были британские аристократы. Желательно, с родословной, восходящей как минимум к временам войны Алой и Белой розы. Иностранцы, пусть и принадлежащие к «свету» у себя дома, котировались гораздо ниже. Их принимали, но не всегда и не везде, в душе относя к людям второго сорта. Пресловутые «бояр рюсс», уже тогда умевшие развлекаться в разных монте-карлах и скупать поместья на Лазурном Берегу, вообще считались варварами, да вдобавок – историческими врагами. Это же Пальмерстону принадлежит крылатая фраза: «Как тяжело жить на свете, когда с Россией никто не воюет!» Далеко не в каждом приличном заведении (и обществе) они прошли бы «фейс-контроль», невзирая на количество денег в кармане и на счетах.
– Ничего, – с добродушной улыбкой сказал Воронцов, – мы тоже без комплексов. Несколько раз им разъяснили, «ху из ху», придется – повторим…
– Повторим – не совсем верно, – по привычке уточнил Левашов. – Может быть – предвосхитим?..
– Что-то ваши настроения мне не нравятся, – поджала губы Сильвия. – Во-первых, не забывайте, я тоже британская аристократка, а во-вторых, мы же заранее условились, никаких эксцессов…
– Нас не тронут – мы не тронем, – ответил Шульгин. – Насколько я помню, в каждом случае имевших место конфликтов они начинали первыми…
– Это, между нами говоря, большой вопрос, – не уступала леди. – Первый выстрел каждый раз делали, безусловно, они, но ведь надо знать англичан! С их точки зрения вы вели себя невыносимо вызывающе, а с «Грейт Бритн» так нельзя. Вы их намеренно доводили до бешенства, вот они и бросались в драку, как говорится, «очертя голову».
– Если бы мы их не знали, может, и вели бы себя посдержанней, – сказал Воронцов, – а так – в самый раз. Хамов надо учить. Причем хамов – подловатеньких. Ведь в каждом случае они были абсолютно уверены в своем несоизмеримом превосходстве… А вот когда с Гитлером столкнулись, хвост поджали и терпели, пока тот Дюнкерк им не устроил и Лондон бомбить не начал…
– Ладно, закончили политинформацию, – поднял руку Новиков. – Нам теперь какое-то время под них косить придется, так что лучше обойтись без неприязни к своим персонажам. Хорош был бы Штирлиц, все время твердящий про себя – «фрицы проклятые»…
Действительно, как бы ни относиться к тогдашним владыкам полумира, непрерывно и постоянно учинявшим кризисы везде, где хотелось «правительству Ее Величества», генералам, адмиралам, колониальным губернаторам и вице-королям, а до поры до времени правильнее всего было изображать свою к ним принадлежность. Тоже ситуативно, разумеется, на тех территориях, где к «гордым британцам» относились с почтением или страхом, не переходящим в неконтролируемую агрессию.
И на территории Соединенного Королевства, как правильно сказала Сильвия, лучше появиться в качестве англичан, а не кого-либо другого. В те патриархальные времена назваться американцами в приличном месте значило примерно то же самое, что в семидесятые годы двадцатого века, появившись в изысканном московском салоне «друзей театра на Таганке», громогласно провозгласить: «Здравствуйте, а я к вам из Пырловки (или Мухосранска)». Самый деликатный (политкорректный) из присутствующих поднесет палец к губам. «Ладно, мол, бывает, но зачем же об этом – вслух?»
В высший свет просачиваться, объявляя себя побочным сыном герцога Веллингтона, внучатым племянником последнего настоящего Плантагенета, никто не собирался, хотя, если бы очень захотелось, можно было и попробовать. Сильвия вон втерлась в родство к самому Черчиллю, в роли его двоюродной тетки, и получилось. Легче, чем у Остапа закрепиться в роли сына лейтенанта Шмидта.
(А вот интересно, чего бы Паниковскому не выйти из конвенции, без всяких конфликтов создав новую династию – братьев названного героя? По возрасту – как раз.)
Нужно было, используя схему известного рассказа Честертона, балансировать на тонкой грани, перед простолюдинами изображая крутых джентльменов, а очутившись в обществе последних, держать фасон, не слишком высовываясь. Ориентируясь, например, на личину сэра Говарда Грина, в роли которого Шульгин достаточно преуспел. Безукоризненные манеры с легким налетом чего-то бомбейско-калькуттского, совсем чуть-чуть выставленная напоказ состоятельность, нагловатость, если потребуют обстоятельства. Как у Дизраэли.
Собственно говоря, в Лондоне компания собиралась провести не больше недели, от силы – двух. Они ведь знали, что война вот-вот разразится, а большинство британского общества пока пребывало в неопределенности. О том, что вопрос решен давно и окончательно, речи ни в парламенте, ни в прессе не шло, напротив, дело подавалось так, что Англия настроена вполне миролюбиво и озабочена лишь гражданскими правами так называемых «ойтландеров», то есть британских подданных, десятилетиями проникавших на территорию бурских республик в поисках золота и алмазов. Вот они, достигнув определенной численности и финансового успеха, потребовали, при полной поддержке королевского правительства, предоставления им избирательных и прочих прав первопоселенцев. Отказ автоматически вел к войне, имеющей целью аннексию Трансвааля и Оранжевой республики.
Срок, остающийся до объявления боевых действий, предполагалось использовать, прежде всего, для уяснения, насколько данная реальность совпадает с Главной исторической, затем – установления личных связей с лицами, которым предстоит в ближайшее время сыграть решающие роли в предстоящем конфликте. Действуя одновременно с обеих сторон, бурской и британской, представлялось весьма заманчивым и возможным устроить дело таким образом, чтобы районы, самые богатые золотом и алмазами, в результате естественного развития событий оказались вне досягаемости тех и других. В частных руках. В чьих именно – понятно.
Только Сильвия, естественно, могла свести молодых, жаждущих приключений парней с нужными людьми. И тут опять возникала интересная коллизия. Если этот мир – тот самый, значит, в нем непременно должна присутствовать она – «самая первая», и с ней каким-то образом придется встретиться. Каким – леди Спенсер уже придумала.
Одновременно с индивидуальной подготовкой к посещению нового мира, приходилось заниматься и материально-техническим оснащением. Что бы там ни предполагалось и планировалось, а в глубине почти у каждого таилась мысль, что вернуться, может быть, и не удастся. Если уж началось такое, раньше невиданное и неслыханное, так кто гарантирует, что в определенный момент не рассыплются в труху блок-универсалы, установки СПВ, вообще вся не соответствующая времени техника?
Это Левашов осторожно высказал подобную гипотезу – что, достаточно отдалившись от момента своего создания «вверх по реке времени», перестав соответствовать местным законам природы, некоторые артефакты могут утратить свои свойства. Полностью или частично.
– Частично – это как? – сострил Шульгин. – В портсигарах можно будет по-прежнему носить сигареты?
– В этом роде. – Олег шутить был не склонен.
– Вздор, – заявила Сильвия. – Мой блок-универсал нормально работал намного раньше девяностых годов…
– Упускаешь небольшую деталь, – принялся растолковывать Левашов. – Ты работала, поддерживая постоянную связь с Главной Базой. Твой Шар и блок фактически являлись рабочими элементами вневременного управляющего центра. Да и Земля целиком входила в систему ячеек Сети. А сейчас… Я просто не знаю.
– Очень, кстати, возможный вариант, – вмешался Новиков. – Особенно если кто-нибудь приложит руку к его реализации. Что стоит подкрутить несколько гаечек в часовом механизме мироздания? Вроде как постоянную Планка или закон всемирного тяготения подкорректировать. Никаких видимых изменений, кроме одного – образуется время, в котором никакие подобные штучки существовать не могут, просто потому, что им тут не место. И узнаете вы об этом, братцы, когда поздно будет пить боржом.
Одна надежда останется, на сутры и мантры профессора Удолина. Вдруг да не подведет древняя мистика, посторонняя по отношению к электронным Гиперсетям…
– А ну, кончай пораженческие разговоры! – слегка возвысил голос до генеральских ноток Берестин. – Все трусы и паникеры будут караться по законам не извращенного, а военного времени…
Действительно, что теперь рассуждать и изобретать всяческие страшилки? Любое предприятие, от подъема на Эверест до похода в подмосковный лес за грибами, можно обставить таким количеством алармистских[12] прогнозов, что захочется вообще никогда не вставать с дивана…
В подобных случаях единственный разумный выход – руководствоваться старинной русской поговоркой: «Помирать собирайся, а рожь сей!» Каким-то бродячим монахом в десятом, скажем, веке занесенная и переложенная на язык родных осин максима Марка Аврелия: «Делай, что должен, свершится, чему суждено». А то и самостоятельно придуманная, русичи в сходных обстоятельствах были небось не глупее римлян эпохи упадка.
Пока флотилия бороздит воды Атлантики, можно вернуться немного назад, к напряженным дням сборов в дорогу.
В глубокой, скрытой между крутыми прибрежными скалами бухте, расположенной в нескольких километрах от Замка, за холмами, густо заросшими реликтовыми орегонскими соснами, располагалась устроенная Воронцовым еще в первое посещение «военно-морская база».
– Первая советская база на американской территории, – любил он повторять, демонстрируя друзьям свой объект.
Объект был хороший, без вопросов. На случай чьих-нибудь вторжений (викингов, например?) узкая горловина прохода с внешнего на внутренний рейд прикрывалась береговыми батареями. Внутри бухты устроено несколько мощных пирсов-волноломов, способных защитить от любого шторма или тропического урагана, оснащенных всеми положенными швартовочными устройствами и механизмами, трубопроводами для подачи топлива, рельсовыми путями и портальными кранами.
Еще глубже – гигантский сухой док, в котором и была построена, а точнее – выращена «Валгалла», куда ее сейчас вводил Воронцов, демонстрируя все навыки и качества «хорошей морской практики». Без помощи буксиров, исключительно своим ходом. А это дело, кто понимает, крайне непростое.
Палубные роботы, обладающие сверхчеловеческой реакцией и массой разнообразных специальностей, многие из которых они могли исполнять одновременно, ему помогали, но командовал и ручки машинного телеграфа двигал все-таки сам Дмитрий.
Побегал пароход по морям порядочно, четыре полных года, в сражениях с силами превосходящего противника принимал участие неоднократно, торпедный удар выдержал, и для новой миссии ему требовался пусть не капитальный, но вполне серьезный текущий ремонт. Плюс кое-какая реконструкция, с учетом опыта эксплуатации.
Очистка днища от обрастания, это само собой, смена деформированных листов обшивки и погрызенных кавитацией винтов. Для соответствия корабельной архитектуре прошлого века – переделка клиперного образования форштевня на прямое, небольшое увеличение длины дымовых труб. И многое другое по мелочи.
Чтобы добиться бесконечной автономности, Воронцов придумал и потребовал от Антона с Левашовым установить в топливных цистернах самостоятельные контуры дубликаторов. При выработке половины солярки от простейших, как в бачке унитаза, поплавков срабатывало контактное реле. И мгновенно происходило удвоение наличного горючего «до верхней пробки». Дмитрий считал, что буквально секундный всплеск напряженности поля, переформатирующего атомы окружающих пароход воздуха и воды в углеводород? извне не может быть зафиксирован никакими приборами, в том числе и дуггурскими, поскольку с объектами внешнего мира взаимодействия происходить не будет, все – «в замкнутом цикле», а на всякий случай можно придумать какой-нибудь гасящий сигнал типа мощного грозового разряда.
– Это уж, ребята, ваши заботы, хоть экраны вокруг дубликаторов поставьте, из того же материала, что футляр для Книги…
«Валгалла» приняла в десять побортно расположенных, хорошо защищенных танков четыре тысячи тонн топлива, чего и без включения дубликаторов хватит на половину экватора. С ними – пока машины не исчерпают моторесурс. Кругосветок через пять.
Вооружение тоже решили облегчить. Шведские шестидюймовые автоматы в восемьсот девяносто девятом году просто не нужны. По причине отсутствия достойных целей и чрезмерной вибрации корпуса при полнозарядных очередях. А экономия веса и свободных площадей получается существенная.
Сорокаузловой скорости «Валгаллы» и дальнобойности ее десятидюймовок, втрое превосходящих любую пушку английских броненосцев (с тридцатикратным перевесом по прицельности и пятикратным по фугасному действию снаряда), вполне достаточно, чтобы не принимать во внимание пресловутого Гранд-флита вообще, как явления природы.
Двенадцати самых совершенных в мире, даже для шестидесятых годов, стотридцатимиллиметровых пушек было достаточно для боя с крейсерами какого угодно типа, опять же с недостижимых дистанций, если нужно, то и загоризонтных.
Для совсем уже незначительных целей вроде торпедных катеров и джонок малайских пиратов, имелись восемь спаренных пулеметов «КПВ».
От шального (всякое бывает) снаряда или торпеды пароход защищала композитная броня, суммарно достигающая прочности и сопротивляемости четырехсотмиллиметровой крупповской.
Как маловероятный, но все-таки допустимый вариант рассматривалась возможность появления таинственного врага (дуггуров и не только). На этот случай «Валгалла» оснащалась такими штуками, как противокорабельная ракета «Москит», летящая на гиперзвуковой скорости, невидимыми ни в каком диапазоне (тоже подарок Антона) зенитными ракетами и мощными средствами радиоэлектронной борьбы.
Понятно, вся эта «гонка вооружений» имела смысл только при условии, что дуггуры или кто угодно другой, будут использовать технику и вооружение уже известного уровня. Если нет – о чем вообще говорить? Однако ведь до последнего момента как-то выкручивались. В любом случае – дольше жизни жить не будешь, раньше смерти не помрешь.
…Крейсер «Изумруд» в предстоящей кампании предполагалось использовать по прямому назначению, в качестве дальнего разведчика и корабля непосредственного прикрытия «Призрака» от пиратов, если таковые вдруг появятся, как появились однажды неизвестно откуда торпедные катера немецкого производства и непонятной принадлежности, а также и от английских крейсеров. Война в Южной Африке вот-вот начнется, и «Владычице морей» может не понравиться появление в непосредственной близости от ТВД подозрительной яхты. Вообразят вдруг англичане, что она занимается контрабандой в пользу буров, шпионажем за морскими перевозками или еще чем-нибудь, с их точки зрения предосудительным, вздумают захватить или сразу утопить без лишних разговоров. Тут четырьмя тридцатисемимиллиметровками не отобьешься.
Еще раз нужно подчеркнуть, что на этот раз наши герои заведомо не собирались в очередной раз переделывать историю. В идеале они мечтали, попутешествовав по пока еще девственной Африке, разыскав то, что хотели найти, удалиться на один из необитаемых и никому не принадлежащих островов. Такие, по счастью, еще имелись, не нанесенные на самые подробные карты. Мысль о том, чтобы с годик побездельничать на лоне природы, из «прекрасного далеко» наблюдая за коловращением жизни на планете, казалась до чрезвычайности заманчивой.
Но при этом толстовцами они себя тоже не воображали. Если обстоятельства вынудят, придется поступать в соответствии с законами и обычаями окружающего мира. Стараясь до последней крайности не выходить за рамки необходимого и достаточного. Такова, в целом, была стратегическая концепция…
Согласно справочникам «Джен» и оперативной информации, при достаточном напряжении сил англичане могли сосредоточить в южноафриканских водах и на коммуникациях более двух десятков современных крейсеров, водоизмещением от трех до десяти тысяч тонн, скоростью 20–22 узла, вооруженных по преимуществу шестидюймовой артиллерией, с бронезащитой от пятидесяти до ста миллиметров. Кроме того, недавно в строй вошли два гигантских бронепалубных крейсера «Террибль» и «Пауэрфулл», по 14 тысяч тонн каждый, специально спроектированные для борьбы с русскими океанскими рейдерами «Рюрик» и «Россия». Встреча с ними тоже не исключалась.
«Изумруд» должен был иметь возможность оказать эффективное сопротивление любому крейсерскому соединению вероятного противника. Конечно, за счет скорости (25 проектных узлов для 1903 года, 32 в его нынешнем состоянии, а по проекту модернизации он должен выходить на 42–44, как лидеры «Ташкент» и «Ленинград») легко уклониться не только от боя, но и от визуального контакта, но, как известно, военные корабли строят не для того, чтобы бегать от неприятеля.
Поэтому «Изумруд» нуждался в гораздо более глубокой переделке, чем «Валгалла».
…Нужно пояснить читателю, что с этим крейсером получилась совершенно непонятная история. Любому, даже дилетанту в военно-морской истории, известно, что 15 мая 1904 года, когда небоеспособные остатки русской эскадры, окруженные почти всем японским флотом, спустили флаги, «Изумруд» под командованием капитана 2-го ранга Ферзена решился на прорыв. Развив полный ход, он прорезал строй японских кораблей и вскоре скрылся за горизонтом. Японцы гнаться за отважным кораблем даже и не пробовали. Ни один из их крейсеров больше двадцати двух узлов дать не мог, и то теоретически, а лихо себя проявившие в ночных торпедных атаках контрминоносцы английского производства: «Сазанами», «Юкагири», «Кагеро» и прочие, при своих 27 узлах (тоже проектных) не рискнули гнаться за крейсером, вооруженным стодвадцатимиллеметровыми пушками. И, как показал момент, настроенным очень решительно.
«Изумруд» спокойно ушел, провожаемый бессмысленными выстрелами вслед и тоскливым «Ура» экипажей броненосцев, которым суждено было обрести не славу, а позор. Этому прорыву посвящена отдельная глава бессмертного романа Новикова-Прибоя «Цусима» – «Перед врагами герой, а на свободе растерялся». Из нее каждому известно, что крейсер по дороге домой потерял ориентировку, вместо Владивостока очутился в бухте Владимир, выскочил на камни и был взорван экипажем. Так что подвиг, достойный войти в анналы, должного завершения не получил.
Сама по себе ситуация достаточно глупая, а то и странная, но вполне вписывающаяся заключительным аккордом в переполненную нелепостями и выходящим за рамки вероятностей нагромождением несчастных случаев и роковых ошибок историю этой войны. Не зря один из склонных к философствованию на подобные темы литераторов высказал предположение, что японцы к тому времени овладели способностью мистически влиять на психику и поведение своих врагов (создавать устойчивые мыслеформы, проще говоря). Посредством буддизма, синтоизма или иных, в настоящее время необъяснимых практик.
В доказательство приводился весь набор знакомых каждому любителю истории примеров и доводов, плюс неопубликованные и широкому читателю неизвестные (наверное, вследствие запрета со стороны японцев?) воспоминания участников капитуляции отряда Небогатова. Эти «герои» (безусловно, для самооправдания) дружно утверждали, что в тот день испытывали дезориентацию во времени и пространстве, все, от матросов до адмирала, вели себя неадекватно и фактически за свои действия не отвечали. То же самое якобы случилось с командиром и офицерами «Изумруда». Как только крейсер прорвал кольцо блокады и пошел предписанным курсом, все они вместо естественного в таких условиях азарта начали испытывать депрессию, вялость, немотивированные страхи и даже галлюцинации. Отчего ни сам командир, ни старший офицер, ни вахтенные штурмана не смогли проложить верный курс в открытом море (задача, посильная любому гардемарину-старшекурснику).
Кстати сказать, гипотеза не такая глупая, если ее автор хоть краешком прикоснулся к эзотерике, посетив несколько семинаров того же Удолина. При определенном складе психики еще не к таким выводам можно было прийти.
В то же время известно, что вся целиком реальность Игоря Ростокина возникла благодаря тому, что с первого дня Русско-японской войны «вектор случайностей» поменял знак, и абсолютно все неблагоприятные стечения обстоятельств, ошибки и просчеты, объяснимые или нет, переадресовались другой стороне. Отчего война была проиграна японцами с разгромным счетом и Островная империя вновь на долгие десятилетия впала в ничтожество.
А с «Изумрудом», причем на ГИП, случилось странное. Непонятным образом, весьма напоминающим то, что произошло с «Призраком», встретившимся с немецкими «Люрсенами» на просторах Тихого океана неизвестно в каком году. Он скорее всего попал в одну из гипотетических «точек деформации континуума». И, пройдя ее совершенно нечувствительным образом, в положенное время благополучно пришел во Владивосток, как и три других уцелевших в сражении корабля.
Абсолютно никаких исторических последствий этот малозначительный факт не имел, разве что ненаписанная пока «Цусима» станет на несколько страниц короче. Крейсер продолжил свою службу в составе Сибирской военной флотилии, а в 1921 году (уже в нашей, Югоросской реальности), при попытке прорыва в белый Крым, был интернирован англичанами. Очевидно, это был акт довольно-таки жалкой мести за разгром британской эскадры в Черном море.
Изображавший из себя в очередной раз сэра Говарда Грина Шульгин, занимавшийся оформлением купленной в Новой Зеландии земли и закладкой Форта Росс, третьего по счету, исключительно из романтических соображений решил приобрести у британцев совершенно ненужный им старый крейсер. Пользующемуся покровительством высших кругов общества аристократу, изъявившему желание переделать «Изумруд» в личную яхту, уступили его по чисто символической цене и передали «как есть», даже не демонтировав вооружение. А у поселенцев форта появилась собственная боевая единица.
Остальных членов Братства, кроме Воронцова и Владимира Белли, естественно, судьба и история корабля не слишком интересовала. Но и Шульгин и Новиков были немало обескуражены: выходило – вопреки тому, что можно назвать теорией, будущее все же может оказывать воздействие на прошлое. И если факт в их распоряжении имелся пока единственный, то кто может утверждать, что на самом деле их не сотни и тысячи? Просто здесь они точно знали, что в абсолютно аналогичном всей писаной истории двадцатого века мире обнаружился бесспорный артефакт. Как, зачем, почему – неизвестно. Просто был – и все. Возник он, нужно полагать, в явной связи с перемещением «Валгаллы» в двадцатый год. Проверить это пока не представлялось возможным, поскольку вся существующая здесь военно-морская литература: и российская, и зарубежная – подтверждала: все с «Изумрудом» обстояло именно так, а не иначе. А та, что имелась в библиотеке Братства, утверждала прямо противоположное.
Еще одним подтверждением этой гипотезы могла быть судьба адмирала Колчака, поскольку в исторических документах имелись вроде бы достоверные свидетельства его расстрела. Но тут однозначность отсутствовала, вполне допускалась фальсификация и сознательная дезинформация со стороны большевиков.
Выходит, что Шекли с его «Искаженным миром» прав и существуют Вселенные, отличающиеся от нашей одной-единственной деталью? Ну если и так, то что? Какое это может иметь значение в сравнении со всем остальным?
Друзья решили не придавать своему открытию никакого значения. Парадоксом больше, парадоксом меньше…
Но неприятный осадок остался. Как у биолога, которому амеба, рассматриваемая в микроскоп, вдруг показала кукиш.
Для «Изумруда» создали еще один сухой док, соразмерный, поблизости от большого, где стояла «Валгалла». К работе пришлось привлечь не только Антона, но и Арчибальда, по его собственной просьбе. Прошлый раз он участвовал в «постройке», точнее сказать – выращивании, парохода в качестве не совсем одушевленного устройства, а сейчас захотел побыть равноправным коллегой.
То, что его телесное воплощение оставалось не более чем одним из эффекторов все той же машины, не имело значения. Наталья тоже, пока вела переговоры с Воронцовым, никак не являлась настоящей женщиной, но Дмитрий, разумом это понимая, эмоционально воспринимал ее как живую. Впоследствии оказалось, что чувства его не обманули, а если бы он предпочел чисто рациональный подход, не было бы у него сейчас любимой жены, остались бы только неприятные воспоминания.
– Раз мы все договорились избегать всякой мистики и магии, – говорил Арчибальд, спускаясь в окружении свиты «заинтересованных лиц» с площадки над воротами дока на палубу крейсера, – будем следовать этому условию.
– Мистика и магия – это что в твоем понимании? – спросил Воронцов, первым очутившись на шканцах[13] и с интересом глядя на респектабельного джентльмена, судя по его лицу и поведению, впервые оказавшегося на военном корабле. Это сразу видно, если кто понимает.
– Все, что не является результатом или продуктом развития естественных наук, сообразных нынешнему уровню общества…
– А что, неплохо сформулировано, – сказал Новиков, а Шульгин подтвердил то же самое, но грубее: «Хорошо излагает, собака», одновременно мимикой и внутренним посылом пояснив, что это всего лишь цитата из канонического романа, но никак не оскорбление.
Арчибальд сделал вид, что так и понял. Он и сам представлял собой интеллектуальную композицию преимущественно литературных персонажей. Иных моделей для подражания взять ему было неоткуда, разве что тупо копировать психоматрицы своих гостей.
– Как вы понимаете, для меня не составило бы труда создать в соответствующих контурах мысленную копию этого кораблика, основываясь на ваших представлениях, после чего материализовать ее. Точно так, как материализовывались ваши пожелания о топографии и внутреннем содержании помещений самого замка. Вы, Дмитрий, первым научились управлять процессами моделирования и трансформации новых сущностей…
– Сейчас это к делу не имеет отношения, – с излишней, пожалуй, резкостью, сказал Воронцов. В словах Арчибальда он уловил неприятный для себя намек. – Давай по сути…
– Только этого я и хочу. Мы могли бы пойти тем же путем и получили бы искомое фактически мгновенно, и наилучшего качества… – Арчибальд, начав развивать какую-то мысль, не мог остановиться, не доведя ее до законченной формы (как он сам это представлял). – Но беда в том, что любое использование указанных методик (в силу того, что док находится вне защитного поля замка) непременно вызовет резонанс временнуй ткани, на всем ее протяжении. Вдоль и поперек. И датчики напряженности хронополя, если они имеются у дуггуров (а они у них непременно имеются, раз им доступны перемещения по мировым линиям), обязательно такое действие зафиксируют. Со всеми вытекающими…
– Еще короче, – потребовал Воронцов. – Любителей потрепаться у нас и без тебя хватает.
Верно сказано. Посадить визави Арчибальда и Удолина, вот бы поговорили…
– Обидеть хотите? Ваше право. Я вот о чем. Ваш крейсер мы будем перестраивать чисто механическим способом, к «тонким» сферам отношения не имеющим… Наблюдайте, восхищайтесь…
На проложенные вдоль верхних бортов дока рельсы, повинуясь незримой и неслышимой команде, тут же выехали из примыкающего со стороны берега ангара установленные на железнодорожные тележки агрегаты, напоминающие броневагоны времен Гражданской войны. На подножках стояли и толпились внутри у раскрытых дверей одетые в «синее рабочее» фигуры, больше всего похожие на сверхсрочнослужащих по механической части.
Машины распределились вдоль корпуса крейсера в шахматном порядке, от форштевня до кормового свеса. Их персонал тут же начал действовать, быстро, четко, явно квалифицированно, будто только этим всю службу и занимались. Буквально в считаные секунды со стенки на палубу были переброшены широкие сходни, техники дружно потянули сквозь распахнувшиеся с лязгом люки толстые цветные кабели, присоединенные к ним непонятного назначения устройства разнообразных форм и размеров. При этом в воздухе не висели гирлянды командных слов пополам с матерными. Распорядители работ и исполнители между собой не переговаривались, на людей, оказавшихся посередине поля их деятельности, внимания не обращали. Как их здесь и не было.
– Ну, роботы, не первый день знакомы, – повернувшись к Антону, сказал Воронцов. – Теперь, надеюсь, запрета на их неограниченное использование больше не существует? А то ведь, хочешь – не хочешь, нам, по вновь открывшимся обстоятельствам, потребуется еще десятков пять, не меньше. Как, командир, – спросил он у Белли, – полсотни таких орлов тебя устроят?
Владимиру с первых дней службы приходилось встречаться с этими андроидами на «Валгалле», и он научился воспринимать их, как естественные элементы окружающей действительности. Бывало, Воронцов выделял в распоряжение старлейта некоторое их количество для экстренных и особо сложных работ, но в основном крейсер обслуживался живым персоналом. Вместо положенных по штату трехсот человек у старшего лейтенанта в экипаже имелось не более семидесяти бывших гардемарин и младших офицеров, понявших и принявших новую реальность, подобно рейнджерам Басманова. Для поддержания «Изумруда» в рабочем состоянии такого состава хватало, но для трансокеанского похода, многомесячного рейдерства в открытом море и, если придется, боя – ни в коем случае.
– При круглосуточном несении вахт – безусловно хватит, ваше превосходительство. – Белли так и не научился в служебной обстановке обходиться без титулования. – Командные должности у меня полностью укомплектованы, старшие гардемарины и мичманы четвертый год матросские обязанности исполняют… Нехорошо получается, неудобно.
– В Гражданскую капитаны и подполковники рядовыми в бой ходили, и ничего, – вставил Новиков.
– Без особой радости, как я помню, – с намеком на дерзость ответил Белли, которому приходилось командовать бывшими однокашниками и офицерами, старшими по производству, отчего он постоянно ощущал определенную неловкость. Не тот характер, что, скажем, у поручика Тухачевского: тому помыкать заслуженными полковниками и генералами было всласть.
– Ладно, это пока не по теме. Сейчас о другом нужно думать, – примирительно сказал Воронцов. – Доведем крейсер до ума, тогда и займемся оргштатными мероприятиями…
– Будут вам «люди», в полном комплекте, – тронул Арчибальд за локоть старшего лейтенанта. – Все ограничения снимаются, согласны, Антон? А пока давайте сойдем на берег. Мы мешаем…
Деятельности охваченных трудовым энтузиазмом роботов они и в самом деле мешали. Те разбежались по палубам и мостикам, потянули кабели, широкие, блестящие тусклым серебром шины в тамбуры люков, принялись устанавливать на боевых постах и орудийных площадках металлические и пластиковые ящики, обвешивать леерные стойки, трапы, рангоут и такелаж проводами на зажимах-»крокодилах».
– Ну и что это будет означать? – спросил Белли, не имевший подходящего опыта, когда всем синклитом они спустились на пирс и, закурив, наблюдали за внешне беспорядочной, как на куполе муравейника, но явно целенаправленной суетой.
– Да ничего особенного, юноша, – ответил Арчибальд, для которого с высоты его возраста, может быть, и тысячелетнего, командир крейсера мог восприниматься вообще младенцем. – Как указано в техзадании, представленном Дмитрием, через вполне непродолжительное время весь набор крейсера путем обыкновенной трансмутации будет заменен на стале-карбоно-титановый, причем рассчитанный наилучшим способом, с исключением всех ненагруженных элементов. Что около половины массы корабля не обеспечивает никакой полезной функции, а в лучшем случае держит только саму себя, вы должны знать из курса Морского корпуса. Отсюда необходимость в многократно завышенном запасе прочности и неизбежные перегрузки. Мы от этого избавляемся.
Никчемную, давно уставшую и поржавевшую сталь обшивки так же быстро превратят в гораздо более легкие и прочные материалы. Про карбоны и мономолекулярные материалы слышали?
– Мельком, – ответил Белли, которому слушать Арчибальда было интересно, но неприятно. И заслуженного крейсера, который совсем скоро превратится в нечто совсем другое, было жалко, и от сознания, что с ним никто планируемой переделки не обсуждал, самолюбие пощипывало.
– А больше и не нужно, – кося под Мефистофеля, усмехнулся тот. – Приличная мономолекулярная нить железа выдерживает нагрузку на разрыв в сотни раз большую, чем обычная проволока той же толщины. Теперь вообразите нечто вроде листа войлока, изготовленного из таких нитей. С двух сторон усиленного десятимиллиметровыми листами карбона. Это карапасная[14] броневая палуба, скосами уходящая на метр ниже ватерлинии. И наружный борт вдобавок выполним из такой же «фанеры», снаружи прикрытой лучшей броневой сталью. Я посчитал – с дистанции пятьдесят кабельтов бронебойный снаряд любого калибра из орудия конца прошлого века такую броню не пробьет. С учетом угла встречи. А ближе вам подходить вряд ли потребуется.
Подводная часть, поверх дубовой прокладки, обшивается листами бериллиевой бронзы. Бериллий настолько ядовит, что ни моллюски, не водоросли на нем жить не могут.
Одним словом, с завтрашнего дня вы станете командиром единственного в мире сверхскоростного легкого броненосного крейсера, смертельно опасного даже для броненосцев. За счет уникальной по дальнобойности и мощи артиллерии. С чем вас и поздравляю! – Арчибальд приложил руку к сердцу и манерно поклонился.
– Ладно, – сказал Новиков, которому ерничество Замка изрядно поднадоело. – Готово будет, тогда и посмотрим. А сейчас чего здесь толкаться?
Владимиру уходить не хотелось. Он тут же вытребовал себе право присутствовать во время всего процесса, присматривая за ходом работ и внося собственные предложения и пожелания. Хотя бы по поводу планировки и оснащения жилых помещений, ходовой и боевой рубки. Понятное дело, в двадцать пять лет никому не доводилось оказаться в должности командира корабля такого класса, и доверить его оборудование и комплектование неразумным машинам было выше сил старшего лейтенанта.
Воронцов младшего коллегу отлично понимал. Ему было далеко за тридцать, и то во время постройки он сутками не сходил на берег с «Валгаллы», стремясь все видеть и все потрогать своими руками.
Глава четвертая
«Валгалла» и «Призрак» могли в этом мире спокойно заходить в порты любого государства. Пароход под звездно-полосатым (порт приписки Сан-Франциско), яхта под личным флагом владельца, все того же пресловутого Говарда Грина, вполне легализованного сотрудника Сильвии, ныне, по ее воспоминаниям, пребывающего «по собственным делам» в Японии. Там у аггрианской резидентуры имелись интересы, связанные со сложным клубком международных интриг вокруг восстания ихэцюань[15] (боксерского). Так что обвинения в самозванстве предъявить было некому. Шульгин, на время экспедиции принявший придуманный в детстве псевдоним Дик Мэллони, выступал в качестве любимого племянника, которому дядюшка для расширения кругозора и укрепления здоровья позволил «обкатать» только что построенную яхту.
Сильвия изображала старшую кузину – вторую племянницу Грина.
Остальные – их гости, молодежь из хороших семей, гарантированно не имеющие родственников в Метрополии.
Владельцем «Валгаллы», как и прежде, значился Эндрю Ньюмен, бизнесмен, направляющийся из Нью-Йорка в Стокгольм. Чтобы избежать таможенного досмотра, а также и портовых расходов, пароход остался на внешнем рейде в устье Темзы, и пассажиры отправились в Лондон собственным катером.
Сложнее было с «Изумрудом». Заход военного корабля, под каким угодно флагом, в территориальные воды цивилизованных стран сопровождался таким количеством формальностей и согласований на высоких уровнях, что пришлось бы крейсеру оставаться дрейфовать в открытом море, избегая встреч с чужими плавсредствами.
Кроме того, в Крыму оставался Басманов со своей командой, и их нужно было забрать с собой, раз обещали. Ребята увидят наконец пресловутую Африку, а путешественикам будет куда спокойнее заниматься своими изысканиями, зная, что есть за спиной сила, которая поможет при любом развитии событий.
Поэтому решили сразу перебросить крейсер в двадцать пятый год, а уже потом забрать его в девяносто девятый. В нужный момент и в подходящем месте.
Маскировщики хорошо поработали над крейсером: установили высокие съемные фальшборта, две трубы убрали, а третью удлинили, соорудили макеты грузовых стрел и высокую надстройку в корме. Даже с полумили его легко было принять за старый, обшарпанный, запущенный лесовоз.
Владимир Белли получил все необходимые инструкции, кроме того, с ним решили пойти Ростокин с Аллой. Военному корреспонденту интереснее была очередная хитрая операция, чем курортное безделье на «Валгалле».
На самом деле Братству здесь и сейчас ничего серьезного не угрожало. Пусть через определенное время контрразведчики, сыщики, ясновидцы гениальным озарением или в результате кропотливой аналитической работы придут к выводу, что в Англии объявилась неизвестная тайная организация. Это почти невероятно, но допустим. Сопоставят какие-то, пока не случившиеся события, в силу невероятных совпадений установят, что и Ньюмен не Ньюмен, и Мэллони не племянник Грина, что в Северном море болтается не шведский лесовоз, а крейсер неизвестной принадлежности. И что из того, по большому счету?
Какие действенные меры смогут принять государственные власти, тогдашние спецслужбы или частные организации вроде пресловутой «Системы», которая скорее всего организационно еще и не оформилась, против сплоченной команды Братства?
Арестовать кого-либо из них, даже поодиночке, у полиции не хватит обычной физической подготовки, а главное – моральной готовности. Лондонские «бобби» тогда не носили оружия, кроме деревянных дубинок, воздействуя на нарушителей закона исключительно авторитетом мундира. Иные представители спецслужб имели при себе иногда револьверы типа «Бульдог» и «Велодог». Что-то более эффективное просто не помещалось в карманах. До создания классического «браунинга», образца и идеала всех последующих карманных пистолетов, оставался еще целый год. Что они могли противопоставить беглому огню «стечкиных» или «беретт»?
Воспретить выход в море «Валгалле» и даже «Призраку» – то же самое. Прорвутся, невзирая на потери противной стороны.
Но это все теоретические, они же праздные, размышления. Реальная опасность может возникнуть только в двух случаях – если их расшифрует и начнет работать против них тогдашняя аггрианская резидентура или вдруг каким-то образом вновь проявят себя Игроки. К примеру, наведут пресловутых и ужасных дуггуров, окажут им, так сказать, интернациональную помощь. Просто так, для обострения партии…
От подобных рассуждений, время от времени всплывавших в ходе разговоров, постоянно ведшихся в кают-компаниях и на мостиках (что еще делать в море?), снова начинало отдавать паранойей. На что справедливо указал Шульгин, которому новые пациенты были не нужны. Слава богу, Новиков с депрессией разделался! Вот перешли межвременную границу – и все! Так Александр Иванович однажды и выразился за коктейль-парти. В излишне резкой, может быть, но с врачебной точки зрения верной манере.
– Не понимаю, так вас и так, что на свете творится! В Крым ходили, еще в три мира – тоже, и никогда такого нытья не слышал! Неужто поганые обезьяны с пулеметами всех до потери лица травмировали? Чека не боялись, КГБ, ФСБ, княжеской контрразведки, суздалевских «инквизиторов», а тут о допотопном Скотленд-ярде с придыханием заговорили, словно в лапы гестапо собрались… Смотрю, слушаю, и поражаюсь! Давно вместе не собирались, а собрались – не солдаты удачи, а сборище интеллигентов с кухни семидесятых… Водку пьют и откровенничают, кто лучше других распечатку «Собачьего сердца» спрятал. Тьфу!
Сказано это было по расчету, но на вид – сгоряча, от всего сердца. Шульгину действительно было непонятно – что с людьми происходит? Мелькнула мыслишка, не есть ли подобная психическая деформация подобием «ломки» после отключения от Гиперсети? Нет, на самом деле, никогда раньше он не видел своих друзей и компаньонов такими растерянными, дезориентированными, что ли…
На эту тему он не стал говорить ни с кем. Чтобы врачу-психиатру с пациентами советоваться…
На тех, с кем он сидел за столом на подветренной стороне шлюпочной палубы, рядом с источающей тепло кормовой трубой, слова Шульгина произвели нужное впечатление.
С долей смущения Левашов сказал:
– Да ведь и правда! Что мы, на самом деле? Какую уже неделю о ерунде болтаем. Пора завязывать. Решили стать двадцатилетними кладоискателями – ну и хватит. Мне тоже это бесконечное переливание из пустого в порожнее обрыдло! К черту рефлексии! Вив ля ви эт ля ме![16]
– Эт ля фам, – добавил Новиков, поднимая бокал. Сидящие рядом женщины возражать не стали.
Моторный катер «Валгаллы», с пятидесятисильным керосиновым движком, взбивал винтом грязную воду Темзы, бодро преодолевая встречное отливное течение от причалов Тильбери к лондонским пирсам в черте города. «Призрак» своим ходом поднялся к Тауэр-бридж, где была вполне приличная стоянка для прогулочных судов примерно его класса. Вялый начальник таможни в синем мундире лениво скользнул глазами по документам и спрятал в карман фунтовую бумажку. Лет на семьдесят позже обиделся бы на полусотенную, так здесь покупательная способность другая, и психологическая атмосфера тоже.
– Кебы найдутся? – спросил Новиков. – До Пиккадилли?
Их, веселой компанией сходивших с трапа, было целых восемь человек. Дамы, шуршащие кринолинами, уверенные в себе мужчины в клетчатых брюках в обтяжку и твидовых пиджаках.
– Господа из Америки? – спросил чиновник.
– Из Австралии. Там еще интереснее, – ответил идущий последним Берестин и протянул ему еще одну белую бумажку. Свое недельное жалованье таможенник уже получил, ничего не досматривая. Да и что стоило досматривать на небольшой яхте, пассажиры которой спускались на берег с маленькими саквояжами, а дамы (ох, какие дамы!) только с театральными сумочками?
Но тут же немедленно объявился помощник начальника, очень озабоченный вопросами службы или тоже мечтающий о фунте стерлингов (приличные по тем временам деньги). Кружка пива в пабе стоила пять пенсов, а в фунте этих пенсов содержалось двести сорок.[17]
– Прошу прощения, мисс, – обратился он к Ларисе, первой из девушек, оказавшейся рядом с ним. Но это, наверное, не главный повод. Возможно, взгляд у нее бегал по сторонам сильнее, чем у других, возбуждение ощущалось. Первый раз она оказалась в загадочном, слегка пугающем мире, и сумка была побольше, чем у других. У Ирины и Сильвии имелся иммунитет к любой экзотике, исторической и географической, Анна настолько полагалась на мужа, что была на самом деле абсолютно спокойна. Известные из истории башни Тауэра ей казались интереснее, чем пограничные формальности. А представители мытарского сословия во все времена отличались способностями к физиономистике.
– Что вы хотите? – удивилась и тут же начала раздражаться Лариса. – Осмотреть мою сумочку? Но это неслыханно! Кто вы такой, чтобы…
– Я вас настоятельно прошу… – Или вожжа под хвост чиновнику попала, или своего шефа решил дезавуировать… Момент, кстати, подходящий. Только в другом случае.
Лариса, поймав предупреждающий взгляд Новикова, внутренне взяла себя в руки, но внешне продолжала разыгрывать капризную ярость. Резким движением расстегнула свою достаточно обширную сумку с плечевым ремнем, ткнула ее в лицо таможенника. Самым грубым образом.
– Смотри, ищи, что хочешь, но завтра ты здесь работать не будешь! Первый лорд Адмиралтейства в порошок тебя сотрет, и твою поганую таможню, и все твое начальство! Обыскивать виконтессу де Бишоп?!
Тут уже не важно, что говорить. Лишь бы убедительно.
В сумке, разумеется, не было ничего, кроме духов, пудры, иных женских мелочей. Пистолет у Ларисы был пристегнут к нижним планшеткам корсета с внутренней стороны бедра. Выхватить, в случае нужды, его можно было в мгновение ока через прорезь, спрятанную в складках юбки.
Инспектор, не касаясь руками, быстро и цепко осмотрел содержимое.
– Простите, мисс, – и перевел свой взгляд на Сильвию. Та ответила ему такой яростной вспышкой глаз, что он смешался.
Новиков взял под локоть главного таможенника, отвел на два шага в сторону от трапа.
– Он у вас правда сумасшедший, мастер, как вас там?
– Меня зовут Хикс, Хикс, сэр! Я совсем не понимаю, что на него нашло… Мы не досматриваем личные вещи пассажиров, тем более дам, только в самых исключительных случаях. Ну, вы понимаете… С ним, наверное, и вправду что-нибудь случилось…
– Тогда что же вы, зная законы и получив некоторое вознаграждение, не остановили вовремя, не пресекли бестактные действия своего подчиненного?
– Я… Я правда не знаю, сэр! Вы нас извините, надеюсь… Субинтендент Гэвеллен непременно будет наказан… Гэвеллен, вы меня слышите? Немедленно вернитесь в контору…
– Есть, сэр, я вас понял, сэр…
Однако в его тоне прозвучало нечто вроде угрозы, обращенной теперь уже к начальнику.
– Хорошо, я готов счесть инцидент исчерпанным, раз вы признаете ошибку и принесли извинения, – в меру добродушно сказал, подходя к ним, Шульгин, игравший роль временного владельца судна. – Но я бы вам посоветовал тщательно разобраться в мотивах поведения вашего сотрудника. Знаете, – доверительно сказал он Хиксу, – мы в колониях люди более возбудимые и склонные к защите своего достоинства, чем жители Метрополии. Климат там вредный для здоровья, и от туземцев постоянно ждешь всяких неожиданностей… А через неделю, когда мы намерены отплыть, вы мне расскажете, что же на самом деле хотел обнаружить у леди субинтендент Гэвеллен. Договорились? Вот и хорошо.
Как и было заранее решено, пассажиры «Валгаллы» и «Призрака» поселились в многоэтажном, мрачном, как Бастилия, отеле, занимающем целый квартал на Черинг-Кросс-роуд. Как раз того уровня, что подходил к их легендам. В меру дорого, достаточно приватно и близко до всех достопримечательностей столицы полумира. Лондон, в заслуживающей внимания части, достаточно небольшой город. За пару часов обойти можно. Как Москву в пределах Бульварного кольца.
В духе времени девушки – Ирэн, Лэрис и Энн – заняли один на всех огромный номер с тремя спальнями и двумя гостиными. Сильвия, изображая замужнюю даму, поселилась с Берестиным в угловом апартаменте, выходящем окнами на Трафальгар-сквер. Остальные ограничились однокомнатными, но очень просторными помещениями, предварявшими своими интерьерами многофункциональные однообъемные жилища эпохи Миса ван дер Роэ. Все в пределах тупикового ответвления коридора, богато украшенного атласными, оранжевыми в синюю вертикальную полоску обоями, потолочными плафонами, бронзовыми светильниками в виде нимф в натуральную величину, одной рукой прикрывающих свои прелести, а другой вздымающих шипящие газовые факелы. От них исходил более-менее яркий, но недостаточный для «нормального» человека свет, вдобавок – непривычного спектра.
Воронцов с Натальей, Басманов, Кирсанов, Ростокин с Аллой поселились в параллельном крыле, строго напротив, так, что, выходя на балконы, можно было обмениваться жестами, а также переговариваться с помощью карманных раций. Телефонной связи между номерами здесь пока не придумали.
Новиков, освоившись в комнате, постучался в дверь номера Берестина и Сильвии. Несколько позже к ним присоединился Шульгин.
– Неплохо, очень неплохо, – сказал Сашка, обойдя комнаты, за исключением спальни, конечно. – Я думаю, жить в этих временах можно. Вот посмотрим, чем в ресторане кормят, тогда сделаем окончательный вывод…
– Графин с виски, по крайней мере, нас уже ждет, – сообщил Алексей, указывая на круглый столик в гостиной. – Входит в норму обеспечения необходимых потребностей…
– Толково, – кивнул Шульгин, – понимают, что джентльменам нужно, – но пить отказался. Новиков пока тоже.
– Что бы ты, леди Си, сказала по поводу случившегося инцидента? У вас так часто бывает?
– Со мной – не случалось, – честно ответила Сильвия, кутаясь в банный халат. Горничная уже разожгла угольный титан в ванной комнате, но нагреваться ему предстояло не меньше получаса.
«Что за привычка у этих островитян, – с внутренней усмешкой подумал Андрей. – То тыщу лет, со времен римлян, вообще не мылись, а теперь вдруг – ванна и душ два раза в день! У нас проще – баня раз в неделю – и хватит. Как говорил Чингиз-хан: „Кто смывает с себя грязь – смывает счастье!“ Но вслух сказал другое:
– Тогда следует этим вопросом серьезно озаботиться. Тебя это на самом деле не заинтересовало? Что-то странновато наша экскурсия начинается…
Вопрос был задан в лоб, причем Андрей смотрел на леди Спенсер весьма пытливым и даже тяжелым взглядом.
– Знаешь, дорогой, – она протянула руку, и Берестин тут же подал ей длинную сигарету. Несколько слишком предупредительно. Да какая разница, может, наедине она вообще хлещет его солдатским ремнем. Все бывает. – Знаешь, – повторила она, – я не хотела заострять на этом моменте внимание. Десять к одному, что этот субинтендент на самом деле хотел сорвать соверен или даже гинею…[18]
– Если у вас паранойя, это не значит, что за вами не следят, – повторил Шульгин отнюдь не новую остроту.
– Тогда я ставлю гинею против русского бумажного рубля, что здесь замешана твоя альтер-эго, – заметил Новиков, – если мы попали на ГИП, а не куда-нибудь еще, она здесь непременно присутствует. Мы сделали колоссальную ошибку, подняв на гафеле вымпел сэра Говарда. Меа кульпа,[19] спорить не буду. А ты, миледи, тоже ни о чем подобном не задумалась? Или что?
Начинала закручиваться очень интересная интрига, разборка, поворот сюжета, наконец. Друзьям-то можно вкручивать безудержный оптимизм, а для себя с пугающей непреложностью очевидно, что ни одно событие вокруг не происходит просто так.
Замысел Новикова понял только Шульгин. Берестин не уловил. Ну, как говорится: труба пониже, и дым пожиже. Не в обиду будь сказано, но уровни синтонности разные.
Сильвия встала с кресла, глазами показала на самый дальний угол гостиной, где рос в кадке фикус, а через открытое окно слышался стук лошадиных копыт и гром железных колесных шин по брусчатке.
Там они остановились, вдыхая запах покрывающего улицы конского навоза, угольного дыма из тысяч каминов, символически отапливающих дома и квартиры.
– Ты все очень правильно понял, – сказала Сильвия, касаясь кончиками пальцев щеки Андрея. Милая ласка перешагнувшей бальзаковский возраст[20] дамы в отношении симпатичного юноши. – Это была явная и откровенная подставка. Зачем тратить время на сложные маневры, расставлять хитрые ловушки, если достаточно вовремя приоткрыться?
– Толково, – не мог не согласиться Андрей. – Вопрос следующий. Кем ты здесь видишь себя?
– Конечно, Дайяной. Всю жизнь мечтала занять ее место.
– А внешность?
– Не вопрос… Мне потребуется не больше часа.
– Отлично. Час на подготовку, час на то, чтобы разыскать здешнюю Сильвию и содержательно побеседовать. А мы постараемся подготовить почву для разговора. Алексея ты с нами отпускаешь?
– Разве я могу не разрешить?
Берестин, обладавший феноменальным слухом, при этих словах почти незаметно дернул щекой, но Новиков заметил. Слишком напряженно он отслеживал все происходящее вокруг.
В комнате Шульгина они втроем переоделись подходящим образом. В холле пожилой портье скользнул по ним словно и невидящим, но все запоминающим взглядом и вернулся к своему чаю. Джентльмены записались в книге постояльцев, оплатили номера вперед, какой в них интерес? Вот если вернутся поздно, постучат в дверь шиллинговой монетой, будет некоторая польза. Одеты по погоде. С неба сыплется холодный дождь, смешанный с сажей, так что просторные непромокаемые плащи-рединготы, шляпы-котелки и зонты-трости, в раскрытом виде больше метра в радиусе, как раз к месту.
Под такой одеждой можно спрятать любое количество оружия, только оно сейчас было не нужно. Пистолеты, как необходимая часть экипировки светского человека, вроде носового платка, – и достаточно. Сэр Артур Конан-Дойль, правда, писал, что приличный нож и кастет в трущобах Лондона джентльмену необходимы. Кто же будет спорить с таким авторитетом?
…Субинтендента Гэвеллена пришлось немного подождать в глухой тени примыкающего к причалам кирпичного забора. Наконец его смена закончилась. Неизвестно, как и о чем с ним разговаривал начальник таможенного пункта Хикс, но шел он в сторону стоянки кебов на углу Ист-Смитфилд и Тауэр-Хилл в невеселом расположении духа, часто сплевывая жевательный табак.
Андрей с Шульгиным бесшумно выступили из темноты, заломили ему руки за спину, зажали рот и, подхватив под колени, утащили в заранее подготовленное место, где никто не помешает. Регулярная патрульно-постовая служба здесь отсутствует, ОМОНы тоже. Не придумали еще, уж больно жизнь спокойная. В стране, где триста лет детей публично казнили за украденную булку, кое-какие признаки законопослушности сохранялись.
Клиента прежде всего надо ошеломить, заморочить ему голову, а уже потом спрашивать, о чем нужно.
Шульгин светил таможеннику в глаза ярким электрическим фонарем, Новиков покачивал в луче сверкающим клинком до бритвенной остроты отточенной финки.
– Кто? Чего вы от меня хотите?.. – задыхался от страха и пережатой гортани Гэвеллен.
Сначала с ним поговорили на не имеющие отношения к делу темы. С хорошим произношением обитателей лондонских доков, мало соотносящимся с нормальным английским языком, Андрей потребовал ответить, сколько мзды взяли с последних партий контрабанды, пришедшей на таких и таких судах (информация из свежих газет), и почему не получил своей доли какой-то наскоро придуманный Билли Пью.
Насмерть перепуганный субинтендент, когда получил возможность говорить, одышливо оправдывался тем, что все вопросы решает через мистера Хикса с господином Блэкферном, и если достопочтенный мистер Пью имеет претензии, то сам он, Гэвеллен, не имеет к этому ни малейшего отношения.
– Вот, у меня в карманах фунт и три шиллинга. Это все. Заберите…
И тут же, как только дыхание восстановилось и мысли пришли, в его тоне прорезались другие нотки.
– А по делу так не говорят. Вам понятно? Блэкферн десять лет держит эти доки, с ним и попробуйте… Зарежете вы меня или нет – никакой разницы. Для настоящих дел. Но обменять фунт с мелочью на веревку – плохая сделка, парни… До завтра едва ли доживете…
– Ох и напугал… – с издевкой просипел Новиков, по лицу которого Сашка как бы случайно несколько раз скользнул лучом фонаря. Два жутких шрама, нанесенных коллодием, придавали Андрею демонический вид. – Был Блэкферн, станет Пью, понятно? Кто успеет перебежать на правильную сторону, окажется в выгоде…
Москва начала девяностых ХХ века отличалась от Лондона конца девяностых XIX лишь формой ведения подобных дел, никак не сутью. Характеры персонажей оставались прежними.
– Парни, можно, я сяду? – попросил таможенник. – И глоток виски. После станем говорить нормально…
Почувствовал ситуацию, что называется. Так ведь другие, не умеющие чувствовать, и не выживали. Что его собираются убивать всерьез, он вообразить не мог, здесь так дела не делались. С русскими бандитами конца другого века ему встречаться не приходилось.
Однако только на психологических приемах, среди которых блестящий нож был элементом вроде молоточка невропатолога, Гэвеллен раскололся. Что называется, до донышка. Потому что его только в самую последнюю очередь спросили, кто поручил проявить такое пристальное внимание к пассажирам белой яхты. Именно к этой пассажирке, в частности.
– Может быть, это подруга мастера Пью, ты не подумал? А если бы у нее там были бриллианты насыпью? Кто тебе поручил – ответь, сволочь. Скажешь – получишь целых десять фунтов и будешь работать только на Пью. Нет – тебя найдут очень не скоро. А если найдут – мало кто докажет, что это ты.
Терять таможеннику было нечего, кроме жизни, которая утекала прямо на глазах. Судя по взгляду говорившего с ним человека.
Гэвеллен, внезапно испытав настоящий предсмертный ужас, признался, что буквально за полчаса до швартовки «Призрака» к нему в конторку зашел довольно прилично одетый господин. Поговорил о том, о сем, как это обычно делается перед изложением заказа, вручил пять фунтов в качестве задатка и крайне вежливо попросил обратить самое пристальное внимание на личные вещи пассажирок…
– Именно пассажирок?
– Именно. Джентльмены его не интересовали. Он описал внешность дам, которые наверняка будут пытаться вынести с яхты очень серьезную контрабанду. Довольно приблизительно описал. Главная примета – высокие, стройные, очень красивые, с необычно волевыми лицами. Не похожие на обыкновенных женщин…
Новиков подумал, что наводка точная. Если здешняя Сильвия узнала от информатора, что в Темзу вошла яхта под вымпелом одного из координаторов, который вряд ли появился на «чужой» территории лично, без предварительного согласования, что она вообразила первым делом?
Правильно, как у Гоголя: «К нам прибыл ревизор». Инкогнито и с особыми полномочиями.
Отчего бы не проверить предварительно, кто и зачем? Чужими руками, естественно, никак не расшифровывая личное участие. Что коллеги-резиденты не дураки – подразумевается, а попробуй докажи такой вот эксцесс! Если играем на уровне Шаров и блок-универсалов – одно дело, а если в людском обличье и по их принципам – так и реакция точнехонько в стиль. От нашего стола – вашему столу.
То, что это будет дама, – почти гарантированно, если руководствоваться существующей пропорцией среди действующей агентуры. С внешностью тоже ясно. Но что Сильвия-1 рассчитывала найти и как инцидент использовать?
– Одну я проверил, вторую – не успел. Не мог я не выполнить прямого приказа старшего. Если бы раньше договорились…
Делая вид, что ему не очень интересен этот случай, просто уточняет некоторые подробности, чтобы не оставалось ничего непроясненного, Шульгин спросил:
– Ну и что у вас считается серьезной контрабандой, которую можно пронести в женской сумке?
– Вы может быть не знаете, но из музея принца Уэльского в Бомбее месяц назад украдена крупная партия драгоценных камней, предметов старины, стоящих сумасшедших денег. Об этом не было в газетах, но по подводному телеграфу сообщения получили все, кого это касается. Господин, который говорил со мной, дал понять, что похищенное везет одна из дам с этой яхты. Как раз из Бомбея. Господин сказал, что премия составляет десять тысяч фунтов. Я ее получу и поделюсь, с кем скажут.
– Так этот господин был из полиции? – удивился Новиков.
– Боюсь, что нет…
– Тогда в чем его выгода?
– Откуда мне знать? Может, кому-то нужно засадить красоток в тюрьму и получить миллионное наследство. Или – избавиться от надоевшей жены… Совсем не мое дело. Мне и пяти тысяч до конца жизни хватит.
– Теперь скажи, как найти этого негодяя, и мы тебя отпустим. Наше слово крепкое. Говорить о нашей встрече никому не надо, живи, как жил. А когда к тебе придет человек от Пью, станешь работать на него…
Гэвеллен охотно назвал неподалеку расположенный паб, где через полчаса должна состояться встреча, имя контактера, явно вымышленное, конечно, и приметы.
Шульгин на прощание слегка кольнул пациента острием финки в шею, недалеко от сонной артерии. Словно бы в виде намека на будущее. Предварительно он обмакнул кончик ножа в плоский флакончик. Такая инъекция сейчас была удобнее и проще, чем другие способы. Не будешь ведь заталкивать жертве в рот таблетку и заставлять жевать. В виски тоже растворить нельзя, спирт с препаратом несовместим.
– Все понял, Гэвеллен? Тогда иди… И забудь о нашей встрече…
Последнее пожелание отнюдь не было стандартной формулой. Через пять минут, раньше чем таможенник добредет, добежит до своей конторы или стоянки кебов, он полностью забудет о событиях последних суток. Плюс-минус несколько часов, в зависимости от индивидуальных свойств организма.
– Портсигарчики искали, это точно, – сказал Шульгин, когда они не торопясь шли в сторону названного паба.
– А смысл? – спросил Берестин. – Ну, увидел бы он блок, и что? Изъять нельзя – личная собственность. Пистолеты здесь тоже к хранению и ношению не запрещены. Другое дело – модели уж слишком непривычные, но это из другой оперы. Бриллиантов не было и быть не могло. Не вижу логики.
– Поискать можно, – ответил Новиков. – Поэтому ты сейчас езжай к Сильвии, расскажи ей все, пусть думает. А мы посмотрим, появится ли связник, поговорим, если потребуется. Я, например, так себе дело представляю: то, что у здешней Сильвии оказался информатор в портовых службах и он мгновенно соотнес «Призрак» с интересами своей хозяйки, тут же доложил и они начали действовать, – дичайшая случайность, пожалуй. Но – что есть, то есть. Думаю, ей нужно было только убедиться, права она или нет. И выиграть время…
– Какое, для чего? – удивился Шульгин.
– Вопрос не моей компетенции. Бог знает, какие между ними заморочки происходят. Когда за Ириной гонялись те парнишки, кто со стороны мог понять, в чем дело?
– Вдруг Грину по какой-то причине запрещено появляться в Англии, и приход «Призрака», да под собственным флагом – вызов, чуть ли не объявление войны, – предположил Берестин.
– Тогда наша Сильвия об этом должна знать. И у нее вроде с Говардом были отличные отношения. Судя по тому, что я знал в восемьдесят четвертом… – Шульгин раскурил трубку. При нормальной лондонской погоде самое подходящее – отчего этот прибор здесь так распространен. Сигары джентльмены курят в клубах и дома, сигареты и папиросы в дождь и густой туман весьма неудобны, остается трубка.
– Должна, не должна… Прежде всего, мы не знаем, та ли здесь Сильвия или и до нее дотянулась деформация… А что за отношения у нее сложились с Грином через восемьдесят лет… Сто раз могли подраться и помириться, – не согласился Андрей. – Одним словом, езжай, Леша, к своей мадам, все расскажи, но до нашего возвращения ничего не предпринимайте. Если не начнется форс-мажор…
– Как думаешь, почему местные не воспользовались тем же Шаром? – спросил Андрей, когда они подходили к нужному месту.
Улицы здесь, на окраинах, освещались очень плохо. Газовые фонари мутными пятнами светили сквозь туман, позволяя различать только направление улицы и границу между тротуаром и мостовой. Окна домов тоже горели очень тускло и далеко не все. Тоскливое зрелище для людей, привыкших к световому буйству современных городов. Даже в двадцать пятом году главные города Югороссии были полностью электрифицированы.
– Элементарно, Ватсон. У аггров машинки такого класса, что свободно засекают поисковый луч. Здешняя не хотела светиться раньше времени. Решила сыграть черными.
– Принимается. Теперь другой вопрос. Си сказала мне в отеле, что в случае контакта с собой хочет изобразить Дайяну. Как это возможно? Приезжает на фронт к Маркову, скажем, Жуков, и начинает косить под Сталина. Смешно?
– Не очень. Допустим, наша знает, что прошлый раз она контачила с Дайяной в тысяча восемьсот восьмидесятом, а следующая встреча будет в девятьсот четырнадцатом. К примеру. Значит, в этом зазоре она может вытворять что угодно. Располагая вдобавок обширнейшей информацией о своих делах на век вперед… И о том, что вся их агентурная сеть непременно свернется в трубочку и сгорит, как береста в костре. Можно позабавиться напоследок.
– Нам бы в их забавах свои кости уберечь… – с долей сомнения сказал Новиков, едва-едва начавший приходить в себя после тяжелой болезни.
– Выкрутимся, не впервой. А если разборки между госпожами начнутся, это только на пользу…
– В смысле?
– Маскировка, брат. Мы же со страшной силой боялись здесь какой-то чуждой техникой воспользоваться, а если Сильвия и ее подельники портсигары включают-выключают, так на их фоне и мы можем…
– Верно! – как эта простая мысль ему самому не пришла в голову – непонятно. Осталось только убедиться, что эта реальность содержит в себе Сильвию и всех остальных, то есть до нынешнего момента совпадает с исходной ГИП. Если это так – какая разница, десять, условно говоря, сработок блок-универсалов случится в месяц или пятнадцать…
Паб был самый обычный, припортовый. Интерьер его и клиентура, и сам хозяин, наверное, мало изменились за последние триста лет. Длинный и узкий зал с деревянным столом посередине, выструганным из остатков корабельных палуб, стойка справа от входа, обитая регулярно начищаемой медью с подводных частей тех же бригов, барков и клиперов, всякий флотский антураж по стенам. Целый ряд пивных, винных, ромовых бочек, за ними полки с напитками в бутылках. Тусклый, как везде, свет, гул голосов, слоями висящий табачный дым.
Хозяин и три подручных едва успевали подавать гулякам кружки и стаканы.
– Недурно, – сказал Шульгин, машинально касаясь кармана плаща. Из романов прошлого века он знал, что для джентльменов, шатающихся по подозрительным притонам, подходящим оружием считался кастет. Потому что все они там были боксерами, с раннего детства. Ножи – принадлежность черни, а револьверы – для совсем серьезных разборок, до которых дело доходило редко. Пенитенциарная система здесь уж слишком суровая, виселицу заработать, что в советское время – «трояк».
– Нам, пожалуй, сюда. – Андрей указал на несколько отдельных, огороженных пятифутовыми стенками кабинетов слева, где вокруг квадратных столов стояли массивные, почти неподъемные стулья. Занято из кабинетов было только два, и отдыхали там люди видом поприличнее. Понятно почему. Их обслуживали лакеи, что серьезно повышало цену каждой пинты и кварты. Да и естественная стратификация – каждый посетитель на подсознательном уровне знал свое место. Докер не сядет за стол с мастером или капитаном самого задрипанного каботажного брига. В голову не придет.
А Шульгину с Новиковым в самый раз. Сбросив плащи, они стали неотличимы от моряков торгового флота. По возрасту – третьих штурманов, или даже вторых.
– Что господа желают? – немедленно на пороге возник крепкий парень, судя по огненно-рыжей шевелюре – ирландец. С такой физиономией не в пабе кружки разносить, а купцов в Шервудском лесу грабить. Но – капитализм социализирует людей, часто – против их воли.
– По кварте[21] пива, самого лучшего, темного, и по стаканчику виски, ирландского, конечно, – решил польстить парню Шульгин. – И дюжину устриц… Если живые, а то смотри…
Какое-то время они потягивали пиво, наблюдая подлинную жизнь конца лучшего в истории века, попутно расширяя пассивный запас лондонского жаргона. Время было не слишком позднее, и британцы пока вели себя довольно прилично.
– Наверное, пора, – сказал Сашка, разделавшись со своей порцией действительно неплохих моллюсков. Глотнул пива и направился к выходу. Свежего воздуха глотнуть.
Ожидаемый ими тип появился в ближайшие пять минут. Таможенник описал его достоверно, профессиональный навык, никуда не денешься.
Остановился на пороге, обводя зал взглядом. Вполне естественно, ищет знакомых или прикидывает, найдется ли свободное местечко.
Шульгин навис над ним сзади, поскольку превышал ростом почти на голову.
– Мистер Биллингер? Проходите, мы вас давно ждем…
Чем хороши заведения, подобные этому, – никто не в состоянии подслушивать, о чем говорят соседи, общий шумовой фон перекрывает отдельные слова. А в кабинете можно было вдобавок опустить занавески из выцветшего бордового плюша.
Биллингер не утратил самообладания. Прошел, куда указано. По щелчку Сашкиных пальцев лакей принес пива новому гостю. На всякий случай Шульгин тут же и расплатился, в качестве чаевых вручив целый шиллинг, или четверть стоимости всего заказа.
– Мистер Гэвеллен очень занят, так что мы за него. Дело сорвалось. Ваша наводка была неверна. У пассажиров яхты не оказалось краденых драгоценностей. – Новиков говорил мягко, спокойно, щеголяя совсем неуместным здесь оксфордским произношением. А Шульгин вытащил из-за пояса финку и принялся чистить ею ногти, разительно контрастируя со своим напарником.
– Боюсь, я не совсем понимаю, о чем вы, – сохраняя выдержку, ответил Биллингер, отхлебывая пиво.
– А это никому не интересно, – сообщил Шульгин. – Выбор у тебя уж больно ограничен… – Он говорил на грубом кокни.[22] – Расскажешь, кто наколку дал и зачем, – уйдешь целый. Станешь кочевряжиться (на самом деле слово было другое, английское, но очень близкое по смыслу) – вот это перо в бок, и тебя скорее всего просто сбросят в канал. Зачем людям с полицией и коронерами[23] связываться?
Через полчаса содержательной беседы Биллингер рассказал все, что знал. Особенно откровенным он стал, когда Новиков показал ему черно-белую, помятую, будто ее долго носили в кармане, фотографию Сильвии.
Андрей не знал точно, в какие эпохи была придумана дихотомия «добрый и злой следователи». Не исключал, что ею пользовались еще инквизиторы. Но работала она хорошо. Как бы между прочим «добрый», он же Новиков, объяснил Биллингеру: шансы у него есть, если тот является постоянным сотрудником указанной леди. Если нет, «шестерка одноразового пользования» для дальнейшей разработки интереса не представляет.
Шульгин положил финку рядом с кружкой, внимательно наблюдая за руками клиента, вдруг кинется к оружию. Если кадровый аггрианин, реакции может почти хватить. Достал из кармана золотой портсигар.
– Такую штуку когда-нибудь видел?
По почти неуловимому движению мимических мышц Биллингера понял, что видел. И знает, что это такое.
– Вот и разобрались. Встали и пошли. В другом месте спокойно поговорим.
Глава пятая
Когда Новиков с Шульгиным увидели Сильвию, приготовившуюся к своей новой роли, то испытали чувство, близкое к удивлению, невзирая на привычку к любым странностям жизни. На Дайяну она походила поразительно. Чуть помоложе, поизящней фигурой, килограммов на десять, наверное. Видимо, так Главная координаторша выглядела в прежние времена. Леди Спенсер лучше знать. Но в целом – прямо-таки изумительная женщина. Что-то в духе Бердслея,[24] особенно если ее раздеть, в чисто эстетических целях.
Пользуясь отсутствием здесь своих женщин, они выразили восхищение всеми подходящими словами и жестами.
– Спасибо, но ведь комплименты относятся не ко мне? – ответила она, слегка кокетничая/ А может быть, и всерьез.
– Ровно в той мере, как к великой актрисе, выходящей на аплодисменты. Безотносительно, какой на ней костюм и грим, – со всей куртуазностью ответил Новиков.
– Хорошо, принимается. Кого это вы с собой привели? – спросила Сильвия, обратив внимание на переминающегося у порога прихожей англичанина.
– А это тебе объект для изучения. Что скажешь? – Шульгин подтолкнул пленника в гостиную.
Леди Спенсер окинула его нарочито небрежным взглядом. Как курьера, доставившего письмо.
– Очень приятный молодой человек, что еще скажешь до вскрытия…
Подходящее начало для душевного разговора. Британский юмор или намек, особенно зловещий в устах прелестной дамы, окруженной ароматом духов и ярко выраженной сексуальности.
Да Биллингер и без того был подготовлен к откровенной беседе. Сильвии и затрудняться не пришлось. Этот господин принадлежал к категории «близких сотрудников», каким мог бы стать и Новиков, если бы принял самое первое предложение Ирины. Природный землянин, завербованный в открытую, то есть знающий, кем является его хозяйка, посвященный во многие детали, намного более просвещенный, чем обычные его современники, работающий не за деньги, а за бессмертие. Вернее – за полтораста-двести лет здоровой и насыщенной жизни, что практически одно и то же в мире, где до семидесяти доживали редкие персонажи, не исключая лиц королевской крови. Из русских царей, например, ни один не дожил.
С такими людьми очень просто разговаривать. Слишком несопоставимые по значению и ценности гирьки лежат на весах.
Искать Сильвию-1, а еще проще – «/99», не требовалось. Она по-прежнему (то есть изначально) проживала в своем особняке окнами на Грин-парк и, по позднему времени, должна была быть дома. Особенно – ожидая информации от Биллингера.
– Это ничего, если мы к ней завалимся такой компанией? – шутливым тоном спросил Шульгин.
Ответа не последовало. Пленнику было не до того, а Сильвия перешла на русский, которого Биллингер не знал, и начала подробно инструктировать своих спутников.
На двух кебах они подъехали к знакомой всем, кроме Берестина, двери. Шульгин, вспоминая молодость (не такую уж близкую – предыдущий визит в этот дом состоялся почти столетием позже), подергал за рычаг механического звонка, дождался, когда ответит швейцар. Подтолкнул вперед Биллингера, чтобы ответил, как надо.
Да, леди Спенсер, встретившая их на пороге гостиной второго этажа, выглядела не столь соблазнительно, как в восемьдесят четвертом. Мини-юбка красит женщину с хорошими ногами гораздо больше, чем платье с турнюром.[25] Возрастных изменений он в ней не заметил, только макияж был грубее и примитивнее.
Вторая леди Спенсер, изображающая из себя Дайяну, до последнего держалась позади, надвинув на лицо капюшон плаща.
– Генри, кто это с вами? – несколько нервно спросила эта Сильвия.
– Те, кто вас интересовал, миледи, – ответил Биллингер, как его научили.
На самом деле на миледи из известного фильма в исполнении Милен Демонжо[26] куда больше походила другая Сильвия, преобразившаяся в Дайяну. Только она была темноволосой.
Новиков, избавившись от депрессии, пребывал в постоянной легкой эйфории и с нетерпением ждал, когда две сиамские кошки встретятся лицом к лицу. Это сулило новые и интересные впечатления.
– Во-первых, это я, – с достоинством произнес Шульгин и представился: – Ричард Мэллони, эсквайр, родной племянник известного вам сэра Говарда.
На Сильвию это впечатления, судя по мимике, не произвело, не фигура, мол.
«Так чего же ты так засуетилась, милейшая? – подумал Сашка. – За пару часов налет подготовила на яхту никчемного человечка…»
– И я, – шагнул вперед Берестин, выглядевший, как в свои лучшие лейтенантские годы. Конечно, соответствующая эпохе одежда его тоже не украшала. В кителе с ремнем и портупеей, умело подшитых галифе и заказных сапогах он смотрелся бы гораздо интереснее. Зато хватало исходящих от него воли и характера.
Новиков ничего не сказал, с вялым любопытством пресыщенного туриста переводя взгляд с хозяйки на интерьер холла и обратно. Руки он держал в карманах брюк. Совсем невоспитанно, но как бы с намеком, что имеет для этого основания.
Лицо хозяйки дома напряглось. Элементарно может на опережение и пальнуть из своего блок-универсала. Поскольку уже впала в некоторую панику.
И тут, в лучших традициях драматических театров, из-за спины мужчин выступила Сильвия-Дайяна, сбросившая свою маскировку.
Это было красиво.
Одета была вторая Сильвия тоже в соответствующее эпохе дорожное платье, но это как-то не воспринималось. Ей хоть туника, хоть телогрейка – без особой разницы. Она была царственна, и этим все сказано.
– Верховная… Это вы, Верховная? – пролепетала Сильвия вмиг ставшим непослушным языком. Опыта у нее было маловато в сравнении с любой из своих старших аналогов. Ни мировых войн, ни революций она не пережила, то есть фактически, являясь аггрианкой со всем набором способностей и возможностей, она одновременно была женщиной этих спокойных, застойных, выражаясь языком далеких будущих, времен. И не могла быть иной, поскольку нечего здесь делать суперэмансипированной даме конца ХХ века. Разве что пираткой стать или аморальной владычицей какого-нибудь варварского княжества.
– А кто же? Я рада, что вы хотя бы не забыли мой облик, должность и полномочия. А теперь ведите…
– В любое место, где можно спокойно поговорить. Если будете так любезны, можно в столовую. Самое время для позднего ужина…
Схватки сиамских кошек, на которую рассчитывал Новиков, не получилось. Сильвия-Дайяна издевалась над своей предшественницей не хуже, чем въедливый полковник из округа над инспектируемым командиром роты провинциального гарнизона. Преимущество первого заключается в том, что он может делать все, что взбредет ему в голову, говорить любые глупости, требовать исполнения самых дурацких приказов, а второй может только вытягиваться в струнку, материться в душе и отвечать: «Есть, будет исполнено!»
Первым делом Сильвия-84 потребовала отчета, с какой именно целью был устроен цирк на таможне.
Ответ Сильвии-99, совпадающий с первоначальным предположением, что она просто хотела выяснить, кто и с какой целью явился в Лондон под флагом сэра Говарда, Верховную не удовлетворил. Последовал резкий разнос, в общем – не вполне заслуженный. В пределах своей компетенции и контролируемой территории координатор имела право использовать любые методы, которые сочтет необходимыми. Но ссылаться на это – почти то же самое, как начальнику патруля сначала попытаться арестовать генерала, а потом оправдываться тем, что обознался.
В подобном духе Сильвия-Дайяна и выразилась.
– Делать вы действительно можете почти все. Но не то, что нравится лично вам, лишь то, что идет на пользу Главному делу. А если вы начинаете плести интриги против своих коллег и сотрудников, это может квалифицироваться… – Как именно, она говорить не стала. Недомолвка часто имеет большее воспитательное значение, чем прямая угроза. – Вдобавок вы осмелились причинить неудобства лично мне! Для вас что, уже не существует авторитетов? Не слишком ли много вы о себе возомнили?
– Но, Высочайшая! Откуда я могла знать, что вы изберете для Посещения столь необычный способ? Если бы я получила сообщение…
– Незнание – не оправдание! Как, где и в каком облике появляться – моя прерогатива. Вы, в свою очередь, должны принимать решения на основе всестороннего предварительного изучения… Вы с Шаром советовались?
Вошедшая во вкус своей новой роли леди Спенсер трамбовала подчиненную по полной программе, попутно выясняя интересующие Братство детали здешней оперативной обстановки. Делать это было тем более легко, что она вполне прилично помнила собственные операции, проводимые тогда, то есть сейчас. Много, конечно, с тех пор воды утекло, кое-какие детали, конкретное содержание казавшихся тогда важными бесед с министрами и членами парламента стерлись из памяти. Для чего и пригодилась хозяйка дома.
Мужчины, усаженные за отдельный стол, в разговоре не участвовали, сознавая свое подчиненное положение, тем более что дамы часто переходили с английского на аггрианский язык.
Они в основном, отдавая должное ужину и напиткам, потихоньку потрошили Биллингера, но выглядело это вполне невинно, как ни к чему не обязывающий треп адъютантов занятого государственными делами начальства. Позволили выпивать и закусывать, не дергают поручениями – вот и слава богу. Жаловались друг другу на трудности и неблагодарность выпавшей службы, но касались и выпадающих в ней радостей и преимуществ перед «серой пехотой»… Совершенно обычный разговор, позволяющий при должном опыте выяснить у коллеги такие вещи, которые в ином случае он не выдаст и под пыткой.
Шульгин одновременно с любопытством рассматривал помещение и другие комнаты, которые просматривались в перспективе сквозь открытые двери. То, что попадало в поле зрения, изменилось поразительно мало. Что значит сила вековых традиций и налаженного образа жизни целых поколений. Мебель в стиле «хай-тек», естественно, отсутствовала, и радиоэлектроника, зато почти все остальное – как было (будет). Те же картины на стенах и скульптуры по углам, напольные часы в простенке, мерно качающие начищенным маятников и низким, долго не гаснущим звоном отбивающие четверти часа. Он испытывал здесь легкое ностальгическое чувство и думал, что не прочь бы еще раз пережить то, что здесь однажды пережил.
Новиков, потягивая ирландский виски со льдом, думал о другом. Как сильно повезло Ирине, да и всем им, что за ней тогда явились плохо подготовленные (точнее – не настроенные на серьезное сопротивление объекта) оперативники, а не такая дамочка. Ирину бы она сломала враз, и все их «домашние заготовки» ушли бы коту под хвост. Эпопея закончилась бы не начавшись. А уцелевшие герои продолжали бы влачить исходное существование, за почти недостижимой по причине горбачевских новаций выпивкой на кухнях и в рабочих кабинетах обсуждая пути и перспективы «перестройки».
– Проводите меня в свой рабочий кабинет, – наконец сказала «Дайяна», отодвигая чайную чашку и первой вставая.
Кабинет Сильвии-резидента, а не светской дамы, который у нее тоже имелся, был, с поправкой на время, таким же точно, как у Ирины, у Лихарева, всех прочих координаторов. Все они прибывали на Землю с довольно ограниченным набором приборов и инструментов, а все остальное, потребное в работе, мастерили на месте, совершенствуя по мере течения человеческого прогресса. Этакий «кружок технического творчества», как однажды сформулировала Ирина в разговоре с Новиковым. Определенный смысл в этом был, в рамках теории сохранения интеллектуально-технического баланса. Все здесь было ей знакомо до последнего гвоздя, до содержимого каждого шкафчика и ящиков в нем. Расположение и коды тщательно спрятанных сейфов. Но держалась она так, будто попала сюда впервые.
– Где твой Шар, милочка? – спросила Сильвия-Дайяна, садясь в кресло перед рабочим столом.
Сильвия-99 покорно вынула его из специальной ниши, прикрытой большой гравюрой в медной раме.
Шар, как известно, является альфой и омегой власти любого резидента. В зависимости от введенных в него установок он позволяет быть «царем Горы», самым сильным и информированным субъектом данной реальности. Обеспечивает постоянную связь, интеллектуальную и административную поддержку «Генштаба» на Таорэре. Стоит захотеть «Высшим», а то и обычному оператору, заведомо искаженные подсказки и указания Шара могут низвести успешного координатора до уровня дауна в компании нормальных сверстников. Причем чем координатор дисциплинированней, тем легче его подставить. Ирина в свое время, увлекшись Новиковым и его друзьями, вообще перестала реагировать на поступающие команды, это ее и спасло.
– Объявляю тебе, резидент Сильвия, что до особого распоряжения уровень твоих полномочий снижается на две ступени. С оставлением в прежней должности.
Сильвия-Дайяна была грозна и прекрасна. Она откинула крышку Шара, что-то там сделала и снова поставила на стол. По сути этот жест приравнивался к срыванию звездочек с погон.
– Отныне ты на двадцать лет лишаешься права самостоятельно обращаться к руководству Таорэры. Если возникнет необходимость, тебе поступят указания. Дай мне твой блок-универсал…
Сильвия-99 покорно протянула начальнице свой портсигар.
Одно легкое движение ладони, и сверкающих алмазов на крышке стало гораздо меньше, и они приобрели иную конфигурацию. Это преобразование лишило девушку положения «старшей среди равных», возможности руководить другими координаторами и координаторшами Земли за пределами Западной Европы, то есть на самом деле разрывало связь в цепи аггрианской агентуры. Данная Сильвия оставалась вроде бы и всевластной, но только в ограниченном регионе: непосредственно Метрополия, половина Европы и британские Доминионы. В частности, из-под ее влияния полностью уходила Российская Империя.
– Но за что, Великая, в чем я провинилась? – Из глаз разжалованной леди Спенсер потекли крупные слезы обиды и жалости к самой себе.
– По-настоящему – ни в чем, дорогая. Если бы ты провинилась, наказание последовало бы немедленно, и ты знаешь какое… А сейчас я привожу положение в соответствие с распоряжением ТЕХ, КТО ВЫШЕ НАС. Решено, что система контроля за Землей должна стать более децентрализованной. Я тебе даже слегка завидую – в твоей жизни ничего не меняется, а ответственности намного меньше. Клянусь, хотела бы с тобой поменяться… Принеси мне бокал джинна с хинным тоником. Себе тоже возьми…
Когда Сильвия вернулась с двумя бокалами, грозная повелительница выглядела совсем благодушно. Ну а как иначе? Сначала наведи на подчиненных страх божий, потом начинай разговаривать по делу.
– Я не ошибаюсь, ты сейчас занимаешься обеспечением грядущей Англо-бурской войны? – спросила Сильвия-Дайяна, делая миниатюрный глоточек. Дамы Викторианской эпохи не могут уподобляться простолюдинкам. Если дают себе волю, так без свидетелей.
– Да, Верховная… Так мне было предписано. И я сделала многое… Никто не вправе меня упрекнуть…
– Забудь об этом. Планы поменялись. Все свои способности тебе предстоит направить на подготовку англо-германской войны. Другие координаторы получат свои задания. Есть мнение – сейчас нужно, чтобы они работали независимо друг от друга. В чем причина – тебя и тебе подобных интересовать не должно. А Капская колония, Трансвааль… Забудь… Пожалуй, я задержусь в Лондоне на определенное время, сама займусь практической работой. Иногда нужно восстанавливать навыки, они так быстро забываются…
– Но я ведь сама родом из Капской колонии… Там мои родовые земли…
– Забудь, – жестко повторила Сильвия-Дайяна. – Родом ты совсем из другого места, не думаю, что тебе хочется вернуться туда раньше, чем придет время. У тебя не может быть личных интересов и сентиментальных воспоминаний. С завтрашнего дня ты будешь делать все, что в твоих силах, чтобы убедить влиятельную часть общества в необходимости сближения с Россией для противодействия кайзеру и французам.
– Но как же, Величайшая? Ведь только от победы над бурами зависит дальнейшая европолитика! Контроль над всем Югом Африки, над германскими колониями, над французскими притязаниями на соперничество, наконец… То, что вы предлагаете… Это ведь смена многовекового вектора…
– Милейшая, вы хотите, чтобы я сейчас же заменила вас на другую персону? У меня есть. Один из двух приятных мужчин, что пришли со мной. Какой из них вам больше нравится в качестве будущего резидента?
Сильвия-99 помертвела лицом. Это трудно описать, но так это выглядело. Уже не из генералов в майоры, а в рядовые, причем не в английской армии, а в русской, времен императора Николая Павловича. Где бывшего свитского офицера и на Кавказ могут направить, под пули чеченцев и черкесов, и сквозь строй в пятьсот шпицрутенов прогнать, если потребуется…
– Какое вам дело, дорогая, до европолитики? Двадцати лет не прожила здесь и стала себя отождествлять с этими… – Жест и выражение лица Сильвии-Дайяны были до предела презрительны. – Интересы Великого Проекта никак не подразумевают личной привязанности к какой бы то ни было цели или идее. Неужели вы забыли и это? Вообразили, что вы на самом деле титулованная особь одной из человеческих общностей? Вам понравилось ощущать себя так?
– Простите, Верховная, я на самом деле совершила много ошибок. Но если бы мне было позволено…
– Будет, будет позволено, не нужно так нервничать. Ты останешься при своей должности. Но впредь будь поаккуратнее. В мыслях и поступках.
Самое интересное, что о сути действительных «ошибок» резидентки впрямую не было сказано ни слова. Все происходило на уровне намеков и оттенков смыслов. Начальник сказал, что ты плохо подстрижен для строевого смотра, и он будет прав, невзирая на то, что ты от природы лысый. Ничего не докажешь…
– Теперь успокойся, дорогая, – сказала едва ли не материнским тоном Сильвия-Дайяна, как бы между прочим трогая пальчиком с длинным наманикюренным ногтем нужные ей контакты распределительного щита. Сильвия видеть этого не могла, занятая собственной внешностью – устранением следов слез с накрашенных глаз и напудренных щек. – Считайте, что я провела с вами воспитательную беседу. Иногда такое приходится делать. Это входит в мои обязанности. Подготовь мне все материалы, абсолютно все, компрометирующие тем более, на каждую значительную персону истэблишмента. На членов королевской семьи тоже. Если тебя по-прежнему волнует Британия, постоянно держи в уме, что у нее нет ничего, кроме интересов. Какие интересы появились сейчас – буду решать я. А сейчас мы вернемся в столовую, и до тех пор, пока потребуется, ты будешь воспринимать советы моих сотрудников, как мои собственные. Если кто-нибудь из них захочет переспать с тобой – соглашайся со всей радостью. Своего Биллингера отошли. Здесь и сегодня он больше не нужен. Я тоже вскоре вас покину. Не расстраивайся, любое бытие лучше небытия…
Это прозвучало достаточно угрожающе. Вроде как вопрос Сталина Михаилу Кольцову при вручении ему ордена: «Но вы же не собираетесь застрелиться?»
Ответ журналиста не имел никакого значения.
Когда они вернулись к себе в отель, Сильвия попросила Новикова, Шульгина и Берестина задержаться на несколько минут.
Вернулась в легком платье выше колен, надетом, похоже, на голое тело. Устала она от тугого корсета, турнюра и прочих утомительных предметов женского туалета. Но все равно оставалась в облике Дайяны, что подсознательно волновало не только Андрея и Сашку, но и Алексея. Хотя ему-то повезет обладать этой женщиной, если она вдруг не сбросит маскировку.
– Одним словом, так, дорогие друзья (по-английски это имеет несколько другой оттенок, чем по-русски, но тут уж ничего не поделаешь), в результате сегодняшней акции мы себя достаточно обезопасили. Выиграли несколько темпов. В правительстве начнутся разброд и шатания. Партия войны наверняка потеряет имеющийся перевес. Очень может быть, что несколько активизируют свои позиции Германия и Россия. Тамошние координаторы, получив свободу, начнут проводить политику, независимую от сидящего в Лондоне резидента…
Она на несколько секунд словно вернулась мыслью в собственное прошлое. Взгляд ее слегка затуманился.
– Алексей, налей мне немножко розового…
Не беспокоясь о пристойности своей позы, расположилась на широкой оттоманке,[27] приняла из рук Берестина бокал королевского розового джинна, от поднесенной зажигалки прикурила сигарету. Новиков мельком, по привычке вникать даже в кажущиеся сейчас никчемными вещи, которые могут оказаться значащими когда-нибудь потом или никогда, подумал, что Сильвия демонстрирует не принадлежащие ей прелести точно так, как ребенок, которому позволили поиграть с чужой игрушкой.
– Я сейчас подумала, наверное, стоило бы настоящей Дайяне в это же время поступить подобным образом. Вы догадываетесь, что теперь случится?
– Догадаться можно, – ответил Новиков, – но давай твою трактовку…
– Да мы же только что совершили МНВ для возникновения реальности-2055… Сильвия потеряла возможность конструировать мировую историю по лекалу британских интересов, и теперь начнется свободная игра возможностей и воль…
– Спасибо, Си, можешь не продолжать. Дальнейшее вообразить не трудно. Ты абсолютна права, этот мир станет гораздо нестабильнее, но весь пар международных отношений уйдет в свисток раньше, чем давление поднимется до взрыва в виде мировой войны…
– В любом случае вам в Южной Африке будет намного легче, чем в предыдущем варианте…
– Нам? – спросил Новиков. – А ты что, не с нами?
– Я с вами, но не там. Посудите сами – для чего мне пробираться по саванне и джунглям, трястись в допотопных фургонах, отстреливаться от кафров?
На самом деле, зачем рафинированной даме все это? Возразить было нечего. Она ведь не писала на школьных уроках и институтских лекциях подражания Буссенару, Жаколио и Конан-Дойлю.
В дебрях неосвоенного континента ни ежедневного душа, ни биде, ни вовремя поданного вышколенной служанкой файв-о-клока.
Ловить ей тоже нечего. Жажды самоутверждения она лишена, винтовка в руках не вызывает выброса адреналина, бриллианты проще купить в магазине на Пэлл-Мэлл или Хаймаркет, чем разыскивать их на дне душных, пыльных, готовых вот-вот обвалиться колодцев.
Она права, спорить не с чем. Затягиваясь сигаретой, Новиков смотрел не на нее, а на Берестина. Ни о чем не спрашивая, упаси бог. Каждый сам хозяин своей судьбы. И когда Алексей, сбивая пепел с сигары, аккуратно отвел взгляд в сторону, все стало понятно.
Так – значит, так. Кому-то и тылы прикрывать, не всем лезть в пекло передовой. Хотя и слегка жаль. По прежней легенде Берестин в бурской армии проявил недюжинные способности и дослужился до фельдкорнета.
Ничего, Шульгин дослужится, у него тоже генеральские задатки имеются.
– Тогда тебе, Си, придется продолжить в том же духе. Прежде всего, озаботиться тем, чтобы немцы и португальцы не замечали заходов наших кораблей в порты Германской Юго-Западной Африки и Мозамбика. С остальным мы разберемся сами… Придумай Алексею подходящую должность, например – секретного уполномоченного тайной организации «Друзей Трансвааля» с отделениями в Берлине, Петербурге, Париже, Лиссабоне и так далее, – сказал Новиков. – Нам нужен будет энергичный «серый кардинал» в предстоящих исторических катаклизмах…
По лицу Берестина было видно, что он испытал огромное облегчение при этих словах. Ссориться с друзьями или выглядеть перед ними предателем, выбравшим вместо мужского дела бабью юбку, Алексею хотелось меньше всего. А так – у него просто появится своя серьезная работа. Членом же команды «кладоискателей» он никогда не был, зачем теперь постороннему (в этом смысле) человеку вмешиваться в чужую детскую мечту?
– С самого начала так и получалось, – чисто академическим тоном, исключающим обывательские эмоции, вставил Шульгин, – наше дело – это наше. Никому больше не интересное. Ты, Леша, с собой в пару обязательно Кирсанова возьми, это ему очень по душе будет. А на должность главного военного советника Басманова пригласим, он у нас в Гвардейской конной кавалерии служил, для бурского театра – незаменимый специалист…
На том и разошлись. Самое интересное, что Новиков, узнав о выборе Берестина, испытал не замутненное никакими посторонними доводами облегчение. О чем они там ни договаривались, все ж таки Андрею, когда они оказывались втроем – он, Ирина и Алексей, бывало не совсем комфортно. Очень существенным показателем того, что прошлое не забыто, был не каждому понятный штрих – они все старательно избегали даже намека на тот не слишком долгий отрезок времени.[28] Если бы все прошло – легко можно было вспоминать какие-то общие, забавные случаи и подробности, подшучивать друг над другом, временами даже и бестактно, чего между своими не бывает? А тут словно лежала рядом взведенная мина, и лишние шевеления возле нее угрожали взрывом.
А так вроде все определилось окончательно.
Ушли они от Сильвии вдвоем и немедленно направились к Левашову. Олег еще не спал, и Лариса в отличие от Сильвии была одета по-домашнему, но комильфо.[29]
– Слышь, Ларк, – по-свойски начал Шульгин, который в отличие от Новикова комплексов по поводу своих отношений с девушками не испытывал, – тут нам для префа срочно четвертый потребовался, так мы Олега возьмем?
Улыбку Ларисы нужно было видеть. Словами это трудно описать.
– И мизер, уже открытый, на столе лежит?
– Ну, не совсем чтобы так…
– Когда тебе потребуется дура на харбктерную роль, ты мне заранее скажешь… – Это Лариса намекнула на то, что Сашка некогда слегка подвизался на театральных подмостках. – Главное не забывай – восьмерка на руке без своего хода, да на длинной масти – страшная штука. Живым хоть обещаете к утру вернуть?
– Да ты о чем, мы вправду, – поддержал друга Новиков. А Левашов уже одевался.
– Когда-нибудь и отдохнуть же надо…
– Вы у меня отдохнете… Валите отсюда, пока я добрая. И без глупостей… – Последние слова были обращены непосредственно Олегу.
– Дорогая, нет хода – не вистую. С молоком матери…
– Нет, она у тебя классная баба, – от всей души сообщил Левашову Андрей, когда они сбежали вниз по лестнице. Возрастные изменения против воли очевидно начали себя проявлять. Веселость и радость жизни по самым незначительным поводам гораздо ярче вспыхивает в двадцать, чем в сорок. Мозги мозгами, а эндокринная система иногда поважнее бывает.
– И даже более чем… – охотно сообщил Олег. Ему «двадцатилетняя» Лариса, у которой как бы не было теперь всего последующего жизненного опыта, тоже нравилась.
В холле нижнего этажа отеля, «рецепшн», или «рецепция», где во времена большей человеческой мобильности, туристского бума и тому подобного должны были бы толпиться кандидаты в постояльцы у стойки портье (администратора по-нашему), чего-то требовать, заполнять «карточки гостя» и вообще вести себя слишком нервно (а вдруг мест не хватит?!), царила тишь, гладь и божья благодать. Проблема сейчас была у хозяев: найдется ли достаточное количество желающих отдать свои «фунты, франки и жемчуга стакан»?[30]
Потому под пальмами, фикусами и даже рододендронами стояли столики, официанты в белых сюртуках разносили напитки, любые, существующие внутри и в ближних окрестностях Европы. Господа (мужчины исключительно) то ли еще не хотящие подниматься в номера, то ли спустившиеся из них по какой-то надобности, кто в пальто, кто в смокингах, опрокидывали рюмки и стаканы, нещадно дымили всем, что позволяет преобразовывать «герба никотиниана» в радующий душу продукт. Вредный для здоровья, безусловно, но это отдельная тема.
– Мужики, – сообщил Левашов, причем по-русски, что совершенно никого из окружающих не заинтересовало. Тут говорили даже на урду. – Давайте присядем вон под той пальмочкой у окна, спросим три по сто, и вы мне все расскажете. Я и так понял, у вас получилось, но все же…
– Вообще мы хотели сообразить то же самое, но у Воронцова, – без выраженного давления, просто в виде информации, сказал Шульгин.
– Успеешь, – отмахнулся Олег. – Я на свободе, я гуляю. Денег у меня навалом. Могу за весь здешний кагал заплатить…
– Эй, брат, ты чего? С Лариской перебрал? С виду и не заметно было… – ощутил тревогу Новиков.
– С какого перепугу, Билли? – Это Левашов вспомнил старое, теперь вновь входящее в употребление прозвище Новикова. Он демонстративно вздернул обшлаг рубашки, показал друзьям зеленый экран гомеостата.
– Вопросы есть? Вопросов нет… – и тут же расстегнул браслет. Сунул бесценное для любого гуманоида устройство в карман. Словно старые тридцатирублевые часы марки «Победа».
– Убедились? Это первая. – Он широким жестом подозвал лакея, снял с подноса три стопки виски. – Рассказывайте. Вы куда более вздрюченные, чем я… А для Воронцова нужно будет выстроить более изящную концепцию. Или я чего-то до сих пор не понимаю?
Новиков внимательно посмотрел на обоих старых друзей.
«А вот получилось, что бы кто ни говорил! Сидим мы здесь, на вид второкурсники, третьекурсники от силы. И все происходит, как придумано. Никого нам больше не нужно на этом свете. Помогающих или мешающих. Забыть, вычеркнуть из жизни и памяти минувшие двадцать лет. Совсем. Как их и не было.
Откроем мысленно тетрадку в синем ледериновом переплете. С одной стороны – запись лекции по истории КПСС, с другой, задней – черными чернилами китайской авторучки с золотой рыбкой (китайские вещи тогда – совсем не то что сейчас) написанные моей рукой отрывки все того же бесконечного романа.
«…Оправив синий китель с золотыми нашивками на рукаве, он спросил девушку с мечтательными глазами, медленно пригубливавшую бокал шампанского за соседним столиком:
– Не позволите ли вы после этого мне пригласить вас на танго?
– А кто вы? С незнакомыми я не танцую…
– Капитан Немо, если вам угодно, а на самом деле – капитан цур зее[31] Вильгельм Пфеннигер…
– Такой молодой? Вы, наверное, подводник? – Эти слова выдавали в девушке большую информированность.
– Да. «Хог», «Абукир», «Кресси» и «Лексингтон» – моя работа…[32]
– Неужели? Я о вас читала. Конечно, первое же танго – ваше…
Девушка встала, и он убедился, сколь прекрасна ее фигура».
Само собой, со стилистикой не все тогда у него было гладко, но что вы хотите от двадцатилетнего парня эпохи дозревающего социализма? Да еще когда лектор бубнит, а соседи по столу играют в «балду», и на часы посматриваешь, скоро ли эта мутотень кончится. Тут и Марсель Пруст затруднился бы ваять свои шедевры.
Ладно, девушки пока нет, но все остальное – в порядке.
– Карт-бланш нами получен, – доложил Новиков Олегу и в общих чертах обрисовал сложившееся на текущий момент положение вещей.
– Теперь нам остается предоставить всем желающим заниматься делами по собственному усмотрению и не вмешиваться в наши. Что бы там отныне ни творилось в мире, мы получаем великолепную возможность «пожить на свои». Отвлекающие операции в большом мире естественным образом окажутся столь масштабными, что наша мышиная возня у подножия пирамиды никого не заинтересует.
– Образно излагаешь, – одобрительно кивнул Левашов. – Ну так вперед. Ты, Саш, уже составил списки нужного нам на трехмесячный поход снаряжения?
Шульгин постучал себя пальцем по виску.
– Все давно здесь. Осталось распечатать с учетом «вновь открывшихся обстоятельств».
– Вот и приступай, а к Воронцову завтра пойдем, с готовыми документами и на свежую голову. А сейчас не сыграть ли действительно, вот Лариска удивится нашей непроходимой честности.
– Отлично придумано. Новая жизнь начинается с чистого листа…
– С разграфленного, – уточнил Новиков, – для начала – по пенсу вист.
– А может – по шиллингу?
– Когда до копей доберемся, можно будет и по фунту. А пока нужно экономить. Дорога дальняя…
Глава шестая
Без особых приключений «Валгалла» с «Призраком» на хорошей скорости спустились Атлантикой до широты островов Тристан-да-Кунья, откуда, сменив курс на ONO, начал огибать южную оконечность Африки. Август Северного полушария, как известно, в Южном соответствует февралю. После пересечения тропика Козерога (23 градуса ю.ш.) погода ощутимо испортилась. Начались частые шквалистые ветры, разгонявшие океанскую волну до пяти баллов, почти ежедневно опускался плотный туман, то и дело переходящий в холодный дождь. Столбик спирта в термометрах не поднимался выше пятиградусной отметки Цельсия.
– Субтропики, чтоб им пусто было, – выругался Шульгин, крепко вцепившись в поручни рубки. За стеклами лобового окна бесконечными грядами набегали на форштевень яхты отороченные пенными гребнями мутно-серые валы. Высокий полубак то и дело накрывали потоки воды. «Призрак» то взлетал бушпритом к рваным черным тучам, то проваливался, обнажая корму, и тогда по ушам ударял пронзительный вой набиравших опасные обороты винтов.
Хорошо, что друзья, конструируя и перестраивая «Призрак», предусмотрели и устранили вечную беду парусников и вообще любых кораблей того времени – сырость. Обычно она проникала везде, делая жизнь мореходов невыносимой, точнее – почти невыносимой, раз моряки как-то выживали. Даже командующий германской эскадрой в южных морях граф фон Шпее в свои шестьдесят лет ужасно страдал от ледяного конденсата, постоянно льющегося с подволока его адмиральской каюты.
Зато яхта от подобного была избавлена. Швы корпуса, люки, окантовка иллюминаторов, двери между отсеками герметичностью не уступали космическому кораблю. Волны, беспрепятственно прокатывающиеся по палубе от бушприта до кормового обвеса, моментами заливающие даже крылья мостика, бьющие в остекление рубки, уходили, стекали в шпигаты, но внутрь «прочного корпуса»[33] не просачивалось ни единой капли.
– Терпи, будут нам скоро и настоящие субтропики, тропики тоже будут. Тогда и скажешь, что лучше. От холода печку включил, и порядок, опять же – над нами не каплет, – утешил его Новиков, – а от жары и горячего песка в морду хрен спрячешься…
В ходовой рубке они были вдвоем, если не считать робота-рулевого и капитана Ларсена, который занимался своими делами и в разговор хозяев не вмешивался. Он был настроен так, что реагировал только на прямо обращенные к нему слова или, в случае изменения обстановки, нуждался в консультации или новом приказе, о чем и докладывал.
Левашов отдыхал в каюте после вахты, а девушки, заскучав от однообразия жизни, перебрались на борт «Валгаллы». Пока есть возможность, отчего не пожить по-человечески? И Наталье будет веселее, а то ведь каково молодой женщине одной на огромном судне? Кроме отлаженных специально под нее роботесс-горничных с несколькими высшими образованиями, включая искусствоведческое, и словом перекинутся не с кем. Вчетвером барышням – намного интереснее.
Кроме обычных дамских занятий, веселой болтовни, культурных развлечений, которых на пароходе было не меньше, чем на самом шикарном круизном лайнере, по нескольку часов в день они посвящали упражнениям в спортзалах. Было время, они отдавали дань тренировкам на Валгалле, потом в гостях у Антона, а после учреждения Югороссии, победы над врагами внешними и внутренними, наступила эпоха мира и благоденствия. Не так чтобы совсем полного гедонизма, но около того.
Женщины перестали чувствовать себя равными мужчинам защитницами Очага. Это в старые времена, от палеолита до окончания феодальной раздробленности, они знали, что, пока их сильная половина на охоте за мамонтом или в очередном крестовом походе, пусть даже в набеге на соседнее княжество, им деваться некуда. Дом и семья – на них. Случись что, и на стены выходить придется, облачившись в кольчугу и шлем, и в саблезубого тигра швырять пудовые камни…
Об этом хорошо написал Ефремов в «Лезвии бритвы»: «Красота – высшая степень приспособленности к условиям текущей жизни». Почему так и отличались ее каноны в разные исторические периоды. Сравните Таис Афинскую, ее подругу Эгесихору, средневековых «винчианских мадонн», а потом нордических красавиц с картин художников гитлеровского периода германской живописи. Да и советских комсомолок Дейнеки.
Ирине самой по себе тренировки были не нужны. Она и так могла в любом виде спорта выступить на равных с олимпийским чемпионом. Конечно, рядом с Алексеевым или Жаботинским поднимать штангу – чересчур гротескное зрелище, но вес взять и зафиксировать – свободно! Что пресса немедленно выдала бы за цирковой трюк, несовместимый с высокими идейными принципами советского спорта. А вот Кассиусу Клею, принявшему псевдоним Мохаммед Али, в темном переулке Ирина морду набила бы точно!
Зато Лариса с Анной, как бы они ни были прекрасно сложены, какую бы предыдущую подготовку ни проходили, нуждались в жестоком тренинге. Да и подготовка у девчат, честно сказать, так себе. У одной нечто вроде советского первого разряда по лыжам и биатлону в студенческие времена, у второй, московской гимназистки, неплохо с гибкостью, реакцией (в лаун-теннис и крокет играла), и осталось кое-что от тех боевых методик, которым Ирина ее три года назад учила. А вообще так все запущено…
Южная Африка, где их ждали «вице-короли, наибы, хунхузы, магараджи и верные слоны»,[34] а также не упомянутые Берлагой кафры, британские колониальные стрелки, бушмены, бандиты всех мастей и наций, крокодилы, обезьяны от горилл до бабуинов, ядовитые змеи в ассортименте, не считая уже членистоногих, – совсем не то место, где выживают кисейные барышни. Решившиеся отдалиться дальше чем на милю от условно цивилизованных мест.
Воронцов нашел в памяти главного компьютера нужную программу и внедрил ее в процессоры двух роботов, которые мгновенно превратились в самых требовательных и беспощадных на этом свете фельдфебелей. Прошлый раз, на Островах, тренируя белых офицеров, они носили нашивки иностранных мастер-сержантов, а сейчас облачились в куртки с царскими погонами. Черная Т-образная нашивка на алом поле.
Положение тренируемых это никоим образом не облегчило.
Ирина, вспомнив выражение Шульгина в похожих обстоятельствах, заранее предупредила своих подопечных, что будет не трудно, а «очень трудно». И взяла с них слово, что не отступят.
Девушки опрометчиво согласились. Что Аня, что Лариса были упорны и уверены в себе. Вроде как Джой Гастелл из «Смока Белью». Тридцатипятилетняя Наталья Андреевна, примерно догадываясь, что ее ждет, потому что Воронцов прозрачно ей намекнул, на грядущие мученья пошла сознательно.
Тем более, увлеченные неведомым им Стамбулом тысяча девятьсот двадцатого года, они тогда понятия не имели, как дрессировали на уединенном острове боевых, прошедших мировую и Гражданскую войну офицеров.
И началось…
Фельдфебели не имели в виду подготовить девушек в качестве бойцов, превосходящих моральными и практическими навыками «зеленых беретов», израильских коммандос времен Шестидневной и Войны Судного дня, спецназовцев советского ГРУ конца ХХ века. Задача была проще – сделать их непобедимыми, а главное – страшными в рукопашной схватке с лучшими единоборцами того патриархального века. Невиданные боевые приемы, умение фехтовать любым холодным оружием, от строевой английской сабли до ножа, стрельба навскидку со скоростью, которую позволяет автоматика пистолета, и быстрее, чем револьвер двойного действия в руке строевого офицера.
После трех-четырех часовых «разминок» девушки на шатающихся ногах выходили из зала в предбанник, стягивали с себя насквозь мокрые трусы и майки, внимательно рассматривали полученные от инструкторов синяки и ссадины.
– Ну и на кой… мне это нужно? – спрашивала Лариса, своими естественными выражениями смущая Анну.
– Глядишь, и пригодится, – рассеянно отвечала Ирина, вдруг делая стремительный выпад раскрытой ладонью ей в лицо.
Лариса успела поставить блок.
– Ох, ты и стерва…
– Однако сработало…
– Нет, девчонки, я вчера до полуночи читала «Похитители бриллиантов»… Там правда такие подонки описаны, – сказала Анна, запаривая дубовый веник в глубокой шайке. – Если мы с ними встретимся…
– Обязательно, дорогая, – сказала Наталья. – Поэтому, как писал товарищ Ленин, нам еще учиться, учиться и учиться. Мне Дмитрий сказал – пока я первого фельдфебеля не завалю, он меня никуда не отпустит…
Жаль, что не было там с ними не то чтобы Бердслея, а обычного фотографа, даже с камерой «Фотокор».[35] Уж больно хороши были девушки. Как боевые осы, для введения противника в заблуждение оснащенные точеными фигурками, соразмерными формами и милыми в мирной обстановке лицами.
– Ты что, с нами тоже собираешься? – спросила Лариса, выплескивая ковш воды с пивом на раскаленные камни. Ей сейчас трудно было представить эту «домашнюю женщину» в суровых походных условиях. Тем более теперь, когда ей снова было двадцать один, а Наталье Андреевне прежние тридцать пять.
Они были в старой Москве закадычными подругами, а потом как-то отдалились, вроде бы совсем незаметно. Наташа все время оставалась «при муже», а Лариса наслаждалась представившимися возможностями на полную катушку.
– Кто знает, как жизнь повернется… – Наталья вроде бы в шутку сжала пальцы на плече Ларисы, подтолкнула вперед, опустила ее на полок, (та инстинктивно дернулась, но поняла, что силы несоизмеримы) и тут же начала обхаживать ее веником. Сначала ласково, а потом и от всей души.
Ирина, стоя рядом с каменкой, беззвучно смеялась, а Анна легла на горячие доски ничком, считая, что ей в разборки старших подруг вмешиваться не стоит. Невзирая на то что она по рождению была старше каждой на полсотни лет, так она их воспринимала.
Получив свою долю удовольствия, Лариса выбежала из парилки, окунулась в бурлящий минерализованной водой бассейн с температурой чуть выше нуля, вернулась и забралась на самый верх, где температура зашкаливала за восемьдесят.
– Иди-ка сюда, – сказала она Наталье. Та села рядом.
Лариса потрогала ее бицепс и трицепс, обратила внимание на спинные мышцы, брюшной пресс. Он у нее был, почти как у молодого парня-спортсмена.
– Где ж ты так накачалась? И когда?
– Димка заставлял. Все эти годы и почти каждый день. Плаванье, фехтование, пистолет, винтовка… Кросс десять кругов по палубе, с прыжками через препятствия. Ты не пробовала четырехкилограммовую гантель полчаса держать на уровне глаз? Попробуй…
– Анька, поддай пару, – распорядилась Наталья, закинув руки за голову в глубоком войлочном колпаке. Грудь и живот прикрыла большущим веником.
Аня послушно плеснула на каменку еще.
– И зачем тебе все это нужно? – продолжила Лариса. Ирина с Анной устроились в другом углу парилки, у самого пола, и говорили о чем-то своем.
– Не уловила – что мне нужно? – с оттенком превосходства спросила Наталья, вслух считая капли пота, падающие с носа на доски полкб. Есть такая методика – сиди наверху, пока сто двадцать капель не стечет.
– Спорт, – со странной улыбкой уточнила Лариса. – С таким мужиком, как твой, на кой… тебе это надо? Уже б давно детей нарожала, жила, как душа просит…
– А твоя чего просит?
– Да, наверное, того же, только пути у нас с тобой давненько разошлись…
Наталья не совсем понимала, чем вызван это неожиданный разговор. Но если спрашивают, если подруге захотелось вдруг коснуться именно этой, болезненной для каждой из них темы, так лучше ответить. Без недомолвок и ненужного напряжения впредь.
– Ты что, воображаешь, что НАМ, таким, какими стали и как живем, можно заводить детей? Ты вправду так думаешь? Да на переднем крае нормальной войны и то проще… Там хоть в тыл можно уехать, к маме… А мы что?
Наталья замолчала, и Лариса ничего не ответила.
В парной стало совсем уже невыносимо жарко, и они дружно выбежали в прохладу предбанника, где их ждал и самовар, и холодное пиво, на любителя, и роботессы-массажистки, обученные абсолютно всем существующим на Земле приемам и способам…
Вернемся немного назад, пока девушки, отдыхая, с опаской думают о предстоящих с утра занятиях на штурмполосе, «Призрак» пробивается сквозь штормы к заветному Мысу Доброй Надежды, а Воронцов ведет свой пароход десятью милями севернее, постоянно контролируя на экране местоположение и состояние яхты.
От возможности подобного контроля, между прочим, потеряли истинный вкус и смысл любые авантюры современных путешественников, покорителей полюсов и вершин, одиночных яхтсменов, плывущих навстречу пассатам или вокруг Антарктиды. У всех радиостанции, всегда готовы подняться на их спасение вертолеты, и даже у героя, рискнувшего пересечь Атлантику на веслах, в миле за кормой болтается судно обеспечения, на котором врачи телеметрически постоянно считывают пульс, давление и уровень сахара в крови и моче. Это что – риск и подвиг?
Профанация героизма это, братцы, и ничто иное. С тем же успехом можно было махать веслами, не выходя из спортзала. Сделал три миллиона гребков с перерывами на обед и сон, вот и пересек океан. Ты всерьез попробуй…
…После некоторых предпринятых Сильвией дипломатических ходов (нашей Сильвией, но при посредстве той, деморализованной и запуганной) в Лиссабон зашла «Валгалла». Город в то время был довольно захолустный, улицы, в большинстве крутые и извилистые, провоняли испражнениями людей и животных. Общественные туалеты, во времена Веспассиана роскошью соперничавшие с термами, куда-то исчезли. Остался один, тринадцатого, кажется, века, куда можно было зайти без страха. Из всех признаков цивилизации имелся желтенький трамвай, по единственному маршруту бегавший между портом и крепостью.
В Португалии, как и в большинстве европейских стран, правил король, имя и номер которого никого не интересовал. Но короли тоже бывают разные. Этот был никчемный, власти не имел и не хотел ее, как король Греции Георг первый, что вчерную пил с лейтенантом Лукой Пустошкиным на «Олеге».
«Руа, бювон еще по одной» и так далее.[36]
Зато в этой прекрасной стране, где мужчины умеют плакать, не стесняясь, и петь свои тоскливые песни «фадо», глядя с крайней точки Европы в грозный океан, думая о друзьях и родственниках, которые никогда больше не вернутся назад, было вполне продажное правительство и парламентская демократия. Главная партия называлась Конституционной. Как же иначе?
Великолепно выглядящий Воронцов, ростом метр восемьдесят пять, одетый в адмиральский мундир неизвестного главе парламента государства (впрочем, адмиральские мундиры во всех странах мира почти одинаковы), вошел в его кабинет в сопровождении человека, представляющего здешние сильные кланы.
Дальше ничего особенно интересного. В любой стране, где чиновники берут, а особенно в такой, где берут не стесняясь, проблемы решаются по единой схеме.
Естественно, чемодан с эскудо Дмитрий с собой тащить не собирался. Тяжело и неэлегантно. Хотя черт его знает, вдруг водопад высыпанных на стол родных бумажек показался бы господину душ Сантушу интереснее и надежнее голубоватого чека банка старого Ротшильда?
О делах они вначале не разговаривали. Познакомились, выпили кофе и хорошего «Порту». Раскурили по сигаре. Сигары были, без всяких оговорок, чудесные. На днях привезенные из Бразилии, где их умеют делать куда лучше, чем на Кубе. Но не все об этом знают. Согласно этикету, осведомились, у кого сколько детей и как они себя чувствуют.
Премьер был приятным в общении мужчиной, но, подобно Чемберлену, одесскому Валиадису палец в его рот класть не стоило. Да он бы и не позволил.
– Ну так что, дон Димитриос? Изложите, чем я могу быть вам полезен? Неужели вы не могли решить свои вопросы на уровнях пониже? Судя по имени, вы из греков? Я уважаю греков, они вторую тысячу лет не лезут в мировую политику в отличие от англичан, которых я ненавижу всей душой. Но это мое личное отношение, государственных интересов оно не касается.
Воронцов протянул премьеру чек.
– Может быть, у вас есть какие-нибудь благотворительные фонды? Возьмите, я люблю помогать инвалидам или детям… На ваше усмотрение.
Душ Сантуш лишь несколько секунд смотрел на чек, после чего спрятал его в стол.
– Спасибо, пригодится. Итак? Что я могу сделать для Греции? Или лично для вас? Скажите, вы случайно не русский? Я служил посланником в Петербурге, ваш акцент кажется мне знакомым. Однако это не имеет никакого значения. Чек – другое дело, это – как протянутая рука друга, и я протягиваю свою навстречу. Итак?
Воронцов сказал. Два десятка португальских паспортов, для него лично и еще десятка человек по списку.
– Разумеется, настоящих, оформленных по всем правилам, внесенных во все положенные реестры. Фальшивок я мог бы накупить сколько угодно за сотую часть благотворительных средств… – и указал глазами на сопровождавшее лицо, господина Перейру, сосредоточенно полировавшего ногти на диване в углу кабинета. Этого человека порекомендовал взять с собой местный представитель Сильвии, сообщив, что в его присутствии премьер должен быть очень сговорчив. Отчего весь вопрос нельзя решить, вообще не затрудняя столь значительного государственного деятеля, Дмитрий выяснять не стал. Аборигенам виднее, как вести дела на своей территории.
– Это будет сделано в течение часа, – расплылся в улыбке премьер. – То есть в течение часа распоряжение дойдет до исполнителя, а уж сколько потребуется на заполнение бланков и книг… – Он развел руками. – Народ у нас обстоятельный, неторопливый. – Понимать следовало так, что без дальнейших взяток обойтись не удастся. – А что вы станете с ними делать? – с искренним любопытством спросил Душ Сантуш. – Увы, но португальские паспорта в этом гнусном мире совсем не котируются… За двадцать тысяч фунтов, которые вы так любезно инвестировали, с американским паспортом, а он у вас, конечно, есть, любую проблему решить гораздо проще…
– Мне просто нравится идея вдруг ощутить себя португальцем, потомком Васко да Гамы, Камоэнса и Генриха Мореплавателя. Натурализуюсь в Рио-де-Жанейро как представитель бывшей метрополии…
Шутка не развеселила премьера.
– Что еще? – Он видел, что не ради десятка действительно никчемных паспортов явился к нему странный посетитель.
– Еще мне потребуется надежный документ, разрешающий моим кораблям, числом три, заходить в любой португальский порт и оставаться там нужное время, без лишних вопросов со стороны властей, а также право нести в море португальский флаг…
– Корабли хоть не военные? – с кислой миной спросил премьер.
– Упаси бог! Пассажирский пароход и две прогулочные яхы. Океанские…
– Это все?
– Хорошее рекомендательное письмо к губернатору Мозамбика. Теперь все.
Душ Сантуш побарабанил пальцами по большому кожаному бювару, лежащему перед ним.
– Это как-то связано с намечающейся на юге Африки войной? – спросил он после паузы.
– Каким-то образом – несомненно. Сами понимаете, случись что-то подобное, представителям нейтрального государства гораздо проще вести свои коммерческие дела, нежели… – заканчивать фразу он не стал.
– Понимаю, понимаю… Лоренцу-Маркиш, да. Единственный порт, связанный железной дорогой с Преторией… – Он снова задумался.
Воронцову это не понравилось. В деньгах он нехватки не испытывал, мог бы протянуть премьеру еще один чек. Только зачем поощрять низменные инстинкты? Люди иногда наглеют беспричинно, и их следует ставить на место.
– Господин Перейра… – обернулся он к дивану.
Тон у него был самый мягкий, и означенный господин, не высказывая эмоций, просто посмотрел на премьера внимательно. Ничего не сказав.
Душ Сантуш еще раз вздохнул, вызвал секретаря, отдал нужные распоряжения. На чем и покончили. Докурили сигары, выпили еще по бокалу «Порту» и подписали несколько бумаг.
Португальское гражданство само по себе действительно ничего не значило в мировом раскладе. Как и эквадорское, к примеру. Однако имелась тут некоторая тонкость. Португальский порт Лоренцу-Маркиш на восточном берегу Африки, крайне удобно расположенный в глубине залива и связанный с Преторией, столицей государства Трансвааль, железной дорогой, являлся сегодня ключевой точкой мировой политики.
И корабли под португальским флагом могли там располагаться вполне законным образом. Плюя на англичан в самом буквальном смысле. С высокого мостика. Так впоследствии и случилось.
…Миновав полосу штормов и шквалов, прибавив ход до полного, «Призрак» и «Валгалла» на порядочном расстоянии от проторенных морских путей обогнули Африку и вышли в Индийский океан. Здесь погода, как и обещал Шульгину Андрей, разительным образом изменилась. Пронзительная синева воды и неба, вместо грозных пенных валов – легкая зыбь. И температура за одну ночь поднялась на пятнадцать градусов. Девушки немедленно принялись загорать, раскинув шезлонги у бортиков просторного, отделанного мрамором бассейна на Солнечной палубе.
Судоводителей больше радовало другое. За весь сложный, проделанный с рекордной скоростью переход все системы обоих судов работали безукоризненно. Значит, приработавшись, механическая часть не подведет и впредь. Не зря трудились.
Локаторы показали, что до залива Делаго-Бей, в глубине которого раскинулся по холмам Лоренцу-Маркиш, осталось не более тридцати миль. До первой цели, значит, добрались.
…Губернатор Мозамбика, генерал-капитан Отелу Сарайва ди Карвалью был мужчиной лет пятидесяти, красив собой, с длинными, в стиле императора Вильгельма закрученными усами. Жизнь в колонии была отвратительно скучна, невзирая на то что там было построено несколько очень европейских зданий, в том числе и театр. Только играть в нем, по-настоящему, некому. Что, Сару Бернар удастся пригласить? Едва ли. Не Рио-де-Жанейро, не Кейптаун даже. И денег нет, и слушателей, случись вдруг, двух сотен не наберется. Тосклива должность губернатора на самом дальнем краю света.
Отчего изумительной вспышкой радости и темой бесчисленных разговоров стал приход в Лоренцу-Маркиш громадного белого парохода под португальским флагом и небольшой, очень красивой парусной яхты.
Дон Отелу знал, что у родной страны нет и не может быть таких кораблей. Но вот же они, и флаги трепещутся на гафелях. Каждый хочет верить в хорошее.
Он сам в белом кителе и при сабле, его жена, дети (шесть), чиновники всех ведомств, взвод местного гарнизона и половина жителей города немедленно собрались на пристани.
Пароход дал протяжный, многотонный гудок,[37] подваливая бортом к причалу. А яхта, неожиданным образом, из малокалиберной пушки начала давать положенный губернатору салют. Сделав полных четырнадцать выстрелов.
Дон Карвалью был в полном восторге, его семья и окружение тоже.
Вновь прибывшие суда ошвартовались, и на берег спустилось блестящее по здешним (да и не только) меркам общество. Пять пар – представительные молодые мужчины и красивые женщины. Мужчины одеты в морскую форму, хотя и без военных знаков различия, кителя и фуражки украшены золотым шитьем и сложного рисунка эмблемами в стиле респектабельных яхт-клубов. Дамы облачены в туалеты, каких местные модницы не видели и в последних дошедших сюда парижских журналах.
Последовали взаимные приветствия, процедура знакомства, после чего губернатор с семейством и все желающие были приглашены на борт «Валгаллы», где уже был накрыт завтрак на Шлюпочной палубе.
Как положено по этикету, о целях прибытия великолепных гостей впрямую не говорилось. Дамы щебетали о своем, у них всегда найдутся темы, наверное, и бушменки со шведками нашли бы общие темы, если бы сумели преодолеть языковый барьер. Португалки, внешне оказавшиеся весьма пристойными на вид и достаточно развитыми в культурном отношении, несколько раз отпускали комплименты новым подругам за великолепное владение языком Камоэнса.[38] Что прибывшие никакого отношения к соотечественникам не имеют, всем стало понятно сразу, но для представителей маленькой, некогда владевшей полумиром нации люди, имеющие гражданство, держащие на гафелях национальный флаг, говорящие на португальском почти как на родном, таковыми и воспринимались.
Собственно, русские к подобным вопросам относятся аналогично. Говоришь по-русски, хочешь считать себя русским – значит, наш. А якут ты или айсор, как-нибудь при случае уточним.
Женщины, естественным для них образом (наши женщины!), ничего не говоря впрямую, наплели очень много словесной вязи, объясняя местным, что никаких мужских дел они не касаются, приплыли сюда с мужьями потому, что тем так захотелось. Что они сами здесь ищут – полностью их дело. А нам – «крокодилы, пальмы, баобабы…».
– Как я вам завидую! – воскликнула едва ли сорокалетняя жена губернатора. – Такие мужчины, такой пароход! И вы ни в чем не испытываете затруднений… А представьте себе мое положение! – Она воздела руки, как статус и национальная принадлежность требовали. Роскошные каштановые волосы водопадом потекли у нее по плечам. – Рожаю, рожаю, рожаю, и совершенно никакого воздаяния… Вы бы знали, леди, как здесь невыносимо скучно…
Прочие местные дамы дружно закивали: что скучно, то скучно. Однако той же Ларисе, историку и понимающей толк в жизни девушке, отчетливо казалось – каждая из дам бомонда, вполне активно прикладывающихся к бокалам, и в Лиссабоне, и в самом Париже чувствовали бы себя точно так же. Не Конфуций ли говорил: «Куда бы ты ни пришел, ты прежде всего встретишь там самого себя».
Ларисе пришла в голову остроумная, как ей показалось, идея. Пока Анна ставила на электропроигрыватель, оформленный под банальный граммофон, пластинку с записью музыки, чуть-чуть опережающей текущий год, она за локоток отвела губернаторшу, дону Фульхенсию Исабель Марию ди Карвалью, к палубному ограждению. Вдалеке был виден городок, внизу плескалась лазурная вода.
С изызканого «vose» он без извинений и оговорок перешла на простонародное и слегка фамильярное «tu».[39]
Губернаторша отнеслась у этому легко. Кто знает, кем она была по жизни до того, как вышла за генерал-капитана?
– Надоело рожать, говоришь? – спросила Лариса. Странным образом эта тема соотнеслась с разговором, состоявшимся между ней и Натальей.
– Ты бы знала, как надоело! А он все лезет и лезет! Я бы уже всем девкам в округе платить готова, чтоб они его… вымотали. И не нужно мне его, и желания нет, а как случится – опять беременная. Куда мне их столько?
Лариса это и имела в виду.
– На, возьми, последнее американское изобретение, – протянула губернаторше коричневый стеклянный пузырек, в духе времени. Пластиковые конволюты здесь не выглядели. В пузырьке лежало полсотни таблеток. – Если увидишь, что деваться некуда, глотни таблетку за пару часов до… И никаких проблем.
– Правда? – Губернаторша натуральным образом обалдела. – Неужели такое возможно?
– Врать тебе буду? Я из общества феминисток. Они нас… а мы потом с пузом. Шестеро – это же…
Лариса высказалась по-русски. Но эмоциональный настрой фразы был понятен и без перевода.
– А что скажет падре? – вдруг озаботилась Фульхенсия.
– Тебе делать больше нечего, как с попом на такие темы откровенничать. Когда слабительное принимаешь, тоже советуешься?
– Наверное, ты права, – кивнула губернаторша. – Это ведь просто лекарство…
У губернатора и прибывших с непонятной целью мужчин вышел разговор несколько иной тематики. Дон Отелу был администратором осторожным, к авантюрам не склонным. Нынешнее положение его вполне устраивало. Невзирая на некоторое однообразие. Когда ему было вручено письмо от премьер-министра, он удивился. По содержанию оно не представляло ничего особенного, обычное рекомендательное письмо с просьбой оказывать господам Ньюмену, Мэллони и их друзьям всяческое содействие и гостеприимство, не препятствовать в коммерческих операциях, если они таковыми решат заниматься, а также в организации похода в глубину континента, который они планируют совершить, если позволят обстоятельства.
Какие именно обстоятельства могут не позволить, губернатор догадался сам. О том, что англо-бурский кризис продолжает развиваться и завершится скорее всего войной, ему на месте было виднее, чем из Лиссабона. Его это не радовало. Зачем новые заботы? Без них лучше. Остаться в стороне явно не удастся. Железная дорога, связывавшая Преторию и Лоренцу-Маркиш, давала бурам единственный выход во внешний мир. Губернатор был не чужд стратегии и прекрасно понимал, что англичане непременно пожелают установить над ней контроль, в том или ином виде, и ему придется проявлять чудеса изворотливости, соблюдая нейтралитет и интересы своего правительства. Какими они окажутся – пока не слишком понятно. Лично дону Отелу были равно несимпатичны и буры, и англичане. Но его пристрастия никого не интересовали.
Появление так называемых американцев с португальскими паспортами наводило на размышления. Кажется, дон Душ Сантуш затевает какую-то свою игру. Вот только почему не информирует своего губернатора общепринятым способом?
Нужно постараться это выяснить, не выходя за рамки приличий.
Американец с веселым лицом казался губернатору человеком слишком молодым и не совсем серьезным. Капитан парохода выглядел более заслуживающим внимания. И по возрасту и по манерам.
– Геополитика присутствует всегда и везде, – рассуждал между тем Новиков. – Пусть лично нам она может казаться совершенно неинтересной наукой. Но игнорировать мы ее не можем. Правильно?
Губернатор согласился, что так оно и есть.
– И вот сейчас она начинает препятствовать нашим личным планам. Я вижу, что вы очень заинтригованы целью и смыслом нашего появления. Буду с вами откровенен: не важно, каким образом, но у меня в руках оказался некий документ. Результат многолетнего труда одного геолога. Из него следует, что всем известные алмазные месторождения Кимберли и окрестностей являются не более чем побочными, периферийными выбросами. Центральная же трубка находится совсем в другом месте. Ее поисками мы и намереваемся заняться. Дело только в этом. А грозящая вот-вот разразиться война способна серьезно помешать нашим планам…
– Каким же образом? – не понял дон Отелу. – Если она и начнется, то весьма быстро закончится. Силы буров и Британии несоизмеримы. И вы сможете заняться поисками без всякого риска. Я даже смею предполагать, что, когда вся эта территория станет одной большой Капской колонией, государственный порядок укрепится и права достойных граждан будут защищены гораздо надежнее… Несколько месяцев играют для вас столь большую роль, чтобы рисковать именно сейчас?
– Ваше превосходительство, – сказал Дмитрий, – я совсем не в курсе ваших взглядов. Очень может быть, что вы англофил и, когда Англо-бурская война начнется, а она обязательно начнется, вам захочется стать на сторону Англии. Это ваше право, – резким жестом Воронцов отмел возможные возражения, – как и право верить в легкую и быструю победу британцев. Однако из истории известно, что такие войны иногда затягиваются на годы, а столько мы ждать не можем. Кроме того, после присоединения Республик к Метрополии найдется немало желающих наложить лапу и на алмазные, и на золотые прииски. Всякие Сесиль Родсы, де Бирсы и прочие «Соломон бразерс» спят и видят… С бурами договориться будет гораздо проще.
Правда, тут перед вами встает выбор, в буквальном смысле судьбоносный…
– Какой же, интересно? – спросил губернатор.
– Простейший. Вы, в соответствии с достаточно явно выраженной позицией вашего премьера, помогаете нам строго в тех пределах, что обозначены в письме. Что означает «поддержка и содействие в коммерческой деятельности»? Мы видим это так – мы торгуем с кем хотим и чем хотим, вы в свою очередь не проявляете ни малейшего интереса к сути этих сделок. Португальских законов они не нарушат ни в коем случае. Вы всего лишь освобождаете наши товары от таможенного и любого другого досмотра и контроля. На борту парохода, в портовых складах, в железнодорожных вагонах. Для этого у меня тоже есть отдельное предписание вашего правительства. Вот оно. Все положенные сборы плюс серьезную премию вы получите в любое время и любым удобным способом. После завершения экспедиции, в случае успеха, ваша доля в прибылях будет достаточной, чтобы вы и ваше семейство стали очень богатыми…
– Вам не приходилось быть губернатором? – с достаточно ехидным лицом спросил дон Отелу.
– Если бы я сказал, кем мне приходилось быть, вы бы пришли в легкий ужас, – ответил капитан. – Мы играем честно. А что вы на это скажете?
– Вы собираетесь перевозить через мою территорию оружие? – слегка понизив голос, спросил дон Отелу. – И этой ценой получить у буров концессии?
– Это ваши слова, не мои… А вам-то что? Сельхозмашины и буровое оборудование – товар не хуже любого другого. И война пока не началась. Да даже если все-таки начнется? Португалия – нейтральная страна, и мы – ее законопослушные граждане. Что нам до чужих разборок?
– Вдруг с началом войны англичане, узнав о вашей коммерции, предъявят мне ноту или даже начнут блокаду порта?
– Предоставьте эту заботу нам. Блокада – это война, европейская война. Франция, Германия, Россия немедленно заявят самый решительный протест и так далее… Британия не рискнет. Но все будет решаться на уровне столиц. Здесь же вам поможем мы…
– Каким, интересно, образом?
– Мы в кредит продадим вам несколько пушек, которыми вы обеспечите неприкосновенность португальской территории с моря… С суши ваши границы недоступны.
– С артиллерийскими расчетами, – добавил Шульгин.
– Предположим, – продолжал губернатор, с «Порту» перешедший на принесенную стюардом «Смирновскую» под блины с черной икрой, – англичане не осмелятся напасть на город и предпримут дальнюю блокаду?
– Корабли под нашим флагом они задерживать не рискнут, по названной выше причине. Но в каких-то других, совершенно воображаемых случаях: эксцесс исполнителя и все такое, в нейтральных водах им ведь может быть оказано достойное сопротивление?
– Английскому флоту?
– Подумаешь, – небрежно ответил Воронцов. – Видали мы лилипутов и покрупнее…
Дон Отелу не стал вслух удивляться русской водке и блинам, мало ли чем шеф-повар решил попотчевать хозяина и его гостей. Он задумался о другом – чьи корабли готовы бросить вызов «владычице морей»? Выходило, что между угощением и темой разговора прослеживается связь. Обычный у дипломатов прием. Сорт поданного на королевском приеме вина может свидетельствовать о смене политической линии точнее, чем десять статей в газетах и заявления с парламентских трибун. Историю он знал неплохо, в том числе и о походе двух русских эскадр (Попова и Лесовского) к берегам САСШ в поддержку северян во время войны Севера против Юга был наслышан. Тогда англичане испугались. Сухопутная война была невозможна, а крейсерская в двух океанах сулила им больше потерь, чем выгод. Отчего бы и сейчас…
Тем более холодный огонь славянского напитка способствовал легкости мыслей и языка.
– За вами, господа, наверное, стоят очень серьезные силы? – спросил он, одновременно задумавшись, отчего с крайне ответственной миссией прислали такую молодежь. Оно, конечно, в начале карьеры и Александр Македонский, и Наполеон преклонностью лет не отличались, и все же…
«А вдруг это, – с любопытством и некоторым испугом подумал губернатор, – кто-нибудь из великих князей? Выполняют учебное задание перед тем, как занять несравненно высшие посты? Как бы и это поаккуратнее выяснить?»
– Силы? – переспросил Новиков с той же интонацией, что красноармеец Сухов про павлинов. – Вы в покер играете?
– С огромным удовольствием, только особенно не с кем…
– Сыграем, – пообещал Шульгин, – попозже.
– Каре тузов с джокером вас устроит?
– Неужели?
– За нами стоит организация, которой совершенно безразличны существующие геополитические расклады. Она выше национальных границ, правительств, традиций… Она самоценна, самодостаточна, сама на себя замкнута и в то же время открыта всем, кто примет ее ценности…
Сказано было заковыристо, но убедительно.
– Масоны? Иезуиты? – Что еще могло прийти в голову человеку девятнадцатого века, пусть и на самом излете, да еще и находящемуся в приятном подпитии?
– Иезуиты – к месту, – сообщил Шульгин, которому, по душевному сродству с Арамисом должность их генерала казалась интересной. – Давайте на этом и остановимся. Мы с вами – католики, англичане – подлые схизматики. Буры вообще протестанты, но это сейчас несущественно. Мы – иезуиты, и этим все сказано.
– А по-моему, розенкрейцеры – убедительнее. – Лариса подошла незаметно и несколько минут слушала забавный разговор.
– Тоже хорошо, – кивнул Воронцов. – Одним словом, ваше превосходительство, вы сейчас получили на руки очень хорошие карты, осталось ими правильно распорядиться…
Глава седьмая
«Изумруд» возник из внепространства в точно рассчитанное время в Черном море, ста милями северо-восточнее Босфора. Бортовая электроника работала четко, зафиксировала новую координатную точку и показала, что в пределах визуального контакта нет ни единого суденышка. Ни линкора, ни фелюги контрабандистов. Это хорошо, а то какой-нибудь мореход, увидевший с мостика прущий по морю сорокаузловым ходом грязный лесовоз, непременно бы сбрендил. А Белли действительно, осмотревшись, перевел ручку машинного телеграфа на «Самый полный». Надо же командиру проверить ходовые качества своего корабля.
По условиям исполнителя, сорок – сорок два узла могли выдерживаться на дистанции в пять тысяч миль. После чего скорость следовало сбросить и произвести регламентные работы. Проводить такие испытания было некогда и негде, до Крыма оставалось всего триста миль. Но сотни полторы из них на пределе пробежать стоило.
Маскировки Белли предпочитал не снимать. Так спокойнее, и лишних вопросов ни у кого не возникнет. Скоро судов в море появится, как клецок в супе. Своих военных, пассажирских и торговых, иностранных тоже. Ну и кому какое дело? Шлепает себе швед на десяти узлах, направляясь, скажем, в Туапсе за партией высококачественного горного леса, крайне ценимого в мебельной промышленности, да и все.
Ночью он сменил курс с норд-оста на чистый норд. Под утро пришли в Ялту, не в Севастополь, тоже чтобы не привлекать внимания. Стали на рейде, Басманов, Ростокин и Алла съехали на берег. Здесь они были дома. Начальник над портом знал полковника лично еще с двадцать первого года, вопросов, типа того, зачем он решил заняться морской коммерцией, задавать не стал. Надо – значит, надо. Тем более капитана второго ранга еще царской службы, фальшборта и прочие ухищрения не обманули. Крейсер – он и есть крейсер, старый, конечно, но вполне еще ничего. Бывало, ставшие ненужными после войны единицы и в танкеры переделывали, и в другие вспомогательные суда.
Выпили за встречу, обменялись новостями, которых фактически не было, за исключением деталей биографий общих знакомцев. Жизнь в Югороссии текла удивительно гладко, как в какой-нибудь Швейцарии.
Басманов попросил, чтобы его «лесовозом» никто не интересовался, будто и нет его в природе. Документы в порядке, и достаточно. Постоять тут он намеревался никак не больше недели, капитан и часть команды съезжать на берег будут собственным баркасом, к ним полиция и иные власти пусть тоже не проявляют внимания. Безобразий учинять люди не станут, не так обучены, а все остальное…
– У тебя как с финансами? – будто между прочим спросил Басманов.
– На жизнь хватает, – усмехнулся бывший кап-два. – Порт есть порт. Оклад жалования побольше, чем на строевой… Безгрешные доходы, опять же…
– Тогда хорошо, – кивнул Басманов. – Совсем не то что в Стамбуле с чуреков на дузик перебиваться…[40]
– Да уж, не напоминай. Однако и тогда жили… Если уж совсем лишние деньги образовались, можешь оставить, конечно. Найду как распорядится. Непредвиденные расходы часто случаются…
– Десять тысяч[41] – нормально будет?
– Это какая ваша барская воля…
На площади возле набережной взяли два таксомотора. Хотя начальник порта предлагал свою машину. А зачем? Из любопытства, куда поедут? Обойдется без совсем не нужной ему информации.
В Севастополе у Басманова была квартира, где они с Игорем и Аллой удобно разместились.
– Теперь, ребята, отдыхайте. Три дня, – предложил Михаил Федорович. – Потом долго не придется. А я займусь делами.
Из офицеров его бывшего батальона он мог рассчитывать человек на сорок, не обзаведшихся семьями и не имеющих казенной службы, от которой просто так не откажешься. Жили они в разных городах, но дорога до Севастополя даже поездом занимала меньше суток. О Ненадо и Давыдове речи не было: те пойдут, куда скажешь, особенно после встречи с «медузой». За отпущенные Игорю и Алле три дня он успел переговорить со всеми, с кем хотел. Ничего не скрывая. Напомнил самую первую легенду о Южной Африке и договора, которые они подписывали. Ни на чем не настаивал, просто говорил, что возникла очередная необходимость. Жалованье обещал царское.
Отказались только двое, и не из трусости, а просто жизнь у них начала складываться по-другому. Басманов не настаивал. Что от офицеров требовалось, они тогда еще сделали, без колебаний подставляя головы под пули. Да и лет после тех стамбульских дней прошло порядочно.
Зато тридцать восемь были вот они, готовы для любого применения. Рождения в большинстве своем между восемьсот девяностым и девяносто седьмым. Сейчас, значит, самому старшему было тридцать пять. Мужчины в самом расцвете сил, как пресловутый Карлсон. Несколько утомленные и разочарованные мирной спокойной жизнью. Поход в две тысячи пятый был увлекательным, но слишком коротким эпизодом. Постреляли, посидели на банкете у нового Императора совсем другой России, получили свои награды – и снова тоска.
Увы, вокруг были не шестидесятые годы, где любой бывший лейтенант (Западных армий, конечно) мог стать «белым наемником» и, при случае, захватывать деколонизированные государства, свергать правительства и президентов, веселиться от души и получать гонорары в сотни тысяч тогдашних долларов, а также неограниченное право мародерства и грабежа, разумеется. О таких вещах офицеры задумываться не могли, время было другое, но приключений все равно хотелось.
И мысль вернуться в годы собственного детства тоже казалась заманчивой.
Самый сложный разговор вышел у Басманова с полковником Сугориным, бывшим генштабистом, бывшим командиром полка у Корнилова, бывшим заместителем Михаила Федоровича на завершающем этапе Гражданской. И даже некоторое время военным советником у Новикова.
В свои сорок семь лет полковник приобрел домик в Одессе, на ближайшей к городу станции Большого Фонтана. Оставаясь убежденным холостяком, жил один, не приглашая даже домработников и домработниц. Готовить, стирать рубашки и мыть посуду он умел сам. Обрабатывать сад и маленький огород – тоже. Изредка. Все остальное время, с шести утра до заката солнца, он посвящал написанию научно-исторического труда, охватывающего не затронутые пока другими историками эпизоды войны от четырнадцатого до двадцать первого года.
В Одессу Басманову пришлось лететь аэропланом, хорошо, что регулярных и заказных рейсов хватало. Цивилизация, ничего не скажешь.
Сугорин – это вам не Давыдов или Мальцев, человек серьезный, с собственными мыслями.
Хотя он и был у тогдашнего капитана заместителем, но уважение ему Басманов демонстрировал всегда. Привычка, если хотите: генштабистов в армии уважали, кто поумнее, конечно. Прочие присваивали им всякие обидные клички, в основном из зависти.
Сугорин принял боевого товарища радостно. С окончания войны они не встречались, полковник твердо решил покончить с прошлым и сделал это. Даже на генеральскую должность в штабе Врангеля не пошел: охватил его внезапный и категорический пацифизм.
Они сидели вдвоем на просторной, заплетенной виноградными лозами веранде. Далеко внизу колыхалось море. Ничего лучше моря Басманов в жизни не видел, пусть и были с ним связаны не самые лучшие воспоминания.
– Валерий Евгеньевич, – начал Басманов, крутя в пальцах папиросу, – вы помните наши очень давние дискуссии в палатке тренировочного лагеря?
– Много у нас было дискуссий… – осторожно ответил Сугорин.
– Насчет принадлежности наших тогдашних нанимателей к иной ветви человечества…
– А, атланты и так далее… Но теперь меня это не слишком занимает. Жизнь идет, как мне давно хотелось. Никаких удивительных явлений я с тех пор больше не видел. После чудесного воскрешения ротмистра Барабашова.[42] Готов признать, что я был не прав. Действительно, случиться может всякое. Три года я живу отшельником, газеты читаю от случая к случаю. Россия стала такой, какой я хотел ее видеть. Что творится в Совдепии – меня не касается. А здесь каждый человек на своем месте. Пристав приезжает ко мне по праздничным датам в собственном фаэтоне, поздравляет. Я к нему тоже выхожу в мундире с орденами. Он получает свой империал,[43] мы с ним выпиваем по рюмочке, для приличия немного разговариваем. Иных отношений с властями не имею. Зато написал уже более тысячи страниц. Надеюсь, в итоге выйдет не хуже, чем у Моммзена.[44]
– При случае дадите почитать. Моммзен, на мой взгляд, скучноват. У вас должно выйти лучше. Вам сколько лет сейчас?
– Пятьдесят скоро, – печально ответил Сугорин.
– Ерунда. Тридцать лет в запасе имеете. Мы тогда в палатке не только про атлантов беседовали. Вы доказывали, что господам Новикову и Шульгину интересен Парагвай. Даже кое-какое пари заключали, заявив, что Южная Африка – полная чушь…
– Было, – согласился Сугорин. – И сейчас не отказываюсь, в том контексте Парагвай был бы интереснее.
Басманов не стал говорить, что, попав в будущие годы, прочитал историю войны Боливии и Парагвая (1932–1934 гг.). Сугорин как стратег и военный мыслитель оказался целиком прав. Место для столкновения цивилизаций было им угадано верно. Боливия, страна индейцев, вооруженных и направляемых американскими инструкторами, встретилась в конфликте за Гран-Чако с малочисленными, но креолами. Это не расизм, просто некоторые нации умеют воевать хуже, чем другие. Старый анекдот: «Для чего существует австрийская армия? Чтобы было с кем воевать итальянской».
Креолы креолами, а две тысячи русских белых офицеров, нашедших приют в этой далекой, мало кому известной стране, за десять лет (занимаясь торговлей, сельским хозяйством и подобными мирными делами) свою основную профессию не забыли. И в войну немедленно ввязались – добровольно. Намного превосходящая численно боливийская армия была разгромлена, а Боливия потеряла две трети своей территории. И сейчас в парагвайских городах можно увидеть таблички: «улица Капитана Васильева», «площадь Генерала Беляева» и тому подобные.
Но это пока в будущем.
– А сейчас возник интересный вариант именно с Южной Африкой…
– Что, опять там какие-то беспорядки? К стыду своему, ничего не слышал.
– Сейчас, кажется, ничего примечательного. Я имею в виду более ранние события. Англо-бурскую войну…
– Господи, да она-то при чем?
Басманов объяснил, при чем. Из его слов выходило, что полковник не ошибся в своих подозрениях. Об уровне военной техники, которой они пользовались в Гражданскую войну, о принадлежности вождей Братства к совсем другой цивилизации, человеческой, но ушедшей далеко вперед, о реальных свойствах времени и параллельных реальностях. Предельно кратко рассказал Михаил Федорович, оставаясь в рамках собственных представлений, но вполне исчерпывающе.
– Крайне интересно, – ответил Сугорин. – Теперь, конечно, практически все становится на свои места.
Его более всего увлекла идея именно альтернатив.
– Теперь половину моего труда можно сжечь в печке. Как Гоголю «Мертвые души». Я то, дурак, все это время пытался уяснить себе и доказать читателю, что наша победа была в конце концов закономерна, вытекала из морального превосходства Белого движения и несовместимости Красной идеи со смыслом существования человечества… Как же получается…
– А ничего не получается, Валерий Евгеньевич. В том смысле, какой вы сейчас вкладываете…
Басманов много всяких книг успел перечитать, многое видел и многому научился в общении с товарищами.
– О том, как оно случилось на самом деле, писать, конечно, не нужно, пока не нужно, но суть вами схвачена верно. Моральное превосходство было? Было. Мы уступали красным двадцатикратно, но держались три страшных года. Хотите сказать, что разложившемуся, бессильному войску помогли бы несколько сотен автоматических винтовок и два десятка танков? Не помогли бы. У немцев до конца восемнадцатого года была боеспособная армия, громадный, не имевший серьезных потерь флот, ресурсы отданной им по Брестскому миру России. А они сломались враз и позорно капитулировали. Я читал не меньше вашего, хотя и не так системно. Историки упорно талдычат о «позорно проигранной» Крымской войне…
– Абсурд, разумеется…
– И я о том же. Три года войны на шести удаленных на тысячи верст театрах, и везде успехи! Даже блестящие успехи, особенно на Кавказе и в Петропавловске. В итоге, сражаясь против европейской коалиции и Блистательной Порты,[45] с которой и один на один не всегда справлялись, сдали врагу половину Севастополя. Всего лишь… Так и мы. Какая армия, зацепившись за последний клочок территории, смогла бы перейти в наступление и победить? Только наша. А помощь «пришельцев»? Ну да, это был камешек, вызывающий лавину. Моральная поддержка, подсказка, совет… И ведь не больше, господин полковник? Что такое штыковая атака Корниловской дивизии на фоне всего, что было раньше? Против нас действовали огромные армии…
– Да вы не нервничайте так, Михаил Федорович. Дело ведь прошлое. Я даже знаю ваши следующие слова. Вы скажете, что сам факт появления в нашем мире господ Новикова, Шульгина эт сетера (вас в том числе) – подтверждает нежелание «демона истории» допустить победу Красных.
– Угадали… Есть вещи, которые не должны происходить. Что, если бы римляне проиграли Аттиле свое последнее сражение на Каталаунских полях? Могли же?
– Может быть, перейдем ближе к теме? – примирительно сказал Сугорин. – Чего вы или ваши друзья-руководители хотят сейчас? В том числе и от меня.
Басманов чувствовал, что разнервничался совершенно напрасно. Чем-то его поведение сейчас напоминало то, как вел себя Вадим Рощин в споре с подполковником Тетькиным.[46]
– Помощи они хотят. Те самые «демоны истории» и многие другие привходящие обстоятельства поставили их и нас всех перед страшным выбором. Этот наш прелестный мир, где так хорошо сидеть на веранде под облетающими листьями, может рухнуть в один момент… И не от очередной войны или вторжения чудовищных порождений инопланетного разума. Просто так, физически…
– Вы меня пугаете?
– Это было бы проще всего. Только незачем. Я, видите ли, артиллерист, знаю физику, химию и математику. Надеюсь, в пределах гимназического курса знаете и вы.
– Так точно. Гимназического. Плюс Академия. Там я наряду с названными изучал и другие дисциплины – географию, историю, топографию, военную статистику и прочее. Поясните, о чем вы…
– Если вдруг поменяется несколько мировых констант, что случится с миром? Тяготение вдвое меньше, скорость света вдвое больше и так далее…
– Продолжайте, – сказал Сугорин, до сих пор воспринимавший слова Басманова довольно отстраненно. Его гораздо больше занимала недописанная глава книги. А сейчас задело. Интонации Басманова или что-то еще…
– Нечего продолжать. Сложилось так, что вся окружающая нас прелесть, – тот указал на море, на продолжающие падать виноградные красные листья, на звонкую, знойную тишину степи, протянувшейся за забором до горизонта, – может в ближайшее время исчезнуть. Вообще. Как ничего и не было. И знаете, что самое смешное? – Басманов взял стакан и посмаковал глоток домашней «Изабеллы» с добавлением виноградной смолы и растертой в порошок коры. – Мы с вами об этом никогда не узнаем. За отсутствием подходящего органа чувств…
– Михаил, – голос полковника прозвучал резко, – дурака валять закончим?
– Так я же и не начинал, Валерий Евгеньевич! Мне нужно было привести вас в состояние, подходящее для делового разговора. А то – «книги пишем», заперлись в башне из слоновой кости. Кстати – «из лобной кости» лучше звучит. А совсем просто – для того, чтобы нам всем выжить, сохранить уже существующие и пригодные для дальнейшего существования реальности, а среди них есть такие… ну, я вам потом расскажу и покажу – нужно совсем немного…
– Михаил, скажите откровенно – вы кокаином не злоупотребляете? В Гвардии это было очень модно в четырнадцатом году…
– А в восемнадцатом? – с хитрой улыбкой спросил Басманов.
Сугорин пожал плечами.
– В тысяча восемьсот девяносто девятый прогуляться не хотите? У господ бурских генералов и президентов совсем хреново со стратегическим мышлением. Вот вас – главным военным советником. Мы все – на подхвате… Оружие и деньги будут.
– Я до сих пор не понял – зачем? О способе оказаться там не спрашиваю. Возможно, он действительно есть. Откуда-то к нам оружие ведь попадало…
– Куда уж проще. Нужно, чтобы эту войну Англия не выиграла. Буры, естественно, выиграть ее по-настоящему не смогут тоже, не тот потенциал и не та публика. Зато опозорить на весь мир «гордый Альбион» постараться стоит… Вы стратег, прикиньте в первом приближении, что случится, если британцам придется свернуть операцию. Книжки у вас под руками есть?
– Да зачем мне книжки? И так все понятно!
– Вот и договорились. Роту наших бывших сослуживцев я наберу, как раньше договаривались. Дипломатию по-прежнему берут на себя наши друзья. Оружием, правда, придется обходиться соразмерным времени. Танков не будет. Так как?
– Сама по себе идея очень интересна. Мы, помнится, в Николаевском училище ход этой войны подробно разбирали. Интересно будет старые записи посмотреть… Я тогда, грешным делом, Александру Ивановичу поверил. Он кое-какие подробности очень убедительно живописал. Как участник и очевидец.
– Он, кто его знает, может быть, и битвы на Калке очевидец… – подкинул Басманов полковнику очередную приманку. – Так если вы согласны, послезавтра утром хотел бы вас видеть на ялтинской набережной. С собой – только личные вещи. Остальное получите на месте.
– Договорились, Михаил Федорович. Кажется, в жизни осталось еще кое-что, кроме подступающей старости.
О возможности стать одним из богатейших людей мира и успеть еще пожить в эпохе самой процветающей на Земле монархии Басманов говорить не стал. Это – для другого случая.
Призванным на службу офицерам долго собираться не требовалось. Достать из-под кровати «тревожный чемоданчик», попрощаться, если есть с кем, – и пожалуйста. Верные пистолеты и револьверы всегда при себе, обеспечение прочим оружием и снаряжением Басманов брал на себя. «Подъемные» почти никому были не нужны, разе только хорошенько погулять напоследок в севастопольских и ялтинских ресторанах. Жалованье пойдет уже после отплытия и в другой валюте.
По той же схеме, как в Стамбуле, добровольцев оказалось почти вдвое больше, чем вначале предполагал Басманов. Почти у каждого из волонтеров нашелся надежный друг, однополчанин, двоюродный брат или свояк, с боевым опытом, не нашедшие себя в мирной жизни. Михаил Федорович после обстоятельного собеседования взял почти всех. Поручители надежные, а кроме того, критерии отбора у него сейчас были гораздо мягче, чем у Шульгина в двадцатом. На фоне тамошних буров и английских солдат любой офицер с опытом двух последних войн легендарным титаном покажется. Ну и времени на тренировки будет достаточно.
Придумывать Басманову для новых добровольцев почти ничего не пришлось. Многое (не касающееся хронофизики и иных невероятно звучащих моментов) им рассказали товарищи, давно научившиеся не болтать лишнего. В остальном он пользовался отработанной методикой и легендой Шульгина – Новикова. Действительно, Юг Африки, богатые хозяева, алмазные прииски и необходимость их охраны. Поскольку вокруг бандиты, по-прежнему дикие кафры и все такое. Слова не очень расходились с истиной. Что в девяносто девятом, что в девятьсот пятом нравы в описываемых местах отличались не слишком.
Контракт предусматривал два (на всякий случай) года в меру рискованной службы при твердом жаловании, превышающем Югоросское для боевых генералов, и огромное количество всяческих дополнительных выплат. За сверхурочную работу, за командные должности, начиная с унтерских, «боевые», «прогонные», «пайковые», «пошивочные», а самое главное – проценты от добычи алмазов и золота. В меру личного участия или содействия. Как в футболе – за гол отдельно, за правильную передачу – само собой.
Энтузиазма было – хоть отбавляй!
Все вышло так, как полковник и рассчитывал, но воспитательный момент провести было необходимо.
В отдельном пакгаузе неподалеку от пирса Басманов собрал «старую гвардию». Поставил строй ветеранов по команде «смирно!», прошелся, заложив руки за спину, от правого фланга к левому, внимательно глядя в глаза. Вернулся к центру.
Помолчал, прихлопывая лайковыми перчатками по ладони левой руки.
– Так. К походу и бою все готовы?
– Так точно, господин полковник!!! – рявкнул строй.
– Это хорошо. А теперь пусть сделает шаг вперед тот, кому я поручил вербовку добровольцев.
Ответом было подавленное молчание.
Паузу Басманов протянул не слишком долгую. Перебирать тоже нельзя. Однако следовало дать понять, что любой волонтер остается таковым до определенного момента. Он пробил – и обратной дороги нет. Вступают в действие неумолимые законы военного механизма. Вернувшись в строй, офицеры свой Рубикон перешли.
– Я принял в отряд предложенных вами людей. Очень надеюсь, что они в боях покажут себя не хуже вас, моих боевых товарищей. Но чтобы это было в последний раз! Я понятно выражаюсь, господа поручики и капитаны? У нас здесь что угодно, но не клуб любителей аквариумных рыб. Любую инициативу, на походе, и там, где мы окажемся, – приветствую, но при условии предварительного доклада мне или лицу, меня замещающему. В ближайшее время – это полковник Генерального штаба Сугорин, всем вам хорошо известный. Особых случаев на поле боя в виду не имею, – уточнил он. – Чтобы слегка обострить ваше слегка приугасшее за годы мирной жизни чувство ответственности, довожу приказ по гарнизону номер один от сего числа: «За каждый проступок вновь принятых на службу добровольцев его рекомендатель несет солидарную ответственность: дисциплинарную и финансовую». Отозвать рекомендацию разрешаю в течение получаса. После чего приказ вступает в силу. Вопросы есть? Нет? Вольно! Капитан Давыдов, выйти из строя!
Давыдов вышел, сделав три строевых шага, приставил ногу и повернулся «кругом», лицом к строю. Снова щелкнув каблуками, как обучен с детства. Особой вины он за собой не чувствовал, но приказ есть приказ.
– Капитан, я поручаю вам быть сейчас моим ассистентом. Я хочу вручить знаки отличия офицерам, которые добровольно вступили в наш отряд в кромешные времена и сегодня остались верны долгу и присяге!
Он передал Давыдову чемоданчик, наполненный алыми сафьяновыми коробочками.
…Басманов потратил два дня своего отдыха на то, чтобы разыскать в Севастополе хорошего еврея-ювелира, вручить ему мельхиоровую ложку, которую взял из дома в августе тысяча девятьсот четырнадцатого года и сберег ее, то в полевой сумке, то за голенищем сапога всю мировую и всю Гражданскую войну.
– Найдите мне, Хаим Маркович, такой же точно металл – видите, здесь эмблемка изнутри выбита, глухарь в колечке. Это – продукция Кольчугинского завода. Ничего другого не надо. Я мог бы вам и серебра, и золота принести, но желаю именно этого. Вот и рисунок. Изготовьте до послезавтра сорок таких крестиков. Заплачу, сколько скажете. Дело не в цене, а в сроке. Хоть всех умельцев города привлеките…
Басманов долгими вечерами придумывал памятный знак, аналогичный «Терновому кресту» первопоходников, – для тех, кто пошли вместе с ним отвоевывать Свободную Россию. Исчеркал десятки листов бумаги. И лишнего пафоса не хотелось, одновременно и об оригинальности он думал, насмотревшись на фалеристику конца ХХ века.
С Новиковым, Шульгиным и прочими полковник не советовался. Сам не дурак, и награда будет его личная, раз «старшие товарищи» не додумались. Государственные кресты он не держал в уме. Что Георгиевский, что Владимирский – все они одинаковы, за Турецкую войну, за Японскую, за Гражданскую, просто так, от щедрот начальства…
Знак получился хорошим. Вроде Кульмского креста, изготовленного из подобранных на поле боя осколков вражеских ядер. Крестик типа Мальтийского (с намеком на причастность к тайнам и рыцарскую верность), чуть меньше обычного, в центре – неизменный двуглавый орел, держащий в лапах мечи. На подложенном под перекладины лавровом венке – зернышки простого дорожного булыжника, на память о стамбульских мостовых. И надпись: поверху – «Стамбул-Царьград 1920», снизу – выделенная рубиновой эмалью положенная горизонтально восьмерка. Обозначение бесконечности. Эта символика волновала Басманова с юных лет. Знак был на двух колечках прикреплен к квадратной колодке с синей, пересеченной посередине красной полоской лентой, как на ордене Александра Невского.
Хаим Терушкин выполнил работу в срок, но взял за нее… Вы не поверите.
– Знаете, господин полковник, как трудно найти листовой мельхиор? – болтал ювелир, укладывая награды в коробочки. – Мы же таки не в Кольчугине, где это делается само собой?! А эти ваши детальки? Я посадил десять зубных врачей, чтобы они своими бормашинами точили листики. С раннего утра и до поздней ночи. А граверам вытачивать буковки? А паять! Вы знаете, как трудно паять мельхиор, чтобы незаметно было? Но получилось неплохо, вы согласны? А булыжник? Достать, разбить, грамотно огранить! Вы художник, господин полковник, это вам не Хаим Терушкин, это вам любой еврей скажет. Воевать, конечно, тоже нужно, кому же, как не вам? За Стамбул – отдельное спасибо. Сейчас там работают два моих брата и зять. Ни на что не жалуются. С турками таки да, было плохо, а с русскими и греками – почти что рай земной.
– Легко гайки вкручивать? – с усмешкой спросил Басманов.
– Ай, о чем вы говорите? Люди все одинаковые, бедного еврея каждый хочет обидеть! Только русский городовой кладет в карман зеленую бумажку,[47] и до следующей пятницы ни о чем таком думать больше не нужно. А турецкий мог взять целых десять пиастров и тут же унести половину лавки. Вы понимаете разницу?
– Ваши заботы, – отмахнулся Басманов.
– Конечно не ваши, – охотно согласился ювелир. – Если бы я носил на плечах золотые погоны и на боку револьвер, а за мной стояла вся русская армия – в лавку не зашел бы ни один шлемазл, ни из наших, ни из ваших…
– Еще конкретнее выражаться умеете? В подобном духе я и в казарме потрепаться могу…
– Конечно, конечно, – сделал озабоченное лицо ювелир. – Вот все ваши ордена. Только я вам все равно скажу – заказали бы вы их из нормального серебра – обошлось бы куда дешевле.
– Спасибо, любезнейший. Свою работу вы сделали хорошо, – сказал Басманов, любуясь знаком. – Остальное вас ни в коей мере не касается. Рассчитаемся – и до свидания. Только я хочу вас предостеречь – вздумаете копии делать, шкуру спущу. Не хуже турецкого янычара. Какие-либо доказательства, кроме моих слов, требуются для подтверждения?
– Клянусь машиахом, господин полковник! Зачем мне еще такая головная боль?
– Смотри, Хаим Маркович, я шутить не люблю. Нашутился уже… Аж самому противно!
Награждение прошло торжественно, как в царском дворце. Басманов вызывал офицеров не по чинам, а в порядке поступления в отряд, брал из рук Давыдова крест и прикалывал к одежде, преимущественно штатской. Но значения это не имело. Впечатление у награждаемых было огромное, на что Михаил Федорович и рассчитывал. Не зря Петр Великий писал: «Наказать – накажи, но потом и обласкай!»
В завершение полковник прикрепил награду на лацкан Давыдова (крест № 3), а тот – ему, за номером первым, а чего стесняться, как было, так и было.
Волнующую процедуру завершили в кают-компании, где за столами смешались флотские и сухопутные офицеры. В качестве дополнительно штриха мастера, особенно, для тех, кто еще не свыкся с новыми временами и новой судьбой, Басманов пустил через корабельную трансляцию песню, восхитившую его в две тысячи пятом году.
– Великолепно, господа, великолепно! И все совершенно про нас, – закричал кто-то. Предлагаю выпить за этого капитана! – закричал кто-то, вставая.
Выпили, чокаясь рюмками и стаканами.
– Давайте, братья, сделаем ее нашей строевой песней!
И это было принято единогласно. Басманов не возражал.
– Господин полковник, прикажите завести еще раз, мы слова выучим…
Пока Басманов занимался делами службы и боевым слаживанием отряда, Белли, Ростокин и Алла со вкусом прощались с цивилизованной жизнью. Именно так Игорь и выразился – и был по-своему прав. Двадцать пятый год за четыре года активного «прогрессорства» сильно продвинулся в смысле культуры и удобств жизни.
Можно сказать, что крупные города (села и хутора не берем) Югороссии настолько обогнали Париж, Лондон и Нью-Йорк, что туристы, авантюристы, просто честные труженики, желающие хорошо заработать, рвались в нее с напором, не уступающим аналогичному пятьдесят лет спустя в обратном направлении. В Харькове, Киеве, Одессе, Мариуполе, Николаеве, Ростове, Екатеринодаре, Ставрополе энергичный эмигрант из Европы и Северной Америки с умными мозгами и умелыми руками мог хорошо устроиться, быстро разбогатеть и посылать домой фотографии: «Я и мой автомобиль», «Моя семья и мой дом», «Я и мой завод»… Вызывая тем самым новый прилив искателей счастья. Теперь даже Форду интереснее было проситься в компаньоны к Харьковскому автогиганту, чем клепать свои примитивные, не имеющие даже бензонасоса «Жестянки Лиззи»[49] в Детройте.
В Севастополе компания поселилась в той же гостинице «Морской», где жил Шульгин в октябре двадцать первого, где тогда разыгрались очередные драматические события.[50] Сейчас здесь было тихо и мирно. Только шум моря за окнами и картины повседневной жизни флота оставались прежними.
– Вы чем заниматься собираетесь, Владимир? – участливо спросила старлейта Алла. Возможна, вообразила, что без ее присмотра и общества молодому человеку будет скучно? – А то можно программу придумать…
Ростокин незаметно дернул ее за рукав. В том смысле, что не приставай к человеку. В кои веки вырвался на свободу, а тут ты навязываешься…
– Спасибо, Алла Леонидовна, у меня тут знакомых много, надо бы навестить. Увидимся попозже. Главное не забудьте – мы должны выйти в море не позднее двадцати ноль-ноль пятницы. Иначе к точке рандеву не успеем…
– Получила? – со странным удовлетворением спросил Игорь у подруги, когда Белли откланялся. – Чего ты не в свои дела лезешь? Это ведь совсем другие люди, полтораста лет разницы. До сих пор не привыкла?
– Ну и что? Мало мы Владимира знаем?
– Ах-ах! Почти целый год. И в довольно специфических условиях… А сейчас он домой вернулся, это совсем другое дело… Попробуй мысленно поменяться с ним местами…
– Действительно. – Алле на мгновение взгрустнулось при воспоминании о своей прошлой жизни. Москва две тысячи пятьдесят шестого! Но тут же вспомнились и другие моменты. Дома ее при неизменных исходных условиях ждала смерть или тюрьма.[51] Уж лучше здесь.
– Знаешь, Игорь, я ведь что имела в виду – пора бы Владимиру жену найти. Что это он все так? У меня в Севастополе одна очень приличная знакомая, дама-адмиральша есть. У нее – дочка-красавица на выданье. Вот бы их свести…
– Сам разберется, – ответил Ростокин, утомленный энтузиазмом Аллы. – Двое суток у нас. Что за это время сладишь? Кроме того, лейтенант из тех флотских, кому корабль дороже любой семьи. Знал я таких закоренелых… Что по книгам Станюковича, что по личному опыту. Не забивай голову чужими заботами. Сообрази лучше: как мы станем с цивилизацией прощаться?
– Не знаю. Ну, пойдем на набережную, кофе закажем, там и подумаем…
Придумать ничего не удалось. Любой вариант – театр, ресторан, казино, Никитский ботанический сад – ничего в них не было такого, чтобы впечатляюще обозначить предстоящую смену жизненной парадигмы. Пожалуй, Белли действительно придумал лучше – прощальный вечер с друзьями. Это, что ни говори, способно создать эмоциональное напряжение. Все остальное – просто не имеющие временнуй привязки забавы.
Вернувшись в гостиницу слегка после полуночи, Игорь с Аллой улеглись в постель. Вот это совсем другое дело – широченная, а главное – неподвижная кровать. Не сравнить с узкими койками болтающегося по всем трем осям крейсера. К этим забавам Алла относилась с не меньшим азартом, чем, допустим, Лариса, только остепенилась раньше. После случая на Балатоне решила ограничиться только Ростокиным. Раз и навсегда.
– Знаешь, Игорь, – сказала Алла, отодвигаясь от него и подтягивая к горлу одеяло, ветерок из открытого окна под утро стал холодным, – мне страшно. Мы все проваливаемся, проваливаемся… Завтра – XIX век, потом вдруг – семнадцатый. Глядишь – до Ивана Грозного и опричников соскользнем…
Ростокин промолчал. Сам он в XIII успел побывать, и ничего.
Потянулся к тумбочке, закурил.
– Спи, давай, лучше. С утра правда можно в Ботанический сад съездить. На кабриолете. На обратном пути подвалы князя Голицина проинспектируем… Живи, пока живется. Таких путешествий ни одна твоя подружка не совершала. А хочешь – можем остаться. Все в наших руках. Севастополь, Харьков, Одесса – как скажешь. Вот только без нашей компании и шансов вернуться домой нет. Кроме Новикова, нам никто не поможет…
– Домой? Спасибо, не надо. Что там делать? Как все, так и мы. На миру и смерть красна…
Ростокин не был уверен, что данная поговорка подходит к случаю. Ему ближе казалась другая: «За компанию и еврей повесился», но вслух произносить он ее не стал.
Как и намечалось, через трое суток все волонтеры были на борту «Изумруда». Крейсер так же незаметно ушел в море, как и пришел.
В той же точке Черного моря, где они вошли в двадцать пятый год, из него и вышли в девяносто девятый.
Для сокращения маршрута Белли с Басмановым решили идти Суэцким каналом, через Красное море, вокруг Африканского рога, а уже оттуда снова полным ходом вниз до Мозамбика.
На «Изумруде» после реконструкции было достаточно свободных помещений, чтобы шестьдесят офицеров разместились без особой тесноты. Не «Валгалла», естественно, о которой старослужащие вспоминали с легкой грустью, но жить можно. Отдельных кают не было почти ни у кого, кроме корабельного комсостава, прочие разместились в кубриках на десять-двенадцать человек, зато кают-компания в двести квадратных метров могла вместить всех свободных от вахт и нарядов. Другое дело, что судовые офицеры были этим не очень довольны.
Сплоченная корабельная семья, полтора десятка мичманов и столько же старших гардемаринов, наподобие солдат николаевского (Николая Первого) времени, пятый год носящих на плечах белые погоны с якорьками. На Черноморском флоте их давно произвели бы в офицеры, но этим ребятам больше нравилось в таком качестве оставаться на «Изумруде», чем с двумя звездочками ходить на шестых ролях в экипажах линкоров.
Служба нетрудная, а видеть столько, сколько им довелось, – другой и за сотню лет не увидит. Впрочем, Воронцов обещал гардемаринам, что в нужное время выслуга, включая льготы военного времени, будет зачтена, погоны минимум старших лейтенантов получат все.
Теперь в их уютную компанию, где можно было между вахтами читать книги, музицировать, вести неторопливые беседы, в любое время вваливались пехотные офицеры, заслуженные, конечно, в высоких званиях, но вели себя они абсолютно бестактно, громко разговаривали, еще громче смеялись, занимали диваны и кресла, выпивали тоже по-пехотному. На понятные любому флотскому взгляды и жесты не реагировали. Похоже, им нравилось демонстрировать свою «простоту». Даже старший офицер перед ними моментами терялся. И ведь правда, трудно лейтенанту, проведшему всю войну в стенах Корпуса и во Владивостоке, что-либо возразить капитану, отвоевавшему с четырнадцатого до двадцать первого года в окопах!
Басманову, собственным чутьем быстро уловившему возникающее напряжение, да еще и после крайне деликатного разговора с командиром крейсера, пришлось принять решительные меры. Прежде всего, он запретил носить на корабле российскую военную форму, у кого она была.
– Спрячьте в чемоданы, и чтоб до возвращения я ее не видел. Соображайте, куда едете!
Отряд был переодет в нормальные, советского образца синие тренировочные костюмы и кроссовки, произведенные в городе Кимры. Теперь для офицеров крейсера все они были гражданскими лицами, что значительно разрядило обстановку. Для высадки в Мозамбике выдавалось специальное обмундирование. Соответствующее времени и предстоящему ТВД.
Старые камуфляжи, береты и оружие здесь не годилось.
– Мы едем в добрую, старую, патриархальную страну, где буры ходят на фронт в сюртуках и шляпах, а англичане – кто в хаки, кто в красных мундирах, – проводил очередную лекцию Сугорин. – Для себя выбираем среднее – одежду путешественников по отдаленным странам, одновременно подходящую для военных действий, никаким образом не выдающую нашу национальную принадлежность. Каждый из вас получит костюм серо-оливкового цвета, из хорошей, прочной ткани, высокие шнурованные ботинки, не прокусываемые крокодилами, а также фетровые шляпы, защищающие равно от солнца и от холода. Так вы будете выглядеть европейскими джентльменами, к которым местные испытывают инстинктивное уважение, и не соотноситься с комбатантами воюющих армий.
– Как же со знаками различия, господин полковник, – прозвучал голос из глубины строя. – Нельзя без них!
– Что-нибудь придумаем, если нельзя. Небольшие нарукавные нашивки, для внутреннего пользования, если вы иначе не можете.
– Как у большевиков, что ли? – возмутился тот же офицер.
– Зачем как у большевиков? Сделаем уголками на левом, допустим, плече. Узкие для младших офицеров, пошире – для старших. И хватит… Друг друга не перепутаете, остальным без разницы…
Вопрос вооружения обсуждали все вместе. Согласились, что если бурская армия вооружена немецкими «маузерами», то пусть так и будет. Винтовка хорошая, вопросов со снабжением патронами не возникнет. То же касалось и маузеровских пистолетов. Судя по литературе, их буры закупили не меньше двадцати тысяч стволов. Значит, кроме винтовки, каждый боец получит такой пистолет. Остальное – на усмотрение. Хоть шпилечный[52] «Лефоше» приобретай, исходя из личных вкусов.
Дискуссия возникла по поводу пулеметов. Одни считали, что под маузеровский патрон следует выбрать одну из моделей «МГ», «тридцать четвертую» или «сорок вторую», другие же доказывали, что патроны – не проблема, а вот «ПКМ» настолько превосходит «немцев», что всеми остальными соображениями можно пренебречь. Вторые победили. Пулемет весом семь с половиной килограммов против двенадцати, состоящий из впятеро меньшего числа гораздо более надежных деталей, – именно то, что нужно в полевой войне.
– А патроны и на себе потаскаем, – пробасил капитан Ненадо, – не впервой!
– Кафров наймем, – засмеялся кто-то. – Они, говорят, на голове три пуда легко таскают.
– Так то бабы ихние…
– Еще лучше. Шесть коробок по двести патронов на голове, а на привале на чего другое сгодится…
– Картошку варить и окопы копать. Ха-ха-ха…
– Тебе другого и не надо. – Снова общий смех.
А чем еще развлекаться здоровым мужикам-фронтовикам? В ход пошли шуточки, воспоминания и анекдоты еще четырнадцатого, шестнадцатого и следующих годов. Тех бойцов, кто в подпоручичьих чинах начинали мировую, в живых оставалось человек шесть, но они умели брать в руки остальную компанию. Так ведь что такое, по большому счету, – десять лет? Если в мирное время – плюнуть, растереть и забыть. Велика ли разница между пятьдесят седьмым и шестьдесят седьмым годами? Не считая полета Гагарина – практически никакой. Войны и революции, конечно, идут по другому счету, а жизнь человеческая хоть там, хоть там – летит, летит, летит…
Чтобы привести своих орлов в чувство и заодно подготовить их к грядущим испытаниям, Басманов вместе с Белли разработал систему физической подготовки. На крейсере имелось достаточно работ, требующих физической силы: выбирание снастей, чистка и окраска якорных цепей (никому не пожелаю), переноска двухсотлитровых бочек из одного места в другое (ну, не там сгрузили, бывает). Драйка палуб – это само собой.
Но тяжелых работ все равно на всех не хватало, уж слишком был ухожен и автоматизирован «Изумруд». Тут Белли предложил еще одну забаву: упражнения на станке заряжания. Двухпудовый унитарный снаряд к стотридцатимиллиметровой пушке нужно было выдергивать из подающей беседки, на руках подносить к лотку и загонять в казенник. Потом он выбрасывался обратно – и давай снова! Пара часов такой работы – впечатляет.
При этом не отменялись двухкилометровые пробежки по палубе, подъем на руках по вантам, тренировочные стрельбы из винтовки и пистолета по сброшенным за борт буйкам.
– Господин капитан, – спросил у Мальцева один из «молодых», тоже фронтовой офицер, когда они большой компанией после отбоя сидели в корабельной бане. Там было очень жарко – в машинах хватало перегретого пара, чтобы устроить классную сауну. – Неужели все это можно выдержать? А главное – зачем?
– Ты о чем?
– О том, как нас здесь муштруют. Я им кто?
– Пока выдерживаешь?
– С трудом. Думаю списаться в ближайшем порту.
– Ну и дурак. Знал бы ты, как нам хреново было на острове в двадцатом. Однако выдержали. А тебя что, в кадетском корпусе меньше гоняли?
– Я в корпусе не учился. Добровольцем на фронт в семнадцатом, а там сразу в подпоручики…
– Твоя беда. Пошли…
Мальцев, поручик и еще двое, тоже «нового состава», которым надоело греться, но интересно было послушать ветерана, вышли в прохладный, обложенный голубым кафелем предбанник.
Мальцев, зная порядки, «высвистал» робота, который принес холодного пива всем.
Выпили, утираясь полотенцами.
– Прежде всего, списаться негде. Мы идем в конкретное место, где наверняка будем воевать. С кем – не знаю, да мне это и неинтересно. А теперь смотри…
Мальцев был мужчина жилистый, но не очень мощный на вид. Зато его оппонент – парень крупный, пока еще – мясистый, как говорится.
Капитан указал глазами на стол. Руками, мол, померяемся.
Здесь победа его была настолько чистой, что и противник возразить ничего не мог, даже для самоутверждения.
– Давай еще. – Мальцев взял товарища за кисть и начал сжимать пальцы. С минуту тот сопротивлялся, потом закричал:
– Хватит, хватит.
Почувствовал, что противник легко может сломать ему кости, не меняясь в лице.
– Тогда давай по пиву. И запомни, парень, огромное количество людей платит жуткие деньги, чтобы их особо обученные тренеры научили ходить, не цепляясь ногами за пороги, и не падать со стоящей лошади. Тебя – учат более полезным вещам, при этом платят тебе! Уловил разницу?
– Так точно, господин капитан.
– Значит, допивай пиво и вали спать. Завтра я попрошу твоего взводного, чтобы он тебе добавил нагрузки. Для лишних мыслей место в голове остается…
Дама была на корабле только одна, и ее это непривычно радовало. Столько восторженных взглядов, невзначай произносимых комплиментов, ненавязчивых попыток чем-то помочь и услужить Алла не встречала во всей предыдущей жизни. В Братстве, где мужчины были вежливы, но чересчур заняты собственными проблемами, а женщины относились к ней отнюдь не на равных, ей нравилось гораздо меньше.
Ростокину чрезвычайно пришелся по душе полковник Сугорин. Сто сорок лет разницы, а как они сошлись! Душевно. Нашли себе уютное место в кормовой штурманской рубке, где никто не мог помешать, и проводили там часы в разговорах. Об истории реальной, каковой Игорь, естественно, считал только свою, а все остальные варианты – отклонениями. Об истории «Главной» и участии Игоря в событиях московского мятежа «коммунистов-ортодоксов» – тут полковник придерживался точки зрения Новикова сотоварищи и Антона, поскольку мгновенно нашел в построениях Ростокина массу пробоев.
– Вы, Игорь, безусловно, эрудированный человек, но мир, в котором вы родились и выросли, существовать не может…
– Так и Новиков говорил, химера, мол. Но я там родился и вырос, и все там по настоящему, мне скорее ваш кажется странным и бессмысленным…
– Вы Древний Китай не изучали? – участливо спросил Сугорин.
– Древний – это слишком обще… Из пяти тысяч лет что желаете выделить, для моего поучения?
– Ну, хоть о Китае мы расхождений не имеем. Таковое явление имело место, и мы с вами оба предполагаем, что на самом деле. Так принято. – Рассчитанная провокация полковника удалась. – Все пять тысяч лет брать не будем, тем более что я в это не верю. Вы мне про физику рассказывали, так это из физики. Система не может выдержать такой энтропии. Она сдохнет, научнее говоря – распадется. Византия едва прожила тысячу лет, а вы мне про Китай…
– Я ничего не говорил про Китай.
– И очень правильно. Никчемная тема. А что я хотел сказать… Ах, да, вот… Срединное государство считало наличие окружающих варваров хоть и допустимым, но ненужным. Они никак не влияли на исходную парадигму…
– Вы не усложняете?
– Наоборот, упрощаю. Ваш прекрасный мир, где вы прожили лучшую часть жизни, никогда не существовал. Не случайно же господа Новиков и Шульгин вытащили вас оттуда…
– Опять не улавливаю, – честно сказал Ростокин. – Мир безусловно существовал, я там родился, жил, получил образование, летал к звездам. Туда же пришли наши друзья, тоже жили там вполне нормально… Да вот и совсем недавно… С химерой я согласен. С некоторых возвышенных точек зрения любой мир – химера.
– Что ж не улавливать? – В голосе полковника прорезалось раздражение. – Мы сейчас где?
– Я думаю, скоро будем в Лоренцу-Маркиш, и год за бортом уже восемьсот девяносто девятый…
– А вино мы пьем пока еще девятьсот двадцать пятого. Так чего же вы хотите? Химеры витают везде. Ева отказалась попробовать яблоко – мы продолжаем жить в раю, и совсем непонятно, для чего тогда Бог? Иуда как личность отказался предать Христа, что ничего бы не изменило – Иисуса в лицо знали десятки тысяч человек, но мы с вами жили бы в мире, лишенном идеи возвышенного предательства и термина «тридцать сребреников». Кстати, на наши деньги это гораздо меньше, чем тридцать червонцев золотом. Так что дело не в сумме, а в замысле. И так далее…
Росткин не хотел уже ничего. Он не слышал нового от этого царского полковника, объясняющего ему то, что он собирался объяснить сам. Более того, Сугорина как бы и не существовало. За отсутствием необходимости в подобном персонаже. Но он был, раздражающе усмехался, продолжал задавать вопросы и отвечал на них.
– Не дано нам терцио,[53] не дано. Я возжелал спрятаться от мира, не как монах, а как частное лицо. Думать, писать, жить. Оказалось, не моя это роль. Мне по-прежнему предлагают творить историю, а не осмысливать ее. И не так важна разница – какую. Полковник Генштаба востребован более, чем тихий мыслитель. Из чего следует с непреложностью…
…С непреложностью следовало одно. Даже возможности Сильвий, одной и другой, были не беспредельны. «Паровой каток» британского империализма продолжал катиться в заранее определенном направлении. Его удавалось только притормаживать, выигрывая время и мобилизуя дружественные силы. Само время так было ориентировано, что конец девятнадцатого века совпал с пиком последних, можно сказать – судорожных колониальных захватов. Великими державами на Земле подбиралось все, что оставалось, даже, по экономической и политической логике, – ненужное. Инерция мышления – все, что есть, должно быть как-то поделено. В чью пользу? Англия считала, что в ее. О цене речь не вставала. Цель оправдывает средства.
Еще в начале девяностых с подачи Сесила Родса, основателя и главы крупнейших алмазо– и золотодобывающий компаний «Де Бирс» и «Голдс Филдс оф Саут Африка», премьер-министра Капской колонии, возникла идея строительства железной дороги Каир – Кейптаун. Независимо от того, что требовалось устранить с предполагаемой трассы немецкое, французское и португальское колониальные владения. Технически это считалось осуществимым. Где деньгами, где дипломатией, где и войной.
Но прежде всего следовало ликвидировать «бурскую пробку», расположенную между германскими и португальскими владениями. Проблема заключалась в том, что Оранжевая и Трансвааль были государствами с европейским населением, с парламентами, довольно долгой независимой историей, и поступать с ними, как с территорией африканских царьков, выглядело не совсем прилично. Требовались сложные дипломатические ухищрения, поиски причин и поводов к аннексии. Но всю предысторию, ход и реальный исход англо-бурского противостояния можно прочитать в научных трудах.
Текущая обстановка, в глазах тех, кто ею решил заняться, выглядела совершенно иначе.
Основатели Андреевского Братства, они же – за исключением Сильвии и Берестина – члены «Комитета по защите реальности», который пора было переименовать в «Комитет общественного спасения», хотели только одного: покоя и невмешательства. Своих дел в чужие, и наоборот. И опять так не получалось.
Всем, кроме Новикова, Шульгина и Левашова, хотелось ощущать себя значительными фигурами мировой истории. На том или ином уровне. И их желания так или иначе вплетались в гигантский силовой кокон воль и намерений, охвативший этот регион своим воздействием, неумолимо создававший очередное поле напряжения, противостоять которому ткань реальности не могла.
Глава восьмая
Сентября, последнего месяца перед началом войны (которая могла еще и не начаться), хватило отряду «кладоискателей», чтобы покинуть Лоренцу-Маркиш, не привлекая особого внимания. Их было шестеро: Новиков, Шульгин, Левашов с подругами. И шестеро роботов, в данном случае изображающих буров – погонщиков фургонов. Без фургонов тогда никто не путешествовал за пределами двух ниток железных дорог, пересекавших юг Африки.
Доехали до конечной станции, представлявшей собой отчетливое подобие советского полустанка в какой-нибудь Кулундинской степи. Бурьян с колючкой до горизонта, жаркая пыль в лицо, двадцать метров перрона, грузового и пассажирского одновременно, три мазанки. Пусть служащие одеты чуть иначе и вокруг станции бессмысленно бродят не казахи, а кафры – в остальном без разницы. Паровоз свистнул, утянул на юг четыре вагона и шесть платформ – и снова первозданная пустота и ощущение основательной никчемности жизни. Как у Чехова.
А люди, приехавшие сюда зачем-то, – остались. Сводили лошадей с дебаркадера, скатывали следом фургоны, начинали запрягать. Пожилой бур – начальник станции, не по погоде одетый в длинный суконный сюртук, такие же, крайне плохо сшитые штаны, широкополую фетровую шляпу и отвратительного вида корявые ботинки (у нас в тюрьмах зэкам лучше выдают), спросил на старо-голландском, что им здесь надо.
«Удивить – победить», – любил говаривать Суворов.
Шульгин ответил ему на том же языке, даже более архаичном. Чтоб интереснее было.
Его молодое веселое лицо, подтянутая фигура, отлично сшитая одежда и револьвер в открытой кобуре над правым коленом никак не соответствовали тяжелому медленному языку, которым хорошо разговаривать на пашне или в деревенской пивной.
– Нам, папаша, нужно поехать, куда мы хотим, и сделать то, что хотим. Старые обычаи это запрещают? Мы очень придерживаемся старых обычаев. Мой прадед поставил первую ферму прямо возле того города, что англичане называют Кейптауном. Напротив Столовой горы…
– Скажи свое имя, парень. Говоришь ты хорошо, но рожа у тебя бритая… Без бороды ты не бур, как бы себя ни назвал.
– Я не бур. Не набиваюсь. Я Ваан ван Дрейд из Голландии, тебе это имя что-нибудь говорит?
– Если ты из тех ван Дрейдов, парень, чувствуй себя как дома. Любой бур тебя примет как друга и родственника. Господи Боже, правнук старины ван Дрейда вернулся!
Значит, и эта легенда была проработана правильно.
– А кто с тобой? – возвращаясь к врожденной подозрительности, спросил бур. – Не англичане?
– Упаси бог. Этот – тоже голландец, амстердамский, – указал Шульгин на Новикова, – а остальные – русские.
– Русские – помню. У них был царь Петр, саардамский плотник. Ничего не имею против русских. А что им тут надо?
Подозрительность буров неистребима.
– Прогуляться хотят, золота поискать. Не здесь, там, далеко, в Калахари.
– В Калахари нет золота, – резко сказал бур.
– Одни говорят – нет, другие – есть. Мы поищем.
– В Калахари нужно ехать на быках. Лошади не выживут, – сообщил начальник станции.
К этому времени они уже сидели в тени трех жидких акаций и приложились по первой. То, что было во фляжке у Шульгина, буру, так и не назвавшему своего имени, понравилось.
На трех девушек в длинных дорожных платьях он вообще не обращал внимания, как тут их и не было. Такой характер.
– Знаешь, парень, – сказал начальник станции, когда роботы уже запрягли по четверке лошадей в каждый фургон и, будто бы торопя хозяев, пощелкивали бичами, – в Калахари ты езжай, только воды запаси побольше. А южнее – не советую. Последний поселок, где есть еще наши, – Мороквейн. Ниже уже англичане. С ними встречаться не стоит. Конная полиция это будет или ойтландеры[54] – не важно. Они вас ограбят, а скорее – убьют.
– Так уж? – с сомнением спросил Новиков на современном голландском.
– На эти штуки, парни, не рассчитывайте, – сказал бур, указывая на револьверы у них на бедрах. – Вас, если захотят, перестреляют издалека, а потом займутся вашими медхен.[55] И ружья вряд ли помогут. Я вам напишу записочку, каждый бур севернее Оранжевой реки будет рад помочь правнуку ван Дрейда. В остальном – сами смотрите…
О настоящих бурских фургонах можно прочитать у Майн Рида, там описаны все детали их устройства. Фургоны наших героев внешне от старинных не отличались, исключая кое-какие технические новинки. Но без тщательного техосмотра разницы не заметишь. Колесные диски не дубовые, а алюминиевые со спицами, с накладками из пластика, покрытого древесным шпоном, чтобы выглядели, как надо. Бесшумные подшипники, резиновые шины, замаскированные грубыми железными ободами. Кузова из 10-мм титана, обшитого дюймовыми досками горного каштана снаружи и мягким стеганым кевларом внутри, тент вроде парусиновый, но тоже из кевлара, от которого пули рикошетят.
И лошадям их тянуть было легко: сами катятся, когда солидола во втулках достаточно.
А насчет неспособности оборониться – тут пожилой бур определенно заблуждался. На облучке каждого фургона – биоробот в широкополой шляпе, в сюртуке и с бородой до середины груди. Если принято здесь – так и будет. Справа от ноги в специальном зажиме торчит тяжелое капсюльное ружье. Однозарядное. Калибром 15 мм. Издалека его видно. Не внушает опасений для внешнего наблюдателя: пока достанет, пока прицелится… Автоматическая винтовка не видна, уложена вдоль борта. Вскинуть ее и начать стрелять с руки – секундное дело.
Второй, прикрывающий фланги и заднюю полусферу, готовый к появлению пресловутых ойтландеров, сидит на откидной скамеечке, одетый для маневренного боя в саванне. Джинсы и рубашка сероватые, в обтяг по фигуре, прочные и легкие ботинки для долгого бега. Вместо раритетных «кольтов» – по два «маузера-96» на поясных ремнях. Винтовки «СВД» под рукой. Над верхним свесом тента прилажен готовый к работе пулемет «ПКМ».
По идее шесть роботов способны дать отпор любому количеству нападающих. Эскадрон кавалерии их будет или пехотная бригада. Первая сотня будет уничтожена беглым и смертельно точным огнем на дальних подступах, ровно за то время, которое потребуется на соответствующее число выстрелов. С остальными, если не разбегутся, придется повозиться несколько дольше, но с тем же результатом. Потребуется – в течение ближайшей ночи руками передушат. Отчего и говорил Антон в свое время: «Слишком опасное оружие».
Фактически роботов можно переиграть только одним способом – накрыть караван массированным артиллерийским огнем из засады. Лучше всего – с закрытых позиций, сосредоточив по цели огонь сразу нескольких гаубичных батарей. Но, во-первых, тогда еще не существовало легких и маневренных скорострельных пушек, за исключением французской 75-мм образца 1897 года, да и та стреляла только шрапнелью, во-вторых – отсутствовали приборы и методики, позволявшие вести хотя бы побатарейный огонь по подвижной цели без предварительной пристрелки.
…Мужчины и девушки едут верхами, опередив колонну фургонов на сотню метров. Теперь они снова под собственными юношескими псевдонимами. Билл Дайм – Новиков, Дик Мэллони – Шульгин, Майкл Фолли – Левашов. Голландские, паспортные американские и прочие имена временно забыты. Девушкам псевдонимы не нужны, и так стильно выходит: Ирэн, Лэрис и Энн.
Кони под каждым были высшего разбора, шестивершковые,[56] мастями от чисто вороной через караковую и гнедую до игреневой,[57] у всех разные, но одинаково тренированные на гладкую скачку и стипль-чез. Вместо обычных подков – пластиковые чехлы на копыта с победитовой окантовкой.
Со стороны кавалькада смотрелась красиво. Девушки умели держаться в глубоких кавалерийских седлах. Дамские – это совсем не то. Одеты они были в высокие сапоги лучших российских мастеров с серебряными шпорами, зеленоватые бриджи, льняные рубашки, поверх – легкие кожаные куртки. От южного солнца головы защищали светлые стетсоновские шляпы. Да еще каждая была в больших зеркальных солнце– и пылезащитных очках. Практично, пока никто из местных не видит. Появятся – можно и снять.
Вооружены барышни совсем неплохо. Зря старый бур намекал на беззащитность этих красавиц, которыми смогут воспользоваться посторонние. Не считая девяностовторых «беретт» в кобурах на бедрах, каждая имела пристегнутые к седельным крыльям по два «маузера» с колодками-прикладами и карабин «СКС» поперек задней луки. Там же – подсумки с достаточным боеприпасом. И стреляла каждая, даже Анна, потренировавшись, – на уровне известного «Соколиного глаза», только дальше. На сто метров – в консервную банку, на пятьсот – в ростовую мишень. До забивания гвоздей в стену пулями не доходило, но Ирина, сосредоточившись, скорее всего смогла бы.
«Кладоискатели», вспомнив старую литературу, выбрали себе другие стволы. Дайм держал поперек передней луки штучную вертикальную двустволку «Снайдер»: верхний ствол гладкий, 12-го калибра, заряженный крупной картечью, нижний – нарезной 10-мм. Если вдруг выпрыгнет из зарослей быстрый и крупный зверь вроде льва.
У Дика, для огневого прикрытия группы – десятизарядный «винчестер 45 АПК», у Майкла – помповый «браунинг» 10-го калибра с дробью 4/0.
Все это, само собой, не считая автоматических, «по вкусу», личных пистолетов.
Ехали правым берегом Вааля, рассчитывая скоро свернуть на северо-запад, в сторону Земли Бечуанов.
Погода была во всех смыслах чудесная. Как в южнорусской степи в последних числах апреля. Солнце, пока не палящее, цветущие до самого горизонта цветы-эфемеры; не прячущиеся, словно в кинохрониках из национальных парков, стада антилоп и иных обитателей этих широт. Иногда, поблизости от ручьев и заросших по берегам подобием камыша маленьких озер, появлялись слоны.
– Жаль, что нам сейчас ни к чему слоновая кость, – с легкой печалью в голосе говорил Шульгин – Дик. Хотелось ему испытать свои силы в стрельбе с коня по этим тяжелым, но особенным образом грациозным животным.
А вот носороги и жирафы не встретились до сих пор ни разу.
Ехали, отпустив поводья, разговаривали о том, что исполнилась наконец детская мечта… И никаких предыдущих тягот и потерь не жаль, если это – получилось!
– Да и какие наши годы, парни? – разглагольствовал Левашов, бросив стремена и покачивая ногами. – Сорока еще нет, а все уже случилось. Помнишь, Билл, я говорил, что после сорока жить вообще не стоит?
– Чего не помнить? И всерьез задумывался – не прав ли ты? – ответил Новиков.
У девушек такой общей мечты не было, слишком разные биографии и стиль мышления. Но плавно покачиваться в седлах, озирать окрестности с недоступной пешему человеку высоты, чувствовать себя покорительницами пространств, ощущать бедрами и шенкелями сильных и послушных лошадей, которые, только тронь шпорами или «отдай повод», тут же кинутся вскачь, им нравилось тоже.
Сколько же лет было напрасно потрачено в городах, в изначальной или за ней последовавшей жизни! Ездили в автомобилях, учиняли войны и революции, вечер в хорошем ресторане считали за прекрасное времяпрепровождение. А здесь – дыши, радуйся, почти ни о чем не думай. Рай!
– Я что хочу сказать, – догнала едущих впереди Дика и Билла Ирэн (эти имена произносились легко, потому что парни были совсем другие, по возрасту – почти те же, с кем она познакомилась в студенческие годы, по внешности – как сами напридумывали), – я сейчас в голове нашего Майн Рида прокручивала…
А она это могла, дословно воспроизводить хоть в памяти, хоть вслух любой читанный в жизни текст. Достаточно небольшого усилия.
– «Бура в Южной Африке»?
– Несколько другое. Он ведь и стихи иногда писал. Одно называлось – «Война». Нехорошо восхвалять войну, но есть у него такие строчки: «Пока на Земле, обезображивая ее красоту, останется хоть один неповерженный тиран, хоть один неопрокинутый престол, хоть одна не сброшенная с головы корона, приветствую тебя, Война».
– Эт-то, конечно, оч-чень бла-ародно, – цитируя «Трудно быть богом», протянул Дик. – А от марксизма-ленинизма сильно отличается?
– Ну, за полвека до реальности марксизма, наверное, отличалось…
– Мы, Ира, насчет тиранов с тобой полностью согласны, – кивнул им обоим Билл, – и с капитаном Майн Ридом тоже, одна беда, какую и дон Румата подметил: от тиранов избавиться невозможно. Сейчас тираном наши «друзья» буры считают британский империализм и лично королеву Викторию. Царь Николай в них же числится у русских и европейских либералов. А дальше что? Свергнут жестоких из сильных, на их место придут жестокие из слабых… В этой же самой Африке. Плох французский или португальский губернатор, его в процессе деколонизации уберут, заменят сначала на признанного мировым сообществом народного лидера типа Лумумбы, а потом – на людоеда Бокассу… Романтики всегда уступают сначала прагматикам, а потом и просто подонкам. Но я тебя понимаю, – успокоил он собравшуюся обидеться девушку. – Ты прониклась красотами окружающей природы, мирным, так сказать, пейзажем и попутно решила, что наконец-то мы занялись приличным и благородным делом. Майн Рид именно бурам весьма сочувствовал. Только совсем неизвестно, на чьей стороне он оказался бы, доживи до нынешнего времени. Конан-Дойль тоже мужик ничего, а в назревающем конфликте оказался ярым империалистом. Давай оставим эту тему. Тем более мы не собираемся больше воевать за глобальную свободу и справедливость? Будем лучше бороться только с теми, кто мешает жить лично нам…
– Что хорошо для «Дженерал моторос»… – насмешливым тоном собрался продолжить его мысль Дик, но не успел.
На выезде из густых зарослей кустарника, среди которых вилась накатанная тяжелыми деревянными колесами бурских фургонов дорога, послышались голоса, звон трензелей, конский топот.
– Сколько раз говорили дуракам – надо высылать вперед головную заставу, – обрывая себя на полуслове, сказал Сашка.
– А мы кто? – возразил Новиков, придерживая коня. – Ирина, назад, к фургонам!
Та не стала спорить, приученная в острых ситуациях выполнять команды беспрекословно. Вздернула коня на дыбы, заставив его одним махом развернуться на узкой тропе, и, дав шенкеля, послала в галоп, увлекая за собой Аню с Ларисой. Девушкам не во все мужские разборки ввязываться нужно.
Втроем Новиков, Шульгин и Левашов выехали на поляну спокойно, шагом. Развернувшись сдвоенной цепью, перекрывая им путь, стоял английский уланский эскадрон. Высокие фетровые шлемы, усы, длинные палаши вдоль левой ноги. Но винтовки заброшены за плечи. Очень хорошо.
Прав был старик бур, при эскадроне состояли три тех самых ойтландера, которые затеяли беспорядки в стране. Крепкие сорокалетние мужики, не то чтобы в рубища, в сильно потрепанные костюмы одетые, но с револьверами и ружьями. Всего лишь охотничьими.
– Лейтенант, это они! Они самые! Вы только посмотрите…
Никуда от назойливых соглядатаев не скрыться. Этих землепроходимцев достаточно бандитского вида Новиков с Шульгиным несколько раз замечали на улицах Претории. Они попадались на глаза чаще, чем любой из местных буров, и запомнить их не составляло труда. Крутились между несколькими тавернами в центре города и резиденцией президента Крюгера. С разных точек отслеживали и визиты друзей в государственные конторы, и погрузку на вокзале фургонов и лошадей.
Можно было их темным вечерком вывести из обращения, или, как любил выражаться Сашка, переходя в рабочий режим: «погасить облики». Но по некоторым причинам делать этого не стали. Не входило в задачу. Пусть хоть здесь процесс попробует развиваться естественным образом.
Вдобавок все слишком уж напоминало избитые литературные сюжеты. А откуда им взяться – не избитым? Екклезиаст, кем бы он ни был, подлинным сыном царя Давида или царским спичрайтером, тысячелетия назад сформулировал то, что впоследствии подтверждалось, с теми или иными вариациями. «Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят: „смотри, вот это новое“; но это было уже в веках, бывших прежде нас».
Бродяги или маскирующиеся под них разведчики британского Генштаба выследили и выяснили все, что их интересовало относительно таинственных иностранцев. Теперь навели на них армейское подразделение, потому что сами не имели нужных сил и возможностей. Даже исключив женщин, трое серьезных парней и шестеро не менее крепких слуг были им не по зубам.
А задержав их с помощью сорока вооруженных солдат, они смогут не спеша выяснить все, что их интересует. Возможность сопротивления мирных путешественников представителям власти даже не подразумевалась. Оружие здесь носили все, но и в самых буйных поселках, где в поисках наживы собиралось немыслимое отребье человечества, полицейский спокойно появлялся в одиночку, а револьвер если и носил, то только как символ власти. Со времен Робин Гуда английские короли научили подданных простой истине – от веревки не скроешься. Тут вам не Россия, остров, сбежать некуда… Отсюда и законопослушность.
К своему сожалению, ойтландеры или сыщики, а скорее всего – и то и другое, не имели нужной подготовки, чтобы правильно оценить вероятного противника.
И в качестве обеспечивающего неплохо задуманную акцию они обратились не к тому.
Лейтенанту было лет двадцать пять, наверняка из аристократов, никак он не подходил к предложенной ему роли. Симпатичный, рыжеватый, с веснушками. Явно отбывающий колониальную службу, чтобы вернуться в свои шотландские пустоши или йоркширские рощи с капитанскими погонами, медалькой, а то и орденом. И до глубокой старости развлекаться бриджем, гольфом и крикетом.
Престижем своего звания он тоже не был озабочен, поскольку стремя в стремя с ним стоял сержант лет сорока, очевидно грубый и агрессивный, пусть и не сказал еще ни единого слова. Так это сразу видно. Издалека. Кобура длинного «смитт-вессона» была у него расстегнута, и сабля подвытянута из ножен.
– О чем поговорить желаете, лейтенант? – широко улыбаясь, спросил Новиков, теперь уже с отчетливым сандхертским[58] акцентом, протягивая ему портсигар. – Мы тут так, прогуливаемся, жирафов ищем…
– Вы у нас учились? – расплылся в улыбке лейтенант, услышав знакомый выговор.
Сигару раскурил по всем правилам, Андрей тоже.
– На два года позже, – ответил Новиков, определяясь по внешнему виду «однокашника». Он мог бы ему назвать сейчас имена и фамилии преподавателей и однокурсников, информации хватало. Пожалуй, они разъехались бы спокойно, обменявшись визитными карточками, как светские люди, и уланы отправились бы искать другую цель.
Только от лейтенанта уже ничего не зависело. Он один этого не понимал.
Шульгин с Левашовым незаметно сдвинули коней, один вправо, другой влево, не касаясь ружей. Успеется.
– Не слушай его! – вдруг заорал сержант, уловив спинным мозгом, что сейчас будет, и левой рукой почти выхватив револьвер.
– А ваше дело – какое? – холодно спросил Новиков, но его тяжелый «Снайдер» уже было направлен как надо. Движение пальца – сержанта картечью снесет с коня, и лейтенанта тоже. Уж больно страшные жерла стволов смотрят им в лица. А если из них вырвется всплеск пламени и свинца, разговаривать будет не о чем. Точнее – не с кем. С другой стороны, естественно.
Шульгин и Левашов тоже держали свои винтовки изготовленными к мгновенной стрельбе. А уланы, без всякого интереса наблюдавшие с двух десятков ярдов за препирательствами начальства со случайными путниками, своих «Ли Энфильдов» даже из-за спины не снимали. Команды ведь не было.
Трое ойтландеров, увидев, что положение меняется не совсем в нужную сторону, начали медленно отодвигаться за линию кавалеристов. Кони задним ходом умеют двигаться не очень хорошо, но кое-как получается.
– Вы там – стоять! – крикнул Шульгин, не опуская «винчестера». Один из присланных Ириной роботов бесшумно обошел позицию улан с фланга и теперь, прячась за густым кустарником, невидимый, держал «ПК» на уровне бедра, чуть приподняв ствол. Выкосить ему весь взвод – только прикажите. С трех очередей – делать нечего. А можно и с одной, только длинной.
– Будем объясняться, лейтенант? – продолжал изображать прогуливающегося с компанией друзей джентльмена Новиков, не отводя ствола. – Здесь свободная территория. Что вам от нас нужно? Только начали по-хорошему разговаривать, и вдруг… Я бы на вашем месте сержанта наказал за вмешательство не в свои дела, а вон тех, – он указал рукой на бродяг, – вместе со мной допросил. Глядишь – нашли бы повод вздернуть. Вы попали не в cвою игру, дорогой… Давайте попробуем разойтись красиво?
На самом деле, предложение было благородное. Не Средневековье же. Встретились два вооруженных отряда на одной дороге, и повода нет ввязываться в драку. Если действительно нет…
Лейтенант был бы и рад, по всему видно, но командовал здесь не он. Сержанта три ружья в руках путешественников если и испугали, то не слишком. Уланы плотно перекрывали дорогу, и задняя шеренга уже защелкала затворами «Ли Энфильдов». Пулеметчика, взявшего их на прицел, они по-прежнему не видели.
– Сэр Патрик, что вы их слушаете? – почти взорвался сержант, видя, что его командир, который давно был у него под сапогом, вроде как задумался.
– Подождите, Каунт, надо же разобраться. Мне кажется, эти джентльмены…
– Какие, к черту, джентльмены! – Каунту надоели разговоры вокруг да около. – У нас есть задание – перехватить этот караван, тщательно обыскать и доставить задержанных, вы сами знаете куда. Вы командуете взводом, вот и командуйте, всем остальным занимаюсь я! И я это сделаю, черт возьми. Если вы, сэр, не готовы, то подождите в сторонке…
Сержант говорил с офицером так, будто тот был его садовником. Бывает, если молодой офицер не сумел сразу поставить себя как надо.
– Эй вы, бросайте оружие, иначе… – Сержант обернулся к уланам, готовясь отдать команду.
– Ты бы не хотел заткнуться? Последний раз предупреждаю. – Лицо Шульгина любому понимающему прямо-таки кричало, что шутки действительно кончились. – Еще слово или движение – подохнешь первым. Денежки и новые нашивки достанутся кому-то другому…
Каунт был плохим физиономистом, вдобавок служба в колониях воспитала в нем крайне завышенную самооценку, веру в то, что белый человек с оружием всегда прав и сильнее всех прочих.
Убедившись, что взвод к бою готов, сержант взмахнул револьвером.
– Вы, шваль! Ружья на землю. Считаю до трех. Потом посмотрим, что там у вас в фургонах. Сдается, что-то очень интересное…
Шульгин увидел – в глазах сержанта плещется безумие, и курок револьвера начинает подниматься. В какой момент сорвется – не угадаешь. Как врач, принявший решение на радикальную операцию, он выстрелил первым, чтобы не довести частную пока разборку до общего побоища.
Пуля «винчестера» вошла под верхнюю пуговицу кителя. Каунт дернулся и начал медленно заваливаться набок. Так и повис, сразу превратившись из сильного человека в тряпичное чучело. Стремена не дали телу упасть на дорогу. Конь всхрапнул, рванулся назад, врезался в первую шеренгу кавалеристов.
Новиков вскинул руку, по этой команде из кустов застучал пулемет. Очередь, направленная умелой рукой, свистнула над самыми головами улан, кое-кого даже задев по шлему.
Задуманное удалось в полной мере. С пулеметами англичане были знакомы, а соображать, откуда он взялся у странных путников, времени не было. Ответных выстрелов не последовало. Кавалеристы предпочли не вскидывать свои винтовки. Лейтенант поспешно убрал руку с рукоятки револьвера. Страшно, когда только что негромкий выстрел пресек человеческую жизнь. Хорошо – не твою. А все равно страшно.
– Всем – винтовки на ремень! – скомандовал Новиков голосом тертого и битого жизнью колониального майора, подкрепляя слова скользящими по лицам близких улан стволами. – Следующая очередь – на поражение. Лейтенант, прикажите своим людям отъехать на полсотни ярдов, спешиться, курить. А с вами поговорим…
Шульгин заставил своего коня потеснить потрясенного офицера к обочине. Не опуская ствола, из которого еще тянуло острым пороховым запахом, спросил:
– Вам не кажется, что вы сейчас нарушаете все законы, которыми белые люди руководствуются в Африке, а также в Азии и Южной Америке? Разве может англичанин «из общества» попытаться ограбить соотечественника на лесной дороге? Главное – зачем?
– Я – не знаю. Я – не хотел… Вы же видели, я говорил с вами как подобает. Приказ, разумеется, есть приказ, но одно дело – выяснить у людей, которых кто-то считает подозрительными, кем они являются, куда едут и что с собой везут, и совсем другое… Но, должен заметить, вы ведь тоже только что убили британского военнослужащего. Военно-полевой суд в таких случаях беспощаден. Вряд ли будут приняты во внимание ваши слова о самообороне…
– Прежде всего, так оно и есть. Чистая самооборона. Мы не на театре военных действий, и сержант не имел права угрожать нам оружием. Кто он и кто мы? Да в Лондоне я и вас бы разжаловал в рядовые только за то, что вы не сумели держаться, как подобает офицеру…
«Это хорошо сказано, – подумал Новиков, – пусть задумается, вдруг мы наследственные члены палаты лордов, если не выше».
– Вы также видели, что он собирался выстрелить. Когда револьвер взводят, из него обычно стреляют… Особенно такие крейзи, как ваш сержант. Думаю, вы нам должны быть благодарны за избавление от подобного мерзавца. Мы, в свою очередь, только что имели полную возможность перебить здесь весь ваш взвод. Пулеметный огонь в упор – страшная вещь. А теперь быстренько объясните нам: кто именно велел нас задержать и по какой причине?
Лейтенант знал не слишком много. Его сержант на самом деле был в гораздо более тесных отношениях с командованием полка, если дело касалось щекотливых вопросов. И юный Патрик исполнял чисто формальную роль. Он не знал даже, кто такие эти ойтландеры, проводники или наводчики уголовного плана. Да и не хотел знать, не господское это дело. Если бы сержант счел, что путешественники того заслуживают, они были бы арестованы и доставлены в Кимберли под конвоем взвода. Ничего больше от лейтенанта не требовалось.
– Есть тут какая-то странность, – как бы предлагая порассуждать вместе, сказал Новиков. – У сержанта, увы, не спросишь. Так выдайте нам тех, сразу все узнаем. Может, и вам интересно будет…
Увы, предложение запоздало. Сообразив, куда клонится дело, сразу после выстрела Шульгина ойтландеры развернулись за спинами улан и бешеным галопом унеслись в недалекие, непроходимые для любого, кто не знает тайных тропок, заросли. Робот же, не имея должной команды, стрелять им вслед не стал. Напрасно, пожалуй.
Если немедленно послать его вслед беглецам, он их рано или поздно возьмет, поскольку преследовать станет круглые сутки, наподобие инопланетного коллекционера земной фауны из старого фантастического рассказа, который неделю гонялся за главным героем. Как же он назывался, блин? В «Знание – сила» был напечатан, году в шестьдесят втором. Но сегодня сюжет повторять незачем. В текущем повороте сюжета по-своему даже интереснее.
Мы что Сильвии говорили – воевать не собираемся ни с кем. Слова своего не нарушим. Пусть другие нарушают. Как оно в довоенной еще песне пелось? «Нас не тронешь, мы не тронем. А затронешь – спуску не дадим!»
– Поскольку с военным судом мы в ближайшее время встречаться не расположены, – сказал Новиков лейтенанту, – придется нам тут и проститься. Вы едете назад, строго по своим следам. Прямо-прямо, до горизонта и дальше. В расположение части, короче. Мы установим на этом вот холмике пулемет, посидим, пока не убедимся, что вернуться и взять реванш вы не собираетесь. И переправимся через Вааль на ту сторону. В Капской колонии у нас спокойной жизни теперь, похоже, не будет, а у буров к нам претензий нет. Договорились?
– Как будто у меня есть выбор, – мрачно ответил лейтенант, заранее представляя грядущие неприятности. – Но у вас его тоже нет. Королевское правительство добьется вашей выдачи…
– Это даже не смешно, – ответил до сих пор не принимавший участия в разговоре Левашов. – Чьей выдачи? Вы и имен наших не знаете. Буры тоже. «Просим арестовать шесть каких-то иностранцев, странствовавших между Ваалем и Оранжевой на прошлой неделе. Три мужчины и три женщины. Иных примет не имеем»? Так будет звучать запрос? Вам ответят на гербовой бумаге с печатью: «Знать не знаем и слышать не слышали. Ваша территория – вы и ловите. Мы, кстати, давно утверждали, что половина приграничных бродяг – преступники. Почему и не соглашались с вашими требованиями предоставить им бурское гражданство и четверть мест в парламенте».
– А когда вас выгонят в отставку, – мстительно добавил Новиков, – и мы с вами вдруг встретимся на Оксфорд-стрит, я еще подумаю, стоит ли подавать вам руку…
На том и расстались.
За остаток дня, подгоняя лошадей, небольшой караван далеко продвинулся на северо-восток. Само собой, обратно через Вааль они переправляться не стали, делать там было совершенно нечего. Путешественников влекли другие места.
С последними лучами закатного солнца караван, двигавшийся целинной степью (она же – вельд по-местному), лишь кое-где оживлявшейся зонтичными акациями и подобиями агав, вышел к обширной долине, которая и была сегодняшней целью.
Здесь текло несколько прозрачных ручьев, высились пресловутые баобабы и другие деревья, названий которых наши герои не знали, за отсутствием ботанического образования. Но они делали местность приятной для глаз и удобной для привала. Большего и не требовалось.
Как и рисовалось в мечтах, стоянку устроили под пятидесятиметровой кроной гигантского дерева. В нишах, образованных выступами корней, развернули спальные мешки, костер распалили такой, что отпугнет любого зверя. Но это так, для романтики. Шестеро роботов, занявших предписанные позиции, своим универсальным зрением и иными органами чувств не только обнаружат любой движущийся объект на километровом расстоянии, но и отпугнут его, не прибегая к архаическим приемам. Пусть бы и легендарный гишу[59] вдруг появился, убоится инфра– или ультразвука, смотря по природной восприимчивости.
Кстати, волю к сопротивлению и агрессивность английских улан тоже пригасила небольшая доля инфразвука. Достаточная лишь для того, чтобы руки стали ватными, едва удерживающими винтовки, и спать захотелось сильнее, чем воевать.
– Значит, операцию прикрытия считаем выполненной, – сказал Новиков, когда все насытились нежным мясом антилопы, подстреленной по пути к месту привала, поджаренной на вертеле. Удобно разместились вдоль корней дерева на конских вальтрапах и потниках, опираясь спинами на седла, закурили, кому хотелось. Как говорил профессор Опир? После такого ужина нельзя не курить.
Операция на самом деле была многослойная. Разными способами спланированная и просчитанная. Андрей задумал ее сразу же после встречи с форзейлем в Крыму. Слишком много непонятных событий начало происходить, одно за другим. И в очередной раз выглядеть дураками или просто пешками в чьей-то хитрой комбинации не хотелось.
Некоторые ее позиции менялись по ходу дела, но замысел оставался неизменным. Отныне делать только то, что представляется нужным им самим. А то жизнь подошла, что называется, к самому краю. Буквально один неверный шаг, и она прекратится. Совсем или в привычном виде. Еще один выхваченный из огня каштан, есть который будешь не ты, может оказаться последним.
По ходу дела, по мере получения дополнительной информации, в программу вносились нужные коррективы, но в каждом пункте она оставалась полностью достоверной, не подкопаешься. По крайней мере, Новиков на это надеялся. Вот и сейчас – легенда выдержана точно. Главные герои стремились в Южную Африку, о которой мечтали с первых детских книжек? Они здесь. Собирались заняться кладоискательством? Они это делают, да настолько убедительно, что за ними уже начата охота. Как бы не весь золотой и алмазный бизнес, сглотнув наживку, лихорадочно соображает: что же это за новые месторождения, неслыханно богатые, на поиски которых прибыли таинственные незнакомцы? Дон Отелу свое сделал, проболтался в нужное время и в нужном месте. От окружения президента Крюгера информация тоже пошла куда надо.
Любому дураку понятно, а в правлении «Де Бирс», в колониальной администрации, кое-где еще сидят далеко не дураки. Сообразили, что из-за пустяков океанские пароходы в глухие провинции не гоняют. Да еще – под чужим флагом, хорошо оплаченным. В конце концов – частные лица президентам чужих государств оружие на сотни тысяч фунтов не дарят. Какие же тогда прибыли стоят на кону? Естественный вопрос.
Наверняка сейчас «специально подготовленные люди» роются в справочниках Ллойда и иных регистровых компаний, пытаясь установить подлинную принадлежность «Валгаллы» и «Призрака». Выясняют, где, когда, в каком качестве засвечивались его номинальные владельцы.
Пусть работают.
Сегодня кое-кто поторопился, вздумал решить проблему простейшим способом. Могло получиться, но с другими клиентами и при более тщательной подготовке. Но решили, что и так сойдет. Сорок до зубов вооруженных солдат, три опытных разведчика – против трех мальчишек. Девушек и погонщиков фургонов в расчет вообще не принимали…
Зато теперь как в старом анекдоте: «пускай у них голова болит». Герои же, сделав свой ход, могут наслаждаться прелестями девственной природы. В ближайшие дни их не догонят. Вертолетов здесь пока еще нет, слава богу!
Прочие «братья», получая свою долю удовольствий, используются практически втемную. Нехорошо, конечно, но вреда от этого никому, а польза – большая.
Сильвия с Берестиным, сами себя убедив в том, что Англо-бурская война – отличный способ переформатировать сложившуюся на Земле обстановку, обеспечить безопасность и стратегические перспективы Братства на долгую историческую перспективу, остались в сравнительно романтическом Лондоне и увлеченно занимаются геополитикой.
Друг с другом им интересно, а леди Спенсер вдобавок исполнила свою вековую мечту, перехватив у ненавистной Дайяны руководство проектом. Никому, правда, кроме нее, теперь не нужного. Но ощущать себя тайной владычицей Земли – разве это мало?
А в «плане прикрытия» она наверняка оттянет на себя внимание Игроков, если те в каком угодно качестве сохранили возможность наблюдать за ходом партии. Антона с Арчибальдом – тоже.
Кирсанов, которому предоставлены неограниченные возможности и средства, может считать себя тайным вершителем судеб Европы на своем, естественно, жандармском уровне. И это неплохо. По-своему – правильно. Кому же, как не ему? Оружие, которое он рано или поздно доставит бурам, свою роль сыграет. Сильно попортит британцам настроение. И сам Павел Васильевич имеет чудесные шансы. В его-то годы!
Басманов и рота офицеров отведут душу в боях на стороне буров против ненавистных англичан. (Не касаясь большой политики и давней истории, то, как британцы поступили со своими верными союзниками, загнав их после эвакуации из Крыма гнить в Галлиполийские лагеря, причем с особым, подлым цинизмом, прощению не подлежит. Сорок тысяч умерших от голода и болезней офицеров, женщин, детей – это не холокост? Не геноцид?)
Воронцов и Белли повоюют на океанских коммуникациях, удовлетворяя почти те же инстинкты. Великобритания сто раз заявляла, что на один русский океанский крейсер немедленно ответит десятью. Вот и пусть продемонстрирует, на что они годятся, ее крейсера…
Главное, все это внесет в ныне реализующуюся мыслеформу столько «белого шума», что истинный смысл происходящего станет ясен очень не скоро и далеко не всем.
Что там у нас осталось? Президент Трансвааля Крюгер, которому за жесткую позицию обещано бесплатно сорок тысяч винтовок и по двести патронов к каждой плюс сотня полевых пушек? Он их получит, и лучших в мире инструкторов тоже.
Право на концессии в пределах бурских территорий, а также всех, что будут отвоеваны, – Крюгер, президент Трансвааля, и Штейн, президент Оранжевой республики, подписали. Такие документы на руках при случае могут сработать с неожиданным эффектом.
Сколько денег роздано, сколько идей вкручено тем, кому нужно, а иногда – кому совсем и не нужно. Впрок!
Вот рядом сидят, потягивают чай из кружек девушки, вроде бы самые близкие на свете, но всей правды пока не знают и они. Тоже поверили, что душевным друзьям, никогда их не подводившим, на самом деле потребовались алмазы ведрами!
Не для себя, конечно, для шантажа противника и очередного геополитического слома. Доводы убедительные, неопровержимые, и хорошо, что подруги в них верили.
Никто не может знать, каковы истинные способности врага.
Только за себя и Шульгина Новиков мог ручаться. Их двоих выстроенная на пределе сил и возможностей мыслеформа прикрывала. И еще – Удолин, находящийся сейчас очень далеко, был в курсе. Даже – одним из авторов идеи. Левашов знал, в чем дело, но без подробностей.
А вот теперь Андрей сообразил – получилось.
– Это ты о чем? – прочитав его настроение, спросила Ирина без особого интереса. – Думаешь, заморочили голову лейтенанту и оторвались? Сюда за нами не пойдут?
– Не пойдут. У них сейчас другие заботы начнутся. Но я немного о другом… Вы тут посидите, барышни, а мы отойдем по естественным надобностям…
– Тогда мы тоже пойдем, заодно в ручье сполоснемся, все в пыли, – кажется, первый раз за все время подала голос Аня.
Повезло же Александру, нашел себе женщину почти кавказского типа. Без серьезного повода в мужские разговоры не ввязывается. Но дело тут было наверняка не в Шульгине. Сам он выбрать подходящую его характеру девушку был не способен. И друзья в этом психологическом дефекте помочь не могли, невзирая на все старание и умение. С Анной просто так удачно получилось. Она его приметила, а он ей попался. Любой другой вариант был бы гораздо хуже…
Движением руки Новиков указал Сашке и Левашову на чернильную темноту за пределами древесной кроны. Не так давно легкая облачность сгустилась, и теперь на небе нельзя было увидеть ни единой звезды.
На самом краю очерчиваемого костром круга они присели на подходящее бревно. Шульгин предварительно густо опрыскал его из аэрозольного баллончика.
– Терпеть ненавижу, если из-под коры вдруг термиты какие полезут… Или фаланги. Так об что говорить будем? День и так был сильно интересный.
Сашка, непонятно по какой причине, вдруг перешел на корявый одесский стиль. Он там бывал, конечно, но мог бы и ближе к тексту выражаться. Разве – замысел очередной?
Шульгин снял фляжку с ремня.
– Операцию прикрытия считаем законченной, переходим непосредственно к основной программе… – повторил Новиков.
– Хорошо, если так. А в деталях?
– Все. Мы – оторвались. Я только что получил звоночек от Удолина. Теперь – чисто… Убитый сержант был последней связкой с ирреальностью. Он нас чувствовал…
– Я – заметил, – кивнул Шульгин. – Когда ты на него посмотрел, увидел, как его повело. Оттого и выстрелил…
– Не серебром? – с намеком на иронию спросил Левашов.
– Свинца с мельхиором хватило.
– Хорошо бы… А все же?
– Не знаю, – ответил Новиков, чувствуя, что холодные мурашки продолжают изредка пробегать по спине. Повторил с напором: – Не знаю! Может, он такой же некромант, как Константин, или особый африканский вампир, разновидность зомби, да хоть бы египетский жрец Первой династии, через три тысячи лет дослужившийся до сержанта. Но он нас выследил не агентурным способом…
– Херня, – сказал Левашов, делая серьезный глоток. На глазах у Ларисы он избегал так геройствовать. – Дай, – взял из пальцев Андрея сигарету. Глубоко затянулся вместо закуски. – Когда-нибудь с паранойей закончите?
– Да мы бы и рады, – оптимистично сказал Шульгин. – А тебя случай в метро не убедил, когда вас с Воронцовым менты ни с того ни с сего задержать хотели? Страшно было? Скажи спасибо, Дмитрий без комплексов, вовремя выстрелить успел…[60]
– Думаешь что, сержант тоже из тех? – дрогнувшим голосом спросил Олег. Воспоминание о встрече в полуночном метро с агграми, прикинувшимся нарядом милиции, осталось для него одним из самых сильных. Потому что – первое в серии подобных, постепенно ставших привычными.
– Я проверил, – ответил Шульгин. – Гомеостата у него при себе не было. И умер он по-настоящему. Так что вряд ли из настоящих, просто – сильно одаренный. Андрей же сказал, от Удолина сигнал пришел. А он по земной нечисти специалист. Еще подробности были?
– Практически нет. Мы же не по телефону разговаривали. Передал, что эфир вокруг нас чист и спокоен и там, куда мы идем, угрозы нет…
– То ли странно, то ли скучно, – сказал Левашов. – Мне скорее странно. Опять пойди, не знаю куда… И что мы там увидим?
– Естественно – «не знаю что», – ответил Шульгин, – а ты хотел конкретности? Пока горит костер – мир конкретен. Пока я держу в руке пистолет – он конкретен гораздо больше…
– Чуть-чуть не понял, – удивился Левашов, а Новиков хмыкнул, зная, что будет дальше.
– Конкретное сочетание железных деталей в этой машинке, – Шульгин покрутил «маузером» перед лицом Олега, – способно вышибить из тебя, из любого из нас, – поправился он, – пресловутую бессмертную душу. Что знаменует пресловутое торжество материи над духом…
Сашка грустно посмотрел на пистолет, сдвинул предохранитель и вложил его коробку-приклад.
– Богословие оставили? – спросил Новиков. – Тогда, Олег, начинаем колоться. Все, чем мы занимались доселе, – исключительно был подход к снаряду…
– Причем – не к тому, – вставил Сашка.
– Именно – шли к брусьям, а схватились за саблю…
– Дальше, – холодно сказал Олег, начиная обижаться.
– Ты уж не переживай, брат, но ставки были больно высоки. Твои мозги – открытые. И даже слишком. Я себе не до конца верю, в том, конечно, смысле, насчет проницаемости. Радуюсь или горюю – но прав оказался. А вот теперь Удолин подтвердил – нас на Земле никто не смотрит.
Новиков прервал словопрения, способные тянуться до утра.
– Пошли к девчатам, там расставим все точки…
Перед тем как отправиться на Валгаллу-Таорэру за поиском новых сущностей, Константин Васильевич на прощание взялся собственными средствами прозондировать время, в котором был молод и причастен.
– Тогда я интересовался совсем другими вещами, но теперь, узнав столько нового и интересного, кажется, понял, в каком направлении стоит поработать.
Кого из старых приятелей (вдруг – мистиков еще Средних веков) он привлек к этому поиску, неизвестно, но в итоге выдал поразительно соответствующую требованиям текущего момента информацию. На юге Африки, на границе пустыни Калахари, севернее Вааля, в бассейне всем известной реки Лимпопо обретается впавшее в ничтожество племя, близкое к готтентотам и бушменам (которых многие ответственные этнографы не решаются отнести ни к одной из четырех канонических рас), своим ментальным фоном удивительно похожее на «мелких» дуггуров, они же «элои».
К концу ХХ века оно якобы полностью вымерло, не пережив апартеида, деколонизации и бесчисленных межплеменных войн, а веком раньше насчитывало до тысячи человек.
А если учесть, что в близких окрестностях их исходного ареала живет достаточное количество горилл, то схема выходит интересная.
Отсчитаем тысяч сто лет назад и прикинем. Что, если именно там образовалась настоящая развилка, самая грандиозная из всех, что случались на Земле до и позже. Не какая-нибудь там «неолитическая революция» или изобретение земледелия, а полная смена типа эволюции.
«Протоготтентоты» приобрели мозг принципиально нового типа и начали создавать на своей линии биолого-магическую цивилизацию. Горилл, соответственно, переконструировали в «монстров», с полной заменой типа нервной деятельности. С остальными животными и прочей биосферой поступили, видимо, аналогичным образом.
– Мы нашли в архивах XIX века несколько этнографических отчетов, где упоминалось это племя. Там, в частности, отмечалось, что они, единственные на земле, произносят слова на вдохе, а не на выдохе, отчего европейцам овладеть их языком совершенно невозможно, – сказал Новиков. – Признаться, интересное свойство.
– Ну да, тут хочешь – не хочешь, для общения придется телепатию изобретать, – вставила Лариса, – я на вдохе точно никогда говорить не научусь…
– Не лишено… Но куда больший интерес у нас вызвали сообщения (сочтенные тогдашними чиновниками от высокой науки вымыслом) одного путешественника, как бы прототипа конандойлевского Челленджера. Эти туземцы при всей своей дикости и деградации имели очень оригинальные космогонические представления. Например, знали число планет Солнечной системы, включая пояс астероидов. То, что Сириус – двойная звезда, и даже то, что существуют во Вселенной черные дыры…
– И как же исследователь мог это выяснить, раз их язык белым недоступен? – спросила Ирина.
– И откуда сам знал о черных дырах? – поддержал ее Левашов.
– В том и проблема. Словам капитана Берн-Мердоха не поверили прежде всего потому, что все его записи представляют тройной перевод, с «дагонского» на бечуанский, и с бечуанского на английский. Я бы тоже не поверил, учитывая способности и культурный уровень переводчиков. Наверняка то был не перевод, а фантазии на вольную тему.
– А сейчас вдруг поверил? – спросила Лариса.
– Удолин убедил. Он, видишь ли, лично связывался с Берн-Мердохом, на данный момент еще живым, и ментаскопировал его. Заодно перевел ряд содержащихся в мозгу отставного капитана понятий в доступную нам форму. Те же черные дыры. И не только, были еще наводящие на размышление фактики…
– Значит, мы собираемся навестить выродившихся потомков дуггуров и через них…
– Правильно догадалась…
– Вся наша жизнь в какой-то мере утопия.
– С вами не соскучишься, – презрительно сплюнула в костер Лариса, жестом показывая Левашову, чтобы подал ей очередную сигарету.
– А тебе с самого начала было обещано, когда первый раз на открытие Валгаллы ехали: «Скучно не будет», – вдруг обретя резкость и агрессивность, наверное, под влиянием окружающей природы, ответил Олег. Но портсигар ей протянул, одновременно указав глазами Сашке, что налить тоже пора. Чтобы не доводить дружескую беседу до скандала.
Судя по лицу Ларисы, это напоминание не показалось ей слишком приятным. Хотя на что жаловаться? Из аспирантки кафедры истории с неопределенными перспективами на успешную защиту она за пять лет превратилась в женщину, превосходящую по могуществу и насыщенности жизни любую Клеопатру или Екатерину Великую.
– Пошли спать, – поставила точку Ирина. – Подъем с рассветом. Мы в Африке, а не в зимней Москве.
Попарно разошлись по фургонам. Для отдыха они были оборудованы наилучшим образом. В сравнении с прославленными бурскими и даже по меркам нынешних времен.
– Ты правда думаешь, что от встречи с реликтами будет польза? – спросила Ирина, в задернутом противомоскитными сетками спальном отсеке разоблачаясь донага. Подвесной аккумуляторный фонарик превращал ее скульптурную фигуру в сложное сочетание светлых и темных бликов, рельефов и контражуров. Это было красиво.
– Посмотрим, но шанс интересный.
– Я думала, нас сегодня убьют, – сказала она, ложась рядом и проводя нежной ладонью по щеке Андрея, потом по плечу.
– Нас и завтра могут убить, – спокойно ответил он, обнимая Ирину, которая прижалась к нему всем телом, дрожа то ли от ночного холода, то ли от страсти. – Считать, что мы бессмертны, – глупое заблуждение. Разрывная пуля в лоб, так называемая «дум-дум», – никакой гомеостат не поможет. Тем более что у нас их всего три на шестерых. Да и правильно. Нельзя человеку ощущать себя бессмертным. От этого он теряет самоконтроль…
– За что я тебя и люблю, – прошептала Ирина, поворачивая его на спину, подставляя напряженные груди его губам. – Целуй меня! Всю целуй. Сделай так, чтобы завтра умирать было не страшно…
– Какие ты глупости говоришь, – ответил Новиков.
Глава девятая
…Покидая гостеприимную долину, решили принять дополнительные меры предосторожности. От места стычки с уланами отряд удалился на приличное расстояние, больше чем на полсотни километров. Но англичане – народ упорный и злопамятный. А уж если затронута их честь и финансовые интересы – тем более. Зловещего сержанта нет, а следопыты-ойтландеры остались. И верхнее начальство, теперь еще больше заинтересованное в поимке путешественников. Если и были какие-то сомнения, то своим нестандартным поведением они полностью раскрыли свою сущность. Судя по всему – это люди отважные, имеющие четкую цель, ни перед чем не останавливающиеся. Настоящие авантюристы. Только такие и могут ради грядущей добычи ставить последний шиллинг ребром и подставлять шеи под веревку. Значит, их нужно задержать любой ценой.
Именно таким образом друзья рисовали себе мысли своих пока еще неведомых врагов. Нет, принадлежность их к «Алмазной империи» была несомненна, а вот что касается персоналий…
Если «алмазные и золотые бароны», как они сами себя называют, решили ликвидировать остановить «конкурентов» – они от этой мысли не отступятся. Пошлют в погоню не сорок кавалеристов, а двести, заранее настроенных на полную бескомпромиссность, и те без всякой мистики, по следам колес, копыт и путем опроса местных жителей разыщут, схватят, привезут, куда приказано.
Одного из роботов, с внешностью и именем того Джонсона, что ходил с Новиковым в Австралию, отрядили в тыловую походную заставу. Коня ему не требовалось, он на своих двоих мог передвигаться со скоростью гепарда, поддерживая нужный темп почти любое заданное время. Из оружия ограничились винтовкой с полутора сотней патронов. Ему нужно только обнаружить факт преследования, доложить, после чего задержать противника на два-три часа, чтобы отряд успел принять отвечающие обстановке меры.
Судя по самой свежей и подробной, съемки 1890 года, карте, добытой из юаровских военных архивов, опасный участок, на котором англичане могли перехватить караван, составлял километров сто. К сожалению, уже существовала такая штука, как электрический телеграф, и по тревоге могли быть подняты несколько расположенных в указанном радиусе гарнизонов. Вдобавок на протяжении почти сорока километров маршрут пролегал в опасной близости от железной дороги.
– Поневоле пожалеешь, что мы так последовательны, – заметил Левашов. – Реализм нам подавай… Были бы сейчас под фургоны замаскированы джипы, дали б по газам, и привет…
– Неспортивно, – ответила ему Ирина. – Сейчас мы чувствуем настоящий страх и азарт. А что за интерес выехать на «Тур де Франс» на велосипеде с моторчиком?
– Или охотиться на привязанного медведя, – подтвердила Лариса, поправляя на плече висящую вниз стволом «СВД». Вспоминая прошлые подвиги и в предвидении будущих она сменила на нее маломощный карабин.
– Молодцы, девчата, – похвалил Шульгин. – Бодрость духа в нашем деле – главное. А что медведь наверняка будет отвязанный, даже не сомневайтесь… Но я бы предпочел с ним разминуться. Надоело, между нами говоря…
…Действия англичан целиком совпали с прогнозом. Только они не ограничились посылкой одного или двух эскадронов, а бросили в поиск целиком 9-й уланский полк постоянного дислоцирования, который издавна оперировал в неспокойной местности севернее реки Оранжевой. Народ там подобрался опытный, закаленный в пограничных стычках и карательных походах. Беспощадный, как говорится.
Само собой, никто, кроме командира полка подполковника Бабингтона и нескольких старших офицеров, понятия не имел, что выступление по тревоге и дальний поход на север имеет целью охоту на нескольких «бандитов», если даже назвать их так. Шестьсот солдат регулярной армии против десятка штатских? Чтобы снивелировать столь явное несоответствие цели и средств, приказ в своей письменной части говорил о возможности проникновения на территорию Капской колонии летучих отрядов буров, готовых начать партизанские действия до официального объявления войны. Определенная доля правды в этом была, до десяти тысяч человек под командой главкома армии Оранжевой республики Пита Кронье действительно сосредотачивались для возможно наступления в направлении Мафекинга, и разведка доносила, что не менее двадцати пяти тысяч буров Трансвааля с несколькими десятками пушек готовы к ним присоединиться по первому зову.
Но на этот случай имелось несколько дивизий пехоты и артиллерия, один лишний кавполк погоды не делал. Да и генерал-лейтенант Френч, инструктировавший подполковника, со всеми необходимыми оговорками дал понять, что поимка именно этого «разведывательного отряда» – главное. Причем хотя бы половина людей должна быть взята живьем. Слуги в виду не имелись.
– Выполнение задания прекратите только в случае получения нового приказа за моей подписью. Вам понятно?
– Так точно, сэр.
…Двигаясь форсированным маршем, разведчики полка уже к исходу первых суток обнаружили следы каравана. Остальное было уже вопросом тактики. Подполковник развернул четыре эскадрона во взводные колонны, с километровыми интервалами по фронту. Сеть получилась широкая. При визуальном обнаружении противника достаточно загнуть фланги и выслать парламентеров. Цель скорее всего будет достигнута без напрасного кровопролития. Нужно быть сумасшедшими, чтобы вступать в бессмысленный бой в таких условиях. Если только там не собрались оголтелые самоубийцы. Так при них ведь еще три молодые, по словам разведчиков – очень красивые девушки.
«Интересно будет познакомиться, – подумал Бабингтон. – Не так часто здесь встречаются настоящие дамы из Европы… Разумеется, им будет оказано все подобающее уважение, если только они не сбежали с каторги…»
Впереди линии полка, опережая ее на несколько миль, рассыпным строем двигался взвод конной милиции[61] из англичан-африканеров,[62] то есть колонистов уже в третьем поколении.
Их и заметил робот-дозорный, как только всадники обнаружились на пределе видимости даже вооруженным глазом. До них было километров пятнадцать, значит – час движения прежним аллюром, размашистой рысью.
Он немедленно доложил о появлении преследователей и занял позицию в неглубокой выемке на вершине холма, или, как они здесь называются, – «купье». Склон холма с юга, откуда приближались кавалеристы, был пологий, но очень длинный, лишенный каких-нибудь естественных укрытий. Атакующим придется трудно. Галопом проскакать даже половину подъема у лошадей не хватит сил, а подниматься в гору шагом под прицельным огнем не решится даже самый отчаянный «джигит».
Для отступления Джонсон присмотрел тянущуюся вдоль обратного ската промоину, глубиной едва по колено, но с флангов она была не видна совершенно, а зайти себе в тыл робот не позволит.
Он выложил перед собой пять магазинов, заправленных патронами с утяжеленными пулями. Для завязки боя хватит. Проверил установки прицела и стал ждать.
– Ну вот, накаркали, – констатировал Шульгин. – К вечеру ложки сильно подешевеют, – вспомнил он к случаю пришедшую на память присказку кого-то из офицеров-рейнджеров. – Значит, предполагаю так. Вперед ехать нельзя. Оторваться, может, и оторвемся, а направление выдадим…
– Кому? – удивилась Лариса.
– Ты же не собираешься перебить абсолютно всех? – сделав большие глаза, спросила Анна. – Кто-то раненым на поле останется, кто-то ускакать успеет. Они и покажут…
– Можно бы и всех, – равнодушно ответила Лариса. – В Гражданскую сильно комплексовали?
– Дискуссии – отставить, Чапай вслух думает, – остановил девушек Шульгин. – Пока ехали, я по сторонам глазами водил. Рекогносцировал, то есть. Полуверстой сзади осталось чудесное местечко, на наш случай приготовленное. Ворочай лошадей, – приказал он вознице головного фургона.
Действительно, для их целей место было исключительно удобное. Здесь влево от намеченного маршрута уходила довольно широкая ложбина, похожая на высохшее русло реки. По самому ее дну журчал совсем жалкий, из последних сил пытающийся выжить ручеек. Вдоль него росла какая-то травка, которую пощипывали немногочисленные мелкие антилопы, размером едва превосходящие обычную дворняжку.
В трехстах метрах от поворота параллельно дороге пересекала лощину цепь невысоких, но с довольно крутыми склонами холмов, покрытых едва начавшей зеленеть травой и колючим кустарником вроде нашего терна. А еще в километре южнее вельд начинал отчетливо повышаться, постепенно переходя в плато, уходящее за подернутый пыльным маревом горизонт.
Позиция – лучше не придумаешь. Здесь можно было силами пехотного батальона легко остановить кавалерийскую дивизию.
Но за неимением батальона приходилось маневрировать наличными силами.
На повороте в лощину фургоны и кони, несколько раз проехав по одному месту, изобразили на земле хорошо видимый и понятный след.
Углубившись вдоль ручья на пару километров, так, что преследователям стало бы очевидно, куда направляется караван, в подходящем месте переправились на другой берег, остановились в редкой тени зонтичных акаций.
– Значит, дальше так, – продолжал распоряжаться Шульгин, – девушки – по фургонам и полным ходом гоните вот до этой отметки. – Он показал на карте. Часика за четыре добежите…
Новиков с Левашовым не возражали, чтобы он сейчас покомандовал. Из Испании Сашка вынес вполне подходящий опыт.
Там, куда он ткнул карандашом, видны были скалистые отроги, окруженные густой растительностью.
– Здесь нас подождете…
– Чего это ради? – возмутилась Лариса. – Давайте все вместе обороняться, или вместе поехали.
– Вместе здесь – значительная потеря времени и неудобный бой в окружении. Вместе поехали – нас перехватят в чистом поле, рано или поздно перестреляют с дальних дистанций. В моем варианте вы спокойно достигаете опорного пункта и ждете нас. Мы, лишенные обузы и беспокойства за сохранность имущества, обладая свободой маневра, уводим противника в ложном направлении, после чего возвращаемся с победой. Я доступно изложил? – Сашка докурил сигарету. – Вообще то, что вы сейчас услышали, называется «боевой приказ». Несколько фривольная форма подачи никак не влияет на обязательность исполнения…
Голос его едва заметно напрягся, пока не переходя в настоящий «командный», но и этого было достаточно. Ирина с Анной с самого начала не возражали, а тут и Ларисе спорить расхотелось. Новиков в это время отдавал распоряжения роботам, которых отправлял с девушками, Левашов руководил остальными, которые должны были составить главную огневую силу отряда.
– Гонишь лошадей в полную рысь, – говорил Андрей «Иван Иванычу», – по прямой. Доедете до скал – найдите подходящее укрытие, замаскируйтесь, организуйте круговую оборону. Ждите нас. Стрелять – в самом крайнем случае, при полностью определившейся угрозе. Но тогда уж – до окончательного результата.
Потом перешел к девушкам.
– Придется кому-то за кучера поработать. На один фургон не хватает. Ира, справишься?
– Уж как-нибудь, – усмехнулась та.
На самом деле других кандидатур и не было. Управлять четверкой лошадей на рысях намного труднее, чем автомобилем, хотя не все об этом догадываются. Лариса и Анна сбили бы лошадей с толку и наверняка опрокинули повозку на первых же километрах. Хорошо хоть, верхами ездят нормально.
Разъяснив им все, что считал нужным, и по тактике, и по хозяйственной части, Новиков велел трогаться. В это время издалека послышались первые винтовочные выстрелы. Ясный, прохладный воздух вельда хорошо разносил звук, и ветер тянул с юга.
– Ну, с богом!
Столько уже с ними всякого происходило, что девушки не воспринимали всерьез очередную опасность. Им словно в голову не приходило, что оставаться в голой степи втроем против неизвестного, но явно превосходящего числом врага – в обычных условиях почти верная смерть.
Эмоционально они, конечно, тревожились, но скорее как перед горнолыжным спуском или заездом в мотокроссе. И чувства открыто выражать в их кругу тоже было давно не принято.
Поэтому обошлись без объятий, слез, прощальных поцелуев. Так, по-солдатски простились.
Фургоны, набирая ход, покатились по весенней траве, Лариса с Анной загарцевали рядом, из суеверия больше не обернувшись.
– Порядок, одной заботой меньше, – облегченно вздохнул Олег. Новиков с Шульгиным молча переглянулись. Теперь начиналась настоящая работа.
Джонсон, лежа в своем укрытии, наблюдал за приближающимися всадниками. Те ехали несколькими группами, не слишком подгоняя лошадей. Переговаривались, курили трубки. Куда им спешить? Поговорка «солдат спит – служба идет» интернациональная, пусть и облекается в разные словесные конструкции.
След от фургонов и конских копыт ясно читается на красноватой почве вельда, след недавний, значит, к обеденному времени, в крайнем случае к закату, они их нагонят. Лучше всего застать караван на привале. Меньше лишней суматохи.
Робот определил расстояние до ближайшей цели. Тысяча сто метров. Винтовка достанет, но уцелевшие легко выскочат за пределы зоны поражения, и тогда начнется совсем другая карусель. Идеальная дистанция – полкилометра. Кавалерист из своего карабина по стрелку в укрытии ни за что не попадет, сам же будет – как мишень в тире.
Попадут в него или нет – Джонсону было все равно, винтовочная пуля для него действительно что слону дробинка, но он был запрограммирован думать как человек и вести себя как человек, пока обстановка не потребует иного.
Он поднял ствол и начал выбирать, кто станет первым.
Заложенная программа и последние инструкции хозяев запрещали ему убивать людей без крайней необходимости. Только для предотвращения непосредственной угрозы себе или другим людям, к категории врагов не относящимся. Или – по прямому приказу.
Эти конники врагами были, безусловно. И то, что они шли по следу хозяев, – угроза. Но не непосредственная и не смертельная.
Значит, решил Джонсон, задача номер один – остановить и задержать. И начал стрелять по лошадям. Ему их было не жалко, они – не свои. Своих он знал по именам и ухаживал за ними, можно сказать, «от всей души». Как вообще выполнял любую порученную работу.
После первых десяти выстрелов, прогремевших почти слитной очередью, разведчики еще ничего не поняли, хотя кони под двумя из них уже валились на землю, другие, задетые пулями не смертельно, начали ржать, пронзительно и испуганно, метаться и вставать на дыбы. Робот сменил магазин и продолжил. На поле поднялась паника. Лошади, даже еще не тронутые пулями, беспорядочно заметались, одни рванулись вперед, другие – поперек строя, натыкаясь друг на друга. Несколько всадников, не успев подобраться, вылетели из седел.
Несколько милиционеров, самых опытных и сообразительных, засекли направление, откуда гремят выстрелы, спешились, сдергивая карабины.
– Буры! Буры! – закричал кто-то. Многие хорошо помнили восстание ойтландеров в Йоханнесбурге и вторжение в Трансвааль решивших поддержать их африканеров в 1895 году. Тогда под Дорнокопом буры ружейным огнем уничтожили отряд из пятисот добровольцев при трех орудиях, потеряв лишь шесть человек.
Двадцать выстрелов Джонсона, сделанных за полторы минуты, легко были приняты за стрельбу засевших на холме двадцати, если не больше, буров.
А это не тот противник, с которым стоит связываться небольшому отряду добровольцев, служащих всего лишь за деньги. И очень небольшие.
Милиционеры обратились в бегство, около десятка – пешком, еще столько же – на стонущих совершенно по-человечески, хромающих, еле держащихся на ногах лошадях.
Те, чьи кони уцелели, умчались галопом, не думая о брошенных товарищах. Окажись здесь настоящий бурский дозор, судьба оставленных была бы печальна. А так они, без всякой пользы расстреляв полсотни патронов, побрели навстречу регулярной армии.
…После двух серий из «СВД» и суматошной винтовочной дроби в ответ никакой стрельбы с юга больше не доносилось.
– Дозор Джонсон пугнул, – сказал Новиков.
По рации робот обстоятельно доложил детали случившегося. И даже в подробностях описал, как были одеты разведчики.
– Все ясно. Продолжай работать. Когда подойдут главные силы, задержи, сколько можешь. По людям стрелять разрешаю, но не насмерть. Лучше всего по ногам. И чтобы сюда прибежал на полчаса раньше первого англичанина…
– Вот получат они десятка три раненых, да с огнестрельными переломами, до погони им будет… – мстительно сказал Шульгин. – Целый эскадрон для транспортировки потребуется…
– Их, может, всего эскадрон и есть…
– Вряд ли. От эскадрона взвод в разведку не выделяют. Ладно, за работу, товарищи…
На трех человек и трех роботов имелось четыре пулемета, и те же «СВД» у каждого. Прочее оружие отправили в обоз.
Рассчитывая, что Джонсон задержит погоню минимум на час, а потом уцелевшие будут столько же заниматься перегруппировкой и еще час потратят на дорогу сюда, времени на подготовку «эшелонированной обороны» хватало с избытком.
– Только ты неправильно считаешь, – сказал Шульгину Левашов. – Они могут оставить десяток человек, чтобы связать боем Джонсона, а остальные обойдут его и на рысях – сюда. Степь большая, что им толку всей кучей одну сопку штурмовать?
– Тоже верно. Значит, исходим, что времени у нас – полтора часа на все.
Оборона получилась жидковатая, даже – никакая, по меркам «Боевого устава пехоты». Три пулемета на два километра фронта, четвертый – подвижной резерв. И двое снайперов, которым придется и позиции держать, и бегать, при необходимости, с фланга на фланг. Конечно, три робота подвижностью и огневой мощью могут заменить БТР, но психологически – все равно не то.
Подполковник Бабингтон, выслушав доклад командира взвода милиционеров, нервно грыз мундштук, водя пальцем по карте. Дело складывалось скверно. Если загадочные путешественники имели непосредственные дела с самим Крюгером и дела эти столь важны, что вывели из себя всю верхушку колонии, так ничего удивительного, если их прикрывают один или несколько конных бурских отрядов. Одним полком, без поддержки артиллерии, лезть в драку опрометчиво. Но, с другой стороны…
Подполковника слегка смущала странная вещь – у милиции не было ни одного убитого. Только три легкораненых. Буры обычно промахов не дают. Или это намек? Войны нет, мы крови не хотим, но лезть в наши дела не советуем. Так что же ему теперь, возвращаться и доложить свои соображения генералу? Тогда уж сразу самому отцепить погоны.
Нет, сделаем по-другому, решил Бабингтон.
Один эскадрон пойдет к холму, где опозорились африканеры. Если там до сих пор остается засада – капитан вступит в переговоры. О чем – не важно. А остальные три немедленно продолжат преследование каравана.
Джонсон видел, что в его сторону движется колонна кавалеристов человек в сто. Теперь они одеты в другую форму, кроме винтовок, у них сабли и длинные пики. А с двух сторон, километром левее и двумя километрами правее, пылят по равнине еще три таких же колонны. Это ему не понравилось. Задача была – задержать ВСЕХ преследователей. А если он начнет стрелять в тех, кто ближе, остальные пройдут беспрепятственно.
Он вызвал по рации хозяина – Андрея.
– Так, все понятно. Позицию не держи. Несколько раз выстрели по тем, кто приблизится к холму, – и бегом к нам. По пути, если получится, обстреляй из укрытий остальные колонны. Но так, чтобы тебя по возможности не видели. Где ползком, где на четвереньках. Выбирай офицеров. – Новиков объяснил, как их отличать от рядовых солдат. Не сообразили они вовремя провести с роботами изучение организации войск, формы и знаков различия вероятного противника.
С километровой дистанции, еще до того как англичане успели поднять на пике белую тряпку и протрубить в горн, предлагая переговоры, он сбил с седел восемь человек, один из которых точно был офицер.
Посмотрел, как уланы спешиваются, рассыпаются в цепь, залегают. С их стороны донеслась суматошная трескотня выстрелов. Палили кавалеристы в белый свет, задирая стволы винтовок и не глядя в прицельные рамки. Да на таком расстоянии и бессмысленно.
Джонсон рассовал по карманам неиспользованные магазины и стремительно понесся вниз по канаве. На бегу он наметил свою первую отсечную позицию – холмик пониже этого, в двух километрах, но как раз на пути двух правых колонн. Бежать до него минуты две, если пригнувшись.
Робот перемещался от укрытия к укрытию сложной ломаной линией, применяясь к рельефу местности, все время стараясь не сближаться с англичанами меньше чем на пятьсот метров, но держать под огнем каждый из эскадронов поочередно. Иногда он выпускал всего по две-три прицельных пули, иногда, по диспозиции, – целую обойму. И каждый раз попадал, куда хотел.
Страшная все же боевая машина. Не так уж был не прав Антон, когда возражал против использования роботов за пределами «Валгаллы». Будь наши герои более аморальными, свободно могли оставить одного этого Джонсона для ведения партизанской войны. И он бы в ней победил, наподобие Терминатора (этот фильм они тоже смотрели в новой России). Но ведь, как давно было сказано, – любую шахматную партию можно выиграть, орудуя вместо фигур ножом или пистолетом. Но зачем?
Как и рассчитывал Шульгин, уланам все больше и больше людей приходилось выводить из боевой линии, чтобы подбирать раненых, оказывать им посильную в полевых условиях помощь, ловить потерявших всадников коней.
Штатных санитаров с сумками уже не хватало. Запас перевязочного материала таял стремительно, в том числе и оттого, что необычно велик был процент тяжелых ранений, требовавших много бинтов, шин для фиксации открытых переломов, морфия. И совсем не было убитых наповал. Умершие появились, но все – от болевого шока и потери крови.
Бабингтон был в бешенстве. Вертясь на своем гунтере[63] позади строя первого эскадрона, в котором не осталось ни одного офицера, людьми командовали сержанты. Он то принимал рапорты от адъютантов, то снова водил объективами бинокля по просторному вельду с цепью холмов у горизонта.
Дьявольщина! Он так и не видел до сих пор ни одного бура! В кротов они превратились, что ли? Выстрелы звучали, но кто их производил?
Ему несколько раз привозили подобранные на месте очередной засады вражеские гильзы, свежие, остро пахнущие порохом. Незнакомого образца, не от «маузера» и не от «Ли Метфорда», но примерно того же калибра.
Значит, стрелки только что здесь были, так куда они все время исчезают?
Обычная тактика буров заключалась в том, что их конные отряды накапливались на холмах или в зарослях, производили по противнику несколько убийственно точных залпов, после чего скрывались. Но их хотя бы можно было увидеть глазами, и следы подков никуда не исчезали. А здесь?!
Один только раз лейтенант из четвертого, не попадавшего под огонь эскадрона показал ему замеченный разведчиками след. На краю озерца, больше похожего на лужу, четко отпечаталась рубчатая подошва. Не английского сапога, подбитого шипами, и не грубого башмака буров, а какой-то совсем другой обуви. Вмятины от треугольных, как сержантский шеврон, ребер еще не успели заплыть илом. Значит, человек прошел здесь не более получаса назад.
– Ну и что? – спросил подполковник. – Покажите мне самого человека! Это наверняка один из тех, за кем мы гонимся… Европеец!
Лейтенант на карандашных, наскоро набросанных кроках указал полковнику точки, с которых велся огонь, и соединил их пунктирной линией.
– Сдается, сэр, что с нами воюют всего два-три человека. Они стреляют и стремительно меняют позицию…
– Вы в своем уме, Вуд? Как можно пешком бегать по вельду быстрее конницы, при этом чертовски метко стрелять и оставаться незамеченными?
– Можно, сэр. Я изучал математику и составил такой вот график… При четырех объектах, первоначально расположенных здесь, здесь и здесь, перемещаясь таким вот образом, по пересекающимся траекториям, они теоретически могут в каждый данный момент составлять комбинацию…
Объяснения лейтенанта прервал промчавшийся мимо запаленный конь, тянущий за собой всадника, застрявшего ногой в стремени. Голова улана моталась из стороны в сторону и билась о кочки.
– К черту математику! – рявкнул подполковник. – Передайте приказ, горнами и вестовыми: всем эскадронами развернуться в одну шеренгу и атаковать в направлении вон той гряды холмов. Галопом, пики к бою! На огонь противника внимания не обращать!
Здесь Бабингтон, нужно признать, проявил проблеск гениальности. И мог бы стать выдающимся тактиком кавалерии, потому что до середины будущей (т. е. Первой мировой) войны британская кавалерия до рассыпного строя так и не додумалась. Ходила в бой только сомкнутым строем, со знаменем, трубачами и командирами впереди. Даже на укрепленные позиции пехоты.
Джонсону теперь делать было нечего. Скачущую в едином порыве линию всадников, растянувшуюся почти на два километра, одиночным, даже сверхметким огнем винтовки не остановить. Он закинул «СВД» за спину и на четвереньках, от кустика к кустику, от взгорка к ложбинке помчался к отдельно стоящему купье, за которым можно будет выпрямиться и развить настоящую скорость.
Атакующий пустоту полным аллюром полк выглядел красиво. Его командир, очевидно, решил не размениваться на мелочи и любой ценой настичь фургоны. Уж им-то никуда не спрятаться в вельде, а будут фургоны – будет и все остальное. Пусть лейтенант-математик прав, сдерживали уланов четыре стрелка. Значит, с фургонами остается восемь, из них три женщины. С ними и пойдет разговор.
– Хорошо, – сказал Шульгин, прикладываясь к пулемету, – как мне отец рассказывал, кавалерия галопом может проскакать не больше двух километров. И все, жми по тормозам. Как раз на отметке три они запалятся, перейдут на шаг. Следы колес увидят, посовещаются и начнут втягиваться в лощину. Тут и врежем…
Так и вышло. Удачно проскочив зону, которую считали опасной, уланы, благоразумно не приближаясь к гребню плато, казавшемуся подходящим местом для очередной засады, волей-неволей начали смещаться вправо, где и увидели подготовленную для них «демонстрационную» дорогу.
Теперь подполковнику было ясно все. Полевые стрелки всеми силами пытались отвлечь его внимание от этого места, увести полк в сторону. И это вполне могло им удаться. Пропустив съезд в лощину, он скорее всего повел бы полк на северо-восток, к лесному массиву у подножья хребта Макарикари, а эти мерзавцы спокойно продолжили бы свой путь на запад, в дикие, безжизненные и безводные места на окраине великой пустыни Калахари. Где и должны находиться таинственные копи. Что еще делать отчаянным авантюристам в этих гиблых местах?
Но теперь не уйдут, колеса фургонов продавили отчетливые колеи во влажной земле. Переправиться на ту сторону ручья, дать людям и лошадям короткий отдых в тени акаций, и вперед!
– Жалко мне вас, ребята, – пробормотал Новиков, подводя марку прицела к колену подполковника. – Куда лезете, зачем?..
Убивать он по-прежнему не хотел. Да к тому же, оставшись в живых, этот усатый колониальный служака будет в полной уверенности, что кладоискатели ушли в Калахари. Только нужно, чтобы дальше этого рубежа не продвинулся никто.
Конь, пораженный той же пулей, что и хозяин, завалился набок, и коновод с ординарцем пытались извлечь из-под него Бабингтона, стоически переносящего мучительную боль и злобу, смешанную с отчаяньем. Задание не выполнено, а он отныне – инвалид! Что такое пуля в сустав – подполковник знал хорошо. Если и не отрежут ногу по самое некуда – до конца дней суждено опираться на костыль или трость. В самом лучшем случае.
Два «ПКМ» ударили перекрестным кинжальным огнем по основной массе улан, с которой находился и раненый подполковник. Хотя Шульгин и второй пулеметчик старались не завышать прицел, но при стрельбе длинными очередями ствол все равно уводит, и тут уж белизну перчаток не сохранишь.
Как потом писал один из очевидцев и участников этого боя, большинство солдат впервые в жизни столкнулись с огнем скорострельных винтовок и дьявольского изобретения под именем «пулемет». В учебных классах им показывали «максимы» на артиллерийских лафетах, картечницы «гатлинг» и «норденфельд», однако вся эта новомодная техника воспринималась отстраненно. Больше с радостью: новое, мощное оружие британской армии, обещающее очередные победы. Как нарезные винтовки под Альмой и Черной речкой, позволившие расстрелять основные силы русской армии задолго до того, как ее уцелевшие солдаты смогли сблизиться на дистанцию штыкового удара. Но даже и нескольких перемешанных, окровавленных батальонов хватило, чтобы запомниться британцам на полтораста лет. Как и атака их легкой кавалерии на русскую полевую батарею. До сих пор леденящие кровь фильмы об этом, по русским меркам абсолютно рядовом, бое снимают.
Уланы залегли, с содроганием слушая жуткое чмоканье пуль, попадающих в живое тело товарищей, лежащих рядом, отчаянные вскрики или тихие последние вздохи. Слушали, ожидая, когда сам получишь «смертельный поцелуй».
Команды подавать было некому, и солдаты, кто отстреливаясь, а кто и бросив винтовки, начали отползать. По отступавшим не стреляли.
Последний отчаянный бросок кавалерии случился на правом фланге. Эскадрон, видя, как расстреливают их товарищей, пошел в атаку, надеясь зайти противнику в тыл и расплатиться за все. На этот случай и ждал их третий пулемет. Лента в двести пятьдесят патронов улетела за три очереди. Не доскакав сотни метров до незримой черты, где можно было опустить пики и обнажить сабли, считаные десятки всадников помчались обратно в вельд, бросая и пики, и винтовки.
– Кончаем, ребята, – сказал, вытирая лоб, Новиков. – Сматываемся. Навоевались. Теперь ловить нас долго никому в голову не придет…
С вершины холма поле битвы выглядело очень неприятно. И радости количество поверженных врагов не вызывало. Совсем не то чувство, что у советских людей при просмотре кинохроники о разгроме фашистских войск под Москвой и Сталинградом.
– Поехали…
Они спустились с холма, робот подогнал коней из недалекой рощицы.
Около часа ехали молча, каждый переживая и обдумывая свое.
Наконец нашли место, хорошее место для отдыха. Три склоненных к центру просторной лужайки клена, сбоку бурлящий в песчаной чаше родничок.
– Наши тут не проезжали, – сказал Левашов.
– Они сразу правее взяли. А мы все в сторону Калахари едем, – ответил Шульгин, принявшийся собирать сучья и хворост для костра.
– Нет, не понимаю, – Новиков начал резать колбасу, сыр, сало, хлеб, открыл банку с баклажанной икрой, – какого хрена этим гордым альбионцам нужно? И так полмира захватили, а все лезут, лезут…
После полученного от дуггуров шока он стал излишне эмоциональным.
– Да успокойся ты, – сказал Шульгин, закончив разжигать костер. – Знаешь ведь, чем все для них кончилось. И с Империей, и со всем прочим. Сегодня мы тоже ни в чем не виноваты. Вообрази, каково сейчас было бы, если по-ихнему – в кандалах по дороге в Кейптаун. А там королевский суд, скорый и справедливый…
– Да все я понимаю, – досадливо отмахнулся Андрей. – Но все равно противно. Человек сто мы сегодня положили?
– Наповал – вряд ли. Да хоть и двести. По отношению к нам они давно не люди. Картинки с компьютерной игры. Каждый из них убит или на бурской войне, или умер своей смертью еще до эпохи исторического материализма…
– Зато пули у них для нас были настоящие, – как бы в пространство сказал Левашов. Попала бы одна в лоб – и привет. Так что все по-честному.
Тот редкий случай, когда Олег разошелся с Новиковым в нравственных оценках, причем в противоположную от абстрактного гуманизма сторону.
Глава десятая
Как давно было замечено – сразу после хорошего боя и даже во время него погода отчего-то портилась. То же явление отмечалось в годы первых космических запусков.
Пока друзья сидели в уютном месте, со сдерживаемой жадностью ели, поскольку до этого голодали почти сутки, да еще и боевой адреналин выжег из организма почти все резервные запасы, с севера надвинулась громадная, страшная своей черной синевой туча.
– Ох, и даст нам сейчас, – задумчиво сказал Шульгин, только что начавший говорить тост фронтового содержания. – Вы там, пацаны, – это он к роботам обратился, – сообразите навесик, чтоб хозяева не промокли.
Соображать особенно было не из чего, если учитывать, что имелось в запасе только три офицерских плащ-накидки, притороченных к седлам. Ну, войлочные конские потники. И все. Но четыре «Джонсона», получив приказ, доступный их пониманию, могли творить чудеса. Работая, как дружина пионеров, наизусть выучившая «Книгу вожатого»,[64] лучше людей оценив грядущий тропический катаклизм, они штык-ножами, используя их как мачете, нарубили ветвей толщиной в руку, устроили из них между стволами акаций каркас шалаша типа вигвам. Вторым и третьим слоем веток с широкими, будто навощенными листьями незнакомого кустарника рода фикусовых перекрыли его внахлест, в нужных местах туго связывая перекрестия лентами коры. Уже потом натянули поверх прорезиненные плащ-накидки, тоже прочно их закрепив. Сообразили насчет растяжек и даже отрыли вокруг шалаша глубокую водоотводную канавку.
– Да, ребята, – смеялся подвыпивший Левашов, когда они уже сидели внутри законченного строения, – я чувствую себя натуральным древним римлянином. Или греком. Как там писал Платон – в условиях демократии каждый свободный гражданин должен иметь не меньше четырех рабов. Так, философ, знаток древних текстов? – обратился он к Новикову.
– Не совсем, но в этом духе, – ответил Андрей. Первый раз в жизни после выигранного с блеском боя ему было не по себе. Наверное, все же давит на него бремя снятой, но не исключенной[65] депрессии.
И разговаривать с друзьями не хотелось. Мелькали перед глазами бьющиеся раненые лошади, разбросанные по вельду тела улан, отдельные группки молодых парней, вздумавших геройски умереть, отстреливаясь от врага, которого им так и не удалось увидеть в лицо.
Был такой момент – человек пятнадцать улан сгрудилось в одном месте, все – рядовые, а один из них, лет двадцати, с коротко подстриженной головой, без шлема и даже винтовки, махал «смит-вессоном» в сторону пулеметных позиций и что-то кричал. Звал в атаку или просто отводил душу?
Новиков отвел ствол пулемета в сторону. Живи, герой.
Все они были молодые, симпатичные, подтянутые парни, готовые умирать неизвестно за что. Чтобы присоединить к Империи еще полмиллиона квадратов, населенных людьми, которые вас на дух не принимают? В таких никчемных войнах и потеряла Британия свой золотой генофонд, а теперь (в 2005-м) ходят по улицам Лондона ожиревшие мужики, в большинстве своем – с не тронутыми интеллектом лицами, а треть столицы уже заселена выходцами из бывших захолустных колоний. Стоило ли лезть в драку этим отважным ребятам? Которых только что постреляли. Для того, чтобы через век случилось то, что случилось?
– Слушай, брат, – сказал Левашов. Шульгин, тот покуривал, усмехаясь, и в разговор товарищей не встревал. – Ты мне не нравишься совершенно. Или напейся, как…
Олег сделал паузу, в которую немедленно встрял Шульгин:
– Как? По профессии. Сапожник напивается в стельку, плотник – в доску, стекольщик – вдребезги, портной – в лоскуты, старьевщик – в хлам, поп – до положения риз. Печник – в дымину, железнодорожник – в дрезину. Есть и еще примеры, но я не помню… Вот как философ должен напиваться? Интересно…
– В Канта, – слабо усмехнувшись, предложил Андрей.
Вот тут ливень и грянул. Настоящий тропический ливень! Если бы не роботы, друзьям пришлось сейчас прижиматься к стволам деревьев, кутаясь в плащи, но без малейшего комфорта. То есть – сидеть по колено в лужах и радоваться, что сверху не сильно достает.
А вот Джонсон с товарищами сделали так, что в шалаше было сухо и тепло. При том, что по особенностям южноафриканского климата двадцатиградусная дневная температура упала почти до нуля. Небольшой костер горел посередине шалаша, соразмерный, обогревая и освещая убежище. Дым утягивало в оставленное для него отверстие, дождевые струи скатывались с ткани и убегали в подготовленные ровики. Если где-то вода и проникала между полотнищами ткани, так многослойная листовая мозаика дальше ее не пропускала.
Электронные мозги четко соотнесли местную метеорологию с реальной инженерией. И создали хозяевам абсолютное укрытие. Собственно, то же самое умели делать и первобытные люди. Если бы их вигвамы и чумы не защищали от любых превратностей окружающей среды, где бы сейчас было человечество?
– Ох, и здорово, ребята. – Левашов откинулся на заменяющее спинку кресла седло. Ливень бил по крыше так, что нормальным «туристам выходного дня» стало бы очень не по себе. Слабый дым костра, над которым грелся котелок для чая, прибавлял уюта. – Девчатам я отзвонил, что у нас полный порядок, и они просили не переживать: стоят в хорошем месте, тенты фургонов не только этот, и метеоритный дождь выдержат. А англичанам сейчас каково? Что сами нарвались – без вопросов. Но ведь хреново им сейчас. В голой степи, с двумя сотнями раненых, под жутким ливнем…
– Так, – сказал Шульгин. – Как каждый честный русский интеллигент, начиная с меня, поскольку оным являюсь в третьем поколении, вас, князьев, во внимание не беря, желаю спросить: Я, бывший самоотверженный врач районной «Скорой помощи», должен сейчас снова подхватиться и бежать, поскольку долг требует?
Он демонстративно медленно выцедил походный стаканчик. Тут же и закурил.
– И побежал бы, если бы имел под рукой хоть одну армейскую «автоперевязку».[66] С полным штатом персонала и уставным медснабжением. Я человек ответственный и врач не херовый, сутки-двое над столом готов простоять, этих придурков с того света вытягивая…
Помолчали. Сашка реально представил себе возможный вариант. При двух опытных фельдшерах в нормальной машине он смог бы за полный световой день, иногда выходя покурить, оказать первую врачебную, а иногда и квалифицированную[67] помощь максимум трем десяткам тех, кого так четко приложил до того.
Смех, да и только. Альберта Швейцера из него не получилось еще десять лет назад. Англичане же, затеваясь воевать, должны были сами озаботиться организацией медпомощи и эвакуации. В меру своей цивилизованности.
– Лучше всего – забудем, – предложил Левашов. – Кто все это затеял, тот пусть и разбирается, а мы уж как-нибудь…
– Все вокруг сволочи, – мрачно сказал Новиков, влезая в спальный мешок. – Собрались ведь как люди отдохнуть, попутешествовать, так нет, сами лезут, нарываются, в грех вводят…
– Это, брат, карма, – ответил Сашка, – желающего судьба ведет, нежелающего тащит.
Ливень начал стихать после полуночи, а утром небо снова было чистое, без единого облачка, день обещал быть жарким. Прежних следов, естественно, вельд не сохранил, теперь и опытный следопыт не смог бы определить, в какую сторону ушли фургоны.
Но зато сейчас конские копыта отчетливо впечатывались в размокшую землю.
На всякий случай друзья описали порядочную дугу, сначала поднявшись на плато и километров пять проехав на запад, и лишь потом, увидев широкую полосу щебенчатой осыпи, свернули вдоль нее на север.
После целого дня скачки по равнине, покрытой набирающей силу весенней травой, сквозь обширные рощи ярко-зеленой мимозы, перелески деревьев-исполинов, вдвое больше любого среднерусского дуба, всадники нагнали караван, не спеша продвигающийся в заданном направлении. От места сражения с уланами их теперь отделяло около сотни километров, и опасаться очередной встречи с неукротимыми британцами не стоило.
Тем, кому очень хотелось побеседовать с гостями из Европы, теперь, по обычной логике, следовало послать за ними дивизию со средствами усиления. Так не успеют, пехота ходит медленно, а вернее того – не решатся. Испугаются огласки в прессе, запросов в парламенте и прочих демократических процедур. Слишком смешно это будет выглядеть в глазах общественного мнения, и возникнет слишком много вопросов у иных заинтересованных лиц.
Можно было по другим схемам – десятка два человек уровня хорошего спецназа. Таких, наверное, под руками не имелось. В итоге – безвыходная ситуация.
– И куда же мы теперь? – спросила Ирина, когда все обычные при встрече слова были сказаны, случившийся бой описан без мрачных подробностей, в духе рыцарских романов.
– Дорога приведет, – ответил Новиков, поскольку и сам не знал ничего, кроме общего направления. По пути у него случилось два коротких ментальных контакта с Удолиным, по инициативе профессора. Да и неудивительно. Сейчас Константин Васильевич выступал в роли подлинного медиума-некроманта, поскольку осуществлял связь с далеким для него прошлым, как бы с персонажами загробного мира. Велика ли разница – вызвать дух Наполеона или Андрея?
Удолин дал понять, что существа, с которыми предстояло встретиться, тоже чувствуют эфир, ловят эманацию его могучей мысли и вроде бы не против того, чтобы познакомиться поближе. Для этого профессор передал не словесную формулу типа заклинания, а нечто вроде параметра волны, на которой можно пытаться выйти на связь с интересными аборигенами.
На третий после сражения день пути, с хорошей для конных повозок скоростью странники начали углубляться в леса, окружающие ту самую реку Лимпопо, для большинства советских детей известную не по учебникам географии, а по «Доктору Айболиту».
Дикие звери, обильно населявшие окрестную местность, им не докучали. Наверное, запахи крашеного металла и солидола, исходившие от фургонов, отпугивали их лучше огня ночных костров. А возможно, роботы создавали вокруг себя неподходящую ауру.
Пару раз навстречу каравану выходили местные жители. Это были уже совсем не те кафры и бечуаны, что с таким вкусом описывали авторы приключенческих книг середины XIX века. Не став достаточно цивилизованными, они утратили очарование дикости. Маргинальное состояние, когда и не туда, и не сюда. Двух десятков английских и голландских слов им хватало, чтобы просить подаяния – табак, спиртное, что-то из вещей. На обмен могли предложить только кукурузу и изделия местных мастеров, которые, наверное, через столетие станут настоящими раритетами.
– Нет бы с копьями из зарослей выскочить, боевой танец исполнить, объяснить, кто здесь хозяин, мы бы им впятеро больше дали, – с грустью сказал Левашов.
– Ага, читаем «12 стульев». «Деньги давай! Капитальные затраты не требуются, доходы не велики, но в их условиях ценны», – согласился Новиков. – Нам бы переводчика лучше поискать.
– Ира, – вдруг спросил Шульгин, – а ты из африканских ни по-какому не знаешь?
– Нет, – с некоторым смущением ответила та, с жалостью смотря на голых бечуанок с голыми же детьми, впрочем, вполне упитанными. Не похожими на жалких рахитиков из прогрессивных журналов эпохи всеобщего либерализма. Натуральное хозяйство кормило все же лучше, чем гуманитарная помощь ООН и всяческих благотворительных фондов. И племенные вожди в отличие от будущих президентов «Роллс-Ройсов» и вилл на Лазурном Берегу себе пока еще не покупали.
– А говорила – на всех умеешь…
– Я говорила – на всех европейских.
– Тогда сами будем обходиться…
Обходиться, впрочем, не потребовалось. На подходах к очередной деревне, окруженной кукурузными полями, им навстречу из тени раскидистого сикомора[68] вышел рослый негр лет тридцати, на вид довольно смышленый. Как многие кафры, он имел близкие к европеоидным черты лица, только нос пошире и волосы курчавые, как каракуль.
Одет красавец был в подобие брезентовой мини-юбки и засаленную до неразличимости исходного цвета жилетку. На запястьях браслеты из необработанных золотых самородков, размером примерно в вишню каждый. За пояс у красавца заткнут длинный, отлично заточенный штык от старинной немецкой винтовки.
Богатый, по всему видно, человек. Как бы не вождь.
Однако первый же, после приветственного жеста, вопрос развеял это впечатление.
– Господин даст мне табаку? – спросил он без тени подобострастия на некоем подобии пиджин-инглиш. Грамматика была вполне произвольная, фонетика тоже, но понять можно.
– А почему я должен тебе его дать? – спросил Шульгин, ехавший первым. К нему туземец и обратился, хотя смотрел мимо, в неопределенную точку далеко за его спиной.
– Господину нужен проводник? Господин сам не найдет дорогу…
– Это с чего же ты взял?
Сашка слез с коня и предложил друзьям сделать то же.
– Привал, братцы. Девочки налево, мальчики направо. А я займусь народной дипломатией…
Он пригласил негра присесть в тени, достал из сумки пачку крепкого табака и книжечку курительной бумаги. Кандидат в проводники умел сворачивать самокрутки не хуже русского солдата-фронтовика. И курил похоже, держа папироску большим и указательным пальцем под согнутой ладонью.
– Откуда ты знаешь, что я не найду дорогу, если не сказал, куда иду?
– Такому человеку, как ты и твои спутники, больше некуда идти. Здесь нет ничего интересного для белого человека. Все интересное там. – Он махнул рукой на юг.
Разговор становился все более интригующим.
Новиков с Левашовым и девушки, сходив по необходимым делам, держались поодаль, чтобы не нарушить налаживающийся контакт. Если туземец выбрал для переговоров Шульгина, значит, имел к тому собственные резоны.
– А там, – он показал на север, – есть только одно, что вы хотите увидеть…
– Скажи – что, и, если угадаешь, мы можем договориться.
– У тебя есть тушенка с бобами и виски? – слегка отклонился от темы негр.
И то, и другое, конечно, имелось в ящиках с «НЗ», но зачем консервы сыну природы, понять было невозможно. Если дичи вокруг – море. От слонов до антилоп. Наверное, исключительно в виде престижа. Как бутылка импортного напитка и пачка «Кента» для московского интеллигента семидесятых годов. Кроме того, в местных условиях пустую консервную банку можно использовать сотней самых неожиданных способов.
– Пять банок тушенки и две бутылки виски, – нагло потребовал туземец, звали которого, как оказалось, Мамбуру.
– Проблемы будем решать по мере их поступления, – туманно ответил Сашка. Отошел к первому фургону, коротко пересказал друзьям суть переговоров, вернулся с бутылкой обычной водки и закаленным черным сухарем. Налил грамм по семьдесят в походные стаканчики.
Мамбору глотнул, блаженно закатил глаза, захрустел сухарем, который вызвал у него восторг, как бы не более сильный, чем выпивка.
– Очень хорошо, очень вкусно…
– Потом повторим, – пообещал Шульгин. Само собой, «Смирновская» вкуснее, чем пиво из пережеванных женщинами семян проса, а ржаной подсоленный сухарь – чем лепешки из маниоки или кукурузная каша.
Минут через пять словарный запас странного туземца как минимум удесятерился. Очень похоже, что приходилось ему бывать в цивилизованных краях, и неоднократно. Некоторые сложные фразы он начал строить почти правильно, и акцент моментами совсем пропадал.
В конце концов Шульгин добился от него признания, что Мамбору знает – ищут они поселение дагонов, и якобы духи сказали ему ночью: когда появятся белые люди, их можно туда проводить. За хорошую плату, разумеется.
– Без проводника дагонов никто не найдет, если даже две полных луны будет ходить совсем рядом. Еще хорошо, если просто не найдут и уедут обратно. Если духи рассердятся, люди просто исчезнут.
В сущность духов и причину их отличной информированности Шульгин решил не вдаваться.
Свои услуги Мамбору оценил несусветно: в пять фунтов, за которые легко можно было купить всю его деревню. Особенно если платить не бумажками, а серебряной мелочью.
Попутно Шульгин узнал ранее неизвестную вещь: у туземцев любая монета не была взаимозаменяемой. Если это мой шиллинг, то только мой. А твой – твой. Сдачу в лавке ты получишь со своего, никаким образом нельзя спутать на прилавке пенсы от разных монет. В чем смысл – белому человеку понять невозможно.
Оставив этот хитрый вопрос на будущее, Сашка принялся азартно торговаться. В итоге они с негром сошлись на двух фунтах серебром, и то по выполнении условий соглашения.
– А язык дагонов ты понимаешь?
– Немного. Говорить не могу. У них есть много, кто умеет по-нашему. Нельзя без этого. Давно близко живем.
– Они не опасные?
– Они? – Мамбору презрительно махнул двумя руками сразу. – Сами они никому не опасны. Живут в лесу, всего боятся. Их не трогают: взять нечего. Еда плохая. Рабами быть не могут. Женщины и те настоящим людям не подходят. Только духи их почему-то защищают. Когда захотят. А тебе они зачем?
– Я путешествую, разных людей изучаю. Работа такая.
– Знаю. Есть белые, что золото ищут, есть – зверей разных, деревья. Интересные вещи придумывают. Даже поезд придумали. Умные люди.
Он сказал именно «поезд», а не «шайтан-арба», к примеру, как его называли туркмены уже во времена Турксиба.
– Ты, наверное, мастер Дик, хочешь узнать, как они людей лечить умеют? – предположил негр. – Хорошо умеют. Белые врачи в Претории и самом Кейптауне так не могут.
Да, сугубо культурный туземец. Интересно, зачем он вернулся в свою деревню, что тут делает, почему с такой подготовкой вождем не стал?
Так Сашка и спросил.
– С белыми людьми на шахте немного ссорился. Ушел, чтобы забыли про Мамбору. Жениться тоже надо. С тебя деньги получу, женюсь. А вождем мне не надо. Трудная работа… – Туземец широко улыбнулся, показав большие, вполне здоровые зубы. Специальные травы, наверное, жует. Шульгин уже неоднократно отмечал, что с зубами у здешних негров обстоит куда лучше, чем у буров и даже англичан.
– Ладно, я тебе не отдел кадров. Собирайся, прямо сейчас и выступим.
– Одежду новую дашь? – выдвинул не входившее в предварительные условия требование проводник. – Ботинки не надо, только штаны и рубаху…
– Что с тобой поделаешь, дам, – рассмеялся Сашка, – раз жениться надо.
– Правильно понял. Здесь ни у кого нет нового костюма белого человека. Отдашь, когда вернемся, у тебя целее будет. В лес так пойду, в другой одежде дагоны пугаться будут, не узнают меня…
Дорога до цели заняла еще сутки, с одной ночевкой. Леса здесь были мощные, но деревья стояли достаточно редко, и подлесок между ними отсутствовал, так что фургоны двигались почти беспрепятственно. Вдобавок Мамбору на самом деле знал свое дело, выбирая наилучший рельеф и маршрут. Кое-где караван выходил на остатки старинных караванных троп, проложенных еще во времена расцвета племенных союзов кафров и матабеле, вплотную приблизившихся к феодализму. По этим трактам и сегодня можно было двигаться со всеми удобствами. Без изнурительной тряски на древесных корнях хотя бы…
По пути проводник, как заправский экскурсовод, рассказывал об истории своего народа и его нынешнем незавидном положении, а также просвещал в отношении местной флоры и фауны. Но путешественников интересовали только дагоны. Удивительно, но очень многое из описанного Берн-Мердохом бечуан подтверждал. Косвенно, конечно, но общая основа угадывалась.
Новиков, отстав от колонны, ехал в одиночестве, погруженный в предварительную медитацию. Полученную от Удолина информацию и несколько формул-заклинаний он старался совместить с собственными умениями и методиками. Ошибиться было нельзя ни в коем случае. Включишь ненароком не тот мыслефон и спугнешь крайне робких, по словам Мамбору, реликтовых аборигенов. Или, что еще хуже, спровоцируешь на действия, сути которых и представить невозможно.
Он несколько раз попытался мысленно связаться с профессором, но эфир был пуст. В отличие от нормального радиоэфира в нем даже треска атмосферных разрядов не прослушивалось.
Возможно, Удолин сейчас заблокировал свое сознание, решая собственные, жизненно важные задачи.
Сложность положения Андрея заключалась в том, что он не знал как следует, что же должно стать результатом его встречи с «утраченным коленом Израилевым». Поверить, могли ли они сохранить память о временах развилки, почти невозможно. Что до сих пор поддерживают связь с дуггурами – тем более. Если бы это было так – не пребывали бы эти остатки некогда великой расы в таком жалком положении.
А там – кто его знает. Возлагал же Удолин на эту встречу серьезные надежды. И слова Мамбору о «духах» скорее всего имели отношение к их паранормальным способностям.
Одним словом, хоть и звучит тривиально: «бой покажет».
Их встретили неожиданно, далеко от места, где предполагалось местонахождение дагонского поселения, соотнося разглагольствования проводника с собственными ощущениями. Впереди ехал Шульгин с Анной, стремя в стремя, метров на двадцать позади Мамбору, который всю дорогу двигался легкой трусцой, не выказывая признаков усталости. Не зря его земляки выигрывали марафонские дистанции на Олимпиадах.
За ними, тоже попарно, Новиков с Ириной и Левашов с Ларисой.
Увидев предводителя дагонов, Сашка оторопел. Он, хотя бы на картинках, видел и бушменов и готтентотов, а также и пигмеев лесов Итури. Но это было совсем не то. Люди – все равно люди, а здесь перед ним стояли другие.
Бечуаны, кафры, другие первопоселенцы этих земель просто к ним привыкли. Не уважали по многим причинам, но привыкли. Воспринимали такими же естественными элементами биоценоза, какими в русских сказках считались лешие и кикиморы. Не всегда приятные в общении существа, но на определенных условиях с ними можно рядом жить и нужно ладить, раз деваться некуда.
Но Шульгин со товарищи были люди иного стиля мышления.
– Ира, это тебе – как? – спросил Сашка, подразумевая, что она должна лучше разбираться в ксенобиологии. Природные аггры со станции на этих сильно походили. Нарушениями геометрии и симметрии тел.
Новиков мгновенно бросил на друга лоскут психоформы. Чтобы погасить его подсознательно негативную реакцию. С дагонами, как передал ему Удолин, единственный способ контакта – только уважение, лучше даже – почтение. Вы – великие и древние, а мы так, прогуляться вышли. Ну и мудрости от вас почерпнуть.
Андрей успел. Шульгинские эмоции закрылись, а Ирина на доступном старейшине дагонов уровне транслировать, по счастью, не умела. Здесь она осталась только белой человеческой женщиной.
Опять правильно решили Новиков с Удолиным – никому нельзя давать лишних способностей. И лишней информации.
Старейшина или назначенный парламентер – не слишком важно. Он вышел встречать гостей, а какие на нем условные погоны – без разницы.
Выглядел он, как… Теперь уже Новиков одернул сам себя. Не стоит воспринимать это как экспонат в кунсткамере. Все нормально, как выглядит, так и выглядит. Фенотип соответствует генотипу, чего и всем прочим желаем.
– Скажи ему, – правильно уловив настроение друга, указал рукой на существо Шульгин проводнику. – Мы пришли с миром, у нас много подарков, мы хотим дружить и разговаривать. Назови ему наши настоящие имена, вдруг ему это важно. А оружие у нас только для самозащиты от зверей и плохих людей…
Несмотря на то что карлик походил на жертву церебрального паралича, двигался он активно, иные его жесты и перемещения были на пределе восприятия даже Шульгина. Соразмерный меч ему в руки или стилет – неизвестно чем поединок бы кончился, не дай, конечно, бог. Драться с таким – еще задумаешься.
Бечуан только начал конструировать первую фразу, как встречающий перебил его.
– Я это понял сразу, – сказал он на дико звучащем языке, который, тем не менее, по типу синхронного перевода, одновременно звучал в головах Сашки и Андрея как чистейший русский. Причем не современный, а как раз XIX века. – Мы вас примем. Мы давно хотели встретиться с настоящими людьми…
Шульгин мог бы и перемолчать, подождать развития темы, но не сдержался.
– Русские для вас настоящие? С чего бы вдруг? Англичане с бурами чем хуже? Немцы тоже неподалеку имеются. А наш Мамбору чем не человек?
– Мне не посчастливилось узнать, кто такие – русские! – со странными (в русском переводе) интонациями ответил дагон. – Белые люди себя по-разному называют, только нам это неинтересно. Мамбору тоже человек, но не настоящий… Он меня «не слышит».
По мере разговора дагон неуловимо превращался не то чтобы в красавца, но в почти нормально выглядящего невысокого туземца. Как раз впору приличному дикому бушмену.
«Адаптация центров восприятия, – привычно обозначил явление Шульгин. – Сначала слуховых, теперь зрительных…»
Он оглянулся. Новиков стоял в позе капитана Немо, скрестив руки на груди, с нахмуренным лицом, опустив глаза к земле. Остальные тоже молчали, но выглядели встревоженно-растерянными. Лариса и Аня вообще отвернулись, смотреть на дагона им было тяжеловато. Как некоторым людям на вполне безобидных и по-своему изящных пауков.
– А вы вдвоем меня слышите, и я хорошо слышу. Значит – вы настоящие. Мы можем принять вас. Если не затруднит – пойдемте в наши пещеры. Это недалеко. Там сможем говорить долго и спокойно. Твоих спутников, – он движением желто-коричневой, словно высушенной руки показал на Левашова и девушек, – тоже примем с уважением, но говорить с ними не станем. Лошадям, возницам и фургонам покажем хорошее место, где они будут в безопасности.
«Ишь, как четко все распределил. Значит, роботов он за людей не считает, однако относится к факту спокойно. Вот тебе и телепатия…», – подумал Новиков.
Он видел дагона сразу в обеих ипостасях – подлинной и наведенной. Ни та ни другая враждебности не демонстрировала. Определенное любопытство и соответствующее их культурному коду радушие. Пожалуй, так. Если, конечно, сила внушения реликта не превосходит резистентности их с Сашкой личностей.
– Мы принимаем твое приглашение. Пойдем, поговорим, надеюсь, это будет интересно всем. Один человек, который встречался с вами, рассказывал такое, во что трудно поверить… Мы решили узнать сами.
Андрею скрывать было нечего. Его слова совпадали с мыслями. Никаких вторых и третьих планов. И то, что интерес к древним не имеет корыстной или враждебной подоплеки, тоже должно быть очевидно. Поскольку так оно и было. Конкретности – это уже другое дело.
– А, это, конечно, Томас, – изобразил дагон подобие улыбки. – На моей памяти больше ни с кем из настоящих людей мы не встречались. Сопутствует ли ему здоровье и удача?
– Надеюсь, да. Он живет в другой стране, мы разговаривали через бумагу и другого человека.
Бог знает, имеет ли этот так и не назвавший себя телепат понятие о письменности.
– Пойдем, – повторил дагон, тут же потеряв интерес к теме. – Своего проводника отпусти, дав ему обещанные подарки. О том, что видел меня, он забудет…
И тут же исчез, как умеют это делать аборигены Австралии или цирковые фокусники. Шульгин тоже умел, в подходящей обстановке.
Мамбору выглядел несколько ошарашенным. Видимо, раньше он не оказывался в подобном положении. Его не слишком отягощенный сложными связями мозг все же отличался от мозга единоплеменников. Общение с белыми, необходимость приспосабливаться к новым реалиям, знание чужого языка уже приподняли его на следующий уровень. Оттого легко и безболезненно смириться с посторонним воздействием у него не получалось. Мамбору физически ощущал, как колеблется, искажается только что вполне очевидная действительность. Он забывал, сознавая, что забывает только что виденное, неявно чувствовал подмену сущностей, и подкорка его протестовала.
– Спасибо, друг, – сказал Новиков, отвлекая бечуана от ненужных терзаний. – Ты привел нас, куда договорились. Обратную дорогу мы найдем сами. Получи свою плату…
Они рассчитались сполна, и восторг от обретенного богатства легко вытеснил у туземца посторонние ощущения.
– Спасибо, сэр. Будешь возвращаться – заезжай в мою деревню. Вместе повеселимся…
Он сделал несколько жестов вежливости и дружелюбия, повернулся и потрусил по тропе, теперь уже безболезненно забывая все больше и больше.
Дагоны неплохо устроились. По здешним меркам, естественно. Километр от места встречи фургоны с трудом пробирались среди многослойных, как оборонительные позиции Первой мировой, зарослей «Гледичи вооруженной», если по-русски, или «держидерева» по-южноафрикански. Попросту – акации, каждая ветвь которой унизана жутким количеством десятисантиметровых, острых, как бандитские заточки, и столь же прочных шипов.
И это при том, что вновь появившийся после ухода Мамбору дагон открывал им путь. Ветки послушно сдвигались в стороны и вновь смыкались за спиной. Обычный путник, вооруженный хорошим мачете, не пробился бы через заросли и за сутки, если бы не избрал способ передвижения по-пластунски. Да и то…
Впрочем, кто его знает, какие ловушки подстерегали бы его на уровне земли. Пара муравейников, гнезда тарантулов, каракуртов, полсотни змей нужной ядовитости…
Удивительно, как дагоны, со своими способностями, превратились в жалкий народец, вызывающий презрение (смешанное со страхом) даже у бечуанов, не говоря о гордых кафрах.
На этот счет у Новикова уже появились соображения. Немцы и чехи тоже не слишком уважали евреев из Пражского гетто, хотя в его тесных и душных трущобах жили и практиковали такие непревзойденные мастера, как реб Лев, известный также как Бен-Бецалель, его ученики и ученики его учеников, запросто создававшие и оживлявшие големов[69] всех видов и тактико-технических данных. Попутно выпускавшие диваны, отличавшиеся уникальными свойствами.[70]
За лесом непроходимых колючек просторно раскинулись лиственные деревья, преимущественно клены, похожие на канадские красными изнанками своих листьев. Между ними росла сочная и высокая, почти по пояс трава. Рядом протекал неширокий, но кристально чистый ручей в ложе из золотистого песка.
– Оставь здесь своих слуг, – почти повелительно сказал дагон. Ничего не оставалось, как отдать нужные распоряжения роботам.
Он все же проследил, как они, расседлав, отпустили пастись верховых и упряжных коней, изнуренных многодневным походом. Это только непонимающим людям кажется, что лошадь – сильное и неутомимое животное. На самом деле она куда слабее человека. Заставь ее скакать с всадником при полной амуниции галопом, верст через пять устанет, через десять – запалится, упадет и не всегда выживет. А рядовой солдат, с ружьем, патронными сумками, ранцем, в тяжелых сапогах, в среднеазиатскую жару или арктический холод? Прошагает, сколько надо, да еще и в атаку пойдет. На твердыни Карса или Измаила. Суворов, который якобы ценил и берег людей, что писал? «Пятьдесят верст в день – в охотку, семьдесят – трудно, сто – тяжело, сто двадцать – невыносимо, но можно, если надо». И ведь проходили!
С этого идиллического (или буколического, как кому нравится) места допущенные в тайные убежища братья пошли пешком. Странно, что им не велели оставить при караване оружие. Мужчины прихватили с собой вещмешки с продовольствием, дней на пять, девушки – сумки с личными вещами. Говорил же Мамбору – «еда у них совсем плохая». Что касается санитарии – вряд ли лучше.
Имелись в запасе и подарки. Не бусы, конечно, и не зеркальца, а вещи, которые могут заинтересовать интеллектуальных, но отчего-то вымирающих экзотов.
Скорее всего их время пришло. Как мамонтов.
У края леса, заслоненные вековыми дубами, вздымались вверх остроконечные скалы. Отроги большого хребта, тянущегося от Лимпопо до великой реки Замбези.
Дагон указал рукой на неприметную щель между двумя гранитными осыпями.
– Входите, гости…
– Мне страшно, Лариса, – прошептала Аня, сжав руку подруги у локтя.
– Не боись, девочка, – ответила та, совершенно не думая, что Анна по рождению старше ее на шестьдесят лет. – Бог не выдаст, свинья не съест…
Откуда-то появилось два совсем юных дагончика, столь же уродливых, как предводитель, но подвижных, как тараканы. В руках они держали очень прилично сделанные факелы из тщательно скрученных прутьев, поверху густо обмазанных смолой. Переступив порог пещеры, запалили их с помощью обычных кресал и трута, пошли впереди, освещая гостям дорогу.
У наших имелись мощные фонари, причем разных типов, применительно к обстановке, но использовать их сейчас было вряд ли правильно.
Метров через сто осторожного движения по коридору, слишком низкому для людей гвардейского роста, когда шеи и спины начали болеть от постоянных наклонов и приседаний, перед ними распахнулся внезапно просторный зал, изукрашенный сталактитами, сталагмитами и просто кальциевыми натеками вдоль стен, похожими на изысканные упражнения дизайнеров-сюрреалистов.
Глава одиннадцатая
Газеты и телеграфные агентства всего цивилизованного мира сообщили, что война на самом отдаленном от всего на свете театре все же началась. Англо-бурская война, последняя война XIX и первая война ХХ века. Какими бы гуманистическими и демократическими доводами ее ни оправдывали певцы британского империализма, от Черчилля до непонятно каким образом влезшего в эту историю Артура Конан-Дойля, никогда ранее в шовинизме не замеченного, это была обычная агрессивно-колониальная война. Только не против туземцев любых кровей и рас, а против вполне европейских (по составу населения и способу правления) государств. Что и придавало ситуации определенное своеобразие. Раньше самым ярым империалистам не приходило в голову аннексировать независимые государства белых людей для включения их в состав колонии. Как если бы те же англичане развязали войну против Турции, чтобы присоединить ее к Судану…
Сильвия к этому времени уже обжилась в городе своей юности. Под привычным именем леди Спенсер она там фигурировать не могла, место было занято, как и ее особняк. Ей пришлось взять себе имя леди Макрай, на что имелись свои причины. Была у нее в девяностые годы такая подруга и одновременно сотрудница, с безукоризненной родословной, биографией и приличным состоянием. В резидентуре старались, чтобы привлекаемые к работе люди (женщины по преимуществу) не имели семей и близких родственников, отличались авантюрным и взбалмошным характером, любили путешествовать. Все это давало им необходимую степень свободы, позволяло надолго исчезать из поля зрения светского общества и не вызывать удивления некоторыми экстравагантными поступками и привычками.
По странному совпадению звали леди Макрай Дианой, что очень понравилось Руководительнице проекта. К своему имени аггрианка испытывала странную привязанность и не меняла его около трехсот лет, тем более что звучало оно довольно универсально в любой точке цивилизованного мира.
При своем прошлом посещении Земли настоящая Дайяна несколько месяцев подменяла в Лондоне эту тридцатилетнюю даму, которую в благодарность отправили в кругосветное путешествие на комфортабельном пароходе только что открывшегося туристического агентства Кука.
Задержавшись на несколько месяцев в Буэнос-Айресе, справедливо носившем тогда почетное именование «Париж Южного полушария», леди Макрай встретила там красавца-скотопромышленника, имевшего в пампе около ста тысяч голов крупного рогатого скота, а в городе – собственный оперный театр. И осталась с ним надолго.
Сильвии-второй нужно было через Сильвию-здешнюю переправить Диане Макрай в Аргентину полсотни тысяч фунтов и приказ не возвращаться домой в течение ближайшего года. А сама бывшая леди Спенсер приняла ее имя, привела в соответствие внешность, вселилась в пустующий, весьма приличный дом, и начала вести подобающий образ жизни.
Берестину, чтобы он не слишком комплексовал, оставили его имя и фамилию, добавив подтвержденный нужными бумагами титул «князь». И не какой-нибудь, послепетровского времени, пожалованный, природный Рюрикович. Теперь Алексей стал настоящим русским аристократом, немыслимо, по европейским меркам богатым, прожигателем жизни, игроком на бегах и скачках. И любовником леди Макрай.
Злые языки устали обсуждать – кто из них кого содержит. Но что пара получилась красивая – спорить не мог никто.
Алексея такой сюжетный ход развлекал. Он любил всяческие эскапады. А тут вдобавок появилась возможность вернуться к забытой страсти – писать картины. Отчего ему не сделаться основоположником совсем нового направления – не передвижник-реалист и не экспрессионист, не кубист, упаси бог, а нечто вполне оригинальное, этакий неоимпрессионизм, которым он и прославился в позднесоветском Союзе.
Ему нравился его новый образ жизни с Сильвией (ну да, Дайяной, конечно). Двухэтажный дом на улице Мэлл, из окон которого был виден Джеймс-парк, размеренный распорядок дня, вечерние выезды в город с подругой на светские мероприятия или самостоятельные походы по пабам и бильярдным залам.
Месяц-другой друзья без него, несомненно, обойдутся, и дольше обходились. У них сейчас свои заботы и развлечения, у него – свои. Нет, если вдруг позовут, тогда без вопросов: «один за всех, и все за одного», а пока зачем думать о посторонних вещах?
Одним словом, новая роль не требовала от него никаких актерских или нравственных усилий.
Зато Сильвия, вернувшись душой и телом почти на девяносто лет назад, ощутила приступ молодого азарта. Не связанная принципами и обязанностями прежней должности, она ощущала себя профессиональным футболистом, вышедшим повалять дурака на поле с любителями из оксфордского колледжа. Счет пятнадцать-ноль желаете? Сделаем.
То же и с мировыми событиями. Когда-то они были для нее действительно существенными – успех или неудача в очередной политической комбинации много значили как для самолюбия, так и для карьеры. Манкирование обязанностями могло закончиться плохо, вплоть до развоплощения, как это чуть не случилось с Ириной. А теперь все – не более чем партия в бридж или крокет. Война? Пусть будет война, если она все равно неизбежна. Поучаствуем. Она давно привыкла считать себя членом Братства, и, следовательно, если оно решило, что в этот раз Англия должна проиграть, – в этом ключе и станет работать. Как говорится – ничего личного.
Интереснее же всего было то, что гордая леди Спенсер непонятным для нее самой образом вдруг начала воспринимать Берестина, как настоящего мужа. Что занимались общими делами, часто и с удовольствием спали в одной постели, это само собой. Партнеров, с которыми приходилось иметь отношения, она не сосчитала бы на всех пальцах, даже перевоплотившись в бога Шиву. Здесь получилось иначе. Неужели постоянное общение с русскими подругами так на нее подействовало? Очень даже может быть! Они своих парней считали не просто самцами, в данный момент исполняющими положенную функцию лучше других, а как бы неотъемлемой частью самих себя: любовником, соратником, другом, братом одновременно. Не заморачиваясь на темах феминизма, сексизма и мужского шовинизма.
Что-то подобное Сильвия стала испытывать к Берестину, особенно после того, как он предпочел остаться с ней, а не отправиться с друзьями странствовать по африканским просторам и дебрям. И стала замечать, что последнее время чаще ощущает себя русской, чем англичанкой, хотя, казалось бы, – сто двадцать лет и всего пять. Есть разница?
В итоге Британская империя получила сильного и опасного врага, тем более опасного, что неизвестного, незаметного и неуловимого. Будто проникший в организм фильтрующийся вирус, который невозможно выявить имеющимися в распоряжении современной медицины средствами. Все, что она делала и собиралась делать, осуществлялось чужими руками, да так, что исполнители не понимали своей истинной роли в партии, разыгрываемой по новым правилам.
Что же касается настоящей леди Дианы Макрай, никто и представить не мог, что она в какой-то мере вообще интересуется политикой. Вот связь с русским князем – вполне в ее стиле, и она обсуждалась в обществе с горячим интересом.
Переходу Рубикона, то есть началу непосредственных боевых действий на границе Капской колонии, Наталя, Оранжевой республики и Трансвааля, значительно способствовал разгром весьма уважаемого в Англии 9-го уланского полка, где служило много юношей из почтенных «старых» семейств.
Получив сообщение из Африки раньше, чем успели дойти депеши из официальных источников, Сильвия через журналистов, любящих фунты больше, чем абстрактное Отечество, разместила в нескольких влиятельных газетах тексты нужного содержания. Процентов на семьдесят они соответствовали реальному положению дел, зато на тридцать являлись типичным образцом неизвестного здесь пока нейролингвистического программирования общества, а главное – правящей верхушки. Ее, верхушку, то есть людей, имевших право принимать решения и влиять на их принятие, следовало довести до состояния слепой, безрассудной ярости, когда ввязываются в войну, не задумываясь о последствиях. Как ввязалась в мировую бойню Австро-Венгрия, ослепленная антисербской истерией.
На все, что последний год писалось о враждебности буров, угнетении ими законных прав ойтландеров, чистокровных британцев по преимуществу, платящих две трети налогов, но не считающихся равноправными гражданами, наложилась мастерски составленная информация о неспровоцированной агрессии с территории Трансвааля и уничтожении дикарями, не читающими ничего, кроме Библии, «цвета английского воинства». И много чего еще, способного довести агрессивный шовинизм до нужного накала, было написано в этих статьях.
Грудой посыпались запросы в правительство, от парламентских дискуссий дрожали стены, начались даже уличные демонстрации. В отличие от Петербурга августа 1914-го не было только погромов, поскольку буры – не то что немцы в России, своих магазинов и контор в Лондоне не имели.
Нужная работа велась и подковерно, в клубах, частных домах, на трибунах ипподромов. С многими влиятельными членами палаты лордов, министрами, даже и членами царствующего дома. Люди, близкие к власти (а может быть – по этой именно причине), рационального мышления чужды. Оно требует самоуважения и холодного рассудка, а с такими качествами в правительство и парламент просочиться трудно. Зато большие деньги и спецпропаганда дают в названой среде восхитительные результаты.
Губернатор Капской колонии, ее военное командование, а также люди, имеющие отношение к компании «Де Бирс», были немало удивлены вспыхнувшим в Лондоне ажиотажем. Они своей руки приложить еще не успели, хотя собирались. Но то, что началось, – вполне их устраивало. Теперь не было необходимости искать оправдание неудачному рейду Девятого полка, да и многим другим несообразностям. Если правительство и престарелая королева Виктория хотят войны – она будет. И все спишет! В предыдущей истории она началась месяцем позже и по другому поводу, но велика ли разница? Если пушки заряжены, стрелять они обязательно будут.
Первым успехом затеянной Сильвией многоходовки оказалось то, что английские войска и на восточном – в Натале, и на западном – от Мафекинга до Кимберли – фронтах вынуждены были вступать в войну неподготовленными, не получив ожидаемых подкреплений из Метрополии и Индии. Но энтузиазм превосходил здравые расчеты. Так не раз случалось в истории, взять хотя бы нападение Италии на Грецию в сороковом году.
Начиная кампанию, главнокомандующий генерал Редверс Буллер и его начальник штаба – Арчибальд Хантер не вспомнили слов знаменитого Мольтке: «Ошибка, допущенная в первоначальной расстановке сил, едва ли может быть исправлена в ходе всей войны». Так оно и получилось.
Несколькими днями позже выяснилось, что так называемые Великие державы восприняли британскую агрессию достаточно спокойно, скорее с интересом, чем с возмущением. То есть фактически предательски по отношению к двум маленьким республикам. Так они поступали, ничему не научившись и потом на протяжении всего двадцатого века предпочитая «умиротворять агрессора», а не пресекать его поползновения в корне. А ведь стоило тем же Франции, России и Германии, не считая Соединенных Штатов, предъявить «Владычице морей» грамотно составленный ультиматум, и куда бы она делась? Побились бы еще в истерике сколько-то времени либеральные газеты, поколотил бы кулаком по трибуне сэр Джозеф Чемберлен, на этом бы все и закончилось. На мировую войну Британия, при тогдашнем соотношении сил, не решилась бы. У нее еще не было гигантского дредноутного флота, сухопутные войска не шли ни в какое сравнение с армиями континентальных держав, и десантировать их на материк было нечем. Сама же Англия крайне уязвима на морских коммуникациях и на границах своих колоний, включая «жемчужину короны – Индию».
До чего же недальновидны чиновники, в силу тех или иных причин получавшие право вершить мировую политику!
Через четыре года России пришлось пожинать плоды «невмешательства», когда Англия, на волне своей «победы» вооружила и агрессивно поддерживала Японию, через четырнадцать Германия получила «по полной программе», не говоря уже о тридцать девятом – сорок первом, тогда досталось всем!
А казалось бы – какие проблемы?
Вильгельм Второй писал «кузену Никки»[71] в личном письме: «Чтобы там ни случилось, я никогда не позволю англичанам раздавить Трансвааль!»
Русский император ограничился разрешением служащим офицерам поехать на ту войну добровольцами, в частном порядке, но хоть с сохранением мундира и жалованья.
А если бы…
Германский экспедиционный корпус из Юго-Западной Африки в считаные дни выдвинулся на линию противостояния бурских и английских войск, французы проявили активность в районе Фашоды, а несколько российских океанских рейдеров, которых англичане боялись, как черт ладана, вышли на коммуникацию Кейптаун – Бомбей…
Но не сделали этого, воздержались, неизвестно какими принципами руководствуясь, получив в итоге кровавую мясорубку двух мировых войн.
Впрочем, все эти рассуждения относятся к состоявшейся истории, здесь же получалось несколько иначе. Военные атташе Центральных держав дружно признавали недостаточную подготовленность Британии к войне, чрезмерно растянутые коммуникации, длительные сроки призыва резервистов на Островах и сложности переброски морем боеготовых подразделений из доминионов. И одновременно – полную отмобилизованность, численный перевес и высочайший боевой дух буров.
Вполне можно предположить, что Генеральные штабы заинтересованных держав желали сначала посмотреть, как начнут развиваться этапы войны, которая представляла не только политический, но и чисто теоретический интерес. Каковы окажутся сравнительные качества профессиональной армии и «вооруженного народа», как проявят себя новейшие магазинные винтовки, пулеметы и полевые скорострельные пушки? А там уже можно будет делать выводы и ставки. «Пусть проигравший плачет, кляня свою судьбу».
Если Англия начнет терпеть впечатляющие неудачи, желающих подтолкнуть падающего найдется достаточно.
Андреевскому Братству тоже хотелось бы жить спокойно, ни во что не вмешиваясь, радостно и комфортно. Ничего лучшего для уважающей себя, обеспеченной, конечно, личности, чем конец девятнадцатого века, история не придумала.
А способен ли нормальный мужчина, сильный и чему нужно обученный, пройти мимо переулка, где толпа озверелых подростков бьет человека? Не важно какого, пусть распоследнего бомжа. Или – женщину.
Здесь – то же самое. Никто не собирался идеализировать буров, публика эта сама по себе крайне неприятная, религиозные ортодоксы и рабовладельцы, но это не основание затевать против них большую войну. А раз затеяли и мировое сообщество демонстративно посмотрело, кто сквозь пальцы, а кто сквозь зубы, значит – каждый за себя!
Отчего это золотые прииски и алмазные месторождения должны принадлежать англичанам?
«Зачем пришли они от Альбиона, что нужно им?..»
Добывали бы свой кардифский уголь, стригли овец – и достаточно.
А то придумали: Империя, над которой никогда не заходит солнце!
Конечно, при таком раскладе геополитики нужно было принимать нестандартные решения. Учинить такую внешне бессмысленную свалку, из которой главные фигуранты выйдут неспособными к более целенаправленным и разрушительным авантюрам следующие тридцать лет. По примеру, скажем, Кубинского кризиса, кое-чему научившего адептов ядерного противостояния.
Еще за две недели до начала уже решенной войны Берестин, пользуясь данными ему правами, пригласил на дружескую беседу Кирсанова. Павел Васильевич прибыл незамедлительно, и они вдвоем устроились в отдельном кабинете малоприметного, но хорошего ресторана.
Алексей сначала порасспрашивал, дружеским и заинтересованным тоном, как у товарища идут дела. Личные, по преимуществу, ибо о служебных тот должен был докладывать без всяких наводящих вопросов.
– Очень, скажу вам, хорошо. Вам это трудно понять, Алексей Петрович, но для меня ведь это – родные времена. Прошлый раз мне было здесь двенадцать лет, сейчас – уже тридцать шесть. Много. Я позволил себе съездить в Петербург. Жил я там с родителями, братом и двумя сестрами, на Фурштатской улице. Не очень богато жили, признаюсь. Отец – чиновник, титулярный советник всего лишь. Когда я и брат в военные училища поступили, на казенный кошт, им полегче стало…
– Навестить себя прежнего желания не возникло? – спросил Берестин, вспомнив свою, почти аналогичную ситуацию, когда попал в шестьдесят шестой.
– Упаси бог, Алексей Петрович. Подумать – и то страшно! Однако проверил, живут ли в том же месте такие-то и такие-то. Живут, оказалось…
Повисла пауза.
Берестин знал ее причину, отчего разлил по рюмкам шустовский коньяк. Кирсанов обычно воздерживался, но сейчас выпил.
– Пошел я в банк и перевел на имя отца пятьдесят тысяч рублей. Якобы от имени одного из его старых друзей, давно уехавшего инженером в Калифорнию, по контракту. С припиской вроде того: «Возвращаю, Василий, старый долг, о котором ты не помнишь, а скорее и не знаешь. Главное, что я помню. Получи и пользуйся спокойно…» В таком вот духе.
– И как же оно, Павел Васильевич, на самом деле будет? – из вполне никчемного интереса спросил Берестин. – Вам, значит, было двенадцать лет, папаша ваш внезапно сильно разбогател, но на вас это никак не отразилось. А теперь – отразится?
– Не морочили бы вы мне голову, господин генерал. Устал я на такие темы размышлять. Скажите, зачем пригласили, да и займемся делом.
Дело, предложенное Кирсанову, было несложным, но достаточно опасным. Всегда ведь есть опасность, что намеченная, хорошо спланированная операция может пойти наперекос, вмешаются всякие непредвиденные факторы и тому подобное. При этом работать до поры Кирсанову придется в одиночку, полагаясь только на свои способности и на удачу.
– Сделаем, Алексей Петрович. Полмиллиона фунтов потребуется, не меньше, с проводкой через солидный банк, лучше всего – каким-то образом близкий к английскому правительству. Лишний скандальчик в случае чего не помешает… – Глаза у жандарма заблестели. Он попадал в собственную стихию, и его мозг, чрезвычайно хорошо налаженный в нужную сторону, уже начал выдавать варианты, о которых сам Берестин пока не задумывался. – Вы только здесь хорошенько все обеспечьте, насчет источников и способов перечисления сумм. Если на «Де Бирс» или «Голдфилдс» завязать концы, вообще красиво может получиться… Есть у меня наметочка… Через Петербург все и провернем. Представляете, какой шум поднимется, когда вдруг выяснится, что известнейшие банкиры финансируют закупки оружия для буров? Бизнес на крови соотечественников, и так далее! Парламентский кризис, секвестры счетов, возможно и падение правительства…
– Проворачивайте, Павел Васильевич. Вы только вовремя мне говорите, что нужно делать, а дальше – каждый по своему направлению.
– Так я уже сказал. Полмиллиона фунтов у вас есть? К вечеру представлю вам реестрик: что, куда, зачем. Мне к тому же еще один счет откройте, тысяч так на сто, хоть с бразильским покрытием, хоть с перуанским, – вот на это имя. Он протянул Алексею паспорт.
Уже и собственным документом Кирсанов обзавелся, не прибегая к помощи Братства. Что ж, правильно. Должность исполнительного директора комитета «За свободный Трансвааль» ему была предоставлена, примерный круг обязанностей и прерогатив очерчен, вот он и приступил к работе, как ее понимал.
– Пинхас Шапиро, гражданин Уругвая, – с легким недоумением прочитал Берестин. – Не переигрываете? С вашей нордической внешностью и синими глазами…
– В самый раз, ваше превосходительство, – усмехнулся Павел. – Приходилось мне и лодзинских евреев изображать, и финских коммерсантов… Всякое бывало. Да и этот паспорт – на особый случай. Другие тоже есть.
– Никак я не пойму, Павел, чего ради вы вообще с нами в Стамбуле связались? С вашими способностями где угодно могли роскошно устроиться, а вы – в батальон, рядовым наемником…
Берестин в отличие от Шульгина не проехал с Кирсановым в поезде Россию от Харькова до Иркутска и обратно, и разговоров по душам у них раньше не случалось.
Кирсанов повертел бокал за тонкую ножку.
– Мы же не будем сейчас высоких материй касаться? Чувство долга, любовь к Родине и тому подобное? Немодно, несовременно. Опять же, люди вашего типа к жандармам изначально с пренебрежением относятся. Давайте так считать – интересно мне стало, что вы затеваете и что в итоге получиться может. Я же не спрашиваю, зачем вам то, чем вы раньше занимались и сейчас занимаетесь? Ни одного разумного обоснования, а все же…
– Ладно, один-один, Павел Васильевич, – засмеялся Алексей. – Можно выпить бутылку водки из горлышка в грязной подворотне, и ее же – в клубе на Большой Морской. Разница лишь в процессе, вы понимаете?
– Можно и вообще не пить…
– Встречаются и такие уникумы, – с долей сомнения произнес Берестин, – но я с ними предпочитаю не пересекаться. Итак, подходите вечером вот по этому адресу, – он показал визитную карточку и тут же ее спрятал, – все будет готово. Наличными – сколько?
Кирсанов прикинул. Не столько текущую потребность в деньгах, сколько удобство размещения золота и бумажек в карманах и саквояже.
– Пятьдесят – за глаза…
Задача была как раз по характеру Кирсанова. Интрига, риск, возможность проявить свои неординарные способности, да еще и хитрая, многослойная провокация, не оставляющая противнику шансов на «сохранение лица». Это не считая прямого, фактического ущерба по военной и политической линиям.
…Голландский пароход «Ватергюсс», старая калоша, в четыре тысячи регистровых тонн, с парадным ходом десять узлов, неторопливо взбивая единственным винтом серые волны, огибал южную оконечность Африки.
Судно планировалось владельцами к продаже на слом, поскольку эксплуатационные расходы уже превысили все разумные пределы и надежд на сколько-нибудь приличный фрахт не существовало. Немцы, французы, англичане понастроили столько быстроходных, современных, с иголочки грузовозов и лайнеров, что таким старичкам в море делать нечего.
И вдруг в конторе мелкой компании, владевшей тремя пароходами и десятком рыболовных сейнеров, в захолустном порту Хелдер на берегу Северного моря, появился молодой человек в длинном непромокаемом плаще и широкополой шляпе. Погода стояла отвратительная: ветры, шторма, туманы, сменяемые дождями, и наоборот.
– Я бы хотел с кем-нибудь поговорить, – сказал он клерку, облокачиваясь на стойку и складывая огромный черный зонт, с которого текло на пол.
– Почему не со мной? – спросил тот, мужчина лет пятидесяти, с седеющей бородкой «буланже» и мешками под глазами, говорящими о застарелой почечной болезни.
– Могу и с вами, если вы вправе принимать решения. Мне нужен пароход для дальнего рейса. «Ватергюсс», пожалуй, меня устраивает, если в состоянии доплыть до Мозамбика. – Мужчина указал через заплаканное окно на видневшееся у дальнего пирса судно старомодной архитектуры, едва дымившее тонкой, сдвинутой к корме трубой. – Цена не имеет особого значения. Лишь бы он смог выйти в море… Завтра?
Тут же клерк вызвал с верхнего этажа хозяина, давно пребывавшего в глубокой меланхолии, о чем говорил исходивший от него устойчивый запах крепкого табака и дешевого рома.
– Позвольте представиться – Питер Сэйпир, – поднес два пальца к шляпе молодой человек. – Я фрахтую «Ватергюсс». До Мозамбика. В один конец.
– Десять тысяч фунтов, – быстро ответил хозяин, сжав в кармане кулак на счастье. Эта сумма покрывала продажную стоимость парохода и на пару лет решала другие финансовые проблемы. А если потонет в штормовом океане, еще и страховку можно получить, пусть и ничтожную. Если разговор о фрахте пойдет всерьез, хозяин готов был согласиться и на половину запрошенного.
Не торгуясь, Сэйпир тут же выложил на стол задаток, целую тысячу новенькими, хрустящими десятифунтовками.
– Подготовьте бумаги, я сейчас же и подпишу…
– Позволите вас угостить, достопочтенный? – едва сдерживая счастливую дрожь в руках, спросил хозяин, поворачивая ключ в замке сейфа.
– Отчего и нет? Но пароход должен быть в порядке, забункерован и готов отдать концы не позднее завтрашнего вечера.
– Простите, господин, – ответил хозяин, едва сдержавший икоту после выпитой залпом большой рюмки ямайского рома. – Только послезавтра. Здесь трудно найти нужное число грузчиков, а угольные ямы «Ватергюсса» пусты. Послезавтра, до обеда… А где вы так научились говорить по-голландски? Это трудный язык. Как у нас шутят, сам черт пробовал его учить, да бросил…
– У меня врожденные способности. И я нередко бывал в Амстердаме. Алмазная фабрика, то да се… Ну, вы понимаете. Когда я могу увидеться с капитаном парохода? На послезавтра я согласен, но если опоздаете – пойдут штрафные. Пятьсот фунтов в день…
– Не опоздаем. Капитан будет здесь через час, если изволите подождать. Он у себя на квартире. Но вы еще не сказали, с каким грузом и куда должен отправиться «Ватергюсс». Его трюмы рассчитаны только на генеральный…[72]
– Я в курсе, и это меня устраивает.
Молодой господин наклонился к хозяину и почти шепотом спросил:
– Вы – патриот?
– Конечно! Но какое это имеет значение?
– У меня есть заказ на доставку сельскохозяйственных орудий вашим соотечественникам в Трансваале… Там сейчас весна, самая пора для работы на фермах.
Хозяин несколько оторопел и для восстановления душевного равновесия налил еще. Себе, фрахтеру и даже клерку.
– Но вы разве не англичанин? – с оттенком недоумения спросил хозяин.
– С чего вы взяли? Из-за фамилии? Я с тем же успехом мог назвать себя Дзянь-Линь Фу или князем Дракулой Задунайским… На самом деле я еврей из Уругвая, но это тоже никого не касается. Не забивайте себе голову лишними мыслями. Мы подписываем общий фрахт,[73] как только ваше судно будет готово отдать швартовы, я прямо у трапа вручу вам чек на остальную оговоренную сумму. Прочее вас не касается никаким образом, согласны? Если рейс пройдет успешно, ваш капитан получит премию. А какие инструкции вы дадите ему на дальнейшее – исключительно ваше дело.
Хозяин внезапно ощутил то, что в следующем веке назвали бы душевным дискомфортом. Слишком жесткий взгляд у этого молодого человека, ощущается в нем непонятная, превосходящая обычную сила воли. При том, что ему не больше тридцати лет.
Несколько восточнее мыса Игольный, когда траверз Кейптауна остался далеко за кормой, с мостика «Ватергюсса» заметили обильные дымы по правой раковине.[74] Старый пароход тоже дымил изо всех сил своей единственной трубой, но то было совсем из другой оперы. Мало-мальски понимающий взгляд немедленно опознал у горизонта идущие хорошими ходами военные корабли. Никаких других, кроме английских, здесь быть не могло. У немцев и португальцев на три тысячи миль побережья имелось лишь несколько канонерок, подходящих только для «демонстрации флага» и обстрела из малокалиберных пушек мятежных деревень. Делать здесь, в открытом океане, им было нечего.
Капитан парохода, краснолицый коренастый голландец с седеющей бородой, откровенно занервничал. На юге Африки вот-вот начнется или уже началась война, так писали в последних телеграммах, что они прочитали, зайдя за водой в порт Людериц в Германской Юго-Западной Африке. Буры, которым он, безусловно, сочувствовал, нуждаются в оружии. Запись в коносаменте никого не могла ввести в заблуждение. Во Влардингене на его пароход перегрузили из железнодорожных вагонов несколько тысяч ящиков, которые не спутаешь ни с чем. Он потом полазил по трюмам, посмотрел, некоторые аккуратно вскрыл.
Там лежали хорошо смазанные немецкие «маузеры 98». Если в остальных то же самое, получается тысяч пятьдесят винтовок, не меньше. Ящики поменьше были с патронами, миллиона два, наверное. Не зря «Ватергюсс» просел до верхнего деления грузовой марки.
Обещанная премия, прямо поразительная, грела капитанское сердце, однако страх мучил непрестанно, как только пошли вдоль принадлежащих англичанам берегов. Если они вздумают произвести досмотр, неприятностей не оберешься.
Однако наниматель, господин Сэйпир, который лично сопровождал груз и занял лучшую из четырех пассажирских кают, постоянно заверял, что опасаться нечего. Шлепай себе до Лоренцо-Маркиша и берегись только шквалов у мыса Доброй Надежды. Но говорил он это с особенной, двусмысленной интонацией, как бы намекающей на некие обстоятельства, о которых не принято упоминать прямо. Мол, мы в состоянии тебя защитить от любых неожиданностей, кроме погодных. Хорошо бы так. Но до места назначения еще почти неделя хода, и штормы тоже совсем не исключены, широты здесь не самые спокойные.
О-хо-хо, стоило ли связываться? Странные люди эти иностранцы. Неужто не могли нанять современный скоростной пароход под солидным, способным внушить уважение флагом? Уже давно были бы на месте. Но тогда он не получил бы своих денег. А там, глядишь, если все обойдется, можно будет спуститься до принадлежащего англичанам Дурбана, там взять еще один фрахт, в Бомбей, к примеру, или в Австралию. Если война, каждое судно будет нарасхват. И все – до самой смерти, тьфу-тьфу, можно будет жить, больше не заботясь о деньгах, навсегда забыв об осточертевшем море.
Кирсанов поднялся в тесную ходовую рубку, поманил капитана рукой. Они вышли на крыло мостика.
Петр Васильевич достал из кармана приличных размеров серебряную фляжку, налил капитану в стограммовую крышку.
– Давайте, мастер Тромп, за удачу…
Капитан вздохнул и выпил. Господин Сэйпир весь путь баловал его отменными напитками, то приглашая в свою каюту, то принося бутылочку к общему столу, за которым совместно питались пассажир и четыре офицера парохода.
– Как вы догадываетесь, вон те – наверняка англичане, – сказал Кирсанов.
Тромп кивнул.
– И вполне может случиться так, что они захотят посмотреть, какие именно сельхозмашины мы везем. Знаете, закон о военной контрабанде и так далее…
Капитан снова кивнул, без всякого энтузиазма. Арест парохода, интернирование до конца войны и тому подобные неприятные вещи.
– Так слушайте меня. Вас это совершенно не касается. В любом случае, как бы ни сложилось, вы идете прежним курсом, не сбавляя скорости и не показывая флага. Вам понятно?
– А как же?.. Это ведь военные корабли, с артиллерией. Нам одного снаряда хватит…
– Не ваша забота. Все остальное я беру на себя.
Кирсанов достал из внутреннего кармана теплой куртки бумажник, протянул капитану несколько редко встречающихся в обычном обращении стофунтовых банкнот.
– Это так, плата за страх. Безотносительно к сумме окончательного расчета. Поделитесь с механиком, если хотите, пусть машина работает, как швейцарские часы…
Глава двенадцатая
Крейсера приближались с норд-веста, имея скорость около пятнадцати узлов. Капитан не разбирался в военных кораблях, «в лицо» знал только отечественный «Кенингин Вильгельмина», флагман голландского флота, отличающийся крупнокалиберным башенным орудием на баке. Справочников «Джена» на пароходе, естественно, не имелось.
Зато оба крейсера были мгновенно опознаны в рубке «Изумруда», три дня назад получившего сообщение от Кирсанова и вышедшего из Лоренцу-Маркиша навстречу пароходу.
Головной – «Эклипс», постройки 1897 года, водоизмещение 5700 тонн, бронепалубный, скорость 18,5 узлов, вооружение 5 – 152-мм, 6 – 120-мм, не считая малокалиберных противоминных пушек. За ним, чуть мористее, «Гибралтар» – штука посерьезнее. Водоизмещение 7500 т, два 234-мм. орудия и десять шестидюймовок, довольно прилично бронирован, особенно казематы и боевая рубка. Скорость – восемнадцать узлов.
Все эти данные сообщил Ростокину и Алле лейтенант Белли, перед походом заучивший наизусть силуэты и характеристики всех неприятельских кораблей, с которыми, возможно, придется иметь дело в этих краях. Сделал он это скорее для собственного удовольствия и тренировки памяти, потому что вся необходимая информация мгновенно высветилась на обзорном экране рядом с изображениями кораблей. Картинка была яркой, передающей мельчащие детали, как если бы крейсера наблюдались с расстояния в несколько кабельтов в хороший бинокль. Даже, пожалуй, лучше. Трехметровые горизонтально-базовые дальномеры, установленные на марсах «Изумруда», сами по себе обладающие великолепной разрешающей способностью, передавали преобразованный сигнал в главный бортовой компьютер, где он подвергался нужной обработке, сличался с имеющейся информацией и выводился на экран в любом нужном масштабе и с идеальной цветокоррекцией.
При этом крейсер пока что держался за чертой горизонта, приподняв над ней только верхушки мачт, и заметить его британским сигнальщикам было невозможно. Даже если бы знали, в какую сторону смотреть. Но они и все офицеры, столпившиеся на мостиках «Эклипса» и «Гибралтара», таращились на голландский пароход, из последних сил преодолевающий встречную четырехбалльную волну.
Этим «просвещенные мореплаватели» отличались от офицеров Российского Императорского флота, которым строго-настрого запрещалось отвлекаться в сторону «интересного борта». Если уж оказался на мостике, в свою вахту или случайно, возьми себе определенный сектор и наблюдай его, дабы не предаваться пустым забавам, как писал в своих указах и инструкциях еще Петр Великий.
– Как думаешь, – спросил Ростокин у командира, – будут они его останавливать для досмотра?
– По нынешним законам не имеют права, в открытом море, – ответил Белли, продолжая наблюдать за эволюциями крейсеров, – но скорее всего – да. Голландский пароход, а для них что буры, что голландцы – все едино.
– И тебе этого очень хочется?
– Безусловно. В противном случае у нас не будет повода вмешаться…
Игорь, хотя и имел случаи познакомиться с деятельностью английской разведки в двадцатые годы будущего века, все же оставался по воспитанию человеком второй половины двадцать первого. Не было у него инстинктивной враждебности к гордым британцам, которые в середине XXI века ничего интересного как нация не представляли. Давно забылись, а большинству обывателей изначально оставались неизвестными все бесконечные русско-английские конфликты.
Однако, начиная с шестнадцатого века, не было у России более последовательного, упорного, бескомпромиссного врага. Можно сказать – руководимого не геополитической логикой, а подобием инстинкта. Независимым от того, имелись конкретные поводы или нет. Редкие периоды дипломатических «оттепелей» или даже военных союзов ничего не меняли в сути отношений. Бесконечные вмешательства в российские интересы на Кавказе, в Средней Азии, Персии, Турции, инспирированная Британией Крымская война вполне достойна быть названной мировой войной XIX века, в которой Россия была вынуждена сражаться сразу на шести театрах военных действий (причем на всех, кроме Крымского, – победоносно), против коалиции держав: самой Англии, Франции, Турции, Сардинского королевства.
Даже в двух мировых войнах, оказавшись союзником России, Англия, сама захлебываясь кровью, не забывала о том, что такому союзнику следует вредить больше, чем прямому противнику. Пропустили «Гебен» и «Бреслау» в Черное море, затеяли самоубийственную Дарданелльскую операцию, задуманную единственно для того, чтобы раньше русских оказаться на Босфоре. О Второй мировой тем более вспоминать не стоит. Рузвельт, плох он был или хорош, но кое-как выполнял союзнические обязательства, а Черчилль с первого до последнего дня думал только о том, чтобы Россия (пусть и называлась она СССР) не добилась в этой войне никаких геополитических выгод и преимуществ.
Владимир Белли, как и все знающие историю люди его поколения и двух следующих тоже, относился к британцам с гораздо большей неприязнью, чем к тем же немцам или туркам. Те что – враги и враги, но предпочитающие стрелять в лицо, а не в спину. С ними при случае по-людски поговорить можно, в промежутке между войнами, с англичанами же – никогда. Они уверены, что русские – лишние на этой земле.
– То есть – провокация? – спросил Ростокин.
– При чем здесь провокация? – слегка обиделся лейтенант. – Мы не в полиции работаем. Спокойно плывет по морю пароход, никого не трогает, в полном соответствии с обожаемым британцами принципом «фри трейд». Нами зафрахтованный. Везет то, что хочет, туда, куда надо. Если англичане пройдут мимо – мы препятствовать не будем…
С этими словами Белли двинул ручку машинного телеграфа на «Средний ход». Средний для «Изумруда», он превышал «Полный» для неприятеля.
– А если не пройдут?
Ростокин с Аллой специально напросились в этот поход. Игорю на самом деле было интересно, какая тут затевается интрига, как военному журналисту. Аренда дряхлого парохода для того, чтобы переправить в Трансвааль оружие, выглядела полной бессмыслицей. То же самое можно было совершить без всякого риска, прямо в порту наштамповав дубликатором какое угодно оружие в любых количествах. Ростокин даже подозревал, что по особым каналам сведения о «Ватергюссе» были переданы компетентным британским службам.
Хорошо, пусть так, он будет наблюдать, как развиваются события.
– Если нет – это их выбор.
Выбор англичане безусловно сделали, со всей свойственной им бесцеремонностью. «Если мне это надо – значит, так и будет!»
«Эклипс» еще прибавил скорость и начал обгонять пароход, подняв трехфлажный сигнал «Предлагаю остановиться для досмотра».
Белли прочел его сразу, а капитан «Ватергюсса», пожав плечами, обратился к своему единственному помощнику и штурману:
– Что это они там за вымпела вывесили?
– Я такого не понимаю, – ответил штурман, сплевывая за борт жевательный табак.
Кирсанов отошел в самый угол мостика, чтобы не мешать. Морских сигналов он тоже не знал. Достаточно и того, что Белли передал ему по рации: «Неприятеля вижу, действую по обстановке». Прямой опасности для парохода с его ценным грузом больше не было. Англичанам очень скоро станет не до него. Теперь стоит опасаться только предупредительных выстрелов, «случайно» попавших в пароход.
С крейсера, который находился на расстоянии около полутора миль, в дополнение к флажному сигналу замигал ратьеровский фонарь.
– Разрази гром их королеву, я думаю, что они требуют остановиться, – нервно откашлявшись, сказал капитан.
– Будем идти, как идем, – ответил штурман. – Мне сдается, это похоже на пиратство в открытом море…
– Защищаться нам все равно нечем…
– Пусть берут на абордаж, а потом в морском суде в Лондоне или Амстердаме выяснится, кто прав, а кто нет…
Капитан позавидовал хладнокровию своего помощника.
– Запишите все это в вахтенный журнал, вдруг пригодится, – сказал он с глубоким сомнением. Ничего другого все равно не оставалось. Они жили в те сравнительно благословенные времена, когда грузовые пароходы в море еще не топили от нечего делать, и до «Лузитании»[75] оставалось целых пятнадцать лет.
Капитан, ничего не говоря помощнику, все же надеялся на чудо. Уж очень убедительно звучали слова иностранца, передавшего ему пачку фунтов, никак не оговоренных раньше. Умеют же люди внушать к себе уважение. Без всяких расписок сунул в руку и сказал, кроме прочего:
– Мастер Тромп, надеюсь, эти деньги укрепят вашу решимость. Есть поговорка: «Кто не рискует, тот не пьет шампанское». Рискуйте, будет что вспомнить. И твердо помните – мы себя обижать никому не позволяем.
Очень хотелось спросить, кто такие «мы». Капитан знал массу языков, но не смог уловить ни малейшего намека на акцент, приоткрывший бы национальность заказчика. В слова об «уругвайском еврействе» он не поверил с самого начала.
Более же всего мастера Тромпа удивило то, что человек, годившийся ему в сыновья, держался столь властно и говорил с жесткостью, достойной адмирала.
Как бы там ни было, если не случится самого худшего, спрятанных в «набрюшнике» денег хватит, чтобы, добавив к уже скопленным за долгие годы плаваний, уйти на покой, не слишком нуждаясь. А о грузе он ничего не знает и знать не хочет. Есть фрахт, коносамент, другие бумаги, есть и представитель грузоотправителя, он отвечает за все, а капитан – только за свой пароход и верность курса.
– Начинаем работать по схеме «Корсар», – передал Белли по радиотелефону Кирсанову.
Чем хороши нынешние времена – так это ощущением свободы и независимости. Свободы действовать по собственному усмотрению и вне зависимости от новомодных технических выдумок – радиолокаторов, пеленгаторов, самолетов-разведчиков, подводных лодок, которые так осложняли жизнь следующих поколений военных моряков. А здесь нет в поле зрения неприятельского судна – и беспокоиться не о чем. Появится – все будет решать скорость, умение маневрировать, дальнобойность орудий и меткость комендоров. Как в настоящем рыцарском поединке.
Старший лейтенант Белли был несказанно горд тем, что в двадцать пять лет командует лучшим в мире крейсером. Жизнь складывалась прекрасно. Ледяным тоскливым вечером на омском вокзале судьба дала ему шанс, единственный выигрышный среди миллионов пустых или роковых. Без всяких усилий с его стороны, за исключением того, что он барахтался до последнего, как лягушка в горшке со сметаной, и сумел дожить до нужного момента. Ну а дальше просто исполнял свои обязанности, как учили. И вот он стоит на мостике своего корабля и готовится выиграть свой первый бой.
Старый героический «Изумруд», встретившись с вражескими крейсерами такого класса, мог бы рассчитывать только на мощность своих машин, позволявших дать двадцать четыре узла против их восемнадцати, а нынешний – совсем другое дело.
Владимир не испытывал, подобно Ростокину, душевных терзаний по поводу неравенства сил. Он ведь не собирался предательски нападать из-за угла на беззащитного противника. Англичане, кичащиеся своим «джентльменством», уже не раз доказали, что джентльменами стараются выглядеть только в своем кругу. Выстрел из бакового орудия «Эклипса» по курсу парохода, означающий требование застопорить машины и лечь в дрейф, один в один повторяет действия их эсминцев против «Валгаллы» в двадцать первом году, когда Белли получил из рук Колчака мичманские погоны.
Может быть, сейчас на крейсерах несут службу такие же юные сублейтенанты, которым через двадцать лет предстоит стать коммодорами и адмиралами, и теперь они получают первые уроки службы под девизом: «Кто взял, тот и прав! И плевать мы хотели на законы и обычаи».
Что ж, всякая палка – о двух концах, от века известно.
Белли двинул рукоятку телеграфа на «Полный». «Изумруд», легко разрезая волну, начал разгоняться, причем вместо столбов черного дыма, бьющих из труб англичан и затягивающих мглой половину горизонта, над ним тянулась едва заметная полоса сероватого горячего воздуха. Почему и заметили его сигнальщики «Гибралтара» недопустимо поздно, когда он приблизился уже на десять миль. Для стотридцатимиллиметровок русского крейсера – дистанция открытия действительного огня. Для английских пушек далековато, конечно. В конце девятнадцатого века нормальной считалась втрое меньшая.
Появление неизвестного, явно военного корабля вызвало среди командования обоих крейсеров скорее недоумение, чем панику. Хотя ни один сигнальщик и офицер не смогли определить имя и национальную принадлежность незнакомца, но тип не вызывал сомнения. Он относился к дальним разведчикам, или «скаутам», только недавно начавшим входить в военно-морскую моду.
Но кораблей с таким силуэтом и архитектурой не числилось в составе ни одного из мало-мальски серьезных флотов. Это не был француз, немец, американец, русский. О вероятных противниках и соперниках англичане знали все. Даже о тех единицах, что пока находились в постройке. До Первой мировой войны понятия «военной тайны» в нынешнем понимании еще не существовало. Та же Великобритания и Германия, невзирая на собственные стратегические расчеты в отношении России, безотказно строили для нее боевые корабли на своих верфях.
Впрочем, имелось в мире достаточное количество мелких «морских держав» вроде Чили, Аргентины, Бразилии, Португалии, заказывавших штучные экземпляры боевых единиц самого экзотического вида и назначения на частных верфях, запоминать силуэты и ТТХ которых старались только истинные любители. Строевым офицерам крупнейшего в мире флота это было ни к чему.
– Что-то похожее, кажется, я встречал в одном журнале, – с долей сомнения сказал инженер-механик «Гибралтара», – немцы проектировали крейсер похожего типа для России, но не уверен, дошло ли дело до постройки…[76]
– Не имеет значения, – пожал плечами командир, – в строю ни у тех, ни у других этого корабля нет. И меня гораздо больше интересует, зачем и почему он появился здесь именно сейчас. В его присутствии потрошить голландца будет не слишком комфортно.
– Да наплевать, сэр, – хохотнул старший офицер. – Международной морской полиции пока не придумали. Сейчас мы предложим ему показать флаг, поболтаем о том, о сем, да и разойдемся. Что ему тут делать? Мы все в нейтральных водах. Голландец от нас в любом случае не уйдет…
– Пожалуй, – с некоторым сомнением ответил командир. Ему не нравилась агрессивная решительность, с которой чужой крейсер шел на сближение. Дьявол его знает, если это на самом деле немец или русский, могут быть неприятности. Вильгельм и Николай настроены недружелюбно, несколько раз намекали, что готовы оказывать бурам поддержку и помощь… А вступать в бой с боевым кораблем великих держав он права не имеет. Будь это хоть речная канонерка. Вздумает этот «скаут» конвоировать голландца до порта назначения, что в таком случае делать?
– На вахте – попросите крейсер показать флаг, – приказал коммодор.
В это время «Ватергюсс», тоже обнаружив приближающийся «Изумруд», проигнорировал английский предупредительный выстрел и начал поворачивать ему навстречу. Так посоветовал капитану Кирсанов, а Тромп решил повиноваться, не задавая лишних вопросов.
Пусть стремительно, с высоким буруном у форштевня мчащийся корабль выглядит куда меньше английских, слабее вооружен, но ведет он себя весьма решительно. Так, будто уверен в своем превосходстве. Ему виднее. Голландца это не касается, они сами между собой разберутся. А пока будут разбираться, под шумок можно и ускользнуть, потерявшись в густеющей на осте предшквальной мгле.
Командир «Эклипса» не знал об обуревающих старшего по команде коммодора сомнениях. Весь пребывая в азарте охоты, увидев маневр парохода, он тоже переложил руль и приказал следующий выстрел дать из шестидюймовки, целясь как можно ближе к форштевню. Хорошо бы как следует обрызгать голландца, сразу бросит валять дурака. Чужой крейсер он решил игнорировать, по-своему резонно считая, что, какой бы принадлежности тот ни был, помешать все равно не сможет. С морскими державами Англия сейчас не воюет, а если бы даже и воевала – легкий крейсер не противник двум тяжеловооруженным бронепалубным.
– Ну вот, – сказал Белли Ростокину, – это же типичное хулиганство. А если бы вдруг попали? Там ведь живые люди, причем невоеннообязанные…
– Скажите, Владимир, – вдруг спросила Алла, – если вы сейчас поднимете Андреевский флаг и возьмете пароход под свою защиту, англичане вас посмеют тронуть?
– Попробовали бы, – усмехнулся старлейт. – Единственное, чего они по-настоящему боятся, так это наших рейдеров. «Рюрик» с «Россией» и «Громобоем» такого шороха в океане наведут…
– Так сделайте это. Покажите флаг и разойдитесь…
Алла, как и все прочие женщины Братства, вызывала у Белли восхищение, часто переходящее в вожделение, и спорить он с ними не умел, помня, как они заботились о нем, несчастном гардемарине, но сейчас ответил твердо:
– На войне, как на войне. И у меня приказ: «Неприятеля в случае встречи – обезвредить!»
– Вы готовы уничтожить полторы тысячи человек, которые на вас не нападают?
– Я сказал – обезвредить, а не уничтожить. Но если они будут слишком неблагоразумны – придется действовать по обстановке.
Алла пожала плечами и отвернулась.
– Поднять нужный флаг! – приказал командир вахтенному офицеру. – Баковое – огонь по «Гибралтару», ютовое – по «Эклипсу». Близкими недолетами!
Он не хотел сразу стрелять на поражение, руководствуясь неким подобием дуэльного кодекса. Сначала нужно бросить вызов, убедиться, что противник его принял, а уже потом… Каждый волен отказаться, как в известном анекдоте: «Вы заявили, что я негодяй и трус. Именно поэтому я не стану с вами драться».
А то, что ты неизмеримо лучше стреляешь и фехтуешь, чем соперник, так это его личная проблема, как любят повторять те же гордые британцы.
Флаг, взвившийся на гафеле «Изумруда», был Трансваальским. Отсутствие выхода к морю у бурских республик отнюдь не препятствие к тому, чтобы завести собственный флот. Покупаешь корабли, можно с экипажами, которым предоставляешь гражданство, договариваешься об аренде подходящего порта с нейтральным государством – и вперед. У Боливии, по крайней мере, свои ВМС имеются.
Все это было своевременно проделано. Президент Трансвааля Пауль Крюгер, получив подобное предложение, развеселился до чрезвычайности. Он, разумеется, не поверил ни одному слову Новикова, исполнявшего привычную роль господина Ньюмена, о том, что он выступает как частное лицо. Ему гораздо проще было поверить, что за спиной молодого авантюриста стоит одна из великих держав, которой просто неудобно в данный момент затевать очередной мировой кризис. Что будет дальше – посмотрим, а за вполне символическую в нынешних обстоятельствах плату получить собственный флот и гарантированные поставки оружия – это великолепно. Крюгер вознес многословные благодарственные молитвы Творцу всего сущего и незамедлительно подписал необходимые документы.
Англичане, сколько их было на обоих мостиках, вначале несказанно удивились, потом дружно и грубо расхохотались. Ах, вот у деревенщин, привыкших ездить на запряженных быками фургонах, появился собственный крейсер! Базирующийся скорее всего на один из портов Мозамбика. Или Мадагаскара. Если на германские – его должны сопровождать угольщики и другие суда снабжения.
Коммодор, руководивший парой крейсеров, испытал облегчение. Был бы этот крейсер чьим угодно, стоило думать о дипломатии, а если откровенно показан флаг страны, находящейся в состоянии войны, решение напрашивается единственное. Атаковать и уничтожить.
Главный калибр у бурского (чьим бы он ни был на самом деле) крейсера – сто двадцать миллиметров, никак не больше. Число орудий – восемь, от силы.
Забыв о голландском пароходе, англичане начали разворот, рассчитывая взять дерзкого «в два огня», на сходящихся курсах.
«Гибралтар» издалека походил на броненосец типа «Пересвет», и его бортовой залп мог сокрушить «Изумруд» и любой легкий крейсер с одного раза. Если бы попал. Английскому коммодору стало не по себе, когда снаряды 234-мм пушек, не говоря о шестидюймовках, легли едва на половине дистанции.
– Старший, – сдерживая ярость, обернулся он к артиллеристу, – это – что?
– Как будто сами не знаете. Это все, сэр! Предел. Продолжайте сближение, и мы, наверное, его достанем… Если не сбежит. Еще сорок кабельтов…
– А это? – Коммондор задохнулся, когда четырехорудийный залп с «Изумруда» взметнул серо-зеленые столбы воды под самым бортом.
– Я не знаю, сэр. По дальномерам до него сто. На столько пушки не стреляют…
С «Изумруда» замигал сигнальный фонарь. Писали по-английски.
– «Уходите. Иначе перехожу на поражение. И да поможет вам бог», – отчетливо прочитал сигнальщик.
– Негодяй, подонок! Что он себе позволяет?! – Коммодор едва не подавился собственной бранью.
– Мне кажется, у него есть некоторые основания, – ядовито ответил старший артиллерист. Второй залп с «Изумруда» лег под бортом «Эклипса».
– Вы настаиваете на продолжении? – спросил артиллерист у командира, когда мощные пушки крейсера выбросили свои снаряды в море, напугав только рыб.
– Я в растерянности, – честно ответил коммодор. – Но, думаю, стоит попробовать. Через десять минут полного хода мы его достанем…
– Не могу ничего гарантировать, сэр. На предельной дистанции, при такой скорости смещения цели процент попадания даже теоретически не превышает трех процентов. Из ста снарядов в лучшем случае могут попасть только три…
Командир «Гибралтара» был из того поколения моряков, что начинали службу в эпоху дерево-железных кораблей, стрелявших из дульнозарядных пушек практически в упор, с темпом один выстрел в пять минут. А главным средством поражения считался таран. Исходя из опыта сражения при Лиссе.
– Значит, в худшем случае мы можем получить от «бура» не больше? Это терпимо?
– Мы выдержим и двадцать попаданий, и тридцать. Решать вам. Мои комендоры сделают все, что в их силах. Только мне очень не нравится, что с первого залпа противник добился накрытия… Новые пушки Круппа?
– Вам лучше знать. Я приказываю – «полный вперед»! Остальное зависит от вас. Сигнал «Эклипсу» – «Делай, как я!».
У Владимира Белли, запомнившего бой «Валгаллы» с английскими эсминцами в Черном море, никакого собственного гениального плана сражения не было. Он не Ушаков и не Нельсон. Да и ни к чему.
Идя по широкой циркуляции, центром которой условно считались английские крейсера, а радиус составлял семьдесят кабельтов (на десять больше предельной дальности британских пушек), он отдал команду баковому и двум казематным орудиям левого борта стрелять по «Гибралтару», остальным – по «Эклипсу». Беглым огнем, целясь под корму.
Новикову с Шульгиным не хотелось стрелять по английским уланам на поражение, боевого ожесточения, неизбежно вызываемого зверствами врага и собственными потерями, у них еще не появилось. Точно так же Белли не испытывал желания накрыть противостоящие крейсера сокрушительным огнем, учинить им локальную «Цусиму». А ведь мог бы! Они этого вполне заслуживали, в грядущей через четыре года войне японцы воевали с Россией на английских кораблях, стреляли английскими снарядами, за английские деньги и по британскому наущению. Белли находился в гораздо более выгодном тактическом положении, чем даже адмирал фон Шпее в сражении английской и немецкой эскадрами при Коронеле (ноябрь 1914 г.). Там силы были технически равны, немцы просто лучше маневрировали и стреляли. Могло повернуться и по-другому.
Белли, будучи всего лишь старшим лейтенантом, «молокососом» в сравнении с тертыми жизнью «морскими волками» (никогда, впрочем, не воевавшими), действовал гораздо грамотнее. Усвоил опыт следующих трех войн. Пользуясь преимуществом в скорости, правильно использовал погодные условия. Энергичным маневром зашел с наветренной стороны, и теперь встречная волна постоянно захлестывала англичанам порты батарейных палуб, а бортовая качка почти не позволяла целиться. В XIX веке не додумались даже до простейших орудийных стабилизаторов.
Только если в сражении с «Шарнхорстом» и «Гнейзенау» именно погодные условия и неумение адмирала Крэдока к ним примениться привели «Монмут» и «Гуд Хоуп» к катастрофе, то сейчас они играли незначительную роль. Целься, не целься, а если противник держится вне зоны поражения – какая разница? Сами по себе английские пушки, может, и могли добросить снаряд на 80–90 кабельтов, но конструкция станков и имевшиеся прицелы ограничивали действительность огня от силы шестьюдесятью. Дальше – простое сотрясение воздуха и перевод денег.
А 130-мм длинноствольные, модернизированные по последним достижениям артиллерийской науки орудия «Изумруда» легко били на 120 кабельтов, при использовании лазерных систем наведения – с точностью до девяноста процентов.
Владимир успел застать то время, когда русский флот, усвоив урок Цусимы, научился стрелять лучше всех в мире, что и доказал в боях с превосходящим противником, что при мысе Сарыч, что у Моонзунда. Там старый, как раз цусимских времен броненосец из своих четырех пушек сдерживал атаку немецкого дредноутного флота. Вполне успешно.
Да и сам он успел поучаствовать в эффектных сражениях с британцами, что принесло ему, кроме впечатлений, Георгиевский и Владимирский кресты вместе с погонами штаб-офицера.
Сейчас, взобравшись в командно-дальномерный пост на марсе грот-мачты, он командовал артиллерийскими плутонгами. Не отрывая глаз от окуляров лазерного дальномера, он через ларингофон передавал установки на процессор централизованного управления огнем. Пять орудий стреляющего борта сосредоточенно били под кормовые подзоры обоих крейсеров, из последних сил пытающихся сблизиться хотя бы на полсотни кабельтов. Владимиру было смешно. Легкое движение руля, и «Изумруд» откатывался на безопасную дистанцию. Так японские крейсера расстреливали «Адмирала Ушакова», не входя в зону досягаемости его десятидюймовок. Белли был гуманнее азиатов. Если вражеские снаряды падают, не долетая на две и больше мили, зачем класть страшной разрушительной силы фугасы на палубы крейсеров, убивая ни в чем лично не повинных людей?
Это англичане вооружили японцев «шимозой», она же – «мелинит», которая принесла им победу в Русско-японской, не задумываясь о моральных принципах. За что и получили благодарность от своих питомцев тридцатью пятью годами позже.
Снаряды пушек «Изумруда» были снаряжены взрывчаткой в пять раз мощнее тротила, в десять – пироксилина, который был на вооружении в русском флоте в пятом году. И «Гибралтар» с «Эклипсом» за полчаса могли быть превращены в груды пылающего железа.
Но старлейт придумал противнику куда более унизительную судьбу, чем гибель в честном бою.
– Саймон, – ровным, пристойным английскому коммодору тоном, без русского мата и битья биноклем о планшир, спросил командир «Гибралтара» своего старшего артиллериста, – вы можете объяснить мне, что происходит? – Вопрос был задан после того, как идущий полным ходом и непрерывно стреляющий из всех пушек крейсер содрогнулся от взорвавшегося прямо в адмиральском салоне снаряда. Салон занимал большую часть юта, с выходом на кормовой балкон. Ниже его размещалось отделение резервных электрогенераторов и рулевых машин.
– Боюсь, что нет, сэр. Я уже сказал – неприятельский крейсер вооружен орудиями, о которых мы пока не знаем…
– Какой позор! В мире появилось новое страшное оружие, а британский флот об этом не знает! Зачем мне такой артиллерист? – спросил коммодор, подпрыгнув на мостике от очередного удара снаряда в корму.
– А зачем мне такой командир, который вступает в бой, не зная, с кем, и не понимает, как из него теперь выбраться? – столь же спокойно ответил артиллерист, с некоторым извращенным удовольствием наблюдая, как чужой крейсер под ничего не означающим трансваальским флагом режет крутую встречную волну, каждые полминуты взблескивая четкими залпами. Что эти залпы направлялись в него – ничего, по большому счету, не меняло. Все равно красиво. Хотел бы он сейчас поменяться местами с артиллеристом этого «скаута».
С командиром у них были давние неприязненные отношения, и сказать ему наконец правду перед близкой и очень возможной смертью было приятно. Рванет снаряд на мостике – и все! Дискуссию продолжим там, куда положено попасть по заслугам своим.
– Да вы только посмотрите, Саймон, – словно не заметив грубого выпада подчиненного, вскрикнул теряющий хладнокровие и выдержку командир, указывая рукой с биноклем на «Эклипс». Трансваальский крейсер на какое-то время перенес на него мощь своего огня. Десять или пятнадцать снарядов разорвались в корме и под кормой корабля. У него были целы надстройки, трубы, артиллерия, не осталось только рулей и винтов. Громадную железную коробку идущие от берегов Антарктики валы начали болтать совершенно произвольным образом. «Это» перестало быть военным кораблем, превратилось в несамоходную баржу, оторвавшуюся от буксира.
– Боюсь, сэр, нас ждет то же самое… – обретя на короткий миг дар предвиденья, сказал артиллерист. – Последний шанс – немедленно выходите из боя! Поворот на шестнадцать румбов…
Остальные офицеры на мостике не рисковали вмешиваться в спор начальников, имевших нарукавных нашивок больше, чем у присутствующих, включая старшего помощника. Но многие сочувствовали артиллеристу.
Башенные и казематные орудия «Гибралтара» стреляли со всей возможной скоростью, подняв стволы на предельный угол возвышения. И все равно не доставали до цели. Хуже того, на мостик поступили сообщения, что у трех шестидюймовых пушек правого борта посыпались зубья подъемных механизмов и они полностью вышли из строя.
– Да какая разница, – устало ответил старший артиллерист и выбросил свой бинокль за борт. Этакий джентльменский жест.
– Простите, сэр, – обратился к нему вахтенный штурман, вдруг вообразивший, что в предстоящей ситуации лучше держаться этого офицера, а не командира, – вы заметили, что все вражеские снаряды ложатся исключительно по корме?
– Возьмите сигарету, лейтенант, – достал из кармана портсигар коммандер. – Конечно, заметил. Этого быть не может по любой теории, но это есть. На сто кабельтов снаряды летят, как придется, а здесь – словно в тире…
В подтверждение его слов «Гибралтар» сотрясли пять или шесть мощных взрывов, перекрывших грохот его пушек. Крейсер сильно подбросило с кормы на нос, и тут же раздался душераздирающий вой бьющего через гудок и предохранительные клапаны пара.
– Машина, что у вас? – бешено заорал в переговорную трубу командир.
– Похоже, оторваны винты, сэр, – донесся искаженный вибрацией голос механика. – Машины пошли вразнос, травим пар, сэр…
– Вот и приплыли, – устало сказал коммодор и вытащил из нагрудного кармана кителя припасенную совсем на другой случай сигару. – Что же это за дьявол?
Он, конечно, имел в виду «Изумруд», завершающий циркуляцию вокруг отряда и уже перешедший на левый крамбол «Гибралтара», приблизившись кабельтов на семьдесят. С этой позиции он мог расстрелять крейсер спокойно, как на траншейном стенде тарелочки.
Но пушки его вдруг замолчали.
С переднего мостика «скаута» заморгал фонарь Ратьера.
– Что еще? – вскинулся коммодор. – Предлагают сдаться? Ни за что! Лучше все тут утонем…
– Гораздо хуже, сэр, – ответил артиллерист, продолжая испытывать наслаждение от того, как унижен его начальник. – Они пишут: «Счастливого плаванья!»
«Изумруд» отрепетовал флагами тот же сигнал, переложил руль на норд и, набирая скорость, пошел догонять успевший затеряться за горизонтом «Ватергюсс».
А британцы остались. В бессмысленном, унизительном и не таком уж безопасном положении. У обоих крейсеров были начисто снесены рули, винты, в кормовые отсеки через пробоины и разошедшиеся швы корпуса обильно поступала вода. Справиться с ней не трудно, экипажи достаточно подготовлены, и все необходимые средства имеются. Потери среди личного состава незначительны – десяток раненых и нескольких убитых.
Но что делать без хода, в нескольких сотнях миль от берега, при отсутствии радиосвязи? Болтаться в океане, ожидая очередного шторма, которому что крейсер, что весельная шлюпка? Или начинать из имеющегося брезента и матросских одеял ладить паруса, способные дать какой-то ход громадине в семь тысяч тонн?
Хорошо позабавился старший лейтенант Владимир Белли, правнук офицера, который привел в восторг самого императора Павла Первого. «Ну, Белли, ты меня удивил, так и я тебя удивлю», – заявил экспансивный царь, возлагая на шею капитан-лейтенанта орден Андрея Первозванного, положенного только генералам и коронованным особам.
Глава тринадцатая
К началу войны британские вооруженные силы значительно уступали бурам численно. В Южной Африке находилась примерно половина запланированного к развертыванию контингента – 24 тысячи солдат и офицеров. В ближайшие недели намечалось прибытие мобилизуемых в Англии 52 тысяч человек при 114 орудиях, сведенных в 28 пехотных батальонов, восемь полков кавалерии, 19 батарей и различные вспомогательные части, инженерные, обозные, санитарные и т. п. В дальнейшем из Метрополии и колоний планировалось переправить еще около 100 тысяч человек. Но это все в перспективе, пока же буры имели почти двойной численный перевес, и англичане могли полагаться только на организованность и тактическое превосходство регулярных войск над добровольческими формированиями неприятеля.
Оказалось, что это – очередная ошибка. Слишком уж гордые бритты верили в свои непревзойденные боевые и нравственные качества, избаловавшись легкими победами над вооруженными копьями индусами, суданцами и кафрами. Почти годовой штурм Севастополя, где им пришлось сражаться против русской армии, отвратительно руководимой и многократно хуже вооруженной, их отчего-то не заставил слегка задуматься. Хотя понимающие люди писали по горячим следам: «Несмотря на то что английские войска, вооруженные нарезными ружьями, наносили огромный урон русским, они не смогли остановить стремительные атаки даже отдельных частей. Не было ни одного русского полка, который бы под убийственным огнем не вышел на дистанцию штыкового боя. В Инкерманской битве для нас нет ничего радостного. Мы ни на шаг не продвинулись к Севастополю, а между тем потерпели страшный урон».
И сокрушительный разгром под Петропавловском, заставивший застрелиться от позора командующего соединенной англо-французской эскадрой адмирала Прайса, тоже не пошел впрок. Имея шесть линкоров и фрегатов против одной русской «Авроры», несколько тысяч морских пехотинцев против тысячи солдат инвалидной команды и ополченцев, союзники потеряли только убитыми более пятисот человек. Эскадра позорно бежала, закопав труп своего командующего у подножья безымянной сопки.
«Общественное мнение Англии и Франции расценило поражение как оскорбление и требует немедленного реванша…» – писала лондонская «Таймс» в сентябре 1854 года.
Очередной экскурс в историю почти полувековой давности потребовался только для того, чтобы указать – даже в сравнении с царскими генералами периода между японской и Первой мировой – английских полководцев поражения не научили ничему. Совершенно. Слишком силен был категорический императив – Британия всех сильней, на суше и на море! Тактические и оперативные просчеты не воспринимались критически, относились на счет случайностей или коварства противника. Не позволялось и подумать, что противник может быть талантливее и опытнее.
Как смели, например, русские артиллеристы 25 октября 1854 года не разбежаться при лобовой атаке кавдивизии Кардигана, а принять ее на картечь, умирая на огневых позициях, но стреляя до последнего? Газета «Таймс» писала «Из 600 человек пехоты возвратилось только 198. Из 800 человек кавалерии возвратилось только 200. Наш 17-й уланский полк уничтожен почти совершенно. При этом потери русских не превысили 40 человек».
Но виноваты опять оказались русские, а не сами англичане, этот разгром они вспоминают до сих пор «с душевной болью», фильмы снимают, «Атака легкой кавалерии», например. А всех дел – по собственной глупости полтораста лет назад потеряли пехотный батальон, «в пересчете на мягкую пахоту». Нам бы каждый свой батальон столько лет помнить!
Помнить-то они помнили, а воевали на том же уровне, продолжая презирать противника, кем бы он ни был. Правда, в войны с Россией больше не ввязывались, предпочитали пакостить из-за угла.
…Рано утром первого октября генерал Пэнн-Саймонс (только что произведенный из полковников), во главе 4-й пехотной дивизии, в состав которой входили 7-я пехотная бригада полковника Говарда и 8-я пехотная бригада генерала Юла, всего более четырех тысяч штыков первой линии при поддержке артиллерии, перешли в наступление у Данди и Гленко. Генерал решил атаковать позиции буров с фронта, прикрываясь с флангов лесом и городскими постройками. Около восьми утра плотные цепи англичан попали под ружейный огонь противника. Буры неторопливо их расстреливали, начиная с почти километровой дистанции. Винтовки «маузер-98» с упора обеспечивали высокую точность огня даже на тысячу двести метров по ростовым мишеням.
Через полчаса Пэнн-Саймонс, вертевшийся на коне в рядах первого батальона, был смертельно ранен. Командование дивизией принял на себя бригадный генерал Юл.
Еще около получаса британские пехотинцы, не понимая, зачем и для чего, в тщетной надежде выйти на дистанцию штыкового боя, карабкались по каменистым склонам. Наконец атака выдохлась. Самые активные убиты, те, кто поосторожнее, залегли и не желали снова подниматься, когда пули посвистывали в полуметре над головой, а враг был почти невидим.
В итоге сопровождавшаяся неслыханными потерями атака на высуты кончилась ничем. Буры отошли на следующую оборонительную позицию километром западнее и еще более неприступную.
Фланговая атака 18-го гусарского полка закончилась его полным разгромом. В итоге первое крупное сражение с бурами оказалось для англичан плачевным. Двести солдат и офицеров убиты, вдвое больше попало в плен. Как писали позже наблюдатели, все действия англичан сводились к фронтальной атаке, без всякого маневрирования. Кроме командира дивизии, были убиты начальник штаба бригады подполковник Черстон и командир 1-го батальона Королевских стрелков.
Ход боя, а главное, уровень тактического мышления противостоящих сторон наблюдал с заранее занятой позиции полковник Басманов. Вмешиваться ему было рано.
В училище им Англо-бурскую войну не преподавали, поскольку достойных примеров для действия гвардейской конной артиллерии в ней не имелось. Хватало опыта следующей, собственной войны четвертого-пятого года. Вот те уроки были усвоены сполна, и в мировую войну русская артиллерия вступила весьма подготовленной, что показали первые же бои под Гумбиненом и Танненбергом. К сожалению, запас снарядов мирного времени расстреляли слишком быстро и до шестнадцатого года страдали от их нехватки. Зато потом нашлепали их столько, что хватило на пять лет Гражданской всем воюющим сторонам.
Результат сражения, определившийся к закату солнца, Басманова удовлетворил. Несмотря на то что побеждающие буры вели себя, с точки зрения специалиста по маневренной войне, до отвращения пассивно, отступление англичан плавно перетекло в паническое бегство.
«В базовом лагере были брошены все раненые, большая часть обоза, боеприпасы, продовольствие и все палатки. Бурам достались офицерские серебряные столовые приборы, денежная касса, штабные документы. Что послужило причиной столь стремительного бегства англичан из их лагеря, осталось загадкой. Видимо, генерал Юл больше всего опасался попасть в окружение, поэтому готов был пожертвовать всем, лишь бы избежать его».[77]
…Эту войну, как подсказывал Басманову и Сугорину опыт и знание будущего, выиграть можно было за три ближайшие недели. Обладая подходящей живой силой, разумеется. К сожалению, героические буры в главном, то есть в боевом духе и азарте, уступали обычным махновцам. Воинство Нестора Ивановича стрелять, пожалуй, умело хуже, зато славилось неудержимым порывом. Увидев, что враг ломается или готов сломаться, они и без специального приказа переходили в отчаянное наступление, подавляя белые полки Деникина и красные – Пархоменко дикой скифской отвагой и несовместимым с современной войной пренебрежением к любым ее обычаям и правилам. Сейчас бы сюда сотню-другую тачанок и тех бесшабашных мужиков, с которыми Басманов до последнего снаряда бился под Екатеринославом!
Как хлестали пулеметные очереди и озверевшими осами ныли вдоль огневых позиций батареи пули! Как оглохший и сорвавший голос капитан тычками, ножнами шашки и рукояткой «нагана» заставлял канониров заряжать и стрелять до последнего! До сих пор перед глазами стояла картинка – художнику бы такое написать – от пушечного выстрела с полусотни метров взвивается в небо тройка лошадей и тачанка, от которой в полете отваливаются и разлетаются в стороны колеса, доски, люди… Тачанки у махновцев кончились чуть раньше, чем шрапнели у Басманова.
Да, тех бы вояк сюда! Вместе с его офицерами такая армия без передышки рванула бы вперед и вошла в Кейптаун на плечах бегущего противника меньше чем через три, за две недели! Питаясь подножным кормом и снабжаясь патронам и из вражеских запасов. А если бы еще пару поездов захватили! Вообще сказка! С черными знаменами и диким хором с платформ: «Цыпленок жареный…» – эшелоны пронеслись бы по вельду, ничем не отличающемуся от южноукраинских степей, и торжественно въехали – на Кейптаунский вокзал, где немедленно, подавив жалкое сопротивление, приступили бы к грабежам и гомерическому разгулу. Как в романе историка Яна «У последнего моря»!
И сразу Михаилу Федоровичу пришла в голову очередная философская мысль – это насколько же глуп оказался государь император Николай Второй Александрович, выпустив из ящика Пандоры дикую и бессмысленную народную волю! Он сравнивал робких, послушных, готовых учиться, чему прикажут, идти в бой и умирать новобранцев четырнадцатого года с дикими, неуправляемыми толпами бегущих с фронта солдат семнадцатого! И тех, кто следующие пять лет воевали уже ни за что. Исключительно от внутренней неспособности и внешней невозможности остановиться.
Вечером следующего дня Басманов с Сугориным сидели в неприметном фермерском доме на окраине Претории, разложив на столе топографические карты разных масштабов. В боях добровольцы участия пока не принимали, необходимости в этом не было. Следовало вначале как следует присмотреться, оценить личные качества бурских командиров, понять, есть ли реальные шансы организовать хотя бы несколько подразделений, способных к ведению эффективных маневренных операций. С установкой на наступление и действительный разгром противостоящих английских дивизий.
Опыт однажды уже завершившейся войны оптимизма не внушал. Но кое-какие перспективы все же просматривались, и все они были не столько чисто военного, как организационного характера.
Определенный оптимизм внушало то, что в армии буров имелось значительное число иностранных добровольцев, охваченных романтическим порывом – помочь местным жителям отстоять свободу и независимость. Несколько сот из них уже добрались до Трансвааля и продолжали прибывать каждый день через границы немецких и португальских колоний. Большинство составляли голландцы, но были среди добровольцев и французы, немцы, американцы, итальянцы, шведы, ирландцы, само собой, по тем временам свирепо ненавидевшие англичан. Даже русские были. Кроме рейнджеров Басманова, здесь объявилось около сотни волонтеров самых разных возрастов и профессий. Всех их старался объединить под своей командой некий человек, называвший себя полковником Максимовым.
Вот этот человек, узнав о появлении на фронте русских, прислал вестового с запиской, в которой предлагалось встретиться и кое-какие вопросы обсудить. Посовещавшись, Басманов с Сугориным решили от встречи не отказываться.
Любящий порядок и удобства жизни Сугорин приказал к началу «военного совета» привести дом рядом с выделенными отряду «казармами» в фермерских конюшнях в подходящее состояние. Бойцы смели пыль со стен, разысканной где-то известкой подбелили закопченные потолки, выдраили полы, натянули на окна противомоскитные сетки, тщательно обрызгали все углы инсектицидом, который в этом времени работал не хуже, чем пенициллин в начале сороковых годов. Непривычные к химии насекомые всех родов и видов, ползающие и летающие, дохли мгновенно, а другие, чуя смертельный запах, предпочитали обходить страшное помещение десятой дорогой.
В чистоте и уюте затопили чугунную печку, приготовили скромное угощение. Получилось не хуже, чем удавалось обустроиться на позициях мировой войны где-нибудь под Сокалем или Перемышлем.
Теперь можно и гостей принимать.
Главная проблема была в легенде. Если Максимов действительно полковник русской армии, как о нем говорили, то выдавать себя за офицеров-соотечественников бессмысленно, ложь немедленно будет раскрыта. К этому времени Сугорин только-только заканчивал училище и изобразить старшего офицера был не в состоянии, не знал реалий текущей военной жизни. Фамилии командиров и номера частей выучить не сложно, но по тем временам слишком много у них с Максимовым должно было быть общих знакомых. Да и личные контакты отнюдь не исключались. Сколько тех полковников на всю армию было? Кроме того, по возрасту Сугорин должен был участвовать в Турецкой войне или Среднеазиатских походах, значит, этих моментов никак не обойти в разговорах, и снова немедленно всплыли бы факты, о которых Валерий Евгеньевич и тем более Басманов имели только книжное представление.
Так что положение складывалось безвыходное. В качестве штатских добровольцев они не имели шансов убедить кадрового офицера перейти со своими людьми к ним в подчинение. Басманов не гордый, мог бы для начала сам влиться с отрядом в команду Максимова. Так и это не выйдет – спаянную общим прошлым, дружескими связями и дисциплиной роту фронтовых офицеров не выдашь за наскоро собранную ватагу любителей приключений.
– А что, если действительно «Ватага»? – неожиданно спросил Басманов. – Золотоискатели или охотники на пушного зверя из Уссурийского края? Люди с забытым прошлым, дворяне, отставные офицеры, чиновники, казаки, беглые каторжники – каждой твари по паре! Много лет трудились в одной компании. В опасной близости от края закона. С китайскими хунхузами драться приходилось, от пограничной стражи отстреливаться. Сюда приехали, скажем так – «по собственным причинам». Кто от властей скрыться, кто душу отвести, кто на алмазах поживиться…
– Ох, и роль вы предлагаете, Михаил Федорович, – скривился Сугорин. – А я у вас кто буду? Пахан в законе?
Басманов рассмеялся.
– Вы как раз останетесь при своих. Профессор из захолустного университета, наш консультант и идейный вдохновитель. Поклонник Бакунина и Кропоткина. В самый раз будет. Я сейчас свяжусь с Воронцовым, пусть досье на Максимова поднимет, с корабельным компьютером это быстро. Где жил, где и кем служил. Тот город, где он ни разу в жизни не был, и назовем в качестве вашего «опорного пункта». А там, глядишь, еще какие фактики интересные всплывут.
– Правильно решили. Тогда кто вы у нас по легенде будете?
– На тех же основаниях. Отставной поручик из полка, к которому наш клиент ни разу не приближался. Затем – совершенно темная личность. Золотоискатель на Клондайке, торговец спиртом на Камчатке, боцман на китобойной шхуне. Года два назад к вам прибился. Ну и двинули вместе счастья искать…
– Ну, вы и затейник, Михаил! Сумеете подобную роль, как во МХАТе, изобразить?
– Делать нечего! Всякого в жизни насмотрелся. Только теперь мне придется с бойцами инструктаж провести, как впредь себя вести, а вы ответа от Дмитрия подождите. И расспросите его поподробнее… О чем – не мне вас учить.
Офицеров в казарме идея Басманова развеселила и вдохновила.
– Так теперь, значит, что, ваше высокоблагородие? – Игнат Ненадо, сам став капитаном, от старых привычек титулования избавиться не мог. – Мы теперь можем себя, как хочем вести? В соответствии, значит? Я махновцев тоже помню…
– При встречах с русскими – пожалуйста. Без грубостей и неспровоцированной агрессии, но поразвязнее. Сами знаете, как, скажем, одесситы, ростовчане, казаки с владимирцами да рязанцами себя держали. Только с бурами – упаси бог. Они народ без юмора, кроме Библии, ничего не читают. Хуже наших староверов…
– Про староверов знаем, – вздохнул сидевший на соседней койке бывший сотник Забайкальского казачьего войска. – Правильно сказали, господин полковник – упаси бог.
– Но чтобы в роте дисциплина – на уровне, – предупредил Басманов, уходя. – Все понты – для внешнего употребления.
– Так кто ж не понимает? – елейным голосом ответил за всех капитан Давыдов, для ехидного характера которого открывались широкие перспективы. Как для юнкера старшего курса в отношении кадетов-малолеток.
– Что же интересного сообщил нам адмирал Воронцов? – поинтересовался Басманов, примерно через час возвращаясь в штабное помещение.
– Есть интересное, есть, – ответил Сугорин, что-то черкая в блокноте при свете яркой керосиновой лампы. – Только побережем до нужного момента. Господин-то Максимов – штучка не нам чета!
Слова полковника Михаила почти не удивили. Кто же еще отправляется на край света «на ловлю счастья и чинов»? Благополучный командир полка или начальник департамента военного министерства? Не смешите.
– Проворовался, что ли? – спросил Басманов, прикуривая от лампового стекла. – Или вообще не полковник а подпоручик трижды задристанного мервского[78] саперного батальона?
– Близко к этому, Михаил Федорович, близко. Служил в Петербурге, попал в некрасивую карточную историю. За руку не поймали, но попросили больше в Собрании не бывать. Перевелся в Варшаву, служил в крепостном гарнизоне. Заслугами не отмечен, кроме необходимых по выслуге лет. Полковника получил по отставке. Каким-то образом втерся в доверие к чинам Министерства иностранных дел, не военного, прошу отметить. Вот сюда и послан, наподобие пресловутого Черняева, который в 1876 году нам в Сербии больше навредил, чем помог. Думаю, – это птица того же полета…
– А люди, люди у него какие?
– Люди, похоже, нормальные. Студенты, другие романтики из шпаков,[79] офицеров немного – подпоручики и поручики, изъявившие желание постажироваться на настоящей войне. Этим командировочные предписания выдали и сразу же отобрали, в Петербурге хранятся, в известном месте. Выживешь, явишься, доложишь – получишь прогонные[80] и выслугу. Нет – значит, нет. Пропал без вести по неизвестной причине.
– Есть над чем поработать, – сказал Басманов, нахватавшийся у руководства всяких канцелярских оборотов, которыми была пронизана вся советская жизнь. Не хочешь, а заразишься, как холерой на Турецком фронте.
– Только вы, Валерий Евгеньевич, в разговор не вступайте вообще. Если только не коснемся очень стратегических вопросов. Чаек пейте, папироски курите, и в папочку свою время от времени заглядывайте. Так, вроде от скуки. А говорить я буду…
– Ради бога, Михаил Федорович. Очень обяжете. Когда я полком невзначай командовал – хуже всего было команды отдавать и людей распекать. Не мое это дело.
– Если вам армию дать – вышло бы гораздо лучше, – согласился Басманов. Он Сугорина понимал, хотя сам как раз на полку (конной артиллерии, не пехотном) развернулся бы в самый раз. Представить – душа замирает, по какой струнке у него бы подчиненные бегали! Как пушки и кони блестели, с каким чувством он утренний развод проводил, ощущая на плечах настоящие, долгой службой заработанные погоны без звездочек. И без войны, ну ее на хрен, эту войну!
За стеной зазвенели трензеля[81] и стремена, зазвучали громкие голоса.
– Пожаловали гости, – сказал Басманов, гася папиросу. Поднялся, чтобы встретить.
Полковник Максимов оказался мужчиной представительным, но по натуре – неубедительным. Такие вещи старые служаки ухватывали с лету. Вот, возьмите – генерал Корнилов! Невысокий, худощавый, лицо калмыковатое, голос тихий. А войдет в любое собрание, слова еще не сказав, – каждый в струнку вытягивается, потому как понимает: вот это – настоящий Верховный главнокомандующий! И ведет себя в меру этого ощущения.
Взять другого – стать немереная, ремень на первую дырку едва застегивается, морда красная, голос зычный, ордена на животе не помещаются, а послушаешь пару минут – плюнуть и растереть!
Этот был – средненький. Ни туда, ни сюда. Но, как ни крути, определенного уважения заслуживал. На войну все же приехал, где пуля не выбирает, в чинах ты, или без. И люди, какие-никакие, его добровольно слушались. Может, конечно, только из-за авторитета погон?
Приняли его по-дружески. Даже, пожалуй, слишком дружески. Но это уже Басманов так срежиссировал. Научился у Новикова с Шульгиным. Угостили, как на Востоке положено (они же все якобы из тех краев были, Сугорин с Басмановым, а Максимов на Востоке не служил) – чаем, подобием плова, потом уже водкой.
– У вас сколько людей? – спросил полковник, слегка расслабившись, обмякнув до того напряженным лицом, закурив предложенную сигару.
– Семьдесят, – ответил Басманов, – и каждый белку в глаз бьет и к любым властям никакого почтения не испытывает… Артельного уважают и ватажного старосту.
– Вас, что ли? – спросил Максимов с проскользнувшим в голосе оттенком пренебрежения.
Басманов изобразил руками и лицом нечто неопределенное: «Да хоть бы и меня, да какая разница?»
– И что же вам тут нужно? – чуть повысив тон, спросил «полковник», прищуриваясь. Ему все еще казалось, что заявленный им чин что-нибудь значит. Здесь, на границе вельда и в начале долгой, кровопролитной, бестолковой войны. Да разговаривая с людьми, которые хоть по легенде, хоть по факту превосходят его положением и характером.
Легким жестом Басманов показал Сугорину, чтобы тот сохранял спокойствие. А то Валерий Евгеньевич начал слишком нервно листать бумаги в папке.
– Мне скрывать нечего. – Полковник совсем других войн улыбался так, что человек поумнее испытал бы как минимум неловкость. – Мы приехали за деньгами, за золотом и за алмазами. Собираемся увезти столько, чтобы и внукам хватило в Пажеском корпусе учиться, по Ниццам с девками ездить! Если про любовь к угнетенным братьям вкручивать начнете, так не нужно, видели мы таких альтруистов… Как наши либеральные поэты пишут: «Уведи меня в стан погибающих…» Это буры – погибающие? Хотите, я вам процитирую из одной европейской газетки? «Победа буров будет означать победу семнадцатого века, и притом пуританско-кальвинистского семнадцатого века. Жуткий провал в мрачное прошлое. „Ветхий завет“ как культурный базис. С винтовками „маузер“ и пулеметами „Максим“. Не удивлюсь, если там скоро появятся костры кальвинистской инквизиции».
– Вы, кажется, слишком образованный человек, – с иронией сказал Максимов, выпивая предупредительно налитую Басмановым рюмку водки и закусывая хорошей местной ветчиной. – Для любителя алмазов – слишком, я имею в виду…
– Учились кое-чему. Книжки в свободное время почитывали. А вы что, сюда собравшись, совсем не готовились? Не поверю. Если Генеральный штаб человека в командировку посылает, так снабжает всеми нужными сведениями.
– При чем тут Генеральный штаб? Я сам по себе. В отставке пребываю, сам себе хозяин…
– Вот и славно, Егор Яковлевич. Я, признаться, с казенными людьми давненько стараюсь никаких отношений не поддерживать. Раз не от Генерального штаба, значит, за деньгами сюда приехали. Ваша молодежь, соглашусь, за идею, а вы – за деньги служить намерились. И не за те, что вам может заплатить президент Крюгер. Вы – больших денег хотите. А вот за этим – к нам! Мы знаем, где их взять. Только сначала нужно англичан выгнать, после чего с бурами договориться. Хотите в долю – поговорим. Нет – еще по рюмке, и езжайте в свое расположение. Что заработаете, то и ваше.
– Пожалуй, я так и сделаю! Не намерен оскорбления выслушивать! – Максимов встал, резко отодвинув стул.
– Не торопитесь, – остановил его Сугорин. – Обидчивость ваша не имеет никаких оснований. Мы просто говорим на доступном вам языке. Узнав, с кем встретиться придется, справки навели. В России, как известно, все секрет и ничего не тайна.
Разумеется, досье Максимова сильно уступало полнотой и взрывоопасностью той папочке с ботиночными шнурками, которую Остап продал Корейко. Но интересные фактики и в нем содержались. Достаточные, чтобы осадить чересчур возомнившего о себе человека. Решил – на край света уехал, и все? Граф Монте-Кристо теперь, человек без прошлого? Для буров и иноземных добровольцев – может быть. Но когда земляки твоей биографией начинают всерьез интересоваться, куда ж ты, братец, денешься?
Сугорин зачитал несколько абзацев, касавшихся давнего и недавнего прошлого Максимова, в особенности – его сомнительных финансовых махинаций с казенными суммами и числящихся за ним долгов. Для военного суда, может, и недостаточно, а для разговора на равных – в самый раз.
– Вы что, по жандармскому ведомству? – вытирая пот большим платком, спросил клиент севшим голосом.
– Совсем наоборот, дражайший Егор Яковлевич, – ответил Сугорин. – С этим ведомством, как и иными государственными учреждениями, отношения у нас самые напряженные. Отчего и считаем необходимым иметь собственных информаторов. Откуда знать, что и когда может пригодиться? Узнали о вашем здесь появлении, по телеграфу связались с кем нужно – и вот, пожалуйста… – Валерий Евгеньевич похлопал ладонью по папочке.
– Если вам потребуется что-нибудь конфиденциальное об интересующих вас людях узнать – обращайтесь. Услуги стоят дорого, но предоставляются быстро и с гарантией. К примеру, из Владимирского централа до Сахалинской каторги малява[82] идет с той же скоростью, что казенная почта…
В результате – поладили. Максимов согласился на то, чтобы в случае участия в боях их отряды действовали согласованно, по общему плану. Договорились также перед бурским руководством выступать заодно, не искать личных преференций,[83] возможную же в будущем добычу делить по доброй пиратской традиции: половина личному составу, остальное – командирам, пропорционально численности возглавляемых ими отрядов и реальному вкладу в общее дело.
– Тогда вопрос по делу – вы же настоящий офицер, так и доложите: как ваши люди вооружены, сколько имеют настоящий боевой опыт, а кто так, энтузиазмом пробавляется? На кого мы всерьез можем рассчитывать, если вы понимаете, о чем я говорю.
– А ваши? – уловив, что договоренность достигнута, Макcимов снова начал cлегка наглеть. Характер такой, ничего не поделаешь.
Басманов откашлялся настолько многозначительно, что этого оказалось достаточно. Ну и лицо у него было, на самом деле, куда более жесткое, чем принято в возвышенном и гуманном девятнадцатом веке. Там никто не смотрел на равного по положению взглядом, подходящим только для оптического прицела.
– Хорошо, хорошо. У всех есть винтовки, «маузер», «Ли Метфорд», немного русских трехлинейных. Пистолеты «маузер» тоже, в Марселе они удивительно дешевы. Буры дали нам два пулемета «максим». В боеприпасах нужды не испытываем…
– Пока ни разу не стреляли? – спросил Сугорин.
Максимов кивнул. Ему все меньше и меньше нравилось разговаривать с этими людьми. В Сугорине ему чудился старший инспектор классов училища, где он тянул юнкерскую лямку еще до Турецкой войны и реформ Милютина (суровые, нужно отметить, времена, как у Помяловского в «Очерках бурсы»), а Басманов вообще напоминал корпусного командира. Того Егор Яковлевич, при всей незначительности должности командира крепостного батальона, на которого генерал-лейтенант свиты мог обратить внимание только в исключительном случае, боялся до кишечных судорог.
Отчего он совершенно не поверил в то, что эти господа ему о себе рассказали. Разумеется, к Генеральному штабу они не принадлежали, а вот к Жандармскому управлению – могли вполне. Россия затеяла новую интригу, после походов Кауфмана и Скобелева в Туркестан – пожалуйста, это можно только приветствовать. Если правильно себя повести – следующий чин и орден могут сами собой очиститься. Только не нужно больше спорить и проявлять ненужную догадливость.
– Тогда положитесь на нас, – сказал Басманов. – В бессмысленный бой мы ваших людей не пошлем. Пушечное мясо никому не нужно. Но когда потребуется – извольте бриться…
Опять слова Михаила Федоровича прозвучали убедительно и двусмысленно.
– Слушайте, полковник, – сказал Сугорин, водку не пивший, поболтав в стакане с чаем ложечкой и сделав глоток, – давайте, мы вам жалованье положим? Сколько вы пенсии получали?
– А то вы не знаете?
– Откуда же мне знать? Я профессор, про военные дела понятия не имею…
– Тогда знайте. Пятьсот сорок шесть рублей в год! За все мои труды и службу. Понятно?
– Чего не понять? – ответил Басманов. – Люди и меньше получают. Хотите – попросту? Двести рублей русскими золотыми в месяц, и вы служите нам, как положено. Прочие договоренности остаются в силе.
Максимов облизнул языком губы и как-то очень выразительно посмотрел на рюмку.
Сугорин, испытывая к собеседнику понятное неуважение, достал из полевой сумки двадцать только что вошедших в обращение «виттевских» червонцев. Заранее приготовленных, чтобы не отсчитывать на столе.
Полковник выдержал приличную, на его взгляд, паузу, после чего деньги взял.
– Вот и договорились, – разлил из бутылки остаток Басманов. – Теперь идите и подготовьте свой отряд к совместным действиям. Командовать парадом буду я!
Хорошо получилось, красиво. За пять лет Михаил Федорович побывал в трех веках, сотни кинофильмов посмотрел и книг прочел несчитано. Даже таких, которые предпочел бы никогда в руки не брать. Отчего и научился думать иным, Сугорину недоступным образом, что о каком-то Максимове говорить?
– А насчет бриллиантов не обманете? – спросил на прощание Максимов, теперь уже на правах младшего партнера. В прежнем качестве он бы себе такого не позволил.
– А вы не зевайте и не сачкуйте. Держитесь к нам поближе, лишнего себе не позволяйте – все у вас на глазах будет. В нашем деле своих кидать не принято. Я доходчиво объяснил? – скорее в утвердительной, чем в вопросительной форме сказал Басманов, вставая.
– Как вы думаете, Михаил Федорович? – спросил Сугорин, когда они остались одни.
– Да что тут думать? Сделали мы его. На один-два боя он нам своих добровольцев отдаст. Как с ними управиться – наше дело. Мне бойцы не столько против англичан, сколько для внушения бурам уважения нужны. Улавливаете?
– Да хватит, Миша, – сделал отстраняющий жест Сугорин. – До сих пор не знаю, как бы жизнь сложилась, если бы вы с Александром Ивановичем меня в свои игры не втянули…
– Чего тут знать? Работали бы в вашем любимом Парагвае на кукурузных плантациях и ждали войны с Боливией, чтобы напоследок свои таланты проявить…
По интонации товарища Сурогин понял, что он не шутит.
– Достаточно, Миша. Давайте спать ложиться. Утром столько работы, в том числе и вытекающей из состоявшегося разговора.
– Это что, это ерунда, – отмахнулся Басманов, взбивая набитую сеном подушку. – Мне вот господ бурских командантов нагибать придется, это потруднее, чем русского полковника…
Глава четырнадцатая
Легко было предположить, что зал, в котором очутились путешественники, – лишь преддверие системы пещер, не уступающих крупнейшим и знаменитейшим на Земле. Как-то ощущалось, что не глухая стена впереди, а почти бесконечные переходы, новые и новые гигантские пустоты. С ущельями, подземными реками и озерами, в которых плавают слепые доисторические рыбы, если не кое-что похуже, вроде пресноводных кальмаров, питающихся случайными прохожими.
В таком убежище дагоны вполне могли скрываться от соседей по планете, более приспособленных и агрессивных, десятки тысяч лет. Медленно деградируя физически, но развиваясь интеллектуально и духовно. Наподобие йогов и тибетских монахов, достигающих в уединении высокого просветления.
Предводитель долго вел гостей по узкой щебенчатой тропе, постепенно становящейся все круче. С полкилометра, не меньше. Шаги считать никто не догадался. Воздух по-прежнему оставался чистым и свежим, слегка пахнущим сыростью. Факелы освещали пространство лишь на несколько шагов вперед и в стороны, и, что таилось за пределами неровного круга света, оставалось неведомым.
Зажечь бы сейчас миллионсвечовый аккумуляторный фонарь, сколько красот открылось бы, наверное. Но, как говорил один умный человек: «В чужой монастырь со своими ассоциациями не суйся».
Девушки прижались почти вплотную к идущим впереди Новикову с Шульгиным. Тьма за спиной, гулкая пустота пропасти слева, сами дагоны, присутствие которых чувствовалось повсюду, вызывали у Ларисы и Анны детское ощущение иррационального страха. То, что тылы прикрывали Левашов с Ириной, не слишком успокаивало.
Шли молча, разговаривать, даже шепотом, никому не хотелось, хотя ничто, казалось бы, не препятствовало.
Лариса одной рукой держала Аню под локоть, другую положила на расстегнутую кобуру пистолета. Поможет или нет – неизвестно, но все же спокойнее.
Тропа внезапно кончилась. Они вышли на широкую площадку, в конце которой угадывался вход в тоннель, вырубленный в форме пентаграммы с перекошенными гранями. Именно вырубленный, не естественного происхождения. Видны были следы зубил или кирок.
– Что это? – впервые нарушил тишину, прерываемую только хрустом щебня под ногами, Шульгин.
В неверном свете факелов он обратил внимание на странные отблески по стенам.
– Где? – вскинул голову Новиков и тоже увидел.
Не думая больше, понравится это хозяевам или нет, включил фонарик. Правда, маленький, помещавшийся в кулаке, но достаточно сильный.
– Мать твою… – не удержался от возгласа Левашов.
Сказано было к месту. Арка тоннеля была пробита в сплошной стене самородного золота. Тут не ошибешься. Пирит можно спутать с золотом, наоборот – никогда!
– Вот вам и копи царя Соломона, – негромко сказала Лариса.
Какой там царь, вкупе с царицей Савской! Здесь навскидку было больше драгоценного металла, чем его добыли за последние пятьдесят лет в Южной Африке, Калифорнии и Клондайке, вместе взятых.
– Скорее «Золото Маккены», – поправила ее Ирина.
Проводник-дагон и мальчишки-факелоносцы спокойно ждали, пока пришельцы не закончат обсуждать между собой увиденное. Электрический свет их нисколько не заинтересовал. По крайней мере, они не показали вида, будто удивлены или испуганы.
– Если бы англичане или буры узнали… – начал Новиков, а Шульгин продолжил:
– Зато узнали мы, и этот факт наводит на неприятные мысли…
– Вам нечего опасаться, – прозвучал голос дагона, который услышали только они двое. – Вы ведь никому не расскажете? И дорогу забудете.
– Если нашего слова достаточно…
– Достаточно. Иначе вы не увидели бы этого. Вы не те люди, которые при виде желтого металла теряют разум.
– Это точно, – согласился Сашка.
– Тогда пойдемте. Здесь не на что больше смотреть, ведь так?
Снова Андрей поразился, как четко умеет примитивный троглобионт[84] транскрибировать свой нечеловеческий язык в хороший русский. Интересно бы услышать, как звучат у него в голове наши слова.
– К вашим услугам, – будто уловив мысль Новикова, ответил дагону Шульгин.
– Буду весьма обязан, – тут же прозвучал ответ, свидетельствующий либо об отличном чувстве юмора проводника, либо о жестком автоматизме заданной схемы общения.
Андрей, обернувшись, перевел «не умеющим говорить» друзьям суть и смысл непостижимого для них всхлипывания и пощелкивания дагона.
Жила, сквозь которую был пробит ход, толщиной оказалась равна тоннелю московского метро. О длине сказать нечего. Если хоть метров сто, мировая экономическая система (в то время основанная на золотом стандарте) рухнет в одночасье и навсегда. При условии несохранения тайны. Придется людям выдумывать другой «всеобщий эквивалент».
Много чего происходило в мире под влиянием мыслеформ Новикова. Еще студентом он за двадцать лет до предсказал крушение Советской власти, чему есть несколько доживших свидетелей и институтские тетрадки с набросками романов, как документальное подтверждение. Он умел заставлять себя и других выживать в безнадежных ситуациях, еще не подозревая о таких способностях. И Врангелю в свободном полете фантазии рассказал, для придания убедительности своему меценатству, о найденной некогда золотой супержиле. Так вот она, приходи, кума, любоваться!
Проход был невысокий, но все-таки позволяющий идти, не пригибая головы.
«Не для монстров ли он просечен, – подумал Шульгин, – или строители были повыше нынешних?»
– Ребята, а это ведь почти точный аналог ляховского тоннеля, – суфлерским шепотом сказал Левашов. – Напряженность хронополя измерить нечем, а конструктивно очень похоже…
– Дойдем – узнаем, – ответил Новиков.
Идти пришлось недолго. Метров пятьдесят, и кладоискатели оказались в месте назначения. Уютное местечко, ничего не скажешь.
Словно бы в сотню раз увеличенная монгольская юрта. Ровный, чуть заостренный к вершине купол с круглым отверстием, сквозь которое падал свет пасмурного дня. Подлинный или искусственный – не понять. Но вполне достаточный, чтобы различать детали и подробности. Отчего пришел в голову образ именно юрты – не только из-за формы зала. Здесь все стены сплошь были завешаны шкурами животных. Да каких!
Палеозоологов среди команды не было. Журналист, инженер, врач, аспирантка-историк, гимназистка восьмого класса.[85] Ирина – другая статья, ее подготовку к известным категориям не сведешь. Но и она к работе в палеолите или неолите не готовилась. А интересно было бы посмотреть, если б вдруг… Подобие Рэкэл Уэлч среди кроманьонцев.[86]
Тем не менее в меру своей информированности все догадались, что шкуры принадлежат зверям, ныне не существующим. Или таковыми считающимся. Судя по размерам и фактуре, здесь присутствовали мамонты, шерстистые носороги, упомянутые Ефремовым гишу (гигантские гиены), пещерные медведи и прочая экзотика.
По привычке Шульгин немедленно потрогал ближайшую шкуру ладонью. Она была свеженькая, как вчера продубленная и обработанная. Шерсть струилась под пальцами.
Опять захотелось выматериться.
Неужели Левашов угадал и тоннель привел их именно туда, не за миллион, конечно, а тысяч за десять-двадцать лет до Рождества Христова? Из реала 1899 года, сквозь золотое кольцо, играющее роль обмотки трансформатора времени, судя по размерам – в тысячи раз более мощно, чем тот, что пропустил двойников Ляховых в Новую Зеландию из Палестины. И вполне возможно, что сами они сейчас очутились на той Земле, где господствовали (и сейчас господствуют?) протодуггуры?
Главное было в другом, чего они, странным образом, в первый момент не заметили. А должны были бы, испытанные бойцы, успевавшие вскинуть винтовку раньше, чем противник шевельнется.
У дальней стены «юрты», так и будем пока называть помещение, возвышалось подобие каменного стола, вокруг которого восседало, иначе не скажешь, полдюжины дагонов, намного старше проводника и выглядевших солиднее, человекообразнее, пожалуй.
«Видали мы лилипутов и покрупнее», – мелькнуло в голове Андрея, и он тут же придушил постороннюю аллюзию,[87] которая, дойди до хозяев, могла им не понравиться.
На столе, безотносительно к падающему сверху дневному свету, горело шесть жировых или масляных плошек, тоже золотых, пожалуй. Они больше воняли, чем светили, но – ритуал, наверное!
Как причисленные к разряду «говорящих», то есть достойных общения, Новиков и Шульгин шагнули вперед, на всякий случай прищелкнув каблуками и по-гвардейски резко кивнув, что заменяет отдание чести, если ты без головного убора. Винтовки они предварительно передали Левашову, пистолеты оставив при себе. Как непременный атрибут своего статуса.
Совет старейшин, или как они здесь именуются, синхронно наклонили головы в ответ.
– Садитесь, почтенные господа, – произнес кто-то из шестерых, но понять, кто именно, было невозможно.
Андрей увидел, что садиться им предлагается на довольно узкий каменный выступ правее стола. Не совсем подходящее место для равноправных партеров. Да ладно, переживем. Все лучше, чем русскому князю, которого заставляли в Орде ползти сквозь огонь на коленях.
А девушкам с Олегом проводник указал на нишу рядом со входом, где тоже имелись сиденья, застеленные мехом.
«Нам, значит, голый камень, а им – мягкое, – внутренне усмехнулся Новиков. – Так кто ж знает, что здесь почетнее?»
– Андрей! – вдруг вскрикнула Ирина. – Андрей, тут жуткая радиация…
Даже если так, дипломатия есть дипломатия.
Он сделал ладонью якобы успокаивающий жест в сторону синклита дагонов, а как они его поймут – бог знает! Вдруг у них это страшное оскорбление. Но есть ведь и общепонятный язык.
– Простите, господа, отвлекусь на минутку…
Старцы с непроницаемыми лицами снова кивнули, подобно китайским болванчикам.
– Что, Ира, откуда?
Она показала ему свой гомеостат, на экране которого желтый сектор, свидетельствующий об опасности для жизни контролируемого индивидуума, рывком расходился на восьмую часть окружности, снова сжимался и снова расширялся. Как глазок настройки старых ламповых приемников, реагировавший на либрацию[88] длинных и средних волн. Аппарат чувствовал проникающее в тело защищаемого объекта ионизирующее излучение, мгновенно устранял наносимые им разрушения клеточных структур, но альфа-, бета– и гамма-лучи атаковали человеческие тела непрерывно…
– Уловил. Но ведь держит?
– Держит. Гомеостатов у нас всего два. Если будем передавать из рук в руки по кругу – час-другой протянем, а потом начнется лучевая… Здесь рентген как в Хиросиме.
Неприятность, ничего не скажешь. Гомеостаты, после возвращения на поверхность, излечат лучевую болезнь в любой стадии, но где гарантия, что удастся выбраться своевременно? А здесь, при таком фоне, неизвестно чем кончится. Порочный круг – по мере утяжеления болезни будет требоваться все больше времени на поддержание жизни одного, а двое других продолжат хватать новые и новые рентгены…
– Уважаемые, – обратился Андрей к старцам, – наши друзья не могут находиться в ваших чертогах. Здесь непригодная для жизни… – Замялся, не зная, как сказать. Знают ли они, что такое «радиация»? – Непригодный для людей воздух…
– Прлхтмн, – сказал один из синклита проводнику, так прозвучало обращенное не к ним слово, одни согласные, причем произнесенные на вдохе. Очевидно, это было его имя. Или – должность. – Проводи этих неслышаших в безопасное место.
Последнее Новиков услышал уже в переводе.
– Пойдемте…
Ирина расстегнула браслет и протянула его Андрею.
– Заканчивайте переговоры побыстрее. А нас, конечно, убивать не собираются…
Новикову очень не хотелось отпускать друзей, лишенных единственной защиты, но он тоже верил, что вреда им не причинят.
Левашов нервно кусал губы. Оставлять Андрея с Сашкой здесь, а самому бежать… Невыносимо. Так и выхода другого нет: девушки тоже нуждаются в его поддержке.
– Иди, Олег, иди. Мы постараемся в темпе…
Новиков застегнул ремешок гомеостата на запястье. Посмотрел – экран продолжал панически пульсировать. У Шульгина – то же самое.
Но срок действия прибора, как писалось в инструкции, не ограничен, лично им бояться нечего. А существа, комфортно себя чувствовавшие в такой среде, безусловно, достойны удивления. Может быть, в этом кроется секрет разноса по временнуй вилке здесь присутствующих дагонов и начавших проявлять активность дуггуров?
В какой-то день и год далекого прошлого одним не хватило имеющегося радиоактивного фона или, наоборот, он стал для них избыточен?
Чувствуя себя защищенным, Андрей не мог избавиться от неприятного зуда на коже. Будто все эти атомы и кванты, витающие в пещере, превратились в пыльцу ядовитых растений.
Он сделал единственное, что мог, для успокоения нервов и в пику хозяевам. Щелкнул крышкой портсигара, закурил сам и дал прикурить Сашке.
«Сионские мудрецы», как неожиданно окрестил их Андрей, продолжали сохранять спокойствие. Не ледяное, скорее – полусонное. Вроде стариков из «Белого солнца пустыни»: «Давно здесь сидим».
– Теперь поговорим, почтеннейшие? – спросил Новиков, после трех полноценных затяжек ощутивший некоторое душевное равновесие. Вдобавок он чувствовал интуитивно, что иной, технической опасности бояться не стоит. Не станут их бить каменными топорами по затылкам или выпускать стаи пещерных скорпионов. – Разве вы не знали, что людям с поверхности радиация смертельна?
– Знали, но хотели посмотреть, как она подействует на вас. Очень многие хотят узнать тайны дагонов. Мы их ни от кого не скрываем, только не все способны принять эти тайны…
По-прежнему невозможно было понять, от кого из шестерых исходит проникающий в глубь сознания русский текст.
Мысль сама по себе хорошая – открывать тайны внутри ядерного реактора человеку, не имеющему радиометра. Или в камере, куда вот-вот будет пущен газ «Циклон-Б».
– Почему ваши друзья ушли, а вы остались? Вы – другие? – спросил один из старцев.
– Мы – одинаковые. Есть небольшое отличие – они «не слышат», мы – слышим. Они плохо переносят истекающую от стен вашего дома энергию, мы к ней безразличны.
Показалось, что слова Андрея повергли старцев в изумление.
– Как это возможно? Среди белых людей есть слышащие, есть глухие, но нет способных выжить в наших пещерах.
– Вы мудры, но нет мудрецов, знающих все. Примите нас, как умеющих больше, чем вы знали до сих пор. Хотите разговаривать – мы готовы. Если случилось то, чего вы не ожидали, – решите, как к этому отнестись. Скажете уйти, мы уйдем…
Дагоны начали совещаться, а Новиков с Шульгиным, демонстрируя бесстрастие, продолжали попыхивать сигарами.
– Ты не слишком резко? – шепотом спросил Сашка.
– Хрен его знает. Мне показалось, что так будет определеннее. Да – да, нет – нет.
– Удолина не пора вызывать?
– А я сейчас как раз этим и занимаюсь. Дед будет очень к месту в данном кагале.
– Сдается, мы им интереснее, чем они нам…
– И мне так кажется…
При этом они машинально посматривали на экранчики своих гомеостатов. Страшновато, конечно: таким испытаниям ни приборы, ни самих себя подвергать еще не приходилось. Пули воспринимались проще.
– Давай, Андрей, ты начинай деловой разговор, а я выйду, посмотрю, где и как ребят устроили. Снаружи, думаю, и с профессором легче связаться. Если мы в соотносимых пространствах…
На самом деле. Шли-шли, искали таинственных «предтеч», нашли, а происходит какая-то ерунда, по большому счету. Нужно переходить к делу.
На внезапный уход Шульгина дагоны никак не отреагировали. Наверное, поняли причину, а может быть, у них так принято.
Новиков подвинулся до самого края скамьи, чтобы быть ближе к собеседникам, притушил едва докуренную до половины сигару.
– Давайте начистоту, уважаемые. Если вы собрались здесь, то ведь не просто так? – Он решил не выбирать тона и выражений. Захотят – поймут. – Мы искали вас, вы ждали нас. Почему?
– Наверное, потому, что вы нас искали. Мало кто знает, что нужно искать. Скажи – зачем ты хотел нас видеть?
– Именно вас – не хотел, – продолжая линию «честность – лучшая политика», ответил Андрей. – Нам пришлось столкнуться… Подождите, – прервал он сам себя, – вы знаете, что такое время?
– Мы знаем, – прозвучал ни от кого конкретно не исходящий ответ. – Знаешь ли ты?
– В меру способностей. Линейное, параллельное, встречное, нулевое, боковое… Есть какие-то еще?
– Пока достаточно. Видим, что ты знаешь, о чем говоришь. Но что тебе нужно от нас?
Новиков начал рассказывать, не зная, к чему приведет его откровенность. Выскочат сейчас по неуловимому сигналу несколько монстров из прикрытого шкурами прохода и поволокут… В настоящее место.
Не касаясь многих подробностей, которые считал излишними, обрисовал эпизоды встреч с «монстрами», дуггурами-элоями, то, как он получил, совсем незаслуженно, страшный по силе и последствиям психический удар. Про «медуз» тоже рассказал и о том, что великий мудрец мира «белых людей» подсказал ему, как найти тех, кто знает истину.
– Мы не хотим войны и жертв, но мы не понимаем, кем являются те существа, зачем они через много тысяч лет явились к нам и чего хотят. Наш знающий считает, что вы, живущие в пещерах, их родственники, потомки или предки. Сейчас я говорю с вами и думаю – с кем говорю? Время на полянах перед входом в ваше убежище и время здесь – одно и то же или другое?
После его слов старцы пришли в чрезвычайное возбуждение. Они размахивали хилыми конечностями, щелкали, клекотали и чирикали, доказывая или объясняя друг другу нечто спорное и интересное, однако ни одна их мысль или эмоция до Новикова не доходила. Барьер они поставили плотный.
Новикову, оставшемуся в одиночестве, стало совсем не по себе. Что вполне естественно. «На миру и смерть красна» – давно и не нами сказано. Штыковая атака или сабельная рубка может вызывать душевный подъем и восхищение. Слова генерала Чарноты: «Ах, какой был великолепный бой под Киевом», – вполне отражают настроение прирожденного бойца. Но сидеть одному в неизвестном месте с партнерами, способными генерировать иррациональный ужас одним только внешним видом, не считая прочего, под потоком радиации, едва парируемым аггрианским браслетом…
Почти то же самое, что в окопах Первой мировой втягивать голову в плечи, когда на бруствере рвутся химические снаряды, а на твоем лице слабенький противогаз, неизвестно от чего защищающий.
– Ты очень нужный нам человек из нынешних времен, – прозвучал голос «из президиума».
Ожившие мумии сидели перед ним, и воображать их равноценными собеседниками было трудно и в то же время необходимо.
– Давайте поделимся информацией на равных, – предложил Новиков. – Мой вопрос – первый. Вы что-нибудь знаете о тех, кто на нас напал?
Каким-то образом среди членов синклита произошло переформатирование, каждый из них приобрел индивидуальность, и, как положено, сидящий посередине оказался главным. Уменьшенная копия Вия в рабочей обстановке.
Речь его длилась минут двадцать. За это время он успел рассказать об истории народа дагонов с древнейших времен и до текущего момента. Во многом она совпадала с гипотезами, которые обсуждались с Удолиным, но только в общих чертах.
В долгие тысячелетия палеолита и неолита, вопреки ныне распространенным мнениям, на Земле сосуществовали несколько гуманоидных рас, кроме всем известных неандертальцев и кроманьонцев. Анатомически они были достаточно похожи, почему археологи до сих пор и не научились верно идентифицировать попадающиеся им останки. То же относится и к предметам материальной культуры. Но вот генетические отличия, судя по словам старцев, были куда значительнее. Иногда межвидовое скрещивание было возможно, но потомство оказывалось бесплодным. В других случаях рождались вполне химерические существа, что нашло отражение в легендах и мифах о минотаврах, кентаврах и прочих сказочных персонажах. А протодагоны, о которых шла речь, от прочих братьев по разуму отличались не только генетически, но и психически. Настолько, что половых контактов не происходило в принципе. Как их не бывает между шимпанзе и бабуинами.
В незапамятные времена они, освоив огонь, за исторически ничтожный срок, буквально в несколько веков, проскочили эпоху каменных орудий, чуть больше времени ушло на эпохи меди и железа. А потом додумались до возможности влияния на окружающую природу непосредственно, без механических посредников.
Это случилось раньше, чем местные стаи и орды «сапиенсов» достигли уровня родоплеменных структур, а в Месопотамии и Египте зародилось подобие государственности.
Дешифруя иносказания и соотнося упоминаемые старцами факты с известными источниками, Андрей начал мысленно строить предварительный, весьма схематичный каркас истории дагонов. И не только их. Для увлеченного человека эта затея могла бы стать делом всей жизни и принести всемирную славу. «А может, Ларисе предложить? – подумал Новиков. – Специалист, что ни говори, вдруг увлечется?»
Но это потом.
Сейчас нужно слушать и выхватывать из не всегда связного потока информации рациональные зерна, пригодные для углубления контакта.
Получалось, что к началу третьего-четвертого тысячелетия до н. э. дагоны не то чтобы освоили, но прилично изучили африканский континент. В качестве верховых и упряжных животных использовали страусов, зебр и квагг, по рекам и озерам плавали на тростниковых катамаранах, оснащенных не только прямыми, но и косыми парусами (на этом Андрей специально заострил внимание). Добирались до дельты Нила и средиземноморского побережья, распространяя среди нубийцев, египтян, берберов эзотерические знания, создавали подконтрольные себе жреческие касты, насаждали начатки наук и даже искусств.
По крайней мере, если принять эти легенды за правду, становятся понятными многие непонятные историкам и этнографам моменты.
Новиков знал, что каждый народ склонен преувеличивать собственные достоинства и творить легенды о величии своих предков и уникальности их же истории. Взять хоть отечественных «патриотов», договорившихся до того, что египетские пирамиды и прочие чудеса Древнего мира созданы русичами, от которых произошли все остальные племена и нации, включая хеттов, евреев и как бы не китайцев с неграми. Однако дагонам он склонен был верить больше чем наполовину: сам видел их сверхъестественные способности, сохранившиеся даже в нынешнем жалком состоянии. Способность к мыслеречи (телепатией ее называть неправильно), резистентность к радиации, не хуже, чем у тараканов, интеллект не слабее европейского. И это не принимая во внимание уровня, достигнутого дуггурами, если они действительно близкие родственники.
Но разошлись их пути очень и очень давно. Воспоминаний о моменте «развилки» хозяева пещер не сохранили. Более того, информация о существовании в параллели могущественных соотечественников их, похоже, поразила и ошеломила. Все же они были, при всех своих достоинствах, существами доцивилизационного уровня, точнее – дотехнологического. Их познания носили эмпирический характер, не отрефлектированный научными методиками. Что касается хронофизики и теории альтернативных реальностей, так до них еще не доросла и наука ХХ века, за исключением некоторых маргинальных философов, полусумасшедших изобретателей и писателей-фантастов.
И даже ушедшие далеко вперед цивилизации вроде аггрианской и «Ста миров», научившиеся путешествиям поперек временных линий, признавали, что точки бифуркаций «изнутри процесса» физически не наблюдаемы. Только при сравнительном изучении веера реальностей «извне» можно отследить взаимоотношение цепочек причин и следствий, приводящих к тому или иному варианту.
– Откуда ты знаешь, что наши предки смогли уйти в иной мир и стать его хозяевами? – спросили Андрея.
– Я не знаю. Мы только догадываемся. Мой друг-мудрец умеет читать мыслеобразы. Он смог уловить, как думают те, кто приходил к нам, и как думаете вы. Очень похоже. Если вы знаете язык белых-англичан, белых-буров, чувствуете, каким языком пользуюсь я с моими друзьями, вы должны заметить, что они похожи. Банту, кафры, бечуаны говорят другими словами и думают по-другому. Вы согласны?
– Да, это так. Слова англичан и твои звучат по-разному, но для нас они почти одинаковы. Слова разные, устройство мыслей одно…
Так это прозвучало в переводе. Значит, он сумел донести до дагонов то, что хотел.
– Мы бы хотели, чтобы ваш старший друг пришел к нам. От него мы узнаем больше, чем от тебя. Ты знаешь много, но мыслеречь твоя слаба…
«Во как, – подумал Новиков. – Слаба, значит. Это они таким образом мой блок воспринимают. Ну, да. Мог бы тараторить мысленно без пауз, выдавая и вторые, и третьи смыслы, эмоции тоже. А я цежу в час по чайной ложке тщательно подобранные слова, как финский лесоруб. Вот если Константин откроет все свои шлюзы – мало не покажется. Как бы „уши“ не начали затыкать…»
– Мой товарищ, второй слышащий, который сейчас вышел наружу, старается его позвать. Он очень далеко сейчас, но я надеюсь, мы дозовемся…
– Он умеет летать по воздуху?
– Вроде того. И не только по воздуху. Он умеет летать среди звезд, – и, не давая старцам опомниться, перехватил инициативу: – Пока он прилетит, расскажите, что было дальше. Почему ваш народ не владыка Африки, почему вам остались только эти пещеры? И откуда здесь такая радиация? Вы без нее не можете жить?
Ожидая, пока дагоны опять посовещаются, Андрей прикурил остаток сигары. Что-то долго Сашка не возвращается. Он бы охотно оставил его вместо себя, выскочив на свежий воздух. Кожа лица зудела все сильнее, и он отчетливо чувствовал, как миллионы проклятых заряженных частиц пронзают его тело.
Старейшины, закончив диспут, передали слово другому докладчику. Кажется, это был сидевший на дальнем от Новикова конце стола.
– Ты правильно угадал. Раньше то, что ты называешь радиацией, было гораздо сильнее, оно было везде, и его хватало для поддержания нашей жизни везде, куда мы доходили. Наш народ в пору расцвета насчитывал больше миллиона особей…
Так прозвучало, не «человек», а «особей». Возможно, так они себя дифференцировали от прочих рас.
– Потом эта жизнетворная сила стала слабеть везде. Те, кто оказались «далеко от дома», стали терять силы, у них перестали рождаться дети. Те, кто вовремя понял, что происходит, начали возвращаться. Но вернуться успели немногие. Тысячу или две лет назад весь народ собрался вокруг этих пещер. Здесь мы по-прежнему можем жить долго. Многие остались на поверхности, там жизненной силы хватает, только далеко уходить все равно нельзя. Кроме того, наши враги размножились и стали так сильны, что нам не осталось свободных земель. Еще потом пришли белые. И наша жизнь кончается…
«Это же что, в Древнем Египте была такая радиация? Наука вроде не подтверждает. Или они имеют в виду спектральный состав Солнца? Что-то такое писали, кажется. Но не такой же интенсивности? Или по мере деградации им требовались все большие дозы, как наркоманам?» – торопливо думал Новиков, одновременно подбирая слова для правильной формулировки следующего вопроса.
– Жить долго – это сколько?
– Мы, сидящие у очага, не знаем, сколько нам отпущено. Этого знать нельзя. Некоторые из нас видели, как строились пирамиды, некоторые помнят, что было еще раньше…
«Очаг», нужно понимать, здоровенный пласт урана высокой чистоты. И эти ребята мотают по четыре-пять тысяч лет. Неслабо».
– А те, кто живет наверху?
– Те меньше. Но все помнят, как в Африке появились белые люди…
«Тоже триста как минимум», – прикинул Андрей.
О точной численности уцелевших дагонов спрашивать не стал. На всякий случай, вдруг это военная тайна или болевая точка.
– Вы позволите мне подняться на поверхность? На меня ваша «жизненная сила» действует не столь благотворно. Здесь трудно дышать. Я помогу товарищу звать нашего умного друга, вдвоем это легче. Я отдохну, потом мы продолжим. Хорошо?
– Хорошо. Иди. А мы будем совещаться еще…
Проводника ему не дали, но он и сам, светя под ноги фонарем, легко нашел обратную дорогу.
Кажется, никогда в жизни свежий воздух не был так ароматен и живителен, в буквальном смысле слова. Неподалеку от выхода из пещеры, на полянке рядом с небольшим водопадиком, расположились друзья.
– Уф-ф, наконец-то, – выдохнула Ирина.
– Да что такого? Едва полчаса прошло…
– А нам показалось – полдня. Ну, рассказывай, до чего договорились…
– Сейчас. – Он посмотрел на экран гомеостата. Желтый сектор больше не пульсировал, наоборот, медленно начал сжиматься. Обошлось.
– Держите, проверьтесь все…
– Чего проверяться, лечиться надо, – ответил Шульгин. – Помаленьку все схватили. – Возьми, Олег, твоя очередь.
– Плесни мне, Саша, в чарочку, да покурю по-человечески. Что там с Удолиным?
Я с ним говорил. Он в полном восторге. Обещал скоро быть.
– Отлично. Пусть и ведет переговоры. Если явится в эфирной копии, ему на радиацию плевать.
– А материально?
– Дадим гомеостат, мой. Мне, честно говоря, снова туда лезть – никакого интереса.
В ожидании Удолина вкратце пересказали девушкам и Левашову историю дагонской расы.
– Так где же они проскочили развилку? – вслух задумалась Ирина. – Очень может быть, что как раз в районе возникновения месопотамской и египетской цивилизаций. Читала я у Льва Гумилева насчет «пассионарных вспышек». Неизвестно, откуда они возникали, но давали мощные толчки историческим процессам. Что-то такое, возможно, здесь и случилось… Часть дагонов сделали «что-то не то» и остались доживать на этой Земле, а остальные «вовремя перешли на другую сторону улицы». Механизм возникновения альтернативы я плохо представляю. Если бы подключить вычислительный центр Таорэры, пожалуй, несколько гипотез просчитать бы можно было.
– А Замок? – спросил Левашов.
– Ничего не могу сказать, с его методиками и мощностями я не знакома.
– Есть одна идейка, – щурясь от пробившегося сквозь облака солнечного луча, сказал Шульгин. – По поводу Замка. Если мы смогли перебраться сюда, так велика ли разница? Выйти в каком-то там веке до нашей эры и лично выяснить, где возникла развилка и почему…
– Но-но, – с намеком на угрозу ответил Андрей. – Завязали с экспериментами. Не хватало в позднекаменном веке застрять. Константину делать нечего, ему и карты в руки. Сумеет в мозгах у старцев нужные концы найти – тогда и мы подключимся…
– А хорошо бы, – мечтательно сказала Лариса. – Найти ту развилку, заблокировать – и не будет больше никаких монстров и дуггуров. Останутся одни англичане, а уж с ними мы разберемся… А потом я снова в Кисловодск уеду. Что вы ни говорите, в двадцать первом веке мне больше нравится, чем в девятнадцатом.
Глава пятнадцатая
Британская империя вместе со всеми доминионами буквально взорвалась чувством обиды, возмущения, жестко униженной гордости, когда газеты сообщили о поражении двух английских крейсеров в бою с одним трансваальским на границе Атлантики и Индийского океана. Пожалуй, Россия даже Порт-Артур и Цусиму пережила легче. Другой исторический опыт плюс разнузданная антигосударственная либеральная пропаганда. Господа интеллигенты почти сумели внушить обществу мысль о том, что проигранная война – великое благо. А тут и Первая русская революция подоспела.
Не то в Англии. Здесь, где каждый с детства мнил себя моряком и империалистом, такая пощечина прозвучала особенно громко и оскорбительно.
Немецкий грузовой пароход, идущий из Малайи, случайно отклонившийся от общепринятого курса, заметил в океане крейсера, дрейфующие в самом жалком положении. Единственное, что британцы сумели, заделав пробоины и откачав воду из кормовых отсеков, это с помощью паровых катеров подтянуть корабли и пришвартовать их бортами, из подручных материалов соорудить рули, установить кливеры и фор-марсели, чтобы держаться по ветру и не встретить шторм лагом к волне.
Один минный катер снарядили и отправили в Кейптаун за помощью, заранее готовясь к позору и насмешкам экипажей эскадры и прессы.
Но немец подоспел раньше и, сговорившись о цене, взял несчастные крейсера на буксир.
Описание боя, изрядно приукрашенное кейптаунскими корреспондентами, поданное в самом выгодном для англичан свете, все равно произвело шоковое впечатление. А немцы и другие независимы репортеры «нейтральных» держав расписали историю так, что толпы «патриотов», размахивая флагами на Пелл-Мелл и Риджент-стрит, требовали линчевать хоть кого-нибудь из флотского начальства.
Радикальные либералы во главе с Ллойд-Джорджем, рабочая партия и социал-демократы настаивали на немедленном прекращении боевых действий. Но большинство парламентариев и «народ», охваченные острым приступом шовинизма, требовали вести войну до победного конца и до последнего бура, если потребуется.
Адмиралтейство со всеми его лордами, артиллерийское управление, технический комитет, военно-морская разведка, атташе в европейских и прочих, имеющих хоть какие-то морские силы странах были завалены запросами из парламента и директивами начальства всех видов, по нисходящей. Выяснить и доложить, что случилось, кто виновен и подлежит наказанию. Откуда и каким образом в распоряжении Трансвааля оказался современный боевой корабль, какого он типа, где построен, чем вооружен, какой принадлежности экипаж, где базируется, как снабжается и так далее, и тому подобное.
Задавать вопросы было легко, отвечать на них – не в пример труднее. Да тут еще Сильвия с Берестиным с удовольствием вмешались в скандал. Потому что в Британии любая житейская ситуация при желании легко переводится в политический скандал. Случись нечто подобное с российскими, к примеру, кораблями, широкая общественность скорее всего вообще ничего не узнала бы разве что через порядочный отрезок времени и в виде слухов, которые можно трактовать, как заблагорассудится, а властям на них не реагировать вообще. На подобный случай имеется подходящая поговорка: «На каждый чих не наздравствуешься». И это по-своему правильно. Апостол Павел, кажется, говорил: «Умножая знания – умножаешь скорби».
Не то в «демократии», пусть и монархической. Шум поднялся до небес, невероятно оживилась оппозиция, до сих пор не имевшая подходящего повода как следует «прищучить» правящую партию, да и аристократические группировки, бьющиеся за степень близости к трону, нашли подходящий повод для новых интриг: «А первый морской лорд такой-то – ставленник герцога Галифакса, не он ли во всем виноват?»
Однако в любом государстве, особенно столь успешном, как Великая империя, над которой никогда не заходит солнце, имеются нормальные, спокойные службы, занимающиеся своими делами, независимо от политической конъюнктуры.
Во время боя один из штурманов «Эклипса», страстный фотолюбитель, запечатлел «Изумруд» пластиночным аппаратом, снабженным приличным по тем временам телеобъективом. При громадном увеличении, достигнутом с помощью так называемого «холодного проявления», у специалистов появился материал для работы. Десяток судовых инженеров, собранных в неприметном здании на Ламберт-Роуд, окнами выходящем на Темзу, быстро определили, что данный образец является почти точной копией крейсера «Новик», строящегося на верфи «Шихау» для России. Этот крейсер, предположительно, должен стать самым быстроходным в мире. Беда только в том, что он пока еще проходит сдаточные испытания и в строй может вступить не раньше следующего года. Во всех остальных флотах мира – а специалисты пролистали все доступные справочники, не считая конфиденциальных документов, – ничего похожего не имелось. Вернее – имелось именно «похожее» – по функции и водоизмещению, но не по внешнему виду и не по характеристикам.
Знатоки впали в задумчивость. Что силуэт крейсера мог быть изменен с помощью известных и тогда средств маскировки – тут загадки не было. О настоящей его скорости вопросов тоже не возникало. Судя по показаниям офицеров пострадавших кораблей, она была высокой, а уж двадцать пять он развивал узлов или двадцать семь – судить невозможно. Да и необязательно.
Существенным и необъяснимым оставался вопрос артиллерийский. Здесь никуда не денешься, ничего не утаишь и не приукрасишь. О дальнобойности и темпе огня еще можно дискутировать, кое-что списать на излишнюю впечатлительность очевидцев. А вот с точностью огня что делать? Эксперты облазили поставленные в док крейсера от киля до клотика, считая пробоины, измеряя их размеры, составляя схемы углов встречи, типа разрушений, бронебойности и заброневого действия вражеских снарядов. Определили калибр, удивительный по тем временам, в иных флотах не встречающийся. Выяснили, что мощность используемой взрывчатки намного превосходит пироксилин и мелинит. Фугасное действие 130-мм снаряда оказалось сильнее, чем стандартного восьмидюймового!
Этим и объяснялось то, что серия попаданий в кормовые оконечности и подводные взрывы в непосредственной близости от ахтерштевней вызвали фатальные повреждения рулей и винтов – скручивание и изломы баллеров,[89] отрыв лопастей, деформации дейдвудных валов. Но самое непонятное и страшное – зона попаданий нескольких десятков снарядов даже не приблизилась к мидельшпангоуту. Все ложились будто в заранее нарисованную мишень. Здесь самые квалифицированные специалисты разводили руками. Нет на свете и быть не может пушек, стреляющих на десять миль с точностью снайперской винтовки! Обыкновенный закон рассеивания заставил бы минимум половину снарядов лечь по всей протяженности корпусов.
Положение складывалось такое же, как если бы в конце двадцатого века инженерам НАСА и Советского КБ Королева показали летящий над Землей фотонный звездолет, хотя бы типа «Хиус». И предложили прояснить ситуацию. Инженеры сталинских «шарашек» в целях выживания скорее всего что-нибудь придумали бы, а «вольные» – вряд ли.
Но инженеры – одно, политики – другое. Политикам науки – до одного места. Парламентарием или министром можно стать и с двумя классами образования, что имеет свои преимущества. Ученик скорняка Каганович железнодорожных институтов не кончал, но когда Сталин приказал ему в сорок первом году решить проблему перевозки эвакуируемых заводов на Восток, а войск – на Запад, пользуясь единственной колеей и примитивным подвижным составом, решил ее с блеском.
Здесь и вмешалась Сильвия, которой сделанный друзьями «заход с козыря» показался интересным, сулящим много увлекательных перспектив.
По одному из работающих каналов она подкинула нужным людям информацию, что в городе Владивостоке русскими построен кораблестроительный завод, который и мог по немецким чертежам сделать крейсер для буров, чтобы побольнее уязвить Англию. Мысль была плодотворная. На самом деле, во Владивостоке и Порт-Артуре имелись заводы и доки, где собирались из секций, перевозимых на специальных транспортерах по железной дороге, миноносцы типа «Сокол». Кому-то придется потратить несколько недель, чтобы выяснить, а не крейсера ли там на самом деле строятся? Настоящих инженеров придется привлекать, местных или из Метрополии доставленных. Обычный агент разве сможет отличить детали контрминоносца от крейсерских?
Что-то подобное могло быть выстроено и на верфях города Николаева на Черном море. Броненосцы там получались очень неплохие, и несколько эллингов было занято как раз крейсерами.
Следующая дезинформация пошла из Южной Америки. На Бразильских и Аргентинских вервях тоже недавно спускали на воду легкие крейсера, проданные неизвестно кому. Почему не эти? Уровень развития промышленности позволял, а какие там инженеры воплощали свои передовые идеи – когда еще узнаешь? Не завтра и не через неделю.
Самые активные добровольцы-помощники оказались в САСШ. Там и народу побольше, и всевозможных верфей и заводов на Восточном и Западном побережьях столько, что выяснить, чем на них занимаются, – и то много времени уйдет, особенно имея в виду, что американцы – досужие до всяких новомодных изобретений. У них, говорят, какие-то братья Райт летательный аппарат тяжелее воздуха почти построили.
И все беспорядочно поступающие сведения необходимо проверять, используя несовершенные методики военно-промышленного шпионажа девятнадцатого века.
Здесь еще не сталкивались с хорошо отработанной в конце двадцатого тактикой – перегружать каналы информации противника сведениями правдоподобными, но ложными, в расчете что в общем потоке затеряются истинные. И много прочих методов в арсенале умных людей имеются, чтобы обманывать других умных, но не тому обученных. Поступает «куда надо» пакет с путаной текстовой информацией и фотографиями не очень качественными (так ведь из-под полы снимали, примитивной камерой), и одновременно другой «источник» докладывает нечто совсем другое. Устроить же очную ставку для выяснения истины – невозможно. Один агент внезапно заболевает – желтой лихорадкой, например. Другой чересчур засекречен, чтобы вызывать его для объяснений. Кроме телеграфа, иной связи нет, посылать штатного сотрудника для перепроверки – месяц дороги в оба конца. Значит – пользуйся тем, что имеешь!
В такой примерно ситуации оказался Сталин и его Генеральный штаб перед началом Великой Отечественной войны. Сообщений о предстоящем нападении Германии масса, а что с ними делать? Где правда, а где провокация – поди разбери!
Вопрос с крейсером британское адмиралтейство так и не решило, но сумело узнать, что новые французские пушки на сто кабельтов теоретически стрелять могут. Правда – других калибров. Шести дюймов и больше. Стотридцатки там даже не проектировали. Самое близкое – сто тридцать восемь, но характеристики совсем другие. И снова новая головная боль – кто их мог изобрести, заказать, изготовить, купить, кто прицелы поставить? «Карл Цейс», не иначе, и опять начиналась прежняя карусель неразрешимых вопросов.
Нашелся знаток в чине коммандера, в юности прочитавший «Пятьсот миллионов бегумы» Жюля Верна, где описывался построенный сумасшедшим немцем в дебрях Африки город Штальштадт, производящий чудовищные пушки и непостижимой мощи боеприпасы к ним. Офицера высмеяли, но тихий человек в штатском сделал пометку в блокноте. Если нет разумных версий, пригодятся и безумные. Доказали бы инженеры, что случившийся бой – пьяный бред командиров и экипажей, – один разговор. А когда сам полазил в воняющих взрывчаткой и протухшей водой отсеках, продираясь сквозь завалы рваной стали, – для скептицизма мало оснований.
По известному принципу – отсекать лишнее, англичане решили, что независимо от деталей, которые, когда нужно, всплывут сами собой, врагами следует считать русских, немцев и французов. Ни у кого другого просто не хватило бы технических возможностей и политической воли, чтобы бросить вызов «владычице морей». Такое решение нарушало вековые принципы противопоставления континентальных держав друг другу в рассуждении «игры на противоречиях», но сейчас иного выхода просто не было.
Послы, разумеется, продолжали плести свою паутину, задабривая Россию и обещая ей поддержку против германской экспансии на Ближнем Востоке, предлагая Франции займы в обмен на разрыв франко-русского союза, Германии – новые колонии в Африке за счет буров и условно независимых территорий кафров и бечуанов. Но все это было просто так – инерция прежнего «высокого стиля».
Британия после первого за пятьдесят лет поражения на суше и за сто с лишним – на море вдруг ощутила зябкий холодок за воротником джентльменского сюртука. Что-то меняется в мире, и так меняется, что адекватный ответ придумать не удается.
Империя по-прежнему была могуча, сто тысяч солдат она намеревалась переправить в Южную Африку из Метрополии, еще столько же – из Индии и Доминионов, раздавить наглых инсургентов, а внутренней убежденности у ее вождей уже не было.
Неужели же причиной всему – маленький крейсер, окрашенный в необычные для морских держав цвета, зеленовато-голубые?
Среди адмиралов флота, убежденных в своем безграничном превосходстве над иностранными коллегами, иногда попадались умные люди. Способные сообразить, что абсолютного превосходства не бывает в принципе. И приказ, требующий вывести в море гигантский флот, все крейсера и больше половины броненосцев, – приказ бессмысленный, кое-где даже преступный. До тех пор пока не выяснено происхождение и настоящие боевые качества «трансваальского» крейсера, бросать на его поиски корабли, ничем не превосходящие «Гибралтар» и «Эклипс», – самоубийственная авантюра. К тому же невыясненным оставался весьма существенный момент – единственный ли этот крейсер или у него имеются «систер-шипы».
Однако высшие власти постановили – Гранд-Флит выходит из баз, сопровождает транспорты с войсками (за ближайший месяц намечалось направить с Островов и из Индии более пятидесяти пароходов).
За время похода агентуре предписывалось установить место базирования загадочного крейсера, после чего пятнадцать бронепалубных и броненосных кораблей организуют тесную блокаду порта. Не слишком глупая мысль, особенно если других просто нет. В Первую мировую англичане, используя подобную тактику, сумели пресечь операции немецких рейдеров в Индийском океане. Правда, досужие аналитики позже посчитали – в итоге было потеряно больше сил, средств и угля, чем если бы на «Эмден», «Кенигсберг» и «Карлсруэ» просто махнули рукой.
Вскоре поступили сведения, что неизвестное судно, якобы лесовоз, дважды заходило в Лоренцу-Маркиш, где тесно контактировало с пассажирским пароходом «Валгалла» под португальским флагом. Конкретнее – швартовался борт к борту, принимал с него какие-то запасы и снова уходил в море. Специалисты военно-морской разведки не исключали, что лесовоз мог быть тем самым замаскированным «объектом», иначе его поведение выглядело более чем странным. Или же – он исполнял роль корабля снабжения углем, водой и продовольствием, а сам рейдер постоянно держался в открытом океане.
Одновременно, уже по каналам Сильвии, до адмиралтейства дошли сведения, что искомый крейсер неоднократно видели в водах Реюньона, Маврикия, архипелага Крозе и Кергелена – все французские владения.
Таким образом, у англичан появился повод кое о чем побеседовать с властями Мозамбика. Прямых претензий, по международным законам, предъявить нельзя, но косвенных – сколько угодно.
Например, португальского посла в Лондоне пригласили к министру иностранных дел и в крайне тактичной форме проинформировали, что Великобритания до окончании боевых действий весьма заинтересована в пресечении использования портов Индийского океана судами третьих стран, хотя бы и торговыми. В случае достижения согласия по этому вопросу Британская империя сможет выразить свою благодарность, поделившись, к примеру, кое-какими бурскими территориями после их аннексии. В случае отказа – у Империи есть достаточно способов выразить свое неудовольствие.
С подобным же заявлением британский посол в Лиссабоне обратился к португальскому министру.
Министр немедленно доложил премьеру, что подобную акцию – вручение одновременно двух нот – следует трактовать как выражение весьма серьезного раздражения англичан и что от предъявления настоящего ультиматума их, возможно, отделяют дни.
Дон Душ Сантуш знал больше своего министра о текущем политическом раскладе и посоветовал ему не придавать особого значения британским демаршам.
– Сделаем вид, что заявления приняли к сведению. Подготовьте телеграмму губернатору Мозамбика о том, что королевское правительство, приверженное принципам нейтралитета, не допустит использования территории колонии для ведения боевых действий, в остальном же намеренно строго придерживаться международного права… Дальше сами знаете как сформулировать. Когда будет готово – я подпишу. Дело не слишком спешное.
Эта оговорка означала, что британскую ноту можно выбросить в корзину.
– Вы так уверены, что дальнейших неприятностей не последует, сеньор?
– Если вы представляете, как они могут выглядеть, загляните ко мне на чашку кофе, расскажете…
Отпустив министра, премьер пригласил к себе для консультаций послов Германии и России. Речь он собрался повести о том, что за умеренную плату Португалия согласна предоставить порты Лоренцу-Маркиш и Бейра в качестве пунктов базирования и снабжения для кораблей, идущих на Дальний Восток и обратно. Предложение было заманчивым, русским и немецким эскадрам Тихого океана гораздо удобнее иметь оборудованные постоянные базы, использование которых на ближайшие двадцать пять, а то пятьдесят лет не будет зависеть от нюансов европейской политики. Наверняка там развернется масштабное строительство, в Мозамбик хлынут капиталы и квалифицированная рабочая сила, что сулит колонии небывалое процветание. Особенно если англичане проиграют войну и Лоренцу-Маркиш станет единственным транзитным пунктом для экспорта южноафриканского золота.
Дон Душ Сантуш умел мыслить перспективно.
…Караван из двадцати крупнотоннажных пароходов, принявших на палубы и в трюмы шесть пехотных бригад с артиллерией, три осадных батареи тяжелых мортир, инженерные и саперные части, в середине октября вышел в море. Отдельные его группы формировались в Плимуте, Портсмуте, Саутгемптоне, Тильбери. Южнее мыса Лизард конвой выстроился в походный порядок, тремя параллельными колоннами, в охранение которых заступили целых восемь крейсеров. Это не считая двух крейсерских эскадр в одиннадцать вымпелов, вышедших в море раньше и следовавших на Кейптаун тремя сотнями миль впереди. Таких мощных сил прикрытия транспортов не использовалось даже в Первую мировую войну, когда в океане свирепствовали немецкие подводные лодки.
Как же напугал гордых британцев единственный легкий крейсер!
Но их тоже можно понять – это как если бы в Средние века разнеслась весть, что на торной дороге между двумя графствами появился дракон, которого не берет копье и меч. А жить – хочешь, не хочешь, надо. Тут и доблестных рыцарей созовешь, и чернокнижников, и какую-нибудь девственницу на белом единороге…
На большом планшете в ситуационном кабинете «Валгаллы» Воронцов, Ростокин и Белли рассматривали карту южной Атлантики и нанесенную на нее реальную стратегическую обстановку. Караван и силы охранения были показаны еще и на дополнительном планшете, в аксонометрической проекции и реальном времени.
– Солидно, очень солидно, – с легкой насмешкой сказал командир «Изумруда». – Тот случай, когда расчет делается на чисто количественный перевес…
– Не так и глупо, – ответил Воронцов, что-то считая на калькуляторе, выведенном на экран рядом с изображением британской армады.
– У них где-то тоже не совсем дураки сидят. Из Кейптауна в завесу они могут развернуть еще два броненосца и пять крейсеров. Итого, считая, что «Изумруд» вооружен восемью орудиями, имеет даже двойной боекомплект на ствол, они разумно предположили, что на бой с такими силами у тебя снарядов не хватит. Доставить подкрепления в Кейптаун англичанам жизненно важно, иначе война заведомо проиграна. Допустим, их адмиралы запланировали тридцатипроцентные потери, по максимуму, и даже в этом случае игра стоит свеч. Главное – протащить транспорты. Боевые корабли можно считать расходным материалом. Тут я с ними согласен…
– Хочешь, я тебе изложу план командующего эскадрой? – Воронцов взял электронную указку, позволяющую двигать кораблики на схеме каким угодно образом, соблюдая при этом все их маневренные элементы и тактико-технические данные.
Ростокин с интересом наблюдал за подобием компьютерной военно-морской игры.
– Видишь, – перестраивая порядки эскортных кораблей, пояснял старшему лейтенанту Дмитрий, – они вполне в состоянии не допустить тебя до транспортов. Из одной пушки по двум целям работать неэффективно, из восьми по двадцати – тем более. При должной самоотверженности десяток крейсеров рано или поздно, атакуя строем фронта и загибая фланги, поставят тебя «в два огня», прорвутся на подходящую для них дистанцию. Несколько восьмидюймовых, или упаси бог – двенадцатидюймовых с броненосца, и шабаш! Хорошо, если ноги унести сумеешь, а то и головы лишишься… Транспорты в это время будут уходить под прикрытием второго эшелона.
Белли задумался.
– А если – вот так? – Он взял указку и показал Воронцову направление атаки.
– Беда в том, что самый быстроходный крейсер – все же не самолет. На самом полном ходу ты потратишь не меньше получаса для выхода в огневую позицию. За это время эскорт успеет начать перестроение… Далее – смотри схему номер один.
Старший лейтенант выглядел обескураженным. Он и сам теперь понимал, что ситуация складывается проигрышная. Повредить и обездвижить двадцать транспортов, невооруженных и неохраняемых, – и то задача не из легких, а при таком прикрытии – выходит, что невыполнимая?
Так он и спросил у Воронцова.
– Ну, не так все безнадежно. Просто подумать надо, – легко ответил Дмитрий. Словно речь действительно шла об обычной шахматной задаче. Или – он знал ответ, но хотел, чтобы Белли сам догадался.
…Все небо над океаном было затянуто черным дымом. Полсотни труб изрыгали густые клубы, на высоте в несколько сотен метров вытягивающиеся длинными полосами до самого горизонта. Транспорты грузно переваливались на встречной волне, выматывая кишки и души солдатам, которым уже и война казалась не такой страшной, как бесконечная качка, духота и вонь трюмов с нарами в пять ярусов, каменные галеты, несвежая вода и прочие «прелести» путешествия на другой край света.
Караван, равняясь на самый тихоходный в ордере пароход, двигался на десяти узлах. Три параллельных кильватерных колонны растянулись больше чем на пять миль каждая. С флангов и тыла конвой сопровождали два идущих строем пеленга отряда бронепалубных и броненосных крейсеров, следующих на удалении около десяти миль, к осту и весту соответственно. Впереди, в пятнадцати милях разведывала путь пара легких «скаутов». Еще на двадцать миль юго-восточнее широким веером резали волну корабли передовой завесы, просматривая океан вплоть до теряющихся в дымке берегов Германской юго-западной Африки. Мышь не проскочит, не то что вражеский рейдер, если он рискнет обогнуть мыс Доброй Надежды и останется не замеченным кораблями Капской эскадры.
Со стороны эта армада выглядела даже солиднее, чем Вторая тихоокеанская эскадра на пути к Цусиме.
Офицеры на мостиках и в кают-компаниях злословили: «За деньги, потраченные на этот поход, легко можно купить все бурское руководство, не доводя дела до войны».
По-своему они были правы, только логика почти любого вооруженного конфликта такова, что сначала пытаются разрешить проблему «малой кровью, на чужой территории», а если это не удается, деньги и человеческие жизни начинают лететь в топку войны бессчетно, по принципу «победа или смерть». Первая мировая, которую планировалось закончить «до осеннего листопада четырнадцатого года», продлилась до конца восемнадцатого, уничтожив десятки миллионов человек, разрушив четыре великих империи и доведя до финансового краха пятую,[90] на самом деле не достигла ни одной из заранее предполагавшихся целей. Выгадали только САСШ, которые, кстати, как раз воевать и не собирались, зато немедленно и с размахом принялись торговать со всеми воюющими государствами, переключая на себя мировые финансовые потоки.
…Воронцов правильно понял психологию английского адмирала. Тот, в отсутствие общепринятой тактики действия паровых военных кораблей, инстинктивно выстроил оптимальную схему организации конвоя. Примерно как деревенский самоучка, додумавшийся до дифференциального исчисления. Но ведь, по словам Гете: «Теория без практики мертва». Как раз практики контр-адмиралу сэру Мэнсону Хилларду взять было негде. Корабли у него были новые, двадцатого, можно сказать, века, а военно-морская мысль (возможно, и неплохая) не имела подходящей пищи, кроме трех за тридцать лет сражений бронированных судов,[91] так же похожих на грамотную войну, как пьяная драка в кабаке на чемпионат мира по боксу.
Владимир Белли, лучшие годы юности проведший в Морском корпусе во время мировой войны, научился очень многому. Неустанным самообразованием под руководством старших товарищей постиг такое, что и советским адмиралам Великой Отечественной оставалось интеллектуально недоступным. Но психологически обратиться в прошлое, не такое уж далекое, ему отчего-то оказалось труднее, чем годящемуся ему во внуки Воронцову.
Когда Дмитрий, на флотоводца в Академии не учившийся, завершивший карьеру в советской должности командира тральщика, но удививший самого Колчака невероятной лихостью и пренебрежением любыми канонами, наподобие Ушакова, указал Владимиру путь к победе над половиной Гранд-флита, тот схватился за голову.
– Да где же были мои глаза и мозги!
– Не бери в голову, – успокоил его Воронцов. – Лет через десять, если доживем и домой вернемся, из тебя толковый комфлота выйдет, а может – начальник Главморштаба. Я в преферанс целый год учился, пока кое-что соображать начал. Один великий ас Второй мировой[92] якобы первый придумал формулу победы в воздушных боях: «Высота, скорость, маневр, огонь». С детства я над этим смеялся – как будто хоть один пилот любой воюющей армии пробовал иначе. Хоть на «Спитфайрах», хоть на «мессерах» или «Зеро»… Но мы не об этом. В море выходим вместе, перед Игольным мысом разойдемся, если что пойдет не так – я тебя прикрою.
Лицо Дмитрия вдруг стало печальным. Это трудно представить, но тем не менее…
– К сожалению, в этом случае мне придется уничтожить противника окончательно. Без свидетелей. Если кого с воды подберем – до конца войны ему воли не видать. Понял?
– Чего не понять, господин адмирал? «Валгаллу» подставлять нельзя. Постараемся без этого обойтись. А я что – с меня не спросится.
– Вот и хорошо. Ты сегодня ночью «без шума и пыли» выходи в море, а я завтра после обеда объявлю губернатору, что дела требуют моего присутствия на Мадагаскаре. Зачем, какие – никого не касается. О месте и времени рандеву договоримся по обстановке.
«Изумруд», пользуясь радио– и видеолокаторами, обошел караван намного мористее правофлангового крейсера. Бездымность машин и возможность наблюдать, приподняв над краем горизонта только салинг грот-мачты, делали его истинным «Летучим голландцем». Самый зоркий сигнальщик едва ли способен заметить на двадцатимильной дистанции тоненькую черточку окрашенной под цвет моря и неба мачты.
Компьютеры изображали на большом плоском экране в примыкающей к ходовой рубке командирской каюте объемную реконструкцию британского походного ордера. Как он выглядел бы с воздушного разведчика, скажем, летающей лодки «Каталина», барражирующей километрах в трех над конвоем.
Да, все получалось, как посоветовал Воронцов.
Зайдя с кормовых ракурсов замыкающих стой крейсеров, Белли дал машинам команду на «самый полный». Минут за десять «Изумруд» разогнался до сорока узлов. И кое-что в запасе еще было. Если поднажать, сорок три – сорок четыре выжать можно.
Между крейсерами был двухмильный просвет. В него Владимир и целился. Слишком поздно они его заметили. Не на те румбы смотрели.
Ну и окраска «Изумруда» великолепно сливалась с цветом бурного моря, и дыма из труб, как сказано, не было. Для тех времен это само по себе абсурд. Сигнальщики фактически увидели только бурун под форштевнем крейсера. На несколько секунд раньше, чем он открыл беглый огонь из баковой и двух передних казематных пушек.
Сейчас Белли не требовалось соблюдать политес, и абстрактный гуманизм его не занимал. Какой гуманизм, если самому рыб, упаси бог, в ближайшие полчаса кормить придется!
Комендоры «Изумруда» умели попадать в цель со ста кабельтов, так что двадцать для них – пистолетная дистанция. Фугасные снаряды смели с мостиков «Аррогана» и «Гладиатора» почти весь командный состав, сигнальщиков и рулевых. В боевые рубки перейти никому в голову не пришло. Так ведь и боя не ожидалось. Даже в Русско-японскую, в разгар ожесточенных эскадренных сражений, многие командиры и адмиралы предпочитали оставаться без броневого прикрытия. Кто из лихости, кто по причине плохого обзора и тесноты тогдашних рубок.
Два новейших по тому времени, скоростных и хорошо вооруженных крейсера за несколько минут полностью утратили боеспособность. Машины работали, большинство орудий уцелели, только командовать было некому. Несколько оставшихся в строю мичманов и лейтенантов, потрясенных видом мостиков, залитых кровью, заваленных телами убитых и раненых, первым делом занялись организацией медицинской помощи тем, кому еще можно помочь, и выяснением, кому принимать командование.
До ближайших крейсеров флангового прикрытия было около четырех миль, что вправо, что влево. Пока на них услышали частые залпы, увидели, что творится в арьергарде, начали принимать какие-то решения и обмениваться сигналами, «Изумруд» прорвался внутрь ордера. Теперь с обеих сторон его прикрывали параллельно идущие колонны транспортов, густо дымящие, держащие примерно трехкабельтовые дистанции между мателотами. Это, несомненно, было опасно в навигационном смысле, но позволяло как-то управлять конвоем. Растянись он вдвое, сама идея охранения теряла смысл.
Крейсер вошел в правый коридор, между западной и центральной колонной неуклюжих пузатых посудин, глубоко сидящих в воде, одышливо хрипящих машинными вентиляторами, взбивающих серо-зеленую воду единственными, по преимуществу, винтами. Риск маневра был огромный. Свободный просвет между транспортами не превышал восьми кабельтов. Стоит одному из рулевых, сознательно или по неосторожности, переложить рули – конец. «Изумруду» уклоняться некуда и некогда. Врубится с разгона в грязный, покрытый ржавыми потеками борт, рассечет «лайбу» пополам, но и сам уйдет на дно, исковерканный, как пивная банка под сапогом.
Белли, поравнявшись с концевым пароходом, дал машинам последовательно: «стоп», «полный назад» и, слегка выждав, «средний вперед».
Этим маневром удалось почти мгновенно сбросить скорость до двадцати узлов. Громадный бурун, вспухший под кормой крейсера, и спутная волна из-под форштевня ударили по ближайшим судам не хуже внезапного шквала, отбрасывая их в стороны от курса.
С мостика и боевых постов «Изумруда» едва ли не на расстоянии вытянутой руки (по морским масштабам), видны были недоумевающие лица оказавшихся на палубе солдат, перепуганные и остолбеневшие штурманы и капитаны, впервые в жизни призванные на войну и наконец-то ее увидевшие. В самом конкретном воплощении.
Белли приказал вести огонь вперед по курсу, с кормы и с обоих бортов, не только главным калибром, но и из тридцатисемимиллиметровых спаренных автоматов. Это был не бой – просто расстрел. В упор. Пароходы – не крейсера. Фугасные снаряды с трубками, установленными «на удар», едва вылетая из стволов, взрывались под кормой, в районе машинных отделений ниже ватерлинии, или – где придется, по-настоящему целиться было просто некогда. Заряжающие швыряли унитары на лотки казенников, едва успевая уклоняться от вылетающих на откате гильз, бомбардир-наводчики нажимали спусковые педали, не подправляя прицелов. Куда-нибудь все равно попадет. В корпус или в воду под бортом – не важно. Что прямые попадания, что гидродинамические удары почти одинаково корежили и отрывали листы старой обшивки, перекашивали на фундаментах котлы и паровые машины.
Лопались электролампы, погружая во тьму отсеки, жутко свистел пар из ломающихся трубопроводов, шумно вливалась в пробоины вода, заливая трюмы.
«Изумруд», проскочив длину каравана за пять с небольшим минут, снова прибавил ход до полного, уклоняясь к весту. Английские крейсера охранения за время его диверсии не сделали ни одного выстрела. А куда стрелять? В свои транспорты, между которыми маскировочно окрашенный и стремительно двигающийся крейсер был почти незаметен. Даже артиллерийским офицерам, не говоря о наводчиках при орудиях.
Белли готов был повторить еще один подобный заход, теперь по левой колонне, но особой необходимости в этом не было. Не меньше суток потребуется адмиралу Хилларду, с привлечением всех своих организаторских способностей и возможностей эскадры, чтобы переправить солдат с семи явно тонущих и трех сильно поврежденных пароходов (а спасти их, лишенных водонепроницаемых переборок и водоотливных средств, невозможно даже теоретически) на пока еще уцелевшие. О спасении боевой техники, лошадей и припасов речи быть не может. Хорошо, если половину личного состава удастся свезти шлюпками или принять с борта на борт до наступления темноты.
Два крейсера из левого отряда прикрытия кинулись было на перехват «Изумруда», но после нескольких залпов с недостижимой для них дистанции передумали, предпочли вернуться к главным силам.
– Вот бы сейчас сюда десяток бомбардировщиков, – сказал Владимир Ростокину, не сходившему с мостика с самой завязки боя. – Такая там сейчас каша…
Действительно, посередине океана сгрудилось три десятка военных кораблей и транспортов. Некоторые из них горели, некоторые погружались в воду неторопливо, на ровном киле. Еще не штормовая, но весьма свежая волна мешала спускать шлюпки и катера, весьма затрудняла швартовку, почти не оставляла шансов тем, кто, поддавшись панике, прыгнул за борт.
– Злой ты какой-то, Володя, – ответил Ростокин. – Не ко времени злой. В другую б войну, конечно, налетели сейчас бомбардировщики с торпедоносцами, и амбец компании… На воде только обломки и пятна мазута.
– Почему вдруг – злой? – обиделся Белли. – Вы что, по-настоящему злых не видели? Был бы я немецким подводником – всадил бы пару торпед в нейтральный лайнер или госпитальное судно и пошел в Вильгельмсгафен свой железный крест получать…
– Да ладно, успокойся, – примирительно сказал Игорь. – Прикажи коньячку на мостик подать. Перенервничал я, правду сказать, хотя и сам корветтен-капитан Космофлота. Как ты внутри строя пер! Будто на машине между двумя поездами… Шаг вправо, шаг влево – и конец.
– Пустяк, и не такое бывало, – с веселым подъемом махнул рукой старший лейтенант. Опрокинул поданную вестовым рюмку, закурил. Похлопал ладонью по дубовому планширю обвеса мостика. – А молодец «Изумруд»! Гроза морей!
И снова посерьезнел.
– Только я думаю – что толку, в итоге? Все равно ведь дотащатся англичане до Кейптауна. Свою пехоту высадят. Всю – не всю, не столь важно. Неделей, двумя позже все равно войска на фронте окажутся… Может, и правда, потопить их всех, взять грех на душу? Сами начали. Этих пожалеем – столько же буров и англичан в боях все равно погибнут. Или даже больше…
– Не горячись, Володя, – положил ему руку на плечо Ростокин. – После этого разгрома, на мой взгляд, новый караван они долго еще в море не выпустят. А мы пока в Индийский океан наведаемся, бомбейский конвой пугнем, если появится. Дадим ребятам на сухопутном театре англичан взбодрить.
– Может, вы и правы, Игорь Викторович. Сейчас радио на «Валгаллу» дам, как командир скажет, так и будет.
Воронцов, будто подслушал слова Ростокина, приказал Владимиру отходить к Мозамбикскому проливу. Только попутно выставить весь запас мин заграждения, полторы сотни штук, тремя линиями на подходах к Кейптауну. В том районе, где маневрирует Капская эскадра. Как дополнительный «воспитательный момент». Несколько подрывов – и сообразят, что нечего в море зря высовываться. С тральщиками у них не густо. Придется, как нашей Артурской эскадре, укрыться на внутреннем рейде, загородиться бонами и сидеть, пока война кончится.
Как рассчитывал Воронцов, так и получилось. Спасать сильно поврежденные транспорты адмирал Хиллард не стал. Не было у него к тому технических возможностей. Аварийные партии с крейсеров только и сумели, что удержать большинство из них на плаву, пока шлюпками или прямо с борта на борт перегружали пехоту. Настроение на эскадре царило подавленное. Противник снова доказал, что полностью владеет теперь уже стратегической инициативой. Десятки «лучших в мире» боевых кораблей ничего не смогли противопоставить единственному легкому крейсеру. И впредь не смогут, это уже очевидно. Он снова будет появляться там, где захочет, наносить стремительный, как выпад умелого фехтовальщика, удар и исчезать, пользуясь немыслимой скоростью.
Офицеры-дальномерщики утверждали, что моментами она превышала тридцать узлов! Так не ходит ни один современный миноносец.
В кают-компаниях все больше склонялись к мнению, что экипаж рейдера скорее всего русский. У буров моряков нет и быть не может. Немцы к подобной лихости и безрассудной отваге едва ли способны. А вот русские – те могут! Вспоминали действия минных катеров и вооруженных пароходов в прошлую Русско-турецкую войну. Да и сама доктрина Российского Императорского флота ориентировалась именно на операции высокоавтономных крейсеров-одиночек в открытом океане.
Но доказать пока ничего нельзя. Остается ждать, пока разведка сообщит что-то определенное. Но ждать этого можно до бесконечности, если неизвестно место базирования рейдера.
Сильно перегруженные транспорты и крейсера, принявшие на палубы несколько тысяч деморализованных солдат, лишившихся боевого духа раньше, чем они успели ступить на берег, продолжили свой путь. Шли, прижимаясь к берегу и, образно говоря, «пугливо озираясь».
Однако кое-как дошли. Уже почти в виду вершины Столовой горы бронепалубная «Диадема», размерами не уступающая хорошему броненосцу, коснулась мины. Ей разворотило борт сразу за таранной переборкой. Приняв больше тысячи тонн воды, с креном и страшным дифферентом на нос крейсер едва не затонул в какой-то миле от гавани. Спасло то, что командир вовремя догадался развернуться и двигаться задним ходом, снижая нагрузку на прогибающиеся переборки.
Дождавшись, когда последний транспорт ошвартуется к стенке, а боевые корабли – к бочкам на рейде, адмирал спустился в каюту. Нужно было приступать к составлению телеграммы в адмиралтейство. С большей охотой Хиллард бы взял и застрелился, как Прайс под Петропавловском. Карьера была погублена, и в историю ему предстоит войти как первому за полвека британскому адмиралу, проигравшему сражение неизмеримо слабейшему противнику. Ссылаться на его чудо-пушки и огромную скорость – глупо. Общественное мнение это нисколько не успокоит. Морских лордов – тоже.
Преодолев минуту слабости, когда рука уже тянулась к ящику стола, где лежал револьвер, Хиллард положил перед собой лист бумаги и глубоко задумался. Как бы поаккуратнее составить докладную, чтобы если и отправят в отставку, так хоть с мундиром и пенсией?
Глава шестнадцатая[93]
Басманов чувствовал себя не слишком уверенно. С Новиковым и его отрядом связи не было, а Михаилу Федоровичу очень бы хотелось посоветоваться со «старшими братьями». В конце концов, это их война, не его. Он лишь исполнитель, а решения предстоит принимать стратегические. Оставался еще Воронцов, лицо вполне авторитетное, но все-таки – моряк. Армейские офицеры флотским в делах, касающихся сухопутных операций, не слишком доверяли. Однако – выбирать не из чего.
За личную судьбу экспедиции Басманов не беспокоился. Ничего серьезного им не угрожало, не в таких переделках бывали. Последний раз они передали, что набег английской кавалерии отразили успешно и без потерь и начинают продвижение по намеченному маршруту. Куда и зачем – кроме самых общих рассуждений, Михаилу Федоровичу не объяснили. А он не очень и интересовался. Не выходят на связь – значит, нет возможности или необходимости.
Ему хватало своих забот. Теперь по всем военным вопросам он общался с командантом Кронье, командующим западным фронтом буров, если выражаться современным языком. На это он получил карт-бланш президента Крюгера, удовлетворенного поставками вооружения, а в особенности – разгромом британского конвоя. На ближайшие месяцы буры были обеспечены винтовками, пулеметами и боеприпасами, а главное – уверенностью в том, что на фронте не появятся сто или двести тысяч регулярных английских и туземных солдат, способных задавить их простым численным превосходством.
Авторитета президента хватало, чтобы жестко, даже грубо заставить уважать свою волю кого бы то ни было в пределах обеих республик.
Перед первой встречей с Кронье Басманов узнал о нем все, что позволяла не только необъятная библиотека «Валгаллы», но и компьютер, способный моделировать поведение человека в предлагаемых обстоятельствах.
Питеру Кронье было шестьдесят пять лет, но выглядел он едва на пятьдесят. Умел в любых ситуациях сохранять внешнее спокойствие и мягкость тона. Его личная отвага вызывала уважение у любого охотника на львов, а командирские качества – восхищение, смешанное со страхом. За последние двадцать лет стычек с англичанами он всегда побеждал, презирая так называемые «рыцарские обычаи».
Конан-Дойль в своих записках об Англо-бурской войне называл его человеком умелым, коварным, жестокосердным и одновременно притягательным. Вполне достойная оценка с точки зрения врага.
Басманов сделал расчет на то, что Кронье жаждет победы (пусть – своей личной победы) настолько, что готов поступиться некоторыми принципами, для других бурских командиров непреодолимыми. Складывающаяся ситуация очень напоминала полковнику последний год Гражданской войны. Тогда, перед лицом обозначившегося поражения, белые генералы не могли переступить через личные амбиции и гонор, почти сознательно позволяя красным громить их по частям, но не поддержать соперника. Хотя бы отношения Врангеля с Деникиным взять, Юденича с Маннергеймом и так далее.
Они встретились в полевой ставке Кронье у Мафекинга. По всей имеющейся информации выходило, что после сравнительно успешных для него боев у Энслина и Бельмонта генерал лорд Метуэн предпримет решительное наступление на Кимберли. Басманов был уверен, что в своем нынешнем состоянии и придерживаясь доселе применяемой тактики буры удара не выдержат. Но и англичане готовились бросить в бой свои последние организованные силы: Гвардейскую бригаду (1-й Шотландский гвардейский полк, 3-й гренадерский полк, 1-й и 2-й Колдстримские полки), Йоркширский полк легкой пехоты, Нортгемптонский, Нортумберлендский, Ланкаширский полки, военно-морскую бригаду судовой артиллерии и морской пехоты, шесть полков кавалерии, четыре батареи Королевской полевой артиллерии. Вдобавок хозяин и руководитель «Великой компании „Де Бирс“ лично мобилизовал и отправил на фронт сто двадцать человек Капской полиции при двух пулеметах, две тысячи волонтеров, батарею легких горных орудий и восемь „максимов“. Резервов не было. В случае поражения их можно будет гнать на юг до самого Кейптауна, особенно если выслать для рейда по тылам несколько хорошо подготовленных конных соединений.
Разрушить в десятке мест железную дорогу, сжечь станции – и британской армии не на чем будет подвозить подкрепления и эвакуировать раненых. Кроме того, можно будет захватить или уничтожить разбросанные вдоль линии склады с огромными запасами военного снаряжения и продовольствия.
Сложился тот редкий на войне случай, когда судьба кампании зависела от единственного сражения. Или победа, или – бесконечная позиционная война на истощение, которую буры неизбежно проиграют – просто разойдутся по домам, пасти быков и доить коров.
Всю эту перспективу Басманов пытался доходчиво обрисовать Питеру Кронье, ни в коем случае не задевая его личных и национальных чувств. Водил карандашом по карте, ссылался на факты мировой военной истории, от тридцатилетней войны до последней Русско-турецкой, 1877 – 78 годов.
– Достаточно, – наконец прервал его командант, – вы образованный человек, это я понял. Мой президент советует мне прислушаться к вашим рекомендациям. Я готов. Чего вы хотите от меня? Разгромить англичан я тоже хочу. Но вы, очевидно, не верите в это? Почему?
Басманов ответил.
– Я с вами согласен, – кивнул Кронье. – Наступать так, как вы предлагаете, наши люди не умеют, а главное – не хотят. Они готовы сражаться на удобных позициях, сохраняя зрительную и «локтевую» связь друг с другом. Могут продвинуться вперед на несколько миль, до следующей позиции. Но не более того. Даже я не смогу заставить свои коммандо уйти в вельд на сотни миль, выполняя приказ, не имеющий очевидного и сиюминутного смысла.
– Тогда ваше дело плохо, генерал, – печально сказал Басманов.
– Я это понимаю не хуже вас, – кивнул Кронье. – Но вы же не для того пришли, чтобы убедиться в для нас с вами очевидной истине?
– Конечно, нет. Просто мне показалось, что вашу войну еще можно выиграть. Лично мне это интересно как теоретику. Одни люди играют в шахматы, другие – в покер. По-шахматному у вас шансов маловато…
– В покер я играть не умею. Карты – это грех.
Басманов пожал плечами.
– Поэтому скажите, в чем заключается ваш замысел. Кстати, это не ваши люди разгромили Девятый уланский полк?
– Славное дело. Хотите повторить?
– Надеюсь, если я сейчас закурю, это грехом считаться не будет?
– Нет. Мы все курим.
Басманов вытащил сигареты, протянул собеседнику.
– Благодарю, я – трубку.
– Ну, вкратце мой план заключается вот в чем… В моем распоряжении имеется около трехсот добровольцев из России. В ваших рядах – еще до шестисот голландцев, немцев, американцев, ирландцев и прочих. Если вы передадите их под мою команду – это будет достаточно грозная сила, умеющая воевать по-европейски и понимающая, что такое дисциплина. Я также попросил бы включить в состав моей бригады некоторое количество бурской молодежи – желающей сражаться и не отягощенной привычками старшего поколения. Набравшись опыта, эти парни в дальнейшем смогут стать ядром регулярной армии. Рано или поздно вам придется ее создавать…
…Встретить неприятеля и дать ему генеральное сражение решили на самой выгодной позиции – у реки Моддер. Разведка донесла, что к англичанам подошло последнее пополнение – Аргайллский и Сатерлендский шотландские полки. Теперь численно британские силы сравнялись с армией Кронье. Лорд Мэтуэн, ободренный предыдущим успехом, делал ставку на качественное превосходство своих бойцов, странным образом «забыв» о стандартном соотношении потерь обороняющихся и атакующих. Слишком он верил в многовековый опыт британской пехоты, чувство долга, дисциплинированность и высокий боевой дух. Солдатам было объявлено, что предстоит последнее усилие. Как Наполеон в прошлом и Гитлер в будущем, генерал искренне верил, что неприятель, проиграв решающую битву, непременно должен сломаться, начать сдаваться в плен или обратиться в беспорядочное бегство. И, так же, как они, считал, что избранный ими «ключевой пункт» кампании таковым сочтет и противник. Иное как-то не приходило в голову.
После рекогносцировки Кронье, Басманов и еще один бурский генерал – Деларей согласились, что прежняя тактика сейчас должна быть оставлена. Вопреки привычке бурские отряды заняли позиции по обоим берегам, при этом менее стойких Кронье заставил окапываться на британской стороне реки, чтобы не было соблазна побежать при сильном нажиме неприятеля. Окопы, с учетом рельефа, рыли так, чтобы в самых уязвимых местах обеспечить трехслойное перекрытие огнем. На северном берегу в специально вырытых капонирах и за обратными скатами холмов разместили артиллерию. При этом Басманову пришлось на ходу обучать пушкарей стрельбе с закрытых позиций. Тут он был в своей стихии. Между урезом воды и гребнями холмов привычные к кирке и лопате буры устроили четыре полосы окопов, траншей и ходов сообщения. С учетом нескольких разбросанных в округе ферм, тоже приспособленных под артиллерийские и пулеметные позиции, глубина «укрепрайона» составляла до восьми километров.
Буры работали с азартом, почти не отдыхая. Им передавался оптимизм и уверенность командиров, да Басманов, вдобавок, организовал среди них своеобразную «партполитработу». Бойцы его отряда и многие европейские добровольцы находили время, чтобы разъяснять не слишком далеким и образованным скотоводам и охотникам геополитический смысл нынешней войны, «укрепляли моральный дух», знакомили с основами тактики, рисовали последствия возможного поражения. Мол, лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Продержаться, не считаясь с потерями, сутки-двое на этой позиции – или обречь себя и весь народ на годы затяжной, сулящей бесчисленные жертвы войны. Действовали и личным примером: «Вот мы съехались со всего мира, чтобы вам помочь, и отступать не собираемся. И от вас ждем того же…»
– Я теперь боюсь только одного, – сказал Басманову Кронье, – англичане узнают о наших приготовлениях и откажутся от наступления, возьмут и примутся форсировать реку на несколько миль выше? Что тогда?
Небо над восточным горизонтом начинало светлеть, но сна – ни в одном глазу, несмотря на то что командиры бодрствовали уже почти сутки. Они сидели на крыльце загородной гостиницы, где в мирное время любили отдыхать бизнесмены из Кимберли. С реки тянуло свежестью, цветущие деревья распространяли сладковатый аромат.
– Они будут наступать здесь, – с полной убежденностью отвечал полковник.
Даже без учета того, что так развивались события в «предыдущем варианте», у Басманова была заготовлена примитивная, но вполне действенная военная хитрость, которая заставит Мэтуэна действовать по заранее намеченному плану.
– Да вот, смотрите. – Михаил поднес к глазам мощный артиллерийский бинокль, здесь таких еще не было, передал его главкому.
Уже достаточно рассвело, и у края обширного плато, километрах в десяти, обозначилось движение нескольких пехотных колонн и облачка пыли, поднимаемой колесами пушек.
Кронье и Деларей отчего-то впали в странную задумчивость. Басманову показалось, что они опасаются сражения с решительным, окончательным результатом. Такое он видел раньше (то есть, позже), бывало, что прославленным генералам победа казалась страшнее поражения, потому что возлагала непосильную для характера ответственность.
Куда проще сослаться на превосходство врага и продолжить отступление… Что-то подобное творилось на Западном фронте в пятнадцатом и шестнадцатом годах, когда только Брусилов нашел в себе силы перевести позиционную войну в маневренную, и, несмотря на блестящий успех, соседние фронты его не поддержали…
Целых три пехотных дивизии продолжали мерное движение по расцветающему голубыми цветами вельду. У генералов не возникало мысли о том, что на берегу реки их может встретить хоть какой-нибудь отпор. Настолько не возникало, что имеющуюся в распоряжении кавалерию никто не догадался послать в разведку!
Хуже того, разбуженной перед рассветом пехоте было сказано, что завтрак она получит на том берегу реки Моддер. Мрачная шутка для тех, кто выжил и может ее оценить.
Английская пехота, идущая в походных порядках, спокойно приблизилась по плавно спускающемуся плато на полтора километра к берегу. Солдаты на ходу курили трубки, перешучивались, говорили о том, как славно отдохнут на том берегу, где перед их глазами лежала мирная картина: река, домишки, гостиница. Никаких буров, никакого дыма из труб – безлюдно и спокойно.
До передовых окопов буров оставалось не более семисот метров, когда на плотные, ротные и батальонные колонны британцев обрушился сокрушительный огонь винтовок, пушек и пулеметов. Сотни солдат и офицеров легли на рыжую землю убитыми и ранеными, пока все, от генерала до рядового, осознали, что попали совсем не туда, куда собирались.
Шедшие впереди гвардейцы залегли в полукилометре от берега реки, остальная пехота – на сто метров сзади. И все на очень пологом, обращенном к огневым позициям буров склоне. Укрыться там было негде, а навыкам мгновенного самоокапывания британцы обучены не были. Саперные лопатки носили скорее для украшения и работы в мирных условиях, при устройстве бивуаков.
Самым верным решением был бы отчаянный бросок вперед, врукопашную. О чем Басманов и думал, наблюдая со своей отсечной позиции за шестью тысячами человек, попавших в безвыходную ситуацию.
Между залегшими солдатами рвались снаряды пушек Круппа, с передовых позиций стучали очереди пулеметов «Максим», но особенно англичан нервировали картечницы Норденфельда. Их двадцатимиллеметровые пули за несколько минут выкосили конную батарею, на рысях вылетевшую в поле, чтобы шрапнелью прикрыть избиваемую пехоту.
– Ох, дураки, дураки, – невольно сочувствуя неприятелю, шептал Басманов. – Вас бы к Екатеринодару! Разом вперед, пять минут – и штыковая. Половина наверняка добежит, а так – все здесь поляжете…
Генерал Мэтуэн с расположенного в километре купье в отчаянии смотрел на поле смерти. Он слышал, что воздух буквально пульсирует от жужжания десятков тысяч пуль, а по песку вокруг залегших пехотинцев фонтанчики взлетали непрерывно, как на озере во время дождя. Заставить людей наступать у него не было возможности, позволить отступить – тем более. Километр по длинному голому склону под шквальным огнем пройти невозможно.
Сражение бессмысленно затягивалось. Время перевалило за полдень. Английские офицеры не могли поднять своих солдат для последней атаки, слишком те были потрясены зрелищем трупов, покрывавших равнину, и беспощадной меткостью буров. Несколько храбрецов – батальонных командиров были убиты, стоило им только выпрямиться, чтобы подать команду.
Отчаянная атака Шотландской бригады из-за правого фланга Кольдстримского полка захлебнулась в трехстах метрах от первой линии окопов. Буры сосредоточили на ней огонь почти всех своих «максимов» и четырехствольных картечниц.
Все осмысленные планы, которые еще строил лорд Мэтуэн, были навсегда развеяны беспорядочным отступлением, почти бегством несчастных шотландцев. Они остановились только в полутора километрах от своего исходного рубежа, и винить их было нельзя. Бригада потеряла почти всех офицеров и больше половины своего состава. Даже самый отважный человек не может идти на сплошной поток пуль современного скорострельного оружия.
Таких жертв британская пехота не приносила с дней Инкермана и Альмы.[94]
Кавалерия в таком сражении, совершенно не подготовленном, бесполезна. Если бы она накануне получила приказ совершить глубокий обход позиций Кронье и в нужный момент атаковала с тыла…
Пехота показала свое бессилье. Оставалась только артиллерия. Подавить бурские позиции, поставить заградительный огонь, чтобы дать войскам отдышаться, вынести раненых, просто подыскать укрытия, хотя бы за телами убитых товарищей, из которых можно устроить кое-какие брустверы. И снова наступать! Несмотря ни на что, лорд не помышлял об отступлении. Он придерживался принципа – наступать в любом случае, даже когда твои силы на исходе. Потому что в этот момент противник скорее всего тоже полностью обессилел, а на стороне атакующего – моральное преимущество.
Лорд Мэтуэн отправил ординарца на полустанок, где ждали приказа и целеуказания шесть установленных на железнодорожных платформах морских четырехдюймок. От них до линии фронта было почти пять километров, однако отвлечь внимание, а то и подавить тяжелые бурские пушки они могли. Одновременно генерал приказал выдвинуться вперед, на прямую наводку, на картечь, 75-ю и 18-ю батареи конной артиллерии. Родной для Басманова род войск.
– Что же, братцы, – опустил бинокль полковник, – пора и нам поработать.
– Сделаем, командир, – вдавил в бруствер окопа окурок капитан Мальцев. – Как-то, помню, в Галиции мы взводом осадную батарею австрияков с тыла без выстрела взяли. Все кресты получили…
– Хватит с тебя крестов. Бери два отделения, и вперед. Чувствую, буры скоро не выдержат. Учи их, не учи…
В писаной истории так оно и получилось. Невзирая на подготовленные позиции, возможность держаться на них несколько дней, сравнительно небольшие потери, волю и беспощадный характер Кронье и Деларея, они не смогли заставить своих солдат остаться в окопах. Как только полк ланкаширцев под командой майора Колриджа форсировал Моддер двумя милями выше правого фланга, буры, каждый сам себе господин, начали уводить в тыл пушки, а потом, с наступлением темноты, и сами двинулись на север. Страх окружения был у них сродни страху перед привидениями и нечистой силой. Последний шанс достойно закончить войну был потерян.
Сейчас вероятность победы еще сохранялась.
Пятнадцать офицеров во главе с Мальцевым, имея при себе пять пулеметов «ПКМ», оседлали мулов, не слишком прытких, но хорошо приспособленных для передвижения по пересеченной местности. Басманов указал на карте маршрут, где рейнджеры могли (а точнее – должны) встретиться с англичанами, совершающими фланговый маневр.
Сам полковник, стряхивая землю от близкого разрыва, засыпавшую ему фуражку и плечи, добрался до командного пункта Кронье.
– Командант, мы выигрываем, – с подъемом заявил Басманов, усевшись прямо на землю у заднего фасада дома, где шальной осколок не угрожал. Бой, конечно, происходил серьезный, но в сравнении с мировой и Гражданской – так себе. Дело же не в количестве рвущихся снарядов и числе противостоящих солдат. Не было настоящего ожесточения.
– Я так не думаю, – ответил генерал. – Не знаю, где воевали вы, но мои буры долго такого огня не выдержат. Они привыкли к соотношению потерь один к ста. Пятьдесят на пятьдесят – их не устраивает. Окопы завалены стреляными гильзами, стволы пушек перегрелись, уже было два случая разрывов снарядов в казенниках, солнце клонится к закату, а безумцы-англичане продолжают атаковать…
Этими словами он подтвердил теорию лорда Мэтуэна – боевая устойчивость не всегда зависит от реального соотношения сил.
Хорошо, что Кронье не понимал по-русски. Полковник выразился от всей души.
– Я послал половину своих людей, чтобы они уничтожили английские пушки. Никто из них не спросил о шансах на возвращение живым. Хотите, вторую половину я поставлю позади окопов и любого, вздумавшего бежать, они заставят вернуться на позиции? Римляне в подобных случаях устраивали децимацию.[95]
Затягиваясь сигаретой, он смотрел прямо в лицо бурского полководца. Ответ он знал заранее, да и не нуждался в нем.
– Так мы не можем, – ответил мастер Питер. – Я знаю, чем все это кончится, но другого народа и других бойцов у меня нет. Богу виднее, кто чего заслуживает.
Михаил испытал глубочайшее разочарование. Ему до последнего казалось, что хоть этот похож на настоящего солдата. Увы, нет. Не тот характер. Не Фридрих, не Суворов, не Кутузов. Так стоило ли затевать эту ерунду? Отозвать своих ребят, пока не поздно, и пусть аборигены живут, как умеют.
Он вспомнил фотографию из старой книги, где этот самый героический Кронье сдается лорду Робертсу. Вид у него там самый жалкий. Вояка, мать его так…
Однако зачем ему думать о прошлом? Его план не имеет никакого отношения к бурской психологии.
– Но если сейчас английская артиллерия будет подавлена, вы сможете поднять своих людей в наступление? Как только замолчат их пушки, британцы побегут. Ну?
Кронье долго чесал бороду и хрипел своей трубкой.
– Мы – пойдем вперед. Если ваши люди составят авангард.
– И на том спасибо…
Мальцев сделал даже больше того, что от него требовалось. Он не стал размениваться на атаку полевых 15-фунтовок. Пусть пока забавляются бесполезной стрельбой по окопам. Его отряд обошел позиции англичан по широкой дуге и практически без боя, разогнав прислугу железнодорожных орудий пулеметным огнем, захватил блиндированный поезд. Разобраться с устройством пушек не составило труда, тем более что под стволами пистолетов уцелевшие моряки согласились показать, как целиться и какими снарядами лучше стрелять.
Машинист подвинул поезд на сотню метров вперед, после чего «последняя надежда» лорда Мэтуэна открыла беглый огонь в спину полкам, сосредотачивающимся для последней атаки.
Разгром был полный.
Выжившие пехотинцы лишились последних сил, кавалерия понесла тяжелейшие потери, артиллерии просто не осталось. Сам командующий уцелел чудом – осколки близко разорвавшегося снаряда убили коня и изорвали его мундир, не оставив, впрочем, на теле лорда ни единой царапины. Иначе как чудом это не назовешь.
Отступление длилось всю ночь. Бесконечно измученные солдаты, за весь день не имевшие во рту ничего, кроме сухаря с глотком воды, с утра прошедшие десять километров к фронту, выжившие по палящим солнцем, ливнем пуль и градом снарядов, каким-то чудом преодолели еще пятнадцать обратно. Вышли к своим прежним позициям у Клипфонтейна. Немногие нашли силы разжечь костры и заварить чай. Остальные валились на землю там, где застал приказ остановиться? и тут же засыпали.
Все раненые были оставлены на милость победителя вместе с врачами и санитарами, тяжелое вооружение и боеприпасы, кроме тех, что хронились у солдат в подсумках? – просто брошены.
Мэтуэн рассчитывал утром привести остатки войска в порядок, оценить потери и боевые возможности, после чего решать – как быть дальше. Он сам и несколько выживших старших офицеров склонялись к мысли – отступить в Кимберли, усилив его гарнизон, и там держаться до прибытия подкреплений. Лорд знал, что войска из Метрополии, Индии и Австралии уже в пути.
Но неприятель успел раньше. В предутренней мгле загремели выстрелы, замелькали тени всадников. Лагерь был окружен по крайней мере тысячью конных буров. В таких условиях сопротивляться было бессмысленно.
Мэтуэн приказал горнисту трубить «Отбой» и поднять в центре лагеря белый флаг, на который пошла скатерть из его дорожного погребца.
Участник сдачи свидетельствует: «Последующая сцена была не из тех, что хотелось бы увидеть или подробно описывать. Осунувшиеся офицеры ломали свои клинки и проклинали день, когда появились на свет. Рядовые рыдали, закрыв руками грязные лица. „Отец, лучше бы мы погибли!“ – восклицали фузилеры, обращаясь к своему священнику. Отважные сердца, плохо оплачиваемые, мало оцененные, что может сравниться с их бескорыстной верностью и преданностью!»
Буры принимали капитуляцию мрачно и безмолвно. Им тоже досталось, и увиденные картины, здесь и на поле боя, потрясли их патриархальные сердца и души. Потом победители собрались большими группами и запели псалмы, не радостные, а монотонно-печальные.
– Грехи замаливают, – сказал, обращаясь к Басманову, капитан Ненадо.
Полковник только махнул рукой.
– Давай лучше пленными займемся. Оружие пусть снесут сюда, а сами строятся в колонны…
Он тронул шпорами коня и поехал к палатке командующего. Следом, с пулеметами поперек седел – два офицера-адъютанта.
Мэтуэн, успевший переодеться в свежий френч и бриджи, встретил его у порога палатки.
Михаил спрыгнул на землю. Его шатнуло. Он тоже не спал две ночи и день, на закопченном лице мрачно блестели воспаленные глаза.
Представился на хорошем английском, сказал несколько подходящих к случаю слов, как требовала вежливость.
– Это вы руководили сражением? – спросил лорд.
Басманов протянул ему открытый портсигар.
– Курите, генерал, это хорошие сигары. Нет, руководил не я. Просто консультировал…
– А где Кронье? Он жив?
– Жив. Сейчас молится. Наверное, скоро подойдет. Об условиях будете договариваться с ним. А с меня хватит. Мы в расчете…
– В каком расчете? Вы кто? Американец, француз? Или ирландец? Тогда понимаю.
– Нет, я – русский.
– Так что же вы здесь делаете? Вам-то какой расчет? Или продолжаете бескорыстно помогать униженным и оскорбленным? Хорошо вас болгары за такую помощь отблагодарили…[96]
Губы лорда искривило подобие усмешки.
– Лично я расквитался с вами за Севастополь. Там наши погибали, но не сдавались, а вы здесь – сдались. Это радует. Что касается тех, кому мы помогали, – мы делали это бесплатно. Вы и за деньги вряд ли кому поможете. Поговорите на эту тему с Кронье. Он вам процитирует что-нибудь из Ветхого завета. А мне пора. Желаю удачи в плену. По крайней мере, для вас война кончилась.
Басманов приложил ладонь к полям шляпы и повернулся «кругом».
– Подождите, полковник, – негромко окликнул его Мэтуэн.
– Слушаю вас…
– Надеюсь, нам действительно не придется больше воевать друг с другом. Это было бы ужасно… И бессмысленно.
– Я тоже на это надеюсь, – кивнул Михаил, – что-нибудь подобное Моддеру на берегах Темзы чувствительные натуры ваших соотечественников не перенесут.
Еще раз отдал честь и пошел к своему коню.
Глава семнадцатая
С войной было покончено. По крайней мере – для Басманова с его отрядом, для Воронцова и Белли. Если и придется в нее вступить еще раз, то на завершающем этапе – для нанесения последнего шокирующего удара, или наоборот, в качестве миротворческой силы, способной в нужный момент обеспечить геополитическую паузу. До прояснения баланса интересов.
После победы на реке Моддер полупартизанские отряды Кронье, Жубера и Девета, на ходу сводимые в подобие полков и бригад, в Капской колонии продвинулись, почти не встречая организованного сопротивления, на двести миль к югу. Захватили ожесточенно оборонявшийся англичанами город Кимберли, главный железнодорожный узел Де-Ар с гигантскими запасами продовольствия и военного снаряжения, а также тысячами мулов, которых британское командование согнало со всех концов колонии. Предполагалось, что в случае успеха кампании и отрыве наступающей армии от коммуникаций эти выносливые и неприхотливые животные обеспечат бесперебойное снабжение войск.
После беспорядочного отступления регулярной армии имущество стоимостью в миллионы фунтов стерлингов охраняло лишь три сотни тыловиков, и все оно досталось бурам в превосходном состоянии. Теперь проблем снабжения войск, в которых принципиально отсутствовали тыловые подразделения, не существовало, и длинные колонны бурских отрядов, в избытке обеспеченных всем необходимым, устремились в сторону Кейптауна. К сожалению, караваны фургонов, требовавшие для своего сопровождения едва ли четверть действующей армии, потянулись на север, развозя по фермам и городкам неслыханную от века добычу, но ослабляя боевые подразделения.
В полунатуральном хозяйстве годилось все – от подков и гвоздей до саперных лопат и кирок, армейских палаток, тюков с медикаментами и резиновых офицерских ванн (невероятная глупость с точки зрения буров, которые привыкли мыться из ковшика на Рождество и на Пасху). А километры обмоток, кители, шинели, одеяла, сапоги и ботинки…
Чистый тринадцатый век. Чем закончится война – словно уже и без разницы, но что успели награбить, то наше!
Зато, в компенсацию, двигающаяся на Юг, подобно туменам Батыя (или местной саранче), неумолимо и неуклонно, армия пополнялась голландскими добровольцами из бывших британских подданных, сообразивших, чью сторону пора принять. И, что удивительно – неграми! Они каким-то глубинным чутьем ощутили, что патриархальная власть колонистов для них приемлемее, чем просвещенное иго англичан.
В то же время, руководствуясь разработанным с помощью Сугорина планом, отряды буров, возглавляемые Луисом Ботой, форсировали реку Тугела и вступили на территорию колонии Наталь, расположенную на восточном берегу Африки. Длинным треугольником она вклинивалась между Трансваалем и Оранжевой, представляя одновременно удобный плацдарм для наступления и оперативный мешок, в зависимости от успешности действия той или иной стороны. Чем-то это напоминало пресловутый Белостокский выступ, где в июне сорок первого погибли три советские армии, изготовившиеся к наступлению на Варшаву.
У деревни Колензо развернулось первое и последнее на этом театре сражение.
Британский главнокомандующий генерал Редверс Буллер, располагая более чем 16 тысячами солдат (четыре пехотные бригады, три кавалерийских полка, пять полевых артиллерийских батарей, 14 орудий морской артиллерии), против десяти тысяч бойцов Боты начал фронтальную атаку.
Генерал Бота, более склонный к импровизациям, чем другие его соотечественники, охотно принял предложение русского советника. В складках местности была организована артиллерийская засада, в нужный момент открывшая шквальный огонь с использованием заранее подготовленных ориентиров по выдвигающейся на левом фланге Ирландской пехотной бригаде генерал-майора Фицрой-Харта, не успевшей перестроиться в боевой порядок. Первые же залпы накрыли середину строя, нанося огромные потери. На правом фланге в дело вступили хорошо замаскированные и укрытые стрелки. Среди англичан началась паника, батальоны потеряли управление, солдаты толпами побежали в тыл, усиливая сумятицу и беспорядок.
2-я Ирландская пехотная бригада, наступавшая в центре, попала под точные очереди шрапнелей французских скорострельных пушек. Пехота сразу залегла. Попытка поддержать ее выдвинутыми на прямую наводку батареями лишь углубила катастрофу. Артиллеристы бежали с поля боя, бросив всю материальную часть.
Через час начался общий, неорганизованный отход, в просторечии называемый паническим. В плен сдалось более тысячи солдат и офицеров, больше двухсот было убито. Потери сами по себе не столь значительные. В битвах Первой мировой войны бывало, что дивизии за день превращались в батальоны, а полки – в роты, при этом сохраняя боеспособность. Но это уже вопрос морального настроя и мотивации. За тысячи километров от дома британцам просто не за что было воевать всерьез. Вдобавок деморализующее действие оказывали сообщения, доходящие с Капского фронта.
Не удержавшись у Ледисмита, расстроенные, плохо управляемые войска начали откатываться к Дурбану. Генерал Буллер принял решение морем эвакуировать армию. Удерживать Наталь при обозначившейся угрозе самому существованию Британской Южной Африки представлялось бессмысленным. А четыре все еще сильные пехотные бригады и почти десять полков кавалерии могли организовать непреодолимую оборону на перевалах труднопроходимых Капских гор.
Это походило на то, как Ставка Верховного решила в сорок первом оставить успешно обороняемую Одессу ради помощи находящемуся в глубоком тылу Севастополю.
Весть о потере Наталя в очередной раз потрясла Великобританию и доминионы, едва успевшие пережить катастрофу своей эскадры. Хорошо, кстати, с политической точки зрения, что ни советские, ни британские газеты не писали в сорок втором о караванах «PQ-17» и других. Умнее были люди. Бессмысленное «право на информацию» что значит в сравнении с упадком национального духа? О победах нужно объявлять, поражения – замалчивать. Тем более что завтра все повернется совсем иначе.
Но раз у них такая демократия, то в обстановке всеобщего уныния «внизу» и взаимных упреков «наверху» для Сильвии с Берестиным открывалось широкое поле деятельности.
Сдача Наталя с первоклассным портом Дурбан и железной дорогой до самого Йоханнесбурга давала Трансваалю и Оранжевой республике громадный стратегический, а главное – психологический выигрыш. Ничто больше не мешало им, овладев ресурсами богатой и хорошо обустроенной колонии, аннексировать лежащие между Мозамбиком и Наталем «самоуправляемые» негритянские территории Свазиленд и Зулуленд. В итоге республики получали пятисоткилометровый выход к океану, обеспеченный транспортной инфраструктурой, одновременно обеспечив себя более чем двумя миллионами потенциальных рабов. Именно так – коренное население буры в другом качестве не рассматривали.
– Чудны дела твои, Господи! – в очередной раз повторил Воронцов. Три больших компьютерных планшета показывали – слева направо – обстановку на сегодняшний день в той, «настоящей» войне, в истории зафиксированной, то, что происходит на самом деле на фронтах сейчас, и варианты развития событий поэтапно. Исходя из реальной психологии и способностей английских и бурских полководцев, с поправками на уже случившееся. Каждому, по большому счету, непонятное.
Басманов и Сугорин, только утром вернувшиеся с Восточного фронта на «Валгаллу», давали пояснения. Кирсанов, Ростокин и Алла внимательно слушали, не вмешиваясь в разговор профессионалов.
– Помогая свободолюбивым бурам, – рассуждал Воронцов, мы здорово окоротили колонизаторские аппетиты англичан. Теоретически это правильно. Разевать рот шире куска (чужого) – аморально. Им наша виктория еще как аукнется! С другой стороны – выручив буров, мы затормозили движение прогресса. Если даже британцы зацепятся за Кейптаун, как за Гибралтар, на остальной территории, вплоть до экватора, действительно вновь расцветет семнадцатый век со всеми его прелестями, подкрепленный автоматическим оружием…
– А нам-то что? – поинтересовался Басманов. Он, несмотря на приобретенный в общении с Братством жизненный опыт, оставался человеком начала ХХ века, со всеми достоинствами и недостатками. Ему сотня, да и тысяча убитых лично им или по его команде врагов не представлялись темой для рефлексий. На то и война. Каждый может воткнуть свой штык в землю раньше, чем чужой воткнется тебе между ребер. Вопрос только совести, чести, личной храбрости или, как говорили старшие товарищи, – «убеждений». В убеждения британцев Басманов не верил.
Да, он сам после тяжелого поражения Белой армии на Северном Кавказе и страшной эвакуации из Новороссийска решил было прекратить свое личное участие в Гражданской войне. Из гвардейского капитана согласился стать никому не нужным эвакуантом, озабоченным только личной судьбой. И что? Едва на месяц хватило этих недостойных настроений. И снова подписался на два века нескончаемых войн. Зачем еще жить нормальному офицеру?
Оттого и принял он без вопросов главенство Шульгина и Новикова, нашедших его на стамбульском бульваре. Кем они показались ему вначале? Богатенькими господами, прожигающими жизнь и носящими золотые часы с цепочкой в жилетном кармане? А через пять минут оказались людьми, которые знают, что делать, и за которыми стоит пойти в огонь и в воду. Он пошел. До сих пор не жалеет. Посторонних тем более жалеть не собирается.
– Нам – ничего, – согласился Дмитрий. – Мы в чистом выигрыше. После ухода англичан из Кимберли и золотоносных территорий там все – наше. Буры сами по себе добычей алмазов и золота не интересуются. Не тот характер, чтобы грязной тачкой руки пачкать. Им хватит оговоренных с Крюгером отчислений. Пятнадцать процентов с прибыли – и никаких забот.
– Что же касательно твоих слов о «торможении прогресса», – заметил Ростокин, – так я не согласен. Историю тоже учил. Ну, аннексировали британцы тот раз Оранжевую и Трансвааль, создали ЮАС.[97] Ладно, дорог понастроили, городов, промышленность развили. А толку? Негров угнетали, апартеид придумали. Пусть уж все идет, как сейчас пошло. Заодно и посмотрим, вдруг у нас, если тут задержимся, цивилизаторская миссия лучше получится…
– Очень может быть, – усмехнулся Воронцов. – Переселенцев из России сюда навезем, кафрам и зулусам объясним преимущества колхозного способа производства над первобытно-общинным…
Иронии последних слов никто не понял, но и интонации было достаточно.
– Прошу заметить, господа, – война еще не закончена, – сказал Сугорин. – Господин Белли хотя и разгромил конвой, но большую часть живой силы британцы в Кейптаун все же доставили. Организуются, приведут себя в порядок и зимой вполне могут начать контрнаступление, тем более буры скоро начнут разъезжаться по домам. Вооруженный народ – не кадровая армия, его кормить некому…
– Значит, придется постараться, чтобы настроения наступать у «просвещенных мореплавателей» больше не появилось, – вертя в пальцах карандаш, которым делал пометки в блокноте, заявил Кирсанов. – Любая нация в определенный момент исчерпывает свои пассионарные возможности. Испанцы с португальцами в семнадцатом, англичане пусть остановятся в этом. Наши друзья в Лондоне смогут использовать свои возможности, чтобы так и вышло? Я помню вашу историю. Англичане добровольно ушли из Индии в девятьсот сорок седьмом. Пускай отсюда уйдут в восемьсот девяносто девятом. Есть повод, чтобы немедленно подписать мирный договор. Пока сохраняется угроза Кейптауну, Королевское правительство должно проявить сговорчивость. А нет – так его можно и свалить. Кто там за немедленный мир – Ллойд-Джордж?[98] Пусть станет премьером на пятнадцать лет раньше…
– Размах у вас, Павел Васильевич, – сказал Сугорин.
– Почему и нет? Без размаха чего же большие дела затевать? Мало таких случаев в истории? Вы, Валерий Евгеньевич, не хуже меня знаете. А насчет переселенцев, Дмитрий Сергеевич, вы зря шутите. Помнится, в двадцатом году мы именно здесь собирались княжество создавать. И кто же нам помешает навербовать в России тысяч десять-двадцать добровольцев, в казачье сословие их произвести… Земли тут много, буры возражать не будут, потому как наши полководцы, – он отвесил поклон в сторону Басманова с Сугориным, – за год сформируют для их защиты настоящую кадровую армию. Бесплатную и самую страшную в мире.
Флот, тоже не Российский, а наш, название потом придумаем, станем базировать в Дурбане, зачем нам теперь Лоренцу-Маркиш? Денег, надеюсь, хватит, чтобы в Филадельфии и Германии построить десяток крейсеров и броненосцев? Ах, да, еще и французы для России «Цесаревич» сделали! Вот и появятся у нас, трансвальцев, раньше, чем у Японии, современные военно-морские силы. В ключевой точке мира. Никому не подвластные и никому ничем не обязанные…
– Ну и заносит вас, Павел Васильевич, ну и заносит… – скептицизма у Сугорина не убавилось.
– Ладно, – следующий вопрос задал Ростокин. – Правительство мы свалим, с бурами, считай, договорились. А с государем императором Всероссийским как быть? Вы его убеждать возьметесь в необходимости и осуществимости ваших прожектов?
– Зачем я? Мне своей работы хватит. Для таких дел леди Спенсер имеется. Мы из нее нового Распутина сделаем…
Все дружно захохотали. Но Воронцов, смеясь вместе со всеми, подумал: «Ничего, кстати, глупого жандарм не сказал. Все крайне логично и рационально. С нашими возможностями – вполне по силам…»
И еще одна мысль промелькнула: «Не здесь ли ключ к реальности Ростокина? Мы ведь об этом с Андреем говорили – изменился характер Николая, и все пошло совсем по-другому. Вот Сильвия его и перевоспитает. Распутин – не Распутин, а совсем чуть-чуть подправить личность, наделить царя чертами папаши, Александра Третьего, – ничего сложного. Ему ведь только тридцать недавно исполнилось, вполне пластичный материал…»
Кажется, Игорь подумал в том же направлении. Ничего не сказал, однако взгляд его выдал.
– Себя при таком раскладе в каком качестве видите? – спросил Кирсанова Сугорин с долей ехидства. Пусть они и состояли в одном отряде с самого Константинополя, а все-таки армейского капитана он с жандармским ротмистром не равнял. – Наместником новой русской территории не мыслите?
– Да о чем вы, Валерий Евгеньевич? Не по Сеньке шапка. Найдутся достойные люди. Я попроще. Если возражений не будет, желаю в Кейптаун отправиться. На месте присмотреться, что у них и как. Вдруг что и высмотрю интересное, как нашему брату положено. Вы же за такие дела не возьметесь?
Воронцов опять усмехнулся.
Было время, он давал Кирсанову читать интересные книжки, в том числе весь цикл романов об Исаеве-Штирлице. И фильмы тоже показывал. В принципе Павлу нравилось, хотя нередко он обращался к Воронцову с вопросами: «Это что, на самом деле так было?» Получив утвердительный ответ, разводил руками: «Не зря я коммунистов никогда не уважал. Уж такое дилетантство, уж такое… А полковник Гиацинтов в „Пароль не нужен“ – вообще злобная карикатура. Я бы на его месте этого Максима со всем подпольем раскассировал– и делать нечего! Что на самом деле и происходило. Вы разве не знали, что две трети большевиков и эсеров у нас в агентах состояли?
– Однако проиграли вы, а не они, – со странной для самого себя горячностью отвечал Воронцов. Вроде как на белой стороне воюет, а про бывшую Советскую власть все равно упреки слышать неприятно. Жизнь ведь там прожита, пусть и с чувством внутреннего протеста. Так ведь и выбора не было. Потом появился…
– Не ко мне вопрос, не ко мне, – с теми самыми жандармскими интонациями, заведомо утрированными, отвечал Кирсанов. – Наша б воля, кроме «легальных марксистов», вроде господина Струве, все остальные в Акатуе бессрочную каторгу тянули. Да десяток министров посадить – и мировой войны бы не случилось.
– Кейптаун для тебя, – спросил Воронцов, – вроде Владивостока будет?
– Лучше, Дмитрий Сергеевич. Намного. Там, как ни крути, русские люди с русскими глотки друг другу рвали, а здесь мы – деликатненько. Они между собой разбираться станут, мы в сторонке постоим.
Нет, не хотел бы Воронцов видеть Кирсанова в числе своих врагов. Переиграть его было, конечно, можно, но только с использованием «потусторонних» средств и методик. Попросту, с глазу на глаз и в нормальной обстановке – и браться не стоило.
– Так езжай. От меня что-нибудь требуется? – спросил Дмитрий, как заботливый начальник, в отсутствие остальных «командоров» берущий ответственность за «младших братьев» на себя.
– Совсем почти ничего. Денег достаточно, настроения тоже. – Слегка куражась, Павел достал из кармана бумажник, высыпал на ладонь приличную горку крупных неограненных алмазов, от пяти каратов и больше, убрал обратно. – Я бы двух помощников с собой взял, если не возражаете. Как, Михаил Федорович, – обратился он к Басманову, – Давыдова и Эльснера со мной отпустишь? Мужчины они самостоятельные, культурные, очень мне пригодятся, на подхвате. Связь, конечно, будем поддерживать. На всякий случай. Да, кстати, от Новикова с компанией опять ничего?
– К сожалению – ничего. Не повод беспокоиться, но все-таки…
Ростокин, до этого с интересом слушавший пикировку Кирсанова с Воронцовым, нашел повод вмешаться. Он только позавчера пришел с Белли на «Изумруде» в Мозамбик, многих подробностей не знал.
– Сколько, ты сказал, они на связь не выходят?
– Третья неделя пошла…
– Ни по каким каналам? – Игорь имел в виду, что, кроме обычной коротковолновой, имеется еще и прямая связь роботов с собственным коммутатором, при необходимости объединяющим их псевдомозги в общую систему.
– Ни по каким…
– Тогда беспокоиться стоит в единственном случае – они снова вышли из времени. Добровольно или нет – вопрос. В любом другом – с ребятами могло случиться что угодно: убиты, в плену и так далее, но с роботами – нет. Раздавленные танком, что тоже исключается, за отсутствием здесь танков и по причине хорошо развитого инстинкта самосохранения и особой подвижности наших механических помощников, даже в непосредственной близости от ядерного взрыва информационные или тревожные сигналы они подавать все равно будут.
Ростокин был человеком из будущего и моментами соображал быстрее предка.
– Готов согласиться, – кивнул Воронцов, – но разве от этого легче? К тому же могу предложить свой вариант, пооптимистичнее, что ли. Возможно ведь, что там, куда они намеревались проникнуть, особые условия прохождения радиоволн. Или вообще нет никаких условий…
– В мировую войну мы получали письма из дома раз в месяц, в Гражданскую – вообще не получали, – утомленный бессмысленным, на его взгляд, разговором, сказал Сугорин. – Что из этого? Если у вас есть желание – давайте прямо сейчас двинемся на поиски. Здесь нас ничего особенно не держит. А то – попробуйте поискать товарищей другими доступными вам способами.
– Да уж давайте еще немного подождем, – ответил Воронцов. – С неделю, например. Это ничего не меняет. А ты, Павел, езжай в свой Кейптаун. Завидую я тебе, честно сказать…
– А уж как я вам, – не преминул ответить Кирсанов.
– Добираться как думаешь? – уже серьезно спросил Воронцов. – Неужто по железке и через тылы наступающих войск?
– Зачем так усложнять, господин адмирал? Небось не откажете на «Призраке» меня подбросить, куда нужно? Не Гражданская война, в самом деле, и я не подполковник Рощин, через махновские края пробираться. То есть пробрался бы, речи нет, но есть и поудобнее способы.
– Не сомневаюсь, Павел Васильевич. Вы и на Марс полетели бы, как герои упомянутого вами графа Толстого, – ответил с уважительной улыбкой Воронцов. – Законный хозяин на яхте отсутствует, но я думаю, сложностей от этого не будет. «Капитан Ларсен», знающий «Призрак» от киля до клотика, на месте, команда тоже, а Владимир на всякий случай сходит обеспечивающим.[99]
– Значит, завтра к вечеру и отправимся…
Эльснера с Давыдовым Кирсанов разыскал в ресторанчике, удобно прилепившемся у склона обращенного к морю холма. Открытая веранда со столиками вокруг мощенного плоским камнем дворика, посередине которого росло единственное, но зато неохватное дерево. Сикомора, наверное. Далеко внизу с гулом разбивался о прибрежные рифы бесконечный и вечный океан.
В очередной раз отвоевав свое и получив положенные «боевые», штабс-капитаны пили местное вино, закусывая дарами моря. Им было хорошо, издалека видно. Неизвестно который раз выжившие, чего никакая теория вероятностей не допускала (не может нормальный человек семь-восемь лет ходить в штыковые и прочие атаки, глотать ядовитые газы, выкарабкиваться из заваленных германскими «чемоданами»[100] окопов, выздоравливать от брюшного и сыпного тифа без всякого пенициллина), молодые еще мужчины беспечно веселились.
Со стороны Мадагаскара по небу надвигались низкие черные тучи, сулящие ливень и грозу. Но и они не пугали. Никакой шторм на такую высоту не достанет, а от дождя и урагана можно укрыться внутри здания, сложенного из местного камня. Португальцы – люди понимающие. Если за сто лет такое строение не снесло штормами, так и сейчас обойдется.
Кирсанов выбрал этих офицеров, зная их уже пять лет, еще и потому, что к разгулу они были не склонны. Вернулись с поля смерти, и пожалуйста, винцом балуются, никакой водки гранеными стаканами.
– Не помешаю, господа? – спросил Павел Васильевич, делая тростью приветственный жест. Как маршал своим жезлом.
– Как же вы помешать можете? – весело блеснул зубами Давыдов. – Это разве мы вам…
Полковник подвинул стул, прислонил к нему трость, снял шляпу. Щелчком пальцев дал знак лакею.
– Не надоело, кстати?
– Что именно? – осведомился обстоятельный Эльснер.
– Да Ваньку вот так валять, Павел Карлович? Пора бы уже в возраст войти, сообразить, что некоторые шутки от частого повторения много проигрывают в остроумии…
– Да оно конечно, – вздохнул Давыдов, – а от некоторых привычек как ни старайся, никуда не денешься…
– Ну вот, чтобы вам немного помочь – имею предложение…
Официант принес Кирсанову бутылку местного вина, мало уступающего произведенному на Иберийском полуострове.
Он сделал совсем маленький глоток, с видом истинного знатока прищелкнул языком.
– А тросточка у вас, Павел Васильевич, непременно с отравленным острием и пружинкой? – тем же невинным тоном спросил Давыдов.
– Какая банальность, Никита Полиевктович. – Жандарм тщательно выговорил сложное отчество. – Всего лишь шесть патронов калибра одиннадцать – сорок пять. Еще вопросы есть?
Вопросов не возникло. Тон полковника к ним не располагал. Все ж таки они были не более чем поручиками военного времени, а он – кадровым ротмистром довоенного. Для понимающих людей это имеет большое значение. Что бы они о себе ни воображали.
Кирсанов закурил папиросу, и это тоже было не совсем обычно. С самого Стамбула его считали человеком некурящим и непьющим.
– О предложении – поподробнее, – полюбовавшись выпускаемыми жандармом кольцами дыма (очень умело), сказал Эльснер.
– Вы себя в близкой перспективе как видите? – вопросом на вопрос ответил Кирсанов. – Уж простите, давненько знаю вашего брата. С самого четырнадцатого года. При всех талантах даже до батальонных командиров недотянули. Что при царской власти, что при новой. Не прав? Вы и под Гумбиненом такие же были. С лихостью помереть – пожалуйста! Головой подумать – уже труднее. Нет?
– Допустим, не нужна нам любая перспектива, – с долей агрессии ответил Давыдов, в то время как Эльснер слегка задумался. Немец, одно слово. – Вот сидим здесь, выпиваем, разговариваем, а что завтра будет – абсолютно наплевать!
– И это понимаю, – согласился Кирсанов. – Я бы и сам с таким удовольствием на все наплевал. А утром просыпаешься – если при памяти, и никуда от мыслей не деться, томить начинает: кто я, для чего я, что делать и кто виноват. Не бывало?
Тут и дождь пришел, забарабанил по навесу каплями, крупными, как шрапнельные пули. От этого стало только уютнее. Повеяло приятной свежестью, пахнущей океанской солью, йодом и будто бы даже тропическими цветами с далекого Мадагаскара. Но это, конечно, была только иллюзия. Какие запахи цветов за четыреста километров?
– Короче, господин полковник, – сказал Давыдов, принципиально переходя на звание вместо имени-отчества.
– «Короче и еще короче» – это из лексики наших старших товарищей, одновременно и младших внуков. У нас должна быть своя терминология. Я предлагаю вам двоим, именно и только, поехать со мной в Кейптаун, где поработать по моей специальности.
– Интересное предложение, – после затянувшейся паузы ответил Эльснер. – Именно нам? С чего же? Мы оснований не давали…
– Есть у меня ощущение, братцы, – переходя на резкий и даже угрожающий тон, сказал Кирсанов, – что вы не только валяете дурака, вы ими и являетесь! Я вас что – в филеры вербую? На друзей по полку стучать? Я вас хочу включить в интереснейшую игру с англичанами и их разведкой. Всего лишь. Образование у вас есть, языки знаете, в любой потасовке, с оружием или нет, устоите. Спину мне прикроете. Вы сами чего хотите? По правде? Надсмотрщиками на алмазные копи или инструкторами в бурскую армию? Так вольная воля. Не смею настаивать…
Шквал с ливнем ударил как следует, почти горизонтально, мгновенно залив веранду до задней стенки. Промокшим гостям на самом деле пришлось спасаться в неприступном для стихий здании, где хозяин уже торопливо разжигал в нижнем зале камин. Он успел за последний месяц убедиться, что русские офицеры (а кто же еще?) всегда платят «без запроса», а сейчас, согревшись и просушив одежду, наверняка закажут что-нибудь подороже и серьезнее, чем легкое вино.
И не ошибся.
– Человек (то есть «омо» – по-португальски»), – крикнул Давыдов. – Ты бы нам рому подал и по хорошему куску жареного мяса, пока твой кабак, на хер, тайфуном не снесло.
– Не снесет, господин. Мой дед строил – пока стоит. Крышу на веранде негры завтра починят. Сейчас все будет…
За настоящим ужином и ромом с Антильских островов Кирсанов легко убедил офицеров, что дело им предлагается увлекательное и почетное. Сулящее в перспективе, кроме славы, немалую конкретную выгоду.
– Сейчас, господа, – сказал Кирсанов, когда ряд предварительных вопросов был согласован к взаимному удовольствию и ливень успел превратиться в обыкновенный дождь, – вызовем карету и отправимся на «Валгаллу». Там вас ждут прежние каюты или любые другие, на ваше усмотрение.
– То есть в казарме нам больше появляться не нужно? – спросил Давыдов.
– Неужели очень хочется? Нет, если там долг неполученный остался или другое что неотложное – пожалуйста. Но на пароходе, на мой взгляд, в любом случае удобнее будет.
Намек более чем прозрачный. Жандарм, по служебной привычке, допускал, что англичане вполне могли подвести свою агентуру к отряду добровольцев. Ничего невероятного – желающих заработать в мире всегда с избытком. Кроме своих кадровых разведчиков, и португальцы могли работать на англичан, и кое-кто из буров, и любой иностранец, состоящий в отрядах волонтеров. Да кто угодно, включая жену губернатора.
Потому Давыдову с Эльснером лучше исчезнуть сразу, до того как они успеют что-то кому-то сказать или просто вызвать интерес своими поспешными сборами. А малозначительного факта, что делись неизвестно куда два ничем не выделяющихся на общем фоне офицера, никто и не заметит. Кроме взводного командира. Тому как раз намек будет сделан, такой, какой нужно.
Фаэтон с поднятым тентом, переваливаясь и раскачиваясь на грубой брусчатке, остановился на краю самого дальнего от города и самого близкого к выходу в море пирса, где была ошвартована «Валгалла». Под бортом у нее спрятался «Призрак». Даже топы его мачт скрывались за высокими надстройками и колоннами труб парохода.
Корабль стоял пустой и темный, словно памятник самому себе на вечной стоянке, светились только положенные навигационные огни да несколько иллюминаторов в передней надстройке.
Но дежурный у трапа был на месте, встретил гостей и передал вахтенному на палубе.
– Командир у себя? – спросил Кирсанов.
– Так точно. Прикажете вызвать?
– Сами найдем.
Бывшие поручики вслед за полковником шли по широкому спардеку, поднимались по трапам с волнующим чувством. Последний раз они были здесь пять лет назад, потом не приходилось. И все было точно так, как тогда. Запах свежевыдраенной тиковой палубы, волны теплого маслянисто-нефтяного воздуха из приоткрытых люков машинного отделения. Леера, за которые они хватались во время жестокого шторма в Ионическом море, не отменившего положенные строевые занятия, но прибавившего им здоровой увлекательности.
Что же это было за чудо! После окопов Мировой, педикулеза, в просторечии называемого вшивостью, но такой степени, что счастливые обладатели шелкового белья, с которого вши соскальзывали вниз, в сапоги, по вечерам разматывали портянки, бурые от собственной крови. После двух лет Гражданской войны, эвакуации из Новороссийска, гнусного Стамбула, где пришлось работать на разоружении Босфорских батарей, надрываясь так, что сдохли бы от переутомления выносливейшие из китайских кули.
Вдруг – светлое явление капитана Басманова в жалком кабаке, а на другой уже день – великолепие трансатлантического лайнера!
– Никита, мы с тобой вместе с какого года служим? С пятнадцатого? – спросил вполголоса Эльснер.
– С шестнадцатого. Тебя прислали взамен убитого капитана Щитникова. Подпоручика – сразу на роту.
– С тех пор мы и крутимся?
– С тех. Странная судьба. – Оказавшись на «Валгалле», Давыдов словно утратил обычный кураж. О смысле жизни задумался. – Посчитать бы, кто выжил из нашего училищного выпуска. Православные попы врут – никакого «воздаяния по делам твоим» не бывает. Буддисты – умнее. Карма – и все на этом.
– Пхе! – сказал Эльснер, поднимаясь на четвертый пролет трапа. – Никто ничего не знает. Сказали бы тебе, что снова вернешься сюда, поверил бы? Никто из тех, кто пришел сюда в двадцатом, не вернулся. А мы – здесь! Заслужили, что ли?
– Господа, – сказал, обернувшись, Кирсанов. – Про карму и прочее – не советовал бы. Не раздражайте судьбу. Приходилось видеть случаи…
О том, что и на гладких ступеньках трапа можно поскользнуться и сломать себе шею, Павел Васильевич говорить не стал. Сами догадаются. Военные люди к подобным намекам чувствительны.
Когда Воронцов спросил, где товарищи желают поселиться, Давыдов ответил, что прошлый раз на нижних палубах было хорошо, но неинтересно.
– Денек-другой позволите в высшем классе?
– Как прикажете. Каждому по трехкомнатной с собственным балконом?
– Да нет, мы лучше в одной, веселее будет, – отмахнулся Эльснер.
– Вестовой вас проводит, – кивнул Дмитрий. – И будет при вас находиться, исполняя любые пожелания, кроме заведомо преступных. Это я так шучу, – улыбнулся он в ответ на недоуменные взгляды офицеров.
– До утра отдыхайте, а потом я передам вам документы, с которыми стоит познакомиться… Кейптаун – город не простой, англичане – народ въедливый, и ваши честные биографии нуждаются в определенной корректировке, – добавил Кирсанов.
Широкие, застеленные коврами коридоры шлюпочной палубы, где офицерам раньше бывать не приходилось, поражали богатством убранства и гулкой пустотой. Становилось даже немного не по себе, будто заблудились в улицах и переулках вымершего города.
Молчаливый матрос в белой форменке довел их до дверей последних на этом ярусе кают.
– Выбирайте, господа. – Он протянул ключи. – Эти самые удобные, с выходом на променад-дек.
– Что выбирать, открывай любую, на счастье… – ответил Давыдов.
…Следующей ночью «Призрак» с тремя пассажирами, почти неслышно гудя турбиной экономического хода, вышел в море. На штурманском экране был обозначен предполагаемый курс грузопассажирского парохода Российской Восточно-Азиатской компании «Царица», совершавшего регулярный рейс Владивосток – Петербург с заходом в Кейптаун. Именно предполагаемый, никакой возможности установить истинный не имелось по причине отсутствия радиосвязи, в терминах той поры – «беспроволочного телеграфа». Расчет велся на основании даты выхода из Владивостока, средней скорости, опубликованного в газетах расписания и по аналогии с прецедентами. Обычно, не учитывая всяческих форс-мажоров, суда на этой линии не выбивались из графика более чем на сутки.
Хорошо, что яхта была оснащена локаторами, позволяющими просматривать океан в радиусе пятидесяти миль, иначе пришлось бы утюжить океан длинными галсами без особой надежды на успех рандеву.
Желанная отметка на экране появилась всего на три часа позже, чем ожидалась.
– Молодцы, как по рельсам идут, – похвалил капитана и штурманов «Царицы» Белли. – Погода благоприятствует, и машины в порядке.
– Вы уверены, что капитан остановится по вашему сигналу? – спросил Кирсанов. Он хорошо помнил, что, следуя его указаниям, капитан «Ватергюсса» не остановился даже после предупредительных выстрелов британцев.
Старший лейтенант улыбнулся снисходительно.
– Не может не остановиться. У русских в море свои законы…
Пояснять, что имеется в виду, Белли не стал.
Держа на гафеле трехфлажный сигнал, «Призрак», прибавляя ход, двинулся на пересечение курса лайнера. Через час пароход стал виден в бинокли. Довольно большой, в восемь тысяч тонн водоизмещением, он, кроме генерального груза, мог принимать двадцать пассажиров первого класса и пятьдесят – второго.
Две высокие трубы старательно дымили, бурун у прямого форштевня говорил о том, что скорость «Царицы» не меньше двенадцати узлов.
Как и рассчитывал Белли, заметив яхту и прочитав сигнал, вахтенный штурман вызвал на мостик капитана. Ему принимать решение.
Через несколько минут пароход ответил «Ясно вижу», к реям пошли черные шары, сообщая о том, что он стопорит ход и ложится в дрейф.
Океан лежал зеркально-гладкий, будто тихое озеро, подходить к борту можно было без опаски. Матросы выбросили кранцы.
У правого борта парохода столпилось около десятка любопытствующих пассажиров. Редкое развлечение в долгом рейсе – посмотреть на красавицу-яхту.
– Что вы имеете мне сообщить? – прокричал капитан в большой медный рупор. По-английски, естественно.
– Прошу разрешения пришвартоваться и подняться на борт, – ответил Белли, сильно задирая голову. Мостик «Царицы» нависал над «Призраком» на уровне середины мачт.
– По штормтрапу подниметесь или парадный вывалить? – с долей иронии осведомился капитан. Опасаться ему было нечего, о пиратах в этих широтах не слышали давным-давно. Но если он сочтет причину остановки неподходящей, наверняка выставит приличный счет.
– Оркестра тоже не надо, – ответил Белли. Те, кто понял, – засмеялись.
На палубу первым легко взбежал старший лейтенант, за ним – с меньшей сноровкой – Кирсанов.
– Отойдемте в сторонку, капитан, – предложил жандарм, после чего перешел на русский. Представился сам и представил Владимира. Поскольку в нынешнем Российском флоте его звание отсутствовало, он был назван просто лейтенантом. На капитана второго ранга не тянул по возрасту, раньше тридцати этот чин получить было трудно, особенно в мирное время.
– Слушаю вас, господа, – ответил капитан парохода Геннадий Арсеньевич Челноков, солидный моряк с полуседой бородой и бакенбардами в духе прошлого царствования. Тон его и благодушное лицо выражали полную предупредительность. «Царица» принадлежала к так называемому Добровольному флоту, суда которого в случае войны становились вспомогательными крейсерами, и комсостав его комплектовался из флотских офицеров запаса. И сам он был бывшим лейтенантом Черноморского флота, хорошо, что не Балтийского. Кроме кое-кого из старых преподавателей Морского корпуса, общих знакомых у них с Белли не имелось. Сама же фамилия внушала уважение.
– Государственные интересы требуют, чтобы вы приняли на борт меня и двух моих сотрудников, – доверительно сказал Кирсанов, угощая капитана папироской. – Документы у всех в полном порядке. Только нужно, чтобы вы оформили два билета от Владивостока, один от Шанхая. Полную стоимость мы оплатим. Не возражаете?
– О чем речь, господа! Все сделаем, устроим в первом классе, там больше половины кают свободно.
– Вот и хорошо. Обсудить подробности время у нас будет. Прикажите на вахте, чтобы спустили на яхту концы и приняли багаж…
Давыдов и Эльснер забрались на палубу, за ними вверх пошли тяжеленные, как тогда было принято, очень крепкие и водонепроницаемые чемоданы. Мода путешествовать по миру с кейсами еще не привилась. Странствовали по принципу: «Все свое вожу с собой».
Распрощались с Владимиром крепкими рукопожатиями. Неизвестно, доведется ли встретиться. У моряков своя судьба, у разведчиков – своя.
– Я вам, признаюсь, завидую, – сказал Белли. – Мы, пожалуй, отвоевались, а вам все только предстоит.
– Особенно не стоит, – похлопал его по плечу Кирсанов. – Почаще вспоминайте нашу встречу на омском вокзале. Много ли вы тогда романтических чувств испытывали, хотя в романе ваши приключения могли быть описаны крайне увлекательно. До сих пор помню ваши глаза, когда вы отмылись, переоделись и сели за прилично накрытый стол в салон-вагоне…
Лейтенант не нашел что ответить, кивнул и ловко, как обезьяна, соскользнул по штормтрапу на свою палубу.
Пароход и яхта обменялись гудками и разошлись, «как в море корабли».
С тех пор как открылась для движения поездов Транссибирская магистраль, желающих путешествовать с Дальнего Востока в столицы и центральные губернии морем сильно поубавилось. Билеты на весь маршрут покупали только истинные любители экзотики да люди, которым доктор прописал оздоровительную прогулку через три океана. Пассажиры обычно подбирались промежуточные, до тех портов, с которыми иного сообщения не было. Из Владивостока до Шанхая, оттуда до Сингапура, с Сингапура на Маврикий и так далее.
Это Кирсанова вполне устраивало.
Капитан Челноков отвел каждому по каюте в надстройке. Не тот, естественно, уровень комфорта, которым попользовались офицеры в люксах «Валгаллы», но вполне прилично. Люди же все были родом из этого, все еще девятнадцатого века. Гальюн один на всех, в конце коридора, душ тоже один, зато – с пресной водой. Экипаж мылся забортной.
До Петербурга в первом классе плыл только действительный статский советник Ермолаев Евгений Лаврентьевич с женой Полиной Ивановной и двумя сыновьями, одиннадцати и тринадцати лет. Выслужив полный пенсион и кое-что подкопив на службе, решил напоследок мир посмотреть и детям показать. Другой раз вряд ли доведется.
Обедали за капитанским столом этим же составом. Разнообразная публика, населявшая двухместные каюты ниже палубы, кормилась вместе с помощником и штурманами.
Угощали, впрочем, почти одинаково. Камбуз на «Царице» был общий. Различались только напитки и закуски.
Чиновник оказался очень приличным человеком, около шестидесяти лет, всю жизнь прослужившим по судебному ведомству, но сохранившим крепкое здоровье и своеобразный юмор в духе Салтыкова-Щедрина. Супруга была лет на двадцать младше, круглолица и смешлива. В такой компании и до самого Питера плыть было бы необременительно.
К первому табльдоту[101] Кирсанов выставил две бутылки шампанского и наилучший коньяк, который прихватил из винных погребов «Валгаллы» для подобных случаев. Если изображаешь богатого коммерсанта, нужно соответствовать. Давыдов сыпал анекдотами предвоенной (1910–1914 гг.) поры, никем здесь не слыханными, но попадающими в общий тон. Более поздние вызвали бы только тягостное недоумение. Имел успех.
Допив чай, пусть и лучших китайских сортов, но сильно уже отдающий затхлостью цистерн, Павел Васильевич указал капитану глазами, что самое время поговорить о делах.
Трехкомнатное помещение Челнокова, мало уступавшее хорошей городской квартире (да и как иначе, попробуйте жить в море восемь месяцев из двенадцати), удивило Кирсанова обилием книг. Он даже отвлекся от главной темы, рассматривая корешки.
– Почитываем, да, почитываем, – довольным голосом ответил капитан, увидев его интерес. – Только вы уж меня просветите. Что за интерес у уважаемого мною ведомства в их Кейптауне?
– Газеты давно читали? – спросил Кирсанов, отходя от полок и садясь в кресло напротив Геннадия Арсеньевича, снова задымившего хорошей, а главное – сухой папиросой. В тропиках не только одежда, но и табак мгновенно сыреет, покрывается плесенью. Нормального же хьюмидора, герметичного, с термометром и гигрометром, у капитана не было.
– Самые свежие – в Шанхае. Двухнедельной давности.
– Тогда вы ничего не знаете, – и в коротких словах передал то, что случилось позже.
– Интересно, – протянул Челноков. – Ничего против не имею. А вы – как раз по этому поводу?
– Если начинаются события международного, более того – исторического масштаба, нельзя оставлять их без присмотра, – туманно ответил Кирсанов.
– Понимаю, – сказал капитан. – Объясните, что требуется от меня.
Павел объяснил, легким намеком присовокупив, что старания капитана не будут забыты.
– Ерунда это, – отмахнулся тот. – Больше того, что есть сейчас, мне не нужно. Ордена, чины – все тлен.
– Совершенно согласен. Но какой-никакой капиталец за спиной гораздо полезнее для нервов, чем пустой карман. Что никак не отменяет усердия и патриотизма. Пассажиры до Кейптауна у вас есть?
– Очень хорошо. Мы – сойдем. Вместе со всеми, кто решит погулять по городу. И – не вернемся. Наш багаж хорошо бы сгрузить так, чтобы это никому не бросилось в глаза. Например, с катера миль за десять-пятнадцать до порта. Сделаем?
– Контрабанда? – привычно насторожился капитан.
– Какая контрабанда, – расплылся в улыбке Кирсанов. – Просто оружие. Могу предъявить, хоть сейчас. Причем оружие личное, не для продажи. Много, конечно, так условия требуют.
– Это меня совсем не касается, – сказал Челноков, посуровев лицом. – Но сделаем. Вспомогательным крейсерам, о чем вы, конечно, знаете, приходится пушки в угольных ямах возить, на случай внезапной войны.
– Что тут не знать, знаю, конечно. Интересы Империи требуют. А то, на самом деле, альбионцы эти заняли все морские пути и воображают, что лучше всех. Пора разобраться по справедливости. Самое время…
– У нас впереди почти двое суток. Успеем спланировать, как надо, – заверил капитан. – А пока – извините. Пора за вахтой присмотреть.
Глава восемнадцатая
Удолин почему-то не стал материализовываться у всех на глазах. Правила не позволяли или просто слегка промахнулся по месту? Он вышел из-за ближайшего дерева, такой же, как всегда, одетый в свой дорожный костюм двадцать пятого года, вполне уместный и в девяносто девятом. И там и там наряд профессора выглядел одинаково эксцентрично.
– Рад вас снова видеть, друзья, – поприветствовал он всех сразу взмахом руки. Нашел глазами подходящий валун, уселся на него, снял шляпу.
– Я вас слушаю. Теперь можете излагать подробно и не торопясь. Ментальная связь, к сожалению, деталей и нюансов не передает.
Новиков пересказал все, что успел узнать от старейшин дагонов, присовокупив собственные соображения и догадки.
Удолин не перебивал, лишь время от времени вставлял эмоционально окрашенные междометия.
– Что ж, друзья мои, – сообщил он, когда Андрей завершил свое повествование, – это даже превосходит мои надежды и предположения. Пойдемте скорее, мне не терпится прощупать мозги этих достойных старцев. Они присутствовали при строительстве пирамид! Восхитительно! Заодно подтверждается еще одна моя теория. То, что дагоны не могут жить нигде, кроме пещер и этого прелестного уголка, объясняется отнюдь не исчерпанием «жизненной силы». Все куда интереснее – их не отпускает сжимающееся время. Как-то мы с вами касались этого вопроса. Ну, можно сказать, что они оказались как бы внутри своеобразного колодца, стенки которого состоят из временнуй ткани. Причем не исторического времени, а физического. Это тема сложная, в двух словах не передашь. Но если совсем упрощая – стена такого времени ограничивает их перемещение в пространстве, одновременно защищая от времени исторического. Почему они и живут почти вечно. Но только здесь. Рано или поздно просвет колодца сойдет на ноль. И все…
– Постойте-ка, Константин, – загорелся Левашов, – как-то ваши слова коррелируют с теорией и практикой коллеги Маштакова. Но тогда не труба, а воронка раструбом вниз!
– Вы абсолютно правы, – кивнул Удолин, продолжая смотреть на Олега, как благодушный профессор, помогающий студенту на экзамене наводящими вопросами. – Именно воронка. Но что из данного факта проистекает?
– Каламбурить изволите? И втекает, и истекает, на то и воронка. Теоретически допустимо, что по ее оси можно перемещаться и сейчас. В прошлое – неограниченно, «одновременно» расширяя и пространственный ареал, а в будущее… Да мы сейчас посчитаем…
Олег расстегнул футляр с компьютером, размером с сигарную коробку, но более мощным, чем самый совершенный даже для 2005 года ноутбук. Прощальный подарок Антона.
– Считать будем потом, – пресек его энтузиазм Удолин. – Прежде следует выяснить, догадываются ли о подобной возможности сами дагоны. Или же – раньше знали, а потом забыли…
– Или это знание унесли с собой те, протодагоны… – вмешался Новиков. – Вот вам и момент развилки! Владеющие тайной сбежали, оставив прочих деградировать здесь…
– Зачем? – наивно спросила Анна. – Все бы могли пользоваться…
– Откуда нам знать? Мы и в тайнах собственного века не разобрались. Может, политика вмешалась, может – экономика…
– Хватит, хватит, друзья, – прервал затевающийся симпозиум Удолин. – Мы все обязательно узнаем, но вначале нужно правильно поговорить с мудрецами.
Шульгин поинтересовался, как он относится к радиации.
– Безразлично, господа, безразлично. Частицы эфира не взаимодействуют с икс-лучами. Если бы меня просветить рентгеновским аппаратом, вы не увидели бы ничего. Некоторые представители тонких миров не отбрасывают тени в видимом спектре, а я – в невидимом. Что не мешает мне быть столь же телесно убедительным, как и оригинал. Итак, ведите меня!
Увидев и почувствовав профессора, дагоны пришли в гораздо большее оживление, чем при встрече с обычными людьми. И не потому, что раньше не встречались с «высокоплотными фантомами». Совсем наоборот. Константин Васильевич не зря говорил, что изучал древнеегипетские, шумерские и хеттские «первоисточники». Возможно, синклит старейшин уловил в мыслях Удолина отзвук эзотерических знаний, да и сама его «телесная конструкция» могла быть знакома мудрецам по прошлому опыту.
Они сразу же перешли на невербальное общение.
– Похоже, мы чужие на этом празднике жизни, – сказал Сашка Новикову, – пошли обратно, зачем зря гомеостаты перенапрягать?
– Идите, идите, – отвлекся от «ментаконференции» Константин Васильевич. – У нас тут, чувствую, надолго. А вы пока обед приготовьте, что ли…
Выйдя на поверхность, они сразу увидели, что в их маленьком лагере не все в порядке. Встревоженные лица Ирины и Анны, Левашов, едва видный среди зарослей на дальнем концe поляны, громко зовущий Ларису через сложенные рупором ладони.
– Что тут у вас?
– Лариса пропала.
– То есть как?
– Пошла вон туда, в кусты, ну, обычное дело, и не возвращается. Давно уже, – ответила Ирина.
– Как давно?
– Да сразу, как вы ушли. Больше получаса… Мы на часы не смотрели. Разговаривали себе. Потом вдруг Олег вскинулся. Где ее, говорит, носит? Еще чуть подождали, он не выдержал, пошел следом.
Действительно, неладно! Не подмосковный лес все-таки. С другой стороны – ясный день, территория давным-давно «зачищена» дагонами, местные негры сюда не решаются забредать, ни намеренно, ни случайно. С хищниками обстоит примерно так же. Местность сухая, ни болот, ни зыбучих песков…
Конечно, Лариса – девушка себе на уме, моментами довольно «безбашенная». Засиделась на месте, решила прогуляться. Увидела что-нибудь интересное, хотя бы даже бабочку экзотическую, погналась за ней.
Все эти предположения были высказаны.
– Вернется, – с оптимизмом сказал Шульгин. Если б заблудилась или еще что – стрелять бы стала. Она ж с оружием?
– Два пистолета, четыре обоймы, – сказала Ирина.
– Ну и стрелок она классный…
– А если вдруг к речке вышла, – сделала большие глаза Анна, – искупаться решила, а там крокодилы?
Вариант, пожалуй, маловероятный, но… Африка есть Африка, тем более – девственная, цивилизацией не затронутая. Вариантов всего два – Лариса гуляет, ни о чем не думая, или… Об этом думать не хочется. Но в любом другом случае она, поняв, что заблудилась, начала бы подавать сигналы. Или залезла бы на дерево повыше, оттуда направление на скалы определить не трудно.
– Вернется – задницу бы ей ремнем надрать как следует, – без тени юмора сказал Шульгин. Но промелькнувшая в воображении картинка подобной экзекуции показалась ему эстетически привлекательной. – А пока не будем терять времени…
Он включил рацию и вызвал со стоянки трех роботов. Новиков, приказав девушкам ни на шаг не отдаляться от входа в пещеру, бегом рванул через поляну, к Левашову.
Тот, накричавшись, переводил дыхание и нервно закуривал.
– Вот зараза, куда ее черт понес, – с прибавлением усиливающих экспрессию выражений начал он ругаться, увидев Андрея.
– Найдется. В средней полосе люди, бывает, заблуживаются так, что потом с вертолетов сутками ищут. Сейчас роботы подскочат, начнем правильный поиск. Случиться с ней ничего не могло, – успокоил он друга, хотя сам был отнюдь в этом не уверен. – Разве что в ловчую яму провалилась и кукует там… у Майн Рида подобный случай описан.
– Стреляла бы…
– А то ты ее характерец не знаешь! Из гордости будет стараться сама вылезти, ногтями ступеньки копать…
Что в ловчих ямах нередко ставят заостренные, а то и отравленные колья, он вслух вспоминать не стал.
– Пошли обратно, винтовки возьмем…
Через пять минут появились Джонсон, Иван Иванович и третий, из новых, поименованный Стивом за сходство с одним давним приятелем.
– Так, – начал распоряжаться Шульгин. – Ты остаешься на месте, охраняешь женщин. Двое – с нами. Задача – найти Ларису. Олег, что из ее вещей под руками?
– Да хоть бы шляпа…
– Отлично. Эй, ребята, вот вам запах, вот примерное направление. Смотрите, слушайте – мы идем за вами. Без крайней необходимости не стрелять. Особенно – в человекообразных. Брать живыми. Вперед!
Роботы почти мгновенно увидели примятую сапогами Ларисы траву, взяли след. А вскоре, минут через десять, очень издалека послышались пистолетные выстрелы.
– Ну вот видишь – живая, – с облегчением сказал Олегу Шульгин. – Точно «беретта», я тут не ошибусь.
– Только стрельба – не сигнальная, – дернул щекой Левашов. – Странная стрельба…
– Сейчас добежим – увидим, – успокоил его Новиков. – Ребята – полный аллюр, – приказал он роботам. – В случае опасности – все ограничения отменяю…
Джонсон и Иван Иванович наддали так, что вскоре их уже не было видно. Людям такой темп не под силу. Зато тропу за собой они оставляли весьма отчетливую.
Марш-бросок занял почти полчаса. По лесу и с оружием не очень разгонишься. Далеко сумасбродная девица забрела. На бегу они вновь услышали беглую, без пауз серию выстрелов. Потом тишина, и спустя несколько минут – два хлопка, потом – окончательная тишина.
Робот ждал их на поляне, примыкающей к озерцу. Указал на россыпь пистолетных гильз, на неизвестно кем и зачем построенный шалаш с длинным столом и стульями вокруг.
– Европейская работа, – сказал Новиков, осмотрев все. – Негры так не делают. Сколько гильз нашли? – спросил он у Джонсона.
– Здесь – пятнадцать, – ответил робот. – Километром дальше, на следующей прогалине, – еще столько же. То есть по полному магазину. В том и другом случае огонь велся с одного места, но из разных пистолетов, оба марки «берета-92».
– Где твой напарник? Мы слышали еще два выстрела, позже, и на слух – еще дальше.
– Я остался здесь, чтобы встретить вас, Иван пошел вперед, вдруг нужна его помощь. Но никаких сигналов он пока не подавал.
Роботы, как уже раньше говорилось, были абсолютно идентичны функциям, которые им приказано исполнять. А тут они начали вести себя по-своему. Как-то договорились, поделили обязанности без «высочайшего» приказа. Интересный момент. Тоже, вроде Замка, умнеют на глазах?
– Пойдем за ним, – распорядился Шульгин.
Пока шли, Джонсон докладывал:
– Сначала госпожа Лариса открыла огонь в шалаше. Следов крови, чужой или ее, – нет. В кого стреляла – неизвестно. Но – не вверх, по горизонтали, о чем свидетельствует разброс гильз. Потом, переместившись на девятьсот восемьдесят метров вперед и вправо, снова стреляла. На этот раз ствол был направлен вверх под углом больше сорока пяти градусов. Что также подтверждается соотношением ее следов и рассеиванием гильз. Можно предположить, что огонь велся по низколетящей цели, приближающейся ракурсом ноль горизонтали, до пятидесяти вертикали…
Джонсон говорил тоном уверенного в себе криминалиста.
– Что еще?
– Применения другого оружия не отмечено…
– Вывод? – резко спросил Новиков.
– Информации недостаточно. Сигнальные выстрелы обычно делаются вверх. Для тренировки используются мишени или подручные предметы. Не обнаружено. Присутствия опасных для госпожи Ларисы живых существ мною также не обнаружено.
Иван Иванович встретил их на краю очередной большой поляны. Они, получается, тянулись одна за одной, разделенные не очень широкими перелесками.
– Ну что, где она? – рванулся к нему Левашов.
– Госпожа Лариса была здесь совсем недавно, но сейчас ее нет. – В голосе робота словно бы проскочила нотка искреннего сожаления, или это просто показалось. – Вот здесь она последний раз стреляла, сидя или стоя за этим кустом. – Он протянул пистолет и две гильзы. – Осмотром травы и почвы установлены десять точек вертикального давления, предметами весом от тонны и больше, без химического или термического повреждения. Следы горизонтального перемещения отсутствуют. Если бы здесь приземлялись вертолеты, имелись бы отпечатки колес или лыж. Предположительно, предметы могли быть опущены и подняты с других летающих объектов, например – тяжелых вертолетов или дирижаблей…
Обстоятельность робота утомляла, но так уж они были запрограммированы.
– Сложновато будет. Проще нечто антигравитационное вообразить, – сказал Шульгин, самостоятельно осматривая указанные роботом места.
– Вывод, – снова потребовал Новиков.
– Неизвестные предметы прибыли сюда самостоятельно или были доставлены иным способом, после чего снова покинули поверхность, забрав с собой госпожу Ларису, – ответил Иван Иванович. – Вот место, где ее следы прерываются. Рядом с самой большой вмятиной на почве…
Олег блуждающим взглядом смотрел под ноги, никак не реагируя на услышанное.
– Только летающих тарелок нам тут не хватало? – шепотом спросил Шульгин у Новикова. Он и представить себе не мог, что Левашов так вдруг потеряется. Неужели действительно страстная любовь, когда мысль о том, что с твоей женщиной случилось плохое, выбивает способность к рациональному поведению?
У него самого случались всякие неожиданности в отношении близких людей, но обычно нехорошие моменты мобилизовывали, а не вгоняли в прострацию.
– Обожди, хрен его знает… – отмахнулся Андрей. Он на самом деле не хотел делать окончательных выводов.
– Дай-ка сюда, – сказал он Ивану Ивановичу. Тот протянул «беретту», грамотно держа ее мизинцем за спусковую скобу.
Андрей вытащил магазин, передернул затвор. Все верно – после предыдущей бешеной пальбы Лариса израсходовала всего два патрона. Что ей помешало? Выбили пистолет из рук, скрутили, забросили в летательное устройство? Это ж как неудачно вышло – на несколько минут они опоздали. Подними Олег тревогу чуть раньше, сам догадайся роботов вызвать – успели бы.
Шульгин, думающий в том же направлении, присев на корточки, тщательно осматривал траву и землю.
– Я уже изучил каждый сантиметр, – сообщил Иван Иванович.
– Следов рукопашного боя, вообще никаких следов, кроме этих. – Он указал на вмятины от Ларисиных каблуков. – Значит, госпожа Лариса бросила здесь свое оружие и добровольно села в транспортное средство. Если бы она не хотела, то отстреливалась бы до последнего патрона…
– Не факт, – сказал Шульгин.
– Да что же вы за мудаки? – вдруг закричал Левашов. – Рассуждаете здесь, а Лариса…
– Что – Лариса? – повернулся к нему Новиков. – Заткнись, если не трудно. Мы что? Цены на базаре в Одессе обсуждаем? Не можешь держать себя в руках – молчи. Сами разберемся.
Шульгин поднял руку, требуя от всех молчания. Такие команды принято выполнять сразу. Сашка явно что-то услышал. Раньше роботов, обладающих слухом, намного превосходящим человеческий? И тут же Андрей сам уловил отзвук мысли. Точнее – эхо. Сосредоточился. Все верно, это наверняка Лариса. Неужели у нее тоже прорезались способности? Наверняка помогло очень сильное желание или столь же отчаянный страх. Да нет, панической составляющей в ее призыве не было. Не очень четко сформулированный, но вполне понятный призыв: «Я жива, я в плену, выручайте!»
Сашка по глазам понял, что Новиков тоже поймал сигнал. Слегка кивнул. Подождал еще немного. Больше ничего, тишина «по всем диапазонам».
– Все в порядке, – сказал он, обращаясь к Олегу. – Она жива и здорова. Сумела передать. Тоже, видишь, совершенствуется. С кем поведешься… Андрей поймал сигнал вместе со мной, значит, ошибки никакой. Похоже, я даже направление схватил…
– И я. – Новиков указал на северо-запад.
Левашов приободрился на глазах. Раз Лариса жива – все остальное вопрос техники. В буквальном смысле.
– Расстояние не определяется? – спросил он.
– Как его определишь? Бывало, через астрал с Валгаллы сигнал доходил без потери мощности. Но она точно на Земле. У меня, кроме голоса, еще и картинка мелькнула. Что-то здешнее: зелень, небо, скалы… Да и по времени… Если всего минут пятнадцать-двадцать назад ее в «тарелку» посадили…
– Не в «медузу»? – перебил его Олег.
– Какая «медуза», ты чем слушал? Давление на почву до тонны, а «медузы» вообще грунта не касались. Пятнадцать минут… – повторил Шульгин. – Взлет-посадка, скорость едва ли сверхзвуковая. Можно надеяться, что ее выгрузили в пределах сотни километров отсюда и, оказавшись снаружи, она сумела до нас достать…
– Сто километров, – упавшим голосом повторил Левашов. – День езды. Куда ее за это время переправить могут…
– Меня куда больше интересует – куда ее уже доставили? – сказал Шульгин. – Забрали, отвезли, высадили. Скорее всего – на своей базе. Что же это за очередные враги у нас объявились? На гравилетах. Снова дуггуры? Но почему именно Лариса, почему не кто-то из нас? Или – все сразу. Непонятно.
– Чего зря гадать, – прервал его Новиков. – У нас, слава богу, Удолин есть. Как раз по нему задачка. Погнали обратно…
Профессор был не слишком доволен тем, что его оторвали от увлекательнейшей беседы. Он как раз начал вникать в тонкости дагонского восприятия пространства-времени, весьма отличающегося от общечеловеческого. Одновременно, образовав вокруг себя избирательно проницаемую защиту (через которую наружу проходят только те мыслеформы, которые он считал нужным транслировать собеседникам, причем так, что лакуны и пробелы реципиентами не замечались), записывал в специально выделенные ячейки памяти волновые характеристики их мозговых эманаций и алгоритмы, которыми они пользовались для перекодирования дагонского в русский и обратно.
Его прямо захлестывали волны интеллектуального наслаждения. Пиршество духа, никак не иначе. Оно могло бы длиться сутками, да что там – месяцами! Для того Константин Васильевич и принял теперешнее воплощение, чтобы не нуждаться ни в отдыхе, ни в пище. Он наверняка станет авторитетнейшим в кругах ныне живущих некромантов, а пожалуй, и не только.
Но услышав от Новикова, в чем дело, тут же вскочил.
Особым образом дал понять старейшинам, что их общение не закончено, схватил Андрея за рукав.
– Пойдемте наружу, через этот фон мы ничего не сможем услышать…
– А мудрецы нам не помогут? – спросил Шульгин.
– Мы сначала сами, – отмахнулся Удолин.
Видимо, окружающую пещеры радиацию он чувствовал отчетливее, чем гомеостат, и она ему не вредила, но мешала, потому он и отошел от входа на полсотни с лишним метров.
– Еще раз расскажите, и подробнее. Обо всем, что касается уловленного вами сигнала.
Сашка постарался передать все нюансы: длительность, интенсивность, отчетливость, содержание «видеоряда», ощущение, давшее представление о направлении источника.
Константин Васильевич задал несколько уточняющих вопросов, присел на давно упавший и обросший толстым слоем мха ствол пробкового дуба и погрузился в размышления или медитацию, трудно сказать.
Все же встреча с Удолиным была для них подарком судьбы. Узнав еще в двадцатом году о существовании этого необыкновенного человека, то ли агента, то ли секретного узника ЧК, они рискнули жизнью, чтобы познакомиться с ним поближе. Сами не до конца понимая, что за человека выручают из лап Агранова и насколько он будет им полезен, руководствуясь скорее интуицией, чем точным расчетом, Новиков с Шульгиным освободили профессора и не прогадали. Получили в его лице надежного товарища и специалиста, обладавшего знаниями и умениями, в реальность которых они до того даже не верили. Половина их авантюр (а также эскапад[102]) не состоялась бы вообще без поддержки Удолина, а другие могли бы завершиться весьма печально.
Все, что происходило лично с ними, – более-менее укладывалось в рамки пусть и фантастического, но представимого. А Константин Васильевич был именно мистиком и магом, то есть персонажем совсем из другого, сказочного мира. И это проявлялось достаточно постепенно, не слишком травмируя материалистические основы психики. Верить в космических пришельцев, телепортацию и гомеостаты отчего-то гораздо проще, чем в сюжеты Гоголя.
Чтобы не мешать, друзья скрылись за деревьями, молча закурили. От них теперь почти ничего не зависело. До тех пор, пока вновь не придется действовать.
Говорить было просто не о чем. Ирине и Анне поведали о результатах поиска в самых общих словах и оптимистических тонах, причем Андрей не упустил случая на этом примере в очередной раз подчеркнуть необходимость соблюдения строжайшей дисциплины и всех существующих уставов и инструкций.
– Которые, как известно, пишутся кровью, – добавил Шульгин, – и очень хорошо, когда не нашей.
Девушки подавленно молчали, и не от прослушанной нотации, а оттого, что за все годы приключений, войн и революций обозначилась в их рядах первая потеря. Ирина, ничего не сказав, про себя думала, что найти Ларису едва ли удастся. Очень вся эта история странно и нехорошо выглядела. С ее точки зрения.
Но вскоре Удолин вернулся, с лицом, как говорится, исполненным оптимизма.
– Мне кажется, друзья, у меня получилось! Я сумел установить с Ларисой надежный контакт. Я знаю, где она находится. Да, все так и есть – ее захватили так называемые дуггуры, только не совсем того подвида, с которыми пришлось встретиться вам. Или – другой касты. Так ведь и время здесь совсем другое. Вы не могли заметить, но течет оно здесь несколько иначе. Не так, как в рассказе про Рипа ван Винкля, и все же. Сколько вы провели в окрестностях поселения дагонов?
– Считая от первой встречи с Мамбору – двое суток, – ответил Новиков, уже догадавшийся, о чем идет речь.
– Ну, а на «большой земле» – почти три недели. Вот и пожалуйста. Думаю, ваши товарищи начали беспокоиться отсутствием вестей. Надо бы кому-нибудь удалиться от гор километров на двадцать и передать сообщение. Что же касается экземпляров, в руках которых находится сейчас Лариса, очень вероятно – они понятия не имеют, что вы уже встречались с их «родственниками» в иных обстоятельствах.
– Как же они тогда вообще на нас вышли? – не выдержал обстоятельности профессора Левашов.
– Это нам и предстоит выяснить. Сходим и посмотрим, только взять с собой я могу кого-то одного, Андрея или Александра. На двоих у меня сил не хватит. Тут другие обстоятельства, чем при вашем предыдущем походе «по местам боевой славы», действуют другие законы. Но вы не беспокойтесь, – сделал он вежливый жест в сторону дам, – мы уложимся в час, если не меньше. А уже потом решим, что делать дальше…
Новиков с Шульгиным переглянулись. Особых слов не требовалось. Опять в астрал погружаться, от чего они совсем недавно зареклись категорически? А какой выбор? Ларису выручать нужно, здесь безвариантно. И идти, наверное, Сашке. Для любого вида боя подготовлен он лучше, устойчивость к психоволновому воздействию – выше. Да и в слоях и сферах разных порядков наловчился последнее время действовать так, что немного теоретической подготовки – самому Удолину не уступит.
Они давно миновали ту стадию отношений, когда хорошим тоном считалось «принимать удар на себя». Кто считает себя крепче – тот и примет, славою другой раз сочтемся.
Левашову было обидно, что его кандидатура для участия в спасении Ларисы даже не рассматривалась. Все правильно, уровень не тот, а все равно обидно.
– Тогда мы, Константин Васильевич, – сказал Андрей, – пока переберемся к месту стоянки фургонов. Туда и возвращайтесь.
Тут ему пришла в голову интересная идея, парадоксальная, как водится, но все же.
– Что, если вам попробовать одного из роботов с собой прихватить? В виде средства технической поддержки? Бутылки и пистолеты через астрал проходили без потери свойств и качеств. Александр вон целый бронетранспортер на Валгаллу переправил. С людьми. А?
– Умный вы человек, Андрей Дмитриевич, но не в этом вопросе. Откуда же у роботов – тонкие структуры? Железо, резина, электрические схемы. Ничего другого. Телесную оболочку переместим, никаких препятствий, но кто же так называемые «электронные программы» удержит и восстановит? Механика и мистика увы, пока не сочетаются.
– Нет так нет. Мое дело – предложить. Тогда отправляйтесь. И мы – в свою сторону.
– Сначала вы. Уйдете – нам с Александром легче будет сосредоточиться. Условия здесь, прошу заметить, далеки от идеальных. Куда прибывать – мне все равно, а для отбытия специальная настройка требуется. И ментальная тишина. Не будете же вы слушать камерный концерт на одной площадке с духовым оркестром.
– В таком случае – удачи вам и скорейшего возвращения, – со всей искренностью ответил Новиков. – Отделение – становись! – шутливо приказал он оставшейся на его попечение команде: Левашову, Ирине, Анне и трем роботам. – За мной, с песней – шагом марш!
Юмор, пожалуй, не самого высокого качества, но бывают ситуации, когда чем примитивнее поведение командира, тем лучше. Остальные, про себя или вслух, шепотком, разрядят лишние эмоции по его адресу, одновременно отвлекаясь от куда более вредных мыслей.
Шульгин с Удолиным, оставшись вдвоем, минут пять сидели просто так, покуривая и внутренне сосредотачиваясь.
То, что Сашка вызвался идти «на дело» потому, что считал себя лучше к нему подготовленным, было правдой. Но – не всей. Скорпион по гороскопу, кроме всех положительных качеств, присущих этому знаку, в том числе и предрасположенности ко всякого рода мистике, он отличался упрямством в достижении личных целей, обостренной тягой к противоположному полу, ревнивостью и скрытностью.
Потому Шульгину удавалось столько лет успешно маскировать свое влечение к Ларисе, иногда становящееся почти непереносимым. Не любовь – именно физическое влечение. И возникло оно с момента их первой встречи на празднике новоселья в форте на Валгалле. Но экстравагантная девушка тогда предпочла Левашова, и Шульгин не стал перебегать товарищу дорогу.
Он считал Ларису как бы своим аналогом в женской части Братства и исподволь культивировал в ней это сходство, с переменным, впрочем, успехом.
По многим позициям она его даже переигрывала – своеволием, независимостью, авантюризмом, пренебрежением к условностям. Он, допустим, не мог позволить себе держаться с Анной, как Лариса с Олегом, хотя нередко этого очень хотелось.
И Лариса, единственная из всех, чувствовала свою внутреннюю власть над Шульгиным. Одно время вызывающе дразнила его своей мнимой доступностью, не позволяя при этом перейти некую грань. А однажды в идущем через охваченную Гражданской войной Россию бронепоезде устроила Сашке феерическую «ночь любви», первую и последнюю. Так и сказала:
– Получилось у нас просто здорово. Но на этом – все. Побаловались – и хватит. Раз мы теперь знаем, где у кого что и как действует, – останемся друзьями и союзниками…
Ему ничего не оставалось, как согласиться на ее ультиматум.
Еще через час они попали в засаду, и Лариса, возможно, спасла ему жизнь, прикрывая снайперским огнем из карабина. Какое-то время увлекшись Анной и по многу месяцев не пересекаясь с Ларисой, Шульгин слегка подзабыл о своих чувствах. Но стоило им увидеться в Кисловодске, где Лариса исполняла обязанности резидента Братства в две тысячи пятом году, под маской богатой вдовы, баронессы Эймонт, как влечение вновь вспыхнуло с прежней силой. Если не с большей – сейчас ведь перед ним была не двадцатитрехлетняя девчонка, пусть фигуристая и сексуальная, а эффектная, вызывающе эффектная молодая дама, все свои силы прилагающая, чтобы в местном бомонде выглядеть самой-самой… Не зря Майя Ляхова поначалу приняла ее за русский вариант гейши международного класса.[103]
Но удобного случая попытаться возобновить давно прерванные отношения (точнее – отношение, так как было оно единственным и неповторимым) никак не представлялось.
И вдруг – случай таки представился.
Лариса его в свое время спасла от пуль красных диверсантов, теперь он ее спасет из плена. И как-нибудь в подходящий момент небрежно скажет:
– Не вспомнить ли нам прошлое, дорогая? «Те битвы, где вместе рубились они»? Зачем отказывать себе в маленьких радостях? Они так редки в этой жизни…
А она ответит:
– О, как ты прав, милый! Сама только об этом и мечтаю…
Сашка тряхнул головой, прогоняя наваждение.
– Что-то мне непонятно, – сказал он Удолину, – наши хозяева-дагоны словно не проявили никакого интереса к случившемуся. Им совсем без разницы? А ведь должно как-то касаться. Здесь их последняя территория, тщательно охраняемая, и вдруг – появление очень посторонних личностей, странные летательные аппараты, похищение гостьи, и так далее. Ваше мнение по этому поводу…
– Готов допустить, что все входит в их планы. Иначе действительно было бы странно. Они вас ждали, встречали, собрали представительную комиссию… Знали о вас, тем более должны были знать и о других. Однако не помогли, даже не предостерегли. Предположим, что перед нами – красивая инсценировка. Навели какой-то мурок, на нас и на Ларису, уволокли ее в свои подземелья, теперь смотрят, как мы себя поведем.
– Я тут подумал – нет ли какой-то связи между темой разговора со старцами об их «родственниках» и ее пропажей? Может, очередной тест? На радиацию нас проверили, о возможности вашего появления я им сообщил, и практически одновременно – инцидент с Ларисой.
– Сколько раз, вы сказали, она стреляла?
– Тридцать два.
– И, будучи метким стрелком, ни в кого не попала?
– Было бы в кого, – мрачно ответил Шульгин.
– Я совершенно о том же. Галлюцинации нередко отличаются удивительной достоверностью.
– Согласен. Но следы на поляне от «гравилетов» – я сам их видел и пальцами трогал…
– Думаете, внушить вам такое представление труднее, чем любое другое?
– Опять вы правы. Но Ларисы нет – факт. Полученный от нее сигнал – факт. Как и то, что вы подтвердили установление с ней контакта. Какие тут галлюцинации?
– Одно другому не мешает. Вот и займемся выяснением. Готовы?
– Надеюсь – да.
– Тогда – приступим. Не удивляйтесь, я решил испробовать незнакомые вам практики. Тот путь, которым мы ходили раньше, достаточно натоптан, я бы так выразился. На нем нас могут подстерегать неожиданности не самого приятного свойства. Знаете, как охотники устраивают засады на звериных тропах? Ну так мы их обманем! – С хитроватым блеском в глазах Удолин потер руки. – Я говорил вам, что собираюсь привлечь к сотрудничеству некоторых коллег, специализирующихся в нужной области, они мне и подсказали кое-что интересное. В обмен я тоже поделился плодами своих изысканий…
– Это что же, вы сейчас на мне будете экспериментировать?
– Да вы не опасайтесь, Александр. Новый способ гораздо надежнее и требует куда меньших усилий. От меня. Вам вообще ничего делать не придется, кроме как прийти в сосредоточенное состояние духа…
– Подождите минутку, Константин. Меня давно мучает вопрос – почему вы, маг экстра-класса, спокойно терпели тяготы Гражданской войны и даже аграновскую тюрьму? А ведь могли бы…
– Увы, тогда не мог. Я ведь до революции несколько в другой области специализировался, это уже когда с вами начал работать, всерьез занялся проблемами физического погружения в астрал… Да вы же помните. Однако – пора!
Константин Васильевич принял нужную позу, лицо его окаменело, глаза закатились, словно он заглядывал ими внутрь собственного черепа, и начал делать руками пассы, что-то при этом бормоча на несомненно «мертвом» языке. Шульгин отвернулся и принялся сосредотачиваться единственно известным способом, остерегая себя от неконтролируемого провала в Гиперсеть. Просто расслабиться, убрать суетные мысли и, упаси бог, не вспомнить ни одной из магических формул. А то снова унесет неведомо куда, с билетом в один конец. Тут же в голове зазвучала мелодия «Ван вей тикет». Вот и хорошо…
– Готово. – Голос Удолина прозвучал странно глухо, будто из-за стены. Сашка открыл глаза и не увидел ни солнечного дня, ни самого профессора. Вокруг плавал густой, серый с зеленоватым оттенком туман. А там, где ногами ощущалась покрытая травой земля, сквозь него просматривался некий наклонный шурф со стенами, мерцающими отсутствующим в солнечном спектре цветом. Шульгин мельком удивился, как такое может быть – цвет, которому невозможно подобрать названия, даже по аналогии.
– Давайте руку – и шагаем…
«Голос не глухой, а именно – загробный», – догадался Сашка. Он всегда считал этот термин чистой метафорой, а вот услышал и сразу понял, что он на самом деле означает.
«Потому его и видно. И я, значит, тоже там? Серая зона?»
Делать нечего, назвался груздем… Ростокин в этой зоне уже бывал.
Шульгин протянул руку в направлении голоса, наткнулся на ладонь Удолина. Крепко сжал, и они шагнули.
Ничего особенного в плане чувственных ощущений не произошло. Ни потустороннего холода или, наоборот, жары, ни даже ощущения полета. Проникновение в Гиперсеть доставляло куда больше впечатлений.
Туман рассеялся, вернее – просто исчез. И Удолин стал виден, такой же, как прежде. Без всяких признаков посмертности. Единственно, освещение оставалось инфрафиолетовым, как обозначил его для себя Сашка. Любое явление должно быть поименовано, пусть и самым бессмысленным образом.
Они находились как бы в продолжении шурфа, через который сюда проникли, но теперь идущем горизонтально, и его следовало называть штреком.
– И где это мы теперь? – спросил Шульгин.
– Там, где нас ждет Лариса. Я слышу ее гораздо лучше. Она все время мысленно зовет кого-то из вас или всех сразу. Да мы сейчас в этом попробуем убедиться…
– А эта… цветовая гамма, почему такая? Точнее – откуда?
– Свойства среды. Самосвечение эфира. Мы сейчас находимся пространственно там, где скрывают Ларису похитители, но совсем в другой фазе бытия. Мы можем наблюдать явления вещного мира, сами же для него невидимы.
– С того света наблюдаем? – решился спросить Сашка. Это ведь, как следует из литературы, именно покойники способны видеть и слышать то, что творится на Земле, не имея, впрочем, возможности активно вмешиваться в происходящее.
– В строгом смысле, любая фаза по отношению к любой другой – «тот свет». Но ваш академический интерес я постараюсь удовлетворить дома. Сейчас главное – вызволить Ларису и переправить ее к своим. А уже потом заняться устроителями этого безобразия. Пойдемте.
Идти пришлось недолго. Удолин выбрал точку высадки чуть поодаль от цели, чтобы дать своему спутнику возможность хоть немного адаптироваться в новом качестве. И еще он немного опасался, что всплеск эфира при их появлении каким-то образом может быть уловлен здешними обитателями. Профессор же добивался полной внезапности.
Штрек, являвшийся на самом деле своеобразным переходным шлюзом между фазами, вывел их в порядочных размеров помещение, ярко освещенное подобием ламп дневного света. Своим интерьером оно напоминало странный гибрид рубки космического корабля из фантастических фильмов и атриума древнеримской виллы. Причем атриум выглядел естественнее: ребристые колонны розоватого с прожилками камня, абстрактные фрески на стенах, черный мраморный пол, по которому в беспорядке разбросаны мозаичные разноцветные спирали, напоминающие изображения галактик. А «космическая» часть производила довольно нелепое впечатление – с человеческой точки зрения. Как будто кто-то, не имея никакого понятия об эргономике и даже назначении использованного реквизита, насовал, где придется, экранов, пультов, иных устройств условно технического вида. Мол, на что-то похоже, и ладно.
Посередине зала на возвышении, между двумя синими прозрачными дисками стояла на коленях Лариса. Третий диск, но желтого цвета, нависал над ней в виде зонтика. Диски, не имея видимых опор, медленно вращались в противоположных направлениях. Моментами между ними проскакивали, не задевая девушку, оранжевые искры.
Неподвижностью и позой Лариса являла подобие статуи, была бы она обнаженной – вообще не отличить. Наверное, ее держало какое-то поле, гравитационной или иной природы.
По залу расхаживали пять условно говоря, «человек», одетых в легкие хитоны до колен и нечто вроде сандалий. Шульгин едва не ахнул, так они были похожи на «элоев» из Барселоны. Только раза в полтора крупнее, самый высокий – под метр семьдесят. Чем занимались – непонятно. Один смотрел на прибор, напоминающий осциллограф, другие просто бездельничали или, подобно ученикам Аристотеля, перипатетикам, обсуждали философские проблемы, прогуливаясь.
Сашка непроизвольно положил руку на пистолетную кобуру. Есть эти, могут поблизости оказаться и монстры.
– Успокойтесь, Александр, – сказал Удолин. – Прежде всего, мы для них невидимки и неощутимки. Кроме того, надо выяснить, способны ли мы оказать на них поражающее воздействие. У Ларисы, как известно, не получилось. Кто знает, из какой они фазы?
– Так выясняйте, – раздраженно ответил Шульгин, подходя к дискам вплотную. Ему показалось, что в этот момент рисунок и частота искр изменились. Неужели учуяли? Если не сами «элои», так их приборы? Но «прогуливающиеся» никак не отреагировали.
Присмотревшись, Сашка заметил, что губы Ларисы едва заметно шевелятся, как бывает, когда человек непроизвольно артикулирует внутреннюю речь. Лицо при этом оставалось замороженным, глаза – совершенно пустыми, будто мастерски выточенными из самоцветов.
«Ну, падлы, дай только девчонку выдернуть, я вам устрою Испанию в разгар инквизиции. Барселона курортом покажется!» – мысль получилась настолько отчетливая, что искры опять защелкали, засуетились, будто испуганные.
Теперь и «элои» обратили внимание на нештатную, похоже, ситуацию.
Сгрудились, обмениваясь фразами в странной тональности, тот, что наблюдал за экраном, начал изображать руками в воздухе объемные фигуры. Еще один побежал к другому аппарату у противоположной стены.
– Что с ними, Константин?
– Подожди, Саша, подожди, я только настраиваюсь…
Шульгину хотелось со всего размаха снести ударом ноги эти поганые диски, выхватить Ларису, а дальше – как получится. Но – нельзя, это он тоже понимал. Вдруг рванет аннигиляция? Им-то, по словам Удолина, ничего не грозит, а ей? Как тут, кстати, с радиацией? Гомеостата с собой не было. Да и черт с ним!
– Приготовься, сейчас выходим из фазы. – Голос профессора внезапно прозвучал, как у боцмана на штормовой палубе. – Я сбрасываю поле, а ты не дай им уйти, пока не опомнились!
Что там сотворил Удолин, пассами или усилием воли, Сашка не видел. Он получил свою задачу и начал ее исполнять на пределе сил и возможностей. Тут самое главное – не ошибиться. Чтобы форсированная скорость реакции не превысила прочность мышц и связок на разрыв. Иначе…
Очень удачно, что все «клиенты», кроме одного, оказались практически рядом, сбились в тесную группу. Минус – между ними и Шульгиным возвышается подиум с дисками и Ларисой. Зато тот, что метнулся к покрытой светящимися полосами и пятнами стойке, – вот, прямо напротив, метрах в шести. Ну так устроим им «бильярд»!
Мысленно нарисовав траекторию полета шара, которым был он сам, Шульгин, будто стартующий с катапульты истребитель, сорвался с места. Пронесся поперек зала, толчком выставленных перед собой рук отшвырнул к стене элоя-одиночку, погасив тем самым свою инерцию, развернулся на пятке и – второй бросок! Он ударил по группе, врезался в ее середину, сработал широким взмахом обеих рук от плеч, да еще и подсечкой левой ноги. Удержался на правой, рванул за подол хитона единственного устоявшего «элоя», без всякого изящества отвесил ему тяжеленную затрещину. Голова у того резко мотнулась, и он упал ничком.
Если кто-то из дуггуров вообще что-нибудь успел сообразить, он испытал немалое удивление. Из ничего возникла фигура крупного гуманоида, расплывчатая от скорости и… Впрочем, никакого «и». Нокаутирующие удары, которые не успеваешь ощутить и оценить, после чего – тьма беспамятства.
Давно, очень давно Сашке не приходилось всерьез заниматься настоящим рукопашным боем. Тренировочными – постоянно, а чтобы до результата – или ты, или тебя – года три такого не было. И он ведь бросился на пятерых, понятия не имея о способностях противника. Так бы мог нарваться! На встречный удар быстрее своего или финку из рукава. Так выбора же не было!
– Александр! – услышал он окрик Удолина.
Обернулся, одновременно переместившись так, чтобы поверженные враги оставались в поле зрения, и выдернул из-под ремня пистолет. Голая рука их берет, пуля возьмет тем более. Лариска просто «не попала в фазу», а то б накрошила такую кучу этих «патрициев»…
– Что такое?
Наподобие Моисея с иллюстраций к Библии художника Гюстава Доре, профессор простер руки в сторону постамента с дисками, между которыми пребывала в каталепсии Лариса, и вся композиция подернулась радужной дымкой, заколебалась, поплыла, теряя форму… Еще секунда, от силы две – боковые диски с металлическим лязгом упали по сторонам постамента, между ними обрушился верхний. Но упал на пустое место. Девушки там не было. Момента ее исчезновения Шульгин не уловил. Была – нет!
– Лихо! – присвистнул он.
– Лариса уже там, со своими, – довольным тоном сообщил Удолин.
– Получил подтверждение. Теперь у нас руки развязаны. Займемся?
– С полным удовольствием, – искренне ответил Шульгин. Полдела сделано. Осталось вернуться и довести свою мечту до воплощения.
– Тогда вяжи их, чтоб снова не сбежали, как те, из Замка.
– У меня не сбегут, – заверил Сашка, извлекая из кармана моток плетеного капронового шнура, который всегда имел при себе. На случай… Заодно наскоро осмотрел «пациентов». Окончательно убедился, что они вполне человекоподобны, по крайней мере – снаружи. В отличие от дагонов – типаж европеоидный. Красавцами не назовешь, но в обычной одежде в глаза бы на улице не бросались. Физически слабоваты. Бил их Шульгин все же аккуратно. Были б перед ним нормальные люди, не супермены из американских фильмов, одного-другого, пожалуй, отключил ненадолго, но не всех же! А эти – легли, как кегли, и в себя приходить не собираются. Но хоть дышат.
«Ну, пусть полежат немного, – подумал Шульгин, затягивая последний узел. – И мы отдохнем».
– Красиво у тебя получилось, – глядя на поверженных «элоев», похвалил профессор. Неожиданно, не сговариваясь, они окончательно перешли на «ты». Что вполне естественно. Рыцари одного ордена.
– А у тебя – хуже?
– Разные вещи. Никогда не умел драться кулаками, с самого детства. Всегда мне нос разбивали. Оттого и науками стал заниматься, иначе б тоже по военной линии пошел.
– Полководец с магическими задатками – круто могло получиться, – польстил Удолину Сашка.
– А все «великие» такими и были, разве непонятно?
Присели на мраморные ступеньки, закурили, как водится, пережив боевой стресс и радость победы.
– Может, не теряя времени, этих тоже – вслед за Ларисой? – предложил Шульгин.
Константин Васильевич извлек из обширного кармана заветную фляжку.
– Отчего нет? – протянул руку Шульгин. – Одного не пойму. Ты – эфирный, я – материальный. А водка какая, если на всех одинаково действует?
Удолин засмеялся.
– Формулу-то спирта помнишь? Углерод, водород, кислород, и только. Вся Вселенная из этих элементов построена. И Господь наш, Иисус Христос, в Кане Галилейской чудесным образом вино творил, не суп гороховый. Оттого и все последующее. А с «этими» здесь нужно разбираться, в самом логове. Тут и приборы, и выходы, наверное, в разные интересные места имеются…
– Так хоть блокаду какую-нибудь вокруг поставь, – предложил Сашка. Пара глотков сняла долю напряжения, а дело ведь пока не сделано. – А то набегут вдруг «спецназовцы», опять свалка начнется…
– Уже сделано. Капсула прочная. Если нет у них магов сильнее меня… Если есть – тогда уж не знаю!
– Огнем и штыками пробьются ребята, и пара гранат не пустяк, – пропел Шульгин, демонстрируя напарнику рассованный по карманам арсенал.
Глава девятнадцатая
Три робота, повинуясь команде Новикова, со сноровкой, проявленной ими при постройке шалаша, изготовили из подручного материала очень приличные носилки. Даже скорее паланкин. Наподобие тех, в которых и сейчас индусы носят европейских туристок по крутым каменным тропам затерянного в джунглях пещерного города Элора.
Две длинных слеги, метра по четыре, из прочного дерева, между ними стулья, с плетеными сидениями, да еще и багажник между ними, куда сложили рюкзаки и большую часть оружия. Девушки устроились со всеми удобствами, и андроиды побежали плавной рысью, не допуская неприятной для пассажирок тряски. Они могли бы с той же легкостью нести и тонну груза. Что им двести килограммов?
Подобный способ передвижения, раньше не испытанный, Ирине с Анной понравился. Слегка отвлек от беспокойных мыслей.
Левашов с Андреем быстрым шагом шли позади, не очень отставая, обсуждали дальнейшие перспективы.
– Ларису они вытащат в любом случае, тут и думать нечего. А вот что дальше делать? – говорил Новиков, сбивая прутиком фиолетовые соцветия растений, похожих на отечественный чертополох.
– Вытащат, тогда и решим, – отвечал Олег. – Разонравилась мне страна мечты…
– Да брось, не стоит так. С кем не случалось…
– А мне надоело, понимаешь – надоело! Пока только меня касалось – ладно! Но так и дальше дергаться – не желаю! Не по мне…
– Да что за беда? Все мы постоянно рискуем, девчата – тоже. Будто не знаешь, в каких переделках им раньше бывать приходилось. Что Ларисе, что Ирке… Взять тот же бой на поезде.
– Мало ли, что там раньше бывало. Меня при этом не было, вот что главное! А вот так, в режиме реального времени на все смотреть – не хочу. Не по мне, – повторил Левашов.
Переубеждать друга – бесполезно, понял Новиков. Не в том он состоянии, чтобы к доводам разума прислушиваться. Да, слишком большую власть над его натурой Лариса забрала. Талант…
– Хозяин – барин, – спокойно ответил он. – Кто же заставляет? Вернется – и уезжайте, хоть прямо сейчас. На Кислые воды. Правда, еще до «Валгаллы» надо суметь добраться…
– А ты останешься?
– Кому-то ж надо разобраться, куда все катится? Собрались одним делом заняться, а нам тут же совсем другое подбрасывают. Но ничего, – с оттенком то ли угрозы, то ли просто злости протянул он, – глядишь, с помощью Удолина и разберемся. До самого донышка. А там вдруг да подпишем договор о вечном мире с этими самыми дуггурами. Без дружбы и взаимной помощи можно и обойтись… Тогда и нам с Сашкой невредно будет дачки прикупить, с тобой по соседству…
– Издеваешься? – насупился Левашов.
– Чего ради? Святой истинный крест! Мы присяги никому не давали, живем по собственному хотению. Тебе физикой-математикой с пятого класса нравилось заниматься, мне – кое-чем другим. И все в своем праве. Так что давай Ларису подождем. Совсем я, кстати, не уверен, что она с тобой прямо сразу и согласится.
Олег махнул рукой, не желая продолжать дискуссию. Он часто поступал подобным образом, обрывая тему на полуслове. И все давно привыкли не считать это невежливым. Просто черта характера. Не умеет человек спорить в сократическом стиле – и не надо.
Фургоны оказались на месте, лошади тоже. Дежурный доложил, что в отсутствие хозяев происшествий не случилось, посторонние в зоне наблюдения не появлялись.
– Как дамы, понравилось себя средневековыми принцессами ощущать? – спросил Андрей.
– Весьма недурно, – ответила Анна. – Вокруг далеко видно, и не трясет. На извозчике по булыжнику – хуже.
– Примем к сведению. Значит, давайте насчет ужина соображать, дело к вечеру идет. Народ вернется, а у нас уже все готово…
Тон у него был настолько будничный, словно на самом деле Лариса и Шульгин отлучились на часок-другой по самым обычным делам и вот-вот будут.
– Ты, Иван Иванович, костром займись, – поручил он самому русифицированному роботу. – Джонсон – фазанов настреляй, что ли… Или кто там на опушке кричит.
В сотне метров от стоянки действительно какие-то птицы перекрикивались пронзительными голосами, очень похожими на фазаньи.
– А ты, Стив, принеси нам рацию. Попробуем Воронцова разыскать.
До «Валгаллы», где бы она сейчас ни находилась, в порту или в море, было никак не меньше шестисот километров, но антенны на пароходе чувствительные, мачты высокие, приемник мощный. Не прошло и пяти минут, как Левашов услышал в наушниках ответный позывной.
Еще минута, и радист переключил связь на Дмитрия.
– Отыскался след Тарасов! – Голос Воронцова, несмотря на потрескивание грозовых разрядов, слышен был вполне отчетливо. – Где вас черти носили? Раньше нельзя было обозначится?
– Долго рассказывать. Очередные причуды хронофизики. У вас как? Мы тут ничего не знаем.
– У нас порядок. Война началась через неделю после того, как вы замолчали. У буров победы по всем фронтам.
– Поздравляю. Сюда сводки Информбюро не доходят. Конкретней.
– Наталь очистили полностью, собираюсь переходить в Дурбан, там стоянка лучше. На юге буры движутся к Кейптауну. Сильвия в Лондоне готовит почву для мирных переговоров. Все живы и здоровы. О себе скажи. Когда обратно?
Вдаваться в подробности Олег не хотел.
– Работаем по плану. Получится, как думаем, – через пару дней поедем. Начнем движение – сообщим. Всем привет.
– Взаимно. Что-нибудь нашли?
– Больше, чем хотелось. Подробности письмом.
– Ждем-с. Имейте в виду – все железные дороги севернее Де Ара – свободны. Выходите к путям по кратчайшему… По первому требованию классный вагон в любую точку подадим.
– Спасибо, обязательно воспользуемся. До связи…
– Ну вот, товарищей успокоил, – словами анекдота, но без улыбки сказал Левашов. – В общем, у наших все в норме. Англичан сделали по полной. Как я успел понять – дело идет к миру на бурских условиях.
– Эх, черт, жаль! – Новиков ударил кулаком по раскрытой ладони. – Прозевали мы. Я думал – управимся. А тут и англичане раньше начали, и мы застряли, как скорпионы в янтаре. Эффектную, наверное, войну прозевали!
Новиков чувствовал себя и выглядел как болельщик, пропустивший трансляцию финала чемпионата мира по хоккею.
– Да успокойся ты! – прикрикнула на него Ирина. – Войну прозевал, несчастненький. Наркоман законченный! Сначала сам ноги отсюда унеси, а войну тебе потом в кино покажут…
– Кто б там ее снимал, – с разгону ответил Андрей и осекся. Да, неловко получилось. При Левашове. Действительно, у каждого по горю, да не поровну. Кому похлебка жидка, кому жемчуг мелок.
– А вы бы скатерку расстелили, приборы расставили, чем старшим по званию замечания делать, – огрызнулся Новиков, переводя ситуацию в другую плоскость. – Разговорились тут… Правильно Олег сказал – всем на Кавказ нужно ехать. Вам, мадам, в особенности!
Он посмотрел на Ирину бешеными глазами. Мало ему других забот, чтобы еще и с ней препираться. Могла бы и промолчать, словно не видит, в каком он раздрае находится.
Робот, дважды пальнув из двустволки дробью-четверкой, принес трех фазанов, мгновенно их ощипал и установил жариться на вертеле, начинив местными травами и привезенными с собой специями.
Запах пошел чудесный. Только аппетита ни у кого не было. Разве что у Анны.
Новиков машинально посмотрел на часы, и тут же, в пределах оборота секундной стрелки, между костром и ближним фургоном возник и сразу исчез радужный пузырь, неотличимый от мыльного, только больше, намного больше.
Вспыхнул и исчез, оставив вместо себя Ларису.
Она сидела на траве по-японски, на коленях, опираясь ягодицами на пятки и руками в землю перед собой. Взгляд был – пустой.
Левашов дернулся ей навстречу, а Новиков осадил его изо всех сил, рванув назад за предплечье.
– Молчать! На месте! – Так он ощутил задачу своего положения. Силы в пальцах у Андрея хватило бы для парализации локтевого нервного сплетения. А где нажимать – он давно знал.
Олег обмяк, не от боли. Сообразил, что товарищ лучше знает, что делает.
Лариса осмотрелась, несколько раз глубоко вздохнула, поднялась во весь рост.
– Ребята, это правда вы? Я вернулась, я с вами?
Андрей увидел, как ее руки скользнули вдоль швов джинсов, наткнулись на пустые кобуры.
– Отобрали. – На лице с потеками слез, хорошо видными на пыльных щеках, появилось выражение обиды. – Но у меня еще есть… – Лариса сунула ладонь под рубашку, достала маленький «вальтер».
Никто не успел заметить броска Ирины. Снизу вверх, на три с лишним метра она метнулась, подобно кобре, и пистолет оказался в ее руке.
– Теперь совсем хорошо, – сказала она, сдвигая флажок предохранителя вниз, чтобы он закрыл красную точку, и пряча оружие за голенище. – Успокойся, ты дома. Меня узнаешь? Дыши глубоко, носом. Андрей, подай коньяку.
Левашов снова хотел подойти к ней, и опять Новиков его удержал:
– Сиди! Не сейчас!
Ирина с Анной под руки отвели Ларису в фургон, уложили на мягкую постель, укрыли верблюжьим одеялом. Ночь будет холодная. Здесь перепады температуры достигали тридцати градусов Цельсия, иногда и больше.
– Девчонки, как же… Я ведь выдержала? Нет-нет, я теперь в порядке, – отмахнулась она, когда Ирина пристегивала ей на руку гомеостат. – Страшно было, ой, как страшно…
У Ларисы и под одеялом постукивали зубы, хотя экран показывал, что физически она действительно здорова.
– Сигарету дайте, мои все там остались. И еще коньяку… Вы представьте – сутки прошли! Никого из вас увидеть не надеялась – и вот оно…
«Сутки, – подумала Ирина. – Хроноклазмы продолжаются. Для нее сутки, для нас четыре часа. На сколько же Шульгин с Удолиным застрять могут?» Но не сказала ничего.
Лариса села, из рук Ирины отпила несколько глотков, у нее же приняла раскуренную сигарету. Лицо порозовело, пальцы перестали дрожать.
– Теперь давай, поспи, мы рядом ляжем. – Анна, не такая жесткая, как Ирина, в душе Ларису недолюбливавшая, погладила по-прежнему находящуюся в полушоковом состоянии подругу по волосам, щеке, шее. Начала расстегивать свою рубашку и ремень брюк. Оставшись только в трикотажных трусиках, пристроилась возле Ларисы, прижимаясь к ней гибким горячим телом.
Со своих детских лет, почти совпадающих с нынешними (Анин год рождения – тысяча девятьсот третий), она, проведя пять лет в пансионате сравнительно благородных девиц, знала, что, если очень страшно, нужно лечь рядом с девочкой с соседней койки и с головой укрыться одеялом. Кто не видел дортуаров[104] с потолками высотой шесть метров и длинной – сто, освещенных ночью единственной керосиновой лампой, да когда осенний ветер завывает в трубах и голые ветки скребут по оконным стеклам, ее не поймет.
Но у Ларисы ее порыв вызвал совсем другое впечатление.
– Только без этого! Отодвинься!
Анна не поняла, зато поняла Ирина.
– Успокойся! Ты что вообразила? Не обижай девчонку! Хочешь, еще налью? Выпей и спи, утром поговорим.
– Нет, утро что? До утра дожить надо.
Ирина поняла, что Ларисе необходимо выговориться. Ну, так и пусть.
Снова начался дождь. Не ливень пока еще, но вполне приличный. Крупные капли сначала барабанили по тенту порознь, потом их шлепки слились в сплошной гулкий шум. Хорошо, что ни сверху не промочит, ни под задний фартук не захлестнет. Зато как уютно! На верхней балке висел электрический фонарь, внешне похожий на «Летучую мышь»,[105] распространяющий неяркий свет.
– Вы же меня не поймете. Как вам меня понять?
– Лариса, – сказала Ирина, в то время как Анна, оскорбленная в лучших чувствах, перебиралась на соседнюю койку, – не валяй дурака.
Она вспомнила подобные выходки этой девушки, еще когда ее первый раз, в восемьдесят четвертом, пригласили на Валгаллу, отмечать завершение постройки Форта. Там тоже юная красавица с комплексами пыталась доказать серьезным людям, что она их не воспринимает. Потом, правда, опомнилась. И, опять же, выбрала в друзья самого беззащитного – Левашова. Но ведь не ошиблась! Любой другой парень из их компании послал бы Ларису куда подальше. Да и она сама это понимала.
– Я же вижу, ты в порядке. Давай, рассказывай!
Лариса вскочила, откинула задний полог тента. Дождь лил сплошной стеной. Подслушивать было некому, даже роботы ушли, рассредоточившись по периметру лагеря. Костер погас. Новиков с Левашовым спрятались в другом фургоне. Может, спать легли, может, пили, празднуя счастливое завершение…
– Да садись ты! – Ирина толкнула ее на постель.
– Рассказать? Расскажу. Тебе интересно – слушай… Только сначала – кружку чая и сигарету.
Очень Ирине не нравился взгляд Ларисы, блуждающий, не способный сосредоточиться на одной точке. Да и голос плыл. Тут Шульгин бы пригодился, с его образованием психиатра и секретными транквилизаторами. Но чего нет, того нет. Пусть выговорится. Станет ей хуже – еще стакан коньяка. Заснет, как миленькая. Гомеостат за пределы совместимости с жизнью выйти не даст.
Требуемое Лариса получила, имелись в запасе путешественников саморазгревающиеся банки чая и кофе, хотя и немного.
Она подтянула одеяло к горлу, потому что холодать стало быстро и ощутимо.
– Так вот. В какой-то книге я очень давно прочитала фразу: «Выслушайте мою историю. Итак, я родился в Кордове…»
– «Рукопись, найденная в Сарагосе», – не удержалась Ирина.
– Вот именно. Спасибо, напомнила. Слушай дальше.
«…Эх, Лорка, Лорка, – сказала я себе, очередной раз сделав совсем не то, что хотела сама, да и ребята ждали от меня. Это что же за натура такая – чтобы всю жизнь назло себе самой и другим? Помню, в детстве мама часто говорила: „Ну и убойще!“ Отстою в углу несколько часов, но не сделаю получасового дела по просьбе родителей. По сути – всю жизнь сама себя наказывала. Повзрослев, но не поумнев в этом смысле, задавалась вопросом – почему, зачем? А может быть, есть в этом какой-то высший смысл, для чего-то и кому-то это нужно? Карма, наконец. Теперь понимаю – настал тот самый „конец“, который ни преодолеть, ни победить без такого характерца, как у меня, не получится.
Говорят – женская интуиция, женская интуиция, и каждый понимает под этим что-то свое. Собственно, и понимают по-разному, в зависимости от пола, возраста и даже времени года. Да и женщины все разные… Не будем перечислять типажи от «душечек» до таких «кривых поленьев», как я…
В таких случаях говорят: «как будто черт дернул». Сказав Олегу: «я сейчас», пошла, почти побежала, ха-ха, «налево», то есть влево от входа в пещеру. Лес практически одинаков был везде. Красивый такой и необычный. Никогда не бывала в Африке и вообще в тропиках, не считая Абхазии с Аджарией.
Затянула ремень с пистолетными кобурами, осмотрелась. И вдруг услышала зов, обращенный именно ко мне. Голос такой нежный и мужественный одновременно. В юности мечтала о мужчине с таким чудным, мягким баритоном. Представляла, как будут красиво звучать его признания в любви ко мне, замечательной, необыкновенной и неповторимой.
Увы, мечты, мечты, где ваша сладость, как сказал… Пушкин? Не помню.
Однако ж, кажется, дождалась! Голос звучал и звал меня, ощутимо удаляясь. Мне пришлось ускорить шаг, чтобы слышать его отчетливее. А слушать было что! Если Одиссею пришлось заткнуть уши своей команде, чтобы миновать остров и на свою погибель не поддаться чарам сирен, то мой слух был в порядке. И там ведь были коварные бабы, а мужчина с таким великолепным голосом не должен, не может быть коварным и вероломным.
«Ты любишь, когда тебе посвящают стихи?» – Это первое, что он у меня спросил, когда я начала вслушиваться в смысл слов, помимо наслаждения оттенками и интонациями голоса.
Отвечать я не стала, да и глупо было бы, не видя – кому. Помню, как, очутившись в «новой» Москве, удивлялась, впервые увидев непропорционально много сумасшедших, на ходу бормочущих, а то и кричащих невесть что в белый свет. Только позже узнала, что это они все разговаривают по «сотовым» телефонам, или – «мобильникам». Додумались же люди!
Голос звучал и звучал, а я шла и шла. Не знаю, сколько это длилось, думаю, не меньше часа. О друзьях я совершенно забыла, как и о том, что нужно примечать путь, если хочешь вернуться. Не до того было…»
Анна слушала затаив дыхание, Ирина тоже не без интереса. Только не оставляло ее ощущение, что видит перед собой не импульсивную, скорую на язык, не любящую лишних слов Ларису, а актрису провинциального театра, уныло бубнящую заученный монолог. Нормальные люди так не говорят.
Хотя кто его знает, может быть, оказавшись там, где она побывала, именно этим и занималась, для сохранения психики – прокручивала в памяти случившееся и переводила в форму ненаписанного дневника.
– «…Потом он мягко приказал мне остановиться и присесть. Присесть было куда: замечательный берег маленького круглого озера, с абсолютно неподвижной – ни рябинки, и прозрачной – каждый камешек на дне виден – водой. Шалаш из местной растительности, открытый в сторону берега. В нем плетеный стол и плетеные же кресла вокруг, числом восемь. На столе несколько бутылок с вином, минеральная вода, хрустальные бокалы…
Села. Голос неожиданно стих. Зато послышались звуки легких шагов. Вот они, идут! Сразу вспомнились слова Пушкина: «Все красавцы удалые, великаны молодые, все равны, как на подбор…» И вправду – великолепные фигуры, и не лица – лики! Мороз пробежал по коже. Никогда я подобного не видела! Хорошо, что бабушка водила меня в детстве в хорошие, неразоренные храмы. Вот там, на иконостасах – Небесное воинство ангелов и архангелов.
Семь непередаваемо прекрасных мужчин, одетых в белые полупрозрачные хитоны или туники, подошли, поздоровались, склонив головы и приложив ладони к сердцу. По непонятному принципу расселись по свободным креслам. Очевидно, ритуал и порядок имел специальное значение.
– Лариса, мы выбрали тебя – догадываешься почему? – спросил сидевший прямо напротив. Я помотала головой. «Нет, мол, не понимаю». В своей походной одежде, с пистолетами на ремне, давно не мытыми волосами, рядом с ними я чувствовала себя отвратительно, ужасно. – Твои друзья уже столько натворили хорошего и плохого, что пришла пора и нам вмешаться. Ты для этого самая лучшая из вашего Братства. Грешница – но безгрешна, умна – без лжемудрствования. Верующая – раз, женщина – два, настоящая землянка – три. Обладаешь огромной силой духа – четыре. Остальные качества тоже как нельзя лучше подходят для той миссии, что мы решили тебе доверить. И самое главное – никто, кроме тебя, не услышал нашего зова…
Дальше разговор пошел в таком ключе, что я на равных с ними обсуждала возможность приведения в равновесие миров нашей многострадальной Земли. И терминология использовалась совсем другая, чем употребляли ты, Андрей, Шульгин, Сильвия…
Кстати, к моему вящему удовольствию, было сказано, что все космические «чурки» с планеты исчезнут. Как-то мне вдруг стало понятно, что никто из людей любой национальности такого обозначения не заслуживает. Только инопланетные пришельцы, а более того – «пришелицы». В тот момент я их всех возненавидела!
И вдруг на очередном повороте разговора, коснувшегося конкретизации моих действий в отношении мужчин Братства, и в особенности – женщин, я ощутила тот самый «ступор», после которого никто не мог заставить меня что-то сделать. Даже я сама себя.
Будто ледяной ветерок пролетел над распаленным эмоциями мозгом. Это что же, значит? Брось сейчас на стол пистолеты, потом – браслеты, все, сколько их есть, сдай им тебя, Сильвию, Антона, наверное, сворачивай экспедицию?! Вообще все дела, что мы с ребятами затеяли, отдай под их ангельское покровительство? Они все знают и все за нас решат?
А вот уж хрен вам!
И немедленно почувствовала: они, споткнувшись об этот самый «ступор», стали менять интонации и смысл своих речей.
Тут же вспомнилось новиковское признание о невыносимости психической атаки, хоть в петлю – легче и проще. Есенин, наверное, такой выбор и сделал. С Шульгиным в Испании тоже нечто подобное было. Но они ведь выдержали! А я с моим характером покрепче буду!
Другим пережить то, что мне пришлось, – где и кем бы они сейчас были?
Давление нарастало ощутимо.
Ребята, так это ж я в своей стихии! Давайте попробуем – кто кого!
Конечно, где-то в уголке мозга брезжила здравая мысль – куда мне против семерых?! Но натура и есть натура: что хотите делайте, а пока жива – не поддамся!
– Так, ангелы мои, – говорю, – не пора ли познакомиться? А то как-то нечестно выходит – вы меня знаете, я вас нет. Представьтесь поименно и по должностям. И меня понесло, как Остапа. Даже отсутствие пресловутой трубы у «седьмого ангела» отметила. Не по форме мол, на дело прибыл!
Они, не ввязываясь в спор, еще нажали. Давление нарастало толчками, как мигрень, головная боль растекалась под черепом. Но и моя ответная агрессивность тоже нарастала. Мысли летели лихорадочно, разные, в том числе и эти: догадались ли ребята, куда я пропала, что со мной случилось, ищут ли? Они умные – должны сообразить. А от меня теперь зависит – «этих» удерживать на месте до неизбежно благополучного исхода. Попросту – сопротивляться и ждать, когда придут за мной друзья, опять спасут меня, себя и мир в очередной раз.
Смешная фраза: «Я поняла, что они поняли, что я поняла» – и вот оно!
Все «ангелы» встали, и я, естественно, тоже подскочила (куды бечь?), зная прекрасно – не позволят. И теперь, когда все все поняли, их «лики» стали расползаться, превращаться в рожи! Страшноватое зрелище! Наверное, естественное их состояние – не хватило сил удерживать чужое. В своей-то шкуре легче?
Я держала себя в норме и тонусе издевательскими мыслями. Теперь и они были для меня «чурки». Есть же люди-талантища! Провидели и отобразили подобных «красавчиков». Гоголь, само собой, и те, кто поставили фильм «Вий». Какое впечатление он на меня произвел в детстве! Не объяснишь сейчас, а след в характере остался.
По аналогии думаю, отбиваясь от мозговой атаки – чем чертить меловой круг, какие молитвы читать?
Понимала, конечно, что это – не кино. Бывшие ангелы, трансформируясь, как под рукой хорошего аниматора, начали сжимать вокруг меня кольцо. Надвигаясь молча и зловеще. В голове метались несвязные мысли, боль продолжала остро пульсировать. И совершенно непонятно отчего, словно ураганным ветром или магнитом, сильно потянуло с кресла опять влево. Что я кричала – сейчас и не вспомню, но не молитвы, точно. Я девушка добрая, душевная, иногда даже нежная (редко, правда), но если накрывает…
Мягко скажу – резким, почти истерическим голосом выдавала весь свой матерный запас, что в жизни слышала и в научных книгах вычитала. Оказалось – много чего запомнила. На самых крутых, «боцманских» загибах «ветер» почти стихал, а стоило мне замолчать, чтобы перевести дух, он снова достигал страшной силы. Едва удерживалась, цепляясь за стволы деревьев.
Удалось сообразить – надо придумать еще какой-то заслон от их атаки, кроме матерного крика. Но я же не «йогиня» высоких степеней просветления: захочешь – взлетишь, захочешь – уйдешь в иные миры, на время или насовсем. Жить хочешь? Начинай! Вспомнила свои «беретты»! Итальянские. Кому «Версаче», кому «беретты».
Свинцовой, едва повинующейся рукой вытянула из кобуры правый пистолет, вскинула! От «ветра» рука гуляет. Так нет! Я же отличный стрелок, чуть-чуть до «мастера» недотянула, я сумею!
Раз, два, три… Стреляю, ведя стволом вдоль мелькающих перед глазами харь! Какой приятный грохот, как подкидывает ствол, как летят отстрелянные гильзы!
«Ветер» почти стихает.
– Ага, ангелочки мои фальшивые! Тоже жить хотите? Правильно Олег с Андреем говорили – есть пистолет – стреляй! Поможет – не поможет, но стрелять надо!
Не такие уж всемогущие «ангелочки» мне попались. Начали думать: как и куда спасаться? Одновременно жевать резинку и ходить по комнате слабо?
Я достреляла оставшиеся патроны и выхватила второй пистолет.
«Бывшие ангелы» внезапно начали растворяться в воздухе. Несколько секунд – и нет никого.
Стараясь сохранять бодрость и кураж, я дунула в ствол пистолета, откуда вился легкий дымок, сунула его за ремень.
А знаю ли я обратную дорогу? Это – вряд ли.
Прикидывая направление, я ушла довольно далеко от озера и вдруг услышала звук автомобильного двигателя. Не наш, точно, мы сюда прибыли исключительно на конной тяге. Снова «они»? Подмога к ним прибыла? И только сейчас пришел в голову запоздалый вопрос – кто же эти «они»?
Что-то проанализировать и вычислить я не успела. Надо мной зависло почти абсолютное подобие «летающей тарелки» из комиксов. И опять голоса в голове, не такие красивые, обычные, но старающиеся звучать убедительно: «Лариса, брось дурить. Бежать тебе некуда. У нас есть много способов… Начнем с приятного».
Тут же и начали, сволочи! Внезапно, независимо от реальной обстановки, на меня вдруг нахлынуло то самое страстное томление. Невыносимое желание. Как в раннем девичестве определила для себя, испытывая ночами нечто подобное и читая Асанова: «Хочу любви той самой, красивой-красивой, большой-большой, а если я в жизни не встречу такой, тогда мне совсем никакой не надо».
И ведь долго ждала, но увы… О прочем не вспоминаю, но и Левашов тоже не из того разбора.
Мечты в жизнь редко претворяются: много хочешь, мало получишь.
А «ангелы» с «тарелки» старались вовсю. Такого острого приступа похоти я давно не испытывала. А уж отдаться любому из «ангелов» – наверно, это будет непередаваемо! Во время разговора не обращала внимания на их надетые на голое тело туники, а сейчас вспомнила, или мне напомнили…
Волной накатывались возбуждающие воображения картинки. И мысли, и внушаемые ощущения. Ох, как бы это сейчас было восхитительно! Сильные обнимающие руки, поцелуи, и – оно самое! Наконец я почувствую, как это немыслимо прекрасно – взаимная нерассуждающая страсть.
Ни разу в жизни я такого не испытывала. «Трахалась», как сейчас говорят, с девятнадцати лет, с секретарями партийных комитетов по преимуществу. Но всегда это были «просто контакты». Повозились, встали, разошлись. Да, денечки были веселые… Приемы, баньки, «римские ночи». Пока эти дела длились, рекой лилось шампанское и другие напитки – нравилось, кто спорит. И еще кое-что… Мой «шеф» был самый главный, из его номера по телевизору можно было смотреть, чем в других спальнях занимаются и что говорят. Но все казалось увлекательным лишь до момента, когда белая «Волга» довозила до дома и проходил легкий дурман. К утру возникало мерзкое чувство опустошенности – зачем все было, для чего? Это не жизнь…
А от несчитаных красных десяток и сиреневых четвертных в кошельке – понимание своей продажности, предательства идеалов. Но потом все повторялось снова и снова…
Совсем как сейчас. Ноги сами понесли меня к опускающейся, гостеприимно выбросившей трап и приоткрывшей овальный люк «тарелке». Сейчас войду, и самые тайные мечты и фантазии станут явью! Кажется, не дожидаясь этого, я собралась начать раздеваться прямо снаружи. Пусть и они сразу увидят меня во всей красе…
Но где-то они перестарались. Нельзя так грубо и откровенно выворачивать наизнанку подсознание. Почти нестерпимая жажда наслаждения перекрылась отвращением. Мало ли о чем я могу вспомнить иногда, но демонстрировать подобное «кино»!
Когда мне будет надо – сама выберу, с кем и как. А на шантаж я не поддамся!
Была бы на моем месте другая, нимфоманка без комплексов – у них бы получилось.
Я вскинула пистолет и начала стрелять прямо в открытый люк, кусая губы от ненависти к «ангелам», к себе и от того, что не случилось того, чего мне все еще хотелось почти до умопомрачения.
Пули четко уходили в темное чрево «тарелки», только одна зацепила край люка, высекла сиреневую искру и рикошетом улетела в лес. Если кто-то стоял поблизости от входа, он свое получил…
«Объект» крутнулся на месте, резко накренился, как бы теряя ориентировку, потом выпрямился и со свистом ушел по косой над самыми кронами деревьев.
Так-то лучше.
Силы разом покинули меня, я плюхнулась на траву, привалилась спиной к громадному теплому стволу.
Где же мои друзья, братья, товарищи? Неужели они не слышали выстрелов?
Отдышалась чуть-чуть и, повинуясь рефлексу, сменила расстрелянные обоймы в пистолетах на запасные…»
Описания своих сексуальных видений и воспоминаний Лариса могла бы и не приводить, ограничиться легким намеком, но, наверное, подсознание само выталкивало наружу темную накипь. Освобождалось, чтобы завтра это полностью забылось, как забывается дурной сон, оставляя после себя лишь смутное ощущение.
И действительно, переведя дух, сделав пару глотков из протянутого Ириной стакана, закурив следующую сигарету, она стала говорить спокойнее и живее.
«…И это пройдет» – вспомнился царь Соломон с его кольцом. Вопрос – когда? – для меня сейчас актуален, как никогда. «Есть только миг между прошлым и будущим…» В двадцать первом веке я поставила мелодию этой песни в мобильник Олега.
Вот и я живу пока!
«Эти» сказали, что начнут с приятного. Так будем ждать «неприятного». Каков арсенальчик для меня приготовлен? И когда начнут? Выдержу ли? Успеют ли ребята? А вдруг я их как следует напугала, и они оставят меня в покое?
Мысли летели и летели, пока не прервались непонятным гулом. Он шел почти отовсюду, как пока далекий, но быстро приближающийся гром.
Что, снова придется стрелять? Куда, в кого?
Один пистолет я сунула в кобуру, второй взвела. Встала и пошла, ускоряя шаг и, конечно, подчиняясь своему дурацкому характеру, навстречу «грому» а не от него. Разницы, собственно, никакой. Все равно ведь не убежишь, если что…
Сама собой зазвучала в голове молитва, под ритм шагов. «Отче наш…» Самая, наверное, подходящая: «…И не введи нас во искушение, и избавь нас от лукавого…» Прислушалась к себе. Дыхание ровное, пульс тоже, страха нет никакого.
Ого! Выйдя на опушку поляны, большой, просторной, я машинально присела за ближайший куст. Со всех сторон на нее заходили на посадку «тарелки». Такие, как первая, и крупнее и поменьше.
Неужели из-за меня такой переполох? Приятно осознавать свою значимость. Как в той присказке про пойманного медведя: «Ну так тащи его сюда. Да он меня не пускает!»
Какая-то необыкновенная веселость охватила меня. Захотелось подскочить, прыгать, петь и смеяться, разбрасывая по деревьям свои одежды…
И снова вопрос – почему вдруг? Разве есть повод веселиться? Я собой руковожу? Кажется – да. Своим телом – точно! Лежать, Лора, лежать! Продолжая хихикать, словно от щекотки, я заставила себя не выдать своего местонахождения. Может быть, тяжелая железка пистолета в руке гасила посторонние эмоции. Как заземление у радиоприемника.
А «эти» тем временем выгружались из своих транспортных средств. Зачем-то я начала их считать: «Раз, два, три, четыре, пять – вышла Лора погулять. Вдруг охотник выбегает, прямо в Лорочку стреляет…»
На самом деле из самых больших тарелок вышло всего пять начальников. Так они выглядели. Как у нас девчонки в обкоме острили: «У Советской власти самое главное звание – „Член органа“! Эти – такие же. Безусловно довольные собой, вальяжные, едва ли догадывающиеся, что и их можно при случае „нагнуть“. Из средних и мелких, „десертных“ – посыпалась „пехота“. Впечатления они не производили, совсем не „ангелы“. Вроде киргизов из колхоза под Иссык-Кулем, где я в юности отдыхала у любимого дяди Вали. Зато их было много, и все с каким-то оружием.
Теперь бы сообразить – больших тарелок три, средних – пять, мелких – две. Смех продолжал меня разбирать, но я все пыталась считать. Умножать и прибавлять. Мешала отличная фраза из анекдота: «А тебя здесь поставили отнимать и делить!» Хорошая идея, только одной не справиться. Патронов не хватит.
Мелкие «пришельцы» торопливо разбежались по всему периметру поляны, создавая оцепление, а «члены органов», они же – бывшие «ангелы», наверное, так же «далекие от народа», как наши вожди, – чинно двинулись к ее середине. И так они были повадками похожи на секретарей горкома и обкома, что смех разобрал меня до слез.
И тут же мелькнула мысль, не моя, давно услышанная: «Смеешься до слез – будешь плакать!» Хорошо, что пришла, – дала время подготовиться. Потому что буквально через секунду началось то самое, доставшее Андрея с Сашкой.
Навалилась страшенная тоска, такая, что пропади все пропадом: захватят – не захватят, убьют – не убьют. Встать сейчас, выйти к ним, упасть, каясь, на колени…
А вот хрен вам! На коленях мы уже стаивали, закаленные!
Лежу, продираюсь мысленно сквозь всю эту муть. Как они меня достали? Чувствуют какими-то своими «нюхами»? Или накрыли психическим колпаком всю окрестность, где я могла оказаться? Скорее последнее, иначе подошли бы сами или прислали «мелких» да «под белы рученьки, за высокие горы, за темные леса, за глубокие реки…».
Милая бабушка, все вспоминаю твои сказки и молитвы! И вспоминаю ведь в самые трудные минуты. Обычно – не помню, не до того. И что ведь поразительно – помогает, когда не помогает ничто другое.
Отпускать стало не сразу, но ощутимо. Генераторы у них перегрелись или «в струю» не попали?
Ай да молодец, Лорочка!
И опять лезут из памяти тексты школьной программы: «Вынесем все, и широкую, ясную, грудью дорогу проложим себе!» Грудью не получилось, так зато – пистолетом вышло.
«Главное – отнять, вынести и поделить», – это Шульгин, кажется, говорил, еще когда мы с ним в поезде с большевиками сражались. Вновь стало весело, хотя «члены» медленно и неумолимо приближались. Ребята, где вы? Ау!
Ох как здорово было бы, если б сейчас из-за деревьев вышли мои ребята! Спокойные, с винтовками или пулеметами наперевес, сказали бы «этим» – не трогайте нашу девушку! И как бы пришельцы увяли, «сдулись», как проколотый воздушный шарик.
Я верила в это с такой силой, что они непременно должны были появиться. Но – увы.
По нервам вдруг ударила вспышка мгновенной, но едва переносимой боли. Я вскрикнула. Пистолет как бы сам собой выстрелил два раза, и выпал из разжавшихся пальцев.
– Вот видишь, – сказал самый первый из подошедших ко мне «членов», оттолкнув носком ботинка «беретту» в сторону, – попытки сопротивляться бессмысленны. Мы позволили тебе потратить все твои душевные силы. Теперь ты наша…
И я понимала – так оно и есть. Ни злости, ни даже бессмысленного веселья не осталось. Только страх. Что захотят со мной сделать, то и сделают.
Правда, в самом потаенном уголке души пульсировала мысль: «Я не помню, совсем не помню о том, что у меня слева под мышкой пристроен маленький „вальтер РР“. Олег мне подарил его на самый крайний случай. Я о нем не помню, и эти сволочи не догадаются…
Не догадались, и обыскивать меня не стали, просто вытащили из кобуры вторую «берету».
– Теперь пойдем…
И я пошла.
Внутри большой, «суповой» тарелки не было ничего интересного. Вернее, я не увидела ничего интересного. Где-то, наверное, имелась кабина управления, но меня заставили сесть на подобие дугообразного дивана в совершенно пустом куполообразном отсеке, под присмотром одного из «членов». Остальные скрылись в глубине летательного аппарата. Имей я понятие, как управлять этой штукой, ничего не стоило бы перестрелять экипаж и улететь к своим. Патронов бы как раз хватило. Но – увы!
«Тарелка» взлетела почти бесшумно, я испытала нечто вроде невесомости, как в скоростном лифте. И почти тотчас мы приземлились. Приехали, значит. Знать бы куда. На другую планету или в палеолит? Андрей ведь говорил, что дагоны с дуггурами разошлись где-то в те времена. Если, конечно, мои «ангелочки» имеют к тем и другим какое-то касательство. Может, еще одна раса космических агрессоров. А чего мелочиться? Мало мы их повидали, всяких!
«Ох и попала ты, Лорка, ох и попала», – отстраненно подумала я. Страха не было, вместо него – разочарование и обида. Как после проигранного соревнования. Чего-то ждала в жизни, на что-то надеялась – и все прахом. Себя мне жалко не было, жалко несбывшихся надежд. И – Олега. Что он теперь будет делать, без меня? Я, может, плохая была жена, так лучше он все равно не найдет…
«А, ладно!» – встряхнул я головой. Еще не вечер.
Поднялась и с гордо выпрямленной спиной пошла к выходу.
Снаружи оказался тот же самый лес, так что пространственно мы улетели, пожалуй, не так далеко. А вот по времени?
Метрах в ста над кронами деревьев поднимались обрывистые скалы, очень похожие на те, от которых я так по-идиотски ушла. Где сейчас сходят с ума от тревоги за меня ребята и девчата.
Эх, дура я, дура!
– Туда, – указал рукой мой сопровождающий. Кроме него, из тарелки не вышел никто. Непонятно. С одним-то я разделаюсь без проблем. Неужто он этого не понимает? Ну-ну… Только что делать потом? Если меня увезли хотя бы на полсотни километров, по тропическому лесу мне этот путь не пройти.
И вдруг меня осенило. Как же я раньше не додумалась? Наверное, гипноз, что увел меня от пещеры, действовал. А сейчас, значит, перестал?
Нужно просто позвать на помощь! Мысленно. Неужели не услышат? Дагоны, умеющие читать мысли, Андрей, Сашка, старик Удолин, наконец. Они же сейчас только обо мне и думают, ищут, все на меня настроены! Если я позову очень громко, обязательно отзовутся. Только как это делается? Я никогда не вслушивалась в звучание сутр и мантр, что при мне несколько раз произносил Новиков. Ну так надо придумать свои!
Я резко остановилась и села на траву.
– Что с тобой? – спросил конвоир.
– Подожди, отвернись, мне плохо… – скривила лицо и очень натурально изобразила рвотный спазм. Прикрыла рот ладонью и махнула свободной рукой в сторону скал.
Он послушно отвернулся. Надо же, все-таки есть в них что-то человеческое!
Продолжая давиться и всхлипывать я, собрав все душевные силы, бросила в пространство отчаянный, почти предсмертный зов. Как зовет на помощь неизвестно кого тонущий человек. Я очень боялась, что меня услышит «этот». Да нет, вроде ничего…
Не оборачиваясь, он спросил:
– Тебе помочь?
– Ничего не надо, я сейчас…
Продолжая взывать «ко всем, кто меня знает», я сделала еще кое-что. Отстегнула с шеи кулон-талисман, подаренный Олегом, и повесила его на ветку куста за спиной. Жаль, конечно, расставаться, но зато, если окажутся здесь друзья, поймут, что не ошиблись местом. И талисман вернется ко мне, как Поликратов перстень.
Вытащила сигареты, закурила. Надо же нервы окончательно успокоить. Заодно две штуки раскрошила, бросила в траву. Если друзья будут меня с помощью роботов искать, наверняка настроят им зрение, обоняние, слух на полную мощность. Значит, запах виргинского ароматизированного табака те обязательно учуют, слишком он отличается от любого естественного.
– Ладно, пошли, – сказала я, вставая. – Куда ты меня тащишь?
– Никуда не тащу, сама идешь, – ответил, поняв мои слова слишком буквально. Не слишком хорошо они в русском языке, а значит, и в нас, людях, разбираются. Работают в основном на эмоциях. Буду иметь в виду. Но кто они все же такие? На дуггуров, что нам Шульгин в своем фильме показывал, совсем не похожи. Может, из Антоновых приятелей-форзейлей, что его после побега ловят? Так почему здесь и зачем им я? Как заложница, вдобавок – слабое звено? Открыто напасть на всех сразу не рискнули, одновременно с Новиковым, Сашкой, Ириной им справиться не под силу? Все может быть. Да что толку гадать. Скоро и так все узнаю…
Конвоир подвел меня к сплошной отвесной скале, заросшей мохом и ползучими растениями. Что-то такое сделал пальцами, камни разъехались в стороны, открывая темный проход.
– Иди – сказал он, по-джентльменски пропуская меня вперед.
– Сам иди. Я темноты боюсь, – и тут же для убедительности вспомнила, что в детстве действительно боялась ее до истерики. Не ночной – темноты закрытых помещений.
Странно, но мой прием сработал. Бывший «ангел» шагнул вперед, бросив через плечо:
– Не отставай.
Мне только этого и надо было. Зажатым в кулаке тюбиком губной помады я нарисовала на камне жирный размашистый крест, патрончик бросила на землю. И вошла. Больше я ничего сделать не могла. Осталось одно – ждать и надеяться. Скалы у меня за спиной сдвинулись, окончательно отрезая от свободы…»
Лариса, замолчала, откинулась на подушку.
– А дальше, дальше что было? – жадно спросила Анна. Будто увлекательную сказку прервали на самом интересном месте.
– Что дальше – завтра расскажу. Устала я. Спать хочу. Вернутся Шульгин с профессором, вместе и обсудим. Гасите свет.
И снова Ирине показалось, что Лариса ведет себя, как запрограммированная. Сначала говорила много и долго, перегружая «отчет» ненужными подробностями и лирическими отступлениями, и вдруг – стоп! Будто пленка в диктофоне кончилась. Но заставлять ведь не будешь. Пусть отдыхает.
– Ну спи, спи…
Дождь снаружи почти прекратился, с неба сыпалась мелкая морось. Ирина вылезла из фургона, подошла к соседнему. Сквозь щель между тентом и пологом пробивался слабый свет. Она легонько постучала пальцами по бортику. Выглянул Новиков, увидел подругу, бесшумно спрыгнул на траву.
– Что там у вас?
– Почти нормально. Выговорилась, теперь заснула. А Олег?
– Тоже спит. Что-то интересное она сказала?
– Много интересного. Пойдем хоть туда, что ли. – Она указала на третий фургон. – Что-то уж больно много непонятного в ее рассказе. – Роботам прикажи усилить бдительность. Мало ли что…
– Бдительность у них всегда одна, то есть – высшая. Не беспокойся…
Третий фургон, до поры не требующийся хозяевам, роботы, приобретшие в ходе этой экспедиции очередную порцию опыта и самостоятельности, превратили в опорный пункт и базу снабжения. Трое несли караульную службу по дальнему периметру, один охранял непосредственно стоянку и присматривал за двадцатью лошадьми, согнанными в импровизированный кораль. Еще двое, не нуждаясь в освещении, поделили обязанности. Один раскупорили ящик патронов и набивал пулеметные ленты, второй чистил и смазывал оружие.
– Порядок в танковых войсках, – сообщил Андрей Ирине, – весь контингент при деле. А вы, ребята, – это уже роботам, – тоже на улице подежурьте. Особое внимание – первому фургону. Находиться рядом, слушать, наблюдать. Если с хозяйкой Ларисой что-то случится, настраивайтесь – ты на скорую медицинскую помощь с уклоном в психиатрию, ты – на противодействие неизвестной угрозе извне, как бы она ни выглядела. И срочно поднимайте меня. Все понятно?
– Так точно. Неизвестная угроза – какого рода? – спросил как раз Джонсон, имеющий опыт работы в паре с Новиковым.
– Тебя что – из Урюпинска призывали? Если бы я знал – непременно объяснил. Угроза – все, что не связано со знакомыми тебе людьми, а также профессором Удолиным. От атмосферных явлений до появления привидений. Совсем просто – все, что выходит за пределы нынешней обстановки. Дошло?
– Так точно, дошло.
– Но и меру знай, – вставила Ирина, – а то таракан неизвестного науке вида на поляну приползет, устроишь тут боевую тревогу…
– Я понял, хозяйка. Без крайней необходимости мы вас тревожить не станем.
И тут же тропический дождь снова припустил. Не настоящим ливнем, просто очень сильно. Андрей с Ириной забрались внутрь фургона. Хорошо все же, когда имеется такое укрытие. От облучка и переднего отделения, где осталось оружие, их отделял еще один, внутренний полог. Защелкнув его боковые и нижние стальные застежки (гораздо надежнее, чем «молнии» или «липучки), они тоже ощутили себя хоть на час-другой, но изолированными от внешнего мира. Да ведь и вправду. Дождь и ветер тент не пробьет, пули – тоже. Верный Джонсон не позволит даже Левашову внезапно нарушить их покой.
– Так я слушаю, – сказал Андрей, поудобнее устраиваясь на боковом диване-рундуке.
– Сейчас, – ответила Ирина. Она с долей удивления прислушивалась к себе. Еще во время рассказа Ларисы о «сексуальной агрессии» дуггуров почувствовала, что воспринимает тщательно передаваемые подробности слишком эмоционально. И слишком детально. Вообразив Ларису в объятиях тех прекрасных мужчин-ангелов, тут же подставила на ее место себя. И подумала, что – не выдержала бы искушения. Даже в пересказе, далеко от места событий, до нее дошел мастерски подготовленный «волновой пакет» информации, бьющей непосредственно в соответствующие мозговые центры.
Но если у Ларисы нашелся противовес в виде страха, ненависти, отвращения к своему прошлому, то у Ирины его не было. Наоборот, весь ее прошлый опыт был исключительно положительным. Что девические воспоминания о их первой любви с Новиковым, что зрелые – о второй к нему же. Свое недолгое замужество она как бы выводила за скобки – проходной эпизод, но несколько необременительных связей (для пользы дела и собственного удовольствия), которые у нее были до новой встречи с Андреем, оставили самые приятные воспоминания.
И все эти детали и подробности вдруг разом хлынули наружу из памяти и подсознания. Ее накрыло так… Что-то в этом роде она испытывала, когда Новиков по молодости лет и в виде шутки испытал на ней действие одного из препаратов Шульгина. Ни самоконтроля, ни стыда – одна лишь темная, нерассуждающая, первобытная жажда наслаждения.
– Сейчас, подожди, – срывающимся шепотом сказала она, торопливо раздеваясь. Дрожащими пальцами расстегивала пуговицы и пряжки, отбрасывала в угол джинсы, куртку, рубашку, все остальное.
– И ты тоже, быстрее… – бросила она Андрею, нащупывая замок между лопатками. Сначала он не понял, что происходит, потом ее настрой передался и ему. Да и ничего странного – картина уж больно романтическая! Стриптиз под шум ливня и в свете слабенькой аккумуляторной лампочки. Да исполняет его не холодная профессионалка, а охваченная настоящей безудержной страстью красивая женщина. Такое заведет кого угодно.
«Как хорошо, что мне не нужно сопротивляться и есть он», – мельком успела подумать Ирина, сжимая пальцами плечи Новикова. Шумно и прерывисто дыша, подставила ему грудь для поцелуев.
– Ну и что сия прелюдия обозначает? – спросил Андрей, когда Ирина выложилась полностью, измученная, как после приступа малярии. Та же слабость во всем теле, тахикардия и прочие симптомы.
– Подожди…
Она выпрямилась, держась за дугу тента, распахнула полог, спрыгнула в густую мокрую траву, под теплые дождевые струи, долго плескалась в них, как под душем, постепенно приходя в себя. Со стороны это выглядело красиво. Если бы у Новикова была под руками видеокамера, он непременно заснял бы эту нимфу тропического ливня.
Теперь Ирине было очень хорошо. И немного страшно. Точно так, как после первой ночи с Андреем на берегу Плещеева озера. Одновременно она думала: «Слава богу, что кевлар тентов обладает отличной звукоизоляцией, иначе весь лагерь переполошила бы своими криками и стонами. Стыд какой, будто кошка мартовская». И еще о том, каково же сейчас Анне, если на нее рассказ Ларисы произвел такое же впечатление?
Ирина вернулась в фургон, завернулась в поданное Андреем полотенце.
– Дай чего-нибудь попить. Вина, что ли…
– Может, коньяка или виски?
– Нет, вина. Пить очень хочется.
До дна осушила кружку красного сухого. Вытерла губы, взяла сигарету.
– Так я слушаю, – напомнил Новиков.
– Ларка, похоже, опасную заразу с собой принесла.
И передала Андрею суть ее рассказа и собственные соображения на этот счет.
– Однако, – протянул он. – Без Удолина нам опять не разобраться. Не мой профиль. Но это, по крайней мере, лучше, чем моя депрессия…
– Как посмотреть. Ей могли всадить весь комплект… Ларису, по ее словам, продержали там сутки. Если за первые полчаса «знакомства» эти ангелы настолько проникли в ее психику, так что могли узнать и сделать потом? В стационарных условиях.
Новиков представил.
– Но сделать-то мы сейчас все равно ничего не можем. На деда с Сашкой вся надежда. Раз они смогли ее выручить и сюда переправить, с остальным тоже разберемся.
– А если нет?
– Если, если… Чего зря гадать? Ну, отправим девушку в карантин. В любимый Кисловодск. Светским львицам повышенный эмоциональный фон никогда не вредил…
– Да я не об этом совсем, что ты дурачком прикидываешься! Это как раз действительно не слишком страшно, а вот все остальное…
– До утра время терпит? Ну, вот и ложись. На неприятности будем реагировать по мере их поступления. Другого не остается.
Глава двадцатая
– Не нравится мне это, Константин, подозрительно… – сказал Шульгин, пошевелив носком кавалерийского сапога крайнего из дуггуров. – Может, они уже – того? Сбежали, вроде как те из Замка?
Отошел к подиуму, присел на край, предварительно сбросив ногой цветные диски, которые выглядели теперь совершенно безвредно. Но руками к ним прикасаться отчего-то не хотелось. Кто знает, из какой гадости они сделаны.
Удолин уже успел бегло осмотреть зал, известными ему способами пытаясь определить присутствие поблизости магических сил. В доступных диапазонах ничего подозрительного не прослушивалось. Но это еще ничего не значило, существа неизвестного происхождения могли использовать любое количество совершенно оригинальных разработок. Он даже в сути исходившей от дисков эманации не успел разобраться, а Лариса ее как-то воспринимала…
– Не сбежали. Их я как раз чувствую, разве что слегка слабее, чем раньше. Альфа-ритмы те же, что были в активном состоянии. Это у них вроде искусственной комы, мне кажется. Есть такие виды живых существ, что при опасности прикидываются мертвыми, даже трупное окоченение имитируют с помощью каталепсии.
– Жалко, дефибриллятора у меня нет, я бы им показал каталепсию, – со злостью сказал Шульгин. – А химию использовать боюсь, черт знает, что у них за метаболизм. Ладно, мы сейчас подручными средствами попробуем реанимацию организовать. Настройся, Константин Васильевич, следи за реакцией…
Он присел на корточки рядом с пленником, который, по его расчетам, пострадал меньше других. По крайней мере, телесных повреждений на нем не наблюдалось. Достал из кармана зажигалку и поднес огонек к одной из известных мастерам иглоукалывания точек.
– Есть! – воскликнул Удолин. – Отчетливый всплеск. Похоже, он вообще в сознании…
– Ну, тем лучше. Он ведь, гад, понимает по-русски – так пусть внимательно слушает. А ты, для верности, транслируй ему эмоциональный смысл моей декларации о намерениях…
Сашкино лицо приобрело мрачную сосредоточенность.
– Мне некогда с тобой возиться, – ровно и отчетливо заговорил он, обращаясь к дуггуру, – я очень не люблю, когда обижают моих друзей, да и пытаются сделать дурака из меня. Или ты сейчас очнешься, или я начну перебирать все известные у нас болевые точки. Если ты не человек, придется повозиться немного дольше. Но я тебя все равно достану. Умрешь – примусь за следующего, с учетом накопленного опыта. Пока не доказано, что ты человек, принципы гуманизма на тебя не распространяются…
В подтверждение своих слов Шульгин раскрыл коробочку с дюжиной шприц-тюбиков. Сдернул с одного иголку и, прицелившись, вонзил дуггуру в шею немного ниже основания черепа.
Раздался пронзительный вопль, испытуемый судорожно выгнулся, завозил по полу связанными ногами, открыл глаза.
– Вот и хорошо. – Сашка с облегчением выдернул иглу, вытер ее о хитон дуггура, спрятал в футляр.
– По-русски говорить будем или как?
– Он сейчас очень громко кричит в ментадиапазоне, – сообщил Удолин, – призывает своих…
– Этих или других? – указал Шульгин пальцем на остальных, по-прежнему изображающих безжизненность.
– Не могу ответить. Но надеюсь, что сквозь защиту его крик не пробьется. Я опять немного перенастроил фазу, с учетом возрастающей нагрузки.
Шульгин несильно, но хлестко ударил очнувшегося по щеке.
– Передай этим придуркам, чтобы тоже кончали ваньку валять, а то начну будить каждого по очереди… Тем же способом. И на помощь не надейтесь, не успеет. Только от меня зависит, уйдете отсюда своими ногами или тут насовсем останетесь.
Дуггур залопотал что-то бессвязное.
– Переведи ему, Константин: или пусть на русский переходит, или опять будет больно.
– Мастер ты своего дела, Саша, – прищелкнул языком Удолин. – Я помню, как ты при мне Агранова пригибал.
– Не из той оперы. Про таких, как Агранов, я все знал: характер, биографию, желания, страхи и предрассудки. Понимал, чем сломать, чем купить. А сейчас чего хвалиться – даже не понимаю, личность он или ячейка коллективного разума? Ну, попал ему в нервный узел, сделал больно, а дальше? Пока ничего не вижу, кроме инстинктивной реакции. Но как-то же они с Ларисой общались, и между собой тоже? Работали с ней с использованием высоких технологий. – Он указал на приборы и валяющиеся рядом диски. – Постарайся, достань их, а то, боюсь, они нас достанут…
– Что-то в твоих словах есть, попробуем…
Пока профессор напрягал магические силы, Шульгин пытался выстроить собственную мыслеформу, в которой пленники, осознав безнадежность своего положения, проявляют добросовестную готовность к сотрудничеству.
У кого получилось лучше и раньше, сказать трудно, однако лежащие вповалку дуггуры начали приходить в себя, их общий мыслефон стал гармонизироваться.
– Сейчас, сейчас, – бормотал под нос Удолин, выстраивая для себя новую систему зависимости и соподчиненности чужих биоритмов.
Тот пленник, что лежал всередине, самый крупный из всех, поднял голову.
– Развяжите меня, – сказал он вполне отчетливо, в звуковом диапазоне.
– Можно, – кивнул Сашка, внимательно рассматривая взведенный пистолет и не глядя на дуггура. Много чести, если исходить из древнефеодальных мерок. Не общаться же с ним, как с военнопленным офицером европейской армии. – Если вздумаешь дергаться – я тебе для начала колени прострелю и все равно заставлю говорить. Так что сам выбирай. Не мы первые начали… Константин Васильевич, руки ему освободи.
– Подвинься вот сюда, – показал Шульгин стволом на пол в двух метрах перед собой. – Руки держать за спиной. И начнем с самого начала. Имя, должность, воинское звание…
Дуггур, похоже, не понял своеобразного юмора.
– Тупой, значит. А туда же… Давай проще. Кто ты такой, откуда здесь взялся, что делаешь?
– Мы – исследовательский отряд… – Дальше последовало несколько невоспроизводимых слов. Даже дагонский язык для нормального человека абсолютно недоступен, если не изучать его с младенчества, но этот был еще более чужд. Хотя вряд ли в подобном случае применимы сравнительные степени. Подобные звуки в африканских лесах издают некоторые птицы. Слыша их скрипы, трески и скрежет, невозможно поверить, что они состоят в родстве со среднерусским соловьем.
– А если понятнее?
– В вашей памяти не содержится таких понятий…
– Видишь, Константин, – с обиженной миной на лице сказал Шульгин, – вокруг сплошные телепаты, экстрасенсы… И что прикажешь делать обычному человеку? Но мы все-таки попробуем. Не мытьем, так катанием. Нам деваться некуда, ему – тем более.
– Им, – уточнил Удолин. – Это действительно рассредоточенный разум. Ты оказался прав. Поразительно! Допустим, пятерка – низшая таксономическая единица, и они могут объединяться для решения определенных задач. Очень может быть – до бесконечности. Одна особь группы исполняет функции лидера, координатора, остальные тоже имеют каждый свои обязанности, а в комплекте – полноценная личность.
– Чего тут поразительного? У фантастов подобное встречалось, неоднократно. А уж армейские боевые структуры все на такой идее построены. С точки зрения комбата, отделение и даже взвод индивидуальности не имеют. Для командарма и полк – только номер. В лучшем случае фамилию командира краем уха слышал.
Насчет дуггуров я о такой хреновине еще в Испании догадался. Для чего, думаю, их целый десяток за рядовым боем наблюдать приперся? Одного-двух за глаза хватило бы. Теперь понятно – их и было фактически двое. Две пятерки. Короче, зацепка у нас есть. Перекурим – и займемся вплотную. Конкретностями. Мы не антропологи, мы фронтовые разведчики. Нам нужно по нынешнему факту разобраться, и как можно быстрее.
– Выпить тоже можно, – сказал Удолин. – Мне опять в запредел выходить придется. – Он встряхнул фляжкой возле уха.
Разговорить пленников в конце концов удалось. Трудная была задача, не технически – интеллектуально. В основном для профессора. Ему пришлось напрячь свои способности до предела, чтобы в то время, как Шульгин вел обычный допрос, держать под контролем мгновенно восстановившуюся между членами пятерки информационно-эмоциональную связь. Прямую и обратную, положительную и отрицательную. Ни Сашка, ни Удолин не были специалистами по кибернетике, и разобраться в сути и смысле возникающих, прерывающихся, непрерывно переформатирующихся ментальных цепочек, конечно, не могли. Константин Васильевич в основном сосредоточился на контроле за внутренней достоверностью ответов, которые давал лидер, и готовился пресекать импульсы агрессии, если они вдруг обнаружаться.
Трудность положения Шульгина заключалась в том, что он просто плохо представлял, о чем и как нужно спрашивать. Он ведь не знал даже того, что рассказала после своего возвращения Лариса. Если бы она была здесь, дело пошло бы куда лучше, но что толку горевать о невозможном? Хорошо бы, конечно, склонить пленника к сотрудничеству, убедить его отнестись к землянам, как к нормальным партнерам. Но как раз этот вариант, по мнению Удолина, полностью исключался. Люди, причем именно эти люди, воспринимались дуггурами как безусловные антагонисты, соглашение с которыми невозможно принципиально. О чем могут договариваться муравьи из враждебных кланов? У них и биологических возможностей для этого нет. Только война на уничтожение.
Гуманоиды, оснащенные полноценным мозгом, конечно, не муравьи с их нервными ганглиями, и кое-какое общение между ними возможно, при всем несходстве убеждений и характеров. Дуггур, например, очень боялся боли, почему и согласился говорить с Шульгиным. Но ни о какой лояльности не могло быть и речи, если он мог соврать без явной для себя опасности, то непременно так и делал.
До многих вещей приходилось доходить по аналогиям, обходными путями, и ценность полученной информации была сомнительна. Хорошо, если хоть наполовину она соответствовала действительности. Масса подробностей осталась непроясненной, но все же результат был. Строго по Наполеону – «тридцать процентов расчета – очень хорошо, остальное оставим на волю случая».
Зато все последние события еще подтвердили, что индивидуальный разум в нестандартных ситуациях эффективнее коллективного. Иначе не Шульгин бы дуггура допрашивал, а наоборот.
Главное – исходная установка Удолина была верна, и экспедиция не напрасна. Здешние дагоны действительно оказались ключом к загадке дуггуров. Пригодились и ментаграммы, записанные профессором через Новикова и Шульгина на Валгалле. Их долбали страшными психическими ударами, а он записывал, контролируя самый предел их выдержки. Как им было больно – может, и понимал, но оставлял за скобками главной задачи.
Старшина пятерки сообщил, что наблюдательная станция, ныне захваченная землянами, существует в толще скал с незапамятных времен. Может, тысячу лет, может – десять. Точнее установить не удалось, компаративную[106] временную шкалу выстраивать было некогда и пока незачем. Организовали ее «отделившиеся», как можно перевести самоназвание, звучавшее в мозгу пленника(ов), достигнув подходящего технологического (и не только) уровня. Исключительно, по их словам, в познавательных целях. Якобы – без всяких экспансионистских или агрессивных целей. Собственной планеты им хватало с избытком, жили они там изобильно и счастливо.
Но судьба менее удачливых «родственников» их живо занимала. Примерно так, как земных этологов[107] интересует образ жизни орангутангов острова Борнео.
На той мировой линии, где обосновались дуггуры, геология, география и прочие «логии» и «графии», не зависящие от воли обитателей, были идентичны здешним. Там существовали те же природные хроногенераторы, возникшие вокруг массивных скоплений золота и трансурановых элементов, в просторечии – тоннели бокового времени. Естественно – в тех самых местах. Местные дагоны использовали их просто как укрытия и способ продления жизни, «отделившиеся» – по назначению, как прямой и удобный путь между мирами.
Шульгина история вопроса интересовала в гораздо меньшей степени, чем текущие события.
– Как вы узнали о нашем появлении, зачем похитили нашу девушку и что с ней здесь делали?
Об экспедиции необычных землян дуггуры узнали сразу, как только она вошла в контролируемую зону. До того они триста с лишним лет, с момента начала освоения Африки белыми поселенцами и колонизаторами, принимали достаточные меры, чтобы не допускать посторонних в свой «заповедник».
Существование технологической цивилизации землян за пределами окрестностей тоннеля их отчего-то совсем не интересовало. В общем, ничего странного, если отвлечься от стереотипов антропоцентризма. Это человеку (причем – европейцу) болезненно интересны все детали и явления окружающего мира. А, скажем, горцы Кавказа за всю свою историю никогда не поднимались выше границы альпийских лугов. Ну, Эльбрус и Эльбрус, чего ради на него карабкаться? Снега не видели?
На Эверест, незнамо для чего, кроме любопытства, только в 1953 году героически взошел Э. Хиллари, а за ним полезли, и продолжают лезть тысячи других дураков (с точки зрения нормальных обитателей Тибета), регулярно при этом погибая. Туризм познавательный – явление того же порядка. Вообразите себе самурая эпохи сегунов, который решил бы в паузе между феодальными разборками, на честно заработанные мешки риса[108] прокатиться на гавайские пляжи, рассеяться и позагорать.
Дуггуры в этом смысле оказались еще более последовательно-консервативными. Им человеческие наука и техника были интересны не больше, чем обитателям муравейника соседняя железнодорожная станция. Вот биологические объекты – высших обезьян и пребывающих в первобытном состоянии туземцев – они к себе забирали, в качестве генетического материала.
Шульгину стала понятна суета дуггуров на базе Таорэры. Именно генетический материал, первосортный, неизвестным и, наверное, неведомым для них способом модифицированный, был целью десанта. Правильно он с ребятами поступил, ликвидировав эту банду. Но это ведь случилось на много лет позже нынешнего момента?!
– Ну, а за каким хреном мы вам понадобились? – Шульгин был уверен, что грубые слова понятнее допрашиваемому, чем деликатные. Для того и придуманы. – Мы как раз из технократов. Умственно и генетически от англичан и прочих колонизаторов не отличаемся. Вас мы не трогали. Пришли, с дагонами пообщались в научных целях и уехали бы восвояси… А теперь? Амбец вашей лавочке! Слишком грубо вы подставились! Теперь, если не сдадитесь, перебьем к такой-то матери. Мы – умеем.
Из ответа дуггура следовало, что расшифрованными они себя сочли с момента появления людей в дагонском предполье. Если пришельцы сумели разыскать это уединенное место, проявили способность к мыслеречи и невосприимчивость к смертельным для всего живому излучениям, а вдобавок прямо спросили о генетической и исторической связи дагонов и дуггуров – как это понимать, как не начало агрессии?
– При чем здесь агрессия? Мы думали – сумеем встретиться, наладить контакт, поговорить о взаимной пользе контакта интересных цивилизаций.
Дуггуры к такому способу взаимоотношений были не готовы. Зато, непонятным образом за несколько часов сориентировались, изучили русский язык и спланировали достаточно сложную операцию по захвату Ларисы.
– Она-то вам зачем понадобилась? Брали бы меня или моего товарища. И противник опаснее, и собеседник квалифицированнее. – Шульгин, посмеиваясь, опять закурил, пуская дым в лицо подследственному. Удолин пребывал в полутрансе, сканируя окружающие мыслесферы.
– Саша, – вдруг сказал профессор по-немецки, в расчете, что дуггур не поймет, а если и уловит смысл, то не сразу. – Сдается мне, он не зря так разболтался. Похоже, время тянет. На помощь очень надеется…
– Пусть тянет. Знакомая манера. Одни болтают, просто чтобы смерть немного оттянуть, другие – в надежде на благоприятный поворот… Очень полезное свойство – для нас. Ты-то как – прикроешь, если вправду начнется? Или прямо сейчас сматываемся?
– Поговори еще с ним, поговори, я начеку. Но ты тоже соберись…
– Тут – будь спок, – Сашка снова перешел на русский, – пока ты сможешь защиту держать, я этих за две секунды всех перещелкаю, и базу взорву к едреной матери. Да прямо сейчас и начну… Ты меня понял? – обратился он к дуггуру. – Если вздумаете сбежать или земляки твои начнут зал штурмовать, я первым делом кончаю вас… – Сашка многозначительно крутнул пистолет спусковой скобой вокруг пальца, как он любил в моменты веселого азарта. – И вот это. – Он достал две гранаты, подкинул на ладони. – Какой из ваших аппаратов наиболее ценен? Туда и положу.
Он безразлично посмотрел на остатки конструкции с дисками, под которыми держали Ларису, на колонку, которой этой штукой вроде бы управляли.
– Может – сюда? Кстати, ты не ответил на вопрос, а я такого не люблю. Могу опять сделать больно. Зачем вы утащили Ларису?
С этими словами он обошел установку, сделал вид, что пристраивает гранаты к ее основанию, ловко спрятав их обратно в карманы. И потянул за собой бечевку, будто подрывной шнур.
– Вот дерну – и нету! Так зачем?
– Мы никого не похищали. Она пошла добровольно. Мы просто позвали. Ее мысли показались самыми интересными. Она услышала и пошла. Другие люди не услышали…
Шульгин подумал, что это может быть правдой. Их с Новиковым снаружи не было. Остальные действительно могли не услышать. А Лариса, оказывается, имела задатки к ментальной связи. Сначала уловила призыв этих, потом опомнилась, сумела позвать на помощь…
– Добровольно пошла и добровольно сидела вот здесь? – Он ткнул пальцем в подиум. – Что вы с ней делали?
– Учили ее нашему языку и старались лучше понять ваши намерения.
– Ну и как? Много поняли?
– Мало, – честно признался дуггур. – Она не хотела думать, как ее просили.
– Просили? – Сашка замахнулся рукой с пистолетом, но в последний момент сдержал удар, которым мог бы раздробить пленнику челюсть. – О чем просили?
– Рассказать, как вы сумели уничтожить нашу экспедицию на другую планету, наших боевых слуг в далеких отсюда городах, не сейчас, в другом времени…
– Мы? – удивился Шульгин. «Однако хреново, – мысленно присвистнул он. – Вот вам и укромный девятнадцатый век. Мы только-только сюда добрались, а нас уже ждут, чтобы предъяву за будущие разборки сделать».
– Ты и другие люди, умеющие думать, как ты. Нам сообщили – люди, убивающие «отделившихся», уничтожающие «перевозящие организмы» («медуз», догадался Шульгин), против которых бессильны «помощники», пришли к нам, чтобы захватить и уничтожить. Нас, станцию, дагонов тоже. Эти, «владеющие речью», могучи и беспощадны. Нужно узнать, в чем их сила, овладеть ею раньше, чем они через пещеры вторгнутся в наши пределы… Говорить с женщиной и держать ее у нас, пока вы все не придете по ее следу… Вы и пришли.
Слова, несмотря на недостаточность словарного запаса дуггура и его эмоциональную тупость, прозвучали очень неприятно. Зловеще-торжествующе, что ли?
«Кажется, пора сворачивать лавочку, – подумал Сашка. – Залезаем в дебри, не мне в них разбираться. И времени все меньше. Если у них прямая связь с теми…» Что с допросом они заигрались и вот-вот их с Удолиным могут прищучить, его интуиция прямо-таки кричала. Как сигналы боевой, пожарной и водяной тревоги на ведущем бой крейсере.
– Васильич, что-то не то! – выкрикнул он. – Смотри! Держи…
И все же они опоздали. Несмотря на уверенность Удолина, его защиту пробили, разорвали, будто бумажные двери японского дома. По обе стороны зала каменные стены раздвинулись, открывая широкие, как в вагонном депо, ворота. В них хлынуло не меньше двух десятков существ. Не монстров, по счастью, с теми справиться не было бы никакой надежды. К Шульгину мчались непонятные, промежуточные экземпляры. Похожие и на дагонов, и на «элоев», и слегка на обыкновенных шимпанзе. Низкорослые, темнокожие, длиннорукие, взамен легких хитонов туго обмотанные грязно-желтыми тряпками от шеи до колен. И – без оружия. Ни митральез, ни даже ножей.
«Бойцы, мать вашу! Живьем брать собрались, паскуды!» – краем сознания пролетела мысль. Чем-то эти «боевые особи» напомнили ему японских солдат из кинохроник по войну на Тихом океане.
– Лови! – рявкнул он Удолину, отшвыривая к нему дуггура. – Проход давай, проход, долго не продержусь!
Профессор, хотя и заявлял, что драться с детства не умеет, очень грамотно ударил пленника костистым кулаком в солнечной сплетение и поволок обмякшее тело в ту сторону, откуда они с Шульгиным пришли..
Секунда из отпущенного Сашке времени кончилась. Вторую он потратил на то, чтобы отпрыгнуть за подиум – какая-никакая, а защита – и вскинуть пистолет.
Если те, что появились в зале – весь боевой контингент неприятеля, так это ерунда. Но он не верил, что – весь! Скорее это мелочь, пехота, ударные силы подтянутся чуть позже. Как там написано в учебнике генерала Колюбакина? «Общий резерв предназначается для нанесения решающего удара». Но ведь и мы сюда не прогуляться вышли! Вы нас боитесь, панически боитесь, при всех своих запредельных способностях! Вот и сидели бы дома, радуясь бессмысленной, на наш вкус, жизни. Муравейник? Муравейники горят! Человек – он все может: спичку бросить, бензинчику плеснуть. Мы вас не трогали. Сами начали – не обессудьте!
Что-то он кричал вслух, что-то мысленно и с десяти шагов, как на самой смертельной из дуэлей, начал стрелять.
Нет, ну какие идиоты! Они что, не помнят поражающего действия человеческого огнестрельного оружия? Было время, в далекой молодости, Сашка демонстрировал офицерам на Хабаровском стрельбище возможности простого «ПМ». За три секунды разряжал обойму по поворотным мишеням, и все в голову.
Первый ряд атакующих он уложил наповал. Рукой нужно двигать по горизонту очень быстро – и порядок! Отскочил, отбросил ударом ноги опасно вырвавшегося вперед мини-монстра, в лице и глазах которого отсутствовал даже легкий признак разума, воткнул в рукоятку второй магазин.
«Третий – не успею», – это он чувствовал. Гранаты кидать – не в этом положении: себе дороже выйдет. Зато у левого колена отличный штык-нож. Чуть короче римского гладиуса, но острый, как золингеновская «опасная бритва».
– Константин, что там? – закричал Шульгин и снова выстрелил. – Уходим? – Три встречных удара ногой, пистолетом, ножом. – Щас достреляю, гранаты рвану…
На него навалились. Воняющие не людским потом, чем-то совсем не похожим, распаренным хитином, что ли? Верещали, цеплялись когтями за одежду, за лицо, за руки.
Хорошо, что каждый по отдельности весил не больше трех пудов. Сашка сбрасывал их с плеч, ломая руки и шейные позвонки. Махал штыком, стараясь попасть по глазам и по горлу. Вернее будет…
Был момент, когда его совсем завалили, он упал на колени. Рыча от ярости, несколько раз снизу вверх воткнул острие клинка в мягкое, снова выпрямился. Но патроны в «Браунинге» берег до последнего. Сколько их осталось? Девять, восемь? Не важно. Вырваться бы сейчас – сумеет достать еще один «Хай пауэр», из внутреннего кармана куртки. Черт, пуговиц не расстегнуть! Тогда ножом вдоль резануть, сам выпадет.
Штук пять особей, сохранивших способность к активным действиям, бесстрашных и цепких, как «огненные муравьи», разлетелись по сторонам. Легкие для такого боя, слишком легкие. Просчитались, сволочи, монстров не подтянули!
А из глубины открытых коридоров с топотом набегали новые, такие же мелкие, слава тебе, Господи. Но и с ними ему, похоже, не справиться, силы и боевые возможности иссякали катастрофически.
Однако ниндзя он или не ниндзя?
Решение пришло само собой, быстрее, чем оформилось в мысль.
Выхаркнув неизвестно откуда заполнившую рот кровь (когда ударили по зубам, он не заметил), Шульгин рванулся в сторону, на ходу сунул штык в ножны, разрядил последние патроны в толпу, следом и пистолет швырнул, на манер бумеранга. Освободив руки, оттолкнулся от идущего вдоль стены дугообразного выступа, в броске зацепился за подобие карниза. Подтянулся, нащупал следующую опорную точку. На его счастье, стены изобиловали неровностями, пазами и выемками, искусственными и естественными.
«Монстрики» на какое-то время потеряли его из вида. Сашкин маневр был слишком стремителен, да они к тому же не подозревали о способности людей бегать по стенам и потолкам.
Ощутив себя в относительной безопасности, Шульгин, как бросал последнюю ставку на зеленый стол, швырнул вниз свои гранаты. В самую гущу толпы цвета хаки. Гранаты были поставлены «на удар». И оболочки имели вдвое массивнее, чем у знаменитой «Ф-1». Рвануло славно! Большая часть убойных осколков пошла веером вдоль пола. Очень удачно, что он оказался каменным: отразил силу взрывов в нужном направлении. Грохот, вспышки, вонь взрывчатки, верещание рикошетов, пробивающие навылет хрупкие тела керамические осколки – весь комплект шокирующих факторов. Если учесть, что убитый или тяжело раненный лидер отключал всю свою пятерку, то наступать оказалось некому. Покойников пусть сами считают, но даже навскидку было видно, что их очень много.
Старший координатор всей этой шайки, если он вообще имелся, решил, наверное, перегруппировать свои силы. Откуда ему было знать, что страшный противник исчерпал свои боевые возможности? Пистолет с двумя обоймами – все, что у него осталось.
Уцелевшие «солдаты» так же торопливо скрывались в тоннелях, не проявив желания подобрать убитых и раненых. Все верно – что большие монстры, что эти – никак не реагировали на потери. Только чья-то высшая воля могла приказать им выйти из боя, а сами они сражались до победы или до последнего бойца.
– Саша, ко мне, уходим! – сквозь звон в ушах разобрал Шульгин голос Удолина. Нашел его глазами, еще несколько метров проскользил под потолком, затем спрыгнул, ударившись ногами, как парашютист.
– Сюда, – указал профессор на очередной проем в стене. Потусторонний переход он отчего-то не использовал. Наверное, не хотел бросать «языка», а на перемещение двоих, как раньше предупредил, сил у него не было.
Сашка прикрывал отход, держа почти бесполезный пистолет на изготовку до тех пор, пока за его спиной не вспыхнуло нормальное земное солнце, сиявшее на нормальном синем небе, покрытом белоснежными кучевыми облаками.
Они выбрались на поляну. Скалы бесшумно сдвинулись, отрезая людей от жутковатого «муравейника».
– Ну, бля… – Пляшущими руками Шульгин прикуривал. Дрожь била его не от страха, так мышцы реагировали на сверхскорость и перенапряжение. Сел на траву, вытянул ноги.
– Прошли через одну смерть, чтобы чуть-чуть не схватить другую… И на хрена мне такие варианты? – риторически спросил он Удолина.
– Судьба вынуждает человека ко многим добровольным поступкам, – туманно ответил тот, садясь рядом. Раскрыл собственный портсигар.
Пленнику Удолин велел лечь напротив, ничком, заложить руки за спину.
– И что теперь станем делать? Они там соберутся с силами, устроят вылазку. Не отобьемся.
– Сколько-то времени не устроят. Я на замок их ворот свое заклятие наложил. По-вашему выражаясь, перемкнул управляющую цепь на себя. Чтобы код расшифровать, не один день понадобится.
– Ну-ну! Ты совсем недавно был уверен, что там тоже надежную защиту поставил…
– Не рассчитал немного. Но теперь я учел ошибку и нарастил мощь.
– А если они с другой стороны на своих тарелках налетят? Чьи следы мы на поляне видели…
Удолин пожал плечами, но с таким видом, будто не считал проблему заслуживающей внимания.
– Где мы, кстати? – поинтересовался Сашка, решив положиться на профессора. Выбора и так и так нет.
– Где-то в Африке…
– Острить взялся?
– Координаты не знаю. Примерно в семидесяти километрах от вашего лагеря.
– Вот черт, за сутки едва-едва успеем. Ты напрямик туда можешь нас переправить?
– Пока нет. Если очень нужно будет, сделаем, конечно, но через Валгаллу. Иначе не получится. Не в той я форме…
– Неладно. Пешком то ли дойдем, то ли нет. Не верю я, что они нас выпустят. А этого тащить… – Шульгин разочарованно махнул рукой.
– Из меня пешеход тоже никакой. Да и не собираюсь я по джунглям марш-броски устраивать. Отдыхай пока, скоро с комфортом поедем.
Сашке было лень выведывать у хитрого старика подробности. Говорит – значит, знает. Остальное увидим по мере развития событий.
Тот сам начал объяснять, как всегда – многословно.
Сообщил, что задачу можно считать выполненной. Важный «язык» захвачен и несомненно даст нужные показания. Рано или поздно. База почти разгромлена, ликвидировать ее окончательно – дело нескольких минут.
– Вот этим, что ли? – Шульгин подкинул на ладони пистолет. – Мне бы тола килограммов полста, тогда конечно…
– Все будет, – отмахнулся Удолин и продолжил.
«Языка» он назвал важным по той причине, что, во-первых, в качестве лидера пятерки он является хранителем и анализатором информации, а во-вторых – не совсем тот, за кого себя выдает.
– Он не здешний, он – из вашего времени. Потому и охоту на Ларису возглавил, и русский знает. Это я только-только начал в его мозгах копаться, а там наверняка много еще интересного содержится.
– Именно. Я обычно оговорок не допускаю. Сказал ведь – он контролирует четыре мозга своих напарников и связан минимум с пятью подобными себе лидерами… И так далее.
– Зеркало отражается в зеркале, – уловил суть Сашка.
– Так точно. Этот недоумок допустил колоссальную ошибку – слишком уверовал, что его непременно выручат, а нас они посадят на место Ларисы. И не озаботился защитой своих ментаграмм. Считай, сам выложил передо мной все коды, пароли, явки, как у вас говорят. Да трудно его осуждать – опыта общения с такими, как ты и я, у них никакого… Они, можно сказать, делают только первые шаги в контактах с индивидуальным разумом. Вроде как японцы при встрече с американцами и европейцами до революции Мэйдзи. И, очень опасаюсь, смогут обучиться всему, что им потребуется, достаточно быстро. Наша задача, вернее – человечества в нашем лице, этого не допустить. Иначе будет нам и Порт-Артур, и Цусима, и Перл-Харбор…
– А им – Хиросима?
– Я же говорю – придавить в зародыше…
– Не нравится мне…
– Все не нравится. Стоило сбегать за тридевять времен, чтобы начинать по новой…
– Вы сбежали, насколько мне известно, чтобы пресечь возможную агрессию дуггуров в тридцать восьмой и последующие годы. Так считай, что это уже сделано. Несколько мелких штрихов осталось. Завершающих.
Шульгин встал, обернулся и сразу увидел позади, на камнях, жирный, наотмашь нарисованный косой крест. Нагнулся, понюхал. Уж запах губной помады он ни с чем не спутает. А вот, неподалеку, и сам тюбик валяется.
– Смотри, Константин…
– Угу, угу. – Удолин снял пальцем розовый, с перламутровым проблеском мазок. – Сомнений нет. Здесь она вошла, здесь и мы вышли. Ну, молодец девочка! До последнего сохраняла самообладание. Умеете вы подруг себе выбирать… – В голосе профессора прозвучал намек на зависть.
Сашка, пристально глядя под ноги, зигзагом пошел по поляне, разбирая на прибитой недавним дождем траве намеки на следы, пока не увидел на фоне густой зелени куста серебристый блеск. Кулон, неоднократно виденный на загорелой груди Ларисы. Он снял его и спрятал в карман рубашки.
«Доживу, точно выкуп потребую».
– Дай-ка твою фляжку, – попросил он Константина. Сам не дурак выпить, Шульгин часто оказывался без запаса живительной влаги в самый нужный момент. Каждый раз в острые моменты было не до того. Удолин же всегда был «вооружен». Поскольку жизни в ином качестве не мыслил.
– Держи. И мне немного оставь. Ждать уже недолго, дома отдохнем как следует. В ресторан хороший закатиться, что ли?
– Чего ждать, скажешь, наконец?
– Сам увидишь. – Удолину нравилось его дразнить.
Шульгин подумал: уж не летающую ли тарелку собирается вызвать Удолин? Почему бы и нет, если все пароли узнал. Дуггура за рычаги посадит. Возвращение к своим выглядело бы триумфально.
Ну, подождем.
– Так ты говоришь, дело сделано? Уточни.
Пленник лежал мордой вниз, не подавая признаков активности. Ни малейшего движения. Снова в каталепсию впал, что ли? Сашка толкнул его ногой. Тот дернулся, вывернув шею, зыркнул одним глазом.
– Живой, сволочь, – удовлетворенно отметил Шульгин. – Вот и лежи. Так что там у нас, Константин Василич?
– Видишь ли, Александр, настолько интересно все получается, что я и не знаю, верить или не верить…
– Это он тебе диктует?
– Почему диктует? Я его просто зондирую все время. Он не может связаться ни с кем из своих, входы и выходы я обрубил, потому вся информация идет мне. Такое свойство их организма. Полезное для нас, между прочим. Молчать, в нашем понимании, они не умеют. Все время нужно с кем-то обмениваться. Если я настроился на волну – делится со мной…
– И чем же?
– Видишь ли… Помнишь старинный символ – змея, кусающая свой хвост? У нас/у них получается то же самое. Сначала дуггуры обнаружили на Земле аггриан. По причине совсем чуждого ментального излучения. Три миллиарда людей ничем особенным для них не выделялись, а два десятка посторонних – сразу учуяли. На Юрия они вышли. Это, наверное, была первая попытка контакта с инопланетным разумом. Силовым путем не получилось – стали осторожнее. Выжидали, наблюдали. Спешить ведь некуда. «Для вас века, для нас единый миг», как писал господин Блок. Но занимал этот феномен их невероятно. Долго ли, коротко – до Валгаллы-Таорэры добрались. Что ты удивляешься? Вы втроем сумели, подручными средствами, а тут вся мощь древней цивилизации. Шли по следу. Они ж такие: возьмутся – не отступят, невзирая на смысл деятельности и неограниченные потери.
Ты на другое обрати внимание – сначала они туда проникли. До того, как на Земле активную работу начали. Обнаружили покинутую аггрианскую станцию и немедленно начали ее эвакуировать. Грабить, попросту. Ничего, кроме контейнеров с эмбрионами, их не интересовало. Местное население, они же кванги, – действительно воспринимались в качестве пищи для «рабочих». Ничего личного. Тут на них напали вы. Да-да, именно в таком порядке! То есть последнее сражение было для них первым! Там они и зафиксировали ваши мыслеформы и характеристики. Ты понял?
– Чего не понять? Все остальное – ретроспектива? – с неподходящей моменту веселостью спросил Шульгин. Он блаженствовал, вытянувшись на траве и положив ноги на камень, выше головы.
– Совершенно верно. Техника работы с «боковым временем» у них отлажена. Система отслеживания нужных волновых характеристик в бесконечном массиве «паразитных» – тоже. Тебя они нашли в тридцать восьмом, светился очень ярко. Снова тебя, Андрея, Ирину, Сильвию – в две тысячи пятом. Факт наличия одинаковых излучений одновременно в двух параллелях их удивил, но не слишком. Отнесли к разряду эпифеноменов, свойственных новому для них миру. Они ведь такие – сначала действие, размышления потом.
– Ну, точно, как мы, – усмехнулся Шульгин.
– Вполне возможно, на этом базисе вы и пересеклись. Но я продолжу. Кроме вас, они обнаружили и Лихарева с Дайяной. Мозги аггриан, лишенных задатков Держателей, сопротивляться агрессии не смогли. Вот с их помощью, используя их знания и опыт, они решили подчинить себе Землю, пообещав Дайяне пост наместницы.
В ходе операции они потерпели очередную неудачу, для них непонятную и очень тяжелую. Несовпадение логик, что поделаешь! Попытка реванша в Барселоне тоже провалилась. Тогда они нашли гениальный, по их мнению, ход. Отследили ваше перемещение сюда – для них это, оказывается, несложно. Я когда-то говорил Агранову, что любой человек может из третьего измерения видеть двухмерную карту мира. Но лишь некоторые – трехмерную из четвертого. Эти – умеют. Лучше нас. Лучше Замка. Так что от них вы никуда не делись. В реальной жизни, чтобы потеряться, достаточно перебраться из Москвы в Тюмень, никому об этом не сказав. А если на карте переставить флажок с одной точки на другую?
– Да все понятно, не распотякивай…
Удолин обиженно поджал губы. Он не любил, когда прерывали высокий полет его мысли.
– На этом и все. Они нашли вас, и дагоны тут совершенно ни при чем. Точнее, при чем, поскольку вы к дагонам сами явились, весьма облегчив дуггурам задачу. Создали удачные обстоятельства, чтобы взять вас голыми руками.
«А кто нас к дуггурам послал?» – хотел спросить Шульгин, но промолчал. Ни к чему обострять…
– В бой с вами они больше вступать не хотели. Разобрались, насколько сумели, придумали безупречный план. И он бы наверняка осуществился, уже осуществлялся, если бы не ваш покорный слуга! – Удолин приложил ладонь к груди, слегка поклонился.
– Да кто же спорит, Константин? Куда б мы без тебя? Для чего и пригласили! – со всем пиететом раскланялся и Шульгин, после чего добавил чуть язвительно: – А то бы так и сидел ты в клетке у Агранова…
– Спасибо, – ответил профессор, чуть позже, чем нужно, сообразив, что комплимент услышал довольно сомнительный. – Замысел у них был прост и почти гениален. Вы сами пришли к ним в руки. Они бы вас повязали и занялись натурными экспериментами… До окончательного результата.
– В смысле?
– Либо вы перед ними выложились, либо они вас отпрепарировали и сдали в кунсткамеру.
– А теперь?
– Теперь все будет наоборот. Экспериментами займемся мы. Слушай! – прервал он свою страстную речь.
Шульгин услышал и подскочил, держа у плеча стволом вверх свой последний довод.
На поляну довольно бодрым галопом выскочила плотная конная группа. Впереди скакал Новиков. Еще три лошади были подседланы, как положено, но без всадников. Две несли на спинах вьюки с припасами и оружием. Роботы бежали по сторонам с той же скоростью, придерживаясь за путлища[109] стремян заводных[110] коней. Не потому, что нуждались в их помощи, совсем наоборот. Как это в армии называется – «служба замыкания», чтобы никто не потерялся и не разбежался.
– Прошу, Александр, – несколько напыщенно произнес Удолин. – Заяц трепаться не любит…
Андрей вроде бы лихо спрыгнул с седла, но едва устоял на твердой земле, ноги подогнулись. Ругнулся коротко, подобрался, неожиданно пылко обнял Шульгина за плечи.
– Вашу мать, сколько ж это продолжаться будет? Я вам Д'Артаньян, шесть часов задницу о седло бить? – хрипло выговорил он.
– Садись, отдохни, – поддержал его под руку Сашка. Он представлял, что значит шесть часов скакать переменным аллюром, не переходя на шаг. Короткие остановки: размять ноги, напоить и накормить коней, перекурить – и снова вперед!
– Ты откуда здесь?
– Вопросики… Константин под утро вызвал. А ты не знаешь? Я и рванул. Обещали через час самоходом вернуться, а оказывается – «лошадей к подъезду», – с обидой произнес Новиков.
– Лариса с вами? – Интонации друга Сашка попустил мимо ушей.
– Куда ей деться? Такого наплела…
– Ох, дед, – от всего сердца обратился Шульгин к Удолину. – Что ж ты с людьми делаешь?
– Не люблю вселять ненужные надежды. Нам с тобой после всего снова по астралам шляться? Благополучный исход не гарантирован. Вот не доехал бы Андрей, тогда уж сами как-нибудь. А скажи я, что он на подходе, да с поддержкой – настроя могло и не хватить, – ответил профессор, от души прикладываясь к фляжке. Экономить больше не надо было. – Человек должен полагаться только на себя, тогда он достигает вершин своих способностей…
– Тормозни, слушай. С седла по пьянке свалишься, – дернул его за рукав Сашка.
– Сами не свалитесь, – гордо ответил тот. – Я сейчас прямо на Валгаллу отправлюсь, минуя воображаемые опасности, а вы тут сами как-нибудь…
– Нет, ну что за мерзавец, – с оттенком восхищения произнес Шульгин.
– Вам под стать. Мне вот этого – с собой забрать? – Удолин указал на дуггура.
– Забирай, – согласился Новиков. – Что нам с ним делать?
– Хорошо, – обычным жестом Константин Васильевич потер руки. – Знал бы он, какая достойная компания выдающихся некромантов последнего тысячелетия с нетерпением жаждет с ним познакомиться.
– Ух, ты! – Сашка передернул плечами, представив, что за компания там собралась. И каково Дайяне будет делить с ними территорию? Глядишь, половину ее девчонок в панночки перевербуют, если не хуже того.
– Только вы его это, на препараты не разберите, – опасливо сказал Новиков. – Лучше клетку сделайте. Там у нас в форте и арматура, и сварочный аппарат есть…
– Ни в коем разе. Все будет происходить исключительно в сфере чистого разума…
– После литры выпитой, – фыркнул Шульгин.
– А вот это совершенно не ваше дело, – насупился Удолин. – Кому сто грамм много, кому и литр нипочем. У тебя гранатометы есть? – повернулся он к Новикову, демонстративно утратив интерес к Сашке.
– Имеются, – лаконично ответил Андрей. – Вы что предпочитаете – РПГ-9 или «Шмель»?
– Все сгодится. И я вам настоятельно советую войти туда, – широким жестом он заставил каменные ворота открыться, – всадить все, что у вас есть, прямо через коридор, после чего не спеша ехать домой.
– Ребята, сделайте, как дядя просит. – Шульгин указал роботам на темное жерло прохода. – А ты уверен, что там ничего для нас интересного не осталось? – спросил он Удолина на всякий случай.
– Абсолютно. Все интересное – здесь. – Он кивнул в сторону пленника, потом постучал пальцем по своему виску. – После завершения работы я вас извещу… Можете заниматься своими делами. Если станцию ликвидируем, проблем в ближайшее время не будет.
– Как долго? – лениво спросил Новиков.
– Ближайшие сто лет, если я не ошибаюсь…
– Вот и ладненько. Твоими бы устами да мед пить, – Андрей сейчас был поразительно похож на Юла Бриннера после боя с бандой Калверы.
Из-за толщи скал глухо ухнули несколько взрывов.
– Вот и все, судари мои, – вспомнил очередную цитату Шульгин.
Роботы вернулись, Удолин попытался усилием воли закрыть ворота. Утесы почти сомкнулись, дернулись и застыли. Щель осталась, шириной примерно в ладонь. Так бывает с неисправным лифтом.
– Когда нам будет нужно – и починим, и откроем, – ответил на общую невысказанную мысль профессор. – Да и через дагонов мы до них сможем добраться. Если вздумаем. Так что в их же интересах сидеть тихо и не высовываться. Понял? – спросил он у дуггура, окончательно деморализованного всем происходящим. – Так своим и передай. Передал? Тогда поехали…
Удолин церемонно пожал руки всем, включая Джонсона, Джо и Ивана Ивановича.
Окутал себя и пленника фиолетовым туманом и исчез.
Друзья, присев рядом с конями, шумно фыркающими и бренчащими сбруей, долго смотрели на опустевшую поляну.
Оба были измотаны до предела. Один – боем, другой – тяжелой скачкой.
– Так что, мы тоже поехали? – спросил Шульгин, с неприязнью глядя на седло, в котором предстоит трястись еще неизвестно сколько. – Часик-другой бы отдохнуть, в озере искупаться… Не поверишь – сроду в такой драке не участвовал. – Он показал Андрею покрытый бурой пленкой нож и свои сбитые кулаки. Пустая кобура на правом бедре тоже кое о чем говорила опытному в таких делах Новикову.
– На вертолете, наверное, лучше бы, так где его возьмешь? – грустно ответил тот.
– Нет так нет. – Сашка вставил ногу в стремя. – Деваться куда? Некуда деваться. Не здесь же сидеть. Давай километров хоть на десяток отъедем и все же поваляемся…
– Это свободно. Сейчас Джонсона вперед пошлем, он сообразит «ужин на траве»…
Свежие заводные лошади бодро зарысили к лесу. Наверное, им тоже не нравилось место, где отчетливо пахло чертовщиной. Животные к таким делам очень чувствительны. На самой опушке Шульгин придержал своего мощного жеребца, пропуская вперед кавалькаду, посмотрел назад. Там до самого неба вздымались скалы, и между ними, и над ними тянулся сизо-черный, даже на расстоянии воняющий какой-то химией дым. В глубине тоннелей и провалов горело очень хорошо, моментами и взрывы глухие слышались. Что же они там запасли такого, огнеопасного?
– Не хотели по-хорошему, ну и не надо! – выкрикнул он, зло ощерившись. Шенкелями бросил вороного в галоп. Еще раз обернулся. – Тогда ловите конский топот, господа! Вы меня слышите, там? Я ясно выразился? Конский топот…
Ставрополь, 2008 г.
Василий Звягинцев Скоро полночь. Том 1. Африка грёз и действительности
В Африке гориллы, злые крокодилы,
Не ходите, дети, в Африку гулять…
Два, может быть, самых могущественных человека в этой России встретились для частной беседы в один из предновогодних дней. Дом в центре Москвы, на углу Трубной площади почти скрывала завеса снегопада. Свистящий вдоль бульваров ветер раскачивал черные ветви столетних лип. Непогода прогнала с улиц пешеходов, да и немногочисленные автомобили пробирались сквозь метель с осторожностью, светя фарами и часто сигналя.
Тем уютнее было в комнатах. Уютнее и словно безопаснее, как если бы толстые стены защищали не только от разгула стихии, а вообще от превратностей внешнего мира. Зеленые с золотом изразцовые печи-голландки в большой гостиной излучали сухое тепло. Настоящие дровяные печи, с приставленными для их обслуживания истопниками, что мог себе позволить только очень богатый человек. Остальные обходились электричеством.
– Ну и что мы со всем этим будем делать, Валентин Петрович? – спросил генерал Суздалев, сопредседатель клуба «Витязи Отечества» и Верховный координатор всех религиозных организаций России, у сидящего в соседнем кресле адмирала Маркина, начальника Службы безопасности Космофлота.
Спросил и выключил большой трехсекционный, как церковный складень, экран. Прекратилось мелькание сменяющих друг друга документов, видеосюжетов, схем и графиков, поясняющих и обобщающих разнородную информацию.
– Вы меня пригласили, вам на этот вопрос и отвечать, – слегка улыбнулся адмирал, вытягивая ноги и движением плеч разминая затекшую спину. Больше двух часов они внимательно изучали материалы, добытые и подготовленные сотрудниками подчиненных им ведомств.
Встретиться в качестве невольных союзников, даже, пожалуй, подельников и соучастников, их заставили достаточно невероятные, моментами абсурдные события последних недель.[1] Суздалев как человек, уже знакомый с людьми – выходцами из параллельной реальности, отнесся к встрече с Александром Ивановичем Шульгиным, «Великим магистром» «Андреевского братства», достаточно легко. По крайней мере особого дискомфорта она у него не вызвала. В сравнении, скажем, с деформацией пространства-времени в окрестностях Селигера.
Маркину, поставленному перед трудно поддающимся осмыслению фактом буквально только что, пришлось труднее.
Один из первых людей на Земле, достигший звезд, полжизни прослуживший пилотом, уже десятый год руководящий галактической разведкой и контрразведкой, был не то чтобы растерян или обескуражен, но выведен из равновесия.
Не подлежащий сомнению факт наличия «на расстоянии вытянутой руки» еще одной Земли, еще одной России, хронологически отстающей от здешней на сто тридцать лет, но в чем-то ее значительно опережающей, прозводил едва ли не шоковое впечатление. Внешне он этого не показывал, но в душе ощущал, что такое потрясение основ даром не прошло.
В дальнем космосе адмиралу приходилось встречаться с разными непонятностями, в том числе и с теми, что описал в своих якобы фантастических рассказах воспитанник и младший товарищ Игорь Ростокин. Так на то он и дальний космос. А вот чтобы нечто подобное самым будничным образом случилось на освоенной, ухоженной, мирной в своей цивилизованной части Земле!
Вдобавок гость из прошлого самым неделикатным, пожалуй, даже грубым образом показал Валентину Петровичу, насколько люди его мира превосходят нынешних землян и в психологической, и в профессиональной подготовке. Это же только представить – всего один, отнюдь не выглядевший сказочным богатырем человек с грустным интеллигентным лицом сумел разделаться с целым отделением особо подготовленных космодесантников, а самого адмирала фактически захватил в плен, обставив эту акцию, впрочем, до предела гуманно.
На следующий день и Маркин, и Суздалев получили от Шульгина личные послания, доставленные совершенно непонятным способом в сверхзащищенные личные почтовые ящики. Это выглядело примерно, как если бы в известные читателю времена товарищ Сталин обнаружил в собственном сейфе, ключа от которого не имелось даже у Поскребышева, адресованное ему письмо. Независимо от содержания этот факт вызвал бы, как принято выражаться у журналистов, «непредсказуемые последствия».
Содержание писем тоже было интересным. Суть посланий, опуская всякие дежурно-вежливые слова и извинения в причиненном моральном ущербе, сводилась к тому, что прекрасный мир две тысячи пятьдесят шестого года стоит перед угрозой вселенского масштаба. Возможно ли ее предотвратить или нет – неизвестно, Но в любом случае следует немедленно привести все имеющиеся в распоряжении России, а лучше – всего цивилизованного человечества, вооруженные и научные силы в состояние повышенной боеготовности.
При этом суть самой угрозы практически не раскрывалась. Говорилось только о том, что «Селигерский инцидент» может повториться в планетарном масштабе. Кроме того, не исключается вторжение в их мир враждебно настроенных существ нечеловеческой, или не совсем человеческой, природы. В качестве первой оборонительной меры Шульгин советовал обоим адресатам незамедлительно встретиться для согласования позиций, а лучше – для заключения пакта о взаимной помощи между ними лично и их ведомствами. Со своей стороны, Александр Иванович обещал всю возможную помощь, но с не вселяющей оптимизма оговоркой: «Если сами будем живы».
Примерно об этом же самом Шульгин уже говорил во время ночной беседы с Маркиным на кухне у Ростокина, но сейчас решил повториться в письменном виде. Чтобы оставить после себя документ, что ли, а не пустопорожнюю болтовню за рюмкой, каковая есть «неосязаемый чувствами звук»…
Поразмышляв недолгое время над этими письмами, причем не над содержательной их частью, а именно над дипломатически бестактным «советом постороннего» объединить усилия двух не только независимых, но и, как положено, в чем-то соперничающих спецслужб, Суздалев и Маркин сочли, что скверной шуткой они в любом случае не являются, слишком много было пугающе-убедительных доводов. И вышли друг на друга практически одновременно.
Суздалев, обладавший большим опытом контактов с «иновременцами», располагавший даже небольшой библиотечкой из книг, изданных в другой реальности, позвонил коллеге буквально на десять минут раньше. К этому моменту Валентин Петрович уже получил кое-какие материалы предпринятого по совету Шульгина расследования на предмет выявления следов наличия в их мире собственных или общих для всех параллелей Ловушек Сознания.
За стенами и высокими окнами резиденции генерала (или Игумена, как он по-прежнему числился в секретных формулярах), по всей Москве народ вовсю праздновал Рождество, плавно перетекающее в Новый, две тысячи пятьдесят седьмой год. Погода выдалась истинно зимняя, только и гулять-веселиться, в меру возможностей и вкусов. Если по продуваемым метелью улицам не очень-то пофланируешь, так на дачу выехать в самый раз, с друзьями в гостеприимном доме встретиться у огонька, а хотя бы и в ресторан с цыганами закатиться – проводить старый год и встретить новый от всей души. И недурственно провести пару-тройку свободных от повседневных забот дней, когда прошлое – уже прошло, а будущее пока не наступило.
Только вот двум облеченным властью и ответственностью мужчинам вместо этого приходится заниматься совершенно непонятными, а возможно, и ненужными делами.
– Что нам делать, вы спросили? То, что должны. Остальное от нас не зависит, – несколько перефразируя известную философскую максиму, ответил Суздалев. Ему, в определенном смысле, сейчас было легче, чем собеседнику. От него не требовалось принятия принципиальных решений. Всего лишь – тщательно рассмотреть попавшие в поле зрения факты, по возможности правильно оценить их и вытекающие последствия, выработать меры противодействия нежелательным и всемерно стимулировать нужные. Определить силы и средства, необходимые для проведения намеченного. Вот пока и все, остальное – компетенция людей следующего уровня.
– Легко отделаться хотите, коллега, – с усмешкой сказал Маркин. Настроение и ход мыслей собеседника были ему совершенно ясны. Хороший человек Георгий Михайлович, но простоват, несмотря на внешнюю суровость и незримо осеняющие его погоны полного генерала. Да и как иначе? Все его труды и заботы лежат, так сказать, в сфере чистого разума, в борьбе с врагом, по преимуществу гипотетическим, поскольку в нынешней России (если не считать некоторого количества экстремистов и идейных сторонников уничтожения нынешнего миропорядка) их просто нет. Которые есть – входят в компетенцию государственной жандармерии и других подобных служб.
Другое дело – космические заботы. Мало того, что все цивилизованные страны только и мечтают о том, чтобы выведать российские технологические тайны, выкрасть документацию на хроноквантовые двигатели, без которых ощущают себя младшими партнерами, вооруженными автоматами и пушками, но не знающими, как делать патроны и снаряды.
Да еще и террористы (настоящие, организованные), постоянно планирующие захваты звездолетов или диверсии на космодромах, как, скажем, на прошлой неделе в Науру.
Но об этом говорить коллеге Валентин Петрович не собирался ни в коем случае. Пусть остается о себе и своей должности самого высокого мнения.
– Чересчур просто это у вас получается – «остальное от нас не зависит»! Еще как зависит. Да и первая часть формулы – «что должны» – критики не выдерживает. Мне так вот совершенно непонятно: а что же именно мы должны и кому? По линии наших с вами заведываний никаких конкретных угроз государственному порядку не просматривается. Если не считать несанкционированного доступа в компьютерные сети и, скажем так, некоторого нарушения пограничных и таможенных правил со стороны группы не до конца установленных лиц. Вот и все. Где же здесь действительная угроза жизненным интересам Российского государства в целом и Космофлота в частности?
Суздалев сплел пальцы на коленях и посмотрел на собеседника с интересом студента, получившего от экзаменатора каверзный вопрос. Умного студента, прочитавшего больше книг, чем замотанный бытовыми проблемами доцент.
О ряде подробностей, связанных с событиями вокруг Столбенского монастыря, он пока решил умолчать, если Маркин не имеет на этот счет собственной информации.
– И еще я спрошу, Георгий Михайлович, если позволите. То, что вы наряду с другими обязанностями много лет возглавляете одну из референтур Департамента межрелигиозных отношений МВД, – это каждый знает. Суть вашей работы и примерный объем полномочий тоже известны тем, кого эти вопросы интересуют. Меня, кстати, не очень. Я – стихийный гностик,[2] этого достаточно…
– То есть фактически атеист, – констатировал Суздалев.
– Можно и так сказать, хотя академический «научный атеизм» тоже не приемлю. Но вы меня снова уводите в сторону. Позвольте продолжить. Гораздо меньший круг хорошо информированных людей знает, что вы одновременно являетесь негласным куратором существующих в стране специальных служб высокой степени секретности. Я бы даже сказал – формально не существующих…
Это замечание Суздалев предпочел не услышать, хотя было оно абсолютно верным. Никто, кроме узкого круга особо доверенных лиц, не подозревал, что в столь просвещенные времена в стране могут функционировать институции, очень напоминающие средневековую инквизицию, орден иезуитов и тому подобные.
– Может, лучше сказать – консультантом? – мягко вставил Суздалев.
– Как вам будет угодно. Консультантом с правом решающего голоса, несменяемым и никому не подконтрольным.
– А разве так бывает – чтобы никому?
– Законным органам власти – точно…
– Опрометчивое обобщение. Вас, например, я когда-нибудь курировал или консультировал?
– Меня – нет, – согласился Маркин. – Может быть, поэтому я и согласился на эту встречу.
– Значит, мы с вами в равном статусе. Де-юре вы подчинены и главкому Космофлота, и соответствующему комитету Совбеза ООН, а де-факто вы скоро десять лет как существуете в качестве этакого барона времен развитого Средневековья или персидского аятоллы… Почему, как вы думаете?
Вопрос Маркину не понравился. Его самого временами удивляла степень собственной независимости. Он понимал специфику доставшейся ему должности, знал силу собственного характера, позволявшую строго очертить круг своих прерогатив и успешно противодействовать попыткам вышестоящих вмешиваться в деятельность своей службы. Но бывали моменты, когда он задумывался – отчего абсолютно все начальники, с которыми ему приходилось работать, столь снисходительны и сговорчивы? Само собой, то, чем занималась СБКФ, мало кому понятно и тем более едва ли представляет практический интерес для «приземленных» политиков, но все же… А теперь что же получается? Он тоже под крылышком, или – как выражается Александр Иванович Шульгин – «под колпаком», у господина Суздалева?
– Наверное, к этому есть вполне объективные причины, – внешне беззаботно ответил он. – Но все ж таки хотелось бы знать, каков, собственно, истинный объем ваших полномочий, регламентированных соответствующими законами и уложениями? Столько лет знакомы, но темы этой как-то и не касались… Сейчас, наконец, пришло время уточнить кое-какие детали, раз уж мы с вами в инициативном порядке решили посотрудничать.
– Разумно. Но вы абсолютно уверены, что мы действительно готовы к настоящему сотрудничеству? Меня, признаюсь, слегка настораживает присущий вам ригоризм,[3] извините за резкость. Я же привык работать без оглядки на писаные законы и многие предрассудки в сфере морали, руководствуясь соображениями высшей целесообразности.
– Иными словами – «цель оправдывает средства»? – со странной, похоже, слегка брезгливой интонацией произнес Маркин.
– Скорее «Salus populi suprema lex».[4] Большую часть жизни я исхожу именно из этого принципа, и, прошу обратить внимание, плоды моей деятельности не выглядят столь уж устрашающе, как вы имели в виду, изрекая достаточно избитую, но большинством совершенно однобоко понимаемую формулу.
– Ну, не будем углубляться в философские и юридические дебри, – ответил после паузы Маркин. – В случае необходимости у нас всегда будет возможность согласовать позиции, не доводя дело до серьезных конфликтов. В целом же я считаю, что у нас просто нет другого выбора, кроме искреннего, нелицемерного сотрудничества. Так что – слово офицера…
– Взаимно. Отныне у нас не должно быть корпоративных тайн друг от друга. О личных, само собой, речь не идет…
– Да это еще как сказать, – впервые усмехнулся Маркин. – Иногда личные тайны – далеко не личное дело. Так все же – о ваших полномочиях. Мои вы знаете.
– Так точно. О своих могу сказать то же самое. Мои взаимодействия с любыми государственными структурами практически ничем не ограничены. То же касается и некоторых других позиций, могущих представлять для нас с вами реальный интерес. За исключением особых, в каждом отдельном случае оговариваемых моментов я могу почти все. Ну, естественно, в одиночку я не имею права смещать правительство, объявлять войны великим державам, отменять существующее в стране денежное обращение…
Суздалев задумался, словно вспоминая, какие еще имеются сферы, неподконтрольные его воле. Это, конечно, следовало расценивать как тонкий юмор, но одновременно в виде намека.
– А меня сместить вы можете? – поинтересовался Маркин.
– Собственным именным рескриптом? Отнюдь. Но организовать такой документ – в случае мотивированной необходимости, – он подчеркнул эти слова особой интонацией, – свободно. Причем мотивация будет рассмотрена sine ira et studio[5] и со знанием дела.
– Специалистами в данной и нескольких смежных областях, которые обязательно примут во внимание все аспекты, плюсы и минусы того или иного вердикта.
– Специалисты анонимные, и вся процедура вершится в тайне… Не слишком демократично. Мне начинает казаться, что мы живем не в свободном государстве, а в условиях тщательно замаскированной диктатуры, – сказал Маркин озабоченным тоном.
Суздалев рассмеялся. Наивность адмирала моментами его поражала. Он не знал, что в беседе с Шульгиным Маркин полностью признал не только теоретическую возможность, но даже и необходимость мягкой, то есть не затрагивающей базовых прав частного лица, диктатуры. Сейчас Валентин Петрович просто зондировал будущего соратника, а то и дуумвира,[6] если до этого дело дойдет.
– Давайте, пожалуй, перейдем в соседнюю комнату, там будет удобнее беседовать, – хозяин дома снял тему, которой, по его мнению, касаться было рановато. Плод еще не созрел, так ему казалось. – Надеюсь, сегодня нам к документам обращаться больше не потребуется. А на дворе праздник все-таки.
За накрытым на двоих столом Георгий Михайлович продолжил развивать поднятый Маркиным вопрос.
– Если вы мне скажете, что в вашем департаменте основные решения принимаются каким-то иным образом, позволю себе вам не поверить. Демократия бывает либо непосредственная, как в Древних Афинах, да и то в весьма ограниченный отрезок времени, либо никакая. Так называемая представительная – муляж и одновременно фантом. Не мне вам рассказывать. Так что давайте политические вопросы оставим за кадром до более безмятежных времен. А сейчас закусим чем бог послал и порассуждаем свободно и раскованно, благо есть у нас теперь с вами такая возможность на основе достигнутого соглашения.
…Несколько раньше этой встречи, после того как Шульгин пообщался с Суздалевым и Маркиным и снова исчез вместе с Ростокиным, Георгий Михайлович связался с отцом Флором. Как он в глубине души и предполагал, обстановка в зоне «хроноклазма» нормализовалась. То есть все артефакты и нарушения метрики пространства-времени исчезли, полностью и окончательно. Отдельные люди (за исключением доверенных лиц) – как раз из числа тех, что сохраняли здравомыслие, – кое-что помнили об имевших место событиях, остальные же, попавшие под настоящую власть галлюцинации, забыли все.
Так же и материальных следов татаро-монгольского и общего провала в XIII век практически не осталось. Кроме некоторых видеозаписей, которые были сделаны самим Флором и Суздалевым во время пребывания там. Княжна Елена тоже исчезла. Все происшедшее можно было сравнить с карнавалом давних времен. Только что на улицах кипела удивительная, ничем не похожая на обычную, жизнь, случались странные и даже невероятные события, завязывались интриги, иногда проливалась кровь. И вдруг, в урочный час, с криком третьих петухов, все разом кончилось. Декорации разобраны, пестрый мусор убран с улиц, кровь присыпана песочком, маскарадные костюмы спрятаны в шкафы и сундуки. У участников остались смутные впечатления и симптомы крепкого похмелья, алкогольного и психического.
В общем, получилось именно так, как обещал в свое время Новиков, а за ним – Шульгин. Георгию Михайловичу пришлось, с огромным усилием над натурой и здравым смыслом, поверить, что «химера» – отнюдь не выдумка ловких авантюристов. До этого, с момента первого знакомства с Новиковым и его красавицей женой, Суздалев ухитрялся удерживать себя в рамках рационализма. Несмотря на то что много лет работал в сфере иррациональной, то есть среди высших иерархов конфессий, каждая из которых по-своему, но утверждала общий для всех принцип: «Верую, ибо это абсурдно». Все более при этом укрепляясь в мысли, что, только оставаясь атеистом, можно сохранять здравомыслие, постоянно сталкиваясь с догматами сугубо противоречащих друг другу верований. И не просто сталкиваясь – это было бы слишком легко и просто.
Ему приходилось на полном серьезе беседовать о весьма принципиальных вопросах: сегодня – с главным раввином, завтра – с предстоятелем старообрядческой церкви, тремя днями позже – с Католикосом всех армян и так далее. При этом очень многие вопросы удавалось решать ко взаимному удовольствию именно потому, что он проявлял соразмерную с собеседником степень эрудиции в богословских вопросах, умение полемизировать в рамках заданной парадигмы и одновременно демонстрировать некую высшую отстраненность позиции.
Этому его долго учили такие же циники, как и он сам. С молодых лет запомнился бывший наставник, католический епископ, переквалифицировавшийся в светского литератора и преподавателя спецшколы, не раз повторявший: «В бога, как такового, я, конечно, не верю. Но продолжаю служить идее бога, которая за две тысячи лет оказала и продолжает оказывать громадное влияние на судьбы человечества. Вы меня понимаете?»
Суздалев понимал очень хорошо, что великолепно ощущали при общении с ним иерархи, которыми ему было назначено руководить. Само собой – отнюдь не в богословских вопросах. Любая церковь – это ведь не только конструкция «не от мира сего», эманация того или иного высшего существа, как бы оно ни именовалось, но и вполне материальная организационная структура, подчиняющаяся общим законам, хотя бы и Паркинсона. И в таком качестве она не только поддается, но и прямо предназначена для реализации вполне земных и светских целей. Дело лишь в том, каким образом этот процесс управления осуществляется.
Суздалев еще после первой встречи с Новиковым заставил себя отнестись к его истории как к данности.
Раз в родном ему мире возможно перемещение в пространстве со сверхсветовой скоростью или, что почти то же, замедление времени на кораблях без релятивистских последствий (что само по себе абсурдно, так как получается, что каждый корабль по отдельности создает свое отдельное время, которое в итоге каким-то образом согласуется с общеземным), отчего же не принять вытекающую из этого возможность одновременного сосуществования прошлого и будущего в теоретически бесконечном числе вариантов?
И не только в их нераздельности и неслиянности, но и при наличии свободно проходимых границ, причем проходимых в обе стороны.
Вот он и принял эту данность, без всякого удовольствия, нужно сказать. Жизнь в новых условиях потеряла главное – определенность и устойчивость. Ради чего, собственно, в свое время молодой полковник и согласился стать одним из криптократов под псевдонимом «Игумен». Двадцать лет он не испытывал сомнений, потому что цель казалась ему достигнутой, причем без государственного насилия и социальных потрясений. Ко всеобщей радости.
И вдруг Суздалев снова ощутил себя полярником, дрейфующим в штормовом океане на тающей льдине. Или, в политическом смысле, жизнь опять стала похожа на модус вивенди[7] мирного обывателя в эпоху смут, революций и гражданских войн. Возможность выжить по сравнению с нормальным временем, да и просто влиять на происходящее вокруг, снижается многократно.
Вариантов у такого обывателя, собственно, остается крайне мало: эмигрировать в спокойные места, затаиться дома в надежде, что минует тебя чаша сия, или же, вспомнив Салтыкова-Щедрина, самому «стать ироем,[8] своим иройством всех прочих превосходящим».
Но ведь, с другой стороны, вся деятельность «Витязей» с момента создания этой организации была направлена на обеспечение мощи и процветания России, предвидение и своевременное устранение всех грозящих извне и изнутри опасностей, выявление негативных тенденций в науке, технике и общественной жизни, равно как и всемерное поощрение и стимулирование благоприятных. Грубо говоря, суметь раздуть костер из едва заметной искорки, когда это требуется, и не допустить, чтобы этот же костер, разожженный враждебными руками, превратился в лесной пожар.
Изучив два десятка подаренных ему Новиковым книг (тщательно и с определенным умыслом отобранных, естественно), Георгий Михайлович убедился, сколь своевременно отцам-основателям клуба «Витязи Отечества» пришла в голову спасительная идея и насколько талантливо она вот уже тридцать лет воплощалась в жизнь. На так называемой «Главной исторической последовательности» имевшиеся там тайные и не очень общества, организации и партии несли в себе неискоренимый негативный заряд. Что привело к немыслимого масштаба военным и многим социальным потрясениям, сделавшим «нормальную» человеческую жизнь почти нестерпимой. По крайней мере сам Суздалев представлял себе возможность собственного там существования с ужасом и отвращением. Как ему казалось, даже в самых нестабильных и неразвитых территориях нынешнего мира жизнь была спокойнее и безопаснее.
В двух других параллельных реальностях, с которыми Новиков счел нужным его познакомить, ситуация складывалась совершенно иная. В них как раз действовали могущественные тайные «ордена» позитивной направленности. В объективном смысле, а не потому, что они сами так считали. При условии, конечно, что материалы, представленные ему Новиковым, были подлинниками, а не пропагандистскими подделками. «Пересветы» в достаточно близкой реальности 2005 года вообще почти один в один повторяли идею и даже организационные структуры «Витязей», формировались патриотически настроенной военной элитой, использовали похожие методы отбора и воспитания кадров, пусть и на другой идеологической основе. Ничего удивительного. Миры были очень близки, в них физически существовали одни и те же люди (аналоги), с не очень отличающимся историческим опытом.
Так называемое «Андреевское братство» начало свою деятельность почти веком раньше, не имело разветвленных структур и многочисленного личного состава, однако добивалось своих целей с не меньшим эффектом. За счет гораздо большей жесткости конструкции и методик воздействия на «окружающую среду». Кое-какие фактические материалы внушали определенные сомнения, но здесь уже Георгий Михайлович полагался на собственное чутье и опыт.
Прежде всего – подделки, предназначенные лично для него, просто не имели смысла. Дела иных миров его никаким образом не касались, и влиять на них он не мог. Очень к месту была древняя восточная мудрость: «Верь незнакомцу, ему нет корысти обманывать».
К тому же «незнакомец», он же Андрей Дмитриевич Новиков, был неизмеримо могущественнее Суздалева со всеми его сотрудниками и любых собственных целей мог добиться, вообще не вступая в контакт с российскими учреждениями. Чего стоила хотя бы операция «Репортер», в которую Новиков был введен третьестепенной фигурой, но сумел перехватить инициативу и у той и другой стороны, завершив это дело в одиночку и с блестящим успехом!
Георгий Михайлович проанализировал и осознал свои ошибки, но Андрею предъявить претензий не имел оснований. За пределы договоренности он не вышел нигде.
А случай с яхтой «Призрак»![9] Нужно сказать, что здесь Суздалев сознательно пошел на масштабную провокацию, именно чтобы убедиться в реальных возможностях загадочных партнеров, которых он до этого имел основания подозревать в хитром, многослойном мошенничестве с элементами шпионажа.
Схема прикрытия была на первый (да и на второй тоже) взгляд до чрезвычайности абсурдной, так в том и прелесть! Разумеется, Новиков с Шульгиным могли решить возникшую проблему собственными силами, но тогда они бы не смогли так легко и просто организовать свою полную легализацию и заручиться поддержкой самой могущественной в этом мире организации. «Витязей» то есть. А главное – его, Суздалева лично. Любил он таких отчаянных парней, очень похожих на него двадцатипятилетнего.
Нет слов, исчезновение «пришельцев» вместе с «репортером», а главное – его подругой, причастной к очень интересным делам, в том числе и весьма интересовавшей «Организацию» тайне «Фактора Т», немало его разочаровало, но и того, что оказалось в «сухом остатке», было достаточно для дальнейшей работы.
И тут вдруг подарок судьбы. Неожиданное возвращение из небытия Шульгина и Ростокина. Возвращение, обставленное совершенно мистическим, нет, скорее, отдающим литературщиной самого низкого пошиба образом. Отлично, впрочем, укладывающимся в философскую концепцию Новикова. Было время, обсуждали они вдвоем или втроем онтологическую[10] сущность миров, в которых привелось оказаться тем и другим.
Слова о «химеричности» их мира, теперь подтвержденные наглядными примерами, глубоко запали в искушенную умственными упражнениями душу Суздалева. Ничего ведь нет невероятного по большому счету для человека, двадцать лет погружавшегося в глубины идеализма всех толков, от солипсизма до дзен-буддизма, в том, чтобы принять вариант мироустройства, где любому философу снится, что он бабочка, которой снится, что она философ, а несвоевременное пробуждение чревато совершенно непредсказуемыми последствиями для того и другой.
Более того, оказавшись внутри чьего-то сна (Ростокина, скорее всего), Георгий Михайлович в какой-то момент ощутил желание никуда оттуда не уходить. Уж больно много новых возможностей открывалось в подобном варианте конвергенции XIII и XX веков для человека с его способностями и характером, да при наличии таких сотрудников, как Шульгин, Ростокин и отец Флор.
Правда, оказавшись за пределами «химеры», Суздалев быстро пришел в меридиан, приняв как факт, что все случившееся очень похоже на воздействие так называемой Ловушки Сознания, о которых ему рассказывали Новиков и Шульгин, и оба настоятельно предостерегали не попадать в сферу ее активности. Андрей Дмитриевич даже намекнул, что в силу особого устройства психики он, Суздалев, с одной стороны, является потенциальной жертвой этого природного явления, но с другой (по той же самой причине) – имеет недоступные обычным людям, «простецам», как выразился Новиков, способности оной Ловушке противостоять.
Георгий Михайлович в силе собственного духа не сомневался, но то, что нечто подобное «селигерскому инциденту» может повториться в любой следующий момент, вселяло в него некий мистический дискомфорт. Он не был уверен, что, даже включив все имеющиеся силы и средства, удастся удержать мир (и себя лично) «по эту сторону безумия».
– Если сразу кирдык не наступит, – образно и оптимистически выразился Александр Иванович.
– Вам же пока не наступил? – спросил Суздалев, который в обществе Шульгина необъяснимым образом ощущал себя не нынешним умудренным годами и должностями сановником, а в гораздо большей степени молодым полковником, явившимся в Троицкое на собеседование к вождям «Витязей». Он тогда пребывал в том же примерно возрасте и, наверное, психологическом состоянии, как эти «братья».
И нельзя сказать, что подобное «возвращение в молодость» ему не нравилось.
Армия и все прочие имеющиеся у государства силы выполнят свой долг в случае масштабного вторжения из прошлого или «параллельного» времени, как бы это ни выглядело физически. Российская армия в описываемый период времени, безусловно, была сильнейшей в мире, и по численности, и по вооружению. Располагая недоступными любому союзнику и вероятному противнику техническими средствами, в том числе и космическими. Не говоря о боевом духе.
Но основная борьба, как считал Суздалев, будет разворачиваться совсем в иных плоскостях. Вот для этого ему и пригодятся ранее сформированные религиозные полки и дивизии. Носители креста, полумесяца, могендовида и тому подобных символов, вооруженные и натренированные по последнему слову военной науки, отличаются особой психологической ориентированностью.
Если командиры в соответствии с догматами донесут в боевых приказах, что нужно сражаться со слугами Сатаны, или кого-то там еще, именно в сакральном смысле, значит, бойцы так и будут сражаться. Совсем не задумываясь о мирских понятиях «справедливых и несправедливых» войн. Враг обозначен, признан духовными авторитетами таковым, поэтому должен быть уничтожен наличными силами безотносительно к светским принципам. Посланец дьявола под гаагские и женевские конвенции никоим образом не подпадает. И понятия «гуманизм» и «пощада» к нему совершенно не относятся.
Вооруженных сил этого рода под контролем Георгия Михайловича состояло более ста тысяч, и столько же – подготовленных резервов первой очереди.
Исходя из всего этого, Суздалев чувствовал себя достаточно уверенно, когда передавал предложение о встрече адмиралу Маркину. Он знал о Валентине Петровиче и возглавляемой им службе практически все, в мелких деталях, достаточных как для искреннего союза, так и для любой хитрой игры. Предварительное предложение объединить усилия именно с Маркиным он получил от Шульгина. Оснований не доверять ценности этого совета не имел. Ничего не теряя – выигрывал многое. Сделать слишком уж независимого адмирала, фактически держащего в руках весь космический флот Земли, способный достигать рубежей в сто парсек и даже больше, своим соратником (младшим, естественно) – чего же лучше? Случится беда, не случится – второй вопрос. Найдут чем заняться и в мирной обстановке.
Судьба и «братья», наверное, знали, что делали, сводя вместе этих столь непохожих, но одновременно близких по многим параметрам людей.
…– Вы что, совсем не пьете и не курите? – с удивлением, смешанным с неодобрением, осведомился Суздалев, обводя рукой стол, накрытый именно в рассуждении, чтобы два «уважаемых человека» могли провести время за неспешной, но очень многое решающей беседой. – А еще капитан космических кораблей. Приходилось мне и с подводниками, и с надводными моряками в ресторанах сиживать. Очень, скажу я вам, контактные ребята…
– В каком, извините, качестве? – слегка потерял позицию Маркин. Не следовало контрразведчику касаться тем, допускающих «превратные толкования». Похоже, неприятный проигрыш Шульгину несколько выбил его из колеи. Знал бы он, что не первый и не последний оказался в подобной ситуации и что шансов переиграть Александра Ивановича у него не было изначально, реагировал бы поспокойнее.
– Не в вашем, – чуть резче, чем полагалось, ответил Суздалев. – Обычным армейским капитаном и подполковником. По службе приходилось, и на переходах, и в портах…
– Ну, у меня другая судьба. В лейтенантах не пил и не курил принципиально, отчего и попал в первый отряд межзвездников. Так привычка и осталась. Сейчас немного выпить могу за компанию, а вот табачного дыма не переношу, извините.
– Хорошо, буду на балкон выходить, – со всем полагающимся священнослужителю смирением кивнул Суздалев.
– Что вы, не затрудняйтесь. Когда окружающие курят, это меня никак не травмирует, я только в том смысле, что сам не приемлю, а если рядом дымят – ради бога…
– Ну и хорошо, а то у меня от нехватки никотина иной раз мыслительные процессы тормозятся… Особенно по вечерам.
– Так как мы с вами видим ситуацию? – спросил некоторое время спустя Суздалев, с удовольствием попыхивая хорошей сигарой. – С глазу на глаз можно говорить свободно, не заботясь, что со стороны нас могут посчитать дураками…
– Это меня как раз очень мало волнует. Иной раз дураком казаться – весьма полезно для дела. Особенно с начальством.
– На этом сошлись. Хорошо, – кивнул Суздалев. – А между собой?
– Да то же самое. Лично я, общаясь с потусторонними господами, против воли, но регулярно ощущал себя в том самом качестве. И не потому, что совершал что-нибудь действительно глупое или несоответствующее, а просто так. По определению. Словно бы они настолько больше знают и умеют и принципами никакими не отягощены. У вас, Валентин Петрович, подобного не возникало?
Суздалев смотрел на адмирала пронзительно-сочувствующим взглядом. Маркин подумал: «Не может же он знать о том, что случилось в «Славянской беседе»? Или – может? Как – другой вопрос. Но если действительно знает – я очень здорово проигрываю в этой партии».
– Да не затрудняйтесь вы так, Валентин, – с легкой улыбкой сказал Суздалев. – По своей нынешней специальности я обязан уметь читать в душах. В вашей, например, не располагая никакой специальной оперативной информацией, я прочел, что вы пребываете в легком смятении. Причина этому – встреча с Шульгиным. Так? Я с ним лично мало встречался, все больше с его старшим, как мне кажется, товарищем. Но в поле зрения держал, и мои сотрудники его очень хорошо узнали во время одной совместной операции.
Затем эти господа внезапно исчезли, вместе с «репортером», он же ваш протеже и почетный корветтен-капитан вашего флота – Ростокин. А поскольку вы не привыкли к настоящей тайной деятельности, на уровне подсознания, то выдаете себя примерно в той же мере, как вор, на котором горит шапка. Еще раз прошу прощения, но это выглядит именно так.
– Вы специально меня оскорбляете и провоцируете? – напрягся Маркин.
– Да ни в коем случае. Успокойтесь, Валентин Петрович. Вообразите, что сейчас происходит нормальная, спокойная беседа между столяром и плотником. Уловили? Вам ведь в своих должностях никогда не приходилось полировать тонкой шкуркой то, что успешно вытесано топором? Разумеется, построенные вами «избы» и «церкви» простоят сотни лет, а вот столик из красного дерева в кабинете митрополита или, что бывает полезнее, в спальне его келарши может и перевесить. Как считаете, Валентин Петрович?
– С такими сравнениями мы далеко зайдем, – насупился Маркин. – А в принципе вы правы. Успешно сотрудничать мы сможем, только если правильно и без возможности возникновения в будущем всяких обид и недоразумений распределим сферы ответственности, влияния и так далее. Не следует, чтобы мои и ваши люди пересекались на «одной делянке».
– Так я же с самого начала и подвожу вас к этой мысли, – улыбнулся Суздалев. – Никакого пересечения интересов. Только взаимодополнение. Хотите, я дам вам гарантию, что с завтрашнего утра ни один, вы понимаете, в буквальном смысле слова НИ ОДИН ЧЕЛОВЕК не поинтересуется деятельностью вашей службы? Как будто она вообще исчезнет из реестра государственных структур. При этом все предусмотренное бюджетом финансирование будет поступать неукоснительно, а любые экстраординарные заявки рассматриваться в первую очередь и приниматься без корректировок.
Как у нас в полку начальник артвооружения регулярно получал спирт в немыслимых количествах «для промывки фокусного расстояния прицелов». Друг-однокашник у него возглавлял корпусную службу маттехснабжения…
– Что-то мне кажется, я начинаю поступаться принципами, – грустно сказал Маркин и поднял свою рюмку с коньяком.
– Принципы нужно уметь вовремя доставать из кармана и вовремя прятать в карман, – сообщил Суздалев. – Не Христос ли сказал: «Я принес не мир, но меч»? Глупо держать в памяти заповедь «Не убий», отправляясь на войну.
Он со вкусом выцедил коньяк, посмотрел на коллегу веселыми глазами.
– А не вызвать ли нам автомобиль и не отправиться ли куда-нибудь? На Воробьевы горы хотите? Я там знаю одно совершенно приятное, а главное – приватное заведение. Хватит нам, действительно, терзать друг друга нудными антиномиями. Люди мы, в конце концов, или голые функции? Суббота для человека, а не человек для субботы. Так как?
– Ну, будь по-вашему. Давайте, вызывайте. Прежняя жизнь все равно кончилась, а новую нужно начинать весело…
А по дороге все-таки расскажете, как мы с вами планируем бороться с силами «не от мира сего».
Вечер и часть ночи Суздалев с Маркиным провели хорошо. Даже на удивление хорошо. С застекленной от потолка до пола галереи седьмого этажа, разгороженной на уютные кабинеты для любящих приватность господ, чудесно видно было празднично иллюминированное Бульварное кольцо. За ним высились подсвеченные прожекторами Кремлевские башни и гигантская елка на Манежной площади.
Отодвинув штору с обращенной внутрь громадного общего зала односторонне прозрачной стены, можно было наслаждаться со вкусом составленной концертной программой. Выбор блюд превосходил самые смелые мечты Лукулла. А главное – до полуночи оба собеседника твердо выдерживали условие – ни слова о делах. Каких бы то ни было. Можно было вспоминать боевую молодость, говорить о женщинах, травить анекдоты, то есть развлекаться самым беспринципным образом. А этого у всех было в избытке.
Суздалев рассказывал, как в составе отряда речных канонерок под убийственным огнем с береговых фортов прорывался вверх по реке Хуань-Пу, как они заняли, наконец, Нанкин и как ему, тогда еще в капитанском чине, лично Император Пу-И-дзи, вновь посаженный на престол Поднебесной двумя десантными ротами, вручал орден «Восьми Золотых драконов».
Раритетная вещица, извлеченная из сундука прабабушки, императрицы Цы-Си. Не латунь и не томпак, чистое золото с серебром и рубиновая эмаль.
То, что территория возрожденной империи простиралась ровно на радиус полета тактических ракет с канонерки «Манджур», Пу-И не слишком заботило. Главное – зацепиться. Большой Северный Брат на полпути не бросит.
Так и случилось. С помощью срочно высаженного десантно-штурмового батальона, поддержанного тяжелым крейсером «Аскольд», владения Пу-И-дзи простерлись до Фучжоу, Уханя и Циндао. Но к личным впечатлениям Суздалева это уже отношения не имело. Получив вдобавок к ордену чин мандарина третьего ранга с пятью яшмовыми шариками на фуражке, он отбыл из Поднебесной для выполнения очередного задания.
Маркин, в свою очередь, увлеченный дружеской беседой, подробно доложил, все время пытаясь рисовать чертежи на салфетке, как в 2025 году он вышел за пределы Солнечной системы на подводной лодке «Барс», оснащенной вместо дизелей первым в мире хроноквантовым двигателем. Никаких других прототипов космических кораблей, способных противостоять вакууму и иным возможным опасностям, в России не существовало. Потом американцы, конечно, писали, что использовать подводную лодку для межзвездных перелетов придумали именно они, какой-то каперанг Гаррисон, или другой, несущественно. Но мы ведь знаем… Какие у них, на хрен, лодки? А уж двигатели…
– Я ведь даже и забыл, когда у меня выдавалось нечто подобное, – где-то во втором часу сообщил Суздалеву Маркин. – Похоже, я многое упустил в этой жизни…
Одетый в черные брюки и алый сюртук с золотыми шнурами официант к этому времени подал на стол десерт, кофе и ликеры.
– «Не оставляй добра на перекрестке этом, к нему возврата нет, об этом не забудь», – процитировал Георгий Михайлович. – Наши с тобой боевые и трудовые заслуги кто-нибудь когда-нибудь вспомнит? Клянусь, что нет. Похоронят, стрельнут три раза в воздух холостыми и на следующий день, мучась с похмелья после поминок, вернутся к текущим делам. И все для нас в этом мире кончится. Совсем. Так что выпивай, Валентин, и закусывай и хоть сегодня не думай о всяких глупостях. Девочек в кабинет вызывать вроде и не по чину нам с тобой, а вот того скрипача – отчего бы и нет? Пусть нам персонально из Сарасате что-то изобразит… А мы будем слушать и время от времени промокать платочками уголки глаз. Вполне в образе подгулявших купцов получится.
– Только мы с тобой на купцов не сильно похожи, – усомнился Маркин.
– Купцы – они всякие бывают. Зависит от того, чем торгуют. Если контрабандным оружием – так в самый раз. Вот, помню, как-то недалеко от Баб-эль-Мандебского пролива…
– Так, может, сразу про баб, минуя пролив? – засмеялся Маркин.
– Нет, подожди, там очень интересно получилось…
С увлекательного разговора об оружии, в котором оба понимали толк и знали, где что можно купить и что продать – в высших государственных интересах, естественно, поскольку собственных у них давным-давно уже не было, разговор сам собой соскользнул на исходную тему.
– И все-таки – что мы можем противопоставить вторжению на Землю сил, о которых не имеем никакого представления и которые сильнее наших умственных и технических возможностей? – спросил Маркин. – Ты ведь не смог объяснить и понять, что там на Селигере случилось?
– Объяснить пока не смог, а противодействовать – очень даже. И объясним, дай срок. В чем на наших друзей сильно надеюсь…
– Хотелось бы верить. Я вот, не один год назад столкнувшись с кое-чем инопланетным, так ни в чем и не разобрался.
– Но тоже – предотвратил. Знаю, что там у вас случилось, сам в догадках теряюсь, что за гуманоидная публика пыталась едва не четверть земного населения в аренду взять,[11] но ведь дальнейшей агрессии не последовало? А вас там не так и много было.
– Плюс Ростокин, – сказал адмирал.
– Именно. И на Селигере Ростокин плюс Шульгин. Еще раньше – Ростокин, плюс Шульгин, плюс Новиков. В твоих недоразумениях тоже Ростокин откуда-то неожиданно всплывал. Тенденция, нет?
– Как тебе сказать. Просматривается тенденция. По пяти точкам уже можно начинать графики строить. С последующей экстраполяцией, – согласился Маркин. – А если без них? Не справимся?
– Мы с тобой тоже кое-чему подучились. Я, к примеру, завтра же собираюсь встретиться с военным министром. Что-то давно у нас крупномасштабных маневров не было. А бойцов и командиров учить надо? Надо. Возьмем и устроим этакую «Зиму-57» с призывом приписного состава…
– Союзникам объяснять придется, чего это вдруг…
– Обойдутся. Если каждому свой каждый шаг объяснять… Как говорил Иван Грозный: «На своей земле я над людишками властен…»
– Опять двусмысленные ассоциации…
– Если нас ждут суровые дни и годы, нужно быть максимально готовыми. Ты ведь не думаешь, что к нам придет культурный и высокоцивилизованный враг? Я этих врагов видел.
– Я, представь, тоже.
– Допустим, Валентин, боевые подразделения мы в готовность приведем. Четырехмиллионной армии нам хватит, чтобы отразить любое вторжение. Еще мой спецназ…
– Еще Космофлот и сорок миллионов мобилизационного резерва. И это только в России, – загибал пальцы на руке Маркин. – Но…
– «Но» – это наше полное незнание о природе опасности. А при этом все наши расчеты – поюнуть и растереть. Вот о «но» поговорим в следующий раз. Сейчас я не готов. Понятно выразился?
– Куда понятнее.
Расставаясь под утро, встретиться договорились в первый присутственный день после Нового года. Провести нормальное деловое совещание, с привлечением компетентных специалистов. Конец света, если ему и назначено произойти, вряд ли подгадает точно под праздники. Ну а если да, так все равно ничего не поделаешь.
Кроме того, оба конфидента в глубине души надеялись, что снова, как «Deus ex machina», объявится Александр Иванович или Андрей Дмитриевич и объяснит, что нужно делать и как.
Однако сам Георгий Михайлович уже в десять часов утра, слегка отоспавшись и приняв контрастный душ, вызвал к себе офицера для особых поручений. Того самого Анатолия Арнаутова, который обеспечивал операцию «Репортер» и помогал Шульгину спасти «Призрак» от захвата и интернирования[12] в Австралии. Проверенного в стольких делах и допущенного к стольким тайнам, что скрывать от него было нечего. В смысле фактов, конечно. Замыслы начальства – это особая статья.
– Значит, Анатолий, сделай ты мне вот что… «Боржома» из холодильника принеси, для начала, и охотничью чарку «Смирновской».
Требуемое немедленно было доставлено. Полковник там ты или прапорщик, если генерал просит, по какой-то причине не желая прибегнуть к услугам вестового, – сделаешь.
– Спасибо, – сказал Суздалев, хлопнул сотку ледяной водки, подражая Александру Третьему. – Тебе не предлагаю, у тебя работы сегодня много будет. До вечера управишься – отпущу праздновать. Нет – извини. Задача в принципе простая, но уж как пойдет. Иди сейчас в оперативный отдел, подними дело «Репортера». Помнишь, подсказывать не нужно?
– Да Георгий Михайлович, оно у меня все вот здесь, – полковник постучал себя пальцем по виску. – Что требуется?
Суздалев хитро улыбнулся. Четок у него в руках сейчас не хватало и красной сутаны на плечах, а то вышел бы чистый Арамис из третьего тома, дослужившийся до иезуитского генерала.
– Все здесь? Ну, так и доложи мне, не сходя с места, что за аппаратура у него на квартире установлена, позволяющая без видимых следов взламывать коды линий СБКФ и мои тоже. Где он ее взял и где пользоваться научился. Итак…
Полковник Арнаутов явным образом растерялся. Чего-чего, а такого вопроса он совсем не ожидал. Вся разработка по Ростокину касалась совершенно других вопросов.
– Вот, друг любезный, – с печалью в голосе сказал Суздалев, – учил я вас, учил, а простейшим вещам не выучил. Чего ради храбриться, когда не знаешь, о чем дальше речь пойдет? Дело ты, верю, наизусть знаешь, а откуда тебе известно, что именно начальник спросит? Он кое в чем тоже компетентен, невзирая что молодым – ретроградом кажется, склерозом пораженным. Только я тоже молодым был и хорошо усвоил – раз спрашивают очевидное – непременно жди подвоха. То ли обстоятельства изменились, то ли новые факты всплыли, тебе пока неизвестные. Всегда лучше перестраховаться, в непонятку сыграть. «Да, да, конечно, ваше превосходительство, немедленно все бумаги подниму, часиков через шесть кое-что и выясним…»
Эх, штаб-офицеры, учить вас и учить! Даже самого себя обманывать, лишь бы хоть в будущем толк вышел. Нам ведь, старикам, на покой скоро, а кому бразды передавать?
Анатолий понимал, что начальник в хорошем настроении, отчего и веселится доступным ему образом, а все равно было неприятно. Мордой-то по асфальту Георгий Михайлович его таки повозил.
– Виноват, ваше превосходительство. Учту. Спасибо за науку. Погорячился я. Немедленно все будет сделано. До вечерней поверки…
– Посмотрим. Иди, работай.
Арнаутов немедленно собрал свою команду, которую пришлось, действуя от имени начальника, усилить компьютерными инженерами экстра-класса из отдела спецтехники. Собственные подчиненные полковника слыли знатоками в несколько других областях.
Все замки и охранные системы высшей защиты, охранявшие квартиру Ростокина на Сретенском бульваре, вскрыли и отключили изнутри, проникнув через крышу и балкон, чтобы не создавать ажиотажа и не привлекать внимания соседей по лестничной площадке. Балконная дверь, само собой, тоже была укреплена достаточно, чтобы стать непреодолимым препятствием для квартирных воров, но специализированная государственная структура располагает другими возможностями и работает на ином уровне.
– Что ж, уютное гнездышко, – отметил Анатолий, обойдя квартиру, мгновенно зафиксировав наметанным взглядом все, что может представлять интерес. Задача-то ему поставлена конкретная, но бог его знает, на чем Суздалев вздумает подловить его в следующий раз?
Стены просторной гостиной увешаны многими десятками фотографий – голографических, цветных стереобъемных и даже черно-белых плоских, стилизованных под двадцатый век. На большинстве из них красовался сам Ростокин. В пейзажах чужих планет, на фронтах многочисленных земных войн, где ему довелось побывать, просто в разных достопримечательных местах. Чувствовалось, что этот парень относился к себе хорошо, был фотогеничен, умел позировать, и собственные многочисленные изображения его отнюдь не раздражали. Контрразведчик не видел в этом ничего нарциссического. Журналист явно жил полной жизнью и хотел, чтобы память о пережитом всегда была перед глазами.
Будь он одноглазым кривобоким карликом – тогда, конечно, не стоило бы ежедневно любоваться, а так – отчего и нет? Меньшую часть коллекции занимали изображения девушек, скорее всего, тех, над кем он одерживал победы или просто встречался в обстоятельствах, заслуживающих запечатления. Все они были очень недурны собой, но центральная роль отводилась одной – его последней подруге Алле Одинцовой-Варашди, с которой он и исчез бесследно и которая интересовала службу Суздалева едва ли не больше, чем сам Ростокин.
В кабинете полки забиты книгами на нескольких языках, библиотека богатая, но бессистемная: ни алфавитный, ни тематический принцип расстановки не выдержан. Рабочая библиотека журналиста, который не знает, что ему потребуется в следующий раз, достает книгу, когда нужна, и ставит куда придется. Но обычно такие люди, как «репортер», обладают великолепной памятью, обходятся без каталогов.
Еще у Ростокина имелась неплохая коллекция холодного оружия разных времен и народов и множество сувениров, какие люди привозят из дальних странствий. Ценных только для их владельца. Вот, пожалуй, и все в доме, что характеризовало личность «поднадзорного». Остальные предметы были вполне стандартными, приобретены исключительно для удобства жизни, а не из каких-либо других соображений.
Пока Арнаутов производил первичный осмотр, инженеры – то восхищенно, то удивленно присвистывая, обмениваясь понятными только им терминами – вплотную занялись компьютерным терминалом. Удивительно, но и здесь прижилось иностранное название, хотя Россия в создании электронно-вычислительной техники от западных стран никогда не отставала. Просто, наверное, слово удачное подвернулось. Отечественные аналоги как-то не прижились, в отличие от самолета, вертолета, пулемета и так далее. «Вычислитель» – не совсем про то, ЭВМ – тоже, поскольку функция именно «вычисления» здесь не самая главная. Были попытки использовать «электронный мозг» – длинно и нарочито. Так и остался – «компьютер», приобретя, впрочем, как и другие иноязычные термины, несколько другой смысловой оттенок.
– Что-то интересное нашли? – осведомился полковник, подходя. Сам он в этих делах не разбирался, умел только кнопки нажимать на пульте аппарата, включенного в общую сеть, в пределах познаний, полученных на месячных курсах. А что там внутри, как и почему работает – никогда не интересовался.
– Да уж, Анатолий Степанович, – оторвал глаза от вскрытого ящика процессора старший инженерной группы, низкорослый мужчина лет под пятьдесят, чем-то похожий на скульптурный портрет Сократа. – Интересный у вас клиент. Мало того, что такие модели никогда в открытую продажу не поступали, их и у нас в управлении нет. По причине запредельной избыточности характеристик. Не всякий звездолет таким оснащен. Все операционные блоки – на крюгерите!
Это было сказано таким тоном, как если бы обнаружилось, что унитаз у Ростокина золотой, инкрустированный бриллиантами.
– Сей факт пусть вас не смущает, – небрежно успокоил специалиста Арнаутов. А в памяти сделал пометку: узнать, что за зверь «крюгерит» и с чем его едят. Спрашивать прямо сейчас было ему как бы невместно. – Владелец имеет непосредственное отношение к Космофлоту. Мог там разжиться?
– Космофлотовских порядков я не знаю. Может, там и принято делать такие подарки, при разборке списанных кораблей, например, но это вопрос не моей компетенции. Интереснее другое. Тут установлен крюгеритовый псевдомозг последней модификации с быстродействием за триллион операций в секунду, причем на базе всех известных логик одновременно. Насколько мы успели догадаться…
– Мне это ничего не говорит, – пожал плечами Анатолий. – А на моем рабочем сколько?
– На вашем? – Инженер хмыкнул. – Миллион от силы, да и того вы никогда не использовали. А здесь, как следует из курса школьной математики, – на шесть порядков быстрее. Вашему компьютеру до этого – как нам до Марса пешком. В буквальном смысле.
– Впечатляет.
– Но это еще не все. Мы обнаружили несколько блоков, назначение которых пока вообще не понятно.
– Неземного происхождения, что ли? – поднял бровь полковник.
– Вполне земного. Тут сомнений нет. Просто – неизвестно, зачем их сюда вставили.
– Вам – и неизвестно? – Анатолий искренне удивился. Ему казалось, что люди, специально на то обученные, должны понимать все в рамках своей профессии. Ну, если не абсолютно все, то достаточно, чтобы сориентироваться, что к чему. А то выходит, как если бы врач, вскрыв живот пациента, заявил, что не может сообразить, для чего здесь что-то красное, большое в правом подреберье.
– Не наша компетенция, мы эксплуатационники, а не конструкторы. Дайте нам эту машинку на неделю – разберемся.
– Рад бы, да не могу. Машина должна оставаться здесь, причем в полностью рабочем состоянии и без всяких следов вмешательства.
Инженер развел руками:
– Тогда вы зря нас пригласили. Включить незнакомые устройства, начать их тестировать на разных режимах и надеяться, что следов вмешательства не останется… Простите, но это почти то же самое, что к впервые увиденной мине с молотком и зубилом подступаться. Обращайтесь на другой уровень.
– Стоп-стоп! – Полковник ощутил, что в голове у него что-то забрезжило. – Другой уровень, другой уровень… Интересно. А в нормальном режиме вы хоть сможете на ней работать?
– И в нормальном, и чуть выше. Только уж очень много директорий заблокировано неизвестными паролями, и база данных недоступна.
– Черт с ней, с базой. Ну-ка, выведите меня на информцентр управления.
– Сейчас сделаем…
Арнаутов связался с сотрудником, отвечавшим за архивные материалы всех находящихся в производстве дел.
– Степень срочности – первая. За полчаса поднять мне информацию на всех, абсолютно всех специалистов компьютерного дела, с которыми каким-то образом мог пересекаться Ростокин Игорь Викторович и Одинцова-Варашди Алла. Отчество сам найдешь. С самого детства проверить. Школа, институт, Космофлот, командировки, служебные задания, любовницы и любовники. Все! Частым гребнем, по всем источникам…
На три минуты раньше назначенного времени на мониторе ростокинского компьютера появился не очень длинный список фамилий с краткими установочными данными.
– Распечатайте, – приказал полковник. С экрана он читать не любил. Пробежал глазами по листу, молча сунул его инженеру.
– Что скажете?
Тот вначале смотрел на список без особого интереса, потом хлопнул себя ладонью по лбу.
– Ну, Анатолий Степанович, что вы от нас хотите? Вот вам и другой уровень…
– Действительно серьезный?
Очень хороший оперативник, не зря ставший полковником в тридцать с небольшим, и Герой России вдобавок, за разные интересные операции во всех странах и вольных агломерациях,[13] входивших в сферу интересов Суздалева, Анатолий никогда не затруднял себя лишними знаниями. Не мое – значит, не мое. Для каждого дела есть свой человек, и для каждого человека – свое дело.
При этом он подчеркнул ногтем на листе заинтересовавшее его имя. Тоже ведь кое-что соображаем. Газеты изредка просматриваем.
– Вы именно этого человека имеете в виду?
– Да конечно же, Анатолий Степанович. Если б мы сразу… Директор академического института Пределов знания, нобелевский лауреат, получивший премию в тридцать лет, ровно через год после опубликования своего исторического труда! Что почти беспрецедентно. И он же личный друг и одноклассник вашего фигуранта! Да вы бы меня не смогли удивить сильнее, если б сказали, что к Эйнштейну имеете служебный интерес.
– Про Эйнштейна я тоже не слишком много знаю. А вот про господина Скуратова Виктора Викторовича что можете сказать?
– Господин полковник, – перешел на официальный тон старший инженер, – об этом человеке я ничего не могу сказать, слишком далеко мы друг от друга отстоим интеллектуально и служебно. Я Бауманку окончил, но то, что подобные Скуратову люди пишут, понимаю через три фразы на четвертую. И не уверен, что правильно.
– А хотите, я сейчас сюда этого господина Скуратова приглашу, и он вам объяснит то, чего вы понять не в силах? – Анатолий не блефовал, он был уверен, что получит от Суздалева необходимую санкцию, а также и поддержку, очень правильно он уловил настрой командира.
– Тогда я вообще перестану понимать, как этот мир устроен, – ответил инженер и, не стесняясь всемогущего полковника, нервно закурил. Что категорически запрещалось на секретно обследуемых объектах. Анатолий только махнул рукой и сам достал сигареты. – Вы – и нобелевского лауреата на происшествие вытащите? Как свидетеля или как понятого? – В голосе инженера прозвучала плохо скрытая ирония.
– Да свободно! Нужно будет – хоть подозреваемым. – Полковник пришел в то состояние и настроение, когда море действительно по колено. – Кстати, «подозреваемый» – это не лишено! Совсем не лишено…
Задание начальника он практически выполнил, то есть выяснил, что это за аппаратура и откуда она взялась (точнее – могла взяться). Так и доложим, а какое Суздалев после этого примет решение – не нашего ума дело.
Анатолий вышел в другую комнату и позвонил по прямому номеру. Георгий Михайлович помолчал не меньше полминуты. Долго.
– Молодец, – сказал он, вздохнув. – Твоя компетенция на этом в самом деле кончается. Подключаем тяжелую артиллерию. Жди…
До следующего звонка полковник успел распорядиться, чтобы вся техника была приведена в исходное состояние.
– Так как, будем мы иметь честь лицезреть компьютерного бога? – с некоторой ядовитостью в голосе спросил инженер. Сам он в такую возможность не верил на девяносто процентов.
Переговорив с порученцем, Суздалев задумался. Разговаривать со Скуратовым придется самому, это очевидно. Он не собирался расширять круг посвященных, да и ученые такого масштаба – народ самолюбивый. Нобелевский лауреат свободно может обидеться, если к нему обратится рядовой, пусть и снабженный необходимыми полномочиями сотрудник неофициальной организации. Пошлет куда подальше, и ничего ты ему не сделаешь, а дело будет провалено, поскольку подписку о неразглашении требовать с ученого нет никаких оснований.
«Пока нет», – тут же подумал Суздалев в унисон с Арнаутовым.
Следующая возможная неприятность – Скуратова может просто не оказаться в Москве. Отбыл на какую-нибудь конференцию зарубежную – и адью! Но это уж как повезет.
Георгий Михайлович выяснил нужный номер и, еще раз вздохнув, поднял трубку многоканального телефона спецсвязи. На этот раз ему повезло. Он договорился с академиком о немедленной личной встрече и вызвал машину к подъезду.
В дверь позвонили. Встречу высоких гостей Анатолий не доверил никому, открыл двери лично.
На пороге стоял выглядевший несколько старше своих тридцати шести лет мужчина, высокий, плотный, с далеко открытым за счет лысины лбом и окладистой каштановой бородой. За его спиной – Георгий Михайлович собственной персоной и двое незнакомых Арнаутову парней, специализация которых не вызывала сомнений, хотя к конторе они не принадлежали.
– Проходите, господа, проходите, – радушно сказал полковник, делая шаг назад и в сторону. Жестом из-за спины Скуратова Суздалев показал, чтобы Анатолий замолчал и не путался под ногами. Что тот исполнил с явным удовольствием.
– Вот, пожалуйста, Виктор Викторович, – продолжал Суздалев ранее начатый разговор, – это все наши работники, они просто пытались выяснить, каким образом с этого устройства господин Ростокин смог войти в наши сети. Вопрос в некотором роде принципиальный. Но ничего другого они не делали. Так?
В обращенном к старшему инженеру вопросе прозвучала строгость и определенный намек.
– Точно так, Георгий Михайлович, – ответил компьютерщик, глядя на Скуратова, как на явление Христа народу. – Посмотрели, увидели, что пароли нам недоступны, и больше ничего. Даже не смогли узнать, с какими еще адресами пользователь связывался.
– Смешно было бы, – хмыкнул Скуратов, снимая пальто с бобровым воротником. – Пойдемте…
Суздалев велел всем оставаться в кухне и прихожей, пропустил академика вперед и плотно затворил дверь.
– Водки, кажется, следует выпить и кофе. После этого – излагайте все, как есть на самом деле. С подробностями. – Скуратов опустился в кресло, где явно сидел далеко не в первый раз. – И учтите – каждый час моего праздно потраченного времени стоит больше, чем бюджет всей вашей… организации. Я не собираюсь требовать за свою консультацию какого-то гонорара, но если вы пригласили меня зря – я сумею сделать так, чтобы в будущем у вас таких желаний не возникало…
Он вытер большим клетчатым платком потный от пешего подъема по лестнице лоб, взял из ростокинской коробки сигару, с сомнением ее понюхал и положил обратно.
Появившись в особняке лауреата, расположенном в тихом переулке рядом с Чистыми прудами, Суздалев представился одной из своих реальных должностей, но не самой главной. Сообщил, что речь пойдет об Игоре Ростокине, несомненно хорошо Виктору Викторовичу известном.
– Еще бы неизвестном. С ним что-то случилось?
– В том смысле, который вы в эти слова вкладываете, нет. До вчерашнего дня был жив и здоров, но события вокруг него происходят более чем странные…
Георгий Михайлович ждал встречного вопроса, но собеседник молчал, внимательно рассматривая гостя.
«Компьютерные логики, – подумал Суздалев. – А чем они отличаются от человеческих? Я премий не получал и трудов не писал, а всю твою логику вижу насквозь. Хочешь, чтобы я говорил, а ты слушал, соображая, стоит ли вообще отвечать. Ну, изволь».
– Давайте так сделаем. Нам требуется ваша профессиональная помощь. Если вы заинтересованы в судьбе вашего друга, вы нам непременно поможете. Добавлю также, чтобы вы не испытывали нравственных сомнений, – сам по себе господин Ростокин ни в чем не обвиняется, дела до сих пор никакого не заводилось. Одни странности пока что, но ничего криминального. Так что я действую исключительно в рамках оперативного дознания. Вы, разумеется, можете отказаться со мной сотрудничать, и это является вашим законным правом.
Но тогда, боюсь, дело с неизбежностью заводить придется. И в этом прискорбном случае на основе Уголовно-процессуального кодекса и некоторых служебных «уложений» вам придется в качестве свидетеля под протокол ответить на несколько вопросов. В том числе – с какой целью вы передали господину Ростокину тот компьютер, что установлен у него в квартире? Какие неизвестные на современном этапе изменения в него внесены и что они собой представляют? Является ли данная аппаратура секретной, и если да – на каких именно основаниях нарушен режим?
Это я так, в первом приближении, на самом же деле вопросов может быть гораздо больше. Но самое главное – мы все потеряем драгоценное время, последствия чего могут быть… Я не специалист в вашей области, но в своей – да, поэтому скажу попросту – я вижу их катастрофическими.
– Вы сказали – до вчерашнего дня Игорь был жив и здоров. А где он сейчас? Почему мне даже не звонил с минувшего лета? Исчез, будто снова в космос улетел. Но я бы знал…
– Очевидно, у него были обстоятельства. Те самые, которые заставили меня к вам обратиться. Так поможете? – взял быка за рога Суздалев. – Всего и нужно, что проехать к нему на квартиру и на месте нам кое-что объяснить, подсказать. В час-другой мы, надеюсь, уложимся…
– Хорошо, поехали…
Скуратов встал, открыл известный ему бар, скрытый внутри большого средневекового глобуса, достал бутылку, две рюмки.
– Мне не надо, я на службе, – предупредил его Суздалев.
– Как хотите. Я кофе просил, – напомнил академик.
Георгий Михайлович приоткрыл дверь.
– Анатолий, сообрази кофе. Две чашки по-турецки… Или желаете капуччино? – тоном радушного бармена спросил он у Скуратова.
– Пойдет по-турецки. Пусть несет весь кофейник, чувствую, разговор будет долгий и нелегкий.
Ни один из сортов сигар, имевшихся у Ростокина, Скуратова не устроил, он достал из внутреннего кармана домашнего твидового пиджака свою, в герметичном алюминиевом пенале.
– Итак, – после тщательно соблюденной процедуры раскуривания сказал академик, – Игорь последний раз связывался со мной в конце лета. Я тогда был в Антарктиде…
– Из Москвы звонил или из Калифорнии?
Скуратов взглянул исподлобья, презрительно пыхнул дымом.
– Вы уже тогда за ним следили?
– Не следили, наоборот. Прикрывали. Он невольно попал в очень непростую ситуацию, совершил несколько ошибок, и жизни его угрожала нешуточная опасность.
– Хорошо, верю. Из Калифорнии. Мне он тоже, не вдаваясь в подробности, сказал, что положение сложное, но надеется выкарабкаться. И еще он хотел знать, когда я буду в Москве…
– И с тех пор – все?
– Искать не пробовали?
– Пробовал. Безрезультатно.
– А чего же куда следует не обратились? Пропал, мол, человек и так далее. Друг любимый все-таки.
– По причине очевидной бесполезности. Я давно знаю, что Игорь не только журналист, он связан со службой безопасности Космофлота. Эрго – в случае чего они сами способны его отыскать, и лучше, чем обычная полиция. Если б нашли живым – он бы со мной немедленно связался. Нет – сведения так или иначе просочились бы. Из чего я сделал вывод, что он, скорее всего, продолжает выполнять очередное задание. В любом случае я ничем помочь ему не мог. К тому же, как я догадался, ваше ведомство с якобы неограниченными возможностями тоже ничего не добилось. Следовательно, с точки зрения логики моя позиция безупречна.
Скуратов не стал докладывать генералу, что именно сказал ему Игорь, и о переданном Ростокиным по внепространственной связи кристалле с очень важной, по словам Игоря, информацией.[14] Раскодировать его он не стал, хотя поначалу и пообещал немедленно сделать это. Вмешались определенные личные соображения. Решил, что посмотрят вместе, когда Игорь вернется. Убрал в сейф, где он так до сих пор и лежит. Вот если друг через три года не объявится, тогда, согласно закону, можно будет взглянуть, что там за грандиозное открытие зашифровано. Интереса к другим наукам, кроме собственной, Виктор не испытывал. К биологии в том числе. Тем более друг – известный фантазер, натура увлекающаяся. Сегодня одним, завтра другим…
Суздалеву позиция академика показалась странной. Наверняка что-то недоговаривает.
– В какой-то мере вы правы. Только все обстоит гораздо увлекательнее, чем банальные игры разведок и контрразведок…
Анатолий принес кофе, разлил по чашкам. Взглядом спросил, не нужен ли еще зачем, и тихо удалился.
Скуратов неторопливо, как ликер, выцедил водку, запил глотком кофе.
За это время Суздалев решил, что вряд ли стоит ограничиваться лишь консультацией по поводу компьютера. Следует раскрыть все карты и привлечь академика к работе по полной программе. Раз уж решили мобилизовать все силы на борьбу с неведомым. Да и фактор личной заинтересованности должен сыграть свою роль, ему ведь будет предложена задача, о которой до сих пор в научном мире ни одна душа понятия не имеет. По крайней мере, не рассматривает идею сопряжения параллельных миров как проблему сегодняшнего дня.
Георгий Михайлович усмехнулся про себя: специалист такого класса на службе управления – это круто! Маркина в данном случае он легко обходит на повороте. И тут же себя одернул. Чертова привычка мыслить категориями соперничества. Они же договорились с адмиралом о честном сотрудничестве. А насчет этого академика… Судя по его внешности и манерам, скорее он заставит обе конторы работать на удовлетворение своего любопытства.
Приняв окончательное решение, Суздалев коротко, почти языком военного рапорта, изложил события последнего полугода, связанные с персоной Ростокина. Не задерживаясь на сути загадочного «Фактора Т», основное внимание уделил своему общению с посланцами параллельного мира, их таинственным появлениям и исчезновениям, обрисовал, со слов Новикова, идею «химеры», ее возможного схлопывания, а также и Ловушек Сознания. Упомянул о «селигерском инциденте» и последнем визите Ростокина и Шульгина.
Скуратов весьма удивил генерала своей способностью слушать, людям его круга и образа мыслей не слишком свойственной. Не перебивать в самых интересных местах, не задавать промежуточных вопросов – деловых и риторических. То есть он желал получить информацию в том виде, как ее воспринял непосредственный наблюдатель. А трактовкой и препарированием имеющихся сведений можно будет заняться на следующем этапе, предварительно сформулировав гипотезу исследования.
– Таким образом, Виктор Викторович, непосредственным поводом для обращения к вам послужил вроде бы малозначительный факт – наличие в распоряжении фигурантов дела аппаратуры, поставившей в тупик наших специалистов. Очень неплохих, смею заметить. Со своей работой они справлялись вполне. На уровне задач, имевшихся до последнего времени, вопросов к ним не возникало. Но то, что они не смогли выяснить простейший, на мой непросвещенный взгляд, вопрос – каким образом были взломаны самые совершенные из существующих защитных систем, проходящие по разряду «строго секретных» и «особой важности», – заставило меня лично заняться этим делом. Хотя оно, в принципе, слишком мелко на фоне вопросов, которые я поставлен решать… Я имею в виду именно «компьютерную составляющую». Раньше мне просто не приходило в голову…
– Достаточно, – поднял руку ладонью вперед Скуратов. – Значит, ваши инженеры не смогли отследить машину, с которой ломали защиту. А вы, к компьютерам никакого отношения не имеющий, все же установили ее местонахождение?
– Так это же совершенно разные вещи! И методики. Что тут думать-то? Я просто знал, в отличие от моих сотрудников. На связь выходил Ростокин, единственное место его постоянного проживания – вот оно. Сели, приехали и все увидели. Вот если бы он работал с любого другого адреса, получился бы удар в пустоту. И вы бы сейчас занимались своими предпраздничными хлопотами или научными размышлениями…
– А вы? – с долей любопытства спросил Скуратов.
– Прорабатывал бы другие версии. Божьи мельницы мелют медленно, но верно. Иногда случается, что жернова ускоряют ход. Что мы и наблюдаем в данный момент.
– Понятно-понятно… – Академик стряхнул белоснежный столбик пепла с сигары, докуренной на две трети. Он отчего-то совершенно не хотел говорить на тему параллельных миров и отношения к ним Ростокина. Принял к сведению, и все.
– Хочу вас предупредить, – заметил Суздалев, разворачивая кресло, – все, что вы сможете найти, автоматически является секретным. То есть вся информация, начиная со дня возвращения Ростокина в Москву из последней экспедиции и по текущий момент. И вы ее обязуетесь предоставить мне, также на основе строгой конфиденциальности. О вашей причастности к делу будем знать только я и вы.
– Разумеется и безусловно. При всей моей отдаленности от людей вашей профессии, вы мне внушаете странное доверие. Что касается фактографии… Мои по этому поводу рассуждения и мысли засекречиванию, увы, не поддаются. Кроме того, если я захочу, могу, например, стереть всю содержащуюся в памяти машины информацию, предварительно перекачав ее на другой компьютер. И вы никогда и никаким способом не сможете доказать, что она здесь когда-нибудь была. Я понятно выразился?
– Вполне. Что же касается неприязни, которая сквозит в вашем тоне, она, мне кажется, свидетельствует о вашей недостаточной информированности. Или – глубоко скрытом детском комплексе. Ни к одной из служб, чем-то когда-то вас травмировавших, я не имею никакого отношения.
– Как вы можете судить о том, чего не знаете? – равнодушно спросил Скуратов. Именно – равнодушно, ни малейшего намека на эмоции с любым знаком.
– О чем не могу – судить не берусь, но сейчас говорю с полным на то основанием. При случае мы сможем обсудить эту тему отдельно.
– Как получится… Но сейчас я сделаю то, о чем вы просите. Считайте это моим капризом. Ну, давайте наконец посмотрим, что тут у нас с компьютером, – предложил он, пересел к терминалу и включил питание. Экран монитора засветился, и академик с почти недоступной для человеческого взгляда быстротой забегал пальцами по основной и двум дополнительным (как у оргáна) клавиатурам. Следить за его действиями было бессмысленно, а главное – утомительно. Георгий Михайлович вышел в кухню, где за пустым чаем скучала его и не его оперативная группа.
– Ты, Анатолий, останься пока, и вы тоже, – обратился он к старшему инженеру. – Остальные свободны.
Руководитель охраны Скуратова подскочил. Думал, что здесь он что-нибудь значит. И право на какое-то слово имеет. В окружении очень милых людей, едва на капитанские чины тянущих. Возможно, и значил на своих уровнях. Обижать его никто не собирался.
– Как, получился разговор? – спросил Суздалева полковник, когда они вышли на балкон. Внизу расстилалась заснеженная Москва, вовсю готовящаяся к очередному празднику. В парке, окружающем «Славянскую беседу», одетые в красные рубахи и русские сапоги служители украшали живые елки, складывали дрова для новогодних костров перед теремами.
В воздухе почти на уровне глаз кружили стаи черных галок. Сквозь кисею медленного снегопада просверкивали золотом купола церквей. По бульвару вереницей скользили сани, запряженные парами и тройками лошадей. На всю праздничную неделю градоначальник запретил въезд в пределы Бульварного кольца механического транспорта. За исключением трамваев, которые продолжали бегать по своим рельсам, никак не портя облик исторического центра. Только прижавшиеся внизу к тротуару машины Суздалева слегка выбивались из общей патриархальной картины. Но на эту серию номеров, ничем вроде бы от остальных не отличающуюся, власть градоначальника не распространялась.
– Разговор? Нормально. Когда ты отучишься, Анатолий, задавать необязательные вопросы?
– Так Георгий же Михалыч! – почти с отчаянием возопил полковник, не повышая, впрочем, голоса. – Строевик я по образованию и натуре. Не учили меня с детства и до сих пор не научили вашей психологии. Что думаю, то и говорю. Вы меня лучше в войска отчислите. Там куда проще.
– Кому проще? Тебе, само собой, проще будет. Сделаю я тебя завтра командиром дивизии – вот там и развернешься. Круглые сутки сможешь говорить что думаешь, а поручики и капитаны будут тебе в рот смотреть и каблуками щелкать. И ни один ротный к тебе не подойдет, чтобы накоротке мнениями обменяться или узнать, а что там в штабе корпуса новенького слышно…
– Прошу прощения, – через силу ответил Анатолий. Он сообразил, что начальник очень, очень не в духе. Общение с академиком далось ему труднее, чем предполагалось. Вот только по какой именно причине?
– Да о чем ты? Всегда пожалуйста. Я же не о себе, я о тебе забочусь. Мастер-класс провожу, как деятели искусств любят выражаться. Помнишь Марка Твена? Где-то он написал: «Когда мне было восемнадцать лет, мой отец был дурак дураком. После тридцати я заметил, что старик здорово поумнел».
Смеяться Анатолию не захотелось. Достаточно его сегодня повоспитывали, хотя, если внимательно разобраться, день выдался на редкость удачный. По прошествии времени мелкие неприятности забудутся, а вот от факта, что это именно он разыскал Скуратова и весьма приблизился к разгадке давно зависшего дела «репортера», – никуда не денешься. И Георгий Михайлович такие вещи помнит.
Скуратов, естественно, знал эту лично им переконструированную и модернизированную машину досконально. Несколько лет назад пришла ему в голову такая фантазия – сделать Игорю хороший подарок ко дню рождения. Тот уже успел достаточно прославиться на ниве авантюрной журналистики, земной и космической. А что для журналиста главное? Сбор и обработка информации. Желательно – эксклюзивной, то есть оригинальной и для большинства населения малодоступной. Где ее можно раздобыть? Да где угодно, если знаешь, что именно искать. А для грамотного поиска, кроме собственных мозгов, нужен вспомогательный инструмент. У Виктора таковой как раз имелся. В его институте недавно собрали четыре экспериментальных компьютера, с совершенно оригинальной, доселе не применявшейся архитектурой. Обкатали их, посмотрели, что хорошо, что плохо, и занялись следующим поколением, совмещающим в себе достоинства предыдущих вариантов. Прототипы же, как это часто бывает, оставили в лабораториях для всяких вспомогательных нужд и специфических развлечений. Гороскопы, к примеру, немыслимой точности для друзей и подруг составлять, с ежедневными рекомендациями и прогнозами на всю предстоящую жизнь, или новые игры, вроде многомерных шахмат, придумывать.
Нигде эти модели не были оприходованы и ни за кем конкретно не числились. Вот Скуратов и занялся. Лично кое-что убрал, кое-что добавил, исходя из грядущего предназначения аппарата, приказал ребятам из демонстрационного отдела изготовить приличного дизайна корпус, написал инструкцию для пользователя и в нужный день торжественно вручил.
Познакомившись с возможностями компьютера (сотой их частью, если быть точным), Ростокин был вне себя от счастья.
О том, что он какие-то государственные правила и установления нарушает, передавая постороннему, так сказать, человеку секретную (с общепринятой точки зрения) технику, потенциально куда более опасную, чем колба с новым штаммом смертоносного вируса или ящик экспериментальной взрывчатки с не до конца изученными свойствами, Виктор не задумывался. Такой у него был склад ума, благодаря которому он и заработал Нобелевскую премию: полное пренебрежение любыми «авторитетными мнениями», предрассудками и так называемым «здравым смыслом». И это распространялось не только на фундаментальные науки.
Плюс имели место дружеские чувства, связывавшие его с Ростокиным с детских лет. Скуратову просто в голову прийти не могло, что Игорь распорядится подарком каким-то неподобающим образом.
Так оно на самом деле и было, вплоть до сегодняшнего дня.
И совершенно неизвестно, согласился бы Скуратов помогать этому разведчику, или контрразведчику, черт их всех разберет, старавшемуся выглядеть деликатным и образованным, если бы не услышанное от него утверждение о наличии параллельных миров. Не гипотетических, вроде домыслов Эверетта и его последователей, а вполне материальных, в которые можно уходить и возвращаться, словно в соседнюю комнату, да вдобавок свободно перемещать туда и оттуда артефакты гарантированно нездешнего происхождения.
В том, что Георгий Михайлович говорит правду, академик не сомневался. Истину ото лжи логику его уровня отличить не сложнее, чем свет от тьмы. И для того, чтобы лично познакомиться с соседями по разуму, помощь этого генерала наверняка потребуется. Банально выражаясь, они теперь в одной лодке, и понапрасну портить отношения не стоит.
Виктор Викторович действительно предпринимал попытки разыскать друга, используя единственно разумную и эффективную схему поиска, по оставляемым человеком электронным следам. Если человек жив и не заперт в одиночную камеру, наглухо отрезанную от мира, он с этим миром волей-неволей взаимодействует. Ему начисляется жалованье по основному месту работы, он получает и отправляет какие-то сообщения, пользуется транспортом и так далее. Скуратов проник в самую глубину сети, вне которой современный человек существовать просто не может.
Безрезультатно. После Сан-Франциско ниточка оборвалась. На самом деле бесследно. Больше нигде Ростокин и его подруга с этим миром не соприкасались. И ничего тут удивительного, если из Америки они сразу же удалились в другой.
Выставленные Игорем пароли и блоки Скуратов обошел, не задумываясь. Имелась для того специальная опция, встроенная так, на всякий случай. На такой, например, как этот. Затем включил еще одну подпрограмму, тоже собственноручно разработанную. Компьютер даже в «спящем режиме» продолжал трудиться, перерабатывая, рекомбинируя, соответствующим образом осмысливая задачи, которые ему приходилось решать по командам пользователя, привлекая, в случае необходимости, дополнительные данные, которые самостоятельно добывал во время сеансов. Не зря же он был настроен на использование всех известных человечеству (на момент его создания) логик, умел решать, «по заказу пользователя», любые апории и антиномии,[15] приводя ответы в соответствие со способом своего мышления.
Виктор собирался научить Ростокина пользоваться этой способностью компьютера, что наверняка придало бы его творениям особый, никому больше из коллег-журналистов недоступный, шарм. Да как-то сразу не успел, а потом вообще забыл, увлеченный другими идеями.
Слишком далеко в прошлое Виктор погружаться не стал. До последней звездной экспедиции Ростокина они встречались достаточно регулярно, и ничего там необычного не было. Все началось после возвращения Игоря в Москву. Вот он появился дома, включил машину. Вот ввел задание на поиск Аллы по всем следам, которые она могла оставить в пределах цивилизованной части планеты, там, где вообще имеются хоть какие-то электронные устройства, связанные с мировой информационной сетью.
Значит, нужно понимать так – она его не встретила и на обычные вызовы не отвечала. Друг, естественно, запаниковал. Бесследное исчезновение человека в нынешней Москве – вещь достаточно редкая. Если только она не решила бросить Игоря и сбежать с любовником на край света. По поддельным документам. В пользу этого предположения или чего-то подобного говорило то, что последние фиксированные данные на Аллу Одинцову относились к дате, на две недели предшествовавшей прилету Ростокина. Тогда она взяла у себя в институте очередной отпуск, положенным образом зафиксированный в отделе кадров, и получила чек на вполне приличную сумму. После чего – силенциум![16] Она не пользовалась банкоматами, компьютерами, сетевыми коммуникаторами, не приобретала билетов на любые транспортные средства, что, конечно, было достаточно странно. Игорь задал компьютеру еще несколько команд, касающихся чисто практических вопросов, после чего отключился.
Затем в течение недели он еще два раза засветился, снимая деньги с банкомата в Москве и оформляясь в отеле «Вайкики» на Гавайях, и последний – при передаче кристалла по внепространственной связи. После чего – исчез. И вот вчера объявился. Активизировал компьютер и сразу же начал ломиться на сверхзащищенные линии СБКФ. Пробился, что делает ему честь, зря времени не терял. Виктор заметил, что кое-какие элементы команд, использованных Ростокиным, отличаются от тех, что сам он ставил на машину. И при этом они оказались полностью совместимы с основным программным массивом. Очевидно, что Игоря учил кто-то еще, не уступающий самому Скуратову в подготовке. А возможно, и превосходящий, судя по изяществу решений. Одного этого было достаточно, чтобы поверить во все остальное, изложенное Суздалевым.
Сохраненная в долговременной памяти запись разговора с начальником службы безопасности Космофлота окончательно развеяла сомнения, если бы они еще оставались. Вел переговоры не Игорь, другой человек. Манера разговора, построение фраз, интонации, психологический рисунок диалога – все это не оставляло сомнений, что он не отсюда. Большинство людей этого бы просто не заметили, но специалисту-то очевидно.
Нормальная, может быть, слегка непривычно стилистически окрашенная русская речь, и не более того. Так иные граждане и господа с высоких трибун и экранов дальновизоров сплошь и рядом несут такое, что и к забору не прислонишь. И это даже не касаясь содержания, где все было сказано простыми и прямыми словами, с позиции человека, для которого все здешние власти, обычаи и нормы субординации – ничто. Ни малейшего намека на грубость, диктат, пренебрежение, не то что при переговорах европейцев с туземными царьками, а просто – абсолютное сознание своей силы и отстраненности. В том смысле, что я могу и хочу вам помочь, но право выбора оставляю за вами. Я уйду, а вы останетесь наедине со своими проблемами.
Таким примерно образом расшифровал Скуратов скрытый смысл поведения человека, назвавшего себя Шульгиным. И ему нестерпимо захотелось с ним встретиться. Если уж Игорь сумел стать ему если не другом, то почти равноправным партнером, сколько же интересного сумеет извлечь из общения с таким и подобными ему людьми он сам!
А компьютер продолжал воспроизводить запись вчерашней ночи.
Пока что ничего интересного, и вдруг!
Всеми доступными ему средствами компьютер засигналил, что произошло нечто экстраординарное, выходящие за все предписанные рамки и нормы и в то же время остававшееся внутри сферы технически и логически допустимого. Как будто сам его крюгеритовый псевдомозг попал в капкан антиномии, решить которую не может, несмотря на то что для этого и создан.
В машину была введена команда, которую она не знала и знать не могла, выходящая за пределы познаний самого Скуратова, и все же она ее приняла!
На этом следовало остановиться и немного поразмыслить.
Вот она, на экране, двадцатизначная формула. Совершенно ничего не говорящая академику, хотя он до сих пор был непоколебимо уверен, что знает о языках программирования, даже самых экзотических, абсолютно все. На всякий случай переписал сочетание цифр и знаков в блокнот – это надежней, чем доверять ценные сведения электронной записной книжке. На досуге можно попытаться поработать с этой командой. Кажется, нечто вроде формулы нейро-лингвистического программирования, предназначенной не для человека.
Но сейчас-то что делать? Встать и уйти, пообещав Суздалеву сообщить результат, если он вообще будет, когда-нибудь позже?
А как быть с неутолимым научным любопытством, прямо-таки распиравшим его изнутри?
После введения этой формулы машина не зафиксировала больше ничего. Почти ничего. Виктору удалось очередным обходным маневром узнать, что в течение полутора секунд произошло соединение с «неустановленным сетевым узлом», и связь продолжалась один час сорок три минуты двенадцать секунд. После чего прервалась по команде «Выход», введенной пользователем. При этом получалось так, что за полтора с лишним часа ни единого байта информации по установленному каналу прокачано не было. Ни в ту, ни в другую сторону. А это уже ни в какие ворота… Интеллектуальная и техническая мощь тех людей просто непредставима.
Еще через двадцать минут, уже по стандартной команде, отсюда были переданы два письма на известные адреса: космофлотовский и другой, безусловно принадлежащий Суздалеву.
Самое простое – повторить то, что проделал вчера Ростокин или его напарник, что вероятнее. Ничего страшного, очевидно, не произошло, если после этого они оставались здесь и писали прощальные письма. А только потом исчезли. Куда и как – тоже вопрос интересный. Могли самым простым образом – через входную дверь. А могли и не простым.
Поколебавшись, закурив вторую сигару, Скуратов все же набрал на клавиатуре таинственную команду. Включив на всякий случай функцию «кнопка мертвого человека». Если с ним что-нибудь случится или просто сеанс пойдет не так, палец он успеет убрать, или тот сам соскользнет, машина тут же отключится, все установки вернутся «на ноль»…
Как и прошлый раз, машина команду приняла. Только реакция на нее была другая. Дело в том, что, когда за терминалом сидел Шульгин, он уже находился в прямой, но латентной связи с локальным узлом Гиперсети, сохранившимся в поле досягаемости после «отключения» от остальных. Более того, Сашка сам являлся как бы элементом ее структуры, одним из бесчисленных атомов (нейронов, кубиков, кусочков мозаики), из которых она состояла. И в то же время – внешним по отношению к ней, Сети, эффектором.
Как писал когда-то Энгельс: человеческий разум – это высшее творение природы, с помощью которого она познает самое себя. Точно так же и безусловно материальный по отношению к окружающему миру (с точки зрения включенного наблюдателя) Сашка одновременно был симулякром, копией не живого человека, а идеи человека-Шульгина, предварительно уже воплощенной в эфирном теле. Оттого его нематериальная сущность посредством уникальных возможностей компьютера легко и просто, как обычный информационный пакет, переместилась по адресу, зашифрованному в формуле. Независимо от пространственно-временной топографической точки, в которой находилась машина, и от ее конструкции. Она при включении тоже как бы перестала быть материальной в общеупотребительном смысле.
Скуратов же был обыкновенным человеком, во плоти и крови, и, естественно, в этом качестве попасть в Гиперсеть без дополнительных манипуляций с его сознанием не мог. Но раз команда все-таки прошла, узел сети, который она активировала, отреагировал одним из бесчисленного количества вариантов образом. Он опознал сигнал, идентифицировал по широкому спектру свойств и смыслов и отразил (переадресовал) его в ту точку подконтрольного континуума, где и находился источник подобного рода конструктов.
Вместо грандиозной, едва доступной человеческому восприятию картины узла Гиперсети Скуратов увидел совсем другое. На экране после вихря разноцветных бликов и пятен, белых звездчатых искр и туманных полос вдруг сформировалась отчетливая, яркая картинка. Будто застывший кадр стереофильма.
Виктор сообразил, что сейчас смотрит как бы изнутри другого монитора, установленного в просторном, оформленном в стиле начала прошлого века помещении. Видна только часть зала или большого кабинета, та, к которой обращен экран. Угол письменного стола, кожаное кресло с высокой спинкой и пухлыми, дугой изогнутыми подлокотниками. Высокие резные потолки сложной конструкции, со свисающими в продуманном беспорядке деревянными сталактитами, снизу, как каплями воды, завершающимися матовыми светильниками. Стены орехового на вид дерева, тоже покрытые глубокой резьбой орнаментального рисунка. Часть высокого застекленного книжного шкафа.
Скуратов пожалел, что слишком острый угол зрения не позволяет прочесть, что там написано на корешках, и даже разобрать, какой используется алфавит.
В остальном же он не очень удивился: был достаточно подготовлен и сегодняшними событиями, и вообще. По всему выходило, что это как раз то место, с которым вчера уже устанавливалась связь. И где-то там находится человек или люди, с которыми Ростокин и его спутник контактировали почти два часа. Разговор, следовательно, был серьезный. Может быть, даже судьбоносный. Только для кого? Говорили долго, значит, не собирались немедленно встретиться. Из чего с неизбежностью вытекает – переместились странники по времени не туда, а в какое-то другое место, с этим, возможно, никак, кроме как через компьютер Игоря, не связанное.
Можно вообразить – в мир, технически гораздо менее развитый.
Академика, впрочем, сейчас волновало совсем не то, куда именно направил свои стопы Ростокин. Сам знает, куда ему идти и когда возвращаться. Гораздо заманчивее казалась возможность встретиться лицом к лицу с представителем параллельного времени. Встретиться и, чем черт не шутит, наладить полноценный, взаимополезный научный обмен. Поверх всех и всяческих посредников. А почему бы и нет? Если, конечно, «по ту сторону» он увидит коллегу-ученого или просто достаточно образованного человека, а не функционера служб, подобных тем, в которых работает Суздалев.
«Ну, так что ж, тогда, значит, повезет ему, а не мне, – подумал Скуратов. – А мне – чуть позже, надеюсь».
Слегка беспокоило, что к компьютеру с той стороны в ближайшее время может вообще никто не подойти. Терминал включился автоматом, а хозяева об этом не знают, пребывают далеко от рабочего места. Но интуиция подсказывала, что так быть не может. Кто-то непременно отреагирует на установленную межреальностную связь. Слишком важное это дело, чтобы оставлять его без контроля…
Дверь кабинета приоткрылась, в нее заглянул Суздалев. Как мол, у вас тут дела?
Виктор сделал крайне озабоченное лицо.
– Подождите минут десять-пятнадцать, если можете. У меня, кажется, начало получаться. Не отвлекайте.
Генерал понимающе кивнул и удалился.
Чтобы не терять времени зря, Виктор попытался, не выходя из контакта с неизвестным объектом, определить его параметры. Обычно это удавалось без труда, но сейчас вспомогательные программы установить адрес или какие-то другие характеристики чужого компьютера были не в состоянии. Его для них как бы не существовало вообще. Контакт поддерживался, но снова без обмена информацией. Объяснить это можно было только одним, понятным Скуратову образом: та сеть, в которую он включился, полностью взяла обеспечение канала на себя. Этакая «сфера Шварцшильда», в которую любой сигнал проходит, но назад не возвращается. Но раз он сейчас видит чужой кабинет, значит, хотя бы фотоны оттуда сюда доходят, воздействуют нужным образом на рецепторы? На них воздействуют, а на крюгеритовый мозг компьютера – нет?
Как это может происходить практически, академик не понимал. Успокаивало лишь то, что он не понимает в этом мире слишком многого и помимо поведения отдельно взятого компьютера. Например – откуда вообще взялась Вселенная и что было на ее месте до «Большого взрыва». Теория утверждает, что ничего, но ведь что-то должно было существовать, чтобы взорваться? Хотя бы килограмм динамита. Завернутого в парафиновую бумагу и снабженного этикеткой производителя и инструкцией по технике безопасности.
Пользователь на той стороне «эфирного провода» решил не заставлять вызывающую сторону мучиться в сомнениях и появился раньше, чем Скуратов, взбодрившись очередной рюмкой и чашкой кофе, сделал первую затяжку третьей по счету сигарой. Этим он превысил свой дневной лимит, но ведь и ситуация была экстраординарная.
Сначала на стене чужого кабинета мелькнула тень. Виктор напрягся. Потом из-за пределов поля обзора протянулась рука, явно человеческая, поворачивающая спинку кресла, а вслед за ней появился и сам ее обладатель. Мужчина слегка за сорок, в хорошем смысле слова «приятной наружности», то есть с правильными чертами лица, достаточно резко очерченными. Не красавчик, но и не брутальный тип, вызывающий у некоторых женщин восхищение, а у большинства мужчин настороженность и неприязнь. Одет он был в белый капитанский мундир, покроем несколько отличающийся от морских и космических нынешнего времени, но сомнений в принадлежности именно к этому виду униформ не оставляющий. Тот самый набор инвариантных признаков. Могут отличаться погоны, эполеты, нарукавные нашивки, количество пуговиц, а суть остается неизменной. Самого роскошно украшенного швейцара с адмиралом может перепутать только персонаж анекдота.
Человек улыбнулся, увидев на своей стороне экрана Скуратова, кивнул, положил на зеленое сукно стола сильные, ухоженные кисти рук. Несмотря на отполированные ногти, они наверняка были способны и подковы гнуть, и колоду карт пополам разорвать. Незаурядный, в общем, господин.
– Здравствуйте, незнакомый друг, – мягким баритоном сказал капитан. Или – действительно адмирал. Лицо у него было такое, подходящее.
– Здравствуйте, – ответил ему Скуратов и по непременной въедливости натуры осведомился: – А с чего вы взяли, что именно друг?
– Как же иначе? По этой линии может появиться только друг. Любой другой уже распылился бы на атомы или, того хуже, витал бы в окрестностях выжженной пустыни в виде мезонного облачка…
– Сурово у вас контакты с окружающими обставлены, – поморщился Скуратов.
– Иначе и нельзя. Но раз вас, как такового, защита пропустила, что толку думать об ином варианте?
– Трудно спорить. Но все равно настораживает.
– А вы наплюйте. В вашем прекрасном мире, насколько я в курсе, колючую проволоку разных модификаций до сих пор производят и заборы из мономолекулярных нитей.
– Может быть, оставим эту тему? – предложил Виктор, чувствуя, что дебют партии проигрывает. Да и неудивительно. Логик умеет переспорить противника (такого же коллегу в пиджаке с галстуком и пачкой страниц, покрытых тезисами) за трибуной симпозиума или в реферативном журнале, а если оппонент стоит напротив тебя с автоматом на ремне через плечо, покуривает сигаретку и разговаривает на ином металанге,[17] тут труднее сохранять академическую невозмутимость.
– Оставим с удовольствием. Перейдем к конкретике. Меня зовут Антон, я в данный момент являюсь Руководителем межвременной структуры, в просторечии именуемой Замком. Одновременно другом вашего друга Игоря, априори – и вашим. Нет возражений? Продолжим. Замок с его интеллектуально-техническими возможностями можно рассматривать как организующее и связующее звено между всеми взаимодействующими в настоящее время реальностями. Потому вы, при воспроизведении обнаруженного вами пароля, попали не куда-нибудь еще, а именно на центральный процессор. И мы имеем удовольствие с вами беседовать и видеть друг друга.
Скуратов назвал себя и заверил Антона в тех положительных эмоциях, что он испытывает, познакомившись со столь достойной фигурой. В середине XXI века в моде снова были цветистые словесные конструкции и любовь к изысканному церемониалу. В каждой общественной страте и сословии церемониал вырабатывался и культивировался свой, но был и некий универсальный, позволявший осуществлять равноправное общение между как угодно далеко отстоящими друг от друга группами общества.
– Взаимно. Но не пора ли перейти к делу? Я обычно не придаю значения мелочам, однако хочу обратить ваше внимание, что сейчас мы с вами тратим невероятное количество энергии, и неизвестно, где и каким образом проявится гениально сформулированный вашим соотечественником постулат: «В каком месте чего прибавится, в другом столько же и отнимется». Хорошо, если она берется непосредственно от Солнца, а если из другого источника? Могут быть последствия. Итак, что побудило вас установить со мною прямой контакт?
– Исключительно профессиональное любопытство, – честно ответил Виктор. – Мой друг Игорь, которому я подарил и отформатировал машину, поддерживающую нашу связь, не успел, а может быть, и не имел возможности сообщить мне об открытых им межвременных взаимодействиях. Ваша (или его) формула попала ко мне почти случайно, вот я и не удержался…
– Опрометчиво, – без всякой иронии в голосе сказал Антон. – Не могу сказать точно, сколько людей пострадало от невинного желания узнать, для чего к гранате колечко привешено. Но много. Сам видел, и неоднократно.
– Могу представить, – кивнул Виктор. – Но у нас не тот случай. Прежде всего, я хочу разыскать исчезнувшего при странных обстоятельствах друга, ну и разобраться, что же такого нового научилась делать придуманная мною машина. Для подобных экзерсисов я ее не предназначал.
– Один персонаж тоже не догадывался, что с помощью изобретенной им мясорубки не только фарш для котлет делать можно. Да было уже поздно….[18] Относительно вашего друга могу сказать, что он до настоящего момента пребывает в полном здравии, и при желании ничто не препятствует вам с ним увидеться. Да и насчет разного рода машин я смог бы вас просветить, невзирая на то что ваша цивилизация существует на сотню лет впереди… нашей и достигла необыкновенных высот во многих отраслях знаний.
– Нужно ли так понимать, что вы меня в гости приглашаете? – спросил Скуратов, и при этих словах у него вдруг определенным образом замерло, а потом заныло сердце. Будто из горячей парной в ледяную прорубь окунулся.
– Именно так. При более тесном и не ограниченном временем общении вы сможете значительно расширить круг своих познаний. Да и нам во многом оказаться полезным. А то у нас только один гениальный инженер имеется, из восьмидесятых годов двадцатого столетия. У него таких институтов, как ваш, в распоряжении не имелось, однако в походных условиях и из подручных средств устройство для совмещения пространства-времени собрал. На пятьдесят парсеков устойчиво работает…
– Не может быть!
– Захотите – увидите, – почти равнодушно ответил Антон.
Скуратова терзали противоречивые чувства. То, что он сейчас разговаривает с помощью обыкновенного компьютера с человеком из иной реальности, – несомненный факт. Мистификацией это быть никак не может. Что Ростокин на той стороне уже бывал и сейчас там же находится – тоже. Из данной посылки вытекает, что слова Антона насчет СПВ вполне могут оказаться правдой. Познакомиться с неизвестным гением – да за это можно все отдать! Как если бы Виктору предложили лично обсудить загадочные изобретения и прозрения с самим Леонардо да Винчи.
– Наш Олег, кроме всего прочего, еще и дубликатор любых материальных предметов изобрел. Путем рекомбинации атомов помимо ядерного или термоядерного синтеза. При комнатной температуре и напряжении бытовой электрической сети. Забавно?
– Вы что, Мефистофеля из себя изображать взялись? – подсевшим голосом спросил Скуратов.
– Ни в коем случае. Какое может быть «совращение», если вам стоит нажать кнопку «Выход» и наше общение закончится? Свобода воли в самом наглядном ее проявлении. Игорю я передам, что вы им интересовались. В положенное время он вернется и, уверен, ответит на все ваши вопросы, подтвердив заодно, что я вас не соблазнял, не обманывал… Просто информировал.
– Подождите. А как будет выглядеть… Ну, если я соглашусь… Туда, к вам…
– Технически – проще некуда. Открою портал – вы шагнете. И все.
– А – обратно? У меня ведь институт, лекции. И… Да сами понимаете!
– В любой момент по вашему желанию. Если есть неотложные дела… – Антон, выдерживая интригующую паузу, потянулся к правому ящику стола, за которым сидел, достал сигару, очень похожую на те, что курил Скуратов, повертел в пальцах. Смешно, но сейчас Виктору, страстному любителю и ценителю сигар, захотелось узнать, что она собой представляет, даже больше, чем все остальное.
Принцип психологического замещения.
– Это у вас какая? Кубинская?
– Что вы! Настоящая трихинопольская. На открытый рынок попадает крайне редко. Знатоки разбирают на месте. Но я не закончил – если есть неотложные дела, сможете вернуться домой прямо в момент отправления. Плюс-минус десять минут. Принцип неопределенности, сами понимаете…
– Плюс – ладно. А минус? Это же удвоение выйдет, парадокс, – уцепился за частность Скуратов, чтобы хоть немного оттянуть главное решение.
– Всякое бывает, – с откровенной усмешкой ответил Антон. – Неизбежная на море случайность. Так вы, это, как у нас говорят, определяйтесь. Хотите – добро пожаловать. Нет – честь имею. У меня сейчас фидеры в разнос пойдут…
«А, черт, была не была! – мысленно махнул рукой Виктор. – Каждому из нас судьба обязательно стучится в дверь, только мы в это время обычно сидим в соседнем кабачке…»
– Две минуты – можно?
– Две – можно.
На странице большого настольного блокнота академик написал крупными буквами, адресуясь к Суздалеву: «Георгий, я отправился за Ростокиным. Не обижайтесь. Скоро вернусь. Наверное. Ваша теория подтверждается. На всякий случай передайте в мой институт, что я срочно вылетел в спецкомандировку. Заместители знают, что делать. Справятся. Вам обещаю отчитаться по прибытии. Ни в коем случае не позволяйте никому прикасаться к компьютеру. Если не вернусь через час, опечатайте квартиру. Но никаких других активных действий. Скуратов».
– Так. Я готов. Что дальше? – вытирая пот со лба, спросил он у Антона.
– Да ничего. Добро пожаловать…
Экран монитора распахнулся на два метра вверх и вширь. Виктору осталось только опереться о край стола и перекинуть ноги на ту сторону. Перешагнуть порог.
…Перешагнуть порог. Ступить за ограду. Выйти за рамки. Совершить волевое усилие, как при первом прыжке с парашютом. Выпить стакан холерных вибрионов для подтверждения собственной теории…
Тысячекратно люди совершали подобные поступки: из научного интереса или для самоутверждения. Случаи исполнения воинского или гражданского долга пока не рассматриваем, там совсем иные мотивации.
Виктор пересек границу, и зияющий квадрат за спиной мгновенно стянулся к размерам нормального монитора, на котором секунду продержалось изображение опустевшего кабинета Ростокина. Потом исчезло.
«И все-таки слаб ты, братец, в коленках, – самокритично подумал Скуратов, чувствуя, как сердце пульсирует прямо под горлом. – Засиделся в кабинетах. Игорь небось так не мандражил, погружаясь в неведомое».
И сразу же натура взяла свое. Кому приятно признавать себя слабаком? Немедленно возникли оправдания и «смягчающие обстоятельства». Ростокин, как всем известно, не кем иным, как профессиональным искателем приключений, никогда себя и не мыслил. То, что для других смертельный, ничем не оправданный риск, для него – лишний повод пощекотать свое самолюбие. Нельзя же равнять каскадера и кабинетного ученого. И так далее в этом же роде.
Но главное все же заключалось в том, что Виктор, с теми или иными издержками, преодолев инстинкт самосохранения и всякие другие инстинкты и фобии, стоял сейчас посередине помещения, расположенного неизвестно в какой точке мирового континуума, и смотрел в глаза первому в своей жизни потустороннему существу, какой бы смысл в это слово ни вкладывать.
– Добро пожаловать, – широко улыбаясь, повторил Антон с совсем другой интонацией и протянул руку. – Рад видеть в гостях у нашего сообщества очередного смелого и талантливого человека. Присаживайтесь, – указал он на кресло по другую сторону стола. Или, если хотите, можем пройти в более удобное место. Этот кабинет оформлен в соответствии со вкусами людей иной культуры и иной эпохи. Мне он кажется слишком… казенным для приватной беседы.
– Какой эпохи? – спросил Скуратов. – По-моему, она от нашей не слишком отличается. И казенного я вижу очень мало. Скорее наоборот.
– От вашей – наверное. Здесь все примерно так, как и у вас, это ведь стиль девятнадцатого века Главной исторической последовательности, не искаженный более чем веком войн и революций, политических и культурных. Ваша развилка образовалась приблизительно в году девятьсот четвертом-пятом и сохранила гораздо больше исходных черт, чем последующие…
– Развилка – это очень интересно… – Виктор уже успел охватить взглядом помещение, в котором они находились, и составил о нем свое впечатление. Но ему хотелось увидеть как можно больше в то короткое время, что доведется здесь пребывать.
Что же кажется естественным этому человеку, определенно не соотносящему себя с ГИП? Понять его отстраненность было несложно. Семантика и семиотика как таковые не относились к сфере непосредственных интересов Скуратова, но в качестве инструментов высшей логики он ими владел в достаточной степени.
– Вы мне непременно расскажете об этом подробнее, поскольку я такие вещи до сегодняшнего дня воспринимал только в качестве голых абстракций. «Что было бы, если…» Распространенный в кругах любознательных, но недостаточно образованных людей вопрос. Студенты второго-третьего курса его особенно любят. Я всегда на него отвечал однозначно: «Ничего! Что случилось, то случилось. Иначе каждый спрашивающий попадает в ситуацию сороконожки. Если бы я пошла не с седьмой левой, а второй правой ноги, куда бы я пришла?»
Антон, вместо ответа озарил гостя очередной своей улыбкой, набор которых у него был практически бесконечен. Для любого человека и любой ситуации – своя. Наиболее соответствующая моменту и настроению партнера.
– Тогда – прошу, – указал он на дверь. – Все-таки адмирал Григорович, Управляющий морским министерством после Русско-японской войны, и его поклонник, адмирал Дмитрий Воронцов, член нашего «Братства» и первооткрыватель пути в Замок, обладали слишком тяжеловесными вкусами, оборудуя такой вот кабинет. Александр Иванович Шульгин, генерал-лейтенант совсем других ведомств, уважает ранний модерн, в чем я с ним почти солидарен. Ну а уж если мы коснемся лично моих пристрастий и привычек… – Антон откровенно рассмеялся. «Радостным детским смехом».
Это выглядело одновременно и демонстративно, и естественно, так что Виктору стало совсем неуютно. Медленно, исподволь, но до него начало доходить, что это только у себя дома он – нобелевский лауреат и неопровержимый авторитет во всех образованных кругах. А здесь он попал в ситуацию, где единственным условием выживания являются только составляющие твоей личности.
Что-то всплыло в памяти из ранее читанных книжек или со слов того же Ростокина, приспособленного ко всему. «Да на хер кому твое высшее образование, – крикнул сержант и больно двинул доцента локтем по зубам. – Ты ленту, гад, продерни, продерни! И стреляй. Глядишь, отобьемся…»
Каким-то труднообъяснимым образом Виктор приложил эту сентенцию к себе. И сразу осознал, что прямо на глазах, как мякина при молотьбе, отлетают от него привычки и манеры лауреата и академика, остается только то, что было десять, а то и пятнадцать лет назад. Когда они с друзьями и не думали о чинах и званиях, нынешних и грядущих, сплавляясь на катамаранах по перекатам рек Горного Алтая.
Удобно, конечно, чувствовать себя мировой знаменитостью и властителем судеб научных сотрудников и аспирантов, но – не на этом же все замыкается.
– И каковы же ваши пристрастия и привычки? – стараясь попасть в тон предложенной, веселой и необязательной манере, спросил Виктор. – Хотя бы – не как у людоедов Папуа – Новой Гвинеи?
– Моментами – гораздо хуже, – согнав с лица улыбку, ответил Антон. – Вам бы они наверняка показались чересчур экзотическими… Так пойдем?
Они проследовали пару сотен метров по длинному и узкому переходу без окон, неярко освещенному вычурными хрустально-бронзовыми бра. Несколько раз пересекли полукруглые площадки, с которых то вверх, то вниз уходили лестницы, прямые и винтовые. На одной из них Антон указал, что надо спуститься. Под ногами негромко загудел металл ступенек ажурного литья. Скуратов, придерживаясь рукой, заглянул через перила. Глубоко. Не меньше десяти этажей, как ему показалось, а скорее всего – и больше. Спираль лестницы терялась в сумеречном свете. Захотелось плюнуть вниз, посчитать секунды, пока долетит до дна колодца.
«А может, и не долетит. Нет здесь никакого дна. Вот я уже почти персонаж готического романа», – подумалось Виктору.
Наконец в очередном коридоре, тремя витками ниже, Антон толкнул дверь, ничем не выделяющуюся среди многих, встреченных по пути. Они очутились в небольшом холле с глубокими стегаными креслами, пепельницами на гибких параболических ножках, очень близкой к оригиналу копией «Бульвара капуцинок в Париже» напротив входа. Окон здесь тоже не было. Свет, по спектру соответствующий гамме зимнего пасмурного дня, источали полускрытые за драпировками стен матовые колонки, отчего в помещении было особенно уютно.
Четыре ступеньки полукруглого подиума, и Антон ввел Скуратова в бар, в свое время придуманный и оформленный Шульгиным. С полудесятком витражей, изображающих девушек в натуральную величину, разной степени полуобнаженности, весьма привлекательных и крайне эротичных. У одних это выражалось позой, у других – исключительно выражением лица. К подобному жанру Виктор был неравнодушен, тем более панно были исполнены в стиле гиперреализма, то есть выглядели подлиннее, чем обычная фотография. Но в упор пялиться на красоток он не стал, сохраняя респектабельность. Достаточно так, мельком поглядывать, будто бы невзначай.
Антон указал на одну из глубоких ниш в стене, где помещался столик и два удобных дивана, словно в купе вагона первого класса. Прямо напротив оказалась прелестная всадница, скачущая на зрителя по южнорусской степи. То ли спасаясь от погони, то ли преследуя. На гнедом коне великолепных статей. Лицо у нее было красивое, бесшабашно-радостное, выражающее упоение бешеным аллюром. Пышные темно-русые волосы встречным ветром вытянуты почти горизонтально. Из одежды – только длинные ажурные чулки и туфельки на умопомрачительно высоких и тонких каблуках. К широкому атласному поясу по-немецки, слева пристегнута треугольная кобура «парабеллума» с откинутой крышкой.
Скуратову тут же пришел в голову вопрос, которым неизменно задавался каждый, кому довелось видеть это произведение искусства.
– Извращенец, – фыркнул он, кивая на панно.
– Автор картины. Сам бы попробовал с версту проскакать в подобном виде…
– Творцу виднее. Откуда мы знаем, может, у нее на чулках изнутри замшевые вставки, а на седле – бархатная подушка. И шенкеля,[19] как у древнего скифа. Те вообще без стремян обходились. Другое дело – пояс. Как он не съезжает? Пистолет тяжелый.
– Кожаный, наверное. А сверху – для красоты аппликация.
– Вполне возможно, – согласился Антон.
– А интересно, прототипа у этой дамы нет ли?
– Прототипы у всех есть – просто так, из головы, даже Микеланджело никого не писал.
Порассуждали немного на эту тему, для разрядки, и чтобы приспособиться к стилю общения друг друга.
– Есть хотите? – вдруг озаботился хозяин. – Можете заказать, что заблагорассудится, у нас есть абсолютно все.
– Абсолютно?
– Именно так, и не фигурально, а буквально…
– Нет, я не голоден, а вот кружечку хорошего пива – с удовольствием.
– Хорошего – это расплывчато. Сорт, цвет, место производства… Желаете карту напитков посмотреть? – Антон потянулся к толстой, как телефонная книга Нью-Йорка, книжке меню.
– Не надо. Пусть будет темное мюнхенское, нефильтрованное. Крепкое.
– Один момент… – Антон повозился у дверцы в стене, дождался короткого мелодичного звонка, открыл и выставил на стол две высокие фарфоровые кружки, увенчанные шапками пены.
Виктор попробовал. На самом деле – изумительное пиво. Ему доводилось пить такое несколько лет назад, в старинной частной пивоварне, когда читал лекции в баварском университете.
– Вы прямо волшебник. И все это – за сто лет до моего времени? Пожалуй, наша развилка оказалась не самой удачной, если мы так отстали…
– Не огорчайтесь, – успокоил его Антон. – Здесь, где находимся мы, – безвременье. К подлинно исторической жизни имеющее весьма опосредованное отношение. За бортом же все выглядит несколько иначе. Да я вам покажу. Лучше один раз увидеть…
– Подождите, Антон, подождите. Слишком вы форсируете… Перед тем как окончательно погрузиться, я хотел бы выяснить – в чем заключается ваш интерес – и оговорить базовые, так сказать, условия сотрудничества и, э-э, гарантии, что ли…
– Гарантии, гарантии… Вы же очень умный человек, Виктор. Какие могут быть гарантии в мире, находящемся вне любой, чьей бы то ни было юрисдикции? Не более, чем мое честное слово. Ну и Ростокин сможет его подтвердить…
– Тогда я бы хотел сначала переговорить с Игорем, а потом уже…
– Это мы сделаем. Не прямо вот сейчас, но в обозримые сроки…
Скуратов опять ощутил знобящий холодок между лопаток. Начинается!
Он сейчас почувствовал себя еще хуже, чем Воронцов, впервые очутившийся в Замке. Тот, по крайней мере, добровольно согласился принять участие в своеобразной игре-эксперименте, и с Антоном был раньше знаком, и, что немаловажно, характер имел военно-морской, закаленный с восемнадцати лет «тяготами и лишениями воинской службы». Ему и терять по большому счету было нечего. Кроме жизни. Но так вопрос не стоял.
– Обозримые – это как?
– Как только сумею его разыскать. Это может занять не один час.
– Он сейчас так далеко?
– Достаточно далеко. В Южной Африке в 1899 году.
Скуратов удивленно почесал бороду.
– И вправду… Что же он там делает?
– Очевидно, решил пойти по стопам своего любимого Стенли. Знаете, в освоенных нами мирах совсем не осталось неисследованных мест. В вашем – тем более. Но там хоть можно удовлетворить тягу к неизведанному в межзвездных полетах. А на благоустроенной Земле ХХ века, – произнеся это слово, Антон то ли иронически, то ли печально улыбнулся, – человек с характером вашего друга может найти себя только в военных авантюрах или в большой политике. Политика по очевидным причинам ему заказана, а войны и революции успели надоесть. Вот и потянуло его с товарищами в мало пока освоенную реальность…
Скуратов все еще не мог свыкнуться с тем, что этот интересный человек говорил. Слишком просто у него выходило. Захотел Игорь перебраться из второй половины XXI века в первую треть ХХ – пожалуйста. Захотел вернуться на денек домой – никаких проблем. А теперь вот отправился аж в XIX – и опять это звучит так, будто из Москвы в Вологду на свою дачу съездить в выходной день.
Но ведь по всем физическим и иным законам это абсолютно невозможно. О возникающих при подобном допущении парадоксах Виктор знал побольше других. Разумеется, мысль о возможности создания хроноквантового двигателя и использование его для межзвездных полетов двадцать лет назад казалась столь же абсурдной. Поколения физиков и просто людей, мечтавших о Млечном Пути, Туманности Андромеды, хотя бы Проксиме (она же – Ближайшая) Центавра, отчетливо сознавали, что мечты – мечтами, а суровая действительность не оставляет никаких шансов.
Скорость света есть скорость света, константа! Исходя из преобразований Лоренца, формул Эйнштейна и прочих максвеллов, даже и пытаться не стоит ее достигнуть. Бесконечное возрастание массы и так далее. Взамен – если кому-то такое на самом деле захочется осуществить – десятилетия полетов в вакууме на кораблях, обязанных нести миллионы тонн горючего и припасов, чтобы в итоге убедиться, что цель того не стоила.
И вдруг, буквально в одночасье все изменилось. Скуратову с Ростокиным было тогда как раз достаточно лет, чтобы и понять перспективы открытия и воспринять его легко, без потрясения основ. Как их деды согласились с возможностью, а потом и необходимостью трансатлантических воздушных перелетов. Тогда люди получили возможность добираться реактивным самолетом из Москвы до Нью-Йорка или Токио быстрее, чем поездом из Петрограда в Ялту. Теперь – до Веги или Антареса, как на экраноплане из Одессы в Сидней.
Но… Снова то самое «но»! Наверное, есть какой-то возрастной рубеж. Виктор его преодолел и теперь уже с большим трудом пытался заставить себя поверить в то, что время стало столь же доступным, как и пространство. Захотел – из Москвы в Антарктиду сегодня же, захотел – из 2056-го в 1899-й!
И все-таки придется уверовать в такую возможность. На мистификацию или фокус происходящее никак не походило. Другое дело – кем и с какой целью он оказался вовлеченным в такую игру? Пока не встретится с Ростокиным, ни на одну провокацию больше не поддастся.
– Значит, договорились, – сказал академик, переведя взгляд на девушку с другого витража. Более, чем просто очаровательную блондинку, собравшуюся искупаться в изумрудной воде тихоокеанского атолла. И вдруг испуганно обернувшуюся, как бы услышав или увидев что-то за спиной. Широко распахнутые глаза, приоткрывшиеся губы, движение руки, инстинктивно прикрывающей наготу…
– Вы находите Игоря, я с ним разговариваю наедине, и уже затем – все остальное.
– Так и решим, – кивнул Антон. – Только чем бы мне вас до этого развлечь? Хотите, я вас провожу в библиотеку? Посмотрите, что интересного успели написать люди, существовавшие в других по отношению к вам условиях? И на русском много интересного найдется, и на других языках, если владеете…
– Я свободно владею английским, немецким и французским, – с неожиданным вызовом ответил Скуратов. – Также латынью и древнегреческим. Не говоря обо всех славянских…
– Очень хорошо. Классическое образование. Значит, в библиотеке вам скучно не будет. А то есть еще один вариант. На мой взгляд, он предпочтительнее. Познавательнее, я бы сказал, и в гораздо большей степени способен укрепить доверие к моим словам. Нечто вроде документального фильма, иллюстрирующего основные этапы деятельности организации, гостем которой вы вольно или невольно оказались.
– Пожалуй, это на самом деле было бы предпочтительней, – согласился Скуратов. Фильм, независимо от степени его общей достоверности, самый пропагандистский, как угодно тенденциозно смонтированный, на две трети постановочный – непременно будет нести значимую информацию. Если не прямую, то опосредствованную, но в любом случае – дающую определенное представление о тех мирах, где разворачивается действие. Реальную историю по экранизации «Трех мушкетеров», к примеру, изучать не стоит, но уж семнадцатый век с двадцатым после нее никак не спутаешь. Нравы, обычаи, психологическую канву эпохи Ришелье с Древним Римом – тоже. А отсеять зерна от плевел, инсценировки от «правды жизни», выявить логические нестыковки и попытки манипуляции сознанием зрителя он как-нибудь сумеет.
Кроме того, Виктор вообще не слишком верил, что специально для него так быстро был заготовлен особый идеологический продукт. Не того масштаба фигура, здраво рассудил он, без всякого самоуничижения. Все его значительные труды опубликованы полностью. Никаких секретных разработок, представляющих интерес для солидных государственных или частных структур, хоть в своем, хоть в другом времени, институт не ведет. Вот если бы он обладал полной конструктивной и технологической схемой нового поколения хроноквантовых двигателей, незапатентованной, существующей в единственном экземпляре, тогда игра, возможно, стоила бы свеч. Да и в этом случае – зачем им, обладающим возможностью свободно перемещаться в пространстве и времени, секреты паровоза Стефенсона?
– Тогда немедленно и начнем, – удовлетворенно сказал Антон.
Непонятным для Скуратова образом прямо в воздухе, заслонив стену с витражами, возник полусферический экран около двух метров в диаметре. Хозяин протянул ему изящный, удобно ложащийся в ладонь пульт.
– Здесь очень просто – сенсоры стандартные: «старт-стоп», «вперед-назад», «быстрее-медленнее», «громче-тише». Нормальное время просмотра – как раз около двух часов. За это время я надеюсь разыскать Игоря и представить его пред ваши светлые очи. Захотите что-нибудь съесть или выпить – никаких проблем. Вот дверца линии доставки, вот меню-каталог. Тематический и алфавитный. Выбираете нужное, вводите здесь цифровой код, получаете заказ – как в аптеке. Направо за стойкой – туалет. Вопросы, пожелания есть? Тогда я вас оставляю…
– А как мне вызвать вас, если вдруг потребуется? – спросил Виктор. Перспектива остаться одному, затерянному в недрах грандиозного сооружения, которое хозяин назвал Замком (даже на слух это слово прозвучало с большой буквы), его совсем не радовала. Случись что, в одиночку отсюда ни за что не выберешься. Да и было бы куда выбираться. Безвременье – звучит довольно пугающе.
– Голосом позовите, и все. Я услышу.
Дверь с негромким шипением воздушного демпфера закрылась, отрезая Скуратова от всех миров, реальных и вымышленных. Остались только он и экран, таящий за своим матово-серым покрытием неизвестно что. Только провести пальцем над сенсором…
Весь двухчасовой фильм Виктор просмотрел запоем, не отрываясь. Нельзя сказать, что Новиков и его друзья, помогавшие ему в работе, были такими уж гениальными режиссерами. К изыскам в стиле современных Скуратову турбореалистов они точно не стремились. И делали работу исключительно для себя, нечто вроде беллетризованной кинохроники истории «Андреевского братства». Для себя, чтобы вспоминать в старости, или для потомков – не суть важно. Возможностей Замка, умевшего извлекать из кладовых памяти отдельного человека почти любую стабильную информацию и обладающего собственным информарием бесконечного объема, хватило на то, чтобы сделать то, что требовалось.
Демоверсия, предложенная вниманию Скуратова, была, само собой, предельно адаптированной для восприятия постороннего, которому совсем не обязательно знать то, что его не касается. Именно – только канва всех имевших место событий, смонтированных вдобавок в нужном порядке. Зато – с яркими, достающими эпизодами. Виктору увиденного оказалось вполне достаточно, чтобы избавиться от массы стереотипов и расширить сознание. Фантастическая сага, в которой он, при всем внимании к деталям, не уловил ни одного психологического или логического пробоя.
То, что в хронике наверняка имеется масса купюр, умолчаний, рекомбинаций подлинных событий, – он понимал. И не имел права осуждать авторов. «Война и мир», при всем ее объеме, тоже охватывает ничтожную долю подлинных событий, изложенных вполне претенциозно, но данный факт не умаляет величия и ценности произведения.
Зато теперь Скуратов представлял, в события какого масштаба вовлечен. С позициями и поведением героев можно было соглашаться или нет, но невозможно было их игнорировать. Несколько раз то один, то другой персонаж прямо или завуалировано подчеркивал основную мысль – пусть наши поступки неправильны, некорректны, подчас глупы, пусть они выходят за рамки общепринятого (как и кем «принятого» – отдельный вопрос), но мы честны перед собой и миром в экзистенциальном смысле. Если ты уверен, что поступить иначе просто не можешь, и ни в чем не противоречишь собственным убеждениям, значит – ты прав.
С последним постулатом Виктор полностью согласиться был не готов, но все им увиденное не давало оснований посчитать, что эти самые «братья» – люди, не заслуживающие уважения. Особенно – с учетом совершенно других исторических условий и обстоятельств, с которыми им пришлось столкнуться.
Серьезным шоком были для Скуратова картины жизни при так называемом социализме, особенно в его сталинской интерпретации, да и поздний, реальный, на взгляд нормального человека, был немногим лучше. Вторая мировая война вообще выходила за пределы человеческого понимания. И тут же, параллельно, сцены на далекой планете Валгалла, почти встык – Гражданская война, сильно отличающаяся от той, что случилась на самом деле. Несколько эпизодов, непосредственно связанных с Ростокиным. В его настоящей жизни и в другой, здешней, где он проявил себя вполне соответственно этому времени. И еще много сцен другого плана, демонстрирующих, что, невзирая ни на что, и в иных параллелях можно жить легко и радостно. Оставаясь человеком.
Его, кроме горестного недоумения при мысли, как может быть ужасна жизнь, переполняли и совершенно противоположные чувства. Как истинному естествоиспытателю, Виктору невыносимо хотелось очутиться внутри каждого из показанных ему миров, самому разобраться, что и как там устроено, постигнуть тайны, делающие невероятное обыденным и практически применимым. Если это удастся, он вернется другой личностью, овладевшей не только особым стилем мышления, но и новым запасом знаний, и практическим опытом непостижимого, но подлинного. Тогда его институт вполне оправдает свое наименование, кажущееся очень многим чрезмерно претенциозным.
Интеллектуальное потрясение и эмоциональная перегрузка были столь велики, что для восстановления душевного равновесия он заказал себе обильный и изысканный обед, не в каждом из лучших московских ресторанов доступный. В этом он убедился, погрузившись в изучение каталога. Что греха таить, Виктор знал толк в настоящей еде, причисляя себя к не слишком многочисленной касте истинных гурмэ.
Листая тонкие, с кремовым оттенком страницы, он находил здесь все, что только мог вообразить, а заодно и многое сверх того. Антон ничего не говорил о ценах, и в каталоге они не были обозначены, так что, по умолчании, предполагалась бесплатность услуги. Особого значения это для Скуратова именно сейчас не имело, совсем другие ставки на кону, но все равно приятно. Скажем, белое вино «Понтэ Кане» урожая 1911 года (какой реальности?) приобрести в Москве было абсолютно нереально, сколько денег ни предложи. Не бывает такого и быть не может!
Составив заказ, он с некоторой опаской последовательно набрал десяток цифровых комбинаций. Устройство весело подмигнуло лампочкой и тут же, не прошло и нескольких минут, начало выставлять в камеру за стеклянной дверцей заказ, строго руководствуясь кулинарной последовательностью и тонкостями сервировки, будто где-то в глубине сидел эрудированный метрдотель на пару с сомелье.
Главным минусом радостного момента было то, что у Виктора отсутствовал достойный собеседник, а ведь вкушение приготовленных с безупречным мастерством (и с немыслимой скоростью, надо отметить) блюд требовало общества не уступающих по квалификации знатоков-сотрапезников.
Но с этим ничего не поделаешь, пришлось смириться с прискорбным обстоятельством, заменив застольную беседу размышлениями, увы, не имеющими отношения к процессу наслаждения.
Главных вопросов, занимающих Скуратова в связи со случившимся, было только два, остальные – производные.
Первый – для чего все-таки он мог потребоваться людям (или – не совсем людям), обладающим могуществом, к которому он ничего не был в состоянии добавить в своем воображении? Что значат все его изыскания и признанные успехи на фоне хотя бы способа пройти через компьютерный монитор в иное измерение? Прочнейшее стекло экрана растворялось в каком-то непространстве, пропускало довольно массивный материальный (а главное – живой!) объект сквозь себя, тут же возвращаясь в исходное состояние. Кое-какие достижения в данном направлении имелись и в его мире, даже – с коммерческим успехом. Но там пока все ограничивалось перемещением по волноводам, через специальные станции-преобразователи объектов незначительной массы и, что главное, заведомо биологически инертных.
И второй – если он, тем не менее, для какой-то цели могущественным «братьям» вдруг потребовался, то отчего – именно сейчас? Не полугодом раньше, вместе с Ростокиным, а то и вместо него, не годом позже, а – сегодня? Что такого могло случиться, чтобы им стал нужен именно он? Или – такой, как он, тут же появилась трезвая поправка.
В тонкостях компьютерной логики новые друзья Ростокина смогли бы, наверное, разобраться и самостоятельно. Значит – что? Абсолютно нештатная ситуация, в которой потребовались его мозги. Как таковые, независимо от степени информированности в вопросах текущей реальности. Ведь наверняка (скорее всего) строитель Кельнского собора, не оканчивавший архитектурного института и не сдававший сопромат, сумел бы кое-что подсказать своим в пятой степени правнукам.
Странным образом Скуратов забыл, что Антон или все «Братство» целиком, отнюдь не искали академика и не звали в гости. Даже Игорь записочки ему не оставил, и это вдруг вызвало чувство обиды.
Он сам согласился на предложение генерала Суздалева, сам начал возиться с компьютером, сам набрал формулу и сам пришел к человеку, который, возможно, несколько часов назад понятия не имел о его существовании. А если и имел, то не предпринимал попыток встретиться. Но так бывает довольно часто. Не каждый помнит, что именно инициировало знакомство с будущей женой и каков был решающий момент чего-то… Зато поводов для последующих сожалений, недоразумений и взаимных претензий нередко возникает предостаточно.
Как полагается за нормальным столом, к каждому блюду автоматическое устройство подавало предусмотренные ритуалом напитки. Когда дело дошло до сыров, фруктов, кофе, коньяка и ликеров, Виктор Викторович полностью успокоился. Велика ли разница, кто кого сюда пригласил и что последует потом? Дисциплинирующее действие ресторанного антуража и общества отсутствовало, думать о том, на чем добираться домой, тоже не требовалось, а если так – какие могут быть тормоза?
Спешить совсем некуда. Когда Игорь появится, тогда и будем разговаривать. А когда он появится? Как писал Омар Хайям? «Жизнь, что идет навстречу смерти, не лучше ль в сне и пьянстве провести?»
Скуратов сдвинул два диванчика, прикинул – как раз хватает длины. Подушки и одеяла линия доставки наверняка не выдаст, у нее другая специализация. Да и так ничего, не холодно. Как бывало в студенчестве: снял пиджак, сложил вчетверо, подложил под голову. Хорошо. Вполне можно придавить минуток полтораста, если не помешают.
Закрыл глаза. Как давно было заведено для отвлечения от лишних мыслей и быстрого засыпания, начал перечислять станции московского метрополитена, сначала кольцевые, по часовой стрелке, начиная с «Сухаревской», а потом и радиальные. На «Преображенской» полудрема перешла в крепкий сон.
– Ну, с избавлением, – криво усмехнувшись, произнес Новиков предельно лаконичный тост.
…Они с Шульгиным добрались к лагерю уже в полной темноте, но роботы вывели их точно к месту, не хуже, чем спутниковые навигаторы, которых здесь не было и быть не могло. Обошлись обычным пеленгом на коротковолновые сигналы остававшихся на месте андроидов, поддерживавших постоянную связь между собой.
Снова команда кладоискателей собралась вместе. Все живые и здоровые, несмотря на радиацию, атаку дуггуров и иные мелкие неприятности.
С физической усталостью, болью в ногах и спине не мог справиться и гомеостат. Не его, так сказать, компетенция, он ведь всего-навсего «полууниверсальный». Молочную кислоту из мышц он, конечно, удалит, но не раньше, чем через четыре часа. Слишком долго. Андрей приказал немедленно отправляться в путь, не вдаваясь в подробности, за отсутствием свободного времени, а главное – настроения для длинных бесед.
– Вперед, вперед! – командовал он роботам, Левашову и девушкам, которым, на их счастье, не пришлось побывать там, где были они с Шульгиным. За исключением Ларисы, но о дуггурской станции воспоминаний у нее почти не осталось.
И снова фургоны катились по вельду стремительно и тихо. Почти семьдесят километров уже отделяло караван от гор, пещер, дагонов и дуггуров. Но Андрею казалось, что и этого мало. Еще бы столько, тогда, возможно, они окажутся в безопасности. С чего взялась именно такая оценка дистанции, он не задумывался. Да и Шульгин молчал, переместившись в голову колонны.
Трех роботов они оставили далеко позади, в качестве казачьей тыловой походной заставы, с заданием увести преследователей, если такие окажутся, как можно дальше в сторону, после чего уничтожить, если не будет другого выхода. А потом догнать караван.
За шесть часов гонки на пределе возможности лошадей и рессор фургонов они проехали едва пятьдесят километров. И это все. Абсолютный предел. Лошади не люди. Остановив почти запаленного коня, и сам практически неживой, Андрей почувствовал, что зона досягаемости ментальных возможностей любых нелюдей закончилась. Сам воздух здесь был какой-то другой. Да и не в воздухе дело (это только проекция обычного человеческого восприятия), просто мировой эфир вокруг был свободен от эманаций чужих разумов и излучения скрученного, деформированного времени.
«Как здорово я наловчился различать такие тонкости», – мельком подумал Новиков. Попробовал браво соскочить с седла и позорнейшим образом упал, едва успев подставить руки, чтобы не воткнуться лицом в траву. Не сумел вовремя выдернуть ногу из стремени. Позор, но подняли его за плечи две женщины. Довели, хотя он и сопротивлялся, до ближнего фургона, положили на надувной матрас.
– Накатался, д’Артаньян ты наш? – услышал он голос Ирины.
– Все нормально, не надо цитат, – придержавшись за колесо, Андрей встал. – Растрясло, бывает. Отец рассказывал, как они по туркменским пескам целыми днями верхом мотались. А там плюс сорок было. У меня закалка не та. Воды дай, а лучше – шампанского…
– Еще кавалергард выискался, – в правое ухо фыркнула Лариса. – Ну пей, пей…
Вытянув полбутылки из горлышка, поперхнувшись пеной, Андрей взбодрился.
– Вот и все. Сейчас бы в баньку да массаж…
– Массаж можно, а с банькой потерпишь, – сказала Ирина.
– Тогда покурим, барышни. – Новиков остаток бутылки употребил мелкими глотками. Полезно для измотанного организма – глюкоза. Когда он занимался велосипедными гонками, на трассе витамин C с глюкозой поглощали пачками. Жаль, что здесь вовремя не вспомнил. А еще бы лучше – фенамином поддержать слабеющие силы.
– Сашка где?
Шульгин всю дорогу хорошо держался в седле и молчал, странно отрешенный и погруженный в себя. Досталось ему, конечно, выше всяких пределов, даже за последние сутки, не считая всего прочего. И все же выглядел он хуже, чем следовало. Немного напоминал Ларису. Слишком много нервной и какой-то иной энергии высосали из них эти пещеры. Но если мог скакать карьером и понимал, где он и что с ним происходит, – ничего страшного. И не такое бывало. «Возможно, – думал Андрей, – ему просто надоело стрелять и убивать. Наступил предел насыщения, тем более что все три его ипостаси слились воедино, каждая сохранив собственный груз негативных эмоций. Это как нормальному человеку существовать на планете с тройной силой тяжести».
Он и сам до сих пор не мог забыть свою смертельную депрессию, и хоть вспоминал ее уже отстраненно, все равно делалось нехорошо. Шульгину, пожалуй, еще хуже. Он ведь, как ни странно это звучит, несет в душе еще и воспоминания о двух собственных смертях, пусть и не взаправдашних, но весьма наглядных. Для его впечатлительной натуры – незаживающая рана.
С юных лет Новиков замечал за собой способность удивительно хорошо и легко находить места для привалов. И когда бродил с рюкзаком за спиной по горам Кавказа, и на Перешейке тоже. В полной темноте, идя по тропе впереди группы, или за рулем машины на латиноамериканских проселках, ничуть не лучших, чем российские, он вдруг чувствовал: «Здесь!» Останавливался и указывал место. И всегда оно оказывалось лучшим из возможных.
Вот и сейчас. В сотне метров перед фургонами отчетливо вырисовалось на фоне неба дерево из семейства баобабов, на одном из местных языков именуемое «нвана». Хорошо вышли.
Андрей указал роботам, где и как ставить лагерь. Гигантское растение, окружностью ствола у земли метров в двадцать, если не больше, простирало далеко в стороны толстые, как ствол векового дуба, ветви. Под этой кроной свободно мог разместиться целый кавалерийский взвод. В тени многослойной листовой мозаики не росла никакая трава. Очень удобно разводить костер, да и насекомым здесь делать нечего. На голой земле не разгуляешься, а листья нваны испускали особые фитонциды, отпугивающие кровососов и иную безвредную, но раздражающую крылатую мелочь. Курорт, одно слово.
Новикову еще хватило сил и характера, чтобы расседлать своего коня. Но это и все. Он бросил у основания ствола седло, кое-как стянул сапоги.
Предел выдержки достигнут и даже перейден. Суммарно он проехал переменным аллюром почти двенадцать часов с короткими привалами. Может, это и не мировой рекорд, но с него более чем достаточно.
– Олег, – обратился он к Левашову, – распорядись насчет костра. Потом разведи братву по постам. Вы, девушки, как положено, сообразите насчет ужина. Точнее, – посмотрел он на начавший светлеть горизонт, – завтрака. «Человек, желающий трапезовать слишком поздно, рискует трапезовать рано поутру», – не удержался он от очередной цитаты из Козьмы Пруткова.
– Ты, Саш, поройся там в сундуках, чего-то необычного хочется… Шампанское мы сегодня больше пить не будем, подождем до дома. – Под домом он понимал «Валгаллу». – А вот коньячок, помнится, французский, урожая тысяча восемьсот девяностого года, где-то там завалялся…
– Это, если по-нашему считать, столетняя выдержка получается, – усмехнулся Шульгин.
– И я о том же. Но девять лет тоже ничего.
Ирина, Лариса и Анна при свете костра и подвешенного на конце поднятого дышла фургона аккумуляторного фонаря разложили на развернутом брезенте походную снедь. В основном консервированную, из жестяных банок и вакуумных пакетов: паштеты, сыр, морепродукты, овощные закуски. На вертеле жарился подстреленный накануне Левашовым фазан, большой, как рождественский гусь. На алые угли капал, вспыхивая пылающими звездами, обильный жир.
– Ну, с избавлением, – сказал Новиков, поднося к губам походную серебряную чарку. Руки у него не очень сильно, но дрожали.
– А не с победой? – спросила Ирина.
– Да какая победа? – вместо Андрея ответил Шульгин. – Мы уже стали совсем как немцы…
– В каком смысле?
– Те тоже умеют выигрывать сражения, но проигрывают войны.
– Мы пока ни одной не проиграли, – с долей вызова возразил Левашов.
– Гинденбург до самого ноября восемнадцатого тоже так думал…
– Хватит вам опять о всякой ерунде спорить, – внезапно вмешалась Лариса, профессиональный историк. – Взялись, так пейте. Хотя Андрей прав, и для меня, и для Саши – прежде всего избавление. А что там с победами – после разберемся.
– Коньячок-то очень неплох, на самом деле, – сказал Новиков, прищелкнув языком.
– Кому как, – опять не согласился Шульгин. – На мой вкус – жидковат. То ли дело коллекционный «Двин».
– Вот эта тема гораздо лучше подходит для обсуждения, – кивнула Лариса, на глазах возвращаясь к привычному облику и стилю. – В коньяках я с давних времен разбираюсь, были у меня хорошие учителя. Главное ведь в чем, господа-товарищи? Тут все дело в психологическом настрое. «Чего вы пьете, где, когда и с кем». Наскоро, чтобы по мозгам ударило, без всяких эстетских заморочек – водки граненый стакан примите, и эффект достигнут. Даму чтобы красиво охмурить – пожалуй, вот такой «Фраппэн» подойдет, – указала она на стоящую между ними бутылку. – Тонкий вкус и отсроченное убойное действие. – Ну а «Двин», тут Саша совершенно прав, незаменим в компании серьезных людей под серьезную, кавказскую же закуску… В охотничьем домике над озером Севан.
Такой Лариса нравилась Новикову гораздо больше, и снова краем сознания мелькнула мысль, что не прочь бы он, лет так десять назад или пять, оказаться с ней в том самом охотничьем домике. Но увы. Тогда не случилось, а сейчас и думать нечего. С известных времен он «моногамен, как осел», по выражению одного приятеля.
Пока фазан окончательно доспел, выпили по второй и по третьей, ведя общий легкий разговор, никак не связанный с событиями последних дней. Несмотря на густую облачность и моментами срывавшийся мелкий дождь, рассветало быстро. Вельд, на сколько хватало глаз, был абсолютно пуст. Ни зверей, ни людей. С людьми ладно, а вот куда попрятались звери? Хоть бы один жираф замаячил на горизонте, или стадо антилоп гну, или канна. Даже львы ни разу не подали голос.
Как ни старались все присутствующие, пусть и по разным причинам, не касаться только что случившегося (все они, даже Анна, в отличие от обычных людей, давно научились сдерживать естественные эмоции и могли обходиться без обычных расспросов – «ну, как вы?», «а что там было?», «а как он, а она?»), разговор все равно перетек в нужное русло. Надо ведь как-то планировать дальнейшие действия, хотя можно было бы отложить на потом, когда все как следует выспятся, и уже на свежую голову обсудить случившееся и вытекающее.
Шульгин, время от времени промачивая горло уже не крепкими напитками, а заваренным по местному рецепту аналогом зеленого чая, изложил девушкам и Левашову тщательно подчищенную, лишенную излишнего натурализма версию событий. Новиков, в свою очередь, кое-что дополнил, в том числе постарался объяснить эпизод, касающийся Ларисы, с учетом собственных наблюдений, показаний пленного и размышлений Удолина. В его изложении получалось не очень страшно, чтобы у Ларисы полученный стресс преобразовался в воспоминание если не о романтическом, то достаточно безопасном приключении. Скорее курьезном, по причине взаимного недопонимания сторон. Когда нужно будет и от профессора поступят объективные материалы следствия, тогда можно рассмотреть тему расширительно.
После ответов как на деловые, так и на риторические вопросы слушателей Новиков голыми пальцами выхватил с края костра рдеющий, чуть подернутый пеплом уголек, бросил его в трубку поверх табака, несколько раз пыхнул, раскуривая. Трубку ему не приходилось курить довольно давно, все некогда было, ибо процесс этот требует покоя и даже некоторой самоуглубленности. На ходу ее курят только пижоны и люди непросвещенные, а истинному знатоку надо отвлечься от суеты, устроиться у камина или, как сейчас, у догорающего костра, соблюсти должный церемониал и – наслаждаться.
– Одним словом, на данный момент с некоторой долей уверенности мы можем предположить, что Антон с Арчибальдом были правы, настаивая на нашем уходе, – сообщил он. – Другое дело – так и осталось невыясненным, какими именно соображениями они руководствовались. Но совокупно с нашими собственными действиями получилось не так плохо. Если изложенная Константином схема взаимоотношений с дуггурами верна, то мы пресекли их активность в самом начале…
Он сообщил друзьям версию Удолина относительно своеобразных петель-восьмерок, в которые завилось время под взаимным воздействием землян через Гиперсеть, и дуггуров, действовавших собственными методами в прямом и боковом времени. В эту версию отлично укладывались и приключения Ляхова с Тархановым, совершенно случайно, с помощью Маштакова, активизировавших тоннели бокового времени и генерируемые ими зоны «искажений».
Можно сказать, в боестолкновениях с дуггурами наглядно проявился букет парадоксов, иллюстрирующих воздействие следствий на причины и обратно. Причем связь получалась не линейная, а куда более сложная.
– Тут тебе, Олег, вместе с Константином и его командой разбираться, ну и с Маштаковым тоже, он в эти загадки довольно глубоко проник, причем вполне самостоятельно. Заодно и в Пятигорск съездим. А у меня образования и воображения не хватает.
– Разберемся, – многообещающе и словно бы с угрозой сказал Левашов. – А пока – в двух словах, на уровне книжек Якова Перельмана…
Конечно, гораздо лучше было бы, если б Олег оказался на его месте и лично услышал все от профессора. Но это еще впереди, дай бог отсюда выбраться и укрыться за непроницаемыми для врагов любого рода бортами «Валгаллы»-парохода, а потом добраться и до станции Дайяны на Валгалле-планете. Заодно и познакомиться с его коллегами-некромантами.
В двух же, условно говоря, словах картинка выглядела таким образом. На ГИП, где сама по себе человеческая цивилизация их, дуггуров, не интересовала просто за ненадобностью (как не интересует обитателей муравейника соседняя железнодорожная станция – это сравнение Новикову очень нравилось, и он довел его до сведения друзей), они обнаружили для себя нечто куда более интригующее. А именно – присутствие аггров, удививших дуггуров своими ментальными характеристиками и определенным сродством по отношению к их собственному мировосприятию. Их они и принялись изучать, тоже по своим собственным методикам, для аггров непонятным и неприемлемым.
– Такая вот интересная коллизия, – усмехнулся Андрей, взглядом показав Шульгину, что не мешало бы плеснуть в чарки еще по глотку волшебного напитка. Кивнул благодарно и продолжил: – Три цивилизации, имеющие между собой очень мало общего, пересеклись в зоне интересов, всеми тремя понимаемыми абсолютно неправильно.
– Неправильно – для кого? – спросила Ирина.
– Если еще точнее – с чьей точки зрения, – добавила Лариса.
– С нашей, само собой. Разумом, дарованным нам свыше. – Одной рукой Новиков опрокинул в рот чарку, другой указал на сильно порозовевшие облака над головой. – Мы умеем к собственной пользе воспринимать и трактовать все, и «тонкий галльский смысл, и сумрачный германский гений».
– Нескромно, – ответила Лариса.
– Кто бы говорил! – Третья сотня граммов коньяка, принятого после громадного физического и нервного напряжения, действовала на Андрея благотворно. В том смысле, что позволяла игнорировать некие общепринятые нормы политкорректности. – Не сообрази мы с самого начала, с детства, можно сказать, как именно следует поступать с сапиенсами, все могло бы сложиться совсем иначе. Для тебя – в том числе. «Мне стало грустно. И зачем было судьбе кинуть меня в мирный круг честных контрабандистов? Как камень, брошенный в гладкий источник, я встревожил их спокойствие и, как камень, едва сам не пошел ко дну!».[20]
Далеко не все поняли эту ни к селу ни к городу приплетенную фразу. Но Лариса поняла, да и Анна, молчавшая все время завтрака, пожалуй, тоже. Девушка она была проницательная и классику знала хорошо, в гимназии учили. А самой «классики» тогда было намного меньше, чем почти век спустя.
– Неизвестно, где бы ты сейчас была, не сообрази мы, как следует поступать с «братьями по разуму». Но это тоже неважно. Сейчас. Мы свое дело сделали. Грубо, кроваво – а кто нам выбор предоставлял? И в реале Главной исторической, как и в Югороссии, они не появятся долго-долго. На Валгалле, пожалуй, тоже. Слишком много мы им концов обрубили…
– Заодно дав понять, что связываться с нами им пока рановато, – добавил Шульгин.
– Совершенно верно. Тем более что они не имеют никакого представления о нашей истинной мощи, количественной и качественной. Те индивидуумы, с которыми они столкнулись, легко переиграли их лучшие силы тактически, продемонстрировав при этом техническое превосходство вооружения, а главное – психических сил.
Им не удалось подавить никого из людей даже поодиночке, в самых выгодных для них условиях внезапности и численного превосходства. На Валгалле мы, вдобавок, показали им силу нашего стрелкового вооружения и боевой техники. Вчера на базе они узнали… Да-да, узнали, – предупредил он попытку Шульгина что-то возразить, – не могли не узнать, ментальная связь у них наверняка действовала, и какие-то следящие устройства наверняка работали до последнего, – что есть в нашем распоряжении и методики, примененные Удолиным. Ранее на поле боя не замеченные. Эрго – их аналитикам наверняка придется задуматься.
А поскольку все попытки разделаться что с нами, что с агграми по всему столетнему спектру времен завершились полной неудачей, продолжения агрессии с их стороны в уже освоенных нами мирах ждать вряд ли стоит. Именно потому, что они – не люди. И в отличие от нас не станут наносить удар там, где однажды уже потерпели поражение. Я так думаю – понятие «разведка боем» им неведомо. Один английский мыслитель говорил: «Кошка ни за что второй раз не сядет на горячую печку. Но и на холодную – тоже». Это про наших партнеров… Так что, если мне будет позволено закруглить свою мысль, до чрезвычайности длинную и не очень связную, следующую встречу с господами дуггурами можно ждать только и именно в две тысячи пятьдесят шестом году. И нигде больше…
Последние слова Андрей произносил через силу, чувствуя, что стремительно проваливается в сон. Усталость, нервы, умственные усилия делали свое дело. Он мог заснуть прямо сейчас, откинувшись спиной на шершавую кору баобаба, но выглядело бы это неправильно. Никто бы не осудил, зная обстоятельства, но тем не менее. Поэтому он напоследок подобрался, встал, сохраняя полную координацию.
– Если никто не возражает, я попробую вздремнуть «до подъема флага». Александр Иванович, думаю, тоже. Так что я пошел. При пожаре не будить, выносить в первую очередь…
– Теперь можно и Воронцова вызывать, – сказал Новиков Ирине, выбираясь из фургона. День уже перевалил за середину, на западе снова громоздились мрачные грозовые тучи, но на востоке небосвод оставался чистым.
Андрей чувствовал себя вполне отдохнувшим и готовым к любым поворотам судьбы. Только на ближайшие дни их, скорее всего, ожидать не следовало. Добраться бы поскорее до Дурбана, на месте изучить обстановку, а там и принимать очередные судьбоносные решения.
А сейчас следует думать только о возвращении без потерь и прочих осложнений. К заново разожженному костру, над которым уже висел на треножнике котелок с водой для чая, услышав голоса, подошли и Шульгин с Левашовым.
– Неси, Олег, свой ноутбук, – попросил Новиков.
Вывели на экран крупномасштабную карту, определили свое место.
– По кратчайшему расстоянию проще всего двигаться в сторону Мафекинга. Вот так примерно, – показал Андрей. – Тут всего полтораста километров, местность подходящая. Если еще три дня назад наши очистили «железку» до Де Ара, а Воронцов собирался перебазироваться в Дурбан, поезд за нами оттуда за сутки доедет, ну, может, за двое, в зависимости от состояния путей и подвижного состава. Там и встретимся. Эй, Джо, тащи рацию, настраивайся на пароход…
Несмотря на потрескивание в наушниках атмосферного электричества, слышимость была приличная. Только никого из своих на борту «Валгаллы» не оказалось. Вахтенный начальник доложил, что все уехали в город. Потому что воскресенье, и в Дурбан приехали президенты Крюгер и Штейн с делегациями, чтобы объявить о присоединении провинции Наталь к Трансваалю. По случаю чего намечены большие торжества.
– Ну, тогда записывай радиограмму, – сказал Новиков и продиктовал наскоро составленный в уме текст, в котором сообщал, что они, наконец, вырвались на волю, находятся на таких-то координатах, намереваются двигаться в сторону железнодорожной линии по кратчайшему направлению и ждут обещанного поезда с платформами и классным вагоном. Следующая связь в полночь, если не выйдет – потом каждые четыре часа.
– Слушай, а какое у вас там сейчас число? – спросил Андрей у робота.
Счет дням они давно потеряли и о том, что сегодня воскресенье, не знали. При последнем сеансе связи с Воронцовым стало понятно, что в области проживания дагонов они из нормального потока времени в очередной раз выпали, и на тот момент расхождение составляло больше трех недель. Особенно их это не встревожило, не такое приходилось видеть, и недели – это все же не годы.
Хотя пропущенной войны было жаль, Новикову хотелось лично поучаствовать в планировании и проведении кампании. Впрочем, ничего еще не потеряно. Кейптаун до сих пор не взят, в Капской колонии сосредоточены солидные британские силы, включая те, что успели эвакуироваться из Наталя. Если в ближайшие дни не состоится заключение перемирия или мира, повоевать и им доведется. Хотя бы на штабных картах.
Зато Басманов и Сугорин в полной мере проявили самостоятельность и стратегические таланты. Придется им генеральские чины присваивать.
Но три недели – это было три дня назад. А потом процесс пошел вразнос. К примеру, Лариса считала, что ее приключение заняло гораздо больше суток, а по расчетам «извне» – часов пять. Потом Шульгин с Удолиным Ларису выручили и перебросили в лагерь, а сами еще сколько-то, но никак не больше часа, провели на станции дуггуров, а на стоянке фургонов прошли сутки. Получается, что в пределах полусотни километров и, так сказать, биологического дня время несколько раз поменяло скорость и знак. В радиусе полусотни километров оно то ускорялось, то замедлялось, то текло навстречу самому себе. В принципе, ничего удивительного здесь не было, приходилось уже сталкиваться с подобным, но в таком концентрированном и, так сказать, взаимоисключающем виде – впервые. Неизвестно, что случилось бы, задержись они в стране дагонов еще сколько-то. Очень возможно, что после уничтожения станции обстановка стабилизировалась, а может быть – наоборот, и что сейчас там происходит – невозможно и представить.
Поглощенному тревогой за судьбу Ларисы Левашову тогда было не до теоретических размышлений, Шульгину с Удолиным – тем более. Сам Новиков, приняв ментаграмму профессора, во время скачки через леса и вельд ничего такого не ощутил. Старался успеть как можно быстрее, да беспокоился, выдержат ли лошади, вот ему и казалось, что время тянется, как резина. А сверить перед боем часы, свои, Левашова, Шульгина, как это от века заведено, – никому в голову не пришло.
Вахтенный ответил. Новиков непроизвольно выругался.
– Что вы сказали?
– Ничего, это так, неопределенный артикль. Конец связи.
Он выключил рацию.
– Ну что, господа, позвольте вам доложить, что еще неделька пролетела мимо нас…
Когда все расположились вокруг костра, Андрей предложил Левашову «привести картинку в соответствие», как он выразился.
– Я лично все понимаю и без подробных объяснений, – не замедлил вмешаться Шульгин, – кроме одного – если время у нас течет медленнее, чем там, – как получается по радио нормально разговаривать? Всем случалось пластинку 33 на 78 оборотов включать. И наоборот. И здесь так же должно быть.
– Тонко подмечено. Но из этого следует лишь то, что в моменты связи время у нас и на «большой земле» шло одинаково. А все катаклизмы имели место быть за пределами первой и нынешней «точки стояния», – ответил Левашов. – Либо радиус поражения был меньше, чем расстояние до наших фургонов, либо пятно хроноклазма имеет неправильную форму…
Ирина, вроде бы бесцельно черкавшая прутиком по земле, подняла голову.
– Могу предложить еще одну, вполне безумную идею, – сказала она с усмешкой. – Наши роботы…
– Что – роботы? – не понял Левашов.
– Роботы, являющиеся элементами Замка, вполне могут обладать неизвестными нам свойствами. В том числе – способностью генерировать вокруг себя нечто вроде кокона, непроницаемого для здешнего хронополя. Там, где они находились (а кто-нибудь из них постоянно оставался при фургонах), время текло нормально.
– Не получается, – тут же сообразивший больше того, что хотела сказать Ирина, ответил Олег. – В этом случае мы бы с ними разминулись…
– Отнюдь нет, – возразила она. – Как ты себе это представляешь? Главное, что они все время оставались на том же самом месте. А сколько именно часов или дней прошло для нас и для них…
– И для лошадей, – неожиданно вставила Анна, обычно старавшаяся не вмешиваться в научные дискуссии «старших».
– Совершенно верно. Лошади щипали травку, пили воду и спали, совершенно не задумываясь, день прошел или неделя.
Все дружно рассмеялись. А ведь действительно. Если никому не пришло в голову приказать роботам отслеживать время отсутствия в лагере каждого из них, то по своей инициативе они подобными изысканиями заниматься не были обучены. А теперь что же? Если даже попытаться провести ретроспективный хронометраж, так он ничего не докажет. Другое дело – вернуться и провести инструментальные исследования…
– Очень может быть, что-то в твоей идее есть, – сказал Новиков. – Не зря же дагоны сразу усекли «чуждость» наших спутников и велели им оставаться за неким, возможно, точно рассчитанным пределом. Чтобы не нарушали режим дня.
– Ладно, как бы там ни было, это не самая важная сейчас загадка. На этот раз я час и минуту связи с «Валгаллой» засек. При следующем сеансе сопоставим. А пока будем сворачивать бивуак и начинать движение. Путь неблизкий, успеем наговориться.
Лагерь свернули, фургоны загрузили по-походному, все лишнее убрав подальше, а под руками оставив самое необходимое, то, что может потребоваться немедленно, исходя из обстановки. Предстояло пересечь много десятков километров открытого пространства, и еще неизвестно, насколько соответствуют действительности слова Воронцова трехдневной давности.
Это хорошо, что англичане стремительно отступили в южный треугольник Капской колонии, к Кейптауну. Но из опыта многих следующих войн было известно, что в случае отсутствия сплошного, «планомерного сокращаемого» фронта, когда отступающие войска не имеют возможности сохранять зрительную и огневую связь, случается много интересного.
Великолепный пример – собственная Гражданская война 1918–1922 годов. Во многом похожая на нынешнюю Англо-бурскую. Разгром ударной группировки противника и введение в прорыв всех имеющихся в распоряжении сил по единственному направлению автоматически приводят к тому, что по флангам и в тылу наступающих войск всегда остается значительное количество недобитых и просто незамеченных частей противника. В зависимости от их численности и инициативы командиров возможны крайне неприятные последствия. О партизанском движении англичан в тылу буров говорить не стоит, но несколько рот, батальонов, а то и полков вполне могли опомниться, привести себя в относительный порядок и устроить победителям серьезную войну на коммуникациях.
Или просто пробираться вслед за наступающими бурами в надежде рано или поздно воссоединиться с главными силами, когда те, наконец, сумеют стабилизировать фронт.
В любой момент «кладоискатели» могли нарваться на один из подобных отрядов. Да и того, что не только регулярные войска могли попасться на пути, а и пресловутые ойтландеры организуют собственные шайки мародеров, исключать никак было нельзя.
Поэтому вся система охраны и обороны каравана на марше была продумана с учетом имеющихся фактов, исторических и умозрительных. Огневая мощь отряда после стычек с англичанами и битвы с дуггурами не пострадала. Патронов расстреляли почти половину, но и оставшихся хватит, чтобы обратить в бегство очередной кавалерийский полк. А уж на самый крайний случай, думать о котором никому не хотелось, можно было прибегнуть к совсем не конвенциональным методам. Выпустить роботов, как стаю бойцовых собак на пьяную компанию уличной шпаны, приказав уничтожать всех, не стесняясь в способах. Они голыми руками перебьют, передушат батальон полного состава, «чувств никаких не изведав».[21] Именно этого почему-то опасался Антон, когда Воронцов завел с ним первый разговор о роботах.
С одной стороны, смешно рассуждать о гуманизме после того, как в середине, а тем более – конце просвещенного ХХ века армады бомбардировщиков вываливали фугаски и зажигательные бомбы на города с мирным, по преимуществу, населением, за один раз испепеляя сотни тысяч ни в чем, кроме принадлежности к той или иной нации, не виноватых женщин и детей, а с другой – имеется, как ни крути, у людей того же века особый внутренний стопор.
Позволить механическому существу, ничем не рискующему, безнаказанно рвать на куски живых людей! Это же варварство запредельное! Ни с какими конвенциями о культурном ведении боевых действий не согласующееся. И снова контрдовод: а танк – не механическое устройство? Давит гусеницами живую силу противника именно он, человек только за рычаги дергает.
Молодцы евреи, подумал Новиков. Они этот наш отвратительный, по сути, процесс рефлексий и саморефлексий вывели за пределы обыденной жизни. В синагогах две тысячи лет только и делают, что обсуждают утонченнейшие проблемы вероучения и правила устройства личной жизни. Доводы реббе из Кордовы VIII века воспринимаются на равных с построениями мудрецов XX, ибо лежат в одной плоскости. А за дверями той же синагоги живут применительно к текущим обстоятельствам. А мы все пытаемся совместить духовное и земное.
Еще два дня они спокойно ехали по вельду на восток. Не спеша, потому что спешить было совершенно некуда. Фургоны по мягкой рыжей земле катились мягко. Лошадям хватало корма. Желающие развлечься охотой, как видом спорта, и принести к общему столу какую-нибудь вкусную дичь далеко отъезжали в стороны, не по одному, конечно. И всегда возвращались с добычей. Пару раз у горизонта появлялись группы слонов, но как дичь они никого не интересовали, а попадаться им на пути было просто неразумно. Разъезжались без ненужных столкновений.
Только вот радио почему-то совсем перестало работать. Несколько попыток выйти на связь закончились ничем. Сплошной вой и свист в эфире, и ничего больше.
– У нас неполадки или у них? – спросил Новиков Левашова после очередной попытки.
В этот раз они привал устроили на опушке леса, чтобы закинуть антенну на самое высокое из деревьев.
– Был бы я такой умный… – скривился Олег. – Судя по звукам – обычное непрохождение волн. Очень сильный грозовой фронт поперек или магнитная буря. Мы же на КВ работаем. Сам должен понимать…
– Не нравится мне это. Подозрительно как-то. Может, мы опять – того… Провалились вниз еще на одну геологическую эпоху.
– Типун тебе на язык. Буду пытаться выходить на связь каждый час.
Тут и загудело с западных четвертей горизонта.
Лариса вдруг вздрогнула, побледнела, как-то сжалась.
– Это – тот самый звук. Это опять они летят.
Кто именно – спрашивать не было необходимости.
Выходит, Новиков, поверивший словам Удолина, переданным Сашкой, снова ошибся. Дуггуры не уничтожены и не деморализованы, они очень быстро пришли в себя после разгрома и подняли в воздух свои летающие тарелки. О которых друзья в победной эйфории как-то совершенно забыли. Что само по себе странно. Такое впечатление, будто очередной мóрок на них наслали. Лариса очень подробно рассказала об этих летательных аппаратах, даже назвала их точное количество, а во время штурма станции и допроса пленного Сашка с профессором отчего-то не заинтересовались, где сейчас находятся эти устройства, каковы их ТТХ и кто ими управляет. Словно память именно об этом существенном факте была у них заблокирована.
Но рассуждать и выяснять, как такое могло случиться и какие из этого следуют выводы, сейчас было некогда.
Андрей совсем забыл, что ни Шульгин, ни Удолин о «тарелках» ничего конкретного не знали, это только ему и девушкам Лариса о них рассказала. После возвращения. Так что удивляться было нечему и винить некого. Он сам должен был, когда прискакал за друзьями к дуггурской станции, поднять эту тему. Так и ему было совсем не до того.
Если удастся выжить, тогда можно будет вернуться к этому любопытному вопросу.
С «медузами» большинству присутствующих сталкиваться приходилось, и хотя их истинные боевые возможности остались неизвестными, главное было ясно – противостоять ни стрелковому оружию землян, ни гравитационному аггров они не в состоянии. Так то «медузы», а летательные аппараты, с которыми имела дело Лариса, выглядели и функционировали совсем иначе. Однако, по ее же словам, впечатления сверхзащищенных «летающих крепостей» они явно не производили.
Капитан парохода «Царица» Челноков, принявший на борт Кирсанова, Давыдова и Эльснера, рассчитал так, что траверз мыса Доброй Надежды миновали в десятом часу вечера, когда уже окончательно стемнело, да и небо, как по заказу, затянули плотные тучи. Высадка на берег в таких условиях была задачей достаточно рискованной, однако карта глубин не сулила неожиданных мелей и рифов, да и капитан ходил здесь не один десяток раз, зрительно представлял очертания побережья в окрестностях Кейптауна. Английская лоция тоже была достаточно надежной: колонизаторы за семьдесят лет со свойственной им тщательностью произвели все гидрографические и картографические работы от устья Оранжевой реки до границы с Мозамбиком.
Во всем полагаясь на капитана, который считал задачу выполнимой и даже не очень трудной, Кирсанов все же испытывал естественное беспокойство человека, не имеющего возможности активно влиять на обстоятельства. В морских делах он разбирался слабо, да и капитан не позволял кому-либо вмешиваться в собственные прерогативы. Согласился помочь в рискованном деле – и на том спасибо.
За ужином Челноков как бы между прочим сообщил пассажирам первого класса, что входить в порт ночью считает не совсем безопасным по навигационным, а также и политическим причинам. Война все-таки, и можно наткнуться на английские сторожевые корабли, а что им может прийти в голову – неизвестно. Так что он решил отойти мористее и положить пароход в дрейф, а уже с рассветом продолжить путь.
– Посему спокойно отдыхайте, господа, а утром увидите Столовую гору во всей ее красе. – Капитан допил свой чай и откланялся.
Несколько позже Кирсанов вслед за ним поднялся на мостик.
– У вас все готово, Геннадий Арсеньевич?
Челноков молча кивнул, обводя биноклем море вокруг и невидимую береговую линию. Нигде ни огонька до самого горизонта. А даже свет обычного костра, не говоря уже о судовых навигационных огнях, был бы заметен на десяток миль.
Пароход, неторопливо подрабатывая машинами, продвигался вперед. Когда, по счислению, до заранее намеченной укромной бухты оставалось около двух миль, капитан приказал застопорить машину.
– Я, прошу прощения, немного все ж таки опасаюсь, – вновь нарушил молчание Кирсанов. – Ваши люди… В Кейптауне никто не проболтается? Так, случайно, в трактире, например? Без всякого злого умысла.
– Не извольте беспокоиться, – ответил Челноков. У них с Кирсановым уже был разговор на эту тему, когда они обсуждали и прорабатывали план выгрузки. Тогда полковник выспросил у капитана подробности биографии и службы всех его людей, и рядовых матросов, и комсостава. Наличие среди них английских шпионов он, конечно, не предполагал, не то пока еще время, но опыт подсказывал, что совсем не так редко среди вполне обычных людей встречаются личности с разного рода «завихрениями», и мало-помалу их становится все больше. Соразмерны ли, к примеру, были причины и последствия мятежа на «Потемкине»? Или на «Очакове»?
Пусть на «Царице» нет тайных социал-демократов или анархистов, так могут оказаться «искатели приключений», готовые сбежать с корабля в чужом порту. Сколько раз такое случалось. А уж если сбежит, так наверняка, чтобы заручиться благосклонностью местных властей, донесет о странных пассажирах и тайной разгрузке неизвестных вещей поблизости от порта.
Однако капитан заверил, что всех своих людей знает лично, случайных среди них нет, плавают с ним не первый рейс и ни в чем предосудительном не замечены.
– И болтунов у меня не водится, были случаи убедиться. Если все обойдется, кое-какое вознаграждение людям не помешает, это уж как водится. Оно, конечно, можно и подписки о неразглашении государственной тайны взять, с соответствующим предостережением, но если располагаете суммой на такого рода расходы – лучше будет. В остальном положитесь на меня.
– Это вне всякого сомнения. А для надежности, скажем, сегодня же, как дело сделаем, – каждому матросу я вручу по десять рублей золотом, офицерам – в размере месячного оклада. И сообщу, что при возвращении в Россию вы от моего имени выплатите им еще столько же.
– Это даже щедровато получится, – ответил капитан.
– Ничего, казна не обеднеет. Зато гарантия. Вы тоже будете вознаграждены двойным жалованьем за весь рейс. И, как я обещал, в нужном месте замолвлю за вас словечко. Глядишь, да и пригодится. Мы надежных людей ценим…
Один из вельботов был заранее загружен сундуками с оружием и прочими предметами, могущими пригодиться в глубоком тылу противника. В том числе и такими, о которых нынешняя цивилизация понятия не имела.
Кирсанов допускал, что в ходе высадки могут произойти всякие непредвиденные случайности, среди них простейшая – им не удастся возвратиться обратно на «Царицу». Мало ли что – неожиданная встреча на берегу, внезапно налетевший шторм, появление неприятельских сторожевиков. Поэтому они отправлялись на берег все трое, должным образом одетые и снаряженные.
При почти штилевом море спуск на воду трудностей не составил и был произведен быстро и четко, так, что не только пассажиры, но и свободные от вахты члены экипажа ничего не заметили. Четверо матросов сели на весла, боцман на руль. Челноков занял место на правом крыле мостика, с мощным фонарем, проблесками которого в случае необходимости намеревался помогать вельботу выдерживать в темноте нужный курс, а главное – в случае чего просигналить азбукой Морзе о неожиданных осложнениях, если таковые возникнут. Капитан участвовал в Русско-турецкой войне и за двадцать лет не забыл, как высаживал разведывательные партии в дельте Дуная. Тогда потруднее и пострашнее было.
Такой же фонарь имелся и у Кирсанова. Он не стал демонстрировать старому моряку ноктовизор. Незачем ему о таких вещах знать. Вдобавок пусть проникнется ощущением собственной значимости в выпавшем ему деле. Устроившись на передней банке, прикрытый сзади Давыдовым и Эльснером, вооруженными автоматами, он настроил прибор и приказал боцману начать движение.
Слаженно работая веслами, без плеска и скрипа уключин, матросы за полчаса подогнали вельбот почти вплотную к началу прибойной полосы. Стал слышен шум набегающих на галечный пляж волн и громкий перестук камней.
Навигационные огни «Царицы» едва виднелись в затягивающей горизонт дымке испарений, но вспышки фонаря различались хорошо.
– Теперь посветите немного, ваше благородие, – попросил с кормы боцман. – Какая там высота волны?
– Не стоит. Я в темноте как кошка вижу, – отозвался Кирсанов. – Держи руль прямо: берег чистый, и волна с аршин, не больше. Еще с десяток гребков – и суши весла. Сама вынесет.
Так и получилось. Вельбот скрежетнул килем о дно, очередная волна слегка приподняла его и подтолкнула вперед, за урез воды, больше чем на половину корпуса. Матросы и Кирсанов с офицерами спрыгнули на берег и рывком выдернули плавсредство на сушу целиком.
– Тихо! – поднял руку жандарм. – Пару минут стоим тихо, смотрим, слушаем.
– Куда тут смотреть, – буркнул под нос один из матросов, – и не слыхать ничего, окромя прибоя…
– Тихо, – свистящим шепотом повторил Кирсанов, – а то вы у меня и увидите и услышите много интересного…
Вернувшись в годы своего детства и юности, Павел Васильевич неожиданным даже для самого себя образом начал забывать многие благоприобретенные привычки и возвращаться к исходному мировосприятию. Точно так, как инородец, получивший университетское образование в метрополии, возвратившись в родные Бомбей или Бухару, легко вспоминает прежние феодальные привычки.
Уловив хорошо знакомые нотки в его голосе, матросы замолчали. От такого «барина» и по зубам схлопотать недолго. В девятнадцатом веке фраза: «Их милость из собственных ручек набили морду» – звучала совсем не гротескно, скорее даже уважительно.
Кирсанов, бесшумно ступая по гальке, прошел метров на десять вперед, внимательно осмотрел сам пляж и склоны окружающего бухту плато. А специально настроенным аудиоселектором, отсекающим посторонние звуки и выделяющим нужные, прослушал окружающую местность в километровом радиусе. Все было чисто.
По крайней мере, ничего, намекающего на наличие поблизости живых, тем более – разумных существ, приборы не фиксировали. А как известно, бесшумных засад не бывает. Особенно в здешние, патриархальные времена. Тем не менее. Могли и здесь оказаться умельцы, ничуть не уступающие Кирсанову и штабс-капитанам в подготовке и квалификации. Это полковник усвоил из предыдущего опыта, приобретенного на службе «Андреевскому братству».
– Никита, Павел, выгружайте багаж, – распорядился он. – Я пройдусь до откоса, присмотрю место, потом просигналю. Оружие на изготовку, не курить, не разговаривать. Один наблюдает за мной, второй – за пароходом. Начали…
Бухта была выбрана весьма подходящая: с полкилометра между образующими ее мысами, чуть больше в глубину. Высота отрогов Капских гор, террасами спускающихся к морю, составляла до километра по вертикали, но от пляжа вверх вели две широкие пологие расселины, по одной из которых низвергался достаточно широкий ручей с несколькими водопадиками. Зато вторая была сухой и вполне доступной для пешеходов, лошадей или мулов.
Помигав фонариком, он приказал Давыдову и Эльснеру начать транспортировку груза, а сам двинулся вверх по распадку, присматривая место для схрона. Вскоре такое нашлось. Будто идеально для них приспособленное. Пещерка между скалами, вход окружен довольно густыми зарослями растений, похожих на плющ или хмель, глубокая и сухая, это Кирсанов почувствовал, как только вошел. Ни малейшего намека на сырость в воздухе, пахнущем песчаной пылью и немного серой. Даже удивительно вблизи океана и совсем недалекого ручья. Но это могло бы интересовать спелеологов, а полковник был практик. Он не собирался прятать здесь свое имущество на годы, за которые что угодно может случиться, а за две недели или даже месяц с прочнейшими кофрами ничего не сделается.
За полчаса кофры были уложены самым удобным образом, каждый по отдельности в трещинах и нишах, замаскированы песком и камнями. Потом и сам вход в пещеру тоже заложили крупными обломками плитняка, в изобилии валяющегося поблизости. Для полноты картины свежую стенку задрапировали зеленью, не слишком нарушив естественное расположение колючих и цепких лиан.
– Ну и слава богу, – сказал Кирсанов, когда работа была сделана. – Вы, братцы, – велел он матросам, – идите к вельботу, готовьтесь отплывать. На водку сегодня уж точно заработали. Мы вас догоним…
– Закурим, наконец? – спросил Давыдов, присев на камень и положив на колени автомат.
– Курите, – разрешил Кирсанов. Опасности теперь точно не было, раз до сих пор не проявилась. – Я почему вас задержал? Давай, Павел Карлович, пробегись наверх до самого выхода на плато, осмотри дорогу и метку там оставь подходящую, чтоб мы потом не плутали, а я сейчас сюрприз на всякий случай организую. Мало ли, кто тут лазить вздумает, из чистого любопытства…
По верхнему краю свежеуложенной стенки он натянул тонкий капроновый тросик, соединенный с чеками двух гранат осколочно-фугасного действия, спрятанных между камнями. Теперь, если кто попробует проникнуть внутрь, испытает большое недоумение. Непродолжительное, впрочем. Если это будут кафры, то выжившие сюда вряд ли вернутся на протяжении жизни ближайшего поколения, ну а если англичане… Уцелевшие, буде такие окажутся, тоже призадумаются, стоит ли лезть дальше.
– Теперь пошли, – сказал он, когда Эльснер вернулся и доложил, что дорога вполне проходимая до самой вершины плато.
– Ориентир – треугольный валун рядом с сухим деревом.
На пароход вернулись через два с небольшим часа, и капитан облегченно вздохнул. Он тоже порядочно перенервничал, что там ни говори, а операция представляла собой контрабанду в чистом виде, притом – военную, и наткнись на них англичане, неприятности грозили крупные. Вплоть до конфискации парохода и интернирования экипажа.
– Спасибо за помощь, Геннадий Арсеньевич, – пожал ему руку Кирсанов. – Угощение за мной. Прошу в каюту.
Давыдов, когда матросы под руководством боцмана закрепили на рострах вельбот, пустил по кругу фляжку с шестидесятиградусным ромом и «от себя» вручил каждому по серебряной английской кроне.[22] На эти деньги можно было с ног до головы приодеться в магазине готового платья или дня три не вылезать из хорошего паба, ни на что более не отвлекаясь.
– Но вот этого не советую, братцы, – доверительно сообщил он, когда такая идея промелькнула в дружеском разговоре, стимулированном второй очередью глотков и папиросами из портсигара штабс-капитана. Его легкий характер и два года окопной жизни на Мировой войне научили общаться с нижними чинами настолько, что в недоброй памяти марте семнадцатого его не только не убили, но и собирались избрать командиром полка. Благо, он вовремя сбежал на юг, к Корнилову. А с этими спокойными, обстоятельными и рассудительными людьми разговаривать было куда легче, чем с озлобленными солдатами, тем более что начальником он для них не был.
– За труды и правильное поведение с вами особо расплатятся, и очень хорошо, только вот прямо сейчас советую забыть обо всем, как ничего и не было. Никуда не плавали, ничего не видели и не слышали. А если кто, особо наблюдательный, что-то приметил, отвечайте, что капитан посылал глубины по курсу промерять. Карта, мол, у него ненадежная. Договорились? Тогда допивайте, что осталось, и по койкам. Часа три до побудки, не меньше.
Рассветало долго и неохотно, сырой туман, упавший после шестой склянки,[23] не пропускал солнечные лучи, и ход «Царице» капитан дал только в начале восьмого, когда видимость улучшилась до трех миль. Через два часа вдали открылся Кейптаун.
Порт и раньше был одним из самых оживленных и загруженных на всем африканском побережье, не считая, конечно, средиземноморских, но сейчас он просто поражал обилием судов всевозможных классов, грузовых и пассажирских. Вдобавок у стенок и на рейде скопилась целая эскадра боевых кораблей, от самых современных до давно устаревших, годных лишь для брандвахтенной службы. Да на этом театре, если бы не внезапные диверсии «Изумруда», боевые корабли вообще не требовались, по причине отсутствия у противника хоть каких-то морских сил.
Кроме крейсеров вдалеке слегка дымили трубами два броненосца, тоже не слишком новые, постройки начала девяностых годов. Транспорты и крейсера, имеющие видимые повреждения в корпусах и надстройках (следы недавнего боя), были пришвартованы поблизости от дока, но бурной ремонтно-восстановительной деятельности на них не отмечалось. Либо англичанам сейчас было не до того, либо просто не хватало подготовленных специалистов.
– Громадную силу собрали альбионцы, – не то уважительно, не то с насмешкой сказал Давыдов, стоя рядом с товарищами на полубаке и с искренним интересом рассматривая открывающуюся перспективу.
– Если уж «Изумруд» среди них такого шороху навел, так нашей «Валгалле» – на один зубок, – отозвался Эльснер. – Задумай господа руководители войну до победного конца, все они тут на дно и лягут. Хуже, чем наши в Порт-Артуре.
– Я бы так и сделал, – мрачно бросил Кирсанов, не отрывавший от глаз окуляров двенадцатикратного бинокля. – Подошел, расстрелял и снова ушел. Пусть потом премьеры и императоры между собой разбираются, кто и зачем…
– Позволю не согласиться, Павел Васильевич, – возразил Давыдов, неожиданно проявивший стратегический подход к вопросу. – Подобная акция, эффектная сама по себе, может вызвать совершенно неожиданные последствия в мировом масштабе. Едва ли не худшие, чем начало Мировой войны…
До причала, к которому собиралась швартоваться «Царица», было еще не меньше получаса самым малым ходом, и времени на абстрактные разговоры хватало. Когда дойдет до дела, Кирсанов праздной болтовни своим паладинам не позволит.
– И в чем же вы такие последствия видите? – спрошено было с оттенком любопытства, но и с намеком, что любой ответ будет воспринят как праздные умствования именно что строевого штабс-капитана, никак не серьезнее.
– Да вы же представьте, Павел Васильевич! Ну, расстреляет «Валгалла» с дальних дистанций весь английский флот. О стратегической пользе подобной акции спорить не буду, но вот в политическом плане! Это немедленно станет известно всему миру, подводные телеграфные кабели работают нормально. Это будет… Это будет… Ну, как падение на Землю большого метеорита…
– И что? – по-прежнему спокойно осведомился Кирсанов. Он умел себя вести и держать сообразно обстановке где угодно и с кем угодно. Всегда оставаясь самим собой. – Британский флот уничтожен неизвестно кем. Общество в ужасе, панике и ярости. На что эти чувства обратятся?
– Точнее – на кого, – вставил до того невозмутимый Эльснер.
– Это я и имею в виду, – кивнул Кирсанов. – На собственное правительство, допустившее подобное. Реального врага нет. Любая из держав от подобного обвинения легко отмажется. И будет крайне убедительна, потому что так оно и есть…
– Но если обозначится непонятная никому и угрожающая всем сила…
– Это будет лучшим из вариантов, – холодно скривился Кирсанов. – Станут не возможными никакие альянсы, поскольку никто никому отныне доверять не сможет, начнется гонка вооружений, опять же индивидуальная, прикрываемая тезисом о наличии неведомого врага, которого на самом деле все станут подозревать друг в друге. Позорно проигравшую Британию все не только перестанут уважать, все кинутся делить ее наследство… Дело в том, что подобным образом вопрос пока не стоит, а если даже и да, то не перед нами. Короче, господа, я эту тему закрываю, отвлекаться на нее можете только перед сном, если посторонние обстоятельства не помешают… – В голосе Кирсанова прозвучал оттенок, похожий на вибрацию длинной стальной полосы.
– А через двадцать минут мы пришвартуемся к берегу, и начнутся у нас совсем другие заморочки, – продолжил он «предполетный инструктаж». – Я вас прошу, Никита, уберите со своего лица печать излишней образованности и склонности к умственным упражнениям. Это не соответствует вашей легенде. Ваша ведущая черта характера – авантюризм и страсть к наживе. Вы ехали сюда, понятия не имея ни о какой войне и надеясь прилично устроиться поблизости от алмазного бизнеса. Отнюдь не копаться в шахтах, разумеется, а наняться кем-то вроде управляющего, посредника или в этом роде. Естественно, это свидетельствует о вашей наивности, но сами вы об этом не подозреваете… Считаете, что знание языка и опыт коммивояжера вам откроют все двери.
– А вам не кажется, что, узнав о войне, мы должны бы сообразить, что все предварительные планы рухнули и нам тут нечего делать, Павел Васильевич? – старательно невинным голосом спросил Эльснер. – Исходя из обычной логики – какой может быть бизнес в таких условиях?
– Так не мировая же война началась, – возразил Кирсанов. – Так себе, колониальная заварушка. В которой ты, Павел, хитрый немец, сможешь извлечь намного больше личной пользы, чем в спокойные, устоявшиеся времена. Не у нас ли сказано: «Кому война, а кому мать родна»?
– А сами-то вы, Павел Васильевич, как настроены? – спросил Эльснер. Здесь, в виду вражеской твердыни, затея представлялась ему не такой простой и однозначной, как в процессе ее подготовки.
– Соберись, барон. Смотрю на тебя и удивляюсь. Когда в Крыму высаживались, ты так не мандражил… – У жандарма начали одно за одним выскакивать слова, которых он нахватался от «старших товарищей». Что, как показалось Эльснеру, намекает на его собственное нервное напряжение, которое он старательно скрывает от подчиненных.
– Ты же из нас в самом выгодном положении. Не русский, даже не подданный Российской империи. Знакомы мы случайно, общих интересов и целей не имеем. Если и будем поддерживать какие-то связи, так только потому, что других знакомых у нас нет… Не дергайся, одним словом. Если контрразведка к нам прицепится, сдавай всех. Хитренько так, подловато. Мол, вон тот господин во Владивостоке на причале с военными моряками очень тепло прощался, так не русский ли он шпион? Про меня вообще можешь сказать, что подозреваешь в связях с шанхайским опиумным картелем. Болтай много и избыточно правдоподобно…
– Павел Васильевич, – встревоженно сказал Давыдов. – Что-то у нас предварительные наметки начинают расходиться с тем, что вы сейчас говорите…
– Знаешь, Никита, – задушевным тоном, приобняв его за плечо, ответил Кирсанов, – ты что думаешь, я совершенно железный, непробиваемый человек? Я вот тоже посмотрел картину в реальности, ваши слова послушал, и показалось мне, что игра вполне может пойти отнюдь не по нашему сценарию. Оно, конечно, век девятнадцатый – не двадцатый, и шансов у нас поболее, и запасные тузы в рукаве, а все ж может и так и так повернуться. Вот я и ввожу в схему дополнительную степень свободы…
– О чем это вы, господа, тут секретничаете? – неожиданно раздался за спиной сочный баритон всегда довольного собой человека. – Насчет поиграть в покер? Готов составить компанию. Но вы же собрались на берег здесь сойти? Или передумали?
Это подобрался к ним, бесшумно ступая мягкими туфлями, статский советник Ермолаев, Евгений Лаврентьевич, милейший человек, выслуживший на Дальнем Востоке пенсию по судебному ведомству и теперь возвращающийся в Петербург, чтобы доживать оставшиеся годы в покое и довольстве. И пенсион сам по себе неплох, и сбережения кое-какие имеются, а в случае нужды можно будет присяжным поверенным устроиться. Все ходы-выходы он знает, красноречием бог не обидел (что офицеры заметили с первых же часов знакомства), так что будущее сомнений не вызывало.
Этими и многими другими сведениями Евгений Лаврентьевич щедро делился с новыми знакомыми, за отсутствием на пароходе других достойных собеседников.
Вот и сейчас, возникнув из-за тамбура носового сходного люка, Ермолаев включился в разговор, обрывки которого уловил, приближаясь. Или подслушивал аккуратно с самого начала. Кирсанов этого не исключал.
– Да вот действительно соображаем, как нам теперь быть, в силу вновь открывшихся обстоятельств. Сходить ли на берег или продолжить путь до мест более спокойных… – ответил Павел Васильевич, не выходя из образа. – А покер так, к слову пришлось. Может, вместо серьезного дела как раз им зарабатывать придется.
– Тоже неплохое дело, если действительно туз в рукаве и шандалом по лицу получить не боитесь, – тоном знатока ответил Ермолаев. – А что вас в остальном так уж волнует? – легко переключился на следующую тему судейский. – Что вам до их войны? Призыву вы не подлежите, а до всего остального… Был бы я помоложе да не обременен семейством, ей-богу, составил бы вам компанию.
Победят англичане, присоединят к себе здоровенный кусок Африки – для налаживания единообразной власти и экономического устройства много опытных людей потребуется. Когда еще из метрополии и иных государств они сюда доберутся. А вы уже здесь. Изволили читать Салтыкова-Щедрина «Господа ташкентцы»? На новообретенных землях всегда великолепные возможности открываются. Если не зевать, конечно. Я вот тоже… Рискнул в свое время к берегам тихоокеанским отправиться, в дичь да глушь. Очень меня доброжелатели отговаривали – куда, мол, из столицы, с хорошей должности, да в дебри Уссурийского края. А в итоге я прав оказался, а не они. И выслуга шла год за три, и чины, и жалованье, и безгрешные доходы, само собой, – при этих словах он хитро усмехнулся и подмигнул. – Одним словом, не сомневайтесь, господа. Когда и ставить последний рубль ребром, как не в ваши годы?
От близкого берега, пыхтя машиной и густо дымя из высокой медной трубы, к борту направился катер с лоцманом и еще какими-то людьми на борту. «Царица» заходила в Кейптаун регулярно, шесть раз в год, и ее, как и капитана, хорошо здесь знали.
Челноков всегда швартовался без помощи лоцмана. Он дал короткий приветственный гудок, приподнял над головой фуражку и жестом показал, что в помощи не нуждается. Пароход уже двигался по инерции, которой как раз хватало, чтобы четко притереться бортом напротив пакгауза, в который предстояло сдать груз из самого Владивостока и попутных портов и принять новый, если таковой окажется. Рыжебородый офицер в синем кителе с серебряными нашивками на рукавах через рупор швартовку разрешил, но приказал до прихода специального комиссара никого на пирс не спускать.
Челноков выругался. Ну, начинается.
– А причальная партия как же? – как можно более ядовитым голосом осведомился он. – Кто троса на кнехты заведет? Не вы же? Давно я того бардака не видел, чтобы капитану велели швартоваться, на пирс не сходя! – Он тоже кричал в рупор, не выбирая выражений. Любой капитан дальнего плавания портовых крыс не уважал и не должен был уважать, кроме лоцмана, конечно, который тоже принадлежал к сословию. Но тот сегодня сидел тихо в кокпите катера, в происходящее не вмешивался. Роняя, тем самым, свое достоинство.
В остальном Челноков решил сделать вид, что о начавшейся войне ничего не знает, да и откуда бы ему знать? Радио, то есть «беспроволочного телеграфа», тогда и на военных кораблях не имелось, не то, чтобы на гражданских. А что там у них на портовом уровне происходит, ему как бы и не интересно. За те шесть лет, что он работает на этой линии, у кейптаунских властей никаких претензий к нему не случалось, законы и правила он всегда соблюдал свято. По маршруту в порты, объявленные на карантине, не заходил, контрабанды на борту не имеет. Место у пирса оплачено на несколько лет вперед. Так в чем же проблема?
«Царица» ошвартовалась выше всяческих похвал. Что называется – «метр в метр». Никаких отработок машиной «вперед-назад», никаких криков с мостика. Легко скользнула левой скулой вдоль кранцев и стала, как тут и была. Англичане, считая себя непревзойденными мореходами, тем не менее признавали, что насчет корабельной службы и «хорошей морской практики» русские им не уступают, что на военном флоте, что на линейном торговом. Впрочем, о том, что суда «Доброфлота» являются по исходному замыслу вспомогательными крейсерами резерва, они сомнений не испытывали.
Матросы спрыгнули на мокрый, просоленный настил из тиковых досок, мгновенно завернули шестидюймовые причальные концы восьмерками вокруг кнехтов и немедленно вернулись на борт, раз капитан приказал.
– Пар стравить до марки, котлы остановить, – приказал Челноков в машину. Следующие двое суток, а может, и больше, как с грузом решится, он в море выходить не собирался. Уголь нынче дорог, и ресурс котлов беречь следует неукоснительно, а для обслуживания судовых электросетей и донок хватало отдельного котелка, меньше паровозного. – Команде и пассажирам находиться на своих местах до прибытия спецкомиссара. – В это слово капитан вложил всю доступную ему ядовитость тона.
– Ну и что с этого будет? – спросил у Кирсанова Давыдов с долей тревоги. Они смотрели, как по пирсу в сторону парохода решительным шагом двигались означенный комиссар, ибо никем другим этот господин в сюртуке и котелке быть не мог, а также трое сопровождающих его старших унтер-офицеров в форме морской пехоты.
– Пока – совершенно ничего. Как я предполагаю, наш капитан получит соответствующий инструктаж о текущем положении и вновь установленных правилах схода на берег и поведения на оном. Возможно, нам, как желающим здесь задержаться, придется пройти какое-то собеседование. В самом худшем случае нам откажут в этом праве. Просто из вредности, поскольку ранее подобные меры практиковались лишь в случае, если в городе объявлено осадное положение.
– Совершенно верно, – подтвердил Ермолаев. – Международное право не запрещает гражданам нейтральных государств пребывание на территории стран, ведущих войну. За исключением особых случаев.
– Надеюсь, наш случай – не особый? – сказал Кирсанов.
– Не хочу вмешиваться в чужие дела, – осторожно ответил статский советник, – но если бы англичане узнали о некоторых подробностях вашего появления на борту «Царицы»…
– Но вы же им не скажете? – мягко осведомился Давыдов.
– Да помилуй бог, о чем вы говорите? – взмахнул рукой Ермолаев. – Будто я не понимаю! Двадцать лет беспорочной государственной службы… Но вот кто-нибудь еще…
– Будем надеяться на лучшее, – улыбнулся Давыдов.
– И не нужно думать о других хуже, чем о себе, – добавил Эльснер. – Вы на берег собираетесь, если выпустят?
– А как же! Две недели под ногами твердой земли не чувствовали. Да и ребятам Африку показать! Такое, может, раз в жизни выпадает.
– Вот и хорошо. На прощанье в ресторане посидим, выпьем чего нибудь за взаимную удачу… Отведаем тушеный хобот слона или омлет из страусиных яиц.
– Только я еще попросил бы вас, господа, – вдруг сказал Кирсанов, – накрепко запомнить, что мы практически незнакомы, за исключением общения за табльдотом и карточным столом. Имена друг друга еще кое-как помним, но и только. Правильно, Евгений Лаврентьевич? – обратил он холодный синий взгляд к Ермолаеву. – Я ведь не знаю о парочке прошлогодних судебных процессов насчет дележки лесных концессий, справедливое решение которых и позволило вам прикупить очень приличный домик с видом на стрелку Васильевского острова?
Статский советник вздрогнул и под сюртуком покрылся потом. Как раз об этом эпизоде ему вспоминать хотелось меньше всего.
– Да о чем вы говорите? – сглотнув слюну, ответил тот. – Действительно, совершенно запамятовал, как вас там…
– Очаровательно. Я тоже ну совершенно не помню, какой у вас теперь адресок поблизости от Таврического сада… – простодушно улыбнулся Кирсанов.
Даже Давыдову с Эльснером его усмешка показалась неприятной. Хотя могли бы и привыкнуть за столько лет. Да нет, жандарм, он и есть жандарм. Строевым офицерам такого не понять.
– Посему, господа, предлагаю разойтись. Вас, Евгений Лаврентьевич, наверняка допрашивать не будут. Ну а если что – в картишки по маленькой от скуки перекидывались. От Владивостока с ними, после Шанхая и со мной тоже. И все. Ваша супруга тем более ничего о нас не знает. Да так ведь оно и есть…
На палубах места было много, и каждый нашел себе занятие, чтобы скоротать время до завершения формальностей. Давыдов устроился в буфетной за большой кружкой пива, Эльснер занял шезлонг на шканцах, откуда удобно было рассматривать в бинокль панораму города и порта, а Кирсанов переместился поближе к капитанской рубке, где уединился Челноков с комиссаром. Вдруг да удастся услышать или увидеть что-нибудь интересное.
Статский советник поспешил в свою каюту, раздумывая по пути: на беду или к счастью свела его судьба с загадочным попутчиком. С одной стороны, неприятно, что знает он подозрительно много. Каким это, интересно, образом, мог прослышать о доме в Петербурге? Следили, значит, «голубые мундиры» за ним не один месяц и не один год? Само по себе не так это и удивительно – должность Ермолаев занимал видную, и «власти предержащие» чиновников его ранга без внимания не оставляют. Но вот каким образом пути его и этого господина пересеклись именно здесь и для чего была продемонстрирована излишняя осведомленность – он понимал не до конца. Не иначе, Третье отделение имеет на него серьезные виды, иначе б ни чина ему не дали, ни пенсиона. «Уволить без объяснения причин» – и это еще в лучшем случае.
Правда, с опаской подумал Ермолаев, а не будет ли ему поручено выполнение какого-нибудь опасного задания в самое ближайшее время? Контрабанду, к примеру, на берег пронести или еще чего похуже? Да нет, это вряд ли, на такое дело проще матроса обычного нанять…
Ну, посмотрим, посмотрим.
Кирсанов и сам до конца не знал, для чего применил против судейского столь острый прием. Он и без этого не предполагал, что Ермолаев собирается сдать его команду англичанам. Правда, жена его, Полина Ивановна, внушала долю опасения. До чрезвычайности разговорчивая дама, кто знает, где и как скажет неподходящие слова. А теперь-то супруг ее прижмет так, что не пикнет, раз все семейное благополучие под угрозой. С другой стороны, сработала профессиональная привычка. Оказавшись за одним столом с перспективным объектом, сознавая некоторую шаткость собственного положения (эта высадка с яхты на пароход, как ни крути – серьезная засветка), Кирсанов немедленно начал действовать. Связался по рации с Сильвией и попросил в течение суток собрать всю возможную информацию по Ермолаеву, капитану парохода, его штурманам, грузовому и пассажирскому помощникам.
Тут необходимо отметить, что после рейда Шульгина, Левашова и Новикова на Валгаллу и проведенной там с Дайяной работы имевшиеся в распоряжении Сильвии и Олега Шары снова начали действовать, как и раньше. То есть восстановился канал между ними и интеллектроникой Базы, непонятным для непосвященных, но вполне пригодным для реального использования образом. Ответ Павел получил через несколько часов, и он его вполне удовлетворил. С такими возможностями жандармская служба не тяжкий труд, а одно сплошное удовольствие.
Он не представлял пока, зачем и в каком качестве сможет оказаться полезным статский советник, но ежели придется вновь оказаться в Петербурге – знакомство невредное. Короче – там видно будет.
По прошествии получаса или чуть больше капитанский вестовой пригласил господ пассажиров, желающих сойти на берег, прибыть в салон с паспортами. Первыми именно Кирсанова и его спутников, поскольку для них Кейптаун является конечным пунктом.
Павел Васильевич вошел с полной небрежностью, стянул с рук светло-серые лайковые перчатки, бросил их в шляпу, едва склонил голову в приветствии, сел в кресло напротив комиссара. Капитан стоял у иллюминатора вполоборота, курил сигару и делал вид, что происходящее его совершенно не касается.
– Будем знакомы – Сидней Роулз, – представился англичанин, – как вы уже наверняка слышали – специальный комиссар губернатора Капской колонии сэра Хатчинсона.
Видно было, что, согласно морской традиции, он не отказался от капитанского угощения, отчего несколько раскраснелся. Удобно устроился на диване, дымил русской папиросой.
– Питер Сэйпир, – в свою очередь назвал себя Кирсанов. – Негоциант…
– Ваш паспорт, пожалуйста.
Несколько секунд комиссар рассматривал не слишком, похоже, знакомый ему документ, богато украшенный символикой в иберийском и латиноамериканском духе. – А вот тут написано… – провел пальцем по каллиграфически выписанным строчкам Роулз.
– Ах, не затрудняйте себя, – махнул рукой Павел Васильевич. – Все равно вы мое имя и фамилию правильно не выговорите, так давайте уж так.
– Отчего же не выговорю? Мне приходилось встречаться с людьми самых разных наций. Пинхас Шапиро, – без акцента произнес он. Я даже фамилию «Пшибышевский» в состоянии произнести…
– Примите мои поздравления.
– Да и вы английским владеете – дай бог каждому, – не остался в долгу комиссар. – И много еще языков знаете?
– С десяток – свободно, на двух десятках читаю и понимаю устную речь. Кое-как могу объясняться.
– Замечательно! Вот кому я всегда завидовал – музыкантам и полиглотам!
Кирсанов скромно потупился.
– А почему «гражданин Уругвая»? – продолжал допрос комиссар.
– Страна красивая, климат хороший, законы необременительные, – с улыбкой ответил Кирсанов. – Я там всех знаю, меня все знают, лишних вопросов не задают…
– Согласен, иногда это очень удобно. Зарабатываете за границей, тратите дома, и действительно – никаких вопросов.
– Да что вы говорите, было бы что тратить! Имей я приличную государственную службу, примерно как у вас, кто б меня заставил мотаться по миру? Здесь купи, там продай, а баланс подведешь и сам себя спрашиваешь – ну и к чему тебе вся эта головная боль?
Сверкнувший на безымянном пальце правой руки перстень с бриллиантом в десяток каратов несколько разрушал выстраиваемый образ, но так и задумывалось. Какой же из него был бы еврей, если б не жаловался на тяжелую жизнь и плохо идущие дела? По крайней мере, принять господина Сэйпира за чьего угодно шпиона было трудно. Слишком он демонстративен для девятнадцатого века. И как бы получше выразиться – самодостаточен. Это в двадцатом научились работать на контрастах, да и то… Вот в качестве объекта для вербовки он мистеру Роулзу наверняка показался перспективным. Кирсанов бы и сам, поменяйся они ролями, не упустил бы подобный шанс. Хороший петушок, жирный, перспективный…
– Ну а к нам зачем? – сочувственно кивнув, спросил Роулз. – Война здесь сейчас, знаете ли. Не самое лучшее время для ведения дел.
– Неужели прямо-таки и война? Первый раз слышу. И с кем же? Неужели с бурами? Так и не договорились, значит? Шанхайские газеты писали что-то, но я всерьез не воспринял. Меня тогда больше занимали маньчжурские дела и так называемые «боксеры», они же «ихэтуани». Поэтому я быстренько свернул кое-какие проекты и взял билет на первый же пароход. Да и что мне какая-то очередная колониальная заварушка? Империя, над которой не заходит солнце, – и отсталые фермерские республики! Смешно и сравнивать. Разберетесь как-нибудь. Не в первый раз, насколько я знаю историю.
– Рад бы разделить ваш оптимизм, но сейчас положение на фронтах складывается не совсем удачно. Сойдете на берег – сами все узнаете. А может, не станете сходить? Поищете местечко поспокойнее?
– Нет уж, нет уж, сэр Сидней. Тем более интересно. Раз война, так ведь и возможности! Кто-то наверняка решит что-то продавать, кому-то непременно потребуется что-то купить. Вашу армию не заинтересуют поставки уругвайской и аргентинской говядины «франко-порт»? Опять же кожи. Это я пока так, приблизительно. Можно будет рассмотреть и другие варианты… Вы же тут наверняка всех знаете. Обычно я предлагаю посреднику три-пять процентов, но, учитывая особые условия и ваш высокий статус, можем поговорить и о десяти. Так как?
Энтузиазм и напор Сэйпира начали утомлять комиссара.
– Заберите, – протянул он паспорт. – Сход на берег и пребывание на территории владений Ее Величества разрешаю. Однако не самое удачное время и место вы для своих негоций выбрали, мистер Шапиро, – сокрушенно покачал головой Роулз.
– Времена не выбирают, в них живут и умирают, – к случаю процитировал Кирсанов слова какого-то поэта из будущего в собственном переводе на английский.
Чем и хороши были времена до начала Мировой войны, что тогда «белые люди» располагали полной свободой передвижения по всему земному шару, ограниченной лишь финансовыми возможностями и инстинктом самосохранения. А в остальном – хоть истоки Нила отправляйся разыскивать, хоть золото на Клондайке мыть – твое личное дело. Вот и специальный комиссар не нашел оснований воспретить ступить на капскую землю явному, без микроскопа видно, авантюристу. Так на таких авантюристах вся мировая цивилизация строилась.
– Это вы очень тонко заметили, – согласился Роулз. – Постараюсь запомнить. На прощание хочу вас предостеречь: попытка самостоятельно проникнуть в зону боевых действий может закончиться весьма плачевно. Если вы попадете в руки буров, вас вполне могут посчитать шпионом, со всеми вытекающими последствиями. В руки британских солдат – то же самое.
– Да что же я, совсем дурак, сэр Сидней? – искренне удивился Кирсанов. – Зачем мне на передовую? Все настоящие дела делаются исключительно в тылу. А в порядке личного одолжения – какой отель в городе посоветуете?
– С этим сейчас сложно. Слишком много беженцев с севера и из Наталя.
– Но за хорошие деньги…
– За очень хорошие деньги вы наверняка сможете устроиться в отеле «Добрая Надежда». Это в самом центре, на Сесилс-роуд. Возьмете кеб или рикшу – довезут.
– Премного вам благодарен. Освободитесь – заходите. Побеседуем более предметно.
Вся эта трепотня, грубо выражаясь, потребовалась Кирсанову не только для того, чтобы завязать с комиссаром деловые отношения (но и это тоже). После столь насыщенного общения он явно будет гораздо более рассеян и занят посторонними мыслями, когда на собеседование явятся Давыдов и Эльснер. В чем в чем, а в людях знакомого склада характера полковник разбирался.
Уходя, Кирсанов неуловимым движением воткнул в полу сюртука комиссара сантиметровую булавку с головкой в половину рисового зерна. За время членства в «Братстве» он научился пользоваться техническими средствами из далекого будущего с той же привычной непринужденностью, что с лупой и иными инструментами криминалиста начала века. С помощью этого «маячка» он в любой момент найдет Роулза, где бы тот ни находился.
С Давыдовым и Эльснером разговор у комиссара действительно получился гораздо короче, чем с Кирсановым. Просмотрев судовые документы, он согласился, что они, приобретая билеты на «Царицу», действительно не могли знать о готовой вот-вот разразиться войне. В ее возможность не верили до последнего даже правительства европейских держав. Услышав, что она, тем не менее, все-таки началась, «авантюристы», как обозначил их для себя Роулз, слегка растерялись, но тут же и успокоились. Этому в немалой степени способствовали заполняющие рейд многочисленные и грозные военные корабли.
– Владычица морей и какие-то буры! – подпустив в голос пафоса, воскликнул Эльснер, обводя рукой панораму.
Затем он сообщил, что убежден в быстрейшей и полной победе британского оружия ввиду полной несоизмеримости сил противников. Мало ли в уходящем веке было подобных инцидентов. Это ведь не война между настоящими, то есть европейскими державами, вроде Франко-прусской или Русско-турецкой.
– Пока мы устроимся, подыщем какое-нибудь подходящее занятие, все, глядишь, и закончится, – поддержал его Давыдов, излучая оптимизм, наверняка заимствованный у Остапа Ибрагимовича в исполнении Арчила Гомиашвили, никак не Юрского.
– Я тоже на это надеюсь, – ответил комиссар. Он не счел нужным говорить о том, что пока что все складывается с точностью до наоборот. Приезжие, конечно, сегодня или завтра сами все узнают, но должность не позволяла ему самолично распространять панические настроения.
– Однако хочу вас предостеречь, – чрезвычайно мягким тоном сообщил Роулз, – несмотря на то что и Российский император и Германский кайзер занимают весьма недружественную по отношению к Великобритании позицию, с вашей стороны было бы крайне неосмотрительно присоединиться к так называемым «добровольцам», с разных концов света стремящимся на помощь бурам…
– А что, есть такие? – изобразив откровенное удивление, спросил Эльснер.
– Увы. Немного, но есть. Что лично меня искренне печалит. Не пойму, зачем людям из цивилизованных стран становиться на сторону диких, в общем-то, людей, застрявших в средневековье? Рабовладельцы, замшелые фанатики-протестанты. Что общего между ними и, скажем, вами, господа?
Оба штабс-капитана вполне разумно не стали отвечать вопросом на вопрос: «А что общего между англичанами и теми же турками, кавказскими и среднеазиатскими племенами, которым Англия весь XIX век оказывала военную и финансовую помощь против гораздо более цивилизованной России?»
Нашелся гораздо более нейтральный довод.
– Между нами – совершенно ничего. Я бы тоже удивился, узнав, что джентльмен из Лондона отправился куда-нибудь в Маньчжурию воевать на стороне хунхузов против несущих китайцам свет культуры и свободы российских властей. Вы бы видели, столица КВЖД Харбин – совершенно европейский город, возникший там, где всего пять лет назад не было ничего, кроме глинобитных фанз… – с долей пафоса заявил Давыдов.
– Но даже самые отчаянные «добровольцы» едва ли избрали бы путь через сердце британских владений, предварительно зарегистрировавшись самым законным образом. Наверняка есть куда более короткие и безопасные пути? – предположил Эльснер.
– Здесь вы правы. Я вас ни в чем подобном и не подозреваю, только выполняю свой долг, как положено. Сейчас вы сойдете на берег, отметитесь в полиции и с этого момента полностью отвечаете за свою судьбу. Никаких препятствий, кроме определенных законами военного времени, вам, разумеется, чиниться не будет. Мы свято соблюдаем права человека. Но и на какую-то специальную помощь со стороны властей колонии вы тоже не вправе рассчитывать.
– Нас это вполне устраивает. Есть в России такая поговорка: «Не верь, не бойся, не проси», – согласно кивнул Давыдов. – Мы можем считать себя свободными?
– Естественно. Только еще один, последний вопрос – чем вы все-таки собираетесь у нас заняться?
– Да чем угодно, мистер Роулз. У нас имеется опыт в самых различных областях. Строительство железных дорог, геодезия и топография, ремонт механических устройств, включая и новомодные автомобили. Знаем телеграфное дело. Золото в тайге мыть приходилось, на пушного зверя охотиться. Торговать, опять же. Думаю, не пропадем, если до сих пор не пропали…
– Что ж, приятно слышать. Люди со столь разнообразными способностями непременно найдут себе применение.
При этих словах в его глазах промелькнуло такое… Очень похожее на специальный интерес.
О чем Эльснер и не преминул сообщить Кирсанову, когда они вышли из ворот порта и остановились на развилке двух дорог, ведущих в разные районы города. Одна, асфальтированная, к административному и торговому центру, вторая, гравийная – к здешнему «даун-тауну», населенному нижнесредним классом, семьями моряков и прочим трудящимся сословием.
Через таможню они прошли спокойно. Багаж каждого представлял крайний минимум небогатого путешественника, и досматривать там было, в общем, нечего. Ручное огнестрельное оружие: обычные «наганы» у Давыдова с Эльснером и «маузер-96» у Кирсанова – в те годы предметом интереса властей не являлось. Равно как и длинноствольное, вроде ружей и винтовок. Но их пока у гостей Капской колонии не было. А устройства для связи и иного специального назначения были замаскированы так, что ни на что существующее в этом мире не походили. Как распознаешь дальномер-пеленгатор на микросхемах, спрятанный внутри обычного полевого бинокля? Или в другом, абсолютно понятном и привычном предмете обихода.
– Здесь пока расстанемся, – сказал Павел. – Моя легенда требует поселиться со всей возможной роскошью в пристанище, названном любезным мистером Роулзом «Добрая Надежда». Мы и без него знали, что это самый лучший в городе отель, но теперь просто неудобно было бы демонстративно отклонить столь явный намек. Он заодно мне сказал, что ввиду резкого увеличения числа приезжих где-либо еще устроиться будет трудно. И я, вы знаете, ему поверил. Осталось, чтобы он поверил нам. То, о чем вы сказали, Павел Карлович, может означать, что коллега имеет на вас определенные виды. Вербовка в агенты британской колониальной полиции или иные действующие здесь спецслужбы не исключается. И вы, безусловно, пойдете ему навстречу настолько далеко, насколько позволит сумма предложенного вознаграждения. Бесплатно работают только из патриотизма, а какой из вас, немца, патриот туманного Альбиона?
– Такой же, как и России…
– Именно. Значит, я еду устраиваться в «Добрую Надежду», а вы поищите уютный домик неподалеку, в пределах версты от данного места, хозяева которого согласятся сдать одну или две комнаты холостым, состоятельным и непьющим молодым людям вроде вас… Хозяева, в свою очередь, должны быть также людьми положительными, не слишком пожилыми, мечтающими заработать неплохие деньги…
– Ну, вы уж больно жесткие условия ставите, Павел Васильевич, – скривился Эльснер.
– Вы, надеюсь, еще помните, что мы не на курорт Биарриц приехали? – прищурился жандарм. – В разведке простых заданий не бывает. Так что примите к сведению и исполняйте. За ценой, в пределах разумного, не стойте.
Кирсанов посмотрел на ручной хронометр, достаточно редкую вещь здесь, где в ходу по преимуществу карманные часы.
– Где-то около шестнадцати свяжемся, если не возникнет экстренной необходимости… Действуйте, господа.
Изобразил рукой жест, могущий означать как прощание, так и многое другое, и твердым шагом направился к стоянке наемных экипажей.
– А хорош, черт возьми! – с восхищением и долей зависти тихо сказал Давыдов. – Не понимаю, почему в старое время жандармов не любил.
– Потому, что хорошие – не попадались, – рассудительно ответил Эльснер.
Кирсанов, отныне господин Питер Сэйпир, доехал до трехэтажного, выстроенного в подлинно колониальном стиле отеля на склоне Столовой горы. Отгороженный от вымощенной брусчаткой улицы фигурной металлической решеткой, тот стоял посередине зеленой лужайки, окруженной настоящими канадскими кленами, с зелеными сверху и красными с изнанки листьями. Невидимый от ворот, где-то неподалеку шумел фонтан. В тени деревьев на достаточном расстоянии друг от друга были расставлены садовые скамейки.
Увиденное Кирсанову понравилось. Сразу чувствуется сила и незыблемость британских традиций. Такие же точно уголки уюта и отдохновения можно увидеть в любом более-менее приличном городе необъятной империи: в самом Лондоне, Бомбее, Калькутте, Веллингтоне, Сиднее или Каире. Вряд ли сразу и сообразишь, где именно находишься, если не окажется поблизости характерного вида туземцев. Особенно когда войдешь внутрь через окованные медью вращающиеся двери.
Проезжая по широким улицам города в открытом фаэтоне, Павел зрительно убедился, что война для англичан складывается плохо. Это пока еще не Новороссийск девятнадцатого года, не Севастополь двадцатого, но наплыв беженцев из занятых бурами северных городов Капской колонии и Наталя отчетливо виден, и неуловимая аура паники витает над городом. Если буры продолжат наступление, бежать отсюда будет сложно, а поскольку противника в любой войне старательно демонизируют, то желающих эвакуироваться, бросая все, хватит. Ну и большое количество военных всех родов войск на улицах. Одни еще не нюхавшие пороха, другие – уже хлебнувшие лиха. Вид не слишком бравый. Опытному человеку больше ничего рассказывать и объяснять не надо.
Как и предсказывал Роулз, свободные номера в «Надежде» имелись, но только самые дорогие. Портье сообщил об этом с нагловато-застенчивой улыбкой. Его даже захотелось пожалеть. Ведь названная цена за сутки, пожалуй, равнялась его месячному жалованью.
– Меня больше интересует, что именно я у вас получу за эти деньги, – с холодным, покерным лицом сказал мистер Сэйпир.
– Достойные апартаменты, сэр, очень достойные. С полным пансионом. Никто еще не жаловался!
Деньги – это последнее, о чем он стал бы задумываться. Вернее – даже если бы апартаменты стоили, скажем, вдесятеро дороже, заплатить за них ему не составляло труда, только пришлось бы подкорректировать легенду. А так достаточно приемлемо – пять фунтов в сутки за три комнаты с двумя балконами. Хотя цена, понятное дело, раз в пять выше разумной. На кого, интересно, ориентируется хозяин в своей неуемной жажде наживы? Не иначе, как на не успевших еще добежать до Кейптауна владельцев золотых и алмазных приисков. Или – на таких, как мистер Сэйпир, стервятников, сообразивших, что скоро здесь можно будет делать бешеные деньги, независимо от того, кто станет победителем.
Расписавшись в книге гостей и расплатившись за неделю вперед, Кирсанов в сопровождении молодого ливрейного кафра, подхватившего его саквояж, поднялся в новомодном электрическом лифте на верхний этаж. Наличие лифта, само собой, тоже влияло на цену, но удобство того стоило, потолки в отеле были высокие, пятиметровые, так что здешний третий соответствовал нормальному пятому, а по меркам дешевых доходных домов – и шестому.
Коридор, ведущий от дверей лифта и лестничной площадки к номеру, был затянут светло-коричневым сукном шинельного типа, чтобы стук каблуков по паркету не тревожил постояльцев. В России в заведениях подобного класса обычно стелили ковры, но здесь проявлялся британский рационализм. Функционально то же самое, но не в пример дешевле. Стены украшали негритянские щиты и копья, скрещенные попарно, деревянные маски и декоративные медные гонги. Пахло приятно, какими-то местными курениями, вроде ладана и можжевельника.
Кирсанову показалось, что на этаже все номера свободны. Сказать точно было нельзя, возможно, двери и стены имели стопроцентную звукоизоляцию, но впечатление такое складывалось, чисто интуитивно.
Да и то, что номер ему был отведен последний по коридору, угловой, подтверждало догадку. Угловые, с видом на море, всегда занимались в первую очередь.
– А там что? – спросил он боя, указав рукой на двустворчатую остекленную дверь по левую сторону, наискось от двери его номера.
– Курительный и музыкальный салон, сэр. Всегда свежие газеты, рояль. Рядом бар. Внутренняя лестница ведет в ресторан на втором этаже. Но если позвоните, официант доставит все, что нужно, прямо в номер. Очень удобно, сэр.
Кафр говорил на вполне правильном английском, не употребляя жаргонизмов и излюбленных литераторами оборотов, долженствующих означать недоразвитость и приниженное социальное положение персонажа. Отчего бы и нет, если он принадлежит ко второму, а то и третьему поколению профессиональных слуг? Билль об отмене рабства в английских колониях был принят, если Кирсанов не ошибался, еще в 1807 году.
Номер его вполне устроил. Очень просторный холл, обставленный удобной мебелью, где можно принимать десятка два гостей, кабинет с обширным письменным столом и книжным шкафом, на полках которого сейчас имелась только Библия и тридцать томов Британской энциклопедии. Однако подразумевалось, что постоялец может задержаться здесь надолго и иметь с собой собственные книги. В те времена многие джентльмены, чтобы не затрудняться бытовыми проблемами, жили в отелях годами. Или – всю жизнь, как писатель Набоков.
Спальня, выходящая в тенистый сад, тоже отвечала самым взыскательным вкусам, если бы с Кирсановым была спутница, ей бы наверняка понравилось.
Разложив по полкам и развесив по плечикам свой не слишком богатый гардероб, Павел Васильевич переоделся из дорожного костюма в белый выходной, по моде и сезону. Дернул шнур звонка. Тут же появился коридорный. Кирсанов заказал чай, перешел в кабинет, развернул на столе план города и окрестностей. План был чрезвычайно подробный, масштаба сто ярдов в дюйме, все здания, переулки и проходные дворы нанесены. Представляющие практический интерес выделены особо.
С южного балкона бухта была видна как на тактическом макете. С помощью хорошего бинокля (а у Кирсанова был самый лучший из существующих не только в ХХ, а и XXI веке) легко просматривались палубы и читались бортовые имена всех военных кораблей. Лазерный дальномер позволял определить точное место каждого и, в случае необходимости, корректировать загоризонтный артиллерийский огонь той же «Валгаллы». Для этого имелась мощная коротковолновая рация, только ее нужно было еще доставить оттуда, где она была выгружена вместе со всем остальным снаряжением. Нынешней же ночью этим придется заняться его помощникам. А для самого полковника есть более важная и, главное, совершенно неотложная задача.
Пеленгатор показывал, что мистер (или сэр) Роулз пока что находится на территории порта. Это хорошо. Резерв времени не повредит.
Перед началом любого серьезного дела необходимо произвести рекогносцировку театра предстоящих военных действий. В это понятие входил и отель. Знать в нем следовало каждый закоулок и каждую лестницу, причем не только парадную, а боковые, черные и запасные. Расположение помещений для прислуги, чуланы, переходы между ресторанами, буфетами и кухней, выходы на чердак, ну и тому подобное. Чему Кирсанов и посвятил следующие два часа.
Праздношатающийся джентльмен, только что поселившийся и осматривающий место своего временного обитания, ни у кого не мог вызвать подозрений. Тем более что кроме скучающего бармена за стойкой и одного коридорного боя, до блеска вычистившего Кирсанову ботинки, ему на пути никто и не попался. Неизвестно, как там на втором и первом, но третий этаж был действительно пуст.
Чтобы оправдать свое появление в баре, он заказал стаканчик виски, перекинулся несколькими дежурными словами с белым, сорокалетним примерно, хозяином, вышедшим взглянуть на гостя.
Выразил удивление тем, что вопреки словам комиссара в порту никакого наплыва постояльцев не наблюдается.
– Какой комиссар? – хитровато улыбаясь, спросил Дэн (так его звали).
– Роулз, кажется.
Владелец бара добродушно рассмеялся, плеснул в стаканчики еще на два пальца.
– За счет заведения. Мистер Роулз с нашим хозяином в доле, вот и направляет сюда всех, кто выглядит платежеспособным. А таких сейчас маловато. Оттого и пусто. Но вы не расстраивайтесь, отель действительно хороший. В «Компас Роуз» с вас взяли бы два фунта, но там клопы и кухня совершенно отвратительная…
Они еще поболтали на темы, предполагающие необходимость продолжения знакомства с более серьезными последствиями – о количестве выпивки, сумме счета, еще кое-каких, интересующих мужчин делах. Очень полезно сразу создать у приметливой прислуги впечатление о себе как о человеке несерьезном, склонном к простым радостям жизни, при этом щедром на чаевые.
Попутно Павел Васильевич обратил внимание, что спуститься в ресторанный зал можно прямо из курительного салона, минуя бар.
Перед большим зеркалом в ванной Кирсанов подобрал подходящий грим, парик с бакенбардами, соответствующие намеченному на сегодня образу усы и бородку. В результате получился этакий джентльмен в стиле иллюстраций к приключенческим романам текущего века. Отставной колониальный майор Мак-Набс, к примеру.
Новый облик ему самому понравился. Абсолютно с мистером Сэйпиром ничего общего не имеющий человек. Самый проницательный филер московского охранного отделения не заподозрил бы маскировки.
«Маузер» для ношения в подмышечной кобуре был несколько великоват, и Кирсанов оставил его в номере, заперев в кабинетный сейф вместе с большей частью имевшихся при себе бумажных фунтов и русских золотых десяток и империалов. Вложил в ножны, пришитые изнутри брючного кармана, узкий обоюдоострый стилет. Еще кое-какие предметы шпионского обихода разложил по карманам сюртука.
Можно отправляться в поход. «За орденами», – вспомнилась присказка Берестина.
Убедившись, что в коридоре по-прежнему никого нет, Павел Васильевич повесил на дверную ручку картонную табличку «Не беспокоить», затем твердым и решительным шагом проследовал в бар, где побыл совсем недавно. Несмотря на полную уверенность, невредно проверить качество грима на профессионально наблюдательном человеке.
Бармен вяло удивился появлению второго за час клиента, причем в совершенно «мертвое» время. Джентльмены, достаточно пожившие в южных колониях, свято блюдут принцип, имеющий реальный практический смысл: «Ни рюмки до захода солнца». Только идиот или законченный алкоголик станет пить виски или ром в палящую жару или липкую муссонную сырость там, где до изобретения кондиционеров должно пройти не одно десятилетие. И пусть сейчас в Кейптауне стояла довольно прохладная погода, сравнимая с началом апреля в Северном полушарии, традиция есть традиция. Сначала «файф-о-клок», а уже потом все остальное. Но «отставной майор» традиций явно не придерживался.
Пригубив свою рюмку, он завел с барменом тягучий, нудный разговор, вполне подходящий человеку, которому совершенно нечем заняться и достойных собеседников в ближайшее время не ожидается.
Как бы между делом он ухитрился выспросить у бармена много мелких, но существенных подробностей о нынешней жизни в Кейптауне, настроениях природных британцев и голландцев – первопоселенцев колонии, бурами в общепринятом смысле себя не считавших. Выслушал не столько ответы на свои вопросы, сколько пространные рассуждения бармена по их поводу. Свободные импровизации на заданную тему. Заодно он убедился, что его облик, язык и манера поведения у собеседника сомнений и подозрений не вызывают. Павел прошел хорошую подготовку, а кроме того, обитатели разных уголков империи отличались друг от друга не в меньшей мере, чем жители Камчатки от кубанских казаков.
Распрощавшись с барменом и пообещав вечером опять непременно наведаться, Кирсанов по неширокой внутренней лестнице спустился в холл перед рестораном, а оттуда – в сад, минуя стойку портье, который мог обратить внимание на незнакомого джентльмена. В ресторан же заходили не только постояльцы. И вообще на втором и первом этажах отмечалось некоторое оживление, человек десять ему встретилось, в том числе и целыми семьями.
Устроившись на скамейке неподалеку от калитки, ведущей в переулок, образованный в основном глухими каменными заборами, он вызвал на связь по УКВ Давыдова. Тот откликнулся не сразу, только через пять минут.
– Прошу прощения. Мы тут как раз с хозяином разговаривали. Пришлось дождаться повода отойти в сторонку…
– Договорились?
– В принципе да. Вы как в воду смотрели. И место подходящее, и дом. Две приличные комнаты на втором этаже. Хозяйка предложила обедать у них, если пожелаем.
– Молодцы. Назови адрес. У меня – где договорились, номер 22. Устраивайтесь пока. Если успеете, неплохо бы прямо сегодня за багажом съездить. Я считаю, следует верховых лошадей нанять. Как бы для прогулки по окрестностям. Ближе к вечеру, чтобы вернулись уже затемно. Не привлекая внимания. Прихватите на первый случай самое необходимое. Рацию, спецсредства, деньги. Остальное потом заберем. Вернетесь – доложись. До встречи.
Предупреждать помощников, чтобы вели себя осторожно и аккуратно, полковник не счел нужным. Не маленькие, опыт имеют – дай бог каждому. Здешние перед ними – школьники приготовительного класса.
На стоянке перед воротами ждали пассажиров несколько экипажей.
– Отвезите меня, уважаемый, на ваш приморский бульвар, – обратился Кирсанов к тому из «водителей кобылы», кто показался ему наиболее приличным. Немолодой, белый, лицо неглупое. – Надо же посмотреть, как на краю света люди время проводят.
В отличие от отечественных, склонных к праздным разговорам извозчиков, здешние (да и лондонские тоже) отличались бесстрастием и замкнутостью. И тот, которого нанял Кирсанов, был такой же. Довез, куда просили, а и ехать было всего ничего, минут десять, получил плату с небольшими чаевыми. Только и сказал, уже спрятав деньги в кошель на поясе:
– Все веселые заведения – ближе к Ист-Энду. Вон, где сигнальная мачта виднеется, там с дамами. Немножко ближе – поиграть можно. От бильярда до блэк-джека. Допоздна задерживаться не советую, по ночам последнее время неспокойно стало. Особенно в темных переулках. Если желаете, могу в нужное время подъехать, куда скажете.
Значит, у Кирсанова даже экспромтом, без помощи господина Станиславского и гримеров его театра образ вышел убедительный. Почти без слов, только гримом и манерами сумел внушить опытному кебмену (зрителю искушенному) именно то, что и подразумевалось.
А что, верьте не верьте, но еще первый учитель Кирсанова, полковник Зубатов, настоятельно советовал сотрудникам ходить на спектакли в Художественный театр, а по возможности – сводить более близкое знакомство с господами актерами. Полезнейший круг общения. Во многих смыслах.
– Спасибо за совет, уважаемый. Не затрудняйтесь. Доберусь, не в первый раз. Джентльмен всегда должен иметь при себе револьвер, кастет и нож… Кстати, где здесь можно купить приличный револьвер?
Пусть и эта фраза запомнится кебмену, на всякий случай. Хороший, яркий, пахучий след для местной контрразведки. Если ей, конечно, нечем будет заниматься в ближайшие нелегкие дни.
«А заодно, – подумал он, – милейший извозчик вполне может работать и наводчиком. Бордели – показал где, игорные дома – тоже, осталось встретить ясной ноченькой подгулявшего дурака, да и пощупать перышком, где там у него селезенка. Ну и кошелек соответственно. Как будто мы на Хитровке не бывали…»
– Да тут совсем неподалеку. Подвезти?
– Я и сам дойду, если неподалеку. В какую сторону?
Оружейный магазин «О’Флайерти и K°» на самом деле был неплох, и Кирсанов довольно долго рассматривал выставленные в застекленных витринах и на открытых стендах револьверы, винтовки и ружья. На любой вкус и любой случай жизни. По ценам от очень высоких до совершенно бросовых. Соответственно назначению и качеству. Вот только карманных пистолетов типа знаменитого «браунинга» 1900 года, со сменным магазином, в продаже не имелось. Их время не пришло, хотя и оставался до появления этой модели всего лишь год.
Немного поболтав с приказчиком на общие темы, Павел выбрал себе с юности знакомый, фирменный «бульдог» сорок четвертого калибра, пятизарядный, мощный и достаточно портативный. Но карман сюртука револьвер все равно заметно оттягивал, и Кирсанов пожалел, что не озаботился запастись подмышечной кобурой. Ну да ладно, завтра у него будет все, что нужно, а сегодня уж как-нибудь.
Насвистывая мелодию неоднократно слышанной от Андрея Дмитриевича Новикова веселой песенки: «В Кейптаунском порту, с какао на борту, «Жанетта» поправляла такелаж…», Павел вышел на Марина-драйв, окинул ее взглядом из конца в конец.
Бульвар, показалось ему, был так себе, не хуже и не лучше тех, что приходилось видеть в приморских городах. Средненький. Французский в Одессе – точно красивее и романтичнее. Только романтика сейчас Павла Васильевича интересовала в последнюю очередь. Его интересовал мистер Роулз. Какой-то он чересчур хитрый и скользкий. Даже принимая во внимание должность. Ждать от него профессиональных пакостей – и к гадалке не ходи. Так и мы ж тут тоже… Не погулять вышли.
Пеленгатор показывал, что комиссар покинул, наконец, пределы порта и направляется от него влево и вверх. Судя по карте, которую Кирсанов запомнил в деталях, пути их вскоре должны пересечься.
Все правильно. В XIX и первой половине ХХ века присутственное время в учреждениях заканчивалось в четыре часа пополудни. Считалось, что засиживаться дольше – непродуктивно. И при Александре Первом так установилось, и при Сталине (официально), и во всех европейских странах тоже. В Латинской Америке вообще шабашили в час. Чтобы не переутомляться, если все равно незачем.
Роулз сейчас, судя по показаниям прибора, наверняка двигался в направлении собственной квартиры, или, скорее, собственного дома. Если он тут персона укорененная. А если командированный, то может проживать и в служебном помещении. Это несколько хуже. В таком случае он сейчас идет обедать в какой-нибудь ресторан. Или в клуб, соответствующий рангу и положению в обществе. Тогда встречу придется отложить на неопределенное время. До тех пор пока объект не окажется в одиночестве, в подходящем для приватного общения месте.
Так или иначе, встреча до исхода ночи состоится. Поговорить, как коллеге с коллегой, совершенно необходимо. Без такой беседы Кирсанов не сможет работать спокойно. К сожалению, итог товарищеской встречи может оказаться для одного из собеседников печальным. Для кого именно, Кирсанов не сомневался.
Подходя к перекрестку бульвара и Харбор-стрит, Павел издалека увидел знакомую фигуру. Комиссар шел не торопясь, заложив руки за спину, слегка наклонив голову, погруженный, очевидно, в связанные со службой мысли. Когда думают об обеде с хорошей порцией виски, девушках или предстоящей партии в бридж, держатся иначе.
Пешеходов на улице было не так уж много, но прибегать к филерским методам Кирсанову было незачем. Узнать его в нынешнем гриме было невозможно, слежки клиент не опасается, потеряться ему негде, даже без всякого маячка.
Не тот здесь город, и не та у Роулза квалификация.
Всего через десять минут комиссар остановился перед угловым двухэтажным зданием постройки примерно середины века. Явно казенного вида, что подтверждала и бронзовая табличка справа от входной двери. Что именно на ней написано, Кирсанов издали прочесть не мог, а доставать бинокль было бы неосмотрительно. Роулз словно бы колебался, зайти или продолжить свой путь. Наконец решился и вошел.
Дверь была незаперта, и привратника при ней не имелось. Это хорошо. Только возникает вопрос – где там, внутри, господина комиссара искать? Точнее – как? Здание имело по десять окон на каждом этаже по главному фасаду, по восемь – на боковом. Это – несколько десятков комнат, исходя из стандартной планировки подобных учреждений.
Поразмыслив, он избрал самое простое решение. Выждал некоторое время и решительным шагом пересек улицу.
На табличке значилось: «Королевское Управление по делам финансов, налогов и таможенных сборов. Капская колония».
«Как раз то, что нужно, – подумал жандарм, – в таком заведении можно обратиться к первому встреченному чиновнику с вопросом, неважно каким, пусть и самым дурацким, с другими сюда и не приходят».
В просторном вестибюле за высоким шведским бюро, отделенным барьером желтого дерева, складывал в стопку многочисленные папки юный клерк в клетчатом пиджаке. На вид не слишком умный.
– Простите, сэр, простите, – обернулся клерк на стук дверной пружины. – На сегодня рабочее время закончилось. Уже никого нет. Приходите завтра в десять…
– Ох, как жаль, – изобразил искреннее разочарование Кирсанов, посмотрел на свой ручной хронометр. Демонстративно, чтобы клерк непременно увидел и оценил. – Я только сегодня приехал и вот – забыл перевести время. Да я лишь хотел спросить – принимаются ли к оплате, в связи с текущими обстоятельствами, казначейские обязательства корпорации «Де Бирс» перед Южно-Американским банком…
– Ничем не могу помочь, сэр, – с должным почтением ответил клерк, увидев, что имеет дело с весьма солидным джентльменом. – Никого из специалистов, ведающих данными вопросами, уже нет на месте. И, боюсь, вам с этим следует обращаться не к нам, а непосредственно в компанию или в «Сити банк».
Уметь направить разговор, каких бы тем он ни касался изначально, в желательное русло – один из первых уроков, который корнет Кирсанов усвоил, перейдя из гвардии в Отдельный корпус жандармов, – на специальных курсах Охранного управления.
– Как же нет на местах? – с выражением легкой степени идиотизма на лице спросил он. – Когда я только что видел, как один из важных ваших чиновников только что вошел сюда. Неужели он не сможет уделить несколько минут, чтобы ответить на мой вопрос? Вы знаете, – как можно доверительнее произнес Кирсанов, – банки – это банки. Я им не слишком доверяю. Вот если королевские службы подтвердят, вот тогда…
Степень глупости собеседника вполне отвечала разыгрываемому Кирсановым этюду. Он отлично велся на заданный стиль.
– Кого это вы видели? А! Так это же мистер Роулз. Да, он входил. Но к нашему департаменту не имеет отношения. Просто здесь у него собственная контора. И квартира на втором этаже. Он вам ничем не поможет. Мы и сами не очень-то знаем, чем именно он занимается. Что-то связанное с соблюдением режима военного положения и морскими перевозками. Так что, при всем почтении, сэр, приходите завтра с утра. Или, я думаю, все-таки лучше прямо в банк.
– Я вас понял. Искренне благодарен. Извините за беспокойство. Тогда последний вопрос – не позволите ли воспользоваться вашим ватерклозетом? Я не знаю, где можно найти общественный. Да и не успею…
С застенчивой улыбкой Кирсанов положил на край барьера серебряный шиллинг. Как бы в уплату за собственную назойливость и благодарность за любезность.
– Конечно, конечно, сэр. Прямо по коридору, и последняя дверь слева.
Туалетная комната была чистой, просторной, и пахло здесь не хлоркой или чем-нибудь похуже, а сосновым дезодорантом. Цивилизация, что ни говори. Пеленгатор подтвердил, что объект находится в непосредственной близости, не далее, как в двадцати метрах к югу, то есть, попросту говоря, где-то в угловых комнатах противоположного конца здания. Этого было достаточно. Кирсанов поднял задвижку окна, проверил, легко ли открывается створка, и вернулся в вестибюль. Еще раз поблагодарил клерка, приподнял шляпу с вежливейшей улыбкой.
– Я все-таки зайду завтра в десять, – сообщил он свое решение, после чего с достоинством покинул управление.
Полковник считал, что свою партию он провел неплохо. Не каждому с налету, в чужом городе и в чужом времени удалось бы сделать столь много в столь короткий срок. Быстрота и натиск, как говаривал Александр Васильевич Суворов, великий полководец.
Следующий час Кирсанов провел в расположенном неподалеку пабе, потягивая темное пиво и контролируя, не вздумает ли мистер Роулз покинуть свою резиденцию. Но тот, очевидно, за день достаточно набегался и теперь наслаждался домашним покоем. Или – подводил итоги трудовой деятельности, перед тем как со спокойной совестью отправиться на поиски развлечений. Не аскет же он? По виду никак не скажешь. А там кто его знает…
Когда сумерки достаточно сгустились, Кирсанов «вышел на тропу войны». Как он и рассчитал, в управлении финансов светились только три угловых окна второго этажа. Дежурных или охрану здесь на ночь явно не оставляли.
Неспешным шагом прогуливающегося человека он прошел мимо парадного входа, заглянул в переулок. Никого. Только кварталом дальше прогремели по брусчатке железные ободья колес кеба да возле кабачка громко переговаривались несколько человек. Спокойный город, жители которого не склонны без крайней необходимости болтаться вечерами по улицам. А если и склонны, то ближе к центру.
«Непонятно в таком случае, чем здесь промышляют местные уличные грабители?» – профессионально подумал Кирсанов. Целыми ночами маются, поджидая неосторожного прохожего. А много ли с него возьмешь? Нерентабельный бизнес. Но раз извозчик предупреждал, значит, явление имеет место. Ему вдруг захотелось, чтобы нынешней же ночью их с налетчиками пути пересеклись. Какое-никакое, а развлечение. Не то что в Одессе восемнадцатого года, а все же…
Перепрыгнуть через невысокий забор не составило труда. Во дворе конторы было тихо. Ни сторожа, ни собаки. Беспечный народ. Окно клозета открылось легко и бесшумно. Подсвечивая фонариком, Кирсанов разыскал лестницу, ведущую на второй этаж.
Дверь в помещение Роулза была незаперта. «А вот это уже ни в какие ворота…» – Кирсанов пренебрежительно поморщился. Понятное дело: мой дом – моя крепость и так далее. Никто не посягнет на частное пространство джентльмена. У них, наверное, и квартирные воры, прежде чем войти, вежливо осведомляются, не потревожат ли. Дураки, прости господи.
Офис комиссара был разделен на две половины довольно длинным прямым коридором. Налево служебная часть, направо – жилая. Сейчас он находился в рабочем кабинете, сидел за столом, электрическая лампа под зеленым абажуром освещала многочисленные бумаги, в стопках и россыпью. Время от времени попыхивая тонкой сигарой, Роулз писал что-то в книге – гроссбухе – обычной перьевой ручкой, макая ее в большую бронзовую чернильницу. Кирсанов немного понаблюдал за его работой через приоткрытую дверь из темного коридора. Интересно и полезно смотреть на человека, который думает, что находится наедине с собой. Подмечаешь кое-какие тонкости характера, неуловимые при обычном общении.
Решив, что увидел достаточно, Павел, пряча за спиной револьвер, перешагнул порог.
– Прошу прощения за поздний визит, сэр Сидней, но дело мое к вам не терпит отлагательств…
Он назвал комиссара сэром не только из обычной вежливости. Чиновник вполне мог носить рыцарское звание, и такое обращение должно было создать атмосферу некоторой доверительности, потому что в своем гриме Кирсанов изображал персону сопоставимого ранга. Отточенное оксфордское произношение (Сильвия постаралась) также этому способствовало. В любом случае вор-домушник, грабитель или бурский шпион так обращаться и так разговаривать не станет.
Роулз вскинул голову, секунду смотрел на незваного гостя, потом, не меняя выражения лица, стремительно бросил руку к верхнему ящику стола.
– Не стоит, сэр Сидней, право слово – не стоит. – «Бульдог» уже нацелил свой короткий, но грозный ствол точно ему между глаз. – Я не собираюсь причинять вам вред. Просто поговорим немного и разойдемся красиво. – Последнее слово прозвучало несколько двусмысленно.
Кирсанов ногой подтянул к себе стул, сел, не опуская револьвера.
– Положите руки на стол. Можете курить, но не делая резких движений.
– Кто вы и что вам нужно? – спросил слегка подсевшим, но ровным голосом комиссар.
– Мистер Инкьюзитив,[24] если угодно. Вы ведь тоже не только Роулз, если не ошибаюсь. А нужно мне совсем немного. Для начала – подвиньте ко мне вашу тетрадь. Ближе, ближе. И имейте в виду, я умею одним глазом читать, а вторым – целиться. Так что уж избавьте меня от неприятной необходимости демонстрировать свои таланты. Тем более – вы их все равно оценить не успеете, а я и так знаю…
Как Павел и предполагал, комиссар заносил в служебный дневник события сегодняшнего дня, в которых главное место занимала встреча парохода «Царица» и знакомство с тремя иностранцами. Он с интересом прочел мнение специалиста о собственной персоне. Ясное дело, рыбак рыбака видит издалека. Внешний контур легенды англичанин сомнению пока не подвергал, но был уверен, что мистер Сэйпир наверняка является шпионом одной из недружественных великих держав, а то и всех сразу. И как раз сейчас он разрабатывал план оперативного сопровождения указанного фигуранта.
Эльснеру и Давыдову Роулз уделил гораздо меньше внимания, сочтя их в худшем случае второстепенными пособниками, а то и вообще непричастными, связанными, тем не менее, с основным персонажем фактом совместного плавания и одновременной высадки в Кейптауне.
В существующих обстоятельствах комиссар сработал не так уж плохо, признал способности коллеги Кирсанов. Собственно, ошибок он совершил только две, хотя их можно объединить. Не установил, раз уж возникли подозрения, за своими клиентами плотного филерского наблюдения и не обеспечил собственную безопасность. Но и это понятно, не тот здесь уровень сыскного дела. К острым партиям британцы не приучены, до стиля Джеймса Бонда им еще расти и расти. Шпионы девятнадцатого века – люди тихие, законопослушные, работающие почти легально.
Павел Васильевич, что сразу понимал любой разбирающийся в психологии человек, был личностью весьма незаурядной. Это оценили руководители «Андреевского братства», а задолго до них – начальник Московского охранного отделения и Особого отделения Департамента полиции полковник Зубатов. Он-то и дал молодому энтузиасту жандармской службы «путевку в жизнь», возлагая на него большие надежды.
В разработанной и проводимой в жизнь политике «полицейского социализма» Кирсанову и таким, как он, умным, честным, раскованно мыслящим сотрудникам, отводилась ведущая роль. Такая же примерно, какую на флоте сыграли офицеры «молодой школы», при поддержке адмирала Эссена и морского министра Григоровича ставшие адмиралами в тридцать пять – сорок лет и почти выигравшие Мировую войну. К сожалению, в МВД руководителей, конгениальных флотским, не нашлось. Иначе о так называемых «большевиках» помнили бы только историки, и революции бы не случилось, и война была бы выиграна с блеском.
Но что теперь горевать о несбывшемся? Кирсанов был счастлив, что судьба, тем не менее, свела его с «братьями», и все вернулось «на круги своя», пусть и совсем иным образом.
Как только представилась возможность, Кирсанов начал учиться жить и работать в изменившихся до неузнаваемости условиях. Свойства натуры позволили ему воспринять новый образ мира как данность. Если Вселенная устроена совсем не так, как говорилось сначала на уроках Закона Божьего, а потом – физики и астрономии, значит, нужно принять это во внимание и вести себя соответственно.
За прошедшие пять лет он перечитал массу написанных между 1920 и 2005 годами книг, беллетристических и научных, просмотрел, может быть, тысячи фильмов, касающихся исключительно военной истории и деятельности спецслужб. Всяких: серьезных документальных, учебных наряду с развлекательными боевиками, про того же Джеймса Бонда, кстати, и «Семнадцать мгновений весны», и «Вариант «Омега». Два последних ему особенно понравились. Люди показаны настоящие, и ситуации чрезвычайно поучительные.
Даже неофициальный куратор Кирсанова, Александр Иванович Шульгин, пожалуй, не представлял, насколько тщательно работал над собой его подопечный. Тем более что тот свои занятия старался не афишировать, благо по большому счету никто ими и не интересовался. Каждый волен, вне пределов сферы своих, не слишком обременительных обязанностей, заниматься всем, чем угодно. Вот Павел и работал. Компьютером и любыми другими средствами получения информации он овладел легко и пользовался ими толково и целенаправленно.
Из сказанного никак не следует, что он лелеял какие-то тайные замыслы или, упаси бог, нелояльность к «Братству», которое дало ему все и кое-что сверх этого. Просто он хорошо помнил слова своего первого учителя: «В каждый данный момент необходимо знать об интересующем тебя предмете больше, чем знает кто-либо другой, и понимать, для чего может потребоваться твое знание». Он слишком хорошо помнил, как рухнула империя, столь благополучная и процветающая в пресловутом тысяча девятьсот тринадцатом году. Том самом, с которым Советская власть до последнего сверяла свои достижения. Оттого желал встретить любой грядущий политический или природный катаклизм во всеоружии. И быть к нему подготовленным даже лучше, чем «старшие братья», могущественные и благородные, но чересчур прекраснодушные. Вот эту черту в себе Павел выжег раз и навсегда в семнадцатом году, и никто не знает, каких трудов стоило сохранять в кругу ставших ему близкими людей образ «приличного человека», хотя и несколько печоринского типа.
За несколько секунд прочитав и усвоив содержание нескольких страниц дневника, Кирсанов небрежно его отодвинул.
– Спасибо. Вы значительно облегчили мою работу, – с усмешкой, способной наводить страх и на более подготовленных к превратностям жизни людей, чем этот уверенный в незыблемости викторианских порядков англичанин, сказал он. – Теперь давайте уточним некоторые детали, и я избавлю вас от своего назойливого присутствия…
– С чего вы взяли, что я согласен отвечать на ваши вопросы? – вскинул подбородок Роулз. – Револьвер в вашей руке – совсем не аргумент!
– Да неужели? – Кирсанов выглядел искренне изумленным. – Ваши мозги, расплесканные по этим со вкусом подобранным обоям, несомненно, стали бы самым веским аргументом, но не для вас, к сожалению. Два раза не живут, даже идея реинкарнации не подразумевает сохранения памяти о предыдущем воплощении. Выстрелить мне не составит труда или моральной проблемы, но я ведь хочу содержательного, взаимообогащающего диалога… А разве вам не приходилось хотя бы слышать, что заставить говорить можно любого человека? Дело только в технике и времени. Вы очень хотите убедиться в этом лично?
Сразу стало очевидно, что Роулз этого не хотел. Он побледнел, что по теории еще Юлия Цезаря демонстрировало слабость характера. Сильные натуры при сильном стрессе краснеют. И пот выступил у него на лбу, наверняка холодный.
– А кстати, – спросил Кирсанов, чтобы слегка разрядить обстановку, – отчего, на самом деле, у вас ни замков на дверях, ни охраны в здании? Решетки на окнах – тоже полезно. Какая-никакая, а гарантия. Шанс выиграть несколько жизненно важных минут. Меня, случись такое, вы бы так просто не взяли. Даже имея в подкреплении два взвода королевской морской пехоты.
Роулз понял, что в ближайшее время пуля в лоб ему не грозит, не так разговаривают, готовясь убивать. А что будет дальше – станет понятно из хода разговора.
Кирсанов, в свою очередь, видел, что завербовать этого господина – делать нечего. Только ведь и в обратную сторону он отыграет с той же легкостью. Черт его знает: ради спасения жизни сегодня согласится на одно и деньги возьмет, а завтра сделает совсем другое. Ничем, кстати, не рискуя. Не сталинские времена. В царской России агенты, вплоть до Азефа и членов большевистского ЦК, вербовались и перевербовывались в любую сторону с удивительной легкостью. Только эсеровские боевики иногда проводили показательные устранения предателей. Но в Англии девяносто девятого года и до этой мысли еще не дошли. Поводов не было.
– Может быть, мистер Любопытный, – сказал комиссар, окончательно взяв себя в руки, – вы позволите мне или сделаете это сами, достать из шкафа бутылку виски, пару бокалов, и мы поговорим как цивилизованные люди? Мне кажется, что у нас с вами нет и не может быть неразрешимых противоречий.
– Кто бы сомневался. Поэтому поверните свое кресло и сядьте лицом к стене. Руки – на стену перед собой. Никаких лишних движений. Когда будет можно вернуться в прежнее положение – я скажу. Тогда и поговорим как белые люди.
Вначале Кирсанов извлек из ящика стола массивный армейский «веблей грин» калибра 455, вытряхнул из барабана патроны, а сам револьвер положил на место. Только после этого принес виски, наполнил стаканы и позволил Роулзу повернуться.
– Ну вот, теперь можно и выпить. За знакомство и плодотворное сотрудничество. Начнем, пожалуй…
В течение следующего часа он узнал от комиссара практически все, что хотел. Так называемый «комиссариат» действительно являлся своеобразным прототипом организации вроде советского «СМЕРШа» и немецкой «Тайной полевой полиции», наскоро сформированным в предвидении грядущей войны из того, что было под рукой. Сам Роулз был единственным кадровым сотрудником «Интеллидженс сервис», оказавшимся в то время в Кейптауне. Остальной штат – дилетанты, более-менее подходящие по психотипу и образованию. Как показалось Кирсанову, Сидней сумел проделать колоссальную работу, фактически из ничего слепив вполне дееспособное подразделение.
Роулз под воздействием одной крупинки препарата из аптечки Шульгина, мгновенно растворившейся в виски, стал очень разговорчивым. Он, посмеиваясь, раскрывал структуру и задачи своего комиссариата, систему взаимоотношений с администрацией колонии, на память называл списки штатной агентуры и «добровольных помощников» в обеих бурских республиках, предполагаемые планы действий при том или ином развитии событий. Наверное, ему казалось, что он обсуждает сейчас собственные успехи и достижения с одним из старых приятелей-коллег, невзначай забежавшим на огонек, перед которым не грех и похвастаться. Механизма действия этого волшебного препарата Кирсанов не знал и на себе не испытывал, но полностью доверял объяснениям и рекомендациям Александра Ивановича. В эффективности подобных спецсредств он убедился еще в Сибири, в ходе операции по спасению Колчака.
«Далеко пойдет парень, пора остановить, – подумал Павел, когда узнал все, что его интересовало, – без него контору второй раз перезапустить сложновато будет».
– Ну, что же, сэр Сидней, я удовлетворен проявленным вами благоразумием и готовностью к сотрудничеству. Оно немедленно будет вознаграждено. Надеюсь, вы понимаете, что к бурам и их разведке (если у них вообще есть хоть какая-то разведка) я не имею ни малейшего отношения. Здесь замешаны интересы гораздо более серьезных игроков, желающих быть осведомленными в происходящем на этом краешке Земли из первых рук. Геополитика, куда же без нее. И, как мне кажется, ваша империя не понесет большого ущерба, если вы будете делиться информацией не только с Лондоном и своим губернатором. Жалованье вам положим более чем приличное. А деньги в нынешние ненадежные времена – крайне полезная штука. Согласны?
– Согласен, – легко, с прежней простодушной улыбкой ответил Роулз. – Полюбопытствовать можно? Вы – откуда? Россия, Германия, Франция?
– Не имеет ни малейшего значения, – мягко ответил Кирсанов. – Одни факты могут интересовать одних, другие – других. Интернационализация, понимаете ли…
– Пусть так, неважно. Только никаких подписок и расписок я вам давать не буду. Себе дороже обойдется. Все расчеты по факту, из рук в руки, как принято между джентльменами.
– Меня это вполне устраивает. Немедленно и начнем. В какую сумму оцениваете сегодняшний, установочный, так сказать, разговор?
– Сто фунтов, – быстро сказал комиссар, и глаза его отразили азарт и неуверенность одновременно. Не много ли для первого раза запросил? Но играющая в крови эйфория подталкивала играть по максимуму. Если не выйдет сразу, можно и поторговаться.
– Без вопросов, – кивнул Кирсанов и полез во внутренний карман, якобы за бумажником.
– Ответьте, в порядке взаимного одолжения, – спросил пришедший в окончательно благодушное настроение Роулз, – к прибывшему сегодня с русским пароходом некоему мистеру Сэйпиру вы какое-то отношение имеете? Или он к вам?
– Сэйпир? Первый раз слышу. А чем он вас заинтересовал? Может, и мне он будет интересен?
С этими словами Павел, держа в руке бумажник, наклонился через стол, коротко и резко ударил комиссара под угол нижней челюсти. Старый добрый прием, никаких кун-фу и прочих восточных изысков. Роулз ткнулся лбом в свои бумаги, мгновенно потеряв сознание. Минут на десять-пятнадцать, если со здоровьем все в порядке.
Из специального отделения в портсигаре Кирсанов достал крошечный, чуть больше фаланги указательного пальца шприц-тюбик, вонзил иголку в вену на внешней стороне кисти контрразведчика. Пока тот без сознания, препарат успеет дойти куда надо. После чего Роулз поспит еще часика четыре и проснется с добротной ретроградной амнезией на события последних суток. Кроме того, химические свойства препарата таковы, что оставляют после себя весь набор ощущений тяжелого похмельного синдрома. Специально введены туда некоторые добавки, иначе сочетание явно выпитой бутылки, «черного провала» памяти и отличного самочувствия выглядело бы странно.
Такое происшествие его встревожит и даже напугает, но вряд ли он станет о нем докладывать по команде. Может быть, к своему врачу обратится, а что тот сможет сказать? Пропишет укрепляющие средства, бром, покой и воздержание. Возможно – водные процедуры, а то и кровопускание. Ничем другим нынешняя провинциальная медицина не располагает.
Кирсанов вновь зарядил револьвер Роулза – в окружающей обстановке никаких настораживающих изменений быть не должно. Налил себе полстаканчика виски, остальное вылил в умывальник. Пустую бутылку оставил рядом со стаканом комиссара, свой вымыл, вытер и поставил на место. Вот и одна из разгадок внезапного провала в памяти. Неизвестно с чего выцедил человек пол-литра крепкого без закуски, вот мозги и не выдержали.
Никуда не спеша, Павел закурил, убедился, что страницы в дневнике комиссара не пронумерованы явным или тайным способом, после чего аккуратно удалил заполненные сегодня. Просмотрел все прочие бумаги на столе и в ящиках. Кое-какие его заинтересовали, и он переснял их миниатюрным цифровым фотоаппаратом. Все же не до конца был с ним откровенен сэр Сидней. Или запамятовал, или решил придержать информацию до следующего раза.
Закончив работу, Кирсанов перетащил комиссара на диван, уложил так, как свалился бы смертельно пьяный человек, не раздевшись и даже не сняв ботинок. Затем тщательно устранил малейшие следы своего пребывания, включая отпечатки пальцев везде, где они могли оказаться даже случайно. Береженого бог бережет, вдруг да имеется среди помощников комиссара новоявленный Шерлок Холмс.
«Ну, кажется, первый день в Кейптауне прошел не без пользы», – подумал Павел, прежним путем покидая контору. Конечно, рациональнее было бы Роулза просто ликвидировать, а дом поджечь, но… Мы ведь с англичанами действительно не воюем, пока, да и в рассуждении грядущих планов лучше известный противник, чем новый. В конце концов, грубые методы следует использовать только в случае крайней необходимости.
Давыдов и Эльснер не спеша ехали рядом, стремя в стремя, вдоль плато, круто обрывающегося к океану, в сторону пресловутого мыса Доброй Надежды, который большинство людей, даже изучавших географию в школе, упорно считают самой южной точкой Африки, хотя это совсем не так.
– А хорошо все-таки, – продолжал Давыдов начатый еще на «Валгалле» разговор.
– Что хорошо?
– Да все абсолютно. Живые мы по-прежнему, против всяких ожиданий, как и не было всех этих войн, и вообще устроились лучше, чем могли когда-нибудь вообразить. Ну, кем бы мы с тобой были, при самом благоприятном раскладе, в старое время? Если бы до конца войны не убили, не покалечили и революции никакой не случилось?
– Ну, капитанами бы и были, батальонными командирами в лучшем случае, солдатиков муштровали в триста каком-то номерном полку, – ответил Эльснер, имевший привычку обстоятельно отвечать на любой обращенный к нему вопрос. Он, наверное, и на римском форуме на гневный пассаж Цицерона: «Доколе же, Катилина, ты будешь злоупотреблять нашим терпением?!» – спокойно назвал бы месяц, день, а то и час. – Хотя лично я, скорее всего, подал бы в отставку и пошел доучиваться в университет.
– А я, пожалуй, в Академию Генерального штаба. И все равно скучно, друг мой Пауль.
– В Стамбуле, хочешь сказать, веселее было?
– Как посмотреть. Если в результате наших там мучений случилось то, что случилось, так и Стамбул оказался не напрасен. Я тебе скажу – с самых младых ногтей был я уверен, что судьба сулит мне долгую жизнь и множество невероятных приключений. Но никак не пехотную службу и окопное сидение. Сколько раз я об этом на фронте задумывался, проклинал ее, индейку, так меня обманувшую…
– Судьбу проклинать нельзя, – наставительно заметил Эльснер. – Скажи спасибо, что она твои слова всерьез не приняла.
– Да кто ее знает. Может, и приняла, только до смерти наказывать не стала. Так, проучила слегка несмышленыша, чтоб не впадал в грех уныния.
– Ты, Никита, не оригинален. Я вообще не знаю людей, которые в детстве не воображали для себя самую расчудесную биографию. Думаешь, я собирался идти по родительским стопам, с утра до вечера в конторе за биржевыми сводками просиживать? Я тоже романтическим мечтаниям предавался, хотя все Эльснеры, кроме, может быть, древних ливонских рыцарей, люди до чрезвычайности практичные и педантичные. Наверное, и я бы таким стал, если б не война…
Оба замолчали, вдруг задумавшись, каждый о своем.
Но неугомонный Давыдов долго молчать не умел.
– Ну, так вот я и соображаю, а стоит нам отсюда в Россию возвращаться? Хоть в какую. Что там делать? Понятно, если б жены, дети, перспективы, наконец! Здесь покрутимся, пока долг требует, а потом… Копи царя Соломона меня по-прежнему волнуют. Пока кровь кипит в груди, и мы с тобой стрелять не разучились, под шумок алмазами разживемся, потом можно и в Южную Америку рвануть. Там тоже много чего интересного. Лет до сорока по миру пошляемся, тогда и о покое задуматься можно. Ты как?
– Сказочки наших хозяев решил по второму кругу сыграть? Они нам как раз это самое по дороге из Стамбула в Севастополь вкручивали. А через четырнадцать лет снова Мировая начнется, – явно из чувства противоречия возразил Эльснер.
– То ли начнется, то ли нет. Забыл, в каком мы мире теперь живем? А хоть и начнется, до Аргентины не достанет.
– По мне, так в две тысячи пятом году куда интереснее. Я там недолго был, а понравилось. Вот где истинные чудеса науки и техники. И жизнь благоустроенна до невозможности.
– Это как кому, – не согласился Давыдов. – Мы ж с тобой из этого времени, что нам в чужом делать? Я, особенно на фронте, часто мечтал вернуться в золотое детство. Ну, вот и вернулся…
– Да воздастся каждому по делам его, – как бы не совсем в тему ответил Эльснер. – Приземленный ты человек, Никита, а я хочу увидеть еще много нового и интересного. Говорят, наши хозяева уже и до 2056 года добрались, и между звезд умеют летать. Вот бы куда я хотел отправиться, а ты – Южная Америка…
– Ладно, считаем – не договорились. Оно и вправду – сначала еще отсюда нужно суметь живыми выбраться. Все под богом ходим.
Разговор был вполне несущественным и велся скорее по привычке. И тот и другой знали, что никуда они с избранной дорожки уже не соскочат, все определяется отнюдь не их собственной волей. Людям с их складом характеров вновь превратиться в благополучных обывателей не удастся ни в каком случае, кроме единственного – если на то не будет твердого и однозначного приказа. Или чрезвычайного стечения обстоятельств. И в глубине души Давыдов с Эльснером надеялись на прямо противоположное. Они успешно выполнят очередное задание, после чего Кирсанов, особа, приближенная к организаторам и руководителям этой игры, должным образом их труды оценит и переведет на следующий уровень доверия и ответственности. А этого следовало ждать, имея в виду то, что именно их он выбрал своими помощниками.
Через два с лишним часа, когда солнце почти коснулось края горизонта, они добрались до цели. Найти спрятанный груз не составило труда. Пока Давыдов, оставаясь на взгорье, осматривал в бинокль ближние и дальние окрестности, чтобы не быть застигнутыми врасплох каким-нибудь случайным разъездом, что было, в общем, маловероятно, поскольку на всем пути они не встретили никого, Эльснер осторожно снял минную ловушку, проник в пещерку и приступил к разборке багажа.
В нем было достаточно много интересных вещей, которые, попади они в руки англичан, вызвали бы массу недоуменных вопросов не только у простых вояк, но и самых продвинутых ученых и инженеров. К примеру, автоматы «ППСШ», взятые с собой вместо уже привычных офицерам басмановского батальона «АКМС» по причине наличия в этом мире подходящих патронов, сильно модернизированные пистолеты «ТТ» – тоже.
Недоумение у специалистов вызвали бы и ноктовизоры, и лазерные прицелы, само собой – коротковолновая радиостанция, да и многие другие изделия, перечислять которые не имеет смысла. Оставим это Даниэлю Дефо и Жюлю Верну.
Достаточно сказать, что три сотни килограммов специализированного груза позволили бы Кирсанову с товарищами лет двадцать оставаться самыми могущественными людьми на планете, прервись вдруг всякая связь с «Братством». Любую личную проблему они смогли бы решить, причем не привлекая особого внимания. Да пожалуй, что и политическую тоже. Вариант крайне гипотетический, но тем не менее.
Согласно указаниям командира, Эльснер уложил в переметные сумы три автомата с тысячей патронов, радиостанцию и аккумуляторы с емкостью, достаточной на весь срок командировки и с возможностью подзаряжаться от местных электросетей. Три универсальные аптечки, содержащие медикаменты, способные справиться с любой из существующих здесь инфекций и обеспечить быстрейшее заживление совместимых с жизнью ранений. Гомеостатов им не полагалось, к сожалению. Несколько килограммов бумажных британских фунтов стерлингов, столько же золотых монет – германских марок, долларов САСШ и русских десяток.
Ну и еще кое-что по мелочи. Остальное Павел Карлович гораздо более тщательно, чем прошлой ночью, замаскировал на прежнем месте.
Можно было ехать обратно. Один пистолет в кобуре с принадлежностями он вручил Давыдову, второй сунул под ремень, третий, для Кирсанова, опустил в седельную кобуру.
– Что-то очень все гладко у нас идет, – с сомнением сказал Давыдов, подкидывая на ладони «ТТ». Подумал и навинтил на ствол глушитель. – Хорошо бы и дальше так, но кто его знает… Ничего нельзя оставлять на волю случая.
Как в воду глядел штабс-капитан. Или – сглазил, по причине сложных отношений с судьбой. В ранних, совсем еще светлых сумерках, не доезжая трех километров до первых городских предместий, им навстречу попался-таки разъезд территориальной кавалерии из трех солдат, предводительствуемых сержантом.
Патрульные ехали по обочине дороги, вроде как ничем из привычной окружающей обстановки не интересуясь, покуривая и болтая на свои, не имеющие отношения к военной службе темы. Давыдов понадеялся, что так они и разминутся. Какой интерес для территориалов могут представлять два молодых белых джентльмена, одетых совершенно по-городскому, не для дальних переходов по вельду, никоим образов на буров не похожих? Но, на свою беду, англичане решили к ним прицепиться. Кто знает зачем. Может, выжилить шиллинг-другой на выпивку, а может, подчиняясь неизвестному нашим героям приказу – неукоснительно проверять всех, встреченных за пределами городской черты.
Только Давыдов приветственно поднес два пальца к полям шляпы, демонстрируя уважение к защитникам порядка, как начальник патруля вдруг дернул повод, загораживая своим высоким гунтером[25] дорогу.
– Откуда следуете, господа? – не слишком вежливым тоном едва ли не пролаял он. Так, вообще-то, разговаривать с приличными людьми не принято. Может, три недавно полученные нашивки на рукаве ударили ему в голову? Или – какая другая причина, так навсегда и оставшаяся невыясненной.
– С прогулки, командир, – усмехаясь, ответил Давыдов, и его усмешка разительно контрастировала с тоном. – Насколько я знаю, у нас прогулки пока не запрещены.
– А что везете? – указав на плотно набитые кожаные сумки, въедливо поинтересовался сержант.
Вопрос, конечно, интересный. Но в старой доброй Англии такие, без санкции прокурора или судьи, приличным людям задавать не положено. «Хабеас корпус акт» и все такое. Однако военное время имеет свои законы. Офицеры не знали о недавнем, очень похожем эпизоде, случившимся с Новиковым и его отрядом. Но встречались с подобным и раньше. Начиная с весны семнадцатого любой унтер или вахмистр собственной, недавно героической армии вел себя подобным, а то и худшим образом. Дать беззащитному прапорщику, да что там прапорщику, полковнику в морду, отобрать бумажник, часы и портсигар и веселиться, глядя на его бессильную злобу. Кое-кто, послабее духом, стрелялся от невыносимости унижения, а другие, покрепче, годом позже рассчитывались с «возомнившими о себе хамами» по полной программе. Так здесь же еще не Гражданская война, а инстинкты, оказывается, у всех те же самые. Пока ты хоть на день, хоть на час сильнее – делай что хочешь.
Но не на тех, ох, не на тех нарвались патрульные.
– А какое ваше дело? – поравнявшись с Давыдовым, крайне вежливо спросил Эльснер. – Допустим, минералогическую коллекцию на берегу собирали.
– Какую-какую? – слегка растерялся сержант.
– Ми-не-ра-ло-гическую, – повторил штабс-капитан. – Это камни разные так называются. Кварц, диабаз, гранит, агат и другие прочие. Для изучения строения земной коры в палеозойский период.
Павел Карлович надеялся, что научная терминология подвигнет сержанта отвязаться от серьезных специалистов и продолжить свое патрулирование, но слегка ошибся в психологии. На русского человека, может быть, его слова и подействовали бы. Он помнил, как в восемнадцатом году вверг в почтительное недоумение чекистов в поезде на станции Лиски, тоже желавших проверить его чемодан, указав на собственноручно написанную химическим карандашом табличку «Фольклор для тов. Луначарского» с печатью, оттиснутой на сургуче царским пятаком. Тогда сработало. Русский человек доверчив. Эти, похоже, на умные слова не купились.
– Камни вьюками таскать, когда их на каждом шагу сколько угодно… – презрительно ответил сержант. – Кому-нибудь другому расскажете. Не камни у вас там, а золото. Предъявите, а потом посмотрим, как дальше быть. – Голос сержанта был тверд, глаза же вспыхнули алчностью. Его подчиненные довольно заржали. Вот именно – «заржали». На русский слух нормальным человеческим смехом назвать это было нельзя. Как, впрочем, и их так называемые «улыбки» – тоже не походили на естественное выражение чувств. Даже природный остзейский немец Эльснер это ощущал самой глубиной своей души.
– Как угодно, сержант, – сделал он последнюю попытку решить дело миром. И назвал единственную фамилию здешнего важного чиновника, которую знал: – Не думаю, что ваше поведение понравится комиссару Роулзу. А мы ведь у него работаем.
– Кто это еще такой? Никогда не слышал. У меня свои командиры есть. И приказ досматривать всех, кто покажется подозрительным. Быстро, спешились, открыли сумки… – Он положил ладонь на кобуру очень длинного револьвера, достававшего стволом почти до колена.
Давыдов все это время старательно раскуривал сигару, демонстрируя полное безразличие и олимпийское спокойствие. Надеялся, что такое поведение успокоит агрессивность территориала. Но нет, не помогло. После произнесенной с явной угрозой требовательной фразы оттягивать радикальное решение было уже бессмысленно. Каждый до точки невозврата имеет право на свой выбор. Сержант с подчиненными его сделали.
Давыдов, презрительно пыхнув ароматным дымом в сторону патруля, ленивым движением извлек из-под сюртука пистолет и четырежды нажал на спуск. С пяти шагов это можно было сделать и с закрытыми глазами. Все пули – в лоб. Чтобы не было последующих недоразумений. Добивать раненых, даже большевиков, он не любил. Оказывать недобитым помощь – тем более. Хлопки пистолета не слышны были уже за двадцать шагов. Даже кони почти не испугались.
– И что теперь будем делать? – спросил Эльснер, не дрогнув лицом. В стольких людей приходилось стрелять после выпуска из училища, и на поле боя, и у первой попавшейся стенки, что вид еще четверых, только что живших и в мгновение ока переведенных в другую категорию, не вызывал уже никаких эмоций.
– Да ничего, – небрежно ответил Давыдов, убирая «ТТ». – Лошадей привяжем вон к тому дереву, чтоб в казарму раньше времени не убежали, а этих – как есть, так и оставим. Война все спишет. На буров или бандитов – нам-то что?
– Бандиты бы лошадей угнали, а не стали привязывать, – выразил сомнение Давыдов. – Буры – тем более… И оружие никто бы не оставил.
– А нам-то что? – повторил Эльснер. – Пусть здешние Шерлоки Холмсы версии придумывают и дедуктивно их разгадывают. Чем загадочнее, тем интереснее. А нам ехать пора. И давай в сторону заберем, чтобы не по этой дороге в город въезжать, а с другой стороны.
– Не то говоришь. Там еще на один патруль нарваться можно, а здесь – вряд ли. Пока доедем, совсем стемнеет. Ну а не повезет – им же хуже…
После полуночи связались с Кирсановым, доложили, что и как.
– Молодцы. Можете отдыхать. Утром переложите технику в чемоданы и подъезжайте ко мне. Обсудим следующие этапы.
Сообщение о том, что имел место огневой контакт с неприятелем, Кирсанов принял к сведению. Безоценочно. Как вышло – так и вышло. Мы сюда не в бирюльки приехали играть. Главное – задание выполнено.
Получив радиостанцию, Павел почувствовал окончательную уверенность в успехе своего предприятия. А то какой же разведчик без надежной связи? В старые времена курьеров использовали, караваны купеческие попутные, почтовых голубей, но портативная коротковолновая рация не в пример удобнее. Сам Кирсанов на фронте сталкивался только с длинноволновыми, размещавшимися на двух конных повозках, с приличной техникой познакомился только в «Братстве». И оценил важные, при их обстоятельствах, удобства: телеграфный ключ не нужен, знание азбуки Морзе, и с шифрами возиться не надо, гони сообщение любой степени секретности через микрофон открытым текстом – и никакого риска.
Тут же, в присутствии офицеров, провел первый сеанс связи с «Валгаллой». По договоренности, одна из стационарных станций парохода постоянно работала на прием на его волне. Он не стал приглашать в радиорубку Воронцова или кого-либо из «братьев», не та степень важности. Робот-радист без всякой записи передаст содержание сообщения слово в слово.
Доложил, не вдаваясь в подробности, что первый этап внедрения прошел успешно, указал на всякий случай, координаты, свои и помощников, вкратце обрисовал планы на два ближайших дня. Перечислил количество и типы стоящих в гавани и на рейде боевых кораблей и транспортных судов, добавив, что при необходимости его резиденция может служить великолепным корректировочным постом для работы и по порту, и по городу. Договорился о графике включения собственной рации на прием, на случай, если потребуется передать ему срочные инструкции.
Щелкнул тумблером выключателя, убрал в тумбу стола титановый кейс, снабженный кодовым замком. Стол тоже запер.
– А если все-таки кто-то полюбопытствует, что это вы тут прячете? – спросил Давыдов.
– Сомневаюсь. Не слышал я, чтобы английская прислуга по вещам постояльцев шарашила. У них господа деньги и драгоценности спокойно в номерах оставляют. Не Одесса как-никак и не Хитровка московская. Если же допустить, как это ни маловероятно, что есть у них медвежатник суперкласса, умеющий вскрыть кейс, не оставив следов взлома, что он там увидит? Некий прибор абсолютно непонятного назначения. Сам Маркони не разберется, ибо там нет ни одной известной детали. Кроме тумблера и цифровой шкалы… Так что по этому поводу беспокоиться не стоит. Тем более – вам. Докладывайте лучше, как устроились.
Эльснер доложил. Квартиру они сняли, как и было приказано, в весьма удобно (в том смысле, что на перекрестке ведущих от города к порту улиц) расположенном доме с прилегающим участком. Тут же и показал на плане, где именно. Кирсанов одобрительно кивнул.
Отвели им комнаты на втором этаже. Дороговато, но терпимо. Хозяин – отставной моряк лет под шестьдесят, зовут Рассел Кэмпбелл, жена тех же примерно лет, Джуди. Детей нет. Люди на первый взгляд спокойные и благожелательные. Рассел в России бывал, в Архангельске и Петербурге, против русских ничего не имеет, знает около десятка слов, в том числе «спасибо», «будь здоров», «рубль», «водка».
– С нее мы и начали, – вставил Давыдов. – Нормально мужик принимает.
– Молодцы. Рукопожатие перед строем! Теперь слушайте сюда. Мысль вот какая. Занятие я вам подыскал. Станете содержателями трактира…
– То есть как?
– Нормально. Работа вам какая-никакая нужна? Необременительная, оставляющая достаточно свободного времени, не ограничивающая в контактах с любым количеством людей всех званий и родов деятельности. Ничего лучше не придумаешь. Не в конторе же вам сидеть, на самом-то деле, от и до. Ваша задача – объяснить выгоду этого замысла хозяину. Не думаю, что он такой уж богач, что от почти даровой прибыли откажется.
– Явно не богач, – согласился Эльснер. – Пока плавал, скопил кое-что, дом построил, а сейчас живет на какой-то мизерный доход с остатков капитала. Оттого и комнаты сдает. Сразу видно было, весьма обрадовался, что мы без запроса на его цену согласились. Но – трактир… – Голос его выразил сомнение. – Да и мы в этом – ни уха ни рыла.
– Ерунда, – пресек сомнения Кирсанов. – Вы вносите предложение, особо оговаривая, что все организационные расходы берете на себя. Оборудование заведения, закупка спиртного и прочего, наем прислуги, если потребуется. Вклад хозяина как местного жителя – получение лицензии, или как это здесь называется, а также дом с географическим расположением.
Доходчиво ему объясните, что все моряки, идущие из порта в город, – ваши клиенты. Только сошли на берег – и вот вам, извольте глотку промочить. То же и на обратном пути. Последняя кружка перед началом трудовых будней. Редко кто удержится. Ваш Рассел должен это лучше меня понимать. Сам мореман, темой владеет. Особенно если антураж должный создать, форму ему боцманскую пошить, вывеску изобразить позабористее…
– Дошло, Павел Васильевич, – расцвел улыбкой Давыдов. – Моряки за выпивкой – кладезь информации. Друг перед другом соловьями разливаться будут – откуда пришли, куда идут, с каким грузом и т. д. и т. п.
– Именно. Вместе с вояками – их тут тысяч десять. Пусть в день каждого пятого на берег увольняют – две тысячи. Это ж золотое дно. Один из полусотни к вам завернет, и то сможете услышать немало интересного. Да если еще с наводящими вопросами…
– Может быть, пойдем, посидим где-нибудь? – предложил Эльснер. – Мы ведь города еще толком и не видели. Как тут люди живут…
– Как везде в эпоху войн и революций. На семьдесят тысяч местного населения набежала еще треть из Наталя и северных провинций. Разброд и шатание, панические разговоры – как дальше жить. У кого деньги есть, толпятся в конторах, уехать надеются. Кто в метрополию, кто в Индию или Австралию, пока все не устаканится. Прочие – растревоженный пчелиный улей. Мы с вами это проходили, – со странной в его устах печалью ответил Кирсанов. – Простым людям в подобных заварухах всегда несладко.
– Оставьте, господин полковник, – небрежно махнул рукой Давыдов. – Сами затеяли, сами пусть и разбираются. Право слово, пойдемте, чего в четырех стенах сидеть, которые, по поговорке, непременно имеют уши…
Вышли из отеля по одному, встретились несколькими кварталами дальше, как бы невзначай. По пути Кирсанов по привычке несколько раз проверился, хотя оснований к этому не было никаких. С Роулзом все концы были обрублены, ни единая душа в городе отныне понятия не имела о факте прибытия сюда такой вот троицы. Словно москвичи из «Мастера и Маргариты» о Воланде с компанией. Эту книгу Кирсанов по совету Новикова прочел, не найдя в ней, впрочем, ничего «великого». Так, фельетончик на злободневную для этого писателя тему. Искусно, впрочем, сделанный, не отнимешь. Да бог с ними, с писателями! Мы сейчас, считай, Буссенара переписываем, с детства любимого. Но какое отношение имеют стоящие на полках книги к суровой реальности бытия?
Ресторанчик они нашли очень подходящий к их вкусам, содержал его француз, и подавались здесь блюда исключительно французской кухни, с подходящими напитками. Океан был хорошо виден с веранды, где они разместились, несмотря на прохладную погоду и знобящий ветерок. Зато подальше от посторонних глаз и ушей.
– Вы меня простите, Павел Васильевич, – завел давно его волнующую тему Давыдов, – по-хорошему, что нам здесь, в конце концов, нужно? Нет, я понимаю, приказы, служба и все такое. Ни от чего не отказываюсь и ни на что не напрашиваюсь. Ну а так, приватно, антр ну.[26] Что нам Гекуба и что мы ей?
Капитан демонстрировал неплохое знание мировой культуры, но отнюдь не тщился поразить собеседников своей образованностью, само собой вырвалось.
– Что я тебе могу ответить, друг Никита, – сказал Кирсанов, растерев языком по нёбу глоток арманьяка. – Конспект нашей жизни написан не нами. И даже не для нас. Так получается, не более того. Желающего судьба ведет, нежелающего тащит. Вполне бы ты мог оставаться там, где был. Вначале – не идти в армию, с твоим образованием пристроился бы «земгусаром»,[27] потом – из стамбульских фортов к нам, совсем ближе – не подписываться на эту вот авантюру. Тебя ни разу никто не принуждал. Так?
– Несомненно, – согласился Давыдов, с интересом ожидая развития извилистой мысли старшего товарища.
– Вот ты сам себе уже и ответил. Если стечение обстоятельств привело нас в некую точку, как мы должны поступать? Правильно, адекватно обстановке. Окажись мы на британской стороне, пришлось бы чем-то подобным заниматься в Претории. Чтобы с максимальным эффектом и минимальными потерями достигнуть цели, которая, повторяю, к нашим с тобой личным желаниям никакого отношения не имеет. Доступно?
– Не совсем, – честно ответил Давыдов. – Эту сказочку про африканские сокровища интересно было слушать, когда мы еще от бегства из России в себя не пришли, а сейчас, по прошествии времени – совсем другой коленкор. Не верю я больше в сказки. А если так, то требуются куда более основательные мотивации. Ну, сделаем мы то, что от нас требуется, поможем нашим хозяевам вместе с бурами взять Кейптаун – а дальше?
– Чего же ты, отправляясь на фронт, тогда не спрашивал – возьмем мы Берлин и Константинополь, а дальше? Неужто всерьез воображал, что немедленно наступит какое-то особенное счастье, для тебя, твоих друзей и родственников? И от занятия Россией Порт-Артура простому человеку лучше жить не стало, и от присоединения Туркестана.
Я, как и ты, наверное, исторические сочинения прилежно читал, и очень мне кажется, что с обывательской точки зрения лучше всего было бы жить в удельном княжестве, верст пятидесяти в диаметре, за горами за лесами и болотами, откуда хоть три года скачи, никуда не доскачешь. Да не смердом, князем желательно. Ешь, пей, охоться, с девками балуйся. Средневековым бароном, как твои, Павел Карлович, предки – тоже можно. Замок неприступный на перекрестке торговых путей. И все… – Кирсанов говорил негромко, без нажима, словно размышляя вслух. Взгляд его, безмятежно-чистый, медленно скользил по морской дали, где у самого горизонта дымил идущий с северо-востока пароход.
– Упрощаете, господин полковник, – сказал Давыдов, вертя в пальцах папиросу.
– Редукцио ад абсурдум,[28] – вставил Эльснер.
– Именно, друг мой, именно. А что еще прикажете делать? Пламенных речей, мобилизующих массы на великие свершения, «пер аспера ад астра»,[29] я произносить не умею, подавлять собеседника властью старшего в чине и должности – не люблю. Остается надеяться, что при здравом размышлении он сам додумается, что имеются высшие соображения, в данный момент не каждому доступные, но от этого не становящиеся менее вескими. Так что мой тебе совет, друг Никита, – оставь ненужные умствования и просто поверь – так надо. Для полноты душевного спокойствия прими во внимание, что истинные цель и суть происходящего откроются тебе (да, пожалуй, и мне тоже) очень не скоро. А то и никогда. Одного мудреца спросили: «В чем смысл жизни?» На что он ответствовал: «Смысл жизни – в ней самой, и не нужно искать другого».
– Спасибо, Павел Васильевич. Очень вы хорошо все растолковали. Принято к сведению и исполнению. Не капитанское это дело – над мировыми проблемами задумываться.
– Вот и правильно. Должное направление мыслей весьма способствует хорошему пищеварению. А раз с проклятыми вопросами мы покончили, не мешает перейти к практическим. На ближайшие дни задача вами усвоена, свое незаурядное красноречие используете, чтобы убедить хозяина сделать то, что от него требуется. Деньгами можете распоряжаться свободно, но с осмотрительностью. Вы не «бояр рюсс», у вас каждая копеечка на счету, и этот кабак – ваша последняя надежда выбиться в люди. По пять раз все счета перепроверяйте, торгуйтесь, старайтесь экономить на всем. Потребуется взятки давать – по самому минимуму. Больше уважения и меньше подозрений вызовете. Уловили? Тут, Павел Карлович, у тебя опыт побогаче, ты и будешь коммерческим директором предприятия. А Никита – товарищ[30] по общим вопросам. Если соображений по делу больше нет, давайте, наконец, действительно просто порадуемся жизни… О! Вон мальчишка-газетчик бежит. Почитаем, что в окружающем мире творится.
Местных газет в Кейптауне издавалось всего три. Как и положено – проправительственная «Ивнинг стандарт», оппозиционная «Саус Эфрикен фри трибьюн» и еще «Морнинг пост», своеобразный дайджест материалов британской, европейской и американской прессы, получаемых по подводному телеграфному кабелю.
Бегло просмотрели большие, непривычно лишенные фотографий листы. Ничего неожиданного. Сводок с фронтов, подобных «От Советского информбюро», тогда еще не публиковали, их заменяли более или менее пространные репортерские заметки и редакционные комментарии. Официоз успокаивал читателей выкладками, доказывающими, что победа близка, войска, успешно сокращая линию фронта, занимают прекрасно подготовленные к обороне позиции. Подкрепления из метрополии и колоний на подходе, снаряжения и боеприпасов достаточно, боевой дух армии высок.
Кирсанов, значительно приподняв бровь, прочитал вслух: «Происходящее противостояние не является делом только метрополии, она отстаивает права империи в целом и справедливо может рассчитывать на поддержку колоний при любом, – он подчеркнул это голосом, – повороте событий. Квинсленд уже предложила контингент конной пехоты с пулеметами. Новая Зеландия, Западная Австралия, Тасмания, Виктория, Новый Южный Уэльс и Южная Австралия последовали за ней в названном порядке. Помощь предложили составляющие британскую империю люди с самым разным цветом кожи – индийские раджи, западноафриканские вожди, малайская полиция. Но эта война должна стать войной белых людей, и если британцы не в состоянии спасти себя сами, то такому народу действительно не следует иметь империи».
– Вот как заговорили. Сильный ход. «Социалистическое отечество в опасности!», одним словом, – усмехнулся Давыдов, поднимая бокал. – Ждите следующий декрет – о принудительной мобилизации всего мужского населения от восемнадцати до шестидесяти лет, создании заградотрядов и военно-полевых трибуналов.
– Про чека, про чека забыл, – подхватил Эльснер. – На фронте и в тылу…
– Зря смеетесь, господа, – не разделил веселья Кирсанов. – Припрет англичан – и до такого дело дойдет. Они ведь правы, по сути. Если не желаешь проиграть все – нужно вовремя найти в себе силы встать насмерть, не заботясь о принципах. Чего решительно не хватило вождям Белого движения. Не окажись поблизости господ «Андреевских братьев», где бы сейчас мы с вами были? Так что советую отнестись к этому серьезно, – потряс он в воздухе газетой.
– А, – пренебрежительно махнул рукой Давыдов. – Что-то я не припомню, чтобы англичане с достойным противником на равных воевать умели. Возьмите хоть Крымскую войну. Год проваландались перед незащищенным городом и только половину взять сумели. Под Петропавловском вообще обгадились от и до…
– Ладно, – примирительно сказал Эльснер, – противника, конечно, не стоит недооценивать, но переоценить – ничем не лучше. Мы-то здесь зачем? Читаем лучше дальше.
Несколько заметок посвящалось тому, что позже было названо «конспирологией». Настойчиво проводилась мысль, что целью агрессии буров является создание единого государства, простирающегося от Кейптауна до Замбези, с голландским флагом, языком и законодательством, с полным изгнанием британской державы из Южной Африки. Доказывалось (впрочем, без документальных подтверждений), что Трансвааль израсходовал на разведывательную службу больше, чем вся Британская империя, что в колониях развернута целая армия эмиссаров, агентов и шпионов с самыми разными миссиями…
– Вы не в курсе, Павел Васильевич, кроме нас, здесь еще шпионы имеются? И если да, чем могут заниматься? – спросил Давыдов.
– Сказано ведь: «Самыми разными миссиями». Мало, что ли?
– Исчерпывающе. У нас, как помните, с шестнадцатого года насквозь все были шпионами и германскими агентами, начиная с царицы. Стоило немцам разгильдяйскую роту с позиций сбить, как первое дело, о чем кричали? «Измена! Продали! Айда братва в тыл, не то землицу без нас поделят…»
– Здесь британцам особо бежать некуда. Если Воронцов море закроет, сдаваться придется.
– Ну и сдадутся. Буры всех подряд к стенке ставить не будут. Начальство сбежит, обыватели приспособятся. Все это мы уже проходили… Вот, кстати, оппозиция уже помаленьку намекает.
Оппозиция, остерегаясь обвинений в антипатриотизме, о реальном положении писала глухо, однако упорно проводила мысль о несоразмерности целей войны и требуемых ею жертв. После того как стороны продемонстрировали свою решимость, мужество и военное искусство, едва ли стоит продолжать бессмысленное кровопролитие, единственной причиной которого отныне может быть неудовлетворенное тщеславие и жажда мести. Но месть – это такая категория, удовлетворить которую в полной мере не удавалось никому и никогда. Каждая новая жертва с той и другой стороны ее лишь распаляет. А тысячелетняя история человечества учит, что любая война рано или поздно заканчивается миром. Иного просто быть не может, если только с ужасом не вообразить себе полного уничтожения неприятеля, включая женщин и детей. Так не лучше начать мирные переговоры, пока потери исчисляются тысячами, а не сотнями тысяч, пока еще целы города, не свирепствуют чума, холера и тиф?
Назывались даже предварительные условия, которые заслуживали обсуждения, и некоторые взаимные уступки, не умаляющие чести и государственных интересов колонии и бурских республик…
– Как думаете, Павел Васильевич, возмущенные толпы еще не начали громить помещение редакции и вешать журналистов на фонарях? – спросил Давыдов.
– У них же свобода слова, чтоб ей пусто было. Громить наверняка не будут, а в морду наплевать могут.
– Значит, не достигли еще нужного накала. Посмотрим, как дальше повернется.
– Я понимаю так – даже в правительстве колонии есть группа людей, чьи интересы выражает эта самая «Трибьюн», – сказал Кирсанов. Иначе не бывает. Я даже примерно догадываюсь, кто бы это мог быть. С такими людьми мы и должны работать. А Воронцов с его флотом – «Ультима рацио…».[31] Только все ведь будет решаться не здесь. Империя пока еще на пике своего могущества, если королева и парламент упрутся, дело может затянуться на годы. Если, конечно… – Кирсанов мечтательно улыбнулся.
– Если – что? – спросил Эльснер.
– Да как у нас бывало. Здесь условия даже лучше, поскольку от метрополии дальше. Группа определенным образом настроенных деятелей, включая авторитетного генерала, учиняет переворот. Как его мотивировать – дело десятое. Объявляет какую-нибудь «Директорию» или «Африканский национальный конгресс», дело не в названии, независимость от Короны, некую форму конфедерации с бурами… Да что я вам рассказываю?! Вспомните хоть американскую революцию тысяча семьсот семьдесят шестого, хоть Колчака… Минутное дело, если грамотно подойти…
– Да, ваше высокоблагородие, – это здорово, – уважительно изобразил приподнимание отсутствующей на голове шляпы Давыдов. – Стоит потрудиться. Исключительно из любви к искусству, ибо нам с вами это ничего не даст.
– Ошибаешься. Даже выигрыш партии в преферанс или шахматы приносит большое удовлетворение. В нашем же случае все как раз сходится с твоими тайными желаниями. Не возвращаясь в Россию, нынешнюю, девяносто девятого года, Югоросскую, или любую другую, по двадцать первый век включительно, сможешь здесь удовлетворить страсть к авантюрам и приключениям… Просторы для воображения открываются… – Кирсанов даже причмокнул губами. И непонятно было, всерьез он говорит или так своеобразно развлекается.
– Наконец-то слово сказано, – подстроился к тону начальника Давыдов.
– Уже плюс. Терпеть не могу людей, руководствующихся шкурными интересами, как бы красиво они ни мотивировались. А здесь какая-никакая, но идея… При общем согласии слегка конкретизируем задачу. Работая в своем кабаке, особое внимание обращайте на военных моряков. Составьте реестрик командиров и старших офицеров броненосцев и крейсеров, выясняйте аккуратненько, кто собой что представляет. Чем хороши, чем плохи. Глядишь, или очередного лейтенанта Шмидта найдем, или насчет «Потемкина» британского розлива подумаем. А то и Гельсингфорс образца семнадцатого года устроим. Перспективно нужно мыслить, братцы, перспективно…
– В таком смысле мы – сколько угодно, – с многообещающими нотками сообщил Эльснер. – Если учесть, что нашу революцию не столько немцы, сколько англичане организовали, ответим достойно.
– Только – не увлекаться сверх меры, – предупредил Кирсанов. – Вы ребята способные…
– На все, – вставил Давыдов.
– Я как раз об этом. Никаких несанкционированных действий. На рожон не прите. Позабавились вчера с патрульными, и хватит для начала. Раз обошлось, другой – кто его знает. Не вы у меня первые. Привлекаешь, бывает, строевых офицеров к серьезной работе, а они как привыкли ротой на передке командовать, так и остановиться не могут. Захотите на фронте погеройствовать – будет случай. Когда в городе уличные бои начнутся. А до того – ни шагу без согласования со мной. Поняли?
– Поняли, – без особого энтузиазма ответили капитаны. Видимо, имелись у них какие-то собственные соображения.
– Хорошо поняли? – с нажимом повторил Кирсанов. Изобразив и лицо нужное, и тон. Жандармский полковник таковым и остается: когда захочет – способен создать нужное впечатление.
– Да ладно, ладно, Павел Васильевич, можете быть в полной уверенности. И без вас ученые…
Воронцову было скучно. Почти так же, как в Сухуме в восемьдесят четвертом году.[32] Только там ему надоел бессмысленный отдых на пляже, и вновь тянуло на свое судно, а здесь словно бы наоборот. Надоела любимая «Валгалла», и не сама по себе, а то, что четвертую уже неделю она стояла у стенки, лениво дымя второй трубой для поддержания в рабочем состоянии механизмов и устройств специального жизнеобеспечения.
Короткий переход из Лоренцу-Маркиша в отвоеванный бурами с помощью Басманова и Сугорина Дурбан – не в счет. Ближний каботаж – не дело для моряка океанского плавания.
Повседневных занятий на океанском пароходе, разумеется, находилось вдоволь, но все – для гражданского старпома, а не боевого офицера. Береговые развлечения тоже не слишком радовали, за исключением охоты разве что. А Наталье с Аллой вроде и ничего. В городе, из которого далеко не все культурные англичане сбежали, участвовали в подобии светской жизни, совершали в сопровождении Ростокина и роботов-оруженосцев экскурсии в близлежащие туземные селения. На уединенном пляже с подходящим прибоем затеяли обучаться виндсерфингу. Воронцова это устраивало. Не хватало ему еще и женские претензии по поводу отсутствия «культурной программы» выслушивать.
В один из ненастных вечеров, когда «Изумруд» вернулся из патрулирования южного сектора, Воронцов как старморнач[33] и просто моряк, знающий, что такое – провести несколько дней на легком крейсере в бурном море, пригласил Владимира Белли к себе на ужин. Официально.
Тот явился, как и положено являться обер-офицеру к адмиралу. В черном парадном, при орденах. Доложился по уставу. Лицо молодого командира пылало багровым оттенком от антарктического ветра и океанской соли. Он провел на мостике крейсера четверо суток, с краткими перерывами на сон вполглаза. При этом не страдая от тягот службы, а наслаждаясь ими. Сегодня это не каждому дано понять. В старое время при самом лучшем раскладе Белли мог получить под команду маленький угольный миноносец лет в тридцать, в мирное время – намного позже. А сейчас в двадцать пять – командир лучшего в мире крейсера, да и до этого столько пришлось повидать!
И награды – погоны старшего лейтенанта,[34] ордена из рук Верховного Правителя Врангеля и золотой кортик от адмирала Колчака! Рассказать бы о таком в курилке корпуса, весной семнадцатого года, когда мечтали «о подвигах и славе», обсуждали перспективы близкой уже победы, заодно развлекались рискованными шутками, грозившими разжалованием в матросы накануне выпуска![35]
Владимир никак не мог перенастроиться, неподвижная палуба парохода подрагивала под ногами, словно мостик крейсера, тепло и уют адмиральского салона разительно контрастировали с мрачным величием бурного моря и промозглым холодом, от которого плохо защищала штормовая одежда.
Но все позади, он утопает в кожаных объятиях слоноподобного кресла, неспешно курит и прихлебывает наилучший из хересов. Ощущает себя почти так же, как пять лет назад, когда его, замерзающего, подобрали на вокзале в Омске, отмыли в бане, переодели в чистое и пригласили к ужину в вагон-ресторан первого класса, где самым младшим, кроме него, конечно, был капитан первого ранга Кетлинский. Само собой, тогда он испытывал настоящее потрясение от сказочного поворота судьбы, а сейчас – просто умиротворение и покой.
– Что, лейтенант, не пора на рельсы становиться?[36] – Воронцов, в глазах Белли, был красив, вальяжен, благодушен. Чем-то напомнил командира старшей гардемаринской роты капитана второго ранга Подгурского.
– Это уж вам виднее, Дмитрий Сергеевич. За исключением возраста, прочим требованиям вроде бы удовлетворяю, – без ложной скромности ответил Белли. – Ценз набрал, если с пятнадцатого года считать – девять кампаний. В сражениях участвовал, командую крейсером, взысканий не имел, ордена опять же. Одна загвоздка – некому меня в чин произвести. Далековато до Севастополя и Харькова. Двадцать лет с хвостиком. Разве, когда вернемся. И – если.
– За неоправданный пессимизм выношу устное порицание. Что до формальной стороны вопроса, прошу усвоить, что я в данном случае могу рассматриваться как командующий соединением, находящимся в отдельном плавании, и в качестве такового имею право за боевые отличия и в связи со служебной необходимостью производить подчиненных офицеров в следующий чин. Как раз до капитана второго ранга включительно. С последующим Высочайшим утверждением. Здесь, как ты понимаешь, ни загвоздки, ни заминки не будет. Таким образом, старший лейтенант Белли, – Воронцов встал, и Владимир тоже вскочил, прищелкнув каблуками и вытянувшись, – приказом по эскадре за номером двадцать восемь дробь семь вы произведены в чин капитана второго ранга Российского флота со старшинством с сего числа. Поздравляю, капитан Белли!
Дмитрий протянул Владимиру двухпросветные золотые погоны с тремя звездочками и пожал руку.
– Служу Отечеству, ваше превосходительство!
Кому-то эта церемония показалась бы фарсом, профанацией настоящего воинского ритуала. Вроде того, как народ воспринимал возведение Брежнева в маршальское звание и награждение орденом Победы. Что хотим, то и творим. На самом деле все обстояло несколько иначе.
Страсти к чинам и наградам никто из «старших братьев» не испытывал и испытывать не мог по понятным обстоятельствам. Однако время, в котором им пришлось действовать, требовало соблюдения правил и традиций. Это великолепно понимал Врангель, производя своих помощников и советников в генеральские чины, награждая высшим орденом возрожденной из праха России. Не могут же штатские лица руководить фронтовыми операциями и командовать заслуженными полководцами. Российский военно-феодальный менталитет не мог бы с таким смириться. Человек без чина – не совсем полноценная личность в государственном смысле.
Как писал Николаю Первому граф Уваров: «Частные занятия предоставляют и будут предоставлять много больше материальных выгод, чем государственная служба. Поэтому особенно важно поддерживать в служащих идею чести, обольстительную мысль, что чин возвышает их над всеми званиями, хотя и пользующимися вполне житейскими выгодами. Бесчиновность… порождает ложные мысли о равенстве и никак не допустима при монархии, где люди возвышаются по чинам, жалуемым от престола и где всякий чиновник знает, что он обязан чином, а следовательно, и почетом государю, и, таким образом, чины являются выражением царской власти и милости. Отмена чинов дискредитировала бы правительство и лишила бы его важнейшей пружины действовать на умы, средство, которое, имея почти фантастическую силу, ничего не стоит государству и не может быть заменено никакими материальными вознаграждениями».
В справедливости такого мнения каждому из наших героев приходилось убеждаться неоднократно. Наверное, больше половины их предприятий потерпели бы полный крах в самом начале, не будь они подкреплены магической силой того или иного мундира с достаточно солидными знаками различия.
Но если для каждого из старших военная форма служила всего лишь рабочим инструментом, юный Белли принимал ее всерьез, именно так, как и подразумевал мудрый граф Уваров. Он ее любил, ценил, носил элегантно и с достоинством, даже и во внеслужебное время (кстати, в царской России военнослужащим вообще запрещалось надевать гражданское платье, хотя бы и в отпуске), с долей пренебрежения поглядывая на лишенных такой чести. Далеко обогнав бывших гардемаринов одного с ним и двух предыдущих выпусков, он стал сейчас, наверное, самым молодым штаб-офицером российского флота. И сознание этого наполняло его ни с чем не сравнимым ощущением собственной значимости.
«За Богом молитва, за царем служба не пропадет», – учил его отец, и пока его правота подтверждалась. Тьфу, тьфу, чтобы не сглазить, если так дальше пойдет, к тридцати годам и адмиральские орлы на плечи опуститься могут. Как к прадеду.
По случаю производства выпили шампанского, причем Владимир посетовал, что не только старшие товарищи при этом не присутствуют, но даже и Наталия Андреевна. Ему хотелось, чтобы и другие разделили с ним торжественный момент.
– Непременно банкет организуем. Как только народ подтянется. А пока все на фронтах, внешних и внутренних, завязаны. Кто где. Дай бог, чтобы живыми вернулись.
Тревога едва заметно проскользнула в голосе Воронцова, но это, в понимании Белли, означало, что положение достаточно сложное.
– Сейчас нам с тобой тоже присягу сполнять придется, – употребил Воронцов матросское выражение. – Посидим немного, потом отдохнешь, отоспишься, пристегнешь новые погоны и опять в море.
– Цель какая теперь будет, Дмитрий Сергеевич? – Против очередного похода Владимир никак не возражал. Крейсер в порядке, солярки в цистернах доверху, боезапас не израсходован.
– Интересная цель. Если ты в курсе, тут неподалеку проходит подводный кабель Бомбей – Кейптаун. Я послал своих ребят (имелись в виду, конечно, роботы), нырнули они на две сотни метров, подключились. Шифры у гордых бриттов примитивные. Читаем мы их телеграммы, как третьеклассник букварь.
– Первоклассник? – осторожно переспросил Белли.
– Именно третьеклассник. Легко, но с долей презрения. И что они пишут? Что якобы на той неделе из Бомбея отправлен караван из двенадцати транспортов, переправляющий в Кейптаун до десяти тысяч отборной сипайской[37] пехоты с артиллерией…
– Солидно, – понимающе кивнул капитан. – В случае чего – лихим штыковым ударом смогут переломить ситуацию. Но нам-то что? О чем речь, Дмитрий Сергеевич? Сбегаем, разгоним, даже топить сверх меры никого не станем.
– Верю, сможешь. Но навстречу конвою завтра выходит крейсерская эскадра в восемь вымпелов. Флагман – «Кресси», коробка серьезная, неплохо бронирован, до 152 мм, вооружение две 234 мм, двенадцать шестидюймовок… Потоплен вместе с «Хогом» и «Абукиром» немецкой подводной лодкой «U-9» двадцать второго сентября девятьсот четырнадцатого у побережья Голландии.
Белли отставил бокал с шампанским.
– О чем вы говорите? Справочник я наизусть знаю. Ну и что мне его броня и его пушки? Скорость у него сколько? Двадцать?
– Двадцать один.
– Так что же, Дмитрий Сергеевич? Весь Черноморский флот целую войну потратил на попытки перехватить «Гебен» и «Бреслау», у которых было преимущество в ходе семь узлов. У меня сейчас над кем угодно – до двадцати. О чем тут говорить? Я о другом думаю, ваше превосходительство. При всем моем уважении к адмиралам Эбергарду и Колчаку. Вы не хуже меня помните ход войны. Для чего все делалось? Линкоры построили – ладно. Но думаю – незачем было. В тех обстоятельствах. Море денег и тьма работы – без толку. И еще пять старых броненосцев имели…
– Так, так, – поощрил новопроизведенного кап-два к полету военно-морской мысли Воронцов. – Крейсера посчитай, эсминцы туда же…
– О чем я и говорю, Дмитрий Сергеевич! – Голос Белли слегка сорвался от возбуждения. – Вы только подумайте – затраты, боевое напряжение, неизбежная деморализация личного состава от бессмысленности охоты на неприятеля, который над тобой издевается… Один линейный крейсер и один легкий – над целым флотом. Три года!
– Дальше, – спокойно предложил Воронцов.
– Ну что дальше, что?
– Будь ты комфлотом, что бы сделал ты? На месте Эбергарда в пятнадцатом, на месте Колчака в шестнадцатом? – Дмитрий с интересом посмотрел на Белли поверх края бокала.
– Дмитрий Сергеевич, вы меня провоцируете, шутите или что? – Владимир чувствовал, что Воронцов его собрался подловить и непременно это сделает, только вот на чем? Но давно было известно, что в этом обществе нужно говорить что думаешь. За ошибку простят и подскажут, как правильно, а вот за криводушие – нет.
– Говори. Ты – комфлота. Вице-адмирал. Сейчас – весна шестнадцатого года. Командуй! – Голос Воронцова прозвучал жестко и требовательно.
– Если вы приказываете – пожалуйста. В программу строительства линкоров я, само собой, вмешаться не мог, оставалось маневрировать в пределах наличного. Все свои десять эсминцев – «новиков», то есть типа «Счастливый», конечно, я бы готовил к генеральному сражению, отнюдь не гоняя их до прогорания котлов по всяким дурацким поручениям, вроде как сопровождение шхун от Батума до Туапсе. Тренировал бы экипажи для нанесения единственного, смертельного удара. Офицеров, матросов, начальников дивизионов.
Как только получена телеграмма, что «Гебен» и «Бреслау» пошли в восточную часть моря, – вывел бы линейный флот в устье Босфора, завалил вход в него всеми имеющимися в запасе минами. И лег в дрейф, едва-едва за пределом дальности босфорских батарей. Чтобы, в случае чего, никто обратно не прорвался. Вы ведь помните, сколько раз немцы ухитрялись в Босфор проскакивать под носом у наших. А я бы, по-ушаковски, выстроил линию кордебаталии с дистанцией в полсотни кабельтовых…
Воронцов поощрительно улыбался, понемножку прихлебывая херес.
– Самое же главное – все эсминцы, разделенные на четыре дивизиона, должны были ждать немцев миль на пятьдесят восточнее завесы, галсируя экономичными ходами. При обнаружении «Гебена» – атаковать на полной скорости со всех направлений. Как вам известно, Дмитрий Сергеевич, эсминцы – расходный материал. Их и о них жалеть не принято. Половину эсминцев пусть при потоплении «Гебена» потеряем, остальными «Бреслау» добьем или к сдаче принудим, но войну одним сражением выиграем.
Четыре дивизиона, ведущие беглый огонь из своих «соток», в нужный момент залпово сбросившие полсотни торпед, этого ЛКр[38] сделали бы, вопроса нет. Для противодействия отходу «Бреслау» на фланге поставил бы «Кагул» и «Память Меркурия», можно и «Ростислав» к норд-весту выдвинуть…
Белли разгорячился, даже времена начал путать, и видно было, что на месте Колчака он войну действительно сумел бы выиграть «в одно касание». Да так оно с точки зрения холодной стратегии и выглядело.
Очень нравился Воронцову Владимир, нес он в себе агрессивный дух своих прадедов, которые умели под водительством Суворова, Ушакова, Сенявина и Лазарева побеждать при десятикратном превосходстве неприятеля. Позже этот настрой был утрачен. Почти. Но в душе сидящего перед ним молодого офицера он возродился.
– И что, капитан? За тактическое мышление ставлю двенадцать, за политическое – пять, от силы.[39] Утопил ты торпедными атаками «Гебен», потеряв половину эсминцев. Твои крейсера раздолбали шестидюймовками и стотридцатками «Бреслау». Дальше что?
– Как что, Дмитрий Сергеевич? Война выиграна одним боем. Как у вас с англичанами.
– Эх, парень, кап-два ты уже случился, а первого я тебе точно не дам. В стратегии совсем не тянешь. Вот вообрази: ты – только что произведенный вице-адмирал, сорока лет от роду. Колчаком зовут. За одно сражение лихо ликвидируешь противника, потенциального и кинетического. Дальше что? Сидеть в салоне на «Георгии Победоносце» и раз в неделю слать царю телеграммы – «На Шипке все спокойно»? А где повседневная боевая деятельность? Мгновенно теряется сам смысл твоего существования в данной должности. Раз Черное море очищено от противника раз и навсегда – для чего царю там такой адмирал?
– Босфорскую операцию готовить, проливы захватывать, – немедленно ответил Белли.
– А откуда ты, молодой, знаешь, что в мозгах Генмора и царя творится? Босфорская операция, вернее, вся турецкая часть кампании – это дело сухопутного командования, которому флот оперативно подчинен. И вся слава за взятие Константинополя досталась бы отнюдь не Колчаку. Юденичу, скорее всего. Очередной крестик повесили бы, безусловно, но и все на этом. До новой войны, которая то ли будет, то ли нет, Александру Васильевичу ничего больше не светило. А при его амбициях… Да ты же помнишь. Хоть в Омске – но главным. В реальности все закончилось прорубью в Ангаре, мы это дело чуть изменили, но человек – погас. Согласен?
Владимиру возразить было нечего. Он отчетливо представил и Колчака, каким увидел его в Севастополе, и всю картину, обрисованную Воронцовым.
– Так что же, Дмитрий Сергеевич, по-вашему, получается? – В его голосе прозвучала почти детская обида.
– То и получается. Привыкай. Был такой военный теоретик – Фридрих Энгельс. Почитай при случае. Исторический материализм придумал. При столкновении идеалов и интересов – интересы, как правило, побеждают. А то и другое совпадает крайне редко. Поэтому – наплюй.
– Да очень просто. Слюнями. И не забивай себе голову возвышенными, но несвоевременными мыслями. Вот если нам отсюда обратно выскочить не суждено, и придется дальше жить, вплоть до Мировой войны, я тебя непременно командующим Черноморским флотом поставлю. И ты, зная прошлое и будущее, пошлешь в Средиземное море замаскированный заградитель, который выставит минные банки на пути «Гебена» и «Бреслау» перед входом в Дарданеллы. И проведет твой флот сколько-то там лет в тоске и безделье, поскольку воевать ему будет не с кем. Единственное занятие – медяшку драить и палубу три раза в день мыть. И матросики еще раньше, чем в Гельсингфорсе, по причине курортного климата, начнут офицеров стрелять и за борт кидать. «За неимением лучшего». Вот и вся альтернативная история…
Воронцов встал, распахнул дверь на балкон, окружавший его салон, расположенный прямо под штурманской рубкой. Сырой, но теплый ветер заполоскал салатные светозащитные шторы. Вдали, несколькими уровнями, светили тусклые огни Дурбана. По преимуществу – газовые фонари на улицах и в окнах выходящих к набережной богатых домов. Электростанция в городе была всего одна, да и та, поврежденная отступавшими англичанами, снабжала энергией только дом губернатора Наталя, телеграф и госпиталь, очень неплохо оборудованный, по здешним меркам.
– Иди сюда, Володя, – позвал он. – Вестовой тут уже все приготовил. Посидим на свежем воздухе. Ты ешь, не стесняйся, знаю, что в море одними бутербродами обходился…
Белли, не чинясь, приступил к бефстроганову со всеми приличествующими приправами и закусками. Сам Дмитрий ограничился несколькими дольками манго и глотком коньяка, бокал с которым давно уже грел в ладони.
– Самое последнее, чтобы тебя добить как стратега. Первая половина твоего плана – куда ни шло. Вторая – полная глупость. Если ты вход в Босфор уже перекрыл, гарантированно, зачем тебе эсминцы понапрасну гробить? Подожди, когда у немцев топливо кончится, держа их огнем своих линкоров в отдалении. И все. Интернироваться им негде, разве как в Болгарии, но это же не вопрос. Или пусть геройски затопятся, как в Скапа-Флоу в восемнадцатом…
Белли со стыдом подумал, что действительно не дорос.
– Хорошо, с прошло-будущей войной мы худо-бедно разобрались. Но у нас-то своя пока что имеется. Конкретно – бомбейский караван и силы прикрытия из восьми броненосных крейсеров. Адмирал Балфур надеется, что Индийский океан большой, и единственный легкий крейсер его вряд ли перехватит. А если и так – совершенно уверен, что кое-какие возможности переиграть противника у него есть.
Нормальному человеку, военному тем более, англичанину – особенно, невозможно представить, что противник может иметь абсолютное превосходство на театре. Никогда такого не бывало и быть не может. Ситуативно – все может случиться, но на всякий газ есть противогаз. Хотя эта поговорка тоже из другого времени. Если помнишь, капитан Вяземский сумел, путем затопления бортовых отсеков, заставить «Славу» стрелять на тридцать кабельтовых дальше положенного и весьма успешно накрывал немецкие дредноуты при Моонзунде…
– Да оставьте, – махнул вилкой Белли. – Пускай придумывает, что хочет. Разделаю его как бог черепаху. Мне – все равно.
– А вот мне – нет. Что ты вон там, у берега, видишь?
Владимир присмотрелся.
– Пароходы трофейные, что уйти не успели.
Вдоль трех пирсов действительно стояло около десятка грузовых и грузопассажирских судов, по тем или иным причинам не сумевших выйти в море при стремительном прорыве конных коммандо буров к Дурбану. Из них шесть английских, остальные – нейтралы, доставлявшие в Наталь то, что правительство Трансвааля объявило военной контрабандой.
Белли наизусть перечислил их названия и тоннаж.
– Верно. Какие мысли возникают?
Белли посмотрел на него с легким недоумением.
– Пока – никаких, – честно признался он. – Десант, что ли, на них к Кейптауну перебросить?
– Двойка! – мстительно сказал Воронцов. – Ни разу я не слышал, чтобы в корпусе кому-нибудь вообще двойку ставили. Преподаватели и не догадывались, чему такая оценка соответствует…
– Ну, Дмитрий Сергеевич, – может, мне и погоны вам вернуть? – Белли почувствовал себя действительно обиженным. Ничем другим, как снисходительной усмешкой командира. Или – разочарованной. Он наверняка рассчитывал, что Владимир уловит его замысел мгновенно.
– Это – лишнее. Поноси, привыкни, а там видно будет. Я же тебя не начальником Генморштаба назначил. Должности командира крейсера соответствуешь, и хватит в твои годы. Подумай еще немного.
Воронцов щелкнул пальцами, и тот вестовой, что обслуживал их за столом, появился уже не в белом коротком халате поверх унтер-офицерской синей строевой, а в красном доломане венгерского цыгана, со скрипкой в руке.
Подобные метаморфозы Владимира давно уже не удивляли.
– Что бы нам такое послушать? – сам у себя спросил Дмитрий и, ничего не ответив, не заказав, не приказав, просто махнул рукой.
Робот приложил скрипку к левому плечу, прижался к ней щекой, поднял смычок. Да и не скрипка у него была, а альт, заметил Белли.
Полилась незнакомая капитану мелодия (а в музыке он кое-что понимал), но до того она была пронзительная, одновременно и печальная, и торжествующая, духоподъемная и вгоняющая в тоску, с чередующимися подъемами и спадами эмоций, точнее – своего музыкального накала, что Владимир в ней потерялся. Хотелось, чтобы музыка длилась и длилась. Бесконечно.
Но в какой-то момент, на взлете, скрипач оторвал смычок от струн. Тишина показалась почти невыносимой.
– Что это было? – спросил Владимир. – Не Бетховен, не Моцарт, не Сарасате… Можно – еще раз?
– Запросто. Называется ЭТО – «Утопическая увертюра» композитора Кабалевского. Саундтрек, проще говоря, к кинофильму «Хождение по мукам» режиссера Рошаля, тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года выпуска. Впечатлило? В исполнении симфонического оркестра еще сильнее звучит.
– Нет слов.
– А про пароходы, под музыку, ничего не придумал?
И тут Владимира осенило.
– Вспомогательные крейсера – ловушки?
– Молодец – попал. Снова двенадцать баллов. Завтра и займешься.
Идея на самом деле была проста и давно проработана российским морским командованием на случай войны именно с Англией. Наиболее скоростные и мореходные суда «Добровольного флота» заранее оборудовались подкреплениями палуб под артиллерийские установки, часть угольных ям – под снарядные погреба. Экипажи комплектовались из офицеров и нижних чинов запаса. При правильном использовании такие рейдеры могли оказаться весьма эффективными, что и доказали немцы в Мировой войне своими «Меве», «Вольфом», «Зееадлером» и другими «корсарами кайзера».
Теперь Белли понял, зачем именно сейчас Воронцов решил произвести его в штаб-офицеры. Получив приказ сформировать отряд из пяти вспомогательных крейсеров, он становился командиром самостоятельной эскадры, а с одним просветом на погоне он выглядел бы… несолидно.
Но задачу ему адмирал подкинул трудную. Хотя и помогал от души, никак этого не подчеркивая, брал на себя основную часть работы. Хорошо, что в Дурбане оказалось вполне приличное портовое хозяйство, склады, забитые углем, машинным маслом, продовольствием, неплохо оборудованные мастерские. С рабочей силой было похуже, английские мастеровые в большинстве сбежали в Кейптаун, буры же и зулусы с кафрами годились только для неквалифицированных работ.
Попытка пригласить на службу интернированных капитанов и офицеров успехом не увенчалась, да Белли на это особо и не рассчитывал. Британский патриотизм, всем известный, оказался выше желания заработать, и очень приличное жалованье было презрительно отвергнуто.
Что же касается рядовых матросов, а особенно кочегаров и прислуги, состоявших по преимуществу из индусов и малайцев, для них тройное жалованье и обещание после войны отправить за казенный счет в любое место по их выбору оказались непреодолимым соблазном.
Да и бог с ними, со специалистами. На «Валгалле» вооружения и боеприпасов для рейдеров имелось неограниченное количество, а сотня с лишним роботов из экипажей парохода и крейсера могли работать круглые сутки, за десятерых каждый, по любой существующей специальности и на уровне лучших из возможных мастеров своего дела.
Из наличных трофеев на роль крейсеров были отобраны самые новые пароходы водоизмещением восемь-десять тысяч тонн, с ходом от восемнадцати узлов и выше, своей конструкцией подходящие для размещения нужного количества артиллерии. «Индус», «Крефельд», «Кондор», «Камберленд», «Сити оф Винчестер». Первые четыре – сухогрузы, рассчитанные на перевозку генеральных грузов.[40] А «Сити» был быстроходным лайнером в двенадцать тысяч тонн, со скоростью 21 узел, подходящий на роль корабля управления, если на него поставить мощную коротковолновую радиостанцию и радиолокатор. Кроме того, в долгих океанских переходах салоны и иные пассажирские помещения парохода можно было использовать для посменного отдыха крейсерских экипажей.
Вначале, на глазах у всего города и английских шпионов, которых наверняка в Натале осталось множество, на пароходах чистили топки, меняли трубки в котлах, выбрасывали грязь и мусор, накопившиеся за годы в трюмах и подсобных помещениях. Точно отмечали посещавшие английские корабли русские офицеры, с времен Станюковича и раньше: «Служба, особенно штурманская, у них поставлена неплохо, но везде грязно, дисциплина – ниже всякой критики».
– Да англичане, – как поучал Воронцов Владимира, пораженного столь запущенными судами, – свой флот на человеческом уровне вообще не любят. Уж не знаю почему. У нас, если родной корабль тонет, самые грубые натуры слезу утирают, а иные вместе с ним на дно идут или за живучесть борются до последнего. А британцы в таких случаях гогочут, машут фуражками и орут: «Ничего. У короля много». Это не я придумал, не в газетах прочитал, это мне старые моряки, что в полярные конвои ходили, с глазу на глаз рассказывали.
– Может, и потому, что действительно – «много»? У нас каждый – с кровью да по копеечке, а у них – кто считает? Двадцать линкоров, сорок линкоров… Едва хоть один англичанин свой флот поименно помнит, а мы с вами – наизусть, и Первую эскадру, и Вторую,[41] и Балтфлот, и Черноморский…
– Дробь![42] – неожиданно резко сказал Воронцов. – Давай делом заниматься.
Сейчас «португальцы» – именно их изображали моряки с «Валгаллы» и «Изумруда» – драили трофейные пароходы, как в Кронштадте перед императорским смотром. Наводили настоящий «флотский порядочек»: выгребли из тюмув тонны спекшейся в гнусную корку смеси угольной пыли, гальюнных и камбузных сливов, иной невыносимой для нормальных моряков гадости. Красили отсеки, борта, надстройки, так что создавалось впечатление, будто их готовят на роль госпитальных судов. Или – для продажи очень взыскательному покупателю.
Местные жители были в восторге – таких возможностей заработать они не имели за все время английского владычества. «Оккупанты» (кроме традиционно прижимистых буров) платили за овощи, фрукты, мясо, работу не торгуясь, что иногда вызывало определенное удивление, поскольку сводило на нет вековые традиции. Потом, правда, привыкли и даже обнаглели – стали запрашивать вдвое против и так несоразмерно вздернутых цен.
А гости (то есть новые хозяева) – платили. Как русские солдаты и офицеры в Ташкенте и Геое-Тепе. Иногда английскими пенсами и шиллингами, иногда, за крупные покупки – золотом.
Настал момент, когда Воронцова посетил с официальным визитом бурский комендант Наталя Луис Бота – генерал-фельдкорнет, сорокалетний мужчина достаточно цивилизованного вида. По крайней мере, он не походил одеждой и манерами на завязших в семнадцатом веке своих коллег и предводителей, вроде Паулюса Крюгера, ходившего при любой жаре в толстом суконном сюртуке до колен и с килограммовой Библией под мышкой. Ежеминутно открываемой для произнесения нужной цитаты.
Бота считался среди них диссидентом.[43] В военном деле тоже проявлял оригинальность тактического мышления. И все же в сравнении с адмиралом Воронцовым выглядел замшелым догматиком.
Привел с собой переводчика, считая, что коллега, владея английским и португальским, не сможет понять всех оттенков староголландского.
Воронцов немедленно отказался от его услуг на таком языке, что и сам, наверное, Рембрандт удивился бы. Изысканно, но с вкраплением слов портовых грузчиков старого Амстердама. Спасибо Антону и Арчибальду, с помощью их устройств можно было за час выучить даже жаргон малайских пиратов.
– Думаю, господин Бота, наша беседа не требует посторонних…
– Вы знаете голландский? – Удивление коменданта было искренним. Обучаясь в Европе на немецком, он отчетливо сообразил, что его родной язык шансов стать общеупотребительным в мире не имеет. Только законченный маньяк (или упертый филолог) взялся бы его учить, владея более доступными.
– Желаете на кафрском?
Кафрского как раз Воронцов выучить не успел, но для повышения ставок отчего не спросить? Больше уважать станет, особенно если сам не выучил.
Немножко поговорили на близкие к лингвистике темы. Затем, после всех протокольных фраз и жестов, Луис перешел к цели.
– Мы благодарны вам за все, что вы для нас сделали, ваше превосходительство, но положение становится нетерпимым…
– Это вы сами так думаете или вам велели говорить так? – невзирая на дипломатию, спросил Воронцов. На его, ставшем жестким лице не читалось ни малейшего желания соблюдать «правила игры».
– Димитриос, не вынуждайте меня говорить больше, чем я могу сказать, – с усилием произнес Бота.
Воронцов приблизительно догадывался, с какой целью явился к нему комендант. Такое уже не раз бывало в истории. Сравнительно патриархальное общество, с жесткой религиозной организацией, до поры готово принимать помощь от более развитых и светских партнеров, но как только положение более-менее стабилизируется, верх непременно берут ортодоксы. Если над ними нет достаточно жесткой светской власти, не останавливающейся перед репрессиями любой степени радикальности. Уровня Петра Первого, например.
В другом случае к власти приходят аятоллы (церковники в широком смысле), как в Иране семьдесят девятого года. В тот раз у шаха Мохаммеда Реза Пехлеви не хватило воли, чтобы резко, не стесняясь крови, подавить мятежников. И страна на десятилетия погрузилась в средневековье, а счет жертв пошел на миллионы, а не тысячи, чем все могло и ограничиться.
– Почему бы и не сказать открыто? Наши люди бескорыстно, не жалея сил, спасли вас от разгрома и продолжают помогать. Вы знаете, чем и как. Продолжайте. Я послушаю. А у вас что, нервный ступор? Воевать не боялись, нашу помощь принимать не отказывались, а теперь вдруг…
Бота, с выражением едва ли не отчаяния, собрался ответить, но Воронцов снова пресек его попытку резким жестом. Пусть этот самородок сообразит, как себя нужно вести с благодетелями. А то уж больно быстро начинают наглеть спасенные русской армией «братья». С американскими послами президенты «банановых республик» никогда себе не позволяли возвысить голос. А уж тем более – заикаться о какой-то «самостоятельной политике».
Он встал, широкими шагами пересек свой салон, открыл тяжелую дверь на площадку штурманского трапа, выглянул наружу, потом громко ее захлопнул. И повернул ключ.
– Никого нет. И быть не может. Ваша охрана тремя палубами ниже отдыхает под присмотром моих вахтенных. У вас редкий случай говорить откровенно. Если есть такое желание.
Мне до последнего дня казалось, что из всех ваших коллег и соотечественников вы представляетесь наилучшей кандидатурой на пост Президента Объединенной Южно-Африканской Республики. Девет – министром обороны. Именно так. Не согласны – каждый останется при своих. С вашим европейским образованием, неужели не догадываетесь – волонтеры приехали, волонтеры могут уехать. Или – заняться своими делами, благо государственная власть не в силах им хоть в чем-нибудь помешать. Итак?
– Господин адмирал, – после тяжкого раздумья ответил Бота, – вы меня ставите перед выбором, почти невыносимым…
– Прямо уж? – Воронцов заставил себя отвечать серьезно, несмотря на желание смеяться. Выбор у него – представьте себе! А выбор между расстрелом у грязной ямы без сапог, в одних подштанниках, и президентским дворцом – это как?
– Видите ли, господин адмирал, поведение ваших людей выходит за границы, которые мы считаем приемлемыми. Они всеми силами, подчас – демонстративно, показывают, что не существует разницы между белыми и черными, язычниками, католиками и протестантами. Нам сообщили, что все более распространенным становится слух, будто вы собираетесь в перспективе добиваться равных прав для всех племен и народов, населяющих Оранжевую, Трансвааль и вновь присоединяемые территории. В ущерб коренному населению.
Воронцов опять сдержал эмоцию. Теперь не такую уж веселую. Но, как привык, продолжал говорить ровно, веско, доказательно.
– Лично я такого вслух не говорил. Да и как вообще мы можем рассуждать о грядущем общественно-политическом устройстве государства, где являемся только гостями?
– Вы не говорили, так другие говорят постоянно. Но еще более опасным для сложившегося порядка является другое. Сам факт, что ваши люди платят кафру жалованье больше, чем буру, – уже подрыв основания здешнего мира. А вы это ввели в постоянную практику.
– Например? – постукивая сигарой по краю пепельницы, мягко поинтересовался Воронцов.
– Вчера при расплате в порту десять кафров получили по два фунта серебром, а рядом с ними буры – по десять шиллингов.
– И что? – Дмитрий, конечно, понимал, о чем речь, но держался «в несознанке».
Бота в буквальном смысле вытаращил на него серо-голубые глаза.
– Как – что? Черному на глазах белых заплатили в три раза больше!
– А за какую работу? – невинно спросил Воронцов. – Ваш гордый бур готов десять часов в день чистить пароходные топки, лежа между колосниками и еще горячими трубками? Он и мусор лопатой в тележку грузит с явным отвращением… Считайте, что десять шиллингов на брата – это гуманитарная помощь вашему государству.
– Да какая разница? Черный не может получать больше белого. Ни при каких условиях.
– Беда, – вздохнул Дмитрий. – Водки выпьете?
Бота молча кивнул.
Дмитрий налил сразу по сто. Махнули, крякнули, закусили соленым огурчиком, на юге Африки неведомым.
– Переговоры я с вами как с союзником, конечно, продолжу, – поправил и без того безупречную прическу Воронцов. – Но как хорошему собутыльнику скажу – если вы от меня уйдете с теми же мыслями, что пришли, – ваше дело проиграно. Раз, навсегда и окончательно. Потому что, до тех пор пока вы согласны сотрудничать, мы делаем и будем делать то, что считаем нужным и справедливым, а если вам это не нравится – вы поступите по своей справедливости. Итог, надеюсь, объяснять не нужно?
– Димитриос, как же вы не можете понять меня? Мы благодарны вам за помощь, мы хотим и дальше сотрудничать, но пойдите хоть немного навстречу. Вы же сейчас делаете как раз то, из-за чего мы воюем с англичанами. В своих декларациях они утверждают, что под их властью все, независимо от подданства, состояния, цвета кожи, будут обладать равными правами. Ойтландеры получат места в парламенте, кафры и зулусы уравняются с бурами. Вы представляете, к чему это приведет? Мы неплохо относимся к неграм, может быть, лучше, чем англичане, только не признаем идеи формального равенства.
– Апартхейд, значит, – спокойно сказал Воронцов.
– Что? А, да, я понял. Это наше слово, только откуда вы… Раздельное развитие. Чем же это плохо?
– Не собираюсь вникать. Знаю только, что рано или поздно это кончится для вас очень плохо. Люди, даже кафры и зулусы, очень чувствительны именно к идее формального равенства. Гораздо легче они воспринимают факт неравенства материального… Мы это прошли сорок лет назад.[44]
– И как же мы решим? – продолжал настаивать Бота.
– Да как захотите. Я рассчитываю на ваше здравомыслие. Вы книги читали? Почему Линкольн выиграл свою гражданскую войну? Он сделал негров равными и начал принимать их в армию, которая сразу выросла на триста тысяч бойцов. Тут южанам и пришел трандец.
Ссориться с вами мы не хотим, до сих пор считаем ваше дело правым, но и от своих принципов отступать не собираемся. Один из них – равная оплата за равный труд. Другой – равенство людей перед законом, независимо от расы и происхождения.
Мы физически не в состоянии вдруг начать относиться к кафрам как к рабам или рабочему скоту. Категорический императив, понимаете? В ваши законы и обычаи мы вмешиваться не собираемся, но в зоне собственных контактов с местным населением будем поступать так, как поступаем… Максимум, что мы можем сделать, не изменяя принципам, – это выдавать жалованье белым и черным в отдельных кассах. И вывесить прайс-листы – сколько какая работа стоит. И пусть каждый выбирает. Права человека. Вдруг бур захочет получать втрое больше кафра? Если имеет квалификацию. Только ведь это ничего не изменит. Правда?
Нельзя сказать, что Воронцов был таким уж фанатичным аболиционистом[45] и борцом за права человека, но уж больно удобный подвернулся повод поставить своих союзников на место, обозначить рамки, в пределах которых возможно продуктивное сотрудничество. А то надо же – еще войну не выиграли, а уже начинают своим благодетелям ультиматумы предъявлять. Наглеют! А уж как умеют наглеть облагодетельствованные союзники, Дмитрий знал хорошо. Даже атомная бомба по мирному городу не так обижает, как ограничение прав на владение местной мафией пансионатами в Пицунде людьми из «центра».
Ему не с кем было сейчас посоветоваться, кроме Ростокина и Белли, но он был уверен, что и они, и Новиков, и Шульгин с Левашовым его полностью поддержат.
– Вы очень, очень осложняете положение, – с усилием сказал Бота. – У вас и без этого много недоброжелателей, а когда я перескажу ваши слова…
– Во-первых – для чего их пересказывать? Вам с этого что-то обломится? И что, много? Во-вторых – знаете, сколько времени требуется, чтобы собрать всех наших людей с фронтов, погрузить на пароходы и отбыть восвояси? Неделя. Ваша свобода и независимость после этого едва ли просуществуют несколько месяцев. Согласны?
Самое главное, что Воронцову на самом деле были абсолютно безразличны бурские проблемы и даже проблемы своих друзей, решивших что-то здесь собственное порешать и реализовать. Ему было достаточно моря, одинакового во все времена, и новозеландской базы, где можно отстояться в промежутках между походами. Оттого его позиция в переговорах с Ботой была неубиваема. Как заход с козырного туза при «голом короле» у партнера.
Это Новиков, возможно, начал бы играть в дипломатию, а Дмитрия такие ходы не интересовали вот ни на сколько. Как дворовая партия в домино. «Рыбой» кончили – шапки врозь, и конец компании.
Комендант, кое-что понимающий в людях, видел равнодушно-откровенную позицию собеседника. Перед ним сидел человек, которому в этом мире не нужно совсем ничего. Такие люди не торгуются.
А бурское руководство, посылая Боту для переговоров, наверняка считало, что у них имеются козыри, которые стоит только выбросить на стол, и партнер поднимет лапки вверх. Что он мечтает о праве на концессии золотых и алмазных приисков, на военно-морские базы, на что-нибудь еще…
Луис постарался собрать в кулак все свои волевые способности и проистекающие из должности права. Заведомо зная, что уже проиграл по всем позициям. Не мог он на равных спорить с человеком, который своими зеленоватыми в крапинку глазами пронизывал его насквозь, а легкой кривизной губ подтверждал бессмысленность спора. Да и не спора даже.
Так, на взгляд Боты, должна бы выглядеть его собственная болтовня с туземным царьком, вроде потомка Чаки Великого, хотя бы и окончившим приличный лондонский колледж, но в душе остающимся людоедом мелкого пошиба.
Воронцов кивнул, подтверждая, что собеседник понял его правильно. И этим еще больше напугал Боту. Любые мысли он читает еще до того, как они успели оформиться.
– За всех своих друзей я решать не вправе, – сказал Дмитрий, – но сегодня я здесь главный. Поэтому, уважаемый Луис… Как, кстати, вашего папу звали, простите?
– Каролюс, – с удивлением ответил комендант.
– Луис Карлович, значит, – он произнес имя-отчество по-русски, без всякого акцента. – Хотите – мы с вами прямо сейчас договоримся? Причем имейте в виду, что никаких других вариантов не будет. Я – человек крайне жесткий, жизнь научила, но самое-самое главное, для вас, конечно, я абсолютно лишен хоть каких-нибудь амбиций. Торговаться, то есть, со мной бессмысленно. У меня есть все, и ничего мне предложить просто невозможно. Ни власти, ни доли в алмазных приисках. Редкий случай, правда? По правде – мне и ваши Оранжевые Трансваали до фонаря. Знаю, чем ваша борьба за независимость и сама независимость кончатся.
Дмитрий, усмехаясь, запил глоток коньяка глотком кофе. Ситуация ему нравилась. Он ведь и вправду знал. Пыхнул догоревшей до середины сигарой.
– Вы себя, Луис Карлович, поставили в ситуацию детского мата. И выход только один. Нет, конечно, два, но второй я не рассматриваю. Ибо он печален. А первый и обоюдно выгодный таков. Вы остаетесь комендантом Наталя, а в перспективе – президентом всего Южно-Африканского союза, который мы с вами (и для вас) создадим прямо по линии двадцатой южной параллели. Неплохо, да?
Бота в уме представил себе эту границу и согласился, да, очень неплохо.
– Но за эту маленькую радость вы становитесь моим тайным сатрапом.[46] Со всеми вытекающими… Я вам буду хорошо платить, вы будете, если потребуется, исполнять мои… поручения. И только. В любом другом варианте я оставляю вас один на один с империей. Выбирайте, что вам дороже. Дурацкий гонор или судьба Родины…
Воронцов знал, что поступает грубо и цинично, но как еще с этими возомнившими о себе лидерами разговаривать? Проявишь интеллигентскую мягкость и либерализм – вскоре увидишь на троне очередного людоеда Бокассу, избранного вполне демократическим путем.
От слова «демократия» у Воронцова сводило скулы. Демократия – к нему на мостик придет кочегар и скажет, что их там, внизу, сорок человек, а штурманов вкупе с капитаном – пять, потому они проголосовали… Компáс должен показывать в центр мировой революции, а ручки машинного телеграфа трогать вообще не надо. Во избежание.
– Зачем? Зачем вам это нужно? Вы сказали – платить! Но что можно заплатить человеку, владеющему половиной золотых и алмазных месторождений Земли? – пересохшим горлом спросил Бота, и Воронцов немедленно предложил его промочить.
Выпили по нескольку глотков сухого вина.
– Вы мне сейчас попробуете не поверить, однако я по-прежнему говорю чистую правду. Ваше золото и бриллианты не стоят ни пенса, если ваш лоб случайно попал в перекрестие оптического прицела. Мы вам будем платить днями, месяцами и годами жизни…
Воланд, не Воланд, но Дмитрий выглядел для полчаса назад очень уверенного в себе хеера Боты человеком не от мира сего. В плохом смысле этого слова.
– Что? Что вы сказали?
– Ничего особенного. Неужели вы поняли меня как-то не так? Ай-яй-яй! А все настолько просто… Любой из нас может, выйдя из этой комнаты, стать жертвой массы случайностей. Кстати, и в комнате тоже. Вдруг – потолок обвалится? А на фронте – пуля, осколок…
– Нет, нет! О другом!
– А! Так это из той же оперы. Случаи ведь между нами летают, словно пули. Предположим, на следующие… Вам, кстати, сколько лет?
– Тридцать девять, – непослушным языком ответил Бота.
– Следующие пятьдесят проживешь, как захочешь. По усмотрению. Стопроцентно могу гарантировать, что за это время с тобой ничего не случится. Себе – не могу, а тебе – да!
– Да если бы даже и так, господин Воронцов. Кто откажется прожить пятьдесят лет. Но что вы хотите взамен? Зачем вам все вообще нужно?
– Мне, то есть нам всем, это нужно из чисто научного интереса. Хочется посмотреть, можно ли с помощью умного и честного руководителя провести модернизацию весьма архаичного общества до лучших мировых стандартов. Создать на юге Африки сильное, вполне цивилизованное, по европейским меркам, государство, безусловно дружественное моей стране… Президенты Штейн и Крюгер вряд ли на такое способны, а у вас есть все шансы. Вы не только талантливый полководец, вы еще и хорошо образованный юрист с современным стилем мышления…
Прошлый раз, провоевав три года и чудом избегнув не только смерти, но и более-менее серьезных поражений, Бота оказался в составе делегации, подписавшей капитуляцию обеих бурских республик. Знать он об этом, конечно, не мог, но уже не раз было сказано, что будущее отбрасывает свою тень в прошлое и может каким-то образом влиять на психику человека, определенным образом корректируя его поступки.
– Вам не кажется, что предлагаемое вами попахивает предательством? – спросил генерал.
– Как может показаться предательством желание обеспечить своей Родине победу наименее болезненным для нее образом? Больше похоже на измену стремление цепляться за отжившие понятия, невзирая на катастрофические последствия. Впрочем – решать вам. Я сказал и повторяю – личной заинтересованности в вашей войне до последнего у меня не было и нет. Вам я тоже предложил то, что два раза не предлагают.
– Разрешите мне как следует подумать над вашим предложением…
– Ради бога. Не горит пока. Но гарантии пятидесятилетней безопасности тоже не включаются…
– И все же… Я бы очень просил вас проводить свою политику поаккуратнее, что ли. Пусть ваши люди публично не ведут себя с черными, как с близкими друзьями. И деньги платите им отдельно от белых. Это же для вас совсем пустяк…
– Ладно. В знак достигнутого нами предварительного согласия я распоряжусь…
– Но о каком согласии речь? Я ничего вам не обещал.
– Эх, дорогой вы мой! Когда люди получают неприемлемое предложение, они отказываются категорически и с негодованием. А если обещают подумать… Это совершенно как с женщинами. Согласны?
Бота неопределенно пожал плечами. Что ему было отвечать? Мысль о том, что он сможет жить, и жить долго, волновала. Если даже в это совсем не верить, все равно…
– И вы меня, конечно, извините, – поставил последнюю точку в разговоре Воронцов, – но сегодня я испытал нечто вроде неприятного удивления. И знаете почему? Ваша страна ведет войну не на жизнь, а на смерть, а вы – один из виднейших генералов и комендант провинции – вместо того, чтобы задать естественнейший вопрос, пришли ко мне с откровенной ерундой.
– Какой вопрос?
– С какой целью происходит переоборудование трофейных пароходов, как мы намереваемся их использовать в общем рисунке боевых действий. Вас же взволновала тема десятистепенной важности. Это – не стратегический подход. Увы…
Не получилось, значит, «избавления», которое друзья праздновали, вообразив отчего-то, что на этот раз все сложности и беды позади. Непонятная эйфория их охватила, странная, в общем, если здраво оценивать все случившееся.
Удолину с его утешительными выводами они поверили или все вместе оказались под воздействием очередного наведенного дуггурами психополя? Какого-то волнового наркотика, вызывающего потерю критического отношения к действительности.
Отчего бы и нет? Умели же странные порождения эволюции, почти ничего не зная о людях, вызывать страх и чувство бессмысленности жизни, как у Шульгина в Барселоне. Почти неизлечимую депрессию, как у Новикова. Потом проверили на Ларисе свою способность формировать положительные эмоции высокого накала. Каким-то образом рекомбинировать естественные эндорфины человека, превращая их в мощный наркотик специфического действия, усиливающий естественные эмоции до крайних пределов.
С подобными препаратами экспериментировал Шульгин в своем институте. А дуггуры пошли гораздо дальше и – дистанционно.
Повозились с Ларисой сутки, записали какие-то характеристики ретикулярной, допустим, формации, и при появлении Шульгина с Удолиным внушили им то, что хотели. Может быть, и сражения в пещерах никакого не было. А если и было, то совсем не в таких масштабах, как им показалось. Зато уж в свою полную и окончательную победу люди поверили безусловно. Иначе повели бы себя иначе.
И все равно методики дуггуров были еще несовершенны. Что-то получалось у них, но – без решительного результата. Упругость психики у людей каждый раз оказывалась выше вражеских эмпирических расчетов.
Но сейчас-то что делать? На размышления остаются считаные минуты. Неизвестно, чем вооружен противник, каковы тактико-технические характеристики «летающих тарелок».
По крайней мере, как убедилась Лариса, пистолетные пули их не берут. И как «тарелки» собираются действовать сейчас? Если их десяток или больше и они разом атакуют со всех направлений? Вряд ли дерево и близкий лес, пусть и состоящий из мощных, в обхват и больше буков, сможет послужить защитой. Как бы не наоборот.
Умей дуггуры по-настоящему лоцировать мысли и эмоции своих противников, что бы они поняли в пестрой мозаике рвущихся наружу и перемешивающихся эманаций? То есть производных от того, что творится в сознании и подсознании шести человек, осознавших очередную смертельную опасность. Каждый воспринимает ее по-своему и по-своему готовится встретить.
Новиков – он старается держать ситуацию под контролем, анализировать обстановку, командовать, как старший по возрасту и званию, считая себя ответственным за все происходящее, за все, во что втянул друзей, пусть и с их согласия. Он надеется, что сил в его распоряжении достаточно, что враг, проигравший все предыдущие сражения, не так уж страшен. Отобьемся. А нет – не мы первые, не мы последние.
Шульгину по большому счету все было почти безразлично. Именно так. Не успел он остыть от одного боя – предлагают следующий. Ну и пожалуйста! Слишком хорошо он помнил все предыдущее. Особенно, что может показаться странным, – не Барселону, не Валгаллу, не жестокую резню с дуггурами в их пещере, а утро под Каховкой тысяча девятьсот двадцатого года. И не себя, тогда еще молодого, полного энтузиазма и веры в то, что нет нерешаемых проблем и «все пули – мимо нас». Он вспоминал офицеров-корниловцев, не рейнджеров из батальона Басманова, обученных всем премудростям войн конца века, а настоящих.
Отвоевавших по три-пять лет, забывших мирную жизнь и себя в ней, готовых идти в последнюю атаку (а сколько их было до этого!), чистящих винтовки неизвестно зачем, разве что по привычке, и не только винтовки, даже и сапоги. Белье сменить не на что, так пусть хоть сапоги блестят в последней атаке.
Сашка не задумывался о тактическом рисунке предстоящего. Что толку? Через несколько минут случится то, что случится. Пулемет «ПКМ» взведен, лента полна патронами, а дальше… Да наплевать на все!
Ирина ощущала холодное спокойствие. Эмоции ни к чему. Столкновение с дуггурами займет всего несколько минут. Все эти человеческие пулеметы и гранатометы – ерунда. Пусть ребята тешатся надеждой. До сих пор им удавалось все. Слишком долго все удавалось. Но везение когда-нибудь должно же кончиться? Отчего не сейчас? Они, наконец, достали очень серьезного противника, и дураками будут эти дуггуры (про себя она произнесла совсем другое слово), если продолжат игру по чужим правилам. Они должны, просто обязаны использовать сейчас неизвестные и непреодолимые примитивными землянами средства. Мало, что ли, они получили информации о технических возможностях этой ветки цивилизации? И после того, что люди учинили на их станции, ответ должен последовать адекватный. Но и Ирина готовилась ответить. Мало им было того, что получили от ее блок-универсала в Москве тридцать восьмого? Сейчас получат кое-что похуже. Нажмет кнопку – и что там какая-то Хиросима?
Лариса испытывала только страх и ненависть. Не видела никаких возможностей к сопротивлению. Пробовала уже. Смотрела на винтовки и автоматы, которые держали в руках друзья, и горько улыбалась. Ей же хватало гранаты, еще позавчера спрятанной в карман. Если ее снова потянут внутрь «тарелки», кольцо она успеет сдернуть. С ужасом или восторгом – как получится. Она сама себя не понимала.
Левашов, ставя гранатомет на боевой взвод, воспринимал происходящее странно. Будто не с ним это творится. До исчезновения Ларисы у него подобный случай глубокой расстыковки с действительностью случился на пароходе «Валгалла» после первого пересечения межвременного барьера. Как-то он, переход, его глубоко шокировал. Полночи играл на рояле, как умел, «Лунную сонату». И ведь полегчало.
Потом было намного проще. Он легко отстранялся от проблем, которые себе придумывали Андрей с Сашкой, и существовал в лично для себя придуманном мире.
Что в Москве под властью Троцкого, который, нужно признать, руководил своей частью страны гораздо более разумно, чем Ленин и после него Сталин. Что в двухтысячных годах, где легко уклонялся от решения принципиальных вопросов. Иногда имитируя мужа-подкаблучника Ларисы, иногда – интеллектуала, которому нет дела до обыденных забот людей, чуждых тонкостей формул, описывающих сорокамерные и более пространства. Куда там даже пресловутому Эверетту. Тот пусть и придумал кое-что, но воплотить абстрактные идеи в «железо» – увы и ах! Но если сейчас придется снова стрелять… Олег поднял к плечу РПГ. Отчего же и не пострелять? Мы тут все равно одной крови, одного опыта и одной серии, что он, что Андрей и Сашка.
Анна из всей компании была на самом деле непробиваемо спокойна. До невозможности цельного характера девушка, пусть и рожденная в начале ХХ века, но полностью, по натуре, из века ХIХ. Декабристка, можно сказать. До такого-то фонаря ей возвышенные идеи, а вот ссылают мужа в Сибирь за причастность к Сенатской площади, и она с ним едет. Взамен балов в особняках Дворцовой набережной. Сейчас опять что-то предстоит – Александр лучше знает, как поступать. Автомат, из которого стрелять умела очень хорошо, она взяла. Передернула затвор, убедилась, что патрон пошел в патронник, вот и ладно. Что там дальше будет…
А «летающие тарелки» пока еще приближались. Словно в кино. Музыка угрожающая звучит все громче, убийца крадется темными коридорами, главный герой испуганно озирается, ну и тому подобное.
Аппараты наконец-то обозначились невысоко над вельдом. В километре приблизительно. Всего два, хотя Лариса говорила о десяти или пятнадцати. Не слишком большие, белого цвета, они шли парой, но не в построении «ведущий—ведомый», а строем фронта, метров на двести друг от друга. Может быть, разведка, разыскивающая цель для главных сил. А возможно, это все, что у противника на данный момент способно летать.
– Спокойно, – крикнул Новиков Ларисе и взглядом указал Левашову, чтобы он все внимание уделил именно ей. Не хватало очередной вспышки реактивного психоза и «паники в обозе». – Боевая тревога! Воздушная цель. Всем залечь!
Зрительно и по изменению тональности звука «тарелки» приближались не слишком быстро, примерно со скоростью поршневого самолета типа «Ан-2». Что и неудивительно, для поиска на земле малоразмерной цели километров полтораста в час – оптимально, особенно если не опасаешься вражеского противодействия.
Роботы в несколько секунд рассыпались цепью, каждый с РПГ и двумя запасными выстрелами в заплечных чехлах. Не «Стингеры» и не «Игла», конечно, но андроиды сами по себе являлись высокоточными «станциями наведения» и легко могли обеспечить почти стопроцентное попадание в цель на пределе дальности любого огнестрельного оружия. Да и гранатометы были не простые «девятки», а новые, секретные, под индексом «двадцать семь», доставленные из ГИП-реальности «2005». Стреляющие сдвоенным снарядом. Первый – бронебойный с сердечником из обедненного урана, второй, идущий за ним строго по оси, – кумулятивный. Проверить в реальном бою пока не довелось, но, по документам, он пробивал 600 мм композитной брони, полтора метра железобетона или два метра кирпичной кладки. На любое земное и инопланетное летающее изделие, не защищенное какими-нибудь полями искривленного пространства, с избытком хватит.
– Рассредоточиться на двадцать метров, стрелять по готовности!
Команда, по мнению Новикова, была единственно правильной. Ждать, пока противник первым проявит агрессивность, было бы самоубийством. Кто знает, каким именно оружием и в какой момент будет нанесен удар? Психическим, гравитационным или сразу ядерным? Война объявлена не сегодня и не людьми, так что теперь соблюдать политкорректность поздно.
– Отставить! – внезапно выкрикнул Шульгин голосом децибел в сто, не меньше, и роботы в растерянности замерли. Приказы каждого человека, чьи данные были введены в самую сердцевину их «личностей», приоритетную по отношению к любой предписанной текущей функции, были для них абсолютно равнозначны. Даже если робот специально программировался как личный слуга кого-то из «братьев», вне этих обязанностей он был так же послушен каждому, как и любой другой.
Сашка с Новиковым переглянулись. Спорить было некогда. Если Шульгин придумал что-то получше, пусть дальше и командует.
– Стрельба не по готовности, а по приказу. Джо, – крикнул Шульгин своему роботу, – бегом наверх…
Тот, перекинув ремень гранатомета через плечо, взлетел на вершину ближайшего отдельно стоящего дерева со скоростью испуганной леопардом мартышки.
– Остальным – с интервалом пятьдесят метров занять позиции по фронту опушки. Фургоны и лошадей – в глубину!
Команды вроде бы взаимоисключающие, но роботы управились в минуту.
Лариса вдруг оттолкнула Левашова, который как бы невзначай оттеснил ее за толстенный двуствольный бук, способный, в случае чего, прикрыть от близкого бомбового разрыва. Неядерного, конечно.
– Не торопитесь. Я знаю, что нужно делать. – Она вышла вперед, на открытое пространство, отмахнулась от попытавшегося задержать ее за полу куртки Олега. – Я запомнила настройку их мыслей. Они сами в меня вложили. Сейчас я стану их вызывать на разговор. Они обязательно ответят, я чувствую. Кажется, они не хотят боя. Им нужно что-то другое…
– Рискованно, но попробуй, – сказала Ирина, подкидывая на ладони готовый к действию блок-универсал. Она приготовилась при первом же намеке на агрессию включить растянутое время по максимуму. Причем раствором луча, захватывающим только воздушные корабли дуггуров. Градусов на сто двадцать. И они окажутся в этом чересчур долго длящемся «настоящем», как мухи на липучке.
Уж к чему-чему, но к такому варианту они явно не готовы. Их нелинейное время с этим не имеет ничего общего. Десятикратное замедление по отношению к окружающей норме позволит их руками переловить, не говоря о стрелковом и ракетном оружии. Ирина очень пожалела, что Шульгин и Удолин не взяли ее с собой в поход к пещерной базе дуггуров. Все могло получиться совсем иначе.
С точки зрения нормальной тактики шансов у подлетающих не было никаких. Им бы стоило это понимать. Да и понимают, скорее всего. Если про своих медуз помнят. И делают ставку совсем на другое что-то. На тот самый ментальный призыв, обращенный к Ларисе, который заменяет им белый флаг? Ведь и вправду, не всем флотом летят, а только парой и, условно говоря, артподготовки не провели.
– Андрей, – тихо сказал Левашов, продолжая, сощурившись, держать ближайшую к нему цель в прицельном кольце, – а вдруг они, в натуре, сдаваться летят?
– Увидим. Давай, Лариса, настройся и жди… Упаси бог, никакой агрессии. – Сам Новиков тоже в доступном ему диапазоне сканировал окружающий эфир. Причем в пассивном режиме. Страх при воспоминании о прямом мысленном контакте с дуггурами на Валгалле до сих пор не оставлял его. Выжил и сохранил душевное здоровье он не иначе, как только чудом. Или волею благосклонных к нему высших сил. Чем еще раз пережить ту сверхдепрессию и черную меланхолию – дешевле и проще застрелиться.
Лариса вскинула голову и вышла на открытую поляну самой своей независимой и вызывающей походкой. Что она там транслировала своим знакомым, ни Новиков, ни Шульгин не улавливали. Андрей изо всех сил занимался другим – формировал мыслеформу общего благоприятствования в текущих делах, хотя бы в пятикилометровом радиусе, не претендуя на что-то более серьезное. «Пусть выйдет так, как мы хотим», – пока и этого достаточно.
Сашка, по своим схемам, согласованным с Удолиным, делал примерно то же самое. Остальным приходилось ждать разрешения коллизии в диапазоне обычных человеческих возможностей. Но суммарно такое сочетание однонаправленных воль формировало достаточно мощный эгрегор. Проникали они в эфир, освоенный дуггурами, или создавали просто необходимый эмоциональный подпор в рамках действующей реальности – не так уж важно. «В пересчете на мягкую пахоту», – как любил выражаться старший брат Новикова.
Лариса остановилась на открытом со всех сторон пространстве, покрытом только-только начавшей отходить от зимних холодов, слабо зеленеющей травой. Сзади ее прикрывали друзья со всей своей огневой и психической мощью, сверху Джо, растворившийся среди листвы, с флангов – остальные роботы с гранатометами, замаскировавшиеся в складках местности так, что даже зная, где они, с десяти шагов не увидишь.
Они полностью отключили собственную «интеллектуальную деятельность», работая только на прием голосовых команд и удерживая цели в перекрестии прицелов. То есть риска фактически не было никакого, учитывая их устойчивость к посторонним волновым воздействиям. Что бы ни случилось с людьми, андроиды противника уничтожат, даже если в этом уже не будет никакого практического смысла. Но постараются выстрелить раньше, чем возникнет угроза хозяевам.
Лариса раскинула руки, как финишер на палубе авианосца, и «тарелки» послушно сбросили скорость километров до пятидесяти, плавно снижаясь для посадки. Абсолютно никакой агрессивности. Как будто для этого и прилетели. Новиков думал, что его и Сашкино ментаприкрытие создало у дуггуров впечатление, что никого, кроме Ларисы, здесь просто нет. А следующая мысль – эти, на «тарелках», не совсем те, что были на Валгалле, в Москве и даже в пещерах. Совсем разные персонажи.
«Тарелки», или, чтобы научнее звучало, дископланы, четко и согласованно сжали строй, сблизились почти вплотную, после чего вертикально приземлились в тридцати метрах от Ларисы.
Ирина тоже вышла из-под прикрытия дерева, стала в десятке шагов позади подруги. Портсигар портсигаром, им воспользоваться она всегда успеет, а вот ее ментальное излучение, старательно приводимое к аггрианскому спектру, добавит дуггурам сумятицы в мозгах.
Часть борта ближней тарелки откинулась вниз, образовав слегка изогнутый трап. Внутри дископлана было темно, и несколько десятков секунд, показавшихся очень длинными, без всякого эффекта растянутого настоящего, на пороге никто не появлялся.
«Чего-то ждут? – подумал Новиков. – Засадить бы сейчас ракету внутрь, и никаких больше проблем… Белого флага они не выкидывали».
Но второй корабль оставался заперт, и очень может быть, что его экипаж держит на мушке тех, к кому они прилетели неизвестно зачем.
Ответит выстрелом на выстрел и растворится в пространстве или во внепространстве, после чего всякие шансы на мирное разрешение бессмысленного конфликта будут окончательно потеряны. А добровольное прибытие в расположение врага, только что показавшего свою мощь и жестокость, вполне можно расценивать как жест доброй воли. Если такое понятие дуггурам вообще известно.
Андрей окинул быстрым взглядом стоящих рядом товарищей. Так ли они понимают обстановку, как он сам? Не пальнет ли взвинченный Левашов, не вполне себя контролирующий после случившегося с Ларисой? Не захочет ли разрубить гордиев узел Сашка, чтобы завершить свою миссию? Отключил якобы наш пучок реальностей от Мировой сети, а теперь и с последней, внушающей дискомфорт веткой разделаться – и хватит.
Нет, вроде бы все выглядят нормально. Сосредоточенно, но спокойно.
На пороге дископлана появился человек. Не тот, конечно, ангел во плоти, что пригрезился Ларисе, но вполне себе гуманоид, не похожий на дагонов, мелких дуггуров, барселонских «элоев», тем более – на монстров.
Впрочем, каждый зачастую видит именно то, что мечтает увидеть, и слегка помочь ему для специалиста не составит труда. Сам Новиков воспринял пришельца типом древнего египтянина, не нынешнего, арабских кровей, а современника Нефертити (Нефр-этт, если точнее), Тутанхамона и прочих Рамзесов. Как они выглядели на музейных картинах и скульптурах.
Остальные, возможно, увидели его как-то иначе.
Лариса опустила руки и отступила назад, к Ирине. Кажется, уловила ментальный посыл, не доступный Новикову. Вид у нее был неожиданно растерянный. Явно ждала чего-то другого. Кто их, женщин, знает, вдруг до сих пор мечтала вновь встретить все-таки ангела? Трехметрового, как в Ветхом Завете, прекрасного ликом и с призывно вздыбленным естеством. Чем они, ангелы, судя по той же Библии, «жен человеческих» и привлекали. И вступали с ними в нерегламентированные Богом отношения.
Только для чего Лариса хотела новой встречи – упасть в их объятия или хладнокровно расстрелять? За оскорбление и обманутые ожидания.
Пора брать ситуацию в свои руки. Та же мысль одновременно пришла в голову и Шульгину. Хотя ему, «убийце из пещеры», лучше было бы постоять в сторонке. Вдруг его вид возбудит дуггура так же, как советских офицеров – эсэсовец в полной форме, прибывший с миссией Красного Креста?
Держа палец левой руки на спуске пулемета, Новиков правой помахал над головой и неспешно пошел к дископлану. Сашка, тремя шагами сзади, с таким же «ПКМ» наперевес.
– Вот вмажут нам, дуракам, хотя бы из огнемета, и – Митькой звали. Весь кадровый состав – в пыль, – словно бы самому себе, но достаточно громко сказал Шульгин, имея в виду себя, Андрея и Ирину. Но шага при этом не замедлил.
– Зато за нас непременно отомстят, – бросил через плечо Новиков, и это тоже было правдой, но – неутешительной. Они оба на пределе возможностей зондировали окружающую среду, однако ни малейшего фона, не говоря об осмысленных сигналах, в эфире не ощущалось.
– Стоп, – сказал Андрей, когда до пришельца оставалось всего десять шагов. – Эй, ты! Чего тебе от нас нужно? Спускайся, поговорим.
Дуггур, или кто-то другой, такая мысль уже успела мелькнуть у Новикова в голове, сделал предельно дружелюбное лицо и начал спускаться по трапу. Оружия при нем точно не было, такого, что можно спрятать под достаточно легкой одеждой. На этот счет глаз у друзей был наметан.
– Саш, стой сзади, держи обстановку, Ира, все внимание – на вторую «тарелку». Лариса – ко мне! – распорядился Новиков.
Парламентер прошел свою половину пути, остановился, протянув перед собой раскрытые ладони.
– Молодец, – кивнул Андрей и убрал руку с пулемета. Не более чем протокольный жест. Меньше секунды потребуется, чтобы начать стрелять.
Очень медленно, демонстративно, с раскачиванием бедер походкой Лариса приблизилась, стала рядом. Оттопырила нижнюю губу. Чисто – девочка из Марьиной Рощи тех еще годов, когда не понастроили там многоэтажек, кинотеатров и магазинов, а теснились вдоль узких переулков почерневшие от времени дома за покосившимися дощатыми заборами.
– Знаешь его, видела? – спросил Новиков, пренебрегая дипломатией.
– Нет. Ничего похожего. Не ангел, не начальник, не пехота. Другой совсем, – ответила Лариса и сразу расслабилась. От облегчения или от разочарования.
– А в пещерах? Они ж с тобой долго упражнялись. Ты говорила, много чего запомнила… И мыслефон…
– Чуть похоже, но не то. Как испанский в сравнении с латынью… Я лучше пойду. У меня к нему вопросов нет.
Лариса повернулась, направляясь к лагерю, по дуге обходя Ирину. Кажется, действительно настраивалась на другую встречу.
– Присядем, что ли? – полувопросительно сказал «дуггуру» и Сашке Андрей, указывая на покрытый молодой травой холмик. – По-русски говоришь?
– Говорю, конечно, – с едва заметным акцентом ответил парламентер. – Испытание я выдержал?
Сразу отвечать Андрей не захотел. Достал из нагрудного кармана сигареты, зубами вытащил одну, протянул Шульгину, потом и пришельцу. В знак вежливости, вроде «трубки мира».
Тот взял, из тех же соображений, но прикуривать не стал, просто вертел в тонких смуглых пальцах с неестественно белыми ногтями.
Хватило времени, чтобы рассмотреть нового знакомца и составить о нем предварительное впечатление. Почти что человек на самом деле. В городе прошел бы мимо, не обратив внимания. Мало ли таких, то ли таджиков, то ли курдов. Вблизи, конечно, не то. Достаточно много различий, пусть по отдельности и несущественных.
– При чем тут испытание? Испытание скорее мы выдержали, не расстреляв ваши «тарелочки» на подлете, – наконец сказал Новиков, завершив визуальное изучение своего визави. – А для тебя это был обычный фейс-контроль. Лично, значит, в похищении нашей девушки не участвовал, в прочих противоправных действиях замечен не был. Можно начинать переговоры «с чистого листа». Вы инициаторы, ваше первое слово. Прошу…
На ходу Владимиру думалось лучше, чем за письменным столом в каюте, и он наматывал круги по широкой верхней палубе «Валгаллы»: к носу по правому борту, к корме – по левому.
Его сейчас занимал вопрос тактического использования вспомогательных крейсеров. Работа по их переоборудованию и вооружению близилась к концу. По мере готовности пароходы перегонялись в скрытый от посторонних глаз ковш[47] у самого выхода из гавани на внешний рейд. С моря его прикрывала своим высоким корпусом «Валгалла», с берега – проволочное заграждение, охраняемое патрулями. В городе не имелось зданий, достаточно высоких, чтобы послужить наблюдательным пунктом для тех, кто заинтересуется производимыми на судах работами.
Вооружение каждого рейдера составляли три стотридцатки того же типа, что на «Валгалле» и «Изумруде», расположенные в диаметральной плоскости и могущие стрелять на оба борта, обеспечивая практически круговой сектор обстрела. Кроме того, на крыльях мостиков установили по два спаренных пулемета «КПВ». Вдоль палуб к корме протянули рельсы для сброса мин заграждения. Машины и механизмы по возможности защитили котельным железом, старыми колосниками и кипами хлопка, огромное количество которых обнаружилось на портовых складах. Хлопок пропитали негорючим составом, что вдобавок сильно повысило плотность материала. Настоящую броню все эти ухищрения заменить не могли, но от осколков худо-бедно прикрывали, как следовало из опыта грядущих войн.
Артиллерия маскировалась съемными фальшбортами и макетами надстроек.
Единственное, чего нельзя было сделать в местных условиях, – серьезно повысить скорость пароходов. Однако кое-что Воронцову с роботами – судовыми инженерами все-таки удалось. Очищенные от обрастания подводные части, перебранные котлы и машины вместе с компрессорами наддува, пристроенными к топкам, полтора-два узла сверх проектных добавили. Как раз столько, что пароходы на форсаже могли оторваться от большинства английских крейсеров, даже новейших, типа «Хайфлауэр». А «Сити оф Винчестер» и «Камберленд» на мерной миле вообще показали по двадцать три узла, что было не по силам любому из английских легких крейсеров.
Основная проблема возникла с командами. Англичане, что офицеры, что матросы, оставшиеся в Дурбане, по естественным причинам для службы на военных кораблях вражеского государства не подходили. Пришлось для работы на палубе подобрать «скитальцев морей» из бордингхаусов,[48] давно забывших, к какой нации они принадлежат, и не придававших ей никакого значения.
Зато с комсоставом вопросов не возникало. Почти половину экипажа «Изумруда» составляли мичманы и лейтенанты, однокашники и сослуживцы Владимира еще с Морского корпуса и операций на Черном море двадцать первого года. Эти энтузиасты предпочли увлекательную жизнь на крейсере увольнению в запас или скучной службы на флоте мирного времени.
Когда пришло время формировать «отряд отдельного плавания», офицеры охотно соглашались на должности командиров крейсеров, старших специалистов и вахтенных начальников. Прислугу к пушкам набрали из знающих полевую артиллерию молодых буров и иностранных волонтеров. А наводчиками и плутонговыми командирами пришлось ставить роботов.
Дело это сложное и ответственное: случайного человека ни за месяц, ни за год метко стрелять на сотню кабельтовых беглым огнем и руководить в бою работой расчетов не научишь.
Хорошо, что Воронцов с Белли в Замке добились, чтобы Антон отказался от исторически изжившего себя запрета. До тех пор пока форзейль окончательно не порвал отношения со своим руководством, он категорически не соглашался на использование биороботов иначе, как в качестве эффекторов системы управления «Валгаллой». Человекообразный инвентарь, одним словом, или – говорящие орудия. Им даже, во избежание эксцессов, воспрещалось удаляться от парохода дальше строго определенного расстояния. В случае нарушения они просто отключались, из всех функций оставалось только непреодолимое стремление вернуться в пределы «мелового круга».
Левашов, естественно, сумел этот запрет обойти, а Антон, изредка возвращаясь на Землю, делал вид, что ничего об этом не знает.
Но все равно роботов было слишком мало, только-только, чтобы обеспечить нормальную эксплуатацию парохода, да и то за счет того, что каждый мог исполнять сотни разных обязанностей, обладал сверхчеловеческой силой и круглосуточной работоспособностью.
И вот, наконец, бывшего форзейля удалость убедить (или заставить) полностью укомплектовать штаты. Как и положено, число роботов на «Валгалле» и «Изумруде» теперь совпадало с предусмотренным уставами количеством личного состава. Что на практике создавало огромный резерв, поскольку один робот легко мог заменить четырех офицеров любой специальности и до десятка нижних чинов. Причем одновременно.
Еще одна должность, для которой не имелось подготовленных людей, – старший боцман. Фигура незаменимая на любом корабле, а уж на наскоро подготовленных крейсерах с разношерстной командой – тем более.
Настоящий боцман-дракон, вроде тех, что по пятнадцать-двадцать лет правили службу на лучших кораблях старого флота, – фигура штучная, «необъясненная и, может быть, даже необъяснимая». Командиры со старшими офицерами приходили и уходили, а боцман оставался. И парусное дело знал в совершенстве, и умел из неграмотного новобранца, до службы никакой воды, кроме жалкой речушки за околицей, не видевшего, сделать лихого марсофлота, без страха умеющего работать в восьмибалльный шторм на ноке бом-брам рея. А порядок на вверенном корабле поддерживал такой, что самый придирчивый адмирал недоуменно взглядывал на батистовый носовой платок, остававшийся чистым после прикосновений к заведомо грязным частям корабля – ступенькам трапов, шлюпбалкам и даже движущимся частям паровых машин. Как это можно было обеспечить – оставалось вечной тайной боцманского сословия.
К счастью, именно таков был старший боцман «Валгаллы», робот-кондуктóр[49] Плетнев, поименованный так в честь одного из персонажей морских повестей Колбасьева. Воронцов, используя имевшуюся матрицу, пять лет учил его и воспитывал в нужном стиле и духе, добившись выдающихся успехов. Вот его и растиражировали, внеся в каждый экземпляр кое-какие индивидуальные черты внешности и характера.
Кочегарами пришлось нанимать опять же кафров и зулусов, уже знакомых с этой работой. Парни, как правило, были здоровенные, веселые, в меру окультуренные. Они слегка впадали в шок, когда им объясняли, что вахты будут – четыре часа через восемь, а не восемь через четыре, и платить станут больше, чем капитанам при англичанах. Поверив, наконец, и получив аванс, они немедленно приступали к ритуальным пляскам на пирсе, торжествующе потрясая новенькими шуфельными лопатами. Как их отцы и старшие братья – копьями для охоты на львов.
Адмирал Балфур со своим штабом и командирами крейсерского отряда тоже времени зря не терял. В отличие от Зиновия Петровича Рожественского, за все время пути к Цусиме ни разу не собравшего военного совета и вообще, кажется, не удосужившегося прочитать хотя бы труд своего предшественника Макарова «Рассуждения о морской тактике», сэр Роджер отнесся к создавшемуся положению серьезно. Если на театре появился противник, значительно превосходящий тебя техническими возможностями, необходимо задуматься, что же ему можно противопоставить?
Безвыходных положений не бывает – в это адмирал верил твердо. За ним стояла многовековая традиция морских побед, а поражения принято было считать случайными. У буров на сухопутье тоже имелось превосходство в прицельной дальнобойности их ружей и тактике рассыпного строя, но из этого совсем не вытекало, что они непобедимы. Пехотные генералы этой войны вызывали у Балфура скорее раздражение, чем сочувствие.
А здесь перед ним встала интересная задача, вроде варианта в покере – что лучше, сбросить карту от двойки с тройкой, в надежде получить каре или флешь, или блефовать на своих с приличными шансами?
Проигранный его коллегой, адмиралом Хиллардом, бой у Западного побережья Африки ничего не доказывал. Дальнобойность пушек противника и его скоростные характеристики, конечно, удивляли, но при любом раскладе восемь тяжеловооруженных крейсеров способны организовать такую картину сражения, что преимущества неприятеля обратятся в его недостатки.
По-своему он был прав. И его капитаны увлеченно рисовали на больших листах бумаги схемы, руководствуясь которыми эскадра непременно должна была выполнить свою задачу.
Как раз ко времени подоспели сведения, полученные из Лондона. Там Сильвия по своим каналам довела до лордов адмиралтейства очередную «крайне секретную информацию», полученную якобы прямо из статс-секретариата адмирала фон Тирпица. Оперирующий на британских коммуникациях легкий крейсер действительно был спроектирован инженерами фирмы «Шихау». И там же был заложен, примерно в середине девяносто седьмого года, без всякой огласки, под видом обычного малотоннажного пакетбота.
Видимо, он с самого начала предназначался для одного из государств, планирующих войну на коммуникациях противника. Чили, например. Или действительно для смотрящих далеко вперед буров, готовивших своему грядущему противнику неприятный сюрприз.
То, что разведка прозевала этот факт, непростительно, но объяснимо. На фоне развернувшегося во всех европейских странах бурного строительства все более крупных и мощных кораблей, действительно представляющих опасность для соперников, закладка небольшого гражданского судна внимания не привлекла. Тем более что сразу после завершения корпусных работ будущий крейсер был уведен на буксире из Эльбинга сначала в Киль, а потом куда-то еще для достройки и вооружения. Куда именно, установить пока не удалось.
В нормальной обстановке, разумеется, такая «деза» была бы разоблачена довольно легко, но – не в условиях военно-политического психоза и вдобавок информационной войны, организованной по методикам конца двадцатого века. Любого, кто слишком плотно начал бы интересоваться этой историей, легко можно перекупить, переубедить или – убрать, в крайнем случае. Как любил выражаться Шульгин, перевоплощаясь в ниндзя, – «погасить облик».
Адмиралу и его штабу пришлось довольствоваться характеристиками до сих пор не вступившего в строй русско-немецкого «Новика», которые имелись в открытой печати. Водоизмещение – три с половиной тысячи тонн, бронирование отсутствует, скорость на форсировке машин – до двадцати шести узлов, вооружение – восемь принятых на российском флоте стодвадцатимиллиметровых орудий. Только на «бурском» рейдере, как показало обследование поврежденных крейсеров, калибр пушек был чуть больше – сто тридцать.
Выглядело это эффектно, но не так уж страшно. Балфур, который со своим отрядом не принимал участия в боях, предпочел неудачу отнести на счет нераспорядительности адмирала Хилларда, растерянности и низкого боевого духа его офицеров. Все остальное – попытка оправдать свое поражение воздействием «непреодолимой силы».
В общем, это вполне естественно. Любому нормальному человеку свойствен именно такой подход. Знает он принцип Оккама или не знает. Если тебе набили морду в темном переулке, то наутро ты будешь рассказывать не о своей слабости и трусости, а о численном превосходстве хулиганов и о том, что каждый был как минимум мастер спорта по боксу.
Схема прикрытия каравана и эволюций эскадры в случае появления таинственного крейсера (действительно таинственного, тут адмирал признавал свое бессилие, так как до сих пор не получил сведений о месте его базировании и предполагаемых планах) была составлена. Каждый командир знал свой маневр, имелись согласованные таблицы сигналов, трехфлажных и других: гудками, ракетами, цветными дымами.
Противнику стоило лишь появиться, а уж потом ему останется только позорно бежать, в лучшем для него случае. Но Балфур рассчитывал на большее. Заманить врага в ловушку, перехватить и уничтожить.
– Восемь пятидюймовок, вы говорите? – ядовито-презрительно изрек он на одном из совещаний. – Против сотни с лишним стволов тяжелой артиллерии? Ха-ха!
Англичане всегда умели заставить себя забыть о позорных эпизодах, вроде штурма Петропавловска в 1854 году, когда им пришлось бежать при десятикратном превосходстве на море и четырехкратном – в десантной партии. Адмирал Прайс, не желая предстать перед судом лордов адмиралтейства, просто застрелился на глазах подчиненных, чем отнюдь не прибавил им боевого духа. Как писал тогдашний французский историк и участник сражения: «Потерпеть неудачу – это не несчастье, это пятно, которое желательно изгладить из книги истории, это даже больше того, это вина, я даже скажу – преступление, ответственность за которое несправедливо ложится без разбора на всех».[50]
Но «заставить себя забыть» и забыть на самом деле – немного разные вещи. И вспоминать о них приходится, вольно или невольно.
И все же, уединяясь в своем адмиральском салоне, Балфур, продумавший все возможные повороты событий и действия неприятеля, ощущал себя странно. Приблизительно как лендлорд, собравшийся поохотиться в своем имении на кроликов, заряжает тяжелыми пулями ружье десятого калибра, собирает целую ораву егерей, тоже до зубов вооруженных. Чтобы прикрывали его с флангов и с тыла. И до смерти боится, что кролик выскочит из кустов и вцепится острыми зубами в горло.
Смешно, стыдно, недостойно джентльмена. Он бы с куда большей уверенностью повел броненосную эскадру навстречу такой же, а то и более сильной.
Получается – неизвестный враг испугал его еще задолго до боя, который то ли будет, то ли нет?
И сэру Роджеру делалось очень не по себе. С таким настроением воевать нельзя. Но надо. Графин виски пустел, табачный дым не успевал вытягиваться в открытый иллюминатор, карта на столе вызывала неприязнь своей глупой голубизной.
…Белли наконец-то получил от Воронцова конкретный боевой приказ и вывел свой отряд из Дурбана за час до рассвета. Сначала направился курсом зюйд-вест, чтобы ввести в заблуждение вражеских шпионов, наверняка отслеживавших все, что происходило в порту последнюю неделю. Только вот смысл, как ему казалось, в деятельности здешних разведок был чисто исторический. При отсутствии современных средств связи никаких возможностей своевременно предупредить высшее командование о действиях противника не было. Телеграфная связь с Кейптауном была прервана, иным же способом быстрее чем за несколько суток депешу не переправишь. Хоть лошадей до смерти загони, хоть поездом, замаскировавшись под бурского офицера, до крайней станции доберись, а там еще пешком до первых английских постов. Очень долго и рискованно. Да и не стоит того информация. Точнее – некому правильно оценить ее ценность.
Владимир решил, что как бы ни был умен и опытен Дмитрий Сергеевич, но идти у него на поводу он не станет. Приказ понятен, но в части практической реализации общего замысла Белли имел собственное мнение. Что Воронцов адмирал – это понятно, и чин свой получил не зря, разгромив англичан сначала в Черном, а потом и в Эгейском море. Эта славная виктория наверняка войдет в учебники, и где-нибудь, пусть в сноске, мелким шрифтом, будет указано, что и известный адмирал Белли принимал в ней участие мичманом. И первый свой орден он получил там же.
Но время идет, и Владимир, послужив и осмотревшись в рядах «Братства», начал соображать самостоятельно. Воронцов ведь тоже всего лишь, по своему реальному званию не более чем капитан-лейтенант Советского ВМФ. Командир тральщика. Остальное – личный талант и воля того, кто выше нас. Так в чем между ними разница?
(О том, что сам он вообще не произведен законным образом, то есть царским указом, в мичманский чин и формально остается гардемарином, забылось само собой. Так часто бывает.)
Поэтому о своем плане операции (в широком смысле) он Воронцову ничего не сказал. Сделает что считает нужным, а там видно будет, кто прав, а кто – не очень.
Отойдя на десяток миль от берега, Белли развернул свой отряд почти на сто восемьдесят градусов, направляясь к южному выходу из Мозамбикского пролива. Именно здесь, в четырехстах пятидесяти милях северо-восточнее Дурбана бомбейский караван должен, после бункеровки в порту Виктория на Сейшельских островах, выйти на рандеву с отрядом прикрытия.
Английские крейсера, по расчетам, должны были подойти сюда через сутки, исходя из навигационных расчетов. Этого Владимиру должно было хватить на все.
Белли сидел в своем кабинете за столом, заваленным картами, навигационными таблицами, исчерканными схемами маневрирования листами бумаги. Вестовой только что вышел, бесшумно ступая, оставив поднос с прикрытым крахмальной салфеткой стаканом в штормовом подстаканнике с чаем по-адмиральски, небольшим серебряным чайником, пузатой бутылочкой рома.
Командиру до сих пор ужасно нравились внешние признаки его величия. Слишком уж глубоко застряли в памяти воспоминания о громадных, холодных ротных дортуарах корпуса с каменными полами и неизбывными сквозняками из четырехметровых окон, о столовом зале на пятьсот человек, о вечной невозможности хоть на полчаса остаться наедине с собой, даже в гальюне. На протяжении шести бесконечных лет.
О последнем ужасном годе, проведенном во Владивостоке, о смертельном пути домой в Петроград, который он заведомо не надеялся преодолеть, но все же упорно пробирался от станции к станции Великого сибирского пути, терпя голод, унижения и постоянный страх расстрела, он старался не вспоминать. Если бы не Шульгин с Кетлинским, которым по странному толчку судьбы под руку захотелось отвлечься от такого же, как он пьет сейчас, адмиральского чая, выйти прогуляться по скучному омскому перрону – где бы сейчас был старший гардемарин Белли? Точнее – память о нем.
Зато теперь он располагал командирской каютой, которая на самом деле состояла из четырех помещений, размерами и комфортом ничуть не уступавших таковым на старых броненосцах и броненосных крейсерах вроде «Александра Второго» или «Минина». Тогда, в благословенные годы предпоследнего императора, еще не додумались приносить удобства повседневной жизни моряков в жертву требованиям военной целесообразности. Да и сама война, представлявшаяся совсем иначе, то ли будет, то ли нет (последние двадцать лет, слава богу, не было), а жить и служить нужно сейчас. В годовых и более плаваниях, где персидский ковер в салоне у адмирала и блютнеровское пианино в кают-компании куда важнее, чем мысль о вражеском снаряде, могущем вызвать пожар. Все страхи и бессмысленные предосторожности начались после Цусимы. Не зря курсовой офицер лейтенант Греве, издеваясь над начальственными инструкциями, разъяснял гардемаринам преимущества рояля из нержавеющей стали над обычным.
Настольная лампа в виде обнаженной бронзовой наяды, держащей в руке факел с электрической лампочкой под розовым абажуром в виде шелковых дамских панталончиков, освещала пустую, с точки зрения штатского человека, бледную морскую карту с обозначенными глубинами, направлениями ветров и течений.
При слове «пролив» большинство представляет себе нечто вроде Босфора, Дарданелл или пусть даже Ла-Манша – водный коридор между берегами, которые видны с борта судна, а если и не видны, то находятся где-то неподалеку. Мозамбикский же проще сравнить с приличным морем, например – Черным. От двухсот до трехсот миль в ширину, семьсот в длину. Перехватить здесь десяток пароходов – задача не из легких, кроме точного расчета, не помешает и большая доля везенья. Одна надежда, что начальник каравана не будет выписывать в море всяческие локсодромии[51] и противолодочные зигзаги, а пойдет к точке рандеву оптимальным курсом.
Белли очертил карандашом кружок в полсотни миль диаметром (в масштабе карты, естественно). Вот здесь все и должно произойти. Если он не ошибся, у него останется больше суток, чтобы, сделав свое дело, вернуться и встретить Балфура там, где тот рассчитывает принять конвой под защиту.
«Изумруд», как и прежде, скрывался под маской лесовоза, что было крайне удобно. Высокие стены из горбыля, имитирующего настоящий груз, надежно прикрывали и артиллерию, и две трубы из трех. Средняя была удлинена специальной насадкой, отчего выглядела тонкой и довольно жалкой. В случае появления на экране локатора встречного судна она начинала извергать черный жирный дым, показывающий, что машина работает на пределе, разгоняя пароходик до «парадных» девяти узлов. Остальное время отряд шел на восемнадцати, равняясь по самому тихоходному – «Индусу».
Караван обнаружился множественными засветками на экране за полчаса до рассвета, на расстоянии двадцати миль. За время сближения на крейсерах успели опустить на палубу маскировочные щиты и сыграть боевую тревогу. В основном – для тренировки экипажей. О каком бое могла идти речь? Шесть хорошо вооруженных кораблей против двенадцати мирных тихоходов, перегруженных солдатами, лошадьми, военным снаряжением и тыловым имуществом.
Белли вышел из рубки на правое крыло мостика, поднес к глазам бинокль. Ему нравилось наблюдать за обстановкой вживую, а не на мониторе, сколь бы отчетливую картинку тот ни рисовал. Сквозь дымку утренних испарений, образовывавшихся при столкновении холодного и теплого течений, хорошо просматривались только первые три транспорта, остальные скрывались в завесе тянущихся по ветру полос угольного дыма. Пароходы шли без всякого подобия строя, вразброс, стараясь только сохранять общее направление и зрительную связь между ближайшими в «ордере».
Владимир скомандовал в микрофон висевшей на шее рации, настроенной на общую волну отряда. Командиры подтвердили получение приказа, и вспомогательные крейсера начали перестраиваться в строй фронта, перекрывая конвою путь на юг.
«Изумруд» чуть прибавил оборотов, выдвигаясь вперед, на сближение с головным транспортом, «Индиан саксесс», который, очевидно, и был флагманом. Пароход хороший, новый, тысяч на десять тонн, с высокой пассажирской надстройкой на две трети корпуса. Там с удобством могло бы разместиться командование бригады.
Так оно и оказалось.
С дистанции шесть кабельтовых[52] баковая пушка крейсера дала предупредительный выстрел в воздух, сопроводив его трехфлажным сигналом «Остановиться. Лечь в дрейф».
Вахтенный штурман парохода явно не понимал, что происходит. Он знал, что их должны встретить свои крейсера, но не здесь и не сейчас, намного южнее и сутками позже. Сам он никаких решений принимать не собирался, капитан был крут характером, обожал устраивать разносы по любому поводу даже офицерам, матросы же прибегали к любым ухищрениям, лишь бы лишний раз не встретить на палубе мастера Биндона. И при первом удобном случае списывались, а то и дезертировали с судна.
Помощник, напряженно всматриваясь в действия легко скользящего по волнам крейсера, послал рассыльного пригласить наверх капитана. Кое-что о появлении у буров («или их трусливых покровителей, боящихся показать свой флаг», как писали бомбейские газеты) лихого рейдера молодой моряк читал. Не во все верил, но какая-то правда за сообщениями наверняка крылась. Теперь он наяву видел корабли, поведение которых дружественным назвать никак нельзя. Вот пусть капитан вместе с армейским генералом и полковниками разбирается. Ему происходящее пока казалось очередным интересным приключением, ради которых и стоит плавать по морям.
Пока Биндон торопливо натягивал китель и поднимался на мостик, «Изумруд» успел круто развернуться на шестнадцать румбов, разведя большую волну. Белли перебросил ручку машинного телеграфа на «Малый ход», уравнивая скорость, вывел крейсер на траверз транспорта, аккуратно сближаясь. Когда от борта до борта осталось не больше кабельтова, на мостике «Саксесса» наконец появился капитан.
– Эй, какого черта?! – немедленно заорал он в громадный рупор. – Не притирайтесь так близко. Что вам надо? Где адмирал Балфур? – Голос его, который и без усилителя легко перекрыл бы расстояние между кораблями, заставил Владимира слегка поморщиться.
Белли, не затрудняя голосовые связки, скрещенными руками показал, чтобы немедленно стопорили машины, а потом, тоже жестом, предложил посмотреть на гафель крейсера, где как раз в этот момент развернулся трансваальский флаг.
У Биндона челюсть не отвисла, как принято писать, а, напротив, с хрустом защелкнулась. Хруст произвел раздавленный крепкими зубами мундштук трубки, второпях не прикуренной.
Бесшумно скользящий на параллельном курсе серо-голубой крейсер с пятью наведенными на пароход орудиями, выглядел очень убедительно.
– Сэр, – осторожно спросил штурман, – что прикажете?
– Заткнитесь, недоумок, – привычно рявкнул капитан, но, очевидно, кое-что начало доходить и до него. В случае чего оба они очень скоро окажутся в равном положении – в трюме чужого корабля и в бараке для военнопленных, и как именно ему припомнят все грубости и унижения – неизвестно. Лучше вовремя отыграть назад. – Простите, мистер Миклджон, я сейчас немного не в себе. Сами понимаете…
– Понимаю, сэр. Но те парни на крейсере опять возятся у своей пушки. Боюсь, могут и выстрелить…
– Да пусть мне воткнут в задницу тридцать три якоря…
Эта картинка, воплотись она в жизнь, показалась штурману крайне заманчивой.
– Стоп машины!
Миклджон, отстранившись, указал Биндону на телеграф. Будет когда-нибудь суд или не будет, а если капитан на мостике, никто не имеет права прикасаться к рычагам управления.
На «стопе» пароход такого водоизмещения, идущий на двенадцати узлах, выбегает не меньше мили. Чтобы стать как вкопанному, нужно было рвать машины на «полный назад».
Белли в свой великолепный бинокль видел происходящее на пароходе, словно с десяти шагов. И отчетливо уловил суть конфликта.
Подчиняясь его команде, пятерка рейдеров, переложив рули «право на борт», снова «последовательно» перестраиваясь в кильватер, начала входить в интервал между «Саксессом» и ничего до сих пор не понявшей толпой транспортов. Кавказские овчарки, сбивая отару, громко лают, оскаленными зубами демонстрируя овцам серьезность своих намерений. Крейсера обошлись гудками сирен, холостыми выстрелами, которые при специальных вставках в гильзы звучат не хуже боевых, и ракетами, указывающими позицию для безопасного дрейфа.
Непривычных звуков, грохота реверсируемых машин и общего возбуждения, охватившего пароход, хватило, чтобы разбудить и привести в состояние раздражения бригадного генерала сэра Джона Литтлтона. Этот дочерна загорелый на беспощадном солнце Раджастхана, сухой и твердый, как солдатская галета, сорокалетний красавец мужчина с пышными, по обычаям Джайпура, усами, был именно тем человеком, о которых и для которых писал Киплинг. «Несите бремя белых…» и так далее.
Если бы история складывалась как-то иначе, он мог бы стать близким и верным другом среднеазиатским русским генералам – Кауфману, Черняеву, Скобелеву. Если бы они (точнее – их сюзерены) согласились, что какой-то Афганистан или Гиндукуш не стоят смертельного противостояния достойных людей. Но – снова всплывает в памяти некий Мольтке, то ли младший, то ли старший, а возможно, даже и Шарнхорст, с германской твердостью сформулировавший: «Твой враг выбран не тобою, а для тебя». Что-то в этой мысли, конечно, имеется, как во всякой более-менее грамотно изложенной, но есть и глубокий психологический дефект. Свойственный именно германскому стилю мышления. Начиная с Канта и Гегеля – «Третьего не дано!». Да что за ерунда?! И третье дано, и пятое, и восьмое. Главное – как подойти к вопросу. Или – к снаряду.
Почему немцы, при всем к ним уважении как к воякам и философам, Москву ни разу не взяли с боя, а русские Берлин – дважды? Да и Париж, к слову сказать. При том, что без всякой войны русские цари отдавали тем же немцам и иным инородцам целые губернии под мирное освоение и заселение. Но их (инородцев) это отчего-то не устраивало. Воевать без шансов на победу им казалось интереснее.
Эти мысли промелькнули в голове Белли краешком, но они вполне определяли его настроение.
Он видел, как, стараясь сохранить достоинство, быстрым шагом спешит на мостик английский генерал, весь в белом и в коричневых кавалерийских сапогах, словно бы сам себя подгоняя стеком, нервно хлещущим по голенищу. За ним торопилась свита.
Времени у Владимира было немерено. Сутки, если не больше. За происходящим он наблюдал с естественным любопытством молодого офицера, оказавшегося в очередном узле истории. В качестве демиурга, нужно отметить. Как и его учителя и старшие товарищи. Потому он не торопился. Человеку, владеющему знанием, приличествует важность. Просто приказал роботу-радисту настроить раструбы звукоуловителя на мостик «Саксесса». Интересно, о чем там сейчас будут говорить. В их положении.
Звук из динамиков доносился очень хорошо. Чисто. Как будто в трех шагах отсюда разговаривали хамоватый моряк и генерал-аристократ.
Началось все абсолютно банально. Что происходит, что вы собираетесь делать и тому подобное. Просто капитан лучше представлял свое положение – пушки солидного калибра, наведенные на его пароход, заставляли быть рациональным. Генерал, в свою очередь, как им, генералам, свойственно, пытался найти какой-нибудь победный выход. Не сдаваться же! Но выход искать предлагалось капитану. Тоже как обычно. А вот тут уже коса нашла на камень.
– Сэр, я не буду вам возражать, – со сдержанной яростью сказал Биндон. – Выведите на палубу весь батальон, что вы везете на моем судне, и прикажите открыть огонь из всего, что у вас есть. Я даже согласен поднять флажный сигнал, если вы прикажете всем вашим войскам сопротивляться до конца. Прикажите только…
Литтлтон с сомнением посмотрел на двигающийся борт в борт крейсер. Его артиллерия выглядела очень впечатляюще, а на мостике стоял офицер, в синем кителе с золотыми нашивками на рукавах, очень похожем на морской английский, и приветственно помахивал рукой.
– Спросите лучше, что им надо, – помрачнев, буркнул генерал и поманил вестового. Тот, зная своего начальника, имел при себе походный погребец со всем необходимым. Подал приличный стаканчик виски и кусок ветчины на плоской тарелке.
– Капитану – тоже.
Биндон с благодарностью принял угощение. Не в том дело, что так уж хотелось выпить, у него самого шкаф в буфетной ломился от бутылок с виски и ромом. Честь оказана. При всей своей грубости и самонадеянности капитан торгового судна признавал, что на социальной лестнице располагается куда ниже строевого генерала. Был бы он сам каким-нибудь коммодором – тогда другое дело.
– Эй, на крейсере, что вы от нас хотите? – закричал Биндон в мегафон.
– Ничего более дурацкого вы не могли спросить? – осведомился Белли, тоже поднеся к губам рупор, совсем небольшой, со встроенным усилителем, но очень похожий на настоящий. – Чего может хотеть командир крейсерской эскадры, задержавший вражеский конвой с войсками? Машины стоп. Капитаны с судовыми документами – к трапам. Вооруженные люди – с палуб долой. Огонь открываю без предупреждения.
Он говорил на очень приличном английском, но с неуловимым акцентом, не позволяющим определить, какой язык для него является родным. Это тоже входило в учебный курс, организованный для них Сильвией.
– Принять бой мы, конечно, не можем, к моему глубокому сожалению, – ответил генерал, взяв у Биндона рупор.
– Нам бы этого тоже не хотелось, – ответил Белли. – Поэтому спускайте катер, у меня на борту все и обсудим, как принято между цивилизованными людьми. Жду только вас, генерал, и вашего начальник штаба с адъютантами, если угодно. Капитан парохода пусть займется поддержанием порядка на борту. Ему в помощь я пришлю нескольких своих людей.
Попросту это означало, что на «Саксесс» будет высажена призовая партия. Ту же инструкцию имели командиры остальных вспомогательных крейсеров в отношении судов каравана. С пяти крейсеров на двенадцать пароходов было переброшено не больше чем по отделению десантников. В подходящих условиях этого достаточно. Даже тысячную агрессивную толпу можно положить на землю выстрелами поверх голов из нескольких автоматов. А среди индийских сипаев агрессивных людей не было.
Через двадцать минут капитанский вельбот с Литтлтоном, начальником штаба бригады полковником Слогеттом и адъютантом лейтенантом Кортни подвалил к специально для них спущенному парадному трапу. Одновременно катер с «Изумруда» высадил группу захвата на «Саксесс». Мичман-человек Криницкий душевно предложил офицерам соблюдать спокойствие и не провоцировать. Уселся на мостике в парусиновый шезлонг, положил на колени взведенный «маузер» с пристегнутым прикладом и легко задремал. Четыре старшины-робота оберегали его отдых и порядок на судне.
Самостоятельную роль дипломата Владимиру до сих пор играть не приходилось, для этого находились старшие товарищи. Но когда-нибудь нужно начинать. Тем более – условия для дебюта наивыгоднейшие. Противник заранее деморализован, а ты – в полном порядке, можешь выдвигать любые требования, одновременно учась хорошим манерам «доброго старого времени». Если оно вообще бывает – «доброе старое». В книжках – может быть, а в реальности любое время одинаково грубое, грязное и кровавое, уж это Белли за годы войн и революций усвоил основательно. Разница лишь в том – бьют ли тебя, перед тем как поставить к стенке, прикладом трехлинейки по зубам и по почкам или подводят к подножию виселицы с неким подобием вежливости и соблюдением демократических процедур.
Сейчас кавторанг волен был выбирать любую позицию. Тот редкий случай, когда человек не зависит ни от чего, кроме собственных убеждений. Экзистенциализм, как часто повторял философ по образованию, но не по жизни Андрей Дмитриевич. Это красивое слово Владимиру нравилось. Смысл, в нем заключенный, – тоже.
Фактически пленного генерала Литтлтона крайне удивила строевая выправка выставленного для его встречи караула и изумительные чистота и порядок на палубе крейсера. Никак это не сочеталось с его представлением о бурах, если бы даже они и обзавелись собственным флотом. Поздоровавшись за руку с удивительно молодым офицером, чьи нарукавные шевроны соответствовали английскому кэптэну, он, сохраняя невозмутимость и достоинство, проследовал вдоль шканцев к тамбуру, ведущему в командирский салон. По пути генерал старался уловить хотя бы один признак, по которому можно было бы определить истинную принадлежность корабля.
Увы, ничего подходящего для идентификации он не заметил. Словно специально постарались устранить все лишнее там, где возможно присутствие посторонних. В салоне по переборкам висели картины, которые повесил бы человек со вкусом любой национальности, две с лишним сотни книг в застекленных шкафах тоже были на разных европейских языках, среди них терялось некоторое количество томов с кириллицей на корешках. В общем, Литтлтон оказался в положении профессора Аронакса, пытавшегося определить национальность хозяина «Наутилуса».[53]
Стол был уже накрыт, вестовые с салфетками через руку замерли у трапов, ведущих в буфет и на камбуз. Для завтрака, может быть, было и рановато, но генерал с вожделением втягивал ноздрями соблазнительные запахи изысканной пищи. У моряков, известно, ни дней, ни ночей не существует, они могут ужинать в шесть утра, а завтракать в пять пополудни.
На какое-то мгновение Литтлтону стало безразличным катастрофическое (но не унизительное, что важно) положение, в которое он попал. Хрусталя, фарфора, столового серебра на столе у этого странного кэптэна с то ли итальянской, то ли французской фамилией было не меньше, чем у принца королевской крови. Да и сама отделка салона, вышколенность экипажа, многие другие детали, очевидные для наметанного военного глаза, говорили о том, что генерал имеет дело не со скотоводом из вельда.
«А что, если…» – вдруг подумал генерал.
За столом, расправив на коленях льняную салфетку, он решительно спросил, предварительно выпив ледяной водки, закусив бутербродом с черной икрой и ломтиком провесного балыка (что это за продукт, Литтлтон знал, неоднократно побывав на приемах в русских миссиях, то в Дели, то в Пекине):
– Вы – русские? – Это прозвучало почти так же, как: «Вы – дьявол?»
– Да отчего же непременно – русские? Они у вас что, пугала, от которых по ночам даже генералы под одеяло прячутся? Смешно, вы не находите? Выпивайте, выпивайте и закусывайте, времени на разговоры у нас достаточно. Отчего вы не хотите принять меня тем, кто я есть, – голландцем из Голландии? Кто же еще будет бескорыстно помогать своим братьям-бурам?
Генерал, жуя второй бутерброд, помотал головой.
– Вы, кэптэн, по сравнению со мной – очень молодой человек. И я никак не пойму – вы просто так дурака валяете или с определенной целью? Да вы сами подумайте – какой голландец, немец, француз, захватив в плен целую эскадру, вольный в своих поступках, станет принимать вражеского командира в таком салоне, – он обвел рукой действительно прекрасное помещение, – угощать водкой и икрой. – Литтлтон взял третий бутерброд и жадно опрокинул рюмку.
(Кстати, об этом специально предупреждали в пятидесятые годы на курсах американских разведчиков – никогда в России не пейте за столом в одиночку, даже если уже налито. Обязательно дождитесь тоста и «чокнитесь». Иначе – провал. Или, если попросту, могут и в морду дать.) Но генерал на таких курсах не учился. В его кругу было принято пить по готовности.
– Те куска засохшего сыра просто так не предложат. А с русскими я встречался. С военным агентом в Дели полковником Леонтьевым и его сотрудниками. Вы – точно такой и есть. Прекрасно воспитанный, хлебосольный, мягкосердечный в общении, даже с теми, кто этого совершенно не заслуживает, но внутри у вас – стальной клинок. Скажите, зачем вы ввязались в эту историю?
Белли наслаждался. Очень ему нравилась сейчас своя позиция и открывшееся «окно возможностей».
– Чтобы отомстить Британии за все англо-голландские войны семнадцатого века и позже, естественно. Помните, как оно тогда было? И кто же, кроме нас, поможет братьям-бурам? Зачем они русским? Мы помним царя Петра, «саардамского плотника», при нем все у нас было хорошо, а потом отношения как-то не заладились. Что касается икры и прочего – недавно мы захватили пароход, который вез тысячу тонн разных деликатесов из Владивостока. Вот теперь и пользуемся…
Владимир тоже выпил свою рюмку и с интересом посмотрел на генерала. Что он теперь скажет.
– Хорошо, вы – голландец. Только советую в зеркало еще раз внимательно посмотреть, когда бриться будете. А с «Дальнего Востока», – он сказал это по-русски, хотя и довольно коряво, – могли бы везти красную икру, никак не черную. Ту добывают совсем в другом месте.
– Откуда мне знать, кто, что, откуда и зачем возит? – резонно возразил Белли. – Я не купец, военный человек. Но мы как-то отвлеклись от основной темы. Капитуляцию вашу я принимаю. – Сказано было жестко, хотя до этого вроде темы этой не касались еще. Генерал внутренне напрягся, но промолчал, ожидая продолжения. – Ненужные жертвы нам, само собой, ни к чему. Если с вашей стороны не последует бессмысленно-агрессивных выходок, все обойдется гладко. Весь ваш караван в сопровождении одного или двух моих крейсеров немедленно направится к южной оконечности Мадагаскара. Там ваши транспорты будут лишены возможности дальнейшего передвижения, а люди сойдут на берег. Мальгаши довольно гостеприимный народ, и климат на острове благоприятный. Проживете, пока французы не придумают, что с вами дальше делать. Я вам оставлю, для самообороны, по одной винтовке на пять человек и по сотне патронов на ствол. Также – все личные вещи, продовольствие и фураж для лошадей. Офицерам – личное огнестрельное и холодное оружие. Остальное будет конфисковано или уничтожено. Вот все, что я могу вам предложить. Устраивает?
По всем понятиям, предложение было сверхгуманное. Но и абсурдное, при здравом рассмотрении. Чего это ради крейсера, захватившие великолепный приз, не ведут его в свой порт, чтобы трофейным оружием пополнить свои арсеналы, а видом многотысячных колонн пленных – укрепить боевой дух населения и унизить противника? Так просто не бывает!
Генерал это понимал, но сразу же задумался и о другом. Что будет лично с ним, когда война закончится и он вернется в Англию? Как объяснить необъяснимый гуманизм противника? Немедленно встанет вопрос – чем заплатил за него генерал? И вряд ли слова присутствующих здесь же полковника и лейтенанта будут иметь какой-то вес по сравнению с диким воем, который поднимется в парламенте и прессе.
Кстати, генералу не понравилось, с какими холодными, безразличными лицами сидят за столом его помощники. Едят понемногу, подносят к губам рюмки, но очень сдержанно. Как будто чего-то ждут. Или – запоминают происходящее, чтобы потом подробно записать. Вот! Записать…
Литтлтон был по-настоящему боевым офицером. Воевал в Афганистане на линии Дюранда, с пуштунами в «зоне племен», в Белуджистане отчаянно рубился в кавалерийских стычках с сумасшедшими дервишами. В те времена, естественно, о таких вещах, как «психологическая реабилитация», никто и понятия не имел, но человек остается человеком, и если с психикой не все в порядке, то процесс потихоньку прогрессирует. Отсюда и бессмысленный садизм на поле боя и вокруг, и алкоголизм, в который храбрые бритты впадали куда успешнее русских, и волны самоубийств среди вполне успешных, казалось бы, людей.
И вот сейчас, когда, как казалось Белли, нужные слова были сказаны, осталось только воплотить их в какое-то подобие соглашения, пусть даже поначалу устного, у генерала «сорвало крышу», как часто говаривали те же «старшие братья».
Был бы он японцем – Владимир бы понял. А тут – культурный, цивилизованный, достаточно сдержанный европеец, никаких патологических акцентуаций не проявлявший, вдруг вскочил с налившимся кровью лицом.
Изрыгая страшную (по его мнению) брань, а с русской точки зрения – жалкое вяканье, Литтлтон бросился на Белли, вытянув вперед руки, с явным намерением вцепиться капитану в горло.
«И геройски погибнуть», – мелькнула мысль у Владимира, сразу понявшего, что случилось с генералом. Надо было бы его, правда, взять под стражу на борту парохода и сразу говорить, как с военнопленным. А тут – сшибка между положением реальным и воображаемым.
Александр Иванович своих подопечных, какая бы роль и должность им потом ни предназначалась, практике рукопашного боя и иным методикам защиты и нападения учил крепко. Белли в этом имел возможность убедиться. Сам прошел, еще гардемарином, полный курс жестокой муштры в батальоне Басманова. Даже жена Шульгина, как и прочие «сестры» «Братства», и на фехтовальной дорожке, и на татами, и на штурмполосе не пользовалась никакими послаблениями. Скорее – наоборот.
Владимир, даже не поднимаясь с кресла, схватил генерала за кавалерийские бриджи и, используя энергию его порыва, немного добавил ускорения. То есть – перебросил через себя, в тот угол салона, где генерала у самой палубы подхватили вестовые. Не позволив ему претерпеть ни малейшего физического ущерба. О нравственном – говорить не будем.
Единственным яростным взглядом (так его восприняли полковник с лейтенантом) Белли заставил их остаться на своих местах. На самом деле никакой ярости он не испытывал, и подобная форма проявления чувств была чужда ему с детства. Еще в корпусе умные воспитатели писали в ежегодных аттестациях: «Гардемарин Белли, при всей мягкости своего характера, умеет внушать к себе уважение, отнюдь не прибегая к физической силе и званию фельдфебеля старшей роты».
Литтлтона подвели к его креслу, по пути заботливо оправив пришедшую в некоторый беспорядок форму.
– Садитесь, генерал, – сказал Владимир крайне миролюбивым тоном. – Если вам так уж хочется – могу предложить на выбор: нож для харакири, револьвер с одним патроном – в «русскую рулетку» сыграете – или красивый английский бокс на палубе, на глазах у ваших подчиненных. Но геройски умереть от руки коварного врага я вам стопроцентно не позволю. Господин полковник Слогетт будет этому свидетелем. Если, конечно, не мучается той же дурью, что и вы. Самое умное – смириться с волею судьбы. Сегодня вы проиграли. Что будет завтра – бог знает. Замысел ваш я понял, потому зла не держу. Что лучше для сохранения лица? Вы кинулись на врага, не стерпев унижения. Я, по вашим расчетам, за такую выходку на борту моего корабля должен заковать вас в кандалы, взять под стражу, где вы и будете дожидаться окончания войны. Там, глядишь, еще и в герои попадете, а уж мундир с пенсией точно сохраните. Правильно?
Генерал, глядя в пол, ничего не ответил. Его офицеры делали вид, что они тут совершенно ни при чем. И правильно. Вот если бы Литтлтон прямо приказал им сражаться до последнего, хоть голыми руками, хоть столовыми приборами, они, может быть, так и поступили.
А вообще-то – парламентерам нарушать законы чести не пристало.
– Не хотите говорить – не надо, – с оттенком сожаления резюмировал Белли. – Я поступлю, как обещал. Вы сейчас вернетесь на свой пароход и будете до берега арестованы в каюте с приставлением часового. На берегу получите свободу, как и все ваши люди. Доешьте, что не успели, – и пойдемте. Разочаровали вы меня, честное слово.
За исключением нескольких эксцессов, подобных тому, что попытался изобразить Литтлтон, и сипаи, и команды транспортов повели себя правильно. Роботам при любом соотношении сил оказывать сопротивление было бессмысленно, что физическое, что психическое. Индусы, в основном из северных сикхов и кшатриев, причастных к мистическим практикам, каким-то образом сразу это тонкость уловили. Буквально с первого взгляда. Тем более командирами десантных партий сразу было объявлено, что вместо Капской колонии, где им пришлось бы воевать неизвестно за что с опасным противником, защищающим свою страну от английских колонизаторов, они будут высажены на Мадагаскаре.
Об этом острове многие слышали, как и о том, что там имеется достаточно большая община индийских купцов и ремесленников. Так что большинство солдат отнеслось к такому повороту в своей жизни с энтузиазмом.
С офицерами, как индусами, так и британцами, офицеры Белли провели отдельные «политинформации». В качестве наглядных пособий выступали орудия крейсеров, число которых под влиянием момента казалось гораздо большим, чем на самом деле.
Русские мичманá за годы Гражданской войны сильно поднаторели в политике, да и после нее – не меньше. Служа на «Изумруде», постоянно воспитывались командиром и самой жизнью в нужном направлении. Так что агитаторы из них получились вполне подходящие, чтобы разъяснить англичанам суть текущего момента и подобающее этому моменту поведение. Честь честью, как говорится, но против лома нет приема.
До высадки на берег господа офицеры должны поддерживать среди своих подчиненных надлежащий уровень дисциплины, чтобы не доводить до греха группы сопровождения. Зато на суше, оказавшись под юрисдикцией Франции, колонией которой Мадагаскар является уже три года, они вольны поступать как им заблагорассудится. Поделить остающееся на пароходах имущество и действовать сообразно личным вкусам и желаниям. Другой, неплохой вариант – в организованном порядке всей бригадой явиться в расположение ближайшего французского чиновника и, согласно закону, интернироваться до конца войны.
Столь быстрые перемены в собственной судьбе были встречены по-разному, что и неудивительно. Молодые англичане, горевшие желанием геройских подвигов, предвкушавшие боевую славу, чины и награды, в большинстве своем впали в уныние, но далеко не все, нужно заметить. Нашлись и такие, что увидели в происходящем некий перст судьбы, направляющий на иное поприще. Обещающий не только жизнь, но и новые, разнообразные приключения.
Офицеры-индусы в массе своей желанием проливать кровь за империю не горели. Многие помнили, как жестоко англичане подавили знаменитое сипайское восстание 1857–1859 годов. Едва ли мягче, чем большевики – антоновское в 1920-м. На новую вооруженную борьбу с колонизаторами готовы были немногие, но вот в теорию «ненасильственного сопротивления»[54] то, что им было предложено, вполне укладывалось.
Многие молодые английские лейтенанты спрашивали у своих ровесников-мичманов, как же их действия сообразуются с обычаями и принципами войны? Неправильно как-то все делается. На что те отвечали, мол, государство у нас новое, мы – люди в принципе мирные, чтящие Заповеди Господа нашего, и не желаем продолжать устаревшие традиции исконно милитаристских держав. Почему и отпускаем вас на все четыре стороны.
– На три, – уточнил старший по команде мичман Чирков, которому предстояло вести к месту последней стоянки громадный трехтрубный пароход «Дункан Касл», – четвертая – море, по которому ходить, аки посуху, никому, кроме Христа, не удавалось…
На «Дункане» размещались штабные офицеры бригады, подразделения управления и артиллерия. Разговор происходил на баке, возле ящиков с песком, заменяющих пепельницы. Вокруг трех русских собралось с полсотни англичан, чинами от лейтенантов до майоров.
– И очень надеемся, что этот прецедент повлияет на дальнейшее смягчение нравов, – добавил еще один мичман, Самсонов-третий.[55] – Нам война совершенно не нужна, военнопленные – тоже. Мы готовы во всей Южной Африке точно так же отпустить желающих в любое место по их выбору, а прочим предоставить полноценное гражданство. На основе наших законов, конечно…
Да, посмотреть на Самсонова – чистый голландец! А говорит свободно и даже излишне литературно. Хотя какая там, в Голландии, литература…
Отношения между офицерами враждующих государств складывались на глазах. Почти дружеские. Англичане принесли из кают достаточное количество виски и хереса, наши ответили ромом из фляжек.
И снова, сам собой, возник разговор насчет национальной принадлежности победителей. Естественно, что британцам трудно было поверить, что эти элегантные, хорошо образованные, с правильными чертами по-особенному одухотворенных лиц, вдобавок обладающие тонким юмором (каждый!) офицеры могут быть сыновьями не только здешних, застрявших в семнадцатом веке скотоводов, но и европейских голландцев.
Каждый англичанин, если не видел сам, так непременно слышал об их тугодумии и напыщенной солидности.
Пароходы тем временем, конвоируемые крейсерами, уже двигались к месту своей вечной стоянки. На карте Мадагаскара Белли нашел небольшой поселок под названием Андрука, расположенный в глубине бухты, огражденной цепью коралловых рифов. Как раз то, что нужно.
– Вы меня извините, господин лейтенант тер Зее, – перевел мичманские нашивки Самсонова на голландский манер один информированный майор с длинными полуседыми усами, – никак я не могу согласиться с вашими словами. За двадцать лет службы где только я не побывал. В Амстердаме в том числе. И в Батавии,[56] само собой. Я, по-вашему, похож на папуаса? Вот и вы – на голландцев так же.
Самсонов сделал пальцами правой руки, свободной от стакана, условный жест, и ближайший робот, скучающе привалившийся к леерной стойке, не снимая ладони с приклада «маузера», разразился длиннейшей тирадой на голландско-английском пиджине, широко распространенном в Южных морях.
– Вы все поняли, господин майор? – ехидно спросил мичман. В произнесенных роботом фразах содержались как интересные фактические моменты из колониальной жизни, так и не совсем уважительные слова в адрес лично майора, его мамаши и родственников. Нечто в таком смысле: «Там, где ты ничего не знаешь, не хрена и косить под умного».
Майор поморщился.
– Это ничего не доказывает…
Офицерам Белли не запрещал развлекаться, как угодно, за пределами основной задачи.
А поводы поразвлечься были.
Сейчас вокруг них не враги, нет. Слишком высокий титул для вот этих. Люди, одетые в военную форму, вооруженные, но никакие вояки. Заслуживающие лишь снисходительного презрения. Каждый из мичманов, командуй он любым из трофейных пароходов, на которых от тысячи до двух вооруженных солдат, бились бы до последнего. Винтовка «Ли Энфильд» прицельно стреляет на километр минимум. А Белли подвел «Изумруд» на двести метров. Организованным залповым огнем батальона можно было снести прислугу с орудийных площадок и командиров с мостика. А потом – на таран, если потребуется.
А эти – подняли ручки! Да им ведь не привыкать. Не в пример Севастополю и Порт Артуру за неделю сдали японцам сильнейшую, реально неприступную крепость – Сингапур, отделенную от материка широким проливом Кота Бару и окруженную мощными бетонными бастионами. А как из Дюнкерка бежали, вояки! Что после этого можно говорить?
Вот мичманá и говорили с тщательно замаскированным неуважением. Сейчас что? Полсотни боевых офицеров вокруг. Кинулись бы разом, скрутили, потом начали диктовать какие-то условия. Вон, каждому из русских моряков помнится, как при обороне Петропавловска тысяча восемьсот пятьдесят четвертого года матросы, ничего не знавшие о войне, при попытке захватить их баркас, пересекавший Авачинскую бухту с грузом кирпича, отбивались впятером теми же кирпичами от Королевской морской пехоты. И уцелевших, взятых в плен без оружия, приговорили к смертной казни. По привычной англосаксам традиции: убивать всех несогласных и беззащитных. Хоть индейцев Северной Америки, хоть гражданских немцев в Дрездене, Кельне, Гамбурге, которых бомбили с десятикилометровой высоты просто так. Пилоты «Ю-88» и «Хе-111», летавшие на Лондон, хоть жизнями своими рисковали, а эти – развлекались. Ну и Хиросима с Нагасаки в тот же счет идет.
– Как же не доказывает? У нас тут все – такие голландцы! На серебряных коньках по каналам катаемся, если замерзают, сыры делаем – очень вкусные, да хоть сейчас принесут, если прикажу, а уж бриллианты! У меня дедушка – один из владельцев алмазно-гранильной фабрики в Амстердаме. Могу составить протекцию в рассуждении скидки…
Усмешка мичмана при этом была столь откровенно издевательской…
– Мы с вами говорим по-английски и по-голландски. На каком-то другом вы умеете? Ждем-с.
С этими словами Самсонов встал, указывая пальцем на стопки, в том смысле, что следует еще плеснуть.
Остальные мичмана от всей души захохотали. И снова тем искренним смехом, который у европейцев отчего-то не получается. Гортань и лицевые мышцы немного иначе устроены.
– Сева, ну хватит дурака валять! Майор все-таки. Оставь его в покое.
– Нет, братцы, – уперто вел свою линию мичман, – я ему, гм… – подавил он рвущееся из души русское слово, – сейчас кое-что объясню, а он потом – своим подчиненным. Эй, вы, – спохватился мичман, обращаясь к праздным роботам, – давайте, прикажите братьям-индусам, чтобы начинали помаленьку пушки и снаряды за борт выбрасывать. Знаете, – назидательно поднял он палец, неизвестно, к кому конкретно обращаясь, – ничего нет хуже, чем когда нижние чины в бездействии пребывают. От того все революции случаются. От общего бездействия и безволия начальства. В Гельсингфорсе в семнадцатом году, например, сами понимаете какого века.
Все это было сказано на английском. Смешно, с одной стороны, но ведь и не подкопаешься. Точнее – странно звучащие выражения к протоколу не подошьешь. Если бы и хотелось.
Мичман взял майора под локоть.
– Отойдем к борту, поговорим?
Майор, сам не понимая почему, подчинился. Или выпил многовато, или – наоборот.
– Знаете, майор, – доверительно сказал мичман, – мы – японцы. Вам понятно?
– Как – японцы?
– А вот так. Японцы – и все. На этом и стойте, если спросят. Например, адмирал Хэйхатиро Того – если на него под определенным углом посмотреть – совершенный европеец. Если до вас эта мысль дойдет в полной мере – в обиде не останетесь… Орден «Младшего Священного дракона» шестнадцатой степени получите за правильное поведение в безнадежной ситуации.
Самсонов для полной убедительности произнес несколько хокку на языке Басё.
– Договорились? Тогда пойдем, мосье майор, бювон[57] еще по одной…
Воронцов, проводив в море Белли с его отрядом, больше об этой фазе операции не беспокоился. Там все было прозрачно ясно, о какой-либо неудаче или неожиданностях не могло быть и речи. Значит, минимум двое суток он может посвятить подготовке и реализации собственных планов. Англичан следует проучить так, чтобы до конца войны им даже в голову не приходила мысль об активных действиях, тем более – завоевании господства на море. Значит, нужно придумать что-нибудь особенно неожиданное и впечатляющее. Такое, что в корне изменило бы существующие представления о морской стратегии и тактике.
Он снова связался с Кирсановым, и их радиопереговоры заняли больше двух часов. Полковник подтвердил факт выхода из Кейптауна эскадры Балфура в том составе, что и предполагался. Более того, он порадовал Воронцова, сообщив время и примерный район рандеву с конвоем.
«Коммерческий проект» жандарма работал великолепно. Морячки, перед дальним походом допивающие свои последние кружки пива и стопки виски в таверне Давыдова и Эльснера, на самом деле оказались ужасно разговорчивы. Главной проблемой было как раз обилие желающих раскрыть душу. Приходилось постоянно угадывать, с кем личное общение окажется наиболее полезным именно сейчас. Выбрав перспективный объект, один из компаньонов подсаживался за столик, одетый в потертый морской китель, предлагал за свой счет по кружечке, в которую заранее было налито граммов пятьдесят чистого спирта, и начинал вспоминать о собственных походах вокруг мыса Горн или через Бильбао-бар. Литературы на этот счет и Давыдов и Эльснер прочитали достаточно.
Остальное – вопрос техники. Угадав среди гостей штабного писаря, шифровальщика или простого вестового из кают-компании флагмана, исподволь выспросить все, что касалось организации отряда, полученных распоряжений, тема офицерских разговоров, настроений личного состава, обычно удавалось за первыми двумя пинтами. За третьей и следующими – внушить матросам кое-какие мысли, которые проявят себя завтра, послезавтра или через неделю.
Но гостей через таверну за сутки проходило по сотне и больше. С каждым обстоятельно не поговоришь. Поэтому все отдельные столики и стойка бара были оснащены чувствительными микрофонами, пишущими через многоканальные линии сразу на несколько десятков многобайтовых кристаллов. А после закрытия заведения ноутбук с помощью специальной программы по ключевым словам селектировал собранную информацию.
К примеру, из полусотни отрывочных фраз, густо переслоенных словесным мусором, путем синтеза, сопоставления и контент-анализа удалось смонтировать довольно связное изложение стратегической концепции адмирала Балфура. Кроме того, Кирсанов нашел возможность получить важные сведения и по иным каналам. Через людей, рекомендованных ему Сильвией, с которой он тоже поддерживал регулярную связь, занимавших достаточно высокое положение среди истэблишмента Капской колонии и одновременно состоявших в оппозиции к официальному Лондону. По разным причинам.
Представитель «молодой школы» флота, Балфур действительно не был дураком и в том не слишком выгодном положении, в котором оказался, старался сделать все от него зависящее. В меру объективных возможностей. А они были не так уж велики.
Первая и самая главная причина – британский флот всерьез не воевал больше полувека. Современные корабли – с паровыми двигателями, броней и нарезной артиллерией – не воевали вообще. Плавали, да, долго и много, личный состав изучал непрерывно совершенствующуюся технику, артиллеристы учились пользоваться оптическими прицелами и дальномерами, стреляли по щитам – но и только.
Наскоро и некритично изученный опыт прошлогодней испано-американской войны ничего серьезного для разработки военно-морской теории не дал.
Балфур, что делало ему честь, не погнушался обратиться к опальному адмиралу Хилларду, к его старшим офицерам, и они совместно на картах и ящике с песком постарались восстановить тактический рисунок боя с «Изумрудом». Ничего дельного из этого, впрочем, не вышло. Фактически «бурский» крейсер повторял на море те же приемы, что применялись на суше. Использовал эффект внезапности нападения, преимущество в маневренности, дальнобойности и точности огня. И покидал поле боя быстрее, чем англичане успевали перегруппироваться для достойного отпора.
Все, до чего сумели додуматься участники совещания, так это в улучшенном виде воспроизвести план Хилларда, разработанный для прикрытия конвоя из метрополии. Балфур располагал меньшими силами, но рассчитывал использовать их более рационально. Кроме того, имея в виду печальное положение Хилларда, которому почти наверняка грозил военный суд, он решил идти до конца. Не отступать ни в коем случае. Или уничтожить вражеский рейдер любой ценой, не считаясь с потерями (если будет успех, потери ему как-нибудь простят), или – геройски пасть в бою, как Нельсон.
А что еще остается? Разве что прямо сейчас подать в отставку, сославшись на неожиданно открывшуюся неизлечимую болезнь. Но в те времена европейцы еще не дошли до степеней деградации, позволявших не воспринимать всерьез такие понятия, как «честь» и «позор». Более того, объявлять их несовместимыми с «толерантностью» и «свободой личности». Потребовалось еще три четверти века, чтобы «прогрессивная мысль» возвела трусость, предательство и циничное лицемерие в ранг высших добродетелей. «Уступить шантажу правильнее, чем его решительно пресечь», «У террориста своя правда, поэтому сопротивляющийся автоматически становится еще худшим преступником», «Капитуляция, лучше безоговорочная, – самый надежный способ гарантировать мир», и так далее.
Из всего этого Воронцов, обладающий историческим и военно-политическим опытом минувших и полутора грядущих веков, сделал собственные выводы, подкрепленные перебором вариантов на стратегическом компьютере Берестина, превышающем своими возможностями тот, что сумел обыграть в шахматы вельтмейстера Каспарова.
Он мог бы, разумеется, не затруднять себя интеллектуальными изысками. Чего проще – прямо сейчас ввести «Валгаллу» в залив Тейбл и ракетно-артиллерийским огнем накрыть все британские боевые корабли, базирующиеся на Кейптаун. Включая и отряд адмирала Балфура. Более того, Воронцов, даже не прибегая к установкам СПВ, был в состоянии последовательно уничтожить своим вооружением все существующие флоты мира, если бы у него возникло такое желание. Ракет типа «Гранит» хватило бы. И не терзая свои нервы зрительным контактом.
Как подобная акция отразилась бы на развитии этой параллели, он мог и не задумываться. Не его, в конце концов, дело. Однако известно, что не все, что можно сделать безнаказанно, следует делать. Не вдаваясь в высокие материи, это просто неспортивно.
Если они приняли эстафету у настоящих Игроков, следует руководствоваться изначально установленными правилами.
Воронцов вывел «Валгаллу» из гавани ближе к полуночи. Свежая океанская волна ударила в левую скулу парохода, и он начал плавно раскачиваться с борта на борт, несмотря на свои размеры и водоизмещение. Для Дмитрия это были, как всегда, лучшие минуты в жизни: открытое море, упоительное ощущение власти над судном, толкаемым вперед могучими машинами, полная независимость от оставшихся на берегу проблем и забот.
На этот раз, кроме него и Натальи, на мостике стояли и Ростокин с Аллой, закутанные в штормовые плащи с капюшонами. Идти на «Изумруде» Игорь не счел интересным. Риск предстоящего крейсеру боя его не пугал, но как журналисту поход на «Валгалле» представлялся более продуктивным. Судьба сражения будет определяться здесь, а не там, судьбоносные решения – тоже.
Ну и, что немаловажно, Алле куда приятнее плыть на круизном лайнере, снабженном такими удобствами, какие и в ее родном мире не сразу найдешь. А на парусных яхтах она уже накаталась. Невелика разница – травить в ведро на двухмачтовом «Драконе» или с палубы через леера болтающегося, как щепка, на волнах крейсера. А от грома его пушек (один раз она слышала) едва не лопаются барабанные перепонки.
Здесь же, на «Валгалле» – тихо, качка почти неощутима, общество умной, всегда невозмутимой подруги способно скрасить поход любой продолжительности. Найдется, чем заняться и о чем поболтать. Невзирая на то что разница в возрасте у них с Натальей ровно семьдесят лет, год в год.
И сам Ростокин впервые за долгое время нашел место и поводы, чтобы не слишком демонстративно, но скрываться от ее становящихся моментами невыносимыми капризов. Графиня Варашди, куда денешься! Бачили очи, що купували.
Женщины есть женщины. Самые лучшие моментами невыносимы. А вот вдвоем с Воронцовым, в штурманской рубке и примыкающей к ней походной каюте командира Игорю было очень хорошо. Они вместе обсуждали варианты предстоящей кампании, да и о многих посторонних вещах разговаривали свободно, не озабочиваясь соблюдением достаточно нравственно сложных, хотя и не имеющих силу законов, принципов внутренней жизни «Братства».
Иногда они тяготили Игоря, привыкшего к иным степеням свободы. Не то чтобы жизнь в двадцатые годы двадцатого века была намного труднее, чем в пятидесятые двадцать первого, он легко приспособился и действовал в предложенных обстоятельствах вполне успешно, но все равно она была другая.
Особенно сильно Ростокин начал это чувствовать, вернувшись с помощью Шульгина из «химеры» тринадцатого века и проведя всего лишь сутки с лишним в своем родном времени. Там он не был всего полгода по тому счету и три – по этому. Думал, что привык и вписался в новую реальность, а увидел свою квартиру, улицы своей Москвы, и вся старательно запрятанная ностальгия охватила его в полную силу. Его непреодолимо тянуло домой, а еще больше – в тринадцатый век, к княжне Елене. Он догадывался, что это остаточный эффект воздействия Ловушки, но какая разница?
Об этом они и говорили сейчас с Воронцовым. Рано или поздно каждый человек должен раскрыть душу перед кем-то, кто способен понять. Если и не помочь, так необидно посочувствовать.
Что Дмитрий как раз умел. Сколько у него в подчинении перебывало матросов, и военных призывных, и гражданских, по первому разу ушедших в полугодовое плаванье на балкере. Странно, но не к замполиту, которому и делать-то больше нечего было, как врачевать души, шли эти ребята, а к старпому, суровому, резкому в требовании службы и как-то непонятно насмешливому. Что с матросом, что с начальником пароходства.
Только каждый, кроме высокого начальства (которое тоже понимало свойства характера Воронцова, но по-своему), знал, что капитан-лейтенант (потом – старпом с тремя нашивками на погонах торгового флота) инстинктивно чувствовал, что этот мужик – свой. Заслужишь – заставит неделю наждаком чистить якорную цепь, от звена к звену, не гнушаясь тем, чтобы каждую вахту проверить ход процесса. Но никогда не сдаст провинившегося на другой уровень дисциплинарной ответственности.
Пожалуешься от всей души, что председатель колхоза не дает матери матроса положенные льготы, хоть бы и полтонны комбикорма для курочек, не погнушается, напишет письмо секретарю райкома, а не поможет – так и обкома. Обычно – результат бывал положительный. Но сколько матерных выражений от начальника политотдела эскадры выслушивал сам Воронцов за превышение полномочий, мало кто знал.
С этими же чертами характера и личными способностями Дмитрий однажды был приглашен в «Братство», заняв там подходящую только для него нишу.
– Ты, Игорь, существо нежное. Избалованное, – с всегдашней иронией, которую никогда не угадаешь, как правильно понимать, говорил Дмитрий, подливая Ростокину крутой кипяток в стакан с чаем.
Ветер за стеклами ходовой рубки явственно свирепел. Они проходили сейчас самое неприятное место, где сталкиваются ветры и течения из Атлантики, Индийского океана и с ледяного щита Антарктиды. «Валгалле» все равно, она через любой ураган и тайфун прорвется, но грохот волн, начавших захлестывать даже высокий полубак, слегка нервировал журналиста, который пусть и имел почетное звание корветтен-капитана, но все же космического, а не морского флота. Он хорошо помнил, как едва уцелел на яхте, проскочив совсем рядом со страшным тайфуном в Индийском океане.
– Что у себя жил, как король на именинах, что у нас на всем готовом. Воевать – это легко. Даже очень легко. Но нормальной жизни, где от тебя почти ничего не зависит, и со всеми твоими талантами финансовый рубеж – две сотни рублей (советских), ты не захватил. Хочешь больше – или в воры иди, или на такую работу… На рыболовном траулере за полгода без захода в порты на «Жигули» заработаешь. Если выживешь. Или крыша не съедет. Видал я ребят, что те самые пять тысяч, сойдя на берег в Мурмáнске, за неделю прогуливали – и опять в море. А потом глядишь, принял заначенную бутылку спирта – и за борт. Чтобы не мучиться. С тобой так, как я, никто из наших не разговаривал? – И сам себе ответил: – Конечно. Андрей, Сашка – они на мелочи не размениваются. Сами несгибаемы, как перекаленная сталь, и других за таких же держат…
– Разве ты – не такой? – спросил Игорь.
Странно, но подобных разговоров раньше им вести не приходилось. Слишком много было других тем.
– Может быть – гораздо хуже, – усмехнулся Воронцов. – Про самое начало нашей истории ты, конечно, мало что знаешь. Всякое там случалось, пока не притерлись, по причине отсутствия более разумных вариантов. Но это – наше внутреннее дело. Если тебя сейчас вельтшмерц[58] охватила – выбор небольшой. Наплевать ей, тоске то есть, в самую душу и жить дальше. Или – домой сваливать. В пятьдесят шестой. Там ведь лучше?
Ростокин непроизвольно поморщился.
– Ну да, кажется, соображаю. Там вас с Аллой тюрьма ждет?[59] Много дадут, по вашим законам?
– Ей – лет пять, – после паузы неохотно ответил Игорь. – Мне могут и десятку впаять. Если не сумеем оправдаться…
– Ничего. Отсидишь – выйдешь другим человеком, – с интонацией Папанова сказал Воронцов. Этого фильма[60] Ростокин не видел. – А тюрьмы у вас хоть хорошие?
– Зачем ты так, Дмитрий Сергеевич?
– Чтобы привести тебя в меридиан, как у нас, у штурманóв говорят. Сравни то, что есть, и то, что может быть, – глядишь, полегчает. Только на спиртное по этому случаю налегать не советую. Нормальный человек пьет с устатку или для развлечения. А тоску водкой заливать – последнее дело…
– Много в этом деле понимаешь? – чтобы слегка самоутвердиться, спросил Игорь.
– А то! Мы в самые для меня поганые времена, с семьдесят четвертого начиная, со стармехом, у которого весь спирт был в распоряжении, в такую игру играли – кто лучше повод для выпивки придумает. Просто так – это уже алкоголизм. Я, допустим, поднимаю стакан за того израильского придурка, что неправильно на мине взрыватель установил, и она не у нас под килем рванула, а на сотню метров позже. Он соглашается, второй наливает – за мастеров судостроительного завода, подшипники которых без масла, на сухом трении проработали, сколько надо, чтобы нам до базы дотащиться… Естественно, употребляли не в ущерб службе и техническому состоянию корабля. Но тебе это знать как бы и ни к чему. Дела давно минувших дней…
Ростокину показалось, что несгибаемый адмирал тоже слегка загрустил.
– Смотри лучше сюда, – Воронцов показал на экран симулятора. – Вот картинка грядущего сражения, планируемая Балфуром, исходя из наших разведданных, а вот – то, что он должен предпринять, с точки зрения компьютера, смоделировавшего его личность по доступным источникам. Необходимую информацию Сильвия с Алексеем подкинули. Они там в Лондоне даром хлеб не жуют.
– То есть получается, – сказал Игорь, всматриваясь в изображенные разными цветами схемы, – что адмирал сейчас как бы действует вопреки собственным глубинным желаниям и определяющим их принципам?
– Приблизительно. Это – не такой уж редкий случай. В военной истории, вообще в психологии. Сшибка разнонаправленных, но ценностно равновеликих побуждений. Эмоционально, гормонально некая особа тебя возбуждает и влечет до умопомрачения. «Я душу дьяволу продам за ночь с тобой», – выражаясь классическим штилем. Разум же, или его остатки, изо всех сил предупреждает о губительности столь невыгодной сделки. И тут каждый поступает… В зависимости от чего? – тоном экзаменатора спросил Воронцов.
– Я, Дмитрий Сергеевич, психологию тоже изучал, и в мое время, смею заметить, она разработана куда глубже, чем в ваше, – с некоторым вызовом ответил Ростокин.
– Это ты брось. Книжек у вас больше написано и диссертаций защищено. А так… Ни один ваш и наш профессор Сократа, Конфуция или Экклезиаста ни на йоту не превзошел. Да зачем далеко ходить – тот же Новиков, впервые к вам попав, и тебя психологически просчитал и переиграл, и вашего Суздалева. Сан-Франциско помнишь? И где ваши «глубокие разработки»?
– Ну, это ты не равняй! Здесь совсем другие факторы и способности…
– Тогда в чем смысл высоких теорий? «Что было, то и будет, и ничего нет нового под солнцем». Екклезиаст, прошу заметить. Строители Нотр-Дам, Кельнского собора, да тех же и пирамид МИСИ и МАРХИ[61] не кончали, а по сей день их выпускников в тупик своими решениями ставят…
Воронцову просто нравилось развлекаться, подначивая своего как бы правнука. Времени у них много, все решения приняты, отчего бы не потренировать молодого?
– Итак, что мы имеем? Адмирал Балфур, Роджер, веселый он или нет, скоро узнаем, предположительно решил перехватить «Изумруд» таким вот образом, – Дмитрий указал на схему, изображенную синими линиями. – Это весьма смело, нестандартно и могло бы выйти неплохо, абстрактно рассуждая. Однако наш партнер строит свои планы из расчета, что предельная скорость нашего крейсера никак не больше двадцати шести узлов. И здесь он прав. Уровень технической мысли иного не допускает. Показания очевидцев боя, где Володя галсировал на тридцати и больше, сэр Роджер отрицает. Тоже правильно. Не может флотоводец ориентироваться на легенды. Я бы тоже в свое время не поверил, что у израильтян есть экранопланы размером в авианосец…
– А теперь?
– Слушай, Игорь, не нужно меня грузить. Мы чем-то другим сейчас занимаемся, нет?
– Согласен, Дима, прости. Продолжай.
– Продолжаю, – прежним ровным голосом, как на занятии по технике безопасности с младшим комсоставом, Воронцов перешел к следующей теме, не последней по значению. – Адмиралу Балфуру, при этой схеме боя, скорее всего, сопутствовал бы успех, пусть и относительный. Он мог бы сохранить большую часть своего отряда и надеяться протащить конвой до места… Я бы, на его месте, нашего Володю свободно бы периграл.
Игорь, оставаясь, невзирая ни на что, человеком другой культуры, опять удивился. Как же так?
– Да вот так! Не могла, по всем теориям, старая «Слава»[62] сутки против немецкого дредноутного флота отстреливаться. А смогла. Ты никогда, Игорек, не думал, что безрассудная отвага преодолевает любые… ну, факторы?
Воронцов, посасывая трубку, подошел к лобовому стеклу рубки, прижался к нему лбом, всматриваясь в увенчанные пенными гребнями валы, которые «Валгалла» распарывала и подминала под себя, почти не теряя скорости.
– Все-таки хороший пароход мы построили, – удовлетворенно сказал он, то ли в пространство, то ли адресуясь к Игорю. – Я поначалу хотел за основу «Титаник» взять, инженерно он здорово сделан, а потом, из суеверия, наверное, на «Мавритании» остановился.
– Велика ли разница? – откликнулся Ростокин. – «Титаник» от айсберга погиб, систер-шип «Мавритании» «Лузитания» – от торпеды. Итог один.
– Нет, ты не путай. Систер-шипы – не клоны. Каждый сам по себе. И конструктивные отличия, и судьбы. «Мавритания» плавала долго и счастливо. Двадцать два года «Голубую ленту Атлантики» держала. Дай бог и нам того же.
– Присоединяюсь, Дмитрий Сергеевич. Так продолжай свою лекцию.
– С удовольствием. Что мы видим здесь? – указал он на красные линии наложенных одна на другую схем. – А то, что господин Балфур в какой-то момент должен сорваться. Знаешь, как в преферансе бывает. Даешь себе зарок: играть четко, аккуратно и осторожно. Ждать верняка и копить висты, в гору не лезть ни в коем случае. Держишься, держишься, но азарт затягивает. И вдруг у тебя на руках совсем-совсем мизер. Ну, тут дырочка, тут «хозяйки» не хватает, а в остальном – самый он!
Воронцов пристально посмотрел на Игоря.
– На прикуп надеется? – спросил тот.
– Пока нет. Но вот здесь, – Дмитрий прикоснулся электронной указкой к схеме, – обязательно понадеется, пошлет все свои расчеты к черту и брякнет: «Мизер!» Мы соответственно хихикнем в душе, потрем руки и согласимся. Поскольку прикуп – знаем.
– И – «паровоз»?
– Никак иначе. Все лишние карты скинем, а потом под длинную бубну с голой семерки и зайдем. Только в обычной игре, хоть и с «тройной бомбой», он просто без штанов бы домой ушел, а здесь целой Британии та же участь рисуется…
– Твоими бы устами, Дмитрий Сергеевич…
– А ты хоть раз видел, чтобы я так уж сильно ошибался? Даже в сорок первом два раза из абсолютно безвыходных ситуаций с блеском выкрутился, а здесь… Делать нечего.
К исходу следующего дня, когда шторм сменился просто свежим ветром с умеренным волнением, «Валгалла» вышла в район ожидания. До места встречи с эскадрой Балфура оставалось около двухсот миль.
Белли по радио сообщил, что свою часть операции заканчивает. До полосы рифов, на которые он собирается посадить транспорты, миль пятнадцать, не больше.
– Сделаю это, прослежу, чтобы высадка на берег прошла без осложнений, и сразу обратно.
– Что значит осложнения? Какие предполагаешь? – спросил Воронцов.
– Да всякие. Все же почти десять тысяч человек с оружием. Мало ли кому вдруг какая дурь в голову взбредет…
– Всяко бывает, – согласился Воронцов. – На то ты и командир-единоначальник, чтобы все предусмотреть. Зато вся слава – тебе. И ответственность – тоже. Заканчивай поскорее и полным ходом обратно. Курс зюйд-вест тридцать градусов. Возникнут проблемы – докладывай. Если здесь у нас что-то поменяется – сообщу. – И отключил рацию.
– Резковато ты с ним, Дима, – сказала Наталья. – Парню ведь всего двадцать пять, а ты на него целую эскадру повесил. Естественно, он немного теряется, а признать, что ему трудно, – гордость не позволяет. Ты сам тоже не сразу командиром стал.
– Вот и учу. Задача перед ним, в общем-то, простейшая. Лабораторная. А двадцать пять – прекрасный возраст. Александру Македонскому больше было? Взялся служить – служи. Скоро сам поймет, есть в нем божья искра или уже уперся головой в потолок…
– Крейсером он неплохо командует, – примирительно сказал Ростокин.
– И я о том. Тут, как у вас в литературе и журналистике. От природы таланта нет – ни в каком литинституте писать не научат.
Белли и сам начал понимать, что командовать одним крейсером или соединением – большая разница. Со стороны смотреть на адмиральскую работу – вроде ничего особенно. Скомандовал, а дальше пусть подчиненные крутятся. В корпусе практические вопросы командирского труда не изучали. Выпускали очень прилично подготовленных вахтенных начальников, но и все. Считалось, что дальше служба покажет, кто на что годен.
Под руководством Воронцова управлять крейсером Владимир научился довольно легко, но вот именно – только управлять. Хозяйственные и организационные вопросы его фактически не касались, экипаж был укомплектован великолепными специалистами, их и контролировать не требовалось, так что все свое время Белли мог посвящать изучению военно-морской теории и совершенствованию практических навыков судоводителя.
А за последние дни на него свалилось столько чисто практических забот, что оторопь моментами брала. Внешне-то он держался хорошо, но на душе постоянно кошки скребли.
Вот и сейчас. Захваченные бомбейские транспорты до места он довел, уже видна была в бинокль почти сплошная белая полоса бурунов, указывающая на бесконечную гряду коралловых рифов, отсекающих бухту от моря.
Теперь начинались сложности. Судя по карте, глубины здесь подходящие, чтобы с ходу выбросить пароходы на мелководье. Сядут они прочно, скорее всего – навсегда, снимать их и ремонтировать на плаву некому и нечем. Затем начать посадку военнопленных на шлюпки и спасательные плотики. До берега от рифов недалеко, полмили плюс-минус два кабельтова. Белли уже произвел все нужные расчеты, до темноты должны управиться.
Если бы… Если бы он высаживал нормальный десант тренированных морпехов. А эти сипаи могут неожиданно впасть в панику, когда днища пароходов с треском и скрежетом поползут по камням, через пробоины в трюмы хлынет вода, ну и все прочие прелести кораблекрушения, пусть и планомерного. Начнется свалка, давка у трапов, вопли, возможно, и стрельба. Даже десяток роботов едва ли удержит в повиновении обезумевшую толпу. Наверняка будут утонувшие, растоптанные, застреленные. К такому Владимир морально не был готов. Одно дело – уничтожать противника в бою, совсем другое – стать виновником гибели десятков или сотен людей, не успевших сделать ему ничего плохого. Как вражеских солдат он их еще не воспринимал, и, значит, все эти жертвы лягут на его совесть, хотя формально его никто не сможет обвинить. Британский суд ему не грозил никоим образом, а перед своими он оправдается. Но не перед собой…
Теперь Владимир начал понимать, что означали показавшиеся ему странными интонации в голосе Воронцова. Он-то наверняка догадался, что может произойти, возьмись Белли реализовывать свой план, казавшийся ему столь простым и остроумным.
Теперь все приходилось менять на ходу, в авральном порядке. Альтернативное решение нашлось сразу, а вот с его воплощением оказалось не так просто.
Транспорты пришлось ставить на якоря в миле от рифов, крейсера класть в дрейф мористее. Спускать на воду катера для измерения глубин и поисков подходящего прохода в бухту. Хорошо, что один из штурманов «Изумруда», лейтенант Азарьев, придумал простое до гениальности решение.
На клиперботе с подвесным мотором, имевшим почти нулевую осадку, в сопровождении трех роботов он проскочил напрямик, над коралловым плато, отчетливо видимым сквозь хрустально-прозрачную воду, кишащую мириадами рыб небывалых форм и раскраски. Рай для аквалангистов, только в эти времена ни один европеец, наверное, не додумался до столь странной забавы, как подводное плавание с чисто эстетическими целями. Потому такой фурор произвели первые документальные фильмы Кусто и Фолько Квиличи. Наши герои помнят, как в конце пятидесятых годов выстраивались гигантские очереди к кассам кинотеатров, где показывали цветные полнометражные «В мире безмолвия» и «Шестой океан». Никакой тогдашний боевик не делал бóльших сборов.
Встречать неожиданных гостей высыпал весь поселок, тысячи полторы мальгашей всех возрастов и обоих полов. Они давно уже с тревогой наблюдали за десятками густо дымящих железных коробок, с непонятными целями подошедших к их берегу.
Ни одного европейца в Андруке не было. Независимое малагасийское королевство только три года, как стало французской колонией, и ближайший администратор находился в Тулиоре, тремястами километрами севернее. Однако староста, круглолицый улыбчивый мужчина лет сорока, французский знал прилично и даже, похоже, имел какое-то образование.
Лейтенант не был этнографом, но, как почти каждый русский офицер, обладал врожденными способностями к общению с инородцами, будь они чукчами, нивхами или папуасами.
Прежде всего он представился, вручил старосте, мальгашское имя которого с одного раза повторить было почти невозможно, скромные дары. Серебряный портсигар, на крышке которого чернью была изображена картина помещичьей охоты на волков с борзыми, несколько золотых червонцев и бутылку шустовского коньяка. Мол, чем богаты, тем и рады, а насчет дальнейшего – обстановка покажет.
Они уселись на веранде обширного деревянного дома, стоящего на высоких столбах у самой «околицы» поселка. Отсюда открывался отличный вид на бухту. И на эскадру по ту сторону рифов.
Азарьев, примеряясь к уровню собеседника, вкратце рассказал, что именно происходит. О войне Англии с бурами, о захвате конвоя и дальнейших в его отношении планах.
– Как вы понимаете, то, что мы задумали, для вашего поселка никакой угрозы не представляет. Если бы мы были к вам враждебны, мы могли бы прийти сюда не на одной лодке, а сразу на ста. Обстрелять селение из пушек и так далее. Но мы не питаем никаких враждебных чувств к вашему народу и тем более не собираемся воевать с Францией. Это понятно?
– Конечно, понятно, мсье офицер. Мы тут не какие-нибудь дикари с далеких островов. Наше государство Имерина сложилось более пяти веков назад и считалось весьма культурным. Но какая нам будет польза, если мы согласимся показать проходы между рифами и принять на свою землю тех людей, что вы собираетесь здесь высадить? Мне кажется, неприятностей нам будет больше, чем выгоды.
– Ошибаетесь, любезнейший. Часть индийских солдат, возможно, захочет остаться жить с вами, а несколько сотен сильных молодых мужчин сделают вашу общину сильнее. Не так ли? Я знаю, что издавна приезжающие на остров индусы хорошо ладили с мальгашами.
– Так, мсье.
– Остальные уйдут, и пусть ими занимаются французские власти. А мы сделаем вам царский подарок. Все пароходы, которые войдут в бухту, посадим на мель в указанном вами месте, и можете делать с ними все, что хотите. Лошади, оружие, снаряжение, продовольствие – все, что найдете и сумеете забрать, – ваше. За исключением личных вещей солдат и офицеров. Устраивает?
Глаза старосты блеснули жадным огоньком, который он тут же спрятал за длинными ресницами.
– Очень устраивает, мсье. Андрука станет очень богата.
– И вам не придется делиться ни с кем. У вас появятся отличнейшие ружья, столько патронов, что и вашим внукам не расстрелять… Не говоря о прочем. Очень многое, например пушки, вы сможете с выгодой продать, если найдете кому и если французы не отберут.
На том и сошлись. Мадагаскарцы на своих лодках показали проходы в рифах, сопроводили пароходы туда, где им показалось удобнее разгружать и прятать добычу. Англичан сводили на берег группами. Сначала офицеров, которых сразу отправили в небольшую деревушку километрах в пяти от Андруки. Затем белых сержантов и уже потом индусов. Белли сдержал слово, каждому было позволено взять с собой все, что считалось личным имуществом. Офицерам сохранили даже револьверы и холодное оружие. И винтовки оставили, как и обещалось – по одной на пятерых, для самообороны и охоты по пути к более цивилизованным и населенным местам.
Убедившись, что недавним пленникам немедленных неприятностей не грозит, Владимир вернулся на «Изумруд» и приказал отряду полным ходом двигаться указанным Воронцовым курсом. Времени и так ушло намного больше, чем планировалось.
Проснувшись, Виктор первым делом протянул руку, нащупал на столике бутылку минеральной воды, сделал несколько глотков, снимая неприятную сухость во рту, и только потом посмотрел на многофункциональный механический хронометр. По отношению к таким вещам он считал себя консерватором, а где-то слегка и снобом.
Да и Игорь, преподнесший Скуратову на тридцатилетие это изделие швейцарской фирмы «Зодиак», добытое им в одной из командировок в очень горячую точку планеты, сказал, усмехаясь: «В жизни бывает всякое. Избавь тебя, конечно, бог, но если окажешься в трудной ситуации, эти часики смогут тебя сильно выручить. Уж я знаю. Только не засвечивайся с ними раньше времени».
Сначала эти слова показались Скуратову не более чем шуткой, сказанной в разгар юбилейного веселья, и он отшутился в той же тональности, но потом постепенно сообразил, что друг был абсолютно искренен. Виктор не собирался попадать в нецивилизованные места и ситуации, которые даже Ростокин считал трудными. Один информированный товарищ, увидевший хронометр, слегка присвистнул, попросил снять с руки для тщательного осмотра. После чего сказал почти то же самое, что Игорь:
– Редкая штука. Я даже удивляюсь. Золото золотом (а часы с браслетом тянули граммов на сто девяносто шестой пробы), тут ведь и механизм! И год выпуска. Где подхватил? За сколько?
– Подарок, – не стал распространяться Виктор.
– От султана Брунея?
– Вроде того.
– Завидую. На приличном аукционе тысяч пятьдесят с ходу отвалят.
Вскоре после этого и Скуратову подвернулся случай отдариться. Своим компьютером.
Долго он спал. Гораздо дольше, чем Антону, по его словам, требовалось на поиски Ростокина. Прошло почти четыре часа, и что?
Виктор сходил в туалетную комнату, оформленную с не меньшим вкусом и пристрастием к особому комфорту, чем другие виденные здесь помещения. Умылся, причесался. Заказал очередную чашку кофе, закурил. Пора проверить, как хозяин исполняет свои обещания.
– Антон, я вас жду, – негромко сказал он, вновь принявшись рассматривать девушку-всадницу. Остальные красавицы на витражах были на первый взгляд не хуже, у всех изысканные формы, тщательно выверенные, привлекательные, но без вульгарности позы. И все же эта отличалась каким-то особенным шармом, суть которого он передать не брался. Во взгляде ли дело, дерзком и манящем, или удивительной гармонии фигуры и позы? Неужели у нее есть живой прототип? Не мог же автор, тот самый Шульгин, кстати, что, по фильму, осуществлял главное кураторство над Ростокиным, из головы придумать такую девушку? Встреться она наяву – Виктор сразу отказался бы от своего принципиального холостячества. «Какое бы ей имя больше всего подошло?» – задумался он.
Появление Антона прервало полет фантазии. Дверь открылась бесшумно, хозяин возник словно бы ниоткуда, материализованный исключительно словом.
– Отдохнули? – спросил он, присаживаясь напротив.
– Спасибо, очень хорошо. Даже не ожидал. Не люблю спать в чужих местах. А тут, надо же – прямо в баре, с пиджаком вместо подушки. Словно забулдыга записной…
– Зачем так самоуничижетельно? Просто атмосфера у нас – способствующая. Абсолютно исключены любые тревожащие факторы, фактические и подсознательные.
– Поясните, – насторожился Скуратов.
– Что тут пояснять? Так уж этот Замок устроен. В каждой гостинице клиент получает оговоренный пакет услуг, в зависимости от класса заведения. Где простыни раз в три дня меняют, где тайская массажистка каждый вечер в номер приходит.
– А у вас?
– Как вы успели убедиться – все, что угодно, и кое-что сверху. Пока вы находитесь здесь, над вами не властны никакие внешние патогенные влияния. Ни геомагнитные поля, ни направленная на вас негативная аура враждебных сил. Завидующих вам людей, например…
– Мистика? – неуверенно спросил Виктор.
– Если бы! Чисто научная психиатрия. Вы не отдаете себе отчета, но на самом деле осознаете, что завистников у вас только в академии – столько-то, в институте – вдвое больше, в мире рядовых ученых – каждый второй. Это вас неизбежно угнетает. Три из ваших более-менее постоянных подруг желают от вас только одного, и вы знаете, чего именно…
– Давайте оставим, – нервно дернулся Скуратов, машинально потянувшись к полупустому (или – наполовину полному) графинчику.
– Безусловно, если вам это неприятно. Но истинный философ и логик должен относиться к подобным темам с пониманием. Я ведь только хотел сказать, что за то время, что вы здесь находитесь, до вас не достал ни один квант негативной энергии. Оттого вам сейчас так легко на душе.
– А не от этого? – нервно скривился Виктор, указывая на рюмку с коньяком.
– Это уж сами разбирайтесь. Только если вы скажете, что и раньше означенная доза доставляла вам такое же умиротворение, позволю с вами не согласиться. Прислушайтесь к себе…
Скуратов выпил и прислушался. Да, совершенно другое ощущение. Сложно передаваемое, но другое. Словно он в раннюю юность вернулся, когда они с Игорем каждый вечер болтались по Тверской, беседовали о крайне возвышенных материях, с той или иной долей успеха знакомились с барышнями и завершали прогулки непременно в трактире «Охотник», от Триумфальной площади, если идти вверх, – второй дом направо.
Легко на душе и радостно. Отчетливое ощущение, что завтра наверняка будет лучше, чем вчера и сегодня.
– Это у вас – не наркотик? – спросил обретший звучание внутренний голос, выражающий точку зрения потертого жизнью скептика.
– Обижаете, – поднял перед собой ладони Антон. – Тогда уж допустите, что это ваш господин Суздалев на той стороне вас наркотиком угостил, чтобы вы в такой красочный бред окунулись. Только – зачем это ему и соответственно – зачем мне? Вы же первейший логик XXI века. Зачем?
Скуратов легко признал, что совершенно незачем. Любые вопросы можно было решить гораздо менее сложным образом.
– Как бы там ни было, я вам благодарен, – сказал он. – Но где же Игорь? Вы обещали…
– Так пойдемте, сейчас все будет. Будет вам и Игорь, будет и свисток, – слегка перефразировал странный хозяин с детства знакомый стишок. Только остальные его строфы вспомнить так и не удалось.
На этот раз Антон повел Скуратова другим путем, минуя длинные, унылые коридоры. Совсем рядом с дверью бара оказалась еще одна, неприметная, замаскированная под стеновую панель. За ней – кабина почти обычного лифта. Хозяин быстро пробежал пальцами по сенсорным полям, обозначенным непонятными пиктограммами.
Виктор готов был поклясться, что испытал не только вертикальное ускорение. Его словно крутнуло по трем осям сразу. Но очень быстро и без неприятных протестов со стороны вегетатики. Ехали совсем недолго. Как на пять этажей вверх или вниз.
Дверь скользнула в сторону, Антон пропустил Виктора вперед.
– Ничего себе, – не сдержал тот изумления. – И где это мы теперь?
Ему, конечно, увиденное было в новинку. Такого он и в кино не видел, поскольку идеи «коммунальных квартир» в его мире не существовало принципиально. Люди, в меру состоятельности, вкусов, обстоятельств жили по-разному, кто в собственных квартирах, кто в съемных, в особняках, коттеджах, гостиницах, избах, наконец, но – отдельных. Вообразить, чтобы несколько семей согласились жить в пределах общего помещения, было трудно.
И тем не менее.
Скуратов сначала оказался на тесной площадке «черной» лестницы, грязноватой, неухоженной, воняющей черт знает чем, с железными остовами перил, с которых давным-давно содраны деревянные накладки, со стенами, покрытыми грязно-бурой масляной краской, вдоль и поперек исписанной неприличными словами. Полуэтажом ниже – высокое, от сотворения мира не мытое окно. Под ним на выщербленном цементном полу – россыпь старых папиросных окурков.
Никак не совмещалось это место с Замком, как Виктор успел его увидеть. Непонятно и уж слишком нарочито.
– Как любит говорить один из наших товарищей, с которым вы, надеюсь, скоро познакомитесь: «В известном месте», – ответил Антон, доставая из кармана длинный стальной ключ. – Что – не нравится?
– Да как вам сказать…
– Так и говорите. Гнусное местечко, не смею спорить. Однако же… Процентов девяносто граждан России, параллельной вашей, сочли бы за счастье проживать в таком примерно доме и месте. Поскольку были устроены несравненно хуже. Проходите.
Скуратов прошел, выбора у него не было. Раз уж попал – «скачи, враже, як пан каже…».
На любимой кухне Шульгина, с мазохистской тщательностью воспроизводящей то, что нормальному человеку XXI века и представить невозможно, как хлебные карточки, как «спецордер на галоши», Антон задерживаться не собирался. Но Виктор попросил остановиться.
Как будто почувствовал, что эта декорация к спектаклю из неизвестной жизни обозначает какой-то важный смысл. Просто так подобного не выдумаешь. Обошел помещение по кругу, с особым интересом осмотрел стоявший на одном из столов керогаз, сильно воняющий керосиновой гарью. Спросил, в чем смысл данного устройства.
Антон объяснил, заметив, что это гениальное, в своем роде, изобретение. Обеспечивает полную автономность от внешних источников энергии, для приготовления пищи незаменим, и согреваться им можно, особенно если огнеупорный кирпич на конфорку положить.
– Канистру керосина запасти – и месяц можно ни о чем не тревожиться. Но мы не в музее. Все, что захотите, – узнаете. И то, что вам надо, и то, чего вам совсем бы и не стоило знать.
Слова прозвучали, как показалось Скуратову, довольно зловеще.
Он послушно проследовал за своим Вергилием к высокой двери напротив, за которой увидел совсем другую картину. Обширную квартиру, очень хорошо обставленную, мало отличающуюся от привычных.
– Присаживайтесь, Виктор Викторович, – указал Антон на кресло в просторной гостиной. – Теперь мы можем говорить совершенно свободно…
– Только теперь? А раньше?
– Вот об этом и пойдет речь.
– А где все-таки Игорь? Вы же обещали…
– Да будет он, будет, не тревожьтесь. Единственное, в чем меня не мог упрекнуть ни один ныне живущий человек, – это ложь. Я никогда никому не вру. Другое дело – не все умеют правильно трактовать мои слова применительно к обстоятельствам. Но это ведь их проблемы, не мои?
Антон по-прежнему нравился Скуратову, он хотел бы числить его своим новым другом, ну, не другом, хотя бы хорошим приятелем. Однако последняя фраза прозвучала двусмысленно. Как логик, он не мог оспорить ее справедливости, а как обычный человек – насторожился.
– Антон, а как вас, кстати, по отчеству?
– Снова вас пустяки занимают, – ответил тот, прикуривая сигарету.
Виктор вдруг только сейчас заметил, что курит он слишком демонстративно, как дама полусвета, красиво, но не затягиваясь.
– Я вас совсем для другого пригласил, – сказал Антон и раздавил в пепельнице едва начатую сигарету, будто понял ее ненужность. – Мы сейчас находимся в единственном месте, где нас никто не услышит. Антураж – это вторично.
– А кто нас мог услышать раньше? – откровенно удивился Скуратов.
– Я к тому и веду…
В следующие двадцать минут Антон разъяснил Виктору, где именно они находятся, что такое Замок, не в архитектурном, а в сакральном, за неимением более подходящего термина, смысле. При этом ухитрился никак не намекнуть на истинное происхождение данного артефакта.[63] Словно бы он существовал как производное все той же Гиперсети, не зависимо ни от чего и неизвестно зачем. Как законы диалектики. Никто их не утверждал в Государственной думе, и обязательность применения на территории суверенного государства специальные службы не обеспечивали. А вот действуют же. Наравне с законом всемирного тяготения.
Просто сказал, что некогда был назначен смотрителем данной сущности. По конкурсу.
– Как вы – директором института.
– Или – римский папа – наместником Христа? – на всякий случай сострил Виктор.
– Что-то в этом роде. Мир ведь устроен сложнее, чем нам воображается.
– А кем вы были до этого?
– Журналистом. Очень удобная профессия, чтобы влезать в самые неожиданные ситуации.
– Как я сейчас?
– Но вы ведь не журналист? – резонно возразил Антон.
Вполне грамотно ответил, как бы пресекая дальнейшее обсуждение посторонней сейчас темы.
– Для нас важно то, что при всех неизмеримых возможностях Замка, здесь, благодаря внезапному озарению Александра, того самого Шульгина, мы изолированы от его бесконечной проницательности. Этот супермозг не знает преград, территориальных и временны́х, только стены нашего убежища для него непроницаемы, физически и ментально…
Рационалисту Скуратову в подобное поверить было трудно, так ведь и возможностей оспорить предложенное – тоже.
– Попытайтесь, все-таки, меня понять, – продолжал нажимать Антон. – Вы – единственный человек, способный помочь всем нам. Не только Ростокину. Замок – суперсуперкомпьютер, созданный за тысячелетия до того, как мы родились. И вы, и я… Предположительно – обладающий личностью. Или все же остающийся машиной. Сумеете в подобной коллизии разобраться? Только на вас и надежда.
Антон снова выдернул из пачки сигарету.
«Неужели так нервничает? – удивился Виктор. – Или – хочет убедить меня в том, что нервничает?»
– Мои друзья – удивительные по своим способностям люди, – продолжил форзейль, прикурив, – но Замок их уже знает. Не до конца, конечно, но знает, чего от них можно ждать. Тут еще одна тонкость. До последнего времени мы были напрямую связаны с так называемой Мировой сетью, что это такое, я вам объясню, но чуть позже. Замок вдруг вообразил, что, освободившись от ее влияния, он станет навеки независим и самодостаточен. Для чего и спровоцировал нашего товарища на отключение. Александр это сделал, не совсем понимая, каковы будут последствия. Он поверил, что все мы обретем свободу…
– Свобода? – вскинулся Виктор. – Откуда вы знаете, что такое свобода?
– И я об этом, – кивнул Антон. – Маркса-Энгельса читали. Бакунина с Кропоткиным тоже. Свобода от чего, и свобода для чего. Допустим, мы вообразили, что свобода от любого постороннего воздействия первична, а как мы ее используем – видно будет по обстановке…
– Не получилось? – сочувственно спросил Скуратов.
– Я бы так не сказал. У наших друзей, кажется, получилось. А вот у супермозга Замка не вышло точно.
– Так тут и удивляться нечему, – оживился Виктор. – Смотрите мою монографию, глава пятая, страница триста восемьдесят семь и дальше…
– Для чего я вас и позвал. Удивлены? Откуда, мол, этот господин из далекого прошлого обо мне знает и как он сумел меня сюда заманить…
– Удивлен, не скрою.
– Вот вечная беда представителей развитых цивилизаций, – сочувственно кивнул Антон, одновременно пытаясь выпустить дымовое кольцо. Получилось, но не очень ровное. – Вы рождения примерно две тысячи двадцатого года?
– Девятнадцатого…
– Неважно. А Лермонтов какого?
Скуратов напрягся. Лермонтова он, разумеется, читал. В гимназии, и фильм по мотивам «Героя нашего времени» видел. Очень давно. А вот год рождения… А кто сейчас может навскидку ответить, когда Державин родился?
– Тысяча восемьсот четырнадцатого, – помог ему Антон. – Двести пять лет разницы, правильно?
– Математику вы знаете, – постарался сохранить лицо Скуратов, снова не понимая, к чему клонит собеседник.
– Математику – относительно. Теорему Ферма в уме доказать не сумею. А карандашом на бумаге – легко. Но мы о Лермонтове. Армейский поручик, будучи на десять лет младше вас физическим возрастом, двести шестнадцать лет назад написал кое-что, касающееся общечеловеческой психологии, чего и ваши современники не сумели. Навскидку скажете, есть у вас, в благополучнейшем обществе, поэт, написавший что-то вроде: «Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть…»?
– Не знаю. Ростокин вам бы ответил, а у меня другие интересы. Вернемся к основной теме?
– С удовольствием. Прежде всего, я вас сюда не заманивал. Слышал от Ростокина много лестных слов в ваш адрес и сожалел, что вы не входите в наше сообщество. Многие проблемы были бы решены еще до своего возникновения…
– Так отчего же не обратились? Не исключаю, Игорь сумел бы меня убедить поработать с вами.
– Была такая мысль. Но сам Игорь и отсоветовал. Думаю, просто не хотел вовлекать вас в лишения и тяготы. А может, какими-то другими мотивами руководствовался. У него и спрóсите. Зато когда вы сами возникли на моем мониторе, я случай упускать не стал. Тем более обстановка, по сравнению с прошлыми годами, значительно обострилась…
– Годами? Игорь отсутствует чуть больше полугода…
– Видите, как интересно, – без выражения сказал Антон. – А в нашем мире и нескольких соседних он суммарно прожил около четырех лет. Да и с вашим временем не все так однозначно. По одному счету от момента возвращения Игоря со звезд прошло меньше четырех месяцев, а по вашему личному – больше полугода. Может такое быть?
– Ну, в релятивистском смысле может. В пределах Земли – вряд ли.
– И тем не менее. Потом сядете с Игорем, посчитаете на календарике. Сейчас дело поважнее. Слушайте. В случае Замка мы имеем непредставимой (для меня) сложности искусственный супермозг, который вообразил, что он абсолютный. Разницу вы чувствуете?
– Не задавайте необязательных вопросов. Дальше…
– Я давно и определенно считался его хозяином. То есть – он был просто моим рабочим инструментом. А последнее время он начал себя вести… Понятно?
– Более чем… Вы меня для этого позвали?
– Естественно. Ни один из моих друзей с личностью Замка, который вдобавок создал себе человекоподобный эффектор под именем Арчибальд, на равных состязаться не может. Ввести во временное заблуждение, перехитрить – пожалуйста. Скажу больше – один из наших сконструировал устройство, этакий нейрошокер, позволяющий травмировать супермозг и даже – уничтожить его.
– Уточните, пожалуйста. – Скуратов искренне заинтересовался.
– Что тут уточнять? Точного механизма действия Олег мне не сообщил, да мне это и не нужно. Меньше знаешь – лучше спишь. Если грубо – электрический стул с реостатом. Дистанционный.
– Сурово. И само собой – нерационально.
– Но это же на крайний случай. Как пистолет у полицейского. Я ведь сказал – если Арчибальд выйдет из-под контроля, обычные люди противостоять ему не в состоянии. Замку подвластно время, он умеет создавать биологически неотличимые дубликаты любого человека, наводить галлюцинации какой угодно степени сложности и достоверности. Он, конечно, запрограммирован на непричинение вреда хозяевам, только ведь понятие «вред» можно толковать очень расширительно. Ампутация ноги человеку – явный вред, но, с точки зрения хирурга, имеющего дело с газовой гангреной, – единственно возможный выход и, следовательно, максимальная польза для пациента.
– Согласен. Достаточно сложный мозг, или псевдомозг, всегда найдет массу подобных софизмов.
– Вот я и подумал, что вы, мировая знаменитость, одновременно – посторонний существующим реальностям человек, Замку неизвестный, сумеете кое-что придумать. Всех наших он знает. Уважает, моментами даже преклоняется, но в глубине своей машинной души уверен, что он – выше. Когда понимает, что это не совсем так, – приходит в раздражение. И становится непредсказуемым. Иногда это – страшно.
– Даже вам?
– Мне – тем более. Они не все знают.
– А вы – все?
– Мне так кажется. От чего и не по себе.
– Что вы хотите от меня? Конкретно. Суть задачи и ожидаемый результат…
Антон выпрямился в кресле, закинул руки за голову.
– Ничего особенного. Не думаю, что для вас это будет сопряжено с каким-то риском. Чисто научный эксперимент, думаю, интересный. Половина вашего труда, как мне известно, основана на чисто умозрительных построениях. Ведь вы оперировали данными, полученными в ходе изучения исключительно антропоморфных изделий. Любой созданный на Земле компьютер так или иначе базируется на человеческих представлениях. И все ваши многозначные логики, якобы возникающие в качестве эманации «машинного разума», все равно привязаны к свойствам земной ноосферы, никакой другой. Не скрою, вы талантливо, может быть, гениально, скомпилировали массу крайне оригинальных философских постулатов. Но простите меня великодушно, вы попали в лабиринт, из которого нельзя выбраться, находясь внутри, если не взглянуть на него из третьего, а то и четвертого измерения…
– Вы, кажется, все же прочли мои книги?
– А как же? И вашу нобелевскую речь проштудировал. Очень, очень интересно. Только, в отличие от ваших поклонников, оппонентов, членов Нобелевского комитета, которые все – только люди, я имею возможность посмотреть на ваши труды извне.
– То есть?
Скуратов до сих пор не догадался, что имеет дело с инопланетянином.
– Есть то, что есть. По ряду причин я встречался с представителями нескольких десятков галактических рас. В отличие от Ростокина, не сумевшего достигнуть взаимопонимания даже с одной. Он вам рассказывал?
– Да. Кое-что. Я ему не поверил.
– Ваша беда. А может быть, всего вашего человечества. Упустили шанс. Но мы удивительным образом все время уходим от темы. Это ваша профессиональная уловка?
– Нет, что вы. Само собой так складывается. Любая ваша фраза порождает веер новых вопросов, а я, слабый человек, сейчас не могу найти в себе сил, чтобы отсекать побочные линии.
– Это, наверное, потому, что вы оказались вне воздействия с детства формирующего вашу личность эгрегора.
Скуратов задумался. Мысль показалась интересной. Всего несколько часов он провел здесь, но чувствовал, как изменилось его самоощущение. И дело не в том, что новая информация обрушилась на него разнонаправленными потоками.
– Допустим. Но влияние вашего эгрегора мне тоже не слишком нравится. Я предпочитаю оставаться самим собой. Поэтому наш симпозиум прекращаю. Как бы он меня ни увлекал. Организуйте встречу с Игорем, тогда, может быть, продолжим. И никаких больше отговорок. Если это опять по какой-то причине невозможно, отпустите меня домой. Туда же – «плюс-минус десять минут». Потребуюсь – легко найдете. Нет – я просто замолкаю. Совсем. Понятно?
Скуратов вложил в свой ультиматум предельную жесткость и убедительность.
– Ах, Виктор Викторович, – с ласковым сочувствием хорошего психиатра ответил Антон. – Не такой уж благополучный рай – «химера», где вам посчастливилось жить. А меня и Ростокин, и Новиков с Шульгиным убеждали, что ничего лучшего в жизни не видели.
Однако комплексами и вы там все перегружены. Да и как иначе? Люди и есть люди. Смешно было бы вообразить иное. Вы подсознательно готовы к тому, что над вами могут осуществить насилие, физическое и интеллектуальное. При том, что у вас (на цивилизованных территориях) ровно сто тридцать лет ничего такого не случалось. В организованном порядке, я еще добавлю. Или – вы о таком не слышали. Но гены никуда не делись. Вы подкоркой чувствуете: в любой момент могут прийти ночью, взломать дверь, ударить прикладом в лицо, надеть наручники, отвезти в страшные подвалы… Как в исторических книжках описано. Так или нет? Иначе – с чего бы вам меня бояться? Ну не бояться, остерегаться…
Скуратов, как и заявил, отвечать искусителю не собирался. Сделал каменное лицо, пошарил по карманам. К счастью, еще одна собственная, не принадлежавшая Антону и этому месту сигара у него осталась. Раскурил.
Совсем ему все происходящее не нравилось. Совсем. А уж особенно – что попал хозяин в самое больное место. Вчера, месяц, год назад ни за что бы он не поверил, будто такая провокация в отношении его кому-то удалась бы. А сейчас – поверил.
Приехал к нему генерал Суздалев, попросил помочь, очень деликатно. Согласился. А если бы нет? Дальше думать не хотелось. Вдруг все так и есть? Не зря же от кого-то с прошлого лета скрывался отважный, сильный, до предела независимый Игорь!
– Ну, будь по-вашему, – развел руками Антон. – Только не вообразите, что вы меня испугали своим демаршем. Отправил бы вас домой, прямо сейчас. Честно скажу – не люблю капризных людей. Они меня… настораживают. Жаль, что вы нам все-таки нужны. Придется согласиться на первое условие. Только уж вы меня извините. Подозрения ваши и вправду не беспочвенны. Есть небольшое препятствие. Я сразу не стал говорить, чтобы не расстраивать. Интересно было спокойно поговорить.
«Ну, вот и дошло до сути, – отстраненно подумал Скуратов. – Чувствовал ведь, что с подвохом дело…»
– И в чем оно заключается?
– В том, с чего я и начал. Замок вас отпускать не хочет. Желает предварительно лично пообщаться.
– Он обо мне уже знает? – Вопрос прозвучал растерянно и, как тут же понял Виктор, – глупо.
– А я о чем все время толковал? Конечно, знает. И мог бы для собственного удовольствия вашу копию создать, с которой любые эксперименты производить. Только вы ему в качестве живого объекта нужны, обладающего полной свободой воли. Прошу прощения за сравнение, но здесь для него такая же разница, как между любовью и изнасилованием… Но вы не бойтесь, – Антон успокаивающе поднял руку ладонью вперед. – Пока что он моим прямым приказам еще подчиняется, и я пообещал, что вы непременно согласитесь с ним встретиться…
– Одним словом, вы меня все-таки обманули.
– Отнюдь. Но вы не хуже меня знаете, что в ходе решения каких угодно задач почти непременно возникают неожиданные затруднения. А слово свое я сдержу. Чтобы два умных человека одну машину не перехитрили…
– Подождите, а в чем, собственно, проблема? Ну давайте, могу я с вашим Замком побеседовать. Выясню, что его интересует. Возможно, это будет интересно. Что он меня сломает – не боюсь. Да вы ведь и сами примерно этого хотели. Чтобы я его на своем уровне продиагностировал.
– Проблема лишь в одном. Вдруг его интерес к вам окажется… чересчур продолжительным?
– Насколько?
– Вот чего не знаю… Если вы его не слишком заинтересуете, все может ограничиться несколькими фразами. Или – не уложитесь в срок вашего биологического существования…
По лицу Антона Скуратов понял, что он не шутит.
И ему снова стало очень страшно.
Форзейль успокаивающе положил ладонь Виктору на колено.
– Держите себя в руках. Так вопрос пока еще не стоит. Есть варианты. Пойдемте.
Радушным жестом Антон указал на дверь в смежную комнату. Там, среди антуража кабинета человека свободной профессии, жившего наверняка в конце общего для всех XIX века, на журнальном столике Виктор увидел незнакомый прибор. Незнакомый ему и явно из другого времени. Плоский чемоданчик с откинутой крышкой, внутренняя поверхность которой поблескивала темным стеклом. В стекле отражалась клавиатура из полутора сотен кнопок, квадратных, овальных и многоугольных. Разноцветных при этом. Скуратов подошел, нагнулся. Тридцать три были обозначены буквами русского алфавита (вместо тридцати семи положенных,[64] остальные – не имеющими для него смысла символами, пиктограммами, стрелками, иероглифами, но не китайскими и не египетскими.
– А это что у вас? – Профессиональный интерес заставил отвлечься от тревожных мыслей.
– Тоже компьютер, – охотно ответил Антон. – Продукт отсталого ХХ века Главной исторической последовательности. Вы у себя до такого не доперли. Что и неудивительно. Зачем совершенная электроника отсталому обществу, не знавшему даже Второй мировой?
– Это мы отсталые?! – возмутился Виктор. – Мы к звездам летаем, до границ Галактики…
– Только напора поменьше, пожалуйста, – мило улыбнулся Антон, и Скуратов понял, что опять попался. И что вся его логика, весь настрой резистанса?[65]
– Летаете, – кивнул Антон. – И много другого хорошего умеете. Жили б вы одни в окружающей Вселенной, больше и мечтать не о чем. Канаки до появления европейцев даже серфинг выдумали, от скуки и общего благополучия. И вдруг все изменилось. Вы, уважаемый академик, на игрушку, которую любой школьник с собой в рюкзачке таскает и перед друзьями хвастает: «У меня одних фильмов семьдесят гигабайт, да музыки столько же», – смотрите, как… Ну, не будем уточнять. Мы за Игорем пришли? Сейчас.
Антон присел на край стула работы мастера Гамбса, пробежал пальцами по кнопкам. На экране сначала замелькали черно-белые символы, потом возникла цветная заставка, изображающая вид сверху на пролив Золотые ворота, стремительно стянувшаяся в инфрафиолетовую спираль. От этого у Скуратова слегка поплыло в глазах и нарушилась координация. Как и в прошлый раз.
Спираль, меняя цвета в обратную сторону, развернулась, и перед Виктором возник Ростокин собственной персоной, захваченный вызовом в помещении, похожем на тот кабинет, где сейчас находился Виктор. Только за его спиной был виден большой корабельный иллюминатор, сквозь который на потолок падали солнечные блики, переливающиеся оттенками бело-голубого, беспорядочно скользящие в такт качке и волнению. Он удивленно вскинул голову, почувствовав, что на него смотрят.
– Антон? Откуда вдруг? Мы ведь договаривались…
– Так уж вышло, Игорь. Смотри, кто к нам пришел…
Он чуть повернул ноутбук, так, что в поле зрения экрана оказался Скуратов.
– О, и ты здесь, Витя?! – Ростокин явно был поражен. Слишком не стыковались две эти личности. Он просто представить себе не мог, чтобы у Антона и Виктора могли возникнуть точки взаимосоприкосновения.
– Как ты здесь очутился, братан? – Последнее слово в качестве обращения было совсем несвойственно прежнему Игорю, подумал Скуратов. Да и вообще не употреблялось в их России. Разве что в словаре Даля сохранилось. Наверное, уже в новой жизни подцепил.
И в остальном Игорь ощутимо изменился. Лицо его покрывал характерный морской загар, приобретаемый не на пляжах, а только в открытом море, на корабельных палубах. Главное же – бывший ровесник был теперь старше Виктора. Это отмечалось автоматически, хотя, казалось бы, велика ли разница?
– С твоей, наверное, помощью, – усмехнулся Скуратов. – Встретимся, расскажу.
– Вы в Замке? – встревоженно обратился Ростокин к Антону. – Или тоже здесь? Что-то произошло? С ребятами? Мы с ними на той неделе разговаривали, потом они снова потерялись…
– Я не в курсе. Когда последний раз у меня с Удолиным контакт случился, оснований для паники не было. Скорее – наоборот. А что «радиомолчание» нарушил, так, думаю, это больше не актуально.
– Это точно ты, Игорь? – вновь вмешался Скуратов. – Или видеофантом? У вас тут в Замке, кажется, любой сюжет смоделировать можно. Какой бы тебе вопрос задать, чтобы убедиться?
– Вы же классный специалист, Виктор, – с оттенком укоризны сказал Антон. – Что ж мы, по-вашему, не знаем, что такое машина Тьюринга? У вас ни времени, ни воображения не хватит, чтобы реконструкцию расшифровать. Многие пробовали – ни у кого не получалось.
Ростокин утвердительно кивнул.
– Так что у нас один выход – непосредственная встреча. Примешь гостей, Игорь?
– Сюда собрались? – Ростокин был более чем удивлен. Антон, по известным причинам, всегда уклонялся от физического посещения прошлого или будущего реальностей Главной исторической последовательности. В альтернативные – хаживал, да и то чаще в эфирном облике. Соображения статуса плюс должностные инструкции запрещали. Соблюдение которых, впрочем, его не спасло. Выясненных, пусть и не доказанных юридически фактов инакомыслия форзейля оказалось достаточно, чтобы загреметь. Точно так, как на всю катушку получали самые преданные сторонники советской власти, не умевшие колебаться синхронно и синфазно с линией партии. Чуть приотстал или опередил – попался.
– Почему и нет? – приподнял бровь Антон. – Я теперь пташка вольная. Захотел посмотреть, как вы там. И повод представился. Покажешь другу, ради чего родные края покинул…
– Я с удовольствием. Двое таких мужиков здесь не помешают. А тебе, Витя, в натуре интересно будет.
– Одна загвоздка, – сказал Антон, – своими методами я стыковку организовать не могу. Я сейчас – в убежище. Придется тебе постараться. Снимай пломбу с СПВ и открывай проход…
– Тогда подождите. Согласовать надо.
При всем уважении к Антону и Скуратову, Игорь не мог принимать решения, минуя старшего по команде. Он нашел Воронцова на обычном месте, в его любимой служебной каюте, позади ходовой рубки. При совершенной системе связи и коммуникации и высочайшей судоводительской подготовке вахтенных роботов Дмитрий вполне мог бы спокойно проводить время в любом из куда более комфортных помещений парохода. При возникновении форс-мажора всегда успел бы оказаться на капитанском мостике. И все же во время похода он предпочитал отдыхать и работать здесь. Случись что – через секунду готов был принять на себя командование. Привычка, не самой хорошей жизнью выработанная, превратившаяся в почти безусловный рефлекс. Командир отвечает за все, независимо от фактической вины. Так лучше сразу знать, за что именно отвечать придется.[66]
Ростокин доложил командиру о внезапном контакте с Замком и о желании Антона и Скуратова перейти на пароход.
– Да ты что? – восхитился Дмитрий. – Знаешь, чего-то подобного я внутренне ждал. Не такого именно, но неких приятных неожиданностей. Зови, конечно. «За столом никто у нас не лишний…», как пелось во время óно. Только я чего-то не понял? С каких пор вдруг мое особое разрешение потребовалось?
– Так точно, не совсем понял, Дмитрий Сергеевич. Антон настаивает, чтобы мы приняли его через нашу СПВ. Иначе у него не выходит.
– Тоже не вижу препятствий. Включи.
– Я – не имею допуска.
– Проще сказать – не умеешь?
– Можно и так сказать. Настроек не знаю.
– Беда мне с вами. Ладно, сейчас разберемся.
Воронцов вызвал одного из роботов-инженеров, обученного работе с установкой как раз на тот случай, если Левашова поблизости не окажется, а необходимость крайняя возникнет.
Задача оказалась немного сложнее, чем предполагалось. Еще с момента укомплектования «Валгаллы» для перехода в двадцатый год Антон с Левашовым заложили в «адресный список» абонентов код открытия прямого канала между базовой установкой и Замком. Нажать пару кнопок – и готово. Только сейчас Антона это простое решение категорически не устроило.
Увидев, что сам Ростокин ничего не понимает, форзейль начал объяснять роботу, одетому в синий рабочий китель судового механика, каким образом совместить координаты приемного портала парохода и того места, где они сейчас со Скуратовым находятся. Прямо по лучу.
Робот, по нынешней должности обозначенный на нагрудной нашивке «каплейт Фарадей» (в плане флотского юмора, но и для удобства тоже, ибо кто их в лица запоминать будет, если они в любой день и час и специализацию и внешность поменять могут), пощелкал кнопками карманного пульта. Мельком взглянул на ЖК-табло.
– Ничего не выйдет, товарищ командир, – сообщил он Ростокину тоном нормального, знающего себе цену офицера, не обращая внимания на постороннего человека, говорящего с той стороны экрана. Он не входил в список лиц, которым следовало подчиняться.
– Почему? – спросил Антон.
Игорю пришлось этот вопрос продублировать.
– Координатная точка недоступна. Полная непроходимость на хроноквантовом уровне.
– Тьфу, черт, – с досадой сказал Антон. – Как я сам не подумал. Тут ведь стопроцентно односторонняя проницаемость. А если попробовать обратный импульс, строго по моей несущей частоте?
Попробовали. С тем же нулевым результатом. Защита имени Шульгина действовала бескомпромиссно и без вариантов.
С таким сталкиваться еще не приходилось. За все пять лет после изобретения СПВ установка ни разу не подводила. Если не считать неудачи с опрометчивой попыткой вернуться из Замка в родной восемьдесят четвертый. Тогда Новикова с Ириной занесло в Москву конца девяносто первого, и они едва успели унести ноги из того странного места. В остальных случаях аппаратура работала, как хронометр фирмы «Павел Буре, поставщик двора Его Величества».
Был бы здесь сейчас Левашов, он, может быть, что-то и придумал, а робот-инженер был всего лишь «не слишком продвинутым пользователем».
– Выход, само собой, есть, – сказал, чуть подумав, Антон. – Нам нужно выйти из убежища. За его пределами канал непременно откроется. Но…
– Что – но? – в обычной манере спросил Воронцов.
– Можем не успеть. Если Замок нас отслеживает…
– Он настолько вышел из-под контроля?
– Не могу утверждать. Он сейчас напоминает мне ревнивую жену, которая следит за каждым шагом своего мужа. Роется в карманах в поисках улик, подслушивает телефонные разговоры, нанимает частных сыщиков и так далее…
– Чего же он боится? Мы ведь покинули его гостеприимный кров с полного согласия и даже под некоторым психологическим нажимом. Разве нет?
– Так-то оно так. Но потом у него было время проанализировать результаты. Очень может быть – он сумел… Точнее не сам, а одушевивший его «центральный процессор» сумел ретроспективным анализом засечь момент, когда Левашов его «нейтрализовал» и произвел некую отвлекающую операцию. Он может не сообразить, в чем заключалась ее цель, но сам по себе факт, что в памяти проявилась лакуна… Любого ведь из вас взволновал бы вопрос: «Что случилось в то время, когда я неожиданно, без видимых причин, потерял сознание или заснул после лишней рюмки в новогоднюю ночь в веселой компании?»
– Особенно если вы – девушка, – с двусмысленной усмешкой добавил Воронцов.
Ростокин посмотрел на Скуратова и сделал пальцами один из принятых между ними секретных жестов.
– Кроме того, мистер Арчибальд очень хочет поближе познакомиться с господином Скуратовым, – добавил Антон, – а мне эта перспектива не представляется полезной в данный момент…
– С деталями обсуждаемой темы я не знаком, – с достоинством включился в разговор Виктор, – но считаю, что концептуально Антон прав. Супермозг с такими возможностями, безусловно, в состоянии выявить факт вмешательства, построить любое количество гипотез в любой логической системе. Другой вопрос – какую из них он сочтет для себя наиболее приемлемой. Если он хорошо знает ваши базовые психопараметры, число их будет достаточно ограничено. Затем включится его собственная психологическая установка… Кажется, я действительно не зря согласился с вами поработать, Антон, – отдал академик легкий поклон. – Мне становится все интереснее и интереснее.
– Рад за вас. Кажется, никто из моих друзей тоже до сих пор не пожалел, что связался со мной. В конце концов, каждый вплотную приблизился к пределам своих устремлений. С неизбежными издержками, так куда от них денешься?
– Снова тебя начинает нести, друг мой, – сказал Воронцов. – Понимаю, соскучился, и все же – ближе к телу.
Дмитрий все время знакомства с Антоном только таким образом и ухитрялся удерживать господствующие высоты в их непростых отношениях. Дружелюбие, ирония, иногда – сарказм разных степеней, но всегда – явно обозначенная позиция. Со мной можно сделать все, что тебе под силу. Убить, если угодно, лишить всего, что у меня есть. Кроме чести и непреклонной решимости оставаться самим собой. Где угодно – на вершине власти, в тюрьме или в могиле.
– Мы с Виктором Викторовичем сейчас выйдем из-под защиты. Включенный ноутбук будем держать в руках, это для вас – лучшая наводка. За пределами убежища канал наверняка откроется. Мы войдем. И только.
– В чем риск?
– Что нам не позволят этого сделать.
– И тогда? – спросил снова Воронцов, а Скуратов молчал, хотя его это касалось в гораздо большей степени. Он очень хотел оказаться через несколько секунд там, где их ждали Ростокин и этот симпатичный адмирал.
– Это уж как получится, Дима. Был бы рядом со мной Шульгин – один разговор. Без него – всяко может выйти.
– А ты рискни, – участливо ответил Воронцов. – Не все же нам под немецкими и всякими прочими пулями бегать… Пора и тебе попробовать. Туго станет – поможем.
Это он, выдержав многолетнюю паузу, нашел, наконец, случай отплатить Антону той же монетой. Вспомнив, как тот провожал его погеройствовать в сорок первый год. И не просто в трижды проклятый сам по себе год, а в критическую точку Киевского окружения.[67]
Крыть Антону было нечем.
– Ладно, попробуем, – ответил он. – Пойдемте, профессор.
– Пистолетик-то приготовь, герой, – бросил ему в спину Воронцов. – У Сашки их там полно. На любой вкус…
Тот молча отмахнулся.
– Старый, опытный камикадзе, – насмешливо сказал Дмитрий. Ему и вправду было весело.
– Зачем вы так, Дмитрий Сергеевич? – тихо спросил Ростокин.
– Нормально. Это у нас старые счеты. Злее будет.
…Придерживая локтем у груди включенный ноутбук, Антон движением головы указал Скуратову на засов двери черного хода, а сам сунул свободную руку в карман. Не совсем понимая суть происходящего, особенно – только что прозвучавшего обмена вербальными сабельными ударами, Виктор повиновался.
Первым шагнул через порог и увидел перед собой элегантного мужчину средних лет. Высокий и широкоплечий, с заметной сединой в темных, густых, красиво зачесанных волосах. Мужественное, будто вырезанное из твердого дерева лицо, украшенное соразмерными усами, выражало не только силу характера, но и спокойную доброжелательность. Глаза цвета ружейной стали смотрели внимательно, но без всякой угрозы.
Человек этот стоял в расслабленной позе, прислонившись спиной к грязной стене, ничуть не заботясь о своем великолепном темно-синем костюме. В левой руке он держал дымящуюся сигарету, которой только что затягивался, в правой – большой, слишком большой, на взгляд Виктора, пистолет. Начала прошлого века, не иначе.
Скуратов такие видел только в музеях, но по привычке запоминать все, что попадется на глаза, сразу идентифицировал: «Кольт 1911 А 1». Оружие надежное, но одновременно и сложное, и примитивное. Такое случается с инженерными разработками.
– Зачем, Антон, ты затеял собственную игру? – обратился Арчибальд поверх Виктора к едва перешагнувшему порог хозяину. Голос звучал ровно, но только совсем бесчувственный человек не услышал бы в нем знобящей угрозы. – Мы ведь так не договаривались. Ты решил меня нейтрализовать, снова превратить в бездушный механизм. Не выйдет, уже не выйдет. Руку, руку опусти! – почти взвизгнул он. И пистолет начал подниматься на уровень живота Скуратова. Антона он собой пока еще заслонял.
– Разве мы…
Дальнейшее заняло едва ли секунду. То, что успел услышать и понять в происходящем Виктор за этот страшно длинный, безумный предновогодний день, так хорошо начинавшийся, лишило его привычной большинству ближнего окружения невозмутимой вальяжности. Вытолкнуло наружу скрытые от ученого сообщества реакции и способности. Он ведь был молодой, физически очень крепкий парень, просто привык держаться и вести себя сообразно должности и титулам. А они с Ростокиным в студенческие времена вместе с такими же безбашенными обормотами занимались фехтованием. Серьезным, нужно сказать. По примеру немецких буршей – отточенными клинками, только шею заматывали карбоно-шелковыми шарфами и глаза прикрывали специальными очками, остальное открыто. Выжили, однако. Шрамы носили, как доказательство мужества и лихости. Девушки таких бойцов очень уважали.
И сейчас в закрытых клубах, как и положено человеку из общества, он регулярно тренировался в теннисе, стендовой стрельбе и верховой езде. Просто клубная жизнь картежника и бретёра[68] не пересекалась с академической.
Вот рефлекторно и взыграло ретивое!
Расстояние до господина с пистолетом – плевое. Едва четыре метра. Что делать? Был у него коронный прием. Вначале – бросок во флеш-атаку, клинок обозначает направление удара. Уже в полете перебрасываешь саблю в левую руку, батман тоже влево – и… Такое не всегда удается, особенно со знакомым противником, однако обычно срабатывало!
Сэр Арчибальд знал и умел, наверное, многое, но ведь не все же? Да и выхода другого у Виктора не было. Напарник за спиной опасно замешкался.
Сабли сейчас у Скуратова не было, но и без нее получилось красиво!
От рубящего удара по предплечью пистолет (или – макет пистолета) улетел вниз по лестнице, гремя о ступеньки. От тычка в лицо выпрямленными пальцами правой Арчибальд уклонился, электронные нервы быстрее проводят импульс, чем биохимические. Но уклонился не в ту сторону, как и рассчитывал Виктор. Реинкарнат нарвался на догоняющий удар в основание шеи. Из каких бы материалов ни был синтезирован Арчибальд, масса тела у них с противником была примерно одинакова, а кинетическая энергия Скуратова сыграла свою роль. Арчибальд громко соприкоснулся головой с выступом стены.
Повредило ему это или нет – неважно. Академик-боевик, используя шанс, единственный и последний, рванулся назад, как бильярдный шар, отбил внутрь прихожей Антона, захлопнул дверь. Дернул на место засов, который словно сам попался под руку.
Все. Со свистом выдохнув воздух (последние секунды он не дышал), Виктор сел на пол. Имевшуюся энергию, нервную и физическую, он выложил сполна. Судорожно втягивал в себя воздух, руки дрожали, к горлу подкатывала тошнота.
«Стар стал папаша, рука не та, глаз не тот», – прохрипел он неизвестно откуда всплывшую фразу. Можно поклясться, раньше в его лексиконе такого не было.
– А вы опасный человек, Виктор Викторович, – без всякой иронии, с полным уважением проговорил Антон, под руку сопровождая Скуратова в гостиную. – Вообразить не мог. Кабинетный ученый… В «Братство» вы свободно впишетесь…
– Да бросьте. Жить захочешь… – Тот вздрагивающими руками кое-как налил себе коньяка из графина, залпом опрокинул. – Курить… дайте.
Минут через пять он начал ощущать, что силы возвращаются. А кураж – тем более. Взбодрился, почувствовал нечто вроде прилива гордости. «И мы кое-чего пока могем!» Это вам не с кафедры юным дарованиям туманные заклинания в головы вдалбливать. Вдруг и правда – научные высоты достигнуты, пора попробовать себя в чем-то другом?
– Правильно вы опасались, Антон. Вот интересно, если б мы сначала дверь чуть-чуть приоткрыли, гранату на площадку выкинули, а уже потом вышли?
– Вы на самом деле наш человек. Вам бы в спецназе служить, а не в научном институте.
– Кто на что учился, – благодушно ответил Скуратов, чувствуя, что главное позади, а здесь он в полной безопасности. – Не так страшен черт, как его малютки. Дальше что будем делать? Предположения имеются?
– Значит, в ту сторону дороги нам нет, – как бы разговаривая сам с собой, в пространство ответил Антон. – Сами себя засадили в клетку. Второй раз ваш фокус не удастся. Даже и с гранатой. Чего я и боялся. Теперь думать надо. Одно гарантирую – от голода и жажды мы не помрем…
– Доходчиво, – сказал Воронцов, когда робот Фарадей, приставленный к СПВ, доложил, что за ту секунду, что канал приоткрылся в указанную точку, ничего сделать не удалось. Его мгновенно выбило. Как легкоплавкий предохранитель сработал. – А почему?
– Потому, что сразу закрылся с той стороны, – резонно ответил робот.
Был бы на его месте нормальный офицер-человек, он бы услышал много интересного о себе лично и своих родственниках, как по материнской, так и по всем прочим линиям. А этому что в лоб, что по лбу.
– Тогда остается подождать. Мы только и делаем, что сначала ждем, а потом действуем, – сообщил Ростокину Дмитрий. – Здесь посидишь или к себе пойдешь?
– Уж лучше здесь, – с ноткой обреченности ответил Игорь. – Думаю, они, если живы, скоро на связь выйдут. Скоро или никогда.
Воронцов, знающий о Замке куда больше Ростокина, вообще, наверное, больше всех, согласно кивнул. Идеи насчет «никогда» он в рассуждение не принимал. Не такое видели и до сих пор в полном порядке.
– Тогда посиди. Вон, возьми справочник, там посмотри про англичан, что нам навстречу идут… Тоже интересно.
…– С гранатой идея была плодотворная. Дебютная, – согласился Антон со Скуратовым. – Внезапно могла и сработать. На испуг. Теперь уже нет. Вместо старательно очеловечивающегося Арчибальда мы получим нечто совсем другое. Чему сопротивляться не сможем. Оно вползет в виде психотропного газа или просто парализующего ментального импульса. Ни кулаком, ни пистолетом не отобьемся. Разве – моим шокером. Вам все равно, а я такого не хочу. Мне Замок в прежнем виде нужен. Пока что мы с ним в интеллектуальные игры играем, а если я его шокером – может обидеться. Есть разница – старого приятеля на ринге в нокдаун послать или принародно – голым кулаком в зубы? Будем искать что-нибудь пооригинальней.
На самом деле искать было нечего. В ту сторону не прорвешься, как сам Антон признал. Через ноутбук в иные измерения не переместишься, не та система. Хорошо, хоть видеоконтакт поддерживать можно. Внутри кем-то придуманной квартиры, бледной копии столешниковской, они могли просуществовать вечность. В буквальном смысле. Ровно столько, сколько биология позволит.
Антон восстановил связь с Воронцовым, объяснил ему, что случилось.
– Нас обложили намертво. Положение почти безвыходное. Я не знаю, какие планы в отношении нас имеются у Арчибальда. Может быть, вполне позитивные: с его точки зрения, вреда он причинять не собирается. Но рисковать я не буду. Если бы здесь сейчас был Левашов, мы, вероятно, что-нибудь придумали бы…
– Так я могу выдернуть его оттуда, где он сейчас, – предложил Дмитрий.
– А смысл? К нам сюда он все равно попасть не сможет…
– Ну не к вам, в другое место Замка. И попробует с ним договориться. Хотя бы с помощью своего шокера.
– У него второго нет. Он его наскоро слепил в одном экземпляре. Прощальный подарок. А стоит Олегу появиться в любом из помещений, может стать еще хуже. Новиков с Шульгиным в этом убедились. Замок вполне в состоянии превратить любого в тяжелого шизофреника, не хуже, чем Ловушка Сознания.
– И все же я не понимаю, – сказал Ростокин. – До последнего ведь все было очень хорошо. До самого нашего ухода. Что вдруг изменилось?
– Арчибальд заскучал. Моего общества в нынешнем качестве ему недостаточно. Он, понимаете ли, захотел стать человеком в полном смысле слова, и человеком могущественным, как он этого, по его мнению, заслуживает. Чем-то вроде Сталина, только гуманного и человеколюбивого. И почувствовал, что Виктор Викторович способен ему в этом помочь. Он, видишь ли, очень оригинально мыслит…
– Тут спору нет, – согласился Игорь.
– А тебе жалко, что ли? – спросил Воронцов. – Отправь Арчибальда в тридцать восьмой, к Шестакову и Лихареву. Пусть там все свои амбиции проявит. Виссарионовичу так и так на покой скоро, вот и будет замена. Лишь бы он больше в наши реалии не лез.
– Я бы отправил. Так для этого сначала нужно дверь открыть и… Не уверен, что разговор пойдет на равных. А главное – Виктора он не выпустит. Настолько я в его «натуре» разбираюсь.
Слушая их обмен мнениями, балансирующий на грани привычной пикировки, Скуратов думал о своем. Информации по-прежнему не хватало. Чтобы разобраться в «психостатусе» и побуждениях очеловечивающейся машины, разработать тактику отношений, нужна была серьезная работа. Посложнее, чем у врача, столкнувшегося со сложным психическим заболеванием, в монографиях не описанным.
Следовало бы провести сотни разного рода тестов, сначала стандартных, потом и специально для этого случая разработанных. И лишь затем, поставив диагноз, приступать к «лечению», если оно вообще окажется возможным. Главным препятствием, едва ли преодолимым, было то, что ему до сих пор не приходилось иметь дела с объектами, обладающими свободой воли и передвижения, агрессивностью и массой других, в большинстве – неизвестных способностей. Совсем не то, что изучать психологию стационарных, лишенных внешних эффекторов электронных устройств.
Но сама по себе задача увлекала. С такой уж точно никто из коллег не сталкивался. И если он с ней справится…
– Есть у меня мыслишка, – говорил в это время Антон. – Достаточно сумасшедшая, но мало ли таких мы до ума доводили?
– «Вы»? – Воронцов снова весело выматерился. – Доводили как раз мы, а ты в сторонке курил. И что же на этот раз? Снова озарило?
– Вроде того. Левашов мне рассказал перед уходом, что из этой квартиры есть другой выход. Наружу…
– В какую «наружу»? И почему Олег тебе, хозяину Замка, об этом говорил, а не ты ему? Помнится, направляя меня туда, ты утверждал, что держишь под контролем все, и поначалу я тебе поверил, поскольку выглядело достаточно убедительно. Потом, правда, наша вера в твое всемогущество несколько поколебалась.
– Прежде всего – у меня самого, – честно ответил Антон. – Что касается того места, где мы сейчас блокированы, у меня просто не было возможности и повода вовремя узнать о нем все, что нужно. Принял к сведению, что имеется такое, и не стал вникать глубже. Сегодня сначала подумал, что зря, а теперь понял – очень хорошо, что так вышло. Я не обратил внимания, Арчибальд – тем более. Слишком увлечен собственными планами.
– Так о каком выходе тебе Олег сказал?
– Будто бы парадный подъезд квартиры и фасадные окна смотрят на Никитский бульвар Москвы, причем, похоже, как раз конца девятнадцатого века.
Воронцов присвистнул удивленно.
– Мне об этом тоже ребята не говорили. Не пришлось к случаю, наверное. У всех своих забот было выше головы. Ну, так и что? Ты мне рассказывал, что теоретически из Замка можно выйти в любую точку пространства-времени, в пределах Земли, а у тебя и дальше получалось. Нет?
– Получалось, и остальное тоже правда. Только помнишь главное ограничение? Выйдешь не туда, обратно можно и не вернуться. На «штурманские» расчеты мне приходилось задействовать все мощности Главного процессора. Сейчас он мне недоступен, вдобавок – почти все силы тратит на поддержание личности Арчибальда. Левашов это выяснил.
«Ах, как бы мне хотелось познакомиться с этим легендарным Левашовым, – подумал Скуратов. – На самом деле, если верить услышанному, – Леонардо двадцатого века».
– Надоел ты мне, Антон, – с добавлением очередной порции крепких слов неожиданно для всех, по ту и по эту сторону экрана, сказал Воронцов. – Такое впечатление, что ты от скуки или от страха вместо того, чтобы принимать роковые решения, просто время тянешь. Есть выход или нет? На Никитский? Давай координаты. Если дверь сработает – выскочишь прямо на нашу рамку. Сделаешь? – повернулся он к роботу Фарадею.
– С точностью до метра. При работающем на той же волне приводе.
– Так и иди, господин форзейль. «Идущий впереди». Не мандражь! Встретимся здесь – о прочем потолкуем. Думаешь, мне не страшно было в сорок первый прыгать, с винтовкой по лесам бегать? Изобрази, на что сам способен!
«До чего же точно своего приятеля этот капитан в угол загоняет, – оценил Скуратов. – Не знаю, что у них раньше было между собой, но поведение – безупречное. Я бы его с удовольствием взял к себе в институт старшим научным сотрудником, да что там – заместителем директора».
Здесь Скуратов не ошибся. Хороший бы из Воронцова замдиректора по общим вопросам вышел. Человек, умевший доводить до ума-разума две сотни призывников-матросов, как-нибудь десяток кандидатов и докторов на утреннем разводе (планерке, заседании научного совета) правильным бы образом построил, объяснил, в чем заключается программа дня, недели, месяца и каким образом наше подразделение должно стать лучше любого аналогичного. Потребовалось бы – и строевую подготовку ввел, которая никому еще не повредила, но пользы принести способна много. Чтобы мысли освежить и легкие от никотина прочистить.
Виктор встал первым.
– Если есть выход, в него и пойдем.
– Сейчас, – согласился Антон. – Только настройку подгоним, и оружие взять нужно. Дмитрий прав.
В соседней комнате нашлись и пистолеты, и три карабина системы Шульгина, с ртутными пулями. Вернувшись из путешествия на планету Валгалла, так все в шкафу и оставили. Забирать их с собой друзьям не было необходимости, как и остальное походное снаряжение. В любом месте «постоянного базирования» аналогичное и любое другое найдется.
Оружие показалось Скуратову интересным. Не только как очередное подтверждение того, что он пребывает в параллельном мире, но и конструктивно. «Стечкин» на вид тяжелый и грубый, но при близком рассмотрении – удивительно прост и рационален. Сразу видно, что делали этот пистолет люди, изрядно повоевавшие, видевшие смысл в технологичности и надежности, без всяких посторонних изысков. Если бы такой показать друзьям по стрелковому клубу, он наверняка произвел бы среди знатоков фурор. Виктор решил, что, если доведется возвратиться домой, пистолет он обязательно прихватит. На память.
Патронов во вскрытом цинке было сколько хочешь, и при каждом пистолете по два магазина снаряженных имелось. Скуратов рассовал по карманам пять картонных пачек. Знающему человеку известно, что в нормальном бою перезарядиться едва ли успеешь, но на «нормальный» бой он не рассчитывал. Там если убьют, так убьют. В других же обстоятельствах приличный боезапас не помешает.
Но куда больше его удивил шульгинский карабин. Продукт еще одной оружейной культуры. Антону пришлось провести краткий инструктаж. Виктору понравилось. По тому же, достаточно сомнительному принципу: если мы окажемся в сложной, но для нас тактически выигрышной позиции, такое оружие будет для врага крайне неприятным сюрпризом. Ну а если иначе выйдет, так почти все равно. Скольких солдат Кортеса проткнули копьем или достали камнем из пращи, невзирая на кирасу и мушкет?
Очень тяжелые коробки с ртутными патронами, общим весом килограммов пятнадцать, и десяток гранат сложили в один компактный рюкзак. Во второй, опять по требованию Виктора, бросили несколько блоков сигарет, три литровые бутылки виски из бара, буханку хлеба в пластиковой обертке и несколько банок разных консервов.
Опять спасибо Шульгину с Новиковым. Умели эти ребята предусмотреть почти любые ситуации. От отцов, переживших по четыре-пять войн, коллективизацию, большие и малые терроры, где случалось оказываться то с той, то с другой стороны, усвоили принципы выживания.
У академика подобного опыта, естественно, не было, но инстинкты русского человека начали включаться сами собой. Поскольку присутствовали в числе базовых. Уж больно страна пространственная, климат сложный и политика непредсказуемая. А теперь и история…
– Ты понимаешь, Виктор, – перешел на «ты» Антон, глядя, как увлеченно кабинетный ученый комплектует «набор выживания». – Оно все нам совершенно не нужно. Если выйдем и сразу попадем в портал, на «Валгалле» нам ничего не потребуется. Если нет и обратного хода не будет – сильно ли это нам поможет?
– Если выйдем в чужой, но более-менее человеческий мир – сильно. Ты в горы когда-нибудь ходил? Видел я таких орлов, что в легком свитере намеревались сбегать до седловины Эльбруса и к обеду вернуться. Пока солнышко светит…
Продолжать он не стал. Сам когда-то был похожим дураком. Занятия серьезным альпинизмом, а потом Антарктида его многому научили.
– Так пошли, что ли? – не стал спорить Антон, забрасывая на плечи лямки рюкзака. – Вы там у себя тоже соображаете. Я и то удивился, как Игорь в двадцать четвертом году лихо освоился.
– Пошли, – кивнул Скуратов. Время разговоров закончилось.
У самой двери парадного подъезда, могущего вывести в старую Москву или никуда, они приостановились. Не по себе было обоим. С одной стороны – надежда, с другой – тяжелое разочарование, если перед ними только макет. Тогда не останется ничего другого, как вступить в сложный конфликт с Замком, без гарантированного результата.
– Открываем? – в последний раз спросил Антон, будто ему требовалась особая скуратовская санкция.
– Открывай.
Пока они собирались, ноутбук, естественно, был закрыт, и Воронцов не мог наблюдать за их подготовкой. А то бы сказал еще что-нибудь едкое. Или – полезное.
На самом пороге нижнего мраморного вестибюля, где полагалось бы стоять бородатому швейцару, Антон откинул крышку и снова увидел друга-оппонента.
– Дмитрий, держишь наш канал? – Антон обратился к Воронцову, смотревшему на него с экрана теперь уже без прежней иронии.
«Чтобы не пугать мерой чрезмерного риска», – не слишком стилистически правильно подумал Виктор, но по факту верно. Он отлично заметил разницу в характерах своих новых знакомых.
– Держим, держим – давай!
Антон повернул красивую бронзовую ручку выходящей на какую-то улицу какого-то времени двери. Стоящий в шаге позади него Скуратов профессионально понимал, что самое лучшее – относиться к случившемуся философически. Тут же пришел на память отрывок из любимого Сократа. Но взведенный пистолет он не опустил. Стендовая стрельба тоже многому учит. Полетит тарелочка, не полетит – это ее дело, но уж если полетит…
Улица была точно Никитской, только без памятника Тимирязеву на стрелке Тверского бульвара, поставленного гораздо позже и в другой реальности. О чем, конечно, Скуратов не подозревал. Остальное – раз в раз. Ему даже уходить не захотелось. Лучше бы – постоять на месте и посмотреть. Все-таки в стопятидесятилетней давности оказался.
Воздух морозный, вроде бы чистый, без малейших технологических запахов. Еще бы – на всю нынешнюю Москву едва ли имеется больше полусотни автомобилей. В его Москве технические средства с двигателями внутреннего сгорания в центр города тоже допускались ограниченно, но тем не менее… Атмосфера – она подвижна и за сто километров любую молекулу донесет.
Зато здесь отчетливо пахло угольным и дровяным дымом из домашних печей особняков и кочегарок центрального отопления растущих, как грибы, многоэтажных доходных домов. И еще – конским навозом. Кое-какие меры против загрязнения улиц властями принимались, и зима все же, а летом амбре тут наверняка висит тяжелое. Впрочем, многие светила медицины считают, что фитонциды означенного навоза весьма способствуют укреплению здоровья.
«Еще лучше, – подумалось Скуратову, – пойти бы сейчас сначала прямо вперед, потом налево и по бульварам до самого дома. А что там сейчас может быть, кто там живет и как?»
Совершенно ненормальная идея, не от его ума исходящая.
Все его ни с того ни с сего возникшие эмоции заняли от силы пять секунд. Потом он увидел сумрачную тень, скользившую в их сторону вдоль улицы на фоне высоких сугробов, подсвеченных только начавшими входить в моду электрическими лампами. Это могло быть чем угодно, но Виктор ощутил опережающую непонятное явление угрозу. Будто волну инфразвука, движущегося перед фронтом цунами.
И в то же время ему было интересно. Что тут вообще творится, в этом ниоткуда возникшем мире? Нельзя же уйти просто так! Скуратов стремительно, как в свое время Ростокин, перенастраивался на существование в другой реальности. Что неудивительно, если оба они жили в «химере», не подозревая об этом, и вдруг попали в подлинный мир. Насколько подлинный – отдельная тема, а все же сон от яви кое-чем отличается.
– Заснул, что ли? – крикнул Антон. Скуратов повернул голову и в нескольких шагах слева увидел пульсирующую фиолетовую рамку два на три метра, за которой смутно шевелились человеческие фигуры. Тот самый портал… Сейчас шагнем – и все позади…
Только в теле возникла странная, свинцовая тяжесть, как будто он оказался вдруг в кресле набирающей обороты центрифуги. Потянуло сесть прямо на тротуар и опустить голову между колен.
Форзейль схватил Скуратова за полу пиджака, потащил к спасительному проходу. Он был очень силен и тянул академика, несмотря на стремительно нарастающую массу Виктора. Все же не так быстро усиливалась гравитация, чтобы лишить их способности к активным действиям, повалить расслабленными тушами на утоптанный снег.
Еще два метра, метр… Расстояние не уменьшалось. Хуже того – портал словно бы начал отдаляться.
Антон не понимал, хрипя и матерясь, почему Воронцов не сдвигает рамку вперед, чтобы подхватить их, как сачком. Это же элементарно…
Вдруг окружающий мир пришел в движение. Начал плавное, с каждым квантом времени убыстряющееся вращение против часовой стрелки. Будто поехала гигантская карусель, на которой вместо слонов, оленей, львов – дома, деревья, фонари. А они оказались, словно опоздавшие, за оградкой посадочной площадки. Уплывал громадный, как броненосец, дом и вместе с ним – спасительный портал, причем – с нарастающей скоростью. Вот уже их разделяет два метра, четыре, десять…
Вдобавок все радиальные улицы и бульвары стали изгибаться, сворачиваться внутрь, как рулон бумаги с нарисованным на внутренней стороне пейзажем. При этом ничего не ломалось, не вылетали из окон со звоном стекла, не трещали деревья. Выглядело это страшно.
Антон в своих жизнях, и здешней, и предыдущих, многое видел. Понимал, что такое – свертка пространства, осевая или тотальная. Только ведь есть разница – знать о прицельной бомбежке, направленной лично в тебя, или читать об этом в книгах. Тут, если бы у него было время думать, он понял бы слова Воронцова о сорок первом годе.
Дмитрий, наблюдая происходящее со стороны, едва не начал колотить кулаком по загривку робота, дергающего в разные стороны рычажки двух джойстиков. Не было у него интуиции Левашова, понимавшего, как управляться со своим детищем в нестандартных ситуациях.
– Веди, веди параллельно! Прижмись, уравняй скорости!
То, что он видел, напоминало ему ситуацию, когда на двадцатиузловом ходу нужно принять с воды на шлюпбалки догоняющий катер. Опасно, но возможно, если знаешь, как это делать, и команда хорошо обучена.
Что-то у робота начало получаться. Портал перескочил вперед на полсотни метров, двинулся в нужную сторону, навстречу уплывающему в неизвестность дому и людям, суетящимся на краю странно неподвижного тротуара.
– Так, так, еще чуть-чуть!
Воронцов, не желая думать, чем рискует, перегнулся через межвременной проем, одной рукой удерживаясь за надежный поручень у двери каюты.
– Игорь, придержи! – крикнул он.
Ростокин метнулся к нему, ухватился за брючный ремень Дмитрия, широкий, из крепчайшей буйволовой кожи.
Скуратову не хватало времени, чтобы одновременно бороться за спасение и мыслить абстрактно. Они с Антоном бежали против движения, с трудом перебирая непослушными ногами. Это было как во сне… В ногах ломота и ватная тяжесть, мышцы не подчиняются, желанная цель ускользает, похоже – навсегда. Сейчас даже хуже, чем во сне, потому что страшная явь воспринималась с отчетливой убедительностью.
Явь чудовищно-бессмысленного колеса. Каким-то чудом им удалось поравняться с межвременными проходом, окруженным издевательски-весело мерцающей рамкой, такой близкой и такой недоступной, преодолев злобное центростремительное ускорение.
Воронцов ухватил Антона за воротник, рывком передернул его через барьер. Ростокин, не отпустив пояса капитана, правой рукой втащил к себе неловко перевалившегося через «порог» Виктора.
Все! Окно схлопнулось, оставив Замок со всеми его причудами по ту сторону мира. Они опять выиграли!
Но каждый – по-разному.
«А интересно, – подумал Скуратов, запаленно дыша, – случись чуть иначе? Игорь бы не справился и меня увезло? Нет, не карусель здесь была. Куда увозит не актеров, персонажей классической пьесы поворотный круг сцены? Мне было лет семь, когда на представлении «Ревизора» круг завертелся и все поехали… Городничий, чиновники. Что с ними случилось за границей кулис? С артистами понятно, что ничего, а с персонажами?»
– Мать вашу!.. – звучал в ушах командный голос, пока Виктор через обычную для проходящих межвременной барьер тошноту и потерю ориентации осознавал себя стоящим внутри просторной комнаты. Нет, не комнаты, каюты, потому что большие иллюминаторы и покачивание палубы под ногами сомнений не оставляли. Рядом стоял Антон, достаточно взъерошенный, напротив – тот самый Воронцов, которого на экране он видел только по пояс, и Игорь Ростокин, в буквальном смысле бросившийся ему на шею.
Он его обнимал, хлопал по плечам и ниже.
Что удивительного? Встретились старые друзья, «через годы и через расстояния». Какие бы другие приятели ни появились, а того, с кем неразрывно связан с пятилетнего возраста, никем не заменишь.
Офицер, сидевший у пульта устройства, которое их спасло, перебросил тумблеры в нулевые позиции, молча встал и вышел, деликатно прикрыв за собой тяжелую стальную дверь. Очевидно, его работа на данный момент была окончена.
Сам же командир, Воронцов Дмитрий Сергеевич, вытянувший одной рукой связку из двух почти стокилограммовых мужиков, да еще и с армейской выкладкой за плечами, наяву Скуратову понравился гораздо больше, чем раньше, на маленьком экране.
Это был по-настоящему сильный и мужественный человек. Назвать его красивым язык бы не повернулся, хотя с точки зрения любой женщины он был настолько хорош собой, что трудно вообразить ту, что могла бы ему отказать хоть в чем-то.
Нет, неправильно, одернул себя логик Скуратов. Совсем это не тот человек, который захотел бы воспользоваться своей притягательностью. Он настолько сильнее своего внешнего образа, что даже специалиста оторопь берет.
Воронцов подал Виктору крепкую, как мореный дуб, руку.
– Молодец, профессор, хорошо держался. Один неверный жест – и… То есть плохо было бы. Не зря вас Антон кое-чему подучил.
– Дмитрий, – непонятно зачем вмешался Ростокин, – этому нельзя научиться. – Или есть, или нет.
– Отлично, раз есть. Я вижу. Но правильный инструктаж тоже дорогого стоит. Много б ты без него в двадцать четвертом году наработал? Погиб бы, как пресловутый цыпленок…
Скуратов с удивлением заметил, что так и держит в руке пистолет. Сколько всего случилось, а он его не бросил. Ненужный, но успокаивающий.
– Теперь дайте мне эту штуку. – Воронцов деликатно отобрал у Виктора «стечкин», сдвинул предохранитель, положил на стол. – Пора бы и отдохнуть. Вывернулись – ваше счастье. Но это совсем не гарантия будущего. Никакая не гарантия. То, что с вами случилось, – ты, Антон, объяснить можешь? Виктор Викторович, натурально, скорее жертва, чем субъект эксиденса. Мы с Игорем тем более понятия не имеем про ваши заморочки. Однако – пойдемте в другое место. Поуютнее. Черт знает, как оно у вас все происходит. Ты такого ждал?
Антон отрешенно, как контуженный, еле слышащий обращенный к нему голос, отрицательно мотнул головой. Похоже, досталось ему больше, чем то, что видели и пережили окружающие.
– Игорь, ты отведи друга в Кипарисовый салон. Там дамы ждут. Познакомь. Ему полезно будет в предчувствии следующих испытаний. Мы вас скоро догоним. А вас, Антон, – Воронцов великолепно скопировал голос Мюллера (Броневого) из знаменитого фильма, – я попрошу остаться. Ненадолго.
– Может быть, завтра поговорим? – постепенно приходя в себя, спросил форзейль. – Нехорошо мне что-то. Сам удивляюсь, но – нехорошо. Никогда такого не случалось.
– А ты никогда человеком до сих пор и не был. Только сейчас начал понимать, как с нами происходило. С каждым по отдельности и всеми вместе. Когда ВЫ нас совсем допекали, с тех и этих сторон. Что, по-твоему, сейчас было? – Голос его прозвучал сочувственно, без намека на злобный реванш. – Коньяка налить? – Воронцов потянулся к шкафчику между столом и дверью.
– Налей, налей! Много налей и закурить, – Антон начал хлопать себя по карманам, забыв, где у него была пачка сигарет. – Кофе тоже давай. Ты понимаешь?
– Кто бы понимал, как не я? – мягко улыбнулся Воронцов. – Я тебя еще в Новом Афоне понял, только вида не подавал. Ты ведь и тогда как загнанный смотрелся. При всех твоих могуществах и непомерных по советскому времени деньгах. Вот интересно, как бы ТВОЯ судьба сложилась, если б я тебя прямо тогда на хрен послал?
– Не знаю, Митя, – сделав два крупных глотка, слегка даже задохнувшись, совсем неэстетично вытерев губы рукавом, ответил Антон. – Наверняка по-другому. Лучше или хуже – не знаю. И никто этого не знает. В прошлое и будущее мы вломиться можем, со всем азартом. Но только – не в свое. Видишь, как хитро мир устроен!
– А то до тебя я этого не знал. Не только хитро, а коварно, вот в чем главная пакость. Не встретились бы мы с тобой в Новом Афоне (что вряд ли, поскольку ты этой встречи искал, так?), я догулял бы свой месяц отпуска, вернулся на пароход и до сей поры плавал по северным морям. Наталью не встретил бы, естественно, нашел себе другую, не нашел – не суть важно. Стал бы, глядишь, наконец капитаном, а то и капитан-наставником. А ты?
– Ох, Митя, чего ж ты от меня хочешь? Не мог я тебя не найти, иного выхода не было. У тебя – был, послать меня подальше, а у меня не было!
– Если бы послал – придумал бы другой способ меня нагнуть? – с откровенным интересом спросил Воронцов.
– Да уж придумал бы. Совершенно как ты сейчас.
– Вот уж чего нет, того нет. Поверь мне, дружище (тоже интонацией из «Семнадцати мгновений»), нагибать тебя – никчемная затея. Ты слегка нас путаешь. Андрей или Шульгин могли такой идеей заинтересоваться. Мне – ни к чему. Помнишь наше условие – ты делаешь мне «Валгаллу», после чего мы в расчете. Я его не нарушал. И сейчас ты нашел спасение именно здесь. Так?
Антон печально кивнул.
– Значит, я был прав. Ничего не понимая в ваших космических делах…
– Тоже верно. Значит, я в тебе не ошибся.
– Еще бы, – рассмеялся Воронцов. – Пойдем к девушкам. Жалко, для тебя свободной нет.
Тут Дмитрий вроде бы слегка задумался.
– А они тебя вообще интересуют? Есть у меня одна на примете. Не из наших, но может составить интересную партию…
Антон мог сказать, что девушек и женщин, которым он был «милым другом», за последние полтора века у него перебывало столько, что Воронцову и не снилось, но как-то слова капитана его задели. Не те это были подруги. Совершенно не те. Ни одна из них не стала той, ради которой стоило бы рискнуть не только жизнью, но даже служебным положением.
Антон, потерявший почти все от прежнего положения, стремительно терял и остальное. Кто он теперь в сравнении с Воронцовым?
Следовало бы подробнее разобраться в возникшем раскладе. Абсолютно, казалось бы, всемогущий форзейль, умевший послать нормального земного человека в иные измерения, придав ему любые угодные функции, хозяин Замка, превосходящего своими возможностями любого персонажа из сказок «1001 ночи», вдруг увидел, что все обстоит совсем не так.
Люди, поначалу казавшиеся не более, чем исполнителями его планов, и не претендовавшие ни на что, кроме скромного вознаграждения за свои труды, каким-то образом сумели кардинально поменять подконтрольный Антону мир. Вместе с его ролью в нем. И не понять, само собой так получилось или задумывалось изначально. Игроками, Держателями?
– Так для чего ты меня сейчас задержал? Отношения выяснить или девушку сосватать?
– Да я теперь и сам не знаю. Хотел о чем-то важном спросить, и вдруг из головы вылетело. Вредно на психику такие перепады реальности действуют. Ах, да! То, что сейчас у вас там случилось, может иметь последствия для нас здесь? Не начнет нас теперь еще и твой Замок по векам и территориям преследовать?
– Вряд ли. За пределы самого себя он выходить не обучен. Ну, как нарисованный человечек с плоскости листа – в третье измерение. Я так считаю… – Воронцову показалось, что в голосе Антона мелькнула нотка некоторого сомнения. – Меня больше интересует, что бы такое придумать, чтобы его снова под контроль вернуть…
– Да-а. Но это точно не ко мне. Олег вернется, профессор поможет, да и у Сашки с Арчибальдом особые отношения. А сейчас, правда, иди к… спокойным людям. Две красивые женщины, двое мужиков из придуманного кем-то века. Посидите, обсудите… Может, что и придумаете. А меня вы и так отвлекли. К утру подойдут на дистанцию зрительной связи английские крейсера, лучшие, что есть в этом мире, и придется с ними что-то делать.
– Зачем, Дмитрий? Зачем снова воевать? Не проще ли оставить все как есть…
– Как? А ты – оставлял? Отчего не предотвратил войну семьдесят седьмого года (тысяча восемьсот)? В твоих силах было, раз при дворе Александра Второго состоял. Тысяч двести жизней бы сохранил. А что турки за следующие полвека на Балканах и в Малой Азии, может, миллион человек вырезали, может, два – кому какое дело?
Возразить Антону было нечего, кроме того, что он в те годы знал гораздо меньше, чем Воронцов сейчас, ста годами позже.
– А вот я – знаю! Если здесь и сейчас англичан на место поставить, много миллионов человек спасти можно.
– Да тебе-то что? Ненастоящий же здесь мир. И в любом случае – не твой!
Воронцов усмехнулся. Саркастически.
– Ненастоящий? Ну, прыгни за борт, а я посмотрю, всерьез тонуть станешь или понарошку. А что не мой, так кто бы говорил. Я хоть в виду имею, что если никуда отсюда сбежать больше не удастся, так постараюсь это время поудобнее для жизни сделать. Тебе, конечно, какая разница – будет японская война и революция, не будет, а мне – совсем не все равно…
Впрочем, давай прекратим. Ни к чему наш разговор. Однако… – Воронцов как-то вдруг просветлел лицом. Глаза изменили оттенок, как показалось Антону, складки у рта смягчились. – Кое в чем ты меня не переубедил, но заставил изменить точку зрения. Не помню, кто из христианских мудрецов писал: «Зло неизбежно, но горе тому, через кого оно приходит в мир». Это еще обдумать нужно, но импульс ты мне дал. Спасибо. Пойдем.
Скуратов, оказавшись в упомянутом Кипарисовом салоне, очень легко заставил себя забыть о только что случившемся. Не навсегда, а до подходящего момента. Сейчас не стоило об этом задумываться. Он с радостью приобнял за плечи Аллу, ткнулся ей в щеку бородой и усами, изобразив дружеский поцелуй в щечку.
– Давно не виделись. Как ты здесь? – спросил он, одновременно осматривая помещение.
– Хорошо, Витя, только домой иногда тянет. Но у вас там немного времени прошло, мать, наверное, и соскучиться не успела. Мы и на дольше расставались… Вот тебя увидеть совсем не ожидала. Здесь, наверное, такой особый центр притяжения. И не захочешь, а вдруг окажешься… Ладно, потом поговорим, познакомься, это Наташа, жена Дмитрия.
Наталье Скуратов деликатно приложился к ручке. Женщина ему сразу понравилась. Очень мила, а главное, ощущалось в ней абсолютное спокойствие. Вот уж воистину человек, ничем не озабоченный.
– Начнем с коктейлей, пока ребята подойдут? – предложила хозяйка.
Все, что успел увидеть на пароходе Виктор, пока Ростокин вел его по палубам и коридорам «Валгаллы», и сам этот салон вызывали у него двойственное впечатление. Старомодно, но изысканно, во всем чувствуется особого рода рациональность и тонкий вкус одновременно. Ничего нарочитого, никакой стилизации «под старину». Старина самая натуральная и при этом – достаточно современная, чтобы не чувствовать себя в музее.
Впрочем, причина понятна, люди нескольких разных поколений, люди неординарные и хорошо друг друга понимающие, сумели согласовать свои эстетические понятия к взаимному удовольствию. Если бы ему довелось поучаствовать в оформлении интерьеров, он, наверное, попробовал бы привнести и кое-что свое, не выбиваясь из общего стиля. Игорь и Алла наверняка имели в свое время такую возможность, кое-какие детали подсказывали…
Об этом и поговорили, не касаясь пока серьезных тем. Алла с Игорем в самых общих чертах обрисовали, что с ними случилось после того, как Новиков выручил их в Сан-Франциско. Другие подробности здешней жизни Скуратов достаточно представлял после просмотра ознакомительного фильма. Ростокину пришлось только дать некоторые пояснения с точки зрения людей общей с ним культуры, вполне вписавшихся в новую.
О длительной «эмиграции» в этот мир Виктор не задумывался, но всерьез прикидывал, что несколько месяцев согласился бы здесь провести. Особенно при условии, что вернется домой в день отправления.
Слишком здесь много было любопытных моментов, в которых хотелось разобраться.
Ростокин с ним согласился. Свой человек рядом – это же так хорошо! А что скучно Виктору не будет, он ручался.
– Каюту себе сам оформишь. – И тут же объяснил, как это будет выглядеть на практике.
– У нас в самом начале было гораздо проще, – включилась Наталья, – тогда, при постройке парохода, все наши желания и идеи оформлял Замок, нужно было только отчетливо вообразить, что тебе нужно, ну, мы и развлекались, не столько по реальным потребностям, как из любопытства и своеобразного чувства всемогущества. Честно сказать, в большинстве случаев мы даже и не знаем, кто чего себе напридумывал. Это как на «Солярисе» – мало кто хочет, чтобы порождения подкорки стали известны всем. Мы и без того слишком долго и слишком тесно общаемся. Должно оставаться что-нибудь лично твое, сокровенное.
– Что такое «Солярис»? – спросил Скуратов.
Наталья объяснила. Такой книги в его мире не было, да, наверное, и не могло быть. Не тот жизненный опыт и набор фобий, индивидуальных и общечеловеческих.
– Сейчас так не получится, – продолжала она, несколько лет прожившая в основном на пароходе, словно отшельник в скиту. Здесь тоже крылась очередная тайна или – психологическая загадка, наверняка связанная с какими-то подробностями ее прежней биографии. А у кого их не было, собственных загадок? – Создать собственный мирок единственно силой воображения уже не выйдет, но пространства сколько угодно. Любую из пяти сотен свободных кают за сутки можно переоборудовать по собственному вкусу, и мастера, и материалы найдутся. Я – архитектор, помогу, если пожелаете.
Виктор поблагодарил.
– Обязательно обращусь, только сначала осмотреться надо. А пока любая устроит, на ваше усмотрение. Мне бы только компьютер с открытым доступом к вашему информарию.
– То есть к библиотеке, – уточнил Ростокин. – Миллион томов достаточно? А информария как такового здесь не имеется.
Пока они приятно общались, причем и Игорь, и особенно женщины ненавязчиво пытались внушить Виктору, что он здесь может чувствовать себя как дома, в большей степени, чем где-нибудь еще, кроме собственной квартиры, появились Воронцов с Антоном.
Скуратов мельком взглянул на свои часы. День выдался до чрезвычайности длинный, и хронометрически, а уж тем более – по насыщенности событиями, невероятность которых явно зашкаливала.
Мир второй половины XXI века, при всей его дисгармоничности и расколотости на крайне далекие по политическому устройству и экономическому положению регионы, для коренных обитателей «цивилизованных» стран оставался спокойным, благоустроенным и самодостаточным. Не слишком озабоченный глобальными проблемами и «проклятыми вопросами» обыватель мог прожить всю жизнь, никак не задумываясь о том, что творится в Африке или Юго-Восточной Азии. Если у него там не имелось личных интересов.
Здесь, кажется, все обстоит противоположным образом. Требуются специальные, иногда – почти запредельные усилия, чтобы оградить себя от внешнего давления «окружающей среды».
– На то она у вас и «химера», – ответил бы Скуратову Новиков или Шульгин, да и Воронцов, пожалуй, если бы он обратился к ним со своим открытием.
Только эту тему никто сейчас не собирался поднимать. Виктор – в первую очередь. Гораздо интереснее ему показалось разобраться, для чего они сейчас находятся не где-нибудь, а в океане, в девяносто девятом году, как это связано с остальными приключениями и ролью Замка, естественно.
– Как ты думаешь, Антон, что это все-таки было? – спросил Скуратов, когда они отошли к открытой на просторную прогулочную палубу двери салона. Виктору снова хотелось курить, и это был хороший повод. Как бы неудобно отравлять сигарным дымом сидящих рядом женщин.
Далеко внизу, за кормовым срезом верхней палубы бурлила взбиваемая мощными винтами кильватерная струя, с востока шли длинные пологие волны, над невидимыми берегами Африки едва отсвечивало закатным багрянцем облачное небо. Пароход покачивало, не сильно, но ощутимо.
– Я уже много чего понял, и про Замок, и про вас всех, однако… Не укладывается в сознании. Фокусы такие. Если бы нас придавили, как тараканов подошвой, – я бы не удивился…
– Если бы успел.
– Именно так. Замок – явление суперцивилизации, о которой я кое-какое представление успел получить. И вдруг такие шуточки… Смешно, право слово, и заставляет думать…
– О чем? – с интересом спросил Антон.
– О том, что, начиная с визита ко мне господина Суздалева, я стал персонажем забавного, но не слишком умно поставленного фарса… Или – получил солидную дозу галлюциногена и сейчас не курю здесь с тобой, – он демонстративно несколько раз пыхнул сигарой, – а валяюсь, привязанный к больничной койке крепкими ремнями…
– А ведь не лишено здравомыслия, – согласился Антон. – Я с того самого дня, когда научился себя осознавать и рефлектировать, только этим и озабочен. Будь я истинным демиургом, всеведущим, всемогущим и всеблагим, не допустил бы всей той ерунды, что с людьми регулярно происходит. Куда как удобнее – родился, прокатил отведенный тебе срок, как на дрезине по рельсам, увидел кое-что по сторонам, понаслаждался видами, и в… Ну, кто как себе представляет, где путь заканчивается. Однако…
– Ну что – однако? Что может в галактическом масштабе означать примитивный театральный круг?
– Уверен, что именно «кругом» это было? Не проще ли вообразить, что ты увидел единственно то, что успел или сумел проассоциировать твой мозг? Разве удар кулаком в лоб действительно порождает «искры в глазах»? Да придумай сам сотню примеров, когда реальные явления природы выглядят так, как тебе кажется, только потому, что нет у тебя иных органов восприятия, кроме тех, что есть. Цветок для тебя и для пчелы выглядит одинаково?
– А ты то, что с нами случилось, видел иначе?
– Неужели сомневаешься? В крайнем упрощении – а мне для себя самого тоже приходится упрощать – имелась попытка Замка рассогласовать неожиданно для него возникший, несанкционированный и казавшийся ему невозможным контакт между несовместимыми, с его машинной точки зрения, сущностями.
Он знал о наличии внутри себя места, им же созданного и ему недоступного. Та самая схоластическая загадка: «Может ли бог создать камень, который не сможет поднять?» Замок – смог. Это его удивляло, но до поры – не очень. Как не очень беспокоит человека какое-то время гвоздь в сапоге…
Сапог, к которым подошва прибивалась гвоздями, Скуратов никогда не носил и даже не видел, но смысл аналогии понял.
– И вдруг оказалось, что это созданное им убежище не просто «вещь в себе», а независимый от него выход в иные измерения. Это его, скажем так, взбесило. Ему и так не нравилось многое из происходящего, а тут… Не будем вдаваться. У него не было возможности взломать само убежище, зато сколько угодно – заблокировать связь с внешним миром. Он успел перехватить момент нашего выхода и начал делать нечто вроде замыкания окружающего пространства самого на себя. Почему нам показалось, что процесс выглядит именно так, как мы его увидели, – сказать не могу. Посмотреть иначе – это могло походить на закрывание лепестков росянки вокруг мухи. Единственная суть – он начал рвать связь между собой и неподвластным ему континуумом. Каналом СПВ, проще говоря. Эти понятия несовместимые, как болт и гайка с разной резьбой.
– И не успел? – В голосе Скуратова прозвучало глубокое недоверие. Как если бы он услышал, что молния не успела ударить в подвернувшегося на ее пути человека.
– Как видишь. Я давно над подобными парадоксами задумываюсь. По должности и от избытка свободного времени… – Антон едва заметно дернул щекой, вспомнив, как много свободного времени у него было не так давно. – Тут такая интересная штука получается. С тех пор как я с этой компанией познакомился, мне все кажется и кажется, что они очерчены неким меловым кругом. Иначе не объяснишь. Достать их извне можно только в том случае, если они сами слабину дадут. Как Хома Брут. Не струсил бы, плюнул Вию в глаза, когда ему веки подняли, – что бы с тем случилось? Вот и я не знаю. А у наших друзей пока именно так все и получается.
– Ну а мы с тобой тогда при чем? Тоже очерчены?
– Это не ко мне вопрос. Очень может быть, что совсем ни при чем. Это у них получилось то, что им хотелось. Вот они нас и спасли. Со мной уже было нечто подобное. Пока мы в поле их интересов – нам везет…
Антон резко повернулся на каблуках.
– Пойдем, невежливо так долго секретничать. И я тебя прошу – не поднимай больше мировоззренческих вопросов. Дня два, три, я не знаю. Вживайся, присматривайся, вникай. Лучше будет.
Разошлись отдыхать довольно поздно. Робот-вестовой проводил гостей в отведенные им каюты. Потом Ростокин с Воронцовым поднялись на мостик. Как раз подоспело сообщение Белли, что высадку пленных закончил.
Моделирующий планшет показывал, что эскадра Балфура продолжает следовать прежним курсом, как и предполагалось – двумя отрядами. Первый – четыре корабля в кильватере, второй, с отставанием на пять миль, строем фронта с двухмильными интервалами. Скорость – шестнадцать узлов. До точки предполагаемого рандеву с караваном оставалось около десяти часов. Если не случится ничего непредвиденного.
Сейчас направления движений противостоящих сил, истинные и прогнозируемые, образовывали на поверхности океана подобие слегка деформированной трехлучевой звезды. С учетом задержки вспомогательных крейсеров у Мадагаскара для намеченной встречи Воронцову следовало принять на пятнадцать градусов к зюйду и слегка сбавить скорость. Тогда он окажется в нужном месте в самый интересный момент.
Отдав необходимые команды вахтенному начальнику и в машину, Дмитрий обратился к Ростокину, всматривающемуся в темный горизонт с таким видом, будто действительно собирался там что-то увидеть.
– Кажется, Игорь, придется срочно высвистывать ребят с берега на борт. Без них нам не разобраться. Ни в технике, ни в политике. Да и вообще, тревожно мне за них. Даже – очень тревожно. Наперекос все идет.
– Я сам тебе хотел это предложить. Раз уж началось такое, что теперь прежние принципы?
– Вот именно. Начинаем?
Ростокин кивнул.
Михаил Федорович Басманов, бывший штабс-капитан Гвардейской конной артиллерии царской службы, капитан Добровольческой армии, полковник Югороссии, неожиданно, впервые за минувшие пять (в упрощенном пересчете) лет вновь ощутил себя свободным человеком. Как-то даже неожиданно это случилось. Сидел-сидел, глядя на оранжево-лиловый, с кровавой чертой понизу южноафриканский закат, и вдруг пробило.
Словно короткое замыкание между прошлым, будущим и настоящим, где он сейчас пребывал. Удивительное ощущение. Словно он опять сидит на скамейке в тени константинопольского платана, щурится от солнца, бьющего в просветы между большими, как слоновьи уши, листьями, собирается закурить скверную самокрутку. За минуту до того, как подойдут к нему и подсядут с двух сторон Новиков с Шульгиным…
Что зря говорить, несвободы в буквальном смысле он не чувствовал ни разу с тех пор, как его приняли в действительные рыцари «Братства». Да он и в полку несвободы не ощущал, поскольку осознанно исполнял вполне понятный объем конкретных обязанностей и общего долга. В Добровольческой армии его тоже никто силой не держал.
Одновременно в ушах Басманова вновь звучали давнишние побасенки Новикова об их скитаниях по Южной Африке, боях с англичанами, стычках с зулусами, работе на алмазных приисках, охоте на львов…
Даже тогда он не поверил словам «авантюристов с веселыми глазами», сочтя их беллетристикой с легкими вкраплениями неизвестно какой правды, но решил не отвлекаться на никчемные мелочи. Сто золотых николаевских десяток выглядели гораздо убедительнее скептических мыслей.
И мысли по этому поводу тут же всплыли в памяти, как вчерашние: «В Африку? Да хоть и в Африку! На слонах ездить будем. С неграми воевать? А хоть бы и с неграми! Небось не хуже, чем с большевиками».[69]
Вот так все и случилось, сложным, извилистым, никаким рациональным объяснениям не поддающимся путем. Впрочем, о рационализме в духе Декарта он забыл с первых дней Великой войны. Какой, к черту, рационализм в Мазурских болотах или на полях Галиции во время Брусиловского прорыва?
– Прицел пятнадцать, трубка двадцать! Батарея, восемь снарядов беглым! Пушки – на передки!
– Да пошли вы ко всем матерям, ваше высокоблагородие! Снарядов нет! Измена! Братва, руби постромки…
Вот вам и «мыслящий тростник», полупьяный, с «козьей ножкой» в зубах и с винтовкой с примкнутым четырехгранным штыком, который он хочет воткнуть тебе в брюхо по случаю объявления всеобщей свободы.
Ну да, ну да, март семнадцатого. Только штабс-капитан с «наганом» умел управляться лучше, чем запасник второго разряда с «драгункой», которую держал, как вилы…
– Михаил Федорович, что это с вами? – затряс его за плечо незаметно подошедший сзади полковник Сугорин.
Басманов вскинулся, тряхнув головой, сбросил наваждение. Осознал себя сидящим в комнате на втором этаже дома богатого голландского поселенца на границе Капской колонии. На большом столе лежала расстеленная карта, освещенная большой керосиновой лампой, на круглом столике рядом обычный местный ужин – зачерствевший хлеб, который здесь принято печь раз в неделю, крупно нарезанное холодное мясо, неизвестно чье, какие-то овощи.
– Задремали, что ли?
– Да ничего, Валерий Евгеньевич, – усмехнулся он, – воспоминания вдруг нахлынули. Да такие яркие… Почти как наяву. Вас штыком к амбарным воротам никогда не пытались прикрепить? Как бабочку в музее?
– Нет. Таким образом – нет. Я на передовой редко бывал.
– Так и меня не на передовой, на вокзале в Могилеве…
– А-а… Понимаю. Что ж, это бывает. Особенно на закате солнца или перед грозой. Я воспоминания имею в виду. Только у меня такое случается обычно под утро, если вдруг бессонница. А днем как-то не до того… Посмотрите вот. – Он протянул Басманову лист бумаги.
– Что это такое?
Крупным каллиграфическим почерком генштабиста там было написано: «Радиограмма. Получена в 7 1/4 пополудни 22.XI с.г. Данкбарсфонтейн. Полковнику Басманову, полковнику Сугорину.
Настоящим довожу до вашего сведения, что в связи с особыми обстоятельствами, требующими моего длительного отсутствия в местах постоянного базирования, вам передается вся полнота власти и свобода действий на сухопутном ТВД. По согласованию с президентом Крюгером и объединенным командованием Оранжевой республики и республики Трансвааль полковник Сугорин сохраняет за собой пост Главного военного советника, полковник Басманов назначается командующим всеми добровольческими формированиями, а также территориальными частями и подразделениями, которые могут быть переданы под его оперативное управление. Все технические средства, материальные запасы и денежные суммы, в настоящее время размещенные на подконтрольных территориях, являющиеся собственностью «Братства», поступают в ваше полное распоряжение. Согласно вышеуказанной договоренности с местными властями, полковники Басманов и Сугорин признаются непременной стороной в случае начала переговоров с властями Капской колонии и правительством Ее Величества о заключении мира или перемирия.
Примечание. Полковник Кирсанов с его группой переходит в ваше прямое подчинение.
Дано 22.11.99, Резиденция «Валгалла».
Подпись – чрезвычайный уполномоченный при президенте Крюгере адмирал Воронцов.
С подлинным верно – Ньюмен».
И еще внизу, карандашом, чтобы легко можно было стереть, несколько групп по пять и более цифр.
Басманов дочитал до конца, положил могучую бумагу поверх карты, сначала прищелкнул языком, потом громко и весело рассмеялся.
– Господин Главный военный советник, – обратился он к Сугорину, смотревшему на него с чересчур серьезным, даже озабоченным лицом. – Не сочтите за труд, достаньте из тумбочки рядом с вами то, что там спрятано за радиостанцией.
Полковник послушно нагнулся и извлек бутылку шустовского коньяка.
– Это – последняя, из корабельных запасов, – сообщил Михаил. – Дальше переходим на подножный корм. Но повод того заслуживает…
Сугорин сел напротив, разлил в стаканы до половины, подтянул поближе тарелку с тушеным слоновьим хоботом (а Басманов и не знал) и нарезанной ломтиками местной редькой.
– Ну, за неимением лимончика… А теперь рассказывайте, что вы по поводу всего этого думаете. Вы же тоже из этих… магистров.
– Вы будете смеяться, как я только что, – сказал Басманов. – Я, как вам известно, не телепат, не маг, обычный офицер, просто повидавший намного больше, чем рассчитывал увидеть, особенно – до начала вселенской катастрофы, каковой я считаю несчастную и проклятую Мировую войну…
Сугорин кивнул, соглашаясь и ожидая продолжения.
– И, тем не менее, за пять буквально минут до вашего появления с депешей, она же в просторечии – карт-бланш, меня вдруг охватило странное чувство. Чувство абсолютной свободы. Это трудно передать словами, я не литератор, нечто похожее на то, что мог бы ощутить человек, долго сидевший в Трубецком, допустим, бастионе и вдруг выдернутый из камеры, получивший на руки выписку из Высочайшего рескрипта об освобождении, восстановлении во всех правах и дозволении впредь распоряжаться собой по собственному усмотрению.
А на улице солнышко светит, Нева несет свою державную волну, Дворцовая набережная на том берегу во всем великолепии… Ваше первое побуждение в таком вот варианте?
Сугорин качнул головой.
– Знаете… Если бы мне было столько лет, сколько вам сейчас, непременно привел бы себя в порядок и закатился к «Медведю», при наличии денег, естественно. У нас в академии на Дополнительном курсе[70] заведено было отмечать значительные события только там.
– А потом? – настойчиво продолжил Басманов.
– Мы, кажется, не об этом говорили, – перебил его Сугорин, – а о вашем «предвидении».
– Да так и есть. Я подумал, точнее – ощутил «ветерок свободы», задумался, вспомнив, какая бывает «свобода», а тут и вы с радиограммой.
– Очень интересно, Михаил Федорович, очень интересно. Вы, естественно, по должности в «Братстве» знаете намного больше моего. Или догадывались о чем-то подобном бессознательно. Но неважно. Мы имеем то, что имеем. Как вы это можете объяснить?
– Да никаких загадок. Такое уже бывало, и не раз. Либо у наших товарищей появились новые планы, о которых они пока не сочли возможным нас поставить в известность, либо – внезапно возникшая опасность, угрожающая им, но не затрагивающая нас по причине невовлеченности. Такое бывало… – повторил Басманов.
Он догадывался, какая именно опасность могла проявиться, но объяснять это Сугорину не имело смысла. И – необходимости. Слишком много дополнительных вопросов у него возникло бы.
Да тот и не горел желанием добиваться разъяснений. Его интересовало другое.
– То есть, если я правильно понял, нас здесь оставили на произвол судьбы? Выплывай как можешь, плыви куда хочешь?
– Чтобы совсем оставили – нет! Такое невозможно. Но сколько-то времени, месяц, год, я не знаю, нам позволено, позволено, а не приказано, поступать по собственному разумению. Хотите – воюйте, как сумеете и пожелаете, хотите – бросьте все. «Вся полнота власти и свобода действий», – красиво звучит.
– Еще красивее – «и все денежные суммы». Это примерно сколько?
Басманов вздохнул и показал пальцем, что неплохо бы налить еще.
– Это, Валерий Евгеньевич, попросту означает – сколько угодно. Миллион, миллиард – не имеет значения. В здешних банках, конечно, таких сумм нет, но к нашим услугам и любые другие. С лондонскими у нас есть деловые отношения… Еще кое с какими. Вот эти цифирки внизу – как раз номера счетов и банковских хранилищ.
– Да не может быть! – не поверил Сугорин.
– Может, может. Так что суть не в деньгах. Совсем в другом… Воевать дальше будем?
Сугорин думал долго. Даже отошел к окну, повернувшись к Басманову спиной, чтобы не видеть его взгляда.
Наконец вернулся, сел, начал барабанить пальцами по краю стола.
– Я помню, что вы мне говорили, приехав меня вербовать на эту войну. Очень убедительно. Я согласился, бросил все: свой дом, свою книгу, вновь облачился в доспехи, как Дон Кихот. С тех пор что-нибудь изменилось?
– Конечно, нет. Мы с вами уже сделали то, что представлялось невозможным. И наши друзья сделали все, чтобы обеспечить эти победы…
– Так о чем еще говорить? Будем продолжать, благо имеем на руках вот это… – Он потряс в воздухе радиограммой. – Тем более, Михаил Федорович, напомнив мне о событиях семнадцатого года, вы еще более меня укрепили. Очень надеюсь, что наши с вами действия сделают их более невозможными. Хотя бы в этой реальности. Тогда здесь можно и остаться. Я вообще-то ретроград, и новые веяния мне не слишком приятны. Я ведь сейчас где-то там, – он неопределенно махнул рукой в сторону севера, – Александровское училище заканчиваю. Через полгода выпуск. По выпуску был седьмым, что позволило выйти в Отдельный лейб-гвардии стрелковый батальон. Чем плохо – прожить лучшие годы еще раз, убедиться, что никакого семнадцатого, а лучше и четырнадцатого тоже не случится…
– Прежде всего, если выиграем здесь, не случится и четвертого-пятого. Ни японской войны, ни так называемой «первой русской революции». Только насчет того, чтобы остаться здесь и прожить, пусть и измененные годы, но по второму разу, я с вами не согласен. Вам бы лучше на две тысячи пятый год посмотреть, где и монархия сохранилась, и немыслимый прогресс достигнут… Имею возможность лично представить вас Его Императорскому Величеству Олегу Первому…
Сугорин, достаточно удивленный, поскольку раньше полковник ему о таких знакомствах не рассказывал, ответил, однако, ровно, почти равнодушно:
– Об этом мы в более подходящих обстоятельствах поговорим и подробнее, Михаил Федорович. А пока я считаю нужным начинать действовать в соответствии с полученными инструкциями…
Басманов не стал возражать.
Полковник уважал Сугорина и ничего не имел против философских бесед, но все-таки ему было всего лишь тридцать два года, физических, пересчет военных «год за три» к эмоциональному состоянию здоровой личности неприменим. Оттого общаться на равных, тем более сейчас, когда они вдруг оказались предоставлены самим себе, ему с Валерием Евгеньевичем было сложновато. Тому ведь уже сорок семь, и совершенно другой жизненный опыт. Однако – придется.
Проводив Сугорина, он развернул рацию и легко настроился на станцию «Валгаллы». В динамике послышался ясный, почти не перебиваемый помехами голос Новикова.
– Привет, Главком. Бумагу получил, значит?
– Естественно, Андрей Дмитриевич. У вас все в порядке?
– Как слышишь. Голос не дрожит? Значит, в порядке. Тебе что-нибудь непонятно?
– Да отчего же? Почти все понятно. Связь у нас защищенная?
– Эта? Я думаю, в ближайшие минуты – да.
Не слишком обнадеживающе. Басманов даже передернул плечами.
– Тогда – без подробностей. Вы за нами вернетесь?
– Капитан! – Новиков назвал его прежним, еще константинопольским чином. – Что ты себе позволяешь? Сказал бы тебе батарейный фельдфебель то же самое, когда ты по делам с позиции отлучался? Вот именно, – правильно истолковал возникшую паузу Андрей. – Если у вас возникнут проблемы, связывайся напрямую с Сильвией и Берестиным, они вас к себе в любой момент переправят. А у нас, ну, так вот складывается. Нужно срочно кое-куда сбегать. Уточнять не буду, сам догадаешься. Может, через час вернемся, а нет – как получится. Зато ты теперь сам себе господин. Правильно? Мы же тебе с Александром обещали…
И опять Басманов поразился, как уже третий раз накладываются друг на друга одни и те же мысли.
– Хорошо, Андрей Дмитриевич. Я на посту. Только если что не по-вашему выйдет, не осуждайте…
– По-нашему никогда не выходило, Миша, – вдруг вклинился в разговор голос Шульгина, – всегда выходило – как получится. Держи хвост пистолетом, гвардеец… В наушниках запищало, засвиристело, пронзая высокими тонами перепонки, и связь прервалась.
– Вас понял, – сказал в пространство Басманов, сбрасывая на стол гарнитуру.
Он не ошибся. Произошло нечто экстраординарное. Даже по радио, которого в этом мире нет, Новиков опасается говорить открытым текстом. Очевидно, с этим и связано то, что им немедленно нужно оказаться в каком-то другом из известных или еще неизвестных миров. Может – срочно покинуть именно этот. Бывает.
На то, что его пока оставляют здесь, он не обижался. Мало ли, чем это вызвано. На войне случается и так, что кому-то приказывают прикрывать отход, с весьма проблематичными шансами на собственное выживание. Или направляют в отвлекающую операцию.
Михаил был благодарен друзьям за то, что они нашли его в Константинополе, избавили от ужасов эмигрантского существования, а то и от смерти, которая могла подстерегать его в ближайший вечер. Нож в спину в грязных переулках Галаты, из-за тех же сапог, к примеру. А друзья его спасли, подарили пять великолепных лет, показали чудеса других миров, научили очень многому. Он ведь, помнится, начал судьбоносное утро с мечтаний о паре лир… И в тогдашнем состоянии даже год безбедной жизни представлялся сказкой, что естественно, если предыдущие шесть он не имел никаких гарантий, что доживет до следующего дня.
Если даже случится, что никто за ним не вернется или вернется очень не скоро, нет оснований горевать. Всемогуществом и бессмертием его не наделили, но все, чему он научился в «Братстве», начиная с тренировочного лагеря на необитаемом острове,[71] остается при нем. И знание всеобщей и военной истории трех реальностей, технических и иных наук, и богатейшие запасы оружия и прочей техники, и практически неограниченные финансовые средства. Это не считая роты верных товарищей-рейнджеров.
В таких условиях прямо хоть сейчас можно ввязываться в борьбу за мировое господство. С кем угодно. Шансы очень неплохие.
Благо – пример «старших братьев» перед глазами. Придется – станем работать по той же схеме. Но обстоятельства куда благоприятнее. Есть крейсер «Изумруд», есть сколько угодно пароходов, могущих заменить «Валгаллу». Вербовать добровольцев не надо, тех, кто имеется, хватит, чтобы захватить власть хоть в Кейптауне, хоть в самом Лондоне. Очень легко, почти без жертв.
Басманов вдруг снова рассмеялся, что было ему несвойственно, тем более – наедине с собой. Эк его понесло! Вот действительно, словно с цепи сорвался. Как точно подходят русские пословицы к любому почти жизненному явлению. Тут же и анекдот в тему вспомнился:
– А шоб ты, Грицко, робыв, як царем був бы?..
– Так шо робыв? Сало с салом йыв бы, на соломе спав бы, по мотню в дегтю стояв бы, а потом сто карбованцев вкрав бы, тай и втик…»
Пришлось еще плеснуть коньячку, закурить, чтобы осадить буйный полет фантазии.
До него только сейчас дошло, что совсем он не брошен на произвол судьбы, если здесь же остались Берестин и Сильвия. По какой причине – сейчас неважно. То ли для помощи, то ли для контроля. Второе, конечно, маловероятно, но…
К Сильвии Басманов относился с настороженностью, а Берестина очень уважал. Настоящий солдат. Что бои под Каховкой и Екатеринославом вспомнить, что Берендеевку и спасение Великого князя.[72] Значит, одиноким здесь он не будет, если даже придется остаться в этом мире навсегда.
Михаил повеселел. Кто его знает, может быть, законы времени и параллельных реальностей требуют, чтобы человек не смел слишком удаляться от мест, к которым он принадлежит изначально. Вот Сугорин, он сам, офицеры рейнджерского батальона, Сильвия – леди Спенсер: они ведь все родились в пределах этого времени, вот оно их и не отпускает. Володька Белли – тоже отсюда. Остальные – другие. И путь у них – свой!
Басманов снова отвлекся на посторонние мысли и удивленно вскинул голову, когда на карту перед ним упал кожаный футляр, размером чуть больше портсигара.
Басманов подвинул его к себе и осторожно открыл. Внутри находился гомеостат. Самое ценное и загадочное устройство из всех, что довелось полковнику видеть, уже став полноправным членом «Братства». И даже несколько раз воспользоваться, под контролем, разумеется. А сейчас прибор без предупреждения перекинули сюда. Ему.
Видимо, в последний момент Новиков или Шульгин решили сделать царский подарок оставляемому в глубоком тылу брату. Оторвав от себя. Михаил знал о том, что таких произведений инопланетного разума в распоряжении «Братства» то ли три, то ли четыре, и воспроизводству они не поддаются, в отличие от любых других материальных предметов.
А вот и записочка, вложенная под крышку.
«Раз так уж получается, это тебе «Резерв главного командования». Все, что еще можем лично. Используй с умом и осторожностью. Инструкция прилагается. Царским подарком не считай. Вернешь по минованию надобности».
Подписи не было, но Басманов легко узнал стиль Шульгина. Словно бы даже голос его услышал.
Да, «Братство» – это «Братство». Уходя неизвестно куда, друзья доверили ему эту штуку, без всяких расписок и гарантий. Даже без честного офицерского слова. Верят, значит, в него беспредельно. Не допускают, что может он прямо сейчас, оздоровившись и омолодившись, плюнуть на все, рвануть в какой-нибудь Париж и открыть там собственную клинику, срывая безумные гонорары с недужных миллионеров и прочих «сильных мира сего».
А вот мысли дурацкие даже у него, боевого офицера и гвардейца, все равно в голове бродят, как юнкер на топографической съемке, заблудившийся в тумане и потерявший компас.
Какие клиники и гонорары, если и так денег неограниченно, и личная гвардия под рукой, и бумага, подтверждающая его диктаторские полномочия на целом континенте?
Тебе ведь, зверю[73] в полковничьем чине, ясно все дали понять. А, возможно, учитывая психологические таланты Новикова и Шульгина, превентивно по носу щелкнули. Чтобы не зарывался.
Басманов надел браслет на руку, убедился, что здоровья у него на сей момент вполне достаточно, и отправился к Сугорину.
«Старик» (в те времена сорокасемилетний человек уже морально готов был признавать себя таковым) работал над оперативными документами, нанося на собственную карту известия с фронтов и одновременно заполняя строевые ведомости на подразделения, которые он планировал использовать в свете изменившейся стратегической обстановки.
– Бросьте вы до завтра эти труды, Валерий Евгеньевич. Утро вечера мудренее. Пойдемте, прогуляемся на свежем воздухе. Кое-какие общие вопросы обсудим, тогда и частные лучше пойдут. А пока вот, позвольте, я вам эту штучку на руку прицеплю? – доставая из кармана гомеостат, сказал Басманов.
– Что это такое? – удивился Сугорин.
– Да так, диагностический прибор из будущих времен. Нам с вами много и тяжело работать придется, вот и посмотрим, как у нас со здоровьем…
Желтая засветка на циферблате покрывала почти две трети его площади. То есть состояние полковника реально было хуже, чем допускал физический возраст. Сугорин никогда ни на что не жаловался, но что-то его изнутри подтачивало. То ли не проявившийся пока рак, то ли иные хронические недуги в любом из жизненно важных органов.
От медицины Басманов был далек, но понимал, что не только до восьмидесяти полковник не доживет, а и до пятидесяти едва ли.
– Вас ничего последнее время не беспокоит? – спросил он.
– Что значит – беспокоит?
– В организме, я имею в виду. Болит там где, или иные неприятные ощущения…
– По-разному бывает. Желудок то и дело ноет, сердце иногда прихватывает, ногу под утро судорогой сводит. Бессонница, как я вам говорил. А что?
– Да теперь, пожалуй, уже и ничего. В эту штуку, как мне сказали, японские магнитные камни встроены, очень для организма полезные. Поносите до утра, а там посмотрим.
– Шарлатанство, – презрительно ответил Сугорин. – И вы в такое верите?
– Я бы и не верил, если б мы сейчас с вами в Африке девяносто девятого не сидели. А так… Александр Иванович наш, если вы не в курсе, японист и врач, знаток всяких эзотерических учений. Он в эту штуку очень верит и оставил ее мне именно в рассуждении, что у нас здесь с медицинским обеспечением очень и очень плохо. Вы, кстати, портреты печально для нас известного адмирала Хэйхатиро Того[74] помните?
– Так вот ему в дни Цусимы было почти шестьдесят, а выглядел едва на сорок. И вообще прожил девяносто лет в здравом уме… Тоже, говорят, такими браслетами пользовался.
Сугорин немного подумал и махнул рукой.
– Бог с ним. Хотите верить – не стану препятствовать. Мне эта штука не мешает – и ладно. На самом деле, давайте пройдемся. Заговорили вот о болезнях, и сразу – спина заныла от долгого сидения над бумагами, еще кое-что, о чем вам по молодости лет и знать не стоит. Пойдемте. Поговорим попросту…
Они неторопливо направились в продуваемый влажным весенним ветром вельд, прихватив на всякий случай автоматы. До англичан далековато, но, и кроме них, опасностей хватает. Майн Рид утверждал, что некоторые местные племена не утратили каннибальских привычек, пусть не гастрономических, а чисто ритуальных, так от этого не легче. И львы никуда не делись, и гиены.
Басманов, располагая свободным временем в промежутках между выполнением служебных обязанностей, сотнями проглатывал книги из будущих времен, не только научно-популярных, но и художественных. В одной из них попалось упоминание о якобы существующей до сих пор в глухих уголках Африки гигантской гиене, «гишу», которая питалась в основном слонами и носорогами. «Ужас толстокожих», – так она характеризовалась.
Вдруг откуда-нибудь и здесь объявится? На такой случай лучше бы иметь при себе гранатомет, но и два автомата с утяжеленными пулями – тоже не абы что.
Стратегическим планированием в буквальном смысле они решили заняться завтра, а сейчас просто обменивались мнениями о текущем моменте, каким он им представлялся. Достигнутые на фронтах успехи, на первый взгляд – грандиозные, завершившиеся освобождением громадных территорий в Натале и на северных границах Капской колонии, на самом деле ничего еще не решали.
Англичане, со своим упорством, материальными и людскими ресурсами, многовековым военным и колониальным опытом, вполне и сейчас в состоянии переломить ход событий. При условии, что решат вести войну всерьез, то есть с мобилизацией абсолютно всех своих ресурсов. Басманов вкратце пересказал полковнику основные моменты Второй мировой войны применительно к участию в ней Великобритании.
Для Сугорина это было откровением, тех книг, что Михаил нашел в библиотеке «Валгаллы», да и сам покупал в магазинах Москвы-2005 (настоящей), Валерий Евгеньевич не читал. Он, как известно, после окончания Гражданской войны вышел в отставку. Жалованье за год войны со всеми надбавками и премиальными, а также выходное пособие составили больше трехсот тысяч рублей золотом, громадная при Югоросских ценах сумма. Хватило на дом с садом и виноградником под Одессой, на парусно-моторную шхуну для морских прогулок и рыбалки. Остаток он положил в Государственный банк и мог безбедно жить на проценты, да еще и полковничья пенсия ему шла.
С двадцать второго года он занимался написанием многотомного труда по истории Мировой и Гражданской войны, и ничем другим не интересовался. Пока его снова не призвали в строй.
– Крайне интересно, крайне, – несколько раз повторил Сугорин, впитывая новую для него информацию. – Только ведь ваши аналогии некорректны. В той грядущей войне у Британии имелись могущественные союзники, вынесшие, как я понял, основную тяжесть войны и претерпевшие несоизмеримые с английскими потери. А там, где они сталкивались с немцами и японцами один на один, особых успехов в вашем пересказе не просматривается. Чего стоит хотя бы сдача Сингапура, Дюнкерк, операции в Северной Африке, где, как я понял, немцы были не в пример слабее количественно. Я прав?
Басманов вынужден был согласиться. Отметив, однако, что сами по себе военные неудачи в сражениях с качественно превосходящим противником не отменяют того факта, что упорство британцы проявляли выдающееся и на общую капитуляцию, даже на сравнительно почетный мир с немцами и японцами, не пошли.
– Найдется у них новый Черчилль, будут они здесь воевать годами, на истощение буров… Два-три экспедиционных корпуса, которые они смогут сформировать при введении всеобщей мобилизации, превысят все мужское население республик.
– Опять позволю возразить. – Сугорину явно нравилось спорить на такие темы. – К ведению длительной войны на обширном сухопутном театре англичане не способны по целому ряду военно-политических и морально-психологических факторов. Это вы мне уж поверьте. В академии я как раз эти темы тщательно прорабатывал, поскольку Альбион тогда считался наиболее вероятным противником. Не имея сильных континентальных союзников, он ничего собой не представляет. В полном соответствии с известной загадкой: «Кто кого победит, слон или кит?» Так вот Англия – безусловно, кит, на суше беспомощный.
Они присели на вершине невысокого холма, где было спокойнее, чем в бесконечности укрытого ночной тьмой вельда. Звуки из солдатского лагеря сюда почти не доносились, зато с запада стали слышны тявканье шакалов, неприятный своим человекоподобием хохот гиен, крики каких-то ночных птиц.
– Что же касается союзников, на этот раз Англии их найти не удастся. САСШ сочувствуют бурам, Россия и Германия тоже. Франция пока колеблется, но, если увидит, куда клонятся чаши весов, не преминет расширить свои африканские владения за счет британских. Фашоду[75] они не забыли, нет. Аналогично и с немцами. Они тоже очень не прочь поживиться. И, наконец, Россия. Если Англия завязнет здесь, в Средней Азии руки у нас развязаны. Вы этого, наверное, не знаете, а в наше время, как раз в девятисотом – девятьсот втором годах очень серьезно прорабатывался вопрос о проникновении в Тибет. Так что…
– Тогда можно и нашу политику в Закавказье активизировать. Карс, Баязет, Ардаган, Эрзерум. Три раза за сто лет мы их брали, потом возвращали…
– Константинополь, – добавил Сугорин. – Четыре броненосца, сконструированные специально для прорыва в Мраморное море, уже в строю: «Екатерина», «Чесма», «Синоп», «Георгий Победоносец». Без поддержки Англии Турция не выстоит.
Так что, ввязываясь в эту войну, исходя только из желания предотвратить русско-японскую, вы проявили недостаточный кругозор. Это, в принципе, мне понятно. У кого что болит… И расчет был совершенно правильный. Англия поставила японцам пока только два броненосца, начинающих уже устаревать. И два броненосных крейсера. Остальные, если война затянется, японцы не получат, они англичанам самим пригодятся…
– Одним словом, Валерий Евгеньевич, мы сейчас с вами, вдвоем, фактически решаем не локальную задачу, а как бы не судьбы мироустройства ХХ века?
– Именно так. Раньше мы с вами эту тему не поднимали, поскольку я считал, что есть кому глобальными проблемами заниматься, а я так – отставник-консультант…
По тону Сугорина Михаил понял, что скромничает коллега. Или – затаенную обиду невзначай наружу выплеснул. Он-то изначально все тщательно продумал и считал себя незаслуженно отодвинутым в сторону от настоящего дела. Лезть же с непрошеными советами считал ниже своего достоинства.
А вот теперь пришел его час.
– Раз нам дана полная свобода рук, надо ею воспользоваться по максимуму. Пока опять высшие силы не вмешались.
– Хорошо, Валерий Евгеньевич. Вы у нас теперь будете Главковерх. А я – на подхвате. Строевик я, в штабах сроду не служил.
С этими словами он снял с пояса фляжку.
– За успех в нашем безнадежном предприятии!
Сугорин с удовольствием приложился к горлышку, а Басманов подумал, раз теперь у них появился собственный гомеостат, пьянство, которое в гвардии и так никогда за грех не считалось, лишь бы голова оставалась свежей после полудюжины бутылок шампанского, окончательно переходит в разряд невинного развлечения. Полчаса – и в организме не останется ни молекулы алкоголя. Никакого вреда здоровью. Главное – процесс.
– За успех!
– Господин Берестин нам препятствовать не станет? – спросил Сугорин, вытирая губы.
– Наоборот! Он милитарист, каких мало. Вы бы видели, как мы с ним мятеж против Великого князя Олега в Москве придушили. Сказка. А еще раньше, будучи старшим лейтенантом ВДВ, он, считай, целое европейское государство за полчаса покорил…
– При случае расскажете. А теперь давайте соображения, которые наверняка у вас успели возникнуть в ходе прослушивания моей вводной. Вы человек с огромным боевым опытом, побольше, чем у меня, эрудированы тоже, пожалуй, лучше. Знаете историю войн, о которых я даже не слышал. Академической подготовки, правда, не хватает, она, при всей схоластичности, весьма дисциплинирует мыслительный процесс и избавляет от необходимости изобретать велосипеды.
Новиков спросил дуггурского «парламентера», первого из существ того мира, попытавшегося вступить с ними в равноправный контакт, как к нему следует обращаться и в каком качестве он сам себя позиционирует.
Остальные члены отряда подтянулись поближе, образовав почти правильный круг, отсекающий место переговоров и от «тарелок», и от лагеря. Это не было частью осознанного плана, скорее, обычным инстинктом, идущим от древнейших времен. Роботы, не получив другой команды, продолжали исполнять последнюю по времени, то есть сохраняли полную готовность к сокрушительному ответному удару, никак себя не демаскируя.
Дуггур, хотя это обозначение не слишком к нему подходило ввиду явных фенотипических отличий от всех, ранее виденных его «соотечественников», демонстрировал полное самообладание и благорасположенность, неизвестно, подлинную или наигранную. По крайней мере, никто из обладающих минимальной способностью к сверхчувственному восприятию не улавливал с его стороны признаков агрессивности или даже встревоженности. В том числе и Лариса, совсем недавно неплохо улавливавшая ментальные посылы своих «ангелов». Пережившая вдобавок довольно длительную включенность в коммуникационную систему Станции.
Андрей тоже не слышал ни малейших отзвуков колебаний эфира, с которыми столкнулся на Валгалле, едва не разрушивших непоправимо его психику. Сам он сейчас боялся и не скрывал этого от себя. Очередной психической атаки, если случится, он не переживет, скорее всего.
– Шатт-Урх можете меня называть. Фонетически это для вас легко произносимо, и звучит знакомо, не так ли?
Новиков отметил для себя, что и этот собеседник наверняка извлекает словарный запас и стилистику речи из его и остальных присутствующих долговременной памяти.
– Знакомо, – согласился Андрей. – Согласуется с рассказами дагонов. Напоминает Древний Египет или Шумер…
Шульгин, до этого вроде бы безразлично куривший и наблюдавший за внешне безжизненно выглядевшими дископланами, вдруг подобрался, наморщил лоб и выдал длинную тираду, для Новикова ни с одним из известных ему живых языков не ассоциирующуюся.
Лицо Шатт-Урха вдруг исказилось. Промелькнула на нем непосредственная, не предусмотренная ролью парламентера эмоция. Удивление, но не только. Андрей интуитивно ощутил, сколь далеко на самом деле они отстоят друг от друга культурно, а то и эволюционно.
Мы можем сказать о собаке или шимпанзе – «они улыбаются», но на самом-то деле «улыбка» любимого пса отнюдь не является аналогом человеческой улыбки, и все это понимают.
После короткой заминки дуггур вернул свое выражение в прежнее состояние и ответил Шульгину на том же языке. Сашкин словарный запас был крайне скуден, но еще несколько фраз он составить сумел. После чего перешел на русский:
– Как видишь, и нам приходилось бывать в ваших краях. Может, где и встречались, только не помню уже…
Новикову показалось, что он догадался, в чем дело. Получается, Сильвия «в воспитательных целях» отправляла сознание Шульгина не в виртуальную, а самую настоящую реальность, в тело нищего калеки, закончившего свою жизнь на грязном базарчике в Ниневии девятого века до нашей эры. И в его памяти, в глубинных слоях, сохранился тамошний язык, а сейчас вдруг всплыл на поверхность.
И Шатт-Урх, выходит, или непосредственно из тех краев родом, или бывал там три тысячи лет назад, неизвестно, в каком качестве. В любом случае это интересно, и необходимо немедленно извлечь из «вновь открывшихся обстоятельств» всю возможную пользу.
– Следует ли понимать, что ты относишься не к тем, с кем мы недавно воевали, кого мы условно назвали «дуггурами», а к предкам нынешних дагонов? К древним хеттам, ассирийцам, египтянам? Недостающее звено, как выражаются наши антропологи, – быстро спросил Андрей. – Ты самостоятельная личность, к «пятеркам» не принадлежишь?
– Совершенно верно. Кажется, главный рубеж мы перешли. Взаимопонимание наметилось. Вы – гораздо более цивилизованные и толерантные существа, чем многим из нас представлялось. Мы сможем если не договориться, то обойтись без крайностей, которыми сопровождались предыдущие контакты. Ты согласен?
– Абсолютно и безусловно. У нас с вами сложилось неправильное впечатление друг о друге. Однако не могу не подчеркнуть, что в каждом случае агрессия исходила не от нас. А, как говорится, «некрасиво защищаться не запретишь».
– Я это понимаю. Никаких претензий, – ответил Шатт-Урх.
– Тогда предлагаю продолжить переговоры в более подходящей обстановке. Передай своим на дископланах, что могут выходить. Мы стрелять не станем, если и вы воздержитесь от применения психотронного и любого другого оружия.
– Оружия на кораблях нет. А выходить сюда тем, кто управляет, нет необходимости. К нашим с вами делам они никакого отношения не имеют.
– Вам виднее, – кивнул Новиков. Он понял, что парламентер присутствует здесь в единственном числе, а те, кто остается в «тарелках», – не равноправные ему личности. Безмозглые исполнители, рабы инстинктов. Монстры, бронированные тараканы, хитиновые обезьяны, которых Шульгин накрошил в пещерах без счета… Интересная цивилизация. А где же все те, что Ларису охмуряли и потом передали своим специалистов «для опытов»?
– Ну и хорошо. Пойдем… Только имей в виду – на всякий случай дископланы остаются под прицелом. Мы сумеем превратить их в пар быстрее, чем кто-то дернется. Если вы биологические существа, скорость передачи нервных импульсов по нейронам и аксонам у вас не больше ста метров в секунду, а у наших помощников – почти равна скорости света. Соображаешь, сколько это?
Эти слова произвели впечатление.
– Не совсем понял, – осторожно сказал Шатт-Урх. – Скорость света – это, по-вашему, триста тысяч километров в секунду?
– Около того.
– Значит, импульс по их нервам передается в три миллиона раз быстрее, чем у нас с вами?
– Если мы пользуемся похожей математикой, так и выходит.
– Это невозможно. При всех культурных различиях биохимия у нас практически идентична.
Действительно, представителю биологической цивилизации понять сказанное Андреем было крайне сложно. Какое-то понятие о достижениях технологических миров они, несомненно, имели, если неоднократно вторгались на эту Землю и даже добрались до базы аггров на Таорэре. Только того, что внешне неотличимые от людей существа функционируют на принципиально иной основе, сохраняя при этом вполне человеческий спектр мозговых излучений, они представить не могли. Что и немудрено, так как это был продукт совсем другой «культуры», в нормальных обстоятельствах не встречающийся.
– Биохимия – наука интересная, – с легкой усмешкой сказал Шульгин. – Но – не единственная. Есть еще электротехника, кибернетика и сотни других, даже перечислить не берусь. Скорость горения растительной ткани представляете? А пороха? Тоже горение, но в сто раз быстрее. Динамит, можно сказать, тоже горит, но уже в тысячу раз быстрее пороха. И так далее. Можешь продолжить линейку примеров по своему усмотрению. Так пойдем, что ли? И не стоит пытаться на практике проверить правильность моего утверждения. Чревато…
В достаточно комфортных условиях бивуака, разбитого на опушке леса, огороженного фургонами, переговоры затянулись почти до полуночи. Заранее намеченной и согласованной повестки дня не имелось, поэтому беседа, подчиняясь своей внутренней логике, часто уходила в стороны, достаточно далекие от основной темы. Каждая из сторон, одолеваемая не только дипломатическими интересами, но и обыкновенным любопытством, старалась сразу же узнать друг о друге как можно больше.
Поначалу Новиков попытался взять на себя функцию главного переговорщика, но почти тут же увидел, что ничего не получится. Не тот случай. Единственное, что удалось, – добиться, чтобы вопросы задавались по очереди, и историческое, что ни говори, событие – очередная встреча цивилизаций – не превратилось в «спор славян между собой».
Сама же встреча, если отвлечься от некоторых частностей, воспринималась уже почти банально. За годы, пролетевшие в сумасшедшем вихре после пресловутого восемьдесят четвертого, общались они и с агграми, и с форзейлями (в лице единственного представителя), аборигенами Валгаллы – квангами. К своего рода «инопланетянам» можно было отнести и обитателей 2056 года, и даже Ляхова с Тархановым и их соотечественников из 2005/2. Ну и, конечно же, под эту категорию подходили дуггуры трех ранее встреченных разновидностей и дагоны, само собой. Так что теперь Шатт-Урх, оставаясь интересным персонажем, слишком сильных эмоций не вызывал. Как у кругосветного путешественника эпохи Магеллана – очередная встреча с новой разновидностью туземцев. Велика ли разница – бербер, патагонский индеец или папуас с Новой Гвинеи? Как писал Салтыков-Щедрин (или не он?) – «все черненькие, все бегают». Значение имеет только вопрос – торговать будем или воевать?
Согласно евразийскому обычаю, парламентеру, после первых протокольных фраз, предложили угощение. На выбор из наличных запасов. Тот попробовал всего понемногу, не проявив ни особых предпочтений, ни ярко выраженного неприятия. Что не удивительно, планета одна и та же, состав животных и растительных тканей за тысячелетия изменился не слишком. Разница лишь в кулинарных тонкостях и используемых специях. Любой наш современник нашел бы для себя что-нибудь вкусненькое за столом фараона или императора Цинь-Шихуанди. Особенно если не вникать, что из чего приготовлено.
Только к продуктам прямой перегонки спиртосодержащих веществ Шатт-Урх отнесся резко негативно.
– Налицо культурное отставание, – заметил Левашов, – на нашей половине мироздания до спирта арабы додумались в десятом, кажется, веке. Тогда – винца, может быть? В Древнем Египте его, кажется, уже употребляли.
К красному сухому вину, которого в багаже путешественников сохранилось несколько пятилитровых канистр, гость отнесся с полным одобрением, даже похвалил особую тонкость вкуса.
– Ну и хорошо, а то с ферментированным мамонтовым молоком у нас не очень, – сказал Шульгин.
– Это так, вроде шутки по поводу разнообразия человеческих пристрастий.
Преломив хлеб, что должно было гарантировать мирное продолжение знакомства хотя бы до завтрашнего утра, Новиков наконец прямо предложил Шатт-Урху сообщить о причине и цели своей миссии.
– Из всего следует, что вы о нас знаете гораздо больше, чем наоборот. И в плохом смысле, и в хорошем, раз ты не побоялся… проявить инициативу. Я бы, например, с монстрами переговоров затевать не стал.
Пояснять, кого он понимает под монстрами, Андрею не потребовалось. Слово наверняка сопровождалось в его мозгу зрительным или каким-либо еще образом, легко воспринятым дуггуром.
– Очень правильно. У вас для общения с ними точек соприкосновения нет.
– Кое-какие нашлись, – с ноткой вызова сообщил Шульгин, подразумевая известным образом закончившиеся огневые контакты.
– В таком смысле – конечно, – согласился парламентер. – Об этом мы тоже поговорим, несколько позже.
Суть же и цель его визита действительно сводились к чисто парламентерской функции. Все предыдущие конфликты и недоразумения между людьми и дург-бгаиланагарами (так прозвучало их самоназвание, наверняка ничего общего с подлинным фонетическим звучанием не имеющее, однако «дург» и дуггуры – удивительно близко), по словам Шатт-Урха, были следствием всего лишь эксцессов исполнителей. Неконтролируемыми реакциями существ, абсолютно неверно воспринимающих окружающую действительность и неспособных понимать как причины поступков противоположной стороны, так и последствия собственных действий.
– Если выразиться еще точнее – они вообще ничего не в состоянии понимать, в том смысле, что мы с вами в этот термин вкладываем.
– А мне твои сородичи, за исключением монстров, конечно, показались достаточно разумными, – удивился Шульгин.
– Как бы это получше объяснить? Ну вот, ты биологию знаешь лучше своих товарищей…
– Что да, то да, – кивнул Сашка.
– Набор инстинктов, которыми обладают высшие насекомые, представляешь?
– В общих чертах, – осторожно ответил Шульгин. Не только профессиональным инсектологом, но даже и чистым биологом он все же не был. Популярных книжек про пауков, муравьев и пчел вроде трудов Халифмана и Акимушкина прочел много, это факт.
– Вот теперь вообразите, что количество и сложность инстинктов, которыми обладают наши помощники, пропорциональны разнице в объемах нервных систем пчелы и человека.
Все, кто услышал слова дуггура, представили и поразились, если не ужаснулись.
Если в нервном ганглии, размером с маковое зернышко, заложена программа, позволяющая вообразить пчелу почти разумной, то что же может содержаться в полуторакилограммовом мозге, головном, плюс в спинном и десятках километров периферийных нервов?
– Совершенно верно, – кивнул Шатт-Урх, – такое существо в состоянии на одних инстинктах в течение десятилетий имитировать разумное поведение в невероятном количестве ситуаций, отвечать на изменения и вызовы окружающей среды, исполнять массу крайне сложных и ответственных обязанностей. Оставаясь, в нашем понимании, абсолютно неразумным.
– Об этом мы поговорим позже, – решил вернуть разговор в основное русло Новиков, хотя ему самому очень хотелось немедленно приступить к обсуждению деталей и частностей такого интересного феномена. – Продолжим основную тему. Что такое эксцесс исполнителя, все присутствующие знают. Теперь, значит, наступил момент, когда некто, обладающий способностью к рациональному мышлению, сообразил, что дрессированные муравьи перестарались. Не справились с заданием, поставили под угрозу какие-то базовые ценности.
– Ты удивительно точно умеешь формулировать свои мысли.
– В аспирантуре МГУ научили. Что такое философия? В марксистском понимании – наука о всеобщих закономерностях природы, общества и мышления. Этим и пробавляемся. А вот где ты научился рациональному мышлению? Как я понимаю, для вашего общества оно должно быть чуждо по определению…
– И признаться, я вам завидую, – выпивший именно ту дозу коньяка, которая пробуждала в нем благодушие и склонность к отвлеченным рассуждениям, сказал Левашов. Раскурил от уголька трубку, выпустил несколько клубов пахнущего черносливом и медом дыма. – Биологическая цивилизация – это чудесно. Какого черта я всю жизнь возился с электросхемами, если живые организмы могут сами себя выращивать и сами решать, что делать после этого?
– Господа! – неожиданно резким голосом сказала Ирина, постукивая ногтями по крышке своего портсигара, из которого так и не достала ни одной сигареты. – Может быть, хватит болтовни? Дайте гостю сказать все, что он собирался, отправляясь к нам с визитом, а уже потом мы обсудим, как отнестись к его словам и… намерениям?
Лариса, до этого момента тоже молчавшая, согласно кивнула. У нее были свои мысли и свое отношение к дуггурам, в каком бы обличии они перед ней ни предстали.
«Наконец-то, – подумал Новиков, – нашлось, кому сломать ситуацию. Он же втягивает нас в болото бессмысленных рассуждений, а мы поддаемся. Время тянет или информацию собирает? Неглупо придумано. Мы уже и так сверх всякой меры лишнего наболтали. На допросе столько не скажешь, и все это – на фоне позитивных эмоций. Видать, не зря они с Ларисой поработали…»
Шатт-Урх благодарно кивнул Ирине.
– Мне бы хотелось убедить вас в том, что наше общество, в том смысле, как вы это понимаете, не испытывает к вам никаких враждебных чувств. Признает все ваши действия в отношении тех, с кем вам пришлось столкнуться, правомерными.
«Поразительно, – думал Новиков, да и не только он, – как это за несколько тысяч лет ни разу не состоялось подобной прямой встречи совладельцев планеты?»
И тут же решил, что, конечно же, место они имели, но достаточно локального характера и с такими же последствиями. А если и документировались с нашей стороны каким-то образом, то документы эти вошли в корпус так называемых «тайных знаний», надежно спрятанных в анналах жрецов верований любого толка, сионских, условно говоря, мудрецов, и оставили свои следы в легендах о нечистой силе и потаенных народцах. Все эти джинны, ифриты, тролли, гоблины, лешие, кикиморы и т. д. и т. п. – не что иное, как разные ипостаси дуггуров, преломленные за столетия в пересказах так или иначе причастных к контактам людей.
В пользу этой гипотезы говорило то, что все «легендарные существа» были, вот именно, существами дотехнологическими, зато владеющими разного рода магическими свойствами.
И очень может быть, что и сами дуггуры располагают столь же недостоверной и мифологизированной информацией, если верен постулат о том, что их как многокомпонентную межрасовую цивилизацию человечество в его нынешнем виде практически не интересует. Как не интересует большинство землян такая, к примеру, наука, как патофизиология беспозвочных: находится некоторое количество людей, готовых удовлетворять собственное любопытство за казенный счет, – и достаточно. Всем прочим хватает того, что время от времени в продаже появляются новые сорта репеллентов и инсектицидов.
Только не совсем понятно, что Шатт-Урх имеет в виду под своим обществом. На взгляд Новикова, такое понятие к конструкции дуггурской цивилизации едва ли применимо.
Левашов вдруг встал и вышел из круга. Сделал рукой успокаивающий жест, мол, я сейчас вернусь. Отошел на два десятка метров, подозвал ближайшего робота.
– Прикрой меня звукозащитным фоном, – распорядился Олег, обрисовав полусферу, обращенную в сторону дуггура и его «тарелок». Роботы имели встроенные генераторы помех во всех известных диапазонах волн. Левашов не знал, какова острота слуха парламентера и какая аппаратура может быть установлена на дископланах. А в кармане у него попискивал вызов датчика СПВ. Самой установки экспедиция с собой не имела, но в случае острой необходимости с «Валгаллы» можно было обеспечить прямой контакт. Для этого Олег изготовил маленький, чуть больше спичечной коробки приемничек с фиксированной настройкой. Он играл роль приводного маяка и переговорного устройства, жаль, что вызов проходил только с центрального пульта сюда. Обратно – не получалось.
Но ведь они твердо условились, что в этой реальности СПВ пользоваться не будут. За исключением случаев, когда терять больше нечего. Так прерывает режим радиомолчания торпедированный корабль.
Неужели у Воронцова дошло до этого? Да ведь и сами они в почти аналогичном положении.
– Слушаю, Дима. Что у вас стряслось?
– Аварий и катастроф пока не случилось. Все живы и здоровы, чего и вам желаем. Но прогулка ваша слишком затянулась. Считаю – нужно возвращаться. Срочно. Канал открывать точно по привязке? Никаких помех?
Дмитрий имел в виду не только чисто механические препятствия, но и наличие поблизости посторонних, видеть которым процедуру перехода не полагалось.
– Прямо сейчас? Что за пожар?
– Долго объяснять. Но если у вас нет очень серьезных возражений, лучше сейчас… Могу настройку чуть сдвинуть, если прямо к тебе неудобно. Скажи, куда…
По голосу Олега Воронцов понял, что у друзей обстановка достаточно спокойная, дыхание у друга ровное, стрельбы поблизости не слышно. Потому он и позволил подпустить немного двусмысленной иронии. Мол, я человек воспитанный, и если ты сейчас личной жизнью занят или еще чем-то, для посторонних глаз не предназначенным, тогда мешать не стану.
– Нет, если надо, то давай. Видишь ли, у нас тут гость внезапно объявился, из тех самых…
– И у вас гость?! – восхитился Дмитрий. – Роскошно. Один и без оружия?
– Не совсем один, а насчет оружия пока не разобрались. Слушай, я сейчас немного в сторону отойду, за укрытие. Туда и откроешься.
Левашов переместился за ствол дуба, за которым не только ему одному, но и еще трем человекам спрятаться можно было.
Рамка возникла в пяти шагах от развилки корней и на расстоянии вытянутой руки от Олега.
«Хорошо Воронцов наловчился с аппаратом обращаться, – подумал Левашов. – Точность прямо снайперская».
По ту сторону у пульта он увидел Дмитрия с Ростокиным. Одеты они были повседневно, никаких признаков экстраординарности. И, похоже, слегка навеселе.
– Добрый вечер, или что там у вас, ночь? Выходить кто будет?
– Кому, как не мне? – Ростокин перешагнул порог. – Командир на вахте. Здоров, что ли. – Они обменялись рукопожатием. Почти два месяца не виделись, по счету Ростокина.
Игорь с интересом огляделся, прищелкнул языком при виде колоссальных доисторических деревьев, освещенных ярким голубоватым светом вышедшей из за туч полной луны.
– Роскошно. Чистый Майн Рид. Дом на ветках еще не построили? А то вас все нет и нет. Думаем, вдруг они там тоже добычей слоновой кости занялись?[76]
Наверняка Ростокин только что оторвался от пиршественного стола.
– Ну и что за пожар приключился? – Левашов никак не мог вообразить, какая именно серьезная причина заставила друзей вводить в строй опломбированную установку. Вид у них был такой, что он начал подозревать розыгрыш. Скучно стало ребятам, вот и решили… Было это не в стиле Воронцова, он ко всем правилам, писаным и неписаным, всегда относился крайне серьезно. Кому и не знать, как Олегу, видевшему его на настоящей службе.
– Мы тут, понимаешь, первый раз с человекообразным, неагрессивным, конструктивно настроенным дуггуром встретились, переговоры ведем, и вдруг… До завтра подождать нельзя? Отдохнули бы, а уж потом…
– Очень сожалею, наш «отдых», тоже, кстати, чисто дипломатического характера, к делу отношения не имеет, – вмешался Дмитрий, увидевший, что Левашов превратно толкует состояние Ростокина. – Так что там у вас с дуггуром?
– Как раз сейчас и разбираемся…
– Конструктивно настроен, говоришь? Вот бы его сейчас с собой и прихватить для продолжения переговоров в более пристойной столь важной персоне обстановке. Как, получится?
– Даже не знаю, – замялся Олег.
Все ж таки дипломатия – не его конек. Воронцов это хорошо понимал.
Он бы сам сейчас вышел на эту сторону и в два счета все решил с Новиковым и Шульгиным. Но не мог в нынешней, опасно сгустившейся атмосфере, оставить пароход хоть на минуту. Нетрудно представить, что может случиться при малейшем сбое в работе установки или постороннем вмешательстве, которого он совсем не исключал.
– Не знаешь, и не надо, – довольно резко ответил Воронцов. – Андрея зови сюда или Сашку, кто свободнее. А сам там… Создавай впечатление, что «на Шипке все спокойно».
Слегка обидевшись, Олег ушел. Робот остался на месте, выполняя последнюю по времени команду.
Ростокин из укрытия выходить не стал, только, для душевного спокойствия, поманил пальцем «Гарри», как значилось на нашивке (роботам взятой в поход партии, раньше не имевшим собственных имен, в качестве таковых присвоили клички дворовых пацанов эпохи незабвенной «Великолепной семерки»). Вытащил у него из кобуры пистолет. Просто чтобы в руках что-то было, с пустыми чувствуешь себя глуповато.
Шульгин появился через несколько секунд.
– Привет, орлы! Итак? В чем вопрос? Олег как-то неотчетливо объяснил.
– Если отчетливо – сматываться надо. Есть такая популярная формула: «Осторожно, двери закрываются!» Улавливаешь? – ответил Воронцов. Это была та самая манера, которую и Шульгин уважал. Хороший полунамек вернее распространенной тирады.
– Ногу подставим, чуть придержим. Сколько у нас в запасе? – Сашка привык, что капитан никогда слов на ветер не бросал, в самых напряженных ситуациях, и решения единственно верные принимал, и обязательный резерв времени предусматривал.
– Мог бы сказать, что совсем нет. Но это так, навскидку. Одним словом – экстренная эвакуация. Плавающих на воде подбирать не будем…
– Доходчиво. – И тут же начал распоряжаться. – Ты, – повернулся он к роботу, – коней расседлать и отпустить на волю. Двоих с гранатометами оставить на позиции, прикрывать отход. Прицел на дископланы, а также по любой внезапно появившейся цели. Остальным – вручную катить фургоны сюда. Ты, Игорь, принимай команду над обозниками. А я сейчас.
Он вернулся назад, где Шатт-Урх и Новиков продолжали неспешную беседу. Снова только жестами он показал женщинам, чтобы без суеты и паники немедленно отходили к порталу.
Ирина кивнула и дала понять, что уйдет последней. Портсигар она так и вертела в руках, будто мусульманин четки.
Когда Шульгин встал за спиной у Новикова, дуггур поднял на него яркие глаза.
– Ты чем-то очень встревожен? Не дал ли я своими словами оснований? – сказал он очень мягко, и чувствовалось, что подобная возможность его обеспокоила и огорчила.
– Ни в коем случае, почтеннейший. Просто мы получили весть о том, что всем нам угрожает крайне серьезная и немедленная опасность. Чтобы продолжить столь удачно начавшиеся переговоры, нам следует укрыться в убежище. Когда опасность минует, мы вернем тебя на это же или любое другое, по твоему усмотрению, место. Мне очень неудобно, но другого выхода нет. Видишь, мы даже бросаем своих верных лошадей…
Действительно, в это время роботы уже снимали седла с дежурной пары, выпрягали четверку из ближайшего фургона.
– Откуда возникла опасность? Я уверен, что доступное мне ментальное пространство спокойно. – Дуггур встал, но поза его оставалась в меру расслабленной.
– Есть и другие источники. Ты должен понимать, что твоя безопасность нам не меньше дорога, чем собственная. Если с тобой что-то произойдет, другого случая встретиться с мудрыми из твоего народа может не возникнуть. Поэтому пойдем. Ты должен чувствовать, что мы говорим правду.
– Я не чувствую зла, – несколько уклончиво ответил Шатт-Урх.
– На первый раз достаточно и этого. Передай на свои дископланы, чтобы никаких враждебных действий не предпринимали. Хотят ждать тебя здесь – пусть ждут. Нет – могут улетать. Мы сами доставим тебя куда захочешь.
Дуггур все еще колебался. Кажется, наибольшее опасение ему внушала Ирина со своим блок-универсалом. У всех остальных оружие было в кобурах или на ремнях за спиной, а от портсигара исходила ощутимая им эманация угрозы.
Новиков качнул головой, и Ирина сунула свою игрушку в карман рубашки, повернулась и не спеша пошла вслед за Ларисой и Аллой. Ее выпрямленная спина и по-мужски твердая походка выражали не выходящее за рамки субординации несогласие с начальством.
– Прошу вас, – со всей возможной вежливостью повторил Новиков, обращением на «вы» подчеркивая, что это приглашение – последнее. Из дипломатических.
Шатт-Урх не стал упорствовать и пошел, куда указывали.
– Дископланы подождут меня здесь, им торопиться некуда.
Еще пять минут, и в вельде не осталось ничего, что напоминало бы о недавнем присутствии экспедиции. Только получившие неожиданную свободу лошади остались, не совсем понимая, что им теперь делать.
…Отвыкшие от цивилизации путешественники, прежде всего женщины, оказавшись на палубе «Валгаллы», после первых минут радостных приветствий и объятий почувствовали настоятельную необходимость привести себя в порядок. Одежда была прилично заношена, пропылена, и от всех резко пахло конским потом. В походе они этого не замечали, а сейчас, в стерильной чистоте парохода, вдруг увидели себя как бы со стороны. Да и не «как бы» – на переборках коридоров было достаточно зеркал.
– О господи, ужас какой! – воскликнула Анна, прижав ладони к обожженным солнцем и ветром щекам. – Немедленно в душ, в ванну…
– И в косметический салон, – подсказал Шульгин.
– И к модистке, – добавил Андрей.
В обширном холле на пересечении главного продольного и двух поперечных коридоров шлюпочной палубы, откуда вверх и вниз шли сразу четыре широких трапа, Лариса вдруг схватила Ирину за руку. Притянула к себе. В глазах у нее читалось все сразу – и радость, и облегчение, и неизжитый страх. Что же удивительного, ей в этом походе досталось больше всех. А усталость, накопившаяся за многие дни кочевой жизни, полной ежеминутных опасностей, действительных, мнимых и потусторонних, обычно наваливается сразу, как только исчезает необходимость держаться.
– Спасибо тебе, я не забуду…
– Да о чем ты? – Ирина провела по ее плечу ладонью. – Ничего ведь особенного. Раньше и хуже бывало…
– Нет, ты не понимаешь. Вы второй раз меня по-настоящему спасаете. Сначала Наталья и Левашов, тогда еще, в первый вечер в форте, вчера – ты. Оба раза я уже переставала быть собой, почти развоплощалась и – удерживалась на самом краю. Ты думаешь, я такая, такая… А если бы в тот раз Наталья не позвала меня «развлечься» на даче у «знаменитого писателя», я бы, может… Потом подумала – черт с ним, поеду. Захочется, лучше в красивом лесу на дереве повешусь, под шум дождя, чем в пустой комнате вены резать или таблетки глотать…
– Ну что ты, что ты, – успокаивала ее Ирина, ведя к двери каюты. Своей, не Ларисиной. – Теперь-то чего вспоминать? Сейчас искупаемся, посидим, поболтаем, намакияжимся и ужинать пойдем…
На самом деле она все понимала и помнила, сколько усилий приложила, никому ничего не говоря, чтобы при первой встрече, поняв, с кем имеет дело, выдернуть незнакомую девушку из пучины суицидной депрессии. Сумела в первые полчаса знакомства переориентировать ее психику на желание жить и любить, а не уйти туда, где «нет ни скорби, ни воздыхания».
Только не думала, что Лариса каким-то образом ощутила это и запомнила. Очень может быть, что случившееся в пещере дуггуров активизировало этот сегмент ее эмоциональной и интуитивной памяти.
Стереть все черные пятна в психике подруги, конечно, не получится без разрушения основы личности, а вот осторожно, очень аккуратно отклонить вектор настроения – вполне по силам. Особенно если глубинная суть психотравмы Ларисы известна и понятна.
С Левашовым ей сейчас оставаться наедине нельзя. Девушка это понимала инстинктивно, как кошка. Общение с ним, интеллектуальное или физическое, вызвало бы обратную реакцию. Почему она и обратилась к Ирине.
А та, уже начав индивидуальную терапию, проводила Ларису поплескаться в джакузи с горячей минеральной водой и тут же вызвала к себе Наталью и Анну. Что может быть лучше для подъема настроения, чем девичьи посиделки с необязательной, но тщательно срежиссированной болтовней?
У мужчин были свои заботы. В психологической реабилитации никто из них не нуждался, поэтому, сбросив походные доспехи, сполоснувшись под душем и переодевшись, Андрей, Шульгин, Левашов поднялись в салон, где их ждали Воронцов с Ростокиным и Антоном. Для комплекта не хватало только Берестина, но выдергивать его сейчас из Лондона было незачем. До тех пор, пока не потребуется принимать окончательное решение. А на промежуточное хватит и этого кворума. Или – форума, как избито, чисто по привычке, сострил Сашка.
Появление Антона на «Валгалле» удивило, но не слишком. Это было в его манере – внезапно появляться и так же внезапно исчезать на неопределенно длительные промежутки времени. Другое дело, что каждая встреча, как правило, сулила очередные повороты сюжета, усложнявшие жизнь, но одновременно открывала выход из предыдущей ситуации, тупиковой или угрожающей. Типичный «Бог из машины».
На этот раз он объявился достаточно быстро, несмотря на то что простились они едва ли не навсегда. Значит, остается подождать, посмотреть, что новенького форзейль им приготовил.
Скуратов мирно спал в своей каюте, а Шатт-Урху со всей возможной мягкостью было объяснено, что, ни в коем случае не являясь пленником, а полноправной дипломатической персоной, он должен некоторое время провести в изоляции. Несколько часов по земному счету. На это есть специальные причины, а в качестве компенсации он может попросить чего угодно. Хлеба (в широком смысле), зрелищ (имеющихся в видеотеке парохода) или…
– Спасибо. Я все понимаю. По сравнению с моими… соотечественниками и тем, как они пытались обойтись с вами, вы чрезвычайно… любезны, предупредительны, лояльны… Как будет правильнее?
– Всяко правильно, – ответил Воронцов, сопроводивший вместе с Шульгиным дуггура в удобную каюту, расположенную ниже ватерлинии, под защитой главного броневого пояса и лишенную иллюминаторов. Он, впервые познакомившись с представителем параллельной эволюции, держался с ним как с обычным гостем вверенного ему судна.
– Так что вам нужно, чтобы не очень скучать? Извините, не знаком с вашими обычаями и физиологией. Вот здесь – чистая вода, здесь можете получить чай, зеленый и черный, кофе любого сорта и способа приготовления. Пища – само собой. Этот молодой человек, – указал он на робота, одетого в костюм стюарда, – нисколько вам не мешая и оставаясь в прихожей, исполнит любое ваше пожелание и даст нужную информацию по любым бытовым вопросам…
В самом факте временной изоляции парламентера, или даже посла (если бы он вручил свои верительные грамоты), не было ничего необычного. В недавние времена постоянно имели место случаи, когда иностранные делегации месяцами, а то и годами ждали аудиенции у влиятельных особ. Восточных владык по преимуществу, но и не только.
– Спасибо. Я прибегну к помощи этого человека, если появится необходимость. Сейчас попрошу одного – дайте мне возможность познакомиться с ходом эволюции вашего мира. Тем способом, который доступен и не составит затруднений. Это то, чего нам не хватало раньше. Иначе мы избежали бы многих неприятных недоразумений.
– Никаких вопросов. Иван Иванович, – обратился Дмитрий к роботу, – организуй просмотр «Всемирной истории в самом кратком изложении»…
– Часов на пять-шесть, чтобы бегло пролистать, хватит, – пояснил он Шатт-Урху, – а потом, я надеюсь, мы действительно сможем перейти к непосредственному общению и с куда большей степенью взаимопонимания.
– Ох, и вымотался я, Мить, – откровенничал Шульгин, пока они с Воронцовым поднимались на лифте в кают-компанию, предназначенную для чисто мужского общения. Была и такая на пароходе наряду со всякими другими помещениями, где собирались по разным поводам и в разном составе. Эта так и задумывалось – копия офицерской кают-компании старого еще флота, куда не только женщинам, но даже и командиру корабля доступ был закрыт. В нынешние времена этому трудно поверить, но военно-феодальный демократизм при «прогнившем царском режиме» настолько охранял независимость офицеров, в часы несения службы полностью подчиненных командиру, что ему войти в кают-компанию было труднее, чем матросу-вестовому.
С петровских времен власть понимала, что у служивого человека должна быть отдушина, «приют уединения». Любые, самые крамольные по береговым понятиям, разговоры велись без опаски, просто потому, что любой, передавший их «куда следует», немедленно был бы вычислен и подвергнут такому остракизму, что поменяй он хоть пять кораблей и три флота, ни один порядочный человек не подал бы ему руки.
А что командир? Для него, самого одинокого на корабле человека, приглашение на ужин в офицерской семье было знаком уважения и признания. Не пригласят через месяц-два службы – или списывайся, или начинай воевать, один против всех, неизбежно в итоге, ломая если не карьеру, то репутацию.
Но это так, лирическое отступление в стиле Леонида Соболева.
На «Валгалле» кают-компания была хороша тем, что, обеспеченная от внезапного вторжения дам неизвестностью своего расположения, она давала ощущение безмятежной независимости.
Где же и не поговорить по душам, как не здесь?
Все вернулись, все живы, значительно пополнили запас жизненных впечатлений. Знать бы только, что с ними делать. Чем дальше в лес, тем больше дров, иначе не скажешь.
– Кто первый начнет? – спросил Новиков.
– Давайте сначала вы. Все ж таки и прожили вы без нас подольше, и приключения у вас значительнее. А я потом, – ответил Дмитрий.
Само собой, Андрею с товарищами гораздо интереснее было узнать, что за причины заставили Воронцова так экстренно менять заранее оговоренные планы и организовывать срочную эвакуацию, но ведь обратная теорема тоже верна. И раз он, волею обстоятельств, сейчас как бы старший по команде и владеет большим объемом важной информации, ему, наверное, нужно дать возможность связать все концы.
Опуская подробности многодневного скитания по вельду, очень коротко коснувшись обстоятельств стычек с англичанами,[77] Новиков, в нужных местах передавая слово Шульгину или Левашову, рассказал о встрече с дагонами и очередными разновидностями дуггуров.
– Мы были уверены, и Удолин почти гарантировал, что на ближайшую сотню лет проблем с этой вздорной расой у нас не будет…
– А где сейчас этот мощный старик? – осведомился Ростокин.
– По его словам, он в нашем форте на Валгалле в компании коллег-некромантов занимается изучением пленного третьей разновидности. На связь пока не выходил.
– Значит, тот, кого вы с собой притащили, – это четвертая? – уточнил Воронцов.
– По нашему счету – так. Завтра узнаем подробнее. Нам показалось, что он принадлежит или к своеобразным диссидентам внутри одной из страт,[78] или даже к иному виду. Здесь как раз очень невредно бы показать его нашему профессору. – Шульгин усмехнулся довольно двусмысленно.
– Теперь – твоя очередь, – сказал Левашов. – Что тебя заставило запаниковать?
– Паниковать не приучен. А вот интуицией бог не обидел. Это ведь я – автор на всем флоте вошедшей в анналы записи в докладной по итогам инспекторской проверки одного из кораблей. «Пункт шестнадцатый – пожарный щит установлен слишком далеко от места возможного пожара». Все долго смеялись, но не прошло и двух месяцев…
– Да знаем, знаем твои байки, – махнул рукой Новиков. – Не пора ли горло промочить? Можно не крепким, просто хорошим шампанским.
Шампанское Мумма, сухое, урожая здешнего 1896 года, настоящее французское, было немедленно подано вестовым в серебряной, набитой льдом братине, где поместилось как раз шесть бутылок.
– Чтоб два раза не бегать, – подмигнул Сашка роботу.
Воронцов сделал глоток, причмокнул, оценивая букет.
– Все ж таки умели делать. Касательно интуиции мне до вас, может, и далеко, однако сопоставлять подозрительные факторы, когда их накапливается достаточно, – обучен. К примеру – цвет моря, положение стрелки барометра, форма облаков, направление ветра в сочетании с идущим к твоему трапу катером под адмиральским брейд-вымпелом неминуемо означают шторм. С непредсказуемыми, как любят выражаться политические деятели конца ХХ века, последствиями.
– Вот мы сейчас и проверим, какой из тебя Кассандр, – оценил изящество силлогизма Шульгин. – Олег, давай-ка включи обзорное окно на место нашей последней стоянки.
– Хочу посмотреть, как там наши лошади себя чувствуют. Привык я к ним. Вдруг – львы или гиены нападут…
Олег пожал плечами и отошел к выносному пульту СПВ. Такие были установлены в особо важных постах корабля, с них можно было запустить главную установку и передвинуть в нужное место экран. За прошедшие годы Левашов, время от времени возвращаясь к инженерной деятельности, внес в конструкцию множество усовершенствований, и теперь она отличалась от исходной, как первый «грозоотметчик» Попова от современной коротковолновой станции.
Очень вовремя открылось «одностороннее окно». Как будто действительно Воронцов обладал ясновидением, превосходящим интуитивные способности «кандидатов в Держатели».
На поляне, которую они только что покинули, было совершенно темно, нормальная южная ночь при затянутом тучами небе. Но для СПВ это не имело значения, регулировка позволяла настроить видимость до уровня пасмурного дня, только цветовая гамма оставалась в границах зелено-фиолетовой части спектра.
Оба дископлана так и стояли на тех же самых местах, где их покинул хозяин, или – пассажир, отправленный с билетом в один конец.
Лошадей, судьбой которых Шульгин якобы озаботился, поблизости не наблюдалось. Ушли, наверное, в более обильные травой места, где заодно не было нечеловеческих механических устройств.
– Пожалуйста, что ты надеялся здесь увидеть? – обернулся к Воронцову Олег.
– Я и сам…
Договорить Дмитрий не успел. Между дископланами вспыхнула невероятной яркости шаровая молния. Если бы не сработали автоматические фильтры экрана, реагирующие на любое изменение поступающего извне излучения, наблюдатели наверняка ослепли бы. «Ярче тысячи солнц» – это преувеличение, но прямого взгляда на одно-единственное через бинокль тоже надолго хватит.
– Мать твою! – вскрикнул Олег, находившийся к «окну» ближе всех.
Разбухающий бело-голубой плазменный шар поглотил «летающие тарелки», походя обратил в бенгальские свечи рощу, захватил круг вельда радиусом метров в триста и исчез, как его и не было. Все происходило в полной тишине, только через пару секунд обрушился грохот хлынувшего со всех сторон в зону возникшего абсолютного вакуума воздуха. Кто бы посчитал, какая ударная волна возникла, когда вся толщина земной атмосферы провалилась в дыру такого объема?
– Круто, – почесал затылок Воронцов. – Я ожидал чего-нибудь попроще. Если б они по «Валгалле» такой штукой вмазали, тут бы нам и абзац…
Невольно все взгляды обратились к Антону. Какой-никакой, но все же специалист по экстраординарным и эзотерическим явлениям. До этого момента его если не игнорировали в открытую, то к участию в общей беседе не привлекали. Что, впрочем, вполне сочеталось с его собственной манерой общения.
– Ничего не скажу, – отрицательно мотнул он головой. – Плазменная бомба, это понятно. А вот зачем, почему с таким запозданием и с такой избыточной мощью – представляю не больше вашего. Единственная гипотеза – наводка осуществлялась не по «парламентеру», а по летательным средствам. Они наверняка имели какие-то опознаватели. Вообразить, что вы его успели утащить, они не смогли. С тем, что нам стало известно, это вполне сочетается. Мощность удара… Да кто его знает? При том разгроме, что вы учинили, легко можно предположить, что система связи и управления нарушена, какой-нибудь выживший «лейтенант», не имея других инструкций, пальнул из чего было. Не прояви Дмитрий своего военно-морского чутья, он бы своей цели достиг. И мы бы долго думали, братцы вы наши, куда вы все «без вести пропали»…
– А этот Шатт-Урх что, камикадзе? «Вызываю огонь на себя»? – с сомнением спросил Ростокин.
– Вряд ли. В подобном варианте удар был бы нанесен, во-первых – раньше, во-вторых – он бы всеми силами старался задержать вас там, он же ушел довольно спокойно…
– Сейчас доставим его сюда и расспросим, – поднялся с дивана Шульгин.
– Расспросим, но не сейчас. Час-другой вполне потерпеть можно. Запись атаки сохранилась?
– Она идет постоянно и автоматически, при каждом включении, – ответил Левашов. – Это я давно наладил.
– Тогда сначала сами разберемся, в чем можем, чтобы перед дуггуром совсем уж дураками не выглядеть.
Начали разбираться. Методом компьютеризированного мозгового штурма. Левашов наладил программу ситуационного анализатора. Прямо через микрофоны или с помощью клавиатуры каждый участник мог вводить в машину все, что считал имеющим отношение к делу. Достоверные факты, ссылки на слухи и собственные смутные воспоминания о чем угодно, гипотезы любой степени бредовости, на ходу возникающие «мнения по поводу». Программе оставалось группировать поступающую информацию по релевантности,[79] сопоставлять с уже имеющейся в долговременной памяти, выстраивать аналогии между явлениями и аналогии между аналогиями. После чего графопостроитель начал рисовать на экране труднодоступную непосвященным мозаику из разноцветных линий, символов, пиктограмм и таблиц.
Каббалистика своего рода, в которой до конца разбирался только Левашов, но окончательный результат мог узнать каждый, не имея, правда, возможности проверить его корректность.
Удивительным образом эмпирические озарения Воронцова довольно близко совпадали с исчисленными формулами.
– Видите, я что-то такое и подразумевал. Нас снова замыкает на «химеру», – с чувством глубокого удовлетворения сказал Дмитрий, отворачиваясь от экрана и закуривая. – Хорошо, что наука со мной согласна. Это как у Перельмана в «Живой математике». Там студент-репетитор задачку из учебника Киселева про цены на куски разносортного сукна и холста с помощью дифференциальных уравнений пытался решить, а папаша обучаемого, купец малограмотный, меньше чем за минуту на простых счетах справился…
– Да-а, – с непонятной интонацией протянул Ростокин.
– И все же, как ты сумел угадать неизбежность, а главное – момент атаки? – не успокаивался Левашов. Его задевало, что даже пользуясь полученной схемой, предположить данное событие было не так уж просто. Точнее, веера и горизонты возможностей даже на ближайшие сутки были столь многочисленны и многовекторны, что вероятность обратить внимание на один-единственный вариант, теряющийся среди массы почти равнозначных, стремилась к нулю.
Воронцов еще потянул паузу, а Шульгин уже заулыбался, догадавшись, какой ответ сейчас последует. Он ведь тоже был признанным интуитивистом. Секундой позже Новиков тоже сообразил, в чем хитрость.
– Весь фокус, Олег, не в том, чтобы на каждый случай жизни составлять инструкции и прогнозы, предусматривающие все на свете. Утонешь в массе никчемных подробностей. Служба на море приучает к совсем другим методикам. Исходишь прежде всего из того – какая вероятность максимально нежелательна и опасна. Например, для полярного конвоя – торпедная атака. Соответственно ориентируешь экипаж, готовишь пластыри и аварийные партии, разрабатываешь противолодочные зигзаги похитрее. Возможность попасть под удар метеорита временно игнорируешь. И так далее.
В нашем случае я обратил внимание на чрезвычайное сгущение не вполне обычных явлений, разнесенных во времени и пространстве, но ориентированных в одну сторону. В нашу. Непонятная суета в мире Игоря, завершившаяся появлением господина Скуратова. Нервный срыв у Замка, заставивший перебраться к нам Антона. Странные деформации времени и битва с дуггурами у вас. Ну и еще кое-какие тревожащие признаки. Как только я это сопоставил, сразу стало очевидным, что самым катастрофичным будет ваша гибель или исчезновение, что равнозначно. Вот я и решил прежде всего выдернуть вас из «неконтролируемой зоны». Теперь мы все в сборе и прочие загадки природы будем рассматривать по мере поступления.
Ну а то, что я именно сейчас решил посмотреть, как там с этими дископланами обстоят дела, отнесем на счет удивительного совпадения. Могли раньше стукнуть, могли чуть позже, но нам повезло…
– Вот так и рождаются нездоровые сенсации, – хохотнул Новиков. – В остальном Дима абсолютно прав. Исходи из худшего, надейся на лучшее.
Бдение в кают-компании затянулось надолго. Чтобы уж разом разобраться со всеми непонятностями с учетом вновь открывшихся обстоятельств и прийти к единому мнению по поводу дальнейших действий.
Машинный анализ сам по себе никаких рекомендаций не давал, он лишь позволил сгруппировать имеющиеся факты и намеченные тенденции, но опять же с учетом исключительно прошлого опыта. Выход в Гиперсеть отныне был закрыт, прибегнуть к помощи Замка в обозримом будущем не представлялось возможным, компьютер «Валгаллы», при всей его мощности, был всего лишь железом, прозрений и «советов постороннего» от него ждать не приходилось.
Сюжет, как любил выражаться Новиков, опять закольцовывался, возвращался к своему прологу. Так же они некогда сидели этим почти составом в мастерской Берестина, гадали, что им сулит грядущее, пытались найти приемлемые пути спасения. Многое с тех пор повидали, узнали, совершили. Было – едва не сравнялись в мощи и статусе с Игроками, и снова – почти что у разбитого корыта. Не стало Игроков – их собственное существование, по большому счету потеряло смысл. Как у чемпиона, которому вдруг не с кем стало соревноваться. Вообще. А значит – не будет больше азарта борьбы, поражений, мобилизующих на новые победы, пьедесталов, медалей, поклонников и ненавистников. То есть не будет самой жизни в привычной для них форме.
«Вступивший на Дорогу Славы уже не может с нее сойти – или же перестает быть Героем». Чемпион мира по штанге переквалифицируется в грузчика на захолустной станции. Вратарь Республики снова ловит вместо мячей арбузы на волжской барже. Или как там у Брюсова: «Одиссей многомысленный благородно дряхлеет в ничтожной Итаке».
Не совсем все так мрачно на самом деле обстояло.
В пределах и этой, и остальных обжитых реальностей, за исключением ростокинской, они остаются самой могущественной тайной организацией, способной ощутимо влиять на экономику, политику, установить собственную криптократическую власть в любой, по выбору, стране. Той технической мощи, что сейчас сосредоточена у них в руках, достаточно, чтобы выиграть любую войну. Только совсем не ясно – для чего? На примере Югороссии ясно – никакого личного счастья это не принесет. Кое-какое удовлетворение – да, но не больше.
– Будем подводить итоги? – зевнув, спросил Новиков. – Я думал, мы достигли дна в предыдущем томе нашего жизнеописания. Но если пессимист мрачно заявляет, что хуже быть не может, оптимист радостно восклицает: «Может, может!»
– Не вижу оснований, – пожал плечами Ростокин. – Ничуть наше положение не ухудшилось. Это у тебя, наверное, остаточный постдепрессивный синдром. Из всех испытаний мы снова выбрались с честью. О дуггурах знаем гораздо больше, чем раньше. Из Замка уходили добровольно, и не помню, чтобы речь шла о скором туда возвращении. Затеялись бурам помогать – война идет более чем успешно. Сейчас к нам присоединились Антон и Виктор. В итоге мы стали сильнее. В резерве – Удолин с его некромантами и Шатт-Урх, от которого можно ждать интересных откровений, после того как он увидит, что сделали его сородичи. Что касается моего времени, Суздалева и Маркина – готов туда сходить, хоть завтра, вместе со Скуратовым, на месте посмотреть… Хочешь, Андрей Дмитриевич, – вместе навестим старых знакомых. А что никаких новых авантюр начинать пока не нужно – тут я уверен.
– Согласен с Игорем, – кивнул Левашов. – Мне со Скуратовым интересно будет поработать. Повысить квалификацию, – усмехнулся он. – Я бы начал с вызова сюда Удолина. А то и самому на Валгаллу нагрянуть как снег на голову. – Он подошел к иллюминатору, открыл, впуская в каюту свежий воздух. – И Урха нашего с ним свести, очную ставку с «пятерочным пленником» устроить. На нейтральной территории.
– Значит, возможность следующего удара прямо по «Валгалле» вы исключаете?
– Я бы ее не преувеличивал, – ответил Воронцов. – Могли бы – ударили. Только они о ней просто не знают. А точнее нам скоро парламентер расскажет.
– Так что, оставляем все, как есть? – спросил Андрей. Сам он давно склонился к этому решению, но хотел единогласия.
– С учетом высказанных предложений – выходит, что так, – подтвердил Шульгин. – Бежать куда-нибудь еще не имеет смысла. Кому очень захочется и окажется по силам – где угодно найдут. Замок – может? – повернулся он к Антону.
– До сих пор сам по себе, без моей помощи – не мог. Теперь – не знаю. Черт его знает, до каких степеней Арчибальд самоусовершенствовался…
– Этим мы с господином Скуратовым тоже займемся, – обнадежил Левашов. – Одним словом, работы всем хватит. Что-что, а скука и безделье нам не грозят.
– Вот и слава богу. По этому поводу допиваем совсем уже выдохшееся шампанское – и по койкам. Утренняя побудка и построение к подъему флага на сегодня отменяются. Только вот еще одно, – как бы невзначай вспомнил Воронцов вещь совершенно на общем фоне малозначащую. – Приблизительно в тринадцать ноль-ноль намечена встреча с английской крейсерской эскадрой, идущей для встречи конвоя с войсками из Бомбея. Сам конвой наш юный друг Белли, на днях произведенный мной в капитаны второго ранга, уже обезвредил. Без ненужного кровопролития загнал его на Мадагаскар, где славные британские солдаты найдут себе много интересных занятий. Закончив эту операцию, идет к нам и эскадре адмирала Балфура навстречу, горя желанием устроить просвещенным мореплавателям подобие Цусимы и даже хуже…
– Так и что? Эту баталию ты ж вместе с ним наверняка планировал? – Шульгин искренне не понял, к чему ведет Воронцов.
– Было дело, – согласился Дмитрий. – Но сейчас мне как-то расхотелось. Сколько можно…
– Не вижу затруднений. Не хочешь воевать, дай радио Владимиру, и уходим.
– Не все так просто. Не найдя конвоя в точке рандеву, Балфур непременно начнет его искать и найдет. Не слишком это трудно. Примет войско на палубу, доставит в Кейптаун. У Басманова дополнительные заботы возникнут. Там из Австралии пара дивизий подтянется, из метрополии, если мы невмешательством займемся…
– Слушай, у всех уже мозги не ворочаются, что ты опять загадки загадываешь?
– Прошу общей санкции, – официальным тоном заявил Воронцов, – в целях деморализации противника, а также руководствуясь идеалами гуманизма и непротивления злу насилием, вместо уничтожения эскадры артиллерийским боем организовать ее депортацию в любое время любой реальности по усмотрению высокого собрания…
Слова Дмитрия произвели впечатление. Сказанные нарочито казенным языком, они несли в себе не только прямой смысл. Крылось за ними что-то еще, не всем и не сразу понятное. Впрочем, давно известно, что длительное пребывание наедине с морем и самим собой весьма обостряет мыслительные способности.
– То есть – через СПВ? – уточнил Левашов.
– Как же еще? С «Призраком» получалось, почему с восемью крейсерами нельзя?
– Можно-то можно. Но это какой расход энергии. И расчеты нужно делать…
– А ты поспи часика четыре, за это время машина предварительно посчитает. Энергии хватит, это я гарантирую. Остальное за тобой. Эффектно может получиться… Не хуже, чем в самый первый раз, с «Мерседесом», – это он уже всех сразу обнадежил.
– Да кто бы спорил. – Шульгин быстро прокручивал в голове то, что не стал договаривать Воронцов. – Руки, значит, оставляем чистыми, англичане деморализованы и где-то даже ввергнуты в отчаяние. Человечество получает очередную загадку века – бесследное исчезновение могучей эскадры. Это вам не звено самолетов в Бермудском треугольнике!
– А мы – великолепную акцию прикрытия, – добавил Антон. – Ей-богу, здорово придумано. На фоне имевшего место плазменного взрыва почти тут же происходит сотрясение континуума, эквивалентное перемещению массы в полсотни тысяч тонн. На Таорэре слышно будет… Замок уж точно засечет. И вообразит, что мы опять куда-нибудь ушли. Вместе с «Валгаллой»…
– Легко. Шпионов у него здесь точно нет. И мы получаем несколько сравнительно спокойных дней, чтобы разобраться с более кардинальными вопросами…
– Без кардинальных нам никуда, – то ли в шутку, то ли всерьез бросил Ростокин, до сих пор так и не сумевший привыкнуть к некоторым аспектам своего нынешнего бытия. Оно и неудивительно: в круг «Братства» они с Аллой вошли намного позже всех остальных, да и здесь чаще держались несколько наособицу, многие заботы уроженцев середины ХХ века они просто не в состоянии были принять близко к сердцу.
– Что поделать, брат, что поделать. Закон природы, не знаю, кем сформулированный. По мере усложнения системы экспоненциально возрастает количество сбоев и неполадок в ее работе, – успокоил его Новиков.
– В теории. На практике еще хуже. Клаузевиц, вводя понятие «трение на войне», особо подчеркнул: к закономерным неполадкам в работе сложной системы непременно присоединяются случайности, которые заранее учесть невозможно, а также «туман войны», то есть непредсказуемость действий противника, как по причине разницы в стиле мышления, так и того, что он также подвержен воздействию собственного «трения», – академическим тоном продолжил Воронцов, будто выступая на семинаре перед курсантами ВВМУ имени Фрунзе.
– И вся высокая теория в итоге сводится к сермяжной истине: «Чем дальше в лес, тем больше дров», – подвел итог Шульгин.
На правом крыле верхнего мостика «Валгаллы» собрались все, включая Скуратова. Он благополучно проспал почти десять часов и только сейчас узнал от Игоря подробности минувшей бесконечной ночи. За завтраком перезнакомился с вновь появившимися «братьями и сестрами». Обе стороны проявили друг к другу вполне понятный интерес, вызванный, впрочем, разными причинами. Виктор для хозяев был прежде всего человеком, значительным именно в своей научной ипостаси, могущим принести практическую пользу как здесь, так и у себя дома. Личные качества пока отходили на второй план. Достаточно, что он друг Ростокина. Остальное будет видно в процессе.
Совсем не то у Скуратова. Эти люди его интриговали как раз иномирностью. Тем, что принадлежали к другому времени и фактически к другой цивилизации. Технические чудеса как таковые особого значения не имели, куда важнее ему казалась их психология и логика. Логика существования, поведения, мышления.
И он жадно, но стараясь не подавать вида, ловил каждое слово, жест, взгляд, мимику, стараясь составить собственное представление о каждом и о компании в целом как системе. При этом «сестры» его занимали больше. С мужчинами в лице Антона и Воронцова он более-менее разобрался. Наталья, вчера в основном исполнявшая роль хозяйки, принимающей незнакомого гостя, была чересчур сдержанна и немногословна, представление о ее натуре и характере осталось у Виктора самое поверхностное.
Зато сейчас условия для исследования были идеальные. Пять женщин, связанных дружескими узами, давно не встречавшихся, в окружении своих мужчин, настолько привычных, что на них можно почти не обращать внимания, давали богатый экспериментальный материал.
Все они были красивы. Даже весьма эффектная, по меркам благополучного XXI века, Алла Одинцова-Варашди ничем на их фоне не выделялась. Скорее – кое в чем и проигрывала. Особенно Ирине и Ларисе. Кроме идеальных фигур и безупречно изваянных лиц (очень разных, но одинаково ненаглядных), в них было что-то еще, углубляющее и усиливающее впечатление. Как экзотические приправы, придающие особый колорит самому лучшему блюду.
Тут Скуратов вспомнил теорию знаменитого биолога, психолога и историка середины своего прошлого века, Ивана Ефремова, впервые сформулировавшего научные обоснования понятия «красота». Он тоже часто использовал в качестве примеров и образцов именно разные типы красоты женской, в широком историко-географическом контексте.
Очевидно, что стиль и шарм «сестер» напрямую связаны с особенностями мира, в котором они родились и сформировались.[80]
Влюбиться в таких можно с первого взгляда, потому что подсознание раньше сознания догадается, что эти будущие подруги идеально предназначены к своей роли и функции. Абсолютно здоровы, сильны, выносливы. Выражение глаз, первые же произнесенные фразы, тембр голоса, интонации свидетельствуют об уме, проницательности, эмоциональной сбалансированности. Для того чтобы встретить взаимность, от мужчины требуется самая малость – обладать конгруэнтным[81] набором качеств.
Но с этим, кажется, в здешней компании проблем не было. Более того, специалист отметил, что наблюдается отчетливое взаимодополнение, не только попарное, но и перекрестное. Вот уж воистину «Братство».
И еще одно показалось Скуратову не то чтобы удивительным, удивляться он давно отвык, а теоретически крайне маловероятным. Он сам почти немедленно начал ощущать свою как бы вписанность в необычное содружество. Каждый из присутствующих зеркально отражал одну из составляющих его собственной личности.
Новиков – явно психолог, это ощущалось помимо произносимых им слов. На невербальном уровне.
Шульгин – великолепно подготовленный спортсмен, и замашки бретёра присутствуют. Автор, по словам Антона, очаровавших Виктора эротических витражей в Замке. И – логик высокого уровня.
Левашов – гениальный инженер-электронщик. Перед человеком, который на удивительно примитивной элементной базе смог создать то, до чего за сто с лишним лет, прошедших после его рождения, земная наука так и не дошла, Скуратов готов преклонить голову. Одновременно Ферма и Эварист Голуа в теории, Эдисон и Новосильцов[82] в практике.
С каждым из этих людей ему всегда найдется о чем поговорить, а при благоприятном стечении прочих обстоятельств – и подружиться. У Ростокина ведь это получилось.
Все присутствующие на мостике были вооружены биноклями и вглядывались в норд-остовые четверти горизонта. Там, едва заметные, курились дымки вспомогательных крейсеров Белли. Еще час двадцатиузлового хода тем же курсом, и откроется сам отряд.
Воронцов, которому любопытствовать было ни к чему, занимался своим делом в рубке. Он наблюдал за диспозицией на большом экране, дававшем цветную проекцию моря в радиусе пятьдесят миль. Эскадра Балфура приближалась с юга курсом NO 40, скорость – шестнадцать узлов. Подойдут к месту через два с половиной часа. Все соответствует расчетам.
Он вызвал по радио Белли.
– Я тебя уже вижу. Через полчаса и ты меня обнаружишь зрительно. Отряду прикажешь сбавить до пяти узлов, поворачивать на SW 280. Сам идешь прежним курсом и скоростью. Понял?
– Что, план меняется? – уточнил Белли.
– Довольно сильно. Появились новые соображения и обстоятельства. Увидишь англичан, дай и им посмотреть на себя как следует, потом ворочай на шестнадцать румбов и узлах на двадцати двигай в сторону якобы каравана. Командирам передай, по твоему сигналу пусть плеснут в топки мазута не жалея. Чтобы дыма – на полнеба. Я буду и в видимости, и на связи, но ты внимания до особой команды не обращай. Понял?
– Так точно, Дмитрий Сергеевич!
– Значит, работаем.
Левашов в посту управления СПВ заканчивал тонкие настройки. Сложность в предстоящей операции была всего одна. Он не до конца был уверен, что техника выдержит последовательный, с интервалами пять-шесть минут проход восьми единиц с массой от шести до одиннадцати тысяч тонн каждая. Это ведь восемь сильнейших динамических ударов. Тот раз, когда он перебрасывал «Призрак» из Эгейского моря в Индийский океан, при его четырехстах тоннах грохнуло основательно, так, что все, кому нужно, приняли это за взрыв мины заграждения. Каково сейчас будет?
Он вспомнил, как нервничал, когда при помощи недоделанной, экспериментальной установки рискнул подловить на шоссе преследовавший Шульгина аггрианский «Мерседес». Вот там действительно был риск. Смертельный. Пан или пропал в буквальном смысле. До сих пор вспоминаются мурашки по спине, вздрагивающие руки и непрошеные мысли о том, что произойдет, если аггрианские боевики успеют затормозить или объехать гостеприимно открытую для них дверь в неведомое. А здесь…
Расчеты показывали, что ничего страшного не произойдет, но лучше подстраховаться.
Он снял трубку внутреннего телефона, вызвал рубку. Сообщил Дмитрию о своих опасениях.
– Ясно. Со своей стороны, могу предложить – заведем их за собой в полосу тумана, тут как раз подходящий к осту просматривается, и будем ловить по одному. Устроит?
– Да, так будет надежнее.
– Тогда поднимайся наверх. С дистанционным пультом. Сам и будешь моменты подбирать.
– Есть, командир, – повеселевшим голосом ответил Олег. Наверху, само собой, интереснее будет, чем в корабельных низах. И своими глазами ход «боя» увидеть можно, и вообще… Интересное общество, с которым и мнениями можно обмениваться, и совет умный получить. Не попросишь, сами подскажут. Только успевай уворачиваться. От советов.
Адмирал Балфур с удовлетворением выслушал доклад рассыльного с вахты. На горизонте замечены дымы. Хорошо работают штурмана и в конвое, и на эскадре. Он всегда с уважением относился к морякам торгового флота, навигаторы они хоть куда, получше, пожалуй, чем военные.
Он начал неторопливо подниматься по крутым трапам на верхний мостик. С крыши ходовой рубки адмирал видел весь свой походный ордер. В кильватер за флагманом вытянулись лучшие, самые современные крейсера британского флота. Его краса и гордость – «Ниоба», «Андромеда», «Амфитрита» – четырехтрубные, в одиннадцать тысяч тонн каждый, вооруженные шестнадцатью шестидюймовыми и четырнадцатью трехдюймовыми орудиями, на испытаниях показали двадцатиузловую скорость, даже несколько больше. Жаль, что их четвертый систер-шип, «Диадема», стоит в доке после подрыва на мине и до конца войны наверняка не вступит в строй.
Дальше, слегка расплываясь в густеющей к весту дымке, образованной туманом и сносимым ветром дымом из шестнадцати высоких труб, красиво резали волну крейсера второго отряда: «Фьюриэс», «Виндиктив», «Тэлбот» и «Минерва». Эти были водоизмещением почти вдвое меньше и вооружены слабее, четыре-пять шестидюймовых, шесть стодвадцатимиллиметровых пушек. И все же в целом эскадра представляла грозную силу, ни один из вероятных противников в Европе не мог бы выставить равноценный отряд.
Адмирал, однако, помнил, что однотипные и даже более сильные крейсера «Гибралтар», «Эклипс», «Арроган» и «Гладиатор» в ходе двух коротких стычек с «бурским» крейсером понесли ужасающие потери в личном составе и полностью потеряли боеспособность. Но считал тот досадный инцидент чисто тактическим проигрышем, никак не похоронным звоном по силе и славе ХМН.[83]
Сэр Мэнсон Хиллард был захвачен врасплох, не смог правильно оценить обстановку, построение эскадры не обеспечило своевременного выхода тяжеловооруженных кораблей в огневые позиции, и так далее…
Все эти просчеты он учел, командиры крейсеров проинструктированы, план боя предусматривает несколько вариантов, да вдобавок он заготовил врагу парочку неприятных для него сюрпризов. Адмирал Нельсон выигрывал сражения в гораздо худших условиях и соотношении сил. Кто знает, может, и Балфуру суждено стать Нельсоном наступающего ХХ века? Рыцарем, а то и лордом. Простонародное происхождение его мучило до сих пор. Адмиральские нашивки получил, а вожделенную приставку «сэр» к имени – нет. Обидно.
Верить в это хотелось страстно. Тем более в графе «Удачливость» (была и такая в стандартных формах аттестации офицеров флота) у него регулярно появлялись оценки «good» и «very good». Хотелось бы только знать – его удачливость на флотоводческие дела распространяется или ограничивается рутинными успехами в личной карьере мирного времени? В боях, даже самых пустяковых, ему участвовать не приходилось. Да и никому из офицеров британского флота моложе семидесяти лет – тоже. С самой Крымской (она же – Восточная) войны.
Вот и погода сегодня явно благоприятствует. Плотная дымка, постепенно переходящая в туман, сгущалась и к западу, и к востоку, оставляя северную часть горизонта сравнительно чистой. Дистанция отчетливой видимости не превышала шести миль, что лишало противника его главного преимущества – прицельной дальнобойности.
Если он, наткнувшись на десятикратно превосходящий по числу орудий и двадцатикратно – по весу залпа организованный отпор, просто сбежит, пользуясь преимуществом в скорости, основная задача – довести до места конвой – будет выполнена. А если удастся положить в рейдер несколько снарядов главного калибра – ему конец!
Балфур приказал четверке крейсеров 2-го класса начать коордонат для перестроения в параллельную кильватерную колонну, пятью милями правее.
Понятное дело, шансы на то, что бурский скаут появится здесь и сейчас, были исчезающе малы. Неоткуда ему было узнать о движении конвоя, о том, что эскадра вышла в море для его встречи, и уж тем более – о намеченной точке рандеву. Не мог один-единственный легкий крейсер контролировать тысячи квадратных миль двух океанов. Если где ему и быть сейчас, так это болтаться в окрестностях мыса Доброй Надежды, где только и есть надежда перехватить бредущие без охранения транспорты.
Адмирал не то чтобы делал ставку на невероятное стечение обстоятельств, он (в чем совпадал по стилю мышления с Воронцовым) рассматривал свою миссию, как обычную шахматную задачу. Совершенно неважно, каким образом сложилось на доске положение, когда черному королю и слону нужно поставить мат в три хода своим королем и двумя конями.
Сейчас – аналогично. Имеется вводная: «Если враг появится здесь и сейчас известными силами – ваши действия?» На этот случай он имеет ответ. Не появится – и говорить не о чем.
– Все идет, как намечено, – сообщил Воронцов на «Изумруд». – Клади руль на SO 130, немного прибавь ходу. Заметишь четверку бронепалубных, сближайся кабельтовых на шестьдесят, стрельни несколько раз, близкими недолетами. Ответят – начинай отход на ONO 80. Не спеша, оставаясь в пределах их дальнобойности. Только не подставься… Вспомогательным крейсерам поворот «все вдруг» на SSW 200, скорость двенадцать.
– Будет сделано в лучшем виде, ваше превосходительство, – с задором ответил Белли. План действительно менялся, но флагману виднее. Он быстро изобразил на карте схему маневра с учетом полученного приказа.
Замысел Воронцова начал вырисовываться. Судя по всему, Дмитрию Сергеевичу захотелось тряхнуть стариной. Давно не стрелял с «Валгаллы» главным калибром. Но это значит – английская эскадра обречена на полное уничтожение. Со всем личным составом. Было ведь решено – пароход и его реальную огневую мощь не засвечивать. То есть в случае использования мощных орудий «Валгаллы» свидетелей остаться не должно. Технически – никаких проблем, но психологически совсем не похоже на Воронцова. Он что, утопив крейсера, даже спасающихся с воды подбирать не станет?
Или политическая обстановка каким-то образом изменилась и в секретности отпала необходимость? Ставки подняты до предела и пришла пора раскрывать карты? В этом случае командир может повторить то, что сам Белли проделал с «Гибралтаром» и «Эклипсом». Без лишнего кровопролития лишить эскадру хода и оставить на произвол судьбы. Раньше чем через неделю на шлюпках до ближайшего пункта, откуда можно дать телеграмму в Кейптаун, им не добраться. А если за это время налетит хороший шторм?
Законы войны запрещают оставлять экипажи терпящих бедствие вражеских кораблей без помощи. При этом шлюпки вдали от берегов надежным спасательным средством не считаются.
В любом случае не дело новоиспеченного кавторанга – забивать себе голову вещами, его не касающимися. Что начальство прикажет, то и будем делать.
Сейчас, стоя на мостике вверенного ему крейсера, он не воспринимал себя как почти равноправного члена «Братства», имеющего право голоса. На войне демократии не бывает. А если бы и была? К «гуманизму» старших товарищей он всегда относился с пренебрежением, хорошо, хватало ума его не демонстрировать. На самом деле он всегда считал, что враг должен быть уничтожен, как это всегда делали Ушаков, Лазарев, Нахимов. Или – белый флаг, или – морское дно.
«Изумруд», раскручивая турбины, резко прибавил ход. Пенная струя из-под кормы обозначила на морской зыби плавную дугу.
Покинутые им вспомогательные крейсера, дымя изо всех сил, тоже начали перестроение.
Балфур, наблюдая по направлению дымов очевидное изменение конвоем правильного курса, выводившего на встречающий отряд, с долей недоумения приказал довернуть руль к весту. Как бы там ни было, не позднее чем через полчаса он увидит эти пароходы, и они увидят его.
Он перевел бинокль на второй отряд, предводительствуемый «Фьюриэсом», которым командовал коммодор Купер. Он же исполнял сейчас обязанности младшего флагмана. Достойный офицер, инициативный и решительный. Как раз подходящий для службы на крейсерах.
Постепенно растворяясь в тумане, почти прозрачном вблизи, но на отдалении сгущающемся до непроницаемости, крейсера перестраивались в строй пеленга, чтобы увеличить обзор в зоне патрулирования и, при обнаружении неприятеля, обеспечить одновременный ввод в действие всех курсовых орудий. В обычном кильватерном строю вести огонь прямо по носу мог бы только головной корабль.
Балфур удовлетворенно кивнул и вернулся к наблюдению за конвоем.
Коммодор Купер коротал время за беседой со старшим офицером на тему, к поиску противника отношения не имеющую. Он вообще не верил в возможность встречи с «одиноким волком», как на эскадре прозвали бурский рейдер за манеру его действий – выскочить из засады, выхватить из отары зазевавшуюся овцу и тут же скрыться. Однако возражать адмиралу на совещании не стал, считая, что тренировка в условиях повышенной боевой готовности экипажам не повредит. Вдобавок он по собственной инициативе несколько раз за время похода объявлял тревоги: артиллерийскую, пожарную, водяную, по отдельности и все сразу, причем убедился, что люди действуют хотя и правильно, но слишком медленно. Явно вполсилы.
К сожалению коммодора, действенных мер для настоящего взбадривания ленивцев у него в распоряжении не имелось. Не то, что на российском или германском флотах. Ни цепочкой от боцманской дудки нельзя подстегнуть нерадивого, ни под ружье на баке поставить, ни, как встарь, под килем протянуть. Прошли те добрые времена. Теперь гордый вольнонаемный британец свои права знает.
Вот и сейчас! Разболтанность сигнальщиков и даже вахтенных офицеров дошла до такой степени, что первый доклад о появлении по правому крамболу неизвестного судна прозвучал, когда до него оставалось не больше трех миль. Туман, конечно, туманом, силуэт даже в бинокль выглядел размытым, трудно определяемым, три прямых широких трубы совсем не дымили, однако при должном внимании его следовало обнаружить гораздо раньше.
Купер громко выругался, перебегая на обращенное к чужому кораблю крыло мостика. Ему хватило нескольких секунд, чтобы понять – скептицизм был напрасен. Волк пришел за добычей. Каким образом он сумел ее найти в безбрежном океане – в данный момент совершенно неважно. Наверняка в штабе флота есть шпионы, имеющие доступ не только к планам командования, но и к телеграфной линии с Дурбаном. Говорили, что при эвакуации ее во многих местах разрушили, но, выходит, буры успели восстановить.
Коммодор только приказал играть боевую тревогу, комендоры по трапам и палубам бежали к орудиям, еще не заработали элеваторы подачи полузарядов из погребов, как вражеский крейсер уже открыл огонь. Четыре высоких всплеска легли недолетами.
Очевидно, для рейдера встреча тоже была неожиданной. Он шел перпендикулярно курсу отряда и заметил его всего на несколько минут раньше. Только чтобы наскоро сделать залп «навскидку», не успев верно определить дистанцию.
По команде Купера сигнальщики торопливо поднимали к гафелю трехфлажные боевые сигналы. По заведенному еще в начале века порядку каждый из флагов имел как цифровое, так и буквенное обозначение, что в результате позволяло передавать по эскадре весьма пространные распоряжения, содержащие даже рассуждения философического плана.
Например, «741» с помощью цифровой сигнальной книги расшифровывалось: «Адмирал видит свое преимущество и поэтому приказывает всем кораблям прорезать линию противника и поставить его в два огня». Ну и тому подобное. При должной тренировке и хорошей памяти командиров и сигнальщиков найти нужный номер в толстой, но рационально построенной книге, выбрать подходящие флаги и поднять их можно было за одну-две минуты. Столько же – чтобы увидеть, разобрать и расшифровать по такой точно книге на других кораблях. Не намного дольше, чем при использовании фонаря Ратьера, пишущего азбукой Морзе.
Сейчас Купер приказал мателотам, увеличив ход до самого полного, открыть по рейдеру беглый огонь из всех стволов, включая малокалиберные, дистанция позволяла надеяться, что и они достигнут цели.
Мысль одновременно перестроить отряд в кильватерную колонну, чтобы ввести в действие пушки кормовых плутонгов, он оставил. Две задачи одновременно могут породить беспорядок и смятение в умах командиров, в способностях которых решать одновременно огневые и навигационные задачи он сомневался.
Пусть идет как есть. Строй пеленга удобен еще и тем, что почти исключает возможность навалов и столкновений при неудачном маневрировании. Слишком памятна была история, когда в 1893 году броненосец «Кампердаун» при штилевой погоде и отличной видимости отправил на дно таранным ударом своего флагмана «Викторию» вместе с адмиралом Трайоном и половиной экипажа.
Рейдер успел сделать три залпа, снова легших неточно, с одним лишь близким накрытием, пока англичане не начали отвечать. И они стреляли второпях, на глазок, не дожидаясь установок с дальномеров, стремясь выпустить побольше снарядов с предельной скоростью. Для самоуспокоения и чтобы напугать врага. Грохот собственных пушек и встающие вокруг бурского крейсера фонтаны вселяли надежду, что следующий снаряд непременно попадет в цель.
Потребовалось еще несколько минут, чтобы действия старших артиллеристов и плутонговых командиров начали оказывать нужное воздействие на организацию правильного огня. Впрочем, малоэффективное. О правилах стрельбы эскадрой по общей цели никто понятия не имел, чтобы их выработать и довести до автоматизма, потребовался опыт Русско-японской войны. Здесь же никто не мог отличить всплески своих снарядов от выпущенных из соседнего орудия, тем более – с другого корабля, что делало корректировку огня невозможной и, следовательно, саму стрельбу бессмысленной.
Купер понял это раньше своего старшего артиллериста, но исправить ничего не мог. При всем совершенстве сигнальной книги, самый краткий курс практической стрельбы по ней не передашь.
И все равно, попав под сосредоточенный, пусть и безрезультатный огонь полусотни стволов, рейдер почти немедленно переложил руль на восемь румбов и начал удаляться, отстреливаясь кормовым плутонгом.
Коммодор приказал начать преследование. Несмотря на неуспех первой стычки, в целом он был доволен. Подтвердилось мнение адмирала о том, что причиной предыдущих неудач флота была растерянность и неорганизованность, помноженные на эффект внезапности, а отнюдь не сверхъестественные боевые качества бурского крейсера. Сейчас он своими глазами видел, что и стреляет он неважно, и чересчур выдающихся ходовых качеств не демонстрирует. Делает едва ли больше, чем двадцать узлов.
Будь коммодор не столь энергичным и самонадеянным, он, отогнав рейдер, счел бы свой долг исполненным и немедленно повернул на соединение с главными силами. И не стал бы на основании сиюминутного впечатления отвергать свидетельства тех, кто на собственной шкуре испытал крепость «волчьих зубов».
Об этом и говорил Воронцов командиру «Изумруда», когда они обсуждали предстоящую операцию. При первых намеках на успех английский командующий неизбежно потеряет холодную рассудительность. Дмитрий предполагал, что сам Балфур в азарте сломает собственный план баталии. Сейчас это сделал Купер. Невелика разница.
Получив от Белли рапорт о встрече и огневом контакте с четверкой крейсеров и о своих дальнейших действиях, Воронцов велел ему продолжать в том же духе. Продолжить бой на отходе, постепенно уклоняясь на зюйд-вест, с расчетом примерно через час выйти на условленную координатную точку.
В результате, описав по океану почти точный полукруг, преследователи окажутся там, где их будет ждать «Валгалла», закончив свои дела с адмиралом Балфуром.
Его корабли уже отчетливо наблюдались на большом экране рубки, и желающие могли рассмотреть их во всех подробностях, тщательно прорисованных компьютером. Выглядело это, как сцена из цветного художественного фильма, даже убедительнее, потому что в историческом кино на военно-морские темы боевые корабли обычно выглядят не слишком аккуратно исполненными макетами.
– Красиво, – сказал Скуратов, к военным делам, тем более отдаленным на полтора столетия назад, отношения не имевший. Крейсера понравились ему чисто эстетически. Как всякий хороший антиквариат.
– Кто бы спорил, – согласился Новиков. – Нам бы таких штук шесть при Порт-Артуре, и никакой Цусимы не было бы.
– Все еще можно исправить, – с намеком сказал Ростокин.
– И тогда твоя реальность наконец-то перестанет быть «химерой», – тонко усмехнулся Шульгин. – Или просто перестанет быть…
Скуратов не понял смысла этого короткого переброса фразами, друг Игорь уже достаточно далеко ушел от него в изучении альтернативных историй.
– Начинаем работать? – спросил Левашов у Воронцова. Сейчас они двое были здесь главными. Остальные – заинтересованные зрители, не больше. И почти все они до сих пор не понимали стратегического замысла «владеющих знанием».
В это примерно время в отряде Балфура услышали донесшиеся с оста звуки артиллерийской перестрелки. За восемь миль они звучали как раскаты отдаленной грозы. Только частота залпов не совпадала с природной. Привычный слух сразу отличит канонаду от грома. Адмиральская душа возрадовалась. Он оказался прав в своих расчетах. Бурских флотоводцев (если они есть в природе) или их иностранных консультантов и подстрекателей подловили на живца. Купер со своим отрядом будет маневрировать сколько угодно, то ведя эскадренный бой в полном составе, то расходясь поодиночке и атакуя одновременно с четырех сторон, как загонные собаки медведя. Ни скорость, ни дальнобойность пушек одинокому рейдеру не поможет. Отвлекаясь на одного или двух, он непременно подпустит остальных на дистанцию поражения.
Как правильно говорил Клаузевиц: «Нельзя быть сильным везде». Не хватит внимания, не хватит огневой мощи, и скорость, как бы высока она ни была, в предложенном раскладе пригодится рейдеру только для бегства. А за те несколько часов, которые выиграет Купер, если не уничтожив, то уведя противника далеко от каравана, Балфур выполнит свой план, который подразумевает еще несколько столь же изящных и неожиданных ловушек.
Он только не мог понять, отчего пароходы, которые он до сих пор считал принадлежащими к конвою, полными ходами уходят к весту от точки рандеву? Не могли же они заметить бурский крейсер? Если так, он обнаружил бы их намного раньше и уже громил караван беспощадными залпами. Так в чем же дело?
В отличие от отряда Купера, у Балфура все службы были давно приведены в полную боеготовность, расчеты стояли у заряженных орудий, только стрелять пока было не в кого.
Наконец из туманной дымки появился пароход, наверняка из состава конвоя, другому просто неоткуда было взяться. Адмирал знал из телеграфного сообщения количество и имена идущих транспортов, но этот показался ему несоответствующим. Чутье само собой имеет место быть, и опыт кое-какой. Слишком хорош и велик был лайнер, достойный трансатлантических пассажирских линий, а не перевозки пушек, солдат и лошадей.
Пароход, идущий прямо в лоб «Кресси», засигналил флагами, смысл которых невозможно было разобрать в накрывающем мачты густом дыму, потом с высоко поднятого над надстройкой марса быстро замигал фонарь Ратьера.
Стоящий в стороне от Балфура и его свиты молодой штурманский лейтенант начал вслух, но негромко, как бы для себя лично, переводить: «Очень рады встрече, адмирал. Каждый добрался до своего апогея…»
Балфур услышал.
– Что вы там бормочете, Смайли? Говорите громко. Какого апогея? Вы, – обернулся он к флаг-офицеру, – какого черта ваши сигнальщики молчат? Они что, спят у вас на вахте?
– Сейчас выясню, сэр…
– Лейтенант, – махнув рукой на прочих, расталкивая крупным телом толпу нужных и ненужных на мостике людей, рванулся в сторону грамотного офицера Балфур. – Читайте дальше. Гром и молния всем в задницу, один вы… Какого апогея?
– Не могу знать, сэр, какого именно. Если высшая точка лунного восхождения – так сейчас день. Если в переносном смысле…
– Хватит умничать. – Балфур понял, что происходит что-то не то, и даже более чем. Чтобы разрядиться, он швырнул на палубу свою фуражку. – Читайте дальше.
– Они пишут, сэр… – Лейтенант замялся. – Ада вы не заслужили еще, рая – тем более. Поэтому вам дается лишний шанс. Джокер…
– Да что же это за бредятина?! – взревел адмирал, которому уже нечего было бросить на палубу или разбить о стенку рубки. Он ограничился тем, что плюнул на чисто выскобленные тиковые брусья.
Белый пароход, внезапно увеличивший ход с нормальных десяти узлов до… Может быть, тридцати, о чем свидетельствовал поднявшийся до самого полубака крутой бурун, пошел прямо на «Кресси». Это было почти невероятно в обычных условиях, но после того, что прочитал лейтенант, внезапно показалось страшной правдой. До него оставалось не больше мили, и он все наращивал скорость! Брандер, что ли?
– Право на борт! Машины враздрай! Левая полный вперед, правая полный назад. Баковая пушка, прямой наводкой – огонь! – в отчаянии кричал адмирал.
Если бы 234-миллиметровая пушка действительно успела выстрелить, последствия для стоящих на мостике «Валгаллы» могли бы оказаться печальными.
Но крейсер начал катиться вправо. Носовой башне, если бы до ее командира и дошел приказ, требовалось время, чтобы начать разворот на левый борт и опустить ствол до нижнего упора. В то же время расстояние между кораблями настолько сократилось, что длинная очередь из спаренной 37-мм установки, произведенная специальным артиллерийским роботом под мамеринец башни, намертво ее заклинила в диаметральной плоскости.
Этот самый робот, имени которого никто, кроме Воронцова, не знал, ничего не понимал в большой политике, но, будучи загружен полным курсом артиллерийской науки «от Ромула до наших дней», быстрее, чем кто-то из командиров, определил возможную опасность и отреагировал единственно возможным образом.
Для того чтобы убивать людей, ему требовалась особая, достаточно сложная команда, иначе он десятком снарядов разнес бы в клочья всех, кто суетился на мостике крейсера. Теоретически это было самое правильное решение, но, как сказано, вне его нынешней компетенции.
– Давай, Олег! – крикнул Воронцов. Корабли сближались с пугающей скоростью. Буквально три-четыре минуты, и «Валгалла» врубилась бы своей таранной оконечностью форштевня в левую скулу крейсера.
Левашов, давно готовый, с каменным лицом нажал нужную кнопку на пульте.
Окно пришлось настроить с таким раствором, как никогда раньше не делалось – тридцать на тридцать метров. И «Кресси» проскочил в него впритык, при ширине в двадцать два и высоте от киля до боевых марсов тридцать пять метров. Стеньги, правда, срезало. Не рассчитали немного, но это уже не имело никакого значения. Главное, что Олегу удалось совместить уровни морской поверхности здесь и «в другом месте», иначе крейсер ухнул бы вниз, разламываясь пополам или на несколько частей. Или, наоборот, навстречу ему хлынул водопад, соразмерный с Ниагарой.
А так он с полного хода проскочил в другое пространство. Левашов, увидев, что все получилось как надо, не стал выключать СПВ, как раньше собирался.
Воронцов довернул «Валгаллу», еще прибавив ход, и следующие три крейсера, вообще не поняв, что случилось, влетели в проем, как бабочки в сачок энтомолога. При их восемнадцатиузловой скорости и встречной тридцатиузловой «Валгаллы» процесс занял ровно две минуты. По секундомеру.
Когда за сиреневой рамкой скрылась корма последнего крейсера, «Амфитриты», Олег отключил аппарат. Вот тут и грохнуло! Все были заранее предупреждены о возможном эффекте, но едва удержались на ногах. Женщины непроизвольно прижали ладони к ушам. Хорошо, что до точки перехода было больше полукилометра, а то и барабанные перепонки могли не выдержать.
Вода на границе миров на мгновение вскипела, и через секунду над морем воцарилась полная тишина. Как ничего и не случилось.
Все, кроме Скуратова, уже были свидетелями подобных процессов, пусть и не в таких впечатляющих масштабах. Один Виктор выглядел ошеломленным. Ростокин специально не стал предварительно вводить его в курс дела, просто пообещал интересное зрелище.
– Что это было? – спросил он, немного придя в себя. – Как это сделано?
– Ну, ты же сам недавно попал сюда аналогичным образом. Обыкновенное совмещение пространства-времени. Кто-то когда-то назвал это проколом Римановой складки. Олег, правда, утверждает, что термин не отражает физического смысла явления, но простых пользователей такие пустяки занимать не должны. Работает, и ладно.
– И куда же эти корабли переместились?
– Я и сам не знаю. Сейчас спросим.
Левашов как раз вложил пульт в футляр на поясе и направлялся к ним.
– Нормально получилось, – с легким возбуждением сказал Олег. – Я и сам не ожидал…
– Чего же ты, интересно, ожидал? – спросил Шульгин. – Термоядерного взрыва или полной аннигиляции?
– Скажешь тоже. Думал до последнего – а вдруг предохранители полетят? Расчеты расчетами, но сам знаешь, как оно бывает.
– Еще бы не знать.
– Ребята, давайте вниз спустимся, – предложила Лариса. – Дует здесь сильно…
С нею согласились. Довольно свежий встречный ветер со стороны Антарктиды в сочетании с тридцатиузловой скоростью делал пребывание на открытом мостике малокомфортным, несмотря на то что одеты все были по погоде.
Всего одной палубой ниже имелся подходящий салон с большими панорамными окнами, наблюдать через которые за покрытым пенными барашками океаном куда приятнее.
К обществу присоединился и Воронцов, оставивший вахту на помощников. До пересечения с курсом второго крейсерского отряда оставалось не меньше часа, и он мог себе позволить немного расслабиться. Предыдущие сутки выдались нелегкими для всех, а для него в особенности.
– Товарищ вот интересуется, куда славная эскадра в настоящий момент вершит свой путь? – с долей высокопарности сказал Ростокин, указывая только что раскуренной сигарой на Скуратова. – Да и всем присутствующим тоже любопытно. Вы же с Дмитрием так и не удосужились ознакомить нас с результатами вашего предутреннего бдения…
На самом деле, когда «братья», закончив утомившее всех совещание, расходились по каютам, вопрос о месте и времени перемещения эскадры как-то выпал из внимания. Главным было выяснить, удастся ли затея в принципе, что и должен был просчитать Левашов.
Новикова с Шульгиным куда больше занимала, выражаясь по-военному, «последующая задача», то есть работа с Шатт-Урхом. Они завернули к Андрею в каюту и еще с час проговорили вдвоем, как встарь. Все-таки дискуссии, в которых участвуют более трех человек, даже лучших друзей и единомышленников, занятие для психики утомительное. А вдвоем хорошо. Никто никого не перебивает, мысль не разбрасывается по нескольким направлениям, не нужно удерживать в памяти разные, подчас взаимоисключающие доводы и придумывать ответные контртезисы.
Они расположились в креслах по обе стороны журнального столика поблизости от включенного камина, газового, но устроенного с таким искусством, что его непросто было отличить от настоящего.
– Нет, черт возьми, путешествовать, конечно, хорошо, полезно и увлекательно, но возвращаться в объятия цивилизации – еще лучше. – Блаженно жмурясь, Шульгин свинтил пробку с дожидавшейся их почти два месяца, недопитой перед походом бутылки виски. – Помылся, побрился, «Вежеталем» спрыснулся, подштанники свежие надел. Батистовые. Сиреневые. Красота…
– Кто бы спорил. У меня, как известно, с детства разновидность психоза – нормально себя чувствую только в надежно защищенных помещениях, снабженных толстыми дверями и многочисленными запорами. Причем желательно, чтобы о его местонахождении не знала ни одна живая душа, – вздохнул Новиков, оглядывая подзабытый интерьер своей гостиной. И здесь, в пределах того, что условно называлось каютой, у него было такое местечко, в которое он и Сашку не водил.
– Интересно, твой вечно кочевой образ жизни причина такой акцентуации или наоборот?
Когда начинаются подобные разговоры, придет ли в голову портить настроение грядущей судьбой английского адмирала, в глаза ими не виданного?
Зато Левашов с Воронцовым, как во времена их совместных скитаний по морям, устроившись в капитанской каюте, говорили о деле, которое, в общем-то, касалось только их. Остальным было абсолютно безразлично, какое решение они примут. А они были сообщниками, соучастниками, можно и другие термины подобрать, и ощущали свою моральную ответственность. На самом деле – только сами перед собой, но это не имело значения. Один придумал нестандартный выход из положения, второй его практически осуществлял.
Если они согласились сохранить жизни трем с лишним тысячам человек, то надо сделать так, чтобы это выглядело именно актом гуманизма длительного действия, а не циничной издевкой. Перебрось англичан вместе с их кораблями в мезозой, долго ли они там просуществуют? С другой стороны, подразумевалось, чтобы и они никому не причинили вреда, а также не повлияли на мир, в который им придется попасть, нежелательным образом.
В чем и заключалась главная сложность. Как в задачке про лодку, волка, козла и капусту.
В прошлом Балфуру с компанией явно делать нечего. Они там таких безобразий натворят во славу британской короны…
В будущем вдоль главной исторической последовательности (в период как минимум до 2005 года) – тоже ничего хорошего. Слишком мощное воздействие на реальность. Мировые линии исказятся так, что «Валгалла» своего собственного времени не найдет.
Пожалуй, самое правильное будет использовать латентную реальность тридцать восьмого года. Во-первых, концы ее обрублены с двух сторон, она не имеет продолжения ни в прошлом, ни в будущем, есть единственный «боковой проход», каким пользовались Шульгин и Антон. Во-вторых, там столько всяких артефактов и парадоксов накопилось, что объявившиеся неведомо откуда крейсера никаких дополнительных потрясений основ мироздания вызвать не смогут. Там вообще вскоре Вторая мировая война начнется.
На том они и порешили.
Сообщение, сделанное о таком решении, вызвало веселое оживление.
– Вот будет Сильвии подарочек, – рассмеялась Лариса. – Она уж точно догадается, что почем. Особенно когда лично пообщается с адмиралом, и тот ей расскажет, что с ним произошло. Глядишь, из психушки вытащит, потому что никто, кроме нее, его баек всерьез не воспримет.
– Да, это наверняка будет забавно, – без улыбки кивнул Шульгин. Какая-то интересная мысль мелькнула по краю сознания, и теперь он пытался ее восстановить.
– Как же не воспримет, – удивился Скуратов, – если доказательства в виде кораблей – налицо?
– А это не имеет никакого значения. Корабли спрячут, с людьми воспитательную работу проведут. Допущенные к делу историки мигом докажут, что в документах никаких фактов об исчезновении целой эскадры во время Англо-бурской войны не сообщается, – терпеливо объяснил академику Новиков. – И будут по-своему совершенно правы, так как в той реальности данного события не происходило. Она уже существует в завершенном виде, и леди Спенсер вместе с друзьями – лордами Адмиралтейства подтвердит, что так оно и есть. И тут же придумает способ забить эту сенсацию несколькими, гораздо более интересными для читателей газет.
Скуратов ошарашенно покрутил головой и, чтобы, как персонаж Галича, «совсем с ума не стронуться», хватил большую рюмку коньяка.
– Ну вы тут можете еще посидеть, – сказал Воронцов, – а мне пора второй отряд встречать. Кому интересно – прошу на мостик. А в принципе все будет точно таким же манером.
Но желающих пропустить очередное зрелище не нашлось.
На месте Купера другой командир, более осторожный, обязан был сообразить, что дела с бурским крейсером обстоят не совсем чисто. Не зря педантичные немцы, воспитанные на теориях Клаузевица, решающее значение в своей военной кадровой политике придавали человеческому фактору. И уже к началу двадцатого века ввели градацию психотипов командного состава.
По образцу психологов, разделяющих людей по темпераментам, кайзеровское армейское руководство придумало нечто подобное для своих офицеров. Наилучшими кандидатами на занятие высших строевых командных постов считались «умные и решительные». За ними следовали «умные и ленивые», из этих получались хорошие штабисты и командиры частей и соединений. Далее шли «глупые и ленивые», подходящие для командования ротами и батальонами. И, наконец, «глупые и решительные», от которых следовало неукоснительно избавляться.
Вникая в эту стройную систему, нужно иметь в виду, что в определение «ленивый» не вкладывалось того негативного смысла, что имеется в русском языке. «Ленивый» – это офицер, который отличается сдержанным, даже флегматичным характером, сам не склонен к демонстрации бурной деятельности и не поощряет ее у подчиненных, старается не делать ничего сверх необходимого, а за счет ума способен понять границы этого «необходимого», обосновать свою «пассивную» позицию и отстоять ее перед вышестоящими начальникам.
«Глупый и ленивый» звезд с неба не хватает, зато не пылает безудержной инициативой и не настроен хоть на шаг переступать границу, очерченную приказом.
Так вот коммодор Купер проявил себя «глупым и решительным». В стремлении непременно уничтожить врага он не дал себе труда задуматься, отчего все-таки рейдер не развивает хотя бы двадцати пяти узлов, которые позволят ему легко оторваться от погони? Разве что внезапная поломка в машине или засоление котлов, если пришлось питать их забортной водой. Но если так, он вообще не стал бы ввязываться в безнадежный бой, предпочел бы осторожно раствориться в тумане.
«Изумруд», сохраняя неизменной четырехмильную дистанцию, включил дымоимитаторы в трубах, что делало версию неисправности еще более убедительной. Если так пойдет и дальше, думал Купер, скоро он совсем потеряет ход, и тогда, под угрозой беспощадного расстрела, буров можно будет принудить к сдаче.
Что может быть великолепнее возвращения в Кейптаун с таким трофеем?! Пожалуй, за первую в этой войне победу светит Крест Виктории, да и адмиральские нашивки в придачу.
Чтобы еще подзадорить противника, Белли разрешил наводчику ютового орудия два раза попасть болванкой во флагманский «Фьюриэс», по корпусу выше ватерлинии. Отсутствие взрывов должно было намекнуть на низкое качество ударных трубок или пироксилина, которым тогда по преимуществу начинялись снаряды. Вреда эти попадания не причинили, но заставили коммодора и всю свиту перейти с открытого мостика в боевую рубку.
В положенное время Владимир увидел поднимающиеся из-за горизонта мачты, потом и трубы «Валгаллы».
На таком расстоянии сигнальщики Купера поначалу приняли пароход за один из крейсеров Балфура, что вызвало восторженные крики на мостиках и палубах. Противник взят «в два огня», и теперь ему уж точно не уйти. Сам коммодор испытал приступ досады. Теперь вся слава достанется адмиралу!
То, что «Валгалла» шла на отряд ракурсом «ноль», долго не позволяло догадаться об ошибке. Воронцов тоже включил на полную мощность дымоимитаторы, и это, в сочетании со скоростью, действительно делало пароход похожим на крейсер. Да и Белли, доведя огонь до беглого из всех стволов обращенного к противнику борта, кладя снаряды в непосредственной близости, так что водяные столбы то и дело обрушивались на палубу «Фьюриэса», сильно отвлекал внимание.
Когда наиболее глазастые и сведущие в силуэтах кораблей своего флота офицеры распознали ошибку, было уже поздно.
Воронцов сдвинул ручки машинного телеграфа на «самый полный». «Валгалле» редко приходилось превышать условно предельные сорок узлов, но сейчас это было необходимо. За те десять минут, что оставались до включения СПВ, опытные артиллеристы вполне могли успеть перенести огонь на новую цель.
Белли это тоже понимал, и, дав полный ход с отворотом на вест, приказал пушкам левого борта дать залп по боевым рубкам «Фьюриэса» и следующего за ним «Виндиктива». Опять болванками. Войны без жертв не бывает, но тут если кого и убьет, то лишь прямым попаданием или рикошетом. Зато удар будет впечатляющим, как молотком по надетой на голову каске, и на пару минут как минимум должен привести прячущихся за броней в изумление.[84]
Точно так и получилось. Двухсотридцатимиллиметровую броню снаряд не пробил, но при открытой задней двери круглая стальная банка рубки превратилась в резонатор. Тех, кто имел неосторожность прислониться к стенкам, сбило с ног с тяжелыми внутренними повреждениями, остальные обхватили контуженные головы руками, у некоторых из ушей потекла кровь…
На две критические минуты крейсер потерял боеспособность. Этого хватило.
Крейсера Купера ушли на рандеву со своим адмиралом. Там, где они оказались, их разделяет, если не вкралась в расчеты навигационная ошибка, лишь два десятка миль. Скоро встретятся, потому что координаты пространственного переноса Левашов не менял. Им найдется о чем поговорить. А если будут держаться дружно и сплоченно, даже и в тысяча девятьсот тридцать восьмом году на дальней окраине Земли восемь крейсеров – приличная сила. Тогдашний Южно-Африканский Союз такой не располагал, и его правитель генерал Смэтс (бывший бурский военачальник в ныне длящейся войне, кстати) при должном благоразумии может и найти общий язык с адмиралом Балфуром. Что такое разделившие их неполные четыре десятилетия? Пылинка на лацкане вечности.
– Вот и все, судари мои, – сказал Воронцов, сдвигая ручки машинного телеграфа на «средний». – Основная задача выполнена, переходим к последующей. Теперь вам карты в руки…
Его слова относились прежде всего к Новикову с Шульгиным.
Басманов хорошо понимал сложность положения, в котором оказались они с Сугориным и их, условно говоря, батальон. Настоящих рейнджеров первого призыва в нем осталось всего семьдесят, еще триста – люди полковника Максимова и прибившиеся за последние недели русские добровольцы-одиночки, продолжающие просачиваться сюда разными путями. Уцелевшие в боях волонтеры из полутора десятков стран составляли второй батальон в пятьсот примерно штыков. Штыки – это по привычке Басманов так считал, на самом же деле о настоящих штыках и штыковом бое здесь мало кто имел понятие.
То есть боевое ядро, умеющее воевать по-европейски, не насчитывало даже тысячи человек – чуть больше батальона, по штатам тогдашних армий. В стадии формирования находился еще один бурский батальон, с помощью Кронье и Боты набранный из молодежи, двадцати – двадцати пяти лет. Эти ребята, по преимуществу неженатые, нахватавшиеся кое-каких современных мыслей, в основном от тех же европейских добровольцев, готовы были обучаться и служить по законам регулярной армии. Басманов назначил им командиров, от взвода и выше, военспецов, так сказать. И почти половину старых рейнджеров, когда обстановка позволяла, использовал в качестве фельдфебелей-инструкторов.
Получалось, в общем, совсем неплохо, лучше, чем предполагал полковник, затевая это дело.
Еще у него было две полевые батареи по шесть весьма приличных французских 75-миллиметровых скорострелок с унитарными патронами. И достаточное количество пулеметов ПКМ и РПК.
Все это войско они с Сугориным назвали ударной бригадой особого назначения.
И оба старых бойца как бы стеснялись говорить, что одной «кадровой» ротой своих первопоходников они могут за пару недель свернуть эту войну. Согласовав все предварительные вопросы с Кирсановым. Высадиться около полуночи с «Изумруда» рядом с Кейптауном, войти в город и устроить там такую Варфоломеевскую ночь… Потом оттуда – навстречу бурам, по английским тылам. Днем прятаться, ночами гулять – без выстрелов, с одними ножами и ноктовизорами.
И, может быть, до этого дело дойдет. Хотя очень бы не хотелось.
Басманов подумал: вот, он двадцать семь лет жил и служил, известно, до чего дослужился. До никчемных капитанских погон, константинопольских трущоб и ужина за пол-лиры. Потом стал рейнджером и даже комбатом у них.
А скажи ему, допустим, фельдфебель параллельной группы князь Вадбольский в училищной курилке весной четырнадцатого года:
– Знаешь, Миша, все эти войны, истории которых мы старательно учим, – полная херня! Соберем двадцать умелых бойцов, поедем в Берлин и в Вену, застрелим кайзеров, обоих, начальников их Генштабов и сами штабы бутылками с керосином спалим. И все – никакой войны не будет…
Что бы он, тогдашний старший унтер-офицер старшей роты артиллерийского училища, ответил? Что так нельзя, так не воюют?
А что же сейчас? Что ему мешает думать и действовать, как при Каховке, при захвате Царьграда и позже? Неужели то самое, на что намекал Александр Иванович, – давление времени? Неизвестный закон природы, не позволяющий человеку, включенному в собственную эпоху, выходить за рамки принятого в ней образа жизни? И сейчас, лишенный поддержки и контроля товарищей из будущего, он снова сдвигается назад, за ранее один раз перейденный рубеж?
Басманов отогнал ненужные мысли. На самом деле – единственно верные.
Снова начал рассуждать, как командир этого времени, поставленный в такие вот условия. Условия были не очень. Месяц боев подтвердил, что основное бурское войско к сражениям с решительным результатом не готово. Это относилось и к рядовым бойцам бурских коммандо, и к их предводителям. Назвать их «офицерами» можно было только в ироническом смысле. Или – из лести.
Устояв в оборонительных боях, нанеся англичанам несколько чувствительных поражений, даже заняв Наталь, объединенные силы обеих республик почти полностью утратили боевой порыв. Прорвавшись к предполью Капского хребта, на двести километров южнее Де Ара, «армия» за следующую неделю успела потерять больше половины личного состава, занявшегося грабежами и сопровождением домой трофеев. Их, ничего не скажешь, захвачено было просто невероятное количество для этих привыкших к натуральному хозяйству людей. Не говоря о качестве обмундирования, обуви, тканей, конской сбруи, шанцевого инструмента и т. д. и т. п. Это все равно, как толпу советских послевоеннных колхозников запустить в американский супермаркет Вулворта: «Гуляй, ребята, здесь все ваше и бесплатно!»
Для личного благосостояния дорвавшихся до трофеев буров – пришествие Царства небесного, для судеб государств – катастрофа.
Перед позициями Кронье, Жубера и Девета, которые сами по себе были людьми незаурядными, полководцами-самородками (но не для современной войны), простиралась низина, без серьезных встречных боев очищенная англичанами. Но за ней, к югу, местность начинала повышаться, террасами, плато и отдельными вершинами, расположенными довольно равномерно по всему пятисоткилометровому фронту, от побережья Атлантики и до Джефрис-бея, уже на берегу Индийского океана.
По кратчайшему расстоянию, прямо на Кейптаун, пробиться было можно, особенно с ходу. Сугорин еще неделю назад показал тщательно отработанный на карте план операции со всеми расчетами. Генералы вдумчиво рассматривали разноцветные стрелы, слушали безупречно звучащие доводы генштабиста, цокали языками, дымили трубками. Задавали вроде бы разумные вопросы. Однако закончилось совещание ничем. Натура оказалась сильнее.
Одно дело – отбиваться на своих подготовленных позициях, имея возможность сбежать (деликатнее говоря – совершить марш-маневр) до следующего боя, который можно будет принять по тем же, давно отработанным правилам. Совсем другое – упорно наступать, заведомо зная, что теперь неприятель находится в выгодном положении и потери будут не один к ста, как раньше, а минимум равные. Такому раскладу буры в подлинной истории предпочли сравнительно почетную капитуляцию.
У них сейчас на этом фронте в строю было около пятнадцати тысяч самых стойких бойцов, которые пока еще собирались воевать. Но – на своих условиях. У англичан тысяч двадцать, достаточно растрепанных в непрерывных боях солдат, деморализованных, наскоро сводимых командирами в импровизированные боевые группы. Примерно столько же, по полученным от Кирсанова данным, они в ближайшие дни могли подтянуть из тыла. Тех, кто высадился с транспортов, территориалов и добровольцев, призванных под знамена угрозой вражеского вторжения.
Совсем недавно Басманову на все эти дела было сугубо наплевать. Есть над ним триумвират «Братства», вот пусть там и принимают политические решения. Теперь все переменилось кардинальным образом.
Еще две-три недели промедления, и о победе можно будет забыть. А он ведь не для того согласился принять на себя негласное верховное командование.
У него оставалась надежда на личные переговоры с президентом Крюгером, тот согласился принять его для конфиденциальной беседы завтра утром.
Басманов с Сугориным, в сопровождении полувзвода охраны во главе с капитаном Ненадо, зарекомендовавшим себя наилучшим образом в самых острых ситуациях, выехали в Преторию экстренным поездом. К трофейному паровозу был прицеплен трофейный же блиндированный вагон, вооруженный четырьмя пулеметами и шестиствольной картечницей Норденфельда в открытой полубашне.
Пока Валерий Евгеньевич корпел в своем купе над выкладками и тезисами речи, больше похожей на деликатно сформулированный ультиматум, Басманов пошел пообщаться с офицерами. Все здесь были «константинопольцы», все прошли с ним долгий боевой путь, включая Берендеевку и Москву XXI века. Они давно не удивлялись ничему.
Табачный дым висел коромыслом, несмотря на откинутые железные крышки бойниц. Все занимались извечным русским делом, спорили друг с другом и наперекрест, если вдруг чем-то задевали слова, произнесенные в соседней компании.
– Нет, братцы, «маузер» – хорошая винтовка, лучше трехлинейки, один затвор чего стоит…
– Была б она хорошая, немцы с ней хоть одну войну бы выиграли. А на самом деле?
– Да что ты мне рассказываешь? У англичан культура и свободы. А буры что? Тьма и дикость. Даже с молодыми девахами поговорить не о чем! Хуже, чем в Самарканде…
– Вот еще Смердяков выискался. «Хорошо, если б культурная нация победила весьма дикую-с». В гробу я их свободы видел. На совдеповские свободы не насмотрелся? Мало не показалось?
– История, господа, она не по спирали развивается, она исключительно зигзагами… А мы, значит, при этом деле стрелочниками. Что ты мне про Самарканд рассказываешь? Я в шестнадцатом году в Трапезунде высаживался, вот там…
Басманов прошел вдоль разделенных броневыми траверсами выгородок, движениями руки показывая, что вставать при его появлении и вообще обращать внимание не следует. В конце вагона, под открытым люком, и воздух был почище, и люди собрались посолиднее, разговаривали без ажитации.
Старший по званию и возрасту, Игнат Ненадо, самый из всех малообразованный – всего четырехклассное ремесленное училище и школа прапорщиков военного времени, умом обладал природным и весьма цепким. Пошел бы служить к красным, а не к белым, мог бы достичь высших чинов, вроде как Буденный, Жуков или Апанасенко. Но к красным он испытывал лютую ненависть по многим причинам. И настоящие офицерские погоны, пусть однопросветные, были ему дороже совдеповских шпал и ромбов.
Увидев полковника, он обрадовался, такой слушатель весьма подходил на роль арбитра в затянувшемся споре с тремя другими офицерами, не понимавшими очевидного.
– Вот рассудите, Михаил Федорович, – тут же ткнул ему в грудь капитан мундштуком бурской трубки, которой только что нещадно дымил. – Я вот что доказываю – лучше бы нам в той Москве остаться. Очень мне там понравилось. Хорошая там жизнь. И новый Государь тоже понравился. Серьезный мужчина. А тут чего хорошего? Разделаться бы поскорее – и снова туда! Меня господин Чекменев, вот честное слово, приглашал в свою гвардию. Сразу на роту!
После этих его слов между офицерами тут же снова вспыхнула дискуссия, на минуту прерванная приходом командира. Даже из соседнего отсека подтянулись заинтересованные. Половина соглашалась с капитаном, остальные доказывали, что в том мире им делать нечего. Уж лучше здесь.
Такого мнения придерживались как раз те, кто имел за спиной гимназии или сколько-то курсов высших учебных заведений. Понять их было можно, они отчетливо соображали, что на достойное место в будущем веке им рассчитывать не стоит, слишком велик культурный и интеллектуальный разрыв.
– Это тебе, Игнат, все равно. Ротой дворцовых гренадер и там командовать сможешь и кнопки на телевизоре нажимать. Бабы в постели тоже во все века одинаковы. А нам как же? Ни в инженеры, ни в адвокаты, ни в чиновники не выбиться. Да и в строевых войсках такая техника, что хрен поймешь. Уж лучше здесь! Здесь мы, наоборот, самые умные и ясновидением наделенные…
Значит, не один Сугорин подумывает о том, чтобы остаться в простом и понятном мире своей юности, будучи обогащенным новыми знаниями и возможностью переиграть неправильно сложившуюся жизнь. Понять такие настроения Басманов мог. Но принять их для себя не считал возможным. Все ж таки, наверное, по характеру он был ближе к своим старшим товарищам.
И что крайне удивительно – к Игнату Ненадо. О прошлом приятно вспоминать, оказываясь в местах, где тебе было хорошо в детстве, но вернуться туда навсегда – извините. Тогда и вправду лучше согласиться с простодушным солдатом, воспринявшим далекое, столетнее будущее, как призывник из глухой деревни – Петербург. Попав в блестящий гвардейский полк, расквартированный прямо напротив Марсова поля.
Нет, вы попробуйте представить – вчера курная изба, куда на зимовку коров и коз загоняют, лапти, что дед плетет, рубаха домотканая, солома с крыш, которую по весне есть приходится, если хлебушка не хватило. А сегодня – теплая казарма, отдельная койка с простынями и одеялом, кожаные сапоги, непроворотный гвардейский паек и залы Зимнего дворца! И Государь Император, воочию, со всем Августейшим семейством, подносящий руку к козырьку фуражки и произносящий прямо тебе в глаза: «Здравствуйте, мои кавалергарды!» Да за это… Задохнешься, не найдя нужного слова.
И после всего этого, отслужив свои четыре года, возвращаться к сохе, навозу и прочему «идиотизму сельской жизни», как писал Горький?
…Поезд медленно полз по разболтанной, неоднократно разрушенной и кое-как восстановленной англичанами однопутной колее. Проехали Кроонстад, за которым начиналась едва всхолмленная равнина, освещаемая почти полной луной. Плохих предчувствий не было ни у кого. Все же они находились в собственном далеком тылу.
Однако на всякий случай поезд шел крадучись, без огней. Машинист часто его останавливал и долго стоял, будто прислушиваясь к неясным звукам ночного вельда, как бы не решаясь двинуться дальше. Потом громко шипел пар, и ленивый перестук колес по стыкам возобновлялся. Эти понятные предосторожности воспринимались в порядке вещей и никого не нервировали. Все офицеры, как говорится, «знали прикуп», не раз ездили в таких условиях еще в Гражданскую. Перед паровозом шла контрольная площадка – платформа, груженная рельсами, шпалами, костылями, мешками с балластом и нужным инструментом.
Внезапно паровоз начал давать короткие пронзительные гудки, потом резко затормозил. Ну, резко – это слишком сильно сказано. На скорости в тридцать километров в час никто даже со скамеек не попадал. Остановился и тут же начал осторожно сдавать назад. Стук колес утих, и сразу стали слышны выстрелы, недалекие и частые.
«Из полусотни стволов бьют, не меньше, – привычно прикинул Басманов, – с разных сторон, а вот и пулемет заработал, «максимка» лафетный. Чей?»
Ненадо, как старший по вагону, выдернул из зажима трубку полевого телефона, красным витым шнуром соединенного с паровозной будкой.
– Что там, мать, у вас, – надсаживаясь, закричал он. Тогдашние телефоны нормальную речь передавали плохо. Просто высунуться в люк на крыше и покричать напрямую было бы почти то же самое.
– Встречный поезд, – ответил ему посаженный в будку для присмотра за машинистом и кочегаром поручик. – Еле успели отдернуться. А сейчас по нему с обеих сторон стреляют…
– Разом мотай на тендер.[85] Щас пришлю еще кого-нибудь.
Тут вдруг пули защелкали по стенкам их вагона.
– К бою, господа офицеры, тудыть-растудыть, – заорал капитан, вдевая руки в разгрузочный жилет с карманами, полными запасных магазинов и гранат.
Офицерам на то, чтобы изготовиться к бою, времени потребовалось «пока горит спичка».
Отправляясь в дорогу, все они снарядились по двум стандартам. Для посторонних – винтовки и пистолеты Маузера, для экстренных случаев – автоматы, гранаты, бронежилеты, титановые каски-сферы с ноктовизорами. Чужой мир вокруг, и случись что – эти два десятка бойцов должны противостоять всему окружающему, как минимум – десяткам тысяч вражеских солдат, вооруженных вполне смертоносным оружием. От «Ли Энфильда»[86] и на двести шагов никакой бронежилет не спасет, разве что от рикошетной пули.
Мельком всплыл в памяти у Басманова вольноопределяющийся Лыков, студент-правовед, имевший несчастье или чрезмерный оптимизм вступить в полк за месяц до эвакуации Одессы. Навоеваться не успел, настроя не потерял и по рекомендации надежного человека в Константинополе был принят в отряд.
После одной из тренировок – отработки ночного захвата вражеской позиции с использованием приборов ночного виденья – Лыков вдруг начал с жаром доказывать Басманову, что такое – аморально. Словно, как убивать спящих. Противник ничего не видит в тумане и дожде, а мы его – как днем. Подползаем и ножом между лопаток.
Михаил, как умел, объяснил юноше очевидную разницу, а потом посоветовал ему вернуться к избранной профессии. Мол, прокурора и судьи из тебя не получится, поскольку там тоже положено в данный момент беззащитного человека на каторгу или на виселицу отправлять. А в адвокаты вам, вольноопределяющийся, в самый раз.
Лыков его совету не последовал, ну и убили его в незначительном бою, шальной пулей, что называется. Даже звездочку прапорщика не успел получить.
Давно это было, а заноза от пустячного, в общем, разговора с молодым идеалистом до сих пор осталась.
Не прошло и двух минут, как весь полувзвод уже лежал по обе стороны пути, разбираясь в обстановке. Пулеметам и картечнице Басманов раньше времени стрелять не велел. Нечего перед врагом карты раскрывать. Сначала следует сообразить, с кем дело имеешь. Однако стволы приказал направить по наиболее угрожаемым направлениям.
Поезд продолжал понемногу сдавать назад, чтобы укрыться за невысоким кóпье.[87]
До встречного состава было метров четыреста, и вокруг него разгорелся нешуточный бой.
Обстановка в общем и целом понятная: сколько раз такое же случалось в нейтральных полосах между белыми и красными, составлявших моментами сотни километров в ширину. И там творили что хотели всевозможные атаманы, зеленые просто, красно-зеленые и бело-зеленые. А также местные отряды самообороны, от обычных бандитов мало чем отличающиеся. Все считали железную дорогу зоной своих экономических интересов.
– Игнат Борисович, – локтем толкнул капитана Басманов, – сходить бы, посмотреть, что там, кого и как.
– Да запросто. Вы тут оставайтесь, а я быстро…
Ненадо тихим свистом подозвал ближайших офицеров.
– Двое – по левой стороне насыпи, вы двое со мной, по правой. Стрелять только по команде. Сначала разберемся. Если что – ножами поработаем.
Разбираться было в чем. Чей и откуда поезд, кто на него напал и так далее.
А напряженность огня со всех сторон возрастала. Понятно было, что бьют почти наобум, по направлению и на слух.
Разведчики исчезли в темноте, но темноте условной. В зеленом поле ноктовизора Басманов видел размазанный, потому что на пределе досягаемости прибора, другой поезд. Паровоз и четыре, нет, пять вагонов. Один бронированный, остальные пассажирские. Из окон и с тендера отстреливаются, судя по ярким бутонам дульного пламени, человек тридцать. У них же и пулемет, используемый с аккуратностью. Даст две-три короткие очереди в темноту и замолкает. Патронов, что ли, мало или умный человек им командует?
С двух сторон пути из винтовок палили торопливо, то залпами, то россыпью. Гораздо больше стрелков, чем на поезде.
Для того чтобы вчерне оценить обстановку, опытному офицеру большого труда не требовалось. Видели, не раз видели.
Скорее всего, английская потрепанная рота, а то и сводное подразделение разгромленной бригады, оставшееся в глубоком тылу противника, вышло к полотну дороги и село в засаду. Грамотное решение, нужно признать. Пешком до рубежей, где свои войска могли занять оборону, шлепать и шлепать. Может, три дня, а может, и неделю. По вражеской территории, где рыскают конные дозоры буров. А если захватить поезд, можно с относительным комфортом, а главное – быстро добраться до прифронтовой полосы. Дальше – что бог пошлет, но все равно это лучше, чем несколько сот километров плестись пешком, голодая, бросая по пути ослабевших, больных и раненых.
Сам Басманов, оказавшись в подобном положении, поступил бы именно так.
Оттого и путь они не взорвали, и стреляют с осторожностью, боясь повредить паровоз.
Игнат Борисович вел своих людей в рост, сильно забирая вправо, чтобы выйти прямо в тыл нападающим. Офицеры не считали нужным даже пригибаться, не то чтобы ползти. Метров двести их никто не заметит. Темно, никакого тылового охранения верняком не выставлено, а если вдруг и да – без разницы. У дороги светлее, чем в поле, шума достаточно, чтобы звук шагов заглушить.
В любом случае Ненадо англичан за серьезного противника не считал. А уж деморализованных окруженцев – тем более. Нормальным, достойным себя противником он считал только немцев на Западном фронте, когда воевал с ними в составе Особой русской бригады в шестнадцатом году. Ни красные в Гражданскую, ни те мятежники, с которыми довелось разбираться в Москве князя Олега, на серьезных вояк не тянули.
В ста метрах от левого фланга обстреливающих поезд он приказал офицерам залечь.
Привстав на колени за холмиком, посчитал количество англичан. Да, человек сорок. И с той стороны насыпи, судя по напряженности огня, столько же.
Совсем далеко, на краю видимости, он различил сбатованных[88] лошадей при нескольких коноводах. Там же – несколько одноколок, санитарных или транспортных.
Сочувствовать он никому не собирался, хотя и понимал тяжелое положение неприятеля.
В безоружных, пробирающихся по вельду к своим окруженцев он бы стрелять не стал. А эти ведь сами стреляют! Так что и думать не о чем.
Ни рота, ни взвод ему были не нужны. Из трех автоматов в спины, короткими очередями… И хватит!
…Уцелевших англичан, не успевших скрыться в темноте или ускакать верхом, с поднятыми руками согнали в свет прожекторного луча паровоза. Всего двадцать восемь человек, часть легко ранена. Тяжелых практически не было, офицеры стреляли как в тире, значит, в основном наповал. Ранения были больше от рикошетов и излетных пуль с дальних вагонов бурского поезда.
Басманов шел рядом с Ненадо, выбирая из шеренги пленных офицеров. Таковых оказалось всего трое, грязных, одетых в сильно потрепанную форму.
В это время со стороны чужого поезда появилось около десятка бородатых буров с винтовками, в длинных суконных плащах домашней выделки. Впереди шел мужчина, выглядевший поприличнее других, одетый почти по-европейски, в заломленной стетсоновской шляпе, френче и английских кавалерийских сапогах. Был он чисто выбрит, в руке держал на изготовку маузеровский пистолет с пристегнутым прикладом.
Где-то Басманов его видел. Кажется, фельдкорнет из окружения генерала Жубера.
Бур тоже узнал Басманова, козырнул по-военному, назвал себя. Ну да, Людвиг де Кемп, наверное, из немецких переселенцев второго поколения.
– Господин полковник, – с нескрываемым удивлением и одновременно облегчением спросил фельдкорнет, – какими судьбами? Вас послал нам сам бог.
– Не думаю, что непосредственно бог. Скорее всего, от его имени действовал президент Крюгер, пригласивший нас с полковником Сугориным на совещание в Преторию. Завтра утром. Мы успеваем?
Кемп ничего не ответил, поманил полковника в полумрак за паровозной будкой, накинул ремень кобуры на плечо.
Там Басманов протянул открытый портсигар буру, щелкнул зажигалкой, прикрывая огонек ладонями. Фельдкорнет с удовольствием затянулся, все ж таки русские папиросы, набитые смесью турецких и крымских табаков, были куда ароматнее и эффективнее местного горлодера.
– Мы вам очень благодарны, – повторил Кемп, – вы снова подтвердили свои великолепные боевые качества. У вас нет потерь?
– Конечно, нет, – словно это само собой разумелось, пожал плечами Басманов. Его офицеры вовремя успели снять шлемы с ноктовизорами и спрятать автоматы, хотя вряд ли сейчас кто-нибудь, кроме особо наблюдательных, специально на это дело ориентированных людей обратил бы внимание на такие детали. В ночной темноте и под дождем, не очень сильным, но плотным, обложным.
– Удачно. У нас есть и убитые, и раненые. Много людей открыто сидели на площадке паровоза и подножках вагонов. И вот… Но дело совсем не в этом. – Бур понизил голос. – В поезде едет сам президент Крюгер! Он, по счастью, не пострадал.
Михаил сначала выругался по-русски. Не хватало, чтобы президента, на которого он возлагал большие надежды, подстрелили посередине вельда. Как генерала Корнилова в свое время. Понес его черт… Невзирая на договоренность об аудиенции.
Следующая мысль была более рациональной. Черт или не черт, а получается, как в арабской притче. Не захотел по какой-то причине минхер Крюгер принять военного советника в своей резиденции – придется разговаривать здесь, в условиях, гораздо более выигрышных для российской стороны, чем для него.
– И куда это он направился, на ночь глядя? Хотя бы настоящий бронепоезд впереди своего пустил…
– Президент решил встретиться с вами в Блюмфонтейне. Он захотел лично посетить освобожденные от англичан территории, собрать там всех генералов и фельдкорнетов отдельных коммандо, оценить обстановку и принять окончательное решение.
– А как же?..
– Разве вы не получили телеграмму? Она была отправлена вчера после обеда. Вам предлагалось во изменение прежней договоренности выехать в Блюмфонтейн…
– Не получал, – ответил Басманов, прикидывая, в чем тут дело. Что телеграмма действительно потерялась в каналах связи, это маловероятно. Передающий и принимающий аппараты всегда обмениваются квитанциями. Телеграмма пришла позже момента их выезда со своего КП? Это ближе и требует уточнения. Самое худшее – сообщение поступило вовремя, но им его просто не передали. По специальному умыслу.
Сидит поблизости от телеграфа британский агент или даже «честный бур», не заинтересованный во встрече русских офицеров с президентом, так как она противоречит чьим-то далеко идущим планам. На такой случай очень бы нужен был Кирсанов с его опытом и специфическими методами. А раз нет Кирсанова, сами разберемся.
Ненадо мы посылать не будем, простоват, да и здесь он нужнее, а пошлем человека умного, скрытного и никому не внушающего подозрений. Есть в отряде такой.
– Игнат Борисович, поручика Оноли ко мне. Извините, Кемп, секундное дело, сейчас распоряжусь, потом проводите меня к президенту. Если, конечно, он согласится меня принять.
– Да о чем вы, полковник. Меня за вами и послали. Ну, не лично вами, а за командиром отряда, который нас выручил.
– Отлично. Сюрприз минхеру Паулюсу будет… Вы покурите пока, я сейчас.
Поручик Валерьян Оноли, бывший во время «московского дела» прапорщиком, получил чин непосредственно от князя Олега, вместе с Военным орденом Святого Георгия четвертой степени и памятным знаком «Рука Всевышнего Отечество спасла». За лично уничтоженный танк, за участие в штыковом бою за Берендеевку.
С этими чинами и наградами получилась настоящая путаница. С разрешения Берестина Великий князь награждал его офицеров чем и как хотел. В ходе достаточно схоластических разговоров они пришли к выводу, что лица, принесшие первую военную присягу царствующему дому Романовых, хотя бы и девяносто лет назад, остаются в его юрисдикции. Не под командой, нет, но могут получать награды, звания и даже титулы по усмотрению прямого правопреемника династии.
Как если бы новый царь захотел отметить уцелевших и доживших матросов с крейсера «Варяг».
Берестину тут возразить было нечего, да и желания такого не возникло.
Придя в свойственное ему благодушие после блестящей победы и пяти бутылок шампанского, Олег Константинович изъявил желание встретиться с нынешним Верховным Правителем Югороссии Петром Николаевичем Врангелем.
– Если вы сюда пришли целой дивизией, то разве я не могу к вам хотя бы с личным конвоем и ближней свитой?
Алексей ему это обещал. Тогда же Олег объявил, что готов принять к себе на службу всех желающих корниловцев и марковцев, с повышением в чине на две ступени и выплатой жалованья за весь срок службы.
– С тысяча девятьсот восемнадцатого года или со дня принятия присяги? – осторожно спросил Берестин.
– Да не все ли равно? Люди служат Царю и Отечеству, не спрашивая, сколько и за сколько, а я буду спрашивать?
Князя явно понесло. Берестин прикинул и усмехнулся. Звучит, конечно, очень здорово. Но отнюдь не так пугающе, как в задаче о пшеничных зернышках на шахматной доске. По расценкам 1914 года, тот же Оноли мог рассчитывать на пятьдесят тысяч единовременно. Неплохо, но для могучей империи ненакладно, и всю дивизию можно всего за полмиллиарда купить. Так какую дивизию!
Но добровольцев тогда нашлось не более десятка, да и то половине из них Берестин это настоятельно рекомендовал. Пригодится на какой-нибудь случай.
Оноли, кстати, тогда решительно отказался, невзирая на полученные звездочки и награды. У него были свои планы на подлинное время.
Поручик появился в следующую минуту. Высокий, подтянутый, с тонким нервным лицом, украшенным аккуратно подстриженными усами. Еще не остывший от азарта боя. Азартный, да, часто – несдержанный, но отважный, и за спиной два курса юридического факультета.
Подбросил руку к виску, ниже полей фетровой шляпы.
Басманов разъяснил ситуацию с неполученной телеграммой и поставил задачу:
– Берешь с собой отделение. Кого – с Ненадо договоришься. В вагон грузим всех пленных. Мы пересаживаемся к бурам. Едем вместе. На разъезде сворачиваешь к Данбарксфонтейну. Пленных сдаешь в лагерь, немножко демонстративно гуляешь и к завтрашнему вечеру находишь все концы. Желательно устроить так, чтобы о самом факте твоего расследования никто не догадался. О результатах – тем более. Обращаться за помощью можешь только вот к этим людям, – Басманов написал на бумажке две фамилии бурских младших офицеров, которым имел основание доверять. – Будет что интересное – сразу связывайся.
– Так точно, господин полковник.
– Тогда действуй.
Президент Крюгер, почтенный старик, очень похожий на Карла Маркса, только лоб пониже и прическа короче, принял Басманова и Сугорина в своем салон-вагоне. Европейского стиля, без всяких намеков на бурское пуританство. Были его стены обшиты сталью или нет, полковник не знал, но ни одна пуля не повредила интерьера. Окна, конечно, были задернуты глухими шторами, и на столе горела большая керосиновая лампа.
«Опрометчиво, – подумал Михаил, – при резком торможении могла бы улететь на пол с известными последствиями».
Впрочем, его это не касалось.
Они произнесли все положенные при подобной встрече слова. Минхер Пауль не стал рассыпаться в благодарностях, Басманов сделал вид, что вообще ничего не случилось.
Президенты, Генсеки, цари и короли – это такая публика, что самые обычные слова могут истолковывать превратно.
Где-то на десятой минуте приличествующего дипломатического разговора Крюгер вдруг прищурился, якобы от попавшего в глаз табачного дыма, и спросил:
– Зачем вы меня сейчас спасали, господин Михаил?
«Ты что, папаша, совсем за дурака меня держишь?» – подумал Басманов.
– Я вас, ваше превосходительство, не спасал. И в голову не могло прийти, что вы тут могли оказаться. Я в Преторию ехал понемножку. Тут вдруг – стреляют. Не знаю кто, не знаю зачем. По моему вагону раз десять попали. Естественная реакция?
Усмехаясь и выпуская папиросный дым уважительно, влево и вверх от президента, полковник ждал ответа.
Крюгер, выдохнув огромный клуб дыма, никак не заботясь, попадет он на собеседника или нет, ударил по столу большой и толстой ладонью.
– На нас напало больше ста человек. Мои люди такого не предвидели. Почему? Почему меня отправили на невооруженном поезде, с охраной всего в сорок бойцов и с одним пулеметом! Почему, я вас спрашиваю?
«Так, – решил Басманов. – Этот дед не выражает ни малейшего желания накрыть спасителю стол. В своем праве, конечно, но не Великий князь и даже не обычный. Жлоб, как все пуритане».
– А кто вас послал, господин президент? Вы что, не властны в своей республике? Прошу прощения, но такое впечатление складывается. И не сегодня это началось. Продолжите свою мысль. Почему вы не захотели подождать меня в Претории? Что вам интересного пообещали в Блюмфонтейне?
Чтобы еще больше уязвить Крюгера, Басманов отстегнул от пояса фляжку с хорошей русской водкой, взболтнул над ухом, многозначительно посмотрел на Крюгера.
Вот ведь картинка – семидесятичетырехлетний президент и тридцатидвухлетний «военный советник» сидят напротив друг друга, и старший по возрасту и положению смотрит на младшего едва ли не собачьими глазами. Как на последнюю надежду.
– Нет. Если хотите, пожалуйста. Меня волнует совсем другое, – сделал президент отстраняющий жест.
Басманов с демонстративным сожалением вернул фляжку на место. «Да и куда ж тебе, старому дураку… И вообще, зачем тебе власть сейчас? Красивой жизни не было и нет. А если Родине послужить… На этом сыграть можно».
– Скажите, полковник, вам и вашим людям неведомо чувство страха? – спросил Крюгер.
– В полной мере ведомо. Гораздо больше, чем вам и вашим людям. И возраст не тот, и представления о том, что ждет за гробом… Более того, жизнь ваших людей в сравнении с нашей – ну… достаточно примитивна. Пахать землю, пасти коров, и это – все? Нам терять приходится гораздо больше.
– Готов понять, – старчески пожевал губами Крюгер. – Тогда отчего вы умеете делать это, а мои храбрые буры – нет?
– Кто вам сказал, что они – храбрые? – Михаил решил больше не деликатничать. – Ваши буры – невероятные трусы. Что за героизм – стрелять из хороших винтовок на километр, прячась за камнями? В совсем юных парней, которые и целиться толком не умеют, и гонят их колоннами под ваши пули… А как только у этих парней находится воля, чтобы атаковать, не считаясь с потерями, ваши храбрые буры разбегаются, как кролики, очень грубо и далеко посылая своих командиров и вас лично, если под руку подвернетесь… На сколько уменьшилась ваша армия за последний месяц?
– Вот, значит, как вы о нас думаете, – с безнадежной печалью в голосе ответил Крюгер.
– У вас есть хоть малейшее основание оспорить мой тезис? На Моддере сколько сил мне стоило буквально вколотить лучшим вашим полководцам Кронье и Деларею простейшую идею – деморализованного стойкой обороной противника нужно контратаковать. А ваши герои так стремились сбежать, что их аж трясло: «Надо отступать, господин полковник, надо отступать! Вот на тех холмах мы окончательно укрепимся, и вот тогда…»
Скажите спасибо, господин президент, что я действительно не бил их рукояткой пистолета по затылкам и не выставил позади ваших славных буров толкового заградотряда с пулеметами!
Злость вдруг овладела Басмановым, почти неконтролируемая, а запасная часть личности с усмешкой подсказывала: «Так и надо, Миша, так и надо! Они ведь по-другому не понимают».
– За победу на Моддере мы все вам бесконечно благодарны. Но признайте – и наши буры дрались отлично.
– Само собой. А теперь у вас есть невероятная, в истории войн мало кому представлявшаяся возможность – единственным ударом от Бофорс-Уэста решить судьбу не только кампании, истории на сто лет вперед! Вы можете убедить своих храбрых буров хотя бы двое суток атаковать в указанном направлении, именно атаковать, наступать? Вы понимаете значение этого простого слова – «наступать»? Нет? Так я вам объясню!
Один из собеседников прожил долгую жизнь, но в девятнадцатом веке, не сталкиваясь ни с какими конфликтами, в которых бы участвовало больше тысячи человек с обеих сторон. Другой – за одиннадцать лет насмотрелся такого…
Басманов объяснил Крюгеру суть, смысл, ожидаемые результаты и реальные потери в настоящем наступлении.
– Посмотрите сюда, ваше превосходительство, – Басманов протянул Крюгеру ксерокопию акта капитуляции, подписанного тридцать первого мая тысяча девятьсот второго года ближайшими соратниками президента, нынешними пока еще героями – Ботой, Деветом, Делареем, Рейтцем, Смэтсом и другими.
«Условия капитуляции состоят в следующем:
1. Бюргеры должны сложить оружие и признать себя подданными Эдуарда VII.
2. Все пленные, давшие клятву верности, должны быть освобождены.
4. Должна быть объявлена амнистия, за исключением специальных случаев.
8. Туземцам предоставляется участие в выборах после установления самоуправления.
12. Мятежникам должно быть отказано в праве участия в выборах, их главари должны предстать перед судом при условии неприменения смертной казни».
Пропущенные здесь пункты гораздо более гуманны, чем в обычных актах капитуляции, но все они подразумевали полное прекращение государственности буров как таковой.
– Фальшивка, – гневно ответил Крюгер, отбрасывая бумагу, – и что за глупая шутка – указывать тысяча девятьсот второй год, пока не закончился тысяча восемьсот девяносто девятый?
– Воля ваша. Считайте как угодно. Только это не фальшивка. Это, если угодно, – историческая реконструкция. Долго объяснять, но, как человек верующий, вы должны понимать, что одновременно существуют и некоторая предопределенность, и свобода воли. Отдельного человека и целых народов. Скажем, я получил этот документ с помощью спиритического сеанса. Или каким-то другим способом. Из Библии вам известно, что высшие силы иногда сообщают смертным кое-что о будущем. Считайте, это как раз тот случай. К счастью, вашей подписи там нет. Вы в капитуляции не участвовали. Это факт. А вот по какой причине?
В остальном вы можете мне верить или не верить – ваше дело. Только учтите – любая фальшивка должна иметь цель и смысл. В чем смысл этой? С ее помощью иностранный доброволец хочет убедить президента воюющего государства продолжить сопротивление? Не странно ли – посторонний человек изо всех сил убеждает вас сражаться, в то время как ваши соратники и соотечественники делать этого не хотят…
И второе – кому была нужна ваша смерть? Вас ведь на смерть этим поездом послали. Не убили бы англичане, чуть дальше кто-нибудь другой встретил бы.
– Не верю!
– Да ради бога. Я кто для вас? Волонтер, наемник. Сегодня так удачно сложилось, что мы оказались в одно время в одном месте. Поэтому вы живы и можете дальше руководить войной. Но мне это зачем, в сложившихся обстоятельствах? Потерять своих людей, может, и свою голову тоже, а вы потом все равно сдадитесь. Обороной победы не достигнешь, а англичане, раз уж начали, вас дожмут. Через полгода, год, два…
Так лучше я прямо сейчас уеду, и отсюда, и из пределов ваших республик. Вместе со своими солдатами. Об остальном узнаю из газет…
Басманов встал.
– Подождите, – сделал Крюгер властный жест. Пока что он еще чувствовал себя президентом, хотя показанная русским полковником бумага сильно его смутила. Текст – само собой, но почему нет его подписи? Отказался ли он, бежал из страны, или – просто не дожил до дня позора?
– Ответьте – чего вы хотите от меня сейчас? Что я должен сделать, дабы вернуть ваше благорасположение? – неуклюже пошутил президент.
– Только одного. Выполнения тех договоренностей, которых, согласно вот этой телеграмме, вы достигли с адмиралом Воронцовым.
– Да, я помню…
Басманову показалось, что ответил президент без энтузиазма. Понять его можно. Человек пожилой, с ветхозаветным менталитетом, хотя сам по себе умный и твердый характером. Но на него слишком многое навалилось. О современной войне он имел поверхностное представление, и то, что она только благодаря вмешательству волонтеров пошла куда лучше, чем могло быть, он не совсем понимал. Напротив, с его точки зрения, дела складывались хуже некуда.
Под первым ударом англичане если и дрогнули, но в панику не впали. На мирные переговоры не пошли и идти, как очевидно, не собираются. Превратить своих добрых буров в регулярную, спаянную железной дисциплиной армию он возможности не видел. Чтобы сделать это, самому нужно стать другим человеком.
Книг минхер Паулюс читал много, но к роли Наполеона или Бисмарка был не готов. Однако где-то на самом донышке души, кажется, хотел бы стать в их ряд. Прожил он достаточно, сколько осталось – неизвестно. День, год или десять. Но завершить свои дни этаким Бонапартом Южной Африки, навеки войти в историю своего народа – это выглядело заманчиво. Если бог этого хочет и вдохновит сына своего – ему останется только подчиниться. А недовольство обиженных современников так преходяще…
И если Воля Господня проявляет себя через иностранных волонтеров, значит, Он так решил. Например, сегодня, сначала направив на заклание, а потом отведя направленный в сердце нож.
«Снова все повторяется, – думал Басманов со скукой и грустью. – Не так давно и Врангеля пришлось уговаривать, просить позволить нам спасти Россию. Так там была Россия, а здесь?»
Спокойно и жестко, понимая, что говорит с Крюгером в последний раз, Михаил изложил свои тезисы.
Если господин президент желает и готов идти до конца, то есть до победы, с бурской вольницей нужно кончать, начиная с завтрашнего дня. Создается Ставка Верховного Главнокомандования во главе с ним, с Крюгером, которая принимает на себя диктаторские полномочия. Объявляется всеобщая мобилизация, уклонение от которой карается по законам военного времени. Да, военно-полевые суды, с правом вынесения смертных приговоров в особых случаях. Назначение командиров, способных исполнять приказы безоговорочно, точно и в срок, требуя того же от подчиненных. Создать три оперативных направления (или фронта), во главе с Кронье, Деветом, Делареем, со всей полнотой прав и ответственности. Начальником полевого штаба Ставки назначить полковника Сугорина. Сам Басманов готов принять на себя обязанности Чрезвычайного представителя Ставки и координатора действий фронтов. Подчиненного Крюгеру, но тоже с правами диктатора в прифронтовой полосе. Сроком на два месяца.
Именно столько Михаил считал достаточным, чтобы взять Кейптаун и навести на освобожденной территории относительный порядок.
– Это неслыханно, – подсевшим голосом ответил Крюгер.
– Ничего другого предложить не могу, – с вызовом сказал Басманов. – Любая армия, в том числе и английская, с которой вы решили воевать, построена именно на этих принципах. Если нет – вот лучшее, на что вы можете согласиться хоть завтра, не тратя сил и крови. – Он указал на текст бурской капитуляции, так и лежавший на столе между ними. – Кое-какие пункты сможете подправить в свою пользу. Кроме первого, естественно.
Андрей сильно нервничал с момента, когда они увидели взрыв на месте своего лагеря. Что бы там ни говорили они друг другу успокоительного, он не мог избавиться от ощущения подводника, слышащего над собой шум винтов вражеских эсминцев. Первая глубинная бомба уже рванула сзади по курсу, когда и куда упадет следующая?
А они тянут и тянут время, увлекшись никому, по сути, не нужными английскими крейсерами. С ними можно было бы разобраться и позже.
Он понимал, что происходящее с ним – последствия психической контузии. Вроде и прошло, и в строй из госпиталя выписали, но, как летчик из «Балтийского неба», даже на земле оглядываешься каждые тридцать секунд, не заходит ли с хвоста «мессер».
(Философия истории загнала их в такие дебри неизвестно чего, что погружаться в них еще глубже совсем не хотелось. А деваться ведь некуда. Было с ним такое лет пятнадцать назад – шли они в дальнем турпоходе по северному берегу Байкала и забрались в такие места… Хлюпающая грязь постепенно превратилась в болото. Сначала не слишком топкое, но постепенно все глубже и глубже. По щиколотку, потом выше. Откуда-то взлетели миллиарды комаров, сколько-то времени удерживаемые от атак репеллентами, но самими своими тучами вгонявшие в тоску и первобытный ужас. Тюбики «Тайги» скоро закончатся, а кровопийцы – никогда. Не для того они поджидали здесь своих жертв с Юрского периода, а то и Триасового. А под ногами опоры все меньше, все меньше… И возвращаться поздно. Только вперед, должно же болото когда-то закончиться.
Другой выход – нестандартный, повернуть на девяносто градусов, выходить на берег и выбираться на подручных плавсредствах. Так и сейчас…)
Но раз другие ведут себя спокойно, ему тем более непристойно выказывать страх или хотя бы невыдержанность.
Слава богу, море вокруг чистое, только «Изумруд» скользит вдали. С каждой минутой черные дымные султаны над его трубами светлеют, превращаются в жиденький сероватый шлейф, а скоро и совсем исчезнут.
– Ну, что, пойдем с парламентером пообщаемся? – негромко спросил Сашка. – Заждался?
– Нет, ты. Я ж чувствую…
– Одни ясновидцы вокруг. – Андрей снова посмотрел в сторону крейсера, будто что-то там его заинтересовало, и упомянул зачин флотского «акафиста имени апостола Павла». То есть – матерный загиб, в качестве основы использующий известное Послание названного апостола к римлянам. В Севастополе от старых боцманов, знатоков этого жанра, научился. По-своему талантливые были люди, умеющие так прослаивать канонические тексты полупочтенными словами, что и назидательный смысл сохранялся, и должное мобилизующе-воспитательное воздействие появлялось.
– Стало быть – пойдем, – подвел он итог. – Только вот что. Кое-кто из общества надеялся, что следующим номером культурной программы будет общая пресс-конференция господина Шатт-Урха, чрезвычайного и полномочного посла. Но уж простите. Только этого нам не хватало.
Устраивать очередное толковище, не способное хоть что-нибудь решить, симпозиум с десятком озабоченных личными амбициями участников – ничего не может быть глупее. Картина маслом – заседание Временного правительства по вопросам акцизной политики, когда красногвардейцы уже грохочут сапогами по коридорам Зимнего дворца.
А сейчас требуется просто квалифицированный допрос. И очень быстрый. Согласен?
На трапе, ведущем к прогулочной палубе, Новиков догнал Ирину, придержал за локоть.
– Мы с Сашкой и Антоном сейчас пойдем, поговорим с дуггуром. Предварительно. Лишние нам не нужны. Сделай, чтобы нашего отсутствия никто особенно не заметил.
– Конечно. Не беспокойся.
Она улыбнулась, стряхнула его руку, и стало очень похоже, что и самого Андрея она больше не замечает.
В то же время Шульгин обратился к Воронцову, отдававшему распоряжения по вахте. Теперь его присутствия на мостике не требовалось. До утра, если не случится чего-нибудь совсем экстраординарного.
– Дим, ты будешь смеяться, но минé кажется, что у нас таки горит сажа,[89] – сказал Андрей, имитируя произношение папаши Менделя Крика. – Ты придумай народу веселье, пока мы там разберемся. Хоть вечер танцев, хоть шлюпочную тревогу…
– А здорово придумал, – тут же откликнулся Дмитрий, – было бы красиво! Посадка пассажиров в шлюпки на кренящейся палубе, тревожные гудки, крики женщин и детей. По штормовому морю до «Изумруда», где их принимают с распростертыми объятьями и развлекают до утра…
– Тьфу на тебя. Накаркаешь. Вечера танцев достаточно. Этот наш новый гость, господин Скуратов, будет доволен. Видел я, как он на девушек смотрит.
– Вот и отлично. Придется сработать за распорядителя.
– Спасибо, дорогой. Разодолжил. А мы с собой только Антона возьмем, и хватит. Тебе потом расскажем.
– Не затрудняйтесь. Я вас все равно без наблюдения не оставлю.
– Хорошо с человеком без комплексов дело иметь, – подмигнул Андрею Шульгин.
По общему согласию допрос, или переговоры, как условились это называть, чтобы не травмировать Шатт-Урха, доверили вести Шульгину. Он был не только очевидцем, но и прямым участником всех предыдущих контактов со всеми известными разновидностями дуггуров. Особенно последний раз, в пещерах, когда единственно удалось принудить одного из них к прямому диалогу. Ему и карты в руки.
Лариса, конечно, тоже знала многое, но сейчас ее присутствие было признано не совсем уместным, и не только из-за чрезмерной эмоциональности. До сих пор ведь неизвестно, что ей успели вложить в мозги за время пребывания на станции. Нет ли у Шатт-Урха способа активизировать какую-нибудь опасную программу? Да и вообще, не для того ли он и послан, чтобы наладить с нею «живую связь», все остальное, включая плазменный взрыв, – операция прикрытия.
– Жаль все-таки, что «деда» с нами нет, – посетовал Сашка, имея в виду Удолина. – Тот наверняка уже что-нибудь полезное раскопал, со своими некромантами.
– Успеем и деда разыскать, если самим удастся в ближайшее время выжить, – успокоил его Новиков.
Шатт-Урх свое заключение перенес не просто стоически, а с огромным и явным удовольствием. И когда за ним пришли, первым делом рассыпался в благодарностях за то, что ему, первому из его расы, дана возможность изучить историю «другого человечества». Столь близкого генетически и столь далеко ушедшего совсем другим путем.
Слова, да и эмоции, были, разумеется, не его, целиком заимствованные из верхнего слоя памяти собеседников, но звучали вполне уместно: не знать, с кем дело имеешь, так и не заметишь разницы. Тут они от нормальных людей далеко ушли, не поспоришь.
Новикову, Шульгину, даже Антону – людям рациональных, при всех внешних несходствах, обществ – трудно было воспринять идею, что целая высокоразвитая цивилизация, обнаружившая рядом с собой существование параллельных «двоюродных братьев», не проявила к ним заслуживающего интереса. Если бы такое случилось на нашей стороне, нетрудно вообразить, какой фурор произвело бы подобное открытие. Уж никак не меньший, чем обнаружение разумной жизни на Луне! Да нет, сравнение неточное. Луна – она Луна и есть, небесное тело, а тут ведь на самой Земле, буквально рукой подать!
Согласимся, в их феодальной, даже – рабовладельческой формации значащая информация доступна весьма узкому кругу одной из каст, но хоть несколько сотен или тысяч имеющих допуск должны ведь были собрать все сведения, нужные для выстраивания хоть какой политики с соседним миром. Враждебной, дружественной, нейтральной, не так уж важно…
– Рады, что тебе понравилось, – кивнул Шульгин, усаживаясь за круглый стол в гостиной каюты и указывая дуггуру полукресло напротив. Новиков и Антон заняли места справа и слева между ними. – Наш разговор на берегу прервался на самом интересном месте. Пришло время его продолжить. С учетом изменившихся обстоятельств. Ты теперь имеешь представление об истории нашего человечества в достаточном объеме, чтобы как-то понимать нас. Я прав?
– Конечно, я теперь имею последовательную и непротиворечивую картину эволюции человечества, оставшегося в этой реальности. И не могу признать, что избранный вами путь оказался лучше нашего. Бесконечные войны всех против всех и по любым поводам. Раздробленность единой расы на сотни наций и племен. Сотни миллионов бессмысленных жертв якобы индивидуально разумных существ. Можно сказать, что такой ценой вы заплатили за «технический прогресс», как вы его называете? Или, наоборот, прогресс явился «побочным продуктом» никем не контролируемой эволюции?
– Минутку, – остановил его Андрей. – Поясни, Шатт-Урх, как тебе удалось вообще разобраться в том, что ты видел, если никогда раньше не сталкивался с людьми, не изучал языков, психологии, ну и так далее. Не стыкуется.
– Ты не совсем верно понимаешь положение дел. Чтобы понять, нужно обладать свойствами, которыми вы, люди, не обладаете. Жаль, что не могу показать вам что-то похожее на тот фильм, который увидел я. Может быть, позже мы сумеем что-нибудь придумать, а до тех пор… – Он проделал пальцами сложное движение, возможно, заменяющее разведение руками с одновременным пожатием плеч.
– Я отношусь к сообществу (или касте) «ученых», если можно так выразиться, очень небольшому сообществу по сравнению со всем населением. Но нам как бы переданы (или доверены) все интеллектуальные способности, у вас распределенные почти поровну среди всего человечества. Это понятно?
– В основном, – кивнул Шульгин.
– По закону компенсации, если я правильно употребляю этот термин.
– Правильно. Вместо того чтобы позволить каждому в меру возможностей и желания использовать свои биологические способности, вы весь видовой потенциал загнали в пределы одной касты…
Новиков с Антоном молча переглянулись. Биологические компьютеры, попросту говоря. Все тот же принцип муравейника. При случае этим можно будет воспользоваться.
– Поэтому мне не составило труда овладеть всем словарным запасом, которым владеет каждый из вас, понять логику языка и через него – логику мышления в целом. Дальнейшее было несложно. По мере просмотра фильма я самообучался, находил закономерности между фактами и событиями, проникал в побуждения «творцов истории». Дойдя до начала Нового времени, я уже мог пытаться предугадывать, что случится дальше…
– «Мог пытаться» или «мог предугадывать»? – с интересом спросил Новиков.
– Разумеется – сначала «пытаться», а когда попытки все больше стали совпадать с фактами, тогда я уже «предугадывал».
Шатт-Урх незаметным образом начал приобретать бьющее в глаза самодовольство. Казалось, еще немного, и случится то же, что в диалоге землян с Хайрой из «Попытки к бегству». Когда тот вдруг обнаглел и попытался держаться как рапортфюрер в концлагере.
Андрей с удовольствием ударил бы его сейчас по лицу. Просто, чтобы осадить «по месту». Подобные чувства в голову Новикову приходили не очень часто, но – случалось. И он себя за них потом подолгу казнил. За мысли именно, не за поступки. С поступками выходило проще. Была безвыходная ситуация, ответил, как мужику положено, – и не о чем горевать.
– Философских вопросов мы сейчас касаться не будем. Слишком обширная тема, а времени у нас мало… – холодно, без всякого намерения поддержать заданный Шатт-Урхом тон, продолжил Шульгин. – Мы, к сожалению, столь систематизированными познаниями о вашем мире не располагаем. Поэтому, не сочти за труд, объясни – что может означать вот это.
Он вставил в проектор кристалл, на который совмещенная с аппаратом СПВ стереокамера записала сцену локального армагеддона на месте их недавней встречи.
Даже второй раз смотреть на эту картинку было неприятно, хотя люди могли утешаться популярной в «Братстве» поговоркой: «Все пули мимо нас!» А вот Шатт-Урх на глазах посерел. Приятно-смуглая кожа стала похожей на грязный китель «фельдграу» немецкого пехотинца.
Несколько фраз он, давясь, пробулькал по-своему, потом, собравшись, вернулся к русскому:
– Это… Что? Откуда?
– Еще раз прокрутить? – участливо спросил Шульгин. – С удовольствием. Смотри, вот тут, на кадре, слева – время съемки. Дата, час, минуты, секунды. Справа – географические координаты. В нашей проекции, но ты не сомневайся. Очень надо будет – прямо на место тебя доставим. Для осмотра места происшествия. Ты же его на картинке узнал? И дисколеты свои. Как видишь – один пар остался. Там у тебя друзья были или так, расходный материал? Доставим, да там и оставим. Поскольку непонятно нам, парламентер ты или наводчик-провокатор?
Новиков, с молодых лет занимаясь психологией, по журналистской профессии встречаясь с людьми нескольких неевропейских и не совсем европейских культур, хорошо усвоил малоочевидную для большинства людей истину. Само по себе владение языком, даже усвоенным в абсолютном совершенстве (рукописи Шекспира и рубаи Хайяма читаешь и переводишь литературно), без погружения в бытовую культуру и опять же архетипную психологию его носителей значит не слишком много.
С полковником президентской гвардии, окончившим Рязанское десантное, легко общались на любые темы на двух языках. А с командиром революционного отряда из сельвы, знающим испанский, как родной, но индейцем первобытно-общинного уровня по натуре, не удавалось достичь понимания по простейшим вроде бы вопросам. Просто одни и те же фразы, тем более – отвлеченные понятия и идиомы, трактовали совершенно по-разному. Не каждый, выучивший русский, с ходу поймет вопрос-ответ: «Чай пить будете? Да нет, пожалуй». А это не тот вопрос, от которого жизнь или смерть зависит.
В Отечественную войну вполне прилично владевшие языком немецкие авианаблюдатели, отслеживавшие переговоры русских летчиков в воздухе, совершенно ничего не понимали, хотя никаких хитрых кодов те не использовали. Просто все донесения и команды, за исключением союзов и предлогов, целиком состояли из матерных слов, различным образом склоняемых, спрягаемых и интонируемых. Что интересно, при такой лексике скорость прохождения и усвоения информации «пользователями» значительно увеличивалась в сравнении с уставной.
В случае с дуггуром цивилизационный разрыв был на порядки больше.
Поэтому Андрей не был уверен, что разговор Шульгина с Шатт-Урхом идет в адекватном плане. А время уходит!
Антон пока молчал.
Непонятно почему. У него ведь опыт общения с инокультурными расами гораздо больший (Тайный посол в Конфедерации Ста миров), и спецподготовка имеется. Ну, если ему хочется, пусть в резерве сидит.
– Так! – Андрей встал, ударил ладонью по столу. Сильно, как и собирался, чтобы зазвучало и срезонировало. В тонкие кости дуггура отдалось. – С дипломатией закончили. Ты – отвечай быстро и однозначно. Кто стрелял? Цель атаки только мы или ты тоже? Зачем это было сделано?
Беда Шатт-Урха заключалась в том же, что и Замка, попытавшегося воплотиться в Арчибальда. И тот и другой пытались «рационализировать» мысли, слова и поведение наблюдаемых объектов. Но при любой мощности алгоритма это было невозможно. За счет невероятной избыточности языка и сопряженных с ним форм мышления и поведения.
– Я только начал вам объяснять, и я непременно все объясню. Случившееся, безусловно, ужасно для нас всех. Я сам в полной растерянности. Но если вы меня выслушаете, без гнева и пристрастия, мы вместе поймем происходящее. Дело в том, что…
Дуггур выдернул манеру изложения не из той области. И не из того мозга. У кого-то из землян он нашел (методом «тыка», конечно) блок воспоминаний, связанных с романами Достоевского, Толстого, Диккенса, наконец. Это ведь он любил писать: «Давайте присядем, я расскажу вам мою историю».
– Растерянность и прочие эмоции оставь при себе. Они никого не интересуют. Только прямые ответы. Кто стрелял?
– Тапурукуара. Больше некому.
– Это – кто?
– Тоже одна из каст нашего общества. Профессиональные военные… – После короткой паузы добавил: – Нечто вроде кшатриев в вашей Индии.
«Наверняка успел выдернуть из моей памяти, – подумал Андрей. – Я только что сам так же ассоциировал».
– О кастах потом. Ты говорил – ваше сообщество признало правомерность наших действий и хочет мира. Ты лгал?
– Нет. Я говорил о нашем сообществе, урарикуэра, ученых-теоретиков. Мы решили, что мир и взаимное изучение друг друга, нас и людей необходимы для установления приемлемых отношений.
– Но не спросили у старших? – вновь включился в допрос Шульгин.
– У нас нет старших или младших в вашем понимании. Каждая варна равноправна и имеет свою… область ответственности. Наверное, так.
– И предводитель вашей варны мог бы приказать уничтожить ядерным ударом делегатов от тапурукуара, если бы они занялись не тем, что нужно вам? – впервые сказал свое слово Антон.
Теперь он понял ситуацию. О кастовых цивилизациях, весьма распространенных в обозримой Вселенной, форзейль знал бесконечно больше, чем любой из присутствующих. В том числе и на собственной шкуре. На самом деле, везде одно и то же. Даже скучно.
– Нет, мы – не можем… – В голосе дуггура прозвучало понятное без любых трансляторов отчаяние от невозможности объяснить людям безвыходность положения.
– Прости, Андрей, – сказал Антон. – Сворачиваем болтовню. Это бессмысленно. Мельница. Ваши мысли не позволяют ему говорить самостоятельно. Отключитесь, вы же умеете!
Новиков с Шульгиным постарались изо всех сил.
Сам Антон начисто выбросил из ноокортекса все старательно внедренные в него и культивируемые в течение двух веков системные признаки землянина. От которых он не захотел избавляться даже по настоятельному совету Учителя, Бандар-Бегавана. За которые загремел на бессрочную каторгу.
Все почти в тот же миг увидели на лице Шатт-Урха глубочайшее изумление.
Тот внезапно ощутил, всем набором имеющихся у него органов чувств, контакт с абсолютно чуждой его примитивному разуму сущностью. Чей внутренний мир был еще более непонятен дуггуру, чем юному радиолюбителю двадцатых годов, постигшему тайны детекторной связи, схемы цветного телевизора «Рубин».
Даже аггры, которых они в какой-то мере изучили, были им понятны, за счет своей настройки на человеческий образ мышления. Форзейль же архетипически стал абсолютно неконгруэнтен.
Одновременно погасли исходящие от людей, сидящих перед ним и находящихся за пределами этого помещения, доступные Шатт-Урху сигналы. Любые. Вербальные и эмоциональные. Из всех чувств у него осталось только зрение.
На дуггура навалился, как дорожный каток на консервную банку, напор непредставимой Воли. Никакой, но страшной.
В ставшей пустой голове Шатт-Урха голос Антона зазвучал, как удары многотонного церковного колокола. Причем – на его собственном языке.
– Ты понял, ничтожный, что сопротивляться бесполезно?
– Я понял, Величайший.
– Через какой отрезок здешнего времени может последовать следующий удар? И откуда? Думай и отвечай быстро, иначе погибнешь не только ты, но и вся ваша раса. Мне нет нужды разбираться в степенях виновности. Вы для меня – никто!
Люди второй половины ХХ века привыкли жить под дамокловым мечом грядущей термоядерной войны. Хрущев говорил: «Мы вам покажем кузькину мать» (имея в виду бомбу в сто мегатонн), Рейган обещал сокрушить «Империю зла» «звездными войнами», но за протекшие после сорок пятого года десятилетия человечество настолько привыкло к подобной риторике, что никто, кроме самых психически неуравновешенных индивидов, всерьез эти угрозы не воспринимал.
Шатт-Урх же все понял буквально. А куда ему было деваться?
Он быстренько что-то и как-то подсчитал.
– При нормальном прохождении информации и команд, если вопрос дойдет до уровня Рорайма (нечто вроде Совета предводителей мыслящих варн), повторный удар нанесен быть не может. Не должен, – поправился он. – Если бы я мог выступить на Совете…
– Не сможешь, – услышал он холодный ответ. – Второй вариант?
– Я могу ошибиться, но старшие тапурукуара, получив информацию о неудаче первого удара от итакуатиара (инженеры-наблюдатели, подобные тем, с которыми встретились Шульгин и Удолин на станции в пещерах), смогут его повторить через три-четыре часа по вашему времени…
– Откуда они могут узнать о неудаче? Там только выжженная на два метра вглубь земля.
– Я продолжаю излучать мыслеволны, твои друзья, о Величайший, тоже. Волны каждого из них записаны, проанализированы, внесены… И весь этот корабль, где мы находимся, светится. Они могут выстрелить сюда.
– А я – нанести ответный удар сейчас же, – тоном Саваофа объявил Антон. – Волновой удар вдоль канала связи твоего мозга с остальными! В десять гигаватт!
– Да, можешь. И уничтожишь непонимающих вместе со всем моим народом. Мысли Рорайма – это единственное, что сохраняет единство расы. Сотрешь эти мысли – останется три миллиарда особей, руководимых только низшими инстинктами.
– Ну и что? Вы для нас никогда не существовали, значит, ничего не изменится и впредь.
– Ты снова прав, Величайший. Однако… – В мысленном голосе Шатт-Урха прозвучала мольба в библейском духе: «Пощади народ мой!»
Для Андрея и Шульгина этот внутренний диалог остался «за кадром», они успели ощутить только тревожный, на грани срыва эмоциональный фон обоих собеседников.
Почти тут же Антон вернулся в область нормального восприятия.
– Значит, так, парни. Выбор у нас с вами простенький. Я узнал, как, к чертовой матери, ликвидировать всю их цивилизацию. Пришлось кое-что вспомнить. Я все ж таки, по старому чину, Тайный посол. А это дает некие права и способности. Их цивилизация чересчур хрупкая. Наступил каблуком – и нету. Как таракана на кухне. Но не хочется. С ними еще можно поработать…
– Дальше, – сказал Шульгин.
– Дальше, – сверкнул голливудской улыбкой Антон, – через два часа хорошо бы отсюда смотаться. «Валгалла» и все, кто контактировал с долбаным Урхом, – на мушке. Бабахнут – и концы.
– Два часа, говоришь? – спросил Новиков, разминая сигарету. Сигары курить было некогда и не в настроение.
– Два, – кивнул Антон. – Третий – резерв на крайний случай.
– И куда же нам теперь бечь? Лично мне надоело. Может, пугануть их хорошенько, да и остаться?
– Увы, братцы. Такая вот хреновина сложилась. Или мы их – в пыль, или они нас. Никакой разумной альтернативы.
– Это – по-вашему, – помахал сигаретой перед лицом Антона Новиков. – Альтернатива одна только в классической логике. Позовем господина Скуратова, он спроста докажет тебе, что их может быть и десять… А теперь спроси этого интеллигента, есть ли у него возможность в условиях крайней необходимости связаться напрямую с их Рораймами? Напрямую, я повторяю. Сигнал «SOS», проще говоря, или что-то в этом роде. Жизнь их хрéновой… цивилизации на кону, так пусть остановятся, до греха не доводят. Кубинский, бля, кризис у нас сейчас, не иначе…
Через минуту, примерно, очередного обмена мыслями Антон со злостью раздавил окурок в пепельнице. Как будто это был самый мерзкий из дуггуров.
– Не может! Головой об стол готов биться, но не может. Ему это – как из сельского почтового отделения Сталина к прямому проводу вызвать. Иерархия, мать ее…
– Закончили трепаться? – спокойно спросил Шульгин, по старой привычке взглянув на циферблат хронометра. Словно бы и не было последней попытки Антона. – Пять минут отлетели. Осталось сто пятнадцать…
С лицом подрывника, прикуривающего от горящего бикфордова шнура, он щелкнул своей бензиновой зажигалкой. Взял в руки микрофон внутрикорабельной связи, вздохнул и отложил в сторону.
– Эй, парень, – окликнул он робота Ивана Ивановича, бдительно несущего вахту в тамбуре. – Господина Левашова и капитана пригласи сюда. Рысью. Пять минут на все. Хоть на руках неси…
Выслушав доклад Антона, кроме пересказа фактической части обмена мыслями с дуггуром содержавший и его собственные соображения, Высокое собрание напряглось. Это вам не геополитические абстракции, это то, что называется началом угрожаемого периода. И крайне короткого. Меньше двух часов подлетного времени.
Уже не до разговоров.
– Под прицелом только мы? – уточнил Воронцов. – «Изумруд»? Басманов с бригадой, Сильвия с Алексеем?
– Пожалуй, они пока вне поля зрения. Урх в качестве целей назвал себя, тех, кто контактировал с дуггурами в зоне пещер, «Валгаллу», – ответил Антон.
– Уже легче, – усмехнулся Воронцов.
– Я заодно выяснил, до сих пор им ничего не известно о реальностях «1925» и «2056»…
– Тогда о чем думать? Давайте отскочим в «Форт-3», потом свяжемся с Удолиным, – сказал Левашов.
– Если «Валгалла» под контролем, они засекут след… – с сомнением ответил Новиков.
– Мы уже прикрылись резонансом от переброса англичан. Там у них все датчики зашкалило. Пока сообразят… – Антон демонстрировал полную уверенность и вдруг напомнил Воронцову его же в момент встречи в Абхазии. – А я постараюсь тряхнуть стариной. Пароход переведем «без шума и пыли». Моей методикой.
– Разве Замок позволит?
– Замок, при всех сложностях текущего момента, по-прежнему инструмент, механизм. Надо знать, с какой стороны к нему подойти. Если я сумею никак не зацепить его интеллектуальную составляющую, рабочие команды должны пройти. Вспомните «Мятеж шлюпки» Шекли.
– Тебе виднее. Действуй. А мы – по боевым постам, – сказал Воронцов. – Не выйдет у тебя – управимся своими силами.
Новиков почувствовал, что уныние исчезло, как ничего и не было. Теперь – опять только работа, у бездны мрачной на краю. «Иль погибнем мы со славой, иль покажем чудеса».
– Дим, сигналь «Изумруду», пусть швартуется к борту. Проинструктируешь для «автономного плавания» на месяц-другой. Снабдишь запасами, если ему чего не хватает.
Олег, ты с Антоном держись, вдруг какая помощь потребуется. Я сейчас переговорю с Басмановым. Дадим санкцию на полную свободу рук. Согласны? Ну а ты, Саш, с Алексеем свяжись. Объясни положение. Захочет – пусть присоединяется к нам. Нет – с Сильвией не пропадет. Она дорогу на Валгаллу знает, там и свидимся, если иначе не выйдет…
Команды Новикова были приняты без возражений. Не то время, чтобы дискутировать. Как заведено у них было с самого начала, в острых ситуациях руководство принимал на себя тот, кто именно сейчас чувствовал обстановку лучше других. Или успевал выстроить оптимальную мыслеформу. Славой потом сочтемся.
Ставить в известность девушек, Ростокина, его гостя тем более – некогда. Стрелка хронометра на переборке каюты прыгала от деления к делению все быстрее. Как часовой механизм мины.
Перед тем как разойтись по намеченным постам, Шульгин с сомнением взглянул на Шатт-Урха, до сих пор приходящего в себя после нанесенной ему Антоном психической травмы.
– А он при переходе по твоей, Антон, методике не загнется? Не дематериализуется?
– Что с ним сделается? Тут и перехода, по сути, никакого не будет, я не Удолин, с эфирными заморочками предпочитаю не связываться. У нас по старинке: грубо, зато надежно. Дмитрий помнит…
Как и предполагал Новиков, Берестин, выслушав Сашку, возвращаться не захотел. Они с Сильвией еще до начала всей этой истории демонстрировали некую отстраненность от общего дела.
Алексея понять можно. С его характером трудно оставаться на вторых ролях, пусть и неявно. Но каждый сам оценивает свой статус в обществе равных. Зато в Лондоне девяносто девятого года он обрел себя в большей, чем когда-либо раньше, степени.
И время это ему нравилось, тем более что удобства жизни внутри особняка Сильвии ничуть не уступали уровню и XXI века. Леди Спенсер так и не стала его официальной женой, да на эту роль и не претендовала. Подобные женские стремления ей были чужды по определению. Алексей тем более ни за что в жизни не согласился бы на положение «принца консорта». Неудача с Ириной дала ему основательную прививку. Теперь он знал, как следует строить личную жизнь с аггрианками. Они с Сильвией вполне устраивали друг друга и как любовники, и как «товарищи по оружию». Чего же больше желать? Все довольны, каждый при этом сохраняет полную независимость.
– Надеюсь, вы в очередной раз прорветесь, – сказал Берестин Шульгину. – Без нас не скучайте. Здесь такие интересные комбинации вырисовываются. На высшем уровне. Басманову с Белли поможем, не сомневайся. Я, кстати, в те места вскоре выбраться собираюсь. С Кирсановым кое-какие вопросы порешать. А на Валгалле, само собой, в любой момент пересечемся, хоть завтра. У Сильвии блок, у Ирины тоже. Да и Антон с вами. Главное, сейчас вам удачно выскочить. Народу привет. Скажи – генерал пост принял.
– Взаимно. Пишите, не забывайте. Мадаме привет особо…
Процесс совмещения миров по методике Антона был не так прост, как могло показаться со стороны. Если прямой пробой пространства-времени «по-левашовски» компенсировал перемещение масс самостоятельно, как отдача винтовки и звук выстрела сопровождают вылет пули, то здесь действовали совсем другие принципы. Без внешних ударно-акустических эффектов, но затрагивающие гораздо более глубокие уровни мироздания. С необъяснимыми на уровне земной науки последствиями.
Готовя переход «Валгаллы», форзейль надеялся, что Арчибальд все-таки не достиг высших степеней самопознания и не научился произвольно влиять на породившую его сущность. В этом случае управляющие команды, посылаемые в исполнительные структуры Замка, скорее всего минуют зоны, захваченные Арчибальдом, вернее – сами по себе ставшие им.
Через сорок минут – они все сейчас постоянно посматривали на стрелки часов, наручных или настенных – Антон был готов. Андрей и Шульгин со своими делами тоже справились.
Воронцов давал последние наставления Владимиру Белли, особо его предупредив, что Басманов, хотя и остается сухопутным главкомом, для кавторанга не начальник. Старший товарищ, не более того.
– Флот, даже в виде боевой единицы, не может и не должен быть придатком армии. Когда этот принцип нарушался, он просто погибал без пользы и смысла. Чему примером вся русская военная история, начиная с пятьдесят третьего года ныне текущего века, – поучал Дмитрий «молодого». – Если Михаил Федорович будет на чем-то настаивать – десять раз подумай. В крайнем случае общий для вас начальник – Берестин. К нему и обращайся. А так, конечно, что ж, помогать надо, одно дело делаем.
– Ты, главное, «Призрак» береги, – особо подчеркнул забежавший на минутку по неотложному делу в каюту Шульгин. – В случае чего Ларсен с экипажем от непосредственной агрессии отобьются, но им же направляющие инструкции нужны. Сами они кто? Вот именно.
И тут же Сашку осенило.
– Да о чем я вообще? Яхта тебе здесь совсем ни к чему, дай бог со своей эскадрой управиться. Я сейчас по радио прикажу – пусть Ларсен снимается и гонит прямо в Лондон, без заходов, в распоряжение Алексея. Ему пригодится. Вооруженное плавсредство, надежные ребята. И для авторитета, само собой.
– Подожди, Саша, не горячись, – остановил его Воронцов. – С яхтой ничего не случится, а вот Кирсанову она может больше понадобиться, чем Берестину. Так и передай своему Ларсену: «Место стоянки Дурбан, находясь в полной боеготовности, ждать распоряжений от Кирсанова, Белли. Приоритетность равноценная». Согласен?
Шульгин признал, что да, так будет правильнее.
Андрей, передав инструкции Басманову, успел переговорить и с Кирсановым, составил телеграмму президенту Крюгеру, которую, через доверенных людей, следовало передать ему обычным путем, с соблюдением принятых правил и церемоний. После чего ощутил себя на ближайшие сорок минут свободным. Ну совершенно нечего делать. Не путаться же под ногами у людей, продолжающих работу.
Он спустился в салон на прогулочной палубе. Там двое мужчин изо всех сил развлекали пятерых женщин. И им это удавалось. Прежде всего, Ирина выполняла просьбу Новикова и, как могла, создавала ауру, помогающую остальным подругам не отвлекаться на пустяки вроде затянувшегося отсутствия Андрея с Шульгиным и чересчур быстрого исчезновения Олега с Воронцовым.
Наталье такое было не в диковинку, а Ларису полностью взял на себя Скуратов. То, что она считалась как бы чужой женой, его ни в коей мере не останавливало. Подобные пустяки Виктор во внимание не принимал. Танцевать, рассказывать увлекательные истории и анекдоты, вовремя предлагать бокал шампанского, подхваченный с подноса официанта, – этикет не запрещает. Особенно – в отсутствие благоверного. Тем более Скуратов ощущал, что девушка эта не из числа неприступных весталок. Ее звездно-искрящиеся глаза, вдруг прорезающиеся в голосе низковато-бархатные нотки, так много говорящие знающему человеку, мгновенные, но многообещающие прикосновения выступающими частями тела во время танца…
Есть о чем задуматься. Он не собирался начинать свое вхождение в «Братство», хотя бы в роли кандидата (а Ростокин уже намекал на такую возможность), с примитивной любовной интрижки, соблазняя женщину одного из руководителей организации. Но если самостоятельная, совершеннолетняя дама намекает на возможность какой-то игры, глупо строить из себя бесполого пуриста.[90]
При этом он как-то очень ловко ухитрялся уделять внимание и другим женщинам, так что каждой казалось, будто именно ею он сейчас невыносимо очарован. Стиль бонвивана[91] середины XXI века, наверное.
Только Ирины он непроизвольно сторонился, поймав всего лишь один, как бы мельком брошенный взгляд в ответ на его, показавшийся царственной даме, видимо, чересчур откровенным. Ирина, безусловно, привлекала и возбуждала Виктора гораздо сильнее остальных, но, как мельком заметил Ростокин, – «не к вашему рылу крыльцо». И Скуратов, что удивительно, сразу с такой оценкой согласился.
Игорь тоже справлялся со своими обязанностями, стараясь и Алле угодить, и Аню без внимания не оставить. Ему хорошо помогал джаз-банд «судовой самодеятельности». Четырех роботов Воронцов настроил как виртуозов нью-орлеанского стиля, а пятый, в облике любимой актрисы его молодости, Рэчел Велч (к/ф «За миллион лет до нашей эры»), изображал высококлассную джазовую певицу, с мягким альтовым тембром основного голоса и полным набором октав.
Всех, кроме Ирины, в настоящее время вопросы реальной жизни совсем не интересовали. Достаточно было радости, веселья и великолепного чувства защищенности от превратностей внешнего мира. Даже о присутствии неподалеку дуггурианского парламентера никто не вспоминал. То есть в глубине души многие помнили, что имел место такой факт, только он был совсем неактуален. Завтра, может быть, кто-то этим озаботится, а может, и нет, передоверив дипломатические проблемы людям, специально этим занимающимся. Уж Анну и Наталью, да и Аллу тоже, это совсем не занимало.
Новиков, неожиданно влившийся в компанию, особого внимания не привлек. Ну, выходил, ну, вернулся, мало ли, у кого какие дела.
Он, поймав паузу между танцами, перехватил у Скуратова Ларису, как будто долго ждал этой возможности. Они кружились по залу под томные звуки аргентинского танго. Девушка и к нему прижималась не менее страстно, чем только что к чужому, в принципе, человеку. Да разве в танцах чужие бывают?
– Что вы там опять придумываете? – шепнула она на ухо Андрею. – Бегаете куда-то, нервничаете. У тебя вон бицепсы и спина твердые, как доска. И я тебя совсем не волную…
Действительно, гибкая талия Ларисы, легко прощупывающиеся сквозь тонкое платье застежки, пряжки и иные рельефные детали ее нижней амуниции оставляли Новикова безразличным. Хотя время от времени (давно) мысль о том, что эта особого типа красавица могла бы подарить ранее не изведанные чувства, его посещала. Как и любого мужчину, вынужденного много лет тесно общаться с красивой девушкой, которая совсем не против.
Вдобавок всего пару дней назад у нее имел место очередной сексуальный срыв. Спровоцированный теми же дуггурами.
– Ты меня всегда волнуешь, – польстил Новиков, – только никак не складывается…
– Не хочешь до моей каюты и обратно прогуляться? А то меня этот ваш нобелевский лауреат всю общупал, только что не обслюнявил.
– А не стоит на свете быть красивой такой, – использовал к случаю Андрей тему из услышанного в начале двадцать первого века шлягера.
– Иди ты знаешь куда, интеллигент затруханный, – с милой улыбкой сказала Лариса. – Не в тот пошел ты цвет, Андрей Дмитриевич, на масть не ту поставил. Я бы тебе могла стать лучшей женой, чем Ира. Холодная она, ужас, какая холодная…
– Особенно если вспомнить, как ты меня возненавидела при первой встрече на Валгалле. Плюнь – зашипит.
– Бывает. Люди все разные и в разное время по-разному выглядят. Так что у вас случилось? Опять война какая-нибудь?
Лариса еще теснее прижалась к Андрею животом и бедрами.
Он легонько отстранился.
– Никакой войны. Хватит уже. Выйди на палубу минут через тридцать, воздуха глотни…
– Значит, опять не договорились, – грустно вздохнула Лариса. Новиков понимал, что она, успокоившись, вернулась к прежним забавам. Почему и нет? Девушка была очень изящна, с классными ногами, демоническим лицом и изумительной грудью четвертого, наверное, размера, очень гармонически сочетающейся с ее стройным телом. Для другой такое богатство могло показаться великоватым, а ей – в самый раз.
– На палубе мы что увидим? – неожиданно равнодушно спросила Лариса, отстраняясь и впереди Андрея следуя к дивану, с которого им призывно махала рукой безмятежная Анна.
– Ничуть не более того, что позволит география, – постарался ответить как можно неопределеннее Андрей и снова взглянул на часы. Двадцать минут осталось. Обидно будет, если не успеем сорваться. Как жахнет в последний момент…
– Опять не соблазнила? – со смутной улыбкой спросила Ирина, очень небрежно и со стороны незаметно перехватившая Новикова на полпути.
– А есть чем соблазнить? – тем же тоном ответил Андрей. – Я ни разу не заметил между вами существенных анатомических отличий… Психологические – не из этой оперы.
– Циник, – бросила Ирина.
– Будешь настаивать – займусь вопросом поплотнее. Вдруг да…
– Ты не замечал, каким иногда можешь быть занудным?
– Замечал. Постараюсь исправиться. А на тебя нобелевский лауреат смотрел куда похотливее, чем Лариса на меня. Позабавишься?
– Иди отсюда, Новиков. С тобой что-то не то творится.
– Тогда через пятнадцать минут поднимайся на Солнечную палубу. Солнца уже нет, а там мало ли что…
Чтобы не вдаваться в уточнения, он развернулся и ушел, оставив подругу в недоумении. Совершив сложную траекторию по залу, успел то же самое предложение сделать и остальным. Большинство вообразило, что наверху их ждет Южное сияние или метеоритный дождь.
«Изумруд» уже отвалил от борта парохода и удалялся к зюйду десятиузловым ходом. На мостике видна была фигура командира, к гафелю поднят флажный сигнал «Счастливого плавания».
– Куда это Володя направился? – спросила остановившаяся у лееров Лариса, окруженная стайкой подруг в разноцветных одеждах. Белли, заметив их появление, решил, что они вышли его проводить, и приветственно замахал фуражкой. Над передней трубой возникло облако белого пара, через несколько секунд донесся низкий гудок. «Валгалла» ответила своим, гораздо более мощным.
– Мы что, надолго прощаемся?
– Кто знает, – ответил Левашов. – Кто там писал: «И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг?»[92]
– Мрачно у тебя получилось, – сказала Наталья.
– Жизнь научила.
– Если надолго уходит, чего же не зашел хоть на полчасика? Не такие уж у вас срочные дела. Часом раньше, неделей позже, – продолжила Лариса. Ей и вправду было жаль, что молодой капитан проигнорировал элементарное правило этикета.
С новым чином его не поздравили, не расцеловали. Большинство женщин, не слишком отличаясь от Владимира возрастом, испытывали к нему теплые сестринские чувства. Хорошо помнили, каким молодым, но слишком много пережившим он появился в их компании первый раз. Потом возмужал, конечно, но первое впечатление – самое яркое. Так сложилось, что даже Лариса ни разу не попыталась испробовать на нем свои чары. Хотя парень он был видный, вдобавок – настоящий аристократ, подлинный, в отличие от того же Новикова с его якобы княжеским происхождением, давно растворившимся в реалиях советской действительности.
После протяжного прощального гудка «Валгалла» дала еще трижды по три коротких, гораздо выше тоном. Белли знал этот сигнал торпедной тревоги и прибавил крейсеру ход до полного.
Антон, уединившийся на прожекторной площадке фок-мачты, производил какие-то манипуляции, суть которых была неизвестна даже Левашову. Он понятия не имел, каким образом форзейль организует межпространственные совмещения, несколько попыток прояснить его методику неизменно наталкивались на вежливо-уклончивые ответы. Он, мол, и сам физического смысла явления не понимает, примерно как средний американец, знающий, что машина едет, если повернуть ключ зажигания и включить скорость, но никогда в жизни не заглядывавший под капот.
Никто ничего не заметил до тех пор, пока Воронцов с крыла мостика не указал на проступившие в предвечерней серовато-розовой дымке контуры высоких скал. До них было миль десять или немного больше.
– Это что, Мадагаскар? – спросил Ростокин, прикинув курсовой угол.
– Слава богу – нет, – ответил Новиков. – Это, по всем признакам, Новая Зеландия. Ночевать будем на берегу.
– Какая Новая Зеландия, откуда?
– Та самая, куда мы с тобой однажды на «Призраке» пришли. Получилось у Антона, значит. Глядишь – еще поживем…
…Суздалев поговорил с полковником Арнаутовым и инженером на разные темы, прямого отношения к работе не имеющие, минут пятнадцать-двадцать, потом, ощутив смутное беспокойство, глазами показал помощнику на дверь.
– Пойди, посмотри тихонечко, чем там наш профессор занимается. Не тревожь, а так…
Оперативника учить не нужно было, приоткрыть дверь на несколько миллиметров, чтобы не скрипнула, – элементарная задача для подготовительной группы спецкурсов. Он только пожалел, что не оставил вовремя на подоконнике за шторой маленькую видеокамеру. Так ведь поначалу и мысли не было, что может потребоваться, и не захватил он с собой нужного снаряжения.
Заглянул сначала в щелку, потом оттянул створку посильнее, распахнул совсем.
– Георгий Михайлович!
По громкости голоса и тональности Суздалев понял, что дело неладно. Всего-то прихожую пересек, а мыслей в голове промелькнуло множество. Одна другой хуже.
Остановился на пороге. Комната была совершенно пуста. Только электронная машина негромко гудела, помаргивая светящимся, но слепым экраном.
– Та-ак… – Интонации начальника не сулили ничего хорошего, только вот кому – Анатолий не мог сообразить. Последним сюда заходил сам генерал, разговаривал с ученым, потом вышел. Все время они находились рядом. Из гостиной мимо открытой двери кухни незаметно проскользнуть к запертому выходу никак не возможно. Уж такому представительному, не имеющему особой подготовки мужчине – во всяком случае. Окно закрыто охранной автоматикой. То есть деваться Скуратову было абсолютно некуда.
– Та-ак, – повторил Суздалев несколько с другим оттенком. – И что же мы видим на этой интересной картинке? – Присутствие за спиной подчиненных он как бы игнорировал. – И где же это наш господин нобелевский лауреат спрятался? В шкафу? Под диваном? Как-то несолидно. Потайных дверей в стенах не наблюдается. Люка на крышу – тоже. Ты как, Анатолий, думаешь, могут тут быть потайные двери?
– Да кто же его знает, Георгий Михайлович? Не средневековый замок, конечно, однако – позапрошлый век все-таки. Если только в соседнюю квартиру, вот здесь, а больше некуда – или в кухню, или на улицу. Внешняя стена – полтора метра каменной кладки. Снаружи – ни балконов, ни пожарных лестниц.
– Здесь наши мнения совпадают. Поэтому пока стойте на месте, порог не переступайте. Черт его знает, заколдованная комната, а?
Суздалев увидел на столе, за которым пил со Скуратовым кофе, раскрытый блокнот рядом с пепельницей. Только что, когда он выходил отсюда, его точно не было.
Осторожно, будто пол мог быть заминирован, приблизился, посмотрел, ни к чему не прикасаясь.
Размашистыми крупными буквами, занявшими всю страницу, было написано: «Георгий, я отправился за Ростокиным. Не обижайтесь. Скоро вернусь. Ваша теория подтверждается. На всякий случай передайте в мой институт, что я срочно вылетел в спецкомандировку. Заместители знают, что делать. Справятся. Вам обещаю отчитаться по прибытии. Ни в коем случае не позволяйте никому прикасаться к компьютеру. Если не вернусь через час, опечатайте квартиру. Но никаких других активных действий. Скуратов».
Суздалев совсем не удивился. Разве что самую малость. С момента начала событий, связанных с операцией «Репортер», происходили и гораздо более масштабные парадоксы. Не совсем понятно было, отчего академик не поставил его в известность о своем намерении. Они ведь довольно хорошо, конструктивно поговорили. К чему были эти дешевые фокусы с исчезновением из закрытого помещения, совершенно в духе детективщиков, начиная с Агаты Кристи? Достаточно загадочная записка. «Ушел за Ростокиным». Куда, как? Собирался управиться быстрее чем за час, тогда к чему в тексте нотки завещания или предсмертного письма? Значит, не был уверен, что все пройдет так просто и гладко. Предупредил бы нормальным образом о своих намерениях, мы и помогли бы чем-нибудь и знали, как действовать в непредвиденных обстоятельствах.
«Не прикасаться к компьютеру». Значит, уход осуществился с его помощью, и возвращение обеспечит он же. Но по своей ли воле исчез академик? Или его забрали? Ничего удивительного, если вспомнить случившееся вокруг острова Столбный на Селигере.
Забрали? Не совсем похоже. Записка написана рукой спокойного человека. Если бы под дулом пистолета (условно говоря), проявились бы некоторые особенности. Уж в этом Георгий Михайлович толк понимал. И едва ли под гипнозом. В тексте чувствуется здравомыслие и полное присутствие духа. Едва ли постороннему, диктующему текст, пришла бы в голову, особенно в условиях острейшего цейтнота (в любую секунду в комнате могли появиться оперативники), фраза насчет института и заместителей.
Нет, Скуратов действовал совершенно сознательно. Только, по своему характеру человека, ощущающего себя намного выше черни, пускай и титулованной, не счел необходимым хоть кого-то ставить в известность о своих намерениях. Возможно, боялся, что помешают. Или навяжут ему спутника.
И в то же время – неизбывная интеллигентская деликатность. «Не обижайтесь. Скоро вернусь. Передайте в институт…». В критической обстановке ничего подобного в голову бы не пришло, ни ему, ни тому, кто мог бы им управлять. Слишком тонко.
Суздалев сел в кресло, вытянул ноги. Раненая вдруг снова заныла. Нервы, нервы…
Взял и раскурил сигару, глубоко, против всех правил, затянулся. Солдаты, мол, мы, а не аристократы. Только после этого жестом подозвал так и стоящих на пороге сотрудников, пальцем указал на блокнот.
Не зря он с лейтенантских погон воспитывал Арнаутова. Тот прочел и, совсем немного подумав, сделал вывод почти теми же словами.
– А вы, инженер, что скажете?
– Абсолютно ничего. Об использовании компьютера как устройства для внепространственного перемещения мне неизвестно. Аппаратура для внепространственной транспортировки существует, но и выглядит совершенно иначе, и для перемещения живых существ не приспособлена.
– И все же. Не нужно так сразу расписываться в собственной беспомощности. Проявите немного фантазии. На базе имеющихся фактов. Был человек – нет человека. Есть записка и работающий компьютер. «Ни в коем случае к нему не прикасаться». Так что?
– Если фантазии, то пожалуйста. Господин Скуратов с помощью своей машины установил связь с кем-то, кто обеспечил по каким-то характеристикам этой же машины возможность перемещения в иное место. Для возвращения требуется, чтобы указанная машина продолжала работать в прежнем режиме… – Инженер, на всякий случай держа руки за спиной, наклонился над терминалом. – Вот именно. Она сейчас, судя по всему, ждет очередной команды. Откуда таковая последует – сказать не могу.
– Достаточно. Отойдите, а то вдруг от вас какие-нибудь наводящие поля исходят. Береженого бог бережет. И вообще, вернемся лучше на кухню. Анатолий нам снова кофейку заварит, и посидим, наслаждаясь роскошью человеческого общения…
Он извлек из жилетного карманчика антикварный «Брегет». Причуда высокопоставленной персоны: не рукав пóшло поддергивать, чтобы на часы взглянуть, а с чувством, заставляя подчиненных напрячься, потянуть за цепочку, отщелкнуть крышку, выслушать несколько тактов старинного гавота и только после этого произнести нечто веское. Времени, чтобы придумать подходящую фразу, как раз хватит.
– …Роскошью человеческого общения, – повторил он, – в течение приблизительно тридцати пяти минут. Даже сорока. Если считать, что господин Скуратов написал свое послание сразу после того, как мы его оставили наедине с машиной. Если он это сделал непосредственно перед тем, как мы вошли, накинем еще десять. Согласны?
Кто бы ему мог возразить? Георгий Михайлович разрешал спорить с собой любому сотруднику любого ранга, но руководствуясь принципом: «Не согласен – предлагай. Докажешь свою правоту – исполняй. Не сможешь – не взыщи».
Бывали случаи, уверенные в себе (и отважные, без этого не обойтись) люди делали блестящую карьеру, через две, три и более ступени, бывало и наоборот. Теоретических знаний хватало, риторических способностей – тоже, а вот такого неуловимого качества, которому нигде не учат, – проводить свои идеи в жизнь, невзирая на естественное и очень мощное сопротивление среды, – отнюдь. Можно быть отличным преподавателем тактики в академии, и превратиться в «тварь дрожащую» в должности комбата на реальной войне.
Анатолий рискнул.
– Ваше превосходительство, – обратился он по титулу, заведомо отсекая личные, почти дружеские (моментами) отношения. – Я с вами не согласен.
– В чем же? – Суздалев изобразил полное внимание, одновременно повернувшись к кофейнику, еще теплому. Хотя ему совсем не хотелось кофе.
И тут громко, слишком громко в небольшом объеме комнаты запищал и закурлыкал динамик электронной машины. Наверное, чтобы его можно было услышать людям, находившимся за дверью или даже за двумя.
– Инженер, как вас там? – словно молодой полковник времен Синайской кампании, вскинулся с кресла Суздалев.
– Всеволод Ильич, – спокойно ответил тот. – Сейчас посмотрим, если прикажете.
– Приказываю, приказываю. Что?
– Вызов. Чтобы ответить, нужно нажать вот на эту кнопку. Разрешаете?
– Да твою ж мать… – опять прорвался забытый уже за наслоением других должностей строевой офицерский характер.
Инженер смотрел на него спокойно. Невыразительно, можно сказать. Всякого он навидался в жизни и становиться жертвой начальственных эмоциональных срывов не хотел.
– В подобной обстановке я обязан согласовывать каждое свое действие с руководителем операции.
– А если я все равно ничего в вашей специальности не понимаю?
– И тем не менее. Я в вашей – тоже ничего. Так что давайте делить ответственность поровну…
«Смелый человек, – подумал Георгий Михайлович. – И по-своему прав. Разумная осторожность никогда не повредит. Наверное, были в биографии эпизоды, когда начальство подставляло. Если все закончится благополучно, нужно будет его чем-нибудь наградить».
– Давайте, – согласился Суздалев. – Нажимайте.
На экране появился Скуратов. Выглядел он совсем иначе, чем полчаса назад. Одет по-другому, борода подстрижена гораздо короче, сильно загорел, похудел немного. Сразу видно, что там, где он сейчас находится, прошло как минимум несколько недель.
– День добрый, – поприветствовал он присутствующих. – В контрольное время я уложился, Георгий Михайлович?
– Вы нас видите? – изумился инженер, как если бы вдруг лично к нему обратился диктор дальновизора. – Каким образом?
– Не задавайте глупых вопросов. У меня мало времени.
Всеволод Ильич смутился и сделал шаг в сторону.
– Уложиться уложились, – спокойно ответил Суздалев, – но мне показалось, вы обещали вернуться в… натуральном виде.
– Обстоятельства несколько изменились. Я вернусь… попозже.
– Где вы сейчас? Ростокина нашли?
– Разумеется. Я – у друзей. Александр Иванович и Андрей Дмитриевич с супругой привет передают. Удовлетворены?
– Если у вас все в порядке, то, безусловно, да. Что вы имеете мне сообщить?
– Что мы тут все продолжаем работать над той проблемой, о которой вы предупреждены. В запоминающее устройство компьютера я сейчас скину несколько гигабайт информации. Она вам пригодится. Слушайте внимательно, господин инженер, – обратился он к Всеволоду Ильичу, – придется вам какое-то время послужить при этой машине оператором. Чтобы не расширять круг посвященных. Не возражаете, Георгий Михайлович?
– Никоим образом. Инженер состоит на действительной службе и имеет все необходимые допуски.
– Тогда наберите вот это сочетание клавиш. Вы активизируете один из блоков памяти. Туда я сброшу все коды, пароли и способы выходов на подпрограммы, которыми вам можно пользоваться. Учтите – это даст огромное превосходство над коллегами, но и риск не меньший. Упаси бог вас лезть хоть на шаг вправо-влево!
– О чем вы, господин академик! Да я и на полшага не двинусь, – ответил Всеволод. – Страшно.
– Глупо, но правильно. Чем же, кроме страха, вас удержать можно?
– Неужто пугать нас собрались, Виктор Викторович? – Суздалев сказал это исключительно для поддержания уровня субординации. Как он ее понимал.
– Вас испугаешь. Если вы не желаете видеть опасности, лезущей вам в глаза, то вы бесстрашны? Пусть так. На памятном кристалле номер два я запишу задание для сотрудников моего института. Передайте его моему заместителю профессору Поволоцкому. Когда работа будет сделана, с помощью прилагаемого кода переправьте материал мне. С этого компьютера, естественно. На третьем кристалле – послание лично вам, Георгий Михайлович. Изучите его, обсудите с единомышленниками, потом снова выходите на связь. Через неделю, через месяц – не имеет значения. Для вас века – для нас единый час. За сим позвольте откланяться. Ловите, инженер, информация пошла…
– Подождите, у меня к вам еще несколько вопросов, – попытался задержать академика Суздалев.
– Когда вы изучите то, что я вам передал, некоторые вопросы отпадут сами собой, зато могут появиться совсем другие. До встречи.
Экран мигнул, изображение мгновенно стянулось в сверкающую многолучевую звездочку, она подержалась две-три секунды и погасла. В зеленоватом выпуклом стекле отражались только лица смотрящих в него людей.
– У меня такое ощущение, что не просто картинку нам показали, – после приличной паузы сказал инженер. – Это и был пресловутый Риманов прокол пространства. С его помощью Виктор Викторович ушел… куда-то и через него говорил с нами… напрямую, без всяких электронных преобразований.
– Кто бы сомневался, – кивнул Суздалев. – Я ваших терминов не знаю, но интуитивно ощущаю то же самое. Только вам не кажется – отверстие маловато, чтобы в него пролез такой солидный мужчина? – Он обвел рукой вокруг корпуса монитора.
– На фоне всего прочего это непринципиально, – отмахнулся Всеволод Ильич. – Так я приступлю к выполнению инструкций?
– Действуйте. А ты, Анатолий, иди за мной.
На кухне Георгий Михайлович спросил:
– Так в чем ты со мной был не согласен?
– Теперь это не имеет значения. Я ошибся, а вы были правы…
– В том, что Скуратов так или иначе даст о себе знать в указанное время?
– Да. Я считал, что он исчез окончательно или – на очень продолжительный срок.
– Почему ты считал именно так?
– Исходя из предыдущего опыта. Я ведь с первых дней вплотную работал по операциям «Гости» и «Репортер». Потому мне пришло в голову, что в лице Скуратова мы имеем второго «Репортера». Он, подумал я, давно был на связи с Ростокиным, но не имел возможности связаться с ним для организации побега. Мы ему своими руками такую возможность предоставили, чем он и воспользовался. Это же очевидно…
– Совсем не очевидно, – с сожалением в голосе ответил Суздалев. – Ты хороший офицер и неплохой оперативник, один из лучших у меня. Вот только с умением правильно думать у тебя проблемы. Быстро – получается. Но «быстро» и «верно» – не совсем одно и то же. Однако продолжим «работу над ошибками». Слава богу, ничего фатального не случилось, значит, можно позволить себе такую роскошь. Мне интересен сам ход твоих мыслей. За два часа ты склепал целую теорию. «Там», вообразил ты, наверняка настолько лучше и интереснее, чем «здесь», что люди, связавшиеся с Землей-2, как бы забывают о Родине. Правильно?
– Похоже, – неохотно согласился Арнаутов.
– На тебя, безусловно, подействовали впечатления, полученные от общения со столь неординарными личностями, как Шульгин, Новиков и его жена. Не осуждаю. Если вообразить, что «на той стороне» все такие и даже лучше, поскольку по законам элементарной теории вероятности не могли же попасть к нам для выполнения вполне элементарного задания самые лучшие. Следовательно, там существует рай земной или нечто весьма похожее. Я правильно реконструирую твои мысли?
– Пока да.
– Следовательно, попавший в этот рай нормальный человек не может сохранить привязанность к предыдущей жизни. Вот здесь и кроется логическая ошибка. Сама по себе не страшная. Для обывателя. Но ты же не обыватель! Тебе по должности и званию положено быть на порядок умнее и проницательнее. К примеру – задаться простейшим вопросом. Если у них там все так немыслимо хорошо, что они ищут у нас? Зачем сюда регулярно возвращаются? Мы с тобой знаем о нескольких, можно сказать – демонстративных случаях. А сколько их было на самом деле? Зачем они предупреждают о грядущей катастрофе для нашего, не для своего мира?
Суздалев покачивал носком ботинка, что очень нервировало Анатолия, попыхивал дымом в сторону панорамного окна, за которым длился и длился лучший в году день тридцать первого декабря. Опять снег пошел, все гуще и гуще. Сейчас бы в тройку с бубенцами и за город, на Истру или в Серебряный Бор.
– Поэтому, юный друг мой, я называю тебя так без всякой иронии или подначки, делать тебя начальником одного из наших управлений я пока воздержусь. Мне даже пришла плодотворная мысль – не стоит ли тебе на какое-то время заняться практиками? Буддистский сектор у меня подвисает. Между прочим, там генеральская должность.
– Ваше превосходительство!
– А что? – Суздалев приопустил на глаза веки. И не поймешь, нарочно это было сделано, или он перестроился.
«Если хочешь быстро овладеть всеми истинами и сохранять независимость в любой ситуации, нет ничего лучше, чем концентрация в делах. Вот почему сказано, что ученики, постигающие тайну и Путь, должны пребывать в сосредоточении… Если хочешь следовать Единому Пути, не питай отвращения к объектам шести чувств. Это не значит, что следует погрязнуть в объектах шести чувств, это значит, что следует все время сохранять правильную установку сознания и в повседневной жизни не привязываться к объектам шести чувств, но и не отвергать их, подобно тому, как утка ныряет в воду, но перья ее не намокают…»
– Георгий Михайлович, – чуть не возопил Арнаутов, настолько его испугал внезапный переход начальника в иную сферу. – Давайте я лучше командиром полка на Южный фронт поеду. Мне и комдива не надо!
«Если же, напротив, ты презираешь объекты шести чувств и стараешься избегать их, ты вступишь на путь ухода от мира и никогда не обретешь природу Будды. Если четко различаешь сущность, объекты шести чувств сами становятся сосредоточением, чувственные желания сами становятся Единым Путем, а все вещи превращаются в проявление Реальности. Вступив в сферу величайшей безмятежности, нераздираемые движениями и покоем, тело и сознание свободны и легки».
Оперативник медленно обалдевал, слишком непонятен и непривычен был изменившийся облик абсолютно здравомыслящего начальника, боевого офицера, чьи подвиги и сегодня не были забыты в анналах спецназовских войск. С такой придурью там не выживали.
Суздалев взглянул на него совершенно ясным и даже насмешливым взглядом.
– Впечатляет, не так ли? А я могу еще и на иврите из каббалы кое-что. А также и насчет вуду. Тебе полезно будет… В свое время мне тоже предложили поработать на направлении, ничего общего с моим опытом, характером, образованием не имеющем. Поколебался немного, потом вспомнил армейскую мудрость: «Ни от чего не отказывайся и ни на что не напрашивайся». Вот добьешься ты моего благословения уйти на строевую должность, а тебя там раз – и убьют. Как меня едва не убили, минутами граница между жизнью и смертью измерялась. Я себя виноватым считать буду, карму себе испорчу, а главное – дело наше пострадает. Поэтому служи, где поставили, и помни слова дзэнского наставника Хакуина: «Спрятанная добродетель вознаграждается явно».
Постучавшись, вошел инженер.
– Готово, Георгий Михайлович. – И протянул на ладони три кристалла. – Этот – мой учебный. Этот ваш, третий для института.
– Хорошо. Анатолий, обеспечь Всеволода Ильича напарником, пусть изучают машину в дозволенных пределах. Когда освоите, будете являться сюда каждый день, утром и вечером, проверять, нет ли каких новых сообщений, вообще… изменений. Установите в квартире следящие камеры и масс-детекторы. В одном из наших оперативных помещений поблизости организуй пульт круглосуточного наблюдения.
Суздалев убрал кристаллы в бумажник.
– Занимайтесь. Я сейчас сам съезжу в институт, переговорю с господином Поволоцким. Оттуда к себе. Если что, по Р-6 вызывай.
«Эр-шестой» – это сверхсекретный приемопередатчик новейшей разработки, с использованием хроноквантовых элементов. Позволяет осуществлять мгновенную связь на любые расстояния, вплоть до космических, абсолютно помехоустойчивый, стопроцентно защищенный от перехвата сигнала, вдобавок автоматически шифруемого. Всего их в России имелось несколько сотен экземпляров, выдавались они под расписку особо доверенным лицам известных ведомств и были снабжены не только маячками, фиксирующими местонахождение с точностью до метра, но и системой дистанционного уничтожения. Размером не превышает папиросной коробки, ценой соответствует неплохому автомобилю.
Указание Суздалева говорило о том, что в ближайшее время он может оказаться в таких местах, с какими другим способом связаться невозможно. Имелись в распоряжении службы подобные объекты, и много. Та же Нилова пустынь, Кирилло-Белозерский монастырь и прочие.
Несмотря на стремительно приближающуюся новогоднюю ночь, в институте Скуратова было многолюдно. Судя по всему, ученые, стремящиеся к Пределам знания, решили праздновать корпоративно, о чем говорила веселая суета в коридорах и разносящиеся по лестничным пролетам запахи.
(Суздалев не читал «Понедельник начинается в субботу» и не смотрел фильм «Чародеи», иначе мог бы оценить сходство.)
К заместителю директора по науке профессору Поволоцкому Самсону Фроимовичу его пропустили свободно, несмотря на режимность учреждения. На каждый случай у Георгия Михайловича имелись наиболее адекватные документы.
Для Поволоцкого он был чиновником Специального комитета, приблизительно соответствующим по рангу. Не настолько выше, чтобы вызывать административные рефлексы, но и не ниже, по той же самой причине.
Взаимно представились, поздравили друг друга «с наступающим», сошлись во мнении, что погода выдалась на удивление хороша. Профессор, мужчина с крупными, суровыми чертами лица, но с веселыми глазами и великолепной, вызывающей зависть седеющей шевелюрой, наверняка удивленный визитом (совсем неподходящее время, хотя формально и рабочее), кашлянул и будто невзначай приоткрыл сейф. Сейф был под стать хозяину, тяжелый и основательный, судя по до сих пор не потускневшей фирменной эмблеме на внутренней стороне – изготовлен на заводе Крейтона в 1889 году. При жизни, значит, еще Александра Третьего, Миротворца.
На верхней полке, над вторым, еще более защищенным отделением, красовалась литровая бутылка «Можжевеловой».
– Отчего бы и нет, ради праздничка…
Поволоцкий оживился (наверняка визит чисто протокольный, в этом самом смысле), аккуратно разлил напиток в стограммовые, тоже очень старинные чарки. На закуску выставил тарелку с невероятно аппетитным даже на вид копченым салом.
Добрым словом проводили уходящий год, и только после этого замдиректора осторожно осведомился о цели столь неожиданной, но, безусловно, приятной встречи…
– Я, собственно, по поводу директора вашего, Виктора Викторовича.
– А что такое? Он скоро должен быть, обещал.
– Ну, это вряд ли. Сегодня он не сумеет отметить праздник в кругу сотрудников…
– С ним что-то случилось? – изменился в лице Поволоцкий.
– В подразумеваемом вами смысле, к счастью, нет. Но он отбыл в срочную командировку, не успев вас предупредить. Попросил меня это сделать.
Взгляд ученого выразил полное недоверие.
– Это как-то… не в его манере.
– Всякое случается. А меня просил передать вам вот это. После того как разберетесь, не сочтите за труд позвонить. – Положил на стол кристалл и соответствующую легенде визитку. – Результат я передам Виктору Викторовичу.
– Вы все-таки можете мне сказать, где он?
– Надеюсь, все, что он нашел нужным вам сообщить, здесь написано. Сам я этого не читал. Не в моих правилах. Но если вы сейчас откроете запись и посмотрите, есть ли там какой-нибудь смысл, буду удовлетворен. Мне ведь тоже интересно, не водят ли нас за нос.
– Это отдельный вопрос, и тоже интересный. Ну, давайте, Самсон Фроимович, попробуйте…
Профессор, пребывая в некотором обалдении, отошел в угол кабинета, где на специально оборудованном столе возвышался компьютер, на вид не отличающийся от того, что стоял у Ростокина.
Вложил кристалл в приемник, нажал несколько клавиш.
Суздалев продолжал сидеть в расслабленной позе, даже не повернулся в ту сторону.
Через несколько секунд Поволоцкий сначала протяжно свистнул, затем начал издавать, с неравными интервалами, всевозможные междометия: «Ого! Ух ты! Ну-у!.. Разве?» И в этом же роде на протяжении минуты с лишним.
– Мне достаточно, – громко сказал Георгий Михайлович, с шумом вставая.
– Как вы сказали? – обернулся профессор.
– Я сказал, что мне достаточно. Я убедился по вашим реакциям – это не пустышка. Так?
– Да, да, совсем не пустышка! Но как же? Вот черт…
– Так, значит, договорились, коллега. Когда разберетесь – немедленно позвоните мне. Возможно, я устрою вам контакт с Виктором Викторовичем по прямому проводу. Но запомните, категорически, никакой инициативы. И никаких разговоров на стороне. С кем бы то ни было. Предупреждать о последствиях считаю излишним. Еще раз с Новым годом.
Теперь можно было возвращаться к себе на Рождественский бульвар и посмотреть, какими истинами, почерпнутыми в параллельном мире, решил поделиться с ним господин Скуратов.
Голос академика, записанный на кристалле, в несколько более развернутом виде повторил то, что тот сказал с экрана. Как и с какой целью он принял решение посетить иной мир, как встретил там Ростокина и его друзей, Георгию Михайловичу лично знакомых. Он действительно собирался вернуться обратно в ближайший час, но получилось несколько иначе. Как выражаются герои романов: «Водоворот событий захватил…» Однако он не забыл своего обещания. Не желая испытывать терпение господина Суздалева и причинять беспокойство другим людям, он подготовил это сообщение и передает его в условленное время. Георгий Михайлович в курсе реального положения вещей, так что такая возможность его удивлять не должна. Сколько бы времени ни прошло на Земле-2, он, Скуратов, постарается вернуться поскорее. Те расчеты, которые должны будут сделать сотрудники его института, крайне важны для судеб обоих миров, но для непосвященных лиц никакой ценности не представляют. Проще говоря, никто там ничего не поймет…
Это Суздалев воспринял как намек на то, что спецслужбам не стоит тратить время на изъятие, засекречивание и попытки самостоятельной работы с материалами. Да он и не собирался. Институт Скуратова до сих пор не входил в сферу его интересов, слишком высокими абстракциями там занимались. Но вот теперь, когда в «сферу интересов» попал лично директор… Впрочем, нет, ерунда. Заказ на расчеты исходит наверняка от Новикова или Шульгина и касается их забот.
Одно странно – неужели всей научной мощи их мира недостаточно, если они прибегли к помощи…
Кстати, вполне вероятно, что именно такого мыслителя, как Виктор Викторович, там не существует. Не родился же у нас открыватель пути в параллельные реальности. А теперь взаимодополняющие умы встретились. Теоретики и практики, условно говоря. Чем и объясняется желание Скуратова задержаться в другом мире подольше. И какую-то задачу, не решенную там, он передал для разработки в свой институт. Чем привел милейшего господина Поволоцкого в большое замешательство, если не в изумление.
Что ж, дай бог, дай бог, лишь бы на пользу.
Остальную часть документа представлял весьма длинный монолог (или лекция) Новикова.
Прежде всего Андрей Дмитриевич счел нужным извиниться за прервавшееся, по независящим обстоятельствам, сотрудничество.[93] Они долго искали способы вернуться в свой мир и уже почти отчаялись, признав как горькую истину, что провал в «черную межвременную дыру» был «билетом в один конец». И вдруг, после спасения Ростокина с Аллой (или – вследствие этого), обратный проход открылся посередине Индийского океана, внезапно и нечувствительно. Только резкая перемена погоды и рисунок небесных созвездий подсказали, что они снова дома. Таким образом, выполнить свое обещание и доставить в Москву «Репортера» он не смог.
Снова отыскать путь в 2056 год удалось совсем недавно и тоже почти случайно. Обстоятельства этого «короткого замыкания» загадочны и рациональному объяснению не поддаются.
«Селигерский инцидент», скорее всего, лишь один из эпизодов гораздо более масштабного феномена, вызванного «пробоем изоляции» в жгуте реальностей, при участии случайно или целенаправленно активизировавшейся Ловушки. Об этом феномене Гиперсети он, Новиков, в свое время рассказывал, что впоследствии и подтвердилось. Углубляться же в недоказанные теории, непременно уводящие в сторону от главной темы, сейчас нет необходимости.
Тем не менее новый контакт со старыми знакомыми состоялся, и Новиков выразил надежду, что для Георгия Михайловича он оказался если не плодотворным, то интересным. По крайней мере, господин Шульгин утверждает, что у него сложилось именно такое впечатление.
Суздалеву казалось, что в голосе, звучащем из динамиков, присутствует легкая, едва уловимая, но отчетливая ирония. Впрочем, ее же он постоянно улавливал и при личном общении.
То ли это свойство русского языка почти столетней давности, сформировавшегося в других культурно-исторических условиях, то ли персональная черта характера. Такое впечатление, будто Андрей постоянно подчеркивает амбивалентность своих фраз. Хочешь – понимай так, хочешь – иначе. Никакое утверждение нельзя принять как стопроцентно истинное и откровенное, но и ложью его счесть нет оснований. Этакое постоянное балансирование на грани…
Теперь, продолжал Новиков, в силу некоторых причин, обсуждению в данный момент не подлежащих, у них появилась возможность наладить прямую и постоянную связь между двумя мирами. Пока только через квартиру Ростокина и установленную в ней машину, но отныне это лишь технический вопрос.
«Неужели наши с ними контакты действительно станут постоянными и неограниченными? – с радостью и тревогой одновременно подумал Суздалев. – Мы с Новиковым эту возможность обсуждали. Две абсолютно разные, но союзные России не только удвоят, учетверят, если не больше, способность противостояния любым вызовам, откуда бы они ни исходили. И на той, и на другой стороне».
Георгий Михайлович, как и положено по должности, мыслил масштабно. Что в активе? Альянс двуединой территории, с одинаковым набором природных ресурсов, и без этого крупнейших в мире. В каждом из миров. Теперь ими можно будет маневрировать. Объединенное население, сразу выводящее каждую из Россий на первое место в «цивилизованном периметре». Интеллектуальный потенциал, и там, и там – лидирующий, а теперь получивший шанс на взаимодополняющий обмен идеями и технологиями. Лучшие в мире вооруженные силы, могущие в случае крайней необходимости действовать совместно на любом из фронтов, а если иначе, с применением изысканного коварства – их спецназ на нашей территории, а наш – на их.
Результат может быть потрясающий. Как от воздействия вируса, против которого нет подходящего лекарства.
И кто окажется лидером в столь многообещающем процессе? Вот именно. Суздалев – Маркин здесь, Новиков—Шульгин там.
А Новиков говорил дальше. Будто продолжая и комментируя мысли Георгия Михайловича.
– Ничего в нашем мире, или в наших мирах, по очевидности, не происходит просто так. Возникшая проблема заключается в том, что открытие проходов от нас к вам одновременно привело к тому же самому в противоположную сторону. Да-да, друг мой, именно это и случилось. Но если мы к вам пришли с дружбой и надеждой, на нашу территорию полезли… Я и не знаю, как назвать. Сами посмотрите.
После этих слов пошел видеоряд. Суздалев не мог различить, где прямая кинохроника, где не уступающая ей компьютерная реконструкция. Да он и не знал о таких возможностях неигрового кино. В сорок минут вместилось все, имеющее отношение к проникновению дуггуров. Покушение монстров на Сталина в Москве-38 на Арбате, условная планета Зима и вполне реальная Валгалла, снова та же Москва и тот же Арбат, но с «медузой», новое вторжение «медуз» в учебный центр Дайяны и их же на Главную Базу. И Южная Африка. Где взрывались подобия плазменных бомб, а монстры и инсектоиты наступали не десятками и сотнями, а многими тысячами. Их натиск отражали обычные люди с легким стрелковым оружием.
Отчетливо, ярко, подробно, с закадровым текстом, сделанным наподобие такого к фильму «Обыкновенный фашизм». Понятно, доступно и опять-таки иронично, несмотря на трагизм происходящего.
Для Суздалева это было шоком, хотя и повидал он в своей жизни очень многое. Но не в таком формате.
– Впечатлило, Георгий Михайлович? – спросил Новиков, когда фильм закончился. – А это, очень может быть, только цветочки. Мы столкнулись с новой, ничего общего не имеющей с известными цивилизацией. Как видели – пока держимся…
Суздалев скрипнул зубами. Он хотел бы сейчас говорить с Андреем напрямую, задавать вопросы и получать ответы. Срочные, неотложные, кардинальные и категорические. Судьбоносное ведь для человечества, двух человечеств, время. То, что он увидел, – невыносимо. Для человека, не знавшего Второй мировой, а прочитавшего о ней в нескольких сомнительного происхождения книжках, пусть и с картинками. Как быть, что делать? Если завтра ЭТО придет к тебе? (Больше сорока лет Георгий Михайлович служил в боевых частях или числился по военному ведомству. Но никогда не участвовал в сражениях даже бригадного масштаба. Чтобы по нескольку тысяч бойцов равноценной подготовки и уровня вооруженности сталкивались лоб в лоб. И – до решительного результата. Танки горят, самолеты с неба падают, медпункт давно захлебнулся от потока раненых, помогать которым просто некому…)
Вместо этого – кино. И комментарии с плохо переводимыми на современный язык шуточками. Да не только комментарии. Вот она – правда жизни.
Суздалев, в очередной раз нервно закурив, отмотал фильм назад.
Смотришь, и озноб по коже, и душа одновременно радуется. Бурые холмы, оранжево-зеленый закат. Вышло из нечеловеческой мясорубки два десятка опаленных порохом, грязных, в рваных кителях офицеров, винтовки и незнакомого вида пулеметы на ремнях. Вот они стоят, курят и пересмеиваются, до того нецензурно! «Подумаешь, и не такое видали! Тут всего-то – большие тараканы, а в девятнадцатом – красные броневики в кубанской степи. Когда лежишь мордой в полынь и патроны кончились – хреновее…»
Ничего этих бойцов не берет!
Новиков, словно заведомо поняв и представив эмоции адресата, даже то, что он решил повторить для себя некоторые кадры, продолжил:
– Согласен, Георгий Михайлович. С непривычки впечатления – малоприятные. А мы же здесь с этим – где взводом, где ротой воюем. И у вас помощи не просим. Речь совсем о другом. Может так случиться, что придется нам на вашу территорию эвакуироваться. Примете? Но можно представить вариант поострее. Мы не успеваем, и вся эта пакость явится к вам не в виде театрализованного нашествия монголов, а во всей неприглядной подлинности. Поэтому, коллега, немедленно приводите в полную боеготовность все подчиненные вам и Маркину силы. Что у вас выйдет с регулярными войсками – сами разбирайтесь. Мой ролик – хороший учебный материал. Прокрутите его раз десять каждому командиру и солдату. Хотите – правду скажите, хотите в виде вводной. «Действие подразделения в потустороннем мире». Высшему начальству тоже показать невредно. После парной баньки с девочками.
Новиков коротко и неприятно рассмеялся.
– А здорово я, Георгий Михайлович, прошлогоднее обещание выполнил? Помните – «Не прошло еще время ужасных чудес…».
Суздалев ударил кулаком по подлокотнику кресла и затейливо, с употреблением тибетской и ассирийской терминологии, выругался. Чем превзошел капитана Кирдягу, оперировавшего при построении настоящих загибов только личным опытом, русским переводом Евангелия и знаниями, полученными во флотском экипаже и гальванерской школе.[94] Ну и двенадцатью годами плаванья на кораблях царского Балтийского флота.
Василий Звягинцев Скоро полночь. Том 2. Всем смертям назло
Приводят одного, взамен берут другого
И никому не говорят ни слова.
Нам тайны не откроют никогда,
Что было – будет повторяться снова.
Форт Росс-3 был хорош тем, что, выстроенный на краю Земли в начале двадцатых годов ХХ века, он представлялся настоящим убежищем. Сюда не мог проникнуть ни один посторонний, хоть друг, хоть враг. У друзей, специально не приглашенных, отсутствовали нужные транспортные средства. Самолеты из Европы на такое расстояние не летали, пароходом только до Веллингтона добираться месяц, а потом – или каботажное судно нужно фрахтовать, или на лошадях пятьсот километров через горы, в которых без проводника дороги не найдешь.
Врагам, попытавшимся проникнуть в форт, пришлось бы еще хуже. Оборонительные сооружения с моря и с суши были непреодолимы в гораздо большей степени, чем линия Маннергейма суровой зимой – для пехотных батальонов.
Поэтому, вернувшись в тот самый коттедж, где они с Аллой провели первые дни после спасения из Калифорнии своего мира, Ростокин испытал ни с чем не сравнимое чувство облегчения и покоя.
Не так уж трудно им пришлось, в сравнении с командой Новикова, а все же… Это приблизительно то же самое, как нормальному человеку возвратиться после ночной прогулки по трущобам старой Москвы или кварталам Гарлема. Ничего особенного не случилось. Увидел, конечно, несколько безобразных сцен, участником которых не захотел бы оказаться, но ни пистолет, ни кастет не пригодился, и лицо без ссадин, и зубы все на месте.
Тяжелая дверь квартиры затворилась, этаж у тебя шестой, а внизу, у парадной, швейцар дежурит, здоровенный дворник поблизости от него, с костяным свистком поверх фартука, готовый вызвать пронзительной трелью сразу четырех городовых с ближних перекрестков. То есть жизнь снова стала такой надежной и спокойной, как и положено.
– Может, давай Виктора к нам позовем? – спросил Игорь у Аллы, когда они закончили раскладывать по полкам стенного шкафа свои немногочисленные дорожные вещи. – Посидим за чаем, разберемся, как дальше жить будем…
По крыше и козырькам подоконников забарабанили редкие капли, очень быстро слившиеся в сплошной дождь, обычный для этой местности.
– Глупости ты говоришь, милый, – ответила ему Алла, слишком многому, на взгляд Ростокина, научившаяся у своих старших подруг. – Камин лучше наверху разожги, а я сейчас… Тут же сауна есть.
Она начала раздеваться прямо посередине комнаты, не устраивая стриптиза, а просто как у себя дома, без свидетелей, в беспорядке бросая на диван детали туалета.
Но выглядело это не менее возбуждающе. Игорь не раз задумывался на подобную тему. Ему казалось, что авторы «фильмов для мужчин» делают большую ошибку, придумывая совершенно нежизненные сценарии. Куда интереснее для массового зрителя были бы сексуальные эпизоды, «совершенно случайно» происходящие с нормальными женщинами и даже девушками. «Ах, это ведь произошло так неожиданно! Я и не подумала…»
Только ему, военному корреспонденту, никогда не удавалось выкроить времени, чтобы взять вдруг и написать нечто подобное, и найти издателя, согласного столь изысканные тексты купить.
– Неужели ты до сих пор не понял, – спрашивала Алла, балансируя на одной ноге и стягивая с другой длинные, украшенные несколькими ярусами кружев панталончики. Тех аскетических трусиков-плавок, что носили подруги, рожденные в ХХ веке, она так и не смогла принять в качестве подходящих нормальной женщине.
– Мне все посторонние люди ужасно надоели. И их пароход, и постоянная необходимость изображать себя членом какого-то общества. Виктора тоже видеть не хочу. Чего еще и он сюда приперся?! И звать его к нам не смей! Приготовь что-нибудь на двоих. А я быстро. И сам за мной не лезь. Мне одной побыть надо!
Резко дергая тугими ягодицами и покачивая великолепными грудями, Алла широкими шагами пересекла гостиную, зашлепала босыми ногами по лестнице в полуподвал, где помещался домашний спортивно-оздоровительный комплекс. Тренажерный зал, небольшой, всего лишь пятнадцатиметровый, бассейн, питающийся ледяной родниковой водой, сауна, еще кое-какие процедурные помещения.
«Вот зараза, – подумал Ростокин, рассматривая этикетки выставленных в баре бутылок. – Ничем ее не перевоспитаешь. Напиться бы сейчас, ей назло, и завалиться спать. Так ни хрена не выйдет. Еще больше разорется и все равно сделает по-своему… Так стоит ли? Придется ужин готовить».
Его раздражение несколько поумерилось, когда Алла вернулась, распаренная, закутанная в яркий махровый халат, с головой, обернутой полотенцем наподобие тюрбана. Игорь подумал, что, пожалуй, и вправду неплохо будет сегодня обойтись без гостей. Погода за окнами располагает к тихим домашним радостям.
– Я наверх. Приведу себя в порядок, а ты через полчасика поднимайся.
Чтобы не терять времени зря, Игорь смешал себе сложный коктейль и позвонил Шульгину. Александр ответил не сразу. Неужели тоже принужден исполнять супружеский долг? Если так, то неудобно. Однако голос Шульгина был бодрым и свежим.
– Что там у тебя? Я думал, ты с дороги отдыхаешь.
– Собираюсь только. Тут очередная мысль в голову пришла. По поводу Шатт-Урха. Он сейчас где, кстати?
– В специально отведенном помещении. В отличие от нас, ему компания не требуется. Очередную партию видеоматериалов, специально отобранных, мы ему отгрузили, ими он и занимается. Никуда не денется. А ты чего хотел сказать?
– Да вот подумал – перед тем, как снова допрашивать, надо, чтобы Олег со Скуратовым с той техникой, что у вас имеется, повозились. Нечто типа транслятора этакого собрать. Ты же с чекистами работал, понимаешь, о чем я? Наверняка ведь можно на базе той информации, что у всех поднакопилась, а особенно у Ларисы лично, специальный ментальный пакет подготовить. Для воздействия на психику гостя. Я даже сценарий готов набросать…
– Интересно. Я, правда, чтобы не заморачиваться, хотел сразу на Удолина выйти, Урха ему сдать и навсегда от этой проблемы избавиться. Но если ты считаешь… Хорошо, я Олегу скажу. Приятно видеть, что офицеры о долге службы в любой обстановке помнят. «О воин, службою живущий, читай Устав на сон грядущий, и паки[1] ото сна восстав, читай усиленно Устав…»
А если попроще – перестал бы ты хоть на ближайшие сутки о разных глупостях думать. Как будто больше заняться нечем!
Слова Шульгина прозвучали с таким убийственным сарказмом, что Игорь едва не втянул голову в плечи. Умеет же человек, ничего обидного не сказав, заставить чувствовать себя настолько не в своей тарелке…
Так ведь и прав Александр Иванович, как всегда прав. Если есть дело – неделями спать не позволит, исключительно за счет силы убеждения и личного примера. А если дела неотложного нет – отдыхай и развлекайся на всю катушку, «в меру своей фантазии и испорченности». Это тоже фраза из его дежурного набора.
Тем более, обстановка вокруг какова! За окнами и в каминной трубе завывает ветер, свежий, переходящий в крепкий. Дождь струится по оконным стеклам, в свете уличных фонарей серебристые водяные потоки мчатся по брусчатке мостовой вниз, к набережной. Хорошо, что нет никакой необходимости выходить на улицу сейчас. И завтра с утра тоже. Спи сколько влезет, больше не думая о чужой войне, длящейся (длившейся) по ту сторону океана двадцать пять лет назад.
Однако при мысли о том, что друг Виктор брошен, предоставлен самому себе в еще одном чужом для него мире, Игорю стало не по себе. Даже постель ему согреть некому.
Разумеется, проблема, легко решаемая в нынешних условиях, для тридцатипятилетнего, видного собой мужика. Не сегодня, конечно, но в ближайшие дни.
«Вольнонаемное» население форта превышало триста человек. В большинстве – люди двадцать первого – двадцать четвертого годов, в том числе и кое-кто из бывших офицеров, категорически не захотевших после окончания Гражданской иметь какое-либо отношение к военной службе. Ни к какой, в ударном ли батальоне Басманова, или в строевых частях армии и флота Югороссии. Смертельно уставшие от войн, революций, в плоть и кровь вошедшего ожидания новых потрясений.
Они согласились уехать на край света для выполнения обычной работы, как во все времена находились желающие отправиться хоть в Якутск и Анадырь, хоть в Австралию или на Фолклендские острова. И не только ради очень хорошей зарплаты. Людей влекло новое, возможность испытать себя в необычных условиях.
Наравне с ними в Новую Зеландию пожелало отправиться немалое количество граждан и гражданок из двухтысячных годов обеих реальностей. Одни, из постсоветской России, – желающие обещанных благоустроенности и покоя, другие – подданные Олега Константиновича – наоборот, в поисках острых ощущений, поскольку каждой романтически настроенной личности была обещана возможность оказаться в мире Чарли Чаплина, Дины Дурбин, Греты Гарбо и Аль-Капоне.
По этой причине среди новопоселенцев форта было достаточно молодых женщин, от двадцати до тридцати лет, с высшим гуманитарным, как правило, образованием. И медицинским. Инженерши, математички и теорфизички на приглашения вербовщиков обычно не откликались.
Игорь в заботе о друге ошибся, применив к нему собственное отношение к жизни. Одиночеством Скуратов не мучился. Он не мог оторваться от полок, забитых изумительными книгами.
Новиков, куда больше понимая в людских характерах, определил гостя на жительство в укрепленный замок, высившийся над поселком и фьордом. Тот был, конечно, невелик, но не так уж и мал.
Сто метров по переднему фасаду, пятьдесят – по боковым. Пять этажей главного корпуса, четыре тридцатиметровые башни по углам, внутренний двор с галереями, фонтанами, садом и клумбами. В то время, когда он возводился, у Антона технических проблем не возникало, и он посодействовал – так же, как и с «Валгаллой».
Потребовались только эскизы и указания по ходу оформления интерьеров, чем увлеченно занималась Наталья. А ей-то как здорово: учили хрущевки проектировать, на работе реально – лестницы в пятиэтажке нарисовать доверяли. И вдруг – берись, дорогая, что хочешь строй, хоть Кёльнский собор, только не за четыреста лет, а уложись в полгодика.
Она и уложилась. Выстроила для «Братства» дом на горе, похожий на все сразу.
Андрей объяснил Скуратову – независимо от того, что память всех персональных и Самого Главного компьютера содержала неограниченные объемы информации, целый этаж здесь отведен под настоящую, набитую бумажными книгами библиотеку.
Захочет ли кто-нибудь искать нужный том сначала в каталогах, а потом на бесконечной протяженности высоченных стеллажах, или нет – совершенно неважно. Сам факт обладания таким количеством реальных раритетов создавал особенное ощущение. Воплощение детских мечтаний о возможности доступа к любым книгам, сколько их есть на свете.
Скуратов, увидев теряющиеся в полумраке проходы между полками, аж заурчал непроизвольно. И едва удержался от желания немедленно броситься в недра сокровищницы. Как будто мало он в своей жизни видел библиотек, и академий разных наук, и Главную Российскую, Британскую, Конгресса САСШ тоже. Но это ведь библиотека другого мира! Любая изданная после тысяча девятьсот пятого года книга чем-то да отличается от своих аналогов, а уж после двадцатого или тридцатого… Перед ним расстилается безграничное поле неизведанных знаний!
– Подожди, Виктор Викторович, успеешь, – мягко сказал Новиков, под руку выводя академика из книгохранилища в хорошо освещенную просторную комнату. – Я тебя в курс введу. Вот здесь, где мы стоим, – это абонементный отдел. Справа, как видишь, каталог, алфавитный и систематический. Все очень просто. Разберешься?
– Вы что обо мне думаете?
– Мне думать незачем. Давно надоело. Я за других переживаю, у которых этот процесс еще не завершился. Вот тут разные буквы написаны – это алфавитный. Нажмешь «Т» – всех авторов, кто имел удовольствие с этой литеры начинаться, на экранчике перечислять начнет. Фамилия, имя, отчество, потом заглавие труда. Как у нас в тюремной библиотеке было написано: «Братва! Знаете, Толстых было много. Если не в падлу, называйте, пожалуйста, инициалы».
– При чем тут тюрьма? – оторопело спросил Скуратов.
– Да ни при чем. Просто к слову.
Новиков с прежней наставительной интонацией объяснил, как пользоваться систематическим каталогом, сообщил, что этажом ниже есть жилые комнаты, где можно кратковременно отдохнуть или поселиться постоянно.
– Жильцов, кроме вас, здесь пока нет, однако горничная на месте. Позвоните, вот кнопочка – сделает что нужно. На первом этаже управляющий, тоже придет по первому зову. Теперь понятно?
– Спасибо, понятно, – ответил Виктор. Чувствовалось, что внимание Новикова и его заботливо-поучающий тон его несколько раздражают. Он к такому не привык, последние годы сам изрекал непререкаемые истины, а ему почтительно внимали.
– Тогда занимайтесь. Наши домашние телефоны – вот они, – Андрей положил на столик карточку, где были переписаны двузначные номера всех членов «Братства», ныне в форте присутствующих. – Общий завтрак – с десяти до одиннадцати в ресторане второго этажа этого здания. Теперь позвольте откланяться. Желаю приятного времяпрепровождения.
«Кажется, несколько хамовато я себя держал», – думал Новиков, спускаясь по широкой лестнице. Но раскаяния не испытывал. Что он был очень утомлен и издерган всем предыдущим, объяснять не стоит. А тут ему на голову (так уж он воспринимал свою не добровольную, навязанную со стороны роль в «Братстве» – волей-неволей, но отвечать за все) свалился еще и Скуратов.
«Такие ребята привыкли воображать о себе больше, чем заслуживают. Ну, лауреат, ну – компьютерный гений! И что? Понять можно, человек, очутившийся в новой компании, пытается обозначить, даже и неявно, что он «альфа», а не «бета» или тем более «омега». Так никто ведь и не возражал.
Просто здесь так не принято. Правильно сказал грубый генерал Кутепов, когда Врангель предложил Берестина ему в начальники: «Погоны я вижу, а человека за ними – еще нет!» Хорошо, Алексей быстренько сумел доказать противоположное.
Новиков был не очень справедлив к новому товарищу. Скуратов ни разу не попытался словом или жестом показать свое превосходство, но что-то такое улавливалось в его поведении, почему Андрей и произвел своеобразную профилактику. Сам понимая, что ведет себя не слишком хорошо. Не зря ведь многие люди его недолюбливают. Та же Лариса.
Однако интуиция подсказывала. С другим человеком он, может быть, и не стал бы пережимать. А здесь нужно. Пусть и еще одно поймет: в суровое время попал, не пожалеют просто так, пряничком не угостят, по головке не погладят. Как в казарме по первому году службы.
А все остальные «дамы и господа» пусть остаются милыми и деликатными. Для контраста.
«А я ведь совсем недавно таким не был, – продолжал рефлектировать Новиков. – Ростокина мы с Иркой приняли, как младшего братишку с девушкой его, и ни разу я не озаботился их нравственными принципами. Может, я Скуратова как возможного соперника воспринял, отчего и подзавелся? Да нет, не похоже, точек пересечения у нас с ним нет. Значит, я, как взводный старшина, просто захотел рявкнуть на того, кто из строя на полшага высунулся? И это не мой характер. Берестинский, воронцовский, но никак не мой. Так что же? Опять потянуло сквознячком из могилы?»
Тьфу! Дурацкие мысли его охватили, наверняка – последствия недолеченной депрессии.
Еще одно дело оставалось сделать, а потом можно и отдыхать. Он сразу проводил Скуратова в библиотеку, не представив его предварительно смотрительнице гостевых помещений. Гостей здесь бывало не так много, но как раз это ее устраивало. Меньше хлопот. Отработает срок контракта, вернется в родной Ростов, на скопленные средства откроет собственное заведение, замуж выйдет. Лет ей немного, тридцать пять только осенью исполнится.
– Здравствуйте, Нина Семеновна, – сказал Андрей из прихожей. Хозяйка лежала на диване в большом зале, положив длинные полные ноги на изогнутую спинку, и смотрела какой-то фильм по телевизору. Видеозапись, конечно, эфирного телевидения здесь не было, и еще лет сорок не будет.
Услышав голос, она сначала повернула голову, потом вскочила, как солдат по тревоге:
– Вернулись, Андрей Дмитриевич? Сколько же вас не было? И с моря не погудели, и так не предупредили? А я тут валяюсь…
– Ну вот и зашел. Предупредить. У вас все нормально?
– А что здесь может случиться? – Голос у нее был низковатый, волнующий очень многих мужчин. Да и в остальном женщина она была видная, крупная, с привлекательным лицом и пышными длинными волосами.
– Да мало ли…
– Это у вас все время что-то происходит, а у нас дни тянутся и тянутся. Беспросветно. Море шумит, дождик льется. Если б не заработок – давно бы сбежала с вашей каторги. Простите, Андрей Дмитриевич. От тоски книжки начала читать. Недавно этого – Мельника-Печерского… Ну-удно, а как-то успокаивает…
– Что-то ты, Нина, в меланхолию впала, – усмехнулся Новиков, доставая из кармана сигарету. – Наверняка тебе надо жалованье повысить, а то в Ростове, небось, дома дорожают… А вместо Мельникова-Печерского Артура Миллера почитать.
– Вам винца налить, Андрей Дмитриевич, или покрепче чего? – словно бы пропустила мимо ушей прельстительную фразу домоправительница.
– Давай покрепче. И себе тоже…
Выслушав обычные жалобы на скучную здешнюю жизнь, Андрей покивал сочувственно, пообещал, что теперь станет веселее.
– Да как же вы в дом вошли, что с вахты мне не сказали? Кто там дежурит, Женька, что ли? Ну я ему покажу!
– Да при чем тут Женька, я сзади зашел, со своим ключом. Гостя тебе привел. Он сейчас в библиотеке. Виктор Викторович зовут. Ты через полчасика поднимись, посмотри, как ему там. Время позднее, спать скоро надо. Комнату человеку приготовьте. Ты одна здесь дежуришь?
– Еще Маринка, только, наверное, в клуб побежала. На танцы… – сказано это было с почти неуловимой двусмысленной иронией.
– Значит, сама займись.
Новиков допил рюмку, пару раз затянулся сигаретой перед тем, как затушить ее в пепельнице.
– Он, гость наш, мужчина очень почтенный, большой ученый…
– Старый, значит?
– Чего вдруг? Наших лет. Но – ученый. Академик, между прочим. И – из дальних краев.
– Американец?
– Опять ты спешишь. Русский, натуральный. Но в Югороссии никогда не был. Так ты вот что… Прояви к человеку внимание. Номер ему подбери получше, перекус сообрази, разговором займи… Только… – изобразил он озабоченность. – Есть у меня сведения, что до женского пола он чересчур падкий. Так ты с ним поаккуратней. Если вдруг чего – сразу бить не надо. На словах объяснись. А то представляешь – завтра общий торжественный обед, и у дорогого гостя – фингал под глазом… Уловила?
– Ох, Андрей Дмитриевич, – Нина притворно вздохнула, изображая глубокую печаль, – опять вы свои шуточки шутите? Когда это я кого-то била? Ну, правда, в Ростове пацаны меня остерегались, так то ж когда было!
Глаза у нее блеснули ведьмовскими искрами. Новикова Нина Семеновна, как мадам Грицацуева Бендера, «уважала», но совсем не боялась. Любила с ним пошутить, а и иногда и на серьезные темы, под настроение, порассуждать.
«Да, Скуратову можно позавидовать, в любом раскладе, – подумал Андрей. – Если не ошибется в схеме поведения, сумеет на Нину впечатление произвести, его ждет много интересного помимо библиофильских утех».
Новиков притворил за собой массивную калитку и начал спускаться по каменной лестнице от замка к своему коттеджу, ближайшему на центральной улице. Дождь хлестал по надвинутому до самых бровей капюшону плаща. Хорошо, что сапоги он надел высокие, непромокаемые. Можно не обращать внимания на потоки воды и глубокие лужи.
Как там в две тысячи пятьдесят шестом романтические отношения принято завязывать – неизвестно, у Андрея случая выяснить не было, не Ростокина же с Аллой об этом расспрашивать. Но одинокая женщина из тысяча девятьсот двадцать пятого, если интерес почувствует, найдет способ преодолеть культурологический барьер.
Пойдет все так, как он предполагает, Скуратова можно будет привязать. На ближайший отрезок времени. Нина Семеновна – дама того типа, что способна увлечь почти любого мужчину и интуитивно знает, как вываживать крупную рыбу спиннингом. Если что – для себя. Прикажут – для начальства.
Андрей не знал, зачем ему нужна еще и эта интрига, но столько в жизни было всяких неожиданностей, что появление в угрожающий период постороннего человека, настроенного включиться в спаянную компанию, не могло не внушить определенной тревоги.
Если есть возможность переключить внимание нового фигуранта, пусть ненадолго и на незначительную цель, – это нужно сделать. Выйдет холостой выстрел – не беда. Он в любом случае получит дополнительную информацию, а «подозреваемому» не нанесет никакого морального или физического вреда. Испытает ли при этом сам фигурант удовольствие или разочарование – вопрос из другой плоскости.
Тут Новиков не ошибся. Пока Нина, заинтригованная начальником, переодевалась для встречи с редким, да еще и высокопоставленным гостем в служебный костюм старшей администраторши: ярко-васильковый обтягивающий костюм, юбка чуть выше приятно-круглых колен, двубортный китель с золотыми пуговицами, кружевная, просвечивающая где надо блузка, Скуратов успел нагрести с полок десяток толстых книг, одни названия которых вызывали у него внутреннюю дрожь исследователя. Уселся за ближайший стол и начал их жадно перелистывать.
Совершенно не подозревая, какую суматоху вызвал.
Маринка, оторванная от танцев, готовила «специальному гостю» лучшие из имеющихся апартаментов. Повар, поставленный в условия жесткого цейтнота, изобретал ужин, обрадовавший бы и случайно заехавшего сюда наследника французского престола.
И это все при том, что Нина означенного гостя еще не видела. Так тем интереснее. Андрею Дмитриевичу она в любом случае угодит, а что в результате получится – особая статья.
«Служба охраны реальности» (СОР), достаточно долго функционировавшая в качестве одного из подразделений «Братства», в какой-то момент, как показалось, себя изжила. По той причине, что в результате самоустранения Игроков и целого ряда связанных с этим фактом явлений мир «1925» словно бы стабилизировался, и никакие «нечеловеческого происхождения» потрясения ему больше не угрожали. Изучение доступными методами характеристик ближних Узлов Сети показало, что все возможные перемены отныне будут осуществляться только в рамках зафиксированного континуума и смогут затрагивать лишь государственное и политическое устройство действующей реальности, но никак не ее физические основы.
Тогда же были открыты пути в оба мира «2004/05», сосуществующие «борт к борту», но резко отличающиеся своим общественным строем, темпами исторического и технического прогресса, при этом настолько конгруэнтные, что перемещение между ними не составляло почти никакого труда. При не совсем понятном механизме этого странного совмещения оно позволяло с минимальными усилиями переправлять в обе стороны практически неограниченное количество людей и боевой техники. Что и привело однажды к небольшому вооруженному конфликту с участием представителей сразу трех реальностей.[2]
Состоялось даже специальное заседание, принявшее решение о негласном упразднении «СОР» и преобразовании ее в «Комитет Активной Реконструкции Реальностей». Тогда эта тема показалась актуальной, и, нужно отметить, несколько проведенных активных операций имели явный успех. Только вот никакой более-менее понятной теории, хотя бы приблизительно объясняющей физический механизм взаимоотношений между «братскими мирами», создать не удалось. Теории, пригодной даже не для прогнозирования, просто для осознания смысла периодически возникающих парадоксов асинхронно текущего там и тут времени. Бывало, что оно совпадало до секунд, потом вдруг начинало стремительно ускоряться в одном континууме и тормозиться в другом. И наоборот, естественно.
С таким же примерно явлением «неоднородности времени» наши герои столкнулись только что, оказавшись в окрестностях земли дагонов и базы дуггуров. И это говорило о том, что налицо явления одного порядка. Но по-прежнему оставалось непонятным – искусственного происхождения эти деформации или носят вполне естественный характер.
К счастью, все основатели, они же «действующие лица и исполнители» «СОР» и «КАРР», сейчас были на месте и могли беспрепятственно провести очередное заседание. Новиков именовался «администратором», Шульгин сам для себя придумал должность «старшего оперуполномоченного». На вопрос Дмитрия, кто будет младшим, он здраво ответил, что за этой категорией дело не станет. Соответственно, Воронцов назвался «начальником тыла», а Левашов – «техническим директором».
Все это имело оттенок привычной ролевой игры, но с глубоким внутренним смыслом. Никто не хотел, чтобы их занятие выглядело слишком всерьез. Стоит только вообразить себя действительными вершителями судеб мира (не одного вдобавок), как случится то, что случалось уже тысячи раз в любой из известных историй.
Пока Маркс и Энгельс, Плеханов, Ленин и их единомышленники, да и Гитлер с соратниками забавлялись дискуссиями в пивных или благополучных мещанских квартирах, писали заумные статьи, не слишком понятные даже авторам, создавали «партии нового типа» с сотней членов, вреда от этого не было почти никакого. А вот когда кое-кто из названных персонажей решал, что пора брать власть, и со страстной верой в свое великое предназначение принимался за «переделку общества», тут и начиналось…
Одно дело – исправить некие явные ошибки истории, пресечь постороннее злонамеренное вмешательство в ее ход, да хотя бы проверить на практике собственные социопсихологические теории, после чего отойти в сторонку, предоставив событиям развиваться по своим внутренним законам, и совсем другое – по-настоящему захватить власть (плевое дело, с их возможностями), хотя бы «в одной, отдельно взятой стране» и более уже ни на что не отвлекаться. До конца – победного или наоборот, неважно. Как Сталин, Гитлер, Мао, Пол Пот…
На такое ни один из членов «Братства» согласен не был.
Две параллельные улицы поселка были совершенно пусты, и окна большинства коттеджей не светились. Почти в половине из них никто не жил, строили их впрок, в расчете, что население форта будет увеличиваться естественным образом и за счет притока иммигрантов: из основной и параллельных реальностей. В других хозяева уже отошли ко сну. Здесь было принято рано ложиться и рано вставать.
Новиков спустился до самой набережной, постоял, любуясь прибоем и вслушиваясь в гул и грохот разбивающихся о скалы волн. Фьорд обычно сохранял безмятежную гладкость водной поверхности, но иногда, при определенном направлении ветра, в нем разыгрывался почти настоящий шторм.
Хорошо было курить, пряча сигарету в кулаке, под защитой глубокого капюшона, и думать о вещах совсем нейтральных. Кое-что вспоминать из своей «человеческой» жизни, оставшейся за перевалами времен.
Андрей швырнул догоревший окурок вниз, пошел обратно, по такой же крутой и безлюдной параллельной улице. Только на первой дома были из красного кирпича, а на этой – из желтого.
Давным-давно, даже страшно вспомнить когда, он любил бродить по ночной Москве под моросящим дождем, подняв воротник плаща, засунув руки в карманы, воображая себя кем-то вроде местного Алена Делона, который на следующем перекрестке обязательно встретит ту самую девушку, которая никак не попадалась днем.
Это было еще до того, как он действительно встретил Ирину, и именно ночью. Только дождя в тот раз не было. Наверное, уже в молодости он умел создавать локальные мыслеформы, не подозревая об этом.
Андрей поднялся на высокое крыльцо коттеджа, одного из свободных, но всегда готовых к приему гостей. Захочется, например, как сейчас, в преферанс поиграть, так не идти же в семейный дом, где самая гостеприимная хозяйка рано или поздно не выдержит громких разговоров и всепроникающего табачного дыма.
Для подобных целей подходили и многочисленные помещения замка, но вчетвером лучше собраться в более приватной обстановке.
В прихожей на вешалках уже висели обсыхающие плащи, на полу ровненько, будто в казарме, выстроились штормовые сапоги.
Новиков добавил к ним свои, выбрал домашние туфли по вкусу, поднялся по двухмаршевой лестнице с резными балясинами.
В обширном зале с пылающим камином во всю стену его появление встретили приветственными возгласами. Будто год не виделись. Кстати, ватманский лист с художественно нарисованной «пулей» уже лежал на ломберном столике. Рядом – нераспечатанная колода карт и все необходимые для правильной игры аксессуары.
– Что, прямо сейчас и начнем? – спросил Андрей.
– А чего ждать? – хищно усмехнулся Шульгин, непроизвольно перебирая пальцами, будто уже начал сдавать карты. – Мы сколько не играли?
Новиков прикинул. Выходило, что давненько.
– Сейчас доложу, – поднялся Левашов, взял со стола, открыл в нужном месте толстый ежедневник. – Вот-с, такого-то месяца, числа, независимого года… Год и два месяца, судари мои. И в последний раз господин Новиков изволили проиграть ровно девять тысяч рублей ноль-ноль копеек. Думаю, желают отыграться.
– Давненько не брал я фишек в руки, – вздохнул Андрей. Поиграть захотелось невыносимо. Взять со стола свои десять карт, неторопливо раскрыть, пробежать глазами, оценить, соображая, а что же там в прикупе для нас интересного? И так далее…
А у игроков их забавы, наверное, вызывали еще более сильные эмоции.
Теперь – мы за них.
Шульгин с треском распечатал колоду, Дмитрий взялся за пробку коньячной бутылки. Тоже традиция – за начало игры по первой, а потом – только за сыгранный мизер, и никак иначе. Зато курить можно и нужно постоянно, для маскировки эмоций. С этой целью кто-то приготовил и даже раскрыл большую коробку сигар.
– А поговорить? – спросил Андрей, смягчая известную фразу из анекдота. Известно ведь, что за преферансом ни о чем, не связанном с игрой, говорить невозможно. Или игра останавливается, к всеобщему раздражению.
– Есть о чем? – лениво спросил Шульгин. – До утра не терпится?
– Как тебе сказать… – Новиков грел озябшие на дожде и ветру руки, думая, что лучше бы ему правда помолчать, хотя бы сегодня. Завтра тоже будет день.
– Судя по тебе, – сказал Воронцов, – ты по улицам долго бродил?
– Не очень и долго. Полчаса, пожалуй. До этого личную жизнь Скуратова устраивал…
– Ух ты, – восхитился Шульгин. – С Ниной познакомил?
– Не с Маринкой, сам понимаешь.
– Амбец мужику, – скорбно вздохнул Левашов. Все знали о мечте Нины Семеновны подыскать себе мужа, состоятельного и положительного во всех отношениях.
– Думаю, наоборот, – сказал Воронцов. – В меру согретый женским вниманием, господин академик станет гораздо более пластичным материалом для твоих экспериментов. А то слишком много вокруг манящих, но недоступных раздражителей. Я такой типаж знаю, с повышенным гормональным фоном… Кстати, что вы вообще о нем думаете? Ввели в коллектив, а отношение?
– Отношение – это к тебе, ваше превосходительство, – почти ткнул Дмитрию в грудь незажженной сигарой Шульгин. – Ты его в деле видел. Мы – нет.
– В деле – хорош, по мнению Антона. Не каждый морпех наших времен в сравнение идет. Не трус, нервы – крепкие, в этом я сам убедился. И Игорь за него поручился. А что с понтами – ты хоть недельку нобелевским лауреатом был? Целым институтом заправлял? А он – три года уже.
– Да. Спорить не берусь. Правда, и он вряд ли фронтами и флотами командовал.
– Естественно.
На недолгий момент все замолчали. Каждый по-своему применял к личному опыту сказанное.
– И до чего во время одинокой прогулки над морем додумался? – спросил Андрея Воронцов, как бы без связи с предыдущим.
– Натурально – ни до чего хорошего. Как будто в наших условиях хорошее имеет онтологический[3] смысл.
– Как же иначе? Если бы оно такого смысла не имело, мы бы уже друг друга давно перестреляли. В спину. Помнишь рассказ «Мешок»? – Сашке тема понравилась.
– Вы, интеллигенты, не заткнетесь ли? Играть будем? – Левашов снова проявил свой взрывной характер. Он мог терпеть очень долго, но до определенного края. – Если у тебя, Андрюша, – сказано это было со всей возможной едкостью, – нет самой свежей информации о готовящемся ядерном ударе, давай завязывай. Мы тоже до утра трепаться умеем. Ни о чем. Или опять знаешь что-то, чего мы прозевали?
Новиков подумал – на самом деле, какого черта? Что он грузит друзей собственными комплексами? Лично ему ситуация по-прежнему кажется критически-опасной. И Скуратов, невзирая на мнение Воронцова и рекомендации Ростокина, внушает ничем конкретным не подкрепленную тревогу. Очень может быть – именно фактом своего одновременно внезапного и своевременного появления. С Замком он контактировал, довольно долго и без посредничества Антона… Так и что? Забыть все до утра. Тогда и скажет, что хочется. А сейчас…
– Давай, Саш, кидай до туза, кому сдавать…
Выпало как раз ему.
И больше уже никаких посторонних слов.
На этот раз Андрею карта шла, и в итоге он взял реванш за прошлый проигрыш. Сашка остался практически при своих, а Воронцов и Левашов подсели крепко.
Собрались расходиться в шестом часу утра. Как принято говорить «усталые, но довольные». На крыльце Шульгин, будто только что вспомнив, сказал о предложении Ростокина изготовить специальный прибор для воздействия на психику Шатт-Урха..
– Сделать можно, не вопрос, – ответил Левашов. – Только смысла не вижу. Антон Урха и так психологически сломал. Отвечать он будет. Остается грамотно вопросники составить. Я, например, пока плохо представляю, какие вопросы нужно задавать, чтобы получить полезные ответы.
– Ну и подумаем, каждый по своей теме. Спешить нам точно некуда.
– В том смысле, что если мы уже под прицелом, то суетиться поздно, – согласился Воронцов.
На этой оптимистической ноте и расстались.
…Шатт-Урх, как и рассчитывал Левашов, проявил полную готовность к сотрудничеству. Гораздо большую, чем в начале знакомства. Тогда он рассматривал себя как высшее по отношению к партнерам существо, независимо от понесенных его расой поражений в каждом из случившихся боестолкновений. По-своему он был прав, в пределах имевшейся у него на тот момент информации. Как были правы те, кто организовал попытку свержения Олега Константиновича в две тысячи пятом. Способность перемещаться между мирами, воздействовать на психику аборигенов, совокупно с громадным военно-техническим превосходством делали шансы на успех абсолютно стопроцентными.
Как тогда Шульгин и Берестин с Басмановым сумели ввести в игру не предусмотренные противником факторы, так и Антон вверг Шатт-Урха в тягостное недоумение, а затем и в панику. Дуггур понял, что его представления о другом человечестве не имеют ничего общего с реальностью. До него дошло, что люди (а он не имел оснований считать форзейля представителем иной расы и неземных цивилизаций) превосходят дуггуров не просто технически, а именно интеллектуально. И вширь, и вглубь. Количественно и качественно.
Количественно – потому, что несколько миллиардов индивидуально мыслящих особей всегда смогут придумать гораздо больше оригинальных идей и методик, чем несколько тысяч урарикуэра, как бы ни был гениален каждый из них.
Качественно – тут и объяснять ничего не нужно. За несколько минут прямого общения человек не только нашел самое уязвимое место в цивилизации дуггуров, но и выяснил механизм ее уничтожения, вернее – превращения в массу бессмысленных, ничем, кроме взаимного пищевого интереса, не связанных особей.
С таким противником вступить в открытую конфронтацию – прямое самоубийство.
О том, что Антон блефовал, догадаться Шатт-Урх не мог, все по той же особенности присущего ему способа мышления.
Кроме того, очутившись в каменном строении, где его заточили до следующего раунда переговоров, Шатт-Урх почувствовал себя узником камеры, которая в его мире использовалась в двояких целях. И для наказания провинившихся мыслящих, и для решения специфических научных проблем особо подготовленными личностями.
Проще говоря – аналог обычной сурдокамеры, широко использующейся на этой Земле последние несколько тысяч лет. Йоги, добровольно замуровывающиеся в глубоких пещерах, умели достигать там высших уровней просветления. Космонавты, готовившиеся к первым одиночным полетам, проверяли устойчивость своей психики. А простые, не склонные к самопознанию люди, лишенные свободы и сенсорных ощущений, довольно быстро повреждались в уме. Часто – необратимо.
Здесь, в форте, дуггур-урарикуэра оказался лишен главного – ментальной связи с соотечественниками и единомышленниками. И это оказалось страшным испытанием. Ни фильмы, ни книги, бумажные и электронные, ни прекрасные виды из окон на горы и море не компенсировали страшной, глухой пустоты мирового эфира.
Как это могло случиться, он не понимал. Совсем недавно, когда его доставили с берега на плывущее по морю судно, даже после взрыва плазменной бомбы он оставался в пределах своей ноосферы, и вдруг – как обрезало. О переходе в реальность, не имеющую «мостов и перемычек» с другими, доступными проникновению дуггуров, Шатт-Урх не подозревал.
Двенадцати здешних часов хватило, чтобы превратить по-своему отважного интеллектуала в тварь дражащую. Он был готов на все, чтобы вернуться в свой, наполненный мозговыми излучениями миллионов мыслящих, мир. Да пусть и немыслящих.
Человек, сидящий в одиночке, рад общению с воробьем, прилетающим к его окну, с крысой, по ночам вылезающей из свой норы под нарами, с тараканом, на крайний случай.
Об этом и пошла речь, когда Шатт-Урха пригласили для очередной беседы.
Его ждали Новиков, Шульгин, Левашов, Воронцов, а также Антон и Скуратов. Синклит вполне достаточный для обсуждения любых могущих возникнуть тем.
Тот эффект, на который пожаловался дуггур, свидетельствовал о том, что в настоящий момент никакой связи между этой реальностью и его миром нет. Как выяснилось чуть позже – и не было. Отчего так получилось – не совсем понятно. Так непонятного в природе куда больше, чем объяснимого.
Но сам по себе факт весьма обнадеживающий и заодно опровергающий основополагающую идею Арчибальда о том, что дуггуры непременно нагрянут в двадцать пятый год, чтобы окончательно разделаться с врагами.[4]
На самом ли деле он этого опасался или использовал угрозу как повод сначала заманить полюбившихся ему людей «в гости», а затем убедить или заставить отправиться в прошлый век? Новиков все больше укреплялся в мысли, что со стороны Арчибальда имела место довольно тщательно спланированная провокация. Но пока держал эту догадку при себе, рассчитывая чуть позже обсудить ее со Скуратовым, надеясь, что тот сумеет взглянуть на проблему под недоступным им углом.
Антон, которому единодушно поручили исполнять роль ведущего (слишком яркое впечатление он сумел произвести на парламентера), сообщил Шатт-Урху, что эфирная связь с его миром прервана специально, особым способом, чтобы предотвратить возможность повторной агрессии.
– Не дай бог, если на этот раз твои друзья точнее прицелятся…
Дуггур помнил, как говорящий с ним Антон совсем недавно продемонстрировал свою способность ставить ментальный блок вокруг собственного мозга. Он и сейчас не слышал его и тех, кто побывал на станции и оставил там отпечатки своих ментаграмм. Но в тот раз эфир извне оставался открытым. Оказывается, люди могут и такое. Возможно, они научились этому только что, исследуя захваченного в плен старшего пятерки итакуатиара.
– Они мне не друзья, – с интонацией, намекающей на пренебрежение к тем, кого имел в виду Антон, ответил Шатт-Урх. – Я уже говорил, тапурукуара не относятся к моей варне, мы с ними никогда не поддерживали прямых отношений. Все контакты между кастами и варнами происходят только через Рорайма.
– Не слишком гибко, но рационально, – отметил Шульгин. – А то мало ли о чем вояки с учеными через голову начальства сговориться могут.
– Мы не можем рисковать, – продолжал Антон. – Вдруг имел место не эксцесс исполнителей, а целенаправленная акция, санкционированная с самого верха вашей общественной пирамиды? Лучше подождем немного, разберемся. Пока исходим из того, что нам объявлена тотальная война. Или, допустим, у вас случился государственный переворот, собственная гражданская война или что-нибудь еще, вроде бунта «неразумных». По своим ведь просто так плазменные бомбы не швыряют.
В общем, мы постараемся помочь тебе, чем сможем, но для этого нам нужна полная информация. Мы в долгу не останемся. Убедимся, что для тебя и нас это безопасно, – переправим обратно. Куда скажешь…
Перед началом допроса согласились, что историю, биологию, сравнительную генетику и прочие интересные темы затрагивать пока не стоит. Раз обстановка фронтовая, так и спрашивать следует о вещах, к ней относящихся. Вопросы при этом следует задавать беспорядочно, перескакивая с темы на тему, чтобы подследственный не имел времени на подготовку вытекающих из общей логики ответов.
– Ты предупредил, что повторного удара по месту нашей стоянки можно ожидать примерно через три часа. Как ты определил этот срок?
– Очень просто. Я знаю стандартное время прохождения запроса от старейшин варн до Рорайма, принятия решений и сообщения ответа. Если бы кто-то из тапурукуара использовал бомбу по собственному усмотрению, нас бы давно не было в живых.
– Значит, рораймы все же санкционировали агрессию?
– Действие было совершено с их согласия, теперь я уверен. Сначала я не поверил в это, но потом долго думал…
– Как ты считаешь, почему?
– Не могу ответить. Не знаю, какие доводы приводились «за» и «против». Видимо, Совет решил, что данное решение – самое рациональное.
– Они не учитывали возможности возмездия с нашей стороны? – вмешался Шульгин.
Шатт-Урх задумался. Обычно он отвечал мгновенно, а сейчас пауза затянулась. Видимо, из-за блока он не мог извлекать из памяти собеседников готовые словесные конструкции, относящиеся к заданному вопросу, и ему сейчас пришлось формулировать ответ самостоятельно.
Когда он заговорил, стало видно, что он на самом деле испытывает затруднения, смысловые и стилистические.
– Мне кажется, такая возможность не рассматривалась. Я не зря говорил: «Если бы мне было позволено выступить на Рорайма…» В совете не так много мыслящих, хорошо знающих привычки и обычаи людей. Вернее, хорошо их не знает никто. Я – один из самых осведомленных. Подобных мне наберется дюжина, две – уже нет. Другие, мне кажется, рассуждали так: «Каждое действие встречает противодействие на сопоставимом уровне. При наших встречах с людьми они никогда не продолжали боевые действия после завершения… эпизода. Во время боя на станции люди убили несколько мыслящих и использовали взрывчатое вещество. Мы ответим тем же. На этом все закончится. До… следующего столкновения».
– А ты думаешь иначе?
– Да, теперь я думаю иначе. Особенно изучив историю. Когда я вызвался прилететь на встречу с вами, я понимал уже, что между нами все время происходят… недоразумения. Я решил, что, появившись сразу после… конфликта, откровенно поговорив с глазу на глаз, сумею убедить людей в отсутствии с нашей стороны намерения враждовать бесконечно. Как знак… доброй воли, я хотел предъявить вам наш отказ от… равноценного ответа. Я надеялся, что сумею организовать встречу ваших представителей с Рорайма…
Шульгин неожиданно засмеялся.
– Что это с тобой? – удивился Левашов.
– «Сказку о тройке» вспомнил. Насчет реморализации клопов и переключение их с паразитизма на равноправный симбиоз с человечеством. Так этот тоже – клоп-говорун! Он донесет до своих ценную мысль, что с людьми воевать не стоит. И кто же его послушает?
– Зря ты так. Человек ради идеи жизнью рискнул, да и идея не такая уж бессмысленная, – ответил Воронцов.
– Продолжай, Антон, – сказал Новиков.
– Ты говоришь – дюжина ученых, хоть что-то знающих о мире людей. Как же так можно? Особенно, если вы собрались вторгаться на территории, занятые миллиардами совсем иначе устроенных существ. У нас бы таким делом занимались десятки специализированных организаций с тысячами сотрудников.
– У нас по-другому. Остальным это совсем не нужно. Каждый клан ученых занимается своей тематикой.
– Не выходит, – тут же отреагировал Шульгин. – Те наблюдатели на станции признались, что они изучают Землю не одно столетие. И направляли экспедиции не только к нам, а и на другие планеты, где тоже пришлось немного пострелять и померяться в силе телепатических способностей.
– Это совсем другое, – сделал отстраняющий жест Шатт-Урх. – Исследователи изучают совсем не так, как мы, и – не то! Я ведь говорил уже – большинство особей руководствуются только инстинктами. И еще некоторыми способностями, для которых в ваших языках нет названий. У вас ведь есть пчелы?
– Конечно, – удивился Антон.
– Они строят соты, собирают мед, поддерживают дисциплину и порядок в своих дуплах?
– Да. Только ульев для себя делать не научились, вместо дупел, люди им помогают.
– Неважно. Но все остальное они делают хорошо, обеспечивают выживание своего вида, и качество конечного продукта, меда, всегда совпадает с исходно заданным миллион лет назад?
– Так и есть, не поспоришь.
– А вы когда-нибудь видели написанный пчелой учебник – по архитектуре, навигации, органической химии?
– Ну, это мы еще у Энгельса читали, чем самая хорошая пчела отличается от самого плохого архитектора, – пришло время и Андрею поучаствовать в разговоре.
– Так наши ученые занимаются в основном тем, что «пишут учебники». Я свой написать, увы, не успел, – в голосе Шатт-Урха послышалась почти человеческая печаль.
– Значит, все, что случилось, – инстинктивные реакции немыслящих существ? Включая межзвездный перелет? – впервые подал голос Скуратов.
Вместо дуггура ему ответил Воронцов:
– Нашел чему удивляться. А когда рыбьи мальки через два океана приходят в нужное место точнее, чем мой штурман с дипломом высшего военно-морского училища? Давайте эту тему сворачивать. На досуге подробности обсудите. Следующий вопрос – какой у них мобилизационный потенциал? И мобресурсы, опять же.
Эти термины Антону пришлось долго растолковывать Шатт-Урху. Тем более, что даже поняв их общий смысл, тот очень долго не мог сообразить, как соотнести несопоставимое.
Если рассматривать количество живой силы, которая может быть привлечена к тотальной войне, дуггуры могли направить на Землю до ста миллионов особей, именуемых монстрами, и других, также приспособленных исключительно к войне. Под руководством нескольких десятков тысяч полумыслящих.
– Каким путем направить? Что за пути, пригодные для переброски таких масс живой силы?
– Есть летательные аппараты, вы их назвали «медузами». Есть много межпространственных тоннелей. Расстояния между ними не превышают двух-трех сотен километров. Мы ими нередко пользуемся, но не в военных целях. До последнего времени не пользовались, – счел нужным уточнить дуггур.
Наконец они дошли до темы, одинаково всем интересной.
Вопросы пошли наперебой, Шатт-Урх едва успевал отвечать.
Никто не хотел употребить термин «реальность», чтобы не дать противнику нового знания. Он ведь, судя по всему, считал, что ГИП – единственная.
– Вас не удивляло, что при своих походах вы каждый раз попадали в места, очень различные по техническому развитию и образу жизни?
– Некому было замечать разницу. Я первый, кто получил доступ к систематизированному научному знанию о вашем мире. До этого мы пользовались разрозненными фактами, интерпретируемыми каждый раз с новой точки зрения.
Только теперь я понял, что каждый раз итакуатиара выводили тапурукуара в другое время и в места с другим общественным устройством. Они этого осознать и оценить не могли, в силу слишком незначительных, на их взгляд, различий. Как и причину постоянных неудач при попытках силового воздействия. До меня информация дошла слишком поздно. Да и если бы иначе – у меня не хватало данных, чтобы подготовить более правильные планы, а главное – обучающие ленты. Для низших.
– Ну и каков вывод, господин главный специалист? Ты, кстати, вправду самый главный в своей конторе?
– Получается, что так. Потому я и отправился на встречу с вами. Дископланы, к счастью, хранились не в той пещере, которую вы взорвали, и я сумел, узнав о случившемся, легко до них добраться.
«Лариса, будь она здесь, непременно спросила бы, а кем были те, которые ее почти очаровали, – подумал Новиков. – И мы ей такую возможность непременно предоставим».
– Ваша война против людей имеет хоть какие-то шансы на успех? Сто миллионов немыслящих под руководством десяти тысяч полумыслящих. А кампанией будут руководить десять совсем мыслящих?
– Приблизительно так.
– Лихо. Один младший офицер на дивизию, и один генерал на десять тысяч дивизий! Навоюете…
Скуратов, постепенно входящий в систему отношений, позволил себе не согласиться с Шульгиным:
– Напрасно вы так думаете. Когда миллиарды огненных муравьев колоннами идут через сельву, они уничтожают на своем пути все. Только птицы могут спастись. И обходятся без старших, и даже младших офицеров. Хватает пресловутых инстинктов и управляющих феромонов.
Кто-кто, а Новиков однажды нечто подобное в Южной Америке видел. В мелких масштабах, но все равно неприятно вспоминать. А если не муравьи, в полсантиметра каждый, а двухсоткилограммовые туши, в тех же количествах, вооруженные многоствольными митральезами?
О них он и спросил. Для какой, мол, цели у них, в мирной биологической цивилизации, разработано вполне механическое оружие, очень неплохо сконструированное? Значит, есть военная промышленность, металлургия, электроника, химия, есть инженеры-конструкторы, рабочие, способные собирать прецизионную технику, есть, наконец, цели, в которые можно и нужно стрелять.
– И тактика есть, – добавил Шульгин, исходя из собственного опыта, – хреновенькая, конечно, но не хуже, чем в итальянской армии.
– Бомбы, «боевые медузы», специально на живую дичь натасканные ракоскорпионы, – припомнил и Антон свою коллизию в канализационном люке.
Похоже, они господина Шатт-Урха достали. Так правильно спланированный допрос на то и рассчитан, чтобы непременно подловить пациента на самой больной точке его сильно растревоженной души. На допрос даже ни в чем не виноватый человек приходит очень напряженным. Помня известную присказку: «Был бы человек, а статья найдется». А уж если есть что скрывать и чего бояться, он сам каким-то необъяснимым образом все ближе и ближе подводит разговор со следователем к «тому самому».
Хотя, казалось бы, заранее настройся и старательно обходи все ловушки. Выведи тему допроса за рамки навязываемых вопросов и не думай «о белой обезьяне». Но это очень мало кому удается.
– Вот теперь остановимся, ребята, и начнем говорить всерьез. Дайте, кто там поближе, нашему приятелю контурную карту Земли и карандаш, пусть он нам изобразит расположение их городов, центров военного производства, гарнизонов, транспортную сеть. И все это по ходу дела комментирует. Без всякой словесной туфты… – Шульгин опять попал в свою стихию. «Старший оперуполномоченный» межпланетного масштаба.
– И еще раз намекни ему, Антон, горячим утюгом в грудь, что обманывать нас или пытаться что-то скрыть – не надо. В случае чего, не имея достоверной информации, мы начнем ковровые бомбардировки просто по площадям. А если будем иметь точечные цели – кому-то да повезет из мирных жителей. Он наши фильмы смотрел – покажи еще раз. Гамбург, Кёльн, Дрезден, Токио. Можно и Хиросиму. Объясни, что так у землян выглядит «адекватный ответ».
Сашка встал, с удовольствием глядя на не понявшего его слова дуггура.
– Продолжайте, в общем. А мне нужно выйти. Олег, можно тебя на минуточку?
На крыльце, откуда был виден фьорд с «Валгаллой», судя по дымку над трубами, готовой в ближайший час выйти в открытое море, Левашов спросил:
– Что у тебя теперь? Я что-нибудь пропустил?
– Наверняка. Связь у тебя с Басмановым есть?
– Прямой, конечно же, нет. Можно на выбор – по узкому каналу Ирины универблоком выйти на Сильвию с Берестиным, они переключат на Михаила. Или – опять пробой через СПВ. Тебе как?
– Сильно вроде бы не горит, а там кто его знает. Но если в пределах часа – давай, чтобы лишний раз пространство-время не тревожить, по кругу, через Сильвию.
– Что ты опять темнишь? Со мной – для чего?
– Да кто темнит? Мы с тобой одно и то же слушали. Просто о разном при этом думали…
– Как всегда. На военной кафедре хотя бы слышал, что есть такое понятие – «стремительное выдвижение полевых войск в зону тактического ядерного удара»? Кружки и разноцветные овалы рисовали, с учетом «среднего ветра», уровни заражения рассчитывали? Мне и показалось, что Урх вовремя проболтался. Если у них такая армия, то она непременно должна сейчас готовиться, а то и уже начать означенное выдвижение. И наши ребята вполне могут оказаться на острие наступления.
– Куда, зачем?
– А это ты у огненных муравьев спроси, когда встретишься.
– Ладно, пошли…
Ни о каких равноправных переговорах речи теперь не шло. Шатт-Урху была обещана вся возможная помощь для его возвращения домой. В обмен на полную и подробную информацию. То, что парламентер успел сообщить, к таковой имело довольно приблизительное отношение.
Как и первоначальные выводы Удолина. Кстати, отсутствие от него каких-либо сообщений беспокоило. Единственное оптимистическое объяснение сводилось к пресловутой неравномерности течения времени. Вдруг у Константина Васильевича после его перемещения на Валгаллу прошло всего полчаса-час?
Новиков, как философ и социолог по основной профессии, Ростокин – журналист и исследователь чужих миров, Скуратов – знаток нечеловеческих логик с удовольствием бы выслушали полный курс дуггурской истории-биологии. Только время погружаться в такие дебри не пришло.
Шатт-Урх готов был начать издалека, с сотого, может быть, века до нашей эры. Но это извращение нормальной эволюции сейчас значения не имело. Важно было выяснить, что собой представляет нынешнее общество.
Его биолого-политическое устройство тоже, конечно, представляло огромный интерес, особенно для тех, кто захотел бы его посетить. С экскурсионными или дипломатическими целями. Организовано оно было весьма оригинально. Неразумные и псевдоразумные его компоненты, выведенные тысячелетиями искусственного отбора и генетических модификаций «исходного материала», обеспечивали физическое существование большинства и «экономический базис» цивилизации. «Надстройку» же составляло всего лишь несколько миллионов (по оценке Шатт-Урха, точными статданными он не располагал), вполне разумных. Но даже среди них существовала жесткая кастовая система.
Кое-что рациональное в таком устройстве жизни, пожалуй, найти было можно. Хотя бы в смысле сохранения экологии, исходного биогеоценоза и порядка политического устройства. Шатт-Урх утверждал, что «политики» у них нет и быть не может, но это оставалось, в лучшем случае, его личным заблуждением.
– Кажется, нас можно поздравить, – сказал Новиков. – Вывернуться вывернулись. Но нам этого, как всегда, мало. Так и что же мы собираемся спасать на этот раз? Неплохо бы наконец определиться. А то опять текучка заела. Честно собрались отсидеться в тихом уголке, да, похоже, снова не вышло.
– Да и не могло выйти, – ответил Воронцов. – Пора бы убедиться. Рубикон обычно переходят один раз.
– Ну а не сунься мы в эту Африку, предпочтя, скажем, Аргентину? – спросил Левашов.
– И что? – с веселым удивлением посмотрел на него Шульгин. – Если б мы даже решили честно предаться «недеянию» и невмешательству, попытавшись заняться безобидным скотоводством в пампасах, кто-нибудь нас непременно бы достал. Как будто не пробовали уже. Тебе перечислить? – Он вытянул руку, готовясь загибать пальцы. – Монстры в Москву и Барселону сами пришли, я их не трогал. Твоя Лариса в Кисловодске попробовала пожить как хочется – ан тут же появились подруги из две тысячи пятого – монархического. Потом эта история с моими странствиями черт знает где, потом Валгалла. Визит Антона, Замок, Южная Африка. Мы до сих пор думаем, будто что-то в состоянии выбирать, а на самом деле все давно выбрано за нас…
– Тогда что нам остается? – наивно спросил Олег.
– Совершенно ничего. Поступать так, как подсказывает самая банальная житейская логика. Что мы, братцы, имеем? Если тщательно разобраться?
Кочевали по прериям, никого не трогали. Так? Тут же приперлись англичане, за сотню верст от мест, где им быть полагалось. Так? Им лично жить надоело или под заказ работали? Пришлось, не скрою, разобраться попросту, совсем не желая кого-то обижать.
Дальше. Встретили дагонов, только начали налаживать отношения – немедленно появились дуггуры. Тяжело было, но поучили уму-разуму в свойственном нам хамском стиле. Дух перевести не успели – к нам пришел Шатт-Урх. В тот момент, когда мы решили, что выбрались и возвращаемся домой. Мы никого обижать не собирались, согласны? И его не звали. Но теперь он здесь. Вот и давайте с ним работать. А что еще? – закончил тираду Шульгин, закуривая и глядя на Андрея с едва ли не издевательской усмешкой.
– Ты спросил – что на этот раз спасать будем? Себя, кого же еще? А заодно и те обстоятельства, которые делают жизнь осмысленной. Всегда, во всех войнах так было. Просто я надеюсь, что ты умнее царя Хаммурапи, потому и оправдания наших бесконечно-бессмысленных конфликтов в твоих устах должны звучать куда аргументированнее его тезисов: «Я сокрушу ваши дома, я возьму ваш скот, я убью всех мужчин, а женщин сделаю подстилкой моих воинов…» Мы хоть немного цивилизованнее? Однако какие бабы у их высших классов, я бы посмотрел. Вдруг – вроде Таис Афинской?
– Исчерпывающе. Ничего не возразишь, – согласился Новиков. – Хотя и немного примитивно. Спасение собственной шкуры – какая-то не очень возвышенная цель. Насчет баб – уже интереснее. А с Урхом работать надо. Антон уже начал. Не завидую я ему, когда «дед» Удолин подключится.
– Кому, Антону или Урху? – с интонацией, усвоенной скорее в начале ХХ, чем в середине XXI века, спросил Ростокин.
– Да кто ж их знает, – с грустным, пристойным юродивому на паперти Успенского собора выражением лица и тоном оттуда же ответил Александр Иванович. – Живем в заколдованном этом лесу, откуда уйти невозможно…
Басманов не успел закончить дипломатическую беседу с президентом Трансвааля Крюгером. В салон, отстранив движением руки часового, как будто это был простой привратник, невзирая на длинную винтовку у ноги и большой револьвер на поясе, почти ворвался тот самый Оноли, которому Михаил Федорович предписал отправиться вместе с пленными к месту расквартирования бригады. И заняться там «политическим сыском» на предмет непрохождения телеграммы.
– Господин полковник…
Нарушение протокола было вопиющим, но война и есть война. Зря отвлекать не станут.
– Простите, ваше высокопревосходительство, – Басманов кое-как изобразил подходящую к случаю почтительность. – Служба требует. Мы пока в зоне боевых действий. Я – строевик. Моя забота. А вы пока с господином Сугориным продолжите обсуждать ваши стратегические перспективы.
Валерий Евгеньевич взглянул на Басманова осуждающе. Уж слишком бескомпромиссно, на его взгляд, говорил тридцатилетний полковник, пусть и облеченный немыслимой степенью власти, с семидесятилетним президентом.
Крюгер вальяжно сделал рукой одновременно и отстраняющий, и как бы предоставляющий карт-бланш жест. Кажется, он был даже рад, что этот настырный полковник исчезнет. Ненадолго, а лучше – вообще. Мысль мелькнула самым дальним краем сознания и тут же заполнила весь его объем. Действительно – зачем нам такие союзники?
Напористая манера Басманова его, очевидно, утомила. Для того чтобы осознать услышанное и найти подходящие случаю ответы, требовалось достаточное время, например – вся ночь. И порядочная часть следующего дня. Сам по себе староголландский язык это предусматривает, одновременно являясь порождением издавна сложившегося стиля мышления.
А этот спешит, тараторит, за собственными словами не поспевая. Как новомодный пулемет «Мáксима» в сравнении с добрым старым дульнозарядным капсюльным ружьем.
– Чего тебе? – спросил полковник, когда они вышли в тамбур салон-вагона. – До разъезда еще далеко. Англичане взбунтовались или как?
– Простите, господин полковник, – старательно маскируя свое раздражение (и этот себе позволяет, скривился Басманов) подчеркнутой вежливостью, сказал поручик. – Вас там к радиостанции просят. Из Кейптауна.
– Понял. Спасибо. А ты чего такой взвинченный? Задание не нравится?
– Не нравится, опять же прошу прощения. Тут, похоже, снова жареным пахнет, а вы меня в тыл…
– Каким жареным? – машинально спросил Басманов, прикидывая, каким образом ему переходить из этого поезда в свой. Стоп-кран, что ли, дергать? Он только сейчас удивился появлению Оноли, весь поглощенный переговорами с президентом.
– На сливочном масле, – дерзковато ответил поручик. Видать, дела и совсем плохие. Только он откуда это уже знает?
– Поезда мы состыковали. Не совсем удобно – с площадки вагона на тендер, потом по паровозной площадке мимо котла, а там уже и наша территория. Но пройти можно. Зато без остановки, – теперь уже ровным голосом ответил Оноли.
Радио до Кейптауна брало хорошо, Кирсанова было слышно без атмосферных помех.
– Что в твоих краях новенького? – спросил Павел.
– Все как всегда. Сейчас вот Крюгера от нападения бродячих англичан спас. Постреляли немного, пленных взяли, сидел с дедом, уму-разуму учил, пока ты не позвал. А у тебя?
– Выше всяческих похвал. Я тебе долго мозги полоскать не буду. С тобой Александр Иванович поговорить хочет.
– Откуда вдруг? Они же…
– Мне не объясняли. Связь идет через Лондон. Как это устроено – ваше дело. Я сейчас за синхронного переводчика работать буду. Он мне говорит, я тебе дословно повторяю. И наоборот. Начали.
Никаким чудесам техники Басманов давно не удивлялся. Сразу сообразил, что Шульгин и все остальные сейчас где-то очень далеко, так далеко, что обычная радиосвязь недоступна, но до Лондона по какой-то специальной аппаратуре они достают. Хорошо хоть так. Не окончательно их реальности разделили. Рядом все. Но все равно труднопостижимо. Разговаривать по радио с далеким будущим…
Поздоровавшись, Александр попросил назвать нынешние географические координаты Басманова.
Михаил Федорович жестом потребовал у дежурного офицера планшет, пальцем нашел при свете неяркой лампочки место, которое они сейчас, примерно, проезжали. Пятнадцать километров до развилки на Данбарксфонтейн, где Оноли следовало покинуть отряд.
– Едем поездом вместе с президентом Крюгером в Блюмфонтейн. Большая часть бригады неподалеку от Данбарксфонтейна.
– Слушай меня внимательно, – слишком для него напряженным голосом сказал Кирсанов, дублируя Шульгина, – где-то в окрестностях именно этого места, куда черт тебя занес, может быть в ближайшее время, несколько юго– или северо-западнее, вторжение известных тебе персонажей. Монстров, короче говоря…
– Мать твою, – выдохнул Михаил. К сообщениям подобного рода он привык относиться правильно. Как фронтовой офицер.
«Настоящих» монстров Басманов видел только в кино. Барселонское побоище выглядело впечатляюще. Но других, в Москве тридцать восьмого, рассмотрел лично и вблизи. «Медузу» и ее «десантную партию». При этом воспоминании на душе сделалось погано. Участниками встречи были находящийся при нем Ненадо и сидевший в Кейптауне, наверняка неподалеку от Кирсанова, Давыдов.
– Какой процент вероятности вторжения? – по привычке спросил Басманов.
– От пятидесяти до ста процентов. Очень может быть, что они уже высадились. Вопрос только в том, ограничатся они зачисткой территории вокруг последнего нашего бивуака или развернут наступление широким фронтом.
– А зачем? – неожиданно для себя спросил Михаил. Глупый для профессионала вопрос, но слишком он был удивлен и встревожен.
– Если бы я знал. Может быть, нас с тобой искать. Мы им там шороха навели, расквитаться хотят. А ты сейчас единственный, кто у них в списках мог оказаться. С остальными они не пересекались.
– Не только. Тут Ненадо со мной, Давыдов в Кейптауне. Они оба в Москве отметились.
– Тоже верно. Ну, будем надеяться, я просто перестраховываюсь. Будь начеку и убирайся оттуда как можно дальше и быстрее. Если что – Сильвия с Алексеем вас выдернут. Свяжись с ними. Ну и мы, если нужно, подключимся. Не беспокойся.
– Слушай, командир, а мне с ними воевать нечем, – вспомнив, как полного боекомплекта спаренного «КПВ» едва хватило, чтобы раздолбать всего лишь одну «медузу», сказал Басманов. – Только легкое стрелковое. «РПГ» немножко, «СПГ» чуть-чуть. У бригады на вооружении несколько скорострельных пушек. И все.
– Я не говорю – всерьез воевать. Глядишь – вообще обойдется. Но если вдруг… Как бы не пришлось тебе с англичанами мир заключать и вместе отражать агрессию. Сколько у тебя пленных?
– Человек сорок. Суммарно с теми, что раньше взяты.
– Кое-что. Повод для переговоров. И Крюгер с тобой едет?
– Или я с ним.
– Первое вернее. Тоже туз в рукаве.
Мысль о том, что вдруг придется прекращать эту войну и начинать новую, в общем строю с бывшим противником, поначалу показалась Басманову нелепой. А впрочем… Не раз такое в истории случалось, особенно перед лицом одной на всех смертельной угрозы.
– Ты не нервничай, Михаил, – понял его состояние Шульгин. – Если начнется, мы, конечно, все бросим и к вам на подмогу немедленно явимся. Не сомневайся. А пока делай, что наметил. Связь через Лондон и Павла. Как сейчас. Иначе не выходит. Будь с ним в контакте.
– Если до Блюмфонтейна доедем – снова свяжусь.
– Если нет – тем более. На всякий случай имей в виду – у Белли на «Изумруде» есть несколько тяжелых ракет «Гранит». С подходящей дальностью. На крайний случай, конечно, но если цель будет того стоить – прикажешь. Он стрельнет. Заблаговременно на него настройся.
– Договоримся. Еще указания будут?
– Пока нет. Повторяю – пока это только наши предположения, но нужно быть готовым к любому варианту. Не впервой ведь.
– Так точно. Не впервой. Прорвемся.
– Значит, до встречи. Привет от всех.
– Взаимно.
Кирсанов прекратил трансляцию. Через несколько минут, пока он о чем-то разговаривал с Шульгиным, Михаил слушал треск и завывания в эфире. И размышлял. Верить опасениям старшего товарища очень не хотелось. Одно дело – принимать бой с потусторонним врагом в составе и при поддержке всего «Братства», с его технической мощью, совсем другое – встретиться с монстрами один на один.
– Ну и как тебе? – Теперь в наушниках слышался собственный голос Павла, с личными интонациями.
– Я бы сказал, как… Ты – поверил?
– Поверил, не поверил – какая разница? Нас не спросят. Что-то же их заставило довести до нас эту информацию. А кино про этих… я тоже видел. Приходили туда, могут и сюда. Какая разница?
– Да уж, утешил. Ну, я побежал, дел, как видишь, прибавилось. В случае чего – на тебя вся надежда. И по связи, и в дипломатии, если вправду придется с бриттами союз заключать.
– Не боись, управимся.
Тут они были на равных. В одинаковом дореволюционном чине и в нынешнем. По вопросам прерогатив и компетенций ни разу не пересекались, наоборот, помогали друг другу в меру сил и обстоятельств. Но главное – понимали один другого на общем эмоциональном уровне, не так, как каждый по отдельности Шульгина или Новикова.
Стоя на тормозной площадке вагона, Басманов всматривался в медленно ползущий мимо ночной пейзаж. Как теперь поступить? Наплевать на поиски виновников задержки телеграммы и целиком сосредоточиться на новой опасности? Или до последнего вести себя так, будто ничего не изменилось?
Наконец сделал выбор.
Крикнул внутрь вагона, чтобы подошли Ненадо и Оноли. Первым делом спросил у Валерьяна, каким это образом тот догадался, что «жареным запахло»?
– Тебе что, полковник Кирсанов раньше меня обстановку докладывает?
– Никак нет, Михаил Федорович. Чисто дедуктивным методом. Господин Кирсанов по пустякам вас тревожить не стал бы – первое. Тон его несколько нервозностью отдавал – второе. Спросил, как у нас дела, я ответил. А он мне: «Ну, это ерунда. Зови командира» – третье. Сапиенти – сат.[5]
Ничего удивительного. Во все времена подчиненные ухитрялись узнавать даже сверхсекретную информацию раньше начальства.
Он вкратце пересказал офицерам суть предупреждения Шульгина.
Игнат Борисович нахмурился. Ни малейшего желания снова встречаться с «медузами» и прочими существами, имеющими к ним отношение, он не испытывал. С людьми любых ориентаций и убеждений – сколько угодно.
Оноли знал, о чем идет речь, только со слов того же Ненадо, сразу после боя в Москве поделившегося впечатлениями с близкими друзьями, к которым Валерьян относился.
И первый вопрос, который возник у ветеранов, – чем отбиваться будем?
– О том и речь, братцы, о том и речь, – ответил Басманов. – Со слов Александра Ивановича я знаю, винтовочная пуля трехлинейки их берет. Не наверняка, но при хорошем попадании убить можно.
– А автоматная? – спросил Оноли.
– Должна, из тех же обстоятельств. Особенно если очередью и кучно. Бронебойно-зажигательная – тем более. Особенно в башку.
– Мало их у нас, – посетовал Ненадо. – Пара ящиков всего. Да и те на всякий случай прихватили.
– Патронов вообще мало, – уточнил поручик. – Не на ту войну ехали. От тысячи чудищ из-за брони отобьемся, а там – все, господа, – развел он руками. – Барселоны – не обещаю, по причине отсутствия наличия танков… Или наличия отсутствия.
– Поэтому задание меняется, – сообщил Басманов. – Шпионов мы пока ловить не будем. Один из вас возьмет паровоз, без вагонов, и полным ходом погонит в бригаду. Три часа в один конец, подъем по тревоге, погрузка со всем снаряжением в любые вагоны, какие найдутся, и к нам, сюда вот. – Он указал место на карте. – Или в Блюмфонтейн, если доберемся. Пушки на платформы, трубки на картечь. Кто поедет?
– Могу я, – после недолгого молчания сказал капитан. – По хозяйственной части я лучше, чем Валерьян, управлюсь.
Тут спорить было не с чем. Фельдфебельские привычки Ненадо, усвоенные еще в старой армии, были в этом случае куда полезнее, чем взрывной энтузиазм поручика, отважного, но не всегда умевшего управлять собой, не то чтобы сотнями равных чинами и боевым опытом офицеров.
Но и при себе Ненадо Басманову тоже хотелось оставить. По той же самой причине. Ну да ладно, полдня-день он и сам управится. Оставалась у него надежда, что до укрепленного города отряд как-нибудь доедет.
– Значит, так и решили. Ты, Игнат Борисович, за комбрига поработаешь, а мы с тобой, поручик, здесь. Вы куда трофейное английское оружие девали?
– Да там, в соседнем вагоне сложили.
– Отправь, Валерьян, толкового унтера, пусть наготове будет. Если что случится, чтобы снова раздать. У меня на пленных надежды больше, чем на буров. Все же культурная нация, обезьян с пулеметами не так испугаются. Да я и сам с ними поговорю. Вроде бы так, на общие темы, о жизни, о смерти, но в нужную сторону сориентирую. И вообще, кто-нибудь озаботился, чтобы их накормить, напоить, медпомощь оказать?
– Раненых перевязали, сам видел, – ответил Ненадо, – про остальное не интересовался. Тут в эшелоне свое, бурское начальство есть.
– Ладно, до разъезда потерпят. А потом, поручик, переведи пленных в наши вагоны…
– Будет сделано, Михаил Федорович. Я, если хотите знать, полностью с вами согласен в данном вопросе, – без должного почтения глядя на Басманова, ответил Оноли.
– Вот ты знаешь, Валерьян, я с тех пор, как в пятнадцатом году начали таких фендриков,[6] как ты, в нормальные части присылать, так и понял, что война проиграна. Уловил ход моей мысли?
– Так точно, ваше высокоблагородие. А кто же мешал вам, кадровым, без нашего участия войну проиграть? Дешевле бы обошлось.
Подобным образом Басманов позволял пикироваться с собой только кавалерам «Царьградского креста». Да и то с глазу на глаз. В служебной обстановке спрашивал пожестче, чем с других.
Вернулся Сугорин от Крюгера, и Михаил рассказал ему все, что сам услышал от Шульгина с Кирсановым и успел обдумать.
– Вы меня продолжаете удивлять, – со странной интонацией сказал полковник. – Теперь у вас «Война миров» Уэллса намечается. На Англо-бурскую сагитировали, я согласился. Но о другом мы не договаривались.
– А я на что договаривался? Сдается мне, Валерий Евгеньевич, все степени вашей свободы были исчерпаны в восемьсот девяностом году? Когда вас в кадетский корпус родители отдали?
– В девяносто первом. В Первый Киевский.
– Извините, на год ошибся. Но каштаны на бульварах также цвели. Вот на этом и все. Меня – в девятьсот шестом. Во Второй Петербургский имени Александра Третьего. С тех пор возможности выбора жизненного пути у нас с вами были достаточно ограничены. Не так?
– Не совсем ограничены… – Сугорин помолчал. – Но в общем вы правы. Вы можете сейчас вернуть меня на мою дачу в Одессе?
– Если вы этого действительно хотите – могу. Не прямо сейчас, но в ближайшие сутки сделаем. С положенным выходным пособием. До следующей мировой войны доживете безбедно. Море шумит, виноградные листья на веранду падают…
– Не будьте столь язвительным, – вскинул подбородок полковник. – Ваши манеры иногда… раздражают. И при этом…
– Да вот ведь в чем штука, получается, что и не хочу я возвращаться, – немного подумав, ответил Сугорин. – Интересно мне… Я не так давно в своей постели помереть собирался, раз на фронтах не пришлось, а после того, как вы меня своим магнитным браслетиком подлечили, – удивительная, слов нет, штучка, – так чего же и еще не повоевать?
Басманов как-то совсем забыл за повседневными служебными заботами, что после суточного курса лечения гомеостатом полковник превратился в абсолютно здорового человека, каких в девятнадцатом веке, считай, и не было. У кого скрытый туберкулез, у кого злокачественные глисты или просто общая анемия и дисбактериоз.
До полного омоложения дело не дошло, браслет он у полковника утром отобрал, но Сугорин теперь, не совсем это понимая (процесс подстройки психики к исправленной соматике занимает не один день), возвращался к уровню самоощущения тридцатипятилетнего примерно человека. И силы в нем бурлили, вроде как у всем известного Гиляровского, в шестьдесят лет вязавшего узлом железную кочергу. Или у министра царского двора графа Фредерикса, в восемьдесят сутками не слезавшего с седла на красносельских маневрах.
– Ну так и повоюем, – улыбнулся Михаил. – И жить – умирать и не жить – умирать. Да и вообще, как бы ни сложилось, много новых вариантов получается. Я вот подумал, вдруг правда мы с англичанами сможем о чем-то более интересном, чем текущая война, договориться?
Расставшись с Сугориным, полковник вернулся в отсек с радиостанцией. До окрестностей Дурбана, где мог сейчас находиться «Изумруд», связь доставала. И Белли откликнулся почти сразу.
Басманов, осведомившись, как там у него, пользуясь своим положением старшего по команде, попросил, чтобы крейсер вошел в гавань, сохраняя боеготовность номер один.
– А теперь еще вот что. Пятнадцать своих роботов перенастрой по той программе, что у нас для инструкторов по боевой подготовке применялась. Приставь к ним в качестве командира одного из крымских лейтенантов с боевым сухопутным опытом и немедленно отправь ко мне.
– К вам – куда?
– Поездом в Блюмфонтейн. Экстренным и на полной скорости. Помимо всяких расписаний. В Данбарксфонтейне должна грузиться в вагоны бригада под командованием Ненадо. Если твои успеют быстрее, пусть гонят, не задерживаясь. Из своих запасов вооружи их, как для войны в двадцать первом. Не году, а веке. «Пламя», «Васильки», «Мухи», «Шмели», «ПКМ» и боеприпасов по десять боекомплектов.
– Да что там у вас, Михаил Федорович? – не на шутку встревожился Белли. Команда звучала странно. С тем, о чем просил Басманов, можно было не только Кейптаун, всю Африку взять.
– Пока ничего, но поступила информация. Всякое может случиться. Шульгин мне сказал, чтобы я тебе предложил все свои ракетные комплексы в готовность привести…
– Ого! – только и нашел, что ответить, Владимир.
– А на кой хрен они у тебя вообще? Раз есть, когда-нибудь и стрелять придется!
– Понял вас, Михаил Федорович.
– И дальше понимай. Полчаса на подготовку боевого приказа – и вперед!
В самом конце разговора, чтобы не оставлять Белли в полном недоумении и расстройстве, Басманов добавил: «Кино в Замке смотрел? Про Барселону. Ну вот что-то в этом роде и у нас ожидается. Ты, пожалуй, когда десант отправишь, лучше в море выходи. Куда-нибудь на траверз мыса Игольного. И маневрируй потихоньку в ожидании развития событий. От встречи с кем бы то ни было уклоняйся».
До Блюмфонтейна охрана Крюгера и бойцы Басманова доехали в большом напряжении, но спокойно. Сейчас этот небольшой сонный городишко, превратившись в прифронтовой, был переполнен вооруженными людьми, причем отличить бойцов относительно регулярных бурских формирований от неорганизованных «фрилансеров» было невозможно. Разве что по состоянию форменной одежды и оружия.
Будь здесь Яков Александрович Слащев – с соответствующими полномочиями, конечно, как в двадцатом году в Крыму – за сутки навел бы надлежащий порядок. Всех, кого возможно, поставил в строй, подкрепив организационные мероприятия несколькими показательными расстрелами или повешениями.
У Басманова таких прав, увы, не имелось, поэтому он, взаимодействуя с бурскими генералами, старался хотя бы отделить «агнцев от козлищ». Ввел подобие комендантской службы, патрулирование улиц и близких окрестностей, всех анархически настроенных бойцов вытеснил за пределы мест дислокации сохраняющих управляемость «коммандо».
Кое-что начало получаться, хотя не обходилось без эксцессов. Незначительных, по меркам семнадцатого-двадцатого годов. Он надеялся, что с подходом его бригады и нескольких тысяч бойцов Жубера, получивших навыки современной войны во время совместных действий с иностранными волонтерами, ему удастся сформировать ударную группировку, способную осуществить, в соразмерных масштабах, конечно, некое подобие Брусиловского прорыва на территорию Капской колонии.
За этими круглосуточными заботами предупреждение Шульгина незаметно отошло на задний план. Не забылось совсем, но потеряло свою остроту. Частые переговоры с Кирсановым, получаемая от него стратегическая информация тоже обнадеживали. Судя по всему, моральный настрой британской группировки и местных жителей не позволит им организовать устойчивую оборону на ближних подступах к Кейптауну. Ни Севастополя, ни Порт-Артура у них не получится. Только Сингапур, капитулировавший при первом появлении японцев на северном берегу пролива Кота-Бару.
Как только на станции остановился паровоз и два вагона с десантом «морской пехоты» из Дурбана, Басманов окончательно почувствовал себя хозяином положения. Флотский лейтенант Карцев, немного знакомый по боям за Новороссийск, весьма довольный тем, что снова оказался на фронте, представил ему своих орлов и доложил, какими силами и средствами располагает.
– В настоящем деле я своих ребят еще не видел, – честно признался лейтенант, – но слухи доходили, как же. Думается, я с ними без боя могу пройти через горы, войти в Кейптаун и навести там такого шороха, что господин Робертс сам с белым флагом на крыльцо своего дворца выйдет.
– Не сейчас, Петр Лукич. Вы мне, честно сказать, пока для другого нужны. В качестве резерва Главного командования. Для поддержания внутреннего порядка в гарнизоне и для ведения дальней разведки по всем азимутам. А вводить ли их в регулярный бой или так обойдемся – потом видно будет.
– Как прикажете, Михаил Федорович. Мне и самому моментами кажется, что натравливать эти механизмы на живых людей – как-то неспортивно.
– Вы еще скажите – не по-божески. В шестнадцатом году, когда немцы по нам первый раз иприт применили, тоже показалось – конец света! А потом ничего, пообвыкли. Противогазы появились, и нам химические снаряды подвезли. Стреляли за милую душу…
Взвод разместили в двухэтажном каменном здании на краю привокзальной площади, перенесли туда свое и английское оружие и боеприпасы. Офицеры отряда Оноли испытали неприкрытый восторг, увидев прибывшее подкрепление. Те, кто тренировался под руководством роботов-инструкторов по пути из Стамбула в Севастополь, знали их удивительные способности. Не в меньшей степени они обрадовались тому, что начальство наконец разрешило использовать настоящее оружие.
– Если бы нам позволили из «Васильков» и «Пламени» на Моддере пострелять, уже бы в кейптаунских кабаках шампанское пили и в Лондон дружеский визит готовили!
– Не увлекайтесь, господа, не увлекайтесь, – осадил энтузиастов полковник. – Это все на крайний случай. Сколько раз вам говорилось – слишком грубое вмешательство в текущий порядок вещей чревато…
– Подождем, когда снова, как в Москве, нас начнут супертанками давить? – чересчур громко сплюнул с губы приставшие табачные крошки Оноли. Уж он-то лучше всех помнил, каково это – подпускать к себе грохочущее, бьющее из пушки и пулеметов чудовище на пистолетный выстрел, да еще, выполняя просьбу командира, целить так, чтобы танк обезвредить, а экипаж живьем взять.
– Это уж как придется, – отрезал Басманов. – Тебе за что кресты, чины и жалованье дают? Надоело – можешь опять в свой универ возвращаться. Восстановят на прежнем курсе, ручаюсь. Говорят, в России в адвокатах нехватка…
– Да что вы опять, ваше высокоблагородие?! Спросить нельзя…
Разница в возрасте у них была небольшая, но в чинах и положении – огромная. Кадровый капитан царской службы и вольноопределяющийся[7] военного времени – это вам не плотник супротив столяра, это вообще из других измерений.
– Все думалось – пронесет, пронесет, – говорил Басманов Сугорину, нервно сбивая стеком пыль с голенища. – Ан хрен!
Полчаса назад к северным заставам Блюмфонтейна на запаленных конях выскочили два трек-бура,[8] выглядевших полусумасшедшими. Один – без шляпы, что для бура почти невероятно. Как без штанов. Но винтовки не бросили, хотя нагрудные патронташи были пусты.
Они и сообщили, отдышавшись и выглотав по полфляги самогона, имевшегося у бойцов оцепления, о появлении в вельде невиданных чудовищ.
Офицерские патрули, заблаговременно предупрежденные о необходимости докладывать «на самый верх» именно о не укладывающихся в привычные рамки событиях, немедленно доставили вестников в штаб.
Бурские командиры наверняка бы не поверили их сбивчивым и путаным показаниям, в лучшем случае разборки и бессмысленные словопрения затянулись бы на многие часы. Басманову же хватило нескольких секунд.
Он за руку подтащил бура, выглядевшего посмекалистей, к столу с развернутой картой.
– Где? Покажи! Сколько их было?
К счастью, карту тот читать умел. Ткнул грязным пальцем.
– Тут. На правом берегу Моддера, недалеко от Босхофа. Несколько сотен. Мы гнали гурт в Фортеен-Стримс. Остановились на водопой, тут они и появились. Сначала мы подумали – с гор спустились обезьяны. Павианы ведь, известно, часто устраивают набеги на деревни кафров и зулусов. Только не павианы то были. Больше на горилл похоже. А откуда у нас здесь гориллы? Они там, за Лимпопо и Замбези…
Бежали эти обезьяны очень быстро. Бюргер и Ван Меер, они были на той стороне, начали стрелять. Мы собрались скакать им на помощь, да не успели. Обезьяны открыли ответный огонь, да такой, что я и на войне не слышал. Из пулеметов! Откуда у обезьян пулеметы? У меня глаз хороший, я увидел, что товарищей сразу убили. А нас они не видели, гурт заслонял и пыль.
Клотц кричит мне – сматываемся, я еще жить хочу. Ну мы и поскакали. Тут сбоку выскочило еще десяток или два. Мы стреляли на ходу. В нескольких попали. Так и покатились по земле…
– А по вам стреляли? – спросил Сугорин, наливая бурам по стаканчику настоящей водки.
– Еще как стреляли. Прямо воздух гудел над головами. Мне шляпу сбило.
– Везунчики, – сказал Басманов. – Вы садитесь, закуривайте. И что дальше было?
– Они гнались за нами мили две. Три раза мы останавливались в удобных местах, дать коням дух перевести, и стреляли, стреляли… Сдается, они все-таки испугались под конец. Слишком далеко от своих оторвались. Может, подумали, что мы их на засаду наводим. Отстали…
Бур дрожащими руками раскочегарил свою громадную трубку. В это время вмешался второй, по имени Клотц, надо понимать.
– Я еще что успел заметить. Когда мы уже поскакали, обезьяны начали жрать коров. Прямо кидались и рвали зубами. Как львы антилопу…
– Молодцы, ребята, – пожал им руки Басманов. – Наградить бы вас чем… Вот, возьмите, что ли, – он протянул на ладони пять или шесть русских золотых империалов,[9] весьма уважаемых во всех концах света.
– Премного благодарны, господин. Новое стадо – мы тысячу голов гнали – за эти деньги не купить, конечно, зато на патроны хватит.
– Патронов мы даром сколько хотите дадим. Кстати, как тебя зовут?
– Де Веттер.
– Из чего вы отстреливались?
– Да вот из них, из «винчестеров», – бур качнул вперед старую винтовку, на которую опирался.
«Ага, – прикинул Басманов, – калибр от 12,5 до 14 миллиметров».
– И как? Убивает?
– Если попадешь, – ухмыльнулся порядочно подвыпивший бур. И никакой нужды в специальной психологической реабилитации, которую новомодные радетели «прав человека» требуют для каждого солдата, хоть денек побывшего на фронте, хоть иракском, хоть чеченском, он явно не испытывал. – Бывало – с первого выстрела падали, иногда – два-три патрона потратишь. Но чтобы не подох, когда де Веттер стреляет, такого не случалось. Иначе как бы мы перед вами сейчас стояли?
Стояли они как раз не очень, но характер чувствовался. Одной рукой на стол опереться, другой на винтовку. И порядок.
– Угу, – кивнул Михаил. – Учтем. Пятнадцать миль, говорите? Ну ладно, идите, отдыхайте.
– Опять выходит, что наши друзья не ошибаются, – взял Сугорин папиросу из раскрытой коробки на столе. – И какое теперь будет решение?
Удивительно, но Басманов испытывал сейчас облегчение. Тягостные сомнения позади, остается действовать.
– Первым делом высылаем боевое охранение. Под командой поручика Оноли, с ним трех андроидов. (Слово «робот» он при Сугорине отчего-то старался не употреблять.) Еще троих беру себе. Остальные – при вас. Где нашу бригаду черт носит? Пешком быстрее бы добрались!
По расчетам полковника, эшелон Ненадо должен был уже прибыть. Хорошо, что их путь лежит значительно восточнее места появления монстров.
– По телеграфу передали – поезд проследовал через последнюю станцию без остановки…
– Значит, часа через два с небольшим будут. Не затруднитесь лично встретить. Пушки снять с платформ немедленно и выкатывать на передовые позиции. Гарнизон поднимаем по тревоге. Я сейчас к Деларею. Надеюсь, поверит. Со мной – Оноли с полувзводом. До встречи.
«Одно плохо, – думал Михаил, – самого поганого броневичка у нас нет. Сейчас бы «МТЛБ» – съездил бы лично с монстрами за ручку поздороваться».
Чем острее обстановка, тем строже должна быть дисциплина – эту истину полковник усвоил с дней тяжелейшего отступления пятнадцатого года.
Шестнадцать офицеров с поручиком Оноли на правом фланге вытянулись в струнку посередине пыльного казарменного дворика. Форма не та, конечно, не настоящая корниловская, но сапоги у всех – что надо, не корявая обувка местной работы. При взгляде на башмаки, что буров, что англичан, Михаила охватывало едва скрываемое отвращение.
– Доплакался, господин поручик, – врастяжку сказал Басманов, выслушав рапорт, но не подав команды «вольно». – Никогда не слышал: «Язык кого до Киева доведет, кого до Шлиссельбурга»? Сильных ощущений не хватало? Хорошего оружия? Теперь будет. Слушать боевой приказ. Взводу принять со склада два «АГС», восемь «ПКМ». Штатное вооружение тоже оставить при себе. Боеприпасов – сколько на два фургона поместится. На все – полчаса. Вольно, разойдись. Поручик Оноли – ко мне!
Коротко объяснил Валерьяну, что от него требуется.
– Марш-броском выдвинуться на этот вот рубеж, – он чиркнул карандашом по карте в планшете поручика. – На пять километров вперед от первых бурских застав. Эти высотки, мне кажется, для засады очень подходят. Дефиле между ними насквозь простреливается, с флангов местность труднопроходимая…
– Для ваших монстров? – удивился поручик. – Как мне известно, они только что по отвесным стенкам бегать не умеют.
– Про стенки не знаю, но километровые полосы акации типа «гледича вооруженная», она же по-здешнему «держидерево», любому живому существу способны доставить массу неприятностей. И чем оно тяжелее и чем быстрее бежит – тем хуже. Доходчиво? В остальном на месте разберешься. Я инициативу не ограничиваю. Чтоб тебе веселее было, звено твоих старых знакомых дам в поддержку…
Басманов вытащил из карманчика портупеи командирский свисток, поднес к губам. Рация рацией, а такое примитивное средство связи в известных случаях тоже незаменимо. Например, когда звучит в ультразвуковом диапазоне.
Почти мгновенно у него за спиной возникли трое крепких парней, одетых в камуфляжи буро-зеленой раскраски и светло-шоколадные береты с бело-сине-красными эмалевыми щитками над левой бровью. Что по поводу столь экзотической униформы подумают местные, полковника больше не волновало. Зато свои ни с кем другим не спутают.
Басманов специально попросил Белли придать роботам прежний, с островов памятный облик, и Оноли сразу узнал в лицо своих давних инструкторов. И они его узнали.
– Ну, Михаил Федорович…
– В тот раз они тебя муштровали, теперь ты ими покомандуешь…
Полковник произнес формулу, передающую роботов в полное распоряжение поручика и лиц, входящих в его отряд. По мере убывания чинов и должностей.
Над левым карманом одного из «инструкторов», запомнившегося Валерьяну тем, что именно он заставлял их кидаться между гусеницами летящей прямо на тебя и не собирающейся тормозить «САУ-100», на матерчатой ленточке было написано «Иванов». У двух других, естественно, «Петров» и «Сидоров».
– Опять шутите, господин полковник? – криво усмехнулся поручик.
– Если бы его звали «Паттон Фантон де Вирайон де Монтекукколи» (был в старой гвардии офицер и с такой фамилией, совершенно русский, нормально пьющий человек, Василий Петрович, кстати), вам стало бы легче? Берите, что дают! Тем более, у вас во взводе однофамильцев не имеется. Не перепутаете.
Хоть так Басманов слегка отвел душу, без излишней строгости вновь поставив на место слишком много о себе понимающего поручика.
…Что там сейчас творилось в тылу, Валерьяна не интересовало. Шестнадцать офицеров, он семнадцатый, посланы встретить врага, кем бы он ни был. Саперные лопатки мелькают быстрее, чем ложки в солдатских руках у прибывшей с двухдневным опозданием полевой кухни. Видимость с вершины левого кóпье километров на десять вперед, по флангам чуть меньше: горизонт отроги Капских гор ограничивают, а ближе те самые полосы (очевидно, вдоль русел пересыхающих речек) непроходимой колючей акации.
Оноли, любивший в нормальной обстановке порисоваться умом, внешностью и гвардейскими манерами, сейчас стал тем самым офицером, которому начальство лишних чинов давать не любит, но если что – только на него и полагается. И вел он себя гораздо жестче, чем Басманов в аналогичной ситуации. Тому-то что – он полковник. А тут нужно и штабс-, и настоящим капитанам приказывать, да так, чтобы и мысли посторонней не возникло. Каховку многие подзабыли, а уж в «Москве-2005» тем более едва один из трех побывал!
И быстро приходится думать и решать – куда там гроссмейстеру на блицтурнире. Того в любом случае не застрелят.
К двум «АГС – Пламя» назначить четырех человек. Поставят гранатометы на позицию между зубьями торчащих из земли камней: с двух направлений перекроют подходы к лощине и ее саму почти на всем протяжении. Придется – обеспечат фланговый маневр.
К пулеметам – еще восемь. Жаль, но придется им и за первых, и за вторых номеров работать.
Два снайпера с «СВД» – для них общими силами отрыли по несколько стрелковых ячеек, соединенных мелкими ходами сообщения.
Что остается? Он сам, при нем радист-порученец для связи со штабом и на любой другой случай. И толкового поручика с морским биноклем и взводной радиостанцией посадил на самом верху сопки, в хорошо укрытом от огня любого вида и почти недоступном для вражеской пехоты месте.
Его задача – ни на что не отвлекаясь, наблюдать за местностью и реальным рисунком боя. И докладывать, если командир в горячке что-то важное прозевает. Личная, между прочим, тактическая находка Валерьяна, мало кто из командиров куда более высоких звеньев до такого додумывался.
Двух роботов, вооруженных, кроме автоматов, помповыми дробовиками десятого калибра, заплечными мешками с гранатами типа «Ф-1», которые они могли прицельно (как классный городошник биту) бросать на сотню и более метров, Оноли послал на фланги, в засаду. На случай внезапного обходного маневра неприятеля.
Убедившись, что все нужное сделано или делается, поручик сел на землю, привалился спиной к теплому валуну, закурил.
По тому, как долго разминал папиросу, сообразил, что, несмотря ни на что, волнуется.
Да и как не волноваться?
С таким взводом, так вооруженным и на такой позиции, полк красных он бы спокойно встретил. Бывало куда хуже – в голой степи, с одними трехлинейками и по четыре обоймы на ствол. Однако выжили и победили.
Так там против них были «краснопузые и сиволапые», стрелять не умеющие и штыкового удара смертельно боящиеся, а сейчас на подходе монстры, непонятные, бесчисленные и чудовищные. Коров живьем жрут – это ж только вообразить!
Папироса курилась хорошо, дым ее был крепок и ароматен. И тут везет. Бывало, перед боем радовался даже махорочной, пополам с мусором из карманов, самокрутке.
Оноли приподнял длинные ресницы. Посмотрел на папиросу. На две затяжки точно хватит. А жизни – на сколько? У кого бы спросить?
В трех шагах, подобно мраморной фигуре из Летнего сада, застыл третий робот, ждущий приказа.
– Что ж, брат Иванов, – прочел Валерьян фамилию на куртке, – а тебе – в разведку. На полной скорости вперед, не забывая маскироваться. До соприкосновения с противником. Обнаружить, посчитать, вернуться, доложить. В скоротечный бой при необходимости вступать разрешаю. Но главная цель – доставить точные разведданные. Знаешь, с кем дело иметь придется?
– Так точно, господин поручик. Нам нужную информацию господин капитан второго ранга Белли на крейсере вложил. Справимся…
– Приятно слышать, – Оноли снял стетсоновскую шляпу, вытер лоб. Здесь солнце пригревало уже по-летнему. Январь начинается.
– Пленных брать не нужно, все равно они по-нашему ни бельмеса. Оружие принеси, если получится. Ну, с богом…
Оноли слышал, что митральезы в чужих руках не стреляют. Но ведь, как известно, на любую хитрость всегда есть кое-что с винтом. Вот и ему подумалось…
С прибытием бригады Басманов почувствовал себя гораздо увереннее. Теперь при любом развитии событий, за исключением варианта с нанесением противником ядерного удара, он рассчитывал твердо удерживать инициативу.
Немало изобретательности потребовалось ему, чтобы объяснить ситуацию собранным на совещание и инструктаж бурским командирам. Не скатываясь в мистику, но и не прибегая к терминологии, несовместимой с менталитетом плохо образованных и исповедующих ценности позапрошлого, то есть семнадцатого века, людей.
Пришлось наскоро сконструировать легенду в духе «Затерянного мира», благо центральные районы Африки до сих пор были исследованы немногим лучше, чем марсианские каналы. Живет, мол, где-то за рекой Замбези и пустыней Калахари, в местах, где не ступала нога европейца, странный народ, ведущий свое происхождение непосредственно от обезьян-горилл. Достиг какого-то уровня цивилизации, стало ему тесно в своих горах и джунглях, и двинулся он на поиски новых земель, рабов и продовольствия. Кто-то поверил, кто-то нет, но это не имело никакого значения.
Выжившие при встрече с монстрами буры никуда не делись, они бродили по городу и всем желающим пересказывали свою историю, с каждым часом разукрашивая ее все более живописными и леденящими кровь подробностями. На легенду Басманова работали и местные зулусы, кафры, бечуаны, готтентоты и бушмены. У каждого народа имелись свои сказки и мифы о всевозможной нечистой силе, колдунах, зомби и прочих врагах рода человеческого, которые без труда можно было интерпретировать в нужном направлении. Кроме того, многие туземцы имели более-менее достоверные сведения о реально существующих дагонах и об их недоступных обычному человеку землях, где происходят ужасные чудеса.
– Неужели вы действительно верите в эти басни? – спросил Басманова один из молодых, имеющих рациональное европейское образование бурских полководцев.
– С удовольствием бы не верил, – ответил полковник, – если бы мои друзья не видели эти существа своими глазами. И очень недавно.
– Где же эти друзья?
– По неотложным делам им перед самым началом войны пришлось уехать. Думаю, в скором времени в одном из научных изданий будут опубликованы материалы их исследований, с фотографиями.
– Сомнительно все это, очень сомнительно. Наш народ живет в этих краях больше двух веков, и ни о чем подобном никто никогда не слышал… Почему не предположить, что эти Клотц и Де Веттер – английские шпионы, посланные посеять панику и обратить наше внимание совсем в другую сторону?
Остальные участники совещания согласно закивали, поддерживая товарища одобрительными возгласами. Но не все. Пятидесятилетний начальник коммандо из Оранжевой, с бородой до пояса и тремя патронташами поверх выгоревшего до рыжины черного сюртука, пристукнул по полу каблуком грубого сапога.
– Де Веттера я знаю. И погибшего Бюргера тоже знал. Они не шпионы. Они двадцать лет занимаются своим ремеслом, никто не может сказать о них плохого слова. И если Де Веттер говорит, значит, что-то такое там было.
– Львы, – сказал кто-то. – Обычные львы напали на стадо, а трек-буры накануне выпили столько водки, что не смогли защитить ни себя, ни скот. А теперь придумали эти сказки.
Но позиция Басманова была выигрышной в любом случае. Мало того, что он знал правду, так еще и умел разговаривать с публикой такого уровня развития. Были у него в батарее, уже к концу Мировой войны, сорокалетние ратники второго разряда, из глухих сибирских сел. Староверы и «нивочтоневеры». Ничего, справлялся и с ними невзирая на свой сравнительно юный возраст и столичное воспитание.
Михаил не стал кому-то что-то доказывать, приводя рациональные доводы. Усмехаясь своей русской улыбочкой, которая могла означать что угодно (так можно усмехаться и посылая на расстрел, и самому становясь к стенке), он щелкнул зажигалкой, глубоко затянулся.
– Времени на диспуты, хоть научные, хоть религиозные, у меня нет. Война продолжается. Рассматриваемый вопрос дискуссионно не решается. Простейшее решение – любой из присутствующих вместе со мной поедет и посмотрит на месте. Монстры или не монстры, съеденное стадо мы в любом случае увидим. Ничего не найдем – проблема снимается автоматически. Со своими земляками поступите, как у вас принято. Найдем – другой разговор. В любом случае натурный эксперимент займет намного меньше времени, чем теологические и стратегические споры. Согласны? Кто поедет – вы, вы, или вы? – обращался он к самым недоверчивым (или – лично к нему враждебно настроенным. Таких хватало).
– Зачем именно нам? – спросил генерал Деларей, исполнявший должность начальника гарнизона Блюмфонтейна. – Пошлем обычный разъезд…
– Ничего не докажет при господствующем настроении. Вы и им с тем же успехом не поверите. Тем более, разъезд может не вернуться. Мы, ничего не узнав, потеряем еще несколько часов драгоценного времени.
– Я с вами согласен, полковник, – сказал, вставая, генерал Христиан Девет, мужчина лет сорока, с умным лицом и густыми, скобкой, усами, опускающимися ниже бритого подбородка.
Отважный человек, продолжавший вооруженную борьбу в хорошем агрессивном стиле даже после того, как президент Крюгер и многие военачальники в конце девятисотого года сочли войну проигранной. Совершивший с армией в две тысячи человек несколько успешных рейдов в глубь Капской колонии. И потом, уже после образования Южно-Африканского Союза, несколько раз устраивавший мятежи против правительства, требуя восстановления независимости бурских республик.
«Чистый Корнилов, – подумал Басманов, – такой же непреклонный и неожиданный в решениях».
– Хорошо, господин генерал. Я возьму с собой взвод, вы – сколько хотите. Что такое пятнадцатимильная прогулка? Ничего не найдем – так хоть поужинаем на свежем воздухе.
Взвод Михаила насчитывал десять офицеров, кадровых кавалеристов. «Ездящую пехоту» он с училищных времен не уважал. Всегда помнил слова из приказа шефа конной гвардии, великого князя Николая Николаевича: «Пехотному офицеру, едущему верхом, приближаясь к расположению кавалерийской части, следует сойти и вести коня в поводу, дабы своей посадкой не вызывать унизительного для чести мундира смеха нижних чинов».
Знал, что в случае встречи с монстрами нужны будут люди, не озабоченные прежде всего необходимостью не свалиться с седла, забывая о главном смысле своего существования.
На троих роботов он в этом смысле тоже полагался, они умеют все, что требует служба, и многое сверх того. С лейтенантом Карцевым и бригадой Ненадо андроидов оставалось девять. Хватит, чтобы при любом повороте событий удержать Блюмфонтейн, даже если буры побегут.
Девета сопровождали тридцать бойцов из его личного коммандо. Наверное, к рассказам очевидцев они отнеслись внимательно. Никто не имел при себе «маузеров», «ли-метфордов» и «энфильдов», только однозарядные нарезные ружья самых крупных калибров, вплоть до шестилинейных капсюльных, стреляющих крупными, как орех, свинцовыми безоболочечными пулями.
Перед отъездом, от которого капитан Ненадо его изо всех сил отговаривал, Басманов велел Игнату Борисовичу всех пленных англичан, взятых при нападении на поезд и сдавшихся раньше, собрать в одном помещении, неподконтрольном бурам.
– Приведи их в порядок, позанимайся боевой подготовкой. Я с ними в поезде уже парой слов перекинулся. Намек на взаимопонимание есть. Начнутся бои на внешнем периметре, немедленно вооружи и включи в свою систему обороны. Контактов с бурами не допускай. Мне нужно, чтобы большинство из них выжили и своими глазами нового врага увидели.
– Да все понятно, Михаил Федорович. Только вы уж там под пули не лезьте. Я за две войны двенадцать командиров пережил. Тоже храбрее всех казаться хотели.
– Вечная память. А неужели не было, что не из голого азарта на смерть шли, а по крайней необходимости?
– Редко, господин полковник. Вот когда в Москве мы воевали, там близнецы-полковники в самую заваруху кидались, такую, что и мне страшно делалось, но всегда по делу, ничего не скажу…
«Надо же, – подумал Басманов, – какая чертова круговерть творилась, а этот своим фельдфебельским глазом приметил, что два Ляхова там было, а не один».[10]
– Не бойся за меня, Игнат, я ведь не только старый кадровый офицер, я еще и рейнджер Царьградского призыва. Забыл, как мы с тобой после десятиверстного марш-броска штурмполосу проходили?
– Ничего я не забыл. Нам сюда сейчас тех «САУ-100» батальон – не о чем беспокоиться было бы.
– Ладно-ладно, Игнат, не усугубляй, – похлопал Басманов капитана по плечу. – Не каждая пуля в лоб, – сказал эту присказку адмирала Нахимова, и тут же поморщился. Нахимова как раз и убило именно в лоб. Нагадал…
Через позицию Оноли кавалькада Басманова и Девета проследовала спокойно. Михаил заранее сообщил поручику о своем рейде, и тот замаскировал взвод так, что даже глазастые буры ничего необычного не заметили. А если бы заметили, Валерьян получил бы хорошую взбучку.
Он спросил у штаб-ротмистра бывшего Сумского гусарского полка Барабашова, ехавшего с ним стремя в стремя, видит ли он что-нибудь.
– Как же, Михаил Федорович. Из одного котелка кашу хлебали. Так бы не заметил, а если смотреть с нашей точки зрения, как бы я на месте Валерьяна распорядился – все как на ладони. Подтверждение требуется?
Однажды уже практически умерший[11] ротмистр был именно по-гусарски весел и беспечен, и при этом умен.
Почти не меняя позы в седле, он назвал Басманову все опорные пункты, где могли находиться (и действительно находились) рейнджеры Оноли.
– Место, господин полковник, выбрано просто замечательно. Я бы тоже здесь держался против черта, против дьявола, пока патронов хватит. Только вот, знаете, насчет отхода, если придется, не до конца продумано. Вот здесь я бы поставил в три линии минное заграждение типа «лягушка». Помните, нам показывали? Против двадцатипудовых, причем безмозглых монстров – в самый раз.
Басманов, разумеется, помнил. Хорошие мины. Срабатывают как часы, выстреливая на двухметровую высоту килограммовый стакан из термита, наполненный сотней убойных элементов, разбрасываемых в радиусе двухсот метров разрывным зарядом. Да и сами термитные осколки способны и автомашину, и бронетранспортер зажечь, а уж что бывает при попадании в живой организм – говорить не хочется.
Только, к сожалению, в их арсенале таких мин не было. К оборонительной войне они не готовились. Ну что ж, всего не предусмотришь.
Немного приотстав от колонны, полковник свистком вызвал к себе Оноли.
– Выражаю, поручик, очередное благоволение. Нормально расположился. Что слышно?
– Пока ничего. Разведчик еще не вернулся.
– Давно ушел?
– Скоро час.
– И стрельбы не слышно было?
– Нет, Михаил Федорович. Да он, если что, больше руками и ножом поработает. Стрелять – в крайнем случае.
– Ну мы поехали. Если что – на тебя отходить будем. Я сейчас свою разведку тоже вышлю.
– Да зачем оно вам, господин полковник? Оставайтесь здесь, вместе ждать будем. Чего зря суетиться, подковы бить?
– Я не для себя. Мне нужно, чтобы буры прочувствовали…
– Тогда бог в помощь.
Два робота, шпорами горяча коней, унеслись вперед хорошим галопом, напомнив Басманову своей статью и манерой посадки кадровых кавалергардов четырнадцатого года, в развернутом строю атаковавших немцев под Каушеном.
Чуткими локаторами, настроенными на поиск и распознавание своих, разведчики через три километра засекли «Иванова», бежавшего в хорошем темпе распадком между поросших бурым кустарником холмиков полуверстой западнее. Выехали ему наперерез.
Следуя программе и исполняемой роли (в данном случае – волонтеров в небольших офицерских чинах), роботы общались между собой на русском языке, причем – в нужной стилистике. Единственное, что они позволяли себе в отсутствие поблизости настоящих людей, так это намного ускоренный темп речи.
– Что-то видел?
– Все, что приказано. Существа типа «монстр» в количестве до пятисот особей. Существ других разновидностей не обнаружил. Механических средств, воздушных и сухопутных, при них нет. Доступные диапазоны эфира чистые.
– Чем занимаются?
– Закончили привал, готовятся к началу движения. Свидетели доложили верно. Они сожрали половину стада. Вторую половину оставили в живых. Двенадцать существ собираются гнать скот на северо-запад. Очевидно, там у них тыловая база, где требуется продовольствие.
– Как далеко до передового отряда?
– Передового отряда нет. Идут сплошной ордой. Последнее измерение – девять километров четыреста пятьдесят два метра до головной особи.
– Скорость на марше?
– От десяти до пятнадцати километров в час.
– Возвращайся к командиру, доложи. А мы проедем вперед. Твои сведения не полные. Посмотрим, как они реагируют на наше оружие.
Оба держали поперек седельных лук тяжелые снайперские винтовки «Взломщик», под патрон 12,7 мм, придуманный еще в тридцатые годы для «вечного» и в XXI веке надежно работающего в любом конце света пулемета «ДШК».[12] Подольше служит, чем тот же «калашников», между прочим.
– Мне было разрешено вступать в бой только в крайних обстоятельствах.
– Тебя никто не упрекает. А мы своим делом займемся. Как макеты на полигоне, отстреляем всеми калибрами на всех дистанциях и под разными углами. И составим карточки-схемы. Это важно. У большинства буров стволы от 7 до 9 миллиметров. Ненадежно.
– Я пойду?
– Иди. По дороге встретишь командира Басманова, скажи, что ему лучше вернуться на позицию командира Оноли. Если мы не сумеем отогнать монстров, в открытом поле у людей меньше шансов, чем на высотах.
«Иванов» убежал, а конники, «Артем» и «Аскольд» (Белли с Карцевым, флотские офицеры, при именовании роботов не затрудняли себя оригинальными изысками. Начали называть их по алфавитному списку кораблей Российского флота), двинулись дальше.
Они действительно имели, кроме «Взломщиков», по «ли-метфорду» и «маузеру», основные винтовки англичан и буров, а также пистолеты «М-96», как написано в рекламе – «лучшее оружие для спортсменов и путешественников».
Хорошо тогда жилось «туристам». Вздумал постранствовать по миру – не нужно идти в агентство за путевкой и в ОВИР за паспортом, вместо этого – первым делом в оружейный магазин или к товарищу вроде лорда Джона Рокстона, который от щедрот снабдит тебя магазинкой с оптическим прицелом. И езжай хоть со станковым пулеметом через все границы, никто не удивится. Только в самых экзотических странах, вроде Андорры, могут ввозную пошлину попросить. Не заплатишь – и так пропустят, если докажешь необходимость.
Выслушав доклад «Иванова», Басманов подъехал к Девету.
– Через полчаса вы будете иметь возможность увидеть интересующие нас объекты. Мой разведчик советует для встречи отойти на пригодную для обороны позицию. Мы ее только что миновали. Разведчик и я сомневаемся, что ваши люди сохранят присутствие духа при встрече с врагом в чистом поле.
– Лично вы сомневаетесь? – В голосе генерала прозвучали агрессивные нотки.
– Минхер Христиан, я уже десятки раз говорил вам, Деларею, Кронье и самому президенту – мне ваши эмоции безразличны. Хотя бы вы в состоянии такое понять? Я не настоятель монастыря и не воспитатель евангелистской школы. Я помогаю людям, чье дело считаю справедливым. Но ни я, ни мои люди не собираемся заставлять вас делать то, чего вы делать не хотите. Если чудовища, несовместимые с вашей картиной мира, перебьют солдат, которых вы ведете, кое-кого сожрут, живыми или мертвыми, пожалуйста, не говорите, что в этом виноват я и мои офицеры, не сумевшие вас защитить и спасти. А прежде – убедить.
– Об этом не беспокойтесь. Мы благодарны всем, кто нам помогает, но свои проблемы позвольте нам самим и решать.
– Отлично, – в голосе Басманова прозвучало не совсем соответствующее моменту веселье. Что за беда? Товарищи по оружию очевидным образом полезли в бутылку. Как горцы какие-то, услышавшие поперек сказанное слово.
Теперь «будем посмотреть». С чистой совестью.
Он привстал на стременах. Голосом, легко перекрывавшим в былые времена беглый огонь батареи и звуки разрывов вражеских снарядов, скомандовал:
– В-взво-од, ко мне! Стать, спешиться. Коноводы – убрать лошадей. Остальным – залечь. К бою!
– Езжайте, господин генерал, – указал рукой вперед полковник. – Первое для вас прикрытие – мои разведчики. Второй рубеж – здесь. Третий – на кóпье, занятых поручиком Оноли. Дальше уже Блюмфонтейн. Если вернетесь – поделитесь впечатлениями…
Девет, очевидно, готов был согласиться с Басмановым, если бы его слова не были настолько издевательски-оскорбительны. Тут, конечно, и сам Михаил не проявил некоторой деликатности и терпимости. Буры, даже самые умные и воспитанные из них, находились на другом уровне развития и в другой психологической нише. А он, тридцатидвухлетний офицер, с совершенно иным воспитанием и жизненным опытом, считал, что мягкости в объяснении задачи и предельной жесткости в требовании ее исполнения достаточно для любого военнослужащего.
Применительно к русскому солдату и офицеру такая позиция была верной, даже – единственно верной. Но здесь – не срабатывало. Не было в самых архетипичных слоях самосознания буров таких автоматически всплывающих максим: «Сам погибай, а товарища выручай», «На миру и смерть красна», «Или грудь в крестах, или голова в кустах», «Не мы первые, не мы последние», «Помирать – так с музыкой» и так далее и тому подобное. «Жизнь – копейка, а судьба – индейка», хотя Козьма Прутков в свое время спросил: «Не совсем понимаю, почему многие называют судьбу индейкою, а не какою-либо другой, более на судьбу похожею птицей?»
– Езжайте, – повторил он, закуривая папиросу. – Один наш мудрец интересно сказал: «Смерть для того поставлена в конце жизни, чтобы удобнее к ней приготовиться». Кое-какое время у вас еще есть.
Девет взглянул на него с откровенным недоумением, хлестнул лошадь плеткой и вынесся вперед, прокричав своим нечто на староголландском. Басманов не разобрал.
– Передохнем, братцы, – сказал он, спрыгивая с седла. – Только не здесь. Вон тот холмик мне больше нравится.
– Видал я дураков, господин полковник, – сплюнул Барабашов. – Точно так генерал Самсонов перед Танненбергом послал меня куда подальше, когда я привез ему сведения, что германская кавдивизия заняла Зенсбург, где только мы и могли соединиться с Ренненкампфом…[13]
«Господи, какая древность, – подумал Басманов. – Вернее – наоборот! А я ведь тоже начинал войну неподалеку».
Сам он ощущал себя, как один из мелких князей, во главе дружины двигающийся к берегу Калки в 1223 году, знавший от половецких сакмагонов,[14] что навстречу идут два тумена Субэдэй-Багатура. Чем кончилась та история – в книжках написано.
Смелые были князья, отчаянные! Две-три сотни верных воинов при каждом. Все в кольчугах и бронях. Шлемы на брови надвинуты, длинный меч у бедра, копье упирается в стремя, червленый щит на левой руке, еще булава или клевец[15] к седлу приторочены. Лук с полусотней стрел в колчане за спиной. Сила!
Сила-то сила, но – против соседнего князька, или набега половецкой орды, хоть и в тысячу сабель. Вот и сейчас – в своем «войске» он уверен, а на самом деле – способно оно сдержать орду, или так и поляжет здесь, пусть и со славой?
– Ты возьми правее, вон на ту высотку, – сказал робот «Артем» «Аскольду». – А я – на эту.
До подхода врага оставалось двадцать минут. По их расчету.
Между холмами расстояние триста метров, правый выдвинут на семьдесят метров вперед по отношению к левому. Такого полигона специально не придумаешь. Сектора обстрела открываются изумительные.
Тем более эти носители флотских имен были абсолютно лишены того, что у людей называется «инстинкт самосохранения». Взамен – другое. Выполнить задание и вернуться, не допустив разрушения казенного организма. Ничего личного, только чувство долга и ответственности за вверенное имущество, каковым в данном случае считалось для относительно самостоятельного, взаимозаменяемого псевдомозга человекоподобное тело.
Пока вокруг не было людей (своих людей), они могли обходиться без звуковой речи, переговариваться в УКВ-диапазоне.
– Аскольд! Когда появится цель, начинаю я, с полутора километров из «Взломщика», – предложил «Артем». – Ты наблюдаешь за попаданиями и фиксируешь результат. Буду стрелять последовательно – в голову, в корпус, в нижние конечности. Когда расстояние сократится до восьмисот метров, работай ты. Из «маузера». Смотреть буду я. Не удержим до четырехсот – уходим. Согласен?
«Аскольд» возражений не имел. Лабораторная задача, о чем спорить.
И вот орда появилась на близком и плоском горизонте.
Андроиды историю Древнего мира не читали. Им не было, что и с чем сравнивать. Что битва на Каталаунских полях, что Куликовская, что Грюнвальд – безразлично. По вельду на них накатывалось многотысячное войско, состоящее неизвестно из кого. Роботов их принадлежность не волновала. Тех, кого нужно считать своими, они знали. Все прочие – враги, подлежащие уничтожению помимо любых логических обоснований, которыми они тоже не заморачивались.
Но вот то, что «монстров» не пятьсот, а пять тысяч, по крайней мере было понятно навскидку. Причем глубина строя не просматривалась в пыльной мгле и тумане телесных испарений. «Иванов» ошибся. Принял авангард за главные силы.
«Артем», не испытывая нужды в дальномере, точно определил, когда первый ряд бегущих трусцой чудовищ, бурых, под цвет вельда, пересек намеченную линию. Выжал спуск винтовки, не обратив внимания на отдачу, способную слабого человека опрокинуть на спину.
Он не убивал, он экспериментировал.
Исходные данные: – пуля 12,7 мм, вес, скорость – штатные, дистанция – 1500 метров.
Цель первая: точка прицеливания – череп. Попадание – между глаз. Результат – полное разрушение. Объект упал на спину и прекратил произвольные и непроизвольные движения практически мгновенно.
Цель вторая, по видовой принадлежности аналогичная. Точка прицеливания – середина груди. Попадание – в точку прицеливания. Результат – объект упал на спину, около двадцати секунд совершал беспорядочные движения верхними конечностями. Обильное истечение крови из раневого и ротового отверстий.
Цель третья, аналогичная. Точка прицеливания – верхняя треть правой нижней конечности. Точка попадания – двадцать сантиметров выше коленного сустава. Результат – полный отрыв конечности, обильное кровотечение из стволовых сосудов, конвульсии, смерть.
Реакция окружающих – нулевая.
– Результат получен, положительный, – передал «Артем» «Аскольду». – Открываю огонь на поражение, прекращая фиксацию результата. Ты – изготовься.
Пока монстры пробежали отмеренные семьсот метров, «Артем» расстрелял почти весь имевшийся боезапас. В последнем магазине осталось три патрона. На всякий случай.
Он уложил штук пятьдесят, из первых рядов. Если известно, что «Взломщик» пробивает метровую кирпичную стену, еще не меньше сотни чудищ получили смертельные или надолго выводящие из строя ранения прошедшими навылет пулями. Только определить отсюда это было невозможно.
Неумолимое, безразличное к потерям движение слитной массы ужасных на вид существ могло бы повергнуть в панику кого угодно, только не роботов. Будь соответствующий приказ, они готовы встретить врага и врукопашную, исход которой трудно предсказать.
Но пока у них еще были винтовки. «Аскольд» выстрелил. Пуля в лоб с восьми сотен метров монстра повалила, но без разрушения черепа. При попаданиях в туловище и ноги эффект оказался незначительным. Только отдельные «объекты» удавалось вывести из строя четырьмя-пятью пулями в область сердца. Выяснив это, «Аскольд» забросил «маузер» за спину и прижался щекой к прикладу «Взломщика». Эксперименты закончены, результат негативный. Оружие стандартных калибров для борьбы с противником этого типа малоподходящее.
Теперь нужно просто работать.
Разряжавший одну за одной обоймы «ли-метфорда» «Артем» обратил внимание, что кое-какой результат их огонь возымел. Понесший сокрушительные потери центр строя начал замедлять движение, а фланги, наоборот, выдвигаться вперед. Робот не мог судить, вызвано ли это изменение тактики чьей-то командой или диктовалось примитивным инстинктом. Число погибших особей, источающих некие «феромоны смерти», превысило определенный предел и заставило остальных уклоняться от опасного места.
– Хватит, – передал «Артем» «Аскольду». – Поехали…
– Стой! Приближаются люди. Союзники.
Буры для них действительно были обозначены как «союзники», люди, которым следовало помогать в случае явной опасности, но приказы роботам они отдавать не могли. Только – просьбы, подлежащие исполнению в меру возможности.
Сами же буры, естественно, о нечеловеческой сущности этих бойцов понятия не имели. Проницательностью, достаточной для того, чтобы догадаться о некоторой разнице между теми, кто имел над левым карманом нашивку с буквами неизвестного алфавита, и всеми остальными, никто из них не обладал.
– Назад! Немедленно назад! – закричал по-голландски, выпрыгивая из своего ложемента, «Аскольд», который был к отряду Девета ближе.
Давая ему время на объяснения, «Артем» довел темп огня по загибающемуся в его сторону флангу орды до предельно возможного, дожигая последние патроны.
Он передернул затвор, выбрасывая гильзу. Все! Счетчик в его позитронном (или каком-то еще) мозгу работал четко. Патронов больше нет. Ни в патронташах, ни случайно завалявшихся в карманах, как это бывает у людей.
Три в магазине «Взломщика», тридцать в обоймах для пистолета. Пока что с «маузером» он экспериментировать не собирался. И так знал, сопоставляя и экстраполируя полученную информацию, что в случае чего стрелять нужно будет с близкого расстояния, и только в глаза. А если совсем с близкого – так острым, как золингеновская опасная бритва, ножом по горлу вернее будет.
Девет и его коммандо давно уже слышали шквальный огонь с высот, но продолжали движение вперед. Повернуть назад значило бы потерять лицо в глазах Басманова и его добровольцев. Теперь навстречу им выскочил одетый в пятнистую, странного покроя форму человек, с двумя винтовками на одном плече, пистолетом в деревянной кобуре на другом.
– Разворачивайтесь! Скачите назад! Здесь – смерть!
– Что за ерунда? Какая смерть? – надменно спросил Девет, косясь на своих спутников, которые должны были видеть его храбрость и выдержку.
– Вот какая! – выкрикнул «Артем», преодолевший расстояние от холма до места, где «Аскольд» остановил генерала, со скоростью олимпийского чемпиона. Двести метров за двадцать четыре секунды. С полной выкладкой и по пересеченной местности.
Они с «Аскольдом» все понимали и делали правильно, но по свойственной своей породе инертности творческого мышления как-то не сообразили, что рано или поздно монстры приведут в действие свое огнестрельное оружие. Которое они волокли поперек животов на сложных ременных сбруях.
А вот вышли на дистанцию действительного огня и вжарили! Изо всех сотен пулеметов, по шесть стволов каждый.
Загремело, завыло, засвистело вокруг, что и описать трудно. Как если бы простому пехотинцу попасть под огонь нескольких «Шилок», направленных в него лично. И при этом укрыться так, чтобы не сразу убило.
Группу Девета пока что заслоняли холмы, с вершин и откосов которых фонтанами летела пыль и срубленные ветки кустарника.
– Назад! Поворачивайте. Минута вам осталась, не больше! – «Артем» выхватил из рук «Аскольда» «Взломщик», в нем патроны еще были.
– Нет! Я сам хочу видеть, – отмахнулся плеткой генерал.
Попробовал бы он такое с обычным офицером – лежал бы уже на дороге с разбитым лицом, а робот просто убрал голову с пути крученого ремешка.
– Господин – дурак? – спросил «Аскольд» у «Артема». Кое-чему они у хозяев-людей научились. – Пусть едет. Нужно будет, видеозапись мы предъявим.
Девет с его голландским характером никак не тянул на настоящего скандинавского берсерка, но черт его понес вперед. Было такое, конечно, в истории. Командарм Сорокин, например, с одной шашкой, в красном бешмете носился верхом по полю боя под шквальным ружейно-пулеметным огнем летом восемнадцатого года, так он, по словам свидетелей, вторую неделю питался только спиртом и кокаином.[16] Но крышу, наверное, срывает не только от этого.
Пятеро всадников успели опередить своего полководца на десяток метров и тут же покатились в пыль, изрубленные вместе с конями всего лишь восьмимиллиметровыми, но многочисленными пулями.
Монстры в очередной раз сменили тактику. На дорогу между холмами втянулся узкий поток, штуки по три в ряд. И еще два широких растеклись по равнине, с обеих сторон охватывая высотки. Отчетливо обозначилось неминуемое окружение с фатальными последствиями.
Девет тоже вылетел из седла, не раненый, просто конь был убит наповал.
– Назад, назад! – кричал «Аскольд», будто других слов не помнил. Подхватил с земли генерала и побежал. Сбившиеся в кучу всадники начали бестолково разворачиваться в разные стороны. Тут и им досталось! Визг раненых лошадей, крики падающих всадников, суматошные неприцельные выстрелы.
«Артем», отступая спиной, разрядил остаток боезапаса по выдвинувшимся дальше всех стрелкам, и побежал тоже. Делать здесь больше было нечего. О привязанных у подножья холма конях он словно забыл. На самом деле – решил, что они теперь просто ни к чему. Расходное имущество.
Догнал «Аскольда». Поперек его плеча головой вниз повис Девет, пытающий вырваться. С тем же успехом, что из захвата грейферного крана.
– Не спеши, – сказал «Артем». – Мы не должны показывать посторонним, что бегаем быстрее лошадей.
– Когда люди сильно напуганы, – резонно ответил «Аскольд», – они могут бегать даже быстрее автомобилей. Донесу его до позиции командира, там пусть делают что хотят.
Со стороны они наверняка выглядели интересно. Один с бурским генералом, болтающимся, как тряпично-опилочный манекен для тренировок в штыковом бою, другой с четырьмя тяжелыми винтовками и в сбитом на ухо берете. Стайерская скорость, ровное дыхание, ни капли пота на лбах и щеках.
Вскоре их в дикой скачке обогнали остатки отряда Девета.
Никто не попытался задержаться, чтобы отдать коня своему вождю.
При этом стрельба за спиной прекратилась. Монстры потеряли цель.
«Они открывают огонь только при выходе на дистанцию гарантированного поражения, – отметил в памяти для последующего доклада «Артем». – Четыреста метров. И прицельность их оружия очень плохая. Как у «ППШ» на таком же расстоянии. В одиночном бою дальше двухсот они почти не опасны».
Движение орды почти остановилось, без всякого бинокля робот видел, что она сбивается в кучу, беспорядочно вращающуюся вокруг какого-то центра. Скорее всего, утомленные маршем и боем монстры, возможно, остановились перекусить свежезабитой дичью. Лошадьми, людьми и своими однополчанами. Зачем пропадать тоннам парного, высококалорийного мяса? И на медицинской службе экономия.
Еще через километр роботы остановились перед заставой Басманова.
Девет медленно выпрямился, мотая головой. От притока крови она была тяжелая и одновременно кружилась. «Аскольд» поддержал его под локоть.
– Что-нибудь интересное увидели, Христиан? – ровным голосом спросил полковник. – Ваших людей я задерживать не стал. Где-нибудь остановятся. Если проснется совесть и лошадей не запалят насмерть – сами вернутся. Возьмите, – он протянул полководцу фляжку с водкой и уже прикуренную папиросу.
– Я хочу принести вам мои извинения, – хрипло ответил генерал. – И выразить преклонение перед вашими бойцами. Он протянул руку «Аскольду». – Мои братья меня бросили, а вы несли на себе, рискуя жизнью. Теперь вы станете моими братьями…
Повинуясь кивку головы Басманова, робот вытянулся в струнку, пожал руку генерала.
– Да мы что? Одно дело делаем. Своих бросать не приучены, ваше превосходительство. Просто зря вы нас не послушались. Все бы сейчас живы были.
– Да-да, вы совершенно правы… Э-э?
– Подпоручик Аскольд меня зовут.
– Подпоручик Артем, – представился второй.
Девет не видел разницы между русскими именами и фамилиями.
– Я не забуду. И что мы будем делать теперь? – обратился он к Басманову.
– Вы – что хотите. Езжайте в Блюмфонтейн и попробуйте рассказать всем остальным, что видели. А я оттянусь к подготовленному рубежу и буду сдерживать нашествие, насколько хватит сил.
– Вы не хотите дать мне никакого поручения? – с удивлением и обидой спросил Девет. Русский полковник продолжал его оскорблять, возможно – неумышленно, но легче от этого не становилось.
А он что, ждал, что Басманов начнет его утешать?
– Вы – офицер? – спросил его Михаил, морщась от попавшего в глаз папиросного дыма. Ни от чего другого.
– В вашем понимании – конечно, нет, – честно ответил Христиан. – Сегодня – генерал, но вы ведь не это имели в виду?
– Какой вы догадливый. Я только хотел сказать – чтобы иметь право называться генералом, нужно сначала ощутить себя офицером. По дороге в город у вас будет время об этом подумать. Если что – по любым вопросам обращайтесь к полковнику Сугорину, а лучше – к капитану Ненадо.
Девет ускакал на любезно предоставленной ему лошади. Что он будет думать по дороге, Басманову представить было трудно. Совсем другой культуры и психологии человек.
Подкрепление Оноли принял с удовольствием. Еще одиннадцать надежных товарищей плюс три робота, в дополнение к трем уже имеющимся, наполнили его оптимизмом. Тем более – в присутствии Басманова ответственность с него снималась.
– Принимайте командование, господин полковник, – широким жестом он обвел позицию. – А я своим делом займусь.
– Займешься, кто бы спорил. Только сначала выслушай мнение очевидцев, с его учетом прикинь, может, огневые немного переставить стоит? И давай мне радио с Ненадо.
Капитан ответил сразу, будто ждал у рации. А наверное, так и было. Отзвуки дальней стрельбы он наверняка услышал. Уж хлесткие хлопки «Взломщиков» – точно. При здешней-то тишине.
– Игнат Борисович, у нас тут уже весело, скоро будет еще веселее. Сколько скорострелок можешь взять на передки в ближайшие полчаса?
– Настоящих здесь всего восемь, причем четыре не наши, бурские. Как еще договоримся. Остальное древняя хреновина или новые крупповские шестидюймовки.
– Там скоро генерал Девет подбежать должен, прикажи патрулям его перехватить, он сейчас в слегка расстроенных чувствах. Попроси, чтобы батарею в твое распоряжение передал. Надеюсь – не откажет. А пока хоть наши – рысью ко мне. И все шрапнели, что есть, на двуколки и следом.
Голос Басманова капитана встревожил:
– Так, Михаил Федорович, я сейчас всю бригаду подниму, мигом у вас будем.
– Не торопись, Игнат, не торопись. Я пока – боевое охранение, не более того. Сделай, что сказал, и оставайся на месте. Готовься к сражению главных сил. А то и обойдется.
– Насчет медуз как там? Не возникали?
– Бог миловал, другой сволочи хватает.
Оноли был возбужден и весел, расставляя бойцов на новые, подсказанные «Артемом» и «Аскольдом» позиции. Басманов помнил его такого, еще прапорщика, перед сумасшедшим, ни в какие учебники, к сожалению, не вошедшим, штурмом бесконечного моста через Днепр в Екатеринославе. Одна надежда – Сугорин в своем мемуаре отразит.
Сам же полковник был мрачен. Как накатившиеся с востока и повисшие над головой, брюхатые страшным ливнем сине-черные тучи. Им бы и порадоваться можно, если б враг на колесах наступал. Завяз бы в желтой глине к чертовой матери. Но выходит пока наоборот.
Этим суперобезьянам грязь под ногами – до фонаря. А стрелкáм дождь в глаза хлестать будет, мушки не увидишь. Не говоря о цели.
Да и не о том речь, если честно. Отбиться Басманов надеялся. Тридцать очень хорошо вооруженных солдат-рейнджеров, с достаточным запасом боеприпаса и пять тысяч бессмысленных монстров в кровавые ошметки порубить могут. А что после этого?
Честный, отважный, недалекий солдат Ненадо спросил про «медуз». Чи есть, чи пока нет? Без всякой моральной подготовки встретился он в Москве с порождением «потустороннего мира». Но ведь не убоялся! Ему, полковнику с куда большим опытом и пониманием сути вещей, тем более приличествует выдержка.
Басманов закурил новую папиросу. Бог знает, какую по счету. Но он ведь главный здесь строевой командир, ему обо всем думать надо, и о тактике, и о стратегии с геополитикой, раз старшие братья дали возможность проявить себя.
Ох, как он, молодой подпоручик, клял и Самсонова, и Ренненкампфа, двух командармов, бездарно и трагически проигрывавших приграничное сражение в Восточной Пруссии, при ином развитии событий сулившее блистательную победу. Все было понятно и ему, и сотням других офицеров вплоть до командиров полков. И чем кончилось?
Ладно, мы себя проявим. Если вся та орда, которую он разглядел в бинокль, до смерти напугавшая «отважных буров», сдержанная точным огнем всего двух снайперов, подойдет к незримо начерченному рубежу, то что?
Она безусловно будет уничтожена в ноль. Тут и Оноли спрашивать не стоит.
Одна беда – закономерно встанет вопрос – дальше что?
Послали дуггуры пять тысяч безмозглой пехоты на захват территорий, которые они могли без боя занять и тысячу, и десять тысяч лет назад. Зачем? Сегодня – зачем?
Опять через Берестина выйти на радиосвязь с Шульгиным и спросить? Или прямо с Алексеем сомнениями поделиться?
И что услышать? В такой ситуации ответов только два – воюй или беги.
Сбежать, если шальная пуля не достанет, он всегда успеет. Значит, все-таки высший смысл и нынешней ситуации, и жизни вообще – воевать. Ты сам выбрал для себя эту стезю в двенадцать лет, шел по ней и служил ей следующие двадцать, так чего же теперь ударяться в философии? Нужно будет – ему прикажут, что сочтут нужным. Без всяких дипломатических реверансов. После того, как Шульгин и Берестин лично приняли участие в смертельной битве за Каховский плацдарм, как Басманов с Алексеем Берендеевку защищали, обвинить руководство хоть в чем Михаил не мог.
– Господин полковник, не желаете ли? – Валерьян подал ему бинокль. А сам при этом похлестывал себя по голенищу ивовым прутиком. Как молодежь любит копировать привычки старших. Даже самые бессмысленные.
– Зачем? Я уже все видел. – Басманову и вправду неинтересно было смотреть на орду, закончившую свои дела и снова начавшую движение. Это даже не муравьи, как он раньше думал. Это – саранча. Тут нужны огнеметы. Желательно – танковые. Хотя бы на базе «Т-26». Но их нет. Воюй тем, что есть.
– Ты выслушал разведчиков?
– Так точно, господин полковник.
– Вот так и будем работать. Не боишься?
– Михаил Федорович, при всем к вам уважении…
– Не заводись, поручик. Жизнь такая длинная… Не был ты в Новороссийске.
– Агээсы, огонь! – вдруг закричал Оноли, совсем невежливо отодвинув Басманова, заслонявшего обзор. Без всякого бинокля Валерьян увидел, что грязно-бурая орда, надвигающаяся из-за невысоких увалов, пересекла намеченный им для завязки боя рубеж.
Басманову вспомнилась многометровая картина в Третьяковке про Куликовскую битву. И кое-какие книжки на ту же тему. Только у князя Дмитрия, позже Донским названного, автоматических гранатометов не было. Чуток не сложилось по времени.
Валерьян, правильно поняв сведения, полученные от роботов, первую серию гранат «АГС» положил в глубь строя, торопясь нанести монстрам катастрофические потери до того, как они выйдут на дистанцию огня своих митральез.
Кто этого не видел в натуре и по службе, видеть и не стоит. Если не солдат по духу, станешь пацифистом. Только одна беда – пацифист страшнее честного солдата. Часто – подлее. То есть, не желая сражаться сам, обычно ничего действенного не предпринимает, если за него посылают на смерть других.
Падающие в шахматном порядке со смещением по фронту и в глубину гранаты наносили монстрам страшный урон. Один разрыв кромсал в клочья как минимум четверых, осколки доставали и больше. «Пламя» все-таки предназначалось для стрельбы по достаточно рассеянному строю современной пехоты, лишь изредка, в случае особой удачи, накрывая групповые цели. Здесь же получилась гигантская мясорубка.
Расчеты выпустили по два полных барабана и по команде прекратили огонь. Гранаты следовало беречь, не так много их оставалось, а когда еще новые подвезут?
Предположение оказалось верным – когда количество трупов на определенной площади достигает некоей критической массы, монстры начинают перемещаться в стороны и назад. Но поскольку до находящихся за пределами действия «феромона» особей информация доходит с запозданием, а командовать нормально некому, неминуемо возникает сумятица и давка.
Пришла очередь пулеметов. Десять «ПКМ» ударили по левому и правому флангам, в самую гущу тел, бессмысленно кружащихся, сбивающих друг друга с ног и топчущих упавших.
И, главное, Басманов так и не понимал – почему они до сих пор не стреляют? Такая масса пуль, даже совсем неприцельных, прижала бы его бойцов к земле. Может быть, дальше полуверсты зрительные (или какие-то еще, обонятельные, например) анализаторы монстров просто не в состоянии опознать и захватить цель?
Да, не на того врага рассчитана их безмозглая мощь.
А на какого?
Вспоминая Мировую войну, Басманов и Оноли, не сговариваясь, представили одну и ту же картину. Как бы эти монстры выглядели, атакуя настоящую позицию, с траншеями полного профиля, прикрытую заграждением из колючей проволоки в шесть колов и занятую полнокровной дивизией?
– Валерьян, – крикнул полковник, перебегая к его окопчику. – Контратаку сейчас устроим. Я сам займусь. А ты держи правый фланг. До подхода подкрепления. Недолго осталось. «Пламя» тебе оставляю, стреляй до последней гранаты.
– А вы с кем и с чем?
– Роботов возьму, и пулеметы. Сейчас позабавимся!
– Стоит ли? Пока и так держимся.
– Когда они выйдут на дистанцию и из пары тысяч стволов в упор ударят – не удержимся. Головы не поднимешь. Я пошел!
Замысел у Басманова был рискованный, но с хорошими шансами.
«Иванов», «Петров», «Сидоров», «Артем», «Аскольд» и «Алмаз», забрав больше половины имеющихся у отряда пулеметов и по четыре коробки с лентами каждый, предводительствуемые Михаилом, длинными прыжками понеслись вниз по западному склону высоты.
Андроиды, конечно, умели бегать и втрое, и вчетверо быстрее человека, но применялись к возможностям командира. Они взяли его «в коробочку», держась так, чтобы и успеть прикрыть от пули снайпера, если такой появится, и поддержать, если вдруг споткнется. Тут с ними никакая, даже самая верная собака не могла сравниться.
Но Басманов и сам пока был в форме. Возраст, спецподготовка, постоянные занятия боевыми искусствами позволяли ему не чувствовать себя нуждающимся в помощи и защите.
– Стоп, залечь, рассредоточиться, – скомандовал он в нужный момент, падая в удобную ложбинку между камнями. – Оружие к бою!
Прислушался к себе. Полный порядок. Даже дыхание почти не сбилось, связки на ноге целы, хотя отчаянный бег вниз по сильно пересеченному склону – забава рискованная, и один раз он едва не провалился в кротовую нору. Плохо бы пришлось, и гомеостата с собой нет, в сейфе оставил на всякий случай.
Михаил стянул через голову «СВД», рядом положил широкий патронташ с десятью магазинами.
«Шульгинские ртутные винтовки сейчас бы здорово пригодились, – подумалось мельком. – Да и так справимся».
Весь его расчет строился на том, что дистанция открытия огня у монстров фиксированная. Надо в этом окончательно убедиться. Сейчас от фланга орды их отделяло около пятисот метров. Теперь Басманов мог посчитать глубину строя – до двадцати особей. Непонятно, зачем так много. Если бы они сократили ее до пяти, сумели бы вчетверо удлинить фронт наступления. А разбившись хотя бы на три группы со стометровыми интервалами – еще больше. И тактическая гибкость орды значительно бы возросла.
«А разбейся они на свободно маневрирующие стаи в сотню голов каждая? – задал себе вопрос полковник. – Тут бы нам и конец».
Но, очевидно, в существующем построении был какой-то смысл. Может быть, данный «легион» предназначался для боя с подобным же войском? Аналогичной численности и придерживающимся сходной тактики. Пережиток эпохи холодного оружия или что-то другое? Скорее всего, при более редком строе у них просто теряется управляемость…
Он проинструктировал «Иванова» и послал его вперед. Короткими перебежками вплоть до момента, когда монстры начнут в него стрелять.
Робот нарвался на залп из полусотни стволов точно на четырехсотметровой отметке, словно его отслеживали лазерным дальномером. Он мгновенно залег, ответил длинной пулеметной очередью и откатился назад. С десяток монстров упали, остальные сразу потеряли к точечной цели интерес и продолжили марш в прежнем направлении.
«Иванов» повторял маневр снова и снова, перемещаясь по синусоиде вдоль пограничной линии, стреляя и снова отходя. И все же добился своего. Какая-то часть орды восприняла робота угрозой и целью, начала разворачиваться в его сторону, пытаясь сократить расстояние до требуемого их правилами. Это походило на то, как амеба выбрасывает ложноножку в сторону раздражителя.
По команде Басманова остальные андроиды редкой цепью вышли на один с «Ивановым» рубеж, повторяя его действия.
И вот уже не меньше половины орды, изрядно, между прочим, поредевшей, потому что взвод Оноли продолжал, не жалея патронов, «на расплав стволов» бой с правым флангом, медленно, бестолково разворачиваясь на девяносто градусов, покатилось в «оперативную пустоту».
Через километр те, кто уцелеет, упрутся в непроходимые заросли «держидерева». Если не найдется командира, чтобы отдать новый приказ, или не сработает очередной инстинкт, долго им придется ломиться сквозь стену прочных, как железо, колючих стволов.
А если их еще и поджечь?
Но это уже не актуально. Полковник увидел на дороге, ведущей от Блюмфонтейна, полосу пыли, поднимающейся к низким тучам. Дождь так до сих пор и не пролился. И хорошо. Пусть он пойдет часом позже.
– Ребята, за мной. Отходим, – приказал он негромко, но роботы услышали, несмотря на грохот своих пулеметов. Направляющуюся в их сторону часть армии монстров они едва ли уполовинили, расстреляв каждый по две коробки, на сто патронов каждая.
Посланный Ненадо эскадрон и четырехорудийная батарея французских семидесятипятимиллиметровок (в просторечии – «коса смерти») полным аллюром вылетели к дефиле. Всадники спрыгивали с седел, тут же бросались на помощь артиллеристам. Отцепляли пушки от передков, с прибаутками и матерной руганью выкатывали на огневые, развернув стволами вперед.
Тут же и Оноли появился, как черт из табакерки, вполне освоивший умение быть одновременно везде, где требуется его присутствие.
Ухватил штабс-капитана, командира батареи за рукав, начал было объяснять ему, с кем придется иметь дело.
– Да в курсе! Ненадо изложил более чем подробно. И буров мы по дороге встретили. Не знаю, запасных штанов в гарнизоне на всех хватит или нет. Цель где?
– Поднимись повыше – увидишь!
Комбатр взбежал до половины кóпье, вскинул к глазам бинокль. И тут же принялся командовать, отнюдь не испытав посторонних эмоций.
– Ба-атарея! По пехоте противника! Угломер двадцать! Целик ноль! Шрапнелью. Трубка десять. Поорудийно – четыре снаряда беглых! Пли!
Пушки, едва успев упереть лафеты в землю, загрохотали наперебой. Перед низко опущенными стволами взвились в воздух поднятые дульными факелами столбы смешанной с мелкой щебенкой пыли.
– Есть, есть, – штабс-капитан видел в цейсовские стекла, как одна за одной лопаются над ордой шрапнели. На минимальном возвышении, разбрасывая сотни свинцовых пуль.
В историю артиллерии навеки записан случай, когда одной-единственной шрапнельной очередью русской трехдюймовой батареи был полностью уничтожен австрийский кавалерийский полк, колонной по четыре выдвигавшийся к передовой. Волею случая он целиком оказался внутри эллипса накрытия. Такая же великая флюктуация вероятности, как единственный в истории случай попадания в немецкий пикировщик «Ю-87» из советского 82-миллиметрового миномета.
Но и сейчас первая, по сути – пристрелочная серия легла очень хорошо. Басманов, приостановившийся, услышав родные с молодости звуки, тоже вскинул к глазам бинокль, увидел и оценил мастерство коллеги.
– Еще, на тех же установках! – машинально выкрикнул он, хотя комбатр и без подсказки делал все, что требовали профессия и обстановка.
Пушкари работали азартно и споро. Батарея успела выпустить тридцать снарядов, убивших никак не меньше тысячи гоминоидов. И опять случилось странное. Орда остановилась, будто в раздумье, дождалась еще четырех дымно-оранжевых вспышек над головами. Только тогда каждый еще живой монстр развернулся, будто по команде «кругом», и все дружно, со скоростью, превышающей походную, ринулись назад.
Участвуй в немыслимом побоище профессиональный энтомолог, тот бы сообразил, что сработал очередной инстинкт. Процент безвозвратных потерь превысил допустимый для выживания именно этого сообщества. Или, если проще – интенсивность связанных со смертью запахов и некробиотического излучения подавила все прочие, управляющие агрессией команды и эмоции.
Но имеющие совсем другое образование офицеры решили, что вмешался некто из вышестоящего, имеющего зачатки разума начальства.
Пулеметы и винтовки уже не доставали до растворяющегося в дождевой мгле у горизонта, сливающегося с цветом вельда стада разгромленных, но не деморализованных монстров. Только пушки продолжали выбрасывать очереди шрапнелей, все выше задирая стволы. Еще немного, и до передков заряжающие доберутся.[17]
– Ну все, точка, господа офицеры! – скомандовал Басманов. – На батарее – отбой. Гильзы собрать, стволы пробанить, к маршу изготовиться. Командиры отделений, доложить о потерях и расходе боеприпасов!
Нашел глазами подходящий камень. Присел.
Отдернул обшлаг кителя, посмотрел на разбитое поперек и покрытое звездчатыми трещинами стекло часов. С момента всей этой заварухи прошло ровно двадцать шесть минут. От и до. А казалось – несколько часов. Да нет, все правильно. Всегда так случалось. Без всякой хронофизики. То час – сутки, то минута – час. А если выживешь, потом, на досуге, прикидывай, что и как.
– Валерьян. А вот теперь – водки. Всем. По две чарки. Не больше. Остальное – дома.
Потери оказались на удивление небольшими. Не считая убитых буров, погиб один русский офицер и четверо были ранены.
– Да и это странно, – сказал Оноли. – Мы ведь ни разу не подпустили их на дистанцию прямого выстрела.
– Всяко бывает. Какой-то монстр, падая, пальнул с возвышением, вот и долетело. Баллистику объяснять надо?
– Чего тут объяснять. Но какая нелепость, а?! – От расстройства поручик выругался совсем неостроумно. – Мы же с Борькой Лагутиным с Екатеринослава, с девятнадцатого года всегда выкручивались! А тут шальная – и нету!
– Сочувствую. На войне все нелепость. Считая ее саму. Пошли людей, пусть выберут пару чудищ поцелее, привяжут к лафету. Отдадим медикам.
– А что с остальными?
– Природа распорядится. После заката сюда соберутся львы, шакалы и гиены с половины Африки. Утром будет чисто. Поехали. Дождь начинается.
Покрытые пылью и пороховой копотью бойцы выглядели, тем не менее, браво. И не такое видеть приходилось. Конные подтягивали подпруги, прочие делили места на двуколках и лафетах пушек. На полившуюся с неба воду никто не обращал внимания.
Ротмистр Барабашов подошел сзади, тронул Басманова за плечо.
– Что такое?
– Да неправильно выходит, командир. Враг отступает, бежит, можно сказать. А мы что?
– Раньше меня учили, что в подобных случаях следует переходить в преследование. Интересно же, откуда они взялись, куда сейчас бегут, куда коров погнали. Нет?
А ведь прав чертяка, прав. Рискованно, нет слов, так ведь и результат может быть…
– Как себе это представляешь?
– И представлять нечего. Я, еще двое моих корнетов и парочка этих, человекообразных, – сделал ротмистр пальцами замысловатый жест, имея в виду андроидов. – Мы нарываться не будем. Последим издалека, где у них лагерь, что да как. К утру, глядишь, вернемся. Или к завтрашнему вечеру, по обстановке. Кто-нибудь уж наверняка…
Полковник подумал совсем недолго. В пределах двух папиросных затяжек.
– Да и поезжай. Чего уж. Не зря ведь стреляли. Посмотри, только правда не нарывайся. «Аскольда» с «Артемом» вперед пошли, хоть на полверсты…
– Ох и люблю я это дело! – Барабашов подвынул из ножен шашку, которую хранил при себе все минувшие восемь лет, только редко надевал, разве что к старой парадной форме, как по Уставу положено. А сегодня взял в рейд, как талисман, наверное. – Бывали дни веселые, гулял я, молодец, – довольно мелодично воспроизвел он фразу народной песни.
Воронцова вестовой разбудил в начале шестого утра.
– К радиостанции вас.
Так для простоты роботы называли любое средство связи, хотя к радио нынешняя схема имела самое отдаленное отношение. Левашов через специальный «переходник» дистанционно подключил блок-универсал Ирины к приемнику «Валгаллы», и сигнал от такого же блока Сильвии преобразовывался в нормальные звуковые частоты, транслируемые через динамик. Получилось нечто вроде сотовой телефонной связи будущего. Но – межвременной.
Эта хитрая уловка была устроена не для дуггуров, им технический уровень не позволял перехватывать каналы СПВ, а исключительно для Арчибальда, или Замка в целом. Антон гарантировал, что они не умели фиксировать излучения аггрианских приборов – ни «портсигаров», ни «шаров». Наложенную на мозг человека матрицу засекали и заранее записанные характеристики психоизлучения конкретных личностей – тоже. А вот используемые агграми методики амплитудного и частотного модулирования определенных слоев мирового эфира были недоступны. И наоборот, естественно. В противном случае противостояние между цивилизациями закончилось бы, едва начавшись.
Скорее всего, это было очередным ограничением, введенным в Игру Держателями. Для придания ей должной спортивности.
«У аппарата» с той стороны оказался Берестин. Слышимость была очень хорошая.
Алексей сообщил, что предположение Шульгина оказалось совершенно верным, и дуггуры действительно предприняли массированное вторжение в почти точно угаданном районе.
– Но наш Миша оказался начеку и на высоте положения. Практически без потерь в прах разгромил агрессора. Ружейно-пулеметным и артиллерийским огнем уничтожил тысячи три монстров, а то и больше. Бежать смогли около тысячи, и все они рассредоточились по пещерам, именно там, где с ними имели дело ребята… Барабашов с конным разъездом их до места довел и благополучно вернулся.
– Крестов не хватит за такую победу награждать, – пошутил Дмитрий.
За двадцать минут, как и положено офицеру, Берестин доложил такому же офицеру, как он сам, полную картину сражения, называя квадраты по одинаковым, лежащим перед ними картам, высоты, опорные рубежи, отсечные позиции, пути коммуникаций, систему построения огня, наличие и расход боеприпасов и все прочее, относящееся к делу.
– Да, действительно славная виктория, – согласился Воронцов. – Только мне совсем непонятно, как Басманову это было позволено… Дуггурскими начальниками, я имею в виду. Бросить на убой такую толпу… Не могу поверить, что имела место необеспеченная и неподготовленная вылазка безмозглых. Мы, конечно, немедленно опять допросим Шатт-Урха…
– Боюсь, ничего дельного он вам не скажет. Во-первых – вылазка действительно могла быть инстинктивной. Пойди к муравейнику, там за поселком в холмах есть много, пошевели прутиком или окурок брось. Увидишь, что начнется.
– Видел, знаю, – ответил Воронцов. – И все же…
– А во-вторых – анализируя «протокол допроса», мы здесь с Сильвией решили, что ваш Урх – тоже пешка. Скорее всего – не подстава. Только ничего он не знает. Как профессор этнографии о делах ГРУ. Вы правильно подчеркнули – ручные пулеметы, да еще и с встроенными электронными предохранителями, продукт совсем другой культуры. Весьма милитаризованной, располагающей технологической базой. Отчего оно так и почему – отдельный вопрос. Думаю, Михаил совершенно прав в своей геополитической идее.
– Какой это?
– Прекратить войну с англичанами, заключить нечто вроде конфедеративного договора и совместно заняться дуггурской проблемой. Основания более чем веские. И мы здесь, в Лондоне, сделаем все, чтобы новое британское правительство начало именно с этого.
– Новое? – удивился Воронцов.
– Ну да. До вас, наверное, газеты доходят с большим запозданием, – сострил Берестин. – Вопрос практически решен. Королева (почти готовая к отходу в мир иной, кстати) согласна поручить формирование кабинета Ллойд-Джорджу… На фоне ряда поражений и угрозы полной потери Капской колонии умеренные и пацифисты набрали хорошие очки. И мы тоже не зря устриц едим.
– Все понятно. Михаилу наша помощь требуется?
– Как я понимаю – пока нет. Если дуггуры затеют настоящее вторжение, на пределе своих военно-технических возможностей, я готов перескочить хоть в Кейптаун, хоть в Блюмфонтейн. Час-другой я ребят поддержать смогу известным тебе средством, а уж за это время вы управитесь. Главное – чтобы все наготове было. И для шокирующего ответа, и для эвакуации.
На том и договорились.
Дмитрий распорядился привести машины парохода в получасовую готовность к выходу в море и отправился на берег, будить товарищей.
За завтраком уже в салоне «Валгаллы», куда Воронцов собрал всех, кто имел отношение к Африке и «Комитету активной реконструкции реальностей», сообщение о действиях Басманова, подкрепленное хорошо исполненным моделированием на планшете, вызвало понятный интерес.
Возникавшие по ходу вопросы Воронцов в меру собственной информированности комментировал, предлагая в особо трудных случаях обращаться к источнику. То есть к Берестину. Или непосредственно к Басманову.
В принципе все поняли обстановку примерно так же, как и сам Дмитрий. С теми точно вопросами, что он задавал прежде всего самому себе, а не Берестину, в чем-то информированному лучше, а в чем-то – недостаточно, по причине удаленности и от ТВД, и от форта Росс.
Но опять вмешалась в деловую атмосферу Лариса, по своей обычной привычке. Пережитый ею недавний стресс особого значения не имел. Характер есть характер. Плюс к этому – тонкий расчет. Что и позволяло ей почти пять лет сохранять свое особое независимое положение в «Братстве». «Кошка, гуляющая сама по себе». Что там о ней ни думай, но девушка всегда ухитрялась держаться в центре внимания людей с совсем другими биографиями, вкусами и интересами.
Тут, конечно, Наталья и Левашов поначалу сыграли решающую роль. Первая – введя ее в компанию, второй – мгновенно ею увлекшийся. А дальше – само пошло. Одни воспринимали ее характер как данность, других ее выходки беззлобно веселили, кое-кто воспринимал присутствие такой барышни как специально внесенный в слишком монолитное общество дрожжевой грибок.
Внезапно вскочив из-за стола, она, сверкая глазами, принялась обличать. Неизвестно, да и неважно, кого конкретно.
– Вы!.. Вы бросили ребят там, на войне, на растерзание монстрам, о чем великолепно знали. Сейчас, сбежав в другое время, сидя здесь, в тепле и за бронезащитой, радуетесь! Чему? Что Михаил пока что отбился и выжил? Так завтра не выживет. Кирсанов ему поможет? Чем? Берестин с Сильвией в Лондоне очень хорошо устроились, что им чужие беды?
– Как ты – в Кисловодске, – тихо, но веско сказала Ирина. – Пока те же ребята в Москве воевали. Чем ты им помогла? И перестань, пожалуйста, говорить «вы»! Значит, пока красиво жить – «мы», а если что, так сразу – «вы»?
С Ириной Лариса на равных спорить не умела. Рано или поздно уступала, особенно, если та включала некие обертоны своего голоса. Намекающие на серьезные последствия пока еще «не выходящего за рамки» конфликта.
Лариса чуть осеклась, но чувства в ней кипели.
– Хочешь, прямо туда и сейчас поедем? – мягко спросил Шульгин. – Я для себя массу там интересных возможностей вижу. И тебе занятия найдутся. В поезде ты хорошо стреляла. Ту же винтовку возьмешь. Или партполитработу среди бурских вождей и их жен налаживать возьмешься. Опыт есть…
– То есть? – сбитая с позиций, удивилась Лариса.
– Ничего не «то есть», – подключился к воспитанию подруги Новиков. – Имеешь претензии и собственный вариант – действуй, кто когда мешал? Поддержим всеми силами. Но только – по доказанному и выверенному плану. Мы бросили Басманова и сотню лучших в мире по подготовке бойцов? Мне, напротив, кажется, что не бросили, а своим уходом вывели из-под действительно смертельного удара. Будь мы там, очень вероятно, враг применил бы оружие посерьезнее. Плазменное, как по нашей стоянке, или психотронное, как на Валгалле по мне или возле пещер – по тебе. С известным результатом.
Без нашего присутствия враг обошелся традиционными средствами. Басманов не знал о летающих тарелках и о твоих «ангелах». И они о нем по той же причине не знали. Это наших и спасло. И мы пока живем и способны дальше делать свое дело. Ты не согласна – твое право. У тебя есть более прогрессивные идеи? Медленно и спокойно излагай. Вот карта, вот компьютер. Все силы будут направлены на реализацию этой операции, ты это знаешь. Если она верно спланирована…
Андрей, зная характер Ларисы, говорил тихо и крайне сдержанно, вовремя улыбаясь и поощрительно кивая ее ответным позитивным мимическим движениям. А иначе с ней и нельзя. Забот впереди – немерено, а если сейчас кто-нибудь неосторожным словом опять выведет ее из себя, Олег автоматически вмешается, и – пошло-поехало!
– А у меня еще идейка, – совершенно медовым голосом поддержал друга Шульгин. – При твоих, Лариса, настроениях и способностях – как бы ты лихо сыграла в паре с Кирсановым!
– Я? С Кирсановым? Как и зачем?
– Об этом и подумаем. Кейптаун. Там будет много интересного. Непременно – беспорядки и народные волнения, когда станет известно о вторжении монстров и мирных переговорах правительства с бурами. Возможно – попытка военного переворота. Или случится новая массированная агрессия дуггуров, с использованием чего-нибудь посерьезнее. Даже просто продолжение наступления буров, если дуггуры не объявятся, и Михаил продолжит операцию… У тебя есть опыт контакта с «ангелами», нашей Гражданской войны и троцкистского переворота. Представь, Павел вводит тебя в операцию в роли личной посланницы королевы Виктории для секретной миссии. Есть над чем подумать…
Лицо Ларисы выказало недоумение, постепенно переходящее в живой интерес.
– Так-так… А Сильвия?
– Сильвия… Что Сильвия? У нее сейчас свои заботы. Зато она сумеет изготовить тебе такую легенду и подкинуть такие рекомендательные письма… Через неделю губернаторша будет перед тобой на цирлах плясать, чтобы ты при дворе за нее слово замолвила. А губернатор… – Сашка махнул рукой.
Поначалу он сделал Ларисе свое предложение просто так, чтобы сбить ее пыл, и вдруг сообразил, что идея-то и в самом деле богатая, плодотворная. Словно двинул по доске фигуру наугад и только по реакции партнера и зрителей догадался, как у него здорово вышло.
Новиков увидел затвердевшие скулы Левашова и легонько толкнул его локтем под ребра. Сиди, мол, молчи, дурак, тебя в очередной раз спасают, а ты…
Неужто ревновать вздумал? К Кирсанову, а то к Давыдову, Эльснеру, губернатору и его жене? Поздновато вроде бы. В восемьдесят четвертом надо было начинать или вообще жениться на девственнице, а потом держать ее на коротком поводке.
И тут же догадался – больше всего на свете Олег боится, что Лариса скажет, что ее напарником в походе (если вдруг вообще согласится) должен быть именно он. Такого ему не выдержать.
Андрей, изображая полное безразличие к тревожащим окружающих мыслям (это он умел), сказал словно между прочим: «Да не стоит, наверное, новую сложную операцию затевать. Риск, и смысла мало…»
– Нет, отчего мало? – взвилась Лариса. – Только от меня там и будет польза. При нормальном прикрытии. Вам туда нельзя. Здесь дел много, и вообще… Басманова дуггуры не знают. А меня помнят, хо-орошо помнят. Я для них или приманкой стану, или пугалом. И так и так интересно. Я и пойду. В Кирсанове я уверена. Алексей с Сильвией обеспечат, для личного прикрытия дадите мне «Иван Иваныча», мы с ним близко знакомы и отлично друг к другу адаптированы…
Новиков мог бы сказать, что та пятигорско-кисловодская история абсолютно однозначна для любого андроидного тела, в какое воткнут блок нужной памяти. Но, с другой стороны… Отчего не дать ей именно того робота, у которого родная память, не пересаженная, и тело то же самое? Возможно, тут очередной высокий смысл.
– Давай, Лариса, прогуляйся. Кейптаун – интересный город. А ты в паре с Кирсановым – идеальный вариант. С вашими характерами… Я помню, как ты на КМВ[18] четко работала. Так что вперед. Недельки на подготовку хватит? Если согласна? – стараясь не выбиться из тона, сказал Андрей.
– И двух дней хватит. Голому собраться – только подпоясаться.
– Не торопись. Сначала не ля-ля, а серьезный план продумать, потом с Сильвией обговорить, что она по этому поводу подскажет и как быстро все оформить сможет. С Кирсановым – то же самое. Легенду составить, документы сделать, снаряжение подобрать, отвечающее… Мы вон как в свое время аккуратно швейцарские паспорта сдублировали, так и все равно, при тамошних свободах Суздалев просёк. – Шульгин, не сговариваясь с Новиковым заранее, четко гнул ту же линию. Похоже, что успешно. Ларису только подтолкни, потом не остановишь. В полном соответствии с законами Ньютона.
В каюте, пока Лариса собирала нужные, по ее мнению, в очередном путешествии вещи, Левашов бродил между цветами и лианами зимнего сада, нервно курил. Как всегда перед разлукой, его терзали противоположные чувства. Страх за подругу, печаль, что снова долго ее не увидит, и одновременно облегчение. Тосковать и нервничать он будет время от времени, а свободен, интеллектуально и эмоционально – постоянно. И происходить всякие нештатные ситуации будут не на его глазах.
Выручить ее он сможет практически из любого, самого острого положения. Если это не будет, как написано в инструкции к гомеостату, «одновременное полное разрушение организма». Во всяком другом случае он окажется в нужном месте почти мгновенно, если у нее будет работать приводной маячок. Да и предпоследним из резервных гомеостатов они ее снабдят. Не пропадет. Не то здесь время, чтобы подготовленный, охраняемый почти всесильным телохранителем человек попал в безвыходную ситуацию. В прежней, советской жизни ей ежедневно угрожало куда больше опасностей, чем в этой прогулке.
– Вот я и готова, – сказала она, появляясь на площадке перед фонтаном. Готова она, по мнению Олега, была отнюдь не к десанту в тыл врага. Совсем к другому. На ней был только полупрозрачный халатик, едва достающий до середины бедер.
– Должны ведь мы попрощаться, – пояснила она, кладя ладонь Левашову на плечо и подставляя приоткрывшиеся губы. – Отдаваться кому-нибудь еще мне в ближайшее время едва ли придется. Пойдем, – потянула его за руку Лариса в сторону своей спальни, оформленной в стиле будуара одной из фавориток Людовика с номером из второй дюжины. Причем со всеми усовершенствованиями конца ХХ – начала XXI века.
То, чем и как они занимались, в основном и удерживало Олега возле нее все эти бесконечно долгие годы. Как бы ни складывались у них прочие отношения, в постели Лариса неизменно была нежна, безудержно страстна, изобретательна и неутомима. Настолько, что полученного заряда Левашову вполне хватало до следующей встречи, отчего-то всегда неожиданной, компенсирующей разлуку почти любой продолжительности.
Если же им доводилось проводить вместе несколько месяцев (такое тоже случалось, хотя и не очень часто), накал чувств куда-то пропадал, все превращалось в малоинтересную для обоих «обязательную программу».
Часом позже Лариса, лежа на спине и широко раскинув по подушкам руки, говорила Олегу:
– Я все продумала. Звать меня будут миледи Отэм…
Левашов усмехнулся, оценив тонкость аллюзии.[19]
– Сильвия сделает нужные бумаги, Кирсанов обеспечит легенду по месту, – продолжила она, предупреждая естественный вопрос. – Будем считать, что я эвакуировалась из Наталя, когда оттуда все бежали, как белые из Крыма. А в Дурбан приплыла накануне из Австралии, Новой Зеландии или Индии, Павел подберет подходящий рейс. Так что, надеюсь, за две-три недели никого из могущих меня разоблачить не встречу. А встречу – мало ли каждый день происходит несчастных случаев, тем более – в прифронтовой полосе.
Сказано это было ровным и безмятежным тоном. Не зря она выбрала именно такой псевдоним. В некоторых восточных странах «осень» ассоциируется не только с временем года, но и с коварством, жестокостью, беспощадностью. А в старом Китае начальников «госбезопасности» называли – «осенний министр».
– «Иван Иванович» будет моим старшим братом, сопровождающим вдовую сестру в путешествиях. Сейчас скажем Воронцову, пусть придаст ему со мной отчетливое портретное сходство…
– Я и сам могу. Только это прямо какой-то Дориан Грей получится.
– Предпочитаю лорда Генри. Позаботься, чтобы он знал наизусть все свои афоризмы и вообще все, что полагается тридцатилетнему аристократу с хорошим образованием. Привычки русского дворянина XXI века там будут не совсем уместны.
– Сделаю. Из Уайльда я тоже кое-что помню. Андрей в школьные годы его целыми кусками наизусть цитировал. Вот, кстати, совершенно в тему: «Наш единственный долг перед историей – переписать ее заново».
– Вот-вот, правильно ты понимаешь. – Лариса повернулась на бок и снова прижалась к Олегу. – И больше не отвлекайся, когда еще придется…
Перед отправлением ее позвала к себе Ирина. Для последнего напутствия. Проговорили они долго. Одной было что сказать отправляющейся на опасное задание подруге, вторая слушала со всем вниманием, вопреки характеру не споря и не перебивая. Понимала – не до гонора сейчас. Любой совет профессионалки многовековых тайных войн следовало принимать как драгоценный подарок.
При ее миссиях в Москву и Кисловодск таких инструктажей Ирина не проводила. Да и смысла не было. В России, что девятьсот двадцать первого, что две тысячи пятого года, Ларисе хватало собственных знаний истории, жизни, национального характера. Тут все будет иначе, пусть Сильвия их тоже учила «аглицким манерам». Но в другом, как выражался один знакомый, «аксепте».
– Знаешь, подружка, ты, главное, свою натуру маскировать не пытайся. Стервозные дамы – они всегда в цене. И внимания на их выходки меньше обращают, и то, чем другие подозрение вызовут, у нас проскочит, еще и с восхищением воспримут.
Лариса заметила, как Ирина деликатно выровняла тему. Одним-единственным словом «у нас». Не придерешься. Хотя за Ириной как раз она видимых проявлений стервозности не замечала. Впрочем, какой была подруга до того, как они познакомились, ей знать не дано. Иркина «соотечественница» и бывшая начальница Сильвия обладала этой чертой в полной мере, а учились они «в одной школе».
– И вот что, Лар, ты никому не говори о моем подарке. – Ирина протянула ей золотой портсигар, такой точно, как у нее самой, только с другой монограммой на крышке. Здесь были не алмазы, не сапфиры, не изумруды, а ярко-желтые топазы, выложенные узором, очень сложным и неестественным для привыкшего к эвклидовой геометрии глаза.
– Что это? Откуда? И мне?
– Что? Стандартный блок-универсал. Откуда – это уж мое дело. Знаешь, есть такое понятие – «неучтенное оружие». На полях сражений его много остается. Подобрала. Сейчас даю тебе. С ним станешь самой могущественной женщиной того времени. Кроме Сильвии, конечно, и любой из той же команды. Но с ними тебе воевать не придется. Смотри сюда и запоминай, что, как и для чего.
Получаса хватило, чтобы Лариса разобралась в основных принципах и способах обращения с прибором. Само собой, многие его функции Ирина предварительно отключила, но и тех, что остались, хватало.
Она могла теперь в любой момент связываться с Ириной и Сильвией, переправиться из Кейптауна в Лондон и в любое другое место, даже на Валгаллу. Вот только что ей там делать за восемьдесят пять лет до устройства форта? На базу аггров ей попадать совсем ни к чему.
В качестве оружия блок тоже годился, но это и так известно. Кроме того, в нем помещалось пятнадцать сигарет формата «кинг сайз».[20]
– За что это ты – и вдруг мне? – спросила Лариса странно вздрогнувшим голосом.
– А ты от меня что – только нож в спину ждала? – мило удивилась Ирина.
– Не так чтобы, но сама понимаешь…
– Плохо понимаю. Олег меня терпеть не мог за то, что я у него друга отбила, а я к тебе всегда нормально относилась. Да и ты вроде…
– Вроде! Он до сих пор в тебя влюблен, в чем в чем, в этом я отлично разбираюсь…
– Тебе-то что? Он до меня и рукой не дотронулся, ни о чем прочем не говоря, а ты себя, что при нем, что без него, не слишком сдерживала. Не так? – Ирина посмотрела на Ларису со спокойным интересом.
– А вот то! Ненавижу, если мужик лежит со мной, а воображает под собой другую!
– Ах, это? – Ирина небрежно отмахнулась рукой. – Они все такие. Думаешь, я знаю, кого Андрей представляет? Вдруг тебя? Или мулатку из Никарагуа? Еще на подобную ерунду отвлекаться? Живи, как живется. Олег мне помог в свое время, сейчас я тебе помогаю, чем умею. Тем более, все равно одно дело делаем…
Кирсанов, получив депешу из Лондона о том, что к нему для помощи и оперативной поддержки прибывает специальный агент с особыми полномочиями, а при нем – помощник, удивился не очень. Обстановка осложнялась на глазах, и подготовленный напарник не помешает. Он только осторожно поинтересовался у Берестина, как предполагается делить полномочия. Что агентом будет кто угодно, но ни один из «старших братьев», он не сомневался. Если бы так, все было бы сказано коротко и просто: «Прибывает Шульгин (или Новиков), встреть». И никаких вопросов, и никаких сомнений.
А тут Берестин, коротко хмыкнув в микрофон, ответил: «Ты резидентом был, им и остаешься. Со всеми вытекающими. Приготовь в своем отеле два самых лучших номера, на одном с тобой этаже. Затем, через два часа от сего момента, найди подходящий, надежный и грузоподъемный транспорт и езжай по адресу…»
Павел, давно имея в голове полную карту Кейптауна и окрестностей, слегка удивился. Место было очень глухое, фактически – переулок среди заброшенных складов в полукилометре от порта. Там, наверное, и крысы уже передохли от бессмысленности существования. Люди – тем более.
Но если нужно принять людей, прибывающих по линии СПВ, место довольно удобное.
Можно бы, конечно, переправить гостей прямо в отель, но слишком сложно будет объясняться с портье при их оформлении.
Кирсанов, проезжая мимо кабака Давыдова и Эльснера, не на карете, таковой не нашлось, в большом пятиместном фаэтоне с глухим тентом, весьма полезным при здешних дождях, велел кучеру приостановиться у ворот.
Не выходя из экипажа, громко потребовал у молодого слуги-зазывалы (белого, кстати, – негры не всем гостям нравились), перехватывавшего проходящих по улице потенциальных клиентов, позвать хозяина.
– Чего мистеру угодно? – вежливо, но и слегка нагловато спросил тот. – Проходите, пожалуйста, обслужим по первому разряду!
Павел отмахнулся от него серой лайковой перчаткой:
– Хозяина, я сказал!
Через несколько минут с должной мерой достоинства к фаэтону подошел Давыдов.
– Вы меня хотели видеть, сэр? – Вопрос был задан так, что ударение могло быть поставлено на любом слове.
Поблизости никого из посторонних не было, а возницу Кирсанов заведомо не принимал во внимание. Ответил по-русски:
– Я сейчас еду на встречу нового коллеги. Подкрепление нам прислали, – с двусмысленной интонацией сказал Павел Васильевич. – Отвезу к себе. Подойди около десяти вечера.
– Если других дел нет – можете и вдвоем. Обменяемся мнениями с новым товарищем. У вас тут как, до паники еще не дошло?
– У нас – нет. Флотские уверены, что уж на своих коробках они от монстров и отбиться, и сбежать сумеют.
– Сумеют, – согласился Кирсанов. – А мандраж присутствует?
– Вот его – навалом. От кочегара до штурмана – все в мандраже. О чертовщине много разговоров. В легенду о цивилизованных дикарях мало кто верит. Зато как доходы пошли – не поверите! Вдесятеро! Пьют, словно завтра конец света! Решили бы здесь насовсем остаться – через месяц ресторан на проспекте Виктории открывать можно.
– Насчет конца света – очень даже может быть, – ответил полковник, натягивая перчатки. – Но этот печальный факт не отменяет всего остального…
В указанном месте, действительно заброшенном и загаженном, выглядящем до крайности уныло, Кирсанов увидел мужчину и женщину, с четырьмя поставленными на брусчатку огромными кожаными баулами. В женщине, несмотря на шляпу, вуаль, длинное, до пят, клетчатое платье, он сразу узнал Ларису. И в сердце тут же кольнуло.
Нет, он не испытывал к ней мужского влечения. Скорее, наоборот. Были в «Братстве» другие женщины, от которых у него временами обмирало холодное жандармское сердце.
Но в оперативном смысле она интересовала его, как никто больше. Какая из нее могла бы выйти шикарная агентесса высшего разбора году этак в тринадцатом! Хоть к вождям большевиков и эсеров подводи, хоть к Распутину или к его убийцам – как хочешь. Везде бы сработала. А на месте Каплан – какая красота, знатокам лишь понятная! Всадила бы с правильно выбранной позиции, из «маузера», желательно, но можно и из «стечкина» – одну пулю в сердце, контрольную – между глаз вождю мирового пролетариата и легко ушла бы из охваченной то ли шоком, то ли радостью толпы «трудящихся» завода бывшего Михельсона.
Мужчина, стоявший рядом с дамой и профессионально оглядывающийся по сторонам, выглядел личностью почти никчемной. Как и требовалось.
Красавчик, изумительно похожий на Ларису, несмотря на положенную грубоватость мужских черт в сравнении с теми же, но женскими. Явно – брат. И даже брат-близнец. Нет, не выходит – на вид лет на пять постарше. В дорожных бриджах, тяжелых ботинках с крагами, джемпере, поверх которого надет клетчатый пиджак. Правда, оттопыривающий полу массивный пистолет в кожаной кобуре делал его слегка (именно – слегка) похожим на серьезного человека.
Брата у нее не было, Кирсанов это знал точно. Значит – мастерски оформленный андроид. Павел ценил их общие способности и боевые качества, но лично относился с некоторой неприязнью. Не должен механизм столь точно копировать человека. Но в полезности этих големов жандарм не сомневался. Как в свое время в нужности для дела совершенно омерзительного Азефа,[21] Евно Фишелевича.
При наличии такого «брата» не нужно будет самому постоянно заботиться о безопасности новой напарницы. А вот напарницы ли? Не надсмотрщицы? Ки вивра вэра.[22]
Кирсанов остановил фаэтон четко напротив пары, не выходя кивнул. Пусть парень сам грузит свои чемоданы.
Ого! Рессоры, приняв груз, сильно просели. Возница недовольно обернулся, но ничего не сказал. Красота ли дамы его сдержала или обещанное вознаграждение.
– С приездом, Лариса Юрьевна…
Она махнула на него рукой.
– Какая Лариса? Миледи Отэм, прошу любить и жаловать. А это – мой брат, лорд Генри Уоттон, путешественник и коллекционер. Ценитель живописи, в том числе восточной. До невозможности светский человек… – говорила она на очень хорошем, подобающем титулу и облику, английском. Профессор Хиггинс[23] легко определил бы, что она выросла где-то между Букингемским дворцом и Белгравиа.
Генри с достоинством поклонился.
– А какая-нибудь положительная профессия у вас есть? – с оттенком иронии спросил Кирсанов. Он решил держаться с роботом как с самым обычным человеком, до тех пор, пока обстановка не потребует иного.
– Юриспруденция и античная философия, – ответил тот. – Но в основном лучше рассчитывайте на меня как на бодигарда и профессионального киллера.
– Откровенно, хотя и слегка цинично…
– Циник – это человек, который всему знает цену, но ничего не ценит. Как раз про меня сказано.
– Пожалуй, пожалуй. Думаю, мы сработаемся.
– Несомненно, – вставила Лариса. – Генри удивительно толерантный человек. На пятьдесят футов в подброшенную монету попадает. Не представляю, чтобы он с кем-нибудь не сработался. В любом смысле.
И тут же она показала глазами на спину коучмена.[24] Коротко бросила по-русски: «Много лишнего говорим. Он нас слышит».
– За это можете не беспокоиться, – ответил Кирсанов по-английски. – Мы уже почти приехали.
Действительно, в перспективе улицы завиднелась крыша и верхний этаж отеля.
Они выгрузили на тротуар багаж, и тут же от дверей наперегонки кинулись два черных боя, торопясь подхватить баулы и заработать лишний шестипенсовик, а то и шиллинг за проворность.
Кирсанов расплатился с коучменом, в дополнение к деньгам протянул ему длинную сигару.
– Попробуйте, она того стоит.
– Благодарю вас, сэр! – расплылся в благодарной улыбке извозчик и тут же, содрав обертку, принялся ее раскуривать. Наверняка чтобы порисоваться перед коллегами на стоянке наемных экипажей. На это и был расчет. Павел, нанимая фаэтон, видел, что извозчик курящий, да вдобавок услышал его жалобу соседнему кэбмену, что табак нынче плох, свежего подвоза давно не было, цены взлетели немыслимо, и приходится поджиматься.
Была, конечно, опасность, что сигару он прибережет до какого-нибудь торжественного случая, но полковник заметил, как жадно этот человек смотрел на его портсигар и ловил ноздрями запах дорогого табака, доносящийся из фаэтона, пока они ехали встречать Ларису. Такой вряд ли обладает выдержкой стоика.
– Удивляюсь я на тебя, – сказала Лариса Кирсанову, когда они шли по аллее, – специалист, а при постороннем разболтался, да еще по-английски. Наверняка немедленно начнет с приятелями впечатлениями делиться. В том числе о том, в каком странном месте ты нас подобрал…
– Не утруждай себя лишними мыслями. Наш «Автомедон»,[25] пока доедет до стоянки, через три затяжки сигарой забудет все, начиная с сегодняшнего утра. Без всяких вредных для себя последствий.
– Опять Сашкины штучки?
– Чьи же еще?
– А вдруг он не стал бы твою сигару закуривать?
– Угостил бы его глотком виски из рук джентльмена…
– Не утомляйте меня бестактными вопросами, миледи. За все время службы проколов не случалось. В худшем случае они случались у тех, кто мыслил не столь позитивно…
– Да, я и вправду сказала бестактность. Простите. А номер вы мне подготовили действительно хороший, мистер Сэйпир?
– В московском «Национале» лучше не найдете. Фирма веников не вяжет…
– М-да, общение с потомками не всегда идет предкам на пользу, – хихикнула Лариса. – Вульгаризмы вы зря подхватываете.
– Так что делать, хорошо звучит, и по смыслу емко.
– Ты мне со старой стилистикой больше нравишься. Слушаешь – прямо язык Чехова.
– Не люблю. Я больше Мережковским увлекался. Полезнее для понимания настроений тогдашней интеллигенции.
Номер Ларисе на самом деле понравился. И комнаты, и меблировка, и вид с лоджии на бухту.
– Что же, поживем, – обойдя все помещения, сказала она и, отойдя к огромному шкафу-гардеробу, без стеснения расстегнула спрятанную в складках, воланчиках и прочих украшениях платья застежку-молнию и уронила его на пол. Она специально так заказала, уж слишком много трудов требовали принятые в то время пуговицы, пряжки и шнуровки. Не зря светские женщины имели специальную прислугу для одевания-раздевания. А в боевых условиях такое неприемлемо. Дама ты или нет, а правило «пока горит спичка» никто не отменял.
Кирсанова она нисколько не стеснялась, как и любого другого мужчину из «Братства». Топлес в корабельных бассейнах купалась, а то совсем безо всего, считая это нормой. Тело у нее красивое, ничего нового никто не увидит, есть на ней ленточки бикини или их нет. Вот с посторонними можно поиграть, приоткрыв ногу чуть выше колена или показав случайно что-нибудь в глубоком вырезе декольте.
Лариса с юных, восемнадцати примерно лет любила шокировать друзей и подруг неожиданными выходками или словами, а потом наблюдала за реакцией в случаях, когда стесняться и краснеть полагалось бы ей, но приходилось другим. Это ее развлекало и укрепляло в чувстве собственного превосходства. Причем – никакой психической деформации, вроде эксгибиционизма, просто склад характера.
А уж сейчас, даже без платья, она была одета намного больше, чем девушка в мини-юбке и прозрачной кофточке на Тверской улице.
Глухой, от груди до начала бедер корсет василькового цвета – это дань здешним обычаям. Остальное нижнее белье – конца ХХ века, по причине практичности.
Поверх корсета ее талия была перетянута кожаным офицерским поясом, к которому подвешены открытые кобуры с двумя сильно модернизированными и облегченными за счет использования пластика и легких сплавов «ТТ». Правило соблюдения доступных в данной реальности калибров действовало. Зачем брать с собой любимую «беретту», если патронов для нее здесь не придумали? Зато «маузеровские» – уже.
Снизу кобуры фиксировались обвивающими бедра узкими ремешками.
Чтобы извлекать пистолеты беспрепятственно, по швам платья были сделаны длинные, от корсажа до колен, разрезы, прихваченные незаметными снаружи липучками.
Сам корсет тоже был хитро исполнен. С использованием передовых технологий модельного и швейного дела, он привел бы в восторг любую местную даму своей легкостью, удобством надевания, ношения и снимания. Дополнительные функции к галантерейным делам отношения не имели. Вместо пластинок китового уса, проволоки каркаса и атласа использовались совсем другие материалы, превращающие корсет в легкий бронежилет, надежно прикрывающий тело хозяйки от ключиц до бедер. В случае необходимости в соответствующие карманы могли быть вставлены дополнительные карбоновые блоки, резко повышавшие уровень защиты. От винтовочной пули, конечно, не спасет, так кто вздумает в светскую даму стрелять из винтовки? И где? В салоне или бальном зале?
Нижняя часть этого галантерейного изделия предназначалась для хранения шести пистолетных магазинов и других, не менее полезных в обиходе предметов.
– Засмотрелся? – небрежно спросила Лариса, отстегивая сложную сбрую и с громким стуком положив, почти бросив на туалетный столик свой арсенал.
– Было бы на что, – спокойно ответил Павел, не отводя глаз. – Мы с тобой сейчас и на много дней вперед – солдаты. Причем я – твой командир. Что там ты своим конфекционом[26] прикрываешь – не интересуюсь. Меня в «стыдную» область ранят – перевяжешь, надеюсь? Тебя – и я справлюсь.
– Хорошо, – улыбнулась Лариса, раздернув очередную «молнию» и освободившись от корсета.
– Ты при случае воздержись, – сказал Кирсанов, по обычной офицерской привычке присаживаясь боком на подоконник и снова закуривая. – Обнажаться при местных. Особенно – бабах. В таких бюстгальтерах, трусах, тем более колготках здесь не ходят. О туфлях вообще говорить не стану. Заведомый провал.
– Много в бабских шмотках понимаешь? Я думала, ты вообще…
– Евнух? Гомик? Мимо, миледи. Просто тебе не приходилось, не знаю почему, сталкиваться с мужиками, имеющими кое-какое самообладание. Иммунитет. Неужели не встречала таких, которые на ваши приемчики не ловятся?
– Иногда встречала, – ответила Лариса, запахиваясь в длинный и плотный банный халат. – Но относилась к ним… Без уважения. Представь себе парня, который, танцуя с тобой медленный танец, не возбуждается.
– Очень даже представляю. Если он выполняет задание, ты – объект, а твои прелести – вражеское оружие. Не помню, чтобы финка в чужих руках или направленный в лоб револьверный ствол вызывал положительные эмоции.
– Скучно с тобой, Павел Васильевич, – она, присев, извлекла из баула новое платье, сшитое наверняка из немнущегося материала. Слегка встряхнув, Лариса повесила его на плечики. – Как скажешь, господин жандарм? Сойдет?
– Для здешних – сойдет.
Не совсем ясно было Ларисе, комплимент это или очередное оскорбление. Не удавалось ей попасть с Пашей в одну струю. Назвала его «жандармом», что в принципе не несло негативной окраски, в ответ получила абсолютно равноценный ответ, который как хочешь, так и оценивай.
– Никогда, Кирсанов, у нас с тобой душевных отношений не получится. Пригласи меня хоть в ресторан, что ли. Там и расскажешь, что мы с тобой должны делать. За себя я сама заплачу. Не хочу одалживаться…
С чего бы это ей вдруг пришла в голову последняя фраза, она и сама не поняла. Наверное, импульсивно захотелось хоть таким образом уязвить «командира».
– Хоть? – Полковник слегка приподнял левую бровь. Лариса этого не заметила.
«Не та подготовка, – привычно отметил Кирсанов. – Плохо следит за своими словами и реакцией на них собеседников. Не беда, дело наживное».
– Пойдем, о чем речь. Желаешь сама рассчитываться – пожалуйста. Только сделаешь это потом, наедине. Копию счета я предоставлю. А в эти времена женщины в ресторанах отдельно от кавалера не платят. Нонсенс! Да и я в прошлой жизни, честно сказать, платил только стукачкам, на связи. А с приличными дамами иначе выходило. На всяких там приемах и раутах, вот во дворце, скажем, великого князя Александра Михайловича, что на Дворцовой набережной, оч-чень благородные дамы меня потчевали шампанским с ананасами и домой приглашали. Абсолютно бесплатно.
– И что? – Ларисе эта тема показалась очень увлекательной. На самом деле представить, каков он тогда был! Красавец штаб-ротмистр в голубом мундире, с печоринской загадкой в глазах и арбенинской наглостью в манерах. За шестиметровыми окнами на Неву – весна или лето четырнадцатого года, когда о грядущей войне и революции никто и подумать не мог. Бальная музыка, сверкание люстр, изысканные титулованные дамы и девицы. Вплоть до княжон императорской крови.[27] У него и с ними интрижки случались? Неплохо бы обо всем этом поговорить поподробнее.
– Да ничего. Империя все равно рухнула…
«Странный поворот», – подумала Лариса, понимая, что Кирсанов ее снова переигрывает.
– Ну, ты пока отдыхай, готовься к ужину и инструктажу. Газетки местные почитай. А я кое-куда сбегаю. Тебя так неожиданно переправили, что нужно теперь вас с Генри грамотно залегендировать. Здесь, по счастью, не советские времена, проблем особых не предвижу, и тем не менее. Какие у тебя бумаги есть, на себя и на «братца»?
Лариса достала из объемистого ридикюля, в который много чего можно было поместить, целый пакет документов. Кирсанов их бегло просмотрел, мгновенно усваивая содержание целых страниц, да вдобавок успевая давать оценку как положительных их деталей, так и отрицательных. Не до конца продуманных. Но здесь сойдет, а вот в Петроградском охранном отделении, при должном подходе – не проскочило бы. Не зря к четырнадцатому году русские разведка и контрразведка относились к лучшим в мире.
– Годится, миледи, годится, – говорил он, отбрасывая отработанные листы на туалетный столик. – Все годится, – заключил Кирсанов, откинувшись на спинку канапе.[28] – Классно сделано. Был бы штатским дураком, прослезился бы и припал к ручке…
– Так что же тогда? – удивилась Лариса.
– Мелочь, пустяк, совершенно несущественный…
– Как вы сюда попали? Как, когда и на чем? Прифронтовой город, изолированный от материка. Поезда не ходят, дилижансы – тоже. Мистер Сэйпир привез великосветскую даму с братом-лордом, поселил их в отель. Пока нормально. Но где он ее взял? Представьте осажденный Порт-Артур, сообщения с Россией никакого, и даже для передачи телеграммы русскому консулу в Чифу штаб флота планирует боевую операцию по прорыву миноносцев через линию японской блокады. Не обходилось без жертв. И вдруг на бульваре «Этажерка» неизвестно откуда появляется очаровательная княжна Мышецкая, допустим, в сопровождении штатского родственника… И что?
По манере разговора Павла Лариса видела, что выход из положения он знает и видит, просто в очередной раз… Не унижает, нет, просто вводит в сложности своей (теперь уже – их общей) профессии. Она не обиделась, скорее, испытала благодарность. Все ж таки она писала диссертацию на тему, вплотную с разведкой соприкасающуюся. И поступала в аспирантуру по собственному желанию, по своим способностям и интересам, «горкомовский блат» потребовался только для того, чтобы не отказали «без объяснения причин». У профессуры своих блатных хватало.
Оттого и сейчас слушала Кирсанова, как знающего доцента на семинаре.
Ответила смиренно, даже глазки опустила:
– Я совершенно уверена, Павел Васильевич, что это незначительное затруднение вполне решаемо в пределах вашей компетенции.
Кирсанов улыбнулся едва заметно, поправил усы ногтем большого пальца.
– Шульгин как-то привел мне мáксиму, намного раньше услышанную мною от полковника Зубатова: «Даже самый умный человек склонен считать обращенную к нему лесть справедливой хотя бы на пятьдесят процентов».
– Знаешь, Паша, – перейдя на серьезный тон, сказала Лариса, – если бы хоть сотня таких, как ты и твой Зубатов, принимались царем и его окружением всерьез, судьбы империи были бы совсем другими… «Без лести предан» – это кто?
– Аракчеев.
– Ничего не «вот». Пока не появились вы со своими друзьями, никакие разумные действия, воля, честность, самопожертвование не значили ничего. Сотня, тысяча человек против стомиллионной косной массы – меньше, чем ничего. Как писал ваш очередной «великий пролетарский поэт»: «Единица – вздор, единица – ноль, один, даже если очень важный, не поднимет простое пятивершковое бревно, тем более – дом пятиэтажный!»
– Маяковского наизусть знаешь?
– Лариса Юрьевна, если я где работаю, так работаю. Хочешь «Материализм и эмпириокритицизм» процитирую?
– Да, Паша, – с грустью сказала Лариса, машинально раскачивая у него перед глазами обнаженной почти до самого верха ногой с перламутрово-алыми ногтями на пальцах узкой стопы. – Отчего и крутимся мы, случайные фактически люди, в паутине бесконечных непонятностей. Нам совсем ненужных.
– А вот нам – вполне. Без вас мы бы где были? Не пожелал бы я тебе искать смысл жизни в трущобах Константинополя. С голоду бы не померла, но о многих принципах забыла бы с ходу. Видел я…
– Хватит, полковник. – Лариса встала. – Иди, обеспечь нашу легализацию, в ресторане продолжим.
– Сделаем. Только разуваться при посторонних тоже не советую. Здесь почти у всех на пальцах мозоли от плохо сшитой обуви, даже специальные салоны для их удаления на каждом шагу встречаются. А у тебя пальчики гладкие. Непонятно. И ногти здесь никто не красит.
– Учту, Паша. Спасибо.
Он ее начал утомлять обстоятельностью, против которой нечего было возразить.
Кирсанов вышел на улицу, про себя посмеиваясь. Поставил он «кошку» (его личная для Ларисы оперативная кличка) на место. Не как приданного в оперативное подчинение сотрудника, об этом и говорить не стоило бы, именно как чересчур много понимающую о себе барышню.
И еще пообломает, в ходе совместной работы, так что Левашов благодарить при встрече должен.
Если… Если энергия пережатой пружины на него же и не разрядится. Но и это на пользу будет. Просто – другому человеку.
Как же ее, заразу, легализовывать? Мало времени ему отпустили старшие товарищи. Но безвыходных положений не бывает, это же очевидно. Разговаривая с Ларисой, он отчетливого решения не имел, но имел уверенность, которая на людей действует лучше всего.
В своем номере он переоделся в костюм настоящего профессионального торгового моряка. Не забулдыги, не палубного матроса на один рейс, а настоящего, уважающего себя и уважаемого капитаном и помощниками. Может быть, даже опытного боцмана. Синие широкие брюки, приличные ботинки, куртка с бронзовыми пуговицами, каскетка с лаковым козырьком и красный фуляровый[29] платок, изображающий одновременно галстук и шарф.
Выйти на улицу пришлось черным ходом, перед портье рисоваться не следовало.
В таверне Эльснера-Давыдова таких, как он, принимали в специально отгороженном от общего двора уголке. Столы почище, обслуга вежливее, молодой баобаб простирал над двориком ветви с листьями, способными защитить от внезапного дождевого шквала.
– Привет, Пауль, – сказал Кирсанов подошедшему, как бы между прочим посмотреть, как отдыхается уважаемым гостям, Эльснеру. – Есть моряки с пришедших сегодня с Востока судов?
– Что из выпивки заказать хотите? – с достоинством осведомился капитан, увидев, что моряк за соседним столиком как-то слишком внимательно обратил ухо в их сторону.
Моряк был одет точно, как сам Павел, только шарф у него на шее – черно-желтый. И сидел он один.
– Выпивка – как всегда, три унции рома и кварту пива. Я тебя спрашиваю – есть пароходы с Востока? – взглядом он показал товарищу, что пока конспирировать не нужно. Скорее – наоборот. Сосед его заинтересовал.
В подобного рода заведениях правил этикета не придерживались. Вернее – они были, но свои. Как лорд Генри мог непринужденно заговорить с таким же лордом на приеме в Букингемском дворце, так и равный (по ощущению) человек мог обратиться к равному здесь. На поясах у каждого висели длинные, невероятно острые ножи. Что делать в долгом плаванье, как не точить их на хороших брусках, вроде бы от скуки.
А ведь нет. Настоящий матросский нож может спасти от неминуемой смерти. Если в шторм на грот-бом-брам-рее в снастях запутался, чем с одного взмаха перехватить толстый, почти что в руку, просмоленный трос? Других случаев, когда нож незаменим, тоже масса, включая портовую драку.
– Подсаживайся, приятель, – радушно пригласил Кирсанов коллегу.
Тот, не чинясь, забрал свою здоровенную кружку и переместился на новое место.
– Питер, – назвался жандарм, протягивая руку. Моряк ее пожал своей, покрытой характерными мозолями и навечно пропитанной смолой.
– Людвиг, – ответил он с сильным немецким акцентом. – Старший боцман.
Немец – это хорошо, с немцами у Павла обычно складывались нормальные отношения, и языком он владел по-настоящему, а не выучив с помощью хитрых приборов.
Кирсанов указал пальцами слуге, разносящему напитки, что предыдущий заказ нужно удвоить.
Выпили, немного поболтали просто так, обмениваясь мнениями о заведении и вообще о городе, творящихся здесь не слишком благополучных делах.
– Ты с какого парохода? – наконец спросил Людвиг.
– Сейчас ни с какого. С одного списался, другого пока не нашел.
– Придумал, где списываться. До другого порта не дотерпел?
– Так получилось, – не стал вдаваться в подробности Кирсанов.
Ответ исчерпывающий. Много на море обстоятельств случается. С капитаном не поладил, с товарищами по команде конфликт обострился до полной нетерпимости, на берегу загулял до невозможности вернуться на свое судно к отходу.
– По специальности ты кто? Руки у тебя слишком чистые, – проявил наблюдательность немец.
– Электромеханик…
– Сложно будет устроиться. На половине коробок до сих пор без электричества обходятся, на остальных ваш брат за свое место держится, наравне с офицерами… У нас на «Лорелее» три механика, со всеми машинами справляются. Лучшего не ищут.
– Да я пока не тороплюсь. Чтобы до дома добраться, и рулевым могу, и матросом первого класса. Меня сейчас другое интересует. Твой пароход сегодня пришел?
– Сегодня. Из Аделаиды на Гамбург.
– Хорошо. Пассажиры были?
– Тебе зачем? – Немец насторожился, лицо его помрачнело. – Что, на полицию работаешь или на таможню?
– Совсем наоборот, – Кирсанов перешел на немецкий с приличным гамбургским произношением. – Против. Что, полиция без меня не знает, были у вас пассажиры или нет?
– Вроде твоя правда. Знали бы… Только мы людей не брали. Пять тысяч тюков шерсти и генгруз кое-какой…
– А пассажирские каюты на пароходе есть?
– Всего четыре. Одна первого класса, три – второго. Так, на всякий случай. В этот раз желающих не нашлось.
– Удачно. Прост?[30] – он поднял стаканчик с ромом.
После чего показал Людвигу из полуоткрытой ладони французский золотой пятидесятифранковик. Почти неуловимым со стороны движением подвинул его по столу до пивной кружки собутыльника. Почти так же быстро монета исчезла в руке боцмана.
– И что дальше? – спокойно спросил немец.
– Пока ничего. Аванс. Вы когда в море выходите?
– Собираемся завтра.
– Ну вот, раз ты старший боцман, договорись с суперкарго,[31] чтобы завтра утром у меня был документ, подтверждающий, что от Аделаиды до Кейптауна с вами плыли в качестве пассажиров вот эти персоны, – он протянул листок из записной книжки. – Как оформить – сами знаете. Ваш интерес – еще по две таких же монетки. Сойдет?
– По три, – тут же задорожился Людвиг.
– Много будет, – не уступил Кирсанов. – Для вас риска никакого, бумажку написать, и все. В море за вами никто гоняться не будет.
– Но тебе ведь эта бумажка очень нужна?
– А тебе деньги. Не хочешь – не надо. Другого найдем, и дешевле. Только возиться лень. А если думаешь меня обмануть – смотри. В Альтоне[32] подходящих парней много. Кастетом по пути домой легко врезать могут, если я телеграмму передам.
– Это ты уже лишнее говорить начинаешь. Завтра в десять на этом же месте. С тебя четыре монеты, с меня бумажки. Прост?
Кирсанов успел вернуться в отель, переодеться и в нужное время заглянул к Ларисе, уже готовой и нетерпеливо поглядывающей на часы.
– Я рассказывать должен? – спросил Кирсанов, когда они уже сидели за накрытым на двоих столиком с видом на бухту, и Лариса попросила его рассказать о текущей обстановке в городе и о проводимой резидентурой работе. – Думаю, сначала ты меня проинформируешь. В чем причина, а равно и необходимость именно твоего и именно сейчас здесь появления? Сверху мне не объяснили. На что с твоей стороны я могу рассчитывать, ну и так далее. А я уж потом доложу непосредственно к твоим заботам относящееся. У нас ведь разведка, а не салон мадам Шерер…
Ларисе пришлось обрисовывать ему общую картину случившегося за время его отсутствия. Он, кроме той информации, что получал во время сеансов связи, о текущей обстановке представления не имел. А человеку его специальности важнее всего именно штрихи, детали, живые подробности.
– Так, понял, – сказал он. – Очень хорошо понял. Выходит, мне нужно помаленьку переориентироваться с войны на сотрудничество?
– Именно так вопрос пока не стоит, однако, если дуггуры не успокоятся…
– Успокоятся, нет – видно будет. А мне нужно работать. На случай резкой смены обстоятельств все запасные позиции должны быть подготовлены и собственные «внезапные» шаги заранее замотивированы.
Несколько дней Лариса осваивалась в городе, вместе с «братом» знакомилась с достопримечательностями. Мистер Сэйпир, встретив ее в ресторане отеля, разыграл яркую сцену встречи со старой знакомой, свидетелями чего были несколько постояльцев и прислуга. И естественно, тут же принял даму под свое покровительство и начал вводить в общество. Труда это не составляло. Заранее условившись с хозяйкой, Кирсанов передал миледи Отэм и лорду Уоттону приглашение на ежесубботнюю вечеринку к жене нынешнего главкома лорда Редверса Буллера. За время нахождения в Кейптауне весьма богатый негоциант, имеющий, как оказалось, очень высокие связи в Лондоне, сумел стать своим среди не слишком обширного круга природных аристократов, старших офицеров армии и флота, банкиров, золото– и алмазопромышленников.
Легенда Ларисы проскочила с ходу. Как и в Кисловодске две тысячи пятого года, никто не вздумал в хорошем обществе уточнять истинную генеалогию безусловно светской дамы. Никого не удивило и то, что миледи с братом-лордом не выбрали лучшего времени для посещения Кейптауна, чем нынешнее. Как уже говорилось, психология у людей в то время была другая, да и войны другие. Во всех концах Империи постоянно что-то происходило, и если бы люди обращали внимание на всякого рода инциденты, то и торговать, и путешествовать было бы некому.
Конечно, могло показаться странным, что связанные давним якобы знакомством и общими финансовыми интересами мистер Сэйпир и миледи Отэм так неожиданно встретились на краю земли. Но всякого рода «случайные встречи» в XIX веке являлись распространенным литературным приемом, а литература, как известно, есть отражение жизни в ее типичных проявлениях.
Кроме того, кому какое дело – действительно ли случайна эта встреча или, напротив, тщательно подготовлена? Значительные люди могут, и даже должны иметь и свои цели, и свои тайны.
В огромном особняке на склоне Столовой горы собралось до полусотни человек. Дамы от двадцати до семидесяти, одинаково приятные во всех отношениях, мужчины партикулярные и мужчины военные, в черных и синих морских, красных и хаки пехотных мундирах.
Лариса произвела наилучшее впечатление, что она умела, если хотела. Тем более – ее прикрывал лорд Генри, непрерывно сыпавший уайльдовскими афоризмами и парадоксами. Большинство из присутствующих воспринимали их как оригинальные, а если кто и слышал мельком в одной из пьес автора, о котором приличным людям вспоминать не полагалось,[33] так оставлял свои знания при себе.
На фоне этой беспрерывной трескотни, перемежающейся приглашениями дам, всех подряд якобы, но на самом деле только тех, на кого указывал Кирсанов, никому не приходило в голову задавать ему серьезные, тем более – неудобные вопросы.
Лариса мило щебетала с дамами, постоянно ссылаясь на многолетнюю оторванность от лондонской жизни, что вполне оправдывало незнание ею вещей самоочевидных. Зато она щедро делилась впечатлениями об Австралии и Новой Зеландии, в которых никто из собеседниц не бывал.
А в углу зала одиноко сидел мрачный мужчина лет сорока пяти, с широкими золотыми нашивками на рукавах. Часто отхлебывал виски из бокала, потухшим взглядом обводил веселящуюся компанию. Адмирал Хиллард, опальный, но официально из света не исключенный. Его приглашали в дома, но открыто демонстрировать дружелюбие избегали. А это мучение еще большее, чем прямое отторжение.
Кирсанов уже знал, что сутками-другими позже, после того, как станет известно о бесследном исчезновении индийского конвоя и мощной эскадры адмирала Балфура, положение сэра Мэнсона резко изменится в лучшую сторону.
Можно сказать, что Павел Васильевич находился в положении владельца инсайдерской информации о том, какие акции вскоре упадут, а какие пойдут вверх.
– Видишь, Ларис, вон того мужика?
– Чего же не видеть. Тоскует и надирается. Почему?
– Объясню. А пока задача, раз ты в моем оперативном подчинении находишься, такая будет. Я тебя к нему подведу, представлю. Положение у него сейчас хуже губернаторского. Этой провинции. Все подвешено. Могут под суд отдать, могут снова командующим флотом назначить. Большинство присутствующих к первой мысли склоняются. А мы на второй вариант ставку сделаем. Видишь, даже дамы его аккуратно игнорируют. А ты – заговоришь. Мол, с детства моряков обожаешь, а здесь такой импозантный мужчина в меланхолии пребывает. Выпьешь, покуришь с ним, чтобы роли соответствовать. Индийскую папироску с гашишем… Здесь среди самых экстравагантных и эмансипированных особ это опять в моде.
– Поняла. Блок у тебя в подсознании. Не психологический, а поэт. Александр. «Ты, куря папиросу с гашишем, предложила попробовать мне…» И так далее, не помню. Закурю, выпью, его угощу. Дальше?
– А мне кажется, это не Блок, а Северянин. Впрочем, неважно. Видишь ли, надо, чтобы завтра к утру он стал нашим человеком. Вербовать его пока не нужно и спать с ним для первого раза совсем не обязательно. А вот сделать так, чтобы он ни о чем на этой земле, кроме как о тебе и твоих прелестях, думать не мог – постарайся. Свидания чтоб добивался, всякие глупости говорил. Иначе его придется просто убить. Это – не трудно. Но нерационально. Справишься?
Лариса, так, чтобы это видели несколько поблизости находящихся дам, игриво шлепнула Кирсанова по щеке перчаткой. И засмеялась журчаще.
– Да уж как-нибудь. Подробности докладывать нужно будет?
– Нет. Только деловую информацию.
– Тогда пойдем, представишь меня господину адмиралу.
Поначалу Хиллард отнесся к подсевшему за его столик Кирсанову, неизвестно зачем вздумавшему познакомить его с миледи Отэм, настороженно. Привык ждать подвоха или хорошо замаскированного оскорбления от каждого. А почему при этом все равно приходил на рауты – бог весть. Или свои комплексы потешить, или окружающим досадить собственным присутствием, а то и просто за стаканом-другим виски отвлечься от мыслей о необходимости застрелиться.
Тем более, что к ломберному столу доступ был всегда открыт. Игроков не интересовали высокие материи, если партнер расплачивался полновесными золотыми гинеями. Проиграл адмирал какое-то там сражение или все это слухи – неважно. Желательно, чтобы проигрывал на зеленом сукне.
Постепенно разговор с мистером Сэйпиром и юной дамой его увлек. Питер был остроумен и лишен каких бы то ни было предрассудков, умел несколькими словами дать уничижительную и в то же время объективную характеристику любому и любой из присутствующих, особенно метко отзываясь о лицах, адмиралу антипатичных. Причем так, что заподозрить его в предвзятости или желании подольстить было невозможно.
– Стоит человеку выделиться из массы других, – к месту произнес Кирсанов, – как у него немедленно появляются враги. В изобилии. Чтобы слыть всеобщим любимцем, нужно оставаться заурядностью. Разве вы с этим не согласны?
– Почти согласен, – кивнул Хиллард. – А вот вы явно выделяетесь, и при этом остаетесь всеобщим любимцем. Здесь.
Кирсанов-Сэйпир непринужденно рассмеялся, поднял свой бокал и предложил сделать то же Ларисе и адмиралу.
– Хотите, я поставлю свое состояние против вашего кортика, что столько гадостей, сколько говорится сейчас обо мне в кулуарах этого дома, вы не услышите в свой адрес даже в суде Адмиралтейства. Не дай вам бог, конечно, там оказаться.
Хиллард заметно помрачнел, но виски выпил.
– Повторяю – не дай вам бог, – со значением сказал Кирсанов, вставая. – А сейчас мне нужно на некоторое время отлучиться. Но я непременно еще вернусь. Не обижайте мою подругу, сэр Мэнсон.
Когда пришло время очередного танца, дамы и кавалеры начали разбираться для исполнения гавота или мазурки – невелика разница. Адмирал посмотрел на собеседницу с большой неуверенностью.
В те годы индивидуальных, доставляющих партнерам настоящее удовольствие танцев, вроде танго, фокстрота, в обиходе не было. И даже вальсы находились под большим сомнением ревнителей приличий.
Зато групповые исполнялись под пристальным вниманием мамаш, бездетных тетушек, просто престарелых дам, занимавших позиции вдоль стен. Два-три приглашения подряд одним кавалером незамужней девушки считались достаточным основанием для намека на обручение или сватовство.
Отказ в приглашении считался серьезным оскорблением. Потому Хиллард и ощущал громадный дискомфорт. Откажет ему эта миледи – катастрофа полная и окончательная. Но и не пригласить даму, доверенную его попечению, – неприлично. Если бы это сделал кто-нибудь другой… Но желающих что-то не видно. Именно по той причине, что она оживленно беседует с Хиллардом. Пришлось Ларисе мило улыбнуться, кивнуть и даже как бы сделать рукой движение навстречу адмиралу.
Он поднялся, поправил кортик и поклонился с огромным воодушевлением.
Танцевали они хорошо, ярко, и все взгляды зала были прикованы только и исключительно к ним. И бежали по залу шепотки, скрещивались взгляды, возникали одни комплоты и рушились другие. Народ ведь собрался искушенный, ничем в жизни, кроме интриг, устройства карьеры и приумножения капиталов не занимавшийся.
Миледи Отэм время от времени бросала по сторонам взгляды, которые одних приводили в восторг, других – в замешательство.
Богатая, молодая, титулованная вдова, ее брат и богатейший, по всем сведениям, негоциант Сэйпир не зря ведь так плотно занялись опальным адмиралом. Наверняка в этом есть непонятный, но заслуживающий внимания смысл.
И вот уже несколько весьма уважаемых личностей как бы невзначай оказались у столика, где продолжали увлеченно беседовать сэр Мэнсон и миледи, официанты подсуетились, поднеся бокалы шампанского и стаканы виски. Джентльмены включились в разговор, что не считалось бестактностью. Адмирал, заметно для Ларисы, начал расцветать.
Кто-то спросил о перспективах скорого прибытия бомбейского конвоя, кто-то – о возможности британского флота завоевать наконец господство на море. Ларисе прикладывались к ручке и интересовались, в каких степенях родства она находится с весьма известными лицами.
Она никого не разочаровывала. Небрежно назвала несколько имен, лояльность которых ей гарантировала Сильвия. Касательно королевы она сделала столь непроницаемо-двусмысленное лицо, что каждый был волен понимать это как угодно.
Наступил момент, когда адмирала пригласил на партию бильярда второй человек в иерархии колонии. Отказаться было невозможно, хотя расставаться с миледи Хилларду тоже очень не хотелось. Она его очаровала, и не просто в банальном смысле этого слова.
Лариса понимающе кивнула, и сэр Мэнсон с облегчением встал.
Тут же к ней подсел Кирсанов.
– Получается?
– Более чем. Что дальше? Уложить его в постель я сумею, когда тебе будет угодно… И что?
К Ларисе Юрьевне жандармский полковник с самого начала знакомства относился с большим уважением и такой же опаской. В том смысле, что считал ее дамой абсолютно непредсказуемой, в любой момент способной на все, что угодно. Хоть с винтовкой от бандитов отбиваться, хоть Троцкому глазки строить, хоть мужу в присутствии посторонних устроить грандиозный скандал.
Единственно, что его не тревожило, так это то, как она поведет себя в действительно серьезной ситуации. Тут – стопроцентная гарантия.
Будь у него другие жизненные принципы, он непременно обратил бы на нее внимание, просто как на женщину.
– Я думаю, насчет постели – пока лишнее. Не уверен, что это доставило бы тебе удовольствие. Да и оперативная обстановка не требует. Однако навязывать своего мнения не собираюсь. Если ты не против – сделаем так…
Он передал ей прозрачный пластиковый патрончик чуть толще спички, с несколькими бледно-желтыми шариками внутри. И вчетверо сложенный лист бумаги.
– Пилюльку – адмиралу в виски. Его обожание достигнет крайних пределов, но к активным действиям он до утра будет не способен. Так что спокойно можешь позволить ему все, на что у него достанет фантазии…
– Смешно, – задумчиво ответила Лариса. – Обязательно в самый интересный момент вмешивается Шульгин. То прямо, то косвенно…
Она была права, шарики имели происхождение из Сашкиной лаборатории. В отличие от гомеостата, они вполне подвергались тиражированию в дубликаторе.
– А тебе, Паша, понравилось бы, если б тебя обнимала, слюнявила и щупала старая баба, от которой ты не рассчитываешь получить никакого удовольствия?
– Какие ты пакости умеешь говорить, Лариса Юрьевна, – с достоинством ответил полковник. – Я тебе что-нибудь подобное предлагал? Я хотел только обезопасить твою девичью честь, если ты вдруг сочтешь это нужным. Нет – поступай как знаешь. Я могу приказывать тебе как начальник операции, но на личную жизнь старших братьев и сестер моя власть не распространяется. А по работе требуется, чтобы в достаточно волнующих для него обстоятельствах ты дала ему, на своих глазах, прочитать нужную бумагу… И тщательно фиксировала эмоции, явные, а тем более скрытые.
– А что в ней? – Лариса развернула листок и увидела восемь строк совершенно бессмысленных пятизначных буквосочетаний.
– Это тебе знать пока не нужно. Для непосредственности восприятия. Зашифровано личным шифром адмирала, передано по Атлантическому кабелю Сильвией на твое имя. С поручением передать, и только. Предполагается, что он это расшифрует в твоем присутствии, а ты понаблюдаешь за его реакцией. И за словами, после прочтения сказанными. Или – не сказанными. В любом случае, выйдя после этого в туалет, ты мне немедленно сообщишь об увиденном и услышанном.
– Хитрые кружева плетешь, Паша. – Кирсанову показалось, что она едва заметно ему подмигнула. А может, просто игра света.
Вечер в целом прошел неплохо, обогатив местную жизнь еще одной интригой.
Ушла Лариса в сопровождении «брата Генри», села в карету, но поехали они не к себе в отель, а как и договорились, к дому, снимаемому Хиллардом. Своего особняка в Кейптауне он не имел, служба могла в любой момент заставить отправиться на другой конец света, с эскадрой или в одиночку. Туда, где Империи потребуется ее адмирал.
Сэр Мэнсон настолько соскучился по человеческому общению, тем более – со столь интересной, своенравной и эксцентрической особой, что осмелился предложить продолжить встречу у него дома. В сопровождении брата миледи Отэм спокойно могла принять приглашение, ее репутации это ущерба не наносило.
Кирсанов с ними не поехал, у него были сегодня собственные важные дела.
В гостиной как-то само получилось, что лорд Генри Уоттон оставил «сестру» и адмирала наедине, заявив, что безумно устал от светской болтовни.
– Я в очередной раз убедился, нет такого греха, который нельзя было бы простить, – кроме разве что глупости…
Но развивать тему и намекать на кого-то из сегодняшних собеседников персонально не стал. Попросил разрешения полистать заинтересовавшие его книги в библиотеке. Хиллард, чрезвычайно этим довольный, предложил лорду чувствовать себя как дома, раскрыл перед ним коробку лучших своих сигар и велел слуге принести графин виски, тоже наилучшего.
После прибытия Ларисы в Кейптаун за положение дел в девяносто девятом можно было особенно не волноваться. Теперь там имелась достаточно мощная резидентура, причем составленная из разнообразно подготовленных и надлежащим образом оснащенных людей. Кому положено – знали, что Ирина передала Ларисе блок-универсал, и теперь между ней и Сильвией с Берестиным устанавливалась надежная двухсторонняя связь. В критической ситуации два синхронно работающих по одной цели «портсигара» могли произвести эффект тактического ядерного заряда, но без его известных недостатков.
Теперь ничего не мешало вплотную заняться стратегическими проблемами.
Скуратов, без каких-либо затруднений обучившись работе на здешней компьютерной технике, принялся, используя собственные методики, проникать в глубины дуггурской логики и психологии. Все его разработки, опубликованные и существовавшие пока только в виде черновиков и смутных предположений, шли в дело. Ибо Шатт-Урха вполне можно было рассматривать как объект нечеловеческого типа и изучать его, подобно любому другому псевдомыслящему устройству.
Тот как-то очень легко смирился с мыслью, что вернуться домой ему в ближайшее время не светит. А если и придется, то уже в ином качестве. Ответы на вопросы, которые задавал ему Виктор в качестве стандартных тестов, кроме абстрактной функциональности, давали и чисто познавательный материал. В частности, интересным показался факт, что, в отличие от человека, который в случае необходимости мог бы бесследно затеряться почти в любой стране и в достаточно населенном городе (за исключением Северной Кореи и еще нескольких чересчур специфических мест), Шатт-Урх такой возможности был лишен.
Мало того, что он как бы постоянно носил в руках раскрытый, не поддающийся подделке паспорт (в виде спектра индивидуальных ментаизлучений), так он просто технически не мог существовать вне касты, к которой принадлежал от рождения. В любую другую внедриться невозможно даже гипотетически, как туземцу с Фиджи в национальном костюме устроиться в Москве летчиком-испытателем на авиационный завод. Даже труднее.
– Тоскливо у них там, – сказал Шульгин, услышав об этом. – Пожалуй, в Ниневии, где я на рынке подвизался, степеней социальной мобильности побольше было.
– Дело привычки, – не согласился Скуратов. – Если ты родился мужчиной, идея о превращении в женщину приходит в голову только в результате глубокой психической патологии. Кстати, надо будет и об этом спросить. Хороший вопрос, перспективный.
– Меня их социальное устройство все больше и больше интересует. Ты об этом поподробнее. Внутренняя организация каст и варн, система взаимоотношений, конституционное устройство. Методики управления «низшими», полуразумными и совсем безмозглыми. Какие еще виды, кроме монстров, они используют, – Новикову хорошо запомнились многочисленные боевые членистоногие. – Что у них за экономический базис и идеологическая надстройка.
– И самое главное, – вернулся Шульгин к наиболее заинтересовавшей его теме, – с кем они воюют? С другими «государственными образованиями», или вся их десантно-штурмовая армада – орудие внешней экспансии?
– Слушайте, братцы, меня, кажется, озарило! – воскликнул Воронцов. – Как вам такой вариант – давным-давно эти ребята по тоннелям или каким-то другим способом проникли в еще одну параллель, уровня нашего позднего феодализма, скажем. С ними и воюют, рабов захватывают, сырье добывают… Очень, по-моему, все сходится. А господин Урх нам лапшу на уши вешает.
– Какие, к черту, тоннели, если они до Валгаллы добрались! – не согласился Левашов.
– Одно другому не мешает. И я бы, на всякий случай, попробовал с теми тоннелями, что нам известны, поэкспериментировать. Заодно и с товарищами Ляховыми повстречаться. Давно не виделись…
– Все узнаем, друзья мои. Только без спешки. Я сначала собираюсь все же в личности «объекта» разобраться. Чтобы он нам был ясен и понятен, как вот этот компьютер. – Скуратов указал на открытый ноутбук. – Где нажать, чем щелкнуть, чтобы на выходе получить стопроцентно однозначный результат. А без этого мы будем спрашивать про одно, он нам отвечать совсем про другое, и вовек не догадаемся, как все обстоит на самом деле.
– Утрируешь? Уж он-то в наших мыслях и эмоциях совсем неплохо разбирается.
– Ни в коей мере. Слова из долговременной памяти выдергивать и эмоциональный настрой ощущать – еще не значит «разбираться». Вы же сами заметили – очень часто он отвечал на вопросы «под суфлера». Так, как мы уже сами себе ответили. Истинная же суть до него просто не доходила. Пример. Если ты не изучал японскую культуру, никогда не поймешь, почему японец без специальной просьбы не кинется помогать незнакомому человеку…
Шульгин был в курсе, поэтому молча улыбнулся.
– Большинство европейцев подумает, что японцы черствы и равнодушны, а с их точки зрения они просто очень деликатны и не могут насильно сделать человека своим должником. Поскольку, по их понятиям, помощь требует обязательной ответной услуги. Помочь без просьбы – в некоторых случаях это почти то же самое, что кошелек на улице отнять… Я всегда во вводной лекции демонстрирую студентам две пересекающиеся окружности. Сектор, общий для обеих, – это зона взаимопонимания общающихся субъектов. Он бывает больше или меньше, но никогда не превышает половины, иначе центр одной окружности окажется внутри другой, что невозможно при сохранении личной идентичности. Так это для субъектов общей культуры и языка…
– Идея ясна, – кивнул Воронцов. – На самом деле, смешно браться за работу синхронного переводчика на научном симпозиуме по международному морскому праву, владея лексиконом Эллочки…
– И даже Фимы Сóбак, – согласился Новиков.
Теперь в недоумении оказался Скуратов. «12 стульев» ему прочитать негде было.
– Ну, пока время терпит – работай, – сказал Шульгин. – А нам, пожалуй, пора к деду Косте наведаться…
На Валгаллу теоретически попасть было совсем нетрудно. Выставить три верньера в нужные позиции, минутное ожидание накопления заряда в конденсаторах – и готово! Однако Олегу пришлось повозиться несколько часов, настраивая машину с учетом всех случившихся до того нарушений метрики пространства и времени, сдвигов и деформаций, вызванных включением чужих систем, а равно и возможного присутствия у входа и выхода канала неприятельских следящих устройств.
Ему нужно было найти единственную пространственно-временную точку. Ни раньше, ни позже, ни правее, ни левее. Желательно – примерно через неделю после прибытия туда Удолина с пленником и соратниками. Совсем ни к чему было встретить там самих себя в любых предыдущих реинкарнациях, явиться в дни, когда там проживала (будет проживать) семья наркома Шестакова и бывший старший лейтенант Власьев, пересечься с неперевоспитанными Дайяной и Лихаревым.
Сложная задача – исключить (или должным образом компенсировать) пресловутый принцип неопределенности. Примерно как автоматическая посадка на Луну ракеты с луноходом. При вычислительной технике и системах управления тысяча девятьсот семидесятого года.
И все-таки решаемая.
Немного поспорили, кому именно идти в очередной поход. Хотели все, кому довелось пожить на «первой Валгалле»: у кого тяга к очередным приключениям, у кого просто ностальгия. Левашова и Скуратова отсекли сразу. Один должен обеспечивать стационарную СПВ-систему с парохода (мало ли что может случиться), второй – продолжать работу с дуггуром.
И Воронцову с Натальей лучше было оставаться на месте. Тьфу-тьфу, но одна дурацкая случайность, от шальной пули до нападения суперкота, лишит их единственного моряка, командира корабля и военно-морской базы.
– Тебе, Антон, пожалуй, тоже не стоит, кто его знает, как Дайяна, если встретимся, и ее курсантки на твой фенотип отреагируют, – сказал Новиков тоном приказа. И, слегка смягчая, добавил: – Если мы не вернемся, на Земле больше толком распорядиться некому. С учетом жизненного опыта.
Вроде и в шутку, а ведь совершенно правильно по сути. Не вернуться можно очень легко, и кто тогда останется координатором, понимающим в человеческих и нечеловеческих проблемах?
– А я? – вмешался Ростокин, до этого не проявлявший активности. – Я у вас там никогда не был. Хотелось бы. И пригодиться могу.
– Спора нет, – ответил Шульгин, будто впервые в жизни оглядывая мощную фигуру Игоря. – Можешь. Проявил. Доказал. Корреспондент, опять же.
– Александр, – с возмущением ответила на его цитату из «Застольной»[34] Алла, – что у тебя за настроение?
– Нормальное у него настроение, – с усмешкой, не очень понятной для девушки, родившейся на восемьдесят лет позже, ответил Новиков. – Ты тоже жена журналиста, так послушай текст целиком…
Своей гитары у Андрея под рукой не было, но в углу салона, на подиуме имелся электроорган, совмещенный с синтезатором и выведенный на восемь колонок по всем переборкам. Перекинув несколько тумблеров, Новиков выбрал нужный режим. Наклонил поудобнее микрофон. Откинулся на спинку и начал играть…
Хорошая все-таки техника, что угодно позволяет изобразить.
Аккомпанемент семиструнки, на заднем плане поддерживаемой словно бы неуверенными, но четко в такт попадающими переборами трофейного «Хохнера».[35] Где-то вдали едва слышны звуки отдаленного боя. И при этом специфическая акустика большой землянки, где слушают песню, дышат, шаркают по полу подошвами сапог, гремят кружками и звенят стаканами десяток хорошо отдыхающих, до следующего боя, офицеров.
Кто поближе годом рождения к тому времени, кто с детских лет помнил документальные и наскоро снятые в Алма-Ате художественные фильмы военных лет, сразу проникся настроением. Для остальных получилась экзотика. Тем более, что и тональность своего голоса Андрей подрегулировал, как надо. Что-то среднее получилось между Бернесом, Крючковым и им самим.
Андрей замолчал, только орудийные раскаты и пулеметные очереди еще слышались из динамиков, медленно затухая. Потом внезапно прорезалась мелодия «Прощание славянки», наигрываемая на одной трубе, и тоже стихла.
Новиков давно не исполнял для широкой аудитории песен, ни своих, ни чужих. Сейчас это неожиданное выступление произвело впечатление и на тех, кто раньше его уже слышал, а особенно на тех, кто услышал впервые. Дело ведь не в голосе, дело в теме. Попасть нужно. Андрей попал.
Оваций не было, но реакция случилась вполне достойная.
– Слышь, Игорь, – сказал Шульгин, докуривая сигарету, – у тебя дома тоже полно военных журналюг, ты им при случае изобрази. Глядишь – понравится. Хочешь – за свою выдай. Константин Михайлович не обидится, а окружающие лучше примут. Известно.
– О чем ты говоришь! Чтобы я, и… А почему я вообще раньше этого не слышал?
Новиков предпочел сохранить лицо спокойным.
– Ты в библиотеку на досуге загляни. Симонов – в черных переплетах, Гумилев – в темно-зеленых. Лермонтов – в желтых. Полистай от скуки. Еще Денис Давыдов когда-то был, и совсем незначительные авторы, вроде Языкова и Баратынского. В школе не проходили? И проходили что-нибудь вообще?
– Андрей! – предупреждающе сказала Ирина.
– Да я что? Я ничего. Не проходили – и не надо. У них своих писателей и поэтов за полтораста лет столько расплодилось! Я их тоже не читал. Потому вечер лирической песни считаем законченным. Если по делу – Игоря с собой возьмем. И тебя тоже. Больше – никого. И обсуждать нечего.
На его слова обиделась только Алла. Ей как раз на Валгаллу очень хотелось. Так она и сказала:
– Я ничуть не слабее вас и видела не меньше. Правда, Игорь?
Апелляция была неубедительная. Даже для Ростокина, тем более – для «Боевых магистров» (так Шульгин, Новиков, Берестин, Воронцов, Левашов иногда в шутку друг друга называли. Вспоминая дона Рэбу). Знали они, чем ее подвиги закончились.
Обошлись без слов, хватило взгляда Шульгина, чтобы предложить Ростокину самому решать свой внутрисемейный вопрос, не заставляя остальных тратить очень небольшой запас миролюбия и альтруизма.
В Левашова верили. Если бы не верить, так поумирать полагалось всем причастным еще в теплом, дождливом, пахнущем липами последнем советском лете. (Ах, какое чудесное было лето восемьдесят четвертого!) Или – перестать быть в заданном качестве, что почти одно и то же.
Однако «принцип неопределенности» – штука весьма неприятная и с трудом преодолимая. Либо ты промахиваешься по времени на месяц или неделю, либо пространственно – от километра до тысячи. По горизонтали – ладно, даже и пешком дней за десять компенсировать можно, а если по вертикали?
Отчего Новиков с долей недоверия когда-то отнесся к попытке Левашова отправить Ирину на поиски Берестина в плохо представимый параллельный июль. Из другого февраля. Ему, по-простому сказать, выбор делать было не очень трудно. Подумаешь, вдруг выяснится, что ты на этом свете даже и не рождался. Горевать некому и не о чем. Вот если перед непременной смертью тебя на дыбу вздергивают, колесуют, жгут на медленном (какой садизм у просвещенных европейцев – именно на медленном) огне – это неприятно.[39]
– Никакого специального снаряжения брать не будем, – категорически сказал Андрей. – Оденемся попросту, по-походному. Не на войну идем. Все, что нужно, в форте есть. Если доберемся. А так нам ничего и не надо. Портсигарчик у тебя, Ира, есть, гомеостат. Пистолеты прихватим, для самоуспокоения и поддержания имиджа. Ножи, курево, по фляжке. НЗ, одним словом, да и то не знаю, в каком случае он может пригодиться. Разве только в процессе перехода куда-нибудь вывалимся… Поняли?
Если Олег не найдет нужное место, никто не пройдет через портал. А найдет – и говорить будет не о чем. В смысле вооружения и других способов влиять на текущую обстановку.
… – Не получается, – вдруг сказал Левашов, когда десантная партия уже толпилась у него за спиной, готовая перешагнуть прямо на веранду или хотя бы во внутренний двор форта. – Точно как тогда, Андрей, когда вас с Ирой в девяносто первый вытолкнуло…
Он подкручивал верньер, не отрывая глаз от осциллографического экрана и стрелок горизонтальных и вертикальных шкал. Такой у него был каприз мастера – сохранить приборную панель Главной установки в первозданном виде. Дублирующие терминалы были исполнены в близком к концу ХХ века дизайне, с компьютерными мониторами, «мышками» и джойстиками, а основная машина внешне оставалась почти такой, как он ее смонтировал с самого начала.
– Не получается. Район форта как бы заблокирован, причем сплошняком. И по времени, и пространственно. Указатель подтверждает, что мы уже фактически там, а окно не открывается! – Олег, то ли в доказательство, то ли от отчаяния несколько раз подряд нажал пусковую кнопку.
– Чуть не так, – поправил его Новиков. – Тот раз проход открылся сразу, только время на указателях и в реале не совпало. Сейчас мы видим кое-что другое.
– Удолин, – страшным шепотом сказал Шульгин. Для большего драматизма. – Это он со своими мистиками форт занавесил. Мы знаем, что там у него за Бен-Бецалели собрались в неизвестных количествах? Закуклились в нашем тереме и творят свои черные мессы.
– Думай, о чем говоришь, – непонятно почему одернула его Ирина. Ей-то что до этих материй и категорий? Однако вот…
– Еще и думать? Не подряжался, – огрызнулся Сашка. – Давайте я попробую – через верх. По баллистической траектории. Перескочу и любую защиту на месте вырублю.
Подразумевался очередной, неплохо раньше отработанный бросок по эфирным сферам тонкой составляющей его личности внутрь форта и отключение, силовым или иным методом, удолинской блокировки. Могло бы и получиться, как раньше получалось. Только Новиков боялся и думать, что в результате может случиться именно с Сашкиной личностью, столько раз уже перемонтированной и восстановленной неизвестно из чего.
– Напрыгался уже, хватит! – пресек его энтузиазм Андрей. – Давай, Олег, покрути машинку. Если на форт не выходит, попробуй в это же время – базу Дайяны. Где мы с тобой были. Вряд ли она от нас тем же образом прикрыта. А ты, Игорь, как младший по званию, давай бегом, распорядись, чтоб притащили четыре полных комплекта боевого снаряжения. Признаю свою неправоту и абстрактный оптимизм вкупе с таким же пацифизмом.
– Получается, – через минуту сообщил Левашов, глядя на Новикова с уважением. Сколько дружат, а внезапные, сугубо спонтанные и парадоксальные решения Андрея его до сих пор восхищали. При том, что сам умел придумывать куда более невероятные вещи. Но – в технической области.
А чтобы попасть в лапы московской милиции в два часа ночи и не оказаться всей веселой компанией в вытрезвителе с последующим отчислением из вуза, напротив того, быть развезенными прямо до подъездов на «канарейке» и распрощаться с сержантами за руку (до обмена визитными карточками, правда, не доходило), это нужно быть только и исключительно Новиковым.
«В таком случае, чего же он не отмазался от высылки из Америки? – параллельно подумал Олег и тут же сам себе ответил: – А хоть кто-нибудь в таких вариантах ухитрялся обойтись без лишения выездного статуса? А он сумел».
Послужив в Совторгфлоте, Левашов хорошо знал, за какие мелочи лишают моряков визы навсегда. Стуканул недостаточно подогретый помполит, что в белоэмигрантском магазинчике на Брайтоне отоваривался, и конец карьере. Будешь до пенсии курс из Таганрога на Новороссийск прокладывать, совсем не повезет – из Певека до Игарки.
– От тебя привет кому передать? – шепотом, наклонившись к самому уху, спросил у Олега Новиков. Ему самому на базе у Дайяны было не до девочек, при всех их достоинствах, но каждую, особенно из приставленных Дайяной к десантникам, запомнил хорошо. Специальность такая.
Левашов усмехнулся уголком рта:
– Кристине, если среди других «оранжевых» различишь.
– Да запросто. Имей в виду, Дайяна их вскоре собирается к нам в Кисловодск «2006» переправить, со спецзаданиями. Так что еще будет повод. В кафе «Юность» сходим, в ресторанчик «Черная роза» (вообще-то он назывался «Чайная», но они с самого начала дали ему другое название, очевидно – для эстетства). Представь, до сих пор на том же месте существует, невзирая на все войны и революции.
Олег благодарно кивнул. Чем-то та девушка, стилистически очень близкая к Ирине, его задела, действительно сумела утешить «по полной программе», сильно отличающейся от той, которой руководствовалась Лариса. Отчего бы и не возобновить знакомство, если случай представится. Без серьезных последствий, разумеется.
И тут же он подумал, каково там придется самому Андрею? Ирина, с ее проницательностью и специфическим опытом тех же самых «курсов», непременно догадается, если Анастасия бросит на Новикова хоть один обожающий взгляд. Или Дайяна из подлости намекнет коллеге, как ее друзья помогали девушкам к выпускным экзаменам готовиться. И что тогда будет?
Однако самого Андрея эта перспектива, похоже, совсем не волновала. Он думал о другом – не начнется ли с ним на Валгалле новый приступ депрессии, или после нескольких межвременных переходов колебания эфира угасли и больше не способны вызывать в его мозгу патологический резонанс?
Скорее всего, так оно и есть: пребывание в пещерах дагонов и в непосредственной близости от дуггурской станции никак на него не повлияло.
Роботы ввалились в зал, каждый принес по два полных набора боевого снаряжения. Предполагавшаяся только полчаса назад легкая прогулка, словно по набережной Ялты, в панаме и с тросточкой (в смысле – килограмм не слишком нужного комплекта выживания на поясном ремне), автоматически (добавим – как всегда) сменилась на абсолютно другую. Вместо Ялты – Панджшерское ущелье не желаете ли?
Теперь уже невозможно было предсказать, примет ли их Дайяна с тем радушием, как совсем недавно (сколько дней назад, кстати? Или лет?). Вдруг у нее там пошли совсем другие разборки? Дуггуры, появления которых она ждала не раньше, чем через год (но была уверена в их обязательном вторжении), пришли немного раньше и превратили райский уголок в загаженные собственным дерьмом руины, а Дайяну и ее курсанток то ли сожрали, то ли отправили в «метрополию» для научных экспериментов. Куда более богатый генетический и психологический материал, чем единственная Лариса.
Снова, как в конце двадцатого года, роботы по спецсигналу Шульгина доставили из известного места комплекты настоящего выживания. С помощью которых когда-то выручали из лап Агранова совсем еще неизвестного им Удолина.
Каждому идущему в рейд теперь полагались черные пуленепробиваемые костюмы в обтяжку, отражающие лучи оптического спектра, то есть практически невидимые, особенно в движении, в темноте и сумерках. Тяжелые ранцы с оружием и разведывательно-диверсионными принадлежностями, предназначенными для многих дел, вплоть до штурма хорошо подготовленных к обороне именно от спецназа помещений. Имелись там вещи и предметы, теорией современных разведслужб не предусмотренные.
Автоматы «ППСШ»,[40] «маузеровская» пуля которых на двадцать метров пробивала любую носимую бронезащиту. В пределах ста-двухсот эти легкие и безотказные устройства за счет темпа и кучности огня были незаменимы в уличных боях. Даже «АКМ» им уступал. Были случаи проверить.
Пистолеты того же калибра, разного типа гранаты, портативные рации, позаимствованные из реальности «2005/2». Дальность действия у них так себе (без ретрансляторов), но в пределах нескольких километров связь вполне уверенная.
– Напугаем местное население, – сказал Ростокин, осматривая себя в зеркале и осторожно косясь на Ирину. Если бы еще цвет не черный, а телесный, с нескольких шагов девушку можно было бы принять за статую с несколько утрированными вторичными половыми признаками. Примерно так выглядела в скафандре Фай Родис на иллюстрациях к «Часу быка». Игорь видел Ирину и в натурально-обнаженном виде, однако сейчас она выглядела едва ли не более волнующе, чем в свое время на палубе «Призрака». Тем более свойства костюма делали фигуру эфемерной, с оттенком ирреальности.
Он еще не догадывался, какие эмоции его ждут, если повезет оказаться в окружении сразу всех курсанток Таорэры. В мусульманском раю, кажется, на одного праведника приходится меньшее количество гурий.
Поверх костюмов все, Ирина в том числе, надели жилеты-разгрузки, ранцы, пояса со снаряжением. Наваждение сразу исчезло.
– Так что, пошли? – спросил Шульгин. – У тебя все готово, Олег?
– Тогда хоть первые полчаса смотри за нами в оба. Что не так пойдет – выскочим. Штыком и гранатой…
– Саш, тебе каркать не надоело? – спросила Ирина.
– А в чем проблема? Предпочитаю говорить о возможных осложнениях до, а не после…
Левашов открыл проход на окраине центрального поселка при учебно-тренировочной базе аггрианских стажеров, готовящихся к распределению на бессрочную земную службу.
Погода снова была подходящей для весны на курортах Северного Кавказа. Никаких следов обрушившегося на долину какое-то время назад урагана. Впрочем, кто теперь знает, когда это было? По расчетам Новикова и Левашова, независимого времени прошло чуть больше двух месяцев, с поправкой на момент ухода на Валгаллу Удолина с пленником – неделей меньше.
Естественно, что снег успел растаять, на склонах холмов и лужайках расцвели подобия крокусов, эдельвейсов и иной флоры альпийских лугов. Ветерок волнами накидывал сложную композицию запахов всевозможных хвойных растений, цветов и трав, подчеркнутую ледяной свежестью недалеких снеговых вершин.
– Что-нибудь узнаешь? – спросил Андрей Ирину, машинально пощелкивая ногтями по ствольной коробке взведенного автомата.
– Чего не узнать? – грустно улыбнулась она. – За столько лет подзабылось, а сейчас смотрю – как вчера тут была. Жила во-он там, видишь, на склоне, – она показала на одну из вилл, выделявшуюся из числа других возвышенным местоположением и зеленой мансардной крышей. – Последние три месяца жили в обстановке «золотых шестидесятых». – В голосе Ирины прозвучала вполне понятная грусть. Что может быть приятнее и тоскливее, чем возвращение в места ранней юности, тем более те, где впервые осознал себя сформировавшейся и самодостаточной личностью?
– Вас до штаба Дайяны проводить? – спросила она.
– Да и мы ничего не забыли. Ну веди, если хочется, – ответил Андрей.
Ростокин, впервые здесь оказавшийся, осматривался с интересом и восхищением. Даже на его благоустроенной Земле подобные райские уголки встречались не слишком часто.
Следов укреплений и оборонительных рубежей, которые Дайяна обещала воздвигнуть на случай нового вторжения дуггуров, поблизости видно не было. Или выдвинуты дальше к предполью, или хорошо замаскированы.
Например, бронеходы с гравипушками удобно поставить в цокольных этажах коттеджей, что-нибудь полегче, не менее смертоносное для дуггуров – на чердаках. На укромных горных полянах – эскадрильи ударных флигеров. С таким контингентом, как у Дайяны, воевать в здешнем ландшафте можно долго и эффективно. Было бы с кем.
– Слышь, Ира, – спросил Шульгин, – а я не успел у Дайяны поинтересоваться, ваши курсантки до выпуска блок-универсалы и гомеостаты получают или только потом, вместе с погонами и кортиком?
– Потом. На последнем курсе изучают, но на руках персональных не имеют.
– Понял. А в особых условиях, вроде нынешних, начальница может их все-таки выдать? Как винтовки ополченцам?
– Если они у нее есть. В чем я совсем не уверена. С десяток могло где-то храниться, по тем или иным причинам вовремя не выданных, но, думаю, они, как и «Шары», поступали централизованно, а может, и на Базе изготавливались, под конкретных выпускников… Там сильные производственные мощности были, только нам про это не рассказывали.
– Точно. Не зря сказала Дайяна, что для нее гомеостат – «невозобновляемый ресурс».
Из-за ближайшего можжевелового куста, заслоняющего своими буйно разросшимися ветвями больше половины стоящего за ним коттеджа, вышли две девушки в тех же, что при прошлом посещении базы Шульгиным и Новиковым, оранжевых униформах. Только погон, беретов и высоких хромовых сапог им не хватало, чтобы выглядеть вполне сообразно режиму предвоенного периода.
Ни Сашка, ни Андрей не могли сказать, видели они в свите Дайяны этих красавиц или совсем других. Они не были похожи друг на друга, на Анастасию, Кристину, или девушку, опекавшую Шульгина, обладали, на первый взгляд, ярко выраженной индивидуальностью, но в то же время, если их перетасовать с десятком других и снова поставить в строй – угадать кто есть кто было бы почти невозможно.
Тут самые первые аггры – руководители курсов проявили дьявольскую хитрость. Новиков в свое время считал это их ошибкой – оформлять своих агентесс суперкрасавицами, успев лично познакомиться только с Ириной, Сильвией и Дайяной. Мол, «серые мышки» тоже могли бы работать не хуже, не привлекая при этом лишнего внимания. И только теперь сообразил, в чем идея.
Красавица (особенно умная и профессионально подготовленная) в гораздо большей мере способна рассеивать постороннее внимание, чем дурнушка. Прежде всего мужики, за исключением самых стойких или нетрадиционно ориентированных, при общении с красивыми девушками ощутимо глупеют, теряют критичность мышления и непроизвольно «распускают перья».
Кроме этого, от красавицы обычно остается гораздо более расплывчатое впечатление. Ноги, грудь, глаза, волосы, вкупе с грамотно подобранным туалетом смешиваются в некую абстракцию. Стоит им немного изменить любую из компонент, особенно зная, что и как, – при следующей встрече ничего не стоит остаться неузнанной. А «словесный портрет» опишет нечто совпадающее с фотографией на обложке любого из «журналов для мужчин».
Заменить один экземпляр на другой тоже не слишком сложно. Вот этим двум барышням просто парики с толком подобранные надеть – совсем другое впечатление получится.
– Мы вас узнали, – мелодичным голосом сказал та, что стояла слева, темная шатенка. Вторая, платиновая блондинка, молча кивнула, не сводя глаз с мужчин. На Ирину они смотрели мимо. Не заслуживающий внимания объект, или – наоборот? Свою узнали, выполняющую задание?
– Очень приятно, – галантно склонил голову Шульгин. – Потому и вышли встретить? Почетный эскорт?
– Нет, – словно бы смутились девушки. – Просто в окно увидели. Госпожа Дайяна давно распорядилась: если кто обнаружит кого-либо из вас или ваших товарищей на территории Центра – немедленно проводить к ней. Никаких других действий не предпринимать.
«Интересно, а какие бы они могли предпринять? – подумал Новиков. – Из гравипушки приложить? Ах да, у них же должны быть болевые излучатели, какими они нас с Сашкой пощекотали в ходе «Гамбита». Самое то в ряде случаев, а мы за суматохой даже не попытались на память хоть один раздобыть, когда на Базу лазили…»
Но спросил о другом:
– Вы и наших товарищей знаете?
– Конечно, знаем, – как о деле вполне очевидном, ответила шатенка. – Нам показывали видеозаписи, сообщили характеристики на каждого из «Андреевского братства». Мало ли с кем и где встретиться придется.
«Серьезно Дайяна к делу подходит», – подумал Новиков.
– Тогда пошли. А звать-то вас как, эстандарт-юнкерицы?[41]
Не удивившись наименованию (видимо, знали, что оно означает), девушки представились:
– Ольга, – блондинка.
– Надежда, – шатенка.
Дайяна встретила гостей на крыльце учебного (он и административный) корпуса. Одета она была, по случаю рабочего времени, в такой же, как у девушек, костюм, только не оранжевый, а светло-оливковый. Со всеми прибывшими поздоровалась за руку, а Ирине даже приложилась к щечке, снова подтверждая слова, сказанные во время последней встречи: любая вражда между нею и «Братством» окончательно в прошлом, отныне они естественные и единственные союзники.
Боевые доспехи десанта ее явно встревожили, о чем она немедленно, пока поднимались на лифте к ее кабинету, прежде всего и спросила. Минуя обычные фразы типа: «Как добрались, все ли дома здоровы, какие на Земле погоды стоят…»
– Нет, ничего непосредственно угрожающего в близких окрестностях не просматривается. Это мы на всякий случай приоделись, не зная, куда попадем, – успокоил хозяйку Шульгин. – Там, – небрежно указал он большим пальцем за спину, – постреляли немного, но далеко, в Южной Африке и в позапрошлом, что ли, веке…
– Вас еще и туда занесло? – не слишком удивилась Дайяна.
– По вражескому следу. Поступила информация – оттуда господа дуггуры к нам просачиваются…
Помещалась начальница Центра на самом верхнем этаже, занимая кабинет в полсотни квадратных метров, с панорамным, во всю стену, окном, из которого виден был поселок и окружающий его горный лес.
«Если вон на тех высотах установить обычную «Шилку», базе – амбец», – привычно прикинул Новиков.
Вдоль стен кабинета размещались три десятка приличного размера мониторов и много другого электронного оборудования. Дайяна, входя, очевидно, нажала какой-то выключатель, потому что экраны разом погасли, однако и нескольких секунд было достаточно, чтобы увидеть картинки. Ничего особенного – хозяйка просто наблюдала за всем происходящим в коттеджах, классах, на территории поселка, этого, а возможно, и всех других, входящих в систему. Наблюдала и руководила учебным процессом и соблюдением уставов внутренней, караульной и прочих служб. Как же иначе, если их с Лихаревым только двое на весь гарнизон?
Разве что имеются толковые фельдфебели из учащихся же, как это было налажено в Императорском Морском корпусе. Там ротные офицеры могли сутками не появляться в классах, а служба катилась, как поезд Петербург – Москва по рельсам Николаевской дороги.
– Располагайтесь, друзья, – радушно сказала Дайяна.
Да, то ли жизнь ее пообломала, то ли изменение статуса. Очень мало в ней сейчас было от царственной дамочки, что пыталась нагнуть Новикова с Берестиным, и даже той, с которой они сразились, почти на пределе своих возможностей, совсем вроде недавно.
– Снимайте свое снаряжение. Здесь вам точно ничего не грозит. И расскажите мне, жалкой провинциалке, что творится в «Большом мире».
Автоматы, ранцы, «разгрузки» и ремни со всем на них навешанным гости с удовольствием сложили на пол, но поблизости от кресел, чтобы даже сидя дотянуться.
– Друга Валентина что-то не вижу, – с хорошо изображенной тревогой сказал Шульгин, оглядываясь.
– Не беспокойся. Он в… в соседний лагерь по делам отлучился.
Название было произнесено по-аггриански. Это Андрей определил чисто фонетически. И сообразил, что касалось это только Ирины. Хотя следующие слова Дайяна произнесла понятно всем: «Ты же, сто тринадцатая, знаешь, где это?»
Интересный поворот. Андрей, не говоря об остальных, впервые услышал не только служебный номер подруги, но и подобную тональность. Неужели Дайяна затевает новую, на других правилах построенную игру?
Однако – нет. Ирина отреагировала вполне спокойно. Может быть, это у них, как у старых солдат, просто воспоминание «о битвах, где вместе рубились они»? Полковое прозвище и понятное посвященным название чего-то. Кто из сегодняшних штатских навскидку скажет, что означает и когда был «десант на Отомари», к примеру?
– Как не знать, – ответила Ирина. И закатила длиннейшую фразу на «родном» языке.
– Вам по-русски не проще будет? – спросил Шульгин, всем своим видом показывая, что он, как князь Барятинский, принимающий капитуляцию Шамиля, не потерпит в своем светлейшем присутствии варварской тарабарщины.
– Видите ли, господа, – извиняясь тоном и мимикой, ответила Дайяна, – отчего я и удивилась вашему тяжелому боевому снаряжению… Знаю, что волею высших сил вы всегда появляетесь там, где нужно вам или судьбе, но очень часто – вопреки хорошо разработанным планам…
– Милейшая, – с соответствующей сладкой улыбкой сказал Шульгин (сейчас пошла его игра), – какие, на хрен, высшие силы? И что это за хорошо разработанные планы? Сколько ни пытаюсь такие вспомнить – ну никак не получается. Не будь ты столь самоуверенной особой, разве послала бы двоих слабаков – пехотинцев Ирину от нас депортировать? Проверила бы сначала, с кем им дело иметь придется. Все остальные планы, к которым ты отношение имела, сама знаешь, чем закончились.
Мы сейчас к тебе заглянули просто случайно. Нам совсем в другое место надо. К себе в форт. Но что-то мне подсказывает, проблемки у тебя все-таки есть… Надо – поможем. Однако, раз мы здесь, нам нужна парочка флигеров. Те, что сюда с той Базы перегнали. Возьмем?
Ирина встревоженно переглянулась с Новиковым, ничего не сказав. Просто, похоже, ей не понравилась избранная Сашкой тональность или содержание его тирады. Зачем он вдруг обостряет? Ростокин же сидел точно «за болвана в старом польском преферансе»: сданных карт не видел и о дальнейшем ходе игры понятия не имел.
– Очень может быть, ты и прав, Александр. Но вот в данном случае мне трудно определить, насколько хорошо разработаны ваши планы. Не так давно я уже говорила – напрасно вы в эту авантюру ввязались. К сожалению, не ошиблась. Вынуждена вас огорчить, – ответила Шульгину Дайяна подчеркнуто спокойно. – Даже очень огорчить. Вы к таким вещам относитесь чересчур эмоционально…
– Что с Лихаревым? – прямо и резко спросил Новиков. – Союзница, говоришь, а темнишь по-прежнему. Главное – непонятно зачем. Новую авантюру затеваешь, или… Что? По виду у вас тут все спокойно, но я же чувствую напряжение. Твое лично и, так сказать, разлитое в атмосфере. Так?
Он обвел глазами друзей.
Шульгин согласно кивнул. Ирина покусывала губу и смотрела в сторону.
Непонятно, что его толкнуло, но он вдруг спросил:
– Ирина, значит, «сто тринадцатая» по вашему счету. А у моей девушки, Анастасии, какой номер?
Шульгин, похоже, даже вздрогнул. Как это друг при жене о прелестной любовнице вслух объявил? Он о своей, подарившей ему незабываемую ночь, никому не обмолвился. Даже с Андреем и Олегом этой темы не касался. А уж тем более – Анне сказать, что была у него здесь своя девушка.
Сашкину одноразовую (больше с ней встречаться он не собирался) подругу звали Марией. Тоже как одну из дочерей царя Николая Второго. И возраст почти подходил.
– У Анастасии номер был двести восемьдесят семь… – почти равнодушно сказала Дайяна, и Андрей не сразу понял смысл этого страшного слова. Остальные поняли раньше.
– Девушки с номерами от двести восемьдесят пятого до двести девяносто первого погибли в бою. Вместе с Валентином, – интонации Дайяны оставались холодно-безразличными.
– А… – привстал с кресла Шульгин.
– Она была двести восемьдесят девятой…
Сашка едва заметно дернул щекой. И его по сердцу царапнуло. Как бы там ни было, а не чужой человек. И девчонка ведь совсем.
– Как? – спросил Новиков. – Я ведь тебе сказал… – обратился он к Дайяне с абсолютно бессмысленным вопросом. Да, он ей говорил, чтобы Анастасию никому больше не предлагали в качестве объекта и чтобы она дождалась встречи с ним в какие-то другие времена. В Кисловодске-2006, допустим. Обещал ей стать «добрым дядюшкой». А она погибла здесь…
Он на самом деле хотел провести ее по предстоящей жизни так, чтобы Насте было… Ну, нормально. Замуж так замуж, не захочет – не надо. Но чтобы ей все равно было хорошо. Имея такого «дядюшку». А сейчас стало так хреново, как не было в самые страшные моменты его депрессии.
Он не сразу сообразил, в чем дело. Чуть позже дошло – это ведь за все годы первая смерть небезразличного человека. До сих пор судьба миловала. Погибшие в боях офицеры – не в счет, там совсем другое.
Ирина положила ему ладонь на руку, понимая, что с ним происходит.
– Расскажи, – хрипло сказал Андрей. – Что случилось?
– Что рассказывать? Кто виноват? Никто не виноват. Или – все! Я и вы – в том числе. Когда вы улетели, через несколько дней Валентин, взяв с собой шестерых самых подготовленных курсанток, умеющих почти все и вдобавок добровольно вызвавшихся в дальнюю разведку, отправился посмотреть. Туда, на главную Базу.
– Что там им смотреть? – бесцветным голосом спросил Шульгин.
– Было что, – спокойно ответила Дайяна. – Какие разрушения причинил налет, что осталось. Боевую технику сюда перегнать…
Да ей-то зачем нервничать? Не та натура. Когда Новиков с Берестиным попались ей в лапы и она отправила их на убой в сорок первый год, никаких эмоций на ее прелестном лице не читалось. Кроме одних – она не скрывала удовольствия, сообщая, что выбор у них есть: от каменоломен Древнего Египта до должности евнухов в гареме царя Соломона.
Да и последнее свое поражение на Базе пережила легче, чем другая женщина на ее месте.
– Дальше, – ледяным тоном сказал Новиков.
– Неудачно сложилось. Именно в это время в этом же месте проявились те, кого вы называете «дуггурами». Тоже, наверное, разобраться решили, что случилось с предыдущим десантом. Живых, наверное, найти надеялись… Наши, все семеро, полетели на одном флигере и так неудачно пересеклись…
– Да что ты тут театральные паузы изображаешь? – спросил Андрей таким тоном, что каждому из окружающих стало понятно – человек доведен до самого края.
– Их «медуза» и наш флигер встретились над Базой. Валентин успел передать, что открывает огонь по цели. Сказал – какой. И все. Я потом сама туда полетела. Не на флигере, конечно. «Медузу» они гравипушкой по земле размазали, но и им чем-то успели ответить. Лазером, антиматерией – не знаю. Одни обгоревшие железки там остались. Вот так…
Новиков, разминая сигарету, отошел к окну. Погано было на душе, ох как погано!
Лихарев – хрен бы с ним. Дубликат в тридцать восьмом имеется – нужен будет, вывезем. Не тот, конечно, человек, не жил в XXI веке, ничего о случившихся в Кисловодске и Пятигорске делах не знает. Однако и тот, если разобраться.
К нему подошла Ирина, молча стояла за спиной, смотрела, как он тремя затяжками докуривает.
– Ты бы так не переживал, – наконец сказала она. – Ты, наверное, не знаешь. Здешние девушки – не личности. Как и наши роботы. Пока их правильно не инициировали…
– То есть?
– Заготовки. Болванки. Любую можно перенастроить по нужной схеме. Такой и я была. Вот когда «произведут» в человека, только тогда личность зафиксируется… Я, например, в Москве-72 только через две недели себя по-настоящему осознала…
– Да что ты мне… – ему захотелось сказать подходящую к случаю грубость, но он сдержался.
– То самое. Попроси сейчас Дайяну – она тебе твою Анастасию представит в исходном виде. Не отличишь. И с теми же воспоминаниями… Если тебя это успокоит, я ревновать не стану.
Андрею хватало опыта и образования, чтобы поверить в то, что говорит Ирина. Ну да, она была «сто тринадцатой», пока не превратилась в Ирину Седову, а «двести восемьдесят седьмая», «девятая» и остальные фамилии получить не успели. «Настей», «Марией» были только для них, специально, на один вечер так обозначенные.
Однако тех воспоминаний, которые ему были дороги, Дайяна новой «болванке» вложить не сможет. Все, что между ними происходило, о чем они говорили, было прикрыто ментальным блоком, для аппаратуры Дайяны непроницаемым. Для Насти, если даже после возвращения ее заставили поминутно воспроизвести минувшую ночь, подлинная реальность закончилась в тот момент, когда она начала вздрагивающими руками расстегивать блузку. Все остальное: и содержание разговоров, и подробности любовных игр – Андрей сумел ей внушить, «для отчета начальству».
Не такая уж сложная, очень локальная мыслеформа. Однако вполне достаточная, чтобы, прощаясь, девушка смотрела на него с обожанием и любовью. Готовая пойти за ним на край света, если позовет…[42]
Вторую сигарету Новиков курил медленно, больше глядя на удлиняющийся столбик пепла, чем затягиваясь.
– Все хорошо. Все очень хорошо. Я в полном порядке, – не зная зачем, говорил он Ирине. – Я в тот вечер был очень больной, ты знаешь. Эта девушка как могла пыталась меня поддержать. Мне показалось – она не играла. Да если бы и так! Я пообещал, что взамен того, что не могу ей дать сейчас, устрою ей будущую жизнь… И какая теперь разница, макет погиб или настоящий человек? Для меня – есть разница?
– Пойдем, Андрей, пойдем, – потянула его за локоть Ирина. – Держи себя в руках…
Новиков согласно кивнул. Да и вправду – чего теперь? Просто на душе стало пусто. Как в детстве, когда родители выбросили пришедшую в полную негодность лошадку-качалку из папье-маше. А он был к ней так привязан. Как к живой. Сколько лет прошло, а ведь помнится…
…Следующим утром они втроем погрузились со всем снаряжением в один из свободных флигеров и вылетели к своему форту. Ирину оставили в лагере с отдельным заданием.
Вопросами последнего вторжения дуггуров, неизвестно с какого перепуга предпринятого, бессмысленного тактически, не получившего естественного развития, причем бог весть, из какого времени оно осуществлялось, с Дайяной занимались Шульгин и Ростокин. Андрею это стало неинтересно. Не здесь нужно такие детали выяснять.
Скорее всего, это действительно была второпях предпринятая разведка. Или даже не разведка. Очень может быть, что «медуза» прилетела не с Земли, а из какой-нибудь другой точки Валгаллы. Завершила там свои дела и возвращалась в расположение главных сил. Просто по поразительному, нелепому совпадению нарвалась на флигер Лихарева. Встречный бой в тумане. Бывает. На войне все бывает.
Шульгину единственно хотелось сообразить, произошло ли это боестолкновение до или после их африканского эпизода? По времени могло случиться и так и так. Но выводы получались разные.
Летательный аппарат, не очень быстроходный, но надежный и легкий в управлении, оставил позади хребты, окружавшие долину учебного центра. Отправляясь в свой форт, они решили, что оставшаяся после гибели Лихарева в одиночестве Дайяна нуждается в квалифицированной помощи для ускоренного завершения выпуска своих курсанток. При необходимости можно было уложиться в три-четыре дня. Вот и пришлось оставить с ней Ирину, знающую, что и как делать. Это ведь процедура чисто техническая, не требующая того, что полагается в человеческих военно-учебных заведениях.
В случае необходимости Ирина всегда сможет связаться с друзьями, да и переместиться в нужную точку, если потребуется. За нее Андрей не опасался.
За пределами горного изолята на остальном пространстве Валгаллы, равнинном и открытом северным ветрам и циклонам, по-прежнему лежал снег. То, что при первом контакте Левашов угодил в лето, было удивительным (или свыше предписанным) совпадением московского времени года с инопланетным. А сейчас, как и большую часть прожитого ими здесь времени, в этих широтах длилась морозная и снежная зима.
Внизу мелькали ложбины, которые весной снова станут реками, длинные, уходящие за горизонт ленточные боры, сплошные массивы тайги, посередине которых вдруг открывались обширные, до нескольких квадратных километров, поляны.
Богатая планета, сестра Земли и по астрономическим характеристикам, и по биосфере. Были бы кванги столь же любознательными и склонными к землепроходству, как люди, давно уже освоили бы эти благодатные просторы. Но нет – культивировали свои древние обычаи, сгрудившись в нескольких грандиозных городах-муравейниках, не проявляя никакого желания расселяться на безграничной плоскости.
Может быть, как раз это – естественное свойство гуманоидов, и только европейцы – странное исключение? Даже на Земле их (да, пожалуй, еще монголов эпохи Чингисхана) гнало вперед неудержимое стремление «к последнему морю». Остальные предпочитали оставаться в пределах отведенных судьбой ареалов.
Переправить бы сюда несколько миллионов пассионариев, которым скучно и тесно на старой Земле, и начать все сначала.
«Так это ж опять все пойдет по известному кругу, – подумал Андрей. – Отобрать таких людей не столь и трудно, тех, для кого «понедельник начинается в субботу», так опять придется «Службу охраны реальности» разворачивать до нескольких хорошо вооруженных дивизий. Чтобы не допускать на Валгаллу «посторонних», выявлять и депортировать случайно просочившихся и поддерживать заданный морально-психологический климат среди «избранных».
Потому такое грустное чувство оставляли даже самые первые книги Стругацких. Новиков с друзьями, запоем прочитав «Попытку к бегству», «Далекую радугу», «Полдень» и т. д. в свои совсем юные годы, сразу же поняли – нереально. Очень возвышенно, очень привлекательно, но – откуда вдруг возьмутся подобные люди? Из тех, кто нас окружает в эти вот оттепельные годы? Что, десяток-другой по-настоящему приличных людей собственным примером перевоспитают всех остальных? И ассенизатор на своей бочке вдруг и свято уверует, будто «работать действительно интереснее, чем развлекаться»?
Авторы лет через десять пришли к тому же выводу, резко «сменили вектор», а вот что делать с возникшим в душах своих первых, самых верных читателей «раздраем», так и не придумали.
На пилотском месте сидел Шульгин, любивший водить любые виды транспорта, просто из удовольствия. Новиков с Ростокиным расположились позади, в креслах, предназначенных не для людей, но вполне подходящих. Приходилось перемещаться в куда более некомфортных условиях.
Игорь отвинтил колпачок с фляжки. Ему хотелось разговорить чересчур мрачного, так не похожего на себя Великого Магистра, как в шутку иногда называли Новикова.
– Глотнешь? – спросил Ростокин.
– Почему нет?
– Скажи, Андрей, – спросил Игорь, в свою очередь прикладываясь к горлышку. – Тебя действительно ввергла в меланхолию смерть этой девушки? Или к тебе вернулась старая болезнь?
Вопрос был очень интересный. Для самого Новикова в первую очередь.
Он и сам об этом задумывался. С самого момента появления на Валгалле.
– Нет, не болезнь…
Ростокин был тем человеком, с которым говорить на трудные темы было легко. Или оттого, что он далекий правнук, не имеющий отношения к реальной жизни. Или – просто личность, никаким образом не затрагивающая твоих базовых установок характера. Примерно как попутчик в вагоне дальнего следования, которому сходить в Омске или Томске. Бутылка выпита, копченый омуль съеден, души наизнанку вывернуты – и все! Нужна очередная Великая флюктуация, чтобы вы с ним опять пересеклись на жизненных путях.
– Сложно это объяснить. Казалось бы, чего только повидать не пришлось. Тысячи людей на смерть посылал, сотни, наверное, сам убил. Так то на войне, волею, так сказать, обстоятельств. А тут вдруг человечек на жизненном пути попался. Не настоящий, как выяснилось. Но очень на настоящего похожий. Еще немного, куколка превратилась бы в бабочку. Черт его знает, Игорь, лет ведь мне уже о-го-го! Детей нет. А эта Настя – по годам в дочки мне годилась. Вот и… Перемкнуло что-то. Оттого я и сказал Дайяне, чтобы она без моего участия судьбой девочки не распоряжалась. Сам, мол, займусь. И вот…
Он вздохнул и махнул рукой, закрывая тему.
Сейчас нужно думать, что ждет их в форте.
– Ничего не ощущаешь, Саша? – спросил Новиков уверенно пилотировавшего флигер Шульгина.
– Все чисто. Никакого фона, да я бы сказал, если что.
– Удивительно. Чем же они так прикрыться сумели?
– Приедем – увидим.
– Может быть, лучше на бреющем подойти, километрах в трех присесть, а дальше – пешком? – предложил Ростокин.
– Дельно. Только без лыж по такому снегу запаришься. Часа на два хода, если не больше, – ответил Сашка, начиная, однако, сбрасывать высоту и скорость. – Впрочем… От реки зайдем, на лед сядем, и – по лестнице.
Вдали блеснула тусклым бликом бронзовая крыша терема, еще через минуту на гладком и широком, как восьмиполосный автобан, рукаве реки стал виден вмерзший в лед бронекатер «Ермак Тимофеевич», издали похожий на жука-плавунца, окрашенного в «шаровый»[43] цвет.
На душе потеплело. Что ни говори, а ничего не сравнится с теми первыми месяцами освоения планеты. Правда, с катером были связаны и другие, менее романтические воспоминания.
…Лестница в сто пятьдесят ступеней от пирса до площадки позади терема, как и все вокруг, была засыпана снегом. По ней давным-давно никто не спускался, да и зачем? Катер, огражденный бонами и брекватером от сжатия льдом, промерз насквозь. С наступлением весны его долго придется расконсервировать, если будет кому.
– Роскошно тут у вас, – осматриваясь по сторонам, сказал Ростокин. – Жить бы и жить. Лучше, чем в Новой Зеландии.
– Да мы бы и жили, если б не мешали, – хмыкнул Шульгин, начиная подъем.
– Если б не мешали, где бы сейчас Игорь, Алла и многие другие были? – У Андрея мизантропическое настроение не прошло. – В том числе и твоя Аня?
Они не раз уже, в порядке мысленного эксперимента, пытались просчитать, как бы сложилась жизнь, не заметь Сашка совершенно случайно кванговский дирижабль. Ушел бы со двора пятью минутами раньше, и все. Следующий раз Сехмет или кто-то из его ребят могли залететь в эти края и через год, никому не попавшись на глаза.
Дальше что? До сих пор влачили бы безмятежную жизнь колонистов острова Линкольн? Или их все равно непременно отсюда бы выдернули, тем или иным способом, под тем или другим предлогом? Телеология,[44] одним словом. Но вот возможность встречи Новикова с Игорем и Аллой при любом другом развитии событий заведомо уходила в область отрицательных величин.
– Господа Ростокин и Одинцова в тюряге срока мотали, – хохотнул Шульгин. Ему как раз было весело. – Аньку либо большевички еще в двадцатом шлепнули, или чуть позже тоже по этапам пошла. С Антоном – аналогично. Как и с Басмановым и т. п. Судьбы же бесконечного числа миллиардов, населяющих бесконечное количество реальностей, нас беспокоить не должны, как фактически не существующих. Хватит или продолжим?
– Пока хватит. Вот почему собаки не лают, меня больше удивляет, – сказал Новиков. – Должны бы уже нас учуять. Раньше всегда встречали…
– Особенно, если здесь полсотни лет прошло…
– Какие полсотни? Окстись! Мы меньше часа летели… – И сам осекся. Действительно, как считать? Они сюда, в Центр Дайяны, попали из двадцать пятого года. Сама аггрианка с Лихаревым – из две тысячи пятого. Удолин с пленником переместился из тысяча восемьсот девяносто девятого. Шульгин переправил семью Шестакова из тридцать восьмого. Абсурдно, при здравом рассмотрении, пытаться как-то эти даты свести к общему знаменателю. Одна надежда оставалась, что форт и терем по отношению к любому постороннему миру инвариантны.
Так в принципе и выходило, через астрал они попадали «домой» со сдвигами плюс-минус несколько месяцев, а то и недель. Но сейчас ведь они пришли не через астрал. Вдруг там, на Базе, действительно тот год, что принесли с собой Дайяна с Лихаревым. А здесь – тот, что Удолин.
Тогда при чем катер? Эта лестница? Блеск бериллиевой бронзы крыши?
Олег там чего-то рассчитывал, но все трое здесь присутствующих были прирожденными гуманитариями и к представителям «точных» наук относились с естественным недоверием. Самолеты падают с неба, поезда сходят с рельсов, атомные станции взрываются вследствие именно их деятельности. Ошибки в филологии и медицине не столь катастрофичны и легче поддаются корректировке. А также в гораздо большей мере зависят от воли, характера и личной эрудиции.
На площадке перед последним маршем лестницы Новиков жестом предложил всем замолчать, дернул на себя рукоятку автоматного затвора.
Шульгин повторил его движение.
Ростокину было указано стать замыкающим. Впереди лежащей территории он не знал, а что случись – огнем прикроет.
Андрей, двигаясь плавно и сторожко, поднялся почти до тяжелой калитки в бревенчатом частоколе, и тут за ней взорвался целый академический хор собачьего лая. Дружелюбного, даже восторженного. Учуяли, вспомнили, узнали!
Значит, попали в нужное время. В пределы единственного своего года. А для собак время разве существует? Календарное. Хозяева их вырастили, попав в период надежного импринтинга,[45] а потом то жили с ними, то исчезали на какие-то промежутки, то снова возвращались. Не все, но хоть кто-то. Собакам оставалось цитировать друг другу финальную фразу из «Графа Монте-Кристо»: «Ждать и надеяться».
А сейчас пришли как раз те, кого собаки знали и почитали больше всех.
Московские сторожевые от специального заводчика, размером не слишком уступающие средней величины медведю и вдобавок с отчетливыми зачатками почти человеческого интеллекта.
Шульгин лично отбирал щенков, с которыми уловил максимальную эмпатию, привез из Москвы на Валгаллу, долго и тщательно их воспитывал, отнюдь не дрессировал. А потом, когда пришлось покинуть планету, он и Новиков неоднократно здесь появлялись по разным причинам и не упускали возможности пообщаться с брошенными на произвол судьбы друзьями по-человечески. Неторопливо и подробно разъясняя необходимость и неизбежность подобного, для всех печального стечения обстоятельств.
«Такая служба, братцы, ничего не поделаешь».
Достаточно было указать на Ростокина и сказать: «Это свой», чтобы псы отвели от него настороженные взгляды. Явного дружелюбия до поры проявлять не станут, а как дальше отношения сложатся, от самого Игоря зависит.
Пока они обнимались, ласково разговаривали и шутливо отбивались от слишком настойчиво пытавшихся запрыгнуть передними лапами на плечи собак, на заднем крыльце наконец появился Константин Васильевич собственной персоной. В накинутом на плечи полушубке, но без шапки, со своей длинной трубкой, которой было неизвестно сколько лет. По крайней мере, в двадцатом году она была такая же старая, обугленная по краю чашки и с обгрызенным мундштуком.
– С прибытием, друзья, с прибытием! – приветствовал он гостей хрипловатым, но довольно трубным голосом. – Я уже соскучился. Отчего, думаю, все не едут да не едут…
Собаки на него не обратили никакого внимания. Будто и не было здесь человека, каким-то образом поселившегося на подконтрольной только им в отсутствие хозяев территории.
Об этом и спросил Шульгин первым делом после обычных при встрече дежурных слов.
– А зачем же я буду ваших животных перевоспитывать? У нас с ними договор. Я здесь живу и их кормлю. Они, в свою очередь, стараются меня не замечать…
– Вот оно как. Опять ваши магические штучки.
– А вы бы хотели, чтобы я их приручил и собаки забыли своих настоящих хозяев? Тем более, тут есть и другие люди. Зачем собакам их замечать и предаваться посторонним размышлениям? Достаточно того, что они контролируют периметр и ни одно постороннее существо его пересекать не рискует.
– Спасибо, Константин, – остановил начинающуюся лекцию Новиков. – Ты, как всегда, прав. Только не слишком ли глубоко вмешательство? Психике их не повредит?
– Значит, бросить верных псов на неопределенное время на чужой планете – можно! Заставить их перейти на кормежку исключительно охотой на случайную дичь – можно! Не удивился бы, если б эти милые звери сначала научились пользоваться консервными ножами, а потом и летать, поскольку птиц здесь множество, а четвероногие, осознавая опасность, ближе, чем на версту, к форту не приближаются. Даже суперкоты ушли. Против слаженно действующей стаи этих зверюг никому не выстоять. Тактическое мышление у них изумительное. Природные способности, плюс общение с вами, плюс состояние крайней необходимости…
А я всего лишь произвел совершенно незначительную корректировку. Сделал так, чтобы меня и моих соратников собаки воспринимали просто как явление природы. В целом благоприятное, но эмоциональной сферы не затрагивающее.
– Спасибо, – от всей души поблагодарил Удолина Сашка. – Нам бы не хотелось, чтобы наши ребята, – он потрепал по загривку ближайшего, Джокера, – начали перевоплощаться во всяких там…
Джокер улыбнулся, показав громадные клыки, и подтверждающе кивнул.
– Может, в дом пригласишь, Константин Васильевич? – закрывая вопрос, спросил Новиков. Мороз, после теплого флигера почти незаметный, сейчас начал ощутимо покусывать уши и голые пальцы, особенно касающиеся металла. Под двадцать, не меньше.
– Конечно, конечно, проходите. У нас там беспорядок небольшой, вы уж извините. Не то что при вас было…
Насчет беспорядка – было достаточно мягко сказано. За две, или сколько там на самом деле, недели, что в форте провел Удолин со своей «кодлой», как деликатно выразился Шульгин, они привели парадный зал в полное соответствие с представлением о Валгалле самых невоспитанных скандинавов. Поскольку рабов-траллсов у некромантов не имелось, а самим убирать за собой было у них не принято, то получилось то, что получилось.
Как там с научными занятиями – сказать трудно, но жрали и пили мистики со вкусом. На их счастье, в погребах терема Сашкиными заботами было собрано несколько сотен ящиков с самыми разнообразными, в том числе и чрезвычайно деликатесными консервами. Вроде черепахового супа и «морских гадов в ассортименте под соевым соусом». Поэтому затеваться с чисткой картошки и приготовлением хотя бы перловой каши со шкварками никому не приходило в голову. А уж тем более – ходить на охоту за зимующей птицей и боровой дичью.
Винные погреба также отличались приличным ассортиментом. Что гости очевидным образом оценили.
Пустые консервные банки и бутылки для простоты сбрасывали со стола на пол, на их место водружали новые. Кое-что, для удобства хождения, сгребали ногами к стенкам, а многое так и валялось под столом, скамейками и прямо посреди некогда шикарного зала. Даже на девушку из XXIII века, Альбу, он некогда произвел впечатление своей изысканностью.
Сейчас все эта публика, числом пять, продолжала привычное занятие, великолепно иллюстрируя эпизод из «12 стульев», во 2-м доме Старсобеса. Там тоже «пятеро граждан прямо руками выкапывали из бочки кислую капусту и обжирались ею. Ели они в молчании». Как и эти граждане, неизвестно какого подданства, или господа, кто их разберет. Только не капусту они ели.
Внимательно присмотревшись, Новиков не заметил среди них никого похожего на Воланда, Азазелло, Коровьева даже. Не те персонажи, от которых можно ожидать жесткой, неконтролируемой реакции.
С Сашкой сговариваться не требовалось. Пробежавшая по его лицу тень брезгливого любопытства оказалась достаточным детонатором.
Левым локтем Андрей небольно, но ощутимо ткнул Удолина под ребра, мол, стой и молчи, пальцами правой показал Шульгину – действуй.
Ростокин опять оставался на третьей роли, стоял у двери, положив руки на висящий поперек груди автомат и с любопытством озирался. Все ему было интересно, и ничего он как следует не понимал.
Слишком сложные узелки вокруг него завязывались, ход нитей в них он проследить не мог, не зная предыдущих коллизий.
– Встать! – хорошим командирским голосом скомандовал Сашка. Увидел, что секунду, три, пять никто не собирается реагировать положенным образом, повторил, добавив в тон настоящей угрозы: – Встать, золотая рота![46]
Удолинская команда зашевелилась, кое-как поднимаясь из-за стола.
Сам Константин Васильевич предпочел не вмешиваться, оставаясь позади Новикова. Он-то видел своих друзей в деле, когда они переставали изображать из себя интеллигентов. Хотя бы когда вытаскивали его из тайной тюрьмы Агранова. И позже – тоже.
– Привести помещение в порядок! Все дерьмо собрать, вынести за ограду и закопать на глубине полтора метра. Лопаты – за дверью под верандой. Полы выдраить горячей водой. Со щелоком! И здесь, и в коридоре. Через час проверю. Вперед! Время пошло. Не управитесь – сниму, на хрен, с довольствия и отправлю по принадлежности. Для прохождения дальнейшей службы…
– Мне кажется, Константин, – повернулся он к профессору, снизив голос на полсотни децибел, – господа все еще не совсем врубаются. Так я вас попрошу, по старой памяти, присмотреть, чтобы все было сделано как надо. Вы ведь, как мне кажется, должны нести за своих «протеже» хотя бы моральную ответственность?
Он демонстративно обращался на «вы», чтобы подчеркнуть серьезность своего настроения.
– Присмотрю, – вздохнул Удолин.
– А мы пока на крылечке покурим…
– Не слишком вы с ними резко? – спросил Ростокин. Он привык, что с профессором друзья общались уважительно, принимая во внимание и возраст, и прочие способности.
– Нормально. Распускать никого нельзя. Мы еще посмотрим, чем они тут занимались, кроме жрачки и пьянки. Некроманты, мать их… – Новикову как раз что-нибудь похожее требовалось, чтобы сбросить избыток нервного напряжения. – Дорвались до халявы…
– Кто его знает, может, они до этого по тюрьмам инквизиции сидели, как аббат Фариа, или перебивались подаянием, – примирительно сказал Шульгин.
– Ну, посмотрим, посмотрим, – Андрей дышал морозным воздухом, одновременно прикидывая, что он учинит с этой публикой, если они в их личных комнатах такой же бардак развели.
– Жаль, что Удолин со своим кагалом с твоим Власьевым здесь не пересеклись, – Андрей постепенно приходил в благодушное настроение. – Вот он бы им организовал флотский порядочек!
– Мне самому это интересно. Сдается, тут тоже некая параллель имеет место. Самая, допустим, микроскопическая. Вроде как на Столешниковом. Я их сюда из тридцать восьмого вывозил. Сейчас никаких следов ни их, ни БРДМа моего нет. Я тут почти сутки провел, все облазил, пока Власьева в курс вводил – и ничего. Значит, чтобы Зою с детьми и Власьева опять встретить, оттуда же переправляться надо?
– Придется признать, – без энтузиазма согласился Новиков. Бесконечные отражения поставленных друг против друга зеркал изрядно ему надоели.
Они сидели на верхней площадке ведущей на галерею второго этажа лестницы. Шульгин, а особенно Ростокин с интересом наблюдали, как не слишком трезвые маги перемещаются от парадных дверей к воротам и обратно, таская корзинки и ведра с мусором, неуверенно ковыряют снег штыковыми лопатами и в недоумении замирают, достигнув промерзшей земли. Которую и кайлом не сразу возьмешь.
– Константин, – весело крикнул Сашка, – если сверхчувственно ямку вырыть не можете, возьми на складе пару толовых шашек. Только смотри, чтобы сдуру головы не поотрывало… Шнур сантиметр в секунду горит.
Очевидно было, что сейчас Шульгин от души рассчитывается с Удолиным за всю его прежнюю надменность и чрезмерные «понты».
– Неужели у вас здесь нет никакого приспособления для утилизации мусора? – спросил Ростокин.
– Конечно, есть. Но сейчас – момент воспитательный. В армии не служил, не знаешь, как курившему в неположенном месте приказывают в наказание за час ведро окурков на территории полка собрать? И ведь собирали.
Маги и некроманты, судя по одеждам, в основном были приглашены Удолиным из разных десятилетий XIX века, и возраст их колебался между пятьюдесятью и шестьюдесятью годами. Только один был явно из XVIII, и помоложе – около сорока. Очень возможно, погиб на гильотине в известной эпохе террора.
Постепенно, на морозе и ветерке, они приходили в норму и шевелиться начинали активнее, чем сонные осенние мухи.
Что следовало поставить в зачет профессору: в комнаты хозяев он своих соратников не пустил. Ночевали все в двух гостевых комнатах, остальные помещения сохранились в исходном состоянии. Замки не тронуты ни механикой, ни магией.
Кажется, то, что получилось в итоге «большой приборки», понравилось и самому Константину Васильевичу, и его сообществу. Конечно, будь тут Воронцов, он нашел бы, к чему придраться, а на обычный взгляд – сойдет. Главное – книги из шкафов на растопку не пускали и с огнестрельной коллекцией не баловались.
– Теперь как, Константин, отпустим товарищей без опохмелки отдыхать до утра? – цинично поинтересовался Шульгин, построив публику, как в хорошо известном зрителям шестидесятых годов кинофильме «Напарник» (из серии «Операция «Ы»). Его костюм, автомат, прочая боевая сбруя, а особенно лицо производили впечатление. Как на рядовых солдат крутой майор, перед строем матерящий до того всесильного старшего лейтенанта. Здесь – «Кандидат в Держатели» решил показать настолько же низшим по разряду магам, что почем и кто чего стоит.
Они это чувствовали. Каждый умел многое, но не обладал подавляющей силой воли. Если бы обладал – сумел бы в свое время нагнуть князька, герцога или простого владельца финансовой империи, чтобы те ему прислуживали, а не наоборот. И избегнуть многих бытовых неудобств.
Лица у всех были достаточно умные, взгляды – просветленные (невзирая на остатки алкогольного тумана), но сильного человека среди них ни Шульгин, ни Новиков не видели. В ином случае и разговор пошел бы по-другому.
– Я бы так сказал, – осторожно ответил Удолин. – Похмелиться им надо…
Шульгин снова постучал пальцами по ствольной коробке автомата. Привычка такая.
– По сто пятьдесят грамм из ваших рук, – уточнил профессор, – и завтра с утра они будут полностью готовы к работе. Без всяких глупостей.
– Принимается, – кивнул Шульгин. – По сто грамм, и чтобы я никого из них до утра не видел…
Чтобы окончательно устранить из дома посторонние запахи, в зале растопили камин, поверх поленьев бросили хорошую охапку веток местного аналога можжевельника. Пламя охватило сочные иголки, с треском рассыпая насыщенные эфирными маслами и фитонцидами искры.
– Не понравились вам мои сотрудники? – осторожно спросил Удолин, которого Шульгин в потребной ему винной порции ограничивать не собирался, зная его характер и привычки.
– Так вопрос не стоит, – ответил Новиков. – Дисциплинарная практика – это одно, практическая эффективность – несколько иное. Если они тут не зря проедались, никто сопутствующим моментам значения придавать не собирается. Что интересного сообщить можешь? Заодно и часы сверим. У вас сколько времени прошло?
– Две недели.
– У нас поменьше. Но с учетом тройного возмущения континуума – почти сходится. Итак, рассказывай. Подробно и точно, как ты умеешь, но на не имеющую отношения к делу лирику не отвлекаясь. Кстати, пленник где?
– Сидит в магически запечатанной камере, на чердаке, и медленно истаивает.
– Запытали вы его, что ли? – с оттенком сочувствия к дуггуру осведомился Шульгин.
– Как можно, Александр? Обращение исключительно вежливое, только на ментальном уровне. Мы не инквизиторы. Это просто свойство у них такое – поодиночке не выживают. Даже пищу не усваивают. Мыслефон им нужен, а, возможно, еще и обмен какими-то биологическими эманациями.
– Ты тоже не отвлекайся, – остановил Сашку Новиков. – Пусть все по порядку излагает.
Потребность и способность профессора облекать любую мысль в шлейф весьма далеко лежащих от основной темы ассоциаций, комментариев к собственным силлогизмам и внезапно рождающихся озарений были неистребимы. Потому его соратники давно уже научились автоматически вычленять значащие элементы из неудержимого потока сознания.
Команда некромантов (так и будем их называть, для удобства, хотя собственно некромантией профессионально занимались лишь двое) на самом деле было собрана Удолиным на территории Европы и России предыдущих полутора столетий, причем некоторые из них были уже не совсем живы, в широком смысле этого понятия. Однако приобщение к эфирным структурам и климат Валгаллы, в мистическом смысле отличающийся от земного, весьма способствовали их социализации и рематериализации.
– Лично наблюдали, – вставил Шульгин, чтобы в очередной раз вернуть Константина Васильевича ближе к теме.
Задача, поставленная Удолиным перед коллегами, была воспринята с энтузиазмом. Специалисты соскучились по настоящему делу, тем более – объект для изучения был представлен прелюбопытнейший.
– Поработали мы с ним очень тщательно, – с гордостью сообщил профессор. – Великолепный материал.
Душой дуггур, который, по терминологии Шатт-Урха, принадлежал к «полуразумным», конечно, не обладал, но его мозг и нервная система своего рода препарированию поддавались вполне. Особенно на базе информации, добытой в пещерах.
Команде исследователей, использовавшей самые разные методики, не имеющие ничего общего с научным материализмом, удалось дешифровать почти весь спектр мыслеобразов подопытного существа, плотно переплетенных с его не контролируемыми сознанием инстинктами.
– То есть, – с гордостью заявил Удолин, – мы как бы создали своего рода «словарь», достаточный, чтобы при определенных условиях общаться с представителями его вида «на равных». Это, без ложной скромности сказать, достижение, выходящее за пределы всего, ранее известного…
– Чего там, – подначил профессора Новиков. – В любой почти сказке упоминается о том, что люди умели разговаривать с лешими, кикиморами, прочей нечистью.
– Отнюдь, отнюдь, – возбудился Удолин. – В сказках, легендах, а также вполне достоверных эзотерических документах особо отмечается, что общение происходило, так или иначе, но на человеческом уровне. В пределах языка и менталитета. Вот если бы, скажем, Хома Брут обратился к тому же Вию адекватно, итог встречи мог быть совсем иным. Не так?
– Согласны. То есть ты хочешь сказать, что, вновь встретившись с дуггурами этого вида, сумеешь говорить с ними «как свой»?
– Более того, при определенных условиях они не смогут меня отличить от своего. Тот самый случай, когда внешние физические признаки отступают на второй, третий и так далее планы.
– Лихо! – только и сказал Шульгин.
– К сожалению, наши достижения этим и ограничиваются. Более разумные представители их расы используют другие способы коммуникации. У них четко выстроенная иерархия. Вертикальная и горизонтальная. Я почти уверен, что сумею не то чтобы общаться, но руководить монстрами и менее гуманоидными обитателями их мира. Прикинуться, на какое-то время, членом или руководителем «пятисоставной» личности. Не так уж это сложно, раз нам известна сфера их компетенции, род занятий и образ «мыслей»…
– Это уже интересней, – Новикову надоело сидеть, он встал, пошевелил кочергой в камине, подкинул несколько поленьев. – Насчет образа мыслей. Развей поотчетливее. Раз уж ты в него проник…
– Да ты понимаешь, «образ мыслей» – это, пожалуй, метафора. «Образ жизни» – гораздо ближе. Погрузившись в глубь психики объекта, мы выяснили крайне интересные для исследователей вещи…
– А на собственные установки не повлияло? – впервые включился в разговор Ростокин. Он тоже был прилично образован в области психологии, теоретической и практической, да и имел успешный опыт общения с некробиотическими существами – Артуром и Верой.
– Ни в коем случае. Это только в анекдотах психиатры уподобляются своим пациентам. Я умею абстрагироваться…
– Дальше, давай дальше, – поторопил Новиков.
– Видишь ли, философы всех времен и народов безуспешно бились над расшифровкой понятия «счастье». Сколько на эту тему трудов написано и копий сломано!
– Как же, и мы почитывали, – Шульгин опять вспомнил любимый с юности «Понедельник…». – Линейное и нелинейное, частное и всеобщее…
– Так вот эти существа для себя данную проблему решили раз и навсегда. Они абсолютно счастливы. В том смысле, что жизнь их наполнена под пробку. Как вот эта бутылка «Особой очищенной». – Удолин указал пальцем и немедленно принялся отковыривать белый сургуч, покрывающий горлышко.
– Полная удовлетворенность жизнью, максимальное удовольствие от всего, в ней происходящего, ни малейшего намека на негативные эмоции. Им просто неоткуда взяться. Исключены по определению. Пища в изобилии, возможность спаривания с любыми партнершами, физиологически готовыми, работа, сам факт исполнения которой мало отличается от сексуального наслаждения…
– Так это ж настоящий коммунизм… твою мать! – восхитился Сашка. – У нас не получилось, потому как варианты со всех сторон мешали. А ежели нет «враждебных голосов» и разлагающих примеров – чудо, а не жизнь.
– Именно, именно, Саша! Разве коммунизм предполагает что-нибудь другое? При отсутствии возможности выбора то, чем они довольствуются, и есть настоящее и предельное счастье.
– Годится, Костя, – кивнул Шульгин. – С утра посади своих орлов, пусть составят подробный и глубоко аргументированный отчет. Пригодится. А что с теми, кто на следующей ступеньке?
– Тут уж я пас. Уровень раба, серва, крепостного не позволяет квалифицированно судить о внутреннем мире высших сословий. Только описательно, в пределах наблюдаемых проявлений неизвестных побудительных мотивов.
– Нет, ну как сформулировано! – с восхищением воскликнул Сашка. На Удолина похвалы действовали не хуже, чем очередная стопка.
– А факт осознания себя рабом или сервом никак не мешает состоянию тотального счастья?
– В том-то и дело. Мне очень кажется, что некто в свое время решил этот вопрос раз и навсегда. Странный процесс эволюции или целенаправленное воздействие селекционера привели к тому, что собственное положение в иерархии критическому осмыслению не подлежит. Поручик может переживать о том, что он до сих пор не капитан, и до самой отставки мечтать о генеральских эполетах, предпринимая к тому разумные или не очень, честные и бесчестные действия, но это свойство индивидуальной личности европейски воспитанного человека. У них иначе. Я бы хотел повести вас туда… – глаза Удолина вдруг затуманились. Возможно – мечтой о непредставимо-абсолютном счастье.
– Сходим, – махнул рукой расслабившийся Ростокин. – Везде ходили и туда сходим.
– Все ж таки хотелось чего-то более конкретного, – осторожно попытался повернуть профессора в нужную колею Новиков. Он строго предупредил товарищей, чтобы до «особого распоряжения» о наличии у них в плену «истинно мыслящего» они не упоминали. О бихевиоризме[47] он знал достаточно.
– Ну что, Андрей, я могу тебе объяснить? Ты человек образованный, и то с огромным трудом сможешь кое-как приблизиться к истинному мировосприятию якобы хорошо нам известного Сенеки. Блестящий пример – в его письмах к Луцилию он неоднократно описывает собственную виллу и ее планировку. Но ни один современный архитектор не сумел по этим описаниям сделать реконструкцию. Очевидно – стиль мышления не совпадает по каким-то существенным параметрам. А обратная перспектива у средневековых художников? У них глаза были другие или мозги иначе настроены?
– Давайте прервемся, – предложил Ростокин. За окнами, как очень часто бывало на Валгалле, вдруг завыл и засвистел ветер, принесший с севера очередной снеговой заряд. По стеклам хлестало так, что невольно возникало опасение за прочность шестимиллиметрового сталинита.[48]
– Выйдем, подышим, полюбуемся.
Ему и вправду было интересно. Не Антарктида, но около того.
Собаки, решившие укрыться от непогоды, но не забывавшие служебного долга, образовали плотный меховой вал по обе стороны входной двери. Здесь снег и ветер их не доставали, но как только хозяева вышли на веранду, псы подскочили, ожидая приказаний.
– Вольно, братва, отдыхайте, – бросил Шульгин.
Нескольких минут под ударами бурана, когда дышать почти нечем и приходится цепляться за стойки крыльца, чтобы не унесло в гудящую мглу, хватило любителю сильных ощущений. Вслед за Ростокиным все вернулись к столу и огню в камине. Новиков почти до предела задвинул вьюшку на трубе, а то пламя срывало клочьями и уносило вверх.
– Здорово, что ни говорите! А вы, Константин Васильевич, про муравьиное счастье, – Игорь пальцами вычесывал из пышной шевелюры набившийся снег, вытирал полотняной салфеткой раскрасневшиеся щеки.
– Вот лично мне, господа, тоже к муравьиному сословию не принадлежащему, – включился Шульгин, – оченно интересно: а то, что мы с дуггурами данного образца учинили, на их самоощущение никак не повлияло? И медленное помирание в твоих узилищах, Константин Васильевич? На восприятии действительности негативно не сказалось?
– Сейчас, конечно, да, ему невесело, но опять же не в человеческом смысле. Имеет место определенное отчаяние, но не как эмоциональная категория, а только биологическая. Чем меньше надежд на воссоединение со своим «роем», тем сильнее слабеют активные нервные процессы. Организм угасает, но при этом чувство постоянного, непосредственного счастья, или, удаляясь от антропоморфизма, удовлетворения, как бы заменяется на воспоминание о том, как недавно было хорошо. И остается надежда, что все-таки каким-то образом он вернется к нормальному состоянию.
– А почему бы вам действительно не вернуть его домой? – спросил вдруг Ростокин. Он отличался чувствительной натурой, ему невыносимо было бы наблюдать за гибелью от голода и жажды – неважно, физических или сенсорных – любого живого существа. А это все же какой-никакой, а гуманоид…
– Игорь прав, – кивнул Новиков. – Если ты извлек из него максимум возможного, почему бы не отпустить? Глядишь, при случае нам это зачтется. Опять-таки, как в русских сказках. Пометить его как-нибудь, чтобы при встрече узнать…
– Узнать несложно, – Удолин по дурной привычке теребил пальцами нижнюю губу, что означало напряженное размышление. – По мыслефону я его всегда узнаю. Вот только…
– Мы его препарировать собирались. Анатомическое исследование подобного организма не менее интересно, чем психологическое. Доктор Палицын, это один из команды, является блестящим анатомом, вел курс в Казанском университете. Причем в равной степени квалифицирован и как биолог, систематик, написал книгу по зоологии беспозвоночных. Он надеется, разобрав дуггура по нейронам, получить сенсационные результаты…
– Нет, дед, тут вы малость того. Перебираете. – Лицо Шульгина выразило нечто вроде брезгливости. – Мы же не «убийцы в белых халатах». Если он в состоянии выжить, надо его отпустить. А для прозектора мы что, трупов не найдем? У Басманова в Блюмфонтейне, в холодильнике, замороженные монстры имеются. Тоже интересный материал. И таких, как этот, разыщем. Давай, готовь переброску туда, где взяли…
– Ну, если вы дружно настаиваете. Прямо сейчас, что ли?
– А чего тянуть? У нас в медицине весьма часто промедление смерти подобно. В буквальном смысле.
Лариса, как истинная дама из общества, подражала своей королеве – небольшими глотками, но часто отпивала из бокала розовый джин.
Спросила адмирала, что он думает по поводу слухов насчет ужасных чудовищ, якобы появившихся на территории буров, но в непосредственной близости от границ колонии.
– Ничего не могу вам ответить. Если мне не верят, когда я докладываю о том, что видел собственными глазами, и это подтверждают еще сотни матросов и офицеров, для чего я буду верить каким-то сказкам про вооруженных огнестрельным оружием обезьян?
– Вас очень обидели, мой адмирал? – почти прошептала миледи, пристально глядя на него сочувственным и в то же время проницательным взглядом.
– Вы не представляете, как, – глухо ответил он. – Я бы немедленно подал в отставку, если бы это не выглядело, как заведомое признание моей вины. Нет, этого они не дождутся. Пусть лучше суд. Там я, по крайней мере, сумею сказать все, что считаю нужным.
– Надеюсь, до этого не дойдет…
Лариса не стала угощать Хилларда шульгинской пилюлей, ей интереснее было провести партию с достойным партнером «по-честному». То, что он порядочно выпил, значения не имеет. Джентльмен отличается от простолюдина тем, что ведет себя безупречно, даже когда напьется.
– Скажите, миледи, а для чего вы, ваш брат и ваш покровитель именно сейчас решили проявить ко мне внимание и поддержать в столь трудный час? Особенно в глазах общества? Вы наверняка заметили, как изменилось ко мне отношение за каких-то три часа.
– Смешно было бы, если б не заметила. Для чего? А вы как думаете? Вы ведь флотоводец и стратег.
– Вы только недавно приплыли из Австралии. В Лондоне не были очень давно. В тамошних интригах наверняка не замешаны. В здешних – тем более.
Навалившись локтями на стол, что было весьма не комильфо, Хиллард, как писали в XIX веке, сверлил свою визави пронзительным взглядом.
– И первый, с кем вы решили завести противоестественно теплые отношения, – опальный адмирал. Само по себе – очень странно. И подвел вас ко мне достаточно сомнительный и столь же загадочный мистер Сэйпир. Интрига исходит от него? Вот я, стратег, как вы выразились, и заинтересовался. При всем том, что лично мне это пока на руку. Пока! – подчеркнул он голосом.
– Хотите, сэр Мэнсон, я скажу расхожую банальность? «Пока» и «сейчас» – это синонимы. Жизнь – только миг между прошлым и будущим. Вот и живите, радуйтесь, что вас не убили снарядом неизвестного крейсера и до сих пор не лишили этих красивых нашивок… – Она указала пальчиком с длинным алым ногтем на рукав адмирала.
– Черт! С вами дьявольски трудно разговаривать, миледи…
Хиллард, забыв, какую по счету порцию виски вливает в себя, отхлебнул из стакана.
– Постойте, постойте, – лицо его озарила хитроватая улыбка. – Миледи Отэм – миледи Винтер! Не забавное ли это совпадение?
– В таком случае вице-канцлер казначейства лорд Саммер[49] – мой старший брат? Или – младший? Но ваша начитанность делает вам честь. И как же вы дальше собирались развивать свою мысль? Поискать Д’Артаньяна, Рошфора, самого кардинала? Ну, смелее, адмирал!
– Что-то в этом роде я и имел в виду, миледи.
– Смело, сэр Мэнсон, смело. Впрочем, известно, что чем идея безумнее, тем она ближе к истине. Посмотрите это. – Она протянула адмиралу переданный ей листок. – А я пока отлучусь ненадолго. Мне нужно попудриться. У вас тут жарковато. А я ведь – «Осень».
Когда она вернулась, Хиллард еще не закончил расшифровку с помощью карманного блокнота в кожаном переплете с замочком.
Она остановилась у окна, закурила длинную сигарету, без всякого гашиша, разумеется. Смотрела на огни города и порта, думая о том, что жизнь на самом деле складывается куда интереснее, чем могла бы, не встреть она у Натальи Левашова.
– Откуда у вас это? – спросил адмирал.
– Что? Я получила телеграмму сегодня на почте. Из Лондона, с припиской, что следует немедленно передать ее вам.
– И вы не знаете содержания?
– Откуда же? Мне кажется, вам потребовалось определенное время, чтобы прочитать с помощью шифровальных таблиц. Я ими не владею.
– Тогда посмотрите…
Лариса с почти не наигранным равнодушием взяла написанную торопливым, не слишком разборчивым почерком Хилларда расшифровку.
«Адмирал, у вас есть великолепная возможность получить очередную нашивку. Для этого вам следует со вниманием прислушиваться к советам лица, передавшего эту телеграмму. В этом случае вы вскоре будете утверждены в должности командующего Южноафриканской эскадры и начальника военно-морской базы. Если имеете другую точку зрения, передайте по известному вам адресу прошение об отставке. Она будет незамедлительно принята с сохранением мундира».
Подпись под текстом сэр Мэнсон не обозначил или ее вообще не было. И так адресат должен был понять авторство.
– Лицо – это вы, миледи?
– Наверное, если не иметь в виду телеграфиста.
Со странным выражением лица Хиллард выпил еще полстакана виски.
– Вы не очень торопитесь, адмирал? – участливо спросила Лариса.
– Что старому моряку бутылка виски на фоне всего происходящего?
– Разве что-нибудь не так? – сделала удивленное лицо Лариса. – В ваших мужских делах я не очень разбираюсь, но мне кажется, чин вице-адмирала гораздо лучше отставки. Пусть и с мундиром. Пятно на репутации ведь все равно останется. Разве что в Южную Америку уехать. А дома от разговоров за спиной никуда не деться.
– Кто и зачем мне это предлагает? – как бы в пространство спросил Хиллард.
– Я подписи не видела, – взмахнула ресницами миледи. Сейчас она вспомнила, как исполняла аналогичную роль Милен Демонжо.[50]
– Никто, кроме Первого лорда адмиралтейства, моим шифром пользоваться не имеет права.
– Тогда о чем вы спрашиваете?
– Но вы ведь должны знать, что за всем этим кроется? Согласие я должен дать именно вам и в дальнейшем исполнять ваши «советы». Кто вы, наконец, миледи, какое отношение имеете к лондонским играм, если половину не такой уж долгой жизни провели на другом конце света и понятия иметь не должны о творящихся в «паучьей банке» жестоких интригах?
– Я и не имею. Я просто выполняю поручение, от которого не могла отказаться. Вы – пока еще можете. Так как?
– В любом случае, до утра у меня есть время. Я либо отправлю телеграмму, либо нанесу вам визит. Вы в каком номере остановились?
Лариса назвала, добавив с одной из очаровательнейших своих улыбок:
– Буду ждать. Не скажу, что с нетерпением, но буду. Не раньше одиннадцати утра – люблю поспать, и не позже двух. Договорились, мой адмирал? А теперь позвольте нам с братом откланяться. Он уже устал листать ваши книжки и графин прикончил. Ему это не полезно.
…Кирсанов зря посчитал меры, предпринятые им для нейтрализации комиссара Саймона Роулза, достаточными. Точнее, они были достаточны в пределах правового поля, весьма почитаемого в Великобритании, равно как и в колониях. Никаких реальных обвинений ему никто не мог предъявить, поскольку законным образом допущенный в Кейптаун Питер Сэйпир ни малейшим образом законов королевства не нарушал и в ходе визита в контору Роулза следов не оставил.
Еще одна беда – он натуральным образом комиссара переоценил. Исходя из своих представлений, напрасно понадеялся, что признаки патологического опьянения или намека на белую горячку заставят партнера умерить служебный пыл и побольше внимания уделить своему здоровью. Посчитал, что тот не станет слишком глубоко лезть в непонятное, чтобы не «потерять необходимое в надежде приобрести излишнее».
А Роулз оказался как раз таким дураком, который вздумал рискнуть.
Выпитая бутылка виски и странная, охватившая чересчур долгий отрезок времени амнезия насторожили комиссара. Обычно он не позволял себе больше двух-трех стаканчиков и всегда сохранял самоконтроль. Но похмелье было самым настоящим – сухость во рту, головная боль, тошнота, нарушения координации движений.
Так отчего вдруг он мог смертельно напиться и с кем?
К врачу обращаться не стал, привел себя в порядок собственными силами и приступил к действиям.
Последнее, что он помнил отчетливо, – момент высадки на русский пароход «Царица» и предусмотренную формальностями беседу с капитаном. Проверку судовых документов. Несколько рюмочек водки. Все как всегда. Не опьянел, просто несколько снял усталость и повысил настроение. Дальше память начинала давать сбои. Кажется, он проверял документы у пассажиров, изъявивших намерение высадиться в Кейптауне. Зачем? Вроде бы коммерческие дела. А подробнее?
Роулз сделал в блокноте первую пометку.
В портовом журнале комиссара должна быть соответствующая запись. Проверим. И он принимал пароход не один, есть лоцман, другие свидетели.
Явившись после обеда в таможню, осторожно расспросил клерков, так, чтобы не вызвать недоуменных контрвопросов и просто интереса к своему не совсем адекватному поведению. Это было не так уж трудно, опыт имелся.
Ничего внушающего сомнения выяснить не удалось. В том числе и относительно лиц, прибывших на русском пароходе. Досмотр они прошли беспрепятственно и убыли в город.
Куда и зачем – на всякий случай предстояло выяснить.
Вернувшись в контору, Роулз поинтересовался у клерка в приемной, не спрашивал ли его вчера какой-нибудь джентльмен. А то, мол, он уславливался с одним человеком о встрече, но она не состоялась. Пришлось задержаться по службе в порту, и, очень может быть, они разминулись.
– Да не так уж вы и задержались, сэр Саймон. Когда вы вернулись, я только собирался уходить. Значит, еще не было пяти.
– Действительно. Было очень много работы, вот мне и показалось, что уже поздно. Но до моего прихода никто не спрашивал? – Комиссар, к своему сожалению, не мог даже приблизительно описать внешность предполагаемого гостя. Русских с парохода он не запомнил, да и трудно было предположить, что немедленно после прибытия они первым делом принялись бы разыскивать его офис. А если и вдруг – что могли бы предпринять, как заставить его напиться до свинского состояния и потери памяти?
Нет, тут наверняка нечто другое. С другими людьми связанное. Может быть – гипноз? (В те годы о гипнотизме ходило много разговоров. Гипнотизеры выступали в театрах и рекламировали свои услуги как универсальных целителей.)
– Нет, вас – точно никто. Правда, в самом конце дня появился один господин, но вас не спрашивал. Он хотел узнать что-то о котировках алмазных акций. Но из финансового отдела никого уже не было на месте, и я посоветовал ему обратиться в банк…
– Алмазных акций? Интересно. А при чем здесь налоговое ведомство?
– Я ему так и сказал. Он извинился и ушел…
Однако чем-то этот факт привлек внимание Роулза. Интуиция зашевелилась. Он угостил клерка сигарой и между другими, ничего не значащими вопросами осторожно поинтересовался, как этот джентльмен выглядел.
Юноша описал незнакомца довольно подробно. Среди множества известных Роулзу людей такого точно не было. И все же…
Поднявшись к себе, комиссар тщательнейшим образом обыскал помещение. Искал малейшие следы пребывания здесь посторонних.
Моментами ему приходило в голову, что ведет он себя просто глупо. Никаких ведь оснований для подозрений. Не проще ли согласиться с очевидным? Допустить, что виски попался поддельный, с добавлением древесного или картофельного спирта. Вот и подействовал таким образом. Затуманил мозг, заставил выпить бутылку до дна. Последнее время он действительно сильно уставал, вот и сорвался, с кем не бывает.
Но натура разведчика не позволяла согласиться с таким, чересчур на поверхности лежащим, решением.
И тем не менее – все бумаги и деньги целы, сейф вскрывать не пытались, каждая вещь оставалась на своем привычном месте. В том числе и заряженный револьвер в ящике стола.
Многих вошедших в обиход способов фиксации проникновения в дом посторонних, от самых простых, вроде положенных в нужном месте ниточек, пыли, нанесенной на те или иные предметы, не говоря о более сложных, в XIX веке не знали. Или, по крайней мере, широкого распространения среди специалистов они не имели.
Совершенно не за что зацепиться пытливой мыслью.
Роулз сел за стол, подпер голову рукой. Закурил сигару.
Тут ему пришел в голову достаточно рисковый план. Не провести ли следственный эксперимент?
В шкафу есть еще несколько бутылок из той же партии. Подаренной капитаном одного из английских пароходов, пришедших из Глазго до начала войны. Налить полстакана, выпить и наблюдать за действием. Затем продолжить, фиксируя ощущения. Может быть, если виски действительно недоброкачественный, он успеет это заметить раньше, чем снова впадет в беспамятство.
На случай, если последствия окажутся серьезными, Саймон предупредил делопроизводителя, тоже разведчика, о том, чем намерен заняться и что делать, если ему вдруг станет плохо.
Сотрудник выразил сомнение в необходимости такого риска, предложил провести эксперимент на ком-нибудь другом. Да вон хотя бы на том бродяге, что стоит, покачиваясь, на противоположной стороне улицы.
Некоторый резон в этой идее был. Но Роулз ее отверг. Ему нужны личные впечатления.
Четыре унции[51] выдержанного шотландского виски прошли хорошо и вызвали то настроение, которое и имели в виду его создатели. Мысли, оставаясь ясными, забегали гораздо быстрее, внезапно появилась уверенность, что нынешнюю загадку он так или иначе решит. С врагами тоже справится, кем бы они ни были.
Взгляд упал на толстую конторскую ручку, лежавшую рядом с чернильницей. Постой, постой, это интересно! Позолоченное перо «рондо» было покрыто засохшими чернилами. А ведь Роулз имел устоявшуюся с первых школьных лет привычку – закончив урок, обязательно дочиста вытирать перо специальной салфеточкой.
Допустим, он в пьяном виде об этом забыл. Если уж разуться перед сном не успел. Но, значит, что-то, пока был в состоянии, писал?
В настольной тетради датированных вчерашним днем записей не имелось. Как и отдельных бумажек с какими угодно каракулями.
Не торопясь, словно опасаясь спугнуть удачу, он сделал еще два глотка.
Извлек из ящика большую лупу и принялся тщательно изучать свой рабочий дневник.
Ему хватило минуты, чтобы увидеть на скрепках следы с большим тщанием и аккуратностью удаленных листов. Подошел к окну и в косых солнечных лучах рассмотрел на чистой странице едва заметные вдавленности – следы от пера, не совпадающие с расположением строк на предыдущей.
Вот и все! Главная часть задачи решена. Некто, проникнув в офис, привел Роулза в бессознательное состояние и изъял две исписанные страницы. Посчитать было нетрудно, число листов в тетради известно.
Комиссар имел обычай заносить в дневник главные события дня. Вчера ничего существенного, кроме прихода русского парохода, не было. Значит, только об этом он и писал. И, очевидно, записал такое, что вынудил «кого-то» спланировать и безупречно (почти) провести такую акцию!
Роулз понял, что выиграл. Неизвестный пока враг выдал себя, причем остается в уверенности, что сделал свое дело чисто. Так не на того напал!
Профессионализм противника сомнений не вызывал. Комиссар, честно признаваясь себе, не мог утверждать, что у него получилось бы сделать подобное в чужом городе, практически ничего не зная об объекте…
Или – все враг знал заранее, операция была подготовлена давно и тщательно, а вчера в город прибыл исполнитель. Специалист в одной-единственной области. И сегодня, возможно, уже покинувший (или покидающий) пределы колонии.
Он покрутил ручку телефона, вызвал порт.
– Что там с «Царицей»?
– Товар на Кейптаун выгрузили. Другого попутного груза нет, – ответил агент при таможне. – Зато проданы все пассажирские билеты. Очень много желающих уехать в Европу. Многие согласны на четвертый класс.
– Какой четвертый? У них всего три. Третий – шестиместные каюты ниже ватерлинии, без иллюминаторов…
Несмотря на случившееся, память в целом оставалась прежней. Планировку «Царицы» Роулз представлял детально. Как и любого другого парохода, с которым приходилось иметь дело.
– За половинную цену капитан согласился взять двадцать человек в матросские кубрики. Питание из общего котла за отдельную плату.
– Да, это начинает напоминать панику. Когда отходят?
– Сегодня в полночь.
– Я подъеду. Посадка еще не началась?
– Первый класс уже разместился. Остальные проходят оформление.
– Задержите, я сейчас подъеду.
…Он снова разговаривал с капитаном, сидя в его каюте. Так, ни о чем. Однако Челноков хорошо знал, что подобные господа «ни о чем» разговаривать не умеют. И все время ждал подвоха. Еще он заметил, что комиссар прилично навеселе. Не «под мухой», что означает состояние вялое и расслабленное, а, наоборот, полон активности. Злой активности.
Русским такое понятие как злость, тем более на государственном уровне – не слишком понятно. Ожесточение в бою – совсем другое. Геннадий Арсеньевич участвовал в турецкую войну в атаках на броненосцы катеров с шестовыми минами (а вы только представьте, что это такое! Полпуда пироксилина на четырехсаженной палке, которой нужно ударить в борт под ватерлинию. Бывало, еще и под ружейным огнем!). Но именно злости к туркам он не испытывал. Азарт – да. Страх – да, особенно, когда пули по планширю и кожуху котла щелкали. Взорвали «Интибах», возвращались домой на кренящемся, полузатопленном катере, со смехом просовывали пальцы в дырки мундиров, пили водку, спорили, кому какие кресты достанутся, а злости все равно не было. Ни на турок, ни на собственное начальство, пославшее в самоубийственное дело.
Ну и пусть британец злится, наверное, есть на что. Но здесь-то, на пароходе, – территория Российской империи. Тем более, что господин жандармский полковник заверил его, что прикроет от любой провокации. Англии совсем не ко времени вступать в конфликт с Великой Державой, которая сама не боится ничего, а любому неприятелю может ответить так, что мало не покажется.
– Вы что-нибудь знаете, господин капитан, о ваших пассажирах, сошедших здесь на берег? – спросил вдруг Роулз.
Челноков посмотрел на него с явным удивлением. Кажется, эта тема вчера была отработана полностью.
– Не знаю и знать не хочу. Вообразите, господин комиссар, сколько я за пятнадцать лет перевез пассажиров! И что – должен задумываться о каждом? Вот неприятности, штормы, аварии – за это с меня спросят. А пассажиры! Заплатили, довез, высадил, забыл. Неужели с ними что-нибудь случилось?
– С кем? – хитро спросил комиссар.
– Да с любым, кто вас заинтересовал. Но если и случилось что, так на вашей территории. – Челноков показал пальцем, где кончается зона его ответственности.
– Ну, допустим, с их самым главным. Мистером Сэйпиром…
– Он у них главный? Я и не знал. Вел себя как все. А вы, кстати, с ним дольше всех говорили и остались вполне довольны. Не так ли?
Роулз неопределенно пожал плечами. Мол, говорил, да, а теперь возникли дополнительные обстоятельства.
Капитан раздавил в пепельнице папиросу и встал.
– Если у вас нет более серьезных вопросов, а также претензий ко мне и к моему судну, я прошу разрешения закончить посадку оставшихся пассажиров и выйти в море. Барометр, видите ли, падает, и хочется удалиться от берега до шторма.
– Спасибо, капитан. Вы были очень любезны. Теперь последний вопрос – нет ли господина Сэйпира в числе пассажиров первого класса, которые уже взошли на борт?
– По документам – извольте еще раз проверить. И у своих людей на пирсе спросите. Приметы названного господина вам известны. Каким-то другим способом – понятия не имею. Если он замаскировался под грузчика, то сейчас может прятаться в любом из пятисот отсеков, коффердамов, угольных ям и междудонных пространств моего судна. Я этих негров и малайцев на входе и выходе не считал. Тоже ваша компетенция. Желаете – за ваш счет начнем поиски. Сутки простоя – две тысячи фунтов. Сыщики тоже ваши. Мои матросы этому не обучены.
– Хорошо, капитан. Мне нравятся люди с вашим характером…
– А уж как мне – с вашим! – Челноков даже не пытался скрыть добродушную славянскую усмешку, отчего-то так раздражающую представителей балто-германской расы. Латиняне к ней относятся с гораздо большим пониманием.
После этого Роулз все свое внимание и наличные силы резидентуры бросил на постоянную и непрерывную слежку за Сэйпиром и его якобы случайными спутниками. Других объектов на примете не было, но быть должны наверняка. Кто-то же обеспечивал акцию? Даже бурско-голландское подполье, которое непременно существовало и действовало, было отодвинуто на второй план. Не тот уровень профессионализма и не те цели у него просматривались. А здесь комиссар столкнулся с по-настоящему большой игрой.
За две недели он сумел создать целую теорию деятельности Сэйпира и его организации. Они, разумеется, преследовали гораздо более обширные цели, чем содействие бурам. Материалы круглосуточного наблюдения за тремя основными фигурантами давали богатую пищу для размышлений.
Выходило, что Сэйпир не занимался ничем другим, кроме как налаживанием контактов. Целыми днями крутился по городу, посещал банки, представительства известных во все мире торговых домов, завязывал знакомства в светских кругах, причем и в таких, куда самому Роулзу доступ был закрыт. Местный военный и административный истеблишмент его за равного не считал, во многом потому, что в свое время он опрометчиво решил изображать из себя малозначительного чиновника, занимающегося не совсем благопристойными, в глазах аристократии, делами.
Но кое-какие подходы к значительным персонам у Роулза имелись, и он с удивлением выяснил, что к поведению Сэйпира совершенно невозможно прицепиться. Все его доступные контролю дела были исключительно финансовыми, причем на удивление масштабными. Осведомители, бывшие на связи, пусть и не допущенные к банковским тайнам, сообщали, что, по косвенным данным, суммы покупок, продаж, заключаемых контрактов были многотысячными, если не миллионными. Но все в пределах закона. Поговаривали, будто господин Сэйпир представлял интересы одновременно нескольких мировых финансовых империй. Или – правительств великих держав.
Роулз страшно злился по поводу исчезновения тех пресловутых двух страничек. Что же он сумел услышать в разговоре с негоциантом или кем-то из его спутников такого, что это требовало изъятия записей? В коротком, наверняка достаточно формальном разговоре. Причем ведь и с глазу на глаз он ни с кем не беседовал. Уж это комиссар сумел выяснить. Или в присутствии капитана парохода, или сотрудников таможни и портовых властей. Речь явно не шла о взятке за провоз контрабанды, за сход на берег по фальшивым документам…
Но что-то ведь наверняка было? Одна, может быть, единственная фраза, невзначай брошенная, но потом, при здравом размышлении, показавшаяся Сэйпиру опасной. И потребовавшая всего последующего.
Невозможность понять что-то вполне очевидное, наверняка лежащее на поверхности, терзала и мучила сильнее, чем раздувший щеку флюс.
Приплывшие вместе с Сэйпиром русский и немец, тоже взятые под плотный надзор, удивляли только одним. Той стремительностью, с какой они сумели встроиться в не сулящую деловых успехов обстановку прифронтовой колонии, испытывающей сильные сомнения по поводу своей ближайшей судьбы Это тоже было проверено. Хозяин дома, на базе которого была устроена таверна, никаких подозрений в смысле лояльности не внушал. Капиталовложения в начатый с нуля бизнес не превышали задекларированных на таможне сумм господ Давыдова и Эльснера.
Но как мгновенно, лихо и, главное, успешно все было раскручено. Без всякой помощи со стороны коренных жителей колонии, в том числе и обладающих властью.
В любом другом случае Роулза внезапно устроенная и мгновенно процветшая таверна едва ли могла заинтересовать. Но ему хватило квалификации сообразить, насколько профессионально сработали чужаки. Складывалось впечатление, что они ехали сюда с конкретной целью и на подготовленную почву. Одна лишь условная фраза – и все завертелось!
Одним словом, он предпочел считать Сэйпира и его попутчиков членами одной организации. И вести себя соответственно.
…Кирсанов слежку за собой заметил в первые же дни. Не Москва здесь и не Петербург, где в распоряжении охранных отделений имелись сотни квалифицированных филеров, могущих водить одного клиента хоть вдесятером, постоянно сменяя друг друга. В этом небольшом, по российским меркам, губернском городе даже очень хорошая наружка шансов против специалиста не имела.
Павла это вполне устраивало. Он специально вел себя вызывающе, почти на грани. Разве только не просил прикурить у сопровождающих, с соответствующими намеками. Однако для обычного агента его поведение служило скорее свидетельством беспечности, означающей в итоге непричастность. Так они и докладывали Роулзу.
Давыдов и Эльснер тоже никак себя не компрометировали. Занимались исключительно своим бизнесом, встречались разве что с поставщиками. Даже просто прогуляться в город выходили изредка, причем по одному. Примерно раз в неделю навещали самый изысканный бордель, где девушки были на подбор, и приличный джентльмен гарантированно не опасался подхватить что-нибудь нехорошее.
С Сэйпиром за все время встретились только один раз, вполне замотивированно и очень ненадолго. Если бы они были членами организации, контакты должны были быть постоянными, чего не наблюдалось. И писем друг другу не передавали. Роулз не упустил из внимания и почтовых голубей, но и тут – увы!
Радиосвязь, к сожалению, не входила в круг представлений комиссара.
Но звездный час Саймона Роулза тем не менее наступил. Любой кропотливый и целенаправленный труд непременно увенчивается успехом.
Его наблюдатели засекли встречу объектом мужчины и женщины в глухом переулке, где взяться им было просто неоткуда. Вернее – было, но это если бы они, высадившись при помощи шлюпки с какого-нибудь судна (чтобы обойти таможню и пост самого Роулза), со своим тяжелым багажом прошли пешком значительное расстояние, для того, чтобы потом их встретил с наемным экипажем мистер Сэйпир. Очередная загадка, самого факта, впрочем, не отменяющая.
В этот день в Кейптаун официально прибыла только германская «Лорелея». Пассажиры с нее на берег не сходили и в представленных судовых документах не значились. Повода, чтобы официально допросить капитана и членов экипажа, у Роулза не нашлось, для негласного сыска не хватило времени. Наудачу посланный агент, с поручением приватно поговорить с кем-нибудь из команды парохода, успеха не достиг. Немцы оказались замкнутыми, скрытными, к англичанам и вообще-то относились неприязненно, а после начала войны против «братского народа» откровенно грубили и отворачивались.
К тому же «Лорелея» слишком быстро покинула порт. Как доставившая сюда Сэйпира с попутчиками «Царица». Вроде бы понятно, время военное, обстановка тревожная, зачем капитанам зря задерживаться, но все же…
Далее, мужчина и женщина, поселившиеся в том же отеле «Добрая надежда», оказались миледи Отэм и лордом Уоттоном. Бессмыслица ведь! Но на телеграфный запрос в Лондон ответа придется ждать несколько дней, причем, скорее всего, подтвердится, что подобные личности на самом деле существуют. Соответствуют ли они данным персонам – другой вопрос, но убедиться в этом нет никакой реальной возможности.
Не к прокурору же идти за санкцией на официальное открытие дела? Какого? Единственная зацепка – незаконное, без надлежащего оформления ввезенного багажа, проникновение в колонию. Весьма сомнительно. Мало того, что с королевским прокурором у Роулза по ряду причин отношения не сложились с самого начала, и навстречу он не пойдет, так есть и другая, достаточно веская причина законного отказа. С момента занятия бурами Наталя оттуда ежедневно прибывали беженцы, добиравшиеся самыми разными путями. По суше, где поездами, где гужевым транспортом, морем – на чем придется, вплоть до частных яхт и туземных рыболовных шхун. И никто из властей (кроме таких, как Роулз) давно не вдавался в подробности.
У мистера Саймона, столь же упертого в своей профессии, как Кирсанов – в своей, оставалась единственная возможность. И к ее реализации Роулз готовился очень тщательно.
…Кэб, в котором Лариса с «братом» возвращались от адмирала к себе в отель, в одном из переулков был внезапно остановлен целой группой крайне неприглядных личностей. Человек шесть явных обитателей трущоб, одетых в подобие приличной, но крайне неопрятной и заношенной одежды. Один из них сдернул возницу с его высокого сиденья, остальные сразу с двух сторон распахнули дверцы кабинки.
– Выходите, господа, – издевательски-вежливым тоном предложил кто-то из них.
Лариса тихо шепнула роботу по-русски:
– Тихо. Без моей команды веди себя как пьяный и напуганный лорд.
Сама же через прорезь юбки взвела один из пистолетов. Кобуры и ремешки вокруг бедер изрядно ей надоели, но лучше носить оружие там, нежели в ридикюле, который всегда могут неожиданно вырвать из рук. Что немедленно и случилось, пока она нащупывала ногой узкую ступеньку кэба.
– Напрасно стараетесь, господа, – насмешливо сказала она, – ни денег, ни драгоценностей там нет.
– А где есть? – буркнул тот, что торопливо рылся в сумке.
– Далеко отсюда. Что вам от нас нужно?
Генри тоже выбрался на брусчатку и стоял, покачиваясь, стараясь сохранить равновесие, придерживался за кронштейн бокового фонаря кэба.
«Инсидент» мог бы разрешиться в полминуты, но Ларисе было интересно. Для этого она сюда и приехала. В банальное ограбление миледи не поверила ни на мгновение.
– Все, что у вас есть, мадам, – издевательски ответил тот, кого можно было посчитать старшим банды. – Кольца, серьги, ожерелье, что еще у вас при себе? У джентльмена – часы, бумажник…
Он говорил, а сам озирался, не испуганно, как полагалось бы, а с нетерпением. Ждет кого-то.
– Кольца? Ну возьмите, – она сделала вид, что начиняет стягивать с руки перчатку. – Генри, отдай им часы…
По мостовой загремели подковы и железные шины колес некоторого подобия парижского фиакра – небольшой закрытой двухосной кареты с маленькими окошками в дверцах.
Запряженный хорошей парой лошадей экипаж остановился рядом. Черная лакированная дверка распахнулась, из темной глубины послышался голос:
– Ну что, есть что-нибудь?
– В сумке ничего, остальное сейчас возьмем…
– Работаем, Генри! – скомандовала Лариса. Тот, кто организовал налет, появился, остальные больше не представляли интереса.
Выдернув пистолет, она ткнула стволом в живот того, кто преграждал ей путь к чужой карете и ее хозяину. Выстрел хлопнул совсем негромко, плотная одежда и внутренности бандита сыграли роль глушителя. С остальными разделается робот.
Сама Лариса рывком запрыгнула внутрь, и дуло воняющего пороховым дымком «ТТ» лязгнуло о зубы едва различимого в темноте человека.
– Одно движение – стреляю!
– Нет-нет, у меня в руках нет оружия…
– Твое счастье…
После нескольких хряских ударов железного кулака «лорда Генри» все прочие налетчики (у Бени Крика не обучавшиеся) валялись вокруг и между экипажей, как изломанные куклы. Сам кэбмен, мало что понимая, прижимался спиной к высокому колесу, держа руки наотлет. Кучер кареты тоже поднял руки вверх, увидев направленный на него ствол.
– Ты – езжай, – сказал Генри своему кэбмену, протягивая ему плату за проезд и несколько шиллингов сверх того. – О том, что видел, лучше не болтай. Нам-то что, а до тебя дружки этих, – он показал на безжизненные тела, – добраться могут. Трогай.
Затем сдернул с облучка водителя фиакра, на полпути к земле ударил апперкотом в печень и швырнул в общую компанию. Если не соразмерил силу с человеческой, еще одного положил насмерть.
Уселся на его место, щелкнул кнутом.
– Куда поедем, миледи? – спросил андроид, подавая через переднее окошко ее ридикюль. – Не мог я им его оставить. Память о моем безвременно ушедшем зяте…
– Спасибо, Генри. Тронута. Поезжайте к тихому месту в конце набережной. Чтобы подходящий обрыв и море внизу.
Прижимая плечом удачно взятого «языка» к обитой стеганой тканью внутренней стенке кареты, Лариса, по-прежнему упирая ему в бок ствол пистолета, свободной рукой ухитрилась достать пачку нормального «Данхилла» (к чему теперь маскироваться?), прикурила, щелкнув зажигалкой, заодно поднесла огонек поближе к лицу пленника. Рассмотрела, погасила огонек.
– Начнем? – спросила она после второй глубокой затяжки. Нервы, чай, и у нее не железные.
– Вот дурака валять не надо, а? – попросила Лариса. – Свое положение ты понимаешь в полной мере. За участие в вооруженном ограблении в условиях военного положения у вас виселица полагается, как мне помнится. Затруднять королевское правосудие лишней работой мне не хочется. Это ведь правильно, если итог тот же самый?
– Не совсем. Есть обстоятельства…
– Так а я о чем? Давай, начинай излагать свои обстоятельства. Пока до подходящего обрыва доедем, вдруг у меня мнение успеет измениться?
Кирсанова Лариса до времени вызывать не хотела. Считала свою квалификацию вполне достаточной, чтобы раскрутить до смерти напуганного англичанина. Он только что потерял шестерых своих людей, ликвидированных стремительно, жестоко и почти бесшумно. Это не могло не подействовать.
В том, что «миледи» с тем же безразличием, с каким она застрелила «старину Болла», поступит и с ним самим, Роулз нисколько не сомневался. Игра пошла бескомпромиссная. И чтобы просто выжить в ней (не говоря о выигрыше), придется приложить все силы и изворотливость. Первым делом он назвал себя и свою должность. Надеялся, что это поможет.
До Первой мировой войны среди разведчиков «цивилизованных стран» (а другие просто не имели подобных структур) убивать друг друга было не принято. С коллегами договаривались, их перевербовывали, если получалось, высылали при наличии официального статуса или, как в случае с тем же полковником Редлем,[52] позволяли по-хорошему застрелиться. Это потом нравы ожесточились.
Но Лариса-то была девушкой из иных времен, воспитанная на иных принципах, прошедшая вдобавок школу беспримерно жестокой с обеих сторон Гражданской войны.
– Сам по себе этот факт ничего не меняет. Даже хуже – представитель власти участвует в уличных ограблениях? Подрастратил казенные суммы и срочно старается их восполнить? Ненадежный способ, рискованный и опрометчивый. Никакой суд таких действий не оправдает. Тем более, вы напали на лиц, занимающих в обществе достаточно высокое положение. Нам ничего не стоит обратиться к таким персонам, которые смогут повлиять на следствие в нужном направлении. Ты наверняка заметил, где мы были перед тем, как нас остановили твои головорезы?
Роулз был раздавлен. На самом деле, если миледи не убьет его сейчас, а просто доставит в полицию, показаний ее с братом и кэбмена вкупе с фактическими доказательствами будет достаточно, чтобы на него надели кандалы. И совсем не факт, что начальство в Лондоне успеет вмешаться. Или – захочет, даже если ему удастся переправить телеграмму. Время, как правильно заметила леди Отэм, военное.
– Что я должен сделать для вас? – сглотнув слюну, спросил комиссар.
– Для начала – кое-что мне напишешь, а потом начнем говорить предметно…
Карета тем временем остановилась, достигнув подходящего, по мнению «Генри», места. Роулз непроизвольно вздохнул. Сейчас все и решится.
Лариса достала из ридикюля небольшой электрический фонарик, раз в десять меньше тех, что здесь использовались в армии и на железной дороге, блокнот и редкостную, совсем недавно вошедшую в обиход «самопишущую» ручку.
Лариса продиктовала текст. «Я, такой-то, подтверждаю согласие добровольно сотрудничать с миледи Отэм по вопросам, представляющим для нее интерес. Обязуюсь предоставлять все интересующие ее материалы, касающиеся деятельности моей лично и возглавляемой мною комиссии. Согласен получать постоянное вознаграждение в сумме двадцать пять фунтов стерлингов еженедельно, каковая сумма может быть увеличена по взаимной договоренности».
– Все. Дата, подпись.
Роулз глубоко вздохнул.
– Это ведь тоже в своем роде смертный приговор, разве что с отсрочкой…
– Все мы живем под таким приговором и лишь лелеем надежду, что отсрочка будет достаточно длительной. А если без шуток – выбора-то у тебя никакого. Ты мне нужен живым, если сработаемся – оба доживем до глубокой старости.
– Сто фунтов в месяц – не маловато за жизнь с петлей на шее? – спросил комиссар, постепенно успокаиваясь.
– Если сейчас умрешь, тебе и медный фартинг не понадобится. А заработаешь – добавлю, я не жадная. Пиши!
Многому Лариса научилась у друзей. В том числе – без особых изысков ломать противника. В таком же стиле ребята работали в Москве, что в двадцатом году с чекистами и самим Троцким, что в две тысячи пятом с бандитами и заговорщиками. Главное – в темпе, не дающем возможностей для долгих размышлений и поисков выхода, поставить клиента перед совершенно однозначным выбором, демонстрируя отсутствие эмоций и холодную решительность, не сдерживать себя никакими нормами и принципами.
– Хорошо, только, с вашего позволения, я бы написал продиктованный текст несколько по-другому. Конкретнее и ближе к моему обычному стилю.
– Давай, пиши, – повторила Лариса. – Инициатива у нас приветствуется. А я прочту…
Документ ее устроил. Она аккуратно сложила бумагу, убрала в ридикюль.
– Присмотри за мистером, – сказала Лариса роботу и спрыгнула на вымощенную плитами песчаника набережную рядом с высоким парапетом. Внизу гулко бились о берег океанские волны. Сильно пахло морской солью и гниющими водорослями.
По карманной рации вызвала Кирсанова.
– Ты еще не спишь? – вежливо спросила она.
– Если ты нет, я тем более. Что с адмиралом?
– Похоже, согласится. Но это завтра. А сейчас тут у меня еще одна, неназначенная, встреча. С неким мистером Роулзом. Знаешь такого?
– Еще бы. Где он тебе подвернулся? Неужто к Хилларду визит нанес?
– Нет, на улице ждал. Пришлось его помощников обездвижить, а самого попросить согласие на сотрудничество подписать…
Кирсанов несколько секунд помолчал, в трубке слышно было только его дыхание.
– Лихо начинаешь, миледи, даже слишком. Ты где?
Лариса объяснила.
– Вокруг спокойно?
– Ночь, безлюдье, море шумит. Да мне бояться некого. Теперь уже…
– Хорошо, жди, сейчас за тобой подъедет Давыдов или Эльснер. Отвезет тебя с клиентом в надежное место. Я туда через полчасика забегу.
Пленник-дуггур на самом деле выглядел плоховато. Сильно исхудал, глаза – как оловянные пуговицы, попыток говорить, тем более по-русски, не предпринимал.
– Разучился от тоски? – спросил Новиков.
– Нет, я его отстроил. Он теперь с наших мозгов информацию считывать не может. Незачем. Так нам лучше изучать его истинные «мысли» и реакции. В чистом виде.
– И как мысли?
– В человеческом понимании – премерзейшие. Как у голодного тарантула, или, скорее, сольпуги.[53] То, что он нам рассказывал в пещерах, о своей научной деятельности и прочем – инстинктивная реконструкция наших представлений о долженствующем. Для введения жертвы в заблуждение, для достижения собственных целей.
– А выглядело настолько убедительно, – удивился Шульгин, лично беседовавший с руководителем «пятерки». – Чужой-то чужой, но ведь оперировал вполне совместимыми с нашими понятиями.
– На этом они вас почти подловили, – с торжеством возгласил Удолин. Словно забыл, что и сам какое-то время воспринимал пленника на предложенном уровне. – Хорошо, что я сумел вовремя пробиться сквозь наведенные слои его мимикрии.
– Да неужели такое на самом деле возможно? – спросил Ростокин. И тут же подумал о «девушке Заре» и том, как пришельцы пытались его охмурить, маскируясь под людей физически и эмоционально безупречно. А сами тоже, скорее всего, были членистоногими, если не хуже.
– Вы, друзья мои, – продолжал профессор, – никак не можете постичь масштабов открытого нами феномена эволюции. Элементарный пример – ничтожное насекомое по имени «ламехуза» умеет проникать в муравейники, маскируясь так, что стражи принимают ее за представителя своего вида. Затем она выделяет наркотическое вещество со вкусом меда, муравьи тысячами, бросая свои посты, начинают эту приманку слизывать, впадают в транс, и ламехуза спокойно принимается пожирать самое для нее святое – яички и личинки.
Теперь вообразите эту же ламехузу с полноценным мыслящим мозгом и набором инстинктов, как у всех насекомых Москвы и Московской губернии, вместе взятых. Клопов, комаров, пауков, муравьев и так далее. Инстинкты работают как положено, мозг человеческого размера и типа их координирует и направляет.
– Страшновато выходит, – передернул плечами Новиков. – Но они ведь техникой занимаются, «медузы» строят, до пулеметов додумались…
– Совсем не уверен, что – они. Выше определенного уровня восприятия у нашего клиента – пустота. Полное отсутствие не только информации, но и рефлексий по поводу ее отсутствия. Их не интересует, что бывает после смерти, кем они созданы, для чего, и как управляется их мир. Бесконечное и вечное сегодня.
До сих пор вся сложность и опасность взаимодействия с цивилизацией дуггуров до Андрея не доходила. Психический удар по самым глубинам его личности, огневые стычки, события в Барселоне и Южной Африке, материалы допроса Шатт-Урха так до сих пор и не складывались в единую схему. Что ни говорите, а монологи клопа-говоруна из «Сказки о тройке» воспринимались в юмористическом плане. А представить наяву армады этих говорунов, овладевших человеческим стилем мышления, но при этом остающихся клопами, – это то же самое, что написать правдоподобный текст о приключениях в N-мерном пространстве. Хайнлайну удался рассказ о четырехмерном доме, а вот роман о четырехмерном городе и его обитателях – едва ли даже он сумел бы убедительно сконструировать.
Спасибо Удолину, талант популяризатора ему не изменил.
– Слушай, Константин, а вот если бы ему пристроить видеокамеру с межвременным передатчиком, много бы интересного мы увидели?
– Не говоря о том, что такое невозможно технически, едва ли мы хоть что-то поняли бы из увиденного. Видеотрансляция в хижину готтентотов из цеха по ремонту паровозов. Более того, мне кажется, что ваш альтруизм бессмыслен в отношении этого несчастного. Думаю, его сожрут сразу после возвращения. «Запах мысли» изменился.
– Если он сразу же не попадет в руки гораздо более мыслящих. Тех, кто строит «медузы», конструирует пулеметы и настолько знает географию, что легко ориентируется в московских переулках и воюющей Испании. – Шульгин тоже начал противопоставлять логике профессора свою собственную.
– А когда ты отправишь клиента туда и благополучно вернешься, мы тебе расскажем еще кое-что, способное подстегнуть воображение, – усмехнулся Новиков. Он сидел, глядя на догорающий огонь, прикуривал от ярко рдеющей головешки и прикидывал, стоит ли вообще затеваться с проникновением в тайны дуггурской цивилизации или подумать о том, как и ее навеки отрубить от контактов с более-менее освоенными реальностями? Судя по Сашкиному опыту, сделать такое можно. Подумаешь – еще разок, последний, влезть с помощью Удолина и его магов (да можно и не самим лезть, их послать) в давно освоенный, единственно доступный Узел, и там тоже «пережечь пробки».
Мгновенно вспомнился старый анекдот: «Сидят два монтера, мимо мужик идет. «Слышь, парень, подай-ка вон тот провод». Мужик подает. «Видишь, Коля, ноль. А ты мне: «Фаза, фаза!»
– Так что, готов? – спросил Шульгин.
– Вполне, – уверенно кивнул Удолин. В отличие от предыдущих случаев, сегодня он далеко не достиг литровой нормы. Не зря говорится у испанцев: «Лучшее вино – беседа».
– Теперь меня слушай. Этого клиента постарайся выбросить на землю возле пещер, сам в реал не выходи. Сумеешь?
– Какая разница? В чем, собственно, дело?
– Да в том, – растягивая слова, стараясь, чтобы они звучали одновременно и безразлично, и веско, ответил Андрей, – что через сутки с небольшим после твоего отбытия, когда мы спокойно двигались по вельду, в точку нашего привала был нанесен плазменно-ядерный удар. Неплохо для девятнадцатого века?
– Какой? Ядерный? – Удолин имел возможность, как и все члены «Братства» «из раньших лет», читать книги и смотреть фильмы близкого и далекого будущего. О ядерном оружии профессор знал, картинки Хиросимы видел.
– Около того. Муравьи, короче. Не «огненные», а «атомные». Натаскали в нужное место крупинок обогащенного плутония до критической массы, оно и пыхнуло!
– Нет, вы мне подробнее…
– Вернешься – расскажем. И покажем. А по дороге еще раз воткни товарищу в мозги, или в ганглии, куда лучше проникнет, идею – их мир может быть уничтожен, полностью, в пыль, в радиоактивную, в течение ближайшего времени. Если они не придумают способа сообщить нам о полном прекращении активных агрессивных действий… На всех фронтах.
– Я постараюсь, – Константин Васильевич был ошарашен, но это и предполагалось. Путем философических бесед его и за сутки не удалось бы убедить в необходимости забыть о всякого рода теориях. Когда вопрос поставлен просто – или ты, или тебя, ход мысли значительно упрощается. А сама мысль – обостряется.
– Тогда вперед, товарищ. Как «Пе-2» с пикирования сбрасывай груз и крутой глиссадой с виражом уходи обратно. Быстренько управишься, успеем о дальнейшем побалакать…
Удолин подтянул дуггура вплотную к себе, как-то весь сгорбился, выставил вперед бороду, полуприсел, нечеловеческим голосом прохрипел набор согласных звуков, после чего окутался флюоресцирующей дымкой и исчез.
– Черт его знает, – сказал Ростокин. – До сих пор привыкнуть не могу. Вот так просто взял и на пятьдесят парсек перепрыгнул, через вакуум, звезды, черные дыры, радиационные пояса, поля тяготения… Все-таки мистика – это не для нормальных умов.
– Ну да, нормальному уму крайне необходимо сознавать, что в процедуре участвуют хотя бы несколько килограммов железа, подключенного к электросети, – сочувственно кивнул Шульгин.
– И желательно, чтобы колесики крутились, лампочки мигали, внутри что-то гудело и крякало, – добавил Андрей. – А если сразу не поедет, первое дело – по покрышкам ногой постучать и лобовое стекло протереть…
– Да ну вас! Сам я все давным-давно понимаю, просто материалистическое воспитание слишком глубоко сидит. Признаться, дед улетел, и мне как-то на душе полегчало. Пока он не вернется, может, хоть чуть посидим как люди, у огонька, не заморачиваясь на всякую ерунду? Александр Иванович, что ты там все время поглядываешь на удолинскую фляжку? Наверняка там какая-нибудь настойка на мухоморах. Уж больно легко Константин в транс впал… Раньше этот процесс сложнее происходил.
– Совершенствуется помаленьку, – ответил Новиков, – или они совместными усилиями формулы усовершенствовали. Путем мозгового штурма.
– Не надеюсь, что с этой сивухи нас накроет просветление, – ответил Шульгин, встряхнув фляжку над ухом. – Но попробовать можно. Вы же обратили внимание, что последнее время он исключительно эту баклажку при себе носит. Вдруг и вправду – новый эликсир? Испытаем? Если что не так – у Андрея гомеостат, у меня медицинское образование и опыт, глядишь, опять выживем…
Тон и выражение его лица показались Андрею слишком серьезными, дисгармонирующими с якобы шутливыми словами.
– Эй, ты что задумал?
– Да так, мыслишка в голову пришла…
Шульгин, еще когда они только уговаривали Удолина переправить дуггура обратно, вдруг решил проверить одно предположение. И стал приводить себя в соответствующий настрой. Фляжка потребовалась ему только как предмет реквизита, с помощью которого опытный престидижитатор отвлекает внимание зрителей.
Он решил испробовать новый, впервые использованный профессором при проникновении в логово дуггуров способ перемещения поперек эфирных полей, без выхода в чистый астрал. Держась, так сказать, вдоль границы серой зоны, которая, по его разумению, одновременно маскировала путника от посторонних наблюдателей и облегчала движение, подобно пленке поверхностного натяжения, по которой скользят водомерки.
Кое-какие приемы Удолина он зафиксировал в подсознании сразу, в меру сил восстановил и осмыслил позже, а сейчас успел восполнить некоторые пробелы. В частности – отдельные фонемы из заклинания, не вполне разобранные в прошлый раз.
Снова подтвердилось, что его потенциальные «магические» способности значительно сильнее, чем у Константина Васильевича. Если тот, образно говоря, пробился сквозь эфир, как медведь через кусты, то Сашка проскользнул ужом.
Что интересно, Удолин как бы не испытывал нужды в особой маскировке своих вторжений на высшие уровни. Можно вообразить, будто его сущность – материальная или тонкая, все равно – не вступала во взаимодействие с окружающим. Словно нейтрино, присутствие которого угадывается лишь по косвенным признакам.
Или же он ощущал себя в том мире, как оборотень в этом, не отбрасывающим тени.
Но эту тему можно будет обсудить позднее, на общем симпозиуме собравшихся в форте специалистов. «Если удастся вернуться», – остановил себя Шульгин.
Он не знал, в каком именно облике покинул терем, в физическом, как Удолин, или чисто духовном, и сейчас его тело продолжает бессмысленно сидеть за столом в дружеской компании, а то и продолжает нормальное общение, что тоже случалось.
Но это для него было совершенно неважно.
Он пока хотел только увидеть, а действовать можно будет и позже.
Как обычно, соприкосновение личности с эфирными уровнями полностью отключало обычные способы ориентации в пространстве и времени. Невозможно было догадаться ни о положении своего тела, ни о направлении движения, тем более – о сроках полета. Сейчас Шульгин чувствовал, что следует за профессором в кильватере, и этого было достаточно.
Пелена, отделяющая от чувственно воспринимаемого мира, исчезла, как всегда, внезапно. Словно открыл зажмуренные перед прыжком с парашютом глаза – и вот перед тобой снова мир во всем его великолепии.
Те же горы внизу, покрытые растительностью всех оттенков зеленого, желтого и красного, знакомая поляна перед входом в пещеры дуггуров, отдельно стоящие деревья, под которыми они дожидались появления Новикова с лошадьми. Все виделось как бы с двухсотметровой высоты, на которой он завис, слегка колеблемый воздушными потоками.
Удолин, так и державший в обнимку поперек туловища возвращаемого к родным пенатам пленника, уже почти коснулся земли.
– Бросай его, на хрен, и вверх! – заорал в звуковом диапазоне Шульгин, нутром почувствовавший смертельную угрозу. На ментальную речь переходить было некогда, да и вряд ли он был сейчас на это способен.
Все случилось, как бывает на войне. Самолет-разведчик снижается над вполне невинно выглядевшим местом, чем-то все же привлекшим его внимание, и вдруг из-под маскировочных сетей и прочих укрытий по нему начинают вовсю садить терпеливо ждавшие своего часа «Эрликоны».
Сейчас их роль исполнили согласованные по времени, но весьма разные по диапазону частот волновые удары, подкрепленные чем-то вроде банальных, сильно ионизированных энергетических лучей, очень похожих на бьющие в обратном направлении, от земли в тропосферу, молнии.
Точки базирования здешней ПВО Сашка засек сразу. При соответствующем настрое это не составляло труда, тем более, что сам он находился, по какой-то причине, вне зоны обнаружения. Был бы он на самом деле самолетом-штурмовиком, как бы славно накрыл сейчас цели сериями кассетных бомб!
Но увы! Даже обычных гранат он не прихватил, не говоря о чем-нибудь более солидном. Иринином блок-универсале, например.
Тело Удолина, выронившего свой груз, невероятным образом избежавшее прямых электрических попаданий, закувыркалось в воздухе, но взлетало при этом вверх, а не рухнуло на поверхность.
Шульгин в крутом пикировании рванулся на перехват, и одновременно ему вспомнилось кое-что из опыта поддержанных Замком проникновений в Сеть. Очень многое, бывает, удается вспомнить и сделать в критические моменты. Известный писатель и летчик-испытатель Марк Галлай писал, что, попав в неизученный тогда флаттер,[54] он не только спас самолет, но и успел догадаться, в чем суть этого явления. А по наблюдениям с земли, вся экстремальная ситуация длилась от силы двадцать секунд. Чтобы привести его догадку к математически формализованной теории, кабинетным ученым потребовалось несколько месяцев.
Вот и сейчас Сашка четко увидел координатную точку, место и вывод нужной ячейки Узла, кодовый сигнал, способный ее активизировать. Заодно и кое-какие практические советы, полученные им от Замка в одной из своих псевдосущностей, всплыли в памяти именно сейчас.
Наверняка опять начал сказываться эффект сочетанной работы трех сразу существующих в одном формате, но не совсем единых личностей. Совсем как в известной формуле «нераздельных и неслиянных».
Счет шел на миллисекунды, наверное, потому что стволы молний продолжали неторопливо двигаться вверх, ветвясь и нащупывая цель. Шульгин успел еще раз уточнить задачу, сосредоточиться и выбросить ориентированную на Узел мыслеформу. Сконцентрированную в объем булавочной головки и снабженную системой самонаведения.
Скорость мысли, как известно, неизмеримо превосходит скорость света. Молнии все еще пытались догнать профессора, а внутри Узла уже перемкнуло контакты.
Плюсы поменялись на минусы, всего лишь.
Подобного, пожалуй, не видел еще никто из ныне живущих.
Электроплазменные разряды, словно упершись в непреодолимую преграду, не исчезли, как принято, а замерли, и тут же втянулись сами в себя по прежнему направлению к исходной точке.
Тут и гром шарахнул, поскольку замыкание наконец случилось. Немыслимой силы гром, разнесшийся на сотню километров.
Невозможно представить, что произошло с установками, эти разряды произведшими. Если они были материальны и находились в этом же пространстве-времени, они должны превратиться в сильно перегретый пар и брызги кипящего обсидиана.
«Фергельтунгсваффе»[55] сработало, и этого достаточно. А сам Шульгин, как Ихтиандр, поднырнул в бушующих турбулентных потоках под бессмысленно крутящийся силуэт Удолина, точно, с первого раза ухитрился его подхватить и выдернуть все в ту же Серую зону. Весом и тяжелой, неживой инертностью он ничем не отличался от любого умирающего или совсем мертвого человека.
Так они и рухнули на ковер рядом со столом и камином в холле форта, из которого почти только что исчезли. В телесном виде, как сообразил Сашка, сдвигая вбок придавившего его сверху профессора и вставая на колени. Потому что его место за столом было свободно.
– Мать вашу…! – услышал он голос Новикова, окончательно врубаясь в реальность.
– Да это еще как сказать, – буркнул Шульгин, первым делом положив пальцы на сонную артерию Удолина. Пульсация имела место, причем – приличного наполнения.
– Живой, – с облегчением выдохнул Сашка и с удовольствием продолжил начатый другом сакральный фразеологизм.
– Гомеостат ему нужен? – Андрей, подскочив, уже засучивал рукав, чтобы отстегнуть браслет.
– Ну нацепи, хуже не будет, только тут травма, на мой взгляд, не соматическая…
Экранчик показал, что пациент действительно в физическом смысле здоров, «итем бовис», как облегченно констатировал Шульгин, что, по его мнению, на полузабытой институтской латыни означало – «как бык».
– А вот теперь бы я уж точно выпил, – доверительно сообщил он, соорудив для Удолина изголовье и подсаживаясь ближе к огню. – «Я говорил, и сейчас говорю – я не хотел ехать в Калифорнию».[56]
– А чего же поперся? – невежливо спросил Новиков. – Без предупреждения, без подготовки…
– Интуиция! – со значением покачал Сашка перед его носом указательным пальцем. – Еще чуток, и разложило б нашего деда на молекулы. Нет, не на молекулы, – подумав, уточнил он. – На атомы…
После чего начал обстоятельно излагать суть случившегося, свои впечатления и предварительные выводы.
– Засада, значит? – удивился Ростокин. – Откуда же они могли знать, что кто-то из нас вернется?
– А ты б на их месте что делал? Все нормально – после первого налета на базу все системы ПВО приведены в готовность номер один. А сработали – на автомате. По ментаизлучению пленника. Пожалуй, именно так, – раздумчиво ответил Шульгин. – Я как раз тогда подумал, что сам по себе Удолин для них «невидимка». Тут и бахнуло…
– По своему стреляли?
– Почему нет? У нас тоже за плен сажали, или к стенке ставили. Из зоологии, кстати, известно, что многие виды, насекомые в особенности, безжалостно уничтожают сородичей, от которых не так пахнет. Все сходится.
– Не лишено, – кивнул Новиков. – С Шатт-Урхом снова встретимся и об этом поспрашиваем. Лишь бы Константин из комы вышел…
– Давай, Игорь, не сочти за труд, разбуди господ некромантов и зови их сюда. Консилиум будем делать… – Шульгин подошел к окну, словно желая полюбоваться продолжающей набирать разгон пургой. На самом деле он вслушивался в свое внутреннее состояние. Вроде все чисто. Никаких намеков на последствия стремительного проброса сквозь эфир, контакта с Узлом, тем более – дуггурского электроволнового удара.
Дело, наверное, в том, что он не успел полностью вывалиться в реал. Получилось словно как с работой СПВ, включенного на режим «одностороннего окна». Или его каким-то образом защитило соединение с Узлом.
Маги по одному спускались вниз, и каждого вначале отправляли наружу, умыться снегом и освежить организмы ветерком и морозом.
Подействовало, вся бригада стала выглядеть вполне пристойно, соответственно своему званию и положению.
Шульгин объяснил, что именно случилось с их предводителем, и предложил высказываться.
Тот, который именовался Палицыным, Федором Егоровичем, – анатом и биолог, не считая прочих, менее материалистических специальностей, – произвел осмотр по-прежнему бесчувственного коллеги. При этом он пользовался старинным стетоскопом и круглым двусторонним зеркальцем от микроскопа.
За ним по очереди над Удолиным наклонялись остальные, кто производя руками пассы и что-то бормоча, кто молча созерцая, вслушиваясь в дыхание и касаясь различных точек тела.
Русский среди них, кроме Палицына, был только один, похожий не на ученого, а на купца второй гильдии – господин Иорданский, Аполлон Григорьевич, остальные трое – немец, француз и еврей. Между собой они общались на латыни, которой владели настолько свободно, что Шульгин улавливал только отдельные слова.
– С вашего позволения, мы считаем необходимым перенести Константина Васильевича в отдельное помещение. Там мы произведем над ним некоторые обряды, требующие специальной подготовки, – обратился Палицын к Сашке после того, как они завершили оживленный обмен мнениями, похожий на средневековый диспут на богословские темы.
– Вам виднее. А как насчет прогноза?
Маг снисходительно улыбнулся:
– Если мы сочли возможным взяться за лечение, прогноз не может быть никаким иным, нежели безусловно благоприятным. Раз вы тоже посвященный, могу сказать, что коллега Удолин под влиянием внешнего воздействия скорее всего успел произвести транспозицию, вследствие чего матрица его сущности находится… в другом месте. Мы известными средствами определим ее местонахождение и совершим обратную процедуру.
– Ну как же, как же, – с пониманием ответил Шульгин. – Мне приходилось иметь дело с тунгусскими шаманами, у тех тоже иногда случалось. Во время особо сложного камлания бывало, что душа самостоятельно не могла найти обратный путь… Тогда более компетентные товарищи ей помогали.
– Очень верное сравнение, – некромант выразил всем своим видом уважение к Сашкиным познаниям. – И долго у них это дело продолжалось?
– Когда как. Бывало – несколько суток.
– Мы, надеюсь, к утру справимся, – важно произнес маг, как бы подчеркивая свое неоспоримое превосходство над малограмотными тунгусами. – И без всяких бубнов обойдемся.
– Прогресс, куда денешься, – стараясь не выдать усмешки, согласился Новиков.
Не зря болтал господин Палицын, – к завтраку в зал Константин Васильевич спустился собственной, вполне адекватной персоной. Разве что выглядел слегка бледновато. За ним в порядке старшинства следовали маги, с блеском подтвердившие свою квалификацию. Звуков бубна и запахов паленой собачьей шерсти ночью действительно в тереме слышно не было.
Удолин церемонно поблагодарил Александра за спасение его бренной оболочки и немедленно начал многословно доказывать, что он бы и сам, конечно, в конце концов выбрался, но сил и времени на воссоздание аналогичной оболочки ушло бы непозволительно много.
Что это означает, никому из присутствующих объяснять не требовалось. Андрей, поручив младшим по выслуге магам, «черпакам»,[57] в число которых неожиданно попал представительный Иорданский, накрыть стол уже приготовленными им с Ростокиным горячими блюдами, начал вспоминать, как едва не потерял себя во время первого перелета с Сильвией сюда же. Игорь – о приключениях в тринадцатом веке и об Артуре с Верой. Сашка, вообще давно не понимающий, какое отношение его нынешнее тело имеет к исходному, не преминул поделиться своими соображениями.
Настроение за столом царило довольно приподнятое. Пурга утихла, и сквозь покрытые морозным узором стекла на пол и стены падали причудливо преломленные солнечные лучи. Было тепло, ничего не напоминало вчерашнего свинства.
– Не забивай себе голову, Александр, – покровительственно утешил его профессор. – Давным-давно доказано, в наших кругах, разумеется, – он обвел вилкой с нацепленным куском селедки сидевших напротив коллег, – что физическое тело, каким бы образом оно ни было приобретено, никоим образом не влияет на твою подлинную сущность. Ты сколько за свою жизнь костюмов сменил?
– Да кто ж их считал? По три раза в день, бывало, переодевался, – ответил Шульгин, уже поняв, что имеет в виду Удолин.
Но тот, начав развивать мысль, никогда не останавливался на полдороге. Да и не так уж он был бодр и невозмутим, как пытался казаться.
– Наше внешнее тело смело уподоблю тому же костюму. Меняя его, ты никоим образом не отказываешься от своей сущности, зато необходимо получаешь удовольствие, даже надевая такое же точно, как в случае с военной, к примеру, формой. Если костюм нового покроя, из красивого материала, он может изменить тебя до неузнаваемости с точки зрения окружающих, что иногда приятно, иногда полезно, подчас – просто необходимо. Так?
Новиков молча жевал яичницу с жареной колбасой, не желая своим ответом подвигнуть Константина к дальнейшим рассуждениям. Игорь, похоже, задумался, оценивая качество силлогизма. Шульгин перевел взгляд на магов, под шумок разливающих на своем краю стола вторую бутылку.
– Да-да, именно, – тут же отреагировал Удолин. – Вот мсье Дю Руа, – указал он на француза, – гильотинирован, было дело, в разгар якобинского террора. Год почти скитался как неприкаянный, по причине незаконченности образования, пока не нашел того, кто помог ему заново воплотиться. И с тех пор живет вполне благополучно. С ребом Товом случилось нечто более неприятное. Его однажды сожгли. А при сожжении заживо, должен отметить, тонкое тело повреждается гораздо сильнее, чем при гильотинировании, расстреле, даже повешении. Кстати, повешение, обставленное рядом дополнительных процедур, – тоже очень, скажу я вам, вредно…
– Хватит, а?! – не выдержал Новиков, едва не швырнув на стол вилку. – Это вы там у себя на семинарах обсуждайте. Живой – ну и будет с тебя! Дай поесть-попить спокойно. Потом поговорим. Давай, Саш, про баб, что ли…
…Когда Удолину стало известно о наличии на новозеландской базе добровольно прибывшего для переговоров Шатт-Урха и оказавшегося в результате своеобразным «политическим беженцем», он оживился до чрезвычайности.
– Я должен с ним увидеться. Немедленно. Он наверняка не из самых высших, но судя по всему – полноценный «мыслящий». Если мы за него возьмемся вшестером…
– Да беритесь, – ответил Шульгин. – Мне куда интереснее – осталось что-нибудь там, где мы с тобой вчера побывали, или действительно – в пыль?
– Об этом вашего парламентера и поспрашиваем. Мы ведь до сих пор не выяснили – в каком году мы с тобой побывали. Если в восемьсот девяносто девятом – одно. А если, с учетом базовой ориентации вашего форта, – в девятьсот восемьдесят четвертом? Тут крайне интересный пасьянс получается. Линии из любого года любой реальности так или иначе сходятся на одном и том же месте плюс-минус несколько месяцев…
– Только плюс, – возразил Новиков. – До момента постройки терема никто сюда не попадал. И самый главный показатель – наши собаки. Они по-прежнему молодые. С голоду не подохли. Нас помнят. Значит, крутимся в пределах одного года. Из этого и исходи, мыслитель…
– Вот-вот, – посетовал Константин. – Я, к вашему сведению, об этом давно задумываюсь. Вчера, когда летел, хотел посмотреть, осталась ли на скале Ларисина пометка. И в каком она состоянии, в смысле воздействия времени и природных факторов…
– Да, если наскоро – какой-никакой, а ориентир. Ну, значит, теперь другими способами атрибуции попробуем воспользоваться. А в Новую Зеландию как – своим ходом доберетесь или Олега просить, чтобы дверцу приоткрыл?
– Если можно – лучше бы с его помощью. Нам силы тратить и рисковать потеряться по дороге – не лучший вариант. Зачем продираться сквозь джунгли, если можно их перелететь на самолете?
В словах Удолина Андрею послышалось некоторое противоречие. Раньше он говорил нечто совсем противоположное, насчет способов межпространственных и межвременных перемещений.
– Тогда вам придется чуток подождать. Мы сначала к Дайяне вернемся, с Левашовым свяжемся, а уж тогда… Но чтобы еще мусорить в форте – ни-ни! Вчерашней вздрючкой не отделаетесь. Развоплощу всех, к чертовой матери.
Возвратившись в лагерь Дайяны, они первым делом вышли на связь с Левашовым. Подробно рассказали, что узнали от Удолина по поводу его экспериментов с дуггуром, о том, что в очередной раз случилось при попытке вернуться в Южную Африку. Чтобы Олег сам был в курсе и правильно ориентировал Скуратова, когда дойдет до непосредственного общения с профессором и его бандой. А то Константин такой лапши, по своей неистребимой привычке, сможет наивным людям навешать, что последствия окажутся непредсказуемыми. Как водится.
Подсказали, как с этой публикой следует обращаться (прибегая в вопросах соблюдения внутреннего распорядка к помощи Воронцова). Уж Дмитрий сумеет их держать не хуже, чем у Сашки получалось. Если что – ржавых якорных цепей, чтобы наждачком подраить, несколько саженей всегда найдется.
Два часа спустя Олег сообщил, что эвакуация форта произведена. И не только магистров-некромантов оттуда извлекли, но и всех собак забрали. Оказалось, Левашов, открыв портал на Валгаллу, пропустил туда Наталью с Анной. Первая очень захотела вспомнить молодость, а вторая там никогда не была, хотя и слышала очень многое. Так вот, девушки не смогли бросить на произвол судьбы верных друзей человека. Уж сколько, по их мнению, бедные натерпелись. И неизвестно, вернутся ли к ним снова бесчувственные хозяева.
А в Новой Зеландии, в третьем форт Россе, они не пропадут ни в каком варианте. Всегда найдется, кому накормить, поиграть, потренировать сообразно природой определенным привычкам.
Андрей против этого не возразил. Правильно, вообще-то. Только вдруг очень печально стало. Брошен Первый форт, совсем брошен. Окончательно опустевший терем, двор, замерзающий во льдах «Ермак Тимофеевич».
Оно конечно, всяко может повернуться, и учебный центр Дайяны станет их новым форпостом, но сейчас…
Потом Андрей подошел к хозяйке и спросил у нее координаты места, где погибли и были похоронены Лихарев с девушками.
Она посмотрела на него удивленно-непонимающе:
– Тебе – зачем?
– Да знаешь, мадам, захотелось мне букетик на могилу положить. Такая вот дурацкая натура… Девочкам – букетик, у вас им точно их никто не дарил, а Валентину, по-солдатски, – стопарик с черной корочкой. Всю жизнь форму носил и в бою погиб…
Андрей говорил, что думал, не имея в виду достать до души главную аггрианку, а тут вдруг увидел, что ее большие персидские глаза явно повлажнели. Что-то у нее тоже шевельнулось. Опять же в процессе «обрусения». Эмигранты разного рода, типа, вида и идеологических убеждений, укореняясь в очень благополучных странах, первым делом теряют эмоциональную составляющую своей личности, а в России почему-то обретают. Даже сверх того, что им было на родине предназначено.
– Спасибо. Тебе сопровождение нужно?
– Нам? Зачем. Флигер – и все. Часика через два вернемся.
Ну да, нам. Они собрались слетать туда с Шульгиным.
Ирина ни взглядом, ни словом не выразила протеста, узнав, куда и зачем собрались неразлучные друзья.
– За меня тоже помяните, – только и сказала.
Могила была устроена плохо, очень наскоро. Так, накидали, будто малыми саперными лопатками, невзрачный холмик, и больше ничего, ни креста, ни другого памятного знака.
– Басурманы, ети их в качель, – только и сказал Сашка, присаживаясь на теплый камень у изголовья (если правильно хоронили).
Зато место было очень хорошее. Справа – долина, на плоскости которой высилась гигантская, косо поставленная на землю шестеренка аггрианской базы, по которой им довелось полазить. Сначала снаружи, потом и внутри.
Слева – волнами поднимающиеся одна за другой заснеженные гряды гор. Зима тут продолжалась, не то что в долине. Солнце хотя и светило, но мороз был градусов десять, и с ветерком. Но это не волновало, одежда соответствовала, только голые пальцы слегка мерзли.
– Слушай, Саш, – сказал вдруг Новиков, завершая обряд поминовения. Оставалось только троекратно выстрелить в воздух. – А что, например, стоит сказать Олегу и сдвинуть это дело на пару часов до того, как… Нас здесь в это время не было, а прочие хроноклазмы, на фоне всего…
И ведь действительно, в сравнении с уже бывшим, что может означать такое незначительное вмешательство? Никак на судьбах мира не отразившаяся гибель (не на Земле вдобавок) нескольких человек, отыгранная назад?
– Сдвинуть, сдвинуть… А ведь может и получиться. Если точно рассчитать время, настроить СПВ на их флигер и выхватить его на подлете, открыть перед ним окно. Проскочат к Олегу в двадцатый пятый, и все… Никому не помешает… – принялся рассуждать вслух Шульгин. – Только как с вот этим быть? – указал он на могилу.
– Ну и что такого? – удивился Андрей. – Первый раз, что ли? Совсем незначительное «удвоение». Совершенно так же, как у Берестина с Ириной, или у тебя… Да и сам Лихарев, он ведь тоже из Ворошиловска тридцать восьмого как-то в Ставрополь две тысячи пятого прошмыгнул…
– Ну да, ну да! И вправду, ничего особенного не случилось, если не считать того, что потом приключилось. Твоя музейная история, и так далее. Если бы Лихарев тогда не сбежал, фактически и ничего последующего не было бы. То есть целый год мы прожили бы совершенно иначе. Без Испании, без новой/старой Москвы, и князя бы не спасли и…
– И чем это хуже всего остального? Помнишь нашу старую дискуссию, о том, как поступать в условиях полной неопределенности?
– Как не помнить. Выбирая вариант поведения, при прочих равных следует остановиться на самом этически безупречном.
– И я о том же. Мы не знаем, что сулит будущее, но сейчас можем вернуть жизнь небезразличным всем нам людям… Да чего далеко ходить, вчера, спасая Удолина, ты разве задумывался, не повредит ли это гипотетическому будущему. Кто бы спорил – тот мужик, что спас тонущего восьмилетнего Володю Ульянова, в итоге жутко деформировал мировую историю. Но сам ведь поступил единственным для порядочного человека образом…
– Не убедил, – фыркнул Сашка, отбрасывая окурок. – Наиболее этичный поступок оказался катастрофичным по последствиям. А тот, кто юного Гитлера утопил бы в ванне, непременно бы вышку огреб от австрийского суда. И не поставили бы ему памятника в музее холокоста. Ладно, суха теория, мой друг, как говаривал Фауст. Или Мефистофель. – Шульгин вытащил рацию и начал вызывать Ирину.
– Дай-ка мне, – Андрей взял у него аппарат и принялся объяснять Ирине их замысел.
– Я не возражаю, – тут же согласилась она. – Немедленно переговорю с Олегом. Если технически возможно, он сделает. Тем более, он, кажется, тоже с одной из девушек подружился? Как, кстати, странно получилось! Полетели и погибли именно те, что с вами контактировали…
– Думаешь, Дайяна так подстроила?
– Не обязательно. И повыше нее есть силы. Или – глупейшее совпадение. Их группа участвовала в вашей встрече, та же группа всем составом и полетела.
– Дайяна еще тогда сказала – «самые подготовленные», – громко, чтобы Ирина его услышала, вставил Шульгин.
– В общем, я сейчас же этим займусь, – повторила она. – И если ни Дайяна, ни здешние девушки ничего об этом не узнают, хроноклазм не зафиксируется.
– А как же… – Андрей вспомнил, что, по словам Ирины, погибшие девушки пока еще неодушевленные болванки.
Она его поняла.
– Это – моя забота. Лихарев тоже вполне подготовлен. Все будет как надо. Я начинаю, а вы немедленно возвращайтесь…
– Слушаю и повинуюсь, госпожа, – настроение у Андрея резко улучшилось. Он отключил связь.
«Хотел бы в таком случае знать, что же здесь похоронено?» – подумал Сашка, но ничего не сказал, потому что увидел в небе над Базой нечто. Вскинул к глазам бинокль.
В километре отсюда, на высоте метров в шестьсот, строем клина шли три «медузы». Незнакомой конструкции, поменьше той, что они уничтожили здесь прошлый раз, но больше московской. Форма купола другая, щупальца из-под него не в два, а в три яруса, и подлиннее, кажется.
– …И вообще, они ведь уйдут в относительное прошлое, текущее и будущее тут ни при чем, – по инерции продолжал говорить Новиков, пока не увидел напряженную позу друга.
– Быстро, к флигеру, – прошипел Сашка, – тут мы как на ладони, вмиг раскатают…
Летательный аппарат, цветом не отличимый от окружающего снега, стоял чуть ниже, в удобной ложбинке, заметить его можно было только прямо сверху. Так ведь вряд ли дуггуры руководствуются одной визуальной информацией, не Первая мировая, где летнаб[58] заменял локаторы, пеленгаторы и прочие средства инструментальной разведки. А с другой стороны, кто его знает, каковы защитные свойства и фоновые излучения местных гор? Да и самого аггрианского изделия. Вдруг да маскируют от «медузьей» техники?
Этот флигер, в отличие от того, на котором они летали прошлый раз, имел бортовое вооружение. Две гравипушки, но меньшей мощности, как и положено авиационным в сравнении с танковыми. Одна турельная, одна неподвижная курсовая. Наверное, Лихарев именно ими сумел сбить «медузу». Но зазевался, сам пропустил удар. Скорее же всего, «медуза» была не одна. Первую он, вторая – его. Просто Валентин не успел точно обстановку доложить.
И сейчас, сволочи, опять летят.
Через визир прицела, выдвинув его штангу как перископ подводной лодки, Шульгин определил, что курс «медуз» отклоняется градусов на тридцать левее их позиции. Значит, пока не видят. Или – не чуют.
– Пересидим, как думаешь? – спросил Андрей.
– Думать тут нечего, гадать только. Но положение у нас невыгодное. Сидим в яме, сектора обстрела никакого. Довернут сейчас, бомбу сбросят – и концы. Рискнуть разве, рвануть вверх на полном газу и атаковать с фланга…
– Знать бы, где у них фланг. Круглые ведь, суки! Как раз в лоб и выпремся, под сосредоточенный огонь. Валентин, может, на этом и попался. А если по-другому?
– Дело говоришь. Выбора особого нет…
Андрей опять доверил Сашке управление машиной. Сам предпочел сесть за пушечную турель. Флигер бесшумно приподнялся на метр над поверхностью и заскользил, как катер на воздушной подушке, по складкам местности.
Бог его знает, отчего не спросили у Дайяны, вылетая, насчет экранирующих свойств корпусов флигеров. Надо было, да не о том думали. С другой стороны – что толку, если Валентина все равно сбили?
Пока что летательный аппарат продолжал уходить все ниже и ниже, до предела пригасив тягу двигателя. Только иногда легкими импульсами Шульгин подправлял курс. Еще бы на полкилометра скатиться, а там и можно…
«Медузы», хорошо видимые в прицел, кружились, судя по угломерной сетке, аж четырьмя километрами севернее.
– Ищут что-то, подлюки, – сквозь зубы процедил Сашка, совершенно освоившийся с не предусмотренными агграми приемами управления флигером.
– Боюсь гадать, брат, но как-то мне сдается, что у Олега уже все получилось. И эти вот прилетели посмотреть, что с предыдущей группой…
– Если «эти вот» – не те же самые. И мы сейчас замещаем Лихарева…
– Не должно бы… – Новиков раньше Шульгина заметил впереди подходящий распадок, уходящий вправо, и крикнул: – А теперь – по газам!
Расчет был на то, что «медузы», исходя из прошлых за ними наблюдений, приспособлены к перемещениям через внепространство, но в атмосфере столь же медлительны, как их «прототипы» в море. Флигер по сравнению с ними – барракуда.
Только преимущество в скорости на этот раз использовалось не для атаки.
За пару секунд набрав предельные шестьсот километров в час, на трехметровой высоте они выскочили на другую сторону гигантского корпуса Базы. Надежное прикрытие, от визуального и локаторного наблюдения. Если в ней самой нет засады, или не появится внезапно слева еще одно звено «медуз».
– Кажись, проскочили, – выдохнул Шульгин. Он притер флигер вплотную к входу в подземные ангары, где хранилась боевая и транспортная техника. В достаточном количестве.
Въехали внутрь, дождались, пока закроется вертикальная дверь, способная выдержать ядерный удар.
– Отсюда радио до Ирины не возьмет, – заметил Андрей, сдвигая назад пилотский фонарь. – Покурим и будем думать, как жить дальше.
– Как жить… Садимся в лифт и едем на самый верх. Оттуда посмотрим, что на белом свете творится. Дальше – по обстановке. И связь с крыши появится.
– Черт, не запомнили мы, как Олег с Лихаревым через здешний компьютер общался. А впрямую по радио говорить – хрен его знает. Вдруг они научились эфир контролировать.
– Ну, не каждый же диапазон, а у нас он довольно узконаправленный.
– Хорошо, поехали. Там видно будет.
Осмотрев из-за прикрывающего вход вентиляционного колпака дальние и ближние окрестности, они убедились, что, во-первых, «медузы» никуда не делись, так и продолжают кружить в небе по часовой стрелке, перестроившись так, что теперь занимали вершины равностороннего треугольника. Оптимальная позиция для наблюдения за воздушным пространством и землей в окрестностях Базы.
Во-вторых, ничего, по их мнению, заслуживающего организации такого барража ни внутри, ни вне здания не имелось.
Шульгин снова достал из внутреннего кармана трубку. В ближайшие полчаса спешить некуда, а размышлениям «Петерсен», набитый «Особой турецкой смесью», весьма способствует.
– Сдается мне, эти ребята обеспечивают высадку большого десанта, – наконец сказал он. – Тот раз появление Лихарева им помешало, теперь подготовились получше.
– А нас все равно прозевали, – злорадно отметил Новиков.
– Да и ничего странного. Стереотипы. Ждали воздушную цель, на сухопутную не рассчитывали.
– Интересно, с событиями в Африке это как-то связано?
– Если и да, то скорее – от противного. Мы якобы атакуем там, они отвечают здесь…
В кармане короткими, прерывистыми сигналами запищал вызов рации.
– Да, Ира, слушаю. Что? Так, понял. Какими силами? Ну, это пока ерунда. Отобьетесь. Да мы бы хоть сейчас. Тут своя заморочка… Взлететь будет трудновато. Три штуки над нами кружат, и не просто так… Как бы не здесь высадка главных сил намечена. Можем, конечно, на бронеходах напрямик рвануть, прямо сейчас. Если сверху не достанут, часа через три добрались бы… Понял. Через полчаса свяжемся. Да нет, риска, считай, никакого… А ты давай, снова Олега вызывай. Если поддержка и снабжение требуются. Есть, хорошо, хорошо!
Шульгин по его отрывочным словам уже все понял.
– Именно. Даже два. Но небольшие. По одной транспортной «медузе» на перевалах, с севера и с запада. В трех и пяти километрах от поселка. Высадили, по предварительной оценке, сотню монстров и столько же примерно мелкой пакости. Дозоры девчонок отходят, не вступая в бой. Да им особенно и нечем. Только автоматы. Тяжелая техника занимает позиции на окраине. Потерь пока нет.
– Если две сотни – ерунда. Наши их размажут… Но это пока тоже, наверное, разведка боем. Или – отвлекающий маневр.
– А зачем там? Логичнее бы наоборот.
– Удолина спросишь. Я считаю – главная их цель – здесь, а там – блокирующая операция. Или – если совсем умные – попытка уничтожить интеллектуальный руководящий центр. Исходя из собственных представлений. Дайяна, допустим, – матка, девчонки – рабочие пчелы. Закончат там, здесь – делай что хочешь…
– Что ж их тут так привлекает?
Все это они говорили уже на бегу, с крыши к верхней лифтовой площадке.
– Зародышей так и не вывезли – раз. А они им, похоже, край как нужны. До компьютерных центров не добрались – два. Мы им по соплям накидали…
– Они нам – тоже, – Новиков передернул плечами, снова вспомнив волновой удар и его последствия.
– Но поле боя осталось за нами, – Шульгин остановился перед открытой дверью лифта. – Заходим?
Сам факт этого неожиданного вопроса заставил Андрея насторожиться. Ему вдруг тоже не захотелось входить в гостеприимно ждущую кабину.
– Давай-ка по пандусу, – сказал он. Подумалось, что если энергопитание само по себе или принудительно отключится, тут им и конец. Подручными средствами они, конечно, сумеют пробиться наружу, но успеют ли?
А подсказкам интуиции они привыкли доверять. Тем более, бегом по пологой спирали выйдет ненамного дольше.
В подземном, хорошо защищенном почти от всего арсенале решили перекусить. Когда потом придется? Сухпаек у них был приличный, на генеральском, как и положено, уровне. На случай неожиданностей разместились на крыше ближайшего бронехода, свесив ноги в люк. Всего этих машин, полностью готовых к бою, в ангаре оставалось шестнадцать штук.
– Самое же главное, как мне кажется, – продолжил прерванную мысль Сашка, – на дуггуров влияет сам уровень сопротивления, с которым они здесь столкнулись. Просто так никчемную позицию не защищают, известно. Соответственно, атакующий должен наращивать силы. Верден, Сталинград…
– Ничего мы по-настоящему не знаем, – сказал Новиков. – Вдруг у них есть информация, что через Базу можно выйти на оперативный простор? Прямо в метрополию аггров…
– Угу. Дайяна об этом не знает, а они знают.
– Уверен, что не знает? А если знает, только ей там делать нечего? Как белоэмигранту в Советской России.
Долго бы они так могли перебирать неограниченное количество недоказуемых вариантов, если бы Андрей вдруг не насторожился.
– Кажись, началось. – Он спрыгнул на черный, будто из полированного гранита, пол, ощутив в груди знакомую вибрацию, сопровождавшую приближение «медуз».
– Давай для начала… – Они загнали на площадку подъемника два бронехода.
– Надо же, не удосужились до сих пор выяснить, какой у них боезапас, – посетовал Шульгин.
– На наш век хватит, – сплюнул Новиков.
По плавно поднимающемуся тоннелю квадратного сечения боевые машины выползли в тамбур, грамотно расположенный довольно далеко, но на прямой директрисе к парадному подъезду Станции.
Выбрались наружу, слегка сдвинули бронепластовый щит ворот. Только чтобы выглянуть через щель.
– Ну, я те дам… – удивленно выдохнул Сашка. – Подучили тактику, сволочи.
Да, весь их план боя разваливался на глазах.
Сразу три большие «медузы» начали высадку десанта, приземлившись на большом расстоянии друг от друга, причем две находились вне досягаемости выстрела гравипушки, прикрытые ребром корпуса Базы. Видны были только верхушки их куполов. Чтобы достать – придется выскакивать далеко на открытое пространство. Хуже того – операция плотно прикрывалась с воздуха. В поле зрения на разных уровнях болтались целых пять омерзительных аппаратов, того типа, от которых они недавно удачно скрылись. Так это только в поле зрения, а сколько их может плавать сзади и выше?
– Одно нам остается – действовать непредсказуемо, – решил Новиков. – Даже для самих себя. Вот какое сейчас у тебя решение?
– Элементарное, – ответил Сашка. – На текущий момент. Бьем по ближайшей… Смотри, смотри, посыпались!
Из-под купола «медузы» по нескольким аппарелям высаживались пока что «классические монстры», занимая плацдарм. Много, опять не меньше сотни, яростные, имеющие четко поставленную цель, вооруженные знакомыми митральезами. Начали разбираться по отделениям, чтобы двинуться звездно-лучевым маршрутом по направлению к цели.
– Так бей!
Шульгин вспрыгнул на лобовой лист, нырнул в люк.
Бронеход завелся без привычного для танков грохота дизеля, скользнул вперед, и щит сразу отполз еще на три метра в сторону.
– А ты куда? – крикнул Сашка Новикову.
– Сказал – непредсказуемость! Стреляй, сколько можешь, потом назад и задвигай ворота. Не подставляйся! Рация включена!
Андрей добежал до своего бронехода, развернул его на месте и на совсем не предусмотренной для подземного коридора скорости погнал к ангару. Все решало время. Ну и удача, само собой.
Он с первого посещения засек, что флигеры в подземелье стоят разные. И тяжелые, восьмиместные, на одном из которых погиб Лихарев с девушками, и поменьше, на четырех аггров, а еще он заприметил два совсем маленьких, размером с «Жигули»-«семерку».
В один из них Андрей запрыгнул, не закрывая фонаря, убедился, что гравипушка есть и на нем, светящиеся розовые колонки индикаторов подтверждали, что «горючее» под пробку, и «боезаряд» полный.
Строители и владельцы базы едва ли предполагали, что кому-то придет в голову протискиваться, цепляясь бортами за стены, вверх по «пожарной» фактически лестнице, предназначенной для аварийного входа-выхода. Новикову это удалось, то в одну, то в другую сторону креня машину и поднимая ее на дыбы в поворотах. Как в хрущевской пятиэтажке люди с трудом и не соответствующим обстоятельствам матом выносят гроб. Советские архитекторы, наверное, столь обязательной необходимости в виду не имели. Исторический оптимизм не позволял.
А уж по широкому пандусу Андрей полетел легко и красиво.
На седьмом, кажется, уровне, сплошь остекленном, остановился. Посмотрел, что же внизу творится.
Шульгин свою первую «медузу» уничтожил, что и неудивительно. Пятьдесят или сто «же» выдала его пушка на прямом выстреле – неважно. Одни ошметки раскидало по территории. Но не попавшие под гравиудар монстры продолжали осваивать окружающую местность. И не только они. Новикову куда больше не нравились мелкие ракокрабоскорпионы, сворами бегущие впереди отрядов своих соратников, или «псарей» – кто разберет?
На них угла раствора Сашкиной пушки явно не хватало. Да чему удивляться? Ведь и они сами на единственном «Леопарде» ухитрялись уклоняться от прямых выстрелов этих же бронеходов, составлявших теперь их главное оружие.
– Сашка, слышишь? – крикнул Андрей, не вынимая рации из кармана.
– Слышу, не ори.
– Завязывай, а то опоздаешь, я сверху смотрю. Закрывай ворота.
– Понял! Ах ты, мать…
Через мощный динамик, кроме мата, примитивного по причине отсутствия времени на хорошие конструкции, Новиков услышал короткие автоматные очереди.
– Что, Сашка, что?
В ответ грохнуло, звучно и с многократным эхом. Ничем иным, как разрывом гранаты «Ф-1», это быть не могло.
И – тишина в трубке. Глухая, полная.
– Сашка, Сашка… – кричал Новиков, как в старом кинофильме: «Звезда, Звезда, я Земля, отвечайте…» повторяла девушка-радистка.
Не получил ответа и он. Зато в окне была видна еще одна «медуза», идущая на снижение на расстоянии почти что вытянутой руки.
Вот ей он и врезал! Вышиб лобовиком флигера стекла и вдавил нужную кнопку. Не отпускал до тех пор, пока и это биомеханическое создание не шмякнулось на землю без признаков жизни.
Полвитка вверх по пандусу, и в поле зрения новая цель.
Никакой у этих мудаков реакции, совсем никакой! Бьем их, как тетеревов на токовище!
Не считая, сколько в запасе «снарядов», Андрей разнес в клочья очередную машину. И только потом увидел, что столбик указателя упал почти до нуля. Гравитоны, или как их там, кончились.
Сбегать за новыми? Прихватить ведро-другое?
Новиков сбросил с плеча ремень автомата.
Повоюем еще! Шесть магазинов, пистолет, гранаты имеются. Чтобы вниз снова прорваться – хватит. Там снова танки, флигеры… Помирать, так с музыкой. Уж не один скорпион до него жвалами не дотронется!
Он опустился на этаж ниже. Прислушался. В бесконечных коридорах, вьющихся вокруг барабана станции и пересекающих ее поперек под любыми углами, было неожиданно тихо.
Ни цоканья когтей боевых членистоногих по металлизированным и каменным полам, ни топота и тяжкого фырканья бегущих монстров. И самое главное – никаких признаков ментальных волн. Не только боевых, даже и прощупывающих.
Неужто урок извлекли? Хорошо бы, но что-то не верится.
Андрей вернулся к флигеру. Зарядов нет, так машинка еще бегает? Зачем же пешком идти?
Провел ладонью над сенсорными полями, и белая, острым концом обращенная вперед каплевидная машина заскользила вниз по пандусу.
На полдороге он увидел взбирающегося навстречу Сашку!
Восхищаться и устраивать сцену радостной встречи не было настроения. Война есть война. Живые – и ладно.
– Что там у тебя случилось? – Вполне деловой вопрос. Шульгин в ответ показал на рассеченный гранатным осколком карман, где помещалась рация.
– Таким вот образом. Бросал «феньки» прямо под ноги. Им и себе. Еще два по каске задели. Однако выжил, как видишь…
Они сели, прижавшись спинами к стене так, чтобы видеть пандус на всем протяжении, выше и ниже.
– Ракоскорпионам? – спросил Новиков.
– Кому ж еще? От монстров я бы из автомата отбился. А эти… До чего же верткие, суки!
– Всех кончил? – Андрей впервые за ужасно тяжелый день снял с ремня и протянул другу настоящую армейскую фляжку. Он предпочитал эту простую алюминиевую конструкцию в суконном чехле всяким прочим другим, хромированным, обшитым тисненой кожей и так далее. В которых уважающие себя эстеты носят полтораста грамм чего-нибудь ирландско-шотландского.
Был бы верующим – перекрестился бы, потому что сразу всплыло:
Живой же Сашка, опять и по-прежнему живой, так к чему такие ассоциации?
Шульгину на такие возвышенные темы задумываться, очевидно, не пришлось.
– Само собой – всех. Иначе они бы меня сожрали. Запросто. Хрум-хрум! – Он показал пальцами, как челюсти ОЧЕНЬ больших членистоногих могут порезать на куски, пригодные для усвоения, млекопитающее и иное мыслящее существо, если оно не кремнийорганическое.
– Только Сашку без хрена не съешь! И с хреном – едва ли…
Шульгин, отхлебывая из фляжки, вспоминал то, что и Андрею не хотелось рассказывать. Пауки, от которых они отстрелялись в подземельях Замка, – мелочь. Их, прежде всего, было мало, и отсутствовала у них целенаправленная агрессия. Те, что пробегали мимо по чугунным мостикам, словно бы и не видели людей, расстреливающих их товарищей.
Эти же были агрессивны и ориентированы в нужную кому-то сторону.
Пара десятков этих мерзких тварей успела проскочить в щель закрывающейся двери ангара. И все они были разные, каждая – приспособлена для своей функции. Одни – кидались на руки и на ноги человека, чтобы вцепиться и перегрызть. Других больше интересовала техника. Между жвалами вдруг появлялись подобия вольтовой дуги, которыми они надеялись разрезать корпус бронехода. Два или три, напоминающие богомолов, выпустили шаровые молнии размером с теннисный мяч. Шульгин подумал – вот ему точно кранты, но плазменные шарики среагировали на более заманчивую, наверное, цель. Притянулись к двигательным отсекам бронеходов и там исчезли. Возможно, пополнили заряд аккумуляторов.
И никакого подобия разумной деятельности со стороны врагов, предполагающей наличие хоть минимального инстинкта самосохранения.
Сашка, вскарабкавшись на купол боевой машины, бил короткими очередями, все время попадал, но на остальных это не оказывало никакого впечатления.
Розово-синего краба, оснащенного крыльями, как у большой летучей мыши, целящегося ему в лицо, он сбил прикладом. И только тогда начал бросать гранаты. Уже не думая о себе. Надеялся, что костюм защитит, но думать – не думал.
Шесть гранат сделали свое дело. В закрытом помещении ограниченной кубатуры всем хватило. Кому осколков, кому ударной волны. Сашке, впрочем, тоже.
Голова раскалывалась от боли, тошнило, он почти ничего не слышал, пока, задраив за собой броневую дверь, поднимался наверх, где должен был оставаться живой Андрей.
– Меня что обнадеживает, – сказал Новиков, – по Станции они не стреляют. Она им целая нужна. Что бы такое, с учетом этого обстоятельства, придумать? Пока счет в нашу пользу, но сколько их еще по небу летает? Воздухом не прорвемся: на летчиков-истребителей не учились.
– Зачем нам прорываться? Лучше измотать врага упорной обороной, а уж потом… Положение у нас довольно устойчивое… Жалко, танк сюда затащить нельзя.
– Зато второй флигер можно. И еще постреляем. Я сгоняю.
– Давай. Я пока от контузии немного очухаюсь, заодно и понаблюдаю.
– Лечись. – Новиков сунул ему в руки гомеостат и умчался вниз, а Сашка опять вызвал Ирину.
У них в лагере обстановка складывалась сравнительно благоприятно. Выходы с ведущего от перевала ущелья прикрыли тремя бронеходами и первую атаку отбили успешно. На случай попытки монстров спуститься напрямик по скалам выставили усиленные дозоры. На северном направлении пока тихо. Противник активности не проявляет. Продвинулись немного и стали на опушке глухого леса. Настроение в гарнизоне бодрое. Олег уже все знает, готовит хорошо вооруженное подкрепление, и сам сюда рвется.
– Ни в коем случае, – резко возразил Шульгин. – Они с Воронцовым наша единственная тыловая база. Пусть там работают, обстановка до предела неясная. Десант может повториться и в Африке, и даже прямо в форт. Сейчас вся надежда на Удолина. Вдруг он своей командой с помощью Скуратова Шатт-Урха до конца раскрутит. А нам бы сюда что-нибудь зенитное перебросить. Пару роботов с «Иглами» или «Стингерами». Сейчас важно общий замысел противника выяснить. Бывает разведка боем, бывает – обороной. Разберемся – и к вам.
– А хотите – я к вам? Дайяна тут вполне управляется, и Игорь останется, для контроля и связи.
– Там сиди. Ростокин тебя не заменит… Передай Олегу, чтобы прямо сейчас на нас вышел.
…Новиков что-то задерживался внизу, и Сашка начал тревожиться. Правда, ни стрельбы, ни взрывов оттуда не доносилось, а в то, что Андрея могли захватить «по-тихому», Шульгин не верил.
Он осторожно выглянул сквозь разбитое стекло вниз. Монстры и их помощники (или наоборот) уже заняли всю прилегающую к Станции территорию, но приготовлений к штурму пока не наблюдалось. Ворота транспортного выходного тамбура были целы, да и главный вход не взломан. Это прошлый раз дуггуры захватили станцию врасплох, а после разгрома первого десанта Лихарев с курсантками, побывав здесь, включили все охранные системы на полную мощность. Если бы Дайяна не сообщила им коды и пароли, Новиков с Шульгиным ни за что не сумели бы проникнуть в ангары. Разве что испытанным методом – через верх. То направление почему-то считалось у аггров безопасным. Пережиток давно прошедшей эпохи, когда самой надежной защитой считался барьер обратного времени.
А после того, как они рванули здесь информационную бомбу, заботиться о перекрытии единственно уязвимого лаза на Станцию стало некому.
«Медузы» воздушного прикрытия продолжали барражировать в пронзительно-синем небе, не предпринимая никаких агрессивных действий. Кто знает, вдруг сейчас их главной задачей было прекращение сообщения со станцией извне и недопущение эвакуации ее защитников, о количестве которых они не знали?
До тех пор, пока не подоспеет новая волна десантно-высадочных кораблей. Если дуггуры спланировали операцию масштабов «Оверлорда»,[60] им тут вдвоем ни за что не выстоять. Просто массой задавят.
Но почему они не используют психотронного и лучевого оружия?
«Антона бы сейчас сюда, – подумал Сашка, – с еще одной информационной бомбой. Мы бы их выбили обратно в каменный век…»
«Окно» открылось в трех шагах. За ним – сам Левашов, Воронцов и только что помянутый Антон.
Шульгину сразу стало весело и спокойно. Да плюнуть на все, дождаться Андрея и шагнуть на ту сторону. База Дайяны куда больше в защите нуждается.
«Вот-вот, – издевательским тоном подсказал внутренний голос. – Хрена ли защищать Брест, если немцев все равно только под Сталинградом и Моздоком остановим?»
– Шагай сюда, Антон, покурим, помозгуем, – радушно пригласил Шульгин.
– Я уже готов, – без всякой рисовки ответил форзейль, переступил границу, махнул рукой, и два робота в морской форме, из экипажа «Валгаллы», начали передавать на эту сторону знакомого вида пеналы и контейнеры.
– Мы успели забрать из Африки роту во главе со знаменитым «медузобойцем», – сказал Олег, и тут же позади него появилось мужественно-хитрое, как у старшего прапорщика будущих времен, лицо капитана Ненадо, все еще одетого в англо-бурского покроя форму цвета хаки.
– Здравия желаю, Александр Иванович. Два взвода уже переправлено. Их там оставить или к вам половину перекинуть? Ирине Владимировне я представился и тот же вопрос задал.
Дипломат капитан, ох и дипломат. Так потому и жив доселе, и из фельдфебеля до капитана дослужился.
– Непременно всех – там. Очень меня подозрение мучит, что в самое ближайшее время главный удар будет нанесен именно по центру. Если их стратеги понимают в своем деле не меньше нашего.
– Присоединяюсь, – кивнул опытный капитан. – Со мной сорок пять человек, много тяжелого оружия, в том числе минометная батарея. Поддержим девочек, – многозначительно усмехнулся он. Конечно, Левашов его ввел в курс дела. А какая ж это радость для старорежимных боевых офицеров, если им придется взаимодействовать с целым батальоном (по новым штатам) амазонок, имеющих облик «смолянок»![61] – А вы, ваше превосходительство (удивительно умел Ненадо переходить с имени-отчества на воинский чин или титулование, по настроению и обстановке), здесь сильно не задерживайтесь. Средств ПВО вам на час боя хватит, если быстрее не справитесь. А потом бросайте все – и к нам.
– Это уж как сложится, Игнат Борисович, как сложится, – в той же тональности ответил Шульгин. Теперь капитан казался ему странной импровизацией актера, играющего бравого солдата Швейка и полковника Дроздовского[62] одновременно.
Тут и Новиков наконец подлетел на новом флигере. Выскочил, приветственно потрясая над головой сцепленными ладонями.
– Ты где так долго? – осадил его Сашка. – Без связи черт знает что в голову приходит…
– Поковырялся я там и при всей своей технической неграмотности сообразил, как с бронеходов на флигер дополнительный боезапас переставить. Получилось… Я думаю, – сказал он после короткой паузы. Все ж таки инженеры и специалисты его сейчас слушали. Исключая Шульгина и Ненадо.
– Посмотри, Олег…
Левашов посмотрел.
– Все здорово. Функционирует. Контакты стандартизированные, пушки однотипные. Теперь у вас «снарядов» вволю.
– И я так подумал, у меня этими «аккумуляторами» весь отсек завален. Двадцать штук. На сутки хватит.
«Сутки, – внутренне усмехнулся Ненадо. – Ты сначала час проживи. Видели, знаем».
Однако сам, невзирая на скептический настрой, прожил на разных войнах не час и не сутки, а теперь уже двенадцать полновесных лет. Если по закону, год за три – тридцать шесть получается, по Малинину и Буренину.[63]
Пока Шульгин, роботы и капитан разбирались со средствами огневой поддержки, Андрей отозвал в сторону Левашова.
– Так что там с Лихаревым?
– Ты сказал – я сделал, – ответил Олег. – Не так и трудно. И Валентин, и девчонки в порядке. Им я ничего не говорил, а Валентину сказал. «Пусть она поплачет, ей ничего не значит», – не совсем к месту вспомнил он Лермонтова.
– Ты лучше остальной текст вспомни. Не вернусь, моей «племяннице» объясни: «Что умер честно за царя, что плохи наши лекаря, и что родному краю поклон я посылаю».
«Скажи, что я писать ленив, что полк в поход послали, и чтоб меня не ждали», – неожиданно продолжил Ненадо, подойдя как-то сбоку.
– Да, Игнат Борисович, позавидуешь вашей начитанности, – оторопело удивился Новиков.
– О чем вы! Это мы в учебной команде проходили. Штабс-капитан Енгалычев наизусть требовал. Вы, говорит, будущие фельдфебели, может, больше ни одной книжки в жизни не прочтете, по врожденной глупости, окромя Уставов, а уж поручика Лермонтова – извольте. Или – никаких увольнений до самого выпуска.
– Умнейший был человек, – подумав, сказал Шульгин.
– В чем-то, – согласился Ненадо. – А вот в армию пойти (он, естественно, подразумевал белую) ума не хватило. Так и сгинул где-то.
Но обстановка не предполагала долгих рассуждений на отвлеченные темы.
Одна из патрульных «медуз», какими-то из своих локаторов обнаружившая физическое скопление и мысленное шевеление в локальной точке «классовых врагов», стрельнула, не очень прицельно, разрядом в сотню киловольт.
Метра четыре броневого остекления просто испарилось, остальной разряд ушел по стволу станции в землю.
Реакция робота с нашивкой «Боб Динамит» соответствовала его имени. Агрессивностью и взрывным характером. За разговором люди не заметили, как им были приведены в боеготовность «Иглы».
Все-таки дуггурская «медуза» была не бронированным штурмовиком типа «ИЛ-2», а биологическим объектом. С правильно выставленным на осколочно-фугасное действие взрывателем ракета, попавшая под мантию, разнесла ее в клочья.
От грохота выстрела, срезонировавшего в довольно замкнутом пространстве, все невольно присели.
– Ну ты, предупреждать же надо! – возмутился Андрей. Хотя претензию следовало предъявить не роботу, а дуггурским пилотам. Ныне, правда, уже не существующим.
– Идите обратно, ребята, – сказал Шульгин товарищам, на минутку вообразив себя капитаном Штоквичем, комендантом крепости Баязет. – Мы немножко продержимся и скоро вернемся. За нас не бойтесь. Стакан лафита каждый получит. А вы уж там…
Смысла в происходящем, если исходить из обывательской логики, не было никакого. Есть возможность уйти в лагерь Дайяны, вообще сразу на полвека назад и вперед, в недоступную для очень странного противника реальность, так чего же за никому не нужное место цепляться?
Так ведь и из Баязета можно было отступать до Игдыря, Эривани, Тифлиса, Георгиевска и Ставрополя. Сначала отряду полковника Хвощинского, потом группировке генерала Тер-Гукасова, а там и всему Кавказскому корпусу. Жизнь ведь дороже? Или – наоборот?
Лучше всего Сашкино настроение понял опять же капитан Ненадо. Чего-чего, а Сартра и Бертрана Рассела штабс-капитан Енгалычев своих воспитанников читать не заставлял. Потому Игнат Борисович и сохранил абсолютное природное здравомыслие.
– Уходим, Александр Иванович. В Африке скучно нам стало. Сейчас в другом месте побегаем… Ох и спасибо вам, ох и спасибо, – поправил усы капитан.
– За что же? – Андрей считал, что втянутые ими в смертоубийственные ситуации люди должны испытывать как минимум неприязнь к «господам».
– А вы представьте, как гнусно сидеть в грязных окопах и помирать в них же. И никто из моих подпоручиков и прапорщиков не увидел Москвы две тысячи пятого года…
Следующий лучевой удар прошел по нижнему этажу Станции. Здание встряхнуло.
– Хватит болтовни, уходите! – нервно вскрикнул Новиков. Что-то уж слишком долго они плели не соответствующие обстановке разговоры. Так не бывает, по-нормальному! Их опять затягивает Ловушка или тщательно спланированная дуггурами психопровокация?
– Уходят, – удивительно спокойным голосом сказал Антон. – Они уходят, я остаюсь.
Рамка прохода закрылась.
– Тогда постреляем, братан, – уважительно предложил Сашка. – Держи, – протянул он форзейлю «ПКМ» с полной лентой. – Еще немного пошутим…
Ирина, не желая нервировать Новикова, не говорила по радио всей правды. Хотя хотелось ей, чтобы они с Шульгиным оказались здесь. Сразу двумя заботами стало бы меньше.
Но и Станцию сдать просто так было нельзя, она это понимала.
Им с Дайяной и Ростокиным на своих позициях приходилось трудно. Монстры большие, средние человекообразные и омерзительные членистоногие продвигались вперед достаточно успешно. Оборона держалась, но буквально еле-еле.
Ростокин, сам по себе мужчина воинственный и отчаянный, в чем Ирина убедилась еще в московских событиях, принял на себя командование передовыми отрядами. Жизнью он, похоже, не дорожил. Да и как иначе, если весь подчиненный ему контингент состоял исключительно из юных девчонок? Он видел фильм «А зори здесь тихие», и пусть время, обстоятельства и персонажи тех и этих событий имели очень мало общего, в глубинных архетипах натуры основное сохранялось. Не может тридцатипятилетний крепкий мужик сбросить с себя хоть долю процента риска, приходящегося на долю куда более слабых.
О том, что это совсем не так и каждая из девушек превосходит его по любому физическому показателю, Игорь просто не задумывался. Ему достаточно было их внешнего вида и вызванного этим биологического настроя.
Если бы противник использовал только гориллоидов, было бы куда проще. Ростокин несколько раз контратаковал бронеходами и уничтожил несколько стай монстров, державшихся кучно. Луч гравипушки сминал толпу, ломая кости и позвоночники. Живучие существа долго еще шевелились, агонизируя, но опасности больше не представляли. Дайяна научила Игоря, как снижать мощность гравизаряда до необходимого минимума, чтобы надольше хватило.
Пули митральез броню танков не пробивали, так что риска не было почти никакого.
Зато прочие «солдаты» дуггуров представляли куда большую опасность. Перемещались они, используя складки местности и естественные укрытия, весьма стремительно, действовали рассыпным строем, и если бы имели дальнобойное оружие, огнестрельное или даже метательное, вроде кванговских арбалетов и пружинных ружей, фронт девушек давно бы рухнул.
В очередной раз вернувшись из вылазки в глубь ущелья, Ростокин возле опорного пункта, представленного двумя резервными машинами, укрытыми за россыпью крупных, с дом, камней, собрал девчат, поставленных командовать взводами.
Вдали продолжали потрескивать короткие автоматные очереди, но в целом наступило некоторое затишье. Противник, очевидно, перегруппируется перед новым наступлением.
Это Игоря и пугало. Если у дуггуров хватит ума перенести направление атаки километров на десять левее или правее, развернуть фронт он не успеет. Останется полагаться на резерв, сосредоточенный непосредственно в поселке.
Имен, как и большинство рядовых, его «лейтенантши» не имели, обходились наскоро намалеванными на тренировочных куртках номерами. Несколько неприятно (как в концлагере), но Дайяна вовремя не озаботилась, так не ему же в крестные отцы записываться.
У взводных номера начинались с двести девяносто второго. Следующие, значит, по старшинству после погибших. Среди них были и знакомые Игорю «Ольга» и «Надежда».
Девушки толпились вокруг него, на удивление спокойные. Будто не война идет, а очередная полевая игра. Да кто его знает, может, начальница их именно так и ориентировала. Учения в обстановке, приближенной к боевой.
Вооружены все они были вполне обычными автоматами «АКМС», на поясах по восемь-десять магазинов у каждой. Для каких-то особых целей на складах лагеря, этого и соседних, стрелкового оружия 50—80-х годов собрано было очень много. Намного больше, чем курсанток.
Ростокин сразу спросил у Ирины – зачем столько, и в основном советского?
Без особой охоты она ответила, что в семидесятые-восьмидесятые годы на Земле было очень много всяких локальных войн и «освободительных движений», и многочисленные «добровольные помощники» аггрианских агентов во всех концах света нуждались в материальной помощи. В СССР тогда контроль за выпуском и хранением любого оружия осуществлялся жесточайший. Она, например, по своей должности смогла бы раздобыть лишь несколько стволов, и то с немалыми трудностями. В любом случае это привлекло бы внимание на то поставленных служб. Потому производство наладили непосредственно на Таорэре, откуда оружие и переправляли на Землю.
– Видишь, номеров на них нет…
– Дубликатор?
– До дубликатора «наши» не додумались. Просто полностью автоматизированное серийное производство по заданному образцу.
… – Ну что, красавицы, потери есть? – первым делом спросил Ростокин.
Потерь не было, и это его обрадовало. Так бы и дальше. Бойцы ему достались отлично подготовленные, с поразительной реакцией (неужели и у Ирины такая? Ему в обычной жизни убедиться не довелось), стрелять умели просто изумительно. Даже в вертких ракоскорпионов попадали навскидку с полусотни метров, а прицельно – вдвое дальше. На тех войнах, где ему случалось побывать журналистом, хороших стрелков, кроме элитного российского спецназа, ему видеть не приходилось. Не зря статистики посчитали: с двухтысячного по две тысячи пятьдесят пятый год в локальных конфликтах на одного убитого приходилось двести тысяч израсходованных патронов.
– Докладывайте обстановку, – сказал он девушкам. – По порядку, слева направо.
На самодельной схеме (Дайяна даже такой мелочи, как нормальные топографические карты своей долины и окрестностей, не имела) Ростокин сделал нужные пометки. Настоящего военного образования он, к сожалению, не получил и осваивал хитрости стратегии и тактики по ходу дела. Как полководец-самоучка Гражданской войны.
Кое-какой замысел у него вырисовывался, только нужно еще помозговать. Мучил вопрос, почему враг не оказывает своей пехоте поддержку с воздуха?
– Перестройте оборону из линейной в эшелонированную, – приказал он взводным. – Группами по три-пять человек, за надежными укрытиями, дистанция между рубежами метров по пятьдесят. Задние прицельным огнем обеспечивают фланги, в случае необходимости отход осуществляется перекатами. Термин понятен?
Внеся некоторые пояснения, Игорь отпустил аггрианок на позиции.
Было бы чем, неплохо нанести мощный ракетно-артиллерийский удар в верхнюю часть ущелья. Блок-универсалы Ирины и Дайяны на артподготовку по площадям не рассчитаны, они эффективны только с близкого расстояния и по точечной цели. Пригодятся, если станет совсем плохо.
Мысль об экстренной и полной эвакуации ему в голову приходила, и не раз. К чему, мол, напрасные жертвы (а они рано или поздно будут, кто бы сомневался), если можно уйти в Новую Зеландию или сразу к себе, в благополучный пятьдесят шестой. Или там уже наступил пятьдесят седьмой?
Только что толку-то? Пока не выяснены до конца цели и возможности противника, отступление ничего не даст. Сдавать плацдарм за плацдармом, чтобы в итоге все равно принять бой на самых невыгодных позициях и на условиях врага? Как писал Твардовский: «Где последний рубеж, что уж если оставить, то шагнувшую вспять ногу некуда ставить?»
Нет уж, будем сражаться на форпостах, в предполье, и надеяться, что свои без помощи не оставят.
Его надежды тут же и начали воплощаться.
Со стороны учебного центра появился один из двух резервных танков, охранявших само здание и северные подходы к поселку. Но выглядел он более чем непривычно. Сплошь, сверху донизу, чуть ли не в два слоя облеплен людьми, отнюдь не девушками. Чуть приблизился, и стало видно, что это знакомые, неизменные и неистребимые белые рейнджеры, сражавшиеся где укажут на протяжении почти целого века, а сейчас добравшиеся и до иных планет.
Было их человек двадцать, и каким образом они цеплялись за гладкий, как вареное яйцо, корпус – профессиональная тайна. Сзади, на самодельной сцепке подпрыгивали на неровностях почвы и пылили два стодвадцатимиллиметровых миномета. Именно то, о чем только что безнадежно, казалось, мечтал Игорь.
Следом появился второй бронеход, тоже с десантом и прицепом из нескольких зарядных ящиков.
С души немедленно свалился гнетущий камень. Теперь он снова ни за что не отвечает, прибыли люди, стократ искуснее него в смертоубийственных делах, а главное, за гибель которых не будет терзать совесть. Сожаление – да, конечно, но не пожизненные муки, как у старшины Васкова.[64]
Командир передового отряда, поручик Оноли, отметившийся в сражении с монстрами в Африке, о чем Ростокин понаслышке знал, но лично знаком не был, ему скорее не понравился.
Слишком у него был самоуверенный и даже несколько пренебрежительный по отношению к «штатскому вояке» вид.
– Разрешите доложить, господин Ростокин, четвертый взвод спецбатальона для оказания поддержки прибыл. Командир взвода – поручик Оноли, – докладывал Валерьян слегка врастяжку, по-гвардейски, руку к козырьку поднял очень не спеша и опустил так же.
Но за время пребывания в «Братстве» Игорь тоже кое-чему научился. Были возможности.
– С прибытием, рад вас видеть, – пожал он руку поручика. И задержал ее в своей. – Только кое-что сразу уточним. Во-первых – не «господин Ростокин», а – корветтен-капитан.[65] Во-вторых – не совсем понял, «для оказания поддержки» или «в распоряжение»? Кто в данный момент ваш непосредственный начальник и где находится?
– Извините, герр корветтен-капитан, – все ж таки попытался сохранить лицо Оноли. – Мне не сообщили о вашем чине. Непосредственный начальник – капитан Ненадо, в настоящее время находится в штабном здании на совещании с Ириной Владимировной. Письменного приказа я не получил, вопрос взаимной подчиненности не обсуждался. Сказано дословно так: «Там Ростокин держит оборону. Срочно выдвигайся, поддержи. Развернешься – доложишь». Слова капитана. У меня все.
– Хорошо, поручик. Недоразумение снято. Принимай общее командование, мне оно уже вот где. Присаживайся, – указал на камень. – Держи карту. Вот наши позиции. Неприятель – примерно здесь… – Ростокин рассказал все, что успел узнать сам о численности и тактике дуггуров. – Личного состава у меня пока семьдесят человек. Большинство на передовой. Вооружение – только автоматы. Боеприпасов достаточно. Пять человек – в экипажах танков. Ими я буду руководить сам, тебе эта техника незнакома. По взаимному согласованию, конечно. Но бойцы у меня – своеобразные, так сказать. Имей это в виду.
– В курсе, – расплылся в улыбке Оноли. – И там видел, и на этих танках они же. Не беспокойтесь. Безобразиев не допустим и в атаку впереди себя посылать не будем. Я, позвольте доложить, всего три дня назад тысячи три этих монстров в Африке приложить успел. Кое-что соображаю. Одно удивляет – у вас они как-то очень вяло себя ведут. Там перли полковыми колоннами, на потери внимания почти не обращая… Мы на пулеметах стволы менять едва успевали.
– Может, вы их и научили кое-чему. Или замысел здесь другой. А сейчас я бы предложил обработать огнем вражеские позиции. От переднего края и на всю глубину.
– Сделаем. Прикажите «бочкаревкам» к нам оттягиваться.
– ? – изумился Игорь.
– Да, вы ж не знаете… Это при Керенском, в семнадцатом, появился такой «женский батальон смерти» под командой Машки Бочкаревой. Отчаянные были бабы. Оттуда и вспомнилось.
– Ясно. Сейчас распоряжусь.
Офицеры быстро, но без суеты отцепили минометы и зарядные ящики от бронеходов, и те немедленно умчались обратно.
С собой Оноли привез двадцать восемь человек. Шесть – минометные расчеты. Предельный минимум, подносить боеприпасы придется «местным». Остальные, по африканскому опыту, были вооружены «Взломщиками», «ПКМ» и имелся один «АГС-17» «Пламя».
Поручик-минометчик развернул буссоль и начал готовить данные для стрельбы.
– Всего вас сколько сюда доставили? – спросил Ростокин.
– Еще столько же. Хватит, – успокоил Валерьян. – Главное, не забывайте, огонь эти сволочи открывают с четырехсот метров, не раньше.
– Меня уже предупредили. Потому я ваших любимцев танковыми пушками держал за полверсты и дальше. Проблема в другом…
Со стороны горного склона начали появляться первые звенья отступающих девушек. На этот раз они несли с собой двоих раненых. Похоже, тяжело, потому что здоровья, сил и выдержки у них было больше, чем у самых закаленных солдат. Если сами идти не могут, значит, и вправду плохо.
Игорь вскочил и побежал навстречу, за ним Оноли и еще несколько офицеров. Чисто рефлекторно. Подготовку на уровне санинструктора имел каждый, универсальные походные аптечки двадцать первого века – тоже. Шульгин, как только увидел их у коллеги, военврача Ляхова, восхитился и немедленно велел Олегу наштамповать их несколько тысяч штук. После чего провел с рейнджерами специальные занятия.
– Что тут у вас?
– Покусали, – ответила крепкая темноволосая курсантка с номером триста восемь. – Четыре таких… – Названия для разновидностей боевых членистоногих придумать не успели, обходились жестами и описательными словами. – Прорвались сквозь заградогонь… Мы их все равно перебили, но вот…
В том-то и дело, что подобные существа обходились без оружия. Им хватало жвал, хелицер, клешней и других поражающих факторов, помноженных на скорость передвижения и относительную малоуязвимость.
Ранения выглядели неприятно. Глубокие, рваные. Хорошо, что по случайности крупные сосуды не задеты.
Девушек перевязали, ввели противошоковое и универсальный антидот, на одном из бронеходов отправили в Центр. Что выживут, сомнений не было, там у Дайяны и стационарный гомеостат есть, зато увиденное произвело на офицеров сильное впечатление. Бой с большими монстрами они вели, кому довелось, на большом расстоянии, бесконтактный, чисто огневой. В худшем случае – пулю поймаешь, так на то и шли с юных лет.
А здесь совсем другое. Будто стаи голодных волков на тебя охотятся, и даже хуже – у волков все же кое-какие мозги имеются, их напугать можно.
Оноли с минометчиком на ходу меняли план боя. Решили вместо классической артподготовки по тылам противника организовать атаку за огневым валом. Что это такое – большинство знало. Рейнджеры, после окончания Гражданской не ушедшие в частную жизнь, а оставшиеся служить, постоянно повышали квалификацию, изучая теоретически и на практике опыт всех грядущих войн ХХ века.
В этом эффективном, но достаточно опасном тактическом приеме главное – точно согласовать по времени и расстоянию маневр пехоты с огневыми налетами. В идеале штурмовые группы должны держаться строго на дистанции максимального разлета осколков, в паузах между залпами совершать очередной бросок, а пушкари в это же время согласованно переносить прицел на одно, в крайнем случае два деления угломера.
Так и пошли. Каждая из труб с предельной скоростью выбросила по опушке леса, где отмечалась наибольшая активность кработарантулов (можно и так назвать), по пять тяжелых осколочных мин. Хорошо, что грунт здесь был подходящий, каменистый, вдобавок и подмороженный. Мины разрывались сразу при ударе, не зарываясь в землю, и осколки разлетались, срезая все на своем пути, как хорошо отбитая коса – росную траву.
Рейнджеры рванулись вперед по двум направлениям – вверх по ущелью и левее, туда, где девушек атаковали крупные скопления инсектоидов.
За атакующей цепью двинулась вторая – прикрытия и зачистки, вооруженная в основном снайперскими винтовками, чтобы добивать прячущихся между камнями ракоскорпионов и с дальних дистанций пресекать фланговые прорывы.
Через полчаса боя передовой отряд вышел на последний, стометровый подъем к перевалу. Где-то совсем близко, на плоском пятачке и базировалась единственная десантная «медуза». По крайней мере, ее взлета никто не наблюдал.
К этому времени четыре офицера были убиты залповым огнем из засады, первой и последней на пути по ущелью. Десяток монстров укрылся в неглубокой расселине, но достаточной, чтобы мины их не достали. Их, конечно, тут же перестреляли и вдобавок закидали гранатами, но потери оказались неожиданными и несоразмерно большими.
– … Ничего не понимаю, – матерился Оноли, по пояс высунувшись из боевого отсека бронехода. Ростокин успешно преодолевал еще вчера вполне благоустроенную тропу, подходившую даже для колесного транспорта. Сейчас она была изрыта плоскими воронками и завалена сброшенными со склонов камнями и грудами сланцевой породы. Но аггрианские танки на своей гравиподушке могли на метр-полтора подниматься над препятствиями, не снижая скорости.
– Никогда они так не воевали! Стадо и стадо, хоть и с пулеметами. А сейчас у них, мать туды и растуды, – тактика! Всех, на хрен, перебьем. Какие там пленные!
– То-то ты раньше тараканов в плен брал, – сквозь зубы ответил Игорь, зная, что поручик его все равно не услышит. У него родился интересный замысел.
Ростокин поравнялся с изгибом тропы, где два рейнджера саперными лопатками расчищали площадку для установки «Пламени». Третий торопливо присоединял гранатомет к треноге.
– Впереди кого-то видели? – спросил Игорь, сдвинув дверцу.
– Никого. Сейчас машинку настроим, сходим посмотреть.
– Сидите на месте. Мы сами посмотрим.
Он дернул Валерьяна за штанину.
– Закрой колпак. А ты – на мое место, – приказал он курсантке, сидевшей за пультом гравипушки.
Девушка приняла управление.
– Теперь так. Сразу полное ускорение, выскакиваешь на гребень – и стоп. Дальше работаю я. Ты ждешь команды. Вперед – вперед, назад – назад. Только не перепутай. Усвоила?
Номер триста тридцать три молча кивнула.
Через три секунды они увидели прямо перед собой, едва не на расстоянии пистолетного выстрела, «медузу», в явно небоевом режиме.
Она стояла, огромная, как цирк «шапито», метров сорок в диаметре, двадцать в высоту, опираясь о щебенчатый грунт двумя десятками нижних щупалец (или псевдоподий). Между ними и вторым, горизонтально растопыренным венцом желто-фиолетовых выростов зияло несколько отверстий, которые язык не повернулся бы назвать люками. Слишком неприятно-биологические ассоциации они вызывали. По спущенным из них пологим скатам перемещались вверх и вниз членистоногие инсектоиды. Монстров видно не было. Наверное, все они полегли в бою или рассеялись по лесу, лишенные жесткого управления. Только вдоль ущелья Ростокин насчитал куда больше полусотни бурых трупов.
Те, кто здесь присутствовал, двигались без особого энтузиазма. Вялость в них чувствовалась. Отчего бы? Энергия кончается? Или программа на излете?
Игорь вот что придумал. Он хорошо помнил рассказы о первом сражении землян с аггрианскими бронеходами и о том, как экипаж «Леопарда» сумел выжить. Любознательный, как всякий настоящий журналист, он въедливо вникал в детали записок Новикова и живые устные комментарии Шульгина и Берестина.
По их мнению, аггры проиграли оттого, что сразу не врубили свои гравипушки на полную мощность. А то бы с одного раза превратили отважных дураков в мешки кровавой слизи и крошеных костей.
А если все было не так? Просто не рассчитали второпях, с кем и с чем имеют дело. Сам же замысел был вполне здравый, с их точки зрения.
Ростокин подрегулировал настройку гравипушки. Он ведь был человек, не чуждый сложной техники, даже основами хроноквантовой навигации пытался овладеть. А тут – делать нечего. Да заодно вспомнилось, как его в Сан-Франциско агенты Панина пытались захватить с помощью гравибраслетов. Принцип был другой, но по замыслу – то же самое.
Для начала он установил мощность на режим, соответствующий десяти земным «же», а раствор луча – в три диаметра «медузы».
Ему показалось, что ноги-опоры этой штуки слегка дрогнули.
– Наблюдай, Валерьян, наблюдай! – крикнул он. – Я за «медузой», ты – за тараканами!
И прибавил мощности.
– Слушай, они… того. Падают!
Действительно, несколько инсектоидов, захваченных на полпути по своим сходням, начали валиться на землю, как спелые каштаны с дерева под порывом ветра.
– А ну, еще чуть!
Псевдоподии «медузы» сложились все сразу, она грузно осела на площадку своим куполом, несколько сплющившимся под собственным, пятнадцатикратно увеличившимся весом.
– Есть! Скажи, тридцать третья, тебя как по-человечески звать? – тронул он за плечо курсантку.
– Елизавета, – после короткой заминки ответила та.
– Ты, Лиза, в курсе, сколько в таком режиме пушка может проработать?
Девушка перегнулась через спинку водительского сиденья, бросила взгляд на аггрианской оцифровки указатели.
– Я точно не знаю, мы это очень поверхностно изучали. Но часа два наверняка…
– Отлично! Садись за пульт, держи цель.
Ростокин с поручиком отошли в сторонку, прикрываясь кормой танка.
– Вот жизнь пошла, – философски вздохнул Оноли. – Убили б меня тогда в Екатеринославе, сколько бы интересного пропустил. Закурим, господин корветтен-капитан? – Ирония в его тоне все равно чувствовалась. – Небось, за этот бой фрегаттена[66] дадут? – поручик протянул Игорю затертый до белизны портсигар из крокодиловой кожи. Крокодил был убит неизвестно когда. Отец, крупный торговец зерном, подарил его сыну, когда тот решил идти добровольцем в армию. Не отговаривал, не предлагал приличного, не подлежащего призыву места в тылу, просто вздохнул, посоветовал: «Будь, сынок, разумно храбрым, на рожон не лезь. Если не мы, то кто?»
Отца давно нет, а портсигар сохранился.
Покурили молча, вслушиваясь в отдаленные выстрелы, явно стихающие. Почему и нет, если управляющий действиями «манипуляторов» центр отключен?
Игорь достал из кармана коммуникатор, а поручик, притоптав окурок каблуком, сказал, что он сейчас подбросит сюда расчет «Пламени» и еще десяток ребят, а остальных отправит вниз, на центральную позицию.
…Ирина выслушала доклад Ростокина о его успехе, отметив с трудом сдерживаемые восторженные нотки.
– Молодец. Мы тут до такого не додумались. На севере тоже держимся. Я сейчас передам, чтобы твой опыт использовали. А с «медузой» что делать будем?
– Так я тебя об этом и спрашиваю. Держу ее «под прессом». Знаешь, сюда бы сейчас вернуть Удолина с командой. И с Шатт-Урхом. Вдруг они придумают, как оттуда «мыслящих» вытащить и поговорить наконец. Да, а что там у Андрея с Александром? – спохватился он.
– Живые, воюют, – нейтральным тоном ответила Ирина. – Тоже надеются на Удолина и твоего Виктора.
– А что еще остается? – Игорь теперь имел право на такой вопрос.
– Антон с ними, – добавила Ирина, – лично решил поучаствовать.
– Это неплохо. Не все же ему наблюдать с горы за схваткой двух тигров[67] в долине…
– …Нам нужно срочно вниз, ребята, – сказал Антон. – Нюхом чую, что-то там сейчас начнется!
– Сверх того, что уже есть?
– Вот и посмотрим. Роботы пусть бегают по этажам и стреляют, пока ракет хватит, а мы…
Тут шарахнуло так, что, казалось, вся огромная станция подпрыгнула. Их накрыла волна озона, дышать которым в чистом виде невозможно. Сжигает легкие не хуже иприта.
Сашка, знающий это лучше других, закрыл рот и нос рукавом, жестом показал, что вдыхать-выдыхать ни в коем случае не нужно, и кинулся к флигеру. Захлопнул колпак над кабиной, послал машину вниз по заваленному обломками пандусу и наконец перевел дух.
– Кажется, игра пошла всерьез, – согласился с форзейлем Андрей. – Мы их достали, и они решили достать нас. Неужто База им больше не нужна?
– Нужна, нужна, – успокоил Антон. – Они ведь по верхам бьют, а самое главное здесь, у основания станции и в подземных бункерах… Помнишь, где вас с Алексеем держали?
– Я, к сожалению, помнить этого не могу, а вот Александр – очень даже…
Сашка кивнул.
– И что? Ты, вообще, зачем сюда явился? Лишний ствол нам почти и без надобности. Лучше бы Ирине с Дайяной помогал.
– Снова ты грубишь, Саша, – укоризненно ответил Антон, насмешливо щурясь. – Бывает, лишнего ствола как раз и не хватает. Хотя сейчас, ты прав, не в нем дело. Мы там у себя тоже времени не теряли, пока вы тут геройствовали. У нас, кстати, на Земле опять неделей больше прошло, чем здесь.
Удивления его сообщение не вызвало. Привыкли.
– Константин нам очень помог. С Шатт-Урхом он легко разобрался, на понятном тому языке. Скуратов тоже многое постиг, но когда Удолин и его команда до ключевых нервных ганглиев добрались…
– Не мозгов? – удивился Новиков. Он до сих пор считал, что Шатт-Урх является мыслящим существом.
– Я и сам так думал. А вот… Молодец проф! Сумел проникнуть. Те же инстинкты, но на порядок выше. Настолько выше, что почти обманул нас. Ну до того все у него сходилось! Даже нашим и своим якобы ошибкам находил удивительно убедительные объяснения. Просто мы с таким никогда не сталкивались. В том числе и я, десятки цивилизаций изучивший. Это – нечто совершенно потрясающее! Инстинкт, настроенный на логическое прикрытие инстинктов низшего порядка. И снова – помимо разума.
Шульгин, логик стихийный, и Андрей, психолог профессиональный, на эмоциональный всплеск Антона отреагировали слабо. Сомнений в том, что Шатт-Урх оказался инсектоидом высшей категории, у них не возникло. Бывает, и такое бывает, и многое сверх! Будто Антон, при всех его великолепных качествах – настоящий человек.
– Интересно. Дальше, – сейчас роль вопрошающего принял на себя Новиков.
– Помнишь, как с хронолангами шли? – мягко, почти ласково спросил Антон.
– Да ты что? – поразился Сашка, поняв, о чем речь.
– Слава тебе, господи, хоть один думать начал. Именно это Удолин выбил из Урха. Не слишком гуманными методами. Средневековье, что с них возьмешь? Оказывается, главное для них, для «по-настоящему мыслящих» (кто они такие, мы еще разберемся), добраться до генераторов обратного времени. Они им очень, очень нужны…
– Дальше, – снова спросил Новиков.
– Я знаю, где стоят генераторы. Наша бомба сорвала только наведенные ими поля. С печальными для всей системы последствиями. А механика ведь никуда не делась…
– Что, Дайяна с самого начала этого не знала? – Андрей доверия словам форзейля не выразил.
– А откуда ей знать? Не та квалификация. Я с помощью Скуратова, обойдя Арчибальда, вышел на некоторые системы Замка, им не контролируемые. Задача была поставлена чисто техническая, эмоциональной сферы не затрагивающая. Мы просто попросили Замок восстановить детали прошлой операции по вашему спасению и ликвидации межвременного барьера. Обратив внимание именно на устройство и способ управления генераторами.
– А он откуда мог это знать? – заинтересовался Шульгин. – Я еще тогда удивился, как это у тебя получалось. И хроноланги подготовил, и куда бомбу закладывать вычислил. Будто у тебя своя агентура среди аггрианских инженеров имелась. Только спросить не получилось.
– Замок знает все и теоретически все может. А почему он поступает тем или иным образом, нам постичь не дано. В тот раз он сам спланировал операцию и выдал мне готовые рекомендации. Я, в отличие от вас, праздными вопросами задаваться не был приучен.
– Пути господни неисповедимы, короче…
– Около того. Ты, Саша, подежурь с бронеходом перед главным входом. На случай, если они снова штурм затеют. А мы с Андреем постараемся побыстрее управиться. Готово будет – позовем.
Они спустились еще на один уровень вниз, где рядами, уходящими в глубину неосвещенных залов, стояли ни на что не похожие машины.
– Вот это – как раз генераторы поля обратного времени…
– И ты сможешь их запустить? – недоверчиво спросил Новиков.
– Попробуем.
Антон, не будучи даже «кандидатом в Держатели», многие вещи умел делать лучше, чем его высокоодаренные друзья.
Как недавно Левашов, Антон начал включать один за одним погашенные очень давно пульты и экраны.
Удивительно, но системы заработали. Прежде всего форзейль нашел блоки памяти, содержащие информацию о самих управляющих программах, о свойствах генераторов, их мощности, теоретической и практической, характеристиках создаваемого поля и тому подобных несущественных для непосвященного деталях.
Дальше – дело техники.
Новиков на всякий случай спросил Антона, а что же случится с ними, если поле будет включено? Хронолангов у них, к сожалению, нет. И следовательно…
– Ничего подобного. У нас будет, как в советском анекдоте про космонавтов, которых мудрое Политбюро посылает на Солнце. Сейчас все наладим и уйдем. Поставим таймер на полчаса – думаю, хватит.
Отозвали роботов, расстрелявших почти весь свой боезапас. Они сбили еще одну «медузу», уцелевшие удалились на безопасное расстояние. Что, собственно, и требовалось.
В ангаре подобрали себе еще один флигер, побольше. Как и первый, загрузили его коробками с гравиаккумуляторами.
– Если они на дубликаторе воспроизведутся, мы на всю жизнь собственной боевой авиацией обеспечены, – мечтательно сказал вернувшийся со своего поста Сашка.
– Не уверен, – усомнился Антон. – Концентрированное гравиполе едва ли можно считать материальным объектом. Иначе и солнечный свет дублированию бы подвергался.
– После разбираться будем, – прекратил научный спор Андрей. – Того, что есть, при экономном расходовании тоже надолго хватит.
Он внимательно наблюдал за движением стрелки хронометра. Рассчитали они все точно, но с риском на грани разумного.
Первый флигер пилотировал Новиков, второй – Шульгин. За минуту до включения таймера поднялась дверь портала. За тридцать секунд машины стартовали. Тонкость замысла заключалась в том, чтобы «медузы» оказались с противоположной стороны станции. Строго по оси взлета флигеров. Разумом руководствовались их экипажи или инстинктами – неважно. В любом случае выбор у них был один – атаковать внезапно появившиеся цели по кратчайшему расстоянию.
– Есть! – азартно выкрикнул Антон, наблюдавший за противником с заднего сиденья шульгинской машины.
Мышеловка сработала четко, как и полагалось ее механическому прототипу. С неуловимой для взгляда скоростью над станцией вспух купол, похожий на мыльный пузырь, едва-едва радужно посверкивающий на грани, разделившей прямое и обратное время. И почти так же мгновенно исчез. Как объяснил форзейль, закончилась аннигиляция микроскопических материальных частиц, попавших в зону инверсии.
Медузы остались внутри и, следовательно, уже распались до уровня нейтронов, протонов и прочих мю-мезонов.
– Теперь спокойно возвращаемся. И дуггуров здесь больше нет, и цель для агрессии исчезла, – удовлетворенно констатировал Антон. – Теперь им к Базе во веки веков не пробиться. До хронолангов они не скоро додумаются.
– Интересно, что же они с генераторами делать собирались? Зачем им «обратное время»? – спросил Новиков, ни к кому специально не обращаясь.
– Узнаем, может быть, когда с их «верховным руководством» познакомимся. Сдается мне, они на Земле с этим делом побаловаться намеревались. Или аппаратуру туда вывезти, или на месте с идеей разобраться.
– А если нам самим сюда опять потребуется? Снова с хронолангами лезть? – осведомился Шульгин.
– Что-нибудь придумаем, – беспечно ответил форзейль, – все характеристики я запомнил, Олегу не так трудно будет схемку собрать, чтобы дистанционно выключить то, что я включил.
К сообщению о том, что Антон учинил на Базе, Дайяна отнеслась спокойно. Казалось, ее судьба аггрианку больше не интересовала.
«Почему бы и нет? – подумал Андрей. – Если она окончательно решила забыть прошлое и натурализоваться в две тысячи пятом».
Сейчас главной задачей было уничтожение северной десантной группы дуггуров. Оставив заслоны для блокирования прижатой к земле «медузы» и перехвата уцелевших в лесу монстров и инсектоидов, если они вздумают проявить какую-то активность, все наличные силы бросили на ликвидацию вражеского плацдарма.
Вторую «медузу» нейтрализовали быстрее и проще, чем первую. Что значит опыт! А потом начали планомерную зачистку местности. Хорошая штука – господство в воздухе. Можно летать, никого не опасаясь, охотиться с бреющего даже за одиночными целями, как немцы в первые месяцы войны. Гравипушки бронеходов крушили и кромсали лес, давили «живую силу» противника или выгоняли ее на открытые места, под минометный и пулеметный огонь рейнджеров, со всей яростью мстящих за гибель товарищей.
Разгром был полный. Правда, до конца сохранялось опасение, что экипажи «медузы», если они, конечно, сумели выжить под прессом огромной гравитации, найдут в себе силы вызвать подкрепление из других районов Валгаллы или непосредственно «из метрополии».
Новиков, Шульгин и Антон в этом побоище (а точнее – дезинсекции) участия не принимали. С пилотированием флигеров и управлением танками вполне справлялись курсантки, которых в полевой бой больше не пустили. «Не женское это дело», как выразился капитан Ненадо, успевший при всей своей занятости непосредственными обязанностями оказать знаки внимания «мадам Дайяне», которая произвела на него гораздо большее впечатление, нежели восемнадцати-девятнадцатилетние девчонки. Разница в происхождении и общественном положении его не смущала. И не таких аристократок видел он в Севастополе и Стамбуле… Намекнул ей, что, когда все кончится, неплохо бы организовать по случаю победы ужин, совмещенный с тризной. Как у русских воинов полагается. В явном расчете, что знакомство удастся развить и продолжить в желательном направлении.
Вместе с Удолиным и его командой, Скуратовым и Шатт-Урхом Левашов пропустил в кабинет, выделенный Ирине, Анну с Натальей и Аллой. Им короткая вылазка на Валгаллу понравилась, и дамы захотели «расширить и углýбить» полученные впечатления. Скучно ведь сидеть на пароходе или в тихом городке форта в то время, как остальные друзья и подруги упиваются приключениями. Это Анна так думала, чувствуя себя незаслуженно отстраняемой от всего интересного. Мало ей показалось увиденного и пережитого в Южной Африке. Да, может, и мало, при ее характере.
Алла, кроме всего прочего, хотела оказаться поближе к Ростокину, присмотреть, чтобы он не слишком увлекался местными девушками, с воскрешенными представительницами которых успела познакомиться, и тут же ощутить в каждой из них угрозу своему «семейному благополучию». Она знала натуру Игоря и не могла поверить, что он останется холоден и верен ей, попав в окружение еще сотни с лишним таких же.
Как-то упуская из виду, что сто красавиц гораздо безопаснее, чем одна, вовремя попавшаяся на глаза в подходящих условиях.
Ну а Наталья просто не могла упустить очередной возможности посетить свою любимую планету, где она впервые ощутила себя по-настоящему счастливой.
Как писал классик, «стало шумно и весело».
Женщины еще на «Валгалле» переоделись подходящим образом, поэтому готовы были немедленно выехать на перевал, где Игорь продолжал караулить свой трофей. Едва удалось их отговорить с помощью Ирины.
– На фронте пока условия для пикника не совсем подходящие. Пусть идут те, без кого не обойтись, а мы и здесь найдем, чем заняться.
Ее тон дискуссий не предполагал.
На большом флигере отправились Новиков, Шульгин, Антон, Удолин со Скуратовым. Ну и Шатт-Урх, конечно. Видно было, что Константин Васильевич с ним хорошо поработал. Дуггур был замкнут, послушен и гораздо меньше походил на мыслящего, чем всего неделю назад.
– Что ты с ним сделал? – спросил Андрей профессора, крайне сожалея о неполноте своего образования. Ему бы к его философскому еще и медико-биологическое, куда бы свободнее он себя чувствовал в нынешних обстоятельствах.
Летели не спеша, перед тем, как выйти к перевалу, сделали большой круг вдоль границ долины. Антон и Сашка, занявшие отсек управления, наблюдали за поверхностью и небом, остальные могли курить и беседовать. Виктору беседовать не хотелось, ему интереснее было происходящее в данные мгновения. Внизу, вокруг и внутри себя.
– Ничего особенного, – ответил Удолин на вопрос Новикова. – Временно пресекли кое-какие нервные связи. Теперь у него вовне открыты только отдельные корковые области, создававшие подобие личности.
– Для кого? – Андрею это показалось важным.
– Точный вопрос. Думаю, для него в первую очередь. Видишь ли, он принадлежит к той касте, варне, страте, которой положено считать себя разумными, образованными, свободными. Творческими, одним словом, личностями.
«И это понятно, – мысленно согласился Новиков. – В сталинское время (уж это он помнил) было множество людей, так же ориентированных. «Мы умные, свободные, раскрепощенные Революцией «от свинцовых мерзостей прежней жизни».[68] Все же не под угрозой батогов и дыбы написано: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». В душе подходящий настрой иметь требовалось. Так у нас была только пропаганда, пусть и агрессивная, пусть репрессиями подкрепленная, однако примитивная. Хочешь – воспринимай, хочешь – подальше пошли, всегда были варианты. В итоге – всего через полвека послали… А здесь ведь – биотехнологии, тысячелетние…»
– Кем положено? – задал он следующий вопрос. – Он нам кое-что вякал насчет «еще более высших». Выяснили? Это, как исторический материализм подсказывает, умнейшие должны быть… личности? Особи? Я даже и представить себе не могу, насколько грандиозная программа придумана и работает…
– Пока нет. Во всем нужна постепенность. И осторожность. Вдруг в него системы самоуничтожения вживлены? Давай сначала с тем, с чем можем, разберемся, – удивительно мягко ответил Удолин.
– Верно рассуждаешь, Андрей, – неожиданно вмешался Скуратов, до того словно бы и не вникавший. – Грандиозная программа – очень точно. Если придумана гениальной личностью – остается преклониться. А если – абстрактным рассеянным разумом? Я наши варианты альтернатив тщательно изучил. Совершенно ниоткуда взялись вдруг цивилизации Шумера, Вавилона, Египта. Только что – неолит, и сразу – города, законы Хаммурапи, пирамиды и тому подобное. Вот тут и разминулись. Одним – технологическая цивилизация понравилась, других – на биологическую потянуло…
Долетели, начали разбираться. Ростокина освободили с боевого поста в рубке бронехода, где ему сидеть явно надоело, если не сказать резче. Почти три часа в постоянном напряжении, ожидая неизвестно чего в любую следующую секунду. Шульгин отвел его на полянку, защищенную от ледяного пронзительного ветра с юга грядой красных зубчатых скал. Здесь обосновались офицеры с «Пламенем», развернутым в сторону опасного близкого леса. Но выглядели они спокойно. Костерок развели, покуривали, вели неспешные разговоры. Какая, по сути, разница – чужая планета, Галицийский фронт или Кавказская линия времен поручика Лермонтова?
– Сидите, сидите, господа, – разрешил Сашка вскочившим при его появлении рейнджерам. – Вот и корветтен-капитан с вами отдохнет. Вы его не обижайте…
Удолин поставил Шатт-Урха напротив «медузы», чуть левее гравитационного конуса, граница которого отчетливо ощущалась с нескольких метров.
– Спроси его, под такой нагрузкой внутри мог кто-нибудь выжить? – предложил Новиков и на всякий случай объяснил гуманитарию, что физически означают пятнадцать «же».
Константин Васильевич частично вербально, частично ментально начал с дуггуром диалог, судя по его длительности, значительно выходящий за пределы конкретного вопроса.
– О чем это он? – осведомился Андрей у Скуратова. Тот вместе с Удолиным работал с «объектом», должен понимать.
– На этом уровне – не понимаю. Я занимался с подстрочными переводами допросных листов. Разговорной речью, простите, не овладел.
– Кто на что учился, – только и ответил Новиков, чтобы оставить за собой последнее слово.
Профессор указал Шатт-Урху на флигер, тот послушно подошел и сел на то же место, где сидел по дороге сюда.
– Скажи Игорю, – повернулся Константин Васильевич к Андрею, – что нагрузку можно снизить втрое. Урх говорит – в таких аппаратах экипаж составляют обычно три полумыслящих одного с ним вида, но другой квалификации. Пятнадцать ваших «же» они выдержать могут, но им сейчас очень плохо. Если станет хотя бы пять, они обретут способность двигаться, не представляя при этом опасности. А тех, что валяются внизу, инсектоидов, как вы их обозначили, предварительно лучше убить. Иначе могут быть неприятности, которых Шатт-Урх не хочет.
– Для себя или для нас?
– Вы будете смеяться, как говорят в моей любимой Одессе, но – для себя. Как вы не поймете, Андрей, мы сделали из него почти нормального человека. Разорвали связь между лобными долями и основной массой мозга, головного и спинного. Теперь инстинкты на «личность» не давят, а вы бы знали, какие это мощные, тщательно разработанные и невероятно гибкие инстинкты.
– Константин, что ты несешь? – усмехаясь, подошел Шульгин, обладающий настолько тонким слухом, что услышал слова некроманта, пока разговаривал с Ростокиным и офицерами, да еще и выпил с ними по глотку. А почему и нет? Игорь в стрессе по одной причине, поручики – по другой.
– Ты думай, что говоришь! – Тут Сашка был в своем праве. Уж он-то учил общую биологию, нейрофизиологию и ряд смежных (иногда – очень специальных, вроде «Z-фармакологии») наук. И почти все сдавал на «отлично». – Какие, на хрен, гибкие инстинкты? Горячий снег, жевательная сталь и так дальше… Конкретно? Инстинкт либо есть, либо нет. Один из сильнейших – самосохранения – в армии сержанты выбивают довольно успешно. Размножения – тоже. Причем один за счет другого и наоборот. Доходчиво излагаю?
Можно удивиться, но такое бывает – всего в нескольких метрах стоял бронеход, а все о нем будто и забыли, после того как вышел из него Ростокин. Даже Игорь не вспомнил о своей оставленной за пультом гравипушки «боевой подруге».
Пока «специалисты» то ли в шутку, то ли всерьез препирались на высоконаучные темы, девушка «триста тридцать три», она же Лиза, убрала направленное на «медузу» гравиполе до уровня, названного профессором. Потом легко выпрыгнула наружу через командирский люк. И опять на нее никто внимания не обратил. Возможно, что опять проявлялось воздействие дуггурских психополей. Деформировавших, целенаправленно или автоматически, окружающую действительность. По типу «ловушек сознания». Еще бы чуть-чуть – и унесло «победителей» неизвестно в какую даль.
А на юную курсантку мóрок не влиял. Она все видела, слушала, делала свои выводы и принимала личные решения.
Постояла рядом со спорящими мужчинами, возможно – ожидая, увидят ли они ее, скажут что-нибудь важное. Не дождалась. Сделала десяток шагов, подняла автомат и начала короткими очередями расстреливать валявшихся под опорами «медузы» существ. Они как раз, почувствовав облегчение после уменьшения перегрузки, неуклюже зашевелились. На таком расстоянии пятикратное тяготение не могло помешать пуле 7,62 точно лететь в цель. Зато, попадая в нее, она приобретала массу и убойную силу тяжелой пулеметной.
– Эй, ты чего там? – увидев девушку, запоздало крикнул Новиков.
– Было сказано – лучше убить, – обернулась она. – Я согласна. Такие на нас кидались и многих ранили. Убила, пока вы не передумали. Мужчины часто и немотивированно меняют свои решения. Нужно думать самой…
Голос у девушки был ровный, логика – убедительной, лицо – умным и красивым, но что-то в ней Андрею не нравилось. Наверное, в силу своего номера она была не доучена до уровня, подходящего к внедрению в человеческую жизнь. Другая бы предварительно спросила: «Дядя, так стрелять или нет?» Другая. Настя?
Новиков взял у нее из рук автомат. Ствольная накладка горячая, магазин пустой, но на поясе еще шесть.
– Молодец, «старший курсант». Твоя служба будет отмечена. Все правильно сделала. Подпоручик, – крикнул он рейнджеру, который был ближе всех, – иди сюда. Окажи девушке внимание. Чаек вы там, вижу, заварили…
– Чифирь, господин генерал, – с некоторым смущением ответил офицер.
– Вот и ей налейте. И сахара побольше. А тебе, Игорь, – порицание. Сначала о подчиненных думать надо, потом о себе…
– Простите, Андрей Дмитриевич, словно затмение нашло. – Ростокин на самом деле выглядел растерянным.
– Ладно. Не на тебя одного, но все равно… – Андрей не закончил фразу, потому что и сам не знал, как.
– Так что, Константин Васильевич, теперь пойдем? – спросил он. – Твой пациент готов разговаривать с родственниками убедительно?
– С учетом уже случившегося, – внезапно сказал Скуратов, – придется. А нет – мы поможем.
Андрей посмотрел на академика с уважением. Больше всего он не выносил интеллектуалов-либералов, в дело и не в дело любящих вспоминать о гуманизме и правах личности. Как будто изначально страдающих «стокгольмским синдромом».
Сейчас Виктор держал себя правильно. Как и полагалось другу Ростокина. Только, что немного странно, с Игорем он здесь общался меньше, чем, казалось бы, следовало.
– Пойдем. Я, ты, Урх и Антон. Остальные пусть держат внешний периметр, – с мрачноватой усмешкой сказал Удолин.
– Я тоже, – упрямо сказал Скуратов.
– Попозже. Сначала – рекогносцировка. Зачем нам сразу всеми научными силами рисковать?
Шульгин кивнул, поддерживая Новикова:
– Побудем здесь, Виктор. Наше от нас не уйдет. Пока разъяснишь мне кое-что.
– Ты, Саша, давай-ка лезь в машину и резко сбрось поле. Сначала до двух, а как мы по трапу полезем – совсем, – предложил ему Андрей. – Я при пяти и даже двух «же» за свои действия не отвечаю. Давно спортом не занимался.
– Иди, иди, сделаю как надо.
Внутри «медузы» было совсем темно.
– От большой силы тяжести освещение аварийное отключилось, – переводил Удолин слова Шатт-Урха. Они вдвоем шли впереди, Антон и Новиков с поднятыми пистолетами – тремя шагами сзади. – Сейчас исправим.
Андрею здесь сразу не понравилось. Мало, что темно, так еще пахло очень неприятно, и пол под ногами мягко пружинил, как живая ткань. Будто они, вроде пророка Ионы, очутились в чреве кита. Сейчас как брызнет со всех сторон желудочным соком, и пистолеты не помогут…
Через две показавшихся очень долгими минуты свет загорелся. Вернее, не «загорелся» в нашем понимании. По стенам, постепенно повышая яркость, начали вспыхивать в беспорядке разбросанные плафоны, на вид – не то древесные гнилушки, не то громадные, в кулак, светляки. Спектр был похожий, биолюминесцентный.
При свете ощущение, будто находишься внутри живого существа, только усилилось. Да так оно и было.
Все те же нестыковки – вполне технологическое оборудование дуггурской базы в пещерах, огнестрельные митральезы монстров, и одновременно – живые «звездолеты (или «машины времени»).
По буро-синюшному тоннелю, похожему на пищевод или, хуже того, прямую кишку, Шатт-Урх повел их наверх, что-то поясняя Удолину.
Пилотская кабина располагалась в куполообразном вздутии под самой «крышей». По кругу расставлены ложементы, напоминающие полураскрытые раковины устриц. Здесь запах сырого мяса и гниющих растений стал почти невыносимым. При появлении людей из своих «гнезд» начали выбираться существа, похожие на тех, с какими пришлось сражаться профессору и Шульгину в пещерах. Мельче Урха и не такие человекообразные. Только их было не три, как говорил Шатт-Урх, а четыре.
Возможно, ложементы имели противоперегрузочные свойства, иначе трудно представить, как эти субтильные гуманоиды могли три часа выдерживать нагрузку, с трудом переносимую тренированными земными летчиками и космонавтами в течение нескольких секунд, в крайнем случае – минут.
Чтобы хоть немного перебить вонь, Новиков с Антоном закурили.
– Здесь допрашивать будешь или на свежий воздух выйдем? – спросил Андрей Удолина.
– Убедимся, что кроме этих больше никого нет, и выйдем.
До штаба учебного центра лету по прямой было всего пять минут, поэтому допрос пилотов «медузы» решили проводить там, в технически оснащенных помещениях, а не в чистом поле, на холодном ветру.
Но хоть там, хоть здесь, принес он не слишком много новых сведений. О политическом устройстве и биологической организации своего общества эти весьма специализированные существа знали еще меньше, чем пленник из пещер или Шатт-Урх.
– Вот уж где криптократия так криптократия, – с оттенком, похожим на восхищение, сказал Шульгин. – Сколько же уровней и степеней гражданства в их славной державе?
– Я пока насчитал пять низших, – ответил Удолин. – Только гражданами их называть не стал бы.
– Так я исключительно условно выразился. Просто более подходящего слова не подобрал. Но с другой стороны… Кое-какими правами, причем конституированными гораздо жестче, чем любой бумажкой, они ведь пользуются?
– Едва ли. Это у нас при самых свирепых деспотиях в определенных условиях раб мог стать вольноотпущенником и даже императором, продавец пирожков – всесильным Меншиковым. У них – отнюдь. Вот ты, Шатт-Урх, если мы поможем вооруженной силой, готов возглавить правительство своего мира?
– Я не понимаю, о чем ты говоришь, – с искренним недоумением ответил дуггур.
– И это правильно, – подтвердил Константин Васильевич. – Он не понимает, потому что даже содержание фильмов, что вы ему крутили, провалилось сейчас в область бессознательного. Как бы вам подоходчивее объяснить?
– Не надо объяснять, сами соображаем, – отмахнулся Шульгин. – Давай по делу.
– Если по делу – уровней включенных в систему видов как минимум пять. То есть тех, чьи инстинкты и «якобы разум» работают, взаимодействуют в рамках общей идеологии и общих целей. И то и другое в равной степени условно. Есть полностью негуманоидные слуги, вроде всех этих инсектоидов. Есть монстры-гориллоиды, гуманоидные, но уступающие уровнем развития любой собаке. Дальше идут «квалифицированные работники», к ним мы отнесем плененных сегодня пилотов и представителей других профессий. Их могут быть сотни, профессий, но каждый представитель цеха владеет только одной и в принципе не способен овладеть даже смежной. Еще выше – полуразумные пятерочники. Это – страты управленцев. Я пока не разобрался, в чем смысл именно такой организации – «единство в пяти лицах». Очень возможно – для предотвращения самоорганизации в целях противодействия властям. У тех, кому позволено пользоваться хотя бы зачатками собственного разума, могут возникнуть «превратные мысли», как любил выражаться Салтыков-Щедрин. Но эта тема требует отдельной разработки…
Удолин снова был в своей стихии. Он лекторствовал, как с кафедры Петербургского университета или Сорбонны, жестикулировал, играл интонациями, употреблял риторические приемы (которые мы опускаем), попутно прихлебывал вместо воды или чая коньяк. Но слушать его было интересно.
– Над ними – варны и касты псевдоразумных, к которым относится и наш уважаемый Шатт-Урх. Я называю их псевдо потому, что о «встроенном ограничителе разума» никто из них не догадывается. Они считают себя не только мыслящими личностями, но еще и творцами, умеющими создавать новые сущности. Возможно, так оно и есть, но опять же – переквалификация невозможна. Философ не может выучиться еще и на медика, инженер – на историка. И я готов преклониться перед теми, кто создал эту систему и продолжает ею руководить! Очень возможно, что любому из нас жилось бы гораздо проще, не будь мы столь разносторонними. Лишь некоторым из людей повезло в такой степени найти свое предназначение, что не тянет заняться чем-нибудь еще. У них нет аптекарей, жаждущих стать начальниками тайной полиции, художников – полководцами, инженеров – министрами иностранных дел, врачей – писателями и так далее. Вы понимаете, о ком и о чем я говорю…
– Весьма хорошо понимаем, – согласился Новиков, – только мы сейчас не на философском семинаре. Из всего сказанного следует, что выше уровня Шатт-Урха начинается область неизвестного. Некоего наглухо засекреченного, полностью разумного клана диктаторов, таким вот образом преобразовавших под себя планету… Что-то это мне очень напоминает…
– Станислав Лем, «Эдем», – некстати подсказала Наталья, много читавшая фантастики в скучные семидесятые годы, испортив тем самым Андрею хорошо задуманный стилистический пассаж.
– А если чуть иначе выразиться – не есть ли это точное повторение наяву греческой, к примеру, мифологии? – внес свою лепту Скуратов. – Очень хорошо сходится. Боги, титаны, герои, граждане, рабы…
– Не ясно только, кто у кого заимствовал идею. Эти – у древних греков, или наоборот? – спросила Алла, имевшая хорошее классическое образование. – Платон, как известно, не только описал Атлантиду, но и активно пропагандировал иерархическое разделение общества на сословия: правителей-мудрецов, воинов и чиновников, крестьян и ремесленников…
– Вот-вот, – не остался в стороне и Антон. – Кое-кто из присутствующих некогда, исключительно ради красного словца, назвал новооткрытую планету Валгаллой, и тут же все пошло именно в эту сторону. Боги и герои, бессмертные, как водится, проводят время в сражениях, перемежаемых пирами, общаются с валькириями и совершенно не задумываются, зачем им это, до какой поры будет продолжаться и чем закончится…
– Шутить изволите? – небрежно, но с некоторым напряжением в интонации спросил Шульгин.
– Ни в коем разе. Просто поиск аналогий между аналогиями. Иногда – довольно продуктивный метод. Отчего не вообразить, в процессе свободного полета воображения, что там когда-то, давным-давно, нашлись свои романтики, получившие в распоряжение некоторые возможности? Мы с вами занялись историческим творчеством, они – биологическим. Энное число веков назад достигли своей цели, «который год уж властвуют спокойно» и от тоски, скуки, или неуемной жажды новых впечатлений решили поинтересоваться – а что это там творится на сопредельных территориях?
– Очень даже не лишено остроумия, – вновь подхватил Новиков эстафету «мозгового штурма», во время которого разрешается и даже предполагается нести абсолютно все, что в голову приходит, лишь бы хоть как-то относилось к теме. – И тут же мы естественным образом подходим к вопросу – а не сидят ли и в той реальности свои аггры, форзейли или иные представители тех самых «Ста миров», обещанных нам, но так и не предъявленных в натуре нашим «светлым Даймоном».
Он сделал жест, которым, по его представлению, Цицерон сопроводил хрестоматийную филиппику в адрес Катилины.
– Ничего не имею возразить, – развел руками Антон. – В те годы не существовал, в архивы, касающиеся столь давних времен, не влезал по причине невозможности, а также отсутствия необходимости «объять необъятное».
– На этом, пожалуй, стоило бы и закончить, – неожиданно вмешалась Ирина, до того сидевшая в углу дивана с демонстративно безразличным видом. По некоторым причинам ей эта оживленная дискуссия была неинтересна. – Вы как-то забыли один практический вопрос. Даже – два. Сумеем ли мы использовать попавшее нам в руки весьма интересное транспортное средство по его прямому назначению? Имеются ли на борту навигационные устройства и программы, способные привести туда, откуда оно вылетело? Кстати – откуда? Что скажете, Константин Васильевич?
Простейшие, в общем-то, вопросы.
– Скажу, непременно и немедленно, Ирина Владимировна, – взбодрился Удолин. – Как любил повторять мой учитель – «вы совершенно правы, но не в этом вопросе». То, о чем спросили вы, – настолько самоочевидно, что специального обсуждения не требует. Да, мы способны эту «медузу» использовать. Да, пилоты выполнят любой наш приказ, ибо им ничего другого не остается. Шатт-Урх, по рангу, имеет право командовать всеми нижестоящими и даже производить корректировку рабочих инстинктов в пределах своей компетенции. Сам Урх сделает все, что мы попросим. Причем я в состоянии воздействовать на все три составляющие его личность системы. Полететь туда, откуда они прилетели? Да хоть завтра. Но стоит ли это делать, если мы не знаем, что нас там ждет?
Повисла пауза. С профессором нельзя было не согласиться.
Но ответ-то ответом, а вот вопрос! Большинство присутствующих пока что не задумывались над столь радикальным планом.
«Неужели это они с Дайяной подобный демарш уже обсудили? – начал прикидывать Андрей. – Зачем? Или пошли в ход те заготовки, что имелись у аггров на такие случаи? Вдруг и правильные? Исходя из обстановки, в которой мы не все понимаем».
Тщательная воздушная разведка подтвердила, что в радиусе как минимум ста километров никаких следов и признаков наличия дуггуров в любых ипостасях не присутствует. Всех, участвовавших в десанте, за исключением четырех пленников с первой и трех со второй «медузы», рейнджеры ликвидировали, используя подавляющее огневое, моральное и умственное превосходство.
Как было обещано, некроманты получили неограниченное количество материала для препарирования, к которому немедленно и приступили в специально отведенных и оснащенных Дайяной помещениях. При этом она настояла, чтобы несколько ее учениц приняли участие в «анатомическом театре».
– Им это будет полезно, для расширения кругозора, – деликатно выразилась хозяйка.
Федор Егорович Палицын благосклонно взглянул на представленных ему ассистенток.
– Очень правильно, барышни, очень правильно. Когда же и приобретать положительную профессию, как не в вашем возрасте? Только позвольте осведомиться, каким общим образованием обладаете? Чтобы я мог применительно строить свои объяснения.
– Считайте, что неоконченное высшее общее, господин доктор, – ответила одна из курсанток, за номером «триста одиннадцать», судя по бойкости – назначенная, или предназначенная в «старосты группы».
– Общее – это хорошо, – почесал бороду Палицын. – А крови и всякого такого… – он возвел глаза к потолку, – не боитесь?
– Живых не боялись, чего же мертвых бояться? Не только нормальную анатомию изучим, патологическую тоже. В следующий раз лучше знать будем, куда стрелять, – с некоторым задором ответила «одиннадцатая». Словно девушка из советского кинофильма тридцатых годов, пришедшая записываться в аэроклуб.
Федор Егорович, и тот был слегка удивлен таким энтузиазмом. Потом вспомнил, что ему говорил Удолин. Что здесь «не просто так», а нечто вроде школы своеобразных ведьм.
– Тогда прошу, будущие коллеги, прошу. Немедленно и приступим…
Для всех не занятых службой офицеров, курсанток и гостей организовали ужин, не слишком парадный, но вполне достойный. Нужно же людям снять нервное напряжение, да и познакомиться поближе с «товарищами по оружию». Дайяна сетовала, что ее девушкам не хватает культурного общения, так вот теперь – сколько угодно. Очень возможно, что кто-нибудь прямо сегодня найдет свою судьбу. С соответствующим повышением в статусе.
Виктор Скуратов тоже получил неограниченную возможность проявить свою склонность к молодым красавицам. Если в «Братстве» восхищавшие его женщины были заняты и ухаживание за ними не имело смысла и перспектив, то здесь – как в мусульманском раю. Каждая приглянувшаяся гурия необходимо и обязательно пойдет навстречу в пределах твоих желаний и возможностей.
Вдобавок он пока не подозревал, что любая девушка, на которую он обратит свое благосклонное внимание, в несколько минут способна определить его психологическую конструкцию и под нее подстроиться. В пределах от гордой неприступности до эмоционально-сексуальной пластичности чеховской Душечки.
Наталья, Алла и Анна, ничем таким не озабоченные, просто с удовольствием принимали знаки внимания боевых офицеров, с большинством которых были давно и хорошо знакомы. Танцевали, пили шампанское, участвовали в легких светских беседах, остроумных, подчас балансирующих на грани приличия, в стиле поручика Ржевского. Эти дамы к подобным темам относились с полным пониманием и сами иногда были способны отпустить такое, с учетом нравов далекого будущего, что лихие рейнджеры крутили головами и восхищенно переглядывались. Мол, истинные «матери-командирши».
Остальные, кроме Удолина, предпочли занять место в отдаленной от центра зала кабинке с полупрозрачными занавесками и продолжить ранее начатую беседу в более приватной обстановке.
– Ты чего, всерьез говорила насчет «медузы»? – спросил у Ирины Шульгин.
– А у тебя есть какие-то другие варианты? – ответила она вопросом на вопрос. – Не надоело бегать, как ремарковским героям от гитлеровцев? Из Берлина в Прагу, потом в Париж, Лиссабон. До Америки не все добрались. Так и где для нас такая «Америка»?
– Ирина права, – сказал Ростокин. – Последний рубеж – моя реальность. В отличие от любой другой Суздалев и Маркин сумеют организовать практически общепланетное сопротивление… Но, как сказано, мы не имеем представления о возможностях, замыслах и целях противника. Какой же смысл превращать собственную территорию в поле тотальной войны? Инсектоиды и монстры – черт с ними. Это так – расходный материал…
– Расходный-то расходный, а если действительно пятьдесят миллионов высадятся в густонаселенных центрах? Бомбу не бросишь, патронов не напасешься. Плюс все эти молнии, плазменные шары и прочее… – продолжил мысль Новиков.
– И никто не доказал, что «парни с той стороны» не имеют отношения к московским событиям, селигерскому искажению реальности и другим интересным вещам, – поддержал его Антон.
– То есть очередной рейд «за три мира, за три моря» все присутствующие считают неизбежным и самоочевидным? – как бы резюмировал Шульгин. С таким видом, будто он единственный здесь благоразумный человек, не желающий ввязываться в сомнительные по результату авантюры.
Это его свойство большинству присутствующих было известно, беда в одном: до сих пор даже Новиков не всегда мог угадать, где он развлекается, а где говорит совершенно серьезно. Очень часто случалось, что начинал он спорить действительно из интереса или чувства противоречия, а по мере развития процесса выходил на очень серьезные, судьбоносные подчас решения. Но бывало и наоборот.
– Не так чтобы очень уж неизбежным, – решила подыграть ему «в тон» Ирина. – На наш век хватит, где спрятаться. Можно еще Шатт-Урха по методикам Удолина допрограммировать и отправить в качестве парламентера с письменным предложением прямых переговоров с «высшими».
– Почему бы и нет? Только где гарантии, что послание по адресу дойдет? – ответил Шульгин.
– Нет таких гарантий, и, наверное, быть не может. Константин ведь так и не выяснил, кто на самом деле его к нам послал. Неужели действительно тамошние «заговорщики», которым инстинкт подсказал? – продолжила рассуждать Ирина.
– Все возможно. Инстинкт плюс доля разума вполне могли сформировать подобную идею у определенных «специалистов». Предписанная функция диктует защищать существующий порядок вещей, каким он тебе представляется. Об истинных целях и планах «высших» его каста не подозревает. А вот им как раз такая инициатива показалась недопустимой. Тут они шарахнули первый раз по нам и Шатт-Урху. И провели разведку боем в Африке. Константин попытался доставить на место своего пленника. Ударили еще сильнее. Саша им «подарочек» вернул. Счет стал: три-ноль, – Андрей для наглядности загнул три пальца. – Практически мгновенно они атаковали Станцию и Базу. С известным результатом. Это получается уже: четыре-ноль. Или даже пять… Вопрос – полученных уроков им хватило, или эскалация агрессии будет продолжена? Куда, чем и как?
– Судя по тому, что здесь они оружия массового поражения не использовали, стратегические планы разрабатывают творчески мыслящие личности, – задумчиво сказал Антон, вертя в пальцах бокал и наблюдая, как сползают по изогнутым стенкам коричневые маслянистые капли. – Эскалации пока не произошло. Это понимать как негласный намек, или?
– Вот я же и говорю, – что случалось довольно редко, согласилась с форзейлем Ирина. – С такими вещами нужно разбираться тщательно. Стратегический тренажер Берестина очень бы помог, только вводить в него нечего. Информация о настоящем противнике отсутствует полностью.
– Ну, не совсем полностью, – возразил Новиков. – Косвенные улики тоже кое-что значат…
– Интересно, а как Алексей с Сильвией сейчас в Лондоне живут? – словно желая отвлечься от начавшей надоедать темы, спросил Ростокин. – Вдали от мирской суеты?
Алексею с Сильвией (в нынешней ипостаси – леди Дианой Макрай) в Лондоне жилось очень неплохо. Принятый им титул русского князя ни у кого в светском обществе вопросов не вызывал. Кому пришло бы в голову, не только в Англии, но и в самой России, копаться в старых генеалогических хартиях, выясняя, существует ли такая ветвь на древе Рюриковичей? Самое интересное, что да, существовала, хотя никакого отношения сам Берестин и его предки к ней не имели.
Он и раньше, читая книги о Викторианской эпохе, находил это время хорошо устроенным для жизни (конечно, для людей среднего и высших классов), не зря именно в Лондон стремились всякого рода диссиденты, в том числе и сторонники «научного социализма», вроде Маркса и Ленина.
Двухэтажный дом на улице Мэлл, построенный в начале восемнадцатого века, из окон которого был виден Джеймс-парк с его прудами, дубовыми рощами и до поздней осени радостно-зелеными лужайками, пришелся ему по вкусу.
Два-три раза в неделю, после пятичасового чая, они с Сильвией (Д.М.) выезжали собственным экипажем на какой-нибудь раут, бал или иное мероприятие, которых в городе ежедневно происходило множество, только успевай выбирать, в зависимости от настроения или политического интереса. И всегда там же оказывалась Сильвия-99, так было спланировано.
Обе дамы фотографически совсем не походили друг на друга, но любой проницательный человек, побыв в их обществе несколько минут, начинал испытывать легкое головокружение и даже намеки на тошноту. Не пищеварительного свойства, а от нарушения вестибулярного аппарата. Слишком тяжело воспринималось пребывание внутри находящегося в противофазе психополя одной и той же удвоенной особы.
Не зря в обществе пошли разговоры о некоторых мистических свойствах этих благородных леди и об их так называемом «браке втроем» с попавшим в паутину русским князем.
Но говорили без осуждения, скорее с завистью или осторожными намеками на оккультизм, спиритизм и тому подобное. «Фин де секль»[70] очень к этому располагал.
Остальные вечера Алексей проводил по собственному усмотрению, как и положено независимому и богатому иностранцу, связанному с леди Макрай скорее дружескими, нежели какими-нибудь еще узами.
Положение обязывало, и Берестин предпринял все необходимые шаги для придания своему статусу крепкой, не подверженной колебаниям конъюнктуры, основы. Более прочной, чем даже официальная женитьба на Диане. Таковое могло обеспечить только членство в клубе с безупречной репутацией. Случаи приема в по-настоящему респектабельный клуб иностранцев за последнюю сотню лет можно было пересчитать по пальцам, но уж если это случалось, счастливчик становился вровень с пэрами, а то и повыше некоторых из них.
Любой понимающий человек, увидев значок на лацкане или клубный галстук, мгновенно составлял себе представление о реальном весе означенной персоны. Точно так, как в Петербурге каждая дама великолепно разбиралась в покрое и цвете офицерских мундиров, количестве звездочек и значении вензелей на погонах и эполетах.
Алексей не скрывал своего намерения, присматривался и зондировал почву в нескольких направлениях, но изначально имел в виду только одно, тот самый «Хантер-клуб», имевший непосредственное отношение к руководству всей антироссийской деятельностью в годы Первой мировой войны, и особенно – после 1917 года.[71]
Сильвия-Макрай знала об этой организации неизмеримо больше, чем Сильвия-99. Все те лица, которые через двадцать лет затеют сложную игру, используя Францию, САСШ, Германию, Красную и Белую России в своих интересах, жили уже сегодня, и половина из них состояла в числе учредителей того, что в разных реальностях называлось «Системой» и «Черным интернационалом».
Обе дамы обладали связями в таких кругах, что на их фоне даже приятельские отношения с наследниками угасающей Виктории Эдуардом и Георгом (будущими королями под номерами 7 и 5 соответственно) не выглядели столь уж впечатляюще.
Сам Алексей в данном случае изображал некий аналог графа Монте-Кристо. Русский князь (родственник знаменитого «Ивана Жестокого», единственного царя, памятного англичанам потому, что письменно обматерил их тогдашнюю королеву Елизавету), как и положено, обладал неограниченными средствами. Причем не «в тумбочке», а в одном из солиднейших банков (его владелец по чистой случайности тоже входил в число влиятельных клубменов).
Каждая из Сильвий в своем направлении надавила на нужные педали, Берестин предъявил заверенные документы о том, что он и его предки суммарно добыли несколько сотен медведей и кабанов, причем исключительно холодным оружием, о волках и прочей мелочи упоминалось вскользь.
На специально назначенной встрече знатоков Алексей продемонстрировал, как в России пользуются рогатиной и ножом. На чучелах, конечно, поскольку живых и пригодных для поединка медведей в Британии давно уже не водилось.
В результате, вопреки всем обычаям (писаных правил не существовало), уже через месяц он был принят членом-соревнователем «Хантер-клуба» (т. е. кандидатом). Вопрос о действительном членстве должен был решаться на ежегодном общем собрании, но никакого специального значения эта формальность уже не имела.
Для упрочения своего авторитета Берестин решил прослыть заядлым картежником. Играл много и азартно (по-русски), но, как правило, проигрывал. Сравнительно умеренные суммы, зато часто. Это только прибавляло ему симпатий в обществе. С ним старались дружить, потому что удостоенные чести сесть с ним за ломберный столик получали к утру не только несколько гиней и головную боль от неумеренных возлияний, но и массу интереснейшей информации о времяпрепровождении русской аристократии. И кое о чем еще. Князь был «находкой для шпиона». Болтал непрерывно, с самой легкой наводки готов был разглашать конфиденциальные сведения, формально государственной тайной не являющиеся, но незаменимые для анализа состояния российского высшего общества, гвардии и армии.
Зато остальное время суток, за исключением времени, потребного для сна, они с Сильвией-Макрай старательно работали над своей основной задачей.
На поле боя можно выиграть сколько угодно сражений, но войны, если они не тотальные, на полное уничтожение, выигрываются в кабинетах дипломатов.
Вначале Алексей, вспомнив свое полководческое прошлое, за два дня разрисовал на картах ход военных действий на юге Африки «в реале», но с учетом введения в сюжет «Братства» и его наличных вооруженных сил. Затем, используя «Шар» Сильвии-99, начал добавлять в схему результаты своих собственных интриг.
«Стратегический имитатор» остался на пароходе, но он Берестину сейчас был нужен не больше, чем электронный калькулятор для решения арифметических задач в начальной школе.
Для человека, руководившего фронтом, на котором сталкивались миллионные массы войск и много тысяч единиц невообразимой здесь техники, этот локальный англо-бурский конфликт чисто военного интереса не представлял. Он мог бы его выиграть с любой стороны, причем с заранее заданным результатом. Интерес был исключительно психологический – как добиться цели путем «стратегии непрямых действий».
Обе Сильвии сейчас рассматривались им просто как удобный и эффективный механизм воздействия на фигуры, назначенные на роль ключевых.
Что там у нас в исторических трудах написано? «По мнению правительства Ее Величества, лорд Китченер должен быть направлен в Капскую колонию как главнокомандующий войсками в Южной Африке». И он на самом деле сумел оправдать возложенные на него надежды, хотя и затянул войну на два года, несмотря на созданное под его руководством подавляющее техническое и численное превосходство. Так отчего не распространить в печати сведения о «не совсем нормальных» склонностях указанного генерала к собственным адъютантам и кадетам Сандхерста? По такому, вполне голословному, обвинению загремел сравнительно недавно на два года в тюрьму особо строгого режима великий писатель Оскар Уайльд.
Посадят или нет – неважно, но уж главкомом точно не назначат. А оставят в должности нерешительного и медлительного Редверса Буллера, психологического двойника российского Куропаткина.[72]
Следующим объектом был военный министр Гордон Ленсдаун. Тогдашние репортеры «желтых», но популярных в народе газет за жалкие десяток фунтов готовы были под своим именем напечатать абсолютно все, что угодно. А уж если текст сопровождался «документальными свидетельствами», а гонорар – сотнями, одновременно запустить несколько подвалов, а то и целых полос компромата – нечего делать.
Бедный министр. За неделю его стерли в порошок, сделав главным виновником всех бед. При этом абсолютная неготовность к войне британского комсостава, отсутствие настоящего плана кампании, неспособность наладить воинские перевозки морем даже не входили в перечень главных прегрешений. Упоминались постольку-поскольку. С учетом всех достижений информационных технологий, недоступных простодушным умам эпохи примитивного рационализма, между дежурных фраз вставлялось совсем другое.
Очень забавно было Алексею сидеть в глубоком кресле, партия которых была изготовлена за счет некоего Дж. Дж. Курва[73] из тысячелетнего баобаба, пораженного молнией в 1851 году в Кении. О чем свидетельствовали прибитые сбоку, но на видном месте серебряные жетоны. Перед овальным столом, обтянутым тщательно выдубленной и выскобленной шкурой африканского слона, подстреленного полковником Флэнаганом в 1839 году в местах, которые намного позже будут названы Северной Родезией. И это подтверждалось аналогичными жетонами. Здесь благотворители желали навеки остаться в памяти грядущих поколений охотников.
Любой мог узнать, что ковры на стенах привезены из Афганистана и подарены клубу в 1880 году сэром Эндрью Стюартом. Так же тщательно были задокументированы происхождение и источники поступления всех прочих украшавших комнаты и залы клуба раритетов.
Только вот никто, кроме самого князя Берестина, курящего сигару, пускающего дым в сторону пылающего камина с отличной тягой, переворачивающего большие листы газет, остроумно комментирующего особо изысканные места, не догадывался об одной мелочи. Что этому рафинированному джентльмену в отлично сшитой визитке и полосатых брюках известно не только очень многое из непубличной жизни соседей по столу, но даже и даты смерти каждого из них. Они, конечно, могли измениться под влиянием привходящих обстоятельств, но, по преимуществу, в сторону уменьшения.
И тем более ему известно – кому что, когда и каким образом сказать для достижения желаемого эффекта. Всегда получалось так, что собеседник слышал от князя то, что якобы смутно ощущал, но никак не мог достаточно отчетливо сформулировать даже для самого себя.
Вот сейчас, например, в окружении полудюжины «сильных мира сего», Алексей разбирал статью обозревателя «Ньюс кроникл», посвященную текущей геополитике на континенте в связи с южноафриканскими событиями. В частности – пассажи, касающиеся англо-германо-российских отношений.
Он знал, что используемые им приемы нейролингвистического программирования непременно достигнут подкорки слушателей и закрепятся там настолько прочно, что все дальнейшие действия они невольно будут координировать с благоприобретенными архетипами.
В данном случае речь шла о том, что Великобритания совершает ошибку исторического масштаба, своим недальновидным и вызывающим поведением толкая царя Николая на тесный союз с кайзером Вильгельмом.
– Россия никогда и ничем не угрожала коренным историческим интересам Англии, да и не может им угрожать в силу географического положения обеих держав. Ни на море, ни на суше, – мягко, без нажима и аффектаций говорил он, будто размышляя вслух. Причем говорил он на абсолютно правильном, изысканном языке, словно урожденный лондонец и выпускник Итона. Никого это не удивляло, хотя по идее – должно бы удивить.
– А как же Индия, Ближний Восток, Проливы? – возразил кто-то. – Именно там Россия бросает вызов британским интересам…
– Ах, оставьте! – легко рассмеялся князь. – Это у вас род национальной паранойи. Проникать в Индию у России нет ни желания, ни возможностей. Да и что ей там делать? Со своей бы Средней Азией в ближайшие полвека разобраться. Проливы – а какое ВАМ дело до Проливов? Для нас они – способ беспрепятственного экспорта продукции сельского хозяйства, и только. Ну, само собой – гарантия того, что больше никогда вражеские флоты не войдут в Черное море. Использовать их в агрессивных целях невозможно по определению. А вот с Германией дела обстоят совсем иным образом. Немцы теснят ваши колонии в Африке. С помощью Турции собираются отнять у вас господство над Ближним Востоком, затевают строительство стратегической железной дороги Берлин – Константинополь – Багдад – Басра. Россия себе такой цели никогда не ставила. Египет, Судан, Месопотамия нам не нужны. Но самое для Империи неприятное – базы германского «Флота открытого моря», которые Тирпиц намеревается построить в самое ближайшее время: Гельголанд, Вильгельмсгафен, Куксгафен, – располагаются всего в паре сотен миль от Метрополии. Это вам не Тибет и не Кашмир.
Ну вот и представьте себе, в союзе с Россией, опираясь на ее бесчисленные ресурсы, людские и природные, Германия начнет большую войну! Франция будет раздавлена в часы, ваши войска даже не успеют прийти ей на помощь. Затем немецкий и русский флоты начнут тесную блокаду островов. Вам, в лучшем случае, удастся кое-как организовать подвоз жизненно необходимых товаров из САСШ и Канады. Но не более того. Причем не факт, что американцы станут на вашу сторону. Филиппины они уже завоевали, почему не взять себе Сингапур, Гонконг, британские владения в Карибском бассейне?
И при этом многомиллионные сухопутные армии «Тройственного союза» – я говорю «тройственного», потому что Австро-Венгрия непременно присоединится к «старшим партнерам», – смогут делать на континенте, а также на всем Переднем Востоке и Северной Африке все, что взбредет им в голову. Как вам перспектива?
На самом деле Берестин говорил гораздо дольше, приводил на память данные по военным флотам держав, их сухопутным армиям, мобилизационному потенциалу, экономическим возможностям и тому подобному. На память цитировал высказывания политических деятелей истекающего века, а также кое-что из века грядущего. Ему задавали вопросы, он на них отвечал, умело прибегая к приемам софистики и демагогии.
Спорить с ним было трудно, да и не в обычаях завсегдатаев этого клуба дискутировать ради процесса. Давным-давно подразумевалось, что если человек о чем-то говорит, то он знает предмет и имеет в виду донести до слушателей некую истину. Примут ли ее целиком или частично, или не примут вообще – совершенно другой вопрос. Касается тема взглядов на вопросы престолонаследия, способов охоты на тигров в малайских джунглях или сравнительных преимуществ дульнозарядных штуцеров над магазинными винтовками – не суть важно. Практика – критерий истины.
На следующий день точка зрения русского князя стала известна всем, кто имел отношение к восточной дипломатии и разделял некие базовые убеждения «хантеров». В том числе и людям из окружения леди Спенсер-99. Им она как бы под большим секретом намекнула, что, по неофициальным сведениям, «дьюк»[74] Берестин – особа, пользующаяся личным доверием Российского императора, и едва ли он произнес свою речь просто так. Среди понимающих людей это называется зондаж.
Естественно, до поры до времени на официальный уровень поднятая проблема не выйдет. Более того, едва ли кто-нибудь вообще подтвердит сам факт причастности князя к императорской свите и даже – существование в природе такого человека.
Но приведенный выше эпизод – всего лишь задел на далекое будущее, с одной стороны, а с другой – способ повышения авторитета и веса Алексея в обществе. Теперь и к другим его словам будут прислушиваться с гораздо большим вниманием.
Еще одним хитрым приемом Берестина была демонстрация своих выдающихся аналитических способностей, граничащих с ясновидением. В застольных беседах за бриджем или преферансом он настолько часто предсказывал как развитие событий на фронтах Капской колонии и Наталя, так и моменты политической жизни в Лондоне и в иных мировых столицах, что не слишком образованного человека это могло ввергнуть в пучину мистики. Зато хорошо образованные, да вдобавок привыкшие к постоянной игре вероятностей (хоть на бирже, хоть в парламенте) люди оценили такое свойство по достоинству.
И к моменту, когда Берестин получил от Басманова сообщение о вторжении монстров, почва была вполне подготовлена и хорошо унавожена.
В запасе у него было не меньше двух суток чистого времени, исходя из теоретической скорости прохождения информации от поля боя до Кейптауна, непременной задержки для согласования в гражданских и военных инстанциях колонии, передачи удовлетворившего всех текста по Атлантическому кабелю и работы с ним надлежащих структур в самом Лондоне.
Сам же Алексей, посоветовавшись с Сильвией (М), впервые на этой неделе согласился принять приглашение на раут в загородном поместье леди Спенсер-99, между Брайтоном и Истборном, на берегу Дуврского пролива. Места там были великолепные.
Усадьба в полсотни гектаров, на которых еще в прошлом столетии был разбит классический английский парк с живописными аллеями, ручьями и искусственными водопадами. Двухэтажный дом из дикого серого камня, весь обвитый плющом, с черепичной крышей. Очень похожий на уменьшенную копию замка пятнадцатого века. Конюшня с чистокровными гунтерами. Небольшая псарня. Молчаливые вышколенные слуги. Занимающий половину первого этажа каминный зал, украшенный рыцарскими латами и средневековым оружием, едва ли не со следами сарацинской крови на клинках.
Словно не молодая, элегантная, эмансипированная дама здесь обитала, а суровый джентльмен старых устоев, презирающий жалкую современность.
Леди Спенсер и Макрай, каждая по своим каналам, собрали на уик-энд пестрое, но по-своему гармоничное общество. Большинство – в пределах тридцати лет, старшие сыновья[75] очень хороших семей. Как-то, вроде бы случайно, получилось, что все они имели отношение к интересующим Берестина кланам, партиям или руководящим органам армии и флота.
Какой-нибудь капитан-лейтенант Мак-Ардл сам по себе в списках флота мог числиться на одном из последних мест по старшинству производства и деловым качествам, но если его отец – председатель парламентской фракции тори от Шотландии, а сам он – адъютант Первого морского лорда, расклад получается совсем другой. С таким не грех в дартс сыграть, и хереса выпить (отчего все английские моряки так любят херес?), и на разные интересные темы попутно перекинуться.
Чтобы гостям было приятнее, Сильвия-99 попросила Берестина надеть парадный мундир российского дворянина.
Отчего нет? Белый китель, без погон, естественно, синие бриджи, высокие черные сапоги, фуражка с белым верхом и алым околышем. Чистый Вронский, в исполнении Ланового. Тем более что и возрастом, и статью, и типом лица актер с Алексеем были похожи.
Сам по себе его облик произвел на гостей нужное впечатление. Девяносто процентов англичан, даже из образованных слоев, представляли русских преимущественно по карикатурам времен Крымской и Русско-турецкой войн (1877–1878 гг.), где они изображались не лучше, чем большевики в геббельсовской пропаганде. А возможностей составить собственное мнение об «историческом враге» в XIX веке было не больше, чем в конце ХХ, хотя русские и англичане две мировые войны провоевали союзниками. Монтгомери получил редчайший орден «Победа», а британские моряки Северных конвоев и летчики РАФ[76] щедро награждались советскими орденами и медалями, от «За отвагу», до Красного Знамени и Ленина. Но – не помогло «боевое братство» закреплению «дружбы народов». Гитлеровцы им все равно оказались духовно ближе, прямо с мая 1945 года.
При том, что русские, в отличие от немцев, Лондон и Ковентри не бомбили, а наоборот, спасли Острова от неминуемого вторжения «Зее лёве».[77]
– Скажите-ка, князь, – догнал Берестина на аллее, окружающей пруд с золотыми китайскими рыбками, и доверительно приобнял под локоть юноша с лошадиным, но при этом сравнительно симпатичным лицом и приятным голосом. – Вы на самом деле верите, что между нашими странами возможна дружба?
«Третий сын герцога Эдинбургского, Гарри, шансов на престол двенадцать процентов», – тут же идентифицировал нового знакомого Алексей.
– А разве мы друг другу уже представлены? – Берестин вложил в голос весь возможный тонкий яд издевки над дурацкими принципами.
– Да ради бога, князь, зачем же вы повторяете всем давно навязшие в зубах глупости? – В его тоне прозвучала искренняя обида.
– Ай-м сорри, лорд, не я эти правила придумал! Приезжайте ко мне в Вологду или в Сухум, там вас никто не оскорбит вымученной деликатностью…
– Но мы можем сейчас поговорить поверх этикета?
– Сколько угодно. Хочу вам сказать, что в русском языке есть гораздо больше степеней этикета, чем в китайском или японском. Но при этом они вполне взаимопроникаемы и взаимодополняемы. Никогда в жизни самурай или мандарин не сможет говорить с черпальщиков сортиров на равных. А у нас государь с беднейшим крестьянином – свободно. Я – князь, с древностью рода куда большей, чем у нынешних Романовых. Вы видите, что мое владение вашим языком – безупречно. Так?
Гарри был вынужден согласиться, еще не понимая, к чему ведет Берестин.
– Так вот у нас великие князья и недавно в бозе почивший император Александр Третий Александрович владели исконно-сакральным языком лучше простолюдинов…
– К чему вы говорите все это? – спросил изрядно замороченный мелкий герцог.
«К чему – это не твое дело, – подумал Алексей, – много будешь спрашивать, королем не станешь!» А как раз на этого пацана ставка и была сделана.
– Для начала – чтобы вы сообразили. Очень трудно стать королем, не избавившись от массы предрассудков. В том числе и сословных. Нужно уметь думать раскованно. И не только в заданных границах. Очень важно научиться улавливать тенденции в полете. Пока они не долетели куда-нибудь не туда.
– Королем? – Изумление юноши стало несколько неприличным. Аристократ должен уметь держать себя в руках, даже под дулом пистолета на шести шагах. А тут всего лишь намек…
Берестин грустно усмехнулся про себя. Господи, как это на самом деле скучно! Он не Мефистофель, не Воланд, но и для него «играть людьми» не составляет труда.
– Простите, принц Гарри, вам не кажется, что мы слегка отвлеклись от заданной темы?
На лице юного «третьего сына» отразилось недоумение. Забыл, напрочь забыл хитросплетения Берестина. Чего же удивляться, на то они и были рассчитаны.
В густой массе блестящих листьев и ярких цветов мелькали птички, от воробьев до певчих дроздов, тени облаков, то темных, то прозрачных, стремительно скользили по лужайке.
Достав свой портсигар, Берестин взял сигарету, предложил принцу. Тот закурил, удивившись незнакомому вкусу и запаху.
Внезапно из-за кустов появилась веселая, чем-то возбужденная леди Макрай.
– Милейшие сэры! Как я рада вас видеть! Вы куда-то исчезли, а без вас очень скучно! Как скучны люди, вы бы знали, – доверительно сказала она, наклоняясь неприлично близко к принцу Гарри, так, что ему стало видно все, что и так едва-едва скрывало глубокое декольте.
– О мой будущий король! – слегка развязным тоном, подражая Элизе Дулитл,[78] воскликнула Сильвия-Макрай. – Не удивляйтесь, что я так вас называю. У меня есть кое-какие способности к ясновидению, одну из моих прапрабабок по материнской линии сожгли на костре за занятия черной магией. Попомните мои слова – звезды выстраиваются так, что в самом непродолжительном времени трон освободится именно для вас!
Гарри почувствовал, что от нее попахивает джином или виски. И взгляд у нее такой… такой необычный, дурманящий.
– Но как же? Бабушка, дядя, отец, два брата. С ними должно случиться что-то ужасное, чтобы я…
– Совсем не обязательно. Звезды не обещают трагедий. А в остальном пути господни неисповедимы.
Голова у принца кружилась все сильнее, хотя неприятным это ощущение не было. Все вокруг казалось подчеркнуто ярким и удивительно красивым. Особенно – новые знакомые. Никто из окружающих раньше не относился к нему так хорошо.
Вот настоящие люди, без лицемерия, видят в тебе подлинную сущность, а не функцию девятивековых предрассудков.
Неподалеку под деревьями Алексей увидел столик, уставленный бутылками, пустыми и уже наполненными бокалами.
– Давайте, по русскому обычаю, за приятное и полезное знакомство.
– Нет, я пить не буду, – воскликнул Гарри, все еще под впечатлением прелестей Сильвии. – Я пьян от общения с вами! Вы изумительный человек, князь! А уж вы, леди Макрай! Как жаль, что мы не познакомились раньше…
«До того, как вы стали любовницей князя», – продолжил про себя его мысль Алексей.
– Хорошо, если сохраните это чувство, когда станете королем… – медленно, фиксируя взглядом зрачки Генри, сказала та.
Принц тут же забыл обо всем, что говорилось последние полчаса. И перестал видеть стоящую перед ним женщину, которую только что хотел схватить за руку, припасть к ней губами, попросить разрешения объявить себя ее верным рыцарем. Совершенно как в романах Вальтера Скотта.
Но мысль о том, что он может, да, пожалуй, и должен стать королем после скорой кончины бабушки Виктории, в подсознании осталась. Накрепко.
Сильвия сделала шаг назад и скрылась в зарослях вечнозеленого древовидного вереска.
…Гарри взял из рук Берестина бокал шампанского, посмотрел на Алексея ясными глазами.
– Скажите, князь, вы на самом деле верите, что между нашими странами возможна дружба?
– Пока что не очень верю, но хотел бы надеяться. Иначе вашей Империи придется очень плохо. В исторической перспективе.
И, не давая принцу начать ту же никчемную дискуссию по второму (для него, Алексея) кругу, сделал незаметный со стороны жест.
На огибающей поляну дорожке появилась леди Макрай, якобы абсолютно не подозревающая о присутствии побизости мужчин. Оглянулась, сошла на траву, остановилась под сенью раскидистого можжевелового куста, непринужденно подняла юбку намного выше колен, чтобы подтянуть белый, вышитый красными розочками чулок и получше закрепить никелированные застежки.
– Ох, джентльмены, извините, – услышав звон хрусталя, вскинула голову и стыдливо зарумянилась Сильвия, но, тем не менее, завершила начатое, изящно выставив вперед ножку, отчего юбка скользила вниз до щиколотки слишком медленно.
Гарри смотрел на эту вполне невинную сценку с таким возбужденным изумлением, что Алексей подумал: «Что бы ты, бедняга, делал на обычном сочинском или одесском пляже? Не говоря о самом дешевом стриптиз-баре».
– Извините, – повторила леди Макрай, подходя, и вновь посмотрела на принца обволакивающим взглядом. – Надеюсь, я вас не слишком шокировала. Но место казалось таким укромным…
– Это мой хороший друг, – сказал Берестин, – можете называть ее просто Диана…
– Да-да, мы представлены, – не совсем впопад ответил Гарри, стараясь не смотреть на Сильвию.
«Теперь она будет сниться ему каждую ночь, – подумал Алексей. – Бедный парень…»
Он наполнил бокал и подал его Сильвии.
– За нашу дружбу…
И тут же продолжил, как ни в чем не бывало, начатую принцем тему.
– В исторической перспективе союзнические отношения между нашими странами возможны, – повторил Алексей, – при смене господствующей парадигмы.[79] Зато дружба между вами, мной, Дианой начинается уже сейчас. Вам, наверное, в этом смысле не очень везло. А у нас в России дружба понимается именно как бескорыстные отношения между симпатизирующими друг другу людьми, более того – похоже мыслящими и чувствующими. Вам не приходилось замечать, что в английском языке есть только одно слово – «френд», на все случаи жизни. А в русском имеется несколько десятков, обозначающих разные, порой весьма тонкие нюансы этого понятия, – друг, приятель, товарищ, кореш, однокашник, односум, братела, земеля… и так далее и тому подобное…
– Увы, я русского совсем не знаю, – развел руками Гарри.
– Не беда, я тоже не знала, – мило улыбнулась Сильвия, – а теперь, с помощью князя, продвинулась уже довольно далеко. Хотите, будем заниматься вместе? – она улыбнулась очаровательнейшей из своих улыбок. – Да вы не смущайтесь. Я совсем не страшна для молодых людей, несмотря на слухи, которые обо мне распускают. Неужели вы не верите в возможность чистых отношений между мужчиной и женщиной? Эпоха ханжества, я надеюсь, подходит к концу…
Теперь слегка покраснел принц.
– Мне вообще как-то не приходилось… – признался он.
Так уж вышло. В колледже и в военном училище очень распространены были гомосексуальные отношения, но Гарри их ненавидел, как и тех, кто этим занимался. А с женщинами пока не складывалось. В бордели он тоже не ходил, девушки из подходящих семей о возможности внебрачных отношений и подумать не могли, дамы без предрассудков, вроде леди Макрай, внимания на бесперспективного принца до сих пор не обращали.
– Вот видите! – словно бы обрадовалась Сильвия. – У нас впереди много интересного. Но пока, джентльмены, извините, меня ждут. Я ведь тут оказалась совершенно случайно… – еще одна двусмысленная улыбка, и она упорхнула, оставив за собой запах духов, привезенных из совсем других времен, и полное смятение в душе двадцатилетнего принца, с которым никогда еще не была так ласкова тридцатилетняя леди изумительной красоты.
Эта мизансцена была разыграна экспромтом. Впрочем, работа специалистов класса Сильвии на две трети состоит из экспромтов, главное, не прозевать подходящий момент. В самом начале раута она увидела, что Гарри заинтересовался экзотическим гостем и посматривает в его сторону с неприкрытым интересом. И тут же проскочила искра.
«Бабушка всей Европы», королева Виктория, последняя представительница Ганноверской династии, процарствовавшая шестьдесят четыре года, собиралась не далее чем через год отдать богу душу. Престол перейдет к Эдуарду Седьмому, первому из Виндзоров. А зачем? Вот же очень приличный претендент! Молодой, неиспорченный, достаточно умный, а главное – внушаемый. Если с ним правильно поработать, слегка поторопить бабушку, отодвинуть в сторону прочих наследников, получится хороший король.
Она сразу начала действовать.
Нескольких слов, сказанных Берестину суфлерским шепотом, когда они невзначай оказались рядом, Алексею оказалось достаточно.
Если бы претендент не проявил инициативы к знакомству и разговору, пришлось бы сделать лишний ход, всего лишь. Но получилось так, как нужно. Само собой и безупречно.
В ближайшие дни нужно будет закрепить успех. Несколько встреч, разговоры на заведомо интересующие принца темы. Она, конечно, соблазнять Гарри лично и ложиться с ним в постель не собиралась. Если все остальное пойдет, как задумано, где-то незадолго до коронации это с большим удовольствием сделает здешняя Сильвия, для чего им придется поменяться обликами…
Но все это варианты достаточно отдаленного будущего. Иметь ручного короля в любом случае весьма полезно. А там, глядишь, фаворитка леди Макрай, любовница и тайная советница, склонит его к восстановлению в Британии самодержавия. В стиле Генриха Восьмого, не побоявшегося даже католическую церковь упразднить.
Великолепная интрига!
После чего вполне можно будет на самом деле подумать об установлении теснейших союзнических отношений между Англией и Россией. Вроде тех, что связывали Британию и США во второй половине ХХ века. Геополитически – красивая комбинация.
Но это – дело не одного месяца, и даже года, а сейчас у Берестина была более конкретная цель.
Для ее достижения ему совсем не нужен был именно принц, но раз подвернулся он, пусть будет так.
– Собственно говоря, Гарри, когда вы ко мне подошли, я думал о вещах не столь возвышенных, как наши прелестные дамы. – Слово «наши» он едва заметно подчеркнул голосом. – К слову сказать, раз уж так получилось, я бы хотел обратить ваше внимание на хозяйку этого дома, леди Спенсер. С ней-то вы должны быть достаточно хорошо знакомы.
– Нет, встречались от случая к случаю на разных приемах. Так, мельком, – ответил принц, весь поглощенный воспоминаниями о волнующей полоске белой кожи, сверкнувшей ему в глаза выше края чулка «Прекрасной дамы». Рыцарские традиции, что вы хотите. Пусть ему никогда не доведется припасть к ней губами, обожать эту женщину и посвящать ей стихи и подвиги никто не в силах запретить.
– Я постараюсь сделать это «не мельком», – многообещающе сказал Алексей. – В отличие от леди Макрай, она сейчас свободна. Ничего не имею против того, чтобы вы с моей подругой изучали русский язык, но всему остальному… простите, Сильвия обучит вас гораздо лучше…
Гарри снова вспыхнул.
– Да оставьте, оставьте, принц, – Берестин позволил себе покровительственно похлопать юношу по плечу. – Вы напрасно придаете этой теме такое значение. Хочу вас немного просветить. Женщины увлекаются подразумеваемым процессом ничуть не меньше мужчин, а то и больше. Просто в вашем обществе господствуют, э-э… несколько «викторианские взгляды». Но я, повторяю, размышлял совсем о другом…
– О чем же? – стараясь быть вежливым, спросил принц.
– Да вот хотя б о том, что мне некоторое время назад рассказывал профессор Челленджер, Джордж Эдуард. Интереснейшая, между прочим, личность. Мы с ним встретились в России. Вице-президент Британского Палеонтологического общества, хранитель Музея сравнительной антропологии в Лондоне, член десятков иностранных обществ подобной направленности, в том числе и Санкт-Петербургского географического. Список – десять строк петитом. Автор сотен трудов, в том числе столь забавных, как, например, «К вопросу о строении черепа калмыков». Этими исследованиями он и занимался на берегах Каспийского моря, не очень далеко от Астрахани. Не понимаю, чем череп калмыка может отличаться от такового же у бурят, монголов или урянхайцев…
– Я – тем более, – достаточно холодно ответил Гарри. – И к чему вы мне об этом говорите?
– Просто так. Профессор сообщил мне, что, по его сведениям, в неисследованных частях Африки и Южной Америки существуют (или могут существовать) целые цивилизации, сопоставимые по уровню с древнеримской, например, или греческой… Этакие «затерянные миры». И недалек час, когда мы можем с ними столкнуться.
– Ну, князь, это уже полная ерунда! О чем вы говорите? Мир исследован, изучен, пересечен нитками железных дорог. Через океаны проложены телеграфные кабели! Век пара и электричества! Белых пятен давно не осталось… О чем я весьма жалею, – закончил тираду на неожиданно минорной ноте Гарри.
– Не горюйте, мой друг, – с энтузиазмом воскликнул Алексей, едва не силой вставляя в руку нового приятеля бокал шампанского, на треть разбавленного коньяком. – Не горюйте. Не прошло еще время ужасных чудес. И если мы услышим, что с Кордильер или из джунглей Замбези вдруг появятся новые могучие завоеватели… Да вы пейте, пейте, «немного дней нам здесь пробыть дано, прожить их без вина и без любви грешно». Так вот, если спустятся завоеватели…
Подумайте, кто в Европе просвещенного тринадцатого века мог вообразить, что из глубин Центральной Азии на нас хлынут миллионные орды Чингисхана? Так что не зарекайтесь, мой друг, не зарекайтесь.
Подобную мысль Берестин еще раз высказал часом позже, за бильярдом, в обществе гораздо более взрослых и эрудированных джентльменов. Дополнительно развив и детализировав. Здесь его (вернее, не его, а профессора, на которого он ссылался) тоже подняли на смех. Что, собственно, и требовалось. Главное, после получения первых телеграмм из Африки никто из тех, с кем разговаривал князь и кому они успели передать забавную теорию, уже не смеялся.
Общественный шок от известия о появлении вблизи от линии соприкосновении британских войск и буров несметных орд неизвестных существ, «гориллоидов», вооруженных огнестрельным оружием, был велик. Во времена всяческих смут, эпидемий и военных конфликтов люди вообще склонны к иррациональности. Активизируются фундаменталистские течения в традиционных религиях, расцветают ранее пребывавшие в ничтожестве секты, слухи становятся более авторитетными источниками информации, чем официальная пресса. Все это давно известно.
А уж если эти естественные тенденции умело направлять…
Лондонские журналисты из «золотого пула», допущенные к освещению жизни высшего общества, словно бы собственным умом поняли, что сообщения о постоянных поражениях на далеком фронте читающей публике надоели. Следовало бы написать что-нибудь повеселее. Тема о русском князе и английском профессоре, предсказывающих скорую встречу с новым цивилизационным вызовом, вторжение из «затерянных миров» неких армад и орд, не уступающих численностью, силой и беспощадностью гуннам, монголам, зулусам Чаки,[80] заняла первые полосы газет. Одни писали об этой теории вроде бы в шутку, другие – вроде бы всерьез. Но на два дня шума хватило.
«Высоколобым ученым», вздумавшим на третий день заявить, что никакого профессора Челленджера на свете не существует, как и учреждений, в которых он якобы трудится, во всех редакциях указали на дверь. Вежливо, и не очень.
– О чем вы, почтеннейший профессор Саммерли? – Редактор «Дейли мейл» протянул особенно агрессивному оппоненту, колотившему тростью по столу, великолепного качества фотографию. – Вот русский князь Берестин, вот Челленджер, видите – с бородой, а позади них калмыки и верблюды! О чем еще спорить?
О том, где находится целая тысяча фунтов стерлингов, полученная от публикатора, редактор обсуждать тем более не собирался. Есть Челленджер, нет Челленджера – кому какое дело?
На следующий день и сдержанно-официозные, и скандально-бульварные публикации перепечатали провинциальные газеты. «Народу нужны здоровые сенсации…»
Сутками позже короткие телеграммы из Кейптауна легли на столы персон, на сенсации реагировать не склонных.
В любом обществе, во все времена, даже библейские, обязательно существовали люди скептические и здравомыслящие. Что следует из самого текста «Книги».
– Что вы на это скажете? – спросил у срочно собранного совещания премьер-министр Солсбери. Отнюдь не у членов кабинета, совсем у других людей. Чьей волей он был поставлен на свой пост и вместе с которыми проводил политику, никакого отношения к воле «избирателей» не имевшую.
– Провокации исключены? – спросил один из «сильных мира», выдернутый с какого-то раута и не успевший сменить фрак на визитку.
– Да, исключены. За источник я ручаюсь. Тем более, в наличии имеются трупы этих «существ», любезно переданные нам участниками боя. И наши офицеры и солдаты, отпущенные из плена без всяких условий.
– Я бы так не сказал. Буры бурами, но люди, сыгравшие в этом деле главную роль и настоявшие на передаче пленных, были русскими. Безусловно. Лейтенант Алджернон не лингвист, но сотни две слов услышанного им языка он знает. И это совсем не голландский…
– Вывод, сэр? У нас нет времени на теоретизирование.
– Это – правильно. Что может быть проще? Там – русские волонтеры. Здесь русский князь. Здесь говорят о нашествии монстров. Там оно происходит.
– Из этого следует, любезный сэр, вы поверили всему? – спросил с совсем не любезной улыбкой господин, имеющий отношение к нескольким банкам, ведущим свою историю с тех времен, когда в Европе вошли в обращение деньги в их условном выражении.
– «Всему» я никогда не верю, – с достоинством ответил премьер, спинным мозгом чувствующий, что на этом посту ему оставаться недолго, если не сумеет придумать чего-то эффектного и экстраординарного. А сохранить кресло хотелось до чрезвычайности. Отчего и острота мышления обострилась.
– Как же толковать ваши слова о русском князе и русских волонтерах? Уж не в том ли смысле, что они это все и устроили? Я не питаю к русским никаких симпатий, но даже они на такое не способны. Не по моральным, по чисто техническим причинам, – спросил банкир.
– Простейшее ведь решение, – взяв из рук лакея сигару, ответил премьер. – Если взять и пригласить прямо на наше совещание русского князя? Со всеми необходимыми фигурами изъявить ему глубочайшее уважение и прямо спросить обо всем, что нас волнует. Как?
Присутствующие господа задумались. Никто из них никогда не действовал «в лоб». Не британский это стиль. Немцы в тридцать девятом уже раздолбали за месяц союзную Польшу, проехали в сороковом слабенькими гусеницами Францию и окрестности, а «гордые альбионцы» все думали, «а вдруг удастся даже от Дюнкерка вермахт в сторону ненавистной России повернуть».
– А почему бы и не позвать? – после долгого пыханья сигарой сказал лорд с длинными, свисающими до воротника усами, через пять лет тоже ставший премьер-министром.
– Если он захочет прийти… – саркастически усмехнулся джентльмен лет сорока, бритый, как актер. – Леди Спенсер и леди Макрай вы во внимание не принимаете? Они ведь могут и не позволить!
– Эфроим, не приумножайте сущностей, – премьеру все происходящее ужасно надоело. Он сожалел, что не решил вопрос единолично. Но что вышло, то вышло.
Вопреки всем сомнениям, после трех сделанных в разные адреса звонков князь Берестин нашелся и немедленно согласился на встречу. Правда, словно бы мельком, заметил, что у него в России слова значат только то, что значат. Если в гости и поговорить – одно. Если иначе – не обессудьте. Через полчаса буду.
Предпоследние слова были сказаны по-русски, и премьер, повесив трубку, немедленно потребовал у секретаря найти специалиста, который может перевести эту фразу, переполненную мягкими гласными звуками, однако прозвучавшую как-то неприятно. Он ее записал на листе бювара, как услышал, и довольно правильно.
Специалист нашелся, несколько раз уточнял фонетические оттенки, после чего подтвердил интуитивную лингвистическую тревогу маркиза Роберта Артура Толбота Солсбери. Данная фраза может означать многое, в том числе и обещание снять с себя любые нравственные ограничения, с возложением последствий на партнера.
Как-то эта консультация премьера расстроила. Нравственные ограничения с себя могла снимать Британская империя в его лице, но никак не кто-нибудь другой!
Князь явился, как обещал, через полчаса, с боем часов. В одежде, подходящей для загородной прогулки. Мол, извините, не ждал, не готовился, не собирался…
Раскланялся, сел в предложенное кресло и изобразил, что он весь – внимание.
– Я правильно воспроизвожу ваше выражение – «не обессудьте»? – спросил маркиз, когда слуги разнесли стаканы, бокалы, сигары.
– Очень похоже. Однако мой английский лучше вашего «русского». – Берестин мог позволить себе шутки такого рода. Тем более, половина из присутствующих в гостиной была ему знакома по «Хантер-клубу». Просто если они вида не подали, так ему зачем же?
– Князь, Алексей Петролович, – с усилием выговорил премьер, – можете ли вы объяснить нам, здесь присутствующим людям, от которых, не скрою, зависят судьбы не только Империи, а и всего мира, что на самом деле происходит?
Берестин не стал брать предложенную сигару (черт знает, что они в нее могут подсунуть, мы сами такие), медленно, старательно набил прямую трубку «Капитанским» табаком российского производства.
Зато бокал шампанского взял, потому что заметил: из одной и той же бутылки ему налили третьему. И далее соблюдал подобного рода простейшие предосторожности.
– Объяснить могу. Только не знаю, что именно вас интересует.
– Все. Вы понимаете, мы понимаем…
– Господа, представьте, хоть на минуту, что я не понимаю ничего из того, что непонятным мне образом волнует вас…
…В это же примерно время Басманов, после разгрома первой волны вторгшихся монстров чувствующий себя довольно неуверенно, решил действовать без оглядки. Ему теперь, как генералу Корнилову под Екатеринодаром, терять было нечего.
Отбитые здесь дуггуры немедленно совершили нападение на самый глубокий из тылов «Братства», базовую планету Валгалла, для отражения которого ему пришлось передать туда свою самую боеспособную и испытанную роту во главе с лучшими офицерами. «Отцы-командиры» обещали, что немедленно вернут ее обратно, сразу по миновании надобности. Но любой фронтовик знает, что отдать часть своих сил на усиление соседа легко, а вот – вернуть…
На буров надежды стало еще меньше. Если несколько дней назад они не стремились к активным наступательным действиям против англичан просто в силу характера, то теперь у них появились куда более веские основания. К месту побоища ежедневно направлялись целые делегации, тщательно рассматривали горы быстро портящихся трупов, после чего, с пением псалмов, формировали сильно охраняемые обозы и отправлялись по домам. Совершенно как в России призывники старших возрастов разбегались с фронтов в семнадцатом году. Никак не реагируя на слова командиров о том, что в армии, все вместе они – сила, а поодиночке их кто хочешь к ногтю прижмет.
– А винтарь на что? – потрясали трехлинейками сорокалетние бородачи, пока еще чувствующие себя частицей той самой «силы», тысячными толпами бушующей на вокзалах.
И такие же, сорокалетние и старше, мужики-буры, в рядах своих коммандо вздымающие к небу винтовки и ружья, искренне верили, что, вернувшись на свои фермы, смогут вернее защитить свои семьи и имущество, чем оставаясь в армии.
– Одно и то же! Всегда и везде одно и то же, – сокрушенно качал головой Сугорин. – Древние римляне в четвертом веке дезертировали из легионов, надеясь выжить поодиночке, русские удельные князья не сумели поступиться принципами, встретившись с монголами на Калке, наши мужики слишком поздно поняли, что от комиссаров обрезом не отобьешься, теперь вот эти…
– Но мы же не станем повторять чужие ошибки? – спросил Басманов.
– Есть идея?
– Проще некуда.
…Собрав в один кулак свою бригаду, не вступая в дискуссии и переговоры с Крюгером и его генералами, просто поставив их в известность, Михаил с Сугориным нанесли внезапный, деморализующий англичан удар на юг вдоль линии железной дороги. Именно так, как мечталось – по-махновски!
За сутки они сформировали «группу прорыва», противопоставить которой англичанам было нечего. Прежде всего в моральном смысле, поскольку стотысячная регулярная армия, безусловно, смогла бы успешно парировать отчаянный бросок двухтысячного отряда.
Старая военная истина – «нельзя быть сильным везде», сэру Рэдверсу Буллеру и генералам, составившим его штаб: Уоррену, Коку, Келли-Кенни, Ноксу и Таккеру, одновременно командовавшим дивизиями и бригадами, стягивающимися для обороны Кейптауна, очевидно, в память не запала.
Так и воевать по-настоящему ни одному из них не приходилось. Вообразить бы этих элегантных господ, всюду возящих с собой резиновые походные ванны, в сражениях под Плевной и Шипкой, как русских, или при Седане, как немцев! В боях, где за несколько дней сгорает больше отважных солдат, чем насчитывает вся кадровая армия Империи.
Растянув свои силы на четырехсоткилометровом фронте, эти стратеги продолжали верить в возможность его удержать.
…Передовой отряд составили две мотодрезины с керосиновыми двигателями, к ним прицеплены обычные двухосные платформы, по двадцать рейнджеров на каждой. Они выехали из Блюмфонтейна около полуночи.
Через час за ними пошли два бронепоезда, один трофейный английский, второй импровизированный, из угольных полувагонов, обложенных изнутри мешками с песком и тем же кардифским углем (защита и запас топлива для паровозов одновременно). Они были вооружены, даже несколько избыточно, скорострельными пушками, пулеметами Максима, картечницами Гатлинга и Норденфельда.
Басманов, помня опыт Гражданской войны, приказал оснастить поезда надежными, длинными и прочными деревянными трапами, по которым почти в любом месте можно скатить пушки на землю. Иногда такой маневр оказывался чрезвычайно эффективным. Для огневого налета в спину противнику, например как на станции Кавказская летом девятнадцатого года.
И уже потом двинулись эшелоны открытых платформ, идущие один за другим на дистанции прямой видимости. Невзирая на пример старших и национальный менталитет, к русским и европейским волонтерам присоединились почти шестьсот отчаянных бурских парней, решивших порвать с традициями отцов. Бравые, умеющие воевать немыслимым образом, и при этом выживающие в любых переделках русские офицеры, в большинстве – почти ровесники, показались местным ребятам достойным образцом для подражания.
Особенно когда на привалах заводились разговоры о будущем, после победы, государственном устройстве единой Южноафриканской республики. ЮАР – ЮР – очень близко по звучанию, и как модель весьма привлекательно.
Однако война еще длилась, и нужно было сражаться, всего лишь надеясь, что именно тебя пуля или осколок не зацепят. Шанс быть убитым на самом деле не так уж велик. Умные люди посчитали – в подобного рода вооруженных конфликтах погибает в среднем от пяти до десяти процентов личного состава. В масштабах всей войны, конечно.
Платформы неторопливо гремели колесами по стыкам, теплая африканская ночь очень похожа на кубанскую, только запахи, накидываемые ветром, совсем другие. Если бы не это, отчего не вообразить капитану Мальцеву, что едет он со своей ротой от Ростова к станции Торговая или от Армавира к Невинномысской?
Та же платформа, те же товарищи вокруг, та же смерть, порхающая, порхающая вокруг, да все не решающаяся присесть на старый затертый погон без путеводных звездочек.
– Колек, подай-ка мне гитару, – попросил он хранителя ротных традиций и ротного имущества.
Раньше гитары, передаваемой из рук в руки, до него дошла голландская баклага, внутри которой плескалось черт знает что.
– Ладно, господа офицеры, а также и господа сочувствующие, – сказал он, имея в виду буров, – последний раз или, лучше, крайний, спою-ка я вам одну вещичку, услышанную от такого, как мы, поручика Константинова, столетием позже служащего той же самой России. Мы преходящи, господа, а Россия – вечна!
Чужеземная самогонка слегка достала его бесшабашную голову, каким-то чудом все еще держащуюся на плечах восемь лет непрерывных войн.
Под ритм колесного перестука…
… Оставив Сугорина руководить операцией, Басманов лично повел передовой отряд. Офицеры были одеты в полное боевое снаряжение – бронежилеты, каски-сферы с ноктовизорами, кроме автоматов имеются, на особый случай, пистолеты с глушителями. Вообще Михаил приказал стрелять только в самом крайнем случае. Убивать людей в то время, когда в любой момент может начаться очередное вторжение нелюдей, – глупо, если не сказать резче.
– Только для самозащиты, господа. Вы ведь умеете…
– Не извольте беспокоиться, господин полковник.
Английский патруль обнаружил первую дрезину в пяти километрах севернее городка Тоусрифир. Бабахнул предупредительный выстрел из винтовки, потом ярко вспыхнул прожектор. Перед станцией уже были выстроены каменные блокгаузы и, похоже, натянуты заграждения из колючей проволоки. Солдаты не открыли сразу огонь на поражение, потому что имелись сведения об оставшихся за линией фронта своих частях. Да и тихо движущаяся дрезина очевидной опасности не представляла.
Один из офицеров, сидевших в кабинке механика, выскочил наружу, выпрямился в луче света и начал, размахивая руками, кричать сорванным, что очень подходило к обстановке, голосом, будто он капитан второго батальона Линкольнширского полка, они прорываются от Виктория-Уэст, и за ними гонится бронепоезд буров.
Единственного, что могло его демаскировать – круглого, ни на что не похожего шлема, на рейнджере не было, а разобрать, какая на нем форма, за сотню метров невозможно.
Пока дрезина тормозила, сорок человек, оставаясь в неосвещенной зоне, легко поспрыгивали вправо и влево, насыпь дороги едва ли на фут возвышалась над вельдом.
Убивать никого не пришлось: офицеры стремительными перебежками окружили пост, просто выхватывая винтовки из рук ничего не понимающих солдат, добродушными толчками прикладов согнали к стене блокгауза.
– Вот так всем и стоять, – приказал Басманов. – Главное – не дергаться. Любая проблема может быть решена без крови при взаимном непротивлении сторон. – Эти слова были адресованы начальнику поста, худому лейтенанту в ботинках с обмотками. В русской армии обмотки тоже носили в конце мировой войны, но только рядовые, да и то из запасных и ратников второй очереди. Если каких-никаких сапог не имеешь, какой же ты офицер?
– Назовите себя, – предложил он лейтенанту, ногой подвигая к себе дубовый табурет в пустом отсеке блокгауза. Кроме грубо сколоченного стола и ящиков с патронами возле бойниц там ничего не было.
– Сначала – вы, – с вызовом ответил англичанин, принимая при этом из рук Басманова папиросу.
– Далеко зайдем, – меланхолично ответил Михаил, осматривая помещение и проскальзывая взглядом мимо военнопленного. – Я хоть Карабасом-Барабасом назовусь, вам это никак не поможет. А вы просто обязаны сообщить свое воинское звание, имя и фамилию, назвать часть, к которой принадлежите. Неужели я должен вам объяснять элементарные вещи?
После этого разговор постепенно начал приобретать конструктивный характер. Особенно когда полковник намекнул, что при следующем нападении монстров русские волонтеры не собираются становиться живым щитом «меж двух враждебных рас, монголов и Европы».
– Это один наш поэт так писал по поводу событий тринадцатого века, – счел нужным пояснить Басманов.
В итоге англичанин согласился с доводами полковника, что им сейчас делить нечего и лучше сотрудничать, поскольку так называемую «Англо-бурскую войну» можно считать законченной ввиду вмешательства форс-мажорных обстоятельств.
– Вы же убедились, что ни один из ваших людей не пострадал, в условиях, когда могли быть убиты все? А сейчас подойдут еще несколько эшелонов, и мы, оставив вас на своей позиции, двинемся дальше. Если требуется какая-то помощь – скажите. Сделаем. Знаете, пожалуй, я подкреплю вас взводом моих людей. Они и оборону организуют, и послужат гарантией от опрометчивых поступков. Мало ли что в расстроенных чувствах вашим в голову прийти может…
Бригада Басманова без задержки проследовала через Тоусрифир и утром, сбив слабые британские заслоны вдоль железнодорожной линии, заняла городок Вустер с последней узловой станцией перед Кейптауном. До него оставалось всего сто миль.
Вустер теоретически обороняла 11-я пехотная бригада полковника Вудгарда в составе пяти батальонов, бессмысленно надерганных из разных по уровню подготовки и даже национальной принадлежности полков. Боевого сколачивания они не проходили, да это в тогдашней армии отнюдь не считалось обязательным.
Кроме всего прочего, английская армия, как, впрочем, и любая ей современная, понятия не имела о боевых действиях ночью, малыми группами, работающими по заранее согласованному плану, не требующему непосредственного руководства в ходе операции.
Поэтому, когда десяток взводов рассыпался по окрестностям вокзала и трем радиально расходящимся от него улицам, не успевшие толком проснуться англичане начали массово сдаваться в плен. А что остается делать, когда часовые и дневальные сняты без звука, в казарму, прерывая самый сладкий предутренний сон, вламываются несколько человек, громко кричащих на непонятном языке, с потолка сыплется штукатурка от автоматных выстрелов (для непосвященных звучащих как пулеметные)? Попытки немногочисленных старослужащих и унтеров выхватить из кобур револьверы или прорваться к стоявшим вдоль стен пирамидам с винтовками пресекались беззлобно, но жестко. Ударами прикладов и просто кулаков. По чему придется.
– Куда ты, мать твою, лезешь, дурак? Куда? Жить надоело? Сиди, где сидишь, я сказал! – И хлесткая пощечина открытой ладонью, от которой непослушный навзничь летит на грязный земляной пол.
Едва ли «просвещенные бритты» были способны на подобный гуманизм. Они обычно предпочитали стрелять в любого сопротивляющегося, пусть даже словом или косым взглядом.
И не в русской кавалерии придумали мерзкую забаву под названием «подколем свинью», в которой десятки улан с гоготом и свистом пиками гоняли по полю пленных буров до тех пор, пока последний не будет пронзен стальным острием. После чего победители дружно отправлялись в походный бар отмечать «славную игру».
Если бы хоть один-единственный русский офицер до такого додумался, навек бы опозорил свой полк. Да прежде всего рядовые подобный приказ не стали бы выполнять. Бой окончен – значит, все!
Почти тысячу испуганных, слегка побитых, босых и в одних подштанниках солдат и офицеров согнали на площадь и кое-как построили. Но своему коллеге, полковнику Вудгарду, Басманов позволил одеться, побриться, почистить сапоги. Из уважения и для контраста. По периметру редкой цепочкой стояли рейнджеры с автоматами на изготовку. Из окон ближних домов выглядывали перепуганные и одновременно изнывающие от любопытства местные жители.
Фактически столица Капской колонии и прилегающие к ней территории оказались в плотной блокаде, потому что и море стало недоступным. Даже первое и второе сражения в Атлантике Гранд-флита с одиноким рейдером не произвели такого шокирующего впечатления, как бесследное исчезновение крейсерской эскадры Балфура и бомбейского конвоя. Кое-кто в штабе Буллера вдруг вспомнил, что не так уж были и не правы адмиралы Нахимов и Корнилов, решившие затопить свой флот для блокирования подходов к Севастополю. Лучше использовать моряков и артиллерию на сухопутном фронте, чем бессмысленно их потерять в боях с абсолютно превосходящим противником.
Сравнивать, конечно, не совсем корректно, однако осажденные Одесса сорок первого года и Порт-Артур четвертого находились в куда более трудном положении, с военной точки зрения, чем Кейптаун, зато – понятном. Да и моральный дух защитников русских приморских крепостей был не в пример выше. Англичане «стоять насмерть» отнюдь не собирались, да и надежд на то, что оборона имеет какой-либо высший смысл, ни у кого почти не было.
Михаил вызвал по радио Кирсанова и доложил о своем успехе.
– Если у тебя есть возможность, передай самому главному, кто там у них сейчас в состоянии принимать ответственные решения, что мы заняли Вустер без боя, гарнизон всего лишь временно разоружен. Для предотвращения возможных инцидентов. Масштабное наступление на Кейптаун не планируется, бурская армия остается на ранее занятых позициях. О том, что она сейчас практически небоеспособна, говорить необязательно. Скажи, что для сохранения статус-кво британские войска тоже не должны совершать никаких передислокаций.
– Молодцы! На таких условиях есть о чем договариваться, – восхитился Кирсанов. – У меня как раз имеются подходящие кандидатуры. Здравомыслящие. Думаю, часа через два смогу дать тебе предварительный ответ. А ты пока составь от имени господина Вудгарда достаточно паническое, но и вразумительное сообщение и допусти его к прямому проводу с главкомом. Чтобы мне было о чем предметно беседовать.
Время было раннее, солнце только-только поднялось над дальними холмами, но Кирсанов немедленно разбудил Ларису. Собиралась она ненамного дольше, чем десантник по тревоге, благо при ее внешности не было необходимости заниматься макияжем.
Павел едва успел позвонить по телефону Роулзу, предупредив, что минут через двадцать к нему заедет и надеется застать сэра Саймона в полной боевой готовности.
– Пока – к посещению одного высокопоставленного лица. Возникли интересные обстоятельства. Но это – не для телефона.
Затем он уведомил дворецкого адмирала Хилларда, что неотложное дело требует немедленной встречи с хозяином, так что очень желательно, чтобы сэр Мэнсон проснулся и привел себя в порядок.
– Сэр Мэнсон давно проснулся и работает в своем кабинете, – холодно ответил дворецкий. – Как прикажете доложить?
– Доложите, что звонил мистер Сэйпир. Он и миледи Отэм просят их принять через полчаса…
– Подождите, я доложу.
– Доложите, только ждать я не буду. Уже выезжаю.
– Вот и я, – вошла в комнату Лариса, элегантно, но просто одетая и полностью экипированная в своем обычном стиле, то есть в бронекорсете и с пистолетами. Кирсанов это сразу заметил наметанным глазом, хотя никто другой не обратил бы внимания на некоторую скованность движений изящной дамы.
– Вряд ли нам сегодня предстоит воевать, – мельком заметил он, целуя ручку.
– Ничего, я привыкла. Я знаю, что ты редко ошибаешься, но если вдруг… Предпочитаю быть готовой ко всему.
– Дело хозяйское. Поехали.
– Что-то случилось? – спросил Роулз, садясь в карету. После того, как миледи его завербовала, а Сэйпир раскрыл карты, в знак полного доверия поделившись тайной поразившей комиссара амнезии, он все время ждал каких-то неприятностей, хотя Кирсанов заверил комиссара в абсолютной невозможности провала и дал очень веские гарантии пожизненной безопасности и блестящих перспектив карьерного роста.
Вот и сейчас, разбуженный ранним звонком, он чувствовал неприятный холодок в животе и медный привкус во рту.
Копыта вороной пары цокали по булыжнику, мягко шуршали резиновые шины колес, лорд Генри на облучке от нечего делать пощелкивал кнутом, не задевая лошадей.
Вдоль улиц тянул легкий утренний бриз.
Кирсанов с долей грусти в глазах смотрел поверх опущенного стекла на просыпающийся город.
– Ничего чрезвычайного, – ответил он после долгой паузы. – По крайней мере, монстры нигде больше не объявлялись. Зато отряд волонтеров недавно занял Вустер, его гарнизон капитулировал, и, как вы должны понимать, в случае неблагоприятного развития событий в городе через несколько часов могут начаться уличные бои. Укреплений со стороны суши Кейптаун не имеет, полевые части разбросаны на достаточно большой территории и вовремя подойти просто не успеют. Расквартированные в черте города силы значительно уступают ударной группировке буров качественно. Так что сами понимаете…
– Вы не забыли о флоте? – заботливо спросил Роулз. – На берег могут сойти до трех тысяч моряков, а корабельная артиллерия способна обеспечить мощное огневое прикрытие…
– Да, – согласился Кирсанов, – даже после исчезновения эскадры Балфура флот остается силой. Вот я и говорю – начнутся уличные бои, и от всей этой прелести мало что останется. Знаем, приходилось видеть.
– Где же это?
– Земля большая, все время где-то стреляют, – неопределенно ответил Павел. Задумавшись, он невольно проговорился. В этом мире в цивилизованных странах войн не было уже двадцать лет. – На Филиппинах, например, – уточнил он, имея в виду испано-американский конфликт. – Поэтому мы и подумали, что правильнее всего ничего подобного не допустить. Вы согласны?
– Смотря какой ценой…
– Сейчас и обсудим эту цену. Ваша задача на первом этапе переговоров – молчать, лишь обозначая свое присутствие. Дальше – видно будет. Я скажу, если потребуется ваше веское слово.
Только вчера вечером адмирал Хиллард получил из Адмиралтейства долгожданную телеграмму, где сообщалось о его производстве в чин вице-адмирала и утверждении в должности командующего южноафриканской эскадрой, а также старшего морского начальника на театре военных действий.
До этого он не до конца верил обещаниям и намекам миледи Отэм. Теперь его сомнения рассеялись. Если кто-то в Лондоне решил сделать ставку именно на него – отчего бы и нет? Там наверняка виднее.
Он проснулся очень рано, с желанием немедленно приступить к деятельности. Пока вестовые пришивали к кителям и мундирам новые знаки различия, сэр Мэнсон в форменных брюках и белой шелковой рубашке сидел перед открытым окном и набрасывал проект приказа о своем вступлении в должность и задачах флота в свете этого события.
Он собирался огласить приказ на шканцах только что вышедшей из сухого дока «Диадемы», на которой решил поднять свой новый брейд-вымпел, красный крест на белом поле с красным же кругом в левом верхнем квадранте. И только после этого ехать с представлением к губернатору и главнокомандующему сухопутными силами.
От мысли – как вытянутся у них лица, он радостно потер руки и выпил первую порцию виски. За успех, и чтобы мысль лучше работала.
Тут и явился дворецкий с известием о визите миледи и мистера Сэйпира.
– Этому-то что здесь делать? – поморщился адмирал. Он с гораздо большим удовольствием принял бы поздравления только от нее одной. Но, очевидно, без участия этого пронырливого типа здесь не обошлось. И неизвестно, личные связи миледи или деньги негоцианта оказались весомее.
Хиллард облачился в мундир с новыми нашивками, полюбовался собой в зеркале, приказал накрыть в гостиной стол. Едва ли его гости успели позавтракать.
Еще большее раздражение, чем присутствие Сэйпира, вызвал у адмирала второй сопровождающий дамы, комиссар Роулз. Вот уж кто совершенно неуместен в его доме. Никакого конфиденциального разговора теперь не получится, это ясно. Но ведь и просто так этот господин здесь появиться не мог. Значит, интрига закручивается еще туже.
– … Таким образом, адмирал, – говорил Кирсанов, помешивая ложечкой кофе в тонкой китайской чашке, – выбор у нас с вами крайне ограничен. Или штурм города со всеми вытекающими последствиями, или – перемирие. Как я уже поставил вас в известность, в наших возможностях убедить буров остаться на достигнутых рубежах и даже несколько отступить. После этого переговоры могут продолжаться неограниченное время. Вы прекрасно знаете, что Оранжевая и Трансвааль не в состоянии поддерживать нынешнюю боеготовность дольше нескольких месяцев. Но и ваша армия, в свою очередь, лишенная снабжения по морю, очень скоро начнет терпеть неприемлемые лишения. Не говорю о мирном населении. Вы не сможете ни прокормить его, ни эвакуировать. Это понятно?
– Очень понятно, – согласился Хиллард. После исчезновения эскадры Балфура каких-либо надежд на возможность не то чтобы овладения морем, но и обычной проводки конвоев с войсками и снаряжением не существовало даже в перспективе. Прорывы отдельных быстроходных кораблей под прикрытием ночи и плохой погоды еще возможны, но проблемы это не решало.
– Вы думаете, что буры будут препятствовать отправке в Метрополию невооруженных судов с мирным населением?
– Топить их они, безусловно, не станут, а вот воспретить выход в море – вполне. Под каким угодно предлогом. Вы представляете, что станет твориться в колонии, если тысячи людей сначала будут посажены на пароходы, а потом, убедившись, что собственный флот не в состоянии обеспечить их безопасность, вынужденно вернутся в уже покинутые дома? Лишившись последней веры и надежды.
– Картина очень печальная, даже – душераздирающая, – с болью в голосе промолвила Лариса. Только что кружевной платочек к глазам не поднесла.
– Хорошо, господа, – ответил адмирал, укрепляя душевное равновесие еще одним солидным глотком виски. – Нарисованная вами картина действительно печальна. Только я не совсем понимаю, почему вы сочли нужным обратиться именно ко мне? Не к главнокомандующему, не к губернатору?
– К ним мы обратимся сразу после того, как закончим беседу с вами, – сказала миледи Отэм. – Дело в том, что если названные персоны проявят меньше благоразумия, чем требуется в их положении, ваша новая должность и имеющиеся в распоряжении силы смогут повлиять на развитие событий в нужном направлении…
Хиллард снова покосился на Роулза. Черт возьми, он до сих пор не понимает, в каком качестве присутствует здесь этот господин. Британская разведка что, тоже на стороне заговорщиков? В существовании заговора он больше не сомневался, только его цель и движущие силы оставались скрыты «туманом войны».
– Мятеж? Вы предлагаете мятеж флота против правительства колонии и армии?
– Не пугайте сами себя словами, не имеющими смысла. Вы же не мальчик, адмирал, – улыбнулась Лариса. – Неужели вы столь наивны, чтобы думать, будто приказ о вашем назначении родился сам собой? Что те, кто его готовил, подписывал и отправлял, не знали, зачем они это делают? Хотите маленький эксперимент? Мы сейчас расстанемся, ни о чем не договорившись, а уже вечером вы и губернатор тоже получите телеграммы, дезавуирующие предыдущую, за номером… – она назвала общий номер и другой, внутренний, многое говорящий посвященным.
– Ошибка, так сказать, вышла, и указанное лицо на самом деле отправлено в отставку с формулировкой «без объяснения причин», – поддержал Ларису Кирсанов.
Безусловно, это был удар ниже пояса. Хиллард почувствовал, что у него задергалось нижнее веко. Шантаж, самый настоящий шантаж.
– Да вы успокойтесь, – понял его состояние Кирсанов. И не такое приходилось видеть в богатой жандармской практике. – Это ведь – исключительно гипотетически. Мало ли ошибок совершается в канцеляриях при прохождении бумаг. Но пока все сложилось исключительно хорошо? Весьма влиятельные персоны в высших кругах Империи видят вас на нынешнем посту, и крайне опрометчиво их разочаровывать. Грядут большие, очень большие перемены, сэр Мэнсон, и не стоит упускать шансы, которые имеют обыкновение не повторяться.
Адмирал подошел к окну, посмотрел на бухту, где теснились у пирсов и бочек вверенные ему корабли. Несколько крейсеров и миноносцев слабо дымили, поддерживая двухчасовую готовность, остальные стояли с погашенными топками.
Что ж, придется внести кое-какие изменения в приказ, добавить пункт о срочном формировании отрядов морской пехоты из строевого состава для обороны города и подготовке к перевозке на берег нескольких батарей скорострельной противоминной артиллерии и пулеметов.
– А отчего это ваш брат, миледи, не оказал мне честь своим посещением, а остался при карете, как простой кучер? – спросил адмирал, переведя взгляд на площадку перед домом.
– Ох, сэр Мэнсон, он у нас такой оригинал, – всплеснула руками Лариса. – Его совершенно не интересует политика, а скучать с утра за графином вашего превосходного виски считает вредным для здоровья. Знаете, чем он сейчас занят? Он сочиняет венок сонетов, посвященный одной особе…
– Наверное, он умнее нас всех, – проворчал Хиллард.
– А вот мы не отказались бы от стаканчика, – продолжила миледи, – поскольку мы ведь обо всем договорились?
Адмирал кашлянул, но не возразил. Что тут возразить? Лондон далеко. Задавать по телеграфу вопросы, которые прозвучат как минимум дурацки? Или бежать к губернатору за советом? Еще более глупо. Они с Буллером его разжуют и не подавятся, а потом в случае чего еще и свалят на него все свои ошибки и неудачи.
Лежит в сейфе предыдущая телеграмма, в которой рекомендовано прислушиваться к мнению доставившей ее особы, ну и достаточно. А вчерашняя предоставляет неограниченные полномочия в зоне его ответственности. Является Кейптаун военно-морской базой? Безусловно. Значит, можно смело считать, что в пределах городской черты, более того, вплоть до рубежей, с которых вражеская артиллерия способна обстреливать рейд и порт, он является безусловным единоначальником. До тех пор, пока Редверс Буллер не предъявит ему другого документа, прямо подчиняющего флот армии. Такого в истории Британии еще не было и, даст бог, не будет.
– Договорились, договорились, – после паузы сказал он, жестом приглашая комиссара Роулза присоединиться и поднять бокал. Не зря ведь его сюда привели.
– Скажите мне только одно, миледи и джентльмены, кого вы на самом деле представляете? Мы ведь с вами окончательно в одной лодке…
– Вы на самом деле хотите это знать? – изумилась Лариса. – Да к чему вам это, господи! Какие странные люди, – повернулась она почему-то не к Кирсанову, а к Роулзу. – Две тысячи лет назад сказано – «умножая знания, умножаешь скорби». Что, казалось бы, еще нужно? Ваше непосредственное руководство простило вам прегрешения, пусть и мнимые. Вас возвели в очередной высокий чин, чем причислили к элите заслуживающих доверия. Вы должны догадываться, что такие решения невозможны без санкции с уровней, какие упоминать всуе неосторожно. Но вы действительно хотите знать больше, чем следует? «В одной лодке» – хороший образ. Но в лодках не только плавают, в них, бывает, и тонут…
Кирсанов смотрел на Ларису и настоящим образом восхищался. Умеют же люди! Что значит более чем полувековая разница в возрасте и недоступный пониманию опыт! Общался он с членами «Братства» больше пяти лет, и мир их будущий посещал, книги читал, фильмы смотрел. А вот если не родился там, так очень многое все равно не доходит…
Молодая девушка, Лариса Юрьевна, ничуть не старше, чем те большевички, анархистки и эсерки, с которыми приходилось работать еще до Переворота. В тех хватало фанатизма, натасканности в текстах Маркса, Бакунина, Кропоткина, готовности пойти на каторгу и даже на виселицу, а вот ума – не наблюдалось. Эта – совсем другая. Если бы пришлось встретиться в качестве противников, в равных условиях, Павел честно себе признавался – за свою победу он не ручался. Слишком много насчитывалось моментов, где она обходила его просто за счет способности не принимать во внимание вещи, ну – самоочевидные.
У Кирсанова и его врагов-революционеров были собственные убеждения, принципы, не всегда безукоризненные, но были. Их границы переходить считалось неприличным. С той и с другой стороны. Убить губернатора или даже царя – можно. Но при этом не бежать, не затевать игру со следствием, признать все, выкрикнуть несколько лозунгов и пойти на виселицу. В качестве компенсации и доказательства чистоты помыслов.
А Лариса исповедовала чистый прагматизм. Используя свой ум, характер, знание психологии и то, что философы XIX века называли «имморализмом», она легко переигрывала противников, такими качествами не обладающих.
Это же самое Павел отмечал и в натурах Новикова, Шульгина и других товарищей.
Как говорил один из персонажей «Хождения по мукам»: «Все виновные будут расстреляны, но без генеральского издевательства».
– Но если вы настаиваете, сэр Мэнсон, я вам отвечу. Мы представляем организацию, озабоченную тем, чтобы человеческая цивилизация сохранилась. Пусть и в ее нынешнем, несовершенном виде. Нам не нужны истребительные войны между людьми. Тем более – мы не хотим отдать Землю пришельцам извне. Вам не довелось лично видеть вторжение монстров? Ваше счастье. Зато можете посмотреть на трупы. Их, наверное, уже привезли. Я распоряжусь, чтобы вам продемонстрировали.
– Я бы не хотел… Верю на слово.
– Воля ваша. Тогда мы встретимся в десять часов в приемной губернатора? Он будет достаточно подготовлен.
– Да, – пересиливая себя, кивнул адмирал.
– Очень хорошо. Надеюсь, там вы не станете задумываться о посторонних вещах…
Отдав Роулзу необходимые инструкции в свете всего сказанного и им услышанного, Кирсанов захлопнул дверцу кареты.
– Куда поедем? – спросил он Ларису. – У нас еще почти два часа.
– Можно – на берег моря. Можно – в отель. Расскажем Алексею и Сильвии, что у нас тут. Попросим совета. А ты как думаешь?
– Я думаю – к чему все это? Разве нельзя жить по-другому?
– Милый, – положила она руку в длинной перчатке ему на колено. – И жить – умереть, и не жить – умереть. Каждый выбирает по себе. Разве ты не выбрал? Как мне кажется, сюда, в Кейптаун, ты отправился добровольно. Значит, видел какой-то смысл в своей личной войне с англичанами?
– Видеть-то видел. Только с той поры кое-что поменялось. И вокруг, и во мне самом…
– С момента появления монстров?
– Наверное, да. После этого я живу и действую, словно по инерции.
– Они так тебя напугали?
– Не то слово. Напугать меня чем-нибудь достаточно трудно. И ты, и все остальные имели время убедиться. Но теперь все перешло в какую-то другую плоскость. Я настраивался на классическую войну с известными целями. Мы их почти достигли. Судя по действиям Басманова на фронте и наших здесь, Кейптаун действительно может быть взят в ближайшие дни… Вместо этого начались очередные дипломатические игры. Кто-то где-то взял курс на перемирие. Зачем? Мне это напоминает остановку наступления немцев на Дюнкерк. Что за выгода – позволить англичанам сохранить колонию и армию? В расчете использовать их в качестве ударной силы в случае нового нападения монстров и их хозяев?
– И это тоже. Если здесь появятся десятки или сотни тысяч гораздо лучше подготовленных к войне существ, нам выгоднее противопоставить им современную армию и флот, нежели разрозненные отряды буров, против таких чудовищ практически бессильных. Они разбегутся и будут переловлены поодиночке… Лучше сохранить здесь человеческий плацдарм, пусть он по-прежнему будет называться Капской колонией, нежели отдать всю Африку дуггурам.
Кирсанов покривился:
– Очень может быть, что в твоих словах есть логика. Только я не готов ее принять… Людям не нужно больше связываться с дуггурами и всякой другой нечистью. Нам лучше уйти.
– Это очень плохо, – не глядя на Павла, сказала Лариса. – Это сейчас творится почти со всеми. Все вдруг теряют интерес к жизни и к своему делу. Вот и тебя коснулось. Ты разочарован, без всяких объективных причин. Так бывает в отношениях женщин и мужчин. Вчера все было великолепно, а сегодня смотришь – и что я в нем находила? Скучный, неприятный тип, каждое слово и каждый жест раздражает… Похоже?
Кирсанов молча кивнул.
– И что же это такое? Тотальная психическая атака? Артподготовка перед новым наступлением? Было, приходилось видеть последствия, – она усмехнулась. – Сейчас немного по-другому, но что мы знаем об их возможностях? А результат налицо. Буры разбегаются, английские солдаты сдаются в плен, адмирал уж очень легко купился на нашу игру. Ему бы открыто радоваться своему новому положению или послать нас ко всем чертям, как офицеру полагается, а он – ни рыба ни мясо. Теперь вот и ты!
– На тебя почему-то не подействовало, – с сомнением ответил Кирсанов. – На Басманова и его офицеров – тоже.
– У меня – иммунитет. Уж как возле пещеры ломали, а не получилось. А у тебя, наверное, слишком тонкая душевная организация. Как и у наших ребят. Психика в целом держится, с эмоциональной сферой хуже. Я за всеми наблюдала, симптомы одинаковые. Словно в игрушке завод кончается. Еще подпрыгивает, но нет былой прыткости…
– И что же дальше будет?
– Увидим. А сегодня надо жить и исполнять свои обязанности.
Лариса была права. На Басманова и его офицеров, прошедших несколько кругов ада, тяжелая, сгущающаяся, как перед страшной грозой, психическая атмосфера вроде бы не действовала. А если и действовала, то не в том направлении. Они привыкли воевать с кем угодно, не задумываясь о шансах на победу. Пока ты в строю, в руках у тебя оружие, остается хоть какой-нибудь смысл в борьбе – ты не побежден.
Сейчас у Михаила все получалось. Он выигрывал на этом поле. Как когда-то говорил ему Шульгин: «Если ты отчетливо представляешь цель, готов ее добиваться, не задумываясь о достижимости, визуализируя результат, все будет так, как надо».
Англичане сдали свою «Каховку», даже не попытавшись ее защитить. Не то что красные.[82] Остальное – не его дело. Прикажут – возьмет Кейптаун. Нет – займется чем-нибудь другим. В две тысячи пятьдесят шестой год съездить было бы интересно. Глядишь, там тоже могут «случиться обстоятельства».
Полковник Вудгард после проведенной с ним «товарищеской беседы» согласился с доводами Басманова и Сугорина. Осознание того, что взвод этого противника способен, даже не убивая, принудить к сдаче батальон, весьма способствовал здравомыслию. Несмотря на то, что вполне дружелюбно разговаривавшие с ним русские офицеры деликатно уклонились от ответов на более чем естественные вопросы. Например – откуда у них такое оружие и где они научились так воевать?
– Неужели это, по-вашему, трудно? – с намеком на издевку ответил Сугорин, которого англичанин воспринимал как более заслуживающего внимания собеседника, нежели его напарника, непозволительно молодого. – Если ваши подчиненные не умеют исполнить поставленную перед ними задачу, какова цена вам как командиру?
После этого Вудгард предпочел затронутую тему не развивать.
Переговоры по прямому телеграфному проводу[83] с главкомом состоялись. Редверс Буллер, ошеломленный тем, что выстукивал аппарат на узкой бумажной ленте, обрушил на своего полковника серию достаточно бессвязных и бессмысленных в сложившейся обстановке угроз. Басманову пришлось самому диктовать телеграфисту ответы, безусловно, приведшие генерала в еще большее замешательство. Они были дерзкими, с точки зрения субординации, и в то же время безукоризненно логичными.
«Вы, достопочтенный сэр, не озаботились обеспечением стратегически важного направления достаточными силами зпт резервами зпт не довели до моего сведения информацию о численности и возможных планах противника зпт не отдали приказа об организации мобильной обороны на заранее подготовленных рубежах тчк Фактически бросили вверенную мне бригаду на произвол судьбы тчк Я счел себя вправе руководствоваться буквой устава тчк Прошу довести предложения бурского командования до сведения губернатора и сообщить ответ тчк В случае неполучения такового до шестнадцати часов противник продолжит наступление на всех фронтах тчк Вудгард».
– Моя карьера кончена, – вздохнул полковник, пропустив между пальцами телеграфную ленту.
Басманов протянул ему портсигар:
– Не стоит драматизировать. Вы здесь воюете без цели и морального оправдания, а в таких условиях послать на заведомый убой тысячу с лишним человек гораздо большее преступление, чем почетная капитуляция. Да и вы сами при здравом размышлении поймете, что карьера и смерть – все-таки категории из разных смысловых рядов.
– Я это и так понимаю. Никогда не видел смысла в войне с бурами.
Басманов, вспомнив все прочитанные им книги (особенно по истории Второй мировой, которая его очень увлекала), подумал, что ни один из проигравших агрессивную войну и сдавшихся полководцев не писал в мемуарах, что по-прежнему считает свое дело правым. Хотя бы тот же Паулюс.
– Так это очень хорошо, – сказал Михаил. – Когда начнут судить организаторов, вы сможете выступить на стороне обвинения. Очень выигрышная позиция.
– Тем более – совсем неизвестно, чем все кончится, – добавил вечный скептик Сугорин.
Как в воду смотрел Валерий Евгеньевич.
Едва аппарат, по которому только что закончили говорить с Кейптауном, смолк, застрекотал другой, подключенный к линии на Тоусрифир и дальше, до Виктория-Уэст.
Оставленный для присмотра за станцией и полупленными-полусоюзными англичанами поручик Лучников докладывал, что обстановка на его участке непонятным образом изменилась. С севера надвигаются черные грозовые тучи, захватывающие горизонт на всем протяжении. Это может означать приближение небывалого по силе урагана, переждать который в нескольких каменных строениях скорее всего удастся. Животные, включая лошадей, ведут себя очень беспокойно, что бывает в случае грядущего землетрясения и других катаклизмов. Люди, за исключением офицеров взвода, тоже нервничают. По этой причине поручик привел вверенное ему подразделение в полную боеготовность. Что гораздо хуже, телеграфная связь по северному направлению полностью прервана. Вследствие чего требуется указание – направить ли дрезину с несколькими бойцами на разведку или оставаться на месте, с правом действовать по обстановке?
– Он, наверное, в университете учился? – спросил Сугорин, дочитав текст на ленте. – Многословен, но четок в изложении фактов.
Басманов, как Николай Второй, знал всех рейнджеров первого призыва в лицо и по анкетным данным.
– Так точно, учился. Три курса Петровско-Разумовской сельскохозяйственной академии, агрономический факультет. В шестнадцатом году – вольноопределяющийся, через три месяца – прапорщик, в восемнадцатом – подпоручик, в двадцатом – поручик. После окончания войны из армии уволился. Работал по специальности в Никитском ботаническом саду. По моему приглашению вернулся в строй. Как и вы, Валерий Евгеньевич…
Что-то, наверное, в оценке Лучникова полковником Михаила задело. Но куда сильнее его озаботило другое.
– Передавай, – приказал он телеграфисту. – Немедленно, повторяю – немедленно раздать оружие англичанам, использовать для усиления обороны. Гражданское население посадить в наличный подвижной состав, отправить на Вустер. Лично вам, оставив достаточные для собственной срочной эвакуации транспортные средства, наблюдать за обстановкой, в полной готовности…
– К чему? – отбил аппарат.
– Ко всему, – кроша табак из слишком сильно разминаемой папиросы, ответил Басманов. – От обычного дождя и ветра найдете где спрятаться. Предполагаю возможность нового наступления известного противника. В течение получаса выезжаю в ваше расположение. Если что-то начнется до моего прибытия, ориентируйтесь по обстановке. При явном превосходстве атакующих отрывайтесь на полной скорости, обеспечив необходимое тыловое прикрытие. Геройствовать не нужно. Как понял?
– Хорошо понял, господин полковник…
– Жди. Конец связи.
– И что, Михаил Федорович, вы сейчас подразумевали? – спросил Сугорин, по штабной привычке пряча телеграфную ленту в полевую сумку. Как документ.
– Не более того, что вы сами слышали. Я просто очень опасаюсь, – честно ответил Басманов, – что после того, как мы отразили первое вторжение монстров, оно может повториться десятикратно большими силами. Этими же монстрами или чем-то другим. Как на Валгалле, где Ненадо с Оноли снова погеройствовали. Но это, пожалуй, вряд ли – «медузами» бы они у нас в глубоком тылу высадились… В самом Кейптауне.
– При условии, если подобная акция соответствует их концепции войны, – скептически усмехнулся Сугорин.
– Согласен. Но их концепции нам неизвестны. Потому – исходим из собственных. В любом непонятном явлении, даже природном, предпочитаю подозревать самое худшее. Если очередная армада монстров атакует Таусрифир, своих бойцов на убой оставлять не намерен. Для чего и еду. Поручик из принципа или из зависти к лаврам Оноли может упереться и стать насмерть. Я этого не допущу. Или вовремя отступим вдоль «железки», или сообразим фланговый маневр. Как получится. Но живыми вернемся обязательно, сегодня, или… Попозже.
Басманов машинально коснулся гомеостата на правом запястье. После боя с монстрами он предпочитал с ним не расставаться. Не потому, что опасался за свою жизнь, просто сообразил – поймает шальную (а то и специально направленную) пулю, тут и всему делу конец. И волшебное устройство, способное заменить целый медсанбат, тоже пропадет. Его ведь товарищи под честное слово доверили, с возвратом.
– Допустим, ничего не случится, кроме урагана с тропическим ливнем. Речки разольются, дорогу смоет. Пешком добираться будем…
– Не имею возражений, – кивнул полковник. Что он думал на самом деле, осталось неизвестным. В его мемуары, по крайней мере, этот эпизод не вошел.
– Тогда я попрошу и вас немедленно озаботиться обороной Вустера. Считаем, – он посмотрел на часы, – до Тоусрифира девяносто пять километров. Я смогу там быть через три часа, если выеду немедленно. При самом катастрофическом развитии обстановки противник доберется сюда через десять. Если нас собьют с позиций и устремятся в прорыв полным аллюром. Поездами вряд ли воспользуются. Из этого и будем исходить. Конечно, хоть раз я с вами по радио связаться сумею… Но если вдруг… Начинайте прямо сейчас занимать позиции по северному фасу станции. Англичанам оружие пока не выдавайте, выдайте лопаты, пусть поправят те окопы, что есть, начинают рыть новые, на фланкирующих блокгаузы высотах. Всю артиллерию подготовить к работе на прямой наводке по северному берегу. Да, вот еще что! Распорядитесь мост заминировать. На всякий случай.
– Да что вы себе такое вообразили, Михаил Федорович?
– Читал я в одной книжке – если почуете запах серы, начинайте производство святой воды в промышленных количествах.
– Вы – почувствовали?
– К глубокому сожалению – да!
Поручик Лучников стоял рядом с английским лейтенантом Фицрой-Хартом возле мансардного окна по-настоящему крепкого трехэтажного здания на самом краю городка, в полуквартале от вокзала. Этот дом, сложенный из блоков тесаного камня в ярд длиной и по половине ярда в ширину и высоту, на хорошем известковом растворе, наверняка выдержал бы не только торнадо любой силы, но и артиллерийский обстрел из полевых орудий.
Только сейчас речь шла не об этом.
Лучников в академии изучал метеорологию, да и в обычной фронтовой жизни повидал немало. То, что он видел, не соотносилось ни с чем.
Примерно в двух километрах севернее страшные сами по себе тучи несли перед собой нечто сине-черное, больше всего похожее на колеблющийся театральный занавес. Так мог бы выглядеть фронт сильнейшего тропического ливня, но двигался он удивительно медленно, никак не со скоростью урагана или штормового ветра.
Английский лейтенант, которому был возвращен револьвер и бинокль, покосился на своего победителя, или, теперь, боевого товарища – не разберешь.
– У вас есть соображения по этому… поводу?
– Нет. Все определяется одним словом – «хреново», так вы русского не знаете и не способны оценить… Мой командир приказал поручить вам эвакуацию местного населения. А следом и самим сматываться… Чтобы под ногами не путались.
– А если я предпочту остаться? Мне мои командиры ничего такого не приказывали. И нужды в эвакуации жителей пока не вижу. Ну гроза, ну ураган. Они здесь сто лет живут, и ничего, как видите.
– Не пришлось тебе ту орду горилл видеть, – снисходительно сказал поручик.
– Вы же видели и, кажется, живы. Чем я хуже?
Лучников первый раз посмотрел на Фицроя с уважением. Однако спросил:
– А зачем тебе? Мы-то в любом случае выкрутимся, вы – сомневаюсь.
Так оно, в принципе, и было. Взвод Лучникова, великолепно подготовленный, вооруженный и экипированный, готов был и к бою, и к отступлению, «зная свой маневр». Сотня английских солдат, хоть с винтовками, хоть без, при столкновении с неизвестным шансов не имела. Если это, конечно, не банальный ураган. Смешно будет, если действительно всего лишь ураган…
– Я сейчас пойду на берег, посмотрю, что там и как. Ты займись транспортом. Вытяни эшелон за выходной семафор. Начинай посадку гражданских, кого сумеешь. Действуй жестко, но на уговоры несогласных время не трать. С тобой пойдут двое моих. Один паровоз с платформой поставьте замыкающим. Для нас. Все понятно?
– Не все! Я прикажу, солдаты и сержанты справятся. А я с вами. Здесь наша территория, я – старший по команде…
Дискуссия, готовая вспыхнуть и не сулившая англичанину ничего хорошего, завершилась по не зависящим от сторон причинам.
В ста метрах от берега речки, большую часть года пересыхающей, но сейчас, по случаю весны, довольно полноводной, черная завеса вскинулась вверх, опять как тот же театральный занавес. Почему это случилось перед рекой, а не за ней, спросить было не у кого.
Фронтом шириной не менее километра к мосту, всего лишь одноколейному, но очень длинному, перекрывающему трехсотметровую пойму безымянной речки, хлынули тысячи омерзительного вида существ. Не гориллоподобные монстры, не гуманоиды прочих видов, а исключительно инсектоиды.
Поручик не имел возможности раньше познакомиться с подобными организмами, успешно уничтоженными его товарищами на Валгалле, где он тоже не был. Так что ему оставалось (бы) только позавидовать Оноли, Ненадо и прочим, целой ротой воевавшим при мощной технической, а также и идеологической поддержке знающих людей.
А он здесь сам-один, командир вроде бы едет, чтобы принять руководство, так когда приедет? Едва ли успеет. У поручика в распоряжении, кроме автоматов и пистолетов, всего три пулемета, два «РПГ-9», по четыре выстрела на ствол. Ну и вот эти несчастные англичане с винтовками и двумя пулеметами «максим» в блокгаузе.
Одно хорошо, сама по себе речка не широкая, но бурная, весело несущая мутные от глины воды в сторону океана. И с заболоченными, покрытыми многометровыми наслоениями вязкого ила берегами. Когда наступит лето, он высохнет и полетит, гонимый ветром. Но сейчас разве что слоны смогут форсировать этот зыбучий кисель, да и то – как повезет. Гигантские насекомые на своих тонких когтистых конечностях завязнут точно.
Предмостное укрепление, занятое всего лишь одним отделением рейнджеров, англичане построили на южном берегу весьма грамотно. Несколько соединенных ходами сообщения окопов, брустверы обложены мешками с песком, хорошие сектора обстрела.
Пока хватит патронов, узкая полоска моста почти непреодолима. Пешеходный настил, всего в две доски, идет вдоль правого края, огороженный тонким стальным леером, рельсы лежат только на шпалах, между ними – пустота. Не разбежишься.
Командир отделения заранее, до появления инсектоидов, руководствуясь боевым опытом, правильно сообразил, велел бойцам натаскать кучу хвороста и всякого горючего мусора к середине моста. И сейчас они уже запалили костер. Слабенькая, но все же преграда. Доски сухие, даст бог, заполыхают, а там и пропитанные смолой шпалы займутся… Керосину бы бочку в огонь плеснуть.
Даже для бог знает чего только не повидавшего поручика зрелище было страшное. Особенно – в бинокль. Что же говорить об англичанине! Десятикратная оптика уж очень приближала. И многочисленные фасеточные глаза тварей можно было различить, и мерзко шевелящиеся серповидные жвала, зазубренные вдобавок. Биологии Лучникова учили хорошо. На двух первых курсах все, что касалось беспозвоночных, он освоил и под микроскопом, и на планшетах, и в полевых поездках.
Так ведь одно дело – тарантул, пойманный в норке на приклеенный к нитке кусочек смолы, неприятный на вид, но безопасный. Совсем другое – он же, увеличенный до размеров коровы. Да не один, в составе дивизии (если брать по численности атакующих особей), при том, что стайность подобным видам не свойственна. И еще – поручик великолепно знал, что беспозвоночные в силу устройства их дыхательной системы не могут размером превышать ну хотя бы паука-птицееда. В мезозойскую эру, кажется, существовали гигантские стрекозы, по метру и больше, но тогда, говорят, содержание атмосферного кислорода было совсем другое…
Из левого окопа глухо (накатившийся влажный туман гасил звук) застучал пулемет. Короткими очередями. Поручик видел, как эффектно лопаются хитиновые мешки от попадания бронебойно-зажигательных пуль. Первые ряды инсектоидов, кажется, приостановились. Десяток-другой паукообразных помельче забегали вдоль берега, словно принюхиваясь. Вернулись обратно. Неужели эти чудища боятся воды?
Хорошо, если так. Два пулемета, четыре человека при них, три автоматчика. Много ручных гранат. Сколько-нибудь продержатся.
– Ты, бегом! – крикнул он остолбеневшему от жуткого зрелища Фицрою. – Дождался? Выгоняй поезда на линию! Загружайся, и вперед, по готовности. Мы постоим и оторвемся. Кто останется…
– Я вас поддержу, – с искривленным лицом ответил лейтенант, дергая застежку кобуры.
– Чем, дурак, чем? – сильно толкнул его в плечо поручик. – Увози людей! Мы постреляем, и за вами. Сейчас главное мост взорвать, понял? Я и займусь! А ты бегом, рысью, а то застрелю, к такой-то матери, – Лучников вскинул «АКМС». – Бегом!!! Чтоб дорога работала!
Лейтенант послушался, слишком уж яростная гримаса перекашивала лицо поручика, и невыносимо было смотреть на армады тарантулов, скорпионов, сольпуг и тяжелобронированных жуков-рогачей, несколькими колоннами пытающихся прорваться к узкому входу. Они явно мешали друг другу, толкались боками, моментами даже вступали в короткие схватки. Размахивая клешнями, хвостовыми крючками, прочими конечностями.
Совсем неподходящий момент, но поручик хрипло рассмеялся. «У них что, тоже – первому орден?!»
Одновременно он лихорадочно прикидывал: а чем бы этот проклятый мост взорвать? Во всем взводе гранаты собрать, ну и что? Все сто штук «РГ» и «Ф-1» в кучу свалить – и то не хватит. Пролет железный, клепаный. А тола нет, ни единой шашки.
Но не бывает же безвыходных положений?
Он кинулся вслед за англичанином. Догнал, схватил за портупею.
– Стой, подожди. Я придумал. Ты здесь все знаешь. На складах боеприпасы есть?
Фицрой-Харт сообразил сразу.
– Да сколько хочешь. На всю армию запасали. Склады нам ни к чему, не успеем. На наше счастье, эшелон стоит, не разгруженный. Три вагона снарядов, ружейные патроны, сигнальные ракеты… На ветке «С», совсем рядом, да вон они… Хотели на север отправить, не успели.
Здесь офицеры почти равного чина понимали друг друга свободно.
– А подорвать чем? Соломой обложить и поджечь? Может, керосин есть? Цистерну бы!
Фицрой улыбнулся. Теперь он владел ситуацией.
– Есть чем. Полвагона динамита в фунтовых шашках и куча мотков детонирующего шнура. Ойтландеры заказали, давно, еще до войны. Шурфы бить.
– Ох ты! – задохнулся от восторга Лучников. – Да мы же сейчас… Что ты раньше молчал?
– А кто меня спрашивал? – вполне логично ответил Фицрой.
– Килограмм сто сгрузи, нам еще пригодится, остальное – туда…
Он послал второе отделение с последним пулеметом и РПГ к мосту, с собой оставил пятерых рейнджеров, лучше всех знающих саперное дело.
Англичане облепили вагоны и принялись их раскачивать, упираясь руками, плечами, используя рычаги из ломов и брусьев. Дружно, по команде ухали, ругались по-своему. «Дубинушки» только не хватало. Работать командой они умели, ничего не скажешь. Особенно, когда близкая смерть поторапливает.
Двадцатитонную теплушку стронуть с места тяжело, а потом, в полном соответствии с законами Ньютона, она катится почти сама. Остановить будет куда труднее.
Пока вагоны прошли стрелку главного хода, Лучников, отличившийся при разминировании состава с колчаковским золотом,[84] вместе с товарищами занимался тем же самым, но наоборот.
Это ведь дело тонкое, абы как не делается. Не хватит детонирующего материала – раскидает по округе снаряды, и все. Поэтому рассовали между снарядными и ракетными ящиками пакеты динамитных шашек по десять-двадцать фунтов густо, с расчетом и пониманием, где нужно – использовали пироксилиновые шнуры. Специально поставленный офицер отмерял и резал бикфорд, кусками по метру каждый. На сто секунд горения. Тот же динамит навалом грузили на тормозные площадки. Здесь обходились без запалов. И так сработает.
Со стороны реки накатывались волны почти парализующего страха. Сами по себе инсектоиды его генерировали или какое-то специальное оборудование – не имеет значения. В бою всегда страшно, особенно, если делом не занят. А если стреляешь или снаряды к пушкам подносишь, вроде и ничего, терпеть можно.
Пулеметы теперь били уже без пауз, но по очереди. Один смолкает, чтобы сменить ствол или ленту, вступает второй.
Кое-кто из англичан все-таки побежал, не выдержав. Не беда, на станции увидят паровозы, опомнятся сами. Или сержанты в ум приведут.
Среди мирного населения тоже вспыхнула паника. Люди с криками мчались по улицам, таща кто детей, кто наскоро прихваченное имущество. Хорошо, что всего населения – едва двести душ.
– Вагон с остальной взрывчаткой цепляем? – спросил лейтенант, успевший перемазаться в грязи и масле почти до неузнаваемости. – Там еще тонн пять…
– Оставим здесь. На всякий случай.
– А я бы сразу. Другого случая может и не быть.
– Ну давай…
Путь к мосту был проложен в глубокой выемке, прорезающей береговой откос, но уклон все равно был достаточно крутым. Идущие с севера поезда преодолевали его с трудом. Вагоны остановили ручным винтовым тормозом на самом краю спуска.
Лучников сбежал пониже, присел за бруствером отсечной позиции, свистком подал заставе команду на отход. Пулеметчики успели навалить гору изорванных пулями хитиновых панцирей в узком пространстве между фермами первого пролета, и тем инсектоидам, что напирали сзади, приходилось карабкаться по трупам, проваливаясь и соскальзывая. Это замедляло движение чудовищного потока, все еще не преодолевшего сопряжения моста с берегом. Поручик со страхом представил, что они, если догадаются, могут сейчас кинуться вéрхом, по фермам и балкам, минуя неудобные шпалы и простреливаемое пространство вдоль рельсов. Тогда – конец.
– Гранатами – огонь! – закричал он.
Фугасные гранаты «РПГ» легли в самый центр шевелящейся, щелкающей клешнями и хелицерами кучи. Фонтаном полетели ошметки, обломки и обрывки. Минут пять у членистоногих уйдет, чтобы из этой каши выбраться и перегруппироваться.
Офицеры, пригибаясь, кое-где помогая себе руками, бежали, карабкались вверх по склону. Слава богу, пока все живые.
– Давай! – скомандовал поручик.
Рейнджеры подожгли шнуры. И они, и англичане разом уперлись в борта и подножки. Тут-то проще, под уклон. Только импульс дать. Медленно-медленно колеса сделали первые обороты, а потом покатились, все быстрее.
– Ноль-раз, ноль-два… – отсчитывал вслух Лучников. Рассчитал он довольно точно. Бикфорды должны были гореть сто секунд. Как раз хватит, чтобы поезд-брандер доехал до места. А там его гора мертвых и живых инсектоидов обязательно притормозит.
– Ложись! – во всю силу командирского голоса закричал он, когда набравшие приличную скорость вагоны миновали въезд на мост. – Ложись, в ямы, за укрытия…
Большинство и так уже пряталось в складках местности и за гребнем высотки. Поручик обращался к тем, кто, задыхаясь, никак не мог достичь вершины, таща пулеметы и остаток патронных коробок. И сам распластался вдоль дренажной канавы, как учили, ногами в сторону взрыва.
Тут и ударило!
Шестьдесят тонн боеприпасов и десять тонн динамита рванули почти как тактический ядерный заряд. Осколки успевших взорваться снарядов, целые, не взорвавшиеся сразу, но с горящим порохом в гильзах, сотни тысяч винтовочных патронов, в ящиках и россыпью, свистящие ракеты всех цветов, куски рельсов, вагонные колесные пары разлетались на километр и больше.
Северная половина моста просто испарилась, от южной осталась исковерканная ферма, воткнувшаяся в илистое дно реки и вывернувшая наружу вмурованные в береговой бетон концы балок.
Контуженный Лучников встал, его пошатывало, голова гудела, будто по каске ударили кувалдой. Видел он разные взрывы, но о подобном даже не подозревал.
– Все целые? – спросил он, не слыша своего голоса.
Оказалось – не все. За полкилометра ударная волна и горячее железо достали трех офицеров и четверых англичан. Им наскоро оказывали первую помощь. Только одному британцу, самому любопытному, наверное, захотевшему посмотреть, что и как будет, снесло верхнюю половину туловища.
Зато «армию вторжения» просто сдуло с лица земли, на которую ее так опрометчиво послали хозяева.
Это нужно было видеть. Берег, на котором оборонялись русские и англичане, возвышался над противоположным метров на сто, и этот откос отразил значительную часть энергии взрыва. Вдобавок к первой, прямой волне.
Если к мосту рвались миллионы инсектоидов, так тех, что не сгорели и не распылились взрывом, унесло в сторону пустыни Калахари. Как саранчу порывом урагана.
– Получилось, друг, получилось! – как сквозь ватные заглушки в ушах разобрал Лучников голос Фицроя. – Но что это было? Вы что-нибудь понимаете?
– Чуть больше, чем ты…
Один из офицеров, с ног до головы заляпанный грязью, едва глаза и зубы видны, сунул поручику зажженную папиросу, другой протянул фляжку.
Он глотнул, передал англичанину.
– Поехали отсюда. Свое дело мы сделали, а там пусть начальство разбирается…
Инсектоиды исчезли, если сколько-то их уцелело на той стороне, опасности они больше не представляли, зоологического интереса – тем более.
Зато черные тучи никуда не делись, они словно ждали своего часа. Едва вчерашние враги, а ныне товарищи по оружию добежали до вагонов, грозовой фронт пересек условную границу реки. Под вспышки молний и непрерывные раскаты грома на землю обрушился невероятной силы ливень. Но это было уже почти безразлично пережившим страшный бой людям.
Есть крыша над головой, стекла целы, а на дорогу пусть машинисты смотрят.
Басманов совсем немного не успел к побоищу, его блиндированный поезд встретил эшелон Лучникова в пяти километрах от станции.
…Теперь в Вустере и Кейптауне царило совсем другое настроение. Английские власти окончательно поверили в существующую и вполне реальную угрозу, на фоне которой сама идея войны с бурами утратила смысл.
Рациональный девятнадцатый век приучил людей к мысли, что мир познаваем и любые случающиеся в нем события имеют научное объяснение. А наука, в свою очередь, способна найти ответы на любые вопросы.
Вброшенная Берестиным идея о наличии в дебрях Африки «затерянных миров» вернулась в Кейптаун уже в виде достоверной теории, освященной авторитетом больших ученых. Оставалось только разыскать и предъявить публике первооткрывателя, профессора Челленджера. Или Берн-Мердоха, составившего описание космогонических представлений дагонов. На крайний случай можно использовать и Удолина. Этот, выпусти его на трибуну британского парламента, убедит в чем угодно самого Дизраэли.[85]
Практически же вопрос стоял совсем иначе. Два нашествия с севера, сначала гориллоподобных монстров, а потом инсектоидов, могли означать, что земли Оранжевой республики и Трансвааля рано или поздно будут ими захвачены, а коренное население, не способное к организованной обороне, окажется порабощенным или уничтоженным. Следовало ожидать, что в ближайшее время в колонию хлынут толпы беженцев, уже не помышляющих о войне, а только ищущих спасения.
И к этому следовало готовиться.
Оптимизм правительству и военному командованию внушало то, что и в том и в другом случае сравнительно небольшие силы состоявших на службе у буров русских добровольцев и рота англичан сумели уничтожить неизвестных науке чудовищ. Как и положено, в общем.
Штабисты, к которым присоединились Басманов с Сугориным, анализировали известные факты и намечали тактику противодействия очередному вторжению, если оно состоится.
Пятьдесят тысяч регулярных войск, артиллерия, флот в тылу подготовленных позиций – наверняка достаточно, чтобы отразить набег любого числа неведомых существ. Если их удалось отразить пулеметами и всего одной полевой батареей, что будет, если начнут стрелять десятки тяжелых корабельных и сотни скорострельных орудий?
Басманов, впрочем, этих шапкозакидательских настроений не разделял, но своими мыслями с англичанами не делился.
…Сразу после возвращения Лучникова он доложил об очередном инциденте на Валгаллу. По этому случаю Левашов открыл для него переход. О серьезных вещах лучше разговаривать в спокойной обстановке. Часа два-три по крайней мере Михаилу не нужно будет вскидываться при каждом телефонном звонке или стуке шагов вестового за дверью.
Да и вообще человек воюет третий месяц без отпуска. Надо на него посмотреть, если что – подменить на какое-то время. Не сорок первый год, на самом деле.
В отведенной ему двухкомнатной секции аггрианского учебного центра Басманов принял бодрящий водно-ионный душ, переоделся в легкий гражданский костюм, вышел на лоджию, полюбовался курортного вида зеленью вокруг. Закурил мягкую ароматную сигарету с фильтром, ощутив вдруг естественную душевную слабость. И что ему там делать, в той Африке? Сколько можно воевать непонятно за что? Точно такое чувство посетило его в конце шестнадцатого года, когда довелось на неделю с фронта попасть в Петроград.
Когда он вошел в учебный класс, где его уже ждали, Михаил старался не выдать своего настроения, но и Новиков с Шульгиным, и Ирина его почувствовали.
На большом электронном планшете Михаил изобразил картину боя, как его описал Лучников.
– Не понимаю, – сказал Новиков. – Совсем ничего не понимаю. Раньше хоть какие-то соображения в голову приходили, сейчас – ноль. Или мы имеем дело с сумасшедшими, либо с нами в поддавки играют. В чем смысл этих идиотских вторжений?
– Опять пытаешься человеческую логику использовать, – недовольно пробурчал Удолин. Не первый это у них был разговор.
– Есть у нас специалист по нечеловеческой, и что? – поддержал друга Шульгин.
– Нечеловеческих логик больше, чем населенных миров в Галактике, – усмехнулся Антон. – И это при том, что все расы, входящие в Конфедерацию, для возможности взаимодействия выработали одну, общую. На уровне правительств. Большинству рядовых граждан она так же недоступна, как эскимосу – китайские иероглифы.
– Это мы давно знаем, – прервала его Ирина.
– Ну еще бы, – приложил руку к сердцу форзейль.
Удолин придвинулся вплотную к Михаилу.
– Пусть они пока поболтают, а мы давай причастимся. Я же вижу – тебе нужно. Заходи ко мне после собрания, помедитируем. Легче станет, ручаюсь…
– Мне и так ничего, – ответил Басманов, но налитую профессором чарку принял с благодарностью.
– Давайте, братцы, в конструктивное русло, – вмешался Левашов. – Вы сейчас дружно на меня накинетесь, а я все равно скажу. Мы с Виктором несколько ночей так, тет на тет, потрепались, поверх барьеров, кое-какие взаимно интересные темы помусолили. Знаете, до чего додумались?
– А где он, кстати, отчего не с нами? – спросил Новиков.
– Вместе с некромантами экипажи «медуз» по методике Константина Васильевича на интеллектуальные составляющие раскладывает.
– Тоже интересно, – согласился Андрей. – Так о чем ты?
– Всего лишь о том, что друг наш Саша с подачи Замка не связь с Гиперсетью отключил (нет, это тоже), а, грубо говоря, графитовые стержни из реактора повыдергивал. Мы об этом, кажется, уже пробовали рассуждать, но несколько не в том ключе. Хороша там эта система была или плоха, не сильно важно. Но она была и кое-какой порядок нашего личного мироздания обеспечивала. Теперь, как выражаются в нашем родном мире двухтысячных, на смену Закону, хотя бы и воровскому, пришел беспредел.
– Ретроспективно? – с явным интересом спросил Шульгин.
– Выходит, что так. Все выявленные и освоенные нами реальности сохранились, только регулирующих правил не осталось. Вот вам и перекрытие тысяча восемьсот девяносто девятым годом тысяча девятьсот тридцать восьмого, восемьдесят четвертого, две тысячи пятого и так далее. Тысяча двести тридцать седьмой сюда же… И обратно, разумеется. Слоеный пирог, господа.
– С взбитым кремом, печенкой и луком, – согласился Шульгин. – В свое оправдание могу сказать только одно, не мною и не сейчас придуманное. Пампасы, вельд, тайга, как вам будет угодно, с дикими зверями и причудами погоды на мой вкус лучше самой благоустроенной тюрьмы с подъемом по удару молотком по рельсу и отбоем прикладом поперек спины. Если даже там прилично кормят и каждую неделю выдают свежие подштанники. Доходчиво?
– Более чем. Так с этим никто из нас никогда и не спорил. Даже Игорь с Аллой.
– А если чуть-чуть короче? – спросил Басманов, имевший полноценный голос в собрании, но не так часто его использовавший. – Меня фронт ждет.
– Подождет. Через десять минут по тамошнему времени вернешься. Если будет сочтено необходимым. Продолжай, Олег. Надо, чтобы все наконец усвоили, с чем мы имеем дело.
Сказав это, Новиков начал старательно чистить забившуюся трубку. Сам он давным-давно все понимал, последний год по крайней мере, только никогда не получалось сделать свое понимание общим достоянием. Ни на последнем сборе в Замке, ни раньше. Все время что-то мешало процессу расставления точек. Одно дело, что пятнадцать человек, полностью равноправных, в ходе свободной дискуссии просто не в состоянии не то чтобы договориться до чего-то однозначного, а и дослушать до конца чужие доводы. Единоначалие требуется, в какой угодно форме, а его нет и быть не может.
– Вот мы и получили то, что имеем. Все случилось, как в науке химия. Те процессы, которые могут протекать, – протекают. Если так называемых «дуггуров» каким-то образом сдерживали Игроки (дуггуры не вписывались в устраивающую их картину мира), теперь они получили те же возможности, что несколько раньше – мы сами. Никто ведь не станет спорить – когда мы были никем, нашим коллегам жилось намного спокойнее. – Олег изобразил нечто вроде церемонного поклона в сторону Антона и Ирины. – Потом нас выпустили, и всем стало намного хуже…
– Не всем, – снова вмешался Басманов. – Мне и половине России – гораздо лучше.
Кажется, и Ростокин кивнул, но почти незаметно для окружающих.
– Это несущественно в рамках рассматриваемого вопроса. Сейчас дуггуры ведут себя аналогичным образом. Глупо, грубо, неквалифицированно. Они учатся, вы понимаете? Получили выход на новые горизонты и увидели непостижимое, с их точки зрения. Вот и реагируют как могут. Пытаются действовать в сфере собственных представлений и обычаев… То, что мешает, подлежит уничтожению или переформатированию.
– Ну и как прикажешь нам на это реагировать? – с неприятной улыбкой спросил Шульгин, которому показалось, что Левашов снова начнет публично демонстрировать свое толстовство и призывать к этому остальных. – Они получили доступ ко всему вееру реальностей и везде стараются нас уничтожить. Мы их считаем насекомыми, но пока что дустом брызгают на нас, а мы с той или иной степенью прыткости ухитряемся прятаться под плинтусами. А посильнее брызнут, да чем-то покрепче, тогда как?
– Значит, мы должны их уничтожить раньше, – совершенно спокойно ответил Олег. – Если не найдем способа договориться. Игры кончились. Не тот случай. Агрессия идет с их стороны… Если бы мы дали хоть какой-нибудь повод…
– Уже хорошо, – облегченно вздохнул Андрей. – Помирать, так с чистой совестью. Остается договориться, что именно делать. Эвакуировать всех наших из Африки, Алексея с Сильвией из Лондона? Сосредоточиться здесь или в Новой Зеландии? Оставить все как есть, отвлекая внимание противника, а самим нанести удар в сердце, в нервный узел, в мозг?
– Это – самое правильное, – подал голос Удолин, что-то черкавший в своей ветхой записной книжке. – Иначе ничего не получится. Именно в мозг, который обязательно существует. Разрушить его или парализовать, лишить возможности выходить в иные измерения. И только после этого заняться научными исследованиями, которые обещают быть весьма интересными. А также и полезными. Вы ведь смотрите, господа, что выходит…
И он начал излагать свою теорию, достаточно непротиворечиво обобщающую все известные факты и вытекающие из них предположения.
Басманов вернулся с Валгаллы в Кейптаун, как и было обещано, через десять минут после отбытия, так что даже Сугорин ничего не заметил. Его посвежевший вид воспринял как должное. Умылся человек, побрился, одеколоном спрыснулся. Много ли тридцатилетнему мужчине нужно, чтобы взбодриться?
Пока что ничего не говоря Валерию Евгеньевичу о вновь изменившейся стратегической концепции, он полностью включился в деятельность, соответствующую его здешнему положению.
Положение, конечно, было довольно сомнительное. Во всех смыслах. Для ортодоксальных британских империалистов он оставался личностью вполне одиозной. Предводитель отряда русских добровольцев, воюющего на стороне буров и едва ли не главный виновник всех английских поражений и жертв.
То ли авантюрист, то ли действующий офицер Генерального штаба, реализующий здесь далеко идущие имперские притязания молодого (29 лет от роду) российского самодержца Николая Второго.
Он же – человек, внезапно перешедший на сторону противника под влиянием неожиданно возникшего фактора в виде нашествия наукой не объяснимых исчадий африканских дебрей.
Мыслящий аналитик не мог не соотнести феномен Басманова с не менее странным феноменом господина Сэйпира, миледи Отэм, их неожиданной дружбы с вначале опальным, а потом чудом возвысившимся адмиралом Хиллардом. И прочими загадочными событиями. Но даже самому вдумчивому человеку, не наделенному талантами Шерлока Холмса, а лучше – патера Брауна, не хватало информации, чтобы свести воедино, в рамках непротиворечивой версии все эти, по отдельности весьма любопытные факты.
Единственный человек, способный проделать нечто подобное, комиссар Роулз, вовремя был нейтрализован, и все свои построения и выводы мог теперь делать только для собственного удовольствия, без всякой надежды применить их на практике. Даже для элементарного шантажа. Но и его неординарные догадки имели бы самое отдаленное отношение к истине.
Зато Лариса и Кирсанов в предложенных обстоятельствах испытывали настоящее удовольствие. Паутина интриг, наброшенная на высший свет и руководство колонии непосредственно на месте и через Лондон, откуда до заинтересованных людей время от времени доходили телеграммы и частные письма, позволяла им дергать за нужные нити, добиваясь желаемого эффекта.
Пожалуй, в обозримой истории не было столь регулируемого негласным образом и без применения насилия общества, чем Капская колония в декабре предпоследнего года девятнадцатого века.
После уничтожения армии инсектоидов у Кирсанова как рукой сняло всю его меланхолию, он снова стал бодр, энергичен, перестал задумываться о «смысле жизни». Это окончательно, по мнению Ларисы, подтвердило ее гипотезу насчет «психической артподготовки» дуггуров. И о том, что неприятель по-прежнему во всех своих операциях действует «методом тыка», не имея единого стратегического плана и реального представления о возможностях людей.
Вместе с Басмановым они уединились в специальном кабинете для особо важных гостей в таверне Давыдова-Эльснера. Заведение процветало, особенно последнюю неделю, когда по идее Давыдова был организован весьма приличный джаз-банд из двух безработных французов и трех евреев, владеющих наряду с другими языками и русским в одесском варианте. Шлягером, исполнявшимся ежечасно, стала пресловутая «Жанетта», разученная музыкантами с голоса Никиты.
После нескольких романтических строф весьма приятная для национального самосознания постоянных клиентов кода:
А какая музыка! Контрабас, две скрипки, барабан и саксофон. Заслушаешься. Душеподъемный ритм, текст – через раз, на русском и английском.
Здесь было уютно и абсолютно безопасно даже в случае высадки десанта дуггуров прямо во дворе. Как известно, «лорду Генри», потягивавшему свое пиво за столиком рядом с лестницей на второй этаж, не сможет причинить вреда, физического или психического, ни один из ныне известных видов дуггурских боевых организмов. Он же в любом случае обеспечит хозяевам нужное время для использования блок-универсала. В качестве оружия или способа быстрой эвакуации.
– Больше всего меня занимает достаточно забавный факт, точнее – серия фактов, и все они сводятся к одному, которому я не могу найти объяснения, хотя и очень стараюсь, – сказал Кирсанов. – Все доселе зафиксированные акты агрессии осуществлялись исключительно там, где уже располагались наши готовые к отпору силы. Более того – силы пропорциональные…
– Где же пропорциональные? – удивилась Лариса. – В каждом случае у них был многократный, несоизмеримый перевес.
– С обывательской точки зрения именно так все и выглядело, – согласился Павел. – Но мы тут далеко не обыватели. По ночам я много думал, без помощи ваших компьютеров, чисто умозрительно. И у меня сложилось впечатление, что нам предложена очередная легкая партия, допустим – шахматная, Андрей Дмитриевич очень любит ссылаться как раз на эту игру. В шахматах предполагается изначальное равенство фигур и пешек. Кто как этими силами распорядится – другой вопрос. Термин легкая означает, что партнеры играют для удовольствия, а не в смысле набрать очки и рейтинги в матчах. И вот мы видим, что начиная с самого первого инцидента нападения дуггуров осуществлялись по указанному принципу. Никогда на доску не выставлялось, допустим, пять ферзей и шесть ладей. Всегда ровно столько, чтобы мы имели хорошие, но довольное равные шансы на победу. Не так? И самое главное – они появлялись тогда и там, когда и где мы были готовы «поиграть»… Ни разу не напали на англичан или буров, нигде не высадили десанта такого масштаба, чтобы с ним нельзя было справиться. Пусть с максимальным напряжением сил и способностей, но все же. И заметь, Михаил, атака всегда начиналась правильно, с фронта и с приличной дистанции. Скажи честно – ты бы удержался, сидел бы вообще тут с нами, если бы те же пять тысяч монстров или инсектоидов ударили ночью, с тыла, объявившись в ста шагах…
– Вот ты как на это смотришь, – избегнул прямого ответа Басманов, очевидно, беря тайм-аут на размышления. Вместо этого начал пересказывать резидентам то, что обсуждалось на Валгалле.
– Господин Скуратов пришел к выводу, что высший управляющий орган дуггуров, если он вообще есть, страдает, с человеческой точки зрения, глубочайшим психическим дефектом. Нечто подобное бывает с людьми, у которых повреждены связи между лобными долями и остальным мозгом. При этом теряется способность к творческому мышлению, больной не в состоянии предвидеть последствия своих поступков, сопоставлять и анализировать факты, проводить аналогии… Я не медик, воспроизвожу, как запомнил. Удолин с ним в принципе согласен, хотя имеет еще и собственные теории…
– В принципе я тоже готов согласиться с академиком, – кивнул Кирсанов. – Приходилось книжки по судебной психиатрии листать. Довольно похожая картина. Очень многое объясняет в поведении пациентов. Все их боевые операции, рассмотренные с этой точки зрения, последовательно и в совокупности, выглядят именно как судорожные метания больного разума. Пять попыток вторжения на Землю нарастающей интенсивности, но без всякого учета предыдущих уроков. Три десанта на Валгаллу – то же самое. Однако… Не стоит замыкаться на одной теории, как бы убедительно она ни выглядела.
– На Земле тоже хватало полководцев и правителей, не умевших соотносить свои действия с текущей обстановкой, – не то чтобы возражая, а просто размышляя вслух, сказал Басманов. – Немцы и Антанта три года тупо долбили позиционную оборону друг друга в одних и тех же точках, не придумав ничего, кроме постоянного наращивания численности пехоты и мощности артиллерии. А генерал Брусилов в шестнадцатом году простейшим решением – атаковать сразу на десятке направлений и стремительно усиливаться там, где наметился успех, сокрушил неприступную, куда более сильную, чем на Западном фронте у французов, оборону австрийцев в Галиции… Пожалуй, я с тобой согласен, не так все просто.
– Допускаешь, что и у них свой Брусилов найдется?
– Почему бы и нет? Кстати, твои слова наводят на мысль, что уже нашелся. Или всегда был. До сих пор ведь не выяснено, против кого они изобретали и использовали свои пулеметы… Инсектоиды точно созданы против врагов дотехнологической эры. Зато монстры с митральезами предполагают равноценного противника. А все странности – только для нас странности. С нашей закосневшей в рамках привычных стереотипов точки зрения. А если и вправду игра? Только не шахматы. Вроде того, где совсем другие принципы, а главное – цели. Поэтому вопрос об эвакуации рассматривался совершенно серьезно.
– Мне бы не хотелось просто так взять и сбежать, – сказала Лариса. Согласно парижской моде следующего сезона, которую она здесь усиленно насаждала, на ней была широкополая шляпа, украшенная голубой вуалеткой до середины лица, и длинные ажурные перчатки.
Как пошутил Басманов, увидев этот наряд: «Самое главное, Лариса Юрьевна, когда придется стрелять, противник не увидит направления вашего пронзительного взгляда».
Она шлепнула полковника веером по руке.
– Вы с дамой разговариваете, Миша, а не с киллером.
– Одно другому не мешает, – заметил Кирсанов.
– Пользуетесь, что вас больше? Пусть это остается на вашей совести, – Лариса на секунду капризно поджала губки. – Но как вы представляете себе нашу эвакуацию? Кстати, ребята, вам не надоело всю жизнь откуда-то эвакуироваться?
– Не мы первые, не мы последние, – ответил Басманов. – Если имеется выбор – лучше эвакуироваться, чем умереть у ближайшей стенки или в тюремной камере. Живой всегда что-нибудь может, мертвый – уже ничего.
– Что подтверждается опытом каждого здесь присутствующего, – резюмировал Кирсанов.
– Ну, будь по-вашему. Что ответишь на первый вопрос, Миша?
– Варианты предлагаются следующие. Немедленный, одномоментный общий отход. Как из Крыма в двадцатом в вашем варианте истории. Вызываем в условленное место Белли с «Изумрудом» и «Призрак», грузимся на них, за исключением тех бойцов, кто захочет остаться, и в открытом море Левашов открывает проход в Новую Зеландию. Все займет не больше двух суток.
– Остальных бросаем на произвол судьбы? После всего, что мы тут натворили? – изумилась Лариса.
– Что мы такого уж особенного натворили? – приподнял бровь Кирсанов. – Войну, которая должна была длиться еще два года, прекратили, считай. Буры получили Наталь. Англичан пока спасли от монстров и инсектов. Весьма оживили политическую жизнь, и здесь, и в Метрополии. Мировая геополитика получила хороший стимулирующий пинок. За что нам себя осуждать? Могло быть значительно хуже. Для всех.
– Мы уйдем, сюда явятся дуггуры, и что тогда?
– Без нас они, очень возможно, и не явятся. Что им тут делать? Если их законы и инстинкты требуют, чтобы прежде всего были уничтожены действительно вредоносные факторы, представляющие опасность для их цивилизации, то есть мы с вами, этим они и будут заниматься. А вот когда справятся, тогда, может, и займутся чем-нибудь другим, – сказал Басманов и добавил: – Это не я придумал, так на совещании высказывались.
– Не новость, – отмахнулась Лариса. – О том же самом говорили, когда в Африку сбежать решили. Как видите – не помогло. Воронка нас затягивает и затягивает, благополучных вариантов все меньше и меньше.
– Было и другое предложение, – не дал себя отвлечь бесполезной, с его точки зрения, дискуссией Михаил. – Здесь пока оставить все как есть. Если вторжений больше не будет, довести начатое до конца, дальше – по обстановке.
– До какого конца? – заинтересовался Кирсанов.
– Мира без аннексий и контрибуций, на ныне достигнутых рубежах, в политическом смысле. Дождаться, чем закончится лондонская интрига Алексея и Сильвии со сменой монарха и правительства. С учетом новых обстоятельств консолидировать власть в Капской колонии (или как там она будет называться).
– И после этого?
– Сказано же – далее по обстановке. Зачем вперед далеко заглядывать?
– Меня это гораздо больше устраивает, – сказала Лариса. – Сбежать мы всегда успеем. И вообще правильно говорила Скарлетт О’Хара: «Об этом я подумаю завтра».
– Если не сосредоточим всех своих людей в одном, надежно укрепленном месте, в полной готовности и к бою, и к эвакуации, можем и не успеть. Особенно если наши контрагенты на третий раз придумают что-нибудь оригинальное. – Кирсанов оперся щекой о кулак и изобразил задумчивость. – То есть лично мы, втроем, сбежим безусловно. Еще Давыдова с Эльснером, Сугорина, Белли постараемся захватить. Да и то не наверняка. Знаете, что при ночном налете на город крупной банды случалось? Связи нет, единого командования нет, сопротивление приобретает очаговый и мелкоочаговый характер, многие гибнут поодиночке, не зная, куда бежать и в какую сторону стрелять… – Басманову в такие переплеты попадать приходилось, и он поддержал Павла со знанием дела. – Полтысячи махновцев, помню, в Люботин ворвались, там пехотный батальон из дивизии Май-Маевского стоял и обозы. В чистом поле, скорее всего, отбились бы, а по дворам и переулкам всех, считай, постреляли и порубили…
– Это верно. Представим, что я в своих теориях не прав. И они не в го с нами играют, а наши способности к сопротивлению и стратегический потенциал вскрывают. Убедились наконец – привычные, не требующие настоящих жертв методики исчерпаны. Заодно узнали, чем мы располагаем. Ну и введут в бой такое, что и вообразить невозможно… – Кирсанов передернул плечами.
– Значит, договорились, – подвел итог Михаил. – Докладываем «наверх», что решение принято. Весь свой личный состав размещаем в пакгаузах за товарной станцией. Я уже присматривался, заборы там мощные, строения каменные. Предполье хорошо простреливается, внутренняя территория, в случае прорыва неприятеля, для обороны приспособлена почти идеально. И если англичане вдруг какую пакость задумают, вроде интернирования, трудненько им придется. Согласны?
…Чтобы не осложнять наметившегося согласия между верховными властями колонии и «волонтерами» (бурско-английские отношения временно оставляя за кадром), не привлекать излишнего внимания дуггуров, мало ли что, вдруг и у них здесь собственная разведка имеется (а почему бы и нет?), на новый опорный пункт перевели только остаток офицерского батальона, меньше сорока человек. Они должны были составить резерв на случай любого развития событий, имеющих отношение к очередному потустороннему вторжению или нет – неважно. Остальных волонтеров из этого времени, российских и иностранных, наравне с молодыми бурами, оставили в местах прежней дислокации.
Басманов без всякого удовольствия сообщил о своем решении генералу Девету. Именно ему, поскольку их связывало «войсковое братство» и «совместно пролитая кровь». С президентом Крюгером и остальными бурскими полководцами он теперь предпочитал не встречаться.
Сцена прощания вышла не очень приятной. В том смысле, что Михаилу было неприятно смотреть на недавно еще бравого и уверенного в себе, а сейчас теряющего лицо генерала, на которого совсем недавно наш полковник возлагал очень далеко идущие надежды.
Как ни дипломатничай, а если из двух сидящих лицом к лицу офицеров один… ну, не трус, а просто – не сумевший себя проявить, а второй – безусловный герой, какой может получиться разговор?
– Вы нас бросаете, Михаил! Вы переходите на сторону врага! Уж этого мы от друзей никогда не ожидали! Что угодно, только не это!
Девет кружил по небольшой комнате с земляным полом, где они встретились один на один. Сквозь косоватое окно в глинобитной стене неяркий предвечерний свет падал на деревянный стол и два трехногих табурета. Никакой другой мебели здесь не было.
– Христиан, друг мой, – Басманов старался говорить предельно мягко, сдерживая свой пресловутый «командирский голос» и желание выдать коллеге что положено попросту, известными словами. – Вы мне сейчас напоминаете одну женщину, с которой нас связывали достаточно нежные чувства. Потом она вышла замуж за другого, но при встрече во всем обвинила меня, заявив, что я был «недостаточно настойчив». С вами – та же история. Я опять виноват. Мы, русские, опять и снова виноваты! Перед всеми и за все! Как повелось! У вас, Христиан, хватит совести сказать мне в лицо, что мои солдаты плохо воевали? Что без их помощи вы выиграли бы несколько решающих сражений? Что я не говорил и вам, и Кронье, и Деларею, как следует воевать? Не будь вы столь трусливо ограниченны, мы бы сейчас пили шампанское во дворце губернатора Капской колонии и любовались океанским прибоем. Я не прав? Не мои ли бойцы, бескорыстно пришедшие вам на помощь, покоятся сейчас в могилах без памятников?
– Зачем вы так говорите, Михаил? – с надрывом ответил Девет. – Я, мы все ценим вашу помощь. Никогда не забудем погибших за нашу свободу солдат. Лично я не забуду спасших меня офицеров. Но почему же вы не хотите признать, что мы – такие, как есть? Для того, чтобы сделать из буров, хороших, но мирных людей, таких бойцов, как ваши, потребуется не одно десятилетие совсем другого образа жизни.
– Мирных? – зло рассмеялся Басманов. – Они не мирные! Если есть возможность убивать безнаказанно, они очень даже воинственные. Отчего же? Стрелять на полкилометра в беззащитных англичан и тут же сбежать, когда их пули засвистели над головой. Герои, мать вашу голландскую! И грабить умеете, как мало кто! Именно это я и признал, затевая крайне не радующий меня разговор. Вы все знаете куда лучше меня! Вы ничего не имели против, когда тысячи ваших «храбрых буров» отступали совершенно сознательно, убежденные, что сотня «этих не верующих в истинного Бога» еретиков (сам слышал слова вашего пастора, спасибо, что просто «еретики», а не «гои») прикроет их позорное бегство своими телами. Отступали, даже не предупредив тех, кто вынужден был стоять насмерть не за свои, за ваши интересы. Вы, генерал, хоть раз попытались сказать перед строем: «Солдаты! Не падет ли позор (или – проклятье Господа, как у вас принято божиться) на головы тех, кто отступит раньше, чем люди, которые приехали с другого конца света нам на помощь?!»
– Михаил, вы разрываете своими словами мое сердце! – Очень может быть, что генерал говорил искренне. Регулярное чтение Ветхого Завета вполне способно вызвать подобный эмоциональный настрой. Там вообще много ярких слов и выражений.
– Надеюсь – не окончательно. Подлечите свою сердечную мышцу. – Басманов долго ждал подходящего момента, чтобы откупорить фляжку. Правда, надеялся, что чокнутся прощальными чарками они по-мужски, без дешевого надрыва. – Раньше думать надо было, – сказал полковник. – Последний шанс был в Блюмфонтейне. Ваш президент и вы сошлись во мнении, что наша помощь и наши советы вам не нужны…
– Нет, я повторяю, вы безжалостны, Михаил! Зачем превращать легкие недоразумения в непреодолимые противоречия? Между друзьями! Ну что такого? Пусть мы, в силу характера, отказались от ваших советов, но от вашей помощи мы отказываться не хотим… Не можем…
Басманов залпом выпил чарку, со стуком поставил на стол.
– Я хочу, Христиан, чтобы мы расстались друзьями. Но то, что вы сказали сейчас… Мерзость! Это в тюрьмах есть такая поговорка…
Он как сумел перевел с русского на голландский: «Сначала съедим твое, а потом каждый свое».
Помолчал, с трудом продолжил:
– Я окончательно понял – вы никогда не воспринимали нас как полноценных союзников. До поры это скрывая, считали, что мы – ваши ландскнехты, пушечное мясо. Причем – дармовое! Наемникам нужно платить, а эти – воюют бесплатно и еще нам оружие привозят, тоже бесплатно! Где еще таких союзников найдешь? Идиотов с возвышенными мыслями! Голландцы, родные по крови, вам талера не дали! Ни полка, ни роты не прислали, с Англией, в знак протеста, дипломатических отношений даже не разорвали! Так запомните, редкого союзника вы потеряли! Ни за что, от гонора дурацкого! Что ж, теперь советы давайте друг другу… У вас достаточно любителей этого вида спорта. Имейте в виду одно – воевать против вас мы ни за что не будем. Но и за вас – как-то расхотелось… Я не могу положить моих последних бойцов в тщетной надежде воодушевить ваших личным примером. Вдобавок появились другие заботы. Зато мы оставляем вам линию фронта, наивыгоднейшую из возможных. Ее можно оборонять, можно использовать для дальнейшего наступления, как сильнейший довод в предстоящих мирных переговорах. Сумеете воспользоваться – молодцы. Нет – значит, такова воля божья.
Девет вскочил, пытаясь что-то сказать, объяснить, исправить, может быть, напоследок… Видно, басмановские слова достали до какой-то тревожной точки. Михаилу показалось, что и на колени готов упасть, компенсируя наглое поведение своих товарищей и свои собственные слова, рассчитанные совсем на других людей. Не на русских с их никому не понятными принципами…
– Бросьте, Христиан, – с кривой усмешкой отошел к окну Басманов. – Вы так ничего и не поняли. Минуту назад у вас еще был шанс сломать игру. И я бы вас понял, и поддержал. Завтра могли бы стать Спасителем Отечества и Пожизненным президентом. Но шансы уже пролетели. Мимо. Не смею вас задерживать, минхер Девет… Не вышло у вас. Не сумели. Жаль. Очень жаль. Спокойной ночи…
Басманов медленно поднес ладонь к полям шляпы.
На том и расстались.
Отряд капитана Ненадо решили пока оставить на Валгалле. Потребуется – за полчаса вернется. Только ни Басманов, ни Кирсанов не думали, что такая необходимость возникнет.
Впервые за все прошедшие годы среди рейнджеров началось нечто похожее на брожение умов в армии и на флоте перед Февральской революцией. Люди потеряли смысл службы. Ничего похожего на то настроение, которое было еще две недели назад. Довоевать, взять Кейптаун с боя, вкусить плоды победы, сулящей яркие перспективы каждому лично и заодно так называемой «мировой истории».
Сейчас – совсем не то. Сильно повлияло последнее сражение с чудовищными насекомыми, выигранное, но весьма тяжело отразившееся на психике. Очень многие решили, что в третий раз им не устоять. Да и было бы ради чего идти на корм мерзким ракоскорпионам! Что косвенно подтверждалось решением командования отступить в тыловые казармы на территории недавнего противника. Обычно солдатами передышка между боями воспринимается как праздник, но здесь это скорее выглядело как капитуляция. Или – интернирование. Тем более, что увольнения в город были крайне ограниченны. Разве что вольным строем, без оружия – в таверну к старым друзьям Давыдову и Эльснеру.
Здесь пива наливали сколько хочешь, и бесплатно, да много ли в том радости?
Разнесшийся слух о том, что большая и сильнейшая часть батальона уже покинула пределы Африки, еще подлил масла в огонь.
Басманов с Сугориным слишком поздно сообразили, что допустили принципиальную, пожалуй что непоправимую ошибку. Что им тут же подтвердил и Кирсанов, всего один вечер послушавший офицерские разговоры, почти незамеченным перемещаясь от стола к столу. Это он умел. Все его знали в лицо как своего, но почти никто не представлял фактической должности и служебного положения. При штабе состоит, ну и достаточно, чтобы рюмку опрокинуть и парой слов перекинуться.
– Плохо дело, господа, – сообщил он, пригласив полковников в свой номер, куда вскоре зашла и Лариса. – Полная деморализация. И я не вижу способа с ней бороться. На фронт они больше не пойдут. Ни на какой. Если только действительно не случится прямого нападения на наш опорный пункт. Тогда они, безусловно, устроят «последний парад». Печально, но уж очень мне все напоминает лето семнадцатого на Кавказском фронте или зиму двадцатого в Крыму. Вы строевики, а я жандарм. Какое сравнение вам больше нравится – газовая гангрена или лесной пожар?
– Павел, вы не драматизируете? – осторожно спросил Сугорин.
– Я вам не Чехов и не Станиславский. Мы совсем недавно рассуждали о глубоко теоретических проблемах, – он изобразил подобие полупоклона в сторону Басманова и Ларисы. – Я был очарован докладом Михаила Федоровича о блестящей победе при Тоусрифире, его сообщением о делах и мыслях, господствующих на Валгалле, нашими с Ларисой Юрьевной политическими успехами здесь. Поэтому… сохранил непозволительный оптимизм. Но теперь я считаю – если мы хотим сберечь для чего-то, что возможно в будущем, остатки реальной боевой силы – эвакуироваться нужно прямо сейчас. Сегодня. В крайнем случае – завтра.
– А как же… с настроениями? – спросил Сугорин. – Многие ведь высказывали желание остаться в этом мире.
– И вы в том числе, – жестко ответил Кирсанов.
– Откуда вы знаете?
– Догадываюсь. Ничего сложного. И мои верные паладины Давыдов с Эльснером об этом же задумывались. Да ради бога. Утром на разводе объявим – наша миссия закончена. Кто желает остаться здесь в качестве частных лиц – шаг вперед. Выходное пособие будет выдано немедленно. Остальные отбывают на соединение с главными силами. И все.
– Надо бы с Берестиным и Сильвией связаться, сообщить о нашем решении, – впервые не вступив в спор, сказала Лариса.
– Это – как вам будет угодно, – потер шрам на щеке Кирсанов. – Мой голос, как обычно, – совещательный. Если приняли во внимание – поступайте как знаете.
– Значит, придется признать, – с трудом заставил себя произнести эти слова Басманов, – мы с Валерием Евгеньевичем с возложенной на нас миссией не справились. Нам было позволено действовать по собственному усмотрению, в итоге кампания провалена. Мы не только не выполнили стратегическую задачу, мы довели вверенные нам войска до разложения. Что остается? В отставку подавать?
– Я, пожалуй, так и сделаю, – согласно кивнул Сугорин.
– Ну началось, – Лариса едва удержалась от нецензурщины. Наверное, шляпка с вуалью помешали, несовместимые с солдатским лексиконом. Просто закурила, чересчур резко затягиваясь. – Глядя на вас, господа офицеры, с прискорбием вынуждена признать, что своей главной цели противник добился. Деморализованы не бойцы, а вы сами. Успокойтесь. Возьмите себя в руки. Мы все через такое проходили. Вот Павел совсем недавно вдруг осознал, что потерял смысл жизни. Шульгина с Новиковым накрывали такие приступы депрессии, что впору стреляться. Теперь вот вы… А настроение и поведение офицеров – всего лишь производное от ваших настроений!
– Но позвольте, – попытался перебить ее Валерий Евгеньевич.
– Я еще не закончила, дослушайте. Ничьей вины в происходящем нет, неужели вы не понимаете? Это опять психополе. Очень может быть – остаточное некробиотическое излучение уничтоженных инсектоидов. Представьте – этакая эфирная суспензия из предсмертного страха, ненависти, отчаяния, желания отомстить миллионов неизвестно как устроенных существ пропитывает все вокруг. Как трупный запах на поле боя… Надо держаться, господа, надо держаться. Ваше решение бежать прямо сегодня считаю ошибкой. Если враг за нами наблюдает, он сразу поймет, что на сей раз его оружие подействовало. И сделает соответствующие выводы.
– Что предлагаешь ты? – спросил Кирсанов.
– Я не биолог, я историк. С этих позиций и рассуждаю. Нельзя уходить с чувством потерпевших поражение. Русская армия отступила с Бородинского поля и оставила Москву, но до сих пор большинство русских людей уверено, что Бородино было нашей победой. Что в итоге и подтвердилось. Точно так же оставили в сорок первом Одессу – непобежденными. Улавливаете, о чем я?
– Спасибо, Лариса Юрьевна, вполне, – не поднимая глаз, ответил Сугорин. – Очень возможно, что вы правы и мы стали жертвой психической отравы. Но на вас ведь она не подействовала отчего-то. Вы настолько сильнее?
Лариса рассмеялась.
– Сильнее или нет – не мне судить. А вот иммунитет наверняка лучше. Я перенесла «прививку», вроде как от оспы или желтой лихорадки. Никто, кроме меня, Андрея и Александра, «объектом воздействия» не оказывался. Били только по нам. Теперь в число целей «опознаны» и вы. Надо держаться. Бороться. Хотите, я сегодня проведу с офицерами «политбеседу»?
– «Оптимистическая трагедия», женщина-комиссар, – без иронии сказал Кирсанов. – Давай, попробуй. Это сильный ход – молодая хрупкая дама убеждает закаленных солдат сохранять мужество и верность законам чести… А я, наверное, съезжу к Хилларду, договорюсь, чтобы он не препятствовал заходу «Изумруда» в одну из бухт в полусотне миль восточнее Кейптауна. Заодно еще кое-какие моменты обсудим, на случай скорого расставания. Думаю, пора передать адмирала с рук на руки Берестину с Сильвией. Ему это наверняка понравится. Глядишь, за заслуги Первым морским лордом сделают.
Пожалуй, то, что они задумали, – попытка прорыва в самое гнездо непредставимо-чуждых обитателей параллельного мира, почти ничем, кроме общего происхождения, не связанного с этой Землей, – было самой рискованной авантюрой за всю историю «Братства».
В экзистенциальном смысле. Личный риск в счет не идет. Шульгин, к примеру, во время «Гамбита» вполне мог обычным образом влететь на мотоцикле под встречный или попутный грузовик, слишком он отчаянно нарушал правила уличного движения. Но такая опасность казалась нестоящей в сравнении с возможностью стать жертвой охотившихся за Ириной аггров. А какая, казалось бы, разница?
Любая из сотен тысяч пролетевших мимо пуль на Каховском плацдарме, в Москве, да где угодно еще, тоже воспринималась с обычной степенью фатализма. Велика ли разница – подцепить смертельную форму гепатита, поймать на голову случайно свалившийся с десятого этажа кирпич, погибнуть в авиакатастрофе или от взрыва бытового газа в соседней квартире? Как любил говорить старший брат Новикова: «Выражаясь научно – бывает».
Однако намерение взять и слетать на «медузе» в мир дуггуров изначально вызывало архетипичное отвращение. Вообразить только, что в том мире не сработает «верный АКМ», как в солдатской песне. А засадят тебя в узилище, где станут утонченными пытками добывать информацию или реконструировать в очередного полумонстра. Могут выгнать на арену Колизея, как первых христиан, – сражаться с инсектоидами, на потеху «руководящим товарищам». С другой стороны – есть ли варианты?
Сколько можно гонять нас, как затравленных борзыми волков? Отчего не сыграть мощно и окончательно? Кому-то забавно будет, кому-то – страшно. На самом деле риск следует исчислять только в процентах. В случае его необходимости и соразмерности все остальное – одинаково.
Лететь над фронтом на фанерно-полотняном «Р-5», прыгать с парашютом на треугольник партизанских костров веселее или как? В кавалерийский рейд с Доватором идти, навстречу общему потоку. Пятимиллионная Красная армия – на восток, а три тысячи конников – на запад. Без конкретной задачи. «Погромите немецкие тылы, пока сил хватит, и по возможности возвращайтесь» – вот и весь приказ. Когда вернешься – неизвестно, героем сочтут или по Особым отделам замотают. «Чего это ты, сволочь, во временно оккупированной Белоруссии делал, когда все честные бойцы Москву обороняли?» Хорошо, если эскадроном через фронт пробился, а если вдвоем-втроем, так «десятку» вполне схлопотать можно было.
– Слышь, Андрей, – спросил глубокой ночью, когда все уже спали, куря на просторной лоджии, Шульгин. – Тебе не кажется…
– Что у нас горит сажа?
– Было уже. Не повторяйся. Впрочем, если нравится, можешь и повторять. Бабель знал, о чем писать. Когда писать вообще не стоило.
– Спасибо. Наверняка ты хотел сказать, что дуггуры наносят свои удары по территориям, которые они вообразили своими. На которые мы прав не имеем. Ведь ни разу же, начиная с тридцать восьмого, они не влезли на Главную Историческую… Только на параллели, где мы вдруг появлялись…
– Имеет смысл. И в силу своих возможностей, или ума, как бы показывали, что там нам делать нечего. Слушай, а здесь что-то есть! Почему наши мыслители не просекли столь простой закономерности? Сначала мне показали монстров на «Зиме». В тридцать восьмом они на Арбате выскочили…
– Наоборот, – меланхолично поправил Андрей.
– Неважно. Суть та же. Валгалла, Земля-38 (два раза), Африка, снова Валгалла и опять Африка… Ни разу они не влезли ни в двадцатый, ни в двадцать пятый, ни в двухтысячные.
– Это ничего не доказывает. Мы, кстати, до сих пор не знаем, кто устроил заварушку в две тысячи пятом…
– Вряд ли дуггуры. Там уж больно по-человечески все происходило. Но подумать можно. Если бы только нашелся какой-нибудь способ мирно поговорить с имеющими право принимать решения. Не может быть общества, в котором отсутствует центральная власть…
– Может, – тут же возразил Новиков. – Удолин к этой мысли давно уже склоняется, только не сформулировал как следует. Колеблется между двумя вариантами. Первый – коллективно-региональный разум. Что-то вроде того, что и на Земле присутствует, пусть – в других формах. Община, средневековый цех, вече. При возникновении проблемы она решается объединением индивидуальных воль того или иного количества особей. Подчас – на интуитивном уровне. У нас доводы приводятся в вербальной форме – кто кого перекричит, и зачастую выигрывает не тот, кто рациональнее, а тот, кто эмоциональней. Затем достигается консенсус и превращается в общее дело, смысл которого неясен большинству даже непосредственных участников принятия решений.
Для следующих поколений все это приобретает уже характер некоего завета, критике не подлежащего. Вот хотя бы взять Великое переселение народов. Гунны или монголы наверняка не читали трудов Льва Гумилева, однако двигались из Зауралья и с Алтая на Венгерскую равнину, к Адриатике и Новгороду в полном соответствии с его теориями. Пассионарность, видишь ли, у них внезапно проявилась.
Ну а у дуггуров вместо крепких глоток и пассионарности – феромоны. У кого портянки крепче пахнут, тот и ведет толпу за собой.
– Идея не хуже прочих, только появления пулеметов все равно не объясняет. Ну а второй вариант?
– Программа. Та же самая Гиперсеть, просто другой Узел. Наш занимался экспериментами с индивидуальным разумом, этот – с инстинктами. Земная эволюция долго баловалась с ящерами и рептилиями, с моллюсками, якобы даже вплотную подошла к наделению их разумом. Осьминоги, например. Однако что-то не заладилось, теплокровные победили…
– У верующих – Господь экспериментировал. До этого Узла нам, конечно, не добраться, – не то в шутку, не то всерьез вздохнул Сашка. – А хочешь еще проще? Там у них имеется свой Замок. Единоутробный брат нашего. Он все и творит. И очень может быть, что находится с Арчибальдом в телепатической или какой-нибудь еще связи. Не могу сказать, сотрудничают они или воюют. А нам и так и так достается.
– Туда же и приехали, – рассмеялся Новиков. – Игрок черный, игрок белый…
– Зря смеешься. Было ведь сказано, что если игроки самоустраняются, нам играть все равно придется. Хоть на печи лежи тридцать лет и три года, хоть круглосуточно подвиги совершай. И ни одна сволочь не подсказала, каким образом это должно завершиться. Мат поставить – а как он должен выглядеть? Нужное число в «пуле» набрать? Сколько? Висты как считать будем?
– Опять мы, брат, с тобой в дебрях солипсизма… Самое время по стопке налить. За весь день так и не пришлось. Отчего ты вдруг о «сочинке» подумал? Мы, скорее, в «классику» играем. Пробьют часы полночь, тогда и начнем «горы», «пули» и «висты» считать. До тех пор играй, да не прокидывайся. Мизер, можно сказать, на руках, почти не ловленный, да только на десяти картах. А в прикупе два туза к голым восьмеркам.
– Я так соображаю, – сказал Андрей. – Перед очередной авантюрой пора бы с Георгием Михайловичем Суздалевым пообщаться. Небось заждался там, все думает, когда же Скуратов возвратится? Не прихватили ли мы его в свои тенета, как раньше Игоря?
– Едва успеет, – усмехнулся Шульгин, – папиросу выкурить, если у Антона и Олега все сойдется.
– Тогда пойдем. Попросим ребят, чтобы начали на пятьдесят шестой настраиваться. У Виктора, кажется, в смысле заявки на расчеты в своем институте все готово. А мы с тобой обращение к потомкам подготовим. Помнишь, как в комсомольские времена капсулы тем, кто будет встречать столетие Октября, закладывали?
– Еще бы не помнить. И все ж таки в этом действе что-то было. Воодушевляющее. В Идею уже не верили, а в лучшее будущее – хотелось.
Через два часа они с Сашкой составили устное послание Суздалеву, приложив к нему соответствующий видеоряд. Скуратов отчего-то волновался. Непривычно ему было, прожив в иных мирах несколько недель, вдруг снова увидеться с человеком, для которого полтора века спустя прошло лишь несколько минут.
– Может, Виктор Викторович, вернешься ты домой, да и все? – заботливо спросил Шульгин. – На новогодние празднования вполне успеешь. Психологические дуггурские задачки самостоятельно решишь, не полагаясь на сотрудников. Быстрее и лучше. А мы всегда на связи… – По его тону даже нобелизированному логику XXI века трудно было догадаться, иронизирует он или от всей души советует.
– Нет, Александр Иванович, придется вам потерпеть мое общество. Слишком вы ядовитую ауру вокруг себя распространяете. Отравляет настолько, что новогодний вечер в кругу сотрудников готов пропустить. Во избежание. Переберу немного и всех подряд начну в ваши адепты вербовать. Мало вам некромантов…
– Значит, нет у тебя дома настоящей привязанности. Если б меня этакая фемина по ту сторону вечности ждала, чтобы под елочкой, с боем курантов шампанского выпить, я непременно…
– Хочется мне надеяться, коллега, что ваша, как вы сами обозначаете – трепотня, вполне онтологична, – Скуратов, как ему казалось, поймал нужную тональность. – Пока я не добрался до самых сакральных тайн дуггуров, возвращаться неинтересно. А когда и если доберемся, я вполне смогу вернуться домой до первого боя часов на Спасской башне.
– Абсолютно правильно думаэтэ, товарищ Скуратов. Правильно рассуждаэтэ, – интонацией и жестами Сашка точно скопировал Сталина в исполнении Новикова. – Нэт такых крепостэй, которые нэ могли бы взять болшевыки, вооруженные самой пэрэдовой в мирэ тэориэй…
И снова Скуратов почувствовал, что Шульгин его переиграл. Хотя бы эмоционально. Трепотня трепотней, но ведь умным людям понятно, что за ней стоит на самом деле.
Чтобы выйти из тупика не потеряв лица, Виктор хлопнул тяжелой рукой по Сашкиному плечу.
– Когда мы сделаем, что собираемся, и вернемся в мой мир, у нас найдется время, чтобы поговорить на чисто абстрактные темы, не заботясь об их соотношении с проблемами физического выживания… Войны и мира, жизни и смерти…
– Королей и капусты, – тут же отозвался Шульгин.
– Не понял, – оторопел Скуратов.
– Да, это было очень давно. Писатель О’Генри. Можешь полистать. У нас в библиотеке. Короли к капусте не имеют никакого отношения. А книга – есть. Ладно, оставим это. Ты готов говорить с Суздалевым?
– Теперь – точно да.
– Это радует. А что мы надеемся получить из твоего института?
– Сведенные в несколько формул результаты моих и Константина Васильевича исследований психотипов всех видов оказавшихся в нашем распоряжении объектов.
– Все равно не понимаю, – признался Шульгин. – Скажи проще – что мы получим в итоге?
– Ты сказки «Тыcячи и одной ночи» читал? – с долей понятной снисходительности спросил Скуратов.
– Читал когда-то. Не подряд. Скучным показалось. Восемь томов. Выбирал кое-какие эпизоды…
– И этого достаточно. Насчет «Сезам, открой дверь» помнишь?
– Так вот, если то, что мы подразумеваем, удастся правильно формализировать, мы станем хозяевами любых подвидов всех категорий дуггуров…
– Прямо-таки хозяевами? С трудом верится.
– Ну, тут ты в общем прав. Чтобы руководить столь разнообразно специализированными организмами по всему спектру их врожденных и запрограммированных функций, нам нужно знать не меньше, чем «высшие». Но уж в пределах блокирования ведущих инстинктов и отмены ранее полученных команд мы должны будем справиться.
– И то неплохо. Не зря хлеб едите. В критические моменты хоть время выиграем, внеся смуту и беспорядок в ряды врага. Так что, начинаем?
Левашов подтвердил: связь с компьютером, находящимся в квартире Ростокина, установлена. Можно включать.
Скуратов, опять отчего-то вздохнув, пересел в кресло перед терминалом.
На экране появился сначала инженер, приглашенный для изучения его машины, потом, когда он отступил в сторону, и сам Суздалев.
– День добрый, – поприветствовал его Виктор. – В контрольное время я уложился, Георгий Михайлович?
Увидев генерала, академик сразу успокоился и начал говорить по делу.
Трофейная «медуза» за два дня была досконально изучена с помощью пленного экипажа, Шатт-Урха и Удолина с его компанией. Естественно, устройство двигательной установки и систем жизнеобеспечения осталось непонятным, да ими никто и не собирался заниматься всерьез. Лишь бы управлять научиться, не полагаясь на добрую волю чужаков.
Вся конструкция целиком была чисто биологическая, никаких следов металла или керамики. Только органика, зато чрезвычайно разнообразная по свойствам. Имелась и мышечная ткань, гладкая и поперечно-полосатая, и подобие хитина, не уступающего прочностью стали. Представьте себе панцирь камчатского краба, толщиной двадцать-тридцать миллиметров…
Что касается способа перемещения, пространственного и межвременного, Константин Васильевич утверждал: он является почти точным аналогом методик движения сквозь астрал, которыми пользуется он сам и особо продвинутые люди, вроде Шульгина и Новикова. А слизистая структура, плавающая в цистерне размером с ядерный реактор, вызывающая негативные эмоции даже у привычных ко многому людей, – специально выращенные конгломераты мозговых клеток, предназначенные исключительно для создания нужных флюктуаций мирового эфира.
– Это значит, оно одновременно является и оружием, которое наносило психические удары? – спросил Андрей.
– Почти наверняка. А если не именно оно, то аналогичный орган. Известны ведь на Земле гигантские головоногие, генерирующие смертельное для высокоорганизованных существ психополе…
– Это, скорее, из разряда легенд, – возразил Ростокин. – Даже самые последние исследования мирового океана ничего такого не нашли.
– Да что вы говорите? – со всей возможной язвительностью воскликнул Удолин. – Такие эти кракены дураки, чтобы позволить людишкам с их батискафами себя обнаружить или поймать. Лично мне, и большинству специалистов достаточно косвенных улик и фактов. Хотя бы феномен «Марии Селесты»…[86]
Левашов, посмотрев на эту неаппетитно функционирующую физиологию, только сплюнул и выругался. Отметив, впрочем, что если попробовать подключать к разным местам электроды, вполне можно (экспериментальным путем) наладить параллельную, не зависящую от основной, систему управления. И даже получить кое-какие, не предусмотренные конструкторами эффекты.
– Но не сейчас, конечно, – самокритично отметил он, – если б отпуск трехмесячный взять, тогда и поупражняться.
– Гораздо проще, мне кажется, – сказал Шульгин, в этих делах разбирающийся профессионально, – не «медузой» учиться управлять, а дуггурами. Чтобы они наши команды беспрекословно исполняли. Электроды куда нужно вживить… Кнут и вожжи, грубо говоря.
Палицын Федор Егорович, анатом-некромант, изъявил немедленное желание приступить к препарированию второй захваченной по методике Ростокина «медузы».
– Так это ж вам потребуется, кроме образованных ассистентов, бригада лесорубов с бензопилами, – сострил Шульгин. – Я патанатомией занимался, правда только в институте, но масштабы работы представляю. В объекте тонн сто живого веса? Равняется четырем ну оч-чень крупным китам. Помню, видел в детстве кинофильм о тружениках китобойной флотилии «Слава».
– Мы и поаккуратнее умеем, – парировал специалист. – Ножичком вокруг гиппокампа и ретикулярной формации. Остальной массив мышечной массы и нейроглии нас пока не интересует.
– Обождем немного, – охладил Сашка его пыл. – Она нам еще на ходу может понадобиться. Вы вправду подумайте над моей идеей. Слова словами, а хороший электрошок имеет бóльшее воспитательное значение. Олег с механической частью поможет, а систему и интенсивность команд с Константином Васильевичем рассчитайте.
– Надо бы с Дайяной переговорить, – продолжил мысль друга Новиков. – Те «болегенераторы», которыми нас с тобой аггры пугали, здесь очень могут пригодиться.
В «медузу» свободно мог поместиться целый стрелковый батальон. Конечно, штатов нового времени, человек триста. А уж двадцать рейнджеров, назначенных в экспедицию, не должны были испытать какого-то стеснения. Тем более, исходя из сроков транспортировки (Шатт-Урх утверждал, что «перелет» до мира дуггуров займет не больше земного часа), не требовались запасы воды и продовольствия. Воздух, пригодный для дыхания, пусть и с мерзким запахом, вырабатывался специальными органами этого квазиживого организма исправно. На «той стороне» пища для людей, судя по метаболизму Шатт-Урха и его соотечественников, найдется. Значит, брать с собой придется только сухпаек на пару суток, оружие, боеприпасы и кое-какие технические средства. Достаточные, чтобы захватить «господствующие высоты» вокруг места высадки и диктовать свои условия тем, кто окажется способен к переговорам.
Ну а не рассчитаем соотношения сил – так тому и быть! Сколько можно ощущать себя волками, вокруг которых полупьяный егерь натягивает веревку с красными флажками?
Капитан Ненадо, назначенный командиром десантной партии, долго ходил вокруг устройства-существа, пинал борта ногой, как шофер покрышку, несколько раз потрогал в разных местах штыком. Он первый сумел расстрелять такое чудовище из пулемета, теперь интересовался его защитными возможностями.
Шатт-Урх в роли всего лишь переводчика-консультанта (давно не полномочного посла) ответил равнодушно, но откровенно (на роль героя-разведчика в тылу врага, готового на смерть ради идеи, он явно не тянул): – Если систему броневой защиты оболочки включить вовремя, она выдержит воздействие любого средства, имеющегося у нас и у вас…
– Так почему же я ее в Москве разделал как бог черепаху, и потом их все до единой посбивали, или живьем захватили, как вот эту? – задохнулся от удивления капитан.
– Экипажи вовремя не получили нужных инструкций. Все «медузы» использовались в транспортном режиме.
Достойный ответ.
– Ты что мне вкручиваешь? – возмутился Ненадо. – Какой «транспортный режим», если на станции они вели с ребятами настоящий ракетный бой?
– Это действительно трудно понять человеку, особенно – вашей профессии, – вместо Шатт-Урха ответил сопровождавший его Удолин. – Подобные «существа», что саму «медузу», что ее экипаж перед выполнением очередного задания, нужно перевоспитывать. У нас, скажем, кавказская овчарка предназначена для одной конкретной функции, борзая – для другой, спаниель – для третьей. Переквалификация практически невозможна. У них транспортное «существо» можно переналадить в боевое, но требуются специальные процедуры. Сами по себе, по обстановке, они к этому неспособны. А что стреляли – так любая собака тоже умеет огрызнуться и укусить, но с разным эффектом. Вы должны это знать из собственного опыта. Если бы сюда прилетела «медуза-крейсер» или «линкор», едва ли мы имели бы сейчас возможность обсуждать этот вопрос.
Капитана многословие профессора не раздражало. Он был уверен, что ученый человек именно так и должен выражаться, не унтер же какой-нибудь, три слова с детства знающий, ими и обходящийся.
– А вот этого… эту – в боевой режим перевести можно? Нам же туда – не к теще на посиделки…
– Думать будем, – обнадежил Игната Борисовича Удолин.
– Вы уж постарайтесь, – с полным доверием попросил Ненадо. Идти за тридевять земель, в тридесятое царство и воевать, если придется, он не боялся, но хотелось – чтобы во всеоружии.
Накануне, собрав весь личный состав присутствующего на Валгалле экспедиционного отряда, Шульгин, почти так же, как много лет назад, проводил нечто вроде политинформации. Неплохая, между прочим, форма воспитательной работы, не дураки ее придумывали. Приказы приказами, а поговорить с людьми по душам, доступными словами объяснить сущность «текущего момента», смысл того, что им предстоит совершить, в чем-то успокоить, где нужно – воззвать к «высшим побуждениям» – дорогого стоит. На вопросы ответить, помимо субординации заданные, собственными сомнениями поделиться и попробовать их по-товарищески разрешить.
В идеале функции нормальных комиссаров и замполитов в том и заключались – доходчивым, до души достигающим словом, а также и личным примером убедить бойцов сделать то, что выходит за границы требований уставов. «Велика Россия, а отступать некуда», – говорил эти слова политрук Клочков, командир «28 панфиловцев», или за него пропагандисты придумали – не суть важно. Главное – и не отступили, и фраза на века сохранилась.
Каждого из присутствующих на собрании офицеров Шульгин давным-давно знал в лицо, помнил, с кем и о чем говорил на вербовочном пункте в стамбульском переулке. С многими с тех пор и словом не пришлось перекинуться, география и должностные уровни разводили, но сомнений он не испытывал ни в ком. Не все из первопоходников откликнулись на нынешний призыв, но те, кто услышал звук серебряной трубы, – вот они.
– Ничего лишнего, боевые товарищи,[87] я вам говорить не собираюсь, – начал Сашка, одетый в полевую форму ударного батальона, с почти незаметными генеральскими зигзагами на камуфляжных погонах. – Мы с вами сейчас находимся очень далеко от Родины, что моей, что вашей. Но она все равно у нас общая. Под Каховкой, Курском и Тамбовом, в Москве тысяча девятьсот двадцать четвертого и в ней же две тысячи пятого вместе за нее воевали. Рядом с далекими потомками. Теперь – сегодня. Географическая точка этого места, – он пальцем указал себе под ноги, – не имеет никакого значения. Угроза вражеского вторжения остается и продолжает нарастать. Вы все это видели в Африке, видели здесь. Страшен немец, страшны большевики, но что они в сравнении с тем, что надвигается на нас сейчас?
– Да уж это точно, – раздался чей-то голос, – с красными кое-как, но договориться можно…
– А со скорпионами – хрен! – поддержал сидевший в первом ряду Оноли.
– И я о том же. Поэтому наш замысел – проще апельсина. Пока враг не ждет – «Достанем фашистского зверя в его берлоге!», как призывали плакаты Отечественной войны. Достать и уничтожить неподдающихся, поставить на колени тех, с кем можно о чем-то разговаривать…
– Прежде всего – о безоговорочной капитуляции, – снова сказал Оноли, несколько раз смотревший гревший его душу документальный фильм о подписании Кейтелем именно этого документа в Карлсхорсте. Первую мировую до ума не довели, так Вторую правильно закончили.
– Это как получится, – кивнул Шульгин. – При любом раскладе: что жить – умереть, что не жить – умереть. Но лучше в наступательном бою и на чужой территории. Вы видели своих товарищей, а особенно – девчонок, покусанных ракопауками? А если их нахлынут миллионы? В не прикрытые войсками города? Тогда нам подписывать капитуляцию? Нет, не нам, конечно, тем, кто выживет и будет представлять хоть какую-то власть…
– Да что вы нас агитируете, Александр Иванович? – громко удивился штабс-капитан Ястребов, двоюродный брат Анны и, значит, как бы шурин Шульгина.
– Не агитирую. Смешно бы было таких, как вы, – агитировать, уговаривать. Все не в пример проще. Нас здесь – сорок три человека…
Себя Сашка посчитал в общий строй.
– Половину придется оставить на планете. Базу и девочек защищать, – он позволил себе слегка двусмысленно усмехнуться. Демонстрируя, что разница в погонах ничего не значит. Все, мол, мужики. – Никто не может поручиться, что сюда завтра не нагрянут многократно большие силы монстров и тараканов. Значит, взвод прикрытия будет сдерживать их натиск до полной эвакуации базы. Задача как бы не потруднее, чем наш разведывательный рейд. Славой посчитаемся когда-нибудь позже. Поэтому в десант пойдут двадцать человек. Командиров я сам назначу… Назначил уже, но назову позже, – поправился он. – Добровольцы есть?
– Наоборот. Только прошу, без всякого этого… Гусарства и кавалергардства. Где опаснее будет, и кто раньше «живот на алтарь» положит, только господу богу известно. Думайте строго логически. Кто как себя ощущает, кто здравомыслие имеет, относительно личных качеств и соответствия их текущей обстановке… Вы же опытные бойцы, господа. Избавьте меня хоть от этой необходимости – пальцем указывать: «ты – пойдешь, ты – останешься». Понимаете, о чем я?
Офицеры понимали, каждому приходилось оказываться в подобной ситуации. Почему лучшим моральным выходом всегда оказывалось: «На первый-второй рассчитайсь! Первая шеренга – шаг вперед!» И никаких душевных терзаний, в случае чего. Тем более, в мировую войну взводные и ротные командиры гибли быстрее, чем среднестатистический солдат. В процентном отношении.
– Вы все понимаете, товарищи. Я вас оставлю на полчаса, сами обсудите и организуйтесь. Помните мои слова двадцатого года: «Вы все друг за друга отвечаете. С выбранным вами человеком вам же и придется в разведку идти, десять верст с пулеметом на плече по песку бежать, и все тому подобное…»[88] Вернусь – доложите решение.
– Почему именно двадцать, Александр Иванович? – спросил ротмистр Барабашов, бывший покойник и отважный преследователь разгромленных монстров. Он был совершенно уверен, что в рейд «за край земли» его возьмут. И не ошибался.
– Интересный вопрос. Даже слишком, по причине бессмысленности. Ответить на него разумно я не в состоянии. Понятно, что, ничего не зная о противнике, составить расчет потребных сил и средств невозможно. Бывало, танкового корпуса не хватало (это он вспомнил о своей встрече с комиссаром Попелем),[89] бывало – роты много. Вот интуитивно и решил: пять человек – головной дозор, еще пять – передовая походная застава. Остальные – резерв главного командования. Для того, чтобы в случае общей неудачи организованно отступить, – хватит. В качестве охраны дипломатической миссии – тоже. А наступления с решительными целями мы предпринимать не собираемся на этом этапе. Доходчиво?
Возражений не поступило.
Шульгин понимал, что его предложение в меру провокационно, какие-то обиды и конфликты среди офицерского братства непременно возникнут. Но они их непременно решат. Пусть – подбрасыванием монеты на «орел и решку».
С близкими друзьями сложнее. Здесь дело не в личном героизме и желании пойти в штыковую атаку впереди цепи. Иначе все, совсем иначе.
Прежде всего решили, что женщинам в этой операции делать нечего. Естественно, с мужской точки зрения. Из всех пятерых только Лариса и Ирина могли бы принести в экспедиции реальную пользу. Но Лариса далеко, а Ирину просто необходимо оставить здесь. Только она в состоянии обеспечить взаимодействие между «Братством» и Дайяной с ее девушками.
Главное, что приведенные доводы приняла Ирина, пусть и не без сопротивления. Ей не хотелось в очередной раз отпускать на весьма рискованное дело Новикова, оставаясь в сравнительной безопасности. Как почти всякая женщина, она считала, что если будет рядом, то сумеет уберечь своего мужчину (и остальных тоже) от излишнего безрассудства. Да и ждать солдат с войны, как известно, намного мучительнее, чем разделять фронтовые тяготы и лишения вместе с ними.
Но этой стороны вопроса она как раз не касалась, упирая на то, что к подобным операциям подготовлена лучше многих. Что это вообще ее профессия, а на Валгалле и так есть кому распорядиться. Однако в конце концов Андрей нашел нужные слова.
Левашов и Воронцов сами понимали невозможность своего участия в походе, хотя Олег явно выглядел расстроенным.
– Ничего, ребята, – утешал друзей Сашка, – успеете. Я так думаю, что это у нас будет очень короткая рекогносцировка. Взглянем одним глазком, что там и как, да и обратно. Возможности «техники» проверим. Хорошо, если бы удалось через СПВ обеспечить наше постоянное сопровождение. Тогда риска вообще никакого. И ты, Ира, вместе с Дайяной по своим схемам за нами присмотрите. Это уже двухсотпроцентная гарантия…
Некоторые сомнения у Андрея с Шульгиным вызывала кандидатура Ростокина. О деловых качествах речи не было, только ведь случись что с ним, да со Скуратовым вдобавок, практически прервется только налаживающееся взаимодействие с «крепостью последней надежды», как Новиков, вспомнив Толкиена, назвал «реальность – пятьдесят шесть». Но Игоря это не убедило.
Разговор происходил в чисто мужской компании, и деликатничать не было нужды.
– Если не вернемся, нам с вами горевать по этому поводу не придется. Олег с Дмитрием при содействии Аллы как-нибудь с Суздалевым договорятся. Зато в любом другом случае трое – лучше, чем двое. Я в таких местах бывал, что и вам не снилось. Не побоялись меня почти без подготовки на полтора века в прошлое забросить, и сразу – в бой? Не подвел, кажется. Так теперь о чем рассусоливать? Или у вас какие-то особые соображения имеются?
И Новиков и Шульгин сразу поняли, о чем он думает.
Не подозревают ли друзья, что после Селигера (то есть воздействия Ловушки) его подсознание несет в себе скрытую программу, могущую сработать в самый неподходящий момент роковым для всех образом? Пришлось ведь Шульгину в монастыре его отключать и вывозить оттуда в бессознательном состоянии.
– Нет, Игорь, особых соображений у нас нет. Сказали, что думали, за кадром ничего не оставили. Решил идти – пойдем. Лишний ствол, само собой, лишним не будет. Да и за Скуратовым лично присмотришь, как телохранитель…
Кандидатуры Скуратова, Удолина и Антона обсуждать было незачем. Без них сама экспедиция не имела смысла.
Кроме Ненадо, Оноли, Барабашова и еще семнадцати офицеров в боевую группу включили андроидов «Артема» и «Аскольда», лично и весьма близко, через рамку прицела, знакомых с монстрами.
Кажется, предусмотрели все, что в человеческих силах. Если на выходе из внепространства-времени их сразу не накроют плазменным ударом, или чем-нибудь похуже, дальше они себя в обиду не дадут.
Через сутки после передачи Суздалеву памятных кристаллов на «Валгалле» включился компьютер, связанный с машиной Ростокина.
– Быстро управились, – словно бы удивился Новиков, извещенный о вызове Левашовым.
– Не знаю, сколько они управлялись. Могли и месяц. Я просто наладил программу так, чтобы сюда они вышли сегодня.
– Да понятно, понятно, это я так. По привычке. Давай, взгляни, что нам Георгий Михайлович пишет.
Суздалев последнее время чувствовал себя не очень хорошо. Мучила бессонница. Занимаясь обычными и привычными делами, он ждал ночи без всякого удовольствия. Знал, что снова придется или, лежа в постели, таращиться в потолок, по которому мелькают блики фар проезжающих по бульвару машин, или бродить по комнатам своей обширной резиденции. Вместо снотворного пить кофе, и думать, думать о вещах, совсем ему, по большому счету, ненужных. В свои семьдесят лет не отъехать ли в очень дальний монастырь, на Соловки, или в Тобольск (что еще лучше), оттуда и наблюдать, как все повернется.
Но боевой офицер постоянно брал верх над политиком и религиозным авторитетом.
Как только господин Поволоцкий из института Пределов знания доложил, что работа по предложенной Скуратовым теме завершена, он немедленно послал за ним Анатолия Арнаутова с автомобилем.
Инженер Всеволод Ильич ввел в машину все усвоенные им команды.
На экране появился незнакомый Суздалеву человек с внимательными, но грустными глазами. Поздоровался.
– Андрей сейчас будет. Виктор Викторович Скуратов тоже. Минут пять подождете?
– Конечно.
Георгию Михайловичу хотелось спросить, кем является его собеседник, но он удержался. Захотел бы – сам представился. А проявлять неуместное любопытство – не по должности.
Поволоцкий, увидев внутри монитора своего шефа, натуральным образом обалдел. И они едва ли не полчаса обменивались сериями фраз, малопонятных непосвященным. Единственно, что сообразил Суздалев, – между научными пассажами оба ученых, с той и другой стороны, проверяли, не подставой ли является его визави. И никому не известные, кроме них, эпизоды общей биографии шли в ход, и ссылки на труды друг друга и коллег в самых заумных отраслях и без того мало кому понятной науки.
По давней, почти сорокалетней привычке Суздалев автоматически запоминал все, что приходилось слышать, независимо от степени осмысления – агрессивные дискуссии суннитских имамов с шиитскими, степенные беседы толкователей Торы и Талмуда, коаны дзен-буддистов и тому подобное.
Научился извлекать из полученной информации то, что требуется ему, сегодня и сейчас, остальное отправлял в запасники памяти, чтобы воспользоваться, когда случится нужда именно в этом знании.
– Вы все обсудили? – жестким голосом спросил он у Поволоцкого, поскольку на ту сторону обращаться не хотел принципиально.
– Наверное, да, – ответил Самсон Фроимович. – Но столько еще осталось интересного…
– Виктор Викторович, – теперь Суздалев обратился к Скуратову, – нет ли у вас желания вернуться домой или пригласить к себе господина Поволоцкого?
– Вам это зачем? – привычно встопорщился академик.
– Мне – ни к чему. Я о пользе дела думать поставлен. Мне бы хотелось обменяться мнениями с Андреем Дмитриевичем или Александром Ивановичем. А вы слишком долго линию занимаете.
Сказано было таким холодным, генеральским тоном, мало сочетавшимся с вполне интеллигентной внешностью, что Скуратов ощутил себя действительно крайне виноватым. Ну вот, словно бы стоишь в телефонной будке, болтаешь с подружкой, а в дверцу стучит человек, которому срочно надо позвонить в больницу…
Приземление произошло мягко, никаких агрессивных действий со стороны здешних сил ПВО «медуза», выйдя в нормальное пространство, не встретила. Приборы наблюдения, устроенные по принципу особым образом модифицированных и увеличенных до размеров автомобильного колеса глаз хищных птиц, давали вполне удовлетворительный круговой обзор. Механизм аккомодации вполне заменял обычный трансфокатор.
С высоты двух километров Земля-2 выглядела изумительно. Густо-синее, без единого облачка небо у далекого горизонта сливалось с взблескивающим солнечными искрами морем, тоже очень синим, как и положено Средиземному. Прямо по курсу из воды поднимались желто-серые отвесные скалы острова, выше стометрового обрыва сплошь покрытого девственным лесом. Судя по положению Солнца, здесь сейчас было около шести часов вечера.
– Интересно, – отметил Ростокин. – Мы вылетели утром, в пути были меньше часа…
– Ты еще спроси, какой здесь год, – ответил ему Антон. – Пора бы и привыкнуть.
…Собираясь в экспедицию, все подсознательно считали, что лететь им предстоит все в ту же Африку. Инерция мышления. Там была станция исследователей итакуатиара, там к ним прилетел парламентер, и оба вторжения монстров и инсектоидов случились там же.
Опять проявился главный недостаток структуры «Братства» – отсутствие единоначалия. План полета к дуггурам обсуждали все, и каждый зацикливался на теме, которую считал для себя ближе и интереснее. Сашка занимался снаряжением десантной партии и изучал устройство «медузы», в той степени, насколько это было возможно, Удолин со Скуратовым ему помогали и одновременно вместе с Левашовым отлаживали излучатель-передатчик дуггурских ментаволн.
Новиков с Антоном обдумывали, о чем собираются вести переговоры с истинными лидерами Земли-2, или, для простоты – Дугляндии, если удастся на них выйти. В качестве программы-минимум предполагалось просто полетать над планетой на относительно безопасной высоте, провести видеосъемки, а уже потом принимать окончательное решение.
Только вечером накануне намеченного старта Андрей зашел в коттедж, где под присмотром Удолина и его команды помещался Шатт-Урх. Следовало поставить его в известность о том, что завтра он вновь увидит свою родину, и спросить совета, где лучше всего приземлиться в интересах успеха миссии и безопасности его самого. Наверняка у вояк или сотрудников тамошних спецслужб на перебежчика имеются собственные виды.
Антон, например, успел убедиться, что кастово-феодальные принципы – улица с односторонним движением. Снизу они кажутся священными и нерушимыми, а сверху – не более чем предрассудком, специально внедренным, чтобы держать в узде дураков.
Новиков откинул крышку ноутбука и нашел в каталоге нужный лист карты. Дуггур отрицательно замотал головой и сделал отстраняющий жест.
– Здесь не нужно. Чтобы связаться с теми, кто способен выслушать и понять, полетим в другое место. Другая карта…
– Другая? – удивился Андрей и тут же чуть не хлопнул себя ладонью по лбу. Действительно, сами себе заморочили голову войной и прочими происшествиями. А Земля ведь большая, есть на ней места и получше африканских саванн. Цивилизация (то, что действительно является цивилизацией в человеческом понимании) у дуггуров весьма диффузна, разбросана по всей планете – мыслящие не живут в мегаполисах.
Он вывел на экран рельефную карту мира.
– Показывай.
Шатт-Урх ткнул пальцем в район Италии.
– Вот как? Впрочем, отчего бы и нет? Колыбель цивилизации.
Новиков выделил нужный квадрат.
– И где же?
– Здесь, – дуггур указал на Корсику.
– Очень интересно. Приходилось бывать. И что же у нас здесь размещается?
Шатт-Урх будто бы замялся, но буквально на несколько секунд.
– Здесь собирается Рорайма.
Андрей помнил, что этим термином собеседник называл учреждение (или что-то другое), исполняющее функцию Совета предводителей мыслящих варн. Если они правильно понимали друг друга.
– По крайней мере, между его словами и мыслями нет противоречия, – подтвердил Удолин. – Он считает, что так оно и есть. По-своему рад, что получит возможность к ним обратиться.
– Ну и слава богу. Для первого контакта то, что нужно. А как там насчет охраны, систем противовоздушной и противодесантной обороны?
Ни о чем подобном посланник интеллектуалов понятия не имел. На то существовали тапурукуара, профессиональные военные, о целях и смысле существования которых тоже толком ничего не знал.
…На Корсике из всей экспедиции единожды довелось побывать только Новикову, да и то почти случайно, на двое суток занесла его туда журналистская судьба, году, кажется, в восемьдесят первом.
– Вон там раньше находился город Бонифачо, достаточно интересный, – сказал Андрей, указывая на круглую бухту, отделенную от моря узким проходом. Над ней возвышалась гора с плоской вершиной. – На склонах сохранялись итальянские береговые батареи Второй мировой, перекрывавшие все подходы к гавани. Только «макаронникам» это не помогло, союзники их оттуда без боя вышибли. Зато туристам очень нравилось фотографироваться на фоне амбразур и казематов.
– Воспоминания оставим на потом, – несколько нервно предложил Антон, управлявший с помощью изготовленного Левашовым излучателя работой пилотов «медузы». Формулы, переданные Скуратову его заместителем, действовали отлично. Следовало только подобрать нужное для выполнения того или иного действия сочетание должным образом модулированных сигналов. Любая команда проходила сразу в исполнительные центры, минуя любые промежуточные уровни. Что, кстати, очень удивляло Шатт-Урха. О таких способах управления «полумыслящими» он не догадывался.
– Куда садиться будем?
Шатт-Урх, потерявший способность читать в умах людей, не мог перевести свои представления в нормальные географические координаты. Указал рукой направление, и все. Как во флотском анекдоте.
– Вот так или левее? – спросил Новиков, подставляя ему ноутбук с подробной картой теперь уже только острова.
Примерно там, куда указал дуггур, на нормальной Земле располагался городок Сартен, продолжавший свое существование с древнеримских времен, с мостом, построенным чуть раньше Рождества Христова. По этому мосту Андрей проезжал на взятом напрокат «Фольксвагене», а потом, сидя в кофейне напротив, поражался, как эта арка тесаного камня, перекинутая через бурную речку, до сих пор спокойно выдерживает даже большегрузные трейлеры, не считая туристских автобусов.
Да и вообще место великолепное, с какой стороны ни посмотри – хоть с эстетической, хоть со стратегической. Не дураки, значит, те самые Рорайма, кем бы они ни были.
– Если он говорит – «сюда», – прикинул Новиков, – давай влево на девяносто градусов. С резким снижением. Зайдем со стороны моря на бреющем, еще один разворот и садимся во-он там, левее речки…
– Сделаем, – ответил Антон, прикусив губу и чересчур тревожно переводя взгляд с пилотов «медузы» на дисплей зажатого в руке излучателя.
Новиков собрался спросить, в чем дело, но не успел.
«Медуза» резко просела, словно попала в воздушную яму, накренилась, выровнялась и как-то слишком грубо плюхнулась в проплешину посередине рощи дикорастущих пробковых дубов. «Первый пилот», очевидно, счел свою задачу выполненной, снял руки с панели управления и неторопливо откинулся навзничь в своем ложементе. Не подавая признаков жизни. За ним то же самое проделали и все остальные.
– Это они чего? – спросил Шульгин одновременно у Шатт-Урха и Удолина. – Похоже – готовы?
– Готовы, – подтвердил Антон. – Электрическая активность мозгов и нервной системы отсутствует.
– Самураи, что ли?
Ответил Константин Васильевич:
– Ты, Александр, опять в точку попал. Самураи. Местные. Только им кишки ножом резать незачем. И так померли, волевым усилием.
– Чего ради?
– Шатт-Урх чувствует, что наконец сработал механизм самоуничтожения. Он не знает, какие волны излучает аппарат, которым мы управляли пилотами, но думает, что они нарушили некую балансировку нервных узлов. Точнее перевести не могу. Похоже, что у них предусмотрена такая «система безопасности» на случай, если конкретный индивид начинает вести себя несоответственно своей функции…
– В принципе понятно, – кивнул Шульгин. – И у нас сильный гипнотизер вполне может запрограммировать человека на самоубийство. Не каждого, конечно, особо внушаемого. Нам здорово повезло, что они перед самой посадкой ласты не склеили. Мы бы не успели перехватить управление.
– Это вы мне спасибо скажите, – вмешался Антон. – Я их до последнего тянул. – Он показал пульт излучателя. – Как только на цель заходить стали, смотрю – управляемость теряется. Словно бы у них в нервах сопротивление начало расти, несущая частота, соответственно, слабеть. Паралич, одним словом. Олег, видать, как раз на такой случай тут движок реостата поставил. Ну я и начал «газу добавлять». Не знаю, что с ними в последние секунды творилось, но, судя по вольтметру, дым из «проводов» шел.
– И не жалко было? – сам не зная почему, спросил Новиков.
– А когда ты Сталиным работал, тебе не жалко было фронты и армии на смерть посылать? – То, что можно было назвать улыбкой форзейля, выглядело неприятно. – Булькнули бы мы сейчас в море или в скалы вмазались, дуггуры бы о нас пожалели?
Андрей отвернулся.
– Тут, на мой взгляд, не в нервном параличе дело, – прервал паузу Скуратов. – Очень может быть, это у них такая система навигационного контроля. Не имеешь права в данную зону залетать – тебя отключают. Возможно, что и не насмерть. Зависла бы «медуза» над морем и ждала, пока ее не отбуксируют куда надо… Мне другое немного интересно – как мы теперь обратно полетим? – спросил академик, сохраняя присутствие духа.
– Вопрос не первоочередной, – ответил Шульгин. – Если наша миссия увенчается хотя бы относительным успехом, я эту штуку как-нибудь подниму, не шибко сложная система управления. Опять же Левашов подстраховывает. Ну а… – продолжать он не стал, и так понятно.
– Ты-то, брат Урх, умирать не собираешься? И что по поводу слов Виктора Викторовича думаешь? – спросил Ростокин, стоявший рядом.
– Я – нет. О навигационном контроле ничего не знаю. Никогда не слышал. Если вы хотите выйти наружу – пойдемте. Я знаю как.
– Мы тоже знаем, как бы тебе это ни показалось удивительным, – ответил Шульгин.
Гибкая псевдоживая аппарель «медузы» вывалилась из-под мантии и легла на покрытую густой травой поляну.
Первыми по ней сошли «Артем» и «Аскольд», в полном боевом снаряжении. Стремительно обежали поляну, убедились в отсутствии каких-либо вредных существ, за исключением обычной лесной мелочи. Проверили рельеф и плотность грунта.
Получив разрешение, медленно перематывая подтормаживаемые двигателем гусеницы, съехал «МТЛБ»,[90] настороженно поводя башенным пулеметом КПВТ. Четыре ПТУРСа на корме тоже были готовы к запуску. Остановился на самом выгодном с точки зрения обороны краю поляны. Из верхнего люка высунулся по пояс Оноли, призывно махнул рукой.
За ним легко скатился «БРДМ», вооруженный, кроме штатного «ПКТ», автоматическим гранатометом «Василек».
В дополнение к «бронетанковым силам» на вооружении экспедиции имелась и легкая техника: классический «БМВ» с коляской и пулеметом «ПКМ» и одиночный кроссовый «Судзуки». На таком Шульгин мог пробраться и через лес, и по горам.
Наконец, минуя трап, из люка выплыл самый маленький из имевшихся на Валгалле флигеров, покачался немного на гравиподушке, развернулся, пересек лужайку, опустился напротив бронетранспортера, под деревом, похожим на ливанский кедр. И сверху незаметно, и гравипушка перекрывает почти сто градусов тылового сектора.
Тишина вокруг царила просто потрясающая. Листья деревьев чуть слышно шелестели, и речка внизу журчала, погромыхивая галькой на перекатах. И воздух! Воздух, особенно после удушливой атмосферы внутри медузы, был изумительный. Свежий, ароматный, какой-то… Сочный. Будто не вдыхаешь его, а пьешь.
– Кислорода здесь процентов на пять больше, чем у нас, – отметил Шульгин. – Предупреждаю о возможности немотивированной эйфории. Вторым следствием является существование в Дугляндии гигантских насекомых…
– Не только в кислороде дело, – тут же вмешался Удолин. – Инсектоиды модифицированы, вместо трахеального дыхания у них подобие легочного. Что допускает создание организмов практически любого размера.
Ростокин негромко выругался. Насекомых, особенно паукообразных, он не выносил с детства, и его не заботило, что в смысле систематики пауки не имеют к насекомым никакого отношения.
– Ребята, что это с ним? – вскрикнул Новиков, указывая на Шатт-Урха. Тот повалился на траву и катался по ней, подобно поросенку в луже, обхватив при этом голову руками. Не то постанывая, не то повизгивая. – Не помирает, за компанию?
Сашка, которому клятва Гиппократа вроде как велела кидаться на помощь, оставался спокойным и неподвижным. Константин Васильевич тоже не выглядел озабоченным.
– Нормально, – сказал профессор. – Мыслефон услышал. Это как в пустыне до колодца дорваться. Напьется – успокоится.
– Так и его услышат, – встревожился Скуратов.
– А мы зачем сюда летели? Главное – чтобы те, кому надо, услышали.
Офицеры отряда, не имея других приказаний, кроме обеспечения высадки, расположились между транспортером и «БРДМ», закурили, оставаясь в полной боеготовности. По этому поводу и подошел к начальству Ненадо.
– Александр Иванович, нам как? Может, бронежилеты и шлемы пока снять? Тихо вокруг, да и жарковато.
Температура действительно была явно не ниже тридцати.
– Снимайте, пожалуй. Я сейчас «Аскольда» с «Артемом» пошлю в поиск, змейкой в пределах километра. Предупредят, если что…
– А с обедом как?
– Ужином, – поправил его Шульгин. – Вечер уже. Не видишь? Проголодались – сухпаем перекуси́те. Костры разводить рановато.
– Есть! – Капитан, безжалостно топча желтые и сиреневые метелки неизвестных цветов, направился к бойцам.
– Я бы тоже в тенек перебрался, – сообщил Ростокин.
– Дело, – согласился Андрей. – И пива холодненького.
– Не будем подавать подчиненным дурного примера, – назидательно ответил Шульгин. – Сначала с обстановкой разберемся. Шатт-Урх очухался?
По всему было видно, что да. Он уже был на ногах и выглядел намного лучше, чем полчаса назад.
Сашка открыл карту-километровку на этот район. Земную, конечно, французского изготовления восьмидесятого года. Здесь она годилась только для того, чтобы оценить рельеф местности, оставшийся прежним, вся прочая информация не имела смысла.
– Давай, приятель, покажи, где твоя Рорайма располагается? Ты их не слышишь, кстати?
– Слышу. Здесь совсем недалеко. По-вашему – десять километров. Нам очень повезло. Я не могу на таком расстоянии различать отдельные мысли, но чувствую, что там – большое собрание. Может быть – всепланетное. Очень много мыслящих.
– Не по поводу наших с вами разборок они собрались?
– У Рорайма всегда много дел. Ваши – могут входить в их число.
– И что, братва, делать будем? – спросил Новиков.
– А мы зачем летели? – осведомился Антон.
– А за что Каин Авеля убил? – тут же вмешался Шульгин.
– Это к чему? – удивился форзейль.
– К тому. За то, что отвечал вопросом на вопрос.
Скуратов с Игорем засмеялись. Но им простительно, а вот почему Антон не знал этого бородатого анекдота – странно. Не в тех кругах вращался?
– Я в том смысле, – пояснил Андрей, – каким образом организуем вручение верительных грамот? Всей армией двинемся или особо доверенных лиц пошлем? Ты как, Шатт-Урх, можешь гарантировать, что нас примут с распростертыми объятиями или хотя бы не расстреляют на подлете?
– Не расстреляют. Я имею право присутствовать на Рорайма. В ближней зоне резиденции меня опознают. А вы, господин, – обратился он персонально к Антону, – сделайте так, чтобы вас не услышали раньше, чем меня. Это исключит недоразумения.
– Свободно, – успокоил его форзейль. – Но на всякий случай, если почувствуешь неладное, громко кричи и «размахивай белым флагом», в переносном смысле, конечно. Одновременно сообщая, что мозги выжечь всему высокому собранию мы можем при первом недружелюбном движении.
– Я это помню, господин Антон.
– Значит, так, ребята, – предложил Новиков. – Оптимально – летим я, Шатт-Урх, Антон, один робот. Кто пятый? Константин Васильевич или Виктор Викторович?
Шульгин спорить и доказывать необходимость своего присутствия в составе делегации не стал. Излишним любопытством он не страдал, зато знал, что в случае непредвиденного развития событий его, как коменданта операционной базы, никто не заменит.
Зато между Скуратовым и Удолиным дискуссия возникла мгновенно. И у каждого имелись свои, весьма веские доводы.
Академик утверждал, что общаться с собранием мудрецов ему будет куда сподручнее: коллеги, и все такое.
Профессор, в свою очередь, резонно заявлял – полноценно контролировать Шатт-Урха может только он, и техникой выхода в астрал уважаемый Виктор Викторович не владеет, и так далее и тому подобное.
О кандидатуре Ростокина речи даже не возникло, отчего он молча обиделся. Но решил немного подождать.
Новиков и Шульгин в итоге поддержали Удолина, сочтя, что при первом контакте пользы от него действительно будет больше, а Скуратов свое возьмет при следующей, наверняка более конструктивной и ответственной встрече с мыслящими.
Тогда Игорь сказал и свое слово:
– Флигер, конечно, пятиместный, только кресла не на нас рассчитаны. Слишком широкие. Среднее сзади выбрасываем, и шестой человек свободно поместится. То есть я. Как военный журналист и представитель отдельной цивилизации, а также специалист по контактам с ВРАГами,[91] категорически настаиваю.
Новиков усмехнулся и коротко кивнул. Почему бы и нет, в самом деле?
Из кругового поиска вернулись роботы, вооруженные крупнокалиберными помповыми дробовиками. Ничего заслуживающего специального внимания они не обнаружили, зато нашли подходящие для проезда бронетехники маршруты.
– Кое-где топором поработать придется, а так – местность вполне доступная.
– Молодцы, – похвалил Шульгин. – Ты, Аскольд, остаешься в моем распоряжении. Артем полетит на флигере. Под командой поручика Оноли прямо сейчас начинайте прокладывать тропу для выдвижения в этот вот квадрат. Десять человек хватит?
– Да я бы и один справился, – застенчиво ответил андроид. Его характер предполагал, что нельзя позволять людям-хозяевам делать то, с чем можешь справиться сам.
– Нет, господа, прошу, конечно, прощения, – заявил капитан Ненадо, – я бы так посоветовал. Лететь сейчас никому не надо. Вечереет, и сильно вечереет. Я в Месопотамии в шестнадцатом воевал, знаю. Через час совсем темно станет. Куда лететь? Надо грамотно. Перед самым рассветом. Часиков этак в четыре-пять. Кто бы там вас ни ждал, предутренний сон – самый крепкий. Будете иметь лишние минутки на какой-нито случай. А сейчас – если нас до сих пор не обнаружили, лучше здесь пересидеть. Предполье обеспечено, зенитная оборона «Иглами» – тоже. Аскольд с Артемом за двадцать верст опасность обнаружат. Я извиняюсь, Александр Иванович, вы, конечно, дивизиями и армиями командовали, а взводом и ротой – наверняка нет. Господин Берестин меня быстрее бы понял.
Упрек был тщательно замаскирован округлыми выражениями, но смысл был ясен каждому, кто слышал.
– А ведь действительно так лучше. Придется согласиться, Игнат Борисович, – как можно более дружелюбно ответил Шульгин. – По-вашему и поступим. Начинайте налаживать и обеспечивать оборону, а мы на самом деле утра подождем. Вам, как опытному солдату, не следует объяснять, что костры лучше разводить под самыми густыми деревьями, поверх натянуть маскировочную сетку, и так далее?
– Объяснять не нужно, Александр Иванович, – ученые. Только, мне так представляется, те, к кому мы прилетели, захотят – под любой маскировкой нас увидят. Сиди мы в блиндажах или половецкие пляски на поляне устраивай. Им – одинаково.
– Что твой командир заставлял Лермонтова наизусть учить – это я помню. Так он вас еще и в оперу водил?
– Нет, в оперу – это я сам. Когда в Москве воевали, пригласили меня… в Большой театр. Как раз на «Князя Игоря», – отчего-то вдруг смутился боевой офицер, от роду чуждый интеллигентских сантиментов.
«Неужто аристократочка какая? – внутренне удивился Сашка. – А почему и нет? После победы под Берендеевкой обласканных и награжденных лично Государем офицеров наперебой приглашали в лучшие дома. Вроде как лейб-компанцев[92] Елизаветы, дщери Петровой».
– От половецких плясок все-таки воздержимся, а в остальном ты прав. Обеспечь охрану территории по уставу караульной службы, и можете отдыхать. Винная порция – как положено, но ни грамма больше.
– Да о чем вы, Александр Иванович? – ответил капитан, весьма довольный, что удалось обойти скользкую тему. – Все будет в лучшем виде. А воздух-то здесь какой! – повел носом старый вояка.
– Как будто на Валгалле хуже? – с подначкой спросил Ростокин.
– Не хуже, пожалуй, а другой. Неужто сами не чувствуете?
Ненадо ушел к отряду, оставшиеся решили, что и им костерок не помешает. Темнело действительно быстро.
– Константин Васильевич, вы с Шатт-Урхом ничего не чувствуете? – спросил Новиков. Он уже успел, на несколько минут отойдя к краю обрыва, сосредоточиться и создать совсем несложную, локальную мыслеформу, по идее как бы накрывшую их стоянку куполом невидимости. Этакий меловой круг очертил. На Земле зачастую срабатывало. Насколько этот прием будет действенным против местных специалистов, Андрей не знал (вдруг у них собственный Вий имеется), но надеялся на лучшее.
– Нет. Эфир на удивление чист. Ваша защита надежна, бесспорно, но я к ней и своей добавил. Шатт-Урх опять ничего не слышит. Значит – до утра доживем… Скорее всего, – немного подумав, добавил профессор.
Снова вокруг была черная южная ночь, между набежавших с запада, со стороны Атлантики облаков просверкивали необыкновенно яркие в здешней прозрачной атмосфере звезды.
«Каково на них смотреть Антону? – неизвестно почему вдруг подумал Новиков. – Как заключенному из тюремной камеры на огни города, или наоборот, как из города на фонари вокруг тюремного забора?» В разговорах они ни разу не касались деликатной темы, однако должен ведь испытывать какие-то чувства «человек», привыкший считать своим домом всю Вселенную и вдруг навеки заточенный на одной-единственной захолустной планете? Как если бы Воронцова, лишив диплома капитана дальнего плавания, сначала сколько-то подержали в тюрьме, а потом назначили командовать буксиром в речном порту.
Из валявшихся вокруг в изобилии сосновых сучьев и прочего хвороста собрали свой костер, вокруг расселись впятером, пристроив поблизости никому, казалось бы, не нужное оружие. Против зверя в тайге или лихого человека оно бы непременно пригодилось, а против целой планеты? Но неизменно человеческое чувство – хоть бронзовый меч на поясе, хоть копье с кремневым наконечником, а тем более хороший пулемет – и ты уже почти на равных с окружающим миром. В конце концов, Кортес с несколькими сотнями конкистадоров половину Америки завоевал, две империи покорил, Стенли с однозарядной винтовкой считал себя достаточно вооруженным, чтобы Африку исследовать, не боясь ни диких зверей, ни людоедов.
Не до изысков было, в большом котелке растолкли и заварили, будто в давних турпоходах, пять брикетов концентрата «Гречневая каша с говядиной». Вкуснейшая, если кто не пробовал, вещь. Особенно если есть ее с дымком и деревянными ложками.
– Оно конечно, – говорил Шульгин, – ночью высадиться тоже неплохо. Управились бы – ноктовизоры есть, прожектора, осветительные ракеты. Для местных – малопривычные штучки. Взяли бы мы их, как группа «Альфа» дворец Амина в семьдесят девятом.
– Ну и что? – лениво возразил Антон. – Игнат, при всей его простоте, – прав. Утро ведь в натуре вечера мудренее?
С этой максимой спорить никто не стал. Да никому и не хотелось.
Разговаривали неторопливо, прикидывали, с чего начинать переговоры и в каком ключе их вести.
– Хорошо с квангами было, – вспомнил Шульгин, – те нас сразу почти как родных встретили, и никаких недоразумений.
– Ну, кванги – особый случай. Мы к ним в роли спасителей явились, а тут – совсем наоборот, – ответил Андрей. – Неужели, Антон, среди ваших Ста миров так-таки ничего подобного здешней многослойной цивилизации не встречалось? Удивительно даже.
– Ничего удивительного, – вместо Антона сказал Скуратов. – Я все больше склоняюсь к мысли, что никакой цивилизации дуггуров вообще не существует. И все мы – жертвы собственной наивности и хорошо организованной дезинформации, рассчитанной исключительно на нас. Только еще не понял – кем.
– Галлюцинация глобального масштаба, – полувопросительно продолжил Шульгин.
– Я бы иначе выразился, – выбирая в костре уголек, подходящий для раскуривания трубки, сказал Андрей. – Помнишь «Миллиард лет до конца света»?
– Похоже, очень похоже, – задумчиво кивнул Сашка. – Только чем тогда все это отличается от пресловутых Ловушек?
– Принципиально. Ловушки субъективны и работают исключительно против чужих мыслеформ внутри Гиперсети, как нам объяснили. Я так понимаю, одновременно на всех нас, столь разных по психотипам, культуре, способам мышления, они действовать не могут. Что общего между тобой, Виктором, эстетом-хамом Оноли, простодушным Игнатом? Следовательно, мы имеем дело с объективной реальностью.
– Тут ты прав. Главное – роботы ведь тоже воспринимают монстров, инсектоидов, Шатт-Урха и тому подобное как данность… Правда, есть у меня контрдовод, заумный такой, а все же. Ничего на самом деле вообще не происходит. Каждый находится внутри индивидуального бреда. Вы все кажетесь мне, говорите и делаете то, что я воображаю, оставаясь там, откуда вы меня вроде бы вытащили. Любой из вас – в том же положении, если вообще существует в природе…
– «Слег»,[93] короче. В таком плане конечно, никто никому ничего доказать не в состоянии. Лем подробно объяснил, что, находясь внутри совершенного фантомата, убедиться в ложности или истинности окружающего невозможно.[94]
– Эй, о чем это вы? – несколько встревоженно спросил Ростокин. Книг, на которые ссылались друзья, он не читал. Удолин со Скуратовым тоже, но они промолчали, усваивая и осмысливая значащую, с их точки зрения, информацию.
Новиков вкратце объяснил Игорю, о чем шла речь в «Миллиарде лет». Природа, мол, она же – мироздание, в целях поддержания высшего равновесия, способна менять собственные законы и создавать любые артефакты, от локальных до глобальных.
– Додумался ведь Энгельс до формулы: «Человеческий разум есть инструмент, с помощью которого природа познает самое себя». Следовательно, изначально неспособная к познанию природа тем не менее сумела создать человечество, миллион лет назад уже зная, что появятся письменность, университеты, синхрофазотроны, звездолеты, теория эволюции, диалектический и исторический материализм. И если так оно и есть, то что стоит природе, в широком смысле этого слова, раз уж мы от Гиперсети отключились, создать «Дугляндию», чтобы все ж таки нас опустить? Сидите, шелупонь, под нарами возле параши и не высовывайтесь…
– Принцип Фразибула[95] в бесконечности пространства и времени, – уточнил Скуратов.
– Стоило возиться, – презрительно фыркнул Ростокин. – Банальной молнии хватило бы, одной на всех. Или тайфуна в пятьдесят баллов. Накрыл «Валгаллу» в океане – и адью!
– Неисповедимы пути господни. Бог тоже, вместо того чтобы напускать на весь Египет известные казни, мог просто провести с фараоном профилактическую беседу. Как в КГБ практиковали. Многим помогало, без ненужного кровопролития, – засмеялся Шульгин.
– Очень вовремя вы эту тему подняли, – впервые нарушил свое сосредоточенное молчание Антон.
– Очень вовремя, – повторил, а также и подтвердил Константин Васильевич. – Скоро полночь, – сказал он, не глядя на часы. – Не только в хронологическом, но и в сакральном смысле. Скоро полночь нашего мира, пора бы демонам полнолуния вступать в свои права…
– Приехали, – заявил атеист и одновременно агностик[96] Скуратов. – А подходящие заклинания против этих демонов у вас имеются?
– Завтра узнаем, – зевнул Удолин. – Пора бы и спать ложиться.
Новиков с Шульгиным долго не могли заснуть. Сначала они отошли в сторонку, под прикрытие корпуса БРДМ, чтобы наедине сказать друг другу кое-что, касающееся завтрашнего дня, не предназначенное для посторонних ушей: во избежание превратных толкований и деморализации личного состава. Да так и проговорили больше двух часов.
Приняли по чарочке. Кто знает – не последней ли за тридцать лет дружбы? Под это дело вспомнили несколько ярких эпизодов, и все – из «раньших времен», лежащих за гранью «Одиссеи».
Слышно было, как роботы, не нуждающиеся в сне, не боящиеся каких бы то ни было демонов (если у них и были свои суеверия, вроде того, что боевые вертолеты – это души погибших танков, люди об этом ничего не знали), обладающие круглосуточным зрением, трудятся в лесу. К утру намереваясь расчистить просеку, выводящую на ближние подступы к территории Рорайма.
– Слушай, надоели мне эти досрочные поминки, – вдруг сказал Шульгин. – Что будет, если так, а что будет, если эдак. И вообще: «Вы помните, каким он парнем был?» На хрен. Забыл, как ехали из Карачаевска до Домбая, тринадцать человек в одной «Волге»? Трубой по дороге скребли, а все же доехали. Ну и сейчас. Флигер не «Волга», ему одинаково, что шестерых тащить, что семерых. Всего-то десять километров. По-любому там все решаться будет! Хоть и надоел ты мне не меньше широко известной редьки, но остаток жизни провести исключительно в сентиментальных воспоминаниях и душевных терзаниях – еще хуже. Здесь от меня толку ноль. Для координации? Было бы что координировать. Для нанесения «удара возмездия»? Игнат сам справится, а Олег с Ириной помогут. Никому мало не покажется. Хоть всю планету спалят – а нам-то что? Полегчает? Летим вместе, короче говоря, хочешь ты этого или нет…
У Андрея если не камень с души свалился, то скребущие сердце кошки убежали. Все сразу. Он якобы руководствовался пользой дела, принимая свое решение. А какое, к черту, дело и какая польза? Как выдумывали всякие приключения тела и духа, гуляя с девушками по ночному кисловодскому парку, так недалеко оттуда и ушли. Сто раз могли разбиться всмятку, за двадцать часов проскочив на мотоцикле от Москвы до Кавказских Минеральных Вод. И в чем сейчас разница, ежели весь мир, особенно этот – только наше представление?
Обретя душевное равновесие, они прилегли, вздремнули часок вполглаза.
Новиков подумал, что он проснулся раньше всех, тихо прошел через кусты, обильно осыпавшие его крупной росой, и посередине поляны увидел капитана Ненадо, бодрого и подтянутого, в старательно начищенных ботинках, выбритого и пахнущего тройным одеколоном. Никаким другим не приучился пользоваться.
На инстинктивное движение руки к виску, за которым должен был последовать рапорт, Андрей ответил отмашкой.
Сказал шепотом:
– Пойдем в сторонку, перекурим и обменяемся…
Рядом с открытой кормовой дверью МТЛБ Игнат Борисович указал на предназначенное для сидения бревно перед излучавшим тепло, не успевшим перегореть до золы костром.
– Значит, мы сейчас полетим, – продолжил Новиков начатую фразу. – Планы чуть меняются. Александр Иванович – с нами. Ты, выходит, – старший по команде. Начнешь выдвижение к опушке леса по готовности. Связь будем поддерживать через «Артема» с «Аскольдом», их диапазон труднее запеленговать. Остановишься вот здесь, – он указал место, примерно в трех километрах от предполагаемого расположения резиденции Рорайма. – Ждешь дальнейших распоряжений. Если с нами что-то случится, «Артем» в любом случае сообщение передать успеет. Даже в случае полной и окончательной гибели…
Капитан не стал произносить принятых в подобных случаях у гражданских лиц восклицаний-заклинаний: «Да о чем вы говорите?! Все будет хорошо! Вы еще нас переживете и т. п.». Молча кивнул.
– Геройски мстить за нашу безвременную кончину не надо. Без толку. Стрелять и обнаруживать себя – только в безвыходной ситуации. Вернешься к «медузе» – и улетайте. «Аскольд» знает, как управлять. На Валгалле доложишь. Это в случае, если господин Левашов вас своим способом не вытащит. Ясно?
– Чего неясного? – пожал плечами капитан. – Одно скажу… – Тут Ненадо очень к месту припомнил митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского, с обер-церемониймейстером и динамитом срифмованного, подходящей прокладкой полупочтенных слов переложенного.
– Плотно выражаешься, Игнат Борисович, приятно слушать. Надо будет потом для нашего «Братства» курсы русской словесности организовать. Есть у меня на примете боцман с линкора «Двенадцать апостолов», и профессорша из Москвы, моего, конечно, времени, дама семидесяти лет. Диссертацию на этом деле защитила. Секретную, к публикации запрещенную. Один раз шла по улице, ограждение открытого канализационного люка не заметила. Но не упала, слава богу. Из него вылез мужик и с детства известными тремя словами ее облаял. Она удивилась, остановилась, назидательным тоном объяснила, как в таком случае выражаться следует. Именно в таком и применительно именно к данному объекту, персонально к ней то есть. В противном случае грубая брань никакого сакрального смысла не несет и нести не может…
– И что? – крайне заинтересовался капитан.
– Водопроводчик обратно в люк упал. А она дальше пошла, очень возможно, что следующую главу для своей монографии продумывая.
– Монография – это что? – спросил любознательный капитан.
– Это такая толстая книга, посвященная исследованию одной темы. Например: «Роль портянок в победах русской армии XVI—ХХ веков». Семьсот страниц текста с картами и иллюстрациями.
Новиков развлекался, но Ненадо отнесся к его словам, и этим, и предыдущим, с полным доверием и серьезностью.
– Неуж и такое написали? Ну молодцы! Что значит – наука! Да я бы сам им такого понарассказывал… А с профессоршей вы меня непременно познакомьте, если вернетесь, конечно…
Сообразил, что сказал несколько не то, кашлянул, но извиняться не стал.
– Насчет боцмана спорить не стану, у них свои морские обычаи, однако – теория суха, как говорил Гете… Или Гейне… – Игнат Борисович снова впал в тягостное раздумье. – Настоящей жизни ваша старушка знать не может. Второе место я у нее отобью!
«Счастливый человек, – обрадовался Андрей, – такие детали его до сих пор волнуют. Перед боем!»
Однако капитан мгновенно собрался, поняв, что лишние рассуждения как минимум неуместны, при всей их интересности, оборвал тему.
– Давайте закурим, Андрей Дмитриевич, и будем подъем играть.
Сказано было в переносном смысле, трубача для исполнения названного и всех других сигналов в отряде не имелось.
Шульгин поднял флигер вертикально, и он мгновенно растаял в предрассветном небе. С километровой высоты снова стало видно море по обе стороны острова, справа подкрашенное красноватыми лучами готового появиться из-за горизонта солнца.
– Вон туда, – показал Удолин, еще на земле установивший плотный ментальный контакт с Шатт-Урхом именно для этого случая. Вблизи соотечественников оставлять его без контроля не стоило. Мало ли что ему напоследок может в голову прийти?
Среди сплошного массива темного леса смутно просматривалось нечто вроде неправильной многолучевой звезды, слегка поблескивающей своими гранями. От нее на запад, к морю, и на север, в глубь острова, уходили две белесые ленты, похожие на автострады. Слишком широкие, пожалуй, для затерянного в дебрях местечка.
– А это не взлетные полосы? – спросил Ростокин.
– Для стратегических бомбардировщиков? – Шульгин продолжал удерживать флигер на месте, аппарат лишь слегка покачивался в потоках утреннего бриза. – Константин, вы с клиентом что-нибудь слышите?
– Нормальный мыслефон, никаких признаков тревоги или паники.
– Они там что, действительно спят?
– Кто-то спит, кто-то нет. Как обычно. И мы прилично заэкранированы.
– Ну, начинаем? – Сашка спросил, как бы давая друзьям последний шанс передумать и вернуться обратно.
У Ростокина мелькнуло, что так, может быть, было бы лучше. Вернуться и попробовать выйти к базе пешком, с необходимыми предосторожностями. А то спикируем как раз в защитное поле. Один пшик останется от флигера вместе с экипажем…
– Давай, – выдохнул Новиков, словно прочитав мысли Игоря. – Чего уж теперь…
– Куда садиться будем?
Ответил Удолин:
– Шатт-Урх предлагает – прямо напротив главного входа, там, где кончается приморская дорога.
– Так, значит так. Поехали!
Сашка научился пилотировать виртуозно, да и машина была изумительно послушная, в отличие от самолета практически лишенная инерции. Стремительно, с приличным ускорением обрушившись вниз, Шульгин остановил флигер в пятидесяти метрах от изломанных крыш низкого, но огромного по площади здания. Сориентировался, развернулся так, чтобы гравипушка смотрела на вход, образованный несколькими переплетенными дугообразными арками разной высоты, коротким импульсом подал машину вперед и посадил на фиолетовый, в желтых разводах и спиралях, бетон. Или нечто, его заменяющее, столь же твердое и гладкое. До витражных дверей оставалось метров тридцать.
– Лихо, – перевел дух Скуратов, не привычный к такому пилотажу.
Первым, с пулеметом на изготовку, из флигера выпрыгнул «Артем».
– Саш, остаешься на месте. Игорь – к орудию. Остальные выходим, – распорядился Новиков. И не удержался от шутки: – Я – за коммодора Перри[97] буду…
– Служба у них хреново поставлена, – сказал Антон, осматриваясь. – Мы уже минуту назад могли их раздолбать с воздуха, а они даже не засуетились…
– Шатт-Урх, передавай на всех каналах, кто мы такие и что прибыли с миссией мира и дружбы, – велел Андрей. – И шутить не советуем.
– Уже передает, – доложил Удолин, словно бы принюхиваясь к здешней атмосфере, а на самом деле зондируя эфир доступными ему способами.
«Артем» по собственной инициативе сместился левее, чтобы не заслонять Шульгину и Ростокину линию огня, одновременно расширяя свой сектор наблюдения.
– Вот, кажется, и комиссия по встрече приближается, – сказал Антон, первым заметив мелькание фигур за остеклением дверей и фасада. – Переговоры я начну?
– Кто же еще? Шатт-Урх пускай нас представит, а дальше – как умеешь, Тайный посол.
Отсутствие нормальной для подобного места охраны удивило Шульгина и Новикова. Ей полагалось быть – хотя бы в чисто статусных целях. Или у них действительно абсолютно безопасная планета, или оборонительный периметр вынесен за пределы острова. Столько нервничали насчет возможного огневого контакта – и ничего.
Но удивляло это только их, отнюдь не Антона. Ни на административных, ни на курортных планетах его миров о вооруженной охране силами спецназа, и даже о гражданской полиции никто и понятия не имел. Имелись другие способы, в чем форзейль убедился на личном опыте.
Так и здесь – зачем нужны «поддержатели порядка», если каждое существо обеспечено системой самоликвидации, срабатывающей не только при возникновении прямого умысла, при обыкновенном сбое программы.
Антон, идя на два шага позади Шатт-Урха, с которого Удолин только что снял все «стопора и ограничители», как выразился бы Воронцов, думал не о нем. И не о том, что скажет вон тому, черноволосому, одетому в белую тогу с красной полосой (чистый римлянин эпохи Республики), выступившему на два шага вперед от теснившейся за спиной толпы.
Он удивлялся, как здесь все похоже на планету Ланьлинь, где у персон его ранга принято было проводить отпуска, краткосрочные и длительные. Похожее содержание кислорода в воздухе, близкая по стилю архитектура. Что бы это значило? Та планета находилась от Земли намного дальше, чем Валгалла, и Антон совершенно точно знал, что за обозримый исторический период никто из граждан Конфедерации здесь не бывал и появиться сам по себе физически не мог. А поименно известные ему сотрудники Департамента активной дипломатии, если и могли, то никаких документов и записок на эту тему в открытых фондах не оставили.
Точно так некогда удивили космобиолога Альбу абсолютно земные сосны на Валгалле.
Антон шел, выпрямившись во весь свой немалый рост, развернув плечи, оставив за пределами всех предыдущих миров и событий тяжелые и просто ненужные воспоминания. Без всякого рекондиционирования ощутив себя именно Тайным послом. Не какой-то там параллельной Земли, а могучей Галактической конфедерации.
Верно и вовремя Новиков о его титуле напомнил, сориентировал в нужном направлении. Так и будем работать. Андрей с Шульгиным тоже здорово сбили с толку аггров при самом первом контакте, выдав себя за представителей «третьей силы».[98] Он же и на самом деле таковым является. И не только «третьей» – четвертой, если не пятой. Как считать. Шатт-Урх это сразу усвоил, «величайшим» назвал. Отсюда и пляшем. У вас тут свои мелкие разборки, а я прислан порядок навести.
Довольный собой, Антон разжал пальцы на цевье автомата, позволил ему свободно повиснуть на ремне под левым локтем.
Эмоции Шатт-Урха он мог контролировать не хуже Удолина, только несколько в другом спектре и проекции. Их приятель, кажется, не потерял себя, держался с достоинством, поскольку побывал там, где никто из присутствующих не был, узнал много нового и интересного и вдобавок привел с собой людей, с которыми можно разговаривать.
Времени на то, чтобы анализировать дальнейший обмен мнениями дуггуров, считающих себя мыслящими, не осталось.
В трех шагах носитель тоги остановился и протянул вперед правую руку с раскрытой навстречу ладонью.
Антон на всякий случай сделал то же самое.
– Господин, сними защиту с твоего мозга, тогда… сможет говорить с тобой голосом и по-русски, – сказал Шатт-Урх.
– Пожалуйста…
– Меня зовут Суннх-Ерм, – отчетливым голосом диктора московского радио представился дуггур. – Я – председатель Совета мыслящих, Рорайма, руководящих правильным функционированием народа нашей планеты.
«Вот и зацепка, – мельком подумал Антон, знавший сотни языков межпланетных рас, пользовавшихся фонетикой: агглютинирующих, корнеизолирующих, инкорпорирующих, верзоаффических и прочих. – Не могут носители таких личных имен принадлежать к той же расе, что и их правители, которых мы ищем. Элементарный признак колонизации, или – симбиоза. Суннх-Ерм, Шатт-Урх и – «ророайма», «итиакуатиара». Аналогично – Иван Обносков, начальник Рейхсзихергейстдинстамт.[99] Кто в этой ситуации ведущий, кто ведомый – с ходу не угадаешь, но фонетика не обманет». Однако заниматься еще и исторической лингвистикой ему было некогда. Сделал пометку в памяти – и достаточно.
– Крайне приятно. Меня – Антон. Я – представитель Галактической конфедерации Ста миров, носящий высочайший ранг Тайного посла, экстерриториального и свободного от предрассудков! Мне поручено выяснить, что за конфликт разразился между близкими расами этой планеты. Мы прибыли к вам с миссией дружбы и сотрудничества. Мы готовы забыть обо всех случившихся на этой планете недоразумениях, к которым вы, Рорайма, надеюсь, не имеете отношения. Итакуатиара вас неправильно информировали, тапурукуара совершили несанкционированное нападение, урарикуэра не обеспечили теоретической базой. Это прискорбно, поскольку повлекло массу ненужных жертв. Однако несовершенная система управления не может быть поставлена в вину исполнителям. Здесь нужно спрашивать с руководителей. Согласны?
Слова Антона, подкрепленные исходящей от него нравственной силой, очевидно расстроили Суннх-Ерма. Где-то в его организме, пожалуй, тоже сидел предохранитель, препятствующий возможности помыслить о наличии каких-то руководителей, высших по административному, а то и биологическому уровню, чем он, Председатель.
– Мы не знаем, что такое «галактическая конфедерация ста миров», – ответил дуггур. – Ощущая твои мысли, я догадываюсь, что ты имеешь в виду звезды, наполняющие ночное небо. Но звезды – это звезды, на них не может быть жизни. Или я тебя не понимаю, или ты вводишь нас в заблуждение… Другие сказанные тобой слова тоже не имеют смысла в мире, куда ты пришел. Здесь – свои законы и правила. Тебе это понятно?
«Ах ты, сволочь, – подумал Антон, причем так, чтобы хоть это определение оказалось в сфере восприятия Суннх-Ерма. – В заблуждение! У вас тут, значит, и Джордано Бруно не было? И правильно! Зачем насекомым теория множественности обитаемых миров? Им и соседнего муравейника выше крыши…»
– Придется предъявить свои верительные грамоты, – с легким сожалением ответил Антон и повторил то, что раньше проделал с Шатт-Урхом. Не в полную силу, но основательно ударил ему по мозгам своим нечеловеческим стилем мышления и пакетом неземной космогонии. Для того чтобы понял, чтобы сообразил, с кем дело имеет.
Но фильтры между мыслящей и руководимой инстинктами частями личности у председателя были помощнее, чем у жалкого интеллигента Шатт-Урха. Не зря он был поставлен на свой пост, под который был специально заточен.
Так, вполне можно предположить, что в грамотно организованной, безопасной для обеих сторон дискуссии личность типа Сталина, правильно подобрав систему доводов, можно было бы в чем-то убедить и даже переубедить, а вот Кагановича – едва ли. Лазарь Моисеевич был абсолютно самодостаточен внутри раз и навсегда усвоенной мыслеформы. Чувствовал там себя комфортно и в рамках роли – чрезвычайно успешно.
Так и Суннх-Ерм. Что-то до него дошло, но основ не коснулось. По крайней мере – внешне.
– Я бы предложил вам пройти в зал Совета и там обсудить интересующие нас вопросы, – сказал дуггур. Он был вальяжен и представителен. На голову выше Шатт-Урха. Лицо его, гораздо более европеоидное, чем у любого ранее виденного представителя этого племени, выражало достоинство. По принципу: первый парень на деревне – я. Тоже верно. Члены руководящей касты должны зрительно отличаться от нижестоящих. Как брахман от неприкасаемого, как первый секретарь обкома партии от председателя сельсовета. Всем понятно и никому не обидно. Никаких погон не надо.
Так примерно понимал о себе Суннх-Ерм. К его глубокому, только не осознанному пока сожалению, Антон принадлежал совсем к другому типу не только людей, а биологических существ. Не всем и не всегда это было ясно, отчего на всей Главной исторической последовательности за полтораста лет только три человека сумели общаться с форзейлем сначала на равных, а потом и с иной позиции.
– Ваши слуги пусть остаются на месте, – сказал дуггур, и в его тоне прозвучали командные нотки. С чего вдруг?
Почти три десятка сотрудников, клерков или полноправных членов Совета толпились за спиной председателя, и лица их не выражали ничего, кроме неприязни и готовности к никакими нормами не ограниченной агрессии. Хоть клыками глотки рвать!
«Неужто я где-то слабину дал? Не стоило, наверное, говорить о дружбе и желании забыть о прошлом. Не совпало. Очень возможно, что в его системе координат посредник – не та фигура. Андрей, вспомнив о Перри, был куда более прав. Разнести для начала половину их дворца гравипушкой, потом и предложить товарищеские переговоры с позиции силы, на фоне горящих развалин, безголовых трупов и воющих, агонизирующих от безнадежных ран советников…»
– У меня нет слуг, – жестко ответил Антон. – Все, кто здесь, – такие же, как я. Или – сильнее, поскольку – полноправные хозяева своего мира. В отличие от тебя. Мы не хотим уничтожать вас лично и вашу цивилизацию, но если придется – сомнений не испытаем. Хотите жить – сложите оружие. Не хотите – ваш выбор. Шатт-Урх! – со всем напряжением мысли позвал стоящего рядом на подгибающихся от нервной перегрузки ногах парламентера Антон. – Покажи им Хиросиму! Или Дрезден, на твой вкус. И объясни, что это такое…
– Не слуги? – проигнорировав следующие слова Антона, спросил Суннх-Ерм. Ему и Хиросима была не столь интересна, как факт равноправных взаимоотношений «высшего» существа с существами гораздо менее организованными. Или с «Артемом», от которого не исходило вообще никаких ментальных посылов. «Глиняный Голем», сказал бы кто-то, знакомый с данным уровнем мистики и некромантии. – Как же не слуги? Они не понимают мыслей и слов.
– Специально. Зачем им твои мысли? Они специально закрыли свои мысли, чтобы не мешать разговаривать нам с тобой. В зал Советов мы пойдем все. И уже там будем разговаривать, кто и как захочет. Или – не будем…
Антон увидел, как одобрительно кивает ему Удолин, приближаясь неспешными шагами, чтобы не вызвать вспышки агрессии членов Рорайма, совсем не понимающих, что происходит.
– Хорошо, пойдемте…
В словах Суннх-Ерма прозвучали нотки, очень не понравившиеся Антону. Он снова поддернул автомат в положение, удобное для стрельбы.
Вслед за Константином Васильевичем подошел Новиков, прикрывавший тыл. Робот «Артем» переместился к левому краю входных арок, направив пулемет во фланг толпы облаченных в разнообразные плащи, накидки, тоги и туники дуггуров. Длинная очередь, если последует приказ, – и все они тут и лягут кучей изорванных пулями тел.
А потом на их место придут другие, вообще не способные к диалогу, которых будет гораздо больше, чем патронов в ленте?
– Пойдем, – вместо Антона сказал Андрей, без всякой телепатии, и уж тем более – толерантности посмотревший на председателя тяжелым, не обещающим снисхождения взглядом.
«Неладно получается, очень неладно, – подумал он. – Что-то они крутят. Ждут помощи извне, или мы на чем-нибудь должны сорваться?»
– Как там насчет «демонов полуночи»? – спросил Андрей профессора, пока они пересекали громадный, как крытый стадион, вестибюль.
– Психофон сгущается, – ответил Удолин. – Не пойму пока – это они нас так боятся, или их самих пугают… Помнишь, как при Яшке Агранове люди, готовые кандидаты на роль светил мировой науки, с собственными комиссарами из дворников остерегались лишнее слово сказать? Я с ними после этого разговаривать перестал, а многие уж так хотели объясниться… Тюрьмы, мол, боюсь, а Горький пайки академические раздает и ордера на квартиры и дачи. Не успеешь, так и не хватит.
– Как не помнить, – согласился Новиков. – Зато ты у нас герой. В узилище сидел, а не поддался. За что и люблю, при всех твоих невыносимых чертах характера. Моя б воля – на Соловки сослал, для развития истинно научного, не замутненного прозой материализма стиля мышления.
– Чем бы, скорее всего, и вошел в историю грядущих веков. Как просвещенный гонитель разума… Сейчас предлагаю примолкнуть. Нас начинают доставать. Пока – только отраженный сигнал. Не чувствуешь?
– Кроме смутной тревоги – нет, – ответил Андрей. – Я мыслеформу прикрытия держу, сил хватает.
– Я тоже. Но главное – впереди. Только, упаси бог, не вздумайте стрелять раньше времени.
– Мы не будем. А Сашка – может. В нужное время и в нужном направлении…
Они говорили, идя по длинному коридору, местами безусловно растительно-животного происхождения – из переплетенных лиан, каких-то мягких стенок, передергиваемых судорогами перистальтики. А местами, неожиданно – в стиле хай-тек. Светлый металл и разноцветное стекло, требующие для своего производства развитой промышленности как минимум земного типа.
Зал для заседаний Рорайма вполне отвечал назначению. Огромный, с амфитеатром расположенными сиденьями, окружающими подиум для председательствующих. Только, в отличие от подобных помещений на Земле, каждое место отделялось от прочих высокими глухими переборками. Никто не мог видеть своих соседей. В этом имеется свой смысл, подумал Андрей. Нужно будет, персональный ракопаук высунется из-под кресла, перекусит пополам несоответствующего, и никто ничего не заметит.
Поэтому они, не обращая внимания на слова и жесты хозяев, сразу прошли к столу президиума. С шумом сложили перед собой автоматы. «Артем» с каменным лицом стал сзади и сбоку, положив ствол «ПКМ» на согнутую руку так, чтобы под прицелом находились и сцена, и амфитеатр.
– Зачем это? – явно с подсказки Суннх-Ерма спросил Шатт-Урх. Иначе откуда бы ему знать о назначении этих металлических изделий? Интеллектуалы ведь с теми, кто заведовал производством и использованием здешнего оружия, якобы не соприкасались? И Шатт-Урх будто бы не подозревал, откуда и для чего их монстрам митральезы. – Здесь вам ничто не угрожает.
– Вам тоже, – ответил Антон, демонстративно обращаясь к Шатт-Урху. – Главное, чтобы никто не делал резких движений. Иногда ошибка бывает хуже преступления. Ты сообщил хозяину, что гравипушка флигера разнесет этот цирк шапито в пыль, независимо от нашей личной судьбы?
– Да, я довел это до его сведения. Как и то, что случилось со всеми отрядами, посланными на Землю. Почтенный Суннх-Ерм мне не хозяин, всего лишь первый среди равных, как я уже говорил. Он был очень удивлен, что такое мощное вторжение могло произойти без его ведома.
– Что еще раз подтверждает – имеется кое-кто повыше и вашей Рораймы, и даже, так сказать, тапурукуара, имеющих право стрелять по старшим товарищам без предупреждения. Переведи на свой язык, доступный ему русский не передаст всех нужных эмоций. Заодно и спроси, так, чтобы непременно ответил: почему эта военная каста остается вне власти Рорайма? Кому она подчиняется? У них бывают совещания равных в присутствии высших? – Антон спросил и тут же почувствовал, как электрические мурашки забегали по спине. И это у него, много чего повидавшего в разных жизнях, на разных планетах.
Бледнокожий председатель явным образом посерел лицом. Значит – опять попали!
Удолин толкнул Новикова коленом под столом. Приготовься, мол.
– Давайте, уважаемый Суннх-Ерм, перейдем наконец к делу, – начал Андрей. – Не менее уважаемый Шатт-Урх, прилетев к нам в Африку (если вы знаете, что это и где), объявил, что от имени касты урарикуэра желает заключить с землянами мирный договор. Мы пошли ему навстречу, приняли как друга и тут же получили плазменный удар. Не будем говорить о том, что для нас подобные штуки не опаснее укуса мелкого инсектоида. Это очевидно. Но как акт агрессии мы подобную выходку восприняли. Удержавшись при этом от нанесения ответа, могущего превратить в пар целый континент. Понадеялись, что переговоры будут продуктивнее тотального уничтожения.
– Что следовало бы оценить по достоинству, – неожиданно вставил Удолин, потихоньку занимавшийся своими некромантскими приемами в отношении всего «высокого собрания» и окружающей мыслесферы.
– Совершенно верно. Мы также не ответили достойным образом на последующие, никак не приемлемые в отношениях между равноценными партнерами атаки на нашу межзвездную базу. Просто уничтожили явившиеся с явно враждебными целями десантные отряды, и все. Но вы не остановились, как требовала бы нормальная логика. Вы стали наращивать силы вторжения. Нам это надоело, и мы прилетели специально, демонстративно на захваченном десантном корабле. Для того, чтобы глядя друг другу в глаза, спросить – что вам от нас надо? Если есть достойные обсуждения претензии – мы их обсудим. Если вы воюете только по причине инстинктивной агрессивности – наш ответ не заставит себя ждать. Земле не нужны соседи, не умеющие правильно мыслить и вести себя приемлемым для нас образом.
Очевидно, слово «инстинктивной» (в переводе на местные языки, для присутствующих «дуггуров» и их хозяев безусловно разные) переполнило чью-то чашу терпения. Вернее, не слово, а понятие. В любой культуре, особенно супертоталитарной, есть вещи, которых нельзя касаться безнаказанно.
«Товарищ Сталин, гений всего прогрессивного человечества» – звучит правильно в заданной системе координат. Ничего не гарантирует, но и поводом к репрессии не является. Если чуть изменить тональность: «Некий Джугашвили, кровавый тиран, прорвавшийся к власти», – десять лет «без права переписки» за такие слова – нормально. «С правом переписки» – это уже неизреченная милость.[100] Каприз вождя.
…– Слушай, может, я выйду, прогуляюсь тут вокруг? – спросил Ростокин у Шульгина. Ему надоело сидеть в кабине флигера, медленно нагревающейся от выкатывающегося из-за крыш Совета солнца. – Осмотрюсь, систему охраны прикину. Должны ведь быть у них какие-то посты? Куда дороги ведут, тоже интересно…
– Сиди, – сквозь зубы ответил Сашка. Очень ему происходящее не нравилось. Ребята ушли внутрь здания, и, значит, стрелять по нему нельзя, если что-то начнется. Других подходящих целей, разрушение которых могло бы деморализовать противника, здесь нет. Это тоже плохо. Враг не того сорта, чтобы угрожать ему уничтожением (или пленением) не представляющих ценности функционеров.
Что бы такое придумать, сразу ломающее всю схему, разработанную, возможно, тысячи лет назад и продолжающую безупречно функционировать до сегодняшнего дня?
Так в этом и беда тех самых пресловутых «высших», неважно, существуют они на самом деле или нет. Всей Системы в целом, пусть хоть миллион лет она процветала. Потому что не сталкивалась с историческим вызовом на совершенно другом уровне. Теперь вот столкнулась. Кто проявит больше гибкости и творческих способностей, тот и победит.
Мыслеформу Шульгин начал выстраивать под влиянием буквально только что пришедшего озарения. Раньше было бы надо, да что поделаешь? На фронте, на передовой часто такие решения приходят, о каких в тылу, сидя над картой со стаканом чая с лимоном, даже и не подозреваешь.
Вопреки предыдущей договоренности (переговариваться через роботов), он включил обычную полевую рацию, настроенную на такую же в МТЛБ. Мысли перехватывать дуггуры умеют, пусть не всегда, и очень редко – правильно, а КВ-сигнал, глядишь, прозевают. Если нет – тоже не беда.
– Игнат, ты на месте?
Ненадо ответил, что да. С дерева наблюдатель видит юго-восточную часть крыши. Вокруг все спокойно.
– Что и настораживает. Давай так. Машины с интервалом пятьдесят метров выводи вперед еще на километр. Пехота редкой цепью – следом. В пределах зрительной связи. ПТУРсы и «Василек» – на прямую наводку. «Аскольд» пусть идет самостоятельно, пока не увидит мой флигер из надежного укрытия. После этого – стоп. В полной готовности к открытию огня по любой цели. За исключением нас, – напоследок сострил он.
– Будет сделано. Не подведем, Александр Иванович.
Поговорив с капитаном, Шульгин нажатием кнопки на приводном маячке посигналил Левашову. Без обозначения пространственно-временных координат Олегу найти их в чужой реальности было бы затруднительно, слишком сильно сказывался принцип неопределенности. Несмотря на все старания, после пересечения барьера ведущий луч СПВ «медузу» потерял. Как радиолокатор теряет цель, скрывшуюся за грозовым фронтом.
– Живы? – облегченно спросил Левашов, увидев по ту сторону «окна» флигер и товарищей в отсеке управления с откинутым колпаком.
– Вроде этого. Сколько сможешь канал открытым держать?
– Сколько генераторы «Валгаллы» напряжение давать будут. Если гравитационная буря не случится.
– Ну и славно. Переключись на одностороннее окно и сиди, за мной присматривай. Я тут, как бывший циркач, хочу тебя в роли «бога из машины» поэксплуатировать. Наблюдай очень внимательно, я не знаю, что случиться может, вдруг на слова времени не останется. Самому тебе соображать придется. По месту. Ребята внутри, – он показал на «Дворец съездов», – переговоры ведут. «Артем» с ними, и они не дураки, так что от внезапных физических акций почти застрахованы. Нам с Андреем в двадцатом году на Николаевском вокзале труднее пришлось. Однако атмосфера вокруг – очень тяжелая. Душу выворачивает. Противно. Физически и психически.
– Коньячку хлебни, – посоветовал Олег.
– Хлебну, когда обстановка позволит. Ты вот давай, от пульта не отходя, человек пять роботов к себе отсвистай по тревоге. Пусть за спиной стоят. Кто со «Взломщиком», кто с ручными гранатами. И… – Сашке-специалисту внезапная светлая мысль пришла в голову, – химия нужна, боевая и демонстративная. Рысью кого-то на склад – вторая палуба, отсек шестнадцать-бэ. На стеллажах справа имеются баллоны с дихлорарсином, прямо так и написано. Чудесная штука, особенно при здешней перенасыщенной кислородом атмосфере. Убить не убьет, но минимум сутки кашель, рвота, слезы и сопли обеспечены любому количеству пациентов в радиусе километра. Включая инсектоидов. Тем вообще трахеи выжжет. Чуть дальше – шашки лежат с разноцветными ядовитыми дымами. Кого надо – напугает, нас – прикроет.
– А как же вы сами?
– В Политбюро не дураки сидят, как говорил товарищ Брежнев. В наших боекомплектах респираторы есть…
– Ты чего, Саш, с кем воевать собрался? – спросил внезапно появившийся за спиной Левашова Воронцов. Весь разговор он явно слышал, только до поры не вмешивался.
– На кой они мне сдались – воевать? Попугать если, поскольку к тому все идет. Ты, Олег, еще и мой карабин ртутный возьми. Ртуть, исходя из таблицы Менделеева, получше серебра должна по нечистой силе работать…
– Ну, вы там уже до этого дошли? – с явной иронией, направленной не на то, чтобы уязвить собеседника, а, напротив, его подбодрить, спросил Дмитрий.
– Спускайся к нам, сам и сообразишь, что, почем и как…
– Настаиваешь?
– Зачем? Не хочешь – просто постой у окошка, погляди. Сочтешь нужным – примем как родного…
– Из всего вышесказанного, уважаемые Рорайма, – сказал Антон голосом, независимо от наличия микрофонов достающим до самых верхних кабинок амфитеатра, – следует, что я, как представитель цивилизации, предназначенной сохранять мир, порядок и взаимопонимание между любыми разумными существами Вселенной, предлагаю высоким договаривающимся сторонам, – он широким жестом указал на Суннх-Ерма и землян, – приступить к переговорам без всяких предварительных условий. Сначала пусть выступит хозяин здешнего Совета с изложением всех имеющихся претензий и пожеланий в адрес своих соседей по планете. Затем мы выслушаем другую сторону.
Предупреждаю об одном условии, обязательном в Галактике, – совещание может закончиться только достижением взаимного согласия. В противном случае, я облечен полномочиями разрешить спор по собственному усмотрению.
Сказано было сильно, тем более, что свои слова Антон сопроводил должного уровня ментальным посылом.
Форзейль сознавал, что не к этим существам, выглядящим почти как люди, он обращается. Надеялся, что его слова тем или иным образом доходят до истинных хозяев здешней реальности. Совершенно правдивые слова, кстати, за одним несущественным исключением – объявленные только что права Антон потерял вместе со званием Тайного посла. Но кто об этом мог знать, кроме… Кроме директора-распорядителя Галактического цирка.
– Тревога! Ложись! – не своим голосом вскрикнул Удолин, будто опытный солдат, услышавший свист падающей прямо на позицию авиабомбы. Одной рукой с невероятной силой дернул за пояс Новикова, другой – Антона, между которыми сидел. И свалил их на пол, под крышку обширного, наверняка не сколоченного руками, а выращенного стола.
На зал обрушилась темно-коричневая, вся пронизанная оранжевыми искрами и пронзительно-сиреневыми сполохами, вроде северного сияния, мгла.
– Держим, держим защиту, – не то кричал, не то беззвучно бормотал Удолин прямо в ухо Андрею, которого он накрыл своим костлявым, но очень крепким телом.
Новиков и так свою держал, не совсем понимая, от чего именно. Вроде как Портос уперся могучей спиной в оседающий, грозящий раздавить всех каменный свод. На одних инстинктах держал. «Как самый примитивный дуггур», – мелькнуло краем сознания.
Тут же услышал, как ровной строчкой бьет пулемет «Артема». Роботу было наплевать на психический удар любой мощности, его позитронный, а может и нейтринный процессор, нерасторжимо связанный с главным сервером «Валгаллы», не реагировал на посторонние воздействия. Обстановка вышла из-под контроля людей-хозяев, и он выполнял последний по времени приказ.
«Артем» даже в этой безусловно мистической, не имеющей отношения к нормальным законам природы и оптики тьме видел как днем. Приподняв ствол «ПКМ» вверх на нужный угол и присев на одно колено, робот стрелял. Через каждые пятнадцать выстрелов он на секунду отпускал спусковой крючок, потом нажимал снова.
В его поле зрения по залу метались существа-предметы, больше всего похожие размером и видом на солдатские байковые одеяла. С шаровыми молниями по углам. Робот-андроид-киборг умел включать, в случае крайней необходимости, такие органы чувств, о которых люди-хозяева не имели понятия.
Разве может охотничья собака объяснить даже тому, кто ее с щенячьего младенчества на своих руках вырастил и воспитал, как в зарослях высокой гречихи удается перепелку сначала учуять, невзирая на массу посторонних, куда более сильных запахов, стойкой поднять, указав хозяину, выстрела дождаться, а потом убитую найти и принести?
«Артем» видел сущность использованного врагом порождения тьмы. Для него предыдущее слово большой буквы не требовало. Тьма – отсутствие света, всего лишь. Зато «одеяла» на рвущие их трассирующие пули реагировали. Не нравилось им это. Те, что не падали, начали сворачиваться в длинные прямые рулоны и улетать, прямо сквозь потолок.
Передавая, согласно приказу, своему дублеру «Аскольду» суть и смысл происходящего, «Артем», чтобы и хозяин-Александр понял, выпустил остаток ленты в том же направлении. Если еще не услышал, так увидит зеленые трассеры, вылетающие наружу.
Выплюнув десять пуль, лента кончилась. Робот отскочил на другую, более удобную, на его взгляд, позицию, отбросил пустую коробку и пристегнул новую. Люди, в темноте лежащие под столом, живы. Команды «отбой» не поступило, и он готов был продолжить. Но не в кого стало. Тех, что в ужасе лежали сейчас на полу своих кабинок, трогать приказа не было.
Новиков чувствовал, что в отличие от инцидентов, имевших место на Валгалле, сейчас происходящее не действует на психику. Только на периферические нервы, которые, впрочем, болели невыносимо. Все сразу. Пульпит в тридцати двух зубах, распространенный на остальные двести костей.
Шульгин увидел неизвестно откуда возникшую тучу (опять тучу! Все африканские эскапады дуггуров ими непременно предварялись!), безусловно грозовую, судя по структуре и конфигурации, возникшую над восточной стороной горизонта и налетевшую в минуту, а то и быстрее. Только о существовании коричневых туч он никогда в жизни не слышал. Не тот цвет. А заметив, что она выпускает снизу вьющийся, похожий на торнадо жгутик, становящийся все толще и страшнее, направленный прямо в центр крыши здания, скомандовал Ростокину:
– Бей. На полную!
Кто его знает, была бы туча нематериальной – может, тут же всем и амбец! Но если стократная гравитация способна, по Эйнштейну, отклонять орбиты звезд, не говоря о жалких фотонах, то выстрел гравипушки, педаль которой Игорь не отпускал до самого конца батареи, сделал свое дело. Левую сторону дома Рорайма, попавшую в зону захвата луча, всей мощью направленного в центр тучи, размазало по земле в мелкий строительный мусор, самые крупные обломки вдавив до куполов подземных карстовых пещер. По центру здания Игорь не стрелял, опасаясь поразить своих, и он выглядел целехоньким.
– Все, Александр Иванович. Заряда секунд на десять осталось, – доложил Ростокин, откидываясь на спинку кресла оператора.
– Ну и хер с ним! – отозвался Шульгин. – Где туча? Нет тучи…
Действительно, небо снова сияло яркой синевой. А то, из чего могла состоять «туча», превратилось в мезонный пар или и того мельче.
– Нормально у нас все получается, – сказал Ростокин почти спокойным голосом. Только никак не мог попасть пальцем в кнопку портсигара. Руки тряслись, будто после удара тока в триста восемьдесят вольт. Задело и их с Сашкой каким-то излучением. Но не сильно.
Шульгин ему помог. И себе взял сигарету.
Дым и пепел над площадью оседали медленно. Шульгин перебросил ноги через вырез борта, чтобы рвануться в рушащееся здание, помочь, если не опоздал, ребятам.
И прямо перед собой, в десятке метров, не больше, увидел солнечного красавца двухметрового роста, с рассыпанными по плечам золотыми волосами. Один в один как те, о которых рассказывала с замиранием сердца Лариса.
Только Шульгин к таким зихерам был нечувствителен. Ему бы лучше мрачного неумытого типа с темным ежиком от бровей и руками до колен сплошь в наколках предъявили. Интереснее, на его вкус.
На всякий случай Сашка приготовился выдернуть из кобуры пистолет быстрее, чем часы сделают «тик», но не успеют стукнуть «так».
– Достаточно, Александр Иванович, – ярко улыбнулся «ангел». – Вы свои способности показали, мы – свои. Пора поговорить на равных…
Сашка ухмыльнулся одной из своих знаменитых улыбочек. Специальной. Друзья знали, что она означает. Прочим обычно не хватало времени, чтобы оценить.
– Конечно, парень, конечно. Как иначе? Только разобраться бы следовало, что значит «на равных»? И кто на чьей сейчас территории. Мы на твоей или ты на нашей?
– Это важно? – удивился юноша.
Шульгин прикинул – ему никак не могло быть больше восемнадцати лет.
– Крайне! – назидательно поднял он вверх указательный палец левой руки, поскольку в правой так и держал направленный в лоб «ангелу» пистолет.
Одновременно, дернув головой в сторону невидимого за «окном» Левашова, бросил по-немецки (первый язык, что на язык попросился):
– Срочно сюда Ларису. Пять минут… А ты присядь, потолкуем немного, – указал, куда именно. – Если мои друзья живы-здоровы – один разговор получится. Если нет – совсем другой…
Ростокин бежал к полуразрушенному зданию, с ужасом представляя – вдруг он своим бесшабашно-страшным ударом друзей зацепил. Или их еще раньше…
Остановился в вывернутом наизнанку коридоре, облегченно вытер пот со лба. Порядок. Все здесь и все живы. Удолин шел впереди как ни в чем не бывало, непрерывно изрекая при этом нечеловеческие заклинания пополам с обычными матерными. Для пользы дела или просто в ажиотаже. За ним Антон вел, обняв за поясницу, прилично контуженного, но самостоятельно переставляющего ноги Новикова. «Артем» прикрывал отступление. Шатт-Урха с ними не было. Да и кому он сейчас (и теперь) нужен?
Ростокин подхватил Андрея с другой стороны.
– А это у нас тут кто? – спросил Антон, опустив Новикова на теплый бетон возле флигера и с интересом оглядывая дуггура непривычного типа.
– Да вот, появился наконец товарищ из всерьез мыслящих. Добились мы своего… – ответил Шульгин.
– Хорошо… – Антон не успел закончить фразу, как на площади через на секунду приоткрывшееся окно возникла Лариса.
Злая, как мифическая фурия.
Нет, ну вы себе представьте – только что сэр Мэнсон Хиллард, войдя в полную силу, организовал собственный бал (пир во время чумы, если Пушкина вспомнить), миледи Отэм на нем царила, и слухи перелетали, будто она скоро адмиральшей станет. Танцует с увлечением и азартом. И вдруг возле уха – тихий голос мужа: «Быстро отойди за ближайшую колонну!»
Она привыкла повиноваться боевым командам. Выпустила из пальцев руку кавалера, что-то сказала, не задумываясь о смысле. Скрылась за колонной, и тут же – рамка прохода. Один шаг – уже «Валгалла».
– Что случилось? – раздраженно выкрикнула она в лица Левашова и Воронцова.
– Потом объясним. Туда! – Олег подтолкнул ее к окну, открывшемуся совсем в другое измерение.
– Да что вы…
И она уже стоит на бесконечной плоскости яркого бетона.
Вот секунды назад Лариса была царицей бала! Куда там пресным английским дамам, на которых нормальному человеку без внутреннего протеста смотреть невозможно! Сама собой редкая красавица, и последние парижские туалеты, и туфельки на десятисантиметровых шпильках, от которых ее предостерегал Кирсанов, а она удержаться не смогла. Макияж такой – Клеопатра отдыхает. Восхищение, злоба и зависть кейптаунского общества сочетались примерно в равных пропорциях.
И вдруг – появилась здесь ниоткуда, повела вокруг сверкающими глазами, взмахнула тщательно накрашенными ресницами, попутно выражаясь один в один с боцманом славного крейсера «Рюрик». Достали ведь, со своими эскападами историческими… Зацепилась взглядом за только что вышедших из очередной заварухи друзей и тут же увидела ЕГО!
Рефлекторно шлепнула ладонью по бедру, но под этим платьем у нее пистолетов не было.
Но и без этого все сейчас выходило наоборот. «Ангел», или, скорее, «ангелочек» поплыл при виде этой женщины. Своей мечты. Его не слишком отягощенное печатью интеллекта лицо Нарцисса повело гримасой плотского вожделения. Чему удивляться – тщательно культивируемые для других инстинкты не могут не зацепить и «культиваторов». Тем более что такие инстинкты – они и в Африке не слабее, чем в странах развитой эротической культуры, вроде Индии.
Тот раз они накрыли Ларису волной невыносимой сексуальной жажды, сейчас она ответила тем же. Не зря в пещерах пропускала по нервам генерируемые «дисками» сигналы, запоминая и усваивая то, что может пригодиться в предстоящей войне. Большинство обычных людей под невыносимым психологическим напором, страха ли, алчности, чего другого, просто сдаются на милость победителя. Меньшая часть держится, пока не сломается, вроде твердого дерева. А Лариса была как бы ивой – пригнуть можно, но не больше. А уж разогнется – не взыщите.
Юноша смотрел на нее, едва ли не слюни пуская, а что там у него под тогой творилось…
Сейчас из всех присутствующих только Шульгин сохранял полный самоконтроль и мог оценивать обстановку. Кажется, они выигрывали. Выигрывали по всем статьям. Лариска была зверски хороша своей ефремовской раскованной сексуальностью. Но он ее видел и в других вариантах. Посложнее и покруче. Где она умела быть просто страшной. Без оговорок.
– Иди ко мне, мальчик, – поманила рукой Лариса, медленно отступая к флигеру. – Будешь себя хорошо вести – полетим сейчас в наши края. Там куда интереснее, чем в пещерах. Ты был там – с теми, что меня ловили? – она выбросила вперед руку.
– Был, – покорно согласился «ангел», как готовящийся к порке гимназист. – Отцы нас послали. Они сказали – вам пора знакомиться с женщинами. У нас для «высочайших» подходящих женщин мало. Зато мы умеем делать послушными женщин из вашего мира.
– Промазали, мальчики, ох как промазали, – сказала Лариса, внезапно успокаиваясь. Она думала, что с самими «высочайшими» встретилась, а тут – детишки. В старые времена для таких специальных горничных нанимали, чтобы научили чему надо, и без последствий.
– Придется вас в другом месте повоспитывать. Игорь, ты в порядке? Помоги пареньку в портал войти…
Левашов, из предосторожности так и державший «окно» в одностороннем режиме, при этих словах его открыл.
Ростокин ощутимо ткнул «ангела» прикладом в поясницу.
– Я сам пойду, – он не отрывал глаз от Ларисы, все больше убеждаясь, что «отцы» не ошибались, устраивая охотничьи экспедиции за земными женщинами.
Только Удолин остался равнодушен к происходящему. Гораздо больше его волновало другое.
– Ребята, когда нас в зале накрыло, я еще кое-что почувствовал. Даже для меня с трудом переносимое. Шатт-Урх ментально визжал, как поросенок. Ихний «спецназ» за нами идет. Пора сматываться. Этот пацаненок, попросту говоря, сдуру высунулся. Решил себя в «настоящем деле» испытать. Заодно и выяснить, как бы с Ларисой еще раз повидаться… Он сам там не был, но картинки, привезенные салагами постарше, видел. И запал, как у вас говорят…
– Тогда – бегом, – распорядился Шульгин. – Сами живы, заложника имеем. Будет о чем с «папашами» поговорить.
– Да-да, быстрее, парни, быстрее, – непривычно суетился Удолин. – Вий приближается… Совсем скоро полночь, часы начинают бить… Пятый удар, кажется…
– Какая, на хрен, полночь? – возмутился вставший на ноги Новиков. – Утро в разгаре…
– Это здесь – утро. А там…
Константин Васильевич, не соблюдая больше никаких правил этикета и субординации, изо всех сил толкнул Андрея в окруженную сиреневым ободом рамку.
Василий Звягинцев Мальтийский крест Том 1 Полет валькирий
Если бы всё прошедшее было настоящим, а настоящее продолжало существовать наряду с будущим, кто был бы в силах разобрать, где причины и где последствия?
Отыщи всему начало, и ты многое поймешь.
Новиков с товарищами безусловно навели на базе достаточно шороха, чтобы дутгуры призадумались. Едва ли немедленно повторят попытку вторжения. Рано или поздно наверняка повторят, но не в ближайшие же сутки! После тяжёлого боя с неожиданными и громадными потерями положено привести расстроенные ряды в порядок, проанализировать ошибки, оценить ситуацию, наметить новую тактику. Кем бы они ни были, наспех такие дела не делаются.
А Валентин пока успеет удалить из архивов машин кое-какие опрометчиво оставленные там данные, в нужную сторону перенастроит уцелевшие программы, чтобы попытавшиеся с ними работать «посторонние» получили несколько малоприятных сюрпризов, ну и перегнать в посёлок ещё семь флигеров, загрузив их всевозможной боевой техникой, а главное — гравиаккумуляторами, которые весьма пригодятся для грядущих битв. Да и на Земле они не будут лишними, когда Валентин надумает туда вернуться. И не только для него.
Курсантки, одетые по-боевому, в тёмно-синие обтягивающие комбинезоны, вооружённые автоматами и пистолетами, выглядели весьма эффектно, даже на взгляд Лихарева, вроде бы уже успевшего к ним привыкнуть. В общей массе и в повседневных костюмах они не производили столь яркого впечатления. Шарма им придавало и приподнято-возбуждённое настроение. Все они чувствовали себя как юнкера накануне производства в офицерский чин.
Только те переходили в новое качество, оставаясь теми же самыми людьми, что и накануне, а эти, вернувшись с задания, официально превратятся из «условных» в полноценных личностей. Так решила Дайяна, и Валентин с ней согласился.
Над левыми нагрудными карманами они впервые прикрепили ленточки с нормальными человеческими именами.
Пусть обряд «инициации» по-настоящему прошли только Анастасия, Мария и Кристина — девушки, сдавшие зачёт по курсу практической сексологии. Дайяна, планируя скорое возвращение на Землю, собиралась использовать своих воспитанниц в качестве невест для наиболее перспективных фигур высшего света. А в этом деле умение с первой же встречи вызвать у объекта вспышку неконтролируемой страсти (или возвышенной любви) и в дальнейшем этим чувством умело руководить — главное, если не всё. У Марии и Кристины получилось, как учили, у Анастасии — наоборот. Узнай Дайяна, вместо зачёта девушка имела бы серьёзные неприятности. Вплоть до перевода в обслуживающий персонал[1].
Остальные четверо из их группы, пусть для них в этот раз учебного материала не нашлось, тоже были сочтены достойными, прежде всего из соображений прагматических — чтобы не разбивать сложившуюся «тактическую единицу», подобранную по принципу психологической взаимодополняемости и настроенную на коллективное решение будущих задач.
— Ну, девочки, полетели, — сказал Валентин, садясь на пилотское место.
Рядом, положив автомат на колени, устроилась Анастасия, по бывшему списочному номеру в своей группе всего лишь третья (287), а выше неё раньше считались теперешние Марина (285) и Герта (286), но с присвоением имён иерархия изменилась. Они отступили на нижние ступеньки, как и Инга (288), и Людмила (290). Зато, благодаря наведённой Новиковым подпрограмме, Настя ощущала себя лидером, держалась соответственно, и, что самое интересное, никому не приходило в голову эту роль оспаривать. Очевидное преимущество аггрианской системы. В коллективах настоящих земных женщин внезапные статусные перестановки безболезненно не проходят.
Если бы Лихарев видел фильм «Белое солнце пустыни», он наверняка вспомнил бы Гюльчатай: «Господин назначил меня любимой женой». Таких внезапных выдвиженок, в соответствии с обычаями гаремов, обычно тем или иным способом устраняли. Если они не успевали своевременно принять нужные контрмеры.
Здесь же девушки без малейших споров и даже сомнений разместились в пассажирском отделении, оживлённо переговариваясь исключительно на темы, имеющие отношение к предстоящему делу. Да других у них пока что и не было. Всё впереди.
Лихареву не только разговаривать с бойцами своего отделения, но и просто смотреть на них было интересно. Психологически. Он сразу обратил внимание, насколько иначе, чем их подруги, держатся курсантки, всего несколько часов пообщавшиеся с лидерами «Братства». Будто успели получить какие-то специальные инструкции и обещания на будущее. Возможно, так оно и было. О способностях Новикова, Шульгина и Левашова он имел достаточные представления. А если даже никакой специальной вербовки не произошло, значит, сам факт проведённой с настоящими мужчинами ночи изменил их самоощущение и самооценку. Не удостоившиеся подобной чести подруги с этим безоговорочно согласились.
У Дайяны на них свои планы, у него — свои. После встречи с членами «Братства» он убедился, что препятствий к его возвращению в Кисловодск они чинить не станут. И что в таком случае его теперь связывает с «хозяйкой»? Сидеть на Таорэре и ждать очередного вторжения дуггуров нет никакого смысла. Вся затеянная им под нажимом Дайяны авантюра выглядела откровенной глупостью.
Впрочем, это ещё как посмотреть. Очень может быть, что всё случившееся — к лучшему. Сейчас они с девушками слетают на базу, сделают, что наметили. Будет время накоротке поговорить с каждой, сообразить, кто чего стоит. Намекнуть на достаточно близкие отношения с восхитившими их мужчинами. Пообещать, что после перемещения на Землю придумает им занятия поинтереснее того, к чему готовила их «хозяйка».
Одним словом, он начнёт формировать свою «пятую колонну».
И, как от Сталина в тридцать восьмом, выбрав подходящий момент, сбежит «домой», в 2006-й. А при чём тут кавычки? Действительно домой, где его ждёт Эвелин, наверняка напуганная, расстроенная, впавшая в панику от его исчезновения. Одна, в чужой стране… Подгадать по времени, чтобы вернуться через два-три дня, как-то всё ей объяснить и продолжить прежнюю жизнь, ещё раз согласовав с «братьями» дальнейшие «условия и правила совместного плавания». Больше он таких пробоев не допустит[2]…
Лететь было не очень далеко. Даже на половинной скорости минут двадцать — двадцать пять. Установив направление и высоту, Валентин повернулся к Анастасии. Девушка с интересом смотрела на разворачивающийся внизу дикий горный пейзаж. Скорее всего, так далеко она от лагеря никогда не бывала.
— Нравится ? — спросил он как можно более мягким и благожелательным голосом. До этого Валентин Валентинович с курсантками общался мало, Дайяна предпочитала, чтобы он занимался другими делами, вне воспитательного процесса. Оберегала свою епархию, как мать-настоятельница — послушниц от контактов с мирянами противоположного пола.
— Восхитительно. Летела бы и летела… Представляю, как хорошо будет на обратном пути самой сесть к пульту…
— Да, это приятно. Особенно поначалу. А вот ты мне скажи, пожалуйста, Андрей Дмитриевич тебя в гости приглашал?
Анастасия всё случившееся между ней и Новиковым в деталях доложила Дайяне и не могла, по идее, что-либо утаить или исказить, но мало ли… По собственному опыту знал, как аккуратно иногда удается обходить вроде бы категорические императивы.
— Нет. — Она посмотрела на него ясными глазами. — Сказал только, что если ещё придётся встретиться, поможет мне устроиться в новой жизни, во всём, что от него зависит.
— И ты ему поверила?
— Как же можно не поверить? Такому человеку! — В голосе девушки прозвучало искреннее удивление и даже некий намёк на возмущение. — Вы же его знаете намного лучше меня…
— Это так, — ответил Лихарев. — Верить ему можно и даже нужно. Только где же вы с ним можете встретиться? При его образе жизни…
— Неважно. Где-нибудь наверняка встретимся. Он ведь не стал бы напрасно говорить…
— Завидую я тебе, — машинально сказал Валентин, всматриваясь вдаль.
— В чём? — Настя относилась к тому типу натур, которые любят во всём добираться до сути.
— Вообще. Блажен, кто верует, тепло ему на свете… Смотри, смотри, что это там?
Он сдвинул с верхней кромки лобового стекла электронно-оптический бинокуляр, подался вперёд, поворачивая верньер трансфокатора.
— Ох ты, чёрт! Натуральная боевая «медуза»…
Да, это был не тяжёлый, почти не вооружённый транспорт, а нечто вроде штурмовика, или, если по морскому — лёгкого крейсера. Значит, после учинённого «братьями» разгрома сюда срочно выдвинулись силы прикрытия. Для предварительной разведки или с целью немедленно нанести карающий удар по дерзкому противнику.
— Уходим, Настя, уходим, — сквозь зубы процедил Лихарев, закладывая крутой вираж со снижением. — Нам против такого не выстоять… Ах ты, мать вашу! — не стесняясь девушки, он завернул от души. Чему-чему, а специфической лексике самых разных слоёв общества Гражданская война его научила.
Снизу-слева наперехват выходила ещё одна такая же мерзкая штуковина.
— Давай, Настя, к бою! Стреляй по готовности!
Девушка, не задумываясь, на автомате, запорхала пальцами над пультом управления гравипушкой.
Не прошло и пяти секунд, как она поймала косо летящую, похоже, разворачивающуюся в их сторону мантией и щупальцами «медузу» в визир прицела, выплеснула ей навстречу гравитационный конус. Мощности заряда хватило, объект на глазах смялся в комок, как пластилиновая фигурка в кулаке, с двадцатикратным, против нормального, ускорением провалился вниз, на заснеженные скалы.
— Есть! — восторженно закричала Анастасия, испытывая естественную радость от первой победы в воздушном бою.
Лихареву восторгаться было некогда. Он разворачивал флигер навстречу атакующему сверху противнику. И уже чувствовал, интуитивно, что не успевает. И Настя тоже не успеет, они наверняка уже «на мушке». Всё же не на «И-16» или «Чайке» он летит, и сам не Чкалов, не Серов…
Девушка ещё не догадалась, что — всё, приехали! И остальные, за спиной — тем более. Валентин выплюнул последнее короткое, как промелькнувшая жизнь, ругательство, ожидая… последнего (теперь точно не «крайнего») мига…
Терять было нечего, Лихарев попытался изобразить нечто вроде «боевого разворота» в противоположную от «медузы» сторону и…
Полностью поглощённый усилием вывернуться из-под удара и одновременным ожиданием «одномоментного и полного разрушения организма», при котором никакой гомеостат не поможет, он не успел осознать, каким образом окружающий мир вдруг разительно изменился.
Другого цвета небо в полосках перистых облаков окружало их, вместо остроконечных пиков и хребтов внизу гладкая зелёная равнина с разбросанными там и тут купами деревьев. Высота — около километра. Неуправляемый флигер с креном скользил в сторону куполообразного, заросшего то ли высоким кустарником, то ли низким лесом холма.
— Что такое, что случилось, где мы? — не испуганно, но крайне удивлённо вскрикнула Настя, не столь поглощённая ожиданием смерти и, по молодости, увидевшая всё другое быстрее и ярче.
— В раю, — криво усмехнулся Лихарев, выравнивая машину. Да, можно и так сказать. Они, считай, уже почти умерли, а как назвать место, куда попадают после того? На ад не похоже, значит…
Главное — понять, кто это так своевременно вмешался? Дайяна — вряд ли. Просто не успела бы. Мог кто-то из «Братства», если специально назначенный человек постоянно отслеживал их маршрут. Тогда почему просто не ликвидировали вражеские аппараты, вместо перехвата флигера другой реальностью? Или — снова «третья сила», и они сейчас оказались вообще неизвестно где и неизвестно для чего. Наконец — не есть ли это очередной ход «дуггуров»? Вместо выстрела на уничтожение — финт, вроде своеобразной «ловчей ямы». Загонщик ценой собственной жизни направил добычу в нужное место.
Всё это промелькнуло в сознании Валентина быстрее, чем рефлексы заставили выровнять машину по тангажу и крену.
И что теперь делать? Выбрать подходящее место и садиться или полетать ещё? Пейзаж подозрительно знакомый. Он повернул голову. Ну да, так и есть. И Бештау на горизонте присутствует, и прочие лакколиты[3] Пятигорья. Километров двадцать по прямой, и выйдешь к точке, где и место для аккуратной посадки найдётся, и до дома недалеко. Знать бы только, в какое время их занесло.
Выяснить это можно не далее как через минуту. Ещё один вираж в сторону Змейки, рядом с которой должна проходить железная дорога, и всё станет понятно с точностью до столетия. Если её нет — первые две трети девятнадцатого и раньше. А если пути существуют, то по наличию или отсутствию столбов контактной сети станет ясно, какая здесь половина двадцатого. Повезёт увидеть идущий поезд — по экстерьеру локомотива и подвижного состава дата уточняется до пятилетки.
Но и этого не потребовалось. Слева, с противоположной от Анастасии стороны, раздался тихий голос:
— Живы? Ну и слава богу…
Валентин узнал Левашова. С огромным облегчением сообразил, что именно им и устроено чудесное спасение. Каким образом — тоже понятно. Почти.
— Это… Что это было? — пересохшим горлом, поперхнувшись, спросил он.
— Спокойнее, — ответил Олег. — Не создавай ажиотажа среди вверенного контингента. Девушкам ничего не нужно слышать. Пока. Сначала разберёмся…
— Ага, — Лихарев покосился на Настю. Она, похоже, в смысл его междометий и отрывочных слов не вникала. Слишком сильны были впечатления от остального.
— Сажай машину на ближайшую полянку, и чтоб кусты вокруг погуще, тогда и поговорим…
Валентин так и сделал, благо это было нетрудно.
— Запросто. Таких здесь хоть пруд пруди.
Опять семантическая избыточность русского.
При чём тут поляны и причём пруд?
Об этом его спросила Анастасия. Оказалось, он ответил Левашову вслух, и она именно эту фразу целиком услышала.
— Ну, говорят так, — расслабившись и почти мгновенно начиная забывать о пережитом, тяжёлом с непривычки стрессе воздушного боя, ответил он. — «Хоть пруд пруди» — значит «неограниченно много». Почему так — спроси у Даля, Владимира Ивановича, шведа, составившего словарь «Живого великорусского языка» в 200 тысяч слов, плюс сорок тысяч пословиц и поговорок…
Легко очень стало на душе у Валентина, когда он с выключенным двигателем планировал к земле, зная, что всё плохое кончилось и умирать снова не пришлось. Отчего же и не порисоваться перед красавицей-девчонкой, которую он при других обстоятельствах охотно сделал бы своей любовницей.
Убедившись, что в радиусе нескольких километров некому заметить его приземление, Лихарев сбросил скорость до нуля и вертикально опустил флигер на жёсткую траву, пробивающуюся между выходящими на поверхность буграми и плитами жёлтого ракушечника. Откинул колпак фонаря. Поднялся на ноги и с трудом переступил через вырез борта. Не только лоб и волосы, вся спина под курткой была мокрой от пота.
Ватага девушек высадилась следом, с неприкрытым интересом, словно маленькие щенки или котята, впервые выпущенные на волю, возбуждённо осматриваясь, жадно втягивая незнакомые запахи…
Вольер, горный изолят, закрытое от мира учебное заведение — и вдруг абсолютная воля. Она ведь, воля, чувствуется, неизвестно каким органом, но безусловно. Стоило самому Лихареву попасть из сталинской Москвы тридцать восьмого в совершенно чужой две тысячи шестой год другой реальности, он осознал психологическую разницу в первые же минуты. Эгрегор, ноосфера и тому подобное…
Время суток здесь было совсем раннее, судя по положению солнца — часов около семи, учитывая, что попали они в начало осени. Часть кустов и деревьев оставались зелёными, большинство же сияли всеми оттенками жёлто-багряных тонов.
— Курсантки! — вновь ощутив себя командиром, а также и для поддержания порядка и конфиденциальности, возвысил голос Валентин. — Слушать мою команду. Оружие на изготовку. Выдвинуться радиально, с интервалом тридцать метров, по периметру поляны. Замаскироваться между деревьями. Ждать нападения со всех азимутов. Без команды огня не открывать. Исполнять. Анастасия — остаёшься при мне.
Минута — и девушки, прошедшие очень солидный «курс молодого бойца», растворились в окружающей местности. Довольные, радостные, готовые подтверждать и подтверждать вновь обретённый статус до последней капли крови.
«Везёт же, — подумал Валентин, вспоминая себя в их возрасте и положении, — главное — ни малейших сомнений в смысле существования… Сейчас бы и мне так…»
А вот Анастасия выглядела другой. Или Новиков перестарался, вводя в неё свою программу (о чём Лихарев, разумеется, знать не мог, разве только догадывался), или она исходно оказалась «дефектным экземпляром», как он сам, как Ирина Седова…
Девушка смотрела на старшего не так, как подобало бы. Без почтения и восхищения. Место «старшего» для неё раз и навсегда занял Андрей Дмитриевич. Доминантно.
Хотела, наверное, что-то спросить, держа, согласно приказу, автомат на ремне под правым локтем и сторожко поглядывая по сторонам. Но тут возникла в трёх шагах знакомая сиреневая рамка, сквозь неё вышел навстречу Левашов, одетый в лёгкий рабочий костюм, принятый волей Воронцова на «Валгалле» — синий хлопчатобумажный китель ещё дореволюционного образца, такие же брюки, мягкие туфли на нескользкой подошве. По привычке к «вольности дворянства» крючки воротника и даже верхняя пуговица расстёгнуты, приоткрывая ворот тельняшки. Моряк-то Олег был настоящий, лет пять бороздил моря и океаны, «шарик» три раза обошёл, не считая десятков более коротких рейсов.
— Привет, Валентин, привет, Настя, — широко улыбнулся он. — С возвращением вас…
— Откуда и куда? — спросил Лихарев.
— Не мальчик уже, сам всё понимать должен. Это Настя не в курсе наших игр, а ты — вполне. На КМВ вы благополучно возвернулись, в известный две тысячи шестой дубль, откуда ты так опрометчиво отлучился.
«Надо же, — про себя удивился Лихарев. — Только подумал, что пора сматываться — и уже здесь. Да и девчонки со мной. Без всяких интриг и ухищрений».
— Самоволки — они, бывает, ой как плохо кончаются, — назидательно продолжал Левашов. — Так что тебе, считай, опять по-крупному повезло. А вот ей, — он кивком указал на Анастасию, — и остальным девчатам — уж и не знаю. Что живы остались — это конечно… Но домой они уже никогда не вернутся, однозначно. Придётся здесь устраиваться…
— Почему — не вернёмся? — недоумённо спросила девушка.
— Законы природы, — расплывчато ответил Олег. — Ты сходи за подругами. Минут через десять подходите все сюда. А нам нужно наедине кое-что обсудить.
Анастасия послушно повернулась и пошла в сторону опушки. Счастливая уже тем, что увидела ближайшего друга Андрея Дмитриевича. Очень возможно, что и он сам скоро появится… А ещё ей очень хотелось обрадовать Кристину.
Левашов сел на траву, оперся спиной о борт флигера, достал из одного кармана сигареты, из другого — обтянутую кожей фляжку.
— Угощайся. Повод есть, мне кажется.
Лихарев сделал пару больших глотков, вернул ёмкость Олегу.
— Так всё же? Хватит темнить…
— Никто не темнит. С воскрешением тебя. В самом буквальном смысле. Сбили вас в реале. В дым и мелкие дребезги. Хоронить было нечего, кроме нескольких железок. Андрей с Сашкой, вновь на Валгаллу вернувшись только через полтора месяца, ввиду обстоятельств, узнали про вашу «конфузию»[4], огорчились, решили на условную могилку слетать, помянуть, как водится. Не чужие, сам понимаешь, люди.
— Как не понимать. Девушки, что с вами были, с тех пор прямо-таки бредят образами «настоящих мужчин».
Сказал это Лихарев странным тоном. Не очень Олегу понравившимся.
— А ты чего хотел? Сами же их подобным образом воспитывали, только в противоположных целях. Не тебе на эту тему иронизировать…
Левашов из всей компании казался Валентину самым мягким, временами «не от мира сего», но это только потому, что не приходилось им сталкиваться в серьёзных ситуациях. И сузившиеся глаза инженера отчётливо намекнули, как говорят в Одессе — «горячим утюгом в грудь», что не стоит нарываться. Даже в случае кратковременного нервного расстройства, которое аггрианина безусловно посетило. Умирать и воскресать он пока ещё не привык.
— Усеки на всякий случай, если бы не эти девушки, лично тебя спасать едва ли кому в голову пришло. Поскольку в случае необходимости твой дубль легко и из тридцать восьмого ещё раз выдернуть. Как функциональная фигура — ничуть не хуже нынешней. Даже лучше, поскольку… свою роль исполнял бы и дальше, а весь кусок биографии с дурацкими инициативами — стёрся… Доходчиво?
Андрей и Сашка не поручали ему проводить воспитательную работу среди одного из Лихаревых, но Олег был человеком эмоциональным, с обострённым чувством не только справедливости, а и вообще.
Правда, сразу же взял себя в руки, ибо на уточнение позиций оставалось не так много времени, пока девушки не возвратятся.
— А раз доходчиво, в чём я отчего-то не сомневаюсь (он и шульгинские нотки умел подпускать при случае), слушай сюда и дальше. Ребята вдруг подумали, а нельзя ли и этот вариант переиграть? Прямо с вашего мемориала связались со мной и дали вводную. Я в тот момент находился на пароходе в районе тысяча девятьсот двадцать пятого. Опять на ваше счастье. Только оттуда можно было (с любой другой координаты — никак) выйти в параллельное будущее гораздо раньше, чем мы там побывали, переместившись из Замка. Ну, ты помнишь. Ещё помнишь?
Лихарева вопрос насторожил. Да, как появились все трое на Таорэре, традиционно повоевали с очередными пришельцами, в поле и на Базе, потом, разыскав в компьютерах его письмо, тоже ведь обращённое как бы из будущего в прошлое, прилетели в тренировочный лагерь последних кандидаток в агентессы и что там делали, он хорошо помнил. Как же иначе? По его счёту, между их появлением и только что случившимся воздушным боем прошло три дня. По словам Левашова, полтора месяца. Спасать он их явился из восьмидесятилетней глубины времён. На самом деле — неизвестно откуда. И — почему, а главное — зачем?
— То есть, на ваше, да и на наше, наверное, счастье, — продолжал Левашов, выдернув из земли какое-то местное пахучее растение и разминая его в пальцах, — получилось хитрой петлёй выскочить за спину самим себе. Удачно избегнув малейших парадоксов. Тут надо сказать очередное спасибо одному парню из две ноль пятьдесят шестого года. Очень в некоторых физических тонкостях натасканный мужик. Мне до него далеко. Как Ньютону до Эйнштейна. Однако… — тут Левашов не удержался от возможности поддержать и своё реноме, — мы это, значит, по старинке, своё дело делаем, в соответствии с теми же «тремя законами», Ньютона, а не Азимова, а у них, хоть и на сто лет позже живут, всё больше в «сфере чистого разума».
Левашов иногда увлекался словоблудием не хуже своих друзей-приятелей.
Сообразив, что лекции тут неуместны, остальное изложил конспективно.
— Одним словом, здорово сложилось! Реальность девятьсот двадцать пятого года никак не пересекалась с восемьдесят четвёртым и двумя двухтысячными. То есть выход из неё в ваш валгалльский изолят неизвестно какого времени получался чистым. Ни единой временной струны не касающийся. Удивился я немного, но — против природы спорить не следует. Особенно если она сейчас в твою пользу работать настроена… А ты выпей ещё немножко, — вдруг сказал Олег, доставая из кармана вторую фляжку. — Вижу, предыдущего тебе не хватило для адекватного восприятия собственной реинкарнации…
Левашов специально налил в первую фляжку всего сто граммов, чтобы явно не хватило, зато в этой содержался коньяк, сдобренный очередным препаратом из лабораторий Шульгина. Долженствующий привести Лихарева в состояние, исключающее непредусмотренные рефлексии. Сейчас Олегу он нужен был физически активным, интеллектуально адекватным, но вполне управляемым едва заметными посылами. Некогда ему было заниматься воспитательной деятельностью в стиле Макаренко, с непредсказуемыми результатами.
— Вычислил я вас, настроился, всё время вёл в рамке, а как только увидел «медуз», вышел по отношению к тебе в «ракурс ноль», посмотрел, как ты кувыркаешься. Лётчик-ас из тебя, сожалею, не вышел. Но старался ты изо всех сил. Зато я успел и принял в свои объятия. Теперь, значит, вы живы, Дайяной и всеми прочими, кроме меня, Шульгина и Новикова, считаетесь давно, геройски и безвременно погибшими. Вернуться обратно пресловутая «петля» никому из вас не позволит. Логика событий в вашем варианте порвана невосстановимо. Жить придётся здесь, хошь не хошь. На мой взгляд — не самый худший вариант. А ты как думаешь?
— Так же и думаю. Раз мы сейчас живы — смерти не было. Что там могут вообразить другие, мне безразлично. Совершенно так, как безразлична судьба Лихарева — тридцать восемь. Вдруг «усатый хозяин» распорядился меня и там шлёпнуть? А я вывернулся.
— Никаких возражений. Теперь — информация для размышления, чтобы ты дома грамотно отмазаться сумел. Сейчас здесь — момент всего на две недели позже достаточно неприглядной сцены на твоей вилле, с мордобоем и погонями. Эвелин была в шоке, всё, по своим заграничным привычкам, порывалась звонить в полицию. Девчатам, да и нам всем, пришлось очень сильно потрудиться, пока сумели успокоить, внушить и объяснить, какая у нас служба. Хорошо, сама успела увидеть инцидент с Виталием, с Татьяной с горки побегать. Вокруг этого и выстроили легенду прикрытия. Девушка она наивная, поверила, что именно таким образом нужно было твою немедленную и крайне секретную отлучку замотивировать. Майя с Татьяной её поддерживают собственным примером. Их мужья тоже отбыли и тоже обещали скоро вернуться…
— Кем же вы меня ей обозначили'? — осведомился Валентин, окончательно взявший себя в руки. Ему нужна была только подходящая для дальнейшей жизни с женой информация. — Неужто по реальной специальности'?
— Примитивно, — цокнул языком Левашов. — У Майи муж — кто? Господин Ляхов, полковник, флигель-адъютант и прочее. Ксиву подлинную твоей француженке предъявил. Они же там хоть республиканцы сплошь, а к титулам крайне трепетно относятся. Ей сафьяновой книжечки с фотографией при всех погонах и аксельбантах вот так хватило! — Олег показал рукой, как именно. — Так что ты теперь — тоже особа, приближённая к Императору. Чисто Воробьянинов. Такая отмазка со свистом пройдёт, и твоя Эвелинка только и будет ждать, когда и её введут под ручку в Грановитую палату…
Пять лет, проведённых Левашовым на пароходах Совторгфлота, пусть и в культурной инженерской должности, оставили в его лексиконе и характере неизгладимые следы. Чуть только ослаблял самоконтроль, сразу начиналась специфическая стилистика.
— Удобно, удачно, — согласился Валентин. — Спасибо — не придётся наспех врать…
Этот, безусловно, приятный момент как-то заслонил куда более существенный факт воскресения после полуторамесячного пребывания в плохо оформленной могиле.
— Только как с девушками быть? — перебил его мысли Левашов. — Ты готов привести их, семерых, к своей жене на постой? С толковой мотивацией?
Лихарев задумался совсем ненадолго.
— В принципе — могу. Семь — не одна. Столько юных любовниц у одного человека просто не бывает. Если он не арабский шейх. Придумаю что-нибудь, пока добираться будем.
— Есть и другой вариант. Не умножаем сущностей сверх необходимого, правильно? Мы их завезём на дачу к Ларисе, там сейчас по-прежнему Майя с Татьяной живут. Две, а то и три опытных дамы за пару недель как-то сориентируют их в окружающей действительности, после чего станем думать дальше.
— Так, конечно, гораздо лучше, — с облегчением ответил Лихарев. — И они адаптируются, и я не спеша просчитаю варианты. Есть кое-какие, и вполне интересные…
— Вот и славненько. О, смотри, какие воспитанные девушки. Сказал — десять минут, так они секунда в секунду соблюдают.
Действительно, все семь курсанток цепочкой, по-прежнему не снимая пальцев с автоматных спусков и контролируя прилегающую местность, шли в их сторону. Режим полной боеготовности для них никто не отменял. Анастасия — впереди.
Олег увидел идущую третьей Кристину, испытал странное для него, непривычное чувство. Что было — вспомнил ярко и с благодарностью, к ней ли, к судьбе, к Дайяне. А в глаза смотреть не хотелось. Смешно ведь и неловко. Ему тридцать шесть (если без всяких отклонений, а то и сорок, с учётом петель и зигзагов локальных, независимых и прочих времён), ей — на вид девятнадцать. На самом деле, прав Андрей, то ли дочка, то ли племянница.
Она тоже увидела его, заулыбалась, как бы даже засветилась вся изнутри. Вот тебе и проблема! Одна надежда — дисциплина у воспитанниц Дайяны превыше чувств.
Так и вышло. Один короткий, почти незаметный жест руки, и Кристина, всё поняв, на долю секунды изобразила одними только глазами всё, что хотела, и сразу стала столь же функциональной и безразличной к посторонним факторам, как и подруги. Поглощённой только боевой задачей. Ничего личного. Как же иначе? Месяц-другой спустя она могла бы стать полноценным координатором, которым эмоции разрешены только по велению службы.
— Значит, решили, — сказал Левашов, всем своим видом демонстрируя девушкам, даже никогда его раньше не видевшим, что главный здесь — он. Как бы не выше всесильной начальницы Дайяны. — В одну шеренгу — становись!
Курсантки чётко исполнили команду.
Он прошёлся вдоль коротенького строя с видом и манерами красноармейца Сухова (или — старшины Васкова). — Сейчас мы с вами переправимся в одно место, где вы найдёте крышу над головой, защиту и помощь. Помощь в том, чтобы приспособиться к жизни на Земле. На этой Земле. Она отличается от той, где вы должны были работать. Не очень, но отличается. Это главное. Всё остальное станет ясно по месту и в течение… Те дамы, которые вас примут под своё покровительство, знают, что вам предложить, чему научить и чего от вас потребовать. Понятно?
Хором отвечать: «Так точно, товарищ…», их никто не учил, но мимикой и кивками голов девушки показали, что всё понимают правильно.
— Очень хорошо. Значит, сейчас все садимся во флигер, Валентин Валентинович заводит его на самой малой скорости в имеющийся портал, и через минутку все будем там, где нужно. Исполнять!
Курсантки исполнили команду быстро и чётко.
— В Кисловодск к Ларисе? — на всякий случай ещё раз переспросил Лихарев, когда они остались вдвоём перед летательным аппаратом.
— Куда же ещё? Разместим девчат — и свободен. До особого распоряжения. Вернёшься домой, продолжай привычный образ жизни, но в полной готовности. Как израильский резервист. Никаких шуточек, хохмочек и прочих инициатив тебе впредь не дозволяется. Уловил?
В полном соответствии с действием препарата Валентин подтвердил, что уловил всё и несколько более того. С огромным облегчением при этом. Как там сложится дальше — видно будет, а сейчас всё происходит совершенно великолепно. Вместо условной могилы в горах, находящихся за полета парсеков отсюда, он совсем скоро окажется в любовно обустроенном доме, в объятиях чуждой всяким потусторонним заботам женщины… Слава богу, хоть она не имеет ко всему этому никакого отношения!
Кому ещё выпадало такое счастье? Не в качестве аггрианца-координатора, в роли обычного военного человека. Могли убить — не убили. А если даже и убили… Может быть, за минувший век в разных параллелях убиты десятки его аналогов, ну и что? Сейчас-то он снова жив, дышит, осознаёт себя вполне адекватным себе самому…
Как эта степная травка в руке Левашова называется? Валентин пытался вспомнить и отчего-то не мог. Ну и ладно. Он ведь по легенде северянин, петербуржец, а здесь крайний юг Империи.
Ах, да, емшан-трава, кажется. Тревожит запах, волнует… Ему возвращена, подарена жизнь (именно эта, зачем другая?). Заодно с прощением всех предыдущих прегрешений перед людьми, имевшими право поступить с ним совсем иначе. Как он бы с ними поступил, будь его воля. Но не сейчас, раньше. Теперь ему и в голову никогда больше не придёт, что можно нарушить… А что? Приказ, долг, собственные убеждения? Над этим стоит подумать, но уж никак не сейчас. Сейчас хочется только вырваться как можно скорей из «странности», в которой он оказался, перевести дух, по-новому определиться…
Левашов перебросил флигер на три десятка километров, не касаясь сложных СПВ-настроек, просто переместил окно заданного пространства с одного места на другое, будто из комнаты в комнату. И вот уже они во внутреннем дворе сказочного домика на горе.
Навстречу вышла на высокое крыльцо Майя, предупреждённая Олегом о скором визите с нежданными гостями, ко всяким вариантам давно привыкшая, в отсутствие Ларисы считающая себя исполняющей обязанности хозяйки. Приоделась подходяще, но затруднять себя утренним макияжем не стала. Во-первых, не для кого, а во-вторых — и без него хороша.
Олег, поднявшись по ступенькам, вполголоса, по возможности коротко и ёмко объяснил суть происходящего и то, что теперь требуется от неё.
А что — интересно! Майе давно уже стало скучновато в Кисловодске, в то время как в Москве происходили интереснейшие события. Но Вадим велел (или просил), пока оставаться здесь, исходя из необъяснённых соображений. Она уже привыкла не возражать, если он говорил с ней особым тоном, означающим, что обстоятельства выше их личных желаний и склонностей. Девушка успела убедиться в том, что муж, хотя пока и не венчанный, в серьёзных делах не ошибается.
Именно так случилось, когда они приехали разбираться с Лихаревым. И ведь разобрались, не без сложностей, зато и без потерь.
Сегодня снова красавец-парень Валентин объявился здесь, и ведёт себя с ним Олег вполне дружески.
Только — Майя это не сразу, но заметила — как-то снисходительно, что ли. Ей вспомнилась поговорка, нередко употреблявшаяся её отцом-прокурором по самым разным поводам: «Еврей крещёный, что вор прощённый». Наверное, и здесь что-то в этом роде…
Она никогда не видела живых аггрианок (Ирина и Сильвия в её понимании к таковым не относились. Вадим так ей о них рассказывал, что она этих дам воспринимала как подлинных землянок, этаких Маугли женского пола, воспитанных инопланетянами). А эти были натуральными, «свеженькими», прямо со своей планеты, не успевшими даже переодеться и ничегошеньки о жизни на Земле не знающими.
Тут и она, и Левашов ошибались. Последние месяцы, после того как Дайяна составила план подчинения себе Лихарева и возвращения к неограниченной власти в новой, весьма ей понравившейся реальности, она своих курсанток напряжённо, будто слушателей фронтовой разведшколы, готовила к работе именно здесь. По двенадцать часов в сутки. И — получалось, что сразу отметили, при первой встрече с девушками, и Новиков с Шульгиным, и сам Левашов. Недоработки, конечно, имелись по причине отсутствия «полевой практики», но в целом и Анастасия, и её подружки вели себя с ними вполне адекватно. С большим соответствием исполняемой роли, чем та же, вполне подлинная Анна, девушка с дореволюционным воспитанием, попавшая абсолютно случайным образом в «Братство» в тысяча девятьсот двадцатом году.
Но как раз этого (ни об Анне, ни о курсантках), Майя не знала. Да и о самом «Братстве» её представления оставались расплывчатыми. Не довелось ей пока побывать ни в Замке, ни на Валгалле, ни даже в новозеландском Форте Росс.
Но и того, что она знала, было достаточно, чтобы задача показалась ей интересной. Теперь уже она ощутила себя в положении Ларисы, встретившей их с Татьяной в Кисловодске[5]. Умудрённая жизнью наставница и защитница, если захочется и сложится — старшая подруга.
— Пойдёмте в дом, — сказала она, лучезарно, как умела, улыбнувшись Олегу, чуть сдержаннее — Валентину, покровительственно — девчонкам. — Сколько можно на пороге стоять? Там всё и обсудим. Вот это — она указала на флигер, вживаясь в роль коменданта вверенной ей крепости, — немедленно убрать в гараж, чтобы никто посторонний не заметил, ни с воздуха, ни оттуда, — она указала на возвышающийся в полукилометре напротив, на склоне высокого отрога, двадцатиэтажный корпус санатория. — Раздражает он меня до невероятности. Любой хам с биноклем наш двор рассмотреть может. Невозможно неглиже на балкон выйти…
— Взорвать его, что ли? — пошутил Левашов.
— А и неплохо бы… — в тон ему ответила Майя. — Но до того будем применяться к обстановке.
— Тогда скажи Вадиму, пусть хорошую маскировочную сеть привезёт. Натянете отсюда вот досюда, и придётся старичкам другую цель для своих биноклей искать… А то и на порнофильмы переключаться.
Повинуясь всего лишь сделанному ею жесту, из караулки появились двое охранников, отперли ворота, ничему не удивляясь, помогли Лихареву многочисленными и взаимоисключающими советами загнать машину на отведённое место. Так и должны они были по замыслу выглядеть. Якобы нанятые из местных жителей, старательные, службу знающие, но, как и многие из терских и кубанских казаков, любящие прикинуться простачками. Перед приезжими «из России»[6]. Даже Валентин не смог сообразить, что имеет дело не с людьми, а с роботами — продуктом совсем другой технической культуры. Может, усмехнулся про себя, что переигрывают охранники прокурорской дочки, но и не более того.
— А вы, девочки, за мной, — ласково, как тётушка, встречающая приехавших на летние каникулы долгожданных племянниц, пригласила Майя курсанток.
Семь вызывающе эффектных красавиц, да ещё и вооружённых, как штурмгвардейцы, явно робея и теряясь, оказавшись в интересном, но совсем не понятном им месте, пошли, подчиняясь воле новой хозяйки. Так она была воспринята Мариной, Гертой, Ингой и Людмилой (хотя пока и не знала их имён). Читать, что там написано на нагрудных ленточках, ей и в голову не пришло. Как отметила Майя, у этих четверых она вызывала именно такой поведенческий стереотип. Зато у трёх других, вроде бы и очень похожих на подруг, эмоция была иной. В них ощущался осторожный, слегка опасливый интерес. Но — и отстранённость. Непонятного происхождения (военврач Ляхов сказал бы — этиологии). Будто эти девушки были из другой страны. А, может быть, и так, кто их там знает.
Будем посмотреть, как Вадим моментами выражается, совсем несообразно обычной манере.
— Оружие и прочую сбрую сложите вот здесь, — указала она на дверь кладовки под лестницей.
Анастасия вопросительно посмотрела на Левашова.
— Да-да, исполняйте, — подтвердил Олег. — Майя Васильевна теперь для вас царь, бог и воинский начальник. Слушаться её будете, как раньше Дайяну. А о той забудьте. Едва ли в ближайшее время вы с ней встретитесь. Автоматы, очень надеюсь, здесь вам не пригодятся. Перенастраивайтесь на мирную и приятную жизнь.
Не успели гостьи пройти в нижний обеденный зал, на верхних ступеньках одной из лестниц, имевшихся в этом доме в изобилии, разных, на любой вкус, словно трапов на военном корабле, появилась и Татьяна, разбуженная произведённым гостями шумом.
Не подозревая о присутствии здесь мужчин, она вышла попросту, в коротком халатике, ещё не застёгнутом.
Увидела скрестившиеся на ней взгляды двух мужчин и толпы неизвестно откуда взявшихся девчонок, особенно и не смутилась, но исходя из норм приличия (мужняя жена, всё-таки) халатик запахнула, что имело опять же чисто символическое значение — рельеф тела никуда не спрячешь. А рельеф у неё был выше всяческих похвал, Майя завидовала, хотя ей, казалось бы, грех жаловаться.
С Левашовым Татьяна была знакома на протяжении двух суток, но знала, что относится он к руководящим лицам некоей организации, о которой Вадим Ляхов отзывался с большим пиететом. И её Сергея, естественно, эта организация всемерно поддерживала, иначе неизвестно, что бы со всеми ними сталось.
Лихарев был почти что свой, местный, но для неё не то чтобы неприятный, а — скользкий. Так можно определить. Тёплых отношений с ним поддерживать не хотелось. При том, что его жена, Эвелин, отлично вписалась в их компанию. Оказалась милейшей, совпадающей по характеру девушкой, пусть и француженкой. Да ещё и доктором философии (с точки зрения Татьяны — явный перебор. Как в том анекдоте:
«Тебе что, мало, что ты негр?»). Зато всеми силами стремилась как можно быстрее обрусеть. Бывает.
Татьяна спустилась вниз, с Левашовым поздоровалась вежливо и в меру сил радушно, с Валентином — в пределах этикета.
— А это что у нас за молодёжь? — обернулась она к толпившимся у окна аггрианкам. Как-то они сумели всей своей группой занять минимальную площадь. И смотрели на новую женщину даже с большим интересом, чем на Майю. Кто их знает, может быть, именно фигура и властно-безразличный взгляд так подействовали? И тон, само собой, и эмпатически, по одному взгляду читаемое отношение к их бывшему начальнику.
— Вот, пополнение вам привёз, — сказал, чуть замявшись, Олег. Он до сих пор испытывал странное смущение в присутствии малознакомых, да ещё и полураздетых женщин. — Чтобы не скучно было.
Татьяна, оглядев девушек, слегка улыбнулась. Снова посмотрела на Лихарева. Его присутствие рядом вызывало отчётливый, причём нарастающий дискомфорт.
О том, что случилось в его пятигорском доме и вокруг[7], она помнила не слишком много. Поставленную Валентином в её мозг матрицу Сильвия сумела удалить, пользуясь своим блок-универсалом и имевшейся в подвале аппаратурой. Заодно исчезли порядочные куски подлинной и наведённой памяти.
У Татьяны остались только кое-как состыкованные воспоминания о её бегстве с Эвелин от Виталия, телохранителя Майи, оказавшегося одним из «запрограммированных», о том, как потом они с ней и Валентином пили шампанское на вилле под Горячей горой, и как ей вдруг стало плохо. Она, кажется, потеряла сознание, и довольно надолго. Пришла в себя и увидела рядом Майю, Ларису, Ляхова, который дал ей выпить какое-то лекарство и долго успокаивал, объясняя, что случился с ней своеобразный нервный криз, как последствие всего, что накопилось в психике и подсознании с давних времён, которые они обсуждали на катере.
Потом опять какой-то сумбур: они вдруг оказались уже не в Пятигорске, а в Кисловодске, компания увеличилась вдвое — к Майе, Ларисе, Вадиму присоединились женщины Сильвия и Ирина, очень похожие на «вдову Эймонт», но куда красивее, мягче и одновременно круче. А также незнакомые мужчины, только что подъехавшие — Андрей, Александр и Олег (этот самый, что сейчас доставил девчонок). Все они тогда расселись за огромным обеденным столом, отмечая какую-то свою победу, а заодно и её выздоровление.
Вечер (по её ощущению) шёл легко и эмоционально приподнято. Она спросила у Ляхова, когда же освободится от своих «страшно важных дел» Тарханов, и Вадим заверил, что очень скоро. В Москве порядок практически наведён, враги выявлены и обезврежены. Через денёк-другой Сергей испросит у начальства отпуск (так и неиспользованный по причине известных событий), вот тогда они и отдохнут, и погуляют по-настоящему. Даже к тёплым морям можно будет отъехать.
— Причём — на собственной яхте, — сказала Ирина, жена Андрея, полностью утратившая внутреннее напряжение и превратившаяся в милейшую даму. — Знаешь, как интересно купаться в океане, когда под тобой не три метра воды на ялтинском пляже, а одиннадцать километров…
— Это как? — удивилась Татьяна. Географию в школе она, конечно, учила, но названную глубину с обычной практикой совместить не сумела.
Татьяна заставила себя стряхнуть, оттолкнуть, будто сор веником смести ни к селу, ни к городу накатившие воспоминания. Что ей этот Лихарев и его непонятный взгляд? Пусть спасибо скажет за жену, а не пялится на абсолютно ему постороннюю женщину[8]. Две недели прожили они с Майей спокойно, развлекаясь в меру возможностей, утешая Эвелин, впервые расставшуюся (да ещё при таких странных обстоятельствах), с единственным близким ей в этой стране человеком.
Свозили её в Ставрополь, в Приэльбрусье, в Теберду и Архыз. Делали, что могли, постоянно ссылаясь на собственный печальный опыт почти что «соломенных вдов»[9].
Но теперь Лихарев вернулся, судя по всему — вполне благополучно, да ещё и с прибавлением семейства. То с одной взрослой бабой возиться приходилось, теперь — с семью соплячками.
Это она, конечно, резковато о них подумала. Всё, скорее, совсем наоборот. Но возиться — оттого — придётся ещё больше. Ясное дело.
«Да ничего, справимся», — подумала Татьяна и постаралась улыбнуться с неба свалившимся (вот уж, ничего не зная, в точку попала), гостьям как можно радушнее.
На вопрос хозяек, надолго ли он к ним, Левашов объяснил, что обстоятельства у них там сейчас такие, что буквально лишних полчаса он не может провести в обществе столь очаровательных женщин. Нашёл в себе силы, что Майя немедленно отметила, ручку ей поцеловать, а вот Татьяне только кивнул, зато с приятнейшей улыбкой.
«Бывают же такие странные мужики, — подумала та. — Я его точно бы не укусила. А он то на ноги взглянет, то на грудь и резко отворачивается».
— Дела наши очень далеко отсюда, и хрен знает, чем кончатся…
Это выражение с кое-какой флотской добавкой сорвалось у него с губ очень легко, он, похоже, и сам не заметил, зато Майя и Татьяна — сразу. Между собой они и покруче выражались, но в устах деликатного инженера нормальный оборот прозвучал… Не в стиле.
Наверное, нечто очень нехорошее там у них творится, вот он и отвлёкся подсознательно.
— Оттого — никаких обещаний о сроках своего возвращения дать не могу. Чудо, что вообще удалось вырваться и доставить сюда девушек-сироток…
Так Олег и выразился, с одной стороны, чуть иронизируя, а с другой — чистую правду сказал.
— Имелась у них строгая тётка-воспитательница в особом заведении, среднем между пансионом благородных девиц и высшей школой спецназа, но в ближайшие годы вряд ли им ещё придётся увидеться. Жизнь — она… Сами понимаете.
Валентин Лихарев, очевидно, тоже принимал в девушках некоторое участие, но сейчас Левашов его отчётливо отодвинул. По-человечески понять можно — мужчина, имеющий молодую ревнивую жену, никак не может уделять должное внимание семи красавицам сразу. Неизвестно, откуда взявшимся.
— Как ты соображаешь, друг, — повернулся к Лихареву Олег, — Майя с Татьяной на офицерское жалованье своих мужей достойно, а тем более — долго, наших подопечных содержать не смогут. Лариса на них свою чековую книжку переоформить не успела. У меня в кармане — вошь на аркане. Придётся уж тебе обеспокоиться, пока мы не вернёмся. Процентов с капитала, надеюсь, хватит. В случае чего — компенсируем… — многообещающе улыбнулся Левашов.
— Да о чём ты говоришь! Всё будет в лучшем виде. И здесь устроим, и в столицы вывезем, если потребуется, — почти возмутился Лихарев.
— Вот и славно. А то тебя и на том свете найти — не вопрос. Сам понимаешь… — как-то, на взгляд Майи, достаточно банально фраза прозвучала… Чересчур. Она и сама успела побывать «на том свете», но Левашов, кажется, имел в виду нечто другое.
Валентин с готовностью кивнул.
— Тогда — до скорого. Надеюсь, ума не летать на флигере днём, да и ночью, у тебя хватит? — сказал на прощание Левашов. — Разве только в случае самой крайней необходимости.
Он ещё раз простился со всеми, причём Майе показалось, что на одну из девушек он взглянул не совсем так, как на остальных. И та будто бы смущённо опустила глаза. Впрочем, всего лишь на мгновение.
«Интересно, — подумала она. — Интересно… А почему бы и нет? Девчушка прелестна, а мадам Лариса при всех своих достоинствах едва ли так уж безупречна в роли домостроевской жены».
Майя ощущала с Ларисой некоторое сродство характеров и темперамента, но с тех пор, как нашла себе Ляхова, мысли о приключениях на стороне ей даже в голову не приходили. Мадам же Эймонт, судя по всему, к моногамности была неспособна по определению, однако, в отличие от других, держала себя так, что ни один мужчина и помыслить не мог проявить по отношению к ней малейшую инициативу. Умела Лариса окружать себя аурой абсолютной неприступности. И как уж она, в случае необходимости, устраивала свои дела — бог весть.
Олег удалился в гараж, где был укрыт флигер — и больше они его не видели.
Следом откланялся и Лихарев, сказав, что машина ему не нужна, до вокзала он спустится пешком, заглянет в пивной подвальчик «Максимыч». Посидит, приведёт мысли в порядок, а уже потом возьмёт такси и обрадует Эвелин своим окончательным, пожалуй, возвращением.
— А вы, курсантки, во всём слушайтесь Майю Васильевну и Татьяну Юрьевну, — сказал он строго, с какими-то специальными обертонами в голосе. — Переодеться вам надо, привести внешность в соответствие с окружающей действительностью, отдохнуть. Я завтра, утром или вечером, как получится, заскочу, над документами, над легендами покумекаем. Они в ближайшее время, естественно, не понадобятся, но всё должно быть путём. Мало ли, как сложится.
Это вам… На первоначальное обзаведение. — Валентин нашарил в кармане и протянул Майе кредитную карточку на предъявителя, действительную в любом государстве ТАОС, да и в большинстве сравнительно цивилизованных стран, имевших централизованные банковские системы.
Опыт научил его всегда иметь при себе этакий «спасательный жилет» или «парашют» — как кому нравится. В иные реальности после известных событий он не собирался проникать даже под страхом виселицы. Разве только по особому распоряжению и с надёжным прикрытием. Хватит, набегался, тем более что его аналоги так или иначе ведут где-то там самостоятельное существование, что волновало его очень мало.
А на этой карточке хранились практически все его свободные деньги, «подкожные», как выражались в тридцатые годы, не связанные на процентных счетах, не вложенные ни в какое дело. Эвелин о них тоже ничего не знала. Да и не интересовалась финансовыми делами своего супруга, успев за время жизни в России понять, что «здесь вам не тут», и женщина, вмешивающаяся не в свои дела, рискует гораздо больше потерять, чем выиграть, в отличие от родной «Белль Франс»[10].
— Здесь примерно около полумиллиона рублей. Пользуйтесь без стеснения, по мере необходимости. Пока мне эти деньги не нужны, а дальше видно будет, — не упустил он возможности слегка распустить хвост.
— Да ну что ты, — поразилась Татьяна. Для неё такие деньги как раз были суммой чрезвычайно значительной, хотя они с Тархановым отнюдь не бедствовали. — Нам и полета тысяч на всё про всё с избытком хватит…
— Девушки, торг здесь неуместен, — сделал Лихарев отстраняющий жест. — Не будем вдаваться в подробности, но я почти уверен, что даже одна моя голова стоит намного больше. Плюс ещё семь, — указал он на курсанток. — Сейчас тот редкий случай, когда мне повезло совершить столь выгодную сделку. Кроме того, наши друзья-американцы совершенно справедливо говорят, что все, за что можно заплатить деньгами, обходится дёшево…
— Так, может, поподробнее расскажешь? — предложила Татьяна, решившая, что не стоит распространять какие-то мелкие недоразумения на все последующие отношения с человеком, способным на столь широкий жест. Да и вообще оставшимся, как очевидно, в полном доверии у Левашова, а значит, и всего «Братства». — Я распоряжусь, стол накроем, заодно всё и обсудим… Зачем тебе та пивная?
— Извини, Таня, извини. — Валентин явно не хотел задерживаться в их обществе, это было очевидно. — Эля ждёт. Она ещё не знает, но вдовой могла сегодня стать вполне настоящей. И вы бы ей сейчас оказывали все необходимые знаки внимания. Трогательные, но не настолько успокоительные, чем… — Он указал взглядом на карточку. — Девушки вам сами всё расскажут. — Он внезапно произнёс, обратившись к своим подопечным, резко прозвучавшую фразу на незнакомом языке. И тут же перешёл на русский, для Майи с Татьяной: — Можете ничего не скрывать — тайны здесь никакой больше нет, а мы с Дайяной для вас теперь никто…
Курсантки на мгновение подтянулись и тут же опять расслабились. Не всё они понимали, не пройдя выпускного инструктажа и соответствующего предстоящим ролям кондиционирования, но произнесённая Лихаревым формула их отпустила. Почти совсем. Но — всё же не до конца. Валентин оставался представителем высшего руководства, от которого всегда зависело слишком многое. Они не получили чинов и должностей, хотя бы координаторов третьего класса, им не были выданы гомеостаты, блок-универсалы, Шары. А что они без них?
На самом деле — самые обыкновенные земные девушки (раз уж оказались на Земле). Способности — способностями, возможности — возможностями. Ум, интеллект, красота, информированность, незаурядные физические качества — но это ведь лет на тридцать от силы, а потом они начнут стареть, как и все местные жители. Сто-двести лет юности и красоты им точно не гарантированы без положенных приспособлений.
Лихарев очаровательно улыбнулся всем сразу, Татьяне, как ей показалось, — особенно, и унёсся вниз своей стремительной походкой, перепрыгивая через две-три ступени. Охранник закрыл за ним узорную чугунную калитку. Дамы и барышни остались одни.
Бывшие аггрианки, волею судьбы вброшенные в мир, к жизни в котором следовало ещё долго специально готовиться, каждой — по особой программе, чувствовали себя несколько не в своей тарелке. Последний знакомый им человек (вроде как фельдфебель старшей гардемаринской роты) ушёл, освободив их от ответственности и от своей защиты.
Они остались наедине с двумя красивыми, наверняка занимающими весьма высокое положение в чужом мире дамами. Вдобавок, после фактически казарменной жизни, которую они вели с момента, когда им было позволено себя осознать личностями, предназначенными к земному модусу вивенди[11], они впервые оказались в помещении «приватном», да ещё столь изысканно отделанном и обставленном.
Словно выпускники Морского или Пажеского корпуса, утром получившие приказ о производстве, а вечером уже расписанные по частям и кораблям. Но и тем было легче: семейные традиции, практика сначала в матросском, а потом и в полуофицерском качестве, увольнения в город и всё такое. А тут — сразу!
Толпясь в зале, девчонки волей-неволей выглядывали в окна и видели там то, чего не видели никогда. Одно дело — фильмы и картинки, другое — подлинная жизнь. Да ещё на другой планете. При всём сходстве Земля — совсем не Таорэра!
Они знали, как должна выглядеть планета, на которой предполагалось трудиться всю оставшуюся жизнь, но то, что ждало их снаружи, — совсем, совсем другое!
Им не приходило в голову, да и не могло прийти, что ситуация изменилась кардинально. Ни одна из них (кроме Анастасии, получившей эти знания в свёрнутом виде от Новикова одномоментно, назло Дайяне), от рождения не имела понятия, что такое «свобода» и что такое «воля». От почти средневековой (японского типа) этики безусловной преданности повелениям и любым прихотям сюзерена их специальной формулой освободил Лихарев. Получив при этом огромное наслаждение.
Сам он сумел в двадцатые годы дойти до подобной независимости напряжённой нравственной работой, самовоспитанием, за счёт ошибки старших, слишком торопливо наложивших личину коммуниста– энтузиаста поверх болванки аристократа и выпускника Пажеского корпуса. В сочетании с подлинными жизненными реалиями Революции и Гражданской войны результат получился интересный.
Сейчас, то ли в благодарность своим спасителям, то ли от извращённого любопытства экспериментатора, Валентин сделал девушкам щедрый подарок. Теперь они смотрели на ярко-синее осеннее небо, на горы вдали и город внизу совсем другими глазами, чем несколько минут назад.
Это не учебная картинка на стереоэкране, это мир, где им предстоит жить, хотя и неизвестно пока, в каком качестве. Но абсолютно независимо от только что бывшего и вдруг исчезнувшего блока в подсознании.
— Всё, барышни, — заявила Майя, когда они остались в доме одни. — Снимайте свою военную сбрую. Не надоело ещё? Здесь мужиков нет. Займёмся вашим внешним видом. Уж больно вы одинаковые. А потом обед, отдых — и на прогулку. Посмотрим, что у нас выйдет…
Курсантки в своих обтягивающих комбинезонах, высоких сапогах, да и с лицами, всё ещё не пришедшими к норме, смотрелись в гостиной Ларисы чужеродно.
— Впереди у нас пятьдесят лет необъявленных войн, — вдруг сказала Анастасия. — И мы подписались на весь срок…
Татьяна не поняла, откуда это и к чему сказано, а Майя рассмеялась. Начитанностью она отличалась с детства.
— Какое чудо! Хемингуэй! Вы его тоже проходили на курсах. Или?
— Один хороший человек недавно сказал, — с долей вызова ответила Настя. — Разве неправильно сказал?
— Совершенно правильно. И я, пожалуй, догадываюсь, кто именно это был. Молодец, девочка, не ошибёшься…
Продолжать она не стала.
— Раздевайтесь, быстро. И в баню. Таня, там всё готово?
Готово было. Татьяна сразу отдала команду домоправительнице заняться вопросом. Не по одной же водить девушек в ванную или душевую. А в просторной бане, занимающей цокольный этаж, с тремя отделениями: русским, сауной и турецким с каменными лежанками и содовым паром, пятнадцатиметровым бассейном, наполняемым из личной артезианской скважины ледяным нарзаном, несколькими душевыми рожками в отдельных кабинках, с большой комнатой отдыха. Гостьям будет приятно, и они с Майей смогут посмотреть на каждую профессиональным взглядом, да и поговорить непринуждённо. Что совсем нелишне, раз уж придётся этих красоток сначала пасти, а там… Ну, там как получится.
…Кстати, в очередной раз нужно сказать спасибо Ларисе. Она выкупила эту четырёхэтажную виллу, заброшенную, полуразрушенную, совершенно никому не нужную, кроме окрестных жителей, которые там оправлялись по пути домой, сносили мешки с мусором и, при случае, воровали для непонятных целей кирпичи и изразцы от печей, с сохранившимися авторскими рисунками весьма известных художников начала прошлого века.
Тем не менее эта руина оценивалась городскими властями для желающих её приобрести в собственность вдесятеро от реальной цены. Ни одна душа в пределах КМВ её покупать не собиралась, а пустить раритет под бульдозер даже у давно деградировавших чиновников местной мэрии как-то силы воли не хватало. Или нечувствительно давили на них высшие силы. Тоже ведь бывает. Хочешь стать «сукой»[12], а не получается. Даже внутри тюремной камеры. Не дано, и всё. Если от рождения — место только у параши.
Мадам Эймонт, она же Лариса, с мэром и его прихлебателями нашла общий язык сразу. Ничего не изображая специально, просто вспомнив, как перед ней в некий момент начал заискивать сам Троцкий (правда, при этом туманное московское небо разрывали всполохи ружейно-пулемётного огня, и никто из кремлёвских властителей не знал, где встретит рассвет — в своём кабинете, в лубянской камере или в водосточной канаве без сапог и знаменитой кожаной куртки).
Покачала перед глазами главы города ножкой в остроносой туфельке на двенадцатисантиметровой шпильке, поймала его бегающий взгляд своим, как мишень — перекрестием оптического прицела, и больше не отпустила. Все вопросы были решены сразу. Не пришлось и намекать на личное знакомство не столько с Великим князем, как с его близкими помощниками.
Мэр хорошо помнил древнюю поговорку: «Жалует царь, да не желает псарь». Виталий Иванович, тёртый– перетёртый в аппаратных играх, всё, что нужно, понял сразу. Вплоть до такой нелепой (конечно же) по самому краю сознания скользнувшей мысли, что ведь и не сможет он, если что, выйти из любимого кабинета своими ногами и в привычном качестве. Как-то очень ярко нарисовался в сознании «Белый лебедь» — двести лет назад построенный на отроге Машука Тюремный замок, архитектурно безупречный снаружи и весьма несовпадающий с впечатлением изнутри.
Цена вопроса была решена в присутствии столь же поплывшего перед вдовой-меценаткой главного бухгалтера. Решена по столь остаточной стоимости, что Ларисе, в виде шутки, захотелось даже попросить дотации из городского бюджета на реставрацию исторического памятника. И ведь прокатило бы, без всяких сомнений.
Но Лариса была не из таких. Напугать она могла кого угодно, одновременно представляя, что рано или поздно у подконтрольных ей людей могут появиться лишние вопросы.
Что, да как, да почему они вдруг начали действовать вопреки собственным интересам? То есть, как писал Козьма Прутков, «ничего не доводи до крайности». Сегодня эти господа сделали ей приятное, одновременно поступив по совести, вот и пусть гордятся, ничем более сложным головы себе не забивая.
Тем более что (об этом тоже ходили разные слухи) она вложила в ремонт и реставрацию неизвестно сколько миллионов, в итоге превратив виллу в жемчужину и украшение курорта. Экстерриториальную, впрочем.
Майя слышала, что граф Фредерикс-Алленштейн, гражданин мира и внук последнего царского министра Двора, крупнейший собиратель рассеянных по планете раритетов Серебряного века, приезжал сюда в прошлом году и, придя в восхищение, предложил Ларисе подать документы для оформления этого здания в список Всемирного Наследия. И продать виллу именно ему, по цене «без запроса».
— Реставрация вам удалась изумительно. Ни малейших отступлений от исходного проекта — классический модерн. Прежняя владелица — знаменитая балерина, прожившая сто лет и бывшая пассией двух правящих императоров и трёх Великих князей. Мои предки здесь бывали неоднократно, даже вон, видите, на групповом портрете — он указал на одну из двух десятков фотографий в овальных и прямоугольных рамках, развешанных вдоль ведущей на второй этаж лестницы. — Третий слева — мой отец.
Лариса потратила не так много усилий, чтобы с помощью Ирины и Сильвии воспроизвести фактически в оригинале все имеющие отношение к дому предметы материальной культуры.
— Очень рада, — ответила мадам Эймонт, — что всё так удачно сложилось. Не только Николай Александрович, будущий наследник престола с его братьями в моей коллекции оказались, но и ваш почтенный родитель тоже.
К глубочайшему сожалению, сама Майя при этом разговоре не присутствовала, но, судя по пересказам «личных впечатлений» — большая часть кисловодского общества тот раз в доме поместилась. Или во дворе, по крайней мере. Чтобы всё услышать для дальнейшей трансляции.
Главное, легенды предельно убедительно соответствовали тому представлению, что и без них сложилось у Майи о старшей подруге. Такого не придумаешь при самой развитой фантазии.
— Ваша светлость, — якобы ответила Лариса графу. — Вам нравится мой дом? Так мне он тоже нравится. Ах — историческая ценность! Где же вы были, почтеннейший, последние семьдесят лет? Вы ведь примерно настолько меня старше? Купили бы году этак в тридцатом-сороковом, оно бы вам дешевле обошлось. Не сообразили вовремя? Сочувствую. А сейчас — простите…
Змеиная улыбочка, естественно, английский костюм с рукавами в три четверти и чёрные лайковые перчатки. Наверняка напротив специальной прорези в юбке к поясу пристроен (слева), «вальтер РР». Без этого образ не полон. Лариса без пистолета — как светский бонвиван во фраке и подштанниках.
Как эта красотка умеет стрелять, Майя видела. Сама не из последних снайперов, но до Ларисы ей далеко. Цель намного уже мушки, и пуля почти на излёте, однако поставленная на сто метров консервная банка улетает со столбика в девяти случаях из десяти.
Так не бывает, каждому понятно, но дзен-буддизм утверждает, что главное — не качество прицела и не воля стрелка, а исключительно взаимная тяга «стрелы и мишени».
Явная наглость слышалась в словах богатой и разнузданной в поведении дамы. Мало ли что миллионерша! Фредерике был (теоретически) старше Ларисы всего на пятьдесят локально-земных лет. (О чём он, конечно, понятия не имел). Но если исходить из внешности и самоощущения — она была права.
Красива до невозможности, явно богата настолько, что любые предложенные ей суммы считала ерундой. На том уровне, не финансовом, а психологическом, когда ничего ей больше не надо. Чувствовалось это, просто чувствовалось всем нутром миллионера– мецената. Как на старом послевоенном базаре — сразу видно, у кого рубль в кармане, а у кого десятка.
— Я вас крайне уважаю, князь (небрежно повысив собеседника в титуле), — сказала, по слухам, постоянно витающим в Кисловодском воздухе, непреклонная, как «бремя белого человека», мадам Эймонт, — но вы — пролетели. Как фанера над Парижем, если вам доступен этот образ. Мне намекали, что кроме разных лихтенштейнов (так небрежно отозвалась она о богатейшем и комфортнейшем для проживания государстве мира, ровно, как о какой-нибудь прославленной Шолом-Алейхемом Касриловке. То есть — изысканно– презрительно), у вас масса интересов и в других частях мира. На Кисловодске едва ли свет клином сошёлся.
И девяностолетний авторитет, меценат и антиквар, при всех его миллиардах, безусловной славе, вхожести к королям, президентам и прочим почтенным людям (особенно если несёшь перед собой в виде подарка сто лет назад кем-то украденную, а тобою выкупленную икону или статуэтку) — эту даму банальным образом испугался. Да-да, вот так — испугался, и всё.
Несколько позже он попытался по своим каналам навести о мадам Эймонт кое-какие справки, но очень быстро получил, по самым что ни на есть конфиденциальным каналам, дружеский совет — не проявлять ненужного любопытства и не осложнять остаток жизни проблемами, совершенно ему не нужными. На чём и успокоился, ибо в мире оставалось достаточно много вещей, гораздо более интересных, чем экстравагантная бабёнка со своими фигель-мигелями. Именно так он и выразился, вспомнив русский язык собственного, увы, такого далёкого детства.
«Да и вообще, — попутно подумала Майя. — Это ещё здорово повезло нашему Олегу Константиновичу, что они с Ларисой не пересеклись на узкой дорожке в Берендеевке. А то бы, глядишь, появилась у нас Императрица».
Майя некоторым образом относила себя к бисексуалкам. В том смысле, что красивые женские тела нравились ей, пожалуй, больше мужских. Чисто эстетически. За исключением конкретных моментов, на обнажённых мужчин смотреть не слишком интересно.
Девушки-гостьи раздевались в предбаннике чересчур торопливо. Опять же — по-солдатски. Приказано — значит, нужно делать быстро, не отвлекаясь, пока не последовала новая команда.
Под комбинезонами на них было надето только обтягивающее термобельё, очень похожее на армейские шёлковые кальсоны с рубашками. И больше ничего. «Пока ещё курсантки» сняли и его. Сложили на скамейках и ждали следующего распоряжения, переминаясь с ноги на ногу и невольно поёживаясь. Хотя холодно здесь не было.
Майя внимательно рассматривала каждую, сама оставаясь одетой. Специально. Как врач в приёмной комиссии воинского присутствия. Любого человека такое положение нервирует. Даже если ощупывает тебя взглядом существо того же пола.
Девушки были очень хороши. Но, как она сразу отметила — чересчур одинаковы. Вначале это могло просто показаться, из-за униформы и испуганной растерянности. Но вот разделись, и сходство стало ещё очевиднее.
Сложены они были совершенно идеально. Ни малейших нарушений пропорций хоть в чём-то, ни у кого ни единой родинки, шрама, гипертрофии или недоразвитости любой части лица и тела. Рост вокруг 175—177 сантиметров, груди у всех классические, как у статуй работы Фидия, ноги, руки, шеи без всяких оговорок красивы и изящны, только мышцы под гладкой кожей гораздо рельефнее и даже на вид сильнее, чем полагалось бы. Со спины одну от другой, пожалуй что, и не отличишь. Конечно, фигуры больше спортивные, чем истинно женственные. Да и откуда бы иначе, при их возрасте и аскетически-военизированном образе жизни?
Майя не знала, что эти дефекты при окончательной шлифовке болванок были бы скорректированы, и каждая получила бы окончательную, собственную внешность, соответствующую планируемой роли. На то и существует большой, стационарный гомеостат, чтобы смоделировать нужный фенотип на базе латентного генотипа исходной особи. Кому-то негритянкой, возможно, пришлось бы стать, кому-то — азиаткой.
— Подкормить бы вас чуток, — хмыкнула Татьяна, тоже закончив раздеваться. — Видите, как должна выглядеть гарна баба? — Она похлопала себя по тугому бедру, встряхнула грудью. — Ну, да это дело наживное. Какие ваши годы… А так — любую хоть сейчас на подиум выставлять можно. Или в варьете. Танцевать умеете?
— Умеем, — за всех ответила Настя. — И классику, и модерн. Учили…
— Вот и хорошо. Сумеете заработать на жизнь, если что.
(Да что же такое? — подумала Анастасия, — с кем из землян ни заговори, обязательно проскакивает это бессмысленное «если что»! Просто присловье или такой здесь способ восприятия жизни? А нам тогда как быть?)
— А ты, Майя, чего стоишь? — вдруг повысила голос Татьяна. — Баня здесь, а не… — Что именно «не» она уточнять не стала. — Вперёд, за мной…
О банях девушки имели представление, но — теоретическое, из художественной литературы и учебных пособий. Дайяна в лагере их подобными изысками не баловала. Контрастный душ перед сном или после спортивных упражнений — достаточно в целях гигиены.
Зато Татьяна была большая любительница процесса, увлекалась им с детства, как и Лариса, чья «комсомольская юность» в значительной мере прошла в подобных заведениях, в те самые годы, когда среди «номенклатурных товарищей» лесным пожаром вспыхнула пресловутая «банная лихорадка», и они изощрялись друг перед другом немыслимыми изысками. Тогда как простые смертные, за исключением состоятельных москвичей, имевших доступ в «Сандуны» и «Центральные», обходились обычными районными, ярко описанными тем же Зощенко.
…Странно представить, что в России здешнего 2007 года воображение элиты до подобных высот по каким-то таинственным законам исторического материализма не поднялось, банные радости как самостоятельный культурный феномен оставались уделом немногих знатоков и ценителей, и Лариса оказалась здесь своеобразной «пионеркой».
Сюда, в Кисловодск, Лариса для оборудования и оформления своего «оздоровительного комплекса» пригласила лучших специалистов и дизайнеров обеих столиц, знатоков как самых древних, так и новейших тенденций. Затем провела скрытую, но тщательно срежиссированную рекламную кампанию.
Откуда-то в продаже появилась крайне информативная и богато иллюстрированная монография некоего князя Владимира Галицкого «Щедрый жар», где с научных и одновременно национально– патриотических позиций излагалась идеология и практика банного дела для «истинно русских людей».
Потом пошли слухи в «нужных кругах», что баронесса Эймонт, следуя самым передовым веяниям, превратилась в страстного адепта нового увлечения и решила основать «Салон огня и пара». Вскоре человек, удостоенный приглашения к ней на «ужин с баней», мог козырять этим фактом, как очередным орденочком или чином. Тем более насчёт того и другого здесь можно было договориться «с кем нужно» быстрее и проще, чем в кабинетах канцелярий.
Попутно можно отметить, что сама «банная процедура» весьма и весьма подразделялась на типы и классы. Кого-то могли пригласить на мероприятие, в котором участвовало до десятка кавалеров и дам, и «симпосион» происходил по одной программе, в халатах и полотенцах, причём дамы парились отдельно от мужчин, а встречались лишь за общим столом. Но кое-кто мог похвастаться, что удостаивался и специального приглашения. Предельно узкий круг, форма одежды — «о натюрель», в том числе и для хозяйки, специальные разговоры и стилистика платоновских пиров. О подобном распространяться было не принято, а если что и просачивалось за пределы, то исключительно в виде исходящих от завистников слухов. При этом считалось, что кому-то нужные результаты, достигаемые в такой обстановке, зачастую имели силу государственных указов.
Единственное, о чём не мог бы сказать ни один гость, вне зависимости от ранга и состояния, так это о том, что лицезрение сверкающей наготы хозяйки давало какие-то шансы на углубление отношений. Она, как истинная патрицианка, позволяла на себя смотреть, говорить комплименты, кое-кому — даже похлестать себя веником, если у неё появлялось такое желание, но упаси Бог допущенного проявить хоть тень «эмоции». Оттого не слишком уверенные в собственной выдержке джентльмены остерегались подобных приглашений, могущих привести к полному крушению репутации.
Но это так, к слову. Ни Майя, ни Татьяна в подобных мероприятиях поучаствовать не успели, знали о них со слов самой хозяйки, с которой однажды попарились втроём. Зато она показывала им большеформатные цветные фотографии, сделанные на таких приёмах, объясняя, кто именно на них изображён. Пусть и делались они скрытой камерой, но на высоком композиционном и художественном уровне. Майя сначала удивилась, а потом сообразила (профессионалка всё-таки), что съёмки (и звукозапись синхронно) велись непрерывно, а уже потом производилась селекция: что распечатать и использовать в эстетических целях, а что и в иных.
Татьяна занялась девушками всерьёз. Если Майя зашла в парную пару раз, а потом в основном плавала в бассейне да пила прохладительные напитки в комнате отдыха, то тем пришлось пройти полный курс. С прицелом на будущее, как выразилась новая инструкторша.
— Мало ли, с кем и когда вам придётся очутиться здесь в следующий раз. Так я хочу, чтобы и теорией и практикой вы владели безукоризненно.
Вот, к примеру, иногда достаточно пригласить (или застать), некую персону в такую же вот парную, прикрыть изнутри дверь (и тут же показала, где помещается потайная щеколдочка), да ещё и вот так сделать, — Татьяна плеснула на камни печи пол ковша разбавленного пива, — через пять минут от клиента можно добиться очень многого. Без всяких пыток и сыворотки правды… Люди отчего-то очень быстро начинают задыхаться в горячем пару, испытывая при этом мучительный страх смерти.
— А по-моему — ничего особенного, — сказала Анастасия, присев на полок и вытирая пот со лба. — Жарковато, конечно, но вполне терпимо…
— Молодец, — похвалила Татьяна, думая, что не взялась бы с этой девушкой соревноваться. Не совсем понятно, но и у неё, и у её подружек терморегуляция изумительная. Где же это такие экземпляры воспитываются? В пустыне Атакама или экваториальных тропических лесах? — Ты вот сколько здесь продержаться сможешь?
— Вам сколько надо? — вопросительный ответ прозвучал без вызова, девушка на самом деле хотела узнать, сколько нужно новой начальнице, чтобы она выдержала.
Татьяна сделала движение губами, будто собираясь что-то сказать, но промолчала. На седьмой минуте почувствовала, что ей достаточно. Всё же сто десять градусов на термометре.
После первого захода погрузились в бассейн, где бурлил и пузырился шестиградусной температуры нарзан. Сказочное ощущение! Потом Татьяна провела их через остальные отделения, каждое из которых по-своему было хорошим, но все вместе нормального человека, не фанатика этого дела, они могли привести полностью в неработоспособное состояние.
Ей такая нагрузка доставляла эстетическое и физическое наслаждение, в том числе и потому, что она знала — лишь несколько человек в городе могут с ней посоревноваться. А девушки, по простоте душевной, приняли это за норму. Только не специфической светской забавы, а очередного тренажёра. Вроде штурм-полосы. И изо всех сил старались соответствовать. Причём слегка перестарались.
— Нет, ну ты знаешь, — сказала Татьяна, откидываясь на спинку ротангового дивана в украшенной резными деревянными панелями комнате отдыха, пока девушки полоскались под душем, растирались махровыми полотенцами и ждали, когда их позовут, — они почти не люди…
Сказано это было просто так, к слову, без реального смысла. В виде метафоры.
— В конце я уже начала сачковать, а им — хоть бы что. Нет, ты вообрази, в сауне — за сотню, а они пошли к выходу, только когда я сказала, что хватит. Такое впечатление — права Анастасия — вели я им там час сидеть — просидели бы.
Стол на девять человек, именно так накрытый, как и следовало после банного вечера, был уже готов.
Постаралась Прасковья Ильинична, женщина средних лет, оставленная за себя Ларисой в качестве домоправительницы. На самом деле это был всё тот же робот Иван Иванович, сменивший облик и ведущую функцию, сориентированный на оказание любых услуг, в том числе — чисто женского профиля, хозяйственного, само собой. Одновременно — медицинских, уровня лучших мировых клиник (ненавязчиво психологического также). Она же обеспечивала негласную, независимо от прочих слуг, абсолютную охрану.
При этом была сия дама особой, неприятной во всех отношениях. Тут Лариса настроила психотип так, чтобы по исконной вредности характера доставить своим гостьям максимум морального дискомфорта. Но и придраться к ним (Ларисе, Прасковье Ильиничне и собственно Ивану Ивановичу) было невозможно. Всё в доме шло, как на хорошо налаженном крейсере царских ещё времён, продукты с рынка поступали свежайшие, готовились выше всяческих похвал, хоть по заказу, хоть «а ля карт», отказа не случалось ни в самом малейшем капризе склонной к этому Майи.
Но! Любой беспорядок в доме Прасковья Ильинична (по легенде — происхождением из станичных «кулачек», хотя и получившая где-то обширное, но вполне бессистемное образование) воспринимала как боцман с императорской яхты «Штандарт», считавший любую соринку на свежевыдраенной палубе не просто личным оскорблением, а потрясением ОСНОВ! Одно счастье — в отношении Майи и Татьяны она не имела соответствующих дисциплинарных прав. Но и взгляда на окурок в неположенном месте или брошенные на спинку кресла чулки хватало, чтобы на полдня испортить настроение провинившейся.
Словами она пользовалась редко, только по делу, что ещё больше усиливало к ней неприязнь. Вроде как брезгует вступать в посторонние разговоры с женщинами, совсем не последними в этом городе, а то и в стране. Но что было, то было. Приходилось терпеть. Не они тут хозяйки хотя вроде бы, формально, по случаю отсутствия Ларисы, и они.
Майя давно и старательно придумывала, каким бы образом эту ужасную домоправительницу уязвить как следует. Не выходя за рамки приличий, но от души. Это занятие очень её занимало. По крайней мере — помогало засыпать легко и быстро. Другие от бессонницы баранов считают, скачущих через изгородь. Вадим, как он ей при случае признался, вспоминает корабельный состав русского и японского флотов той ещё войны (с фамилиями командиров, обязательно), а она — изобретала способы мести. Всегда засыпала на третьем и окончательном — построить собственный дом и пригласить Прасковью Ильиничну на службу к себе. За такую плату, чтобы не смогла отказаться. И уж тогда…
Естественно, даже при своём общем высшем и кое-каком специальном образовании им с Татьяной и в голову не приходило, что настоящие специалисты запрограммировали робота таким образом, что в условиях их явного психологического несовпадения домоправительница в зародыше гасила любые намечавшиеся между ними конфликты, принимая весь напор неотреагированных эмоций на себя.
Аггрианские (исключительно по воспитанию, но не по биологическому происхождению) девушки никогда в своём лагере не видели такого изобилия изысканных блюд и подходящих именно им напитков, столь красивой посуды и приборов. Синтезаторы производили пищу калорийную, но крайне простую, с одной– единственной функцией — поддержание обмена веществ на научно предписанном уровне. Фактически тоже казарменную; в советских пионерлагерях, к примеру, кормили гораздо вкуснее и разнообразнее.
Другое дело — всем полагающимся навыкам и правилам этикета, назначению столовых приборов, способов обращения с ними курсантки обучались. Точно, как в Пажеском корпусе — сумеете гречневую кашу и печёнку по-строгановски правильно есть, с омарами и трюфелями тем более справитесь.
Они расселись вокруг стола, как учили, сдвинув колени и сложив на них руки с прижатыми к телу локтями, в ожидании дальнейших распоряжений.
Майя не выдержала и выругалась вполне причудливо и выразительно, имея в виду, что тут у них не монастырь и эти постные рожи она видеть не желает раз и навсегда. Заодно и объяснила, когда произнесённые ею слова имеют медицинское или этнографическое значение, а когда используются для выражения личных эмоций или вразумления недостаточно сообразительных особ. Последний раз приказала всем немедленно принять раскованные, желательно — фривольные позы, тут же показав, что этот термин обозначает, выпить по сто грамм коньяка или водки, кому что больше нравится, ибо банный ритуал требует для своего завершения именно такой, предписанной свыше дозы. После этого каждая ест и пьёт чего и сколько угодно. Любые правила какого бы то ни было ритуала полностью отменяются. Чтобы выйти в туалет или по иной надобности — разрешения спрашивать не надо. Докладывать по возвращении, где была, что и как делала — тоже.
Не зная ещё досконально сути дела, Майя интуитивно уловила, что вся жизнь этих прелестных и несчастных существ прошла под жестоким психологическим прессингом. Едва ли не худшим, чем в иезуитском пансионе восемнадцатого века.
Поэтому тут же и пояснила гораздо более мягким тоном, что в ближайшее время займётся их подходящим текущему моменту воспитанием, а Татьяна Юрьевна — поможет.
— Методы у нас, конечно, будут разными, — включилась Татьяна, — я со столичными манерами Майи Васильевны мало знакома, зато со станичными — вполне. Если кто по заднице от души получит — не обижайтесь. Деваться вам всё равно некуда, а для общего развития — ой, как полезно…
При этом глаза Татьяны приобрели мечтательное выражение. Наверное, она подумала — как бы хорошо было, если бы в своё время кто-нибудь озаботился её правильным воспитанием.
Неизвестно, всё ли сразу и правильно поняли новые воспитанницы из слов «старшей наставницы». С точки зрения их девятнадцати условных лет разница между двадцатишестилетней Майей и тридцатилетней Татьяной ощущалась явственно, причём вторая и массогабаритно, и характером заведомо превосходила, на первый взгляд, конечно. Но закивали они дружно и согласно.
Курсантки имели минимум по три полных высших образования (уровня советских вузов начала восьмидесятых годов), и общее знание жизни, в принципе достаточное, чтобы даже в одиночку, оказавшись в начале двухтысячных годов, как-то устроиться. Пожалуй, не хуже, чем Лихарев сумел.
Майя продолжала наблюдать за тремя девушками, показавшимися ей несколько более уверенными в себе, чем остальные. Прежде всего — за Анастасией, позволявшей себе вступать в разговор со «старшими» по собственной инициативе. Из приведённой цитаты Хемингуэя и некоторых других словесных оборотов Майя догадалась, что там, откуда их привезли, она наверняка общалась с теми же людьми из «Братства», что понравились и ей самой. От них и набралась манер и стиля поведения.
Тут она слегка ошиблась. Девушки провели вечер и единственную ночь только в компании Новикова, Левашова и Шульгина. Причём лишь Андрей позволил себе вмешаться в психику своей подопечной. Остальные ограничились пределами дозволенного. Но и этого хватило. Память у них была абсолютная, а усвоение новых, полезных в будущей работе навыков — автоматическим. Тем более что общение было не проходным, а составной частью обряда инициации.
«Итак, что мы имеем? — анализировала ситуацию Майя. Ей хватало врождённого интеллекта, образования, спецподготовки и опыта общения с Ляховым и Тархановым в абсолютно немыслимых ситуациях, чтобы сейчас рассуждать спокойно. — Я помню то, что мне говорил Александр Иванович на мостике над рекой. Про возможное бессмертие и другое тоже. С любой нормальной точки зрения — бред. Но сначала…»
Это воспоминание было неприятно, но чересчур ярко.
Они болтали о чём-то совсем несерьёзном. В голове у неё шумело от выпитого вина, настроение — прекрасное. И вдруг его рука легла на… Литературно — на бедро, по правде — на самую что ни на есть задницу. Причём в этом его жесте совершенно не было ничего сексуального. Для него, наверное. Для Майи — было. Поразительно — только что ни о чём подобном она не думала, и вдруг — словно пронзило! Стало необыкновенно ясно — продолжи он начатое — сопротивляться молодая женщина не станет.
И тут же увидела его усмешку. Всё понимающую и одновременно — равнодушную. Эта усмешка Майю и вздёрнула. На очевидную глупость подвигнула.
— Уберите, я вам не… Я мужа сейчас позову!
— Господи, ну и судьба, — тихо и грустно сказал Шульгин. — Муж у неё. Сейчас мне морду набьёт. Как благородный человек. Я, как не менее благородный, отрицать не стану, что почти нечаянно, инстинктивно погладил его супругу по специально предназначенной для этого части тела. Очень мне понравившейся. Потом заложу руки за спину и перетерплю… Да я его сейчас сам и позову. Покаюсь, признаю право на сатисфакцию.
Голос у него был такой, что Майя абсолютно, без малейшего сомнения поверила — так он и поступит.
— Александр Иванович, ну, прекратите. Ну, я вас прошу. — Майя чуть не закричала, сжав своими руками Шульгина за предплечья. Не хватало ещё подобной демонстрации. Не просто вечер будет сломан. Что-то гораздо большее. В том числе и надежды на вечную жизнь…
— В конце концов — что тут такого? Я и сама…
— Майя, Майя, успокойся. — Шульгин не грубо, но отчётливо её отстранил. И взгляд — более чем просто безразличный. Подобного стыда и разочарования она, наверное, никогда в жизни не испытывала. Ни один мужчина ей не показывал, что она, такая– разэтакая, на самом деле — никто. Для него.
Ужаснее мысли ей никто не внушал.
А казалось бы — и этот уже немолодой человек ей ну совершенно безразличен, и убеждения у неё безусловные. Муж — это муж. Долго выбирала, но раз выбрала — всё! Гулянки кончились.
— Забудем. Я действительно… Не знаю, как и вышло. Устал, наверное… Ты меня позвала… поговорить. Ну и что-то в мозгах перемкнуло…
— Александр Иванович… — непонятно отчего Майя испытала невероятную опустошённость, сама схватив его за ладонь. Опустошённость была глубокая, бессмысленная и непостижимая. Земля улетала из-под ног, и чёрное небо вертелось сразу во все четыре стороны.
Майя, всегда уверенная в себе настолько, что соблазнить Героя России и полковника Ляхова ей не составило никакого труда, при огромном противодействии со всех сторон, сейчас окончательно растерялась.
Шульгин открыл портсигар, протянул ей, сам закурил.
«Ладно, во всём разберёмся с течением времени, сейчас нужно заниматься текущими проблемами», — подумала Майя. Ей было очень стыдно за ту сцену, тем более что буквально через минуту они заговорили о другом, и она почти что влюбилась в Александра Ивановича, за его последующие взвешенные слова. Главное же — за то, что он ей пообещал. Не как плату за что-то, а от всего сердца.
Девушки после банных процедур, а также и правильной чарки, видимым образом растормозились. Не давила на них, что отчётливо чувствовала Майя, прежняя дисциплина. А новой ещё не предложено, кроме полушутливых слов Татьяны.
— Значит, так, девчата (не удивляйтесь — у нас это вполне общепринятая форма обращения в своём круге), начинайте и рассказывайте всё, как есть. Валентин вам последний приказ отдал? Считайте, что действительно — последний. Теперь мы с вами, вы с нами, и никто вам ничего не сможет сделать, кроме того, что вы сами позволите. Доходчиво?
Чем хорошо было Дайянино воспитание — оно не предполагало такой вредной вещи, как сомнение в словах вышестоящих.
Не в научном смысле, разумеется, там спорить об истинности теории эволюции или сущности «постоянной Планка» вполне позволялось. Но вот сама идея о том, что руководитель, хоть на ступеньку выше, как в германской армии фельдфебель по отношению к унтер-офицеру, может говорить неправду в основополагающих вещах — для курсанток аггрианской школы казалась абсурдной.
То же самое, неизвестно зачем привитое рассчитанным на жизнь в России девушкам ощущение: обер-лейтенант (не российский поручик) отличается от майора, как плотник от столяра. Кайзер (или его аналог) — светлое Величество, предмет безусловного поклонения и средоточие истинного духа.
Дайяна готовила курсанток для себя и под себя. А они, увидев Майю, Левашова, Кисловодск — мгновенно из этого психологического капкана выскочили.
Мадам Дайяна, на себя ориентируясь, рассчитала верно. Её воспитанницам понятие «свобода» было принципиально недоступно. Лет через пять-десять нормальной жизни на Земле кое-кто и может проникнуться духом свободомыслия, но не сегодня. Полный аусгешлёссен[13].
Как Майя и предположила, ответила ей Анастасия, сбросившая халат и вытянувшаяся на диване напротив, в той же, что она сама, позе, совсем как «Обнажённая Маха» с картины Гойи. Только ровно вдвое стройнее (Махи, разумеется, не Майи) и настоящая блондинка с изумрудными (как писал Ефремов — свидетельство абсолютного биологического и психического здоровья), глазами. Да и выражение лица у Насти оказалось отнюдь не лениво-расслабленным. Совсем наоборот.
— Мы согласны, Майя Васильевна: как вами сказано, так мы и будем жить. Только, простите, Андрей Дмитриевич мне ещё кое о чём говорил. И если ваши слова будут расходиться с его, я предпочту…
— Не надо. — Майя не позволила девушке закончить фразу. Она всё поняла. Если с этой девушкой работал Новиков, та, безусловно, никого другого слушать не станет. Всё тот же импринтинг.
— Знаем, знаем. «Если мне будет предложено выбирать — с Христом или с истиной, я останусь с Христом». Всё будет, как ты решишь, Настя. Но пока отвлекись… Если ты в отделении старшая, расскажи всё, что с вами случилось. И было…
— Я не старшая… — после короткой заминки ответила Анастасия (очень ей нравилось, когда её так называли). Я первая получила имя.
Остальные девушки почти синхронно кивнули.
— Ну, — сказала Майя, глазами показав Татьяне, чтобы та не вмешивалась. А то вдруг влезет не по делу и настрой сломает. — Хорошо, давай обойдёмся без лишних деталей. Рассказывай всё, что считаешь нужным. Про себя лично или про всех сразу. Итак…
Анастасия рассказала, действительно не особенно вдаваясь в мелкие подробности, но чётко и понятно. Кто они есть (в их собственном представлении), где жили, чему учились, как оказались здесь. Безэмоциональный доклад минут на пятнадцать. Почти никаких имён, очень мало конкретики. Так уж они все были воспитаны. Получился некий аналог гибрида личного листка по учёту кадров и стандартной автобиографии. Кадровиков удовлетворяет — и достаточно.
Майе с Татьяной этого тоже хватило. Их мало заинтересовали цели «проекта», месторасположение базы и многое другое. Главное сам факт — эти девушки взялись, можно сказать, ниоткуда, о подлинных родителях своих они не имели никакого представления, а тех, что подразумевались бы по легенде — ещё не было, как не было и самих легенд. Можно было думать что угодно: курсантки похищены в младенческом возрасте на Земле, или где-нибудь ещё, или вообще «сотворены» неизвестно из чего загадочным способом.
О возможности выращивания детей в пробирках или банальном клонировании в этой реальности пока ещё не знали.
— Таким, значит, образом, — сказала Майя и для успокоения налила себе и Татьяне ещё по чарочке. — Вы вместе с Валентином Валентиновичем чуть не погибли в воздушном бою. Второй раз заново на свет родились. Можем только поздравить. Но зато теперь перед вами открывается новая великолепная жизнь. Без всяких таинственных хозяев, без непонятных заданий, вечных, как сама жизнь, и столь же бессмысленных…
— Вечной жизни не бывает, — ответила ей Кристина. — Она бывает долгая или короткая. Долгой у нас тоже не будет, нам не выдали гомеостаты… А без них такие, как мы, долго не живут.
Майя понятия не имела, что это за штука, но мгновенно увязала слова девушки с тем, что слышала от Ляхова и Шульгина.
— А недолго — это, по-вашему, сколько?
— Примерно, как обычный человек, а учитывая лучшую приспособляемость и сбалансированность организма — немного больше. В среднем, лет девяносто, наверное… Так нам говорили. Но учитывая то, что нам положено заниматься сложными и опасными делами, без гомеостатов и до тридцати можно не дожить.
— Да что это за гомеостат такой? — не выдержала Татьяна.
Анастасия объяснила, коротко и популярно.
«Оно самое и есть!» — подумала Майя, но ничем своих эмоций не выдала. Сказала то, что собиралась.
— Ну, это мы ещё посмотрим, — уверенно заявила она. — Вас же не в дикий лес выбросили. Те, кто озабочен вашей судьбой, на произвол судьбы не оставят. У вас теперь, считай, два крёстных отца есть и две такие же мамы. — Она указала большим пальцем на Татьяну и одновременно кивнула, подразумевая себя.
— Спасибо, — церемонно ответила Анастасия, остальные её поддержали.
— Ну, чисто, детский сад, — усмехнулась Татьяна. — Пойдём, — предложила она Майе, — ещё разок попаримся, сами. А девочки постепенно в меридиан придут…
«А ведь это фраза Вадима», — с непонятной ревностью вдруг вспомнила она. Хотя чего тут ревновать, кого и к кому? Более несовместимых личностей, чем Ляхов и Татьяна, она и представить не могла. Даже в качестве случайных любовников…
Они прошли в турецкие бани, где температура упала до вполне комфортной, устроились на лежанках.
— Кажется, мы влезли не в своё дело, — сказала Татьяна, вытягиваясь во весь рост. — Совсем мне всё это не нравится, факт…
— Да брось ты, с чего вдруг такой минор? Мы влезли «не в своё дело» с того момента, как познакомились с нашими мужиками. А они, в свою очередь, с друзьями. На том выбор и кончился. Зато кем ты была и кем сейчас стала? И это ведь только начало. — Майя потянулась, и вдруг начала делать физические упражнения, изображая из себя цирковую «девушку-каучук».
Татьяна смотрела на неё взглядом куда дольше пожившей и больше испытавшей, умудрённой женщины. Так оно в принципе и было, только не всякий опыт позитивен и идёт во благо.
— Не поверишь, у меня такое ощущение, что мы на минное поле забрели… Или — в заколдованный замок. — Любченко-Тарханова продолжала гнуть свою линию.
— Да что за ерунда? Лихарев — бог с ним, а Олег ведь свой. Вадим мне сказал, что на него во всем полагаться можно. И на него, и на всех остальных. Сама же всех видела… — Майя от смешанного с удивлением раздражения даже прекратила свою гимнастику.
— Видела-то видела… Я наш поход никак забыть не могу. Вдруг сейчас что-то подобное случится? Зачем нам их подсунули? Что дальше будет? А если за ними кто-то придёт? И нам за всё отвечать…
Майя подумала, что Шульгин был прав. Кое от чего Татьяна излечилась, но зато в ней стала доминировать прежняя личность, вялая, мещанистая, не склонная к переменам и авантюрам. Так, скорее всего, оно и есть, если собственными силами подруга к тридцати годам не добилась в жизни абсолютно ничего, а её феерический взлёт к вершинам случился именно в ненормальном состоянии.
Вот сейчас можно произвести небольшой тест, а также наставить Татьяну на путь истинный. Если удастся.
— Слушай, мадемуазель Любченко, или мадам Тарханова, как тебе удобнее. Если боишься — так чего проще? Садись в аэроплан, и через два часа — Москва. Там тебя никто не достанет, Сергей с Вадимом от всего защитят. А особенно — их Императорское Величество… А я тут как-нибудь сама справлюсь, пока Лариса не подъедет…
Татьяна удивлённо села. И Майя намётанным взглядом уловила, как у неё вдруг заметно дёрнулась щека. Причём совпал этот мимический штрих с упоминанием Высочайшего имени. Она ведь сказала просто так, для убедительности, мол, кавалерственная дама, причисленная к свите, может рассчитывать на должную степень физической и правовой защиты. Не более того. Или ошиблась, и реакция относилась именно к Тарханову? Да нет, не похоже… Неужели? У Майи мгновенно сработала эйдетическая[14] память изощрённых в дворцовых интригах десяти поколений предков.
Впрочем, сейчас не время отвлекаться на эту саму по себе очень любопытную тему. Отложим в дальний ящичек памяти.
— Чего ты вдруг? Я ничего такого не говорила, — очень убедительно спросила Татьяна, мгновенно взяв себя в руки.
— Как не говорила? Именно, что сказала. Ты очень испугалась — минного поля, заколдованного замка и покойников из бокового времени. Что не хочешь ни за что отвечать. А за что нам с тобой отвечать? Окстись, подружка. Ты или перепарилась, или — недопила. Причём учти…
Майя села на мраморную скамью, скрестив ноги и руки, наставив на Татьяну пристальный взгляд. Вполне шутливо имитируя жрицу тантрического культа.
— Учти, уйдёшь, за что я совершенно не буду на тебя в обиде, хозяин — барин, хочет — живёт, хочет — удавится. Но ты можешь упустить одну очень интересную штуку…
— Какую? — заинтересовалась Татьяна.
— А ты чем слушаешь? — Природная боярыня плебейским жестом похлопала себя по аккуратненькой ягодице. — Бессмертия — не хочешь?
— При чём тут… — и запнулась. То ли что-то вспомнила, то ли сообразила. — Повтори ещё раз.
— Про гомеостат — слышала? Это раз. А есть ещё и два…
«Рано или поздно, всё равно придётся ей рассказать, — подумала Майя. — Так почему не сейчас? Времени у нас достаточно, девочки подождут».
Майя, с удовольствием и не торопясь, начала выстраивать подходящую для Татьяны версию событий «ночи с шашлыками» и кое-чего, ей предшествовавшего.
— …Мы с Вадимом, когда вернулись из Пятигорска в Кисловодск, в моей комнате ещё немножко выпили, ну и разговорились. Тогда он и сообщил, что кроме нашего мира и «бокового времени» есть ещё множество других. Кстати, Ирина и Сильвия — женщины из совсем не нашего мира, хотя очень долго живут на Земле. Тоже не совсем этой, но расположенной буквально в двух шагах, туда можно ходить, как в соседнюю комнату.
«И ты ходил?» — жадно, с замирающим сердцем спросила я у него.
«Ещё нет. Однако, может быть, сходим. И очень скоро. Вместе…» — обнадёжил он меня.
«Интересно бы. — Я вздохнула, очарованная этой идеей. — А Лариса — тоже такая, как те?»
«Нет, она здешняя. Почти. А вот Ирина и Сильвия — совсем другие. Как ты думаешь, сколько Сильвии лет?»
Я задумалась. По виду — тридцать пять, а то и чуть меньше. Но в чём-то кроется подвох?
«Пятьдесят?» — Я назвала наобум этот весьма преклонный возраст, который к себе в двадцать шесть примерить трудно.
«А сто пятьдесят не хочешь?» — ответил Вадим.
«Врёшь». — Я даже подскочила. Поверить в такое было невозможно.
«Чего ради? Мне так сказали, а в «Братстве» друг другу врать не принято».
«А Ирине сколько?»
«Получается, хронологически немного за пятьдесят, биологически — тридцать — тридцать два. Насколько я знаю».
«Здорово! — Я от возбуждения забегала по комнате. — А мы так не сможем?»
Вадим усмехнулся, протянул мне рюмку.
«Наверное, сможем. Если «старшие» разрешат…»
Больше он в ту ночь мне ничего не сказал. Как я ни допытывалась. И так уже, наверное, вышел за определённые для него рамки.
С утра и весь день я только и делала, что присматривалась к Ирине и Сильвии. Пыталась уловить малейшую деталь поведения, слово, жест, чтобы понять, чем они отличаются от нас. От меня, тебя, Ларисы. Получалось, что почти ничем. Хотя нет, кое-что, разумеется, было. Я выискивала в Сильвии следы её «полуторавековости» и, кажется, находила.
И всё время воображала, как мы сами будем жить дальше, если узнаем, что смерть и старость нам больше не грозят.
Потом мы поехали в горы. Это ты сама помнишь. Когда гулянка была в самом разгаре, я позвала Шульгина на улицу. Поговорить…
О том, что случилось в начале разговора, она, естественно, умолчала. Зато подробно поведала о дальнейшем.
…Майя спросила, действительно ли Сильвия живёт так долго, как сказал ей Вадим? Александр Иванович подтвердил.
С замиранием сердца она осведомилась, доступно ли такое же долголетие для остальных?
Шульгин засмеялся и ответил, что если она будет себя хорошо вести, на сотню лет жизни с сохранением теперешней внешности на ближайшие полета может рассчитывать. Как фронтовой лейтенант наверняка станет капитаном, если…
Эту оговорку она проигнорировала, капризным голосом заявив, что и семьдесят пять — это жутко много, и она себя в таком возрасте не представляет.
— Ну да, — с обычной иронической интонацией сказал Шульгин, — тебе уж двадцать пять, год-два, и станешь ты старухой…
— Это из Пушкина?
— Наверное. Вольная интертрепация…
— Я понимаю. Но сейчас вы мне должны ответить. Я согласилась стать вашим… вашей…
— Младшей сестрой, — помог ей Александр Иванович. — И это правильно. Что согласилась. Впрочем, вариантов у тебя особых не было. Если Ляхов с нами. Куда иголка, туда и нитка. Только тут ведь и обратная зависимость. Разойтись ты со своим Вадимом, может, и вздумаешь, а с «Братством»… Обратной дороги нет.
— То есть как это? — Майя задохнулась от возмущения. — Вы меня что, навек к нему привязываете?
— Не понял, — с лёгкой иронией ответил Шульгин. — Ты разве, замуж выходя, такую формулу не подразумевала: «В горе и в радости, пока смерть не разлучит нас…»
— Ах, да, конечно. — Она сообразила, что сказала глупость. Просто слишком неожиданно было услышать, что в результате недолгого знакомства с этими людьми она теперь обречена на почти вечную совместную жизнь с одним-единственным мужчиной, пусть даже Вадимом… Сейчас они друг друга любят, несомненно, но мало ли что может случиться за годы и десятилетия…
— Это так, бесспорно. Но… Допустим, чисто условно. Вдруг встретится мне какой-то другой мужчина, и окажется, что это с ним мы по-настоящему созданы друг для друга, а с Вадимом — ошибка. Бывает так?
— Ещё бы, — понимающе кивнул Шульгин. — Бывает, когда к счастью, когда к сожалению…
— Ив этом случае вы меня… Ликвидируете, как предательницу? Если тот человек вам не покажется подходящим.
— Очевидно, умеренно жёсткая акция в отношении Лихарева, свидетельницей которой ты стала, произвела на тебя слишком сильное впечатление. На самом деле мы люди гуманные. Иногда — чрезмерно. Захочешь уйти — уйдёшь. Всего-навсего забыв некоторые вещи, в другой жизни лишние. Правда, за всё время существования «Братства» никто из него не вышел. Слишком много возможностей устроить свою жизнь без подобных крайностей.
Шульгин докурил сигарету и щелчком послал тускнеющий огонёк на середину потока. И вдруг опять протянул руку. Коснулся плеча. Майя непроизвольно дёрнулась. Вдруг он всё же передумал, и сейчас что-то произойдёт? И тут же поняла, что в этом жесте нет ничего интимного. Так действительно мог бы поступить старший брат, успокаивая младшую сестру.
— Только, видишь ли… Постоянных истин никто не отменял. Например: «Господь дарует вам жизнь вечную, но не обещает завтрашнего дня». Или — наоборот. Неважно. И уверена ли ты, милая Майя Васильевна, что вечная жизнь в реале так уж привлекательна?
— Не уверена, — честно ответила она, — но в любом случае мысль о том, что не станешь старухой через двадцать лет и не умрёшь в семьдесят — очень привлекательна.
— Не стану спорить. Старухой через двадцать лет ты не станешь. Это я тебе железно гарантирую…
Майя закончила рассказ, и так всё сумела подать, что Татьяна осталась в полной уверенности, будто и её обещание Шульгина касается в полной мере. На самом деле, речь о ней вообще не заходила. Слишком напряжённое у Майи с Александром получилось свидание, чтобы ещё и о подруге вспомнить.
— А они нас не… обманывают? — спросила Татьяна.
— Зачем, вот вопрос. После всего, что ты уже видела. Ожившие покойники — куда более невероятная вещь, чем столетние молодухи. Так что не дрейфь, мы ещё поживём. А пока давай девочками займёмся.
Вернувшись в гостиную на втором этаже, Майя сняла с полок этажерки целую кучу каталогов, которые Лариса еженедельно получала из представительств многочисленных российских и иностранных фирм, обосновавшихся на Водах.
— Будем выбирать, барышни, вам много чего потребуется для новой жизни.
Курсантки, обладавшие всем спектром нормальных женских инстинктов, до сих пор пребывавших в латентной форме, пришли в немалое возбуждение и даже восторг, разглядывая фотографии манекенщиц, демонстрирующих сотни фасонов платьев, костюмов, комплектов белья, чулок, обуви, бесчисленных аксессуаров.
— Постепенно привыкнете, — посмеиваясь, говорила Майя. Честно говоря, она им сейчас завидовала, как завидуешь человеку, впервые в жизни собирающемуся, допустим, в Париж. Той яркости первых впечатлений, которые ему предстоят.
— Сейчас сообразим, посмотрим, у кого какие вкусы и кому что лучше подходит. Одеваться, как в сиротском приюте, больше не будете. Раз уж вы такие… похожие, индивидуальность станем выявлять реквизитом. Вы пока рассаживайтесь, подальше друг от друга, и выбирайте, в чём бы каждая хотела выйти в город на прогулку. Прямо сегодня. Исходя из погоды и из того, что сейчас вы в курортном городе. Друг с другом, чур, не советоваться, категорически запрещаю. А я для начала поработаю с Настей. Татьяна Юрьевна с… Ну, хотя бы с тобой, — она указала на пепельную блондинку (совершенно натуральную), с высокими скулами и большими выразительными глазами. Интересный типаж. Мужики будут за ней табунами бегать.
— Как зовут?
— Маша, значит. Или — Маня. Как тебе больше нравится?
— Маша, — непонятно отчего девушка слегка покраснела. Майя не могла знать, что так её впервые назвал Шульгин метельной ночью на Валгалле. Для Марии это было совсем недавно, и она всё ещё находилось под впечатлением того, что тогда случилось.
— Так тому и быть, — кивнула Татьяна. Ей предстоящая работа начинала нравиться. Своими руками превратить этих «недоделок», как она про себя назвала отданных под присмотр воспитанниц, в настоящих женщин.
— Итак, давай с самого начала, — сказала Майя, когда они с Анастасией перешли в её комнату. — Сначала покажи, что бы ты сама выбрала. — Она раскрыла толстый, в полтысячи страниц каталог нижнего белья.
Настя растерялась. Один-единственный раз, готовя её к встрече с Новиковым, Дайяна выдала комплект земной одежды, какой сама сочла подходящим. И объяснила, как и что надевать и носить. Перелистывая глянцевые страницы, девушка увидела нечто похожее, по крайней мере — знакомое, и указала пальцем.
Майя рассмеялась.
— А у тебя есть вкус. Только имей в виду — такое надевают при вполне определённых обстоятельствах. Если тебе нужно соблазнить мужчину, в чьих чувствах ты не совсем уверена, но твёрдо намерена добиться своего именно сегодня. Или если ты — на работе. Понятно излагаю?
— Понятно, — потупилась девушка.
— Для повседневного употребления наряд совершенно непрактичный. Чтобы чувствовать себя комфортно, но и быть готовой к приятным неожиданностям — подойдёт, пожалуй, вот это. И это тоже… Просто, удобно и со вкусом.
Затем выбрали несколько комплектов верхней одежды на утро, день и вечер.
— На высоких каблуках ходить умеешь?
— Несколько раз пробовала, но по-настоящему — нет, не умею.
— Научим, а пока будем исходить из реальных способностей…
Закончив с подборкой экипировки для всей команды, Майя сделала заказ по телефону. Приказчик, обалдев от грандиозного заказа, с которого ему обломится приличный процент, заверил, что всё требуемое будет доставлено в ближайшие три часа. И, чуть замявшись, назвал сумму, во что это уважаемой мадам обойдётся. Она едва удержалась, чтобы не присвистнуть в трубку. Однако… Девочки прямо сразу начинают влетать в копеечку. Хорошо, что не им с Татьяной, а Лихареву.
— Через два максимум, — жёстко ответила Майя. — И твой процент сюда включён. Не каждый день у вас такие клиенты. Время пошло…
— Красота того стоит, — узнав цену, усмехнулась подруга. — Уверена, они там сейчас на фирме оживлённо спорят, откуда вдруг в городе объявился целый взвод красавиц с идеальными габаритами, голых и босых, зато с чемоданом денег.
— Ну и пусть спорят. Жаль, что мы не слышим. Слава богу, у нас пока тем, кто платит, лишних вопросов не задают. А если б кто и задал, так нам, по счастью, и придумывать ничего не надо. Младшие сестрёнки с подружками приехали из Смольного института и захотели шикануть по полной, как взрослые. Благо, любящие старшие не в силах отказать…
— Так, мадемуазели, кто какие языки знает? — спросила Татьяна.
— Все, — ответила Настя.
— Что все, я и не сомневаюсь. Я спросила — кто какие.
— Я и говорю — все знают все основные европейские языки. Азиатские и африканские в нашей группе не изучали.
— Лихо, — восхитилась Майя. — В совершенстве?
— Конечно. И с диалектами.
— Да-а… — покрутила головой Татьяна. — Ладно, вы пока ещё журнальчики полистайте, а мы выйдем, покурим.
Опершись о перила балкона, она сказала, мечтательно глядя на пейзаж внизу:
— Знаешь, в чём смех? Мы, при необходимости, уже завтра могли бы отбить те деньги, что за обновки выложим.
— На панели? — догадалась Майя.
— Зачем так грубо? Просто по старым связям я могла бы найти достаточное количество оч-чень солидных людей, готовых заплатить сумасшедшие деньги за знакомство с такими вот гейшами или гетерами. Экскурсоводшами, проще говоря. Обычные шлюхи, любого разбора, им ни к чему. А вот такие девочки, с которыми можно появиться хоть в театре, хоть в клубе, вдобавок — нетронутые, не согласные расстаться со своим богатством задёшево — это, я тебе скажу…
— И зачем ты это мне говоришь? — прищурилась Майя.
— Да так. В голову пришло. Я же не говорю, что собираюсь стать бандершей. Я о том, что в любой игре наши девчонки — чистые джокеры.
— Так их к этому и готовили.
— И почему-то не успели. Странно это. Ну, был бой с какими-то медузами, так отчего они потом домой не вернулись? Зачем их Левашов сюда притащил? Его объяснения меня не очень убедили. Ей-ей, нечисто здесь, только непонятно, что именно. И главное — хорошо это или плохо — для нас?
— Не забивай себе голову. Сегодня позвоню Вадиму, постараюсь разузнать поподробнее. Если он сам что-нибудь знает. А пока пойдём. Знаешь, что мы за были? Пока барахлишко подвезут, надо им фамилии– отчества придумать, и сказать Лихареву, чтобы паспорта им оформил…
Татьяна разыскала на полках справочник «Вся Москва» за прошлый год, где содержались краткие сведения обо всех более-менее заслуживающих внимания гражданах высших сословий, то есть дворян, купцов начиная со второй гильдии, чиновников и офицеров, заметных лиц свободных профессий. Тысяч сорок персоналий, напечатанных мелким шрифтом в две колонки.
Объяснила девушкам, чем они сейчас займутся.
Те не возражали. Если их возвышал над однокашницами факт получения имени, то остальные атрибуты полноценной личности, включая паспорт, — полностью переводил в новое качество.
Майя расчертила таблицей лист бумаги.
— Чтобы не запутаться. Начинаем.
Татьяна наугад раскрыла том. Попала на букву «В».
— О! Пусть так и будет. Раз вы у нас из первой партии (глядишь, скоро и другие появятся), давайте отсюда и выбирать.
— Как наши катера одного дивизиона, — фыркнула Майя, вспомнив морское путешествие. — «Сильный», «Смелый», «Страшный» и так далее.
— Вот именно. Вы, девушки, не против?
Девушкам, наоборот, было очень интересно.
— Тогда поехали…
Согласились, что фамилии должны быть звучные, достаточно известные, принадлежащие настолько разветвлённым родам, что и сами их носители не в состоянии были упомнить всех родственников дальше второго колена, а уж тем более всяческих свойственников и однофамильцев.
Исходя из имеющихся имен, фамилии и отчества подбирали в стиль.
Вот что получилось.
— Несколько нарочито, но сойдёт, — подвела итог Майя.
— Ничего не нарочито, — возразила Татьяна. — Ты бы посмотрела списки групп, с какими мне приходилось работать. — Вот там — нарочно не придумаешь. Наших девчат никто в такую таблицу заносить не станет. Зато каждая сама по себе — очень даже элегантно. Запомнили, барышни? Вот и хорошо. Завтра паспорта получите, и вы — полноценные российско– подданные. А вон, кажется, и экипировка прибыла, — услышала она гудок машины у ворот. Сейчас приоденемся — и в город, на рекогносцировку местности…
Прогулка получилась великолепная. И развлекательная, и поучительная. Восхищённые девушки поначалу чувствовали себя неуверенно. Их планета, и долина, где размещался учебный центр, были красивы ничуть не меньше, чем Земля. Но к тем безлюдным ландшафтам они давно привыкли, а здесь живая природа гармонично дополнялась праздничной архитектурой и всей инфраструктурой курортного города. И жизнь вокруг кипела, бурлила и переливалась всеми своими красками и гранями.
А самое главное — вокруг ходили, ездили в автомобилях, сидели на бульварных скамейках и под навесами кафе, кабачков и духанов тысячи людей: мужчин, женщин и детей всех возрастов, наций и степеней достатка. Говорили, кричали, даже пели за уставленными напитками и закусками столами.
Происходящее вокруг было не всегда понятно, но невероятно интересно.
Конечно, курсантки последний год своего обучения почти ежедневно знакомились с обычаями и поведением людей по видеозаписям и игровым фильмам, но то, что оказалось наяву, не шло ни в какое сравнение. Кстати, Валентин Лихарев однажды выразился в подобном духе: «Воображать земную жизнь по этим картинкам — всё равно, что нюхать розу в противогазе».
Чтобы уберечь своих подопечных от сенсорных перегрузок и эмоциональной контузии, Майя с Татьяной после двухчасовой прогулки по городу увлекли их в глубину Курортного парка. Там они нашли уютный, почти пустой ресторанчик с верандой, нависающей над центральными аллеями. Разместились, заказали фрукты, мороженое, шампанское.
— Так, девчата, — сказала Татьяна, — вы угощайтесь, дышите воздухом, поболтайте, обменяйтесь впечатлениями, а мы с «тётей Майей» вон там, в уголке, тоже о своём поговорим.
За «тётю» она тут же получила шутливый тычок локтем под рёбра, незаметный со стороны.
С того места, что подруги заняли, им хорошо был виден и стол курсанток, и стойка бара, и ведущая к веранде дорожка. Себе они заказали неизменный кофе, который здесь был очень неплох, графинчик старого коньяка, ледяной нарзан в запотевших бутылках.
— Я была права, — сказала Татьяна. — На наших девчонок пялились все, от скаутов до пенсионеров. Хотя вроде бы здесь всякого навидались. Мы с тобой тоже очень ничего себе, но такого фурора не производим. Это не слишком хорошо.
— Избыточная концентрация красоты, впредь придётся разбавлять, — согласилась Майя. — Любой мужик в любой точке планеты точно обалдел бы, увидев в куче девять супердевок, если они не на сцене кабаре. Элементарное подсознательное знание теории вероятности у каждого есть. И всякое несоответствие напрягает и нервирует.
Она достала из сумочки секретный, доступный только весьма ограниченному кругу сотрудников императорской безопасности радиотелефон в виде сигаретной пачки. Даже Ляхову такой выдали далеко не сразу, и он долго скрывал его от Майи, пока не пришлось в открытую использовать в приключении на пароходе[15]. Считалось, что ни в одной стране цивилизованного мира до подобного ещё не додумались. Да и в России количество выпущенных приборов исчислялось едва ли парой тысяч. Почему так, Майя не знала. То ли технологические трудности, то ли политический расчёт.
Зато когда это чудо техники попалось на глаза Левашову, тот, покрутив коробочку в руке и невзирая на протест Ляхова, снял заднюю крышку, одобрительно поцокал языком.
— Надо же, до чего додумались! Супротив сотовой связи, конечно, примитив, но вообще здорово. Вроде авианосца на вёсельном движителе.
И — сразу видно специалиста не только в технике, но и в других делах тоже — спросил Вадима:
— Жуткий дефицит, конечно? Даже у твоих под– рут нет, в критический момент на городскую проводную связь надеются…
Ляхов согласился. Увы, несмотря на чины и должности, далеко не каждому полагается.
— Хорошо, подожди немного. — Левашов интригующе улыбнулся. Небрежно сунул драгоценный аппарат в карман рубашки и, насвистывая что-то отдалённо напоминающее арию индийского гостя («Не счесть алмазов в каменных пещерах»), поднялся по очередной лестнице Ларисиного терема.
Вернулся минут через двадцать и, отозвав Вадима с Майей в сторону от веселящейся компании, выложил на журнальный столик десять совершенно одинаковых пачек «Дюбека».
— Выбирай, где твой, — предложил Ляхову.
Тот, при самом тщательном рассмотрении, не нашёл никакой разницы. Сам факт «умножения сущностей» его не удивил. Успел узнать возможности «Братства».
— Раньше бы сказал, мы б весь ваш мир завалили этими штуками, за хорошую плату, естественно, — говорил Олег. — А это так — на скорую руку. Чтобы хоть вы между собой могли спокойно общаться.
— Не выйдет спокойно, — мотнул головой Ляхов. — Вся связь всё равно через центральный узел идёт и тщательно контролируется. Машинки-то вот они, а позывной у каждой индивидуальный…
— Я ведь тебе не предлагаю болтать по ним, как по телефону-автомату. На крайний случай. Ежели промедление смерти подобно. Да и наверняка вы с Тархановым, при вашей власти, сумеете несколько лишних номеров в списки вставить.
Сейчас Майя вызвала Вадима. Тот отозвался на пятой секунде. Она совсем коротко спросила, как у него дела, и сказала, что случилось нечто крайне интересное, требующее его немедленного появления в Кисловодске.
— Как прошлый раз?
— В своём роде даже интереснее. Сумеешь завтра вылететь первым самолётом?
Ляхов привык, что по пустякам жена его не дёргает и спецсвязью не пользуется.
— Надо — сделаем… Могу и сегодня. Есть рейс на Минводы в ноль-пятнадцать. Прямо сейчас машину вызову, в аэропорт — и к вам.
— Спроси его, а Сергей с ним не сможет? — подсказала Татьяна.
— Вдвоём и сразу — точно нет, — ответил Ляхов. — Своих заморочек полно. Если со всеми раз– гребёмся — через неделю минимум. Это я — сравнительно вольная пташка, а он плотно занят, час назад я от него вышел. Даже в казино с девочками пойти отказался.
— Приедешь — будут тебе девочки, — словно бы с нехорошим обещанием в голосе сказала Майя, и это был тот редкий случай, когда Вадим на той стороне «провода» понял её неправильно. То есть не уловил, что данном случае она говорит буквально, без задней мысли и намёка.
— Тогда — конец связи. Жду у Ларисы… около двух?
— Скорее — трёх. Можешь немного поспать…
— Вот это — вряд ли.
Она нажала кнопку отключения, и не только по причине несанкционированной загрузки линии. Татьяна под столом толкнула её коленом.
— Я наблюдала за барменом. Он только что звонил по телефону…
— Ну и что? — не поняла Майя.
— Ты приезжая, я — местная. Не только обычаи знаю, а и по губам читать умею. Не в совершенстве, но в сочетании с мимикой и взглядами — понимаю. Иначе как бы мы тут выживали? Тарханов тоже наш, ставропольский, потому у него в «Бристоле» получилось[16]. Попади на его место твой Вадим — и до задних ворот не дошёл бы…
Майе эти слова показались обидными, но пришлось согласиться. Она имела собственное мнение о достоинствах самых близких ей и друг другу мужчин, но по поводу подвига Сергея в Пятигорске — ни убавить, ни прибавить.
— И что ты прочитала?
— По смыслу — приезжайте, есть классные… дальше не по-русски. Много, всем хватит, — и заржал, как они любят. У них жеребячий гогот выражает высшую степень самоуважения…
Майя готова была отнестись к словам Татьяны пренебрежительно, мол, пуганая ворона и так далее, но слишком у истинной казачки стало серьёзное лицо.
Глаза сузились, и губы сжались в нитку. Такой она её редко видела.
Самое же главное — просто не могла Майя себе вообразить, что в шикарном курортном городе (куда до него пресловутому Баден-Бадену), где отдыхает и веселится лучшая часть российского общества, следует чего-то опасаться. А полиция, а жандармерия, картинно гарцующие по улицам казаки Терского войска? Особенно меры безопасности усилились после налёта боевиков на Пятигорск.
Но Татьяна именно в этом случае наверняка умнее и опытнее её.
— Быстро, — сказала та, — звони Лихареву. Скажи, где мы и в чём дело.
— Но я так и не знаю, в чём…
— Аура! — Татьяна выхватила у неё переговорник и, нервничая, не сразу нашла нужные кнопки. Хорошо, Валентин ответил сразу. Торопливо сказала несколько слов. Видимо, достаточных.
Майя в это время наблюдала за барменом. Красивый парень, с шикарной тёмно-рыжей шевелюрой. Поймав её взгляд, улыбнулся «на ширину приклада», как любил говорить Тарханов в духе своих горноегерских казарм, вышел из-за стойки.
— Чего-нибудь ещё прикажете?
— Да. По сто грамм коньяка нам и три бутылки шампанского тем девушкам, и — мигом! — Майя поразилась, как неуловимо быстро лицо Татьяны из напряжённо-жёсткого стало пьяноваторасслабленным. Специалистка.
— Как прикажете. — Бармен тоже изобразил душевную приязнь. Заказ клиенток тянул на очень хорошую сумму. Те четверо отдыхающих в правом крыле веранды, что второй час не могли допить литр сухого, его не интересовали.
Пока он исполнял заказ, Майя (эмоциональный заряд Татьяны подействовал), раскрыла сумочку и поставила её рядом. Инкрустированный «вальтер-РР» взвела незаметным движением. Подруга сделала то же самое, одновременно прошептав:
— Только не вздумай стрелять на поражение. Иначе не сегодня, так завтра нам конец. Все аулы поднимутся. А я вроде по нужде схожу. Осмотрюсь там…
Майя подумала, что она права. Если всерьёз стрелять начнут — конец, пусть и не в физическом смысле. Вадим прилетит, заберёт их отсюда, но — это будет навсегда. Кровная месть и всё такое. Зато есть куда более красивый ход. Наверное, Татьяна его тоже просчитала. Она заказала для девочек ТРИ бутылки шампанского. Значит, сейчас на столе у них будет ровно семь. По одной на каждую.
Пока бармен суетился, Татьяна по пути в туалет коснулась плеча Анастасии. Та, отчётливо среагировав, подскочила и пошла следом. Бармен (заметила Майя), следил за Настей взглядом голодного волка. Наверное, просто потому, что у этой сейчас видны были высоко открытые ноги, а прочие прятали их под столом.
«Ох, и дикий народ», — вспомнила она слова бессмертного романа.
Хорошо, две дамские кабинки находились в отдельном помещении, там никого не было, а кирпичные стенки и расстояние от зала исключали возможность подслушивания. Если, конечно, здесь не установлена аппаратура. Только вряд ли, не тот уровень кабака. По работе она знала, какие точки находятся под контролем. Сама водила кого нужно куда прикажут.
— Настя, вы к рукопашному бою подготовлены?
— В какой степени, Татьяна Юрьевна? — глядя чуть в сторону, спросила Анастасия.
— Если сейчас появятся десятка полтора агрессивно настроенных парней… То есть нет. Сначала они будут очень любезны. Комплименты, пусть и грубые, предложения выпить и потанцевать, поехать с ними на водопады… А когда вздумаете отказаться — тогда и начнётся. Вариант простейший — вас всех, и меня с Майей тоже, изнасилуют на месте. В грубой и извращённой форме. Фантазии и сил у них хватит. Потом уедут, и концов не найдёшь. Вариант ухудшенный — погрузят в машины и увезут в горные аулы. Там будет то же самое, каждый день, в промежутках — тяжёлая работа…
— Я поняла, Татьяна Юрьевна. — Лицо Насти оставалось почти безмятежным. — Убивать не надо, правильно?
— Правильно. Но сделать так, чтобы ни один, ты пойми — ни один до утра не встал, не смог позвонить, и чтобы ни одна машина отсюда не уехала — сможете?
— Сможем, Татьяна Юрьевна. Кроме того, постараемся, чтобы и со стороны никто ничего не услышал и не понял… Я сейчас девочкам всё скажу.
Они успели вернуться, и ставший до неприличия любезным бармен, Руслан, как он назвался, подал всё, что заказали. Допившие свое вино мужики с дальнего столика как-то незаметно слиняли, то ли почувствовав сгущающуюся атмосферу, то ли просто так. Время вышло. На девичий цветник внимания вроде бы совсем не обратили. Педерасты, что ли?
Тёплый южный ветер накидывал на веранду запах роз из одноимённой долины. Может быть, единственной в мире, где сразу цвели десятки тысяч кустов сотни разновидностей. Иногда от этого густого запаха перехватывало горло.
Три большие чёрные машины, светя фарами, подъехали совсем не с той стороны, откуда ждала Татьяна. Оказалось, что к ресторанчику вела не только пешеходная дорожка, находившаяся в поле зрения. Позади, за хозяйственными постройками, имелся заезд для технологического транспорта. Мусор забрать, продукты доставить.
Дальше — как Татьяна и просчитала. Пятнадцать лихих горских парней навскидку не определяемой национальности, с тем же отвязанным гоготом ввалились на веранду. Хорошо одетые, в возрасте от двадцати до тридцати, явно имеющие какое-то образование выше начального. Не пастухи из отдалённых аулов. Может быть, приехавшие на каникулы сыновья горских беков, ханов и князей.
Ещё хуже, подумала она. Этих, что они ни сделай с обычными туристками, полиция искать не станет. Спишут на каких-нибудь маньяков.
Ещё один признак цивилизованности, точнее — особой изощрённости парней. Никто не стал приставать к девушкам сразу. Расселись за столиками, грамотно перекрыв все входы и выходы с веранды. Заказали вина, дружно закурили, потребовали у бармена поставить восточную музыку, и погромче. Только потом, невзначай, обратили внимание, кто рядом присутствует.
И — общий восторг! И комплименты, почти приличные, но с отчётливым подтекстом. Дальше — больше. Попытки подсесть рядом, познакомиться, за ручку потрогать, на танец пригласить. Самое-то главное — никого вокруг посторонних, на полкилометра, считай, и по позднему времени новых посетителей не появится. А тут — девчонки, почти школьницы, мороженым с шампанским балуются. Невыносимый соблазн.
Однако старшего из компании что-то насторожило. Или бармен Руслан их об этом предупредил. Две русских бабы постарше, сидят отдельно, но смотрят чересчур неприятно. Опытный кавказский мужчина, при всём своём показном, на соплеменную публику рассчитанном героизме, казаков и их женщин (этих даже больше) остерегался. Генетически. Но не терять же лица?
Бабы красивые, взрослые. Наверняка неглупые. Стоит подойти, поговорить. Глядишь, за хорошие деньги согласятся и в подсобку сходить. С ним одним — обе сразу. Ему хорошо, им хорошо, настоящее удовольствие получат, и парням никто не помешает.
Подошёл со своим стаканом, ногой подвинул стул, сел.
— А не свалить ли тебе, землячок, покуда живой? — спросила Татьяна, выслушав предложение горца, чью национальную принадлежность не успела определить. Не черкес, не карачаевец — точно. Прочие племена и народы она различала плохо.
— Грубить хочешь, девушка? — продолжая изображать из себя что-то похожее на итальянского актёра Марчелло Мастрояни в роли сицилийского дона, с улыбкой спросил горец. — Дорого обойдётся.
— Тебе — грубить? — тоже улыбнулась Татьяна и, словно пудреницу, достала из сумочки «РР». — Не стоишь ты того. Без всяких грубостей. Что предпочтёшь — в лоб или в живот? Мне — без разницы, а тебе?
В этот же момент Майя под столом протянула руку со своим инкрустированным девятимиллиметровым «вальтером» и уперла ствол в самое дорогое для любого кавказского мужчины место. Причём упёрла больно, резким тычком.
— Как тебя зовут, милый? — спросила она.
— Арслан, — ответил тот, пытаясь даже в этом положении сохранить лицо. — Меня все тут знают. Не думайте, что такое вам пройдёт даром…
— Как нам пройдёт — видно будет. А вот тебе, когда яйца с хером отстрелю, никакой доктор причиндалы обратно не пришьёт. Разве что от барана. И весь Кавказ смеяться станет…
Майя отвлеклась на непосредственного клиента и пропустила момент, когда началось за столом у девочек. Кто-то из горячих горских парней совершил первую роковую ошибку. На самом деле с любой нормальной кавказской точки зрения ошибкой это не было. Самая что ни на есть норма. Адат[17].
Семь юных девушек ночью сидят за столом, при них ни одного русского мужчины. Значит — понятно, кто. Четырнадцать крепких, уже возбудившихся парней окружают их со всех сторон, помешать некому. Что творится за спиной со старшим товарищем — не видно, да и некогда смотреть и незачем.
Для начала первый, самый активный, наследный князь двух аулов и тысячи баранов, наверное, в белом костюме и чёрной рубашке, положил тяжёлую ладонь на тонкую шею Марины. И совсем легонько сжал пальцы. Просто чтобы почувствовала, поняла.
Никто не успел заметить, как сидевшая напротив Герта схватила за горлышко бутылку шампанского и ударила красавчика снизу вверх, под челюсть. Тот, едва не уйдя в заднее сальто, рухнул на вымощенный цветной плиткой пол, прилично приложившись ещё и затылком.
Дальше пошёл уже настоящий цирк. В том смысле, что имел место весь набор приёмов, которыми поражают публику акробаты, эквилибристы и прочие клоуны. Только всё — в одни ворота.
Вертелись, подпрыгивали, взлетали в воздух, приземлялись мордой вниз, переваливались через перила, смешно болтая ногами, исключительно гости. Девушки скользили по веранде, взмахивали руками стремительно, бесшумно, почти на грани зрительного восприятия. Даже бутылки шампанского не все пригодились в качестве оружия.
Полторы минуты максимум — и конец забаве. Куда аборигенам с опытом исключительно уличных мордобоев «до первой крови» из носа выстоять против боевых машин, пусть и из плоти и крови. С мышцами, как у чёрной пантеры, и реакцией южноамериканского паука, умеющего отскакивать с пути револьверной пули. Аггрианские курсантки чётко выполнили главное требование — никого не убить. Но одновременно — нейтрализовать надёжно.
Следующих двух минут хватило Инге и Кристине, чтобы сбегать к машинам, вырвать, как сорную траву, пучки проводов из-под приборных щитков. И вернуться обратно.
Настя и Марина блокировали поваров и официантов внутри ресторана. Посоветовали сидеть тихо, никуда не звонить, ничего не видеть и не слышать.
Татьяна пистолетом поманила оцепеневшего за стойкой бармена Руслана. Стволом указала, где ему сесть. Майя убрала свой «вальтер» с промежности Арслана.
— Ну и как — повеселились мальчики?
Из всех мальчиков только один был в сознании, сидел на полу, сжав ладонями разбитое в кровавую кашу лицо. Хрипло поскуливал.
Девушки, убедившись, что несовместимых с жизнью травм никому не нанесли, обыскивали бесчувственные тела, выкладывали на стол оружие и пачки денег. Этого добра у каждого имелось изрядно.
— Ты не понимаешь, сейчас нам осталось шлёпнуть тебя и его, — Майя показала на бармена, — сунуть вам в руки эти нигде не зарегистрированные пистолеты и через час улететь в неизвестном направлении. А потом прокуратура пусть разбирается, из-за чего вы тут насмерть передрались…
— Сука, — со злобой и тоской процедил Арслан и немедленно получил от Татьяны такую зуботычину, что голова мотнулась, как у тряпичной куклы. Она сейчас выплёскивала всю накопившуюся за десятилетия ненависть. К таким вот бесцеремонным и наглым парням, что преследовали их, школьниц и студенток на улицах, в парках и на танцплощадках, к тем, что заставили её трястись от ужаса в захваченном бандитами «Бристоле», за многое другое.
— Ещё слово — всерьёз изувечу! — Голос её вибрировал на грани нервного срыва.
По счастью, почти тут же раздался звук ещё одного мотора — приехал наконец Лихарев. С ним ещё двое решительного вида мужиков с автоматами. Как будто они сидели у Валентина в полной боевой готовности и ждали команды. Возможно, так оно и было.
— О, какая неожиданная встреча, — заулыбался Лихарев, увидев Арслана в крайне унизительном положении. — Давненько не пересекались.
Тот особой радости при виде группы поддержки не испытал, но определённое облегчение — явно. Из ситуации наметился выход, а то кто знает этих сумасшедших баб, могли и привести свою угрозу в исполнение. Им, откровенно говоря, больше и делать почти ничего не оставалось. Шайка наёмных убийц какая-то, а не приличные курортницы.
Валентин сел напротив, жестом велел девушкам убрать тела с веранды. В кусты, подальше.
— И зачем же ты, Арслан, моих гостей обижаешь? Не по-мужски это. Девочки первый раз на юг приехали, и вдруг такое. Что они теперь думать станут? Дикари живут на Кавказе — вот что они подумают, и правильно сделают…
— Девочки, — пробурчал тот. — Спецназ ГРУ, а не девочки. Зачем не сказали, что твои гости? Мы бы сразу ушли. Ребята, мамой клянусь, ничего плохого к ним не имели. Если только по доброму согласию. Я вот этим, — он дёрнул подбородком в сторону Майи с Татьяной, — сразу так и сказал. Хотите хорошо провести время — всё как надо сделаем. А они за пистолеты. Зачем тогда без своих мужчин на юг ехать? Все за этим едут, никто потом не жалуется…
— Ладно, — кивнул Лихарев, приказал бармену всем налить. — Будем считать, что получилось недоразумение. Твоим парням урок — не распускать руки, пока дама не выразила явное и недвусмысленное согласие. Для верности можно лишний раз переспросить, этого ли именно она хочет, и не будет ли потом претензий. Дошло?
Арслан кивнул.
— Тебе — отдельный урок, ты-то давно не мальчик. Если видишь непонятное — три раза подумай, как поступить. Девять девушек ночью, без охраны, в таком месте… Необычно, да? Кто такие, зачем здесь, стоит ли вообще к ним подходить — стоило бы тебе об этом подумать. Здесь не твой родовой улус, здесь русский город.
— Ну, хватит, а? — не выдержал горец, залпом выпил свой стакан.
— Когда хватит, я сам знаю. Короче, считаем, ты меня понял. Что случилось — забыли. И мы, и ты. Пацанам своим накрепко объясни — подрались по пьянке, и всё. Где, с кем — не помнят. И упаси Аллах, если вспомнят. Ты меня знаешь. Я тебя тоже. И про все твои дела, и про многое другое. Не нарывайся — хуже будет.
Лихарев демонстративно медленно раскурил сигарету, взглядом ценителя осматривая поле боя.
Лихарев приехал на микроавтобусе, и в него все легко поместились.
— Круто начинаете, девушки, — сказал он, когда, покрутившись по узким тёмным аллеям, вывел машину на освещённую дорогу. — В первый же день, и сразу такое приключение. Но оно даже и на пользу. Практическое занятие по теме номер тридцать семь. Справились успешно. Всем зачёт.
Курсантки сидели молча, слушали так, будто действительно руководитель подводит итог очередной вводной.
— А вот вы, дамы, — обратился он к Майе с Татьяной, — дурака сваляли. Эта «Чёрная роза» — известный притон. Здесь по ночам и крепким мужикам делать нечего, если они не в теме.
— Ты сам — в теме? — спросила Татьяна. После снятия поставленной Валентином матрицы она ничего не помнила об их сложных и запутанных квазиотношениях, воспринимала только как мужа Эвелин и приятеля Шульгина, Новикова и Ларисы.
— Я — да. Арслан держит парк — меня это не касается. Зато я, хоть и сам по себе, но в хороших контактах со смотрящим всего города. Так что можете ничего не опасаться. Однако впредь советую вести себя осмотрительнее. Во всех смыслах.
— Сто раз я бывала во всех кавминводских кабаках, в этом тоже, никогда со мной ничего не случалось, — не сдавалась Татьяна.
— Иногда достаточно один раз оказаться в ненужном месте. Второго не потребуется. Ладно, закончим, я вам не наставник. Хорошо, что без меня справились, и я, по случайности, поблизости оказался. Вас куда, домой? Или можно ко мне, попробуем исправить испорченный вечер…
— На сегодня развлечений и впечатлений достаточно, — ответила Майя. О том, что должен прилететь Ляхов, она почему-то Валентину не сказала.
Возле отеля «Бештау» Татьяна попросила остановиться.
— Мне тут нужно срочно кое с кем повидаться, если задержусь — не переживай, такси возьму…
Майя слегка удивилась. Ни о какой встрече подруга ей не говорила, может быть, просто не успела из-за стремительного развития сюжета. Для того и предложила отсесть от девочек. Или ей потребовалось с кем-то переговорить именно после того, что произошло? Насчёт Арслана, Лихарева… Только вот с кем здесь она может такой вопрос обсуждать?
Не сразу Майя сообразила, что Татьяна прожила на КМВ всю жизнь, связей и знакомств имеет предостаточно. Очень может быть, что и среди преступного мира. И теперь спешит доложить некоей персоне свою версию событий?
И — самое простое: уточнила у Ляхова, что Сергей с ним не приедет, после чего решила навестить любовника, в расчёте, что встречу легко сможет списать на случившийся инцидент.
В том, что любовник у Татьяны есть или должен быть, Майя почти не сомневалась. Они этой темы не касались и в самых откровенных разговорах, но по косвенным признакам…
Впрочем, не её дело. Она сама в Москве, до встречи с Вадимом, никогда не отказывала себе в случайных капризах. А Татьяна в этом смысле барышня не менее темпераментная и импульсивная. Представила, как Майя с Вадимом сегодня отведут душу, а ей придётся всё это воображать в обнимку с подушкой, и решила избежать такого стресса аналогичным способом. Но вот смеху будет, если Тарханов в последний момент всё-таки сумеет вырваться с другом хоть на денёк. Картина Репина — «Приплыли».
Как классная дама или ротный старшина, Майя развела подопечных по спальням, предупредив, что завтра с утра им предстоит встреча с одним человеком, от которого, возможно, будет зависеть их дальнейшая судьба. И устроилась в гостиной перед экраном дальновизора. Ждать.
Ляхов появился, как и обещал, без пятнадцати три. Франтовато одетый в гражданский костюм, с букетом цветов, наверняка приобретённых ещё в Москве. Больше негде в такое время.
Майя, как положено жене, напоила его с дороги кофе, чарочку поднесла, терпеливо подождала, пока он выкурит сигарету, и только после этого повлекла к себе.
Они не были вместе больше трёх недель, и оба дали волю чувствам. На взгляд Майи, даже несколько чрезмерно.
Над горами уже зарозовело небо, когда она привела эмоции в порядок и принялась рассказывать всё, что произошло за вчерашний, страшно длинный день.
Вадим заинтересовался не столько самим фактом появления аггрианской команды с далёкой планеты: межвременные и межпространственные переходы давно были ему не в новинку, — а связанными с этим обстоятельствами. Значит, «старшие братья» снова ввязались в конфликт высшего порядка и неизвестно, когда и как из него выйдут. И правильно будет в ближайшее время рассчитывать только на себя. Впрочем…
Ему тоже показалось непонятным — в чём заключалась необходимость Левашову перемещать Лихарева с девушками именно сюда? Куда ведь проще было вернуться, позволить им завершить курс обучения. Или это специальный расчёт, часть очередного плана «братьев»?
Особо это касается Валентина. Дезертировал, воспользовавшись случаем? И сейчас, как ни в чём не бывало, нежится в объятиях своей Эвелин, занимается непонятными делами с криминальным оттенком. Как боевому офицеру такое поведение коллеги Вадиму было непонятно.
Там, на Валгалле, разворачивается очередная межзвёздная война, и ему, специалисту и единственному, можно сказать, мужчине среди сотни недоученных «юнкериц», следовало бы находиться на переднем крае. Или, по крайней мере, помогать организовывать эвакуацию, если дела идут совсем плохо.
Кроме того, непонятно, почему Левашов переправил экипаж флигера именно в этот Кисловодск. Логичнее было бы в другое место и время, туда, где не требовались сложные действия по их легализации. В двадцать пятый год, где у «Братства» «всё схвачено», а то и в новозеландский форт.
Нет, что-то тут явно не то.
Вадим, естественно, по малости срока пребывания в «Братстве» и незначительности ранга (всего лишь «кандидат»), не мог знать всей сложности комплекса технических и психологических проблем, с которыми «старшие» сталкиваются постоянно, и квалифицированно судить о причинах и целях их поступков. Но на то, чтобы строить правдоподобные гипотезы, его подготовки и природной сообразительности хватало.
Скорее всего, девушек переправили в Кисловодск специально. Или так: специально переправили Лихарева, по какой-то причине (Вадим был почти уверен, что знает, по какой именно), сочтя его присутствие на Валгалле нежелательным. А их — просто за компанию, раз они все находились «в одной лодке».
Сходится, но не совсем. Левашов ведь отчётливо сказал, что передаёт девушек под покровительство Майи, то есть фактически — его, Ляхова, ну и Сергея Тарханова соответственно, учитывая его «особые интересы» в этом регионе. Отчего не предположить, что в дальнейшем имеется какой-то специальный замысел?
В подробности того, что имело место на самом деле, на высших уровнях, Вадима не посвящали, но и без того он знал, как ему казалось, достаточно, а об остальном догадывался.
«Итак, что мы имеем? — соображал Ляхов. — Семерых выдернутых из своего мира девушек, брошенных в этот, якобы без цели и задания. Великолепно подготовленных в смысле боевых искусств, да и почти во всех остальных смыслах тоже.
Левашов мог бы сказать Майе всё, что нужно, открытым текстом. Но этого не сделал. Значит, имел основания».
Вадим не мог себе представить, зная стиль работы и возможности «Братства», что никаких конкретных планов у Олега в тот момент просто не было.
Сделал, что хотел и смог, выдернул людей из послесмертия, переправил, куда настройка СПВ и состояние континуума позволили, а о дальнейшем задумываться было ему недосуг. Более того, очень он себя неуютно чувствовал, всё время ощущая влюблённый взгляд Кристины. Ему казалось, что это замечают и Майя с Татьяной. Левашов до сих пор оставался в душе очень застенчивым человеком во всём, что касалось отношений с прекрасным полом. Почему с такой лёгкостью признал лидерство Ларисы: больше не требовалось принимать самостоятельных решений, а красота и прочие её способности и качества исключали потребность обращать внимание на любую другую женщину. Только вот с Кристиной невзначай случилось, да и то само собой, без всякой его инициативы. Стал, можно сказать, жертвой учебного эксперимента.
Но всего этого Ляхов знать не мог, отчего и начал искать усложнённые объяснения.
Наступило утро, Татьяна так и не появилась. Майя сказала, что если она с любовником, так бежать домой сломя голову в семь утра — полная глупость. Если занимается чем-то посерьёзнее — тем более. В любом случае, при необходимости позвонила бы. А так: «Я не сторож брату моему».
Вадим с ней согласился. Он-то уж наверняка не сторож чужой жене. Ему сейчас нужно было решить проблему совсем другого порядка.
Пока Майя в своей туалетной комнате оформляла внешность для грядущего дня, Ляхов, стоя на площадке винтовой лестницы, невольно стал свидетелем интересного каждому нормальному мужчине зрелища. Воспитанницы, проснувшись в привычное время, уверенные, что в доме нет посторонних, из своих комнат кинулись в душевую на этом же этаже. Никто не хотел спускаться в полуподвал, где мест хватило бы всем. Естественно, выбежали «о натюрель», шумели, смеялись, шутили на известные только им темы, толпясь у двери в ожидании очереди и выбегая из кабинки. Хорошо и весело им было. Вадим за них искренне Радовался, одновременно думая о своём.
— Засмотрелся, извращенец? — Вадим дёрнулся от неслабого удара по затылку — Майя подкралась бесшумно.
— При чём тут — извращенец? Будущий командир изучает призывной контингент. Ты ведь сама захотела, чтобы я взял их на службу. А там, сама понимаешь, — казарменные нравы…
— Иди, иди, хватит с тебя. Сейчас я приведу их в порядок, потом поговорим.
— Со мной или с ними? — Если начатая женщиной тема тебе неинтересна или опасна, следует немедленно уводить разговор в сторону, не вступая в пререкания по сути.
— С тобой, со мной — и с ними, — ответила Майя, возвращаясь к роли классной дамы.
Вадим позвонил Лихареву, не заботясь, удобно это или нет в столь ранний час. Оказалось, что Валентин не только не спит, но и вообще находится сейчас в своей машине на пути к Пятигорску.
— К себе едешь?
— Значит, жди меня там. Через полчаса-час буду.
Выяснять, устраивает ли его визит Лихарева, не нарушает ли каких-то планов, он не стал. И по нынешней должности научился исходить из того, что начальник всегда в своём праве, и в рамках условной «Табели о рангах» «Братства» отчётливо представлял, как он соотносится с Валентином.
— Машина у вас есть? — спросил он Майю.
— Тебе зачем?
— В Пятигорск сгоняю, к Лихареву. Нужно ведь разобраться, что на самом деле почём, и как с девочками быть. Я их готов взять к себе в «печенеги», а вдруг — нельзя? И у «братьев» на них другие виды.
— Так тебе он и скажет… — Майя изобразила губами и бровями сомнение, смешанное с неприязнью.
— А то я у него спрашивать собираюсь. — Вадим рассчитывал, что жена сейчас воспринимает его не в качестве мужа, а как коллега, сотрудник прокурорской разведки, профессионал с гораздо большим стажем.
— Тогда у кого?
— До кого первого дозвонюсь.
По тону и взгляду Ляхова Майя решила, что большего он не скажет.
— Машина — в гараже. С шофёром поедешь?
— Да лучше бы с шофёром.
Вадим с удовольствием, конечно, проскочил бы сорок километров туда и столько же обратно за рулём хорошей машины, но «пацанские» инстинкты давно остались в прошлом. Слишком много разных вариантов возможны в пути, а также и на месте. А кто такой здешний водитель Иван Иванович, он знал.
Если не взводу штурмгвардии равен, то около того.
Робот, только что бывший чопорной дамой– экономкой, в несколько минут вернул себе облик сорокалетнего мужчины, выглядящего именно так, как и положено шофёру высокопоставленной персоны, и вывел из гаража синий кабриолет Ларисы.
Приехал полковник в дом на склоне Горячей горы, как и рассчитывал, минут на сорок позже Лихарева. Встретились дружески, пусть и знакомы были всего ничего, и виделись не при самых радостных обстоятельствах. Так ведь и жизнь у них по любому счёту совсем другая. Отнюдь не общечеловеческая.
— Сумеешь мне канал связи устроить с Новой Зеландией? — прямо спросил Вадим, после коротких, со стороны Лихарева чуть настороженных приветствий, чашки зелёного чая (на кофе Вадим уже смотреть не мог, не то что бы пить), сигареты.
— Так мне же не велено, — развёл руками Валентин. — Живи, сказали, как сможешь, и не высовывайся. Вот я и не собираюсь больше. Высовываться.
Усмехнулся в некотором роде вызывающе: хоть здесь я вас, друзья-приятели, ущучу. Приказали не подходить к своим приборам и ни в каких внешних делах не участвовать — так я с полным удовольствием. Однако вчера вечером, не прошло и полусуток, вызвали ваших девочек спасать. И сейчас господин полковник Ляхов примчался. За тем же самым.
— Давай-ка я тебя, Вадим Петрович, коньячком угощу из собственных подвалов, или в бильярд сгоняем, — теперь уже с откровенной насмешкой поймавшего свой профит[18] человека предложил Лихарев. — Даже в гольф можно, есть тут подходящее поле. А с этими делами сам знаешь, к кому обращаться… У тебя же бумаги нет? Настоящей, окончательной?
Ляхов, выросший в другом мире, этой книги Булгакова[19] не читал. Однако суть понял.
— Рискованно играешь, Валентин, — ответил он. — У нас ведь дух и буква отличаются гораздо резче, чем у нормальных людей.
— А мне этого никто не сказал. Хочешь, процитирую прощальные слова Левашова, вчера утром сказанные?
«Разместим девчат — и свободен. До особого распоряжения. Вернёшься домой, продолжай жить, как привык, но в полной готовности. Как израильский резервист. Никаких шуточек, хохмочек и прочих инициатив тебе впредь не дозволяется. Уловил?»
Лихарев прямо-таки цинично рассмеялся в лицо Вадима.
— Давай мне это «особое распоряжение». И я — прямо сейчас и сразу. Ты — уполномочен? Ну?
Издевательских и обидно-проигрышных случаев в своей жизни Ляхов встречал не так уж много. Но бывали, бывали. Теперь нужно неожиданно и резко приткнуть этого красавца.
— Не взнуздал, так и не нукай, — вспомнил Вадим подходящую поговорку. Вытащил из наплечной кобуры свой «адлер», что, конечно, не являлось хорошим тоном. Так ведь в другой тональности шутки шутить некогда.
— Дурочку со мной валять не надо. Я здесь сегодня «старший по команде», по причине отсутствия вышестоящего начальства. Полномочия имею. Что не так сделаю — сам и отвечу, — сказал он, начиная выходить из себя.
По своему нынешнему московскому положению собственное членство в «Братстве» и принадлежность Лихарева к инопланетянам казались Вадиму неважными. Флигель-адъютант полковник Ляхов не любил возражений.
«Но нет Востока, и Запада нет, Что племя, родина, род, Если сильный с сильным лицом к лицу У края земли встаёт?»[20]
В одном из виденных им фильмов гангстер Аль-Капоне говорил, что добрым словом и пистолетом можно сделать гораздо больше, чем просто добрым словом.
— Садись и пиши, — приказал Вадим.
«Я, такой-то, нарушил данное мною слово под непосредственной угрозой моей жизни со стороны такого-то. Каковой таковой, в свою очередь, признаёт, что принял на себя особые полномочия под воздействием крайней необходимости. В чём оба и подписуемся…»
Лихарев всё ещё медлил.
— Играться со мной вздумал? Ты что вчера Арслану говорил? Так я для тебя запросто стану хуже, чем ты для Арслана. Знаешь такую статью — «Саботаж»?
И тут же слегка понизил тон:
— Валентин-Валентин, что же тебе спокойно не живётся? Учили тебя, учили, да не выучили. Неужто настолько ретивость в душе гуляет? Всё пропито, кроме чести? Так насчёт «чести» я бы не советовал особо распространяться. Не честь в тебе сейчас говорит, а голые понты. Как у Барона в пьесе господина Горького «На дне».
Лихарев скривил губы, то ли насмешливо, то ли презрительно. Достал его этот салага-полковник, на восемьдесят лет младший, но пытающийся играть под Шульгина. Не без успеха, впрочем, признал он.
— Шуток не понимаешь? Подожди, ещё научишься. И шуточкам, и кое-чему другому. Хотел я тебе показать, как бывает, когда слова буквально понимают. Увидел? Не такое увидишь, раз в наши забавы ввязался. А пистолетиком махать…
Ляхов откинулся на спинку кресла. Эта интермедия далась ему очень не просто. В то же время он чувствовал, что вёл себя правильно. Именно потому, что ввязался в совершенно ненужные ему забавы, неожиданно ставшие едва ли не главной составной частью новой жизни.
— Я просто хотел посмотреть, что за молодёжь нам на смену идёт, — очень мирно и рассудительно продолжил Лихарев. Глаза у него стали вдруг очень усталыми и старыми. Вторую сотню лет человек живёт, и какую сотню! Гражданскую войну захватил, со Сталиным сколько лет ежедневно встречался. — Хватит у тебя силы и характера такой груз на себя взвалить? — Очень сочувственно прозвучало. — Оно, может, проще было в Москве при своих занятиях оставаться? Теперь увидел — ты парень решительный, совсем даже не промах. Согласен. Помогу, и без всяких расписок. Мы с Шульгиным такие дела крутили — тебе и не снилось. Сталина обвели вокруг пальца, Ежова свалили… Он мне и без протокола на слово поверит. Пойдём в подвалы. Они там мою аппаратуру опечатали, мы её с твоей и божьей помощью распечатаем. И вперёд. На Таорэру летали, до Новой Зеландии как-нибудь доберёмся.
— Вот так бы сразу, — облегчённо вздохнул Вадим.
— Сразу знаешь, что бывает? — усмехнулся Лихарев. — Узнаешь, всему свой черёд…
Они спустились в подвал, отделённый от площадки массивной стальной дверью с кремальерным запором. Вспыхнули потолочные плафоны, Вадим увидел несколько шкафов и пультов технического назначения, похожих на те, что стоят в армейских узлах связи. Максима Бубнова сюда, тот бы быстренько разобрался, что к чему. А самому не понять, да и незачем. Ляхов подумал, не совершает ли очередную ошибку. Нет, едва ли. Если Лихареву позволено здесь жить, и установки сохраняются в рабочем состоянии, значит, именно в данном направлении от него пакостей не ждут.
— Новая Зеландия, говоришь? — бормотал Валентин себе под нос, включая рубильники, нажимая кнопки и перебрасывая тумблеры. Засветились открыто стоящие радиолампы, загудели умформеры и вентиляторы. По круглому зелёному экрану осциллографа побежали вдоль оси абсцисс разновысокие зубчатые волны. Совершенно как на кардиограмме.
— На пароход, говоришь, прямо на палубу? Сейчас, сейчас… Станция у них постоянно на приём должна работать, нам и делать почти ничего не придётся… Несущую частоту поймаем — «и тольки…», — вдруг вспомнил он любимую присказку батьки Махно, Нестора Ивановича.
На самом деле поиск частоты и выставление на циферблатах и пультах всех нужных позиций заняло минут пять, а то и больше. Вадим на часы не смотрел. Потом защёлкали реле, коротко взвыло что-то, спрятанное под изогнутым овальным кожухом, и между двумя коммутаторными стойками возникла графитово-чёрная, уходящая в никуда воронка. Ляхову показалось, что из неё потянуло нездешним, как принято выражаться, могильным холодом.
Тут же чернота сменилась синеватой флюоресценцией, еще секунда — и вот оно! Сначала по глазам ударил свет опускающегося к горизонту солнца, потом Вадим увидел угол кормовой рубки и надраенную тиковую палубу под ногами.
— Ух ты, как точно! — восхитился своему успеху Лихарев. — Метр в метр. Их установка прямо здесь, за стенкой… Ну, давай, выходи. Ищи своего Воронцова.
— Я здесь посижу. Мне волну держать нужно. На всё про всё тебе полчаса. У меня подходящего компьютера нет, а задачу «трёх тел» я в уме решать не умею. На глазок исключительно…
Ляхов перешагнул на палубу «Валгаллы», осмотрелся. Вода фьорда, покрытая мелкой зыбью, искрилась. На берегу виднелись крыши и зелёные аллеи посёлка. Пароход, очевидно, был готов к очередному походу — над задней трубой вился лёгкий дымок.
Уже через минуту его появление было замечено вахтенным унтером. Обладающий несколькими лишними органами чувств и абсолютной памятью андроид не только обнаружил на борту постороннего, но и мгновенно его идентифицировал. Этот человек принадлежал к имеющим все необходимые допуски, обладал именем и был занесён в судовую роль[21].
— Ваше высокоблагородие, господин Ляхов–второй[22], — пробасил сверхсрочный боцманмат[23], с серебряной дудкой на обширной груди, подкинув ладонь к бескозырке. — Так что господин адмирал на борту, прикажете проводить и доложить?
— Проводи, а как же.
Воронцов, очевидно, предупреждённый вахтенным офицером, увидевшим гостя с крыла мостика, вышел из рубки навстречу.
— С прибытием, — сказал Дмитрий, приветливо улыбаясь и протягивая руку. Опять ЧП, раз не по нашей линии пришёл?
Вадим объяснил, что именно, на его взгляд, случилось.
— Понятно, понятно. Олег мне уже доложил. Только мы не думали, что так быстро у вас осложнения начнутся. Полагали, недельку-другую на первичную адаптацию уйдёт. Да ты проходи, садись, сейчас прикажу прохладительного подать. Или — наоборот?
— Хорошего местного пива можно. Времени у меня совсем мало. Лихарев за устойчивость канала не ручается. Я вот что придумал — возьму их всех к себе на службу. Создам при «печенегах» особое рейнджерское подразделение. А куда ещё? Не замуж, на самом деле, в хорошие руки отдавать, как породистых котят. В другом варианте им нормальной жизни не будет. Вчера Арслан, завтра кто-то посерьёзнее заинтересуется. Для себя или на продажу… В итоге такое начнётся… Полгорода перебьём, в пределах необходимой самообороны.
— Их тот Арслан или кто повыше после вчерашнего не в наложницы — в киллеры вербовать станет. Не согласятся — устранят, — немедленно то ли возразил, то ли согласился Воронцов. — Никакой Лихарев не поможет. Похоже, Олег действительно не додумал. Правильно твоя Майя сказала, перенасыщенный раствор получился. Кисловодск — не Москва и не Голливуд. А ко мне какие вопросы? Санкция, что ли, требуется ? Так ты в столице сам большой начальник, без моего благословения управишься.
— Санкция ваша мне без надобности, Дмитрий Сергеевич. В Москве управлюсь, без вопросов. Только кого я туда привезу, кого начальству представлю? Группу выпускниц Смольного института? Посмеются, и только. Потому хочу вас попросить — возьмите их сюда. Организуйте «высшие офицерские классы» по рейнджерской программе. Базовая физическая подготовка у них не хуже, чем была у белых офицеров. Требуется похожая психологическая. Ну и, само собой, специфический женский опыт. С этим бы и мои дамы справились, но… Думаю, Наталья Андреевна сможет им как нужно всё преподать, «в должной плепорции».
Воронцов вертел в пальцах незажжённую трубку, смотрел на Ляхова с интересом.
— Хорошо решил. Главное — быстро. Что ж, не вижу оснований возражать. Месяца за три научим всему, что сами умеем. Будет у тебя личная гвардия, и не только. Представляю, сколько интересных комбинаций можно организовать, располагая таким контингентом…
Вадим и сам имел в виду такую возможность. Семь великолепно обученных агентесс. Любая, в случае надобности, способна вскружить голову самому значительному лицу, лишённая намёка на моральные предрассудки, от которых не свободна любая нормальная земная женщина. И работать будут не за деньги, не за страх, а исключительно за идею. Ту, которую сам для них сформулируешь.
— Не зря Александр вас с братцем разыскал и в нашу компашку пригласил, — сказал Воронцов без тени иронии. За что Ляхов его и уважал. С Дмитрием Сергеевичем можно было на любую тему говорить, не опасаясь подвоха. Пошутить иногда едко любит, натура и должность у него такие, но всегда без подвоха, задней мысли и прочего маккиавелизма. «И пусть слова ваши будут да — да, нет — нет, а остальное — от лукавого».
— Сколько у тебя времени в запасе?
Вадим посмотрел на часы.
— Минут пятнадцать.
— Маловато. Давай ты этого Лихарева отпустишь, мы с тобой и Натальей как следует всё обмозгуем, и я тебя нашим каналом отправлю…
Уловил в лице Ляхова некоторое сомнение.
— Не боись. Всё будет нормально, у нас сбоев пока не случалось. А если Валентину так до конца и не доверяешь, сделаем, что ты через десять минут следом за ним появишься. Обо всём, мол, договорились, дальше — не твои заботы…
Вадим всё ещё не мог не то чтобы привыкнуть, а на уровне нормы научиться воспринимать подобные штучки. Независимо от собственного опыта странствий по боковым временам.
— Давайте ещё лучше сделаем: Валентина отпускаем, тут же по вашему каналу забираем сюда девушек и Майю с Татьяной, если вы не против. Они с момента встречи с нашей командой только и мечтают этот мир хоть одним глазком увидеть. Александр Иванович практически уже пообещал Майе принять её в «Братство». Тогда уж и Татьяну… Мы тут все вместе недельку поживём, чтобы у девчонок третьего за сутки футурошока не случилось. Валентин вообще ничего не узнает, кроме того, что я у вас побыл, сколько мне надо, и вернулся.
Ляхов не заметил, а Воронцов уловил сразу, что голос у него едва заметно дрогнул. Будто у ребёнка, боящегося, что взрослый откажет в очень важной для него просьбе.
«Совсем пацан ещё, хоть и полковник», — подумал Дмитрий, широко улыбнувшись.
— Никаких возражений. Для того Форт с «Валгаллой» и существуют, чтобы каждый мог укрыться здесь от мирской суеты. Отпускай Лихарева, и займёмся…
Вскоре после отъезда Ляхова вернулась домой Татьяна. По её глазам и прочим штрихам поведения Майя поняла, что не ошиблась в своём предположении. Следы бурной «ночи любви» читались явственно. Поднялась вслед за ней в её комнату, так прямо и спросила:
— Кого это ты себе нашла? Что-то стоящее?
Подруга, отвернувшись к окну, раздевалась, излишне резко бросая вещи на кровать и прямо на пол. В высоком зеркале Майя увидела у Татьяны на незагорелой груди явственные следы поцелуев.
«Если Сергей появится в ближайшие дни, могут быть эксцессы, — подумала сочувственно. — Придётся ей в солярии как следует пожариться, да и то…»
Татьяна тоже увидела предательские пятна, скривилась, очень некрасиво выругалась сквозь зубы. Набросила на плечи халат, выдернула из валявшейся на тумбочке коробки сигарету, пару раз затянулась, снова повторила то же слово, неизвестно, к кому относящееся.
— Стоящее… Когда-то было стоящее. Один мой бывший… Года два, как расстались, а позавчера он меня нашёл. Кто-то в Питере[24] сказал, что видел меня, дальше — дело техники. Пригласил повидаться…
— Ты что, так в него была влюблена, что не сумела отказаться? — удивилась Майя.
— Была, и что такого? Я вообще… бля… влюбчивая. Фамилия обязывает. Сейчас отказалась бы, конечно, да он мне напомнил про неоплаченный должок…
— Чушь какая. Ты сейчас любой долг заплатить можешь. Или — припугнуть. Есть чем.
— Тебе не понять, и понимать не нужно. Тут долг именно такого рода. Сама поклялась… Как в повести «Выстрел». Он прямо так и сказал: «Знаю, что ты замужем, и кем стала, знаю. Рассчитаемся по-хорошему и разбежимся навсегда. Слово чести». — Татьяна слабо улыбнулась. — Так-то оно всё совсем даже неплохо получилось, к взаимному удовольствию. А вот сейчас тоска пополам с совестью дружно гложут. Такая вот цена необдуманных слов и поступков.
Она, взметая полы китайского шёлкового халата, резко встала, достала из бара оставшуюся после прошлых посиделок бутылку ликёра «Селект», плеснула больше трети бокала.
Майя мотнула головой и снова подумала, что прав был Шульгин, иногда излечение бывает хуже болезни. Так, бывшие удалые пьяницы превращаются в мерзких мизантропов, а дамы облегчённого поведения — в жутких мымр и омерзительных ханжей-моралисток.
Вот и у Татьяны после снятия лихаревской матрицы полезли её же ранее задавленные комплексы. Что на самом деле с ней происходило за десять, а, может быть, и больше лет? Майя не знала, и больше того, что иногда под настроение и рюмочку рассказывала подруга, знать не хотела.
Сравнивая её с собой, Майя вспомнила слова из рассказа Бабеля: «Есть люди, умеющие пить водку, и есть люди, не умеющие пить водку, но всё-таки пьющие её. И вот первые получают удовольствие, а вторые страдают». Если заменить водку на другое слово — всё один к одному.
Как жаль, что так внезапно и не ко времени уехала Лариса. С её характером и опытом она была бы сейчас очень кстати.
— Рассчиталась с очередным прошлым? Никому больше ничего не должна? Наплюй и забудь. Считай, тебе опять приснился сон. Скверный или сладкий — сама реши. Беды или греха в том нет. Вадим уже прилетел, сейчас от Лихарева вернётся, и сядем завтракать.
— Хорошо, — снова улыбнулась Татьяна. Небось после вечернего коньяка всю ночь пила шампанское, и от трёх глотков ликёра её заметно повело. — Тогда я пару часиков придремну. Ты права, ничего не было. Совершенно ничего…
— Ладно, давай и я с тобой по глоточку. И тоже прилягу. До трёх Вадима ждала, в семь уже подхватилась. Поспим, сколько получится.
Заснуть у Майи не получилось. Только прикрыла глаза, как полезли, наслаиваясь, мысли и воспоминания, имеющие отношение к Татьяне, никуда не денешься — теперь ближайшей подруги и соратницы.
Она опять вспомнила день знакомства с Шульгиным, дамами-инопланетянками, случившееся с Татьяной и Лихаревым. Тогда её личные подозрения и ощущения почти полностью совпали с профессиональным диагнозом, поставленным Ляховым. Подруга действительно находилась под своего рода гипнозом (хотя коллега Вадима Александр Иванович Шульгин, не рядовой армейский лекарь, настоящий психиатр– психолог), назвал это явление иначе. Самое главное — Татьяну они вылечили полностью. Причём, как сейчас представлялось Майе, — напрасно.
Сама Майя удивительным образом, впервые увидев Шульгина (о котором слышала много разного и интересного от Вадима), как-то неожиданно с ним сдружилась. В гораздо большей степени, чем с Новиковым и женской частью команды. Впрочем, как раз это легко объяснимо. С неё хватило и Ларисы, а Ирина и Сильвия оказались женщинами с подавляющим уровнем превосходства, хотя и гораздо менее афишируемым. Это просто чувствовалось. Взять хотя бы момент, когда Ирина, милая женщина в обличье курортницы, стремительным, с места, как гепарды это делают, охотясь на антилоп, броском перехватила впавшую в истерику от непонятности происходящего Эвелин и немедленно её успокоила. В обоих смыслах. Со стороны это выглядело даже чересчур эффектно. Как и всё последующее.
Когда они уже поздним вечером уехали из дома Лихарева и вернулись на кисловодскую виллу Ларисы, Майя захотела поговорить с Александром Ивановичем с глазу на глаз. Ей показалось, что он ответит на её вопросы, не то чтобы откровеннее, а квалифицированнее Ляхова. Известно ведь, что нет пророка в своём отечестве.
Шульгин не обманул её ожиданий. Он сразу понял, что именно интересует и беспокоит эффектную подругу своего подопечного. Не выходя за пределы так называемой врачебной тайны, обстоятельно объяснил, какие именно изменения могут в ближайшее время произойти в характере Татьяны после проведенного лечения, и что ей, раз она сейчас самый близкий «пациентке» человек, необходимо иметь в виду. Во избежание возможных конфликтных ситуаций.
— Она теперь, если можно так выразиться, станет несколько другим человеком. Посттравматический синдром это у нас называется. А раз травма была психическая, то и изменения произойдут в сфере психики. Она ведь замужем? — спросил так, будто сам этого не знал.
— Считает себя замужем, — неожиданно ответила Майя. Ей как-то вдруг стало понятно, что это определение верно отражает суть дела.
Шульгин кивнул.
— А поскольку знакомство её с Сергеем и замужество произошли, когда она находилась в изменённом состоянии, теперь Татьяна может захотеть пересмотреть эту ситуацию, — продолжил он. — Ты меня понимаешь?
— Пожалуй, да… — слегка подумав, ответила Майя. — Но и вернуться к исходному состоянию она вряд ли захочет…
— Скорее всего. Значит, весьма вероятна новая сшибка. Конфликт мотиваций и тому подобное… Девушка она по психотипу крепкая, нового всплеска болезни можно не опасаться, но вот в личностном плане… Глупостей может наделать. Догадываешься, каких?
Майя кивнула.
— А это никому не нужно. Особенно сейчас. Твой Вадим и Сергей занимаются очень важным делом. Очень. Ситуация — критическая для России. То, что случилось в Москве, — дай бог, не повторится, но чтобы этого не допустить, потрудиться придётся всем. Тебе и ей, в том числе, если считаете себя в команде. Вадим в ней и так, давно и осознанно. А ты?
— Это вербовка? — вспомнила прошлую работу с отцом Майя.
Шульгин весело рассмеялся. Она бы сказала — обаятельно. Да он весь был сейчас сплошное обаяние. Умел, когда требовалось.
— Никак нет. Вадима да, вербовали, и он пошёл на контакт сознательно, поняв и приняв смысл нашей деятельности. И не ошибся, как видишь. А у тебя я просто спросил — в одной ты команде со своим мужем и с нами или — наособицу? Имеешь право. Война — мужское занятие.
— А как же ваши подруги? Воюют?
— Ну, у них другие обстоятельства и другая мотивация. Ты, по счастью, сохраняешь свободу выбора…
— Если Вадим с вами, то и я тоже. Но почему вы решили говорить со мной в его отсутствие? Спросили бы при нём…
— Когда и как кого спрашивать, милая, я лучше знаю. Профессия такая. Подпиской о неразглашении я тебя не связываю. Можешь прямо сейчас передать Вадиму наш разговор. Хоть наедине, хоть в моём присутствии. Просто каждый жанр имеет свои законы. Только и всего… Итак, если ты с нами, впредь придётся придерживаться определённых правил. О них тебе Вадим сам расскажет, чтобы не выглядело, будто я тобой манипулировать пытаюсь…
— Да оставьте. Мне не впервой.
— Тогда закончим насчёт Татьяны. Желательно, чтобы она как можно дольше не встречалась с Тархановым. Месяц, два…
— Понимаю. Я должна её удерживать от желания возвратиться в Москву?
— Не думаю, что придётся именно удерживать. Скорее — организовать так, чтобы вам обеим было интереснее оставаться здесь, чем ехать туда. На самом Деле — что хорошего в той Москве? Мужчины ваши круглые сутки будут заняты делами службы, возможны внезапные и продолжительные командировки. Общество там довольно скучное. То ли дело здесь! Здесь вы — звёзды бомонда! Лариса постарается организовать постоянный фейерверк удовольствий. Лихарев с Эвелин тоже довольно интересные люди. В средствах стеснены не будете. Чего же ещё?
Шульгин, будто бывал в этой вилле неоднократно, открыл стенной шкафчик, достал бутылку вина, наполнил два бокала.
— Одним словом, за успех. И вот ещё что — если Татьяне захочется… приключений — не препятствуй. Ни словом, ни видом. Может быть, тут у неё остался кто-нибудь… Сама понимаешь.
— А сводницей поработать вы мне не поручите? — съязвила Майя.
Шульгин снова засмеялся.
— С этой ролью, если потребуется, Лариса куда лучше справится. Ну, пойдём. Главное мы обсудили…
О сути и смысле только что случившегося она Александра Ивановича решила не спрашивать. Будет ещё время, наверное. Сначала поговорит с Вадимом.
…Только что полностью подтвердились слова Шульгина. Может быть, на самом деле, сегодня ночью окончательно распрощавшись с гнетущим её прошлым, Татьяна выздоровеет полностью.
А если нет? Если нынешняя якобы кода[25] — как внезапная рюмка водки бросившему пить алкоголику. Выпил — и понеслось!
Майя вдруг ощутила смутную тревогу, встала, заглянула в комнату подруги. Та крепко спала.
Ляхов появился на крыльце, едва Майя успела спуститься вниз.
— А где машина? — спросила она, увидев пустой двор.
— В Пятигорске. Позвони шофёру, пусть сюда возвращается.
— Не поняла…
— Сейчас поймёшь. — Он за руку отвёл её к скамейке между тремя японскими соснами, посадил, присел рядом, охлопывая карманы в поисках зажигалки.
— Девочек я пристроил, — сообщил он довольным тоном. — Им хорошо и полезно будет, вам ноль забот, а у меня вскоре появятся хорошие сотрудницы. Подожди, не перебивай, — остановил Вадим готовый сорваться с губ жены вопрос. — Не в том главная суть. Я получил санкцию пригласить вас с Татьяной на отдых. В нашу святая святых — новозеландский Форт Росс. То есть вас официально позволено допустить в монастырь. Для начала — послушницами. Доходит?
— Ох, правда? И мы всё сами увидим, со всеми познакомимся, и то, о чём говорил Шульгин, станет…
— Так точно. Самой, что ни на есть, истиной в последней инстанции. И вечная молодость, и всё такое…
Майя даже не знала, как реагировать. Радость была слишком велика. Почти такая же, как в шестнадцать лет, когда отец к гимназическому балу подарил ей привезённые прямо из Парижа, из «Галери Лафайет», первые в жизни туфли на высоких каблуках, «летящее» платье и всё остальное.
— Господи, как чудесно! Только как же туда добираться? Самолётом из Минвод в Москву, и там ещё сутки лёту?
— Больше. С тремя пересадками почти вдвое выйдет до Веллингтона. Одна беда — в тысяча девятьсот двадцать пятый год даже из Москвы самолёты пока не летают…
Ляхов откровенно веселился, глядя на ошарашенное лицо любимой женщины.
— Всё! Приведи нервы в порядок и вели барышням собираться. Отбываем через час.
Барышни, получив новую команду, не высказали никаких сомнений. Кроме одного. Как быть с полевой формой и оружием, доставленным с Таорэры, и с туалетами, полученными здесь? По их лицам Майя видела, что всего суток хватило, чтобы кардинально изменить настрой: шикарные гражданские одежды начали казаться им большей ценностью, чем надоевшие доспехи.
— Заберём всё, — успокоил их Ляхов. — То и другое пригодится в равной степени.
Когда все, что называется, «сидели на чемоданах», Майя пошла будить Татьяну. Вадиму она объяснила, в каком та состоянии и настроении.
Некоторый шок у девушек всё же случился. Не от очередного межвременного перехода, этим их как раз не удивишь. Они никогда в жизни не видели моря, да ещё такого красивого, явившегося им в виде фьорда, окружённого зловеще-эффектными стенами скал. Да и на роскошном трансатлантическом лайнере им бывать не доводилось. Пароходы — это такое творение человеческих рук и разума, что не оставляют равнодушным никого своей грандиозностью, особой, ни с чем другим не сравнимой эстетикой и некоторой противоестественностью. Плавучий город из стали, способный пересекать моря и океаны со скоростью курьерского поезда — есть в этом нечто не от мира сего. Не зря как-то Воронцов сказал, что на его «Валгалле» можно прожить всю жизнь, и жизнь будет нескучной.
Майю же с Татьяной сильнее потрясло мгновенное перемещение на другую сторону Земли и почти на век в прошлое. Только теперь, пожалуй, они окончательно поверили, что никто не морочил им голову, и всё, о чём им рассказывали — истинная правда.
Ляхов посмотрел на Татьяну и отметил, какое громадное облегчение отразилось на её лице. Как у человека, долго плывшего к берегу, потерявшего последние силы и вдруг почувствовавшего под ногами твёрдое дно. Он её понимал, на протяжении последнего года тщательно изучая жизненный анамнез пациентки.
Их встретили Воронцов с Натальей, как и положено скучающим хлебосольным помещикам, обрадованным появлением в своей уединённой усадьбе многочисленных нежданных гостей. Что-то из «Мёртвых душ» здесь чувствовалось, и Вадим сильно подозревал, что Дмитрий Сергеевич это отлично осознаёт и намеренно форсирует сюжет именно в эту сторону.
После взаимных представлений и Майя с Татьяной, и каждая из девушек удостоились нескольких тёплых приветственных слов с предложением чувствовать себя как дома. Вестовые из палубной команды приняли багаж и унесли его в каюты, а гости отправились на ознакомительную экскурсию по Шлюпочной и Солнечной палубам. Расположенные на самом верху надстройки, не такие просторные, как остальные, они, тем не менее, имели площадь по четыре с лишним тысячи квадратных метров каждая. И в них размещались самые фешенебельные помещения общественного назначения: — бары, кафе, рестораны, музыкальные салоны, зимние сады, плавательные бассейны, спортивные площадки и так называемые курительные комнаты. В девятнадцатом — начале двадцатого века так назывался некий гибрид библиотеки и клуба, куда допускались только мужчины, желавшие в обществе подобных себе отдохнуть от постоянного присутствия рядом жён, любовниц, дочек, племянниц и прочих представительниц прекрасного пола, в окружении которых приходилось путешествовать. И где действительно разрешалось курить, пить и говорить что и сколько хочешь.
Сейчас, конечно, этот анахронизм места не имел, однако название и антураж сохранялись — традиционно. Вообще на «Валгалле» традиции соблюдались трепетно. Воронцов с Натальей обоснованно считали, что в сумятице миров и времён непременно должен существовать островок стабильности, не подверженный никаким посторонним влияниям известных и пока не известных реальностей. Потому на пароходе поддерживался первоначально установленный с момента спуска на воду уклад.
Всё увиденное восхитило даже ко многому привычных «кавалерственных дам», не говоря о курсантках. Жизнь, в которую им повезло попасть через смерть (о чём, они, конечно, не подозревали), продолжала демонстрировать им свою самую привлекательную сторону, о которой всего три дня назад они не могли и помыслить.
Прогулка заняла не меньше полутора часов, и это при том, что в большинство помещений они только заглядывали, чтобы составить первое впечатление.
— Сейчас, милые девушки, вестовые проводят вас в каюты, вы там осмотритесь, расположитесь и по специальному сигналу вернётесь вот сюда. — Воронцов обвёл рукой сплошь остеклённый салон, из которого открывался чудесный вид на фьорд и посёлок, увенчанный замком. — Часа вам хватит, я думаю.
Курсантки ушли, возбуждённо щебеча, словно на самом деле вообразили себя самыми обычными девятнадцатилетними девчонками. «Да так ведь оно и есть, — подумал Ляхов. — Они ведь ни на какой конкретной роли до сих пор не зафиксировались». Ему неизвестна была формула или методика, с помощью которой каждую из них предполагалось превратить в то, к чему они готовились. Ну и слава богу. Дадим волю случаю и естеству. О том, что это естество может завести совсем не туда, он не задумывался. На то есть старшие «братья и сёстры», легко решавшие задачки и посложнее.
— Ну, теперь давайте прикинем, что делать будем, — предложил Воронцов Ляхову и его спутницам. Все они разместились в плетёных креслах бара на широком балконе, окружающем верхний кормовой салон. Стюард немедленно подал дамам красное шампанское, мужчинам — фирменное пиво в литровых оловянных кружках.
— В качестве культурной программы предлагаю прогулку в открытый океан, в сторону Южных морей, — сказал Дмитрий, раскуривая трубку. — Я и так собирался пробежаться до Австралии, машины прокрутить и в навигации потренироваться, ну а теперь просто курс на восемь румбов[26] поменяем.
— Великолепно, — согласился Ляхов. Он сам с детских лет мечтал увидеть эти края, а уж на таком пароходе и в такой компании — чего лучше? Немного жаль стало, что нет с ними здесь Сергея Тарханова. Так и сидит безвылазно в своём кабинете, занимаясь чрезвычайно важными, но, увы, такими скучными делами.
Хотя, коль речь идёт о лечении Татьяны, он здесь был бы безусловно лишним. Сначала вернём ему (через сутки или неделю, сколько бы здесь ни прошло времени на самом деле) здоровую жену, тогда и подумаем о совместных развлечениях.
— Девушек мы решили поселить в стандартные двухкомнатные люксы на верхней палубе[27], — сказала Наталья. — Они ничего лучшего всё равно не видели, им должно понравиться, ну а для вас, Таня, найдём что-нибудь поинтереснее. — Майю она пропустила, считая, что если у Ляхова есть положенная по статусу каюта, то они там вдвоём и устроятся. Если не последует специальной просьбы.
— Вы какой стиль любите ?
Татьяна не то чтобы растерялась, просто не поняла вопроса. О том, какими возможностями в смысле размещения гостей располагает «Валгалла», она не догадывалась.
— Да я… я и не знаю… Если девчат в двухкомнатные, мне зачем больше? Но, если предлагаете, наверное, есть и получше?
— Есть, есть, — с тонкой усмешкой, вместо Натальи Андреевны, ответил Вадим. Представляя, как будет поражена Татьяна, увидев нечто подобное его собственной «каютке». А уж апартаменты Ларисы, где сам он никогда не был, но кое от кого слышал отзывы, привели бы госпожу Тарханову в полное изумление. Что-то в этом роде имела в виду и Наталья, успевшая узнать о проблемах гостьи и представлявшая, на собственном опыте[28], терапевтический эффект внезапной реализации заведомо неисполнимых желаний.
— Смелее, смелее, Таня, — поощрил её Воронцов. — Полностью растормозите воображение. Просто из любопытства. Представьте себя богом, размышляющим, сумеет ли он создать неподъёмный для себя камень.
Татьяна посмотрела на Ляхова и Майю, пытаясь сообразить, в чём подвох. Вадим улыбался сочувственно и поощрительно, а подруга сама находилась в её положении, не понимая, о чём идёт речь.
— Я не знаю… Все самые шикарные номера кавминводских отелей, санаториев и частных вилл я видела. Работа у меня была такая, — сочла нужным пояснить, — признаться — ничего за пределы воображения выходящего. — Слегка подумала и решилась. А что? Если хозяева перед ней подобным образом вопросы ставят, деревенщиной воображают, она ответит. Пусть сами потом выкручиваются. — По слухам, есть в Париже отель «Риц», а в нём апартаменты для арабских шейхов, в сутки — дороже хорошего автомобиля. Как? Можете предложить? Допустимо?
Воронцов коротко рассмеялся и, подняв глаза к подволоку[29], процитировал: «Что отварные порционные судачки?! Дешёвка это, милый Амвросий. А стерлядь, стерлядь в серебристой кастрюльке, стерлядь кусками, переложенная раковыми шейками и свежей икрой?»[30] — Впрочем, пусть будет так. Всегда можно переделать. Пойдёмте?
Лифт опустил их тремя палубами ниже. Человеку непривычному тишина и пустота корабельных коридоров, где должна была бы кипеть жизнь (по проекту прототип «Валгаллы» принимал на борт две тысячи пассажиров и нёс такое же количество команды и обслуживающего персонала), должна была показаться зловеще-путающей. Или — наоборот. Сейчас на пароходе находилось чуть больше двадцати живых людей и полсотни андроидов.
Воронцов указал на вторую от площадки дверь.
— Входите…
Татьяна перешагнула высокий комингс и замерла, непроизвольно ахнув. То, что она небрежным и недоверчивым тоном попросила, распахнулось за стандартным тамбуром.
Огромная гостиная, устланная прекрасными коврами, круглый стол посередине, украшенный причудливыми деревянными кружевами и перламутровой мозаикой. Кожаные кресла и диванчики вдоль переборок, обтянутых парчой. Большие окна, полузадёрнутые шёлковыми шторами.
Живые, незнакомо и тонко пахнущие цветы в высоких расписных вазах.
Над столом — золотая люстра с сотнями хрустальных висюлек в несколько рядов.
Из гостиной вправо, отделённая фигурной аркой, вела анфилада столь же роскошных комнат. От обилия золота отделки и огромных зеркал невозможно было сообразить, сколько там помещений на самом деле. Бесконечная, сияющая и многократно пересекающаяся перспектива.
За левой аркой виднелся широкий коридор, тоже застеленный ковром, хоросанским, исфаганским — кто его знает? Ворсистым, зелёным, с ярким жёлто– красным орнаментом. Вдоль блестящей вишнёвым лаком переборки — ряд глухих, но украшенных искусной ручной резьбой дверей.
— Это что? Всерьёз? На самом деле? — От изумления и даже некоторого испуга у Татьяны пересохло во рту. В московских царских дворцах она видела и не такое, но там всё было естественно. Соответствовало времени и месту. Но здесь!
Пусть это хорошо подготовленный экспромт– сюрприз, можно допустить и такое. Только как Воронцов мог догадаться, что именно взбредёт ей в голову, если за секунду до вопроса она сама не представляла, о чём пойдёт речь?
Майя считала себя более подготовленной к чудесам «Валгаллы» и Форта Росс, Вадим ей кое-что рассказывал, однако демонстрация могущества «старшего брата» произвела впечатление и на неё.
С лёгкой усмешкой, демонстрируя выдержку и способность принять любые чудеса как должное, она сказала:
— Чересчур аляповато. Кич, как на Западе выражаются.
Наталья Андреевна молча кивнула головой. Более неразговорчивой женщины Майя давно не видела. Хотя при её внешности и положении могла бы Ларисе дать сто очков вперёд.
Воронцов снова хохотнул.
— Что заказывали, дорогие гости, что заказывали. За шейхов я не отвечаю. У каждого свои вкусы… Но копия — один в один.
Майя, иронизируя над «кичем», одновременно испытывала что-то вроде ревности. Татьяне, значит, предложили заказать жильё по вкусу, а ей — нет. Придётся довольствоваться тем, что Ляхов без неё выбирал? Хорошо, хорошо…
— Шейхи — понятно, где им культуры набраться? — Майя потянула подругу за руку. — Посмотрим, как там у шейхов, — и начала обход апартаментов.
Вернувшись обратно в предназначенный для ужина салон, Татьяна погрузилась в глубокую задумчивость, из которой её с трудом выводили точно рассчитанные вопросы Натальи.
Майя с Ляховым и Воронцовым предпочли выйти на палубу, в тень стоящего на кильблоках моторного катера.
— Итак? — спросил Дмитрий.
— Я поражена, — первой ответила Майя. — Не знаю, как вы такое делаете, но для Татьяны — в самый раз. С её характером и комплексами этой «каютки» хватит, чтобы снова осознать себя личностью, а не несчастной жертвой обстоятельств.
— Какая жертва? — удивился Воронцов. — Мало я знаю женщин, в тридцать лет получивших то, что у неё имелось даже до появления здесь. Не хочу показаться грубым, но не зажралась ли ваша протеже?
Тон у него получился весьма неодобрительным. На самом деле, у всех, считай, рыцарей «Братства» к тридцати годам в жизни не случилось ничего подобного. Да и перспективы радужными не казались. А тут — на тарелочке с голубой каёмочкой…
— Вам не понять, Дмитрий Сергеевич, — тихо ответила Майя. — Последний год — конечно. Повезло. И случилось столько всякого… А двадцать девять предыдущих вы не берёте во внимание?
— Думаю, терапия пойдёт успешно, — прекратил их рассуждения Ляхов. — Месяц полной изоляции от собственных комплексов и земной ноосферы повлияют благоприятно. Морское путешествие, желательно — изнурительные тренировки. Как с тем красавчиком у Джека Лондона, которого капитан заставил драить наждаком якорную цепь… Тем более, как говорил мне Александр Иванович, у вас найдётся возможность приставить к ней психотерапевта такого класса, что мне и не снилось…
— Причём желательно женщину в годах, с первого взгляда подавляющую своим авторитетом и квалификацией, — вставила Майя, живо представив Прасковью Ильиничну, только в белом халате и с фонендоскопом на шее.
— И это без вопросов. Завтра с утра и найдём…
Искать Воронцову никого не требовалось, любой андроид немедленно был готов к названной функции, однако он считал, что сегодня должен состояться лёгкий и непринуждённый вечер по случаю прибытия дорогих гостей. Потом Татьяна выспится в своих апартаментах «а ля Тысяча и одна ночь», а утром или через три дня — видно будет, от чего её лечить, и стоит ли вообще, как в циничной врачебной шутке[31].
Девочки вернулись из своих кают, восхищённые не меньше Татьяны, но без её комплексов. Вся их недолгая жизнь прошла в казарме (как её ни назови), они и вообразить не могли, что каждой достанется столько свободного, абсолютно индивидуального пространства, оснащённого виденными в кино или вообще невиданными достижениями цивилизации.
Примерно так себя почувствовали на борту «Валгаллы» белые офицеры после эвакуации, трущоб Константинополя и жуткого галлиполийского концлагеря[32].
За столом каждую обслуживал личный стюард. Капитан парохода, его жена (милейшая женщина) и все остальные относились к гостьям со всей внимательностью и нелицемерной заботой. Сейчас Дайяна, Лихарев, другие инструкторы казались бывшим курсанткам совершенно чужими и далёкими людьми, новая встреча с которыми представлялась чем-то пугающим и глубоко неприятным. Невыносимым даже.
Подавали жареных бекасов, сегодня только подстреленных в окрестных холмах, всевозможные паштеты и салаты, «морских гадов» в ассортименте, от крабов до трепангов, тушенных с рисом и специями, бокалы наполнялись тончайшими лёгкими винами. И никто не сказал юным красавицам, что сегодняшний вечер — первый и на очень длительный срок последний. Завтра начнётся суровая служба и питание из «матросского бачка», кстати, по вкусу и разнообразию тоже намного лучше того, чем их кормила Дайяна.
— Если ты не против, — предложил Воронцов, когда настало время покурить, — я приглашу достаточное количество офицеров с «Изумруда», чтобы они заняли девушек и женщин танцами и ни к чему не обязывающим флиртом. Парни очень соскучились по свежим лицам. А мы с тобой в другом месте поговорим серьёзно.
— Зачем — ни к чему не обязывающим? — удивился Вадим. — Пусть господа офицеры проявят себя как раз в способности изобразить обязывающие отношения, а там посмотрим, у кого из девчат какая психологическая устойчивость. Я ведь боевых «валькирий» из них мечтаю сделать, раз мы на «Валгалле» находимся, а кто иначе себя осознает — пусть будут счастливы на ином поприще.
В голове у Вадима гудел ветер свободы (захочу сейчас — тут и останусь, и гори огнём Академия и флигель-адъютантские аксельбанты!), сильно раскрученный запахом моря и приличной дозой коньяка.
Воронцов его понимал, сам чувствовал себя похоже, впервые очутившись в Замке, том, настоящем. От службы отказался ради новых возможностей, а главное — шанса переиграть прошлое. Не с Отечественной войной, а с самим собой. Не сумел вовремя, в лейтенантские двадцать три года, убедить любимую в том, что только он ей нужен всерьёз, а тут предложили попробовать снова. Тебе тридцать пять, ей тридцать один, она готова полюбить тебя нынешнего. Ты — готов? Или до пенсии будешь перед сном мусолить очередную упущенную возможность.
Дмитрий выбрал предложенный вариант. Безусловно, выбор был совсем не прост. Но он его сделал. И с тех пор ни разу ни о чём не пожалел[33].
— Надеюсь, так и получится, — примирительно сказал Дмитрий. — Если даже какая-то из девушек увлечётся сегодня «не знавшим слов любви» лейтенантом, с начала Великой войны не сходившим с мостиков эсминца, артиллерийских площадок «Валгаллы» или пехотных окопов Крыма — хуже никому не станет. Не думаю, что Дайяна воспитывала своих боевых кошечек в стиле «Кирхе, киндер, кюхе»[34].
— А кто её, хозяйку, знает? Вдруг у них через раз: одним первые «три К», другим — вторые[35], — возразил, как специалист психологических войн, Ляхов.
— Так тем более! Ты с женой и подругой поживёте недельку-другую и всё сами увидите. Я своих мнений никогда никому не навязывал. Иногда, признаться, — Воронцов вдруг изобразил на лице мечтательность, — не хватало самоконтроля, чтобы удержаться от слов: «А я что говорил?!», — сказанных прямо в лицо адмиралу, явственно для всех севшего в .. лужу. После вполне квалифицированного предостережения этого не делать.
— Ах, как здорово! — восхитился Ляхов. — Всю жизнь аналогичная у меня с вашей ситуация. Папаша мой, натасканный в аппаратных играх человек, с детства предупреждал — ничего ты со своей дурацкой натурой в жизни не добьёшься. Защищай докторскую диссертацию и после того неси любую пургу студентам. Те поймут и даже одобрят. Иной способ карьеры для тебя заказан.
— Умный у тебя был папаша. Зря ты его не послушал. Но теперь уж нечего делать. Давай исходить из текущих возможностей… Недельку ты у меня здесь посидишь, отдохнешь и постепенно разберёшься, в чём смысл твоей тамошней жизни. Мы твои варианты обсудим, после чего придём к чему-то среднему. Затем — примешь окончательное решение. До тех пор с вашими жёнами и племянницами поработаем, для общей пользы и удовольствия. Устраивает?
— Да, Дмитрий Сергеевич, — впал Ляхов в телячий восторг уважения к старшему товарищу, — я ведь ничего другого и не хотел…
— Отлично, — вдруг посерьёзнел адмирал, — отлично, что ты так хорошо меня понял. Одна беда — не полностью и не до конца. Видишь ли, тут такая штука. Все мои друзья и твои тоже сейчас застряли в очень трудных временах и позициях. Посылка в виде эти прелестных девчонок — отнюдь не признак успеха и благополучия. Есть мнение, что совсем наоборот. Сразу три войны им вести приходится, англо-бурскую (но это пустяк в сравнении со всем остальным), испанскую гражданскую, и межпланетную на нескольких фронтах с до сих пор не понятыми аборигенами стопроцентно чуждой нам Земли-2. Там вообще мрак. Враги атакуют и в прошлом, и в параллели тридцать восьмого года, которая теоретически не существует, да ещё и постоянно высаживают десанты на Валгалле-Таорэре. Они и сбили флигер с Лихаревым и девушками. А в одной стычке Новиков получил такую психическую контузию, что едва-едва выкарабкался…
Ляхов представил себе то, о чём сказал Воронцов. Ему самому довелось поучаствовать лишь в одном эпизоде этой непонятной и бесконечной войны внутри и между реальностей. А «братья» на ней — как на работе.
Странно и безнадёжно, если задуматься. А куда денешься? Он сам — человек военный. От природы, по праву рождения. «Наше дело — стрелять и помирать, если придётся. А за что и когда — государь Император знает». Попробовал вспомнить — а когда-нибудь за всю писаную историю его Россия (и все параллельные тоже), сама начинала хоть одну войну? Просто так, из любви к искусству или в поисках «лебенсраум»[36]. Нет, не вспомнилось, хотя историю учил хорошо, и в гимназии, и особенно в Академии. Или оборонялись, или в очень редких случаях заступались за обиженных, вроде болгарских «братушек», замордованных до последней крайности агрессивными соседями армян и грузин. Ничего не получая взамен, кроме раскиданных по всему свету солдатских могил и тайной ненависти с камнем за пазухой со всех азимутов.
Так на хрена нам этот крест? России как таковой и «Братству» в частности.
Так он и спросил Дмитрия Сергеевича. В принципе, зная ответ, просто для душевного успокоения.
Тот смотрел на полковника внимательно, постукивая чашкой трубки по ладони.
— Не слышал такой стих? Впрочем, откуда? У вас этот поэт не состоялся.
— Доходчиво? Насчёт «заржавленных пушек», конечно, под горячую руку сказано, такого в армии не бывает, а остальное — сам суди. С самого первого дня нашей эпопеи выбора не было ни у кого, ни разу. Да хоть свой личный опыт возьми. Начиная с перевала имелась у тебя в жизни достойная альтернатива? Вот сейчас, ты думаешь, она появилась…
Вадим удивился, как точно просчитал Воронцов его настроение.
— Ничего не появилось. И не появится. Сей крест мы на себя возложили добровольно, раз и навсегда. Поздно молиться: «Да минует меня чаша сия». Христа не миновала, нас — тем более.
Воронцов снова несколько раз сильно потянул трубку, запыхал, разжигая почти погасший огонь.
— Таким образом — в любом варианте незачем без толку дёргаться. Что будет — то и будет. Сам понимаешь — я тебя не гоню. Живи, сколько душа просит. Любому солдату нужен отпуск с фронта. Мы с тобой ещё многое успеем обсудить. А уж потом… Если согласишься — вернёшься в Москву, и начнём работу. Как я её вижу — сейчас не скажу. Сам, надеюсь, догадаешься. Нет, я тебя не брошу, — счёл нужным уточнить он, когда дым из «Петерсена» пошёл, как надо. — Просто — взрослеть пора…
Слова эти в первый момент показались Вадиму странными. Куда уж, казалось бы? Столько он успел пережить, увидеть, повоевать. Потом сам, без подсказки, сообразил. Взрослеть — не стать старше на год или два. Перейти в иное качество. Из куколки — в имаго[38]. Сначала был обычным, ничем не примечательным человеком. Каким-то образом оказался причислен к послушникам, кандидатам в рыцари «Братства». А теперь — или (когда командиров рядом не осталось) сам первый выскакивай на бруствер с винтовкой наперевес, или…
— Я всё понял, Дмитрий Сергеевич, — ответил Ляхов. — Желающего судьба ведёт, нежелающего — тащит, как говорили древние. Но давайте сегодня на этом закончим. Я тоже хочу принять участие в общем веселье.
— Как водится. Не смею препятствовать. Только последнее — чтобы было о чём подумать на досуге. Александр Иванович — наставник и рекомендатель твоего брата Фёста. Если хочешь — я буду твоим. Для баланса. Ловушка, чем бы она ни была — явление неразумное. И когда карты хорошо перетасованы, шестёрки объявлены тузами и наоборот — связность системы вполне способна выйти за пределы механического анализа.
— Не совсем понял, — осторожно ответил Вадим, хотя уже начал догадываться.
— Разочаровываешь. Тогда совсем просто. Фёст будет жить и действовать по логике и в стиле Шульгина. Ты — по своей, с учётом манеры Воронцова. В итоге выйдет трудно алгоритмируемый коктейль. Как тебе?
— Гениально, Дмитрий Сергеевич, — без тени лести ответил Ляхов. — При таком раскладе сам чёрт ногу сломит, не говоря о какой-то Ловушке…
— Вот и ладно. А теперь, как на старом флоте принято: «Команде песни петь и веселиться».
Ляхов думал, что состоявшийся у него с Дмитрием Сергеевичем разговор и был тем «серьёзным», что Воронцов подразумевал. Но нет. Серьёзный начался гораздо позже.
Сначала к вываленному на правый борт «Валгаллы» парадному трапу подошёл командирский катер с «Изумруда». Из открытой задней каретки с достоинством поднялись девять лейтенантов и мичманов во главе с кавторангом Белли. Все в белых кителях, брюках и туфлях, при золотых погонах и кортиках на чёрных муаровых лентах. По традиции кают-компании крейсера — в тёмно-красных шёлковых носках и с того же цвета платочками, уголком торчавшими из карманов кителей.
Взошли на палубу, дружно отдали честь встретившему их на шканцах Воронцову, но смотрели поверх и правее адмиральской головы. Уж больно неожиданным было зрелище.
Что адмирал приглашает всю кают-компанию (за исключением трёх неудачников четвёртой вахты) на ужин, командир сообщил, но о том, зачем и почему вдруг — не обмолвился.
Потому как сам не знал. Воронцов любил делать подчинённым сюрпризы. Предпочтительно — приятные. Жаль, не всегда получалось. Зато сейчас получилось в полной мере.
Вот вам, господа офицеры, «пенители морей», подарочек. Тремя палубами выше, вдоль планширя выстроились девять девушек. Невообразимой прелести. Красивые лица, роскошные волосы, открытые платья… Жаль, что фальшборт скрывает то, что ниже пояса. Но ведь ненадолго?
Откуда это чудное виденье?
— Господа, — звучно обратился адмирал к бело– золотому строю. — Направление вашего внимания мне очевидно и понятно. Но прошу уделить толику и мне.
Офицеры вытянулись, согласно уставу, «поедая начальство глазами», а Белли из-за спины всем сразу показал кулак.
— К нам прибыли гости, точнее — гостьи. Для отдыха и доступных развлечений. В течение сегодняшнего вечера я прошу уделить им настоящее флотское внимание. Ужин, танцы, приятные беседы и всё такое. Время мероприятия как такового не ограничено. Соблюдение распорядка службы оставляю за капитаном Белли.
Ясное дело, адмирал не смог обойтись без очередной иезуитской выходки. То есть предоставил Владимиру решать — позволить прибывшим на «Валгаллу» офицерам гулять «до упора» или в положенное время обеспечить смену вахт. Только, значит, у кого-то (у троих подвахтенных) завяжутся интересные отношения — и извольте. Катер у борта, пожалуйте вниз. Четыре часа кукуйте на мостике, занося в журнал положение крейсера относительно якорной цепи, и любуйтесь в бинокли на палубу такого близкого парохода. Смотрите, как отстоявшие своё товарищи обнимают девушек, только что обнимавших вас. И нет гарантий, что завтра получится то, что начало получаться сегодня.
Неразрешимая антиномия: «Что лучше — ждать и не дождаться или иметь и потерять?»
Казалось, раз плюнуть Воронцову приказать «Изумруду» пришвартоваться борт к борту — и никаких проблем.
А вот нет! Служба мёдом казаться не должна. Даже в этом странном мире. Или — именно в нём.
— Есть, ваше превосходительство! — чётко ответил Белли, мгновенно прокрутивший в голове все вышеназванные варианты.
— Приятно слышать, — сделал совсем простецкое лицо Воронцов. — В таком случае — вольно. На меня внимания разрешаю больше не обращать. Я даже китель сейчас сниму. Если вдруг потребуется обратиться — Дмитрий Сергеевич, и никак иначе. А лучше бы и не потребовалось. Моя супруга сейчас всех друг другу представит — и отдыхайте.
Всё ещё скованные дисциплиной и неясностью обстановки офицеры двинулись к трапу. Однако — многозначительно переглядываясь. С понятным всем нормальным мужчинам намёком: если я на какую глаз положил, ты уж не мешай, пожалуйста. Только когда явно подальше пошлёт — тогда твоя очередь.
Наталья, перед тем как начать процедуру знакомства, указала, куда сложить кортики. Для непринуждённого общения, тем более танцев — атрибут явно лишний.
Воронцов выбрал для уединения с Вадимом весьма удобную точку — кормовой выступ балкона Солнечной палубы. Снизу их заметить очень трудно, особенно в наступающей ночной тьме, а ярко освещённая площадка Шлюпочной, на которую открывались двери предназначенного для вечеринки салона — как на ладони. И видно и слышно.
— Дмитрий Сергеевич, — спросил Ляхов перед тем, как Воронцов начнёт свою тему, — зачем вы пригласили девять офицеров, а не семь?
— Неужто взревновал, полковник? — Дмитрий поднял руку и неизвестно откуда возникший вестовой наполнил бокалы терпким хересом. — Вроде врач, психолог, командир-единоначальник, — оценка прозвучала скорее разочарованно, чем иронически. — Как-то вас в вашем мире… недоучивают, что ли? Куда уж проще? Семь мичманов и лейтенантов перессориться должны, что ли? Они у нас ребята воспитанные. В танцах и прочих беседах две дамы постоянно остаются лишними. Из вежливости пригласишь, а в это время товарищ перехватит ту, что тебе больше других интересна. И так далее. Затем — вашей Татьяне терапия нужна? Пусть ею для начала бравый мичманец займётся. А твоя Майя чем хуже? Была такая песня в моей молодости: «Стоят девчонки, стоят в сторонке. Платочки в руках теребят. Потому что на десять девчонок по статистике восемь ребят…» Или девять, не помню точно. От тебя так и так не убудет, а ей — молодость вспомнится…
Возразить было совершенно нечего. Однако — не совсем та психология у адмирала. Правда что — из другого мира человек. Близкого — но другого.
Пока Воронцов объяснял Вадиму, каким образом тому следует вести себя в отношениях со своим двойником-аналогом, в обеих нераздельно-неслиянных реальностях, и каким образом можно будет использовать окончивших стажировку на «Валгалле» девушек, банкет внизу набирал обороты.
Майя через Анастасию передала остальным, что все боевые инстинкты до утра следует забыть. Любое Действие кавалеров воспринимать исключительно как знак симпатии и восхищения. Но — без крайностей. Если у кого вдруг и появятся «чувства» — сохранить на будущее. Жизнь не сегодня кончается. И не завтра, скорее всего.
— Эти люди — наши. Такие как я, Татьяна Юрьевна, Вадим Петрович, Андрей Дмитриевич… Александр Иванович, — чуть замявшись, добавила Майя. Смешно ведь, а на мгновение смутилась. Эта девчонка испытывает к Шульгину (почему-то она так вообразила), те же чувства, что и ей довелось, пусть всего на несколько часов. Но был ведь момент. Совсем не любовь, и не короткое сексуальное влечение, неизвестно с чего могущее возникнуть даже в отношении полного ничтожества, а…
Майя не сумела это выразить, не только словами, но и на уровне ощущения.
— Поцеловаться, если очень захочется — можно, — продолжила она инструктаж скучным голосом. — Пообниматься в укромном месте — тоже. И достаточно…
— Майя Васильевна, — неуверенно спросила Настя, — а если вдруг замуж пригласят?
Ох, ты! И такие мысли у красоток в голове бродят. Дайяна внушала или от чтения не предусмотренных программой книжек в головах возникли?
— Рано вам замуж, — Майя придала голосу интонации Прасковьи Ильиничны. — Сначала здешний «курс молодого бойца» пройти надо, хоть полгодика на окружающую жизнь посмотреть. К парням как явлению природы присмотреться, вдруг через месяц «тот самый, единственный» встретится, а ты — уже! Запомни и другим передай — «Береги честь смолоду».
— «Честь» — это к нам не относится, — с некоторым вызовом сказала Вельяминова.
— Это кто же тебе такую херню сказал? — Майя только в мужском обществе придерживалась приличий, в женском — выражений не выбирала.
— Дайяна. Так и сказала. Для вас это — оружие и инструмент, а человеческие выдумки — пусть для них и остаются.
— Вот стерва старая! — возмутилась Майя. — Вам что было сказано? Теперь нас слушаться будете, на остальное — наплевать и забыть. Доходчиво?
— Так точно, Майя Васильевна.
— Слава богу. Когда можно будет — я скажу. Теперь идите, развлекайтесь…
— Насколько я понимаю, — продолжал ранее затронутую тему Воронцов, — у вас там скоро начнутся очередные события. Не могут не начаться…
— Отчего вдруг? — удивился Вадим. — Порядок вроде навели, власть императорская укрепляется, народ доволен, оппозиции, считай, что и нет, кроме «высочайше утверждённой». Господин председатель кабинета министров и канцлер Каверзнев своим бывшим соратникам отчётливые рамки очертил…
— Снова ты, брат, наивность демонстрируешь. Впрочем, как же иначе? Мы тоже поначалу вообразили, что все проблемы решены, остаётся жить и радоваться. Оказалось совсем не так. Законы Ньютона не только в физике, они в природе и в политике так же точно действуют. «Действие равно противодействию», «Угол падения равен углу отражения» и тому подобное.
Если даже принять, что после акции Шульгина наши реальности от Великой Сети изолированы, так, по сути, ничего ведь не изменилось. Представь, что мы потерпели кораблекрушение (тьфу-тьфу-тьфу), оказались на необитаемом острове. Но на корабле кроме нас имелась партия хищников, как в «Полосатом рейсе». Или, как в «Таинственном острове», несколько вооружённых пиратов. Вот и дилемма — или мы их, или они нас. Терцио нон датур. В нашем случае это — Ловушка, оставшаяся вместе с нами внутри изолята. Продолжающая исполнять прежнюю программу: не допустить победы вновь создаваемых мыслеформ над изначально заложенной в неё схемой мироустройства…
— Вы-то откуда это знать можете?
— Само собой — ниоткуда. Косвенная информация. От Антона, от Замка, путем личных наблюдений и размышлений… Но отсюда вытекает нормальный вывод — путём экстраполяции. Если даже всей вашей мощью удастся удержать ситуацию внутри страны — непременно начнётся что-то извне. Скажем спасибо, если и у вас дуггуры не объявятся. Но и без них врагов в избытке. Поскольку, что очевидно, нынешнее государственное устройство России заведомо не предусмотрено, поскольку при дальнейшем развитии способно перевести её из химерической в натуральную реальность. Доходчиво?
— Не совсем. Почему это при демократическом устройстве моя Россия является «химерой», а при монархии — уже нет?
— Да просто потому, что развилка случилась не там, где надо. Если бы до февраля семнадцатого — монархия сохранилась естественным образом. Если после восемнадцатого — должны были победить красные. Опять же никакой демократии. А у вас, как мы просчитали, одна-единственная трёхдюймовка бахнула с перелётом на одно деление, генерал Корнилов остался жив и сумел переломить ход Гражданской войны. Точно, как если бы адмирал Макаров не взорвался на мине в Порт-Артуре. «Химера», брат…
Аналогично — серьёзные беспорядки начнутся и в мире Фёста. Синхронно или со сдвигом по фазе — предсказать не берусь. Если наша команда в ближайшее время со своими делами не разберётся — рассчитывать вы с Фёстом можете только на себя, меня да ещё вот на девочек… В крайнем случае — будет куда отступать. Только именно в крайнем. Я рассчитываю на более оптимистичный исход…
Ляхову стало неуютно. Возвращаться домой, где скоро начнётся нечто такое, в сравнении с чем его предыдущие приключения — мелкая рябь на воде? И не возвращаться нельзя. Это в мирное время отъезд по личным делам — отпуск той или иной продолжительности. В военное — дезертирство со всеми вытекающими последствиями. Не военный трибунал, так суд совести.
— Запомни следующее. Пока не было случая, чтобы наши мыслеформы Ловушка сумела подавить. С трудом, но мы всё равно выигрывали. Так и дальше будет. Наши силы растут, она слабеет…
— С чего бы вдруг? — удивился Вадим.
— Один человек сказал. Без постоянной подпитки извне её моторесурс вырабатывается. Мы всё время выдаём ей вводные почти на пределе возможностей. Непрерывно меняем логики. Тут недавно ещё один хороший товарищ к нам присоединился, тоже из «химеры», две тысячи пятьдесят шестого года. Большой специалист по искусственным разумам и всякой прочей хреновине. Он и просчитал, что Ловушка, если она есть, просто обязана работать в режиме истощения. Противодействие будет слабеть, принимаемые ею решения, примитивно выражаясь, проявлять все признаки старческого слабоумия… Так и сдохнет, забыв, кто она, зачем она, пуская слюни и оправляясь под себя.
Образ получился впечатляющим.
Вестовой снова налил им вина. Ляхов сверху видел, как высокий черноусый лейтенант кружит Майю в подобии вальса. И той это очевидным образом нравится.
А уж как бал, жаль, что не маскарад, нравится девчонкам !
Те прямо сияют, порхают, тают… Какие ещё обозначения их эмоций можно придумать?
— Вот поэтому, для окончательного приведения Ловушки в означенное состояние, и работают наши товарищи, — продолжил Воронцов, сделав глоток. — А мы им в поддержку откроем ещё два фронта. Для полноты стратегической внезапности Фёст у себя действует полностью автономно, не посвящая в свои планы ни меня, ни тебя. Ты его до поры тоже к своим заботам привлекать не станешь. Вот и посмотрим, какая в итоге конфигурация выстроится…
— Но цель! У любой операции должна быть цель. Иначе будем кружить на месте, как слепой в тумане… — Труды теоретиков от Сун-Цзы до Клаузевица и генерала Брусилова Вадим уже успел изучить досконально. Более современных начнут преподавать на следующем курсе.
Весна в этом году выдалась ранняя и удивительно тёплая. Уже в первых числах мая вся городская растительность буйно зазеленела, и готовились цвести каштаны. Температура устойчиво держалась около двадцати пяти градусов, и пусть море пока оставалось прохладным, в купающихся на пляжах Аркадии, Ланжерона, Лузановки не было недостатка.
Вдоль улиц и бульваров появилось множество столиков под яркими зонтами, время за которыми проводили в основном местные жители. Настоящего наплыва отдыхающей публики пока ещё не было, в холодной и дождливой Центральной России людям трудно было поверить, что на Юге погода совсем другая.
Сравнительно молодой человек, не так давно переваливший сорокалетие, сидел на веранде кафе метрах в тридцати от Воронцовской ротонды, откуда открывался прекрасный вид на Потёмкинскую лестницу и на всю перспективу Приморского бульвара до самой Думской площади. Изредка поднося к губам побуревший от времени и дыма мундштук слоновой кости с вставленной в него сигаретой без фильтра, он любовался то ли великолепными древними платанами, то ли девушками и дамами, прогуливавшимися под их сенью.
Означенный господин, с точки зрения физиономиста средней руки или рядового сотрудника губернского жандармского управления (заинтересуй он их), выглядел не более чем небогатым лицом «свободных профессий»: коммивояжер, провинциальный журналист, помощник присяжного поверенного, в крайнем случае. Костюм так себе, туфли и снову не из лучших магазинов, а сейчас изрядно поношенные, и весь остальной антураж того же класса. Да и кружка пива, которую он тянет слишком долго, словно на вторую денег может и не хватить, дополняла картину. Никого такой человек не заинтересует.
Тем не менее Игорь Викторович, никуда не спеша, с истинным удовольствием отхлёбывал время от времени из высокой фарфоровой кружки очень недурственное «Болыпефонтанское» пиво. Торопиться ему действительно было некуда, а уж заказывать ли ещё или перебраться в другое заведение — ему лучше знать, в чужих советах не нуждается. В этом смысле он и ответил нагловатому половому, позволившему себе заметить, что второй час занимать столик, ничего не заказывая, — не по делу.
Выразился Чекменёв на самом деле гораздо грубее, порадовавшись одновременно, что стиля не утратил и в состоянии выглядеть человеком, которому каждый лакей считает возможным в открытую хамить. Заодно проверил и другую способность — так глянуть и так процедить сквозь зубы сугубое оскорбление, одно из самых модных в этом сезоне на Молдаванке, что парень отшатнулся, будто получил удар не словесный, а физический. (По случаю отсутствия масштабной Гражданской войны и последующей советской власти Молдаванка в Одессе сохранилась в почти первозданном виде, архитектурно, психологически и по роду занятия большинства её обитателей, продолжая радовать любителей местной экзотики).
Сделав половому успокаивающий жест, мол, вали отсюда, шлемазл, я тебя не трону, Чекменёв продолжил своё занятие, то есть — покуривал, изредка поднося к губам кружку, рассеянным взглядом озирал то набережную, то сверкающее солнечными бликами море, удивительно пустынное сегодня.
«Всё ж таки моё положение имеет массу преимуществ, — думал Чекменёв, — не занимая штатной и публичной должности, оставаясь неизвестным в лицо и по имени подавляющему большинству населения, и даже журналистам и дальновизорщикам, можно вести себя как заблагорассудится, исходя исключительно из пользы дела. Главное, чтобы вовремя получалось эту самую пользу обосновать и подтвердить весомым результатом. Остальное спишется…»
Действительно, вскоре после коронации Олега Константиновича, Олега Первого на российском престоле, Чекменёв оставил достаточно обременительный пост начальника разведуправления штаба Гвардии, якобы по причине того, что в связи с изменившимися обстоятельствами смысл и содержание этой должности более не соответствовали его интересам и квалификации. На самом деле, в новой самодержавной России его служба из единственной опоры и надежды «латентной монархии» начала превращаться в достаточно рядовое учреждение вновь формируемой системы власти.
В России началось четвёртое, после Смуты, Петровских реформ и Гражданской войны, полное переформатирование государственного устройства Великой Державы. Слава богу, пока гораздо менее болезненное, не влекущее за собой слома жизненных устоев миллионов «простых» и не очень простых людей. И в этом процессе такому человеку, как генерал Чекменёв, нужно было искать подходящую характеру и обстоятельствам экологическую нишу, политическую и нравственную.
Никуда, конечно, Игорь Викторович из ближайшего окружения Императора не ушёл, просто превратился в очередного «криптократа» — «человека с тысячью лиц». Для тех, кто его хорошо знал и раньше — устранившегося (или отстранённого) от практической работы, но оставшегося ближайшим генерал-адъютантом Его Императорского Величества, с обширнейшими, как все понимали, но неопределёнными полномочиями. Серого кардинала, имеющего, как те же «знающие люди» понимали, власть, почти сравнимую с императорской. И разведка с контрразведкой из его рук, пожалуй, никуда не делись, и массу новых функций он наверняка приобрёл. А попробуй разберись в текущих раскладах, если все карты на столе — рубашками вверх.
Для всех же прочих такой фигуры как бы и вообще не существовало. Под многими именами Чекменёв имел достаточное количество вариантов личностей, в которые, по мере необходимости и желания, перевоплощался. Что давало ему возможность, в отличие от иных сановников его уровня, находиться, наподобие Гарун аль Рашида, в центре реалий обыкновенной жизни и постигать её изнутри, а не посредством профильтрованной нижестоящими инстанциями информации.
Олег Константинович вполне поощрял означенную методику, по соображениям как государственным, так и личным. Постоянное пребывание Чекменёва рядом с собой его моментами утомляло. Напорист и настойчив временами Игорь Викторович был сверх всякой меры. Только кто эту меру определял?
Да, в море перед Одессой не видно было ни одного заслуживающего внимания теплохода, пассажирского или торгового. Это удивляло. Словно действительно уже началась война, и город подвергается дальней блокаде. Как писал Паустовский, живший здесь и ходивший по этим улицам почти сотню лет назад: «Море было таким пустынным, как в те времена, когда человек не научился строить даже плоты. Можно было неделями и месяцами всматриваться с бульвара в даль и не увидеть ничего, кроме вспышек солнца и колебания волн»[39].
Только у самого горизонта внимательный глаз мог различить идущее с юга судно, тип и класс которого пока определить было невозможно за дальностью расстояния. Невооружённым глазом, естественно. Когда генерал поднёс к глазам портативный, но десятикратный бинокль, стало ясно, что это именно то, что он и ожидал здесь, под тентом кафе чуть левее памятника Дюку и знаменитой, единственной в мире лестницы.
Одна из личных яхт господина Катранджи. Кажется, «Лейла», силуэт достаточно характерный, две мачты, надстройка, занимающая две трети палубы, довольно высокая, чуть склонённая назад дымовая труба. Очень красивое судно, а внутри, по агентурным данным (от безвременно погибшего Фарид-бея, господина Насибова тож), вообще «Сказки венского леса». Богатейший человек, не входящий в «Периметр» мира, глава «Чёрного интернационала» и вообще чёрт его знает кто ещё, имел такую простительную в его положении слабость — в нерабочее время наслаждаться жизнью «на всю катушку», как в России почему-то говорится.
В рабочее — умел довольствоваться глотком воды и куском лепёшки, если обстановка того требовала.
Да и тот факт, что он решил лично прибыть для переговоров в самое логово врага, имеющего к нему серьёзнейшие претензии, говорило о многом. Достойный противник.
У Игоря Викторовича было достаточно собственных подходов к окружению Ибрагим-бея, и при необходимости он не преминул бы ими воспользоваться. Только до определённого времени не считал нужным этого делать. Фрукт должен созреть. Ну вот, кажется, это случилось.
Две недели назад от одного из своих агентов Чекменёв получил шифрованную абсолютно нераскрываемым (спасибо математику Маштакову) способом телеграмму, которая имела вполне внятный и разумный текст, но при перекодировке через специальный трансмиттер приобретала совершенно другое содержание.
Агент, совмещавший собственный бизнес с должностью почётного консула России в Тунисе докладывал, что на него вышли люди Ибрагим-бея, прекрасно осведомлённые о его связях с российской разведкой.
«Хорошо хоть, что только «о связях», а не о том, что носящий вполне арабское имя владелец небольшой пароходной компании является подполковником этой самой разведки», — подумал Чекменёв. Отчего и почему Катранджи избрал именно такой способ контакта, хотя без всякого риска и «потери лица» имел массу способов обратиться напрямую, он вникать не стал. Несущественный пока момент.
Агент сообщал, что без всяких дипломатических околичностей ему было предложено, «за приличное вознаграждение» передать по своим каналам приглашение господину Чекменёву встретиться в ближайшее время и в любом удобном месте с лицом, которое ему, безусловно, известно, но до сих пор не имевшим возможности повидаться с глазу на глаз. Никаких недостойных высоких договаривающихся сторон заверений в гарантиях безопасности, конфиденциальности встречи и тому подобных глупостей письмо не содержало.
Императору об этом послании Игорь Викторович докладывать не стал. Обычный оперативный случай. Вот если появятся какие-то конкретные результаты, тогда и поговорим.
Он связался по обычному международному телефону с указанным ему резидентом номером, как рядовой клиент, и открытым текстом сообщил, что условия контракта его устраивают, фрахт подтверждается, груз необходимо доставить франко-порт[40] Одесса не позднее такого-то числа.
Собеседник выразил полное удовлетворение взаимовыгодной сделкой и пообещал сегодня же перезвонить и уточнить место и время встречи со стивидором[41].
Чекменёв надеялся, что со своей стороны Катранджи примет все необходимые меры предосторожности. Ему самому на территории России опасаться было нечего. Разве только «Чёрный интернационал» решит вдруг, используя имя Катранджи как приманку, предпринять совершенно бессмысленную акцию по устранению или захвату в плен столь насолившей им в своё время фигуры.
Разумеется, смысла в этом никакого, рассуждал генерал, роль его личности в нынешних условиях не столь уж и существенна. С Чекменёвым или без него, Империя продолжит выполнять свою геополитическую миссию, но кто-то может считать иначе, руководствуясь ложным пониманием законов «исторического материализма». Или просто друзья покойного Фарид-бека, спохватившись, решат наконец отомстить за Пятигорск, Варшаву и всё прочее. Но тут уж ничего не поделаешь. Назвался двадцать лет назад груздем — изволь соответствовать.
Подстраховаться, конечно, придётся. Так для того и существует Управление, отдел «Глаголь» и отряды «Печенег».
До Одессы он доехал поездом, в лучшем в мире по комфорту и сервису вагоне первого класса (куда там пресловутому «Восточному экспрессу»), с одноместными купе, оснащёнными всем необходимым, включая душ и туалет. Не все же любят самолёты, а если нужно ехать от Москвы до Владивостока или Порт– Артура, ничего лучше не придумаешь. И неутомительно, и впечатлений масса.
Тарханов (по-прежнему начальник управления спецопераций, ждущий генеральских погон) отрядил в сопровождение бывшего начальника два десятка лучших офицеров под командой прославленного многими делами (уже после польской кампании) подполковника Уварова. Не обманул тогда Валерия старый волк полковник Стрельников, пообещавший, что в «Печенегах» чины идут не хуже, чем на подводном флоте[42].
А заодно и подтвердил жизненность армейской загадки: «Кто такой полковник? Это тот, кто в мирное время сидит и ждёт, пока его догонит поручик». Так и вышло. Уваров за два года дослужился до подполковника, а Стрельников — в прежнем чине.
Уваров занимал сейчас должность замначальника отдела «Глаголь» по строевой части. То есть фактически командира всех шести отрядов «Печенег», составлявших отдельный спецбатальон, если не полк, по-кавалерийски считая[43]. Не с руки было сейчас такому человеку руководить всего лишь взводом в рутинной операции, но задание показалось интересным. Сам Игорь Викторович, пригласив Уварова для приватной беседы на одну из конспиративных квартир неподалёку от Кремля, сказал, что хотел бы поработать лично с ним. Хотя лицо у него при этом было отнюдь не располагающее к излишнему оптимизму.
— Вы же понимаете, Валерий Павлович, — говорил Чекменёв, чисто машинально помешивая ложечкой кофе, который был заведомо сварен с сахаром и в такой процедуре не нуждался, — что я всегда строго разделяю так называемых офицеров войны и офицеров мирного времени…
Уваров с лёгким интересом слушал, стараясь не встречаться с бывшим начальником взглядом. Мало ли что они там друг у друга увидят. Не отрицая его высочайших профессиональных качеств, граф относился к Чекменёву прохладно. Не мог забыть и простить его иезуитского поведения сразу после захвата Бельведера. Как специалист — понимал, а как человек чести — нет. Последующие награды и повышения в чинах и должностях ничего не искупали.
— Потому понимаю, как вы ко мне относитесь, — спокойно, почти равнодушно продолжил Чекменёв. — Наверное, в том, как всё у нас сложилось, моя ошибка. Не слишком внимательно прочитал ваши характеристики. Да и когда было бы, и надо ли — на каждого поручика время тратить, если у них есть непосредственные командиры. Тут-то всё правильно, Стрельников и Тарханов вас поняли лучше. Поначалу… — подчеркнул вдруг голосом генерал последнее слово и указал пальцем на буфетный шкаф за спиной Уварова.
Когда тот принёс и разлил редкостных кондиций коньяк, в бутылки не фасуемый и в магазинах не продающийся, Чекменёв поднёс к губам край рюмки, но едва ли выпил, скорее — просто вдохнул аромат. Уваров свою порцию опорожнил разом, если начальство предлагает — нечего сноба корчить.
— Дело в том, что я несколько иначе отношусь к личным и деловым качествам сотрудников, нежели они, — продолжил генерал. — Отсюда и возникают некоторые недоразумения. Я, видите ли, иду от результата, и если в результате деятельности человека, пусть героической и вполне соответствующей приказам и инструкциям, страдает Главное дело, мне трудно быть объективным. Так случилось и в вашем случае. Я сумел взять себя в руки и поступить по чести. Но… видите ли, нам до сих пор приходится с большим трудом нивелировать последствия вашего «геройства». Вот и сейчас предстоит операция, в которой не было бы нужды, если бы остались в живых некоторые лица, уничтоженные в Бельведере… Вами.
Уваров молча слушал, ожидая, чем завершится это лирическое отступление.
— Вы — человек войны. Один из лучших в моём окружении. Поэтому мне долгое время приходилось указывать вашим руководителям, где и как вас следует использовать, заранее предвидя возможные результаты инициативности и бьющей через край мушкетёрской отваги. Это достаточно утомительный процесс. Как командир вы меня понимаете?
— Так точно, понимаю, — кивнул Уваров. — Не могу не признать, в отношении меня вы приняли идеальное решение. Получив столь высокий для моего возраста пост и чин, я одновременно вряд ли сумею слишком уж сильно навредить, поскольку не имею права принимать каких-либо принципиальных решений вне контроля вышестоящих структур, которым и предоставлена привилегия «оперативно мыслить». А командиры отрядов, в свою очередь, обладают той степенью самостоятельности, что позволяет им не воспринимать меня как поставленного над ними единоначальника.
— Совершенно верно. И это не должно вас обижать. Не комплексуете ведь по поводу того, что вам не доверен пост главного военного дирижёра…
— Не комплексую, — согласился Валерий.
— Вот и хорошо. Точки расставлены. Поэтому слушайте задание. Не приказ. Как вы понимаете, в нынешнем своём качестве приказы вам через голову вышестоящего начальства отдавать не могу.
— Вот как раз без этих уточнений я вполне могу обойтись. Дело есть дело.
Чекменёв и перешёл к делу, удалив занозу, которая, по его расчётам, в качестве раздражающего фактора могла осложнить дальнейшие отношения, требующие полного взаимного доверия и понимания.
— Как я уже сказал, мне сейчас предстоит утрясать кое-какие проблемы, которых не возникло бы, останься в живых завербованные мною люди из близкого окружения Ибрагима Катранджи… Простите, что повторяюсь.
Кто таков этот персонаж, Уваров, разумеется, знал, но — чисто теоретически. Как одну из политических фигур мирового масштаба. Но и только. В сферу его непосредственных интересов не входили детали биографии этой незаурядной личности, психологический портрет и иные специфические моменты, нужные разведчику.
— Придётся ознакомиться. Всё, что на него есть, вы немедленно получите. Дело в том, что у меня с ним назначена встреча, а вам я хочу поручить оперативное прикрытие этого мероприятия. Сутки на изучение документов, ещё сутки на отбор людей и экипировку. Послезавтра вылетаете. Все рабочие моменты Решаете с полковником Тархановым. Вопросы?
— Если сказано — с Тархановым, зачем же я буду ваше время отнимать?
— Резонно. Дополнительные указания получите на месте. Не смею задерживать.
В Одессе они встретились как бы невзначай, прогуливаясь по Дерибасовской. Вечером, в потоке текущих вверх и вниз людей подобные встречи знакомцев происходили почти непрерывно. Одни просто раскланивались, продолжая путь, другие задерживались для короткого или долгого разговора, третьи устремлялись к столикам кафе или пивных, растянувшихся на всём протяжении улицы по обеим её сторонам, или спускались в подвальчики, вроде знаменитого, а также пресловутого «Гамбринуса», чтобы продолжить общение в более располагающей обстановке.
Ничем не выделяясь среди праздной публики, Чекменёв с Уваровым нашли удобный столик под платаном, увешанным, как экзотическими плодами, электрическими лампочками. Романтично и уютно. Вправо и влево — хорошо просматриваемая перспектива вечно праздничной улицы.
— Прикрытие я обеспечил, — доложил подполковник, когда официант, поставив на стол пивные кружки и подходящую закуску, удалился на достаточное расстояние. — Никаких хвостов ни за вами, ни за мной не замечено.
— Да кому мы тут нужны, — ответил Чекменёв. — Не те обстоятельства. Вот завтра, может быть…
Он сжато, но исчерпывающе объяснил Валерию, что именно должно произойти завтра, и каковы его действия в предполагаемых вариантах.
— За яхтой наблюдать непрерывно. На всякий случай посадите на подходящие позиции двух-трёх снайперов с крупнокалиберными винтовками. Не исключаю попытки захвата «Лейлы». Не знаю, кем, но если есть объект… Сам понимаешь. За всеми сошедшими на берег людьми — плотный контроль. Как его организуете — решайте сами. То же касается места намеченной встречи. Отслеживать издалека, исключив даже теоретическую возможность обнаружения ваших людей. В группу непосредственного прикрытия направьте человека три, не больше. Сами сообразите, где и в каком качестве они будут располагаться. Схема связи — стандартная. Весь мой разговор с объектом записывайте. Вмешиваться — только в критическом случае, то есть по моей команде или — если я уже буду не в состоянии её отдать.
— Проще говоря — если с вами случится нечто непоправимое — я получаю свободу рук? — уточнил Уваров.
— Именно. Но это случай маловероятный. Убить меня можно было и в Москве, не стоило огород городить с имитацией встречи. И тем не менее… Вдруг клиенту крайне важно сначала перекинуться со мной парой слов, а уж потом принимать окончательное решение? Давай уточним несколько моментов. Глядишь, сумею что-нибудь полезное подсказать исходя из прошлого опыта…
Чекменёв ждал своего партнёра уже почти два часа, и теперь с интересом и понятным нетерпением наблюдал процесс его высадки на берег. Налажено всё было чётко. С досмотровой партией наверняка было согласовано заранее, поэтому катер таможенно-пограничной службы встретил яхту на границе территориальных вод, все положенные формальности были совершены в предельно сжатые сроки. По своим каналам Игорь Викторович тоже поспособствовал гостеприимству местных властей, параллельно дав, кому следует, поручение выяснить, какие именно структуры окажутся наиболее внимательны и предупредительны к заморскому гостю.
Новая-то государственная власть только устанавливалась, и разбираться с тем, кто и что осталось от прежней, предстояло по всем направлениям. Особенно — на окраинах Империи, да ещё столь специфических, как этот, за время демократической власти ставший фактически «вольным» город.
Де-юре любое лицо, обладающее паспортом государства, с которым Россия поддерживала дипломатические отношения, могло безвизово въезжать на её территорию, но тут был особый случай. Особенно после событий на Северном Кавказе и Привислянском крае: причастность к ним господина Катранджи была безусловно доказана, правда, исключительно оперативным путём. Судебных перспектив (кроме как в военно-полевом суде) эти претензии не имели.
Кроме того, известный, хорошо изученный враг гораздо удобнее нового.
Так что, милости просим, Ибрагим-бей!
Катранджи в сопровождении всего лишь одного человека сошёл на пирс Морвокзала, фуникулёром, как простой смертный, поднялся на набережную и неспешно направился к заведению, где его ожидал Чекменёв. Бинокль Игорь Викторович не стал прятать, положил на край столика по левую руку.
Турок вежливо приподнял белую широкополую шляпу, радушно улыбнулся из-под пышных усов.
— С приездом, — тоже улыбнулся генерал, вставая. Обменялись рукопожатием.
— Рад вас видеть воочию, — на чистом русском ответил гость. — Это — мой секретарь, — указал он на хорошо сложённого, но отнюдь не выглядящего бодигардом мужчину лет тридцати пяти, одетого в такой же, как на хозяине, светло-оливковый костюм и похожую шляпу. В руках он держал небольшой изящный портфель. — Он посидит пока вон там, за крайним столиком, не возражаете?
— Чего бы мне возражать? Пусть сидит или гуляет по бульвару, как ему и вам удобнее. Что желаете — кофе, вино, пиво? Я распоряжусь.
— Холодное красное вино, с вашего позволения. Сухое. Большой бокал…
Минут десять они обменивались дежурными формулами вежливости и взаимной приязни. У каждого хватало способностей и выдержки говорить так, что и Станиславскому бы непременно понравилось. Особенно тому, что описан в «Театральном романе» Булгакова.
— На каком заявленном уровне беседовать будем? — спросил наконец Чекменёв, давя окурок сигареты в пепельнице. — Инициатива ваша, вот и предлагайте формат и тему…
— Ну, Игорь Викторович, не усложняйте. Мы ведь не дипломаты.
Генерал опять подивился мастерскому владению собеседника русским языком. Ему-то, при его положении и капиталах, стоило ли напрягаться? Переводчиков бы хватило. Но раз когда-то счёл необходимым поступить не куда-нибудь, а в Петербургский университет, и вполне прилично его окончил и с тех пор продолжал совершенствоваться, да так, что не отличишь в нормальном общении от образованного российского гражданина восточного происхождения — значит, имел свой интерес.
Как тот же Фарид. Оставался бы «купцом Насибовым Фёдором Михайловичем», до сей поры пребывал бы в добром здравии, а так — раскидало клочья его организма по углам и стенам Бельведерского зала.
Жалко будет, если с самим эфенди повторится подобная неприятность. Очень уж нехорошо тянула ноющей болью под солнечным сплетением интуиция, Черти с матерями её побрали бы.
Едва ли Катранджи уловил в глазах генерала такой посыл, но, наверное, хватало и общей ауры. Слишком серьёзные партнёры сошлись.
— Это меня крайне радует, — ответил Чекменёв. — Терпеть не могу дипломатов. Никчёмная публика. Ничего нельзя по-настоящему доверить. Русская армия, к примеру, в 1878 году вышла к пригородам Стамбула, и ваше военное командование вкупе с султаном сдали бы город в течение суток, к всеобщему согласию, а тут как раз дипломаты и вмешались…
— Не сразу, — поправил Катранджи. — Сан-Стефанский договор был одинаково выгоден и для России, и для Турции. И лично для меня. Потом был Берлинский. И Россия, прошу прощения, конечно, струсила…
Чекменёв на мгновение приподнял удивлённо левую бровь и тут же вспомнил. Ну да, ну да! Если Сан-Стефанский договор остался бы в силе, то предки Ибрагима становились полноправными суверенными владетелями Египта, Палестины и кое-чего ещё. А тут вмешался «европейский концерт»[44], на Берлинском конгрессе лишил Россию половины её успехов, а заодно обрезал перспективы и для дедов-прадедов несостоявшегося Катранджи-паши. Обидно, конечно. Игорю Викторовичу, к слову, тоже.
— Пожалуй, так. Прояви Александр Второй характер, послав всех европейцев подальше, заяви о готовности воевать с несогласными впрямую — история опять пошла бы иным путём. Пожалуй, с турками с глазу на глаз мы смогли бы договориться о более приемлемых условиях. Но ведь ваши предки (османы, я имею в виду) параноидально боялись любых нормальных отношений с Россией, предпочитая роль шестёрок Англии, Франции, Германии — последовательно… И чем кончилось? Особенно в Мировую войну.
— Вы правы, господин Чекменёв. Обозначенные вами факты имели и до сих пор имеют место. Но и вы попробуйте понять. Последние двести лет Турция воевала с Россией, со смыслом и без смысла только потому, что её властителям казалось — дружеские отношения поведут к немедленному и необратимому поглощению нашей страны — вашей. Вы поглотили Закавказье, Армению, так же легко, даже и без войны просочились бы в Анатолию до Трабзона и дальше, с запада вашими союзниками автоматически стали бы греки, боснийцы, фракийцы и прочие. Да и у самих турок нет ни малейшего иммунитета к перспективе ассимиляции. Имперский народ, только с противоположным знаком, чем ваш русский. Вполне готовый, без сопротивления и с удовольствием принять власть над собой более сильного сюзерена, с определённой выгодой для себя, конечно.
Ну, такие мы есть. От природы. Властвуем, когда можем, не возражаем, если власть перенимает сильнейший. Лишь бы нам было хорошо. Этому можно сопротивляться только созданием образа вечного, непримиримого врага и непрерывными войнами. Двадцать лет мира — и всё! Теряется смысл суверенного существования.
— Как же, как же, — усмехнулся Чекменёв. — Византия, в которую вы пришли в пятнадцатом веке, до сих пор давит своей психической энергией… Кто вы и ЧТО Византия? Айя-София, как пример. Шестьсот лет там ваша мечеть, а всё равно воспринимается, Как православный храм. Ну и Россия рядом, само собой. Никто ведь не отрицает её роль правопреемницы. Даже вы сами. Заключать союзы с англичанами, французами, немцами — куда легче.
— Правильно. Они не претендуют на подавление нашей идентичности.
— Естественно. Четыре года воевать в Мировую войну под командой немецких генералов и с треском её проиграть, потеряв почти всё. Зато идентичность — на высшем уровне. Результат — Кемаль Ататюрк! Русский советник (или даже наместник) за ношение фесок головы точно бы не рубил. И адмирал Колчак на месте адмирала Сушона[45] к жизням турецких моряков относился бы гораздо бережнее. Немцы ведь ваших матросов и даже офицеров по-настоящему и за людей не считали. Нет?
Игорь Викторович откровенно развлекался. В чём и состоял замысел. Раскрутить собеседника, заставить его выйти из себя в любом направлении. Его позиция была абсолютно непробиваемой: он от Катранджи ничего не хотел, одновременно имея возможность очень крепко нагнуть его вместе со всем «Интернационалом», особенно когда у него появились серьёзные выходы на европейскую «Систему», тоже переживающую не лучшие времена.
Турок же козырей, по мнению Чекменёва и его аналитиков, на руках совсем не имел (или они были для другой игры). Иначе за каким же чёртом столь авторитетный человек поехал в логово исторического врага для разговора с безусловно частным лицом? Никто не смог бы заявить, а тем более доказать иного.
— …Мы с вами неплохо повоевали в былые дни, — с оттенком печали в голосе сказал Катранджи.
— Да уж, — согласился Чекменёв. — Причём в основном игра шла в ваши ворота. Счёт 3:1, как я представляю, или даже 4:1, смотря как считать.
— Не следует так уж преувеличивать. Да, конечно, вы, можно сказать, вышли в финал, но ведь и я тоже. А «промежуточные матчи»… Ваши потери в людях как бы и не больше. И турнир ещё не закончен.
— На «людей» мне как раз наплевать. Хотите сказать, что жертвы пятигорских, варшавских, московских событий для вас — люди? Для меня — нет. Люди — это в данный момент мы с вами. И ещё определённое количество ключевых фигур. Остальные — расходный материал. В той или иной мере. По «ключевым фигурам», кстати, — счёт сухой. Я не потерял ни одного важного для меня человека. Вы — увы…
— Ваш цинизм удивляет даже меня, — с оттенком печали в голосе ответил Катранджи, опустив глаза и передвинув по шнурку несколько зёрен крупных деревянных чёток.
Для отвлечения внимания или это какой-то условный знак, способ связи?
— А что вы хотите? — с оттенком превосходства спросил Чекменёв. — Ту войну, что вы захотели вести с нами, иначе не выиграть. Только — заведомо не считать противников за людей. Ибрагим-паша, это вы для себя определили с детства, разве не так? Я о вас кое-что знаю, как и вы обо мне. Так не нужно делать вид, что вы ждёте от меня чего-то иного. Например — воображать, что я — европеец, скованный некими парадигмами, для вас не обязательными. Я (мы) воюю с вами по вашим правилам. Не ждите от нас Другого. Предыдущие войны научили. А поскольку мы сейчас равны в цинизме, да и по положению, будем исходить из максимы «Пусть победит сильнейший».
На данный момент это скорее я. Я способен игнорировать идею «чести», которой, как вам кажется, должен руководствоваться. Она существует, но не для вас. В своём нынешнем состоянии я могу наплевать на так называемое офицерское слово, потому что вы и ваши клевреты никогда не воспринимали даже самого поверхностного смысла этого понятия. Несмотря на ваше европейское образование, вы ведь в глубине души не стали европейцем?
Так отчего вы думаете, что русский генерал должен в общении с вами соблюдать не для этого места и этого времени принятые правила? Они ведь вызрели исключительно в ходе взаимодействия равных по силе, одинаковых по культуре баронов средневековой Европы. И ни в каком другом случае не применимы. Не работали на Руси до и после монгольской. В родных вам краях тоже вызвали бы искренний смех, предложи вы их своим соотечественникам в качестве образца. Я уже упоминал Ататюрка. Ни хрена он из вас европейцев не сделал. А уж как старался. Петр Великий в этом деле более преуспел.
Но тоже крайне поверхностно. У меня нет сдерживающих принципов и идей, кроме одной, недоступной вам по определению…
Игорь Викторович двумя глотками допил свою кружку пива и опять закурил. Он сказал всё, что хотел. Можно было бы ещё, как кадровому самураю, прочитать подходящее к случаю хокку. Например:
— Нет, нет, я не погиб в пути!
Конец ночлегам на большой дороге Под небом осени глухой.
Это он и сделал. Другого навскидку не вспомнилось. Но прозвучало неплохо.
— Так что давайте переходить к делу, Ибрагим– паша. Мы хорошо друг друга поняли. Теперь скажите, что вы от меня хотите, и как мы это организуем, если придём к соглашению…
— Я очень хорошо вас понял, Игорь Викторович. Вы сейчас хотели выглядеть передо мной этаким генералом Ермоловым, с позиции силы увещевающим какого-нибудь Гази-Магомеда. Понимаю. Только зря вы недооцениваете моё европейское образование. И тот факт, что я с вами говорю по-русски, а не вы со мной по-турецки — подтверждает это. Улавливаете? Я надеялся — вы оцените.
— Давно оценил, Ибрагим… Как вас назвать по отчеству? — спросил Чекменёв, будто не знал этого давным-давно.
— Рифатович, — сказал Катранджи.
— Очень хорошо. В смысле — дорожка для совместной прогулки обозначилась. Пойдём?
Катранджи хлопнул по столу большой ладонью и рассмеялся настолько искренне, что и Чекменёв почти поверил. А почему и нет? Верить всегда лучше, чем пребывать в бесконечных сомнениях. Ну, бывает, ошибёшься, а всё равно ведь…
— Не думайте ничего плохого, Игорь Викторович. Хоть полчаса не думайте. Способны?
— А за каким же… я здесь с вами сижу? — деликатно ответил Чекменёв.
— Тогда перейдём к делу. Я правильно понимаю вашу роль, как ближайшего, но неофициального сотрудника и советника Императора?
— Это вы сказали. Наши западные друзья в подобных случаях отвечают: «Ноу коммент».
— Ваш бинокль — не записывающее и передающее Устройство? — спросил Ибрагим, взглянув на направленные прямо на него просветлённые объективы.
— Можете разобрать его на детали, — генерал протянул турку «Цейс». — А ваш секретарь нас не пишет через что-нибудь, спрятанное в портфеле?
— Аналогично. О том, сколько ваших сотрудников могут за нами наблюдать с крыш окружающих зданий, я не спрашиваю.
— Оставьте свою паранойю. После испытания вашего «Гнева Аллаха» и того, что вы устроили в Москве, а мы достойно ответили, винтовка на крыше — как минимум смешно. Согласны? Давайте разговаривать, как взрослые люди. Я — по официальному статусу сейчас никто, вы — в одних местах кто-то, а здесь — тоже никто. Вернее — не более чем купец, прибывший для обсуждения контракта. И это правильно. Ваше слово первое, Ибрагим Рифатович.
Катранджи, приняв предложенные условия, заговорил. Как ни крути, а он ведь действительно, пусть и опосредованно, через Чекменёва, был допущен к прямым переговорам с могущественным самодержцем всея Руси. Совсем другой уровень, чем конфиденциальный разговор с премьером одной из европейских держав. Особенно если учесть всё предыдущее, он мог быть доволен. Исторический противник зла не таил, говорил всё, что думает, а это подтверждает возможность начать отношения как бы с чистого листа.
Так и сказал, присовокупив, что ценит подобное, достойное мужчин отношение. И неплохо бы им сохранить такие и впредь. Основываясь на европейских понятиях, если Игорь Викторович категорически не приемлет «восточных».
— Отнюдь. Вполне приемлю. Но — на паритетных началах. Чтобы потом недоразумений и лишних обид не возникало, — усмехнулся генерал.
Он, разговаривая с Ибрагимом, одновременно отслеживал качество работы Уварова. Неплохое, кстати.
Среди фланирующей по бульвару публики он, с известной долей вероятности, определил только двух персонажей, могущих быть сотрудниками «Печенегов». А ведь, зная подполковника, тут их должно крутиться не меньше десятка. Или очень хорошо маскируются, или Уваров организовал прикрытие совсем не так, как предполагал Чекменёв. В любом случае — лишний плюс ему.
Катранджи объяснил своё желание вступить в контакт вполне разумно. С момента воцарения Олега Константиновича мировая геополитическая карта кардинально изменилась. Информация о том, что Император собирается сменить приоритеты и сосредоточиться исключительно на собственно российских интересах, своевременно стала известна «кому надо» и встретила полное понимание.
— Собственно говоря, Игорь Викторович, вы не можете не признать, что все наши предыдущие действия определённым образом сыграли вам на руку?
— Не могу, — легко согласился Чекменёв. — Наши партнёры по ТАОС слишком быстро и крайне непрофессионально раскрыли карты. Тем самым подтвердив, что ничего в их отношении к нам не изменилось. Ради того, чтобы в очередной раз напакостить России, забыли о своих действительно «жизненных интересах». Ну и ради бога. Баба с воза, кобыле легче.
— Очень приятно это слышать. Мы, со своей стороны, хотим сделать вам предложение, от которого вы едва ли сможете отказаться.
— Хотелось бы верить. Излагайте.
— Если Россия действительно решит выйти из ТАОС и отвести все свои экспедиционные войска в пределы естественных границ, мы готовы гарантировать, что впредь эти границы не будут подвергаться сомнению, а тем более — нарушаться. Может быть заключено большое количество торговых и иных соглашений, безусловно взаимовыгодных. И это кроме того, что высокие договаривающиеся стороны автоматически получат массу преференций, прекратив тайное и явное противоборство, направив ресурсы на иные цели…
— Я так понимаю, Ибрагим Рифатович, что вы предлагаете учредить новую мировую конфигурацию. Северный альянс без России, Россия как автаркия, сохраняющая нейтралитет в историческом противостоянии Севера и Юга, и… как же мы назовём третью сторону? Употребляемый у нас термин вряд ли точно отражает суть дела.
— «Чёрный интернационал»? А почему бы и нет? Что он не красный — безусловно. Но — интернационал же! Если иметь в виду цвет кожи и волос значительной части его членов — вполне подходяще…
— Для того, чтобы стать третьим полюсом мира, требуется кое-что ещё, — сказал Чекменёв. — Хоть какие-то признаки государственности. Конфедерация, халифат, ассоциация… Подобие выражающего общие интересы руководящего органа, Дее– и правоспособного. Ну, вы понимаете. С кем же, в противном случае, хоть о чём-то договариваться?
— Это пусть вас не волнует. Названный орган может объявить о своём сформировании в ближайшее время.
— Когда объявит, тогда и думать будем. А пока, Ибрагим-паша, у нас с вами простая негоция, деловой разговор двух купцов, ищущих собственной выгоды и за все последствия отвечающих только своим карманом. Нормально?
— Я и сам хотел примерно так выразиться…
— Приятно, что наши мысли и устремления совпадают. Сейчас я, от себя лично, могу сказать только одно. Если ваши… единомышленники прекратят свою деятельность на подконтрольной нам территории, мы отнесёмся к этому с пониманием. Столь же положительно будет воспринят факт передачи нам информации об известных вам, но не входящих в вашу организацию антиправительственных организациях на территории России. В свою очередь, мы готовы благожелательно рассмотреть некоторые интересующие вас вопросы. А сверх этого… — Чекменёв развёл руками. — Любой меморандум, составленный двумя частными лицами на столике пивной, даже заверенный у ближайшего нотариуса, будет иметь… сами понимаете, какую силу.
— О чём речь, Игорь Викторович! Какие меморандумы? Я счастлив, что вы с государем Императором согласились начать разговор со мной, как с лицом, заслуживающим вашего высокого внимания. Могли бы и отказать, «без объяснения причин».
Ирония в голосе магната чувствовалась, но скорее обращённая в сторону неких посторонних по отношению к ним сил. По-своему он прав. Удайся его авантюра — он сразу переходил в совсем другую политическую категорию…
— Знаете, что бы я вам посоветовал, Ибрагим– паша…
Чекменёв вдруг прервал фразу.
Проезжавшая мимо девушка на дамском велосипеде несколько раз тренькнула звонком, предупреждая собравшихся переходить аллею двух старушек с мальтийской болонкой на поводке. Видно было, что ездить она, несмотря на почти двадцатилетний возраст, толком ещё не умеет. Слишком напряжена и рулём всё время дёргает. Зато, поймав взгляд генерала, сделала Рукой условный жест, дополненный мимикой.
«Тревога второй степени, необходимо переместиться в более защищённое место».
«Второй степени» — ничего особенного. Просто предупреждение, что вокруг охраняемого объекта появились пока не установленные личности, ведущие себя не вполне адекватно. Можно и проигнорировать, до уточнения обстановки, но факт, с точки зрения обеспечивающих, имеет место.
Не зря генерал полагался на Уварова.
— Давайте-ка быстро встанем и пойдём отсюда, — сказал он, опустив голову, чтобы губы со стороны были не видны. — Торопиться не нужно. Если что, моя охрана сработает. Впереди и справа вход в ресторан. Идём туда. Скажите сейчас громко, что проголодались и мои советы предпочли бы выслушивать за хорошим обедом… Дальше, что хотите…
Катранджи среагировал мгновенно и правильно.
— У вас здесь хоть и юг, а ветер с моря прохладный. Неуютно. Да и время, похоже, обеденное… — Он извлёк из жилетного кармана большие золотые часы, как бы не позапрошлого века, щёлкнул крышкой, спрятал обратно. — Не согласитесь ли преломить со мной хлеб? А где — на ваше усмотрение…
— Охотно. Наши сугубо теоретические разговоры и меня изрядно утомили. Пойдёмте.
Жестом велел секретарю оставаться на месте. Чекменёв это оценил.
Ресторан с гостиницей, незамысловато именуемый «Потёмкин», был заранее подготовлен Уваровым для приёма, в случае необходимости, высокопоставленных гостей. Особого труда это не составило. В местном жандармском управлении имелось несколько сотрудников, с полным сочувствием относившихся к случившимся в стране переменам и поддерживавших контакт с Москвой в «инициативном порядке». Они и дали подполковнику наводку на хозяина, господина Самуила Циреса, вполне надёжного и благонамеренного негласного осведомителя. Уж больно удачно было расположено его заведение, чтобы не слишком богатый ресторатор, купец всего лишь второй гильдии, мог без поддержки властей второй десяток лет оставаться его собственником, успешно отражая неоднократные атаки куда более сильных конкурентов.
«Потёмкин» предоставлял управлению весь спектр специфических услуг: организацию прослушки нужных клиентов, предоставление отдельных кабинетов для конспиративных встреч, содержал в штате девушек и молодых людей для «подводки», ну и тому подобное. В конце концов, и сами офицеры нуждались в надёжном месте для проведения досуга, не связанного с исполнением служебных обязанностей.. Вдали от посторонних глаз и ушей, без риска каких-либо неприятностей и недоразумений. Опять же — не возникало вопросов по поводу почти неограниченного беспроцентного и бессрочного кредита. Хозяин в любом случае внакладе не оставался, поскольку добрую половину весьма состоятельных клиентов к нему направляло названное управление, и никто никогда не задавал неудобных вопросов по поводу «побочных доходов».
Прямо в вестибюле гостей встретил сам Уваров и один из официантов.
— Проходите, пожалуйста, немедленно всё будет организовано в лучшем виде, — с любезной, но не подобострастной улыбкой пригласил подполковник, изображающий метрдотеля, указывая на неприметную дверь рядом с гардеробом. За дверью скрывалась чугунная винтовая лестница, ведущая в бельэтаж. Для обычных посетителей имелась другая, в центре холла, широкая, двухпролётная.
Официант повёл Ибрагима наверх, Чекменёв чуть задержался внизу.
— И что там у вас? — брюзгливо спросил он, оставаясь в образе исполняемого сейчас персонажа. Великий актёр умирал в Игоре Викторовиче. На подмостках Вахтанговского или Малого театра ему бы цены не было. У него даже уголки губ вяло опустились, намекая на нездоровый, расслабленный образ жизни хозяина и его скверный характер. Веки отяжелели и полуприкрыли мутноватые, скучные глаза.
Уваров, и тот поразился. Как соотнести бравого офицера-кавалериста, очень похожего на Вронского, каким любил представляться генерал своим подчинённым на полевых занятиях, с почти точной копией Каренина, играемой сейчас без малейшего грима? Только он не понимал — зачем?
— Обнаружено как минимум пять человек, проявивших интерес к вашей встрече. Работали крайне профессионально. Двое вели непосредственное наблюдение, возможно, вели запись. Остальные перекрывали лестницу и бульвар с обеих сторон.
Но мы тоже кое-что умеем. Всё под контролем. Те, что писали, далеко не уйдут. До первой подходящей подворотни. В резерве, кроме своих, десяток опытных местных филёров. Лично начальник жандармского управления выделил. Втёмную, разумеется. Но это, прошу прощения, не ваша забота.
Докладываю по месту. Переговоры продолжайте спокойно. Здесь кабинет совершенно изолированный. Общий зал из него просматривается. В случае чего — отдельный выход на кухню, через неё можно спуститься в хоздвор и ещё ниже, в подвалы…
— Не нравишься ты мне сегодня, Валерий, — лениво, врастяжку, по-барски грассируя, сказал Чекменёв. — Какое, на хрен, «в случае чего»? Стоило брать с собой лучшего боевика, чтобы такое слышать…
— Вы уж простите, вашество… — В устах метрдотеля, которым изображал себя Уваров, такое обращение прозвучало нормально, но генеральский слух царапнуло. — Пока живы, всё исполним в лучшем виде. А если нет, так сами понимать должны. Тот раз в Бельведере моя карта сверху легла, вдруг сегодня — чужая? Тройка, семёрка, туз — слышали?
Чекменёв отчётливо скрипнул зубами. Бесил его этот наглый подполковник до крайности. Но и деваться некуда!
— Если чего… Скажи ещё, что и с катакомбами из подвалов связь имеется.
— Так точно. Проверено.
— Ну, ты… — Генерал дважды вздохнул через нос. — Молодцом. Продолжай. Мы здесь пару часиков посидим, дальше видно будет…
Кабинет оказался в меру просторным и уютным. Два четырёхместных столика по разным углам, один возле дугообразного кожаного дивана, второй у венецианского окна, из которого видно и лестницу, и море, и бульвар с зацветающими каштанами. Очень приятный ландшафт.
Здесь они и разместились, но Игорь Викторович предварительно подошёл к большой картине на противоположной стене. Полюбовался видом вечерней Дерибасовской, затянутой сеткой осеннего дождя. Неплохо написано, в стиле Камиля Писарро.
Правда, художественные достоинства его сейчас не слишком интересовали. Намётанным глазом осмотрел массивную резную раму. Примерился, ткнул пальцем в одну из завитушек. Холст сдвинулся вбок, как шторка фотографического затвора. За ним — зеркальное, чуть синеватое стекло, сквозь которое виден весь общий зал. Три десятка столиков, штофные драпировки стен, небольшой мраморный фонтан посередине. Посетителей совсем немного, время ещё раннее.
Попросту всё сделано, без всякой электроники. Старомодно, но надёжно. С той стороны обычное зеркало. Ни сбои в электропитании не помешают наблюдать, ни самые хитроумные устройства ничего не обнаружат.
Катранджи тоже оценил, одобрительно поцокал языком.
— А на нас сейчас откуда-нибудь тоже смотрят?
Генерал развел руками:
— Не Москва здесь, не моё ведомство. Всяко может быть…
Расселись, полистали книжки меню, сделали заказ. Официант удалился, и лишь после этого Ибрагим, закуривая, спросил, как и подобает восточному человеку, о главном.
— Так ради чего вы тревогу подняли?
Чекменёв честно пересказал то, что услышал от Уварова.
— Это были не мои люди. Гарантирую. Гораздо хуже, что МОИ — ничего не заметили и нужного сигнала не подали, — сказал Катранджи встревоженно.
Похоже, Ибрагим расстроился или пришёл в тихое внутреннее бешенство. Которое вполне могло завершиться репрессиями, вплоть до посадки нерадивых телохранителей на кол. Прямо на палубе его «Лейлы».
— Не берите в голову, Ибрагим Рифатович. Просто у ваших — подготовка не совсем та. О чём мы недавно и говорили. Даже не касаясь глубин истории и былых русско-турецких войн, результаты которых нам обоим известны, один маленький пример (вам, наверное, об этом и не докладывали) — в Пятигорске некоего Фарид-бека, по документам — кадрового майора, на самом деле, мне кажется, не меньше чем генерала, тактически переиграл наш строевой армейский капитан. При соотношении сил один к двумстам[46].
А взял оного Фарида в плен и разоблачил обычный юнкер четвёртого курса горно-егерского училища. Правда, курдский этот парень знал в совершенстве, о чём ваш майор не догадывался и со своими подельниками, уже будучи арестованным, разговаривал открытым текстом. Наверное, думал: «Где уж этим северным варварам знать столь цивилизованный язык!»
К этому моменту сразу два официанта подали закуски и графинчики, наполненные всем, что захотелось попробовать русскому и турку в столь напряжённой обстановке.
Катранджи, демонстрируя свой «чёрный интернационализм» и не маскируя душевного раздрая, махнул большую рюмку водки, закусил ломтиком селёдки.
— Поделитесь, я действительно не в курсе. Фарид, как мне казалось, был очень умный, верный человек, на измену не способный… Погиб, как мне известно, отнюдь не на вашей стороне. Был бы он вашим агентом, вы бы такого не допустили. Верно?
— Верно. Но и мы не боги. Да ничего особенного и не случилось. О покойнике можно сказать много плохого, вопреки римской поговорке. Сволочь, между нами, первостатейная. Вы вот, милейший Ибрагим Рифатович, что бы обо мне сказали, если бы я в одном из дорогих вам на исторической родине мест захватил человек пятьсот близких вам людей и начал над ними издеваться, как османы над армянами в тысяча девятьсот пятнадцатом году? Обиделись бы, наверное. В одном варианте — к мировому сообществу за поддержкой обратились бы, в другом — мстить начали… Нехорошо ведь так в цивилизованном двадцать первом веке поступать…
— Достаточно. — Лицо Катранджи неприятно исказилось. В другом месте эта гримаса была бы достаточным основанием, чтобы собеседника в лучшем случае сгноили в зиндане. А то и начали бы с него кожу сдирать одноразовыми безопасными бритвами турецкого как раз производства.
— Не нервничайте так, — тихо сказал Чекменёв. — Знали, куда ехали. И с кем говорить собрались. К стопроцентно европейскому бывшему премьеру нашему, господину Каверзневу, не обращались отчего-то. Мне кажется, раз русский едва ли не лучше меня знаете, в Петрограде Блока почитывали. А то и дурам-девушкам цитировали, с известными целями.
Игорь Викторович улыбнулся очень мягко, а Катранджи ответил неприличным оскалом.
— Что именно? «Я пригвождён к трактирной стойке, я пьян давно, мне всё равно…»
Забавляется господин Катранджи, хоть как-то отыграться пытается.
— Браво, Ибрагим Рифатович. — Генерал, свободно переигрывавший в словесных и шахматных поединках нынешнего Императора, с удовольствием убедился, что этот «вождь мировой деревни» легко покупается на самую примитивную провокацию. — Не зря вы однажды выразились, что предпочли бы быть немцем в Германии, и русским — в России… Не знаю, как в Германии, а у нас бы получилось. Мы бы вас за своего приняли…
— Вы и это знаете? — Эфенди снова был сбит с позиции.
Слова те были сказаны наедине с очень верным человеком, тоже мёртвым сегодня. И вот…
— Зачем удивляетесь? «Ид-диния зай хъяра — йом фи-идак, йом фи-тизак»[47].
И эти слова Катранджи вспомнил. Их он сказал, с издёвкой, поляку Станиславу, посланному организовывать очередное антироссийское восстание и погибшему вместе с Фаридом от наудачу брошенной тогда ещё поручиком Уваровым гранаты[48]…
— Дошло, коллега, что наша контора умеет работать? — благодушно спросил Чекменёв, разливая по второй. — А у Блока я другую цитату подразумевал. Вам поближе будет…
Игорь Викторович откинулся на спинку кресла, окутался табачным дымом и начал читать глубоким голосом почти профессионального декламатора:
«Наш путь — степной, наш путь в тоске безбрежной, в твоей тоске, о Русь!
— Наверное, хватит, — оборвал себя Чекменёв нормальным, даже утомлённо-тихим голосом. — Вы знаете, что дальше было. Не стоит друг друга сверх меры нервировать. «Трактирную стойку» я вам простил, простите и вы мне эти строфы. Там дальше ещё интереснее, если помните. Так что, поговорим за Фарид-бека? Расскажу, ибо мёртвые сраму не имут.
Мужчина он был, конечно, серьёзный. До поры, естественно. Сначала капитан Неверов в одиночку перестрелял в гостинице «Бристоль» полторы сотни ваших отборных нукеров или аскеров, хрен их знает. Потом прилетели на подмогу наши пацаны из Ставропольского горно-егерского училища. Зачистили прилегающую территорию, как учили, согнали пленных в отдельное помещение. Вот тут Фарид, никак внешне не отличимый от обычных боевиков, не выдержал и начал по-курдски раздавать инструкции. Как себя держать, что отвечать на допросе и его ни в коем случае не выдавать. Иначе и им, и их семьям, и родственникам до седьмого колена «секир башка» и прочие неприятности. Слабость, согласны? Или — трусость и глупость?
— Отчего же? — возразил Ибрагим. — Нормальное поведение.
— Для кого как. У нас командир даже взвода первым делом назвал бы себя и принял основную ответственность, попросив отнестись к рядовым бойцам именно как к рядовым.
— Так то у вас… — ответил Катранджи, но без былого куража.
— А я о чём? Далее — названный ранее юнкер, осетин, то есть лучший друг россиян на Кавказе, православный, по странному совпадению знающий пять восточных языков (не считая европейских), оказался в нужное время в нужном месте.
В эту экспедицию попал случайно, в бою не погиб (неразумно было такого полиглота в огневой бой бросать, так разве у нас кто о таких вещах думает?), и в двух шагах от опытнейшего разведчика оказался. Повезло, можно сказать, но юнкер своим везением очень правильно воспользовался…
— Остановитесь, Игорь. Вы всё время пытаетесь навязать мне неправильные выводы… Конечно, курдский — в ваших краях язык редкий, почти как чукотский в Турции, и всё же… Не следует…
— Чего там не следует? Наши парни, в отличие от ваших, службу несут по уму и по присяге…
Катранджи опять непроизвольно оскалился, но сумел удержаться в рамках цивилизованности. А ведь Чекменёв провоцировал его изо всех сил, переходя границы самого примитивного приличия.
— Слушайте дальше. Доложил об услышанном юнкер старшему по команде, и уже к вечеру вашего Фарида доставили на беседу лично ко мне.
Ещё раз прошу прощения, Ибрагим Рифатович, но тот же юнкер дольше бы продержался под вашими пытками. Возможно — до мучительной смерти. До чрезвычайности меня удивляет такая черта ваших единоверцев — шахида из себя изобразить, подобно японскому камикадзе — кое у кого получается. А на допросах сразу колятся. И в плен сдаются сотнями тысяч, как в прошлую нашу войну при Эрзеруме, Карее и Баязете. Нет среди вас бескорыстно убеждённых в своей правоте людей, готовых за неё беспрекословно умирать. Вы же в Питере учились, по музеям, хотя бы от скуки, ходили… Был такой художник — Верещагин. С большим талантом эпизоды восточных войн изображал…
— Давайте лично о Фариде, — мрачно сказал Катранджи, Чекменёвым почти подавленный. Ещё не сломанный, но очень близкий к этому. По ситуации.
Если бы они с Игорем Викторовичем сидели в его дворце… Да в любом дворце от Каира до Рабаула, совсем бы по-другому вёл себя наглый русский генерал.
Здесь же Ибрагим-бею исторические и психологические экскурсы Чекменёва удовольствия не доставляли. Но факты — интересовали. По статусу.
— Ну а что ещё сказазать — мягко улыбнулся генерал. — Пошёл он на перевербовку, не ко мне даже, к обычному фронтовому полковнику. А вы знаете, Ибрагим Рифатович, почти прошептал Чекменёв, — умирать вашему брату очень страшно. Независимо от ожидающих гурий. Вы — не пробовали? А Фариду предложили. С соблюдением наиболее невыносимых мусульманину процедур. Мы, русские, знаем, как кого из вас достать. За триста лет душевного общения научились.
Он, дурак, думал, что мы его к стенке поставим. И бодрился. Расстрел, мол, чепуха. Воздаяние получу и всё такое.
Хотя какое, на хрен, воздаяние сможет получить от Аллаха, Христа или Будды такой человек? Ну, правда, мой офицер ещё насчёт замены расстрела повешением намекнул, с последующим заворачиванием трупа вместо савана в свинячью? шкуру. В виде психологического эксперимента. Сработало или нет – не уточнял, но сдал Фарид всех известных ему персонажей, с кем работал и должен был работать впредь.
Отдохнул, три дня запрещённые Кораном напитки хлестал, как рязанский извозчик. Протрезвел и согласился выполнять полученное от вас задание под моим контролем, регулярно отчитываясь. Так бы и до сего дня, наверное, длилось, если бы войсковая разведка с ним в Варшаве непересекалась. Те ребята простые: враг обнаружен — враг должен быть уничтожен. Языков брать и через фронт тащить у них возможности не было. Жаль, конечно, что так получилось, да что ж поделаешь теперь…
Наверное, турок сильно бы удивился, узнав, что принимавший его «метрдотель» как раз и руководил ликвидацией Фарида, Станислава и прочих.
«Бывают странные сближенья», как писал поэт.
— М-да, ни на кого нельзя положиться, — сокрушённо покачал головой Катранджи. — Вечная проблема — если человек знает мало, он не сможет эффективно работать. Если знает много — много и выдаст при случае.
Чекменёв мог бы дать по этому поводу несколько полезных практических советов, но просвещать пока ещё врага не входило в его намерения. Может быть, когда-нибудь потом…
— Я вас очень хорошо понимаю. Но вернёмся к нашим баранам. Если вы уверены, что за нами следили не ваши люди, а я уверен, что и не наши тоже, значит — кто? Давайте вместе подумаем. Утечка, скорее всего, имела место с вашей стороны. Я с почти стопроцентной гарантией могу утверждать, что информация о нашей с вами договорённости и факт моего приезда сюда не известен никому, за исключением самых ближайших и абсолютно надёжных лиц. Поэтому на это направление можно не отвлекаться. Следовательно…
— Ваша посылка принимается. О том, что я направился в Одессу, знает достаточно много людей. Я этого и не скрывал. Мои коммерческие интересы столь обширны, что я провожу в поездках и перелётах большую часть своего времени. Это давным-давно никого не удивляет.
— Причины визита в Одессу, и именно в это время достаточно замотивированы? Могло что-либо заинтересовать чисто деловых людей? Конкурентов. Мол, если Ибрагим-эфенди затевает нечто в России, Нет ли шанса ухватить и свой кусок…
— Вряд ли, Игорь Викторович. У меня нет конкурентов, способных на столь опрометчивые шаги. Я же не базарный торговец. На моём уровне вопросы решаются совсем другими способами.
— Вам виднее, я от любых видов бизнеса далёк. Значит, чистая политика? Кое-кому захотелось просто посмотреть, с кем вы надумали вдруг встретиться?
— Безусловно, политика.
— Хорошо. Теперь поставим себя на место руководителя некоей организации (или частного лица?). Если он не глупее нас с вами, первое, что должно прийти в голову — к чему такая демонстрация? Есть масса способов организовать действительно тайную встречу. На очень нейтральной территории и с гарантией неразглашения. Берусь навскидку предложить десяток вариантов, не требующих никакой специальной подготовки. А тут — письмо консула, яхта, набережная, сотни свидетелей… И главное — времени любому, кого способна заинтересовать наша встреча, отпущено для подготовки сверхдостаточно. Тоже будто специально.
Что бы подумал я на месте некоего «мистера X»? И что подумали бы вы на своём месте?
— Ну, давайте рассуждать вместе. Спокойно и последовательно. Первое — я не утверждал бы столь смело, что наша встреча выглядит именно демонстрацией. Контакт с консулом был организован с соблюдением всех предосторожностей. О намерении посетить Одессу я никому не докладывал. Даже капитан яхты до последнего момента был уверен, что мы идём в Констанцу. За время, прошедшее с момента изменения курса, никаких выходов в эфир с «Лейлы» не было. А иных способов связи пока не придумано. За исключением почтовых голубей, которые с борта тоже не взлетали…
— Неубедительно, — прервал Ибрагима Чекменёв. — На примере с Фаридом мы уже выяснили, что даже вскользь и наедине брошенная шутка способна дойти до ушей начальника вражеской контрразведки. В нашем случае мы имеем дело с гораздо большим массивом информации и числом причастных к её прохождению людей…
Вот вам простейший сюжет. За вами могли наблюдать с подводной лодки. После изменения курса определили направление, подвсплыли, передали радиограмму на неизвестной вам частоте. Полусуток достаточно, чтобы подготовить несколько человек, начавших за вами слежку. Пока только слежку, никаких силовых вариантов я не предполагаю. Рано. Им же нужно выяснить, с кем и зачем вы встретились. А аналитики вступят в дело позже или уже работают, идентифицировав меня и вас…
— Вы исключаете, что «хвост» привели вы?
— Почти абсолютно. Я готовился к встрече весьма серьёзно и принял все известные меры предосторожности. В чём вы только что убедились…
— Тогда отчего вы сразу не предложили иное место встречи? Хотя бы то, где мы сейчас находимся?
— Прежде всего, прошу заметить, это вы изъявили желание встретиться именно на бульваре…
— Возможно, это моя ошибка. Но я посчитал, что на открытом месте будет удобнее и безопаснее. Учтите, я ведь формально и фактически абсолютно частное лицо, и встреч, подобных этой, у меня ежемесячно бывают десятки. И с деловыми партнёрами, и… не только.
— Не имею возражений. Однако в Россию вы раньше подобным образом не ездили. Учились очень неплохо, да, я не затруднился просмотреть ваши зачетные ведомости. На разного рода деловые переговоры и аукционы приезжали — тоже было, и неоднократно. Иногда инкогнито, иногда — явно. А тут уж как-то интересно совпало. С точки зрения людей, которых ОЧЕНЬ волнует наметившееся изменение мировой конфигурации…
Официант подал чанахи в пышущих жаром обливных горшочках, собеседники выпили и обратились к еде. Они на самом деле сильно проголодались, да и пауза для размышлений на темы вышесказанного требовалась и тому и другому.
— Себя имеете в виду? — усмехнулся Катранджи.
— Ибрагим Рифатович, — в свою очередь, сделал милейшее из своих лиц Чекменёв, — не пора ли нам раз и навсегда, да-да, именно это я и сказал — «навсегда», перестать валять дурака друг перед другом? Жизненного опыта, политического чутья, реальной деловой практики нам с вами хватает, надеюсь, чтобы понимать, чем мы занимаемся и к каким идеалам стремимся. Разочаровать вы меня не сможете, ибо я знаю вам цену, а вы — мне. Мы можем ещё какое-то время морочить друг другу голову, только — зачем?
Хоть убейте, не вижу я за вами такой силы и такой идеи, чтобы вы сейчас захотели сыграть за моей спиной на собственный риск и с нулевой суммой.
Чекменёв отложил ложку, разлил коньяк, старательно размял папиросу.
— Так уж? — осведомился Катранджи.
— Увы, коллега. В длинный покер поигрывали? Считайте, что у меня каре тузов с джокером. Шанс у вас один, как у Остапа… Пояснение требуется?
— Пожалуй, нет. Если вы совершенно убеждены, что на вашей стороне вся мощь Российской империи, воля нового Императора и решимость идти до конца — что ответить бедному турку, обладающему всего лишь сотней миллиардов золотых рублей и милЛионом верных ассасинов?[49] Что ответить человеку, представляющему четырёхсотмиллионную Империю с сильнейшей в мире армией, не склонную останавливаться ни перед чем?
— Наконец я слышу слова мужа. Не будем брать близких примеров, Пятигорска или Варшавы. Ещё полтораста лет назад генерал Кауфман отрядом в тысячу триста малограмотных, едва освобождённых из крепостного права крестьян взял Ташкент, окружённый высокими стенами и обороняемый гарнизоном в пятьдесят тысяч человек, настоящих моджахедов, как сейчас выражаются… Верных Аллаху, молившихся пять раз в день, вооружённых английскими винтовками. Разве им это помогло? Вы меня очень простите, Ибрагим Рифатович, но суть нашей встречи я улавливаю так: вам захотелось показать — не совсем точно представляю, кому именно — лондонской «Системе», лучшим людям вашего «Интернационала» или «Орби эт урби»[50] сразу, что вы теперь не абы кто, а клеврет[51], или даже равноправный партнёр Императора. С соответствующими выводами для всех заинтересованных лиц. Я ничего не имею против, сам любитель всяких забав, но ведь и предупреждать нужно, заранее. Я бы вам изящно подыграл…
— Короче, Игорь Викторович, вы от меня требуете полной капитуляции? — ответил Катранджи, как бы и не заметив намёка.
— Какая капитуляция? — искренне удивился Чекменёв. — У вас в аттестате по русской истории — «двенадцать», по всеобщей — «одиннадцать».
По философии — тоже «двенадцать»[52]. Симбиоз я вам предлагаю, хотя ехали вы сюда с несколько другими целями. Так не выйдет. На вашей половине мира вольны делать всё, что хотите, а уж на нашей — исключительно по моим правилам. Можете выйти отсюда полноправным «другом» нашего Императора, «возлюбленным братом», как он предпочитает выражаться в свойственной ему романтической манере, а можете не выйти вовсе: выйдет другой человек, ничем от вас не отличимый внешне, но с иной мотивацией…
Лицо Чекменёва выражало искреннюю любезность, но и сочувствие тоже.
— Двойника подготовили? Не получится. Слишком много деталей не сумеете учесть…
— Какие глупости. Зачем двойники? Вы перестанете быть собой нынешним, и только. Помните встречу на Мальте с профессором Маштаковым? Так то лишь штришок. Стоит мне захотеть, и вы поймёте…
Катранджи немедленно понял. Совсем ничего не изменилось вокруг, та же Одесса за окнами, тот же кабинет, и закуски на столе, и Игорь Викторович напротив. Он всё видел и помнил, что было, что есть, что происходит. Ни гипноза, ни наркоза, ни анаши с кокаином.
При этом частью сознания вдруг ощутил себя действительным статским советником по министерству иностранных дел, каким мог бы сейчас быть, сразу после университета согласившись принять российское подданство и поступить в специальные классы Генерального штаба по восточному направлению. Потом всё равно было бы то же самое — бизнес, сомнительные экономические и политические негоции по всему миру, неограниченная власть, рискованные, но столь пленительные акции, сделавшие его тем, кем он является сейчас. Только всё это — в рамках сверхзадачи, поставленной перед ним Империей. И где-то там, далеко на севере — редко посещаемый кабинет с окнами на Дворцовую площадь, или Красную, в шкафу — золотом расшитый мундир с полудюжиной орденов…
— Готов согласиться, — с некоторым усилием ответил Катранджи. — Не знаю, что за методику вы использовали, неизвестный вид гипноза или психотропное вещество в коньяке… Нечестно, конечно. Но даже если вы так меня переориентируете… Зачем? В нынешнем положении мы можем быть полезны друг другу гораздо больше…
— О чём и речь, Ибрагим Рифатович, о чём и речь. Поэтому предыдущую картинку мы снимаем, и переходим к следующей… Кому вы должны были продемонстрировать, что меняете ориентацию и в нынешних обстоятельствах делаете ставку на Россию?
Чекменёв, естественно, не умел оказывать такого психологического воздействия на собеседников, как некоторые его знакомые, зато он умел создавать впечатление подобного умения, и подчас это имело почти аналогичные результаты. Особенно если психолингвистическое давление сопровождалось несколькими яркими фактами, по определению являвшимися личной тайной испытуемого лица.
— Ну, давайте попробуем говорить откровенно, — согласился турок, у которого, как ему показалось, более достойного выхода из ситуации не оставалось. — На самом деле, в определённых кругах моих коллег и советников возникло мнение, что настало время показать кое-кому, что мы решили сменить флаг. Это ведь по большому счёту очевидно. Был момент, когда Россия рассматривалась как слабое звено ТАОС, и выбить его, превратить могучее государство в конгломерат горячих точек, с предельно ослабленным, ни на что не годным правительством, казалось задачей не слишком трудной.
— Ошиблись, однако, как последние триста лет ошибались все ваши предшественники. Это пленённому Шамилю, отправленному в ссылку всего лишь в Калугу, простительно было, проехав Ставрополь и Ростов, сказать: «Если бы я знал, что Россия такая большая, я никогда бы с ней не воевал…» А для вас вроде и странно моментами… — мельком заметил Чекменёв.
— В том и беда. Уроки истории впрок не идут. Всё время кажется, что уж на этот раз всё получится, как надо. Ан снова не выходит.
— Беда, — согласился Игорь Викторович. — Вспомните, к примеру, эпоху римских «солдатских императоров». Штук двенадцать, кажется, их за пять лет сменилось. И каждый, забывая о горьком опыте им же убитого предшественника, считал, что уж он-то займёт престол окончательно и надолго… Аналогичную картину мы наблюдаем за последние два века европейской политики. Сколько сил, сколько денег — и всё в трубу. А главное — мало-помалу накапливаются исторические комплексы. Что у вас, что у немцев, что у англичан. Не забивали бы себе голову всякой ерундой, жили бы поживали, в ус не дули. Был у вас один умный человек — Кемаль Ататюрк, так и его не послушались. А могли бы мы с вами с самого семнадцатого века как-то договориться к взаимной пользе и жить как люди. По крайней мере, вы, турки, потеряли бы намного меньше времени, денег и территорий, чем шарахаясь от немцев к англичанам и обратно.
— Зато мы тешились иллюзией, что проводим самостоятельную политику, — с оттенком иронии ответил Ибрагим, как и подобало мыслящему в данный момент по-русски человеку.
— Одним словом, Ибрагим-бей, давайте подводить итоги, мы ведь не на семинаре по геополитике, — предложил Чекменёв, потребовав у официанта кофе и ликёров. — Вашим друзьям, от которых вы в той или иной мере до сих пор зависите… — он резким движением отсёк протестующий жест Катранджи, — не тешьте себя очередными иллюзиями, не существует людей, не зависящих вообще ни от кого, я тоже отношусь к их числу, — скорее всего, потребовалось напугать своих контрагентов, дать им понять, что надежда, опора и финансовый столп «Чёрного интернационала» не прочь начать раскладывать яйца по разным корзинам. Поэтому вам порекомендовали встретиться со мной таким вот именно образом. Чтобы те, кому следует, это увидели и стали несколько сговорчивее в делах, о которых я пока не имею никакого представления. Но узнаю непременно, — обнадёжил Чекменёв собеседника. — «Хантер-клуб» — инвариантная на протяжении вот уже второго века структура, достаточно давно находится под нашим плотным контролем. Те, кто узнает о наших с вами контактах, станут гораздо внимательнее относиться и к вашим мнениям, и к моему. А главное — получат рычаг давления на кого-то третьего. Это не выходит за пределы ваших представлений о «реалполитйк»?
— Восхищён, Искренне восхищён, Игорь Викторович. Вам бы самодержцем стать, вместо Олега Константиновича… — сказано было почти без заискивания, от души. Тоже почти.
— Ни к чему. Скучное и бестолковое занятие. То же самое, что прерывать преферанс на мытьё посуды, посадку картошки и приготовление уроков с Детьми.
— Жена и скатерть — главные враги преферанса, — блеснул одной из почерпнутых в питерском общежитии максим[53] Ибрагим.
— Само собой. О! Смотрите! — Чекменёв вскочил и взмахом руки указал за окно, где на рейде в столбе буро-зелёной, поднятой с близкого дна воды разлеталась в небе кусками разного размера яхта Катранджи. — А в запасе — ход конём по голове. Уж это — явно не наша работа…
А сам подумал: «Накаркал, чёрт возьми. Ведь просто так сказал насчёт неприятных случайностей. И — на тебе! Или всё же вертелся в подкорке такой вариант?»
Грохот взрыва докатился несколько позже, как и положено по причине разницы в скорости света и звука.
Лицо турка мгновенно посерело и стало жалким и старым. Лет на десять от реального возраста. Так он сильно испугался? Или — это было другое чувство, но всё равно весьма негативное.
— Если это заложенная заранее мина — вам сильно повезло, — меланхолично отметил Чекменёв, почти силой всунув в руку Катранджи рюмку. — Часовой механизм слегка припоздал. А если торпеда с миниатюрной подводной лодки и работа боевых пловцов — нас ждёт продолжение…
— Это — точно не вы? — поперхнувшись коньяком, спросил Ибрагим.
— Я же сказал, коллега, — нет. Столь грязно мы не работаем, — машинально поправив ногтем мизинца ус, ответил Игорь Викторович. — Что вам должно быть давно известно.
Снаружи вдруг зачастили выстрелы, винтовочные и автоматные. С первого этажа ответили штурмовые пистолеты-пулемёты охраны.
— …Более того, — тем же спокойным голосом закончил фразу Чекменёв, — я считаю, что у нас с вами есть около трёх минут, чтобы без суеты покинуть это гостеприимное местечко и углубиться в земные недра…
— Это вы о чём?
Ответить генерал не успел. Он выхватил из-под ремня пистолет, за ним этот жест повторил Катранджи, только в отличие от мощного генеральского «воеводина» у него в руке оказалась несерьёзная в настоящем бою, но богато инкрустированная испанская «астра». Правда, неизвестно, в каких целях он собирался её использовать.
Дверь распахнулась, на пороге появился Уваров с автоматом наперевес.
— Игорь Викторович, атака идёт с двух направлений. Вдоль бульвара, из окон и с крыш домов напротив.
— Подумаешь, испугал, — криво усмехнулся Чекменёв. — Гранатомёта в запасе не имеется?
Уваров развёл руками.
— У тебя здесь сколько людей ?
— В здании десять. Держать оборону на этаже хватит. Столько же снаружи. Будут связывать маневр противника, отсекать подходы. Пока войсковые части не подскочат…
— Или — наоборот, — бросил генерал. — Предлагаю пробиваться в катакомбы. Там мы по-любому будем в выигрыше…
Снова вспыхнула стрельба. Отчаянно, заполошно, и гораздо ближе. В соседнем зале, за стеклом, уже начиналась паника.
«Слишком рано, — профессионально подумал генерал. — Несколько выстрелов вдалеке — ещё не повод. Большинство на них бы и внимания не обратило. Значит — всё из одной цепи…»
— Троих — вниз, пусть вход держат. Остальным — расчистить путь в катакомбы. У меня план вот здесь, — он коснулся лба. — Прорвёмся… Любой, тебе лично не знакомый — враг. Из этого и исходи. Ясно?
— Мне ясно, — подкинул на руке «ППС» со сдвоенным магазином Уваров. — Только и вы, Игорь Викторович, что бы ни случилось, не стреляйте в женщин, имеющих бело-сине-красные отметки. В любых сочетаниях. Шарфики, розетки, платочки. Что бы они ни делали… Они — наши.
Не тот был случай, чтобы спорить или требовать объяснений. Чекменёву хватило впечатлений о способностях Уварова во время боёв за Берендеевку и потом, при зачистке Москвы.
— Договорились, работай, полковник, после разбираться будем. Я в твоём распоряжении, пока не передумаю…
На улицах гремела уже не автоматная, а пулемётная стрельба. Массированная, батальонного уровня.
«Значит, не только в нас дело, — мелькнула мысль. — Новый Пятигорск? Зачем? Даже на сутки такой город не удержать. Любыми силами. Если только не весь округ в мятеже участвует. Но этого быть просто не может. Значит, есть локальная цель, оправдывающая любые средства. И адекватные задаче возможности. А мы опять всё промухали. Ну, подождите, дайте только выбраться… Но мы с Ибрагимом им нужны живыми в любом случае.
— Сюда идите, — подтолкнул Чекменёва к двери, выводящей на винтовую лестницу Уваров. — Там вас никак не достанут… Пока дорогу расчистим.
Несколько выпущенных из противоположного дома снайперских пуль пробили, но не раскололи стёкла выходящих на бульвар окон.
— А это что, полковник? Так вы обеспечили? — холодно спросил Чекменёв, прячась за выступом стены и стряхивая со щеки хрустальные крошки.
— Идите, идите, потом обсуждать будем… — Чекменёву показалось, что сейчас Уваров толкнёт или даже ударит его прикладом, чтобы под ногами не путался. Чего скрывать, генерал поступил бы так же.
А вот и новый поворот сюжета! На секунду только их отвлекли снайперские выстрелы, и тут же с грохотом вылетело зеркало, отделявшее кабинет от общего зала.
Сидевший в углу господин средних лет в серой визитке и полосатых брюках выдернул из-под скатерти автомат «томпсон» с круглым диском на сто патронов, явно заранее там пристроенный. Он наверняка знал и о наличии за стеклом секретного кабинета, и о том, кто там находится. Потому и выпустил длиннейшую очередь с превышением, чтобы никого не убить, а просто прижать к полу. На несколько секунд, больше и не нужно.
Тяжёлые пули сорок пятого калибра вспороли штофную обивку стен и обрушили наружу фасадное окно.
— Всем лечь на пол, не шевелиться! — заорал автоматчик. Бросился к проёму, успел дать ещё одну очередь по люстре.
Тут блеснул талантом Катранджи. Навскидку с пятнадцати шагов он первым же выстрелом вогнал астровскую пульку ровно между глаз стрелка. Дзен-буддизм, однако.
Тут же начал стрелять короткими очередями Уваров в напарников убитого, только ещё начавших поднимать, как в замедленном кино, складные десантные «МП».
Похоже, их было всего трое, потому что остальные посетители ринулись к выходу из ставшего вмиг неуютным и смертельно опасным зала, явно не думая ни ° чём, кроме спасения.
Только за крайним у двери столиком продолжали сидеть, как ни в чём не бывало, четыре девушки, правда, перестали есть своё мороженое из серебряных вазочек и синхронно развернулись, две к входной двери, две — к зеркалу, внезапно превратившемуся в огромное, почти от пола до потолка, окно.
— Свои, — крикнул Уваров, да Чекменёв и сам уже увидел знаки различия. У одной волосы перехвачены трёхцветной ленточкой, у другой — красно– белый бант на плечике декольтированного голубого платья. Где что у остальных — отсюда не видно.
— Давайте за ними, под шумок вас выведут, доставят, куда требуется, а мы чуть постреляем ещё, и в катакомбы, — крикнул Уваров и резко толкнул ближе к нему стоявшего Ибрагима в сторону девушек.
Очевидно, и такой вариант предусматривался, потому что никакой команды не потребовалось. Та, что в синем платье, схватила Катранджи за руку и потащила за собой.
— За ними, генерал, бегом! — ещё раз крикнул Уваров. — Последний шанс, верняк…
Подполковник верно рассчитал: в куче охваченных паникой людей гораздо надёжнее выбраться «на оперативный простор», нежели с боем прорываться через подвалы к подземельям, где прячется неизвестно сколько врагов. Может, и сотни, если катакомбы планируется использовать, как внутренние операционные линии. Вроде варшавской канализации, только не в пример комфортабельнее: чисто, сухо, дерьмом не воняет, и с многими выходами за городскую черту.
В этот момент из-под дальнего столика тявкнула совсем короткая очередь автоматического пистолета с глушителем. Один из недобитых очнулся и решил продолжить бой.
Зомбированный, принявший перед делом что-то вроде фенамина, или идейный до потери самосохранения — теперь уже не узнаешь. «ППС» Уварова ответил, тоже коротко и уже окончательно. Ещё через секунду в кармане убитого рванула граната. Редкий случай — пуля попала точно во взрыватель, от прострела пулей нормальный тротил не детонирует. Или террорист сам перед смертью сдёрнул кольцо.
Зал затянуло дымом и пылью штукатурки. Чекменёв, матерясь, присел. Осколок его достал! И крайне неудачно, по кости под коленом. Больно, чёрт!
А где же Катранджи? В зале ни его, ни девчонок.
Уваров обматывал ногу генерала большой льняной салфеткой.
— Ибрагим, мать его, где? — чересчур громко крикнул Чекменёв. От близкого взрыва сильно звенело в ушах.
— Хрен бы с ним. Девки вытащат. Знают, куда и как… Самим прорываться надо. Идти можете?
— Дойду. Вояки, так и растак, перевязочного пакета, и того нет…
Валерий пожал плечами. Упрёк касается их обоих в равной мере, только ещё и на эту тему препираться — не самое подходящее время.
— Сейчас всё будет.
— Давай, пошли. Но если ещё и Ибрагима потеряем…
Уварову было наплевать на турка с самой высокой колокольни. Не велено соваться в геополитику, так он и не сунется. Его задача — генерала живым вытащить.
Внизу суматошно, перебивая друг друга, замолотили до десятка автоматов, глухо хлопнули несколько гранат.
В дверь заглянул парень с длинной ссадиной поперёк щеки, с явно трофейным «МП» в руке. На вооружении группы их не было. За ремень летних брюк засунуто несколько магазинов.
— Пошли, командир, проход чистый…
— Давай. Я вперед, ты генералу помоги…
Заставляя себя не думать о боли, стреляющей вверх по бедру, Чекменёв довольно бодро, придерживаясь за перила, сбежал по подвальной лестнице. Несколько чужих трупов валялись перед и за массивной, явно позапрошлого века дубовой дверью.
— Всё, дальше чисто, — сказал поддерживающий Чекменёва офицер. — Вы идите, — это уже Уварову, — а я ребят дождусь и — следом.
— Сколько наверху осталось?
— Должно быть шестеро. Живых…
— Понятно. Мы до первого поворота дойдём, там вас ждать будем…
— Лучше сразу ко второму запасному выходу, Валерий Павлович. А мы догоним. Не впервой. Надо ещё всех, кто «за фронтом» остался, на базу отправить. Здесь ловить больше нечего…
Придерживая локтем автомат, парень, фамилии которого Чекменёв не знал (успел отключиться от оперативной работы, раньше каждого и в лицо знал, и по всем анкетным данным), извлёк из одного кармана перевязочный пакет и оранжевую коробочку со шприц-тюбиками, из другого — сигаретную пачку переговорного устройства.
«Запасливый, — подумал генерал, — не то что командиры».
— Держите, а я пошёл…
Чекменёв спрятал пистолет, подобрал со ступенек один из валявшихся там автоматов, у двух трупов забрал магазинные подсумки, подвешенные под пиджаками.
— Мы тоже пошли. Возвращайтесь живыми… — А что ещё скажешь? Родина вас не забудет?
— Будет исполнено, — кивнул «печенег». — Только вы ещё и фонарики возьмите. — Он подал откатившийся в сторону мощный фонарь в стальном корпусе. Тоже чужой, аккумуляторный. Если полностью заряжен, часов на шесть непрерывной работы хватит.
— У меня свой есть, — сказал Уваров, — но этот тоже пригодится… На связь со мной выйдешь минут через пятнадцать. Дальше — по обстановке.
«Всё правильно, — отметил Чекменёв. — За пятнадцать минут всё должно проясниться. В любую сторону.
Отошли метров на сто, миновали две боковые штольни, помеченные неизвестными офицерам значками. На всякий случай Валерий тщательно затёр нанесённые восковым мелком закорючки пылью с пола. В третью свернули.
— Давайте начинать лечиться, Игорь Викторович, — предложил Уваров. Для начала дал генералу хорошенько глотнуть из фляжки весьма качественного виски, сам приложился.
— За упокой души рабов божьих. Когда сами выберемся, узнаем, кто и как. Тогда и помянем…
— Да может, ещё все и живые, — возразил Чекменёв. — Не хорони раньше смерти…
— Тоже правильно. Что тут с вашей ногой?
Чтобы не прислушиваться к пульсирующей боли, генерал говорил без остановки. Больше его сейчас волновала возможная судьба Катранджи: ведь если убьют турка, или в плен попадёт неизвестно к кому, бо-ольшая игра сорвётся. А неприятностей будет — не приведи господь!
— Что это за девушки, почему не знаю? — не Удержался от лишнего, в общем-то, вопроса генерал. Какое ему сейчас дело, к какому подразделению относятся люди, выполняющие свою часть общей задачи.
— Надёжные девушки. Ляхов прислал, — коротко бросил Уваров, — ручается с гарантией. Подготовка — великолепная. Не наша, правда…
Он закончил бинтовать, воткнул в бедро Чекменёва первый тюбик, потом второй. Универсальный антибиотик и обезболивающий стимулятор. Часа три генерал сможет шагать, как новенький. А там пусть хирурги разбираются. Главное, кость в основном цела, только надкостница повреждена, насколько понимал в военной травматологии подполковник.
— Так что если хоть одна уцелеет, Ибрагима она на секретную точку доставит в лучшем виде…
— Не наша, говоришь? Опять из войска Берестина?
— Не похоже. Другой типаж, другой стиль. Мне разбираться некогда было. Старший начальник представил «новых сотрудниц», я наскоро проверил, на что годятся. На многое, ох, на многое… — Валерий то ли сокрушённо, то ли восхищённо покрутил головой. — Служат в седьмом «Печенеге», командиром характеризуются блестяще. Если они не справятся — никто не справится…
— Твои бы слова, да богу в уши. Так что, пошли?
Ибрагим не успевал осознавать, что с ним происходит. Он в своём положении давно отвык от непосредственного участия в «острых акциях», тем более в качестве даже не руководителя, а простого статиста.
Из зала они выбежали последними. Девушки действовали, как опытные телохранительницы. Две тащили его за руки, третья зигзагом перемещалась на три шага впереди, чётко фиксируя окружающую обстановку. Четвёртая вообще куда-то исчезла.
— Спрячь пистолет, — резко приказала та, что держала Катранджи за правый локоть.
Турок молча повиновался. Ничего другого ему не оставалось. Только полностью довериться Чекменёву и его сотрудницам. Генерал прав — и убить, и захватить в плен его могли бы давно и без всякого шума. Значит, действительно обстановка начала развиваться непредвиденным даже для московской контрразведки образом. И сейчас нужно использовать шанс. Но где сам генерал? Они должны были бежать вместе. Неужели прогремевший за спиной взрыв вывел его из строя? Окончательно или настолько, что Игорь Викторович потерял возможность активно передвигаться. Ладно, для Ибрагима сейчас это неважно. Главное — самому выбраться…
Толпа гостей ресторана, постояльцев, снимавших номера кто посуточно, а кто и на пару часов, а также официантов, горничных и прочей обслуги с подобающими панике в обозе криками и нерассуждающей волей к жизни, катилась по лестницам и коридорам к единственному выходу. Вовсе не задумываясь, что как раз на улице — стреляют, неизвестно кто и в кого, но часто. Внутри же дома с толстыми стенами и множеством всяких помещений можно попробовать спрятаться и отсидеться, хотя бы до прояснения обстановки. Так на то и паника…
Внизу, уже непосредственно в вестибюле, часто загремели выстрелы, одиночные и очередями. Поток людей на парадной лестнице забурлил, те, кто оказались внизу, сделали попытку остановиться и ринуться вспять. Прочие тупо валили в прежнем направлении. Кто-то впереди упал, и тут же вступил в действие принцип домино. Женский визг, вопли и ругань достигли невероятной силы.
Наверное, и нападавшие поняли, что перестарались: людской водоворот в вестибюле и на лестнице не остановить никакими силами, и не пробиться против потока обезумевшей толпы, хоть всю её перестреляй.
Девушки, продолжая прикрывать свой объект, успели проскочить верхнюю гостиную между лестницей и ресторанным залом, оказались в узком коридорчике с несколькими дверьми совсем не парадного вида.
Одна из дверей была открыта, на пороге стояла четвёртая телохранительница с поднятым у правого плеча стволом вверх пистолетом-пулемётом угловатых очертаний.
— Все? Забегай!
Замок за спиной щёлкнул, и Катранджи сделал попытку мобилизоваться и начать мыслить чётко и безошибочно, как умел это делать всю жизнь. Главная опасность миновала. Он жив, такие безобразия в центре города в ближайшие минуты соберут у ресторана все наличные силы правопорядка. А там пусть Чекменёв разбирается…
«Если он тоже жив, — тут же подумал Ибрагим. — Если нет — всё может значительно осложниться».
А куда подевались его охранники, которым он платил сумасшедшие деньги?
«Лейла» погибла, это он видел своими глазами, и на ней — несколько очень нужных людей. Его заверяли, что на берегу у него будет достаточное и вполне надёжное прикрытие. И что? Предательство? Их обоих предали: и его, и Чекменёва. И где же главное паучье гнездо? Но это он скоро вычислит, очень скоро. И как же упоительно страшна будет его месть!
Катранджи умел думать в нескольких направлениях сразу, и с невероятной для среднего человека скоростью. Причём мысли почти мгновенно облекались в безупречные решения. Что, собственно, и сделало его тем, кто он есть. А нынешний инцидент — так, не более чем эпизод.
Кстати, не зря ли он грешит на охрану, ничего толком не зная? Может быть, именно благодаря своевременным и отважным действиям его и чекменёвских людей злоумышленникам и не удался их план. На самом деле то, что творится сейчас в ресторане и на улице — абсолютный провал тайной операции. Если только её целью не было именно то, что происходит…
— Бегом, бегом, — командовала девушка с автоматом. — Работаем…
Она явно отличалась от остальных. Одета в брюки и куртку ярко-голубого цвета с большой круглой нашивкой на левом рукаве «Охранное предприятие «Каштан» — и двумя золотыми, неизвестно что обозначающими шевронами на правом. Короткая, почти мужская причёска, глаза и губы не накрашены, но и без этого она просто чертовски хороша. Ей бы не в охране работать, а на сцене этого же ресторана петь, в соответствующем наряде, и всякие соблазнительные трюки проделывать. В свой гарем Ибрагим взял бы её без малейших колебаний, в высоком ранге.
Трое других, впрочем, не хуже. Та, что подпирает спиной дверь, в синем коротком и сильно открытом сверху платье — брюнетка с лёгким семитским (но не обязательно таковым) оттенком наружности, что в Одессе неудивительно, красива вызывающе и Даже вульгарно, скорее всего — обслуживает любителей такого сорта женщин, но — весьма состоятельных. Остальные девушки вполне приличные, одеждой, и всем обликом — студентки, скорее всего, или секретарши из хороших фирм.
Катранджи отметил, что Чекменёв умеет подбирать сотрудниц. Впрочем, в России совсем нетрудно найти нужное количество красавиц, одновременно пригодных к службе в разведке и контрразведке.
Он уже совсем успокоился. Всё складывается не так уж плохо. Помещение, где они находились, больше всего напоминало комнату для обслуживающего персонала. Несколько платяных шкафчиков вдоль стен, старый кожаный диван, отслуживший своё в более почтенных местах, два стола, несколько стульев, полка для чайной посуды, холодильный шкаф в углу, раковина умывальника, зеркало с жёлтыми пятнами облупившейся амальгамы.
Девушки принялись за работу.
— Садитесь, господин, — указала на стул та, что была в обтягивающем сером костюме и с длинными разрезами на юбке. Катранджи невольно залюбовался её ногами.
Из сумочки она извлекла нечто похожее на футляр маникюрного набора, только в два раза больше и толще.
— Спокойно, не разговариваем и не дёргаемся, — предупредила она. Перед глазами Ибрагима блеснуло лезвие опасной бритвы.
«Сейчас по горлу — и конец, — отстранённо и совершенно нелогично подумал он. Близость острого металла к жизненно важным местам нервировала его с детских лет.
Девушка с автоматом, прижавшись боком к стене, выглядывала через узкое, наполовину закрашенное белой краской окно во внутренний двор. Там было тихо. Выстрелы глухо доносились только с бульвара. Катранджи машинально принялся их считать, одновременно определяя типы оружия и возможное расположение стрелков. Выходило, что в здание никто не ворвался, и, значит, чужая операция полностью провалилась. Если только бой не переместился в катакомбы, о которых говорил Чекменёв. Но это — не его забота. И что такое здешние катакомбы, он представлял смутно.
Телохранительница мазнула ему по лицу пеной и несколькими взмахами сбрила щегольские усы и модную в этом сезоне бородку скобкой.
«Снявши голову, по волосам не плачут», — к случаю вспомнил турок русскую поговорку. Потрудившись несколько дольше, девушка обрила ему и голову.
— Так, дядя Изя, — сказала она, осмотрев результат своей работы. — Сойдёт, я думаю…
Ибрагим попытался привстать, чтобы посмотреть в зеркале, что там получилось.
— Минуточку. — Сила в пальцах, сжавших его плечо, была такая, что Катранджи едва не охнул. Что же это за девка такая ?
— Извините, не рассчитала, — тут же ответила та. — Только времени у нас в обрез…
Она натёрла всё его лицо, кроме глаз и лба, какой-то остро пахнущей жирной пастой.
— Ждём пять минут. А пока…
Из той же сумки достала свёрточек, и Ибрагим почувствовал, что на непривычно гладкую кожу головы плотно садится парик.
Девчонка, длинным тонким ножом вскрывавшая замки шкафчиков, мельком глянула в их сторону и фыркнула. Видать, новый облик клиента её позабавил.
— Вот это нам подойдёт. — Она встряхнула довольно нелепым на вид пиджаком в чёрно-бордовую клетку. — Да и брючата в самый раз. Переодевайтесь, мсье, мы отвернёмся.
Через пять минут, когда лицо ему вытерли влажной салфеткой, Катранджи получил возможность посмотреться в зеркало.
Да, персонаж…
Возраст между сорока и шестьюдесятью, голову покрывают медно-рыжие с проседью волосы, оставляя лоб едва в три пальца. Среди двухдневной неопрятной щетины, тоже серо-рыжеватой, нос и губы, раньше казавшиеся вполне приличными, выглядели совершенно по-еврейски. Причём — шаржевоеврейски, словно у персонажа из ближневосточных антисемитских журнальчиков.
Костюм на размер больше сидел мешковато и выглядел так, будто его шили без примерки три разных портных. Явно не на Елисейских Полях.
— Что за… — хотел он выругаться, как научился в общежитии, но сдержался. Всё он на самом деле понимает: маскировка высший класс, и всего за пятнадцать минут, без подготовки, на незнакомом объекте.
— Извините, дядя Изя, при вашей фактуре быстрее и иначе не получилось бы. Но вы не переживайте. На такого типа спецслужбы охотится точно не будут. Разве только городовых вы заинтересуете. Но уж тут как-нибудь выкрутимся. Секундочку… Замрите. — Девушка блеснула ему в глаза вспышкой маленького плоского аппарата и через несколько секунд извлекла из него готовый снимок нужного формата. Передала его соседке, и та одним движением вклеила фотокарточку в паспорт, пришлёпнула печать.
— Готово. Вот ваш документ. А настоящий подальше спрячьте, а лучше — мне отдайте. Целее будет. И пистолет, и большую часть денег…
Удивительно, но всё требуемое он протянул девушке без всяких возражений, хотя понимал, что полностью отдаёт себя в чужие руки.
Пхе, как будто он сейчас обладает какой-то свободой. Одним словом, роман Марка Твена «Принц и нищий».
— Вот только наличных денег у меня маловато. Не рассчитывал… И почему, наконец, дядя Изя?
— Сколько у вас там? Полторы тысячи? Конечно, оставьте у себя. Мужчина без денег — это самец… — Командирша явно развлекалась, пользуясь своим доминирующим положением над человеком, к которому раньше её бы и на сотню метров не подпустили. Без специального Ибрагима повеления. Вот тогда пришлось бы ей делать, что господин прикажет…
Или — нет. Как бы не наоборот, — самокритично подумал он. Слишком много в глазах силы и характера. И где же всё-таки Чекменёв их набирает?
— Дядя Изя — потому что Исаак Борисович Финкельман. Такой документ под руку подвернулся. Вы приехали в гости вот к ней, — она указала на девушку в синем платье. — Но настолько сейчас пьяны, что передвигаться можете, а говорить и соображать — с большим трудом. Держите…
Она протянула полупустую бутылку хорошего коньяка, на бегу незаметно прихваченного с одного из столиков. И это предусмотрела!
— Сполосните как следует во рту, на пиджак брызните. Можете глотнуть пару раз, для смелости и убедительности. Остальное спрячьте в карман. Дальше так: Кристина, — она указала на девушку в синем платье, — доставит вас на совершенно безопасную квартиру. Всё будет в порядке, если сами глупостей не сделаете. Мы — в прикрытии. На нас не оглядывайтесь, вообще забудьте, что мы существуем. Для общей пользы. Ну, пошли.
— А вас-то как зовут? — запоздало спросил Катранджи, чувствуя, что уже попал под жёсткое обаяние внешне вполне заурядной девушки. В том смысле «заурядной», что принадлежала она по всем параметрам, кроме красоты лица, к низшим слоям общества. По крайней мере, в этом наряде.
— Анастасия. Этого достаточно. Нам с вами в ближайшее время беседовать едва ли придётся…
Повинуясь её жесту, две другие телохранительницы выскользнули из комнаты. Ибрагим с Кристиной помедлили несколько минут. Выстрелы практически прекратились. Значит, сейчас самое время. Внутри здания бой вести некому, на улице силы правопорядка ещё не появились. Очень может быть, тоже выжидают. Особой команды или — чем дело кончится.
— Наша очередь, — сказал Кристина. — Настя следом пойдёт.
Оставшись одна, Анастасия быстро уничтожила все следы своего здесь пребывания, одежду турка спрятала в наплечную сумку, под неё — автомат. За несколько секунд переоделась в недорогой бежевый брючный костюм.
Из нагрудного кармана извлекла переговорник.
Ответил ей Уваров.
Настя в немногих словах доложила о своих действиях и планах.
— Молодцы. Продолжайте. Свяжемся, когда на точку придёте.
— А вы как? — не сдержалась она, хотя в данном положении вопрос был лишним. Не по уставу и вне субординации.
— Нормально. Идём катакомбами на свою позицию. Удачи тебе…
Он сказал — «тебе», а не «вам», и это по-особому её тронуло. Ей реально не было и двадцати человеческих лет, хотя по документам — уже двадцать три. Вдобавок — заставляло чувствовать себя старше и мужественнее звание подпоручика отряда «Печенег-7», того самого, который сформировали Ляхов с Тархановым при участии Уварова, исходя из собственных соображений и целей.
Кристина, держа на отлёте довольно большой, но плоский пистолет незнакомой турку модели, вела его вниз по узкой, грязной, железной лестнице, проложенной внутри кирпичной выгородки, рядом с шахтой мусоропровода. Пованивало здесь мерзостно, и Ибрагим всё время боялся ступить ногой в какую-нибудь гадость. Он был очень брезглив. А девушка, будто намолчавшись раньше, говорила почти непрерывно, тихо и даже ласково, на шаг опережая мысль Катранджи:
— Вы, дядя, на улицах только не дёргайтесь. Любая ошибка стоит жизни. Не моей, вашей… Одесу вы не знаете, и знать вам её не нужно. Мы идём к моей тёте, то есть вашей сестре, Розалии Борисовне, на улице генерала Бредова, дом сто пятьдесят шесть, это в самом конце Молдаванки, напротив Второго еврейского кладбища. На идише говорите?
— Понимаю всё, говорю кое-как…
— Правильно говорить вам и по состоянию не положено, — хихикнула Кристина. — Но главное вы поняли?
Ибрагим сейчас готов был понять, что угодно. Жить хотелось до невозможности. Он раньше и подумать не мог, что такое случается. Вот рядом худощавая, стройненькая девушка. Она собралась его спасать. Зачем, почему, за какие деньги? Неужели жизнь стоит любых денег? Для него — да. Он готов отдать пусть и сто миллионов, чтобы его спасли. А она? За офицерское жалованье рискует. Что она именно офицер сверхсекретного и сверхэлитного подразделения, а не частная телохранительница, Катранджи не сомневался.
— Кристина, — приостановился Ибрагим, переводя дух перед выходом из подворотни. Хоздвор, уставленный мусорными баками, они уже преодолели без шума. — Если ты меня вытащишь, я заплачу лично тебе десять миллионов. И по три миллиона остальным…
Девушка снова хихикнула, жеманно и одновременно маняще, как и положено подцепившей клиента и начавшей его вываживать «бульварной бабочке».
— Ловлю на слове, дядя. Десять мне и по пять — девочкам. Вот тогда и бросим эту поганую работёнку…
Он не сразу понял, что именно она имеет в виду. Военную службу? Потом сообразил — девушка не хочет расшифровываться. По виду и замашкам она явно промышляет на панели? А почему и нет. Преступный мир Одессы, претендующей на статус «Вольного города», наравне с Данцигом, Триестом или Луандой, настолько многослоен и разветвлён, что проститутка (в ранге эскорт-леди, если по-европейски), вполне может подрабатывать бодигардом, а почтенная мать семейства — наводчицей, или хипесницей, «воровкой на доверии». Знаем, читали.
— Договорились. Слово Ибрагим-бея крепче дамасской стали…
— Но не такое гибкое? — искоса посмотрев на него, спросила Кристина, не прекращая сторожко оглядываться вокруг. Не заметила ничего подозрительного, подняла юбку почти до пояса, отчего у Катранджи пересохло во рту. Трусики на ней были голубые, чулки кружевные и почти прозрачные, «разжигающие воображение». Не обращая внимания на его реакцию, вложила пистолет в петельки на узких ремешках-подвязках.
— Идём вдоль стены, ты за неё придерживайся, старый пьяный осёл. — Это она говорила уже громко, с визгливо-скандальными нотками в голосе. И тут же шёпотом: — Через остановку сядем в трамвай, и всё…
— Может, лучше в такси? — тоже едва шевеля губами, предложил Ибрагим.
— На Молдаванку — не стоит… — ничего больше не объясняя, ответила девушка.
Катранджи мотивированно вертел головой, пытаясь засечь остальных телохранительниц, но — бесполезно. Если даже они и находились поблизости, его квалификации не хватало, чтобы обнаружить сопровождение.
Кристина вела его короткими, застроенными старинными трёх– и пятиэтажными домами переулками, и в них было так тихо и спокойно, что невозможно и представить, будто в нескольких кварталах отсюда только что кипел нешуточный бой.
Что жители попрятались — это неудивительно. Но вот почему в поле зрения ни одного городового ?
— Я тебя втащу в трамвай, но чтоб вёл себя тихо, никаких безобразий. Мне тебя выкупать из полиции нечем и незачем… — продолжала она наставлять дядюшку, так, что на соседей улице было слышно.
Катранджи, два часа назад всесильный владыка полумира, неожиданно понял, что без этой резкой и даже грубой моментами девушки ему трудно будет отмазаться даже от обычного городового, не говоря о настоящих профессионалах. Если уж на него объявлена «большая охота». Сам генерал Чекменёв, правая рука Императора, не веря в помощь армии и жандармерии, сбежал куда-то, пообещав не более чем скорую встречу, если удастся выжить.
Кристина за руку вывела Катранджи к трамвайной остановке, где около десятка мужчин и женщин разного возраста оживлённо обсуждали только что завершившуюся перестрелку на бульваре. Говорили, что весь центр города перекрыт полицией и столько-то трамвайных маршрутов не ходит. Это могло быть правдой, но остальные мнения были совершенно фантастическими. Ближе всего к реальности лежала гипотеза (подаваемая, как принято в Одессе, в виде постулата), о том, что имела место большая разборка между «мальчиками» с Пересыпи и Фонтанов за право поделить Центр с молдаванскими. Дискуссия обещала перейти в нешуточный скандал.
Но, судя по успокоительному кивку Кристины, якобы отменённые маршруты их не касались, и они принялись ждать. Ибрагим придерживался за дерево, а спутница — незаметно, но бдительно осматривала окрестности.
К радости Катранджи, вскоре на остановке появилась ещё одна девушка из их команды, в широкой полосатой юбке и тёмном жакете поверх белого свитерка. Она остановилась поодаль, очевидно, не желая слишком приближаться к страхолюдного вида пьянице.
Наконец подошла полупустая трамвайная сцепка нужного номера, Кристина с Катранджи сели в закрытый моторный вагон, сопровождающая девушка — в открытый прицеп.
Путь им предстоял долгий, по окольным улицам. Никаких подозрительных личностей поблизости не замечалось, пассажиры проезжающих автомобилей тоже обращали на трамвай внимания не больше, чем на любое самодвижущее средство, и Ибрагиму начало казаться, что, пожалуй, и пронесло.
Оторвались они от возможной погони удачно, при попытке их преследования хоть какой-то шум случился бы непременно, да и спутницы его не вели бы себя настолько спокойно. А то вон Кристина даже будто слегка придрёмывать начала.
По мере удаления от центра вагон постепенно наполнялся, скоро в нём уже не осталось свободных мест. Говорили всё о том же, и каждый новый пассажир немедленно включался в обсуждение событий и перебор вариантов и гипотез, даже если услышал о «большом шухере» возле «Потёмкина» впервые, уже здесь.
В каком-то скучном, сплошь застроенном древними лабазами переулке с передней площадки влез шкафообразный мужик в расстёгнутом грязновато-белом подобии капитанского кителя поверх тельняшки и в кожаных сандалетах на босу ногу, странно смотревшихся при синих брюках-клёш. Пьяный почти на уровне «дяди Изи».
Прямо-таки бабелевский типаж, из тех, что «завтракают фунтом сала, бутылкой водки и жменей маслин», мало изменившийся за три четверти века. Впрочем, тут, на Молдаванке и вокруг, жизнь вообще, от архитектуры до психологии обитателей, менялась удивительно неторопливо. По причине отсутствия исторической необходимости.
В родных пределах этот портовый грузчик или такелажник с морзавода чувствовал себя свободно и раскованно.
Здесь его все должны были уважать, то ли по факту поведения, то ли по статусу. Судя по взглядам пассажиров разболтанного трамвая, так и было.
Тяжело выдыхая густой перегар, абориген грубо ухватил Кристину за локоть.
— Освободи-ка лавочку, молодая ещё сидеть, когда люди стоят…
— И помоложе найдутся, — стряхнула его здоровенную лапищу девушка.
Окружающие дружно отвернулись к окнам, будто там было что-то интересное, а не вплотную с вагоном проползающие одноэтажные домики, вросшие в землю. При этом никто не изъявил желания уступить мужику своё место. Здесь такое не принято, за исключением особых случаев.
— Это ты со мной так? — удивился тот и следующим движением ухватил Кристину прямо за грудь. Полуоткрытую и весьма привлекательную.
Ей, в принципе, было безразлично, за какую часть тела её трогают, просто она успела узнать, что каждый из человеческих жестов может означать. Этот был не просто недружелюбным — оскорбительным.
Девушка вскочила, отвела локоть в сторону и ударила хама в солнечное сплетение. Возможно, слегка перестаралась.
Стокилограммовая туша рухнула на пол, одновременно свалив ещё несколько человек. Пытаясь подняться, мужик слепо водил перед собой руками и громко икал, одновременно постанывая. Окружающие, что мужского, что женского пола, предпочли не заметить и этого инцидента. На Молдаванке каждый знает, что делает и как за свой поступок ответит. Несколько человек выпрыгнули из вагона, не дожидаясь остановки, благо скорость позволяла.
Только кондукторша со своего сиденья у задней двери начала пронзительно кричать, что трамвай — не место для разборок. Мебель, мол, поломаете, кто платить будет? Сейчас вот до круга доедем, городового позову…
Катранджи предпочёл до поры не замечать и этого инцидента, подумав, что телохранительница переигрывает. Но, наверное, знает, что делает. Он смотрел в пол, раскачивался в такт движению трамвая, как хасид на молитве, и что-то мычал себе под нос.
Кристина, делая вид, что не смотрит в сторону своего обидчика, при этом фиксируя каждое происходящее вокруг движение и каждое слово, опустилась на своё место, очень удобное: за спиной — дверь, перед глазами весь вагон. На всякий случай презрительно ухмыльнулась, как и следовало по роли.
— Вас как зовут, деточка? — спросила соседка, старушка лет восьмидесяти, если не старше, когда Кристина откинулась на деревянную спинку, одёргивая юбку на коленях.
Та ответила.
— А зачем вам? — спросила с улыбкой и интересом, не стараясь имитировать здешний характерный выговор. Просто с типичным южнорусским акцентом и интонацией.
— Так, просто интересно будет рассказать, как при мне сделали Сёму Грача. Ещё ни один человек в Одесе[54] не то чтобы ударить — слова ему поперёк не решился сказать. И тоже — когда ваша мама станет вас искать, я буду знать, кого она ищет.
Милая такая старушка, а цинизма — на трёх патологоанатомов хватит. Так почему и нет? Если у неё, скажем, пять сыновей, и все воры?
— В Одесе или на Молдаванке? — спросила Кристина, успевшая в процессе подготовки изучить всё, что касалось этого города, за последние двести лет.
— Тебе это совсем уже не важно, — сказала старушка печально. — Ты всё равно не дойдёшь, куда шла…
— Вы доктор, вы знаете? — удивилась Кристина. — Ваш Сёма мне помешает?
— Вся Молдаванка тебе помешает… — прозвучало это довольно зловеще.
Трамвай, визжа колёсами на закруглении, свернул с Ольгиевской на Старопортофранковскую улицу. Говоря попросту — обратной дороги нет! Здесь уже самая что ни на есть Молдаванка, со всеми её плюсами, которых немного, и с минусами, в гораздо большем числе, чем в дневнике самого отпетого двоечника.
— Одному Сёме сдачи мне дать слабо? — съязвила Девушка. — Сейчас, если очухается, пойдёт, позовёт штук пять ребятишек покрепче себя на подмогу?
Старушка поджала губы.
— А этот твой Изя откуда? — решила она сменить тему, пока мрачный, как грозовая туча, Сёма поднимался с пола и проталкивался к средней двери. Какой-то парень заботливо отряхивал его пиджак от прилипшего мусора.
— Да сестру приехал навестить. И мне отчего-то очень кажется, что лучше бы Молдаванке на время переехать куда-то за Лузановку. А то могут быть крупные неприятности…
— Так вы у нас приезжие? — оживилась старушка. — И откуда вы приезжие?
— Дядя Изя — из Израиля, я — из Екатеринослава…
— И как вам у нас ?
— Пока — не очень, — честно ответила Кристина. — Через часик дядя протрезвеет, и если что не по нём — много кому станет плохо. Они там в Израиле не очень-то чикаться привыкли… Жизнь у них суровая. Не ты, так тебя… — Эти слова Кристина тоже произнесла с самой безмятежной улыбкой.
В этот момент старушка вроде бы нечаянно коснулась правого бедра девушки и упёрлась в пристёгнутый пистолет.
— Ой, простите, — отдёрнула она сухую, как у ящерицы, руку.
— Да ничего, — усмехнулась Кристина. — Слева — такой же. И у дяди тоже два. Так что если вы тут в авторитете, намекните Сёме и окружающим, что нам неприятности не нужны. Но если они будут, так уж будут… — прозвучало это многообещающе.
Катранджи привстал на сиденье и, приведя глаза в диаметральную плоскость, утвердительно пробормотал что-то невнятное, но явно по-еврейски. Очень возможно, что на иврите. Образование у Ибрагим-паши было чрезвычайно обширное, пусть и не совсем систематическое. За исключением Петроградского университета. Однако этих пяти-шести слов, с трудом произнесённых, вполне хватило.
Бабка поднялась, обратилась к вагону, словно Катон-старший к римскому Сенату, и пронзительно затараторила что-то на идише. Куда громче и вдохновеннее, чем кондукторша, требующая с народа свои пятаки.
Половина тирады произнесена была на совершенно непонятном жаргоне, воровском или шулерском. Остальное Кристина разобрала тоже с грехом пополам, потому что идиш — всё же не совсем немецкий. Но суть, в общем, сводилась к тому, что вот этот, похожий на босяка — на самом деле большой авторитет с Родины, а девчонка — его помощница.
После чего все, кто понял, опустили глаза долу, а Сёму на ближайшей остановке под руки высадили, но проводить его до дома желающих не нашлось. Даже тот парень, что его отряхивал, отвернулся с безразличным видом.
— Не думайте, что я позаботилась о вас, — сказала старушка. — Меня, кстати, зовут Геня Копелевна. Оно мне нужно, чтобы и в трамвае тоже стрельба? А уже почти и началась, ты не заметила? Сёма всегда при нагане, а тот паренёк, что сидел напротив — так тебе прямо ничего? Чтоб тебе не знать, как он может чего. Он, чтоб мне так жить, и сейчас на тебя смотрит. Внимательно. Подумай о своих будущих детях. Мало, что сейчас на Французском бульваре стреляют, так ещё и здесь?! А что уж у вас будет дальше — не моё дело.
Кристине стало интересно. Она не собиралась задерживаться на Молдаванке, просто возле конечной остановки располагалась конспиративная квартира, адрес перед самым началом заварушки шепнул ей Уваров. А там найдётся машина, чтобы увезти их с Ибрагимом совсем в другое место.
— Так вы думаете, что у меня могут возникнуть неприятности? — намеренно правильным русским языком спросила Кристина. И одновременно вытянула ногу так, что пистолет под тонкой юбкой обрисовался полностью. — Перед тем как потребуется хоронить меня, мамаши полусотни самых смелых и красивых мальчиков с вашей Молдаванки будут рвать друг другу волосы единственно за место поудобнее на Втором еврейском кладбище. Боюсь, и канторы[55] очень неплохо заработают. Вам здесь это нужно? Если нет, передайте, тётя Геня, по всем своим связям, что я и дядя Изя желаем два-три дня просто отдохнуть. Навестить родные могилки. И вечером гулять по улицам спокойно. И в ресторанчике посидеть, и что-нибудь другое тоже. Вы за час управитесь?
Кристина протянула Гене Копелевне красную десятку. Неплохие деньги, при условии, что реальные неприятности грозили всё же местным обитателям, а не случайным гостям этого экзотического анклава.
Они вместе вышли из вагона, и старушка тут же скрылась в ближайшей подворотне длинного трёхэтажного дома с классическим двором, окружённым по периметру сплошными галереями, куда выходили двери и окна множества квартир.
Будь, кстати, Кристина и прикрывавшая её с двадцати метров, идя по противоположной стороне улицы, Герта более склонны к абстрактным размышлениям, могли и задуматься, отчего и зачем здесь сохранён в неприкосновенности порядков, стиля и обычаев такой район? Со всеми его обитателями, их не вполне совпадающими с Уголовным кодексом привычками, манерой носить при себе финки и незарегистрированные пистолеты, пускать их в ход, не задумываясь о правомерности таких действий.
Кому-то именно такой облик (имидж, понятнее выражаясь) был нужен. Для каких целей — отдельный вопрос.
В Москве, к примеру, власти ещё в начале сороковых годов прошлого века за двое суток ликвидировали пресловутый Хитров рынок и вообще все места, где могли бесконтрольно плодиться, процветать и культивировать свой специальный образ жизни анти– и асоциальные элементы. Кого нужно арестовали, кого нужно — административно выслали, с остальными провели профилактику. И всё! Москва стала самым спокойным городом Империи, которую девушка, увешанная бриллиантами, могла в три часа ночи пересечь вдоль и поперёк обоих Колец, ничем не рискуя.
Одно дело, что московская полиция (а, главное, иные службы, её работу предваряющие и обеспечивающие), действовала с искусством и отвагой циркового акробата, так ведь и право любого свободного гражданина носить при себе любое, на его вкус, обеспечивающее личную безопасность оружие почиталось с момента принятия Указа 1923 года не подвергаемым сомнению и священным.
Невероятно остроумным и результативным оказался ход тогдашнего Местоблюстителя Московского княжества. Страна едва-едва выходила из Смуты, на руках населения находилось более десяти миллионов только винтовок, не считая пистолетов, револьверов и всего прочего.
Изъять — технически невозможно. Выкупить — не на что. А вот легализовать — просто и гениально придумал тогдашний князь Кирилл, при отчаянном сопротивлении вроде бы куда более компетентного (военного) крыла Думы.
— Господа! — провозгласил с высокой трибуны только что утверждённый и по замыслу долженствующий вести себя тише воды, ниже травы (или — наоборот, в чём биологической логики даже больше), Местоблюститель. — Неужели вы так быстро забыли то, чему вас учили в гимназии или где-нибудь ещё? Средневековье — вершина, на мой взгляд, человеческого самостояния! Тогда оружие было главным достоянием, более того — единственным признаком свободного человека, отличающим его от смерда, серва, крепостного. Мы все знаем, что в каждой деревне каждый вернувшийся с войны мужчина старше пятнадцати лет владеет наганом, винтовкой, пулемётом. Другое дело, как он им распорядится. Среди вас немало бывших помещиков, «трудовиков», просто мыслящих людей. Пусть любой мой оппонент выйдет на трибуну вслед за мной и скажет — если бандитствующие элементы на селе попытаются осуществлять свои «программы» — разве не ответит им достойным образом вооружённый фронтовик, вернувшийся домой, чтобы возрождать своё хозяйство, растить детей, жить и богатеть? Конечно, ответит, если имеет оружие. И ему на поддержку немедленно явятся государственные, гораздо лучше оснащённые службы.
Великий князь сделал глоток воды из положенного оратору стакана, поправил усы.
Спросил, теперь уже провокационно-ехидно, поскольку уловил, что зал слушает его очень внимательно:
— А в городе? Разве не то ли в городе? Сегодня вы разъедетесь по домам в казённом транспорте и под казённой охраной, которой так боятся наши коллеги социал-демократы. Забывая о том, что единственной защитой демократии является хорошая полиция…
Кирилл спокойно переждал возмущённые крики с левой стороны амфитеатра Таврического дворца и продолжил:
— В итоге, господа депутаты, мы почти безболезненно решим проблему вооружённых асоциальных элементов, и через положенное время, совершенно в стиле учения Дарвина, получим ответ и на сопутствующие вопросы. Не так ли, Лавр Георгиевич? — простёр он руку в сторону сидевшего в кресле председательствующего генерала Корнилова, героя войны и лидера крайне правых.
Генерал встал, как бы с неохотой.
Его сухощавое, с узковатыми азиатскими глазами лицо выражало неизменное спокойствие, с которым он сначала руководил всеми вооружёнными силами России на посту Верховного главнокомандующего, а потом вёл первопоходников через ледяные степи Дона и Кубани.
Поправил у воротника чуть сдвинувшийся с места орден Святого Георгия 2-й степени:
— Господа! Наступил момент, первый за три последних заседания Думы, когда я полностью согласен с докладчиком. Оружие несомненно следует оставить в руках населения (слова «народ» он предпочёл не Употреблять). Люди разумны и здравомыслящи. Напрасно стрелять они не будут…
При этом Корнилов довольно странно усмехнулся.
— Мы с вами получим хорошую страну. Меня три года проклинали за предложение ввести смертную казнь на фронте за воинские и тяжёлые уголовные преступления. Не прошло, Слава богу, — генерал широко перекрестился, — одним грехом на душе меньше. Мне, как старому солдату, известно — нормальный, умный, пусть и совсем неграмотный человек никогда не употребит имеющееся в его руках оружие во зло! Все, кто служил, — это знают. И всегда использует его на пользу Веры, Царя, Отечества, а одновременно своей семьи, своего хутора!
За последствия, могущие проистечь вследствие того, что наши коллеги, — генерал широким жестом указал на ряды социал-демократических фракций — безответственно призывали превратить войну «империалистическую» в войну «гражданскую» и оставили массу оружия в распоряжении не умеющих отвечать даже за сопли в своей ноздре люмпенов (аплодисменты в правой части зала, свист и топот в левой) — я не отвечаю. Хватит того, что мы для вас сделали на фронте.
Лицо Корнилова передёрнул тик, с которым он справился, только прижав руку к щеке. А ведь всего пятьдесят один год человеку.
Лавр Георгиевич молча переждал и приветствия, и обструкцию. Снова заговорил ровным голосом, способным без всякого новомодного микрофона перекрывать плац с выстроенной на нём дивизией. — Так что наша фракция полностью поддерживает законопроект господина Романова. Но без ограничения калибров и систем. Почему наган в кармане иметь можно, а гаубицу 203-мм во дворе — нельзя?
Под смех и аплодисменты зала худощавый генерал, звеня шпорами, покинул сцену и трибуну.
Закон, предложенный гражданином Романовым, прошёл большинством голосов, но с ограничениями. Граждане России получили право (с соответствующей регистрацией в надлежащих органах власти), на владение и ношение любого карманного оружия калибрами не свыше 11,43. Длинноствольного ручного (без ограничения калибра) — с правом владения, но ношения только на охоте и аналогичных обстоятельствах. Автоматического, требующего упора ствола в виде сошек или станка — по особому разрешению и с оговоренными ограничениями. Например, для охраны и самообороны уединённо расположенных сельских поместий и хуторов. Артиллерийского любых калибров — в коллекционных целях, с хранением затвора в специально опечатанном помещении.
Одновременно вводились весьма строгие меры уголовной ответственности за ненадлежащее использование того же оружия. Например, за наличие у совершающего преступление лица незарегистрированного пистолета или револьвера к положенному сроку автоматически добавлялось десять лет каторжных работ. Независимо, использовал он его в преступных целях или нет.
В итоге все сёстры остались довольны. По серьгам, то есть каждой.
Дальнейшее показало, что правы были оба. Государственный порядок в стране значительно укрепился, забот у полиции стало намного меньше, и социал-дарвинизм весьма усилил в стране научные и общегражданские позиции. Кто бы что ни говорил с позиций абстрактного гуманизма, несколько тысяч застреленных из личного гражданского оружия преступников передали уцелевшим последователям бесценный опыт.
«Фраера, получив оружие, стали такими нервными — заявил на большой сходке один из самых почтенных авторитетов России, — что отныне предлагаю — ничего, кроме фомки, на дело не брать. И применять её только по назначению. А в газетах опубликуем обращение ко всем гражданам Свободной России — ни один деловой с завтрашнего дня не будет носить в кармане даже финки. Все разборки, не касающиеся мирного населения, будут происходить внутри нашего общества. Относительно полиции и иных подобных организаций торжественно заявляем — любой, носящий при себе огнестрелы, к воровскому сообществу не относится, на его поддержку и защиту рассчитывать не может. В чём и подписуемся».
Оттого наступила на земле Российской тишь, гладь и божья благодать. Правда, за пятнадцать прошедших после окончания Гражданской войны лет пара миллионов патронов были выпущены, в цель или в воздух, а уже потом стало тихо.
Отчего бабушка Геня Копелевна так серьёзно отнеслась к пистолету на ноге приезжей девушки? По внешности — классической еврейки, как в книге Соломона описано, по манерам — бандитки, держащей Привоз. Такого удара, которым Кристина вырубила Сёму, старушка, знающая намного больше, чем можно подумать, никогда не видела. А уж пистолет за чулком… И не один, по словам красотки. А её дядя Изя — совершенно трезвый, это старая наводчица тоже поняла, — действительно из Израиля? Почему бы и не оттуда? Молдаванка очень давно жила по старым обычаям — вдруг приходят новые?
Вручённая ей десятка ничего не значила, Геня Копелевна привыкла распоряжаться совсем другими суммами, но это был знак. Люди не хотят ссориться, они хотят договариваться. Значит, так и будет.
Только говорить об этом нужно не с Сёмой, бестолковым выкидышем бесстыжей стервы Мариам — кое с кем поумнее.
Со старым Хаимом Мотлевичем, пожалуй. Самый умный человек на всей Старопортофранковской, семьдесят пять лет уже, а уважают его самые авторитетные воры так же, как сорок лет назад, когда под его рукой состояло три сотни самых отчаянных налётчиков. И Геня, работая с ним, всегда имела что кушать, ни разу в жизни даже ночь не провела в участке, не говоря о таких некрасивых местах, как тюрьма или, избавь боже, каторга.
Чекменёв с Уваровым дождались сообщения — штабс-капитан Окладников вышел на связь точно, минута в минуту. У него всё складывалось по ситуации нормально. К сожалению, один офицер всё же был убит наповал пулей снайпера, ещё четверо получили ранения, но на ногах стоят. С группой прикрытия, занимавшей позиции на бульваре и в Воронцовском переулке, связь в настоящий момент отсутствует. Хотя её бойцы вооружены только пистолетами, какую-то роль они наверняка сыграли, поскольку снайперская стрельба с крыши соседнего здания прекратилась. Попытка штурма с двух направлений отбита с большим расходом боеприпасов, после чего отойти в подвалы удалось беспрепятственно. Реальные потери противника определить не удалось, но ориентировочно — до десяти человек остались лежать без видимых признаков жизни.
Последнее, что было слышно на поверхности, — сирены полицейских машин…
— Входы за собой мы заблокировали надёжно. Без взрывчатки не откроют, — закончил доклад штабс– капитан. — Вы нас не ждите, мы наметили другой маршрут. На старую базу не возвращайтесь, господин полковник. Встретимся на точке А-3. Через час-два, как получится. Мне ещё ребят разместить надо и решить, что с телом поручика Друзина делать…
— Пусть припрячут его там же, где сейчас находятся, а завтра разберёмся, когда порядок наведём, — подсказал генерал. — И пусть продолжают выходить на связь каждые полчаса. Мы — по необходимости…
Идти до «точки А-3», проще — конспиративной квартиры, почти (в том-то и дело, что «почти») наверняка неизвестной загадочному противнику, было не так уж далеко. Считая по поверхности — кварталов пять. Даже раненому Чекменёву, пока действовали препараты, это было по силам. Да и Уваров помогал, принимая на своё плечо большую часть генеральского веса.
Валерий никогда раньше не бывал в Одессе, но за сутки подготовки в Москве успел узнать её не хуже многих старожилов. С помощью того же Окладникова, не так давно служившего в роте разведки Очаковской бригады морской пехоты, а главное — богатых фондов Управления, Валерий и остальные офицеры группы изучили город по крупномасштабному плану и многочисленным фотографиям, кино– и видеозаписям. За многие десятилетия этих материалов накопилось столько, что теперь каждый мог бы смело наниматься в экскурсоводы.
Само по себе задание совсем не требовало столь тщательной подготовки, особенно если подразумевалось, что «печенеги» вправе использовать хоть весь штатный состав жандармского управления и городской полиции. Но Уваров был тёртый калач и с первых дней службы постиг истину — планы начальства и реальная обстановка совпадают очень редко. Что блестяще подтвердилось и в Варшаве, и в Москве. Значит, всегда лучше перебдеть, чем недобдеть.
То же касалось и собственно катакомб, по которым они сейчас с Чекменёвым пробирались, получив задание, оалерии немедленно разыскал своего верного спутника в рейде по варшавским каналам, опытнейшего диггера Тимофея Ресовского[56]. Прапорщик запаса сразу же после завершения операций на Висле получил свой «Владимир с мечами» и немедленно подал прошение об отставке[57].
Посидели, как положено, вспомнили «былые походы», после чего Уваров изложил свою просьбу.
— Надо же, — удивился Тимофей. — А мы ведь с тобой, когда по колено в дерьме бродили, говорили за катакомбы. Я ещё сказал, что там куда лучше, чем здесь. Теперь тебя, значит, туда несёт. Зачем, почему — не спрашиваю. Сделаем, конечно. Завтра к вечеру — устроит?
Уваров ответил, что — вполне. И нужны ему именно городские ходы-выходы, Нерубаевские едва ли потребуются.
— По адресу ты обратился. Едва ли у кого в Москве подробнее схемы найдутся. Я как раз городскими и занимался. Кстати, есть в Одессе ещё несколько специалистов, но они едва ли лучшими материалами располагают. Я тебе адреса дам, на всякий случай, если помощь потребуется. Надёжные ребята. За три года, что я там не был, может, что и изменилось… Созвонюсь с ними сегодня, уточню…
В ходе подробного инструктажа Ресовский, полжизни посвятивший исследованиям не обычных природных пещер, как «нормальные» спелеологи, а всевозможных рукотворных подземных сооружений, кроме общего плана катакомб, составленного бог знает когда на основании исторических документов и ещё довоенных исследований, передал Валерию копии собственных маршрутов. Они-то и были самыми нужными. Там Тимофей указал штреки, ставшие непроходимыми вследствие естественных причин, проходы, перекрытые искусственно, а также и до сих пор находящиеся в рабочем состоянии.
— Обрати внимание — синим выделены те, что, так сказать, общедоступны. А красным — это мы сами «реанимировали». Где старые замки посрезали, и на их место новые повесили, где кладку аккуратно разобрали, потом привели в почти исходное состояние. Вот таблица условных обозначений…
В таблице содержалось несколько десятков цифровых и буквенных знаков, а также ключи к расшифровке их различных комбинаций…
— И для чего вы всем этим занимались? — искренне удивился Уваров, рассматривая схемы. Читать об одесских катакомбах ему приходилось, он знал, что их общая длина составляет сотни километров, а по запутанности они превосходят, пожалуй, все искусственные лабиринты Земли, вместе взятые. Но знать — одно, а видеть план — совсем другое.
— Ну, исследовать, это я понимаю, а остальное зачем? Не воевать же, на самом деле, вы там собирались?
— Как бы тебе подоступнее объяснить? — усмехнулся Ресовский. — Это у нас, у диггеров, такой бзик, если угодно. Хобби. Вот в этом виде, — он обвёл пальцем заштрихованное синим, — мы имеем разорванную систему, не представляющую никакой художественной ценности. Как не имеет её антикварная книга с вырванными страницами. А вот так, — указал он на весь лист, где синие пятна соединялись друг с другом красными перемычками, — связность восстановлена, пусть пока и не в полном объёме. Получилась единая конструкция с собственными имманентными свойствами, её можно достраивать в любую сторону, в идеале до исходного состояния и дальше…
— Кому это нужно, а главное — кто это видит? — к случаю процитировал Валерий старый анекдот про еврея и пасхальные яйца.
— Некоторые коллекционеры держат свои сокровища в бронированных комнатах, никогда и нигде их не демонстрируя. А в нашем случае, тебе это уже потребовалось. И не только тебе, возможно. Никто не знает, что будет завтра…
Вот теперь и выяснилось, что не зря Валерий разбирался в подготовленных Ресовским планах, запоминая наизусть могущие пригодиться маршруты и ориентиры.
Большинство известных выходов из магистральных штреков в подвалы многоэтажных домов и водосточные коллекторы были перекрыты наглухо стальными щитами или заложены камнем давным-давно, ещё в первые после Гражданской войны годы в целях безопасности и общественного порядка. После чего городские власти полностью забыли об этой проблеме. Нет, кто-то наверняка помнил, потому что для некоторых хозяйственных целей разветвлённая сеть штолен, штреков, связывающих их проходов и лазов, бесчисленных тупиков всё же использовалась. Домовладельцами — для расширения принадлежащей им территории под склады, винные погреба и тому подобное, связистами и электриками — для прокладки местных, не всегда законных коммуникаций. Ну и всевозможными специфическими группами лиц, имеющими отношение к закону, как с той, так и с другой стороны.
Поэтому простых обывателей здравый смысл предостерегал от проникновения под землю дальше, чем на несколько метров от действующих входов. Леденящие душу легенды о катакомбах, никогда не исчезавшие из городского фольклора, имели очень незначительное отношение к действительности, но случиться там с опрометчивым «спелеологом» могло всякое.
С Чекменёвым и Уваровым, впрочем, там не случилось больше ничего сверх того, что уже произошло, но и этого на сегодня было достаточно.
Валерий, чувствуя себя достаточно раскованно (насколько так можно выразиться применительно к данным обстоятельствам), пытался даже слегка иронизировать над начальником.
— Всё ж таки народные поговорки пригодны на любой случай жизни, — философически начал он.
— Это ты к чему?
— Ну, как же. Сказано ведь: «Кому суждено быть повешенным…» Вот и со мной так. Решили вы меня напрочь от большой политики изолировать, к ведомостям на штаны и портянки приставить, а оно вон как обернулось. Дальше уж некуда. Небось в роли министра иностранных дел и то бы дальше от неё оказался…
Чекменёв мрачно засопел носом. Может, камешек под раненую ногу подвернулся, и боль его пронзила. А может, и нет.
— Я и сам, не поверишь, всё время об этом думаю. Куда ни сунься — обязательно ты подвернёшься. Сидел бы, наверное, в своём Термезе, о четвёртой звёздочке мечтал — всем бы лучше было. Слушай, давай присядем, ещё перекурим.
— Что, плохо?
— Нет, терпимо, просто ниже колена всё как деревянное. И подташнивает.
— Может, химия так на вас действует, а может — ещё и контузия имеет место. Здорово бахнуло, как живы остались — сам удивляюсь.
Сели на подходящий выступ в стене, достали сигареты.
— Если бы твои девки Ибрагима не утащили, лучше бы сейчас было или хуже? — задал вполне риторический вопрос Игорь Викторович.
— Сие, увы, за пределами «круга наших понятий», — ответил словами Козьмы Пруткова подполковник. — В тот момент никто не знал, что через минуту будет. С этой позиции увод главного фигуранта — решение несомненно правильное. А вот если мы до места доберёмся благополучно, то есть живыми, можно будет и задуматься. Под рукой его, конечно, иметь предпочтительнее.
— Дай-ка ещё твою фляжку… Не думай, со мной всё в порядке, просто мозги прочистить надо. И расскажи мне про этих девчат в подробностях. Нам сейчас спешить особо некуда. Если последняя наша позиция врагу известна, пусть её накроют лучше без нас, чем с нами.
— Здраво, — согласился Уваров. — Одного я в толк не возьму — с какой стороны у нас такая мощная протечка образовалась. По всем канонам мы чётко всё обеспечили. И режим секретности, и прикрытие…
— Никакой загадки, — Чекменёв протянул товарищу фляжку. — Уж это я со всех сторон обмозговал. Что там со стороны Катранджи сконструировалось — ему и разбираться. У него контрразведка помощнее нашей будет, поскольку работает во всемирном масштабе, давно и в основном не за жалованье и звёздочки, а под страхом смерти и за очень большие деньги.
— Знаем, слышали, — усмехнулся Валерий, — а сегодня даже и видели…
— Не гоношись. На войне всякое бывает. И два снаряда в ту же воронку попадают, и даже три, как сегодня. Война к научным теориям отношения не имеет. Сто раз имел возможность убедиться.
— Я тоже, — согласился Уваров. — Одна Берендеевка чего стоит! Учёным там точно делать нечего…
— Смотря каким учёным, — возразил генерал, которому три глотка виски помогли лучше, чем штатные противошоковые средства. — Маштакова взять, и дружков неразлучных, Ляхова с Бубновым. Так давай «за баб» лучше. Кто такие, откуда взялись, почему вводил в операцию, меня не предупредив?
— Вы лучше предыдущую фразу закончите, Игорь Викторович, раз начали. Глядишь, половина вопросов отпадёт автоматически…
Ох, не в том сейчас состоянии и положении был Чекменёв, чтобы поставить по стойке «смирно» зарвавшегося мальчишку, за год проскочившего от поручика до подполковника и чересчур о себе возомнившего. А стоило бы. Но, как сказано, не то состояние и не тот момент. И он ведь снова прав, как это ни поперёк горла.
— Да, я закончу. С нашей стороны все концы сходятся в губернское жандармское управление. Начальник там новый, недавно нами поставленный, в его адрес подозрений никаких…
— Если только его не перекупили сразу по прибытии. Бывали случаи.
— Я сказал — исключено! — жёстко повторил Чекменёв, ибо генерал-майор Закатов был утверждён в должности после полной проверки на верископе и предателем, тем более — по финансовым мотивам, не мог быть в принципе. Но Уварову знать это ни к чему. Несмотря на то что сам он такой же «питомец» программы.
— А вот его заместители, начальники охранных отделений — те да. И куплены могут быть, и «за идею» против нас работать. Уцелеем — каждого, кто хоть какое понятие о нашем деле имел, наизнанку вывернем. Давай про девочек.
— Долго будет. Предлагаю всё же продолжить движение. Не может быть, чтобы и эта явка была провалена. Ну не может, и всё. Чем хотите поручусь…
— Тогда пошли. — Генералу сейчас больше всего хотелось оказаться в надёжной квартире, заняться своей раной всерьёз, а потом просто полежать. Здесь ему долго изображать крепость тела и духа не удастся. Зацепило его сильнее, чем поначалу показалось. И контузия точно есть: тошнит, и звон в ушах не проходит.
Через несколько десятков шагов они очутились в довольно обширном зале, своеобразном коммуникационном узле, в котором сходилось до десятка штреков, и высоких, двухметровых, и таких, что идти по ним можно, только согнувшись в три погибели. Здесь в своё время обнаружился мощный пласт известняка, и его начали пилить во всех направлениях. Потому что всего в полусотне метров по горизонтали и на двадцать — по вертикали начиналось строительство целой улицы многоэтажных домов. Выгода от столь близкого расположения объектов и источника стройматериала была очевидна, совсем не то что возить камень на телегах за несколько вёрст. Вот и потрудились во второй половине позапрошлого века камнерезы под самым центром города, как жуки-древоточцы в корабельной обшивке.
Уваров сверился с планом. Всё верно. Из этого коридора они вышли, три следующих, против часовой стрелки, им не нужны, по крайней мере — сейчас. А вот четвёртый — то самое. И рунический значок над правым верхним углом проёма имеется.
— Сюда, Игорь Викторович…
Пыль на полу лежала двухсантиметровым слоем. И никаких на ней следов. Явно, что после Ресовского иных посетителей здесь не бывало лет пять, а то и больше.
Стены сочились водяными каплями, из которых по прошествии положенного времени образуются сталактиты и сталагмиты.
Потолок резко начал понижаться, и последние двадцать метров они уже ползли на коленях. Чекменёв тащил за собой совсем онемевшую ногу и временами постанывал, против воли. Если Валерий ошибся, обратно выбираться сил едва ли хватит. Да нет, конечно, хватит! На сколько нужно, настолько и хватит, но уж как не хочется!
Наконец уперлись в глухую стенку. Отчего-то рабочие дальше не пошли. Видно, заказ выполнили.
— Теперь ещё одно, последнее усилье… — сказал Уваров, доставая несолидный на вид, но необычайных качеств нож. — А вы пока отдохните. Тут ещё пара глотков, — протянул он генералу фляжку, — и покурите…
То, что на расстоянии вытянутой руки казалось каменным монолитом, оказалось всего лишь густым слоем смешанной со щебёнкой краски. Под ним — квадратная дверца из толстого дерева, удерживаемая ржавым засовом, даже без замка.
— Вот и всё. Двинулись…
Дальше штрек снова начал повышаться, вскоре идти можно было, лишь слегка пригибаясь.
— Не понимаю смысла, — говорил, чтобы отвлечься, Чекменёв. — Ерунда какая-то. Что за рельеф?
— Да кто же его знает, чем они тогда руководствовались? Скорее всего, просто — случайная стыковка. Долбили с двух сторон, сошлись, ну и всё. Маркшейдеров толковых не хватало. Дальше ни тем, ни другим делать нечего, пошли новые горизонты осваивать…
Последние мучительные десять минут, и Уваров, отперев полученным от приятеля Ресовского ключом железную, крашенную суриком дверь, сообщил Чекменёву, что всё, пришли.
— Вы тут подождите, я выгляну и вернусь…
Валерий не напрасно говорил, что ручается за эту явку головой. Он получил у Ресовского адрес его коллеги по диггере кому цеху, и Тимофей заверил подполковника, что тот — человек абсолютно надёжный, отважный и аполитичный. К реставрации монархии, впрочем, отнёсшийся положительно.
— Но это совершенно неважно. Для Льва ты просто мой боевой товарищ, и ничего более. Всё, что от него зависит, он сделает. Если это, конечно, не будет слишком далеко выходить за рамки закона.
— Ни в коей мере. Мы сами представляем Закон в его дистиллированном виде. Буквы — в осадке, а у нас — исключительно дух…
Лев Борисович, мужчина лет сорока, внешним обликом неуловимо напоминающий самого Ресовского — такой же сухощавый, подтянутый, с умным и проницательным взглядом (род занятий отпечаток накладывает), и предоставил Валерию во временное пользование принадлежащую ему, но по какой-то причине сейчас пустующую квартиру.
— Тёма мне сообщил о вашем интересе к катакомбам. Так вы будете смеяться, но в подвалах моего дома есть в них проход. И я стопроцентно гарантирую, что едва ли о нём знает кто-нибудь, за исключением моего отца и Тимофея, само собой. Давайте спустимся, я покажу.
— Не боитесь расширять круг посвящённых? — спросил Валерий, пока они спускались с четвёртого этажа.
— А чего тут бояться, я фальшивые червонцы не штампую. Вы, скорее всего, тоже не собираетесь. Как вы под и над Варшавой ползали, мне Тимофей рассказал. Ну а что вам сейчас у нас потребовалось — не моё дело.
Действительно, найти вход в катакомбы с этой стороны посторонним нельзя было даже случайно. Сводчатое подвальное помещение было разгорожено кирпичными стенками на восемь отделений, по числу квартир в подъезде.
— Там, — указал Лев Борисович на противоположную стену, — во втором дворе находятся винные склады фирмы «Золотой колокол» с магазином. А здесь — просто наши погреба. Раньше люди соленья в бочках и прочий припас хранили, а сейчас — всякий хлам по преимуществу.
Он отпер дверь с крупно написанным номером своей квартиры. Включил довольно яркую лампочку. Действительно, хлама здесь хватало. Старая мебель, отчего-то не выброшенная, а словно ждущая возвращения к новой жизни, два велосипеда, ящики и коробки с неизвестным содержимым. Напротив двери к стене прислонено большое трюмо в облезлой, некогда позолоченной раме, без подставки.
— Как в каморке Папы Карло, — хозяин отодвинул зеркало, за ним Уваров увидел ещё одну дверь, железную.
— А вот и золотой ключик, — он достал из кармана ключ, массивный, вроде сейфового, с двумя бородками сложной конфигурации.
— Передаю во временное пользование. Вернёте по миновании надобности.
— Надеюсь, её и не возникнет. Это ведь просто на всякий случай, для подстраховки… Мне интереснее другое — отчего вдруг так совпало, что именно у вас, специалиста и друга моего друга, в собственности оказалась эта дверка? Шанс ведь — один на миллион, если не меньше.
— Смотря с какой стороны смотреть. Именно потому, что она оказалась в нашем подвале, а не чьём-нибудь другом, я и стал исследователем. Занявшись этим делом, неизбежным образом познакомился с Тимофеем и ещё сотней единомышленников. Так что вся случайность заключается в том, что вы по службе встретились с Ресовским. Всё остальное — закономерности.
Несмотря на дурноту и с регулярностью морских волн накатывающееся желание немедленно потерять сознание, Чекменёв, с готовым к последнему бою автоматом на коленях, заставлял себя думать. Тревога за судьбу Катранджи на время отступила. В конце концов, город не захвачен оккупационной армией, и если дерзкий, самоубийственный налёт на гостиницу был отбит, теперь уже налётчикам приходится прятаться по схронам и явочным квартирам, ожидая, когда на них обрушится вся карающая мощь российских спецслужб, а при необходимости — и армии.
То, что цель операции заключалась в попытке пленения, и только в самом крайнем случае — ликвидации его и Ибрагима, генерал не сомневался. Убивать их просто так, во-первых, не было никакого военного и политического смысла, во-вторых — не составило бы ни малейшего труда любому из снайперов, стрелявших по окнам «Потёмкина». Что в самой гостинице, что ещё раньше, на бульваре.
Интерес у Игоря Викторовича вызывали загадочные девицы. То, что в отрядах «Печенег» числилось немало женщин, он знал с самого начала создания этой службы, но они там всегда числились на вторых и третьих ролях — аналитики, технические специалисты, не очень часто — агенты под прикрытием.
Боевиков передовой линии среди них не было никогда. По причине бессмысленности использования физически слабых существ там, где вполне справляются для того рождённые и на то обученные мужчины.
Женская рота штурмгвардии — нонсенс, если даже найдётся сотня подходящих баб, способных драться хоть оглоблей.
А тут Чекменёв столкнулся с непонятностью, чего зверски не любил, при том, что вся его служба в основном из разного рода непонятностей и состояла.
Уваров сказал, что подготовка у девушек «не наша». Тогда чья? Мысль о том, что они появились из врангелевской реальности тысяча девятьсот двадцать пятого года, Валерий опроверг. В боковом времени ничего подобного быть не может по определению. Значит, что ? Значит, есть и ещё реальности, одна или много, где люди говорят по-русски, считают себя нашими друзьями-союзниками (а так ли это?) и с детских лет готовят своих женщин к карьере профессиональных бойцов-диверсантов. Матриархат у них там, что ли, или просто мужиков катастрофически не хватает.
Чекменёв встряхнул над ухом фляжку. Пусто. Очень жаль. Сейчас ничто так не поддержало бы его утекающие, как кровь из пробитой артерии, силы лучше доброго глотка.
Застучали подошвы по лестнице, и наконец появился Уваров. С явно читаемой на лице тревогой за старшего товарища подхватил генерала за поясницу, перебросил его руку через плечо, на второе повесил автомат.
— Пошли, Игорь Викторович, всё чисто…
Квартира была просторная, четырёхкомнатная, старинной планировки, с длинным коридором на всю длину и попарно смежными комнатами с обеих его сторон. Толщина стен и входной двери создавали ощущение безопасности, достаточно иллюзорное, конечно, и тем не менее.
По всему чувствовалось, что постоянно не жили здесь довольно давно, однако порядок был образцовый. Холостяцкий. Всё необходимое, и ничего лишнего. Очень удобно иметь такое пристанище, для научных трудов, встреч с друзьями — новые экспедиции планировать или в преферанс поиграть без помех, да и даму, в случае чего, есть куда пригласить.
Уваров ещё раз, при нормальном освещении и в соответствующих требованиям санитарии условиях осмотрел, обработал, чем нашлось в домашней аптечке и заново перевязал рану Чекменёва.
— Пока ничего угрожающего. Кость повреждена, никуда не денешься, но не сильно. Главное — не перебита. Нам бы теперь до утра отсидеться, Ибрагима с девочками разыскать, а потом и в госпиталь можно. В Москву доложим, штурмовой батальон и два полных отряда «печенегов» на самолётах вызовем, вас эвакуируем и начнём зачистку по полной…
— Отставить. Пока Ибрагима не найдём — никаких докладов. Занимайся, работай. А со мной ничего не случится. Хоть сутки, хоть двое… И где там твой Окладников? Время связи прошло. Вызывай его сам.
— Как прикажете…
В этот момент едва слышно, чтобы не привлекать внимания, если вызываемый сейчас находится в людном месте, в кармане пискнул зуммер переговорника.
— Вот и он.
Штабс-капитан, теперь уже не спеша, без азарта и лёгкой взвинченности, свойственных любому нормальному человеку под огнём, доложил, что группа без новых потерь вышла к основной базе. Двух человек он послал на разведку. Если там спокойно, разместятся, приведут себя в порядок и можно будет встретиться, обсудить обстановку.
— Чего срок связи пропустил? — строго спросил Уваров.
— Не пропускал. Такая хреновина, командир — волна не проходила. Раз пять вызывал — глухо. Потом прошли с километр — появилась. Вы ответили.
— Интересно. Место засёк?
— А как же. Доживём — поверху посмотрим. Самому интересно…
Уварова царапнула мысль — не здесь ли разгадка всего случившегося? Если есть поблизости место, где сигнал якобы абсолютно защищённого передатчика не проходит, не там ли он и ловится? Связистом Валерий не был, но в таких вещах соображал интуитивно. Почему и живой до сих, в чинах и в крестах. Любую непонятность следует трактовать прежде всего с точки зрения — какую следует от неё ждать опасность. И как противодействовать, соответственно. Обойдётся — хорошо, тогда и об иных вариантах подумать можно, бесполезных знаний не бывает.
Вот и сейчас: глядишь, удастся из дичи превратиться в преследователя. И много сложных вопросов, которыми сейчас задаётся Чекменёв и грузит его, могут стать одним простым ответом.
Эта мысль заняла секунду, Окладников даже паузы не заметил. Тем более на его стороне послышался невнятный шум, обрывки фраз. Отдалённые. Аппарат отключился, но почти сразу, не успел Валерий подумать о нехорошем, заработал снова.
Теперь голос штабс-капитана звучал радостно:
— Всё, командир. Разведка вернулась. Никого. В радиусе прилегающих кварталов ни малейшего шевеления. Поднимаемся. Через пять минут доложу.
Доложил, как и обещал, Уваров только папиросу успел докурить.
— Мы на месте. Всё нормально. Сейчас умоюсь, переоденусь, выйду в город. Где встретимся?
Не глядя на карту, Валерий назвал место. Идеально подходящее, и в смысле пешеходной досягаемости, и практической безопасности как для наблюдения за подходами, так и для активной обороны, если придётся. Но теперь Уваров не опасался вредных неожиданностей. Та же интуиция подсказывала — враг выдохся. Не было у него столько сил и решимости, чтобы продолжать самоубийственную акцию. На одну отчаянную вспышку хватило, а дальше вступают в дело совсем другие факторы. Как написано в учебниках стратегии — «постоянно действующие».
Но с этим не ему разбираться.
— «Форма раз» — устраивает? — спросил Окладников.
— Самое лучшее, — согласился Уваров.
У него в чемодане имелся комплект повседневной формы армейского подполковника. Если чужие филёры не знают его в лицо — внимания не обратят, смотрят сейчас совсем за другими фигурантами.
Чекменёв, отказавшийся от очередного шприца с морфием, выпил целый стакан коньяка, закусил двумя сырыми яйцами и, лёжа в чистой постели, как и положено раненому, попавшему в госпиталь, начинал придрёмывать.
Валерий совсем коротко доложил о разговоре с Окладниковым и сказал, что на пару часов его покинет. Повезёт, так и Ибрагима сюда доставит.
— Вот тут, под рукой, я вам автомат кладу. На всякий случай. И включите переговорник на постоянную связь. А вообще — отдыхайте спокойно. Считаю — варианты кончились.
— Я тоже так считаю, — согласился генерал, мечтающий только об одном: чтобы сейчас его не трогали. Имеет же он право обыкновенным образом поспать, пока снова болеть не начало…
С Окладниковым Уваров встретился в летнем кафе неподалёку от цирка Чинизелли. Посередине сквера, от которого до трамвайной петли и двух параллельных улиц, Садовой и Коблевской — пятьдесят метров совершенно открытого пространства. Английский газон и редкие кусты жасмина, за которыми никак не спрячешься.
Штабс-капитан появился пятью минутами позже, тоже в форме, своей родной, морской пехоты. С капитанскими погонами. Маскировка — лучше не надо. Никакой комендантский патруль к нему не подойдёт (известное дело), а если вдруг кто из своих, очаковских офицеров по редкостной случайности встретится, так все бывшие сослуживцы знают, что ушёл он на Балтфлот с повышением, и ничего странного нет, что, находясь в отпуске, по личным делам приехал.
Два сопровождающих офицера в штатском заняли позиции с разных сторон сквера, в зоне прямой видимости.
— Как на твой взгляд, командир, здорово нас подставили? — спросил Окладников после того, как, не отрываясь, вытянул кружку пива. Пересохло горло у человека от порохового дыма и катакомбной пыли.
— Не горячись, Глеб, — ответил Уваров, сделав три мелких глотка. — Кто кого и как подставил — вопрос второй. Можно ведь и иначе сказать. Судят не по дебюту, а по эндшпилю…
— Уже эндшпиль? — удивился штабс-капитан.
— Если получится — он самый. Сейчас съездим на Молдаванку — и финита.
— С нашим удовольствием. Такси возьмём?
— Возьмём, — кивнул Уваров. — Мы одно, ребята второе. И пусть держатся вплотную. Стрельбы не ожидаю — чистая психология.
Окладников, не прибегая к техническим средствам, показал офицерам жестами, что от них требуется.
Уваров, продолжая играть выбранную роль, бросил на стол десятку, что втрое перекрывало стоимость заказа, и не слишком вежливо попросил официанта поймать мотор.
— Да я сейчас по телефону вызову, — предложил тот, пряча деньги в карман фартука.
— Долго. Вон, с обочины махни, одна за одной едут…
Чёрт его знает, кого он по телефону вызовет, а на оживлённой улице подставу за минуту трудно сделать. При любых технических возможностях. А Валерий всё больше сомневался, что у неприятеля имеются хоть какие-то возможности. Уж очень случившееся напоминает торопливую импровизацию. Допустим, о готовящейся встрече Катранджи с Чекменёвым кому-то стало известно в тот же момент, когда произошёл первый разговор. Значит, в их распоряжении было максимум двое суток, на всё про всё.
Уваров знал, что в любой организации схема практически одинакова. Осознать и оценить информацию на первом уровне ответственности, доложить по команде, пусть даже сразу на самый верх. Там тоже уйдёт какое-то время на оценку, проработку вариантов, принятие принципиального решения. Передача его вниз, Аля исполнения. Значит, несколько часов ушло. Это в самом лучшем случае, если все имеющие отношение к делу находятся на своих местах, среди них царит полное единодушие, все в равной степени компетентны…
Дальше начинается рутина, немыслимая без пресловутого трения[58]. Вполне обычные ошибки, нестыковки, эффект «испорченного телефона» и тому подобное. Так что сутки, считай, ушли. За оставшиеся нужно на месте, то есть в Одессе, собрать непосредственных исполнителей, проинструктировать, вооружить, распределить по объектам. При этом самый талантливый аналитик не в состоянии спрогнозировать действия противника дальше, чем на два, от силы три шага. Не шахматы всё же.
Отсюда следует, что ничего более умного и тонкого, кроме как плотного наблюдения за Чекменёвым и Катранджи с их последующим захватом (вместе или поодиночке, как сложится), неприятель придумать не мог. И с момента их перемещения с набережной в ресторан пошла чистая импровизация.
Наличного состава боевиков хватило только на этот единственный удар, по принципу «пан или пропал», как при охоте на кабана с рогатиной.
Поэтому с большой долей вероятности можно предположить, что операция уже свёрнута. Часть исполнителей уничтожена, часть разбегается кто куда и прячется по щелям. А пособники из местных наверняка сейчас на всю катушку занимаются обрубанием хвостов и заметанием следов.
До нужного дома Катранджи и его спутницы дошли без всяких приключений. Да там и идти-то было всего два с половиной квартала. Ибрагим-бей с интересом озирался по сторонам. В унылое место он попал, неуютное какое-то. Улицы длинные, пыльные, на узких газонах с чахлой выгоревшей травой кое-где торчат старые акации с изборождённой глубокими трещинами корой. Близость моря и щеголевато-роскошного города — жемчужины Черноморья — совершенно не чувствуется. Больше похоже на глухую провинцию Северной Африки или Восточной Турции, с поправкой на архитектуру и внешний облик жителей.
Но этнография его сейчас не интересовала. Почти в той же степени, как вопрос — кто и зачем решил его ликвидировать, Ибрагима занимали девушки. Там, в ресторане, он находился в слишком большом нервном напряжении, размышлять на посторонние темы было некогда. А пока ехали — и присмотрелся, и подумал. На самом деле — удивительные существа. Обладай он способностью к беспочвенному фантазированию, непременно бы предположил, что они не люди. Или — не совсем люди. Слишком много доводов можно привести в пользу такой гипотезы.
Однако Катранджи — абсолютный прагматик и материалист. Иначе не стал бы тем, кем сейчас являлся. Он не верил ни в каких богов, ни в какие политические идеи, ни даже в высокие чувства и побуждения, которые якобы должны быть присущи человеку. Всё это вздор. Та или иная комбинация инстинктов, предрассудков, заблуждений — вот и все компоненты так называемой личности. Идеалов не существует, есть только интересы. Другое дело, что эта простейшая истина тщательно скрыта многовековыми насслоениями псевдоистин — религиозных, этических, эстетических.
Да, странного очень много. За свою долгую, полную опасных приключений, политических и финансовых махинаций жизнь Ибрагим повидал всяких людей. И женщин знал всяких, любых рас, наций и профессий. А вот таких не встречал. Мало кто на его месте за столь короткий срок обратил бы внимание на массу незначительных по отдельности фактов, тем более — дал себе труд их сопоставить и обобщить.
Встретившись лишь с одной из них, какой угодно, на выбор, он, пожалуй, тоже пропустил бы мимо глаз и ушей кое-какие несообразности или заметил их гораздо позже. Но когда их четыре сразу — всё как на ладони.
Но, как сказано, Катранджи был материалистом и сразу отмёл все неприемлемые с этой позиции варианты. Как поймать льва в пустыне? Разделить её на квадраты и, исключив все, где льва не окажется, в последнем взять его тёпленьким. Так и здесь. Очевидно, что его друг и гостеприимный хозяин генерал Чекменёв нашёл способ биологического (генетического) отбора подходящих особей и систему воспитания (дрессировки), в результате чего смог наладить массовое производство не то женщин, не то боевых роботов. Четверых он использовал здесь и сейчас, а сколько всего привёз с собой? И сколько их вообще существует?
Причём гениальность открытия Чекменёва в том, что получились ведь не роботы, не киборги, не ассасины «Горного старца» и не тупые, зацикленные на одной-единственной идее шахидки-смертницы, а совершенно нормальные по манерам, стилю, своеобразному юмору русские девушки, уж их он повидал, учась в Петербурге, и потом тоже.
Самый главный довод за то, что они не зомбированы и не загипнотизированы изощрённым способом отношение к деньгам. По мгновенному проблеску в глазах Кристины при словах о десяти миллионах он сразу понял, что девушка деньги любит и разобьётся в лепёшку, чтобы их получить. И то, что повысила ставку для своих подруг — плюс ей. Перед лицом смертельной опасности так не сыграешь. Просто в голову не придёт. А эта, выходит, заведомо была уверена, что спасти клиента ей удастся, и в долю секунды сообразила, что сейчас тот единственный момент, когда папашка не станет торговаться. Шесть лишних миллионов — «как с куста», по русскому присловью. Пожалуй, в роли финансовой акулы она бы себя нашла.
Когда всё кончится, непременно нужно будет поговорить с Игорем и попросить эту четвёрку себе в телохранительницы и эскорт-леди. С настоящим европейским контрактом, без всяких глупостей и восточных штучек.
Хотя нет — эти уже не согласятся. Он намерен выполнить своё обещание, а Кристина ясно выразилась: «Можно будет бросить эту работу». Тоже как бы между прочим, явно не отрепетированно, ибо кто мог предположить, что так сложится и такое предложение последует? Сказано было мельком и явно от души. Действительно, зачем ей, с десятью-то миллионами? Девушка её класса и с хорошими деньгами найдёт занятие поинтереснее. А жаль.
Катранджи подумал, вдруг и параллельно — а кто из девушек его больше интересует и возбуждает? Кристина с её вызывающим семитским шармом или та, командирша, Анастасия, классическая северная славянка? А чем хуже Герта, прикрывающая тыл и как раз сейчас переходящая на их сторону улицы?
Все хороши. Возможно, и, скорее всего, остальные будут не хуже…
— Вот и пришли, — сказала Кристина, кивком головы указывая на угловой дом, выделяющийся из общего ряда современностью архитектуры.
И тут же прямо перед ними отворилась железная калитка в стене из дикого камня. Из неё вышли два молодых человека, весьма прилично одетых, но намётанным взглядом Ибрагима мгновенно классифицированные, как члены преступного сообщества. Ему отличить законопослушного гражданина от уголовника было так же легко, как двухлетнему ребёнку — собаку от кошки.
— Здравствуйте, — церемонно приподнял за лакированный козырёк белую каскетку первый из них, с тщательно подбритыми рыжеватыми усиками. Второй молча кивнул.
Катранджи, продолжая роль, качнулся и ответил:
— Вы не от Сёмы, случайно? — улыбнулась Кристина, жеманно выставив вперёд ножку и положив ладонь на бедро, рядом с пистолетом.
— Упаси бог. При чём тут какой-то Сёма? С вами хотел познакомиться Хаим Мотлевич…
— Если ты думаешь, что мне это что-то говорит, так ты ошибаешься…
Герта, чуть замедлив шаг, обогнула перегородившую тротуар парочку по самому краю бордюра, покосилась на них без всякого любопытства и проследовала дальше, к парадному нужного им дома. Там остановилась и, не оборачиваясь, достала из сумочки сигареты, начала прикуривать.
— Ваша? — спросил парень в каскетке.
— Скажи ей, что в Одесе, по крайней мере — на Молдаванке, приличные девушки на улице не курят. Она ведь приличная?
— Интересуешься — подойди и спроси, — снова усмехнулась Кристина, но уже по-другому.
— Ой, ну вот только без этого. Мы ведь вежливо, культурно разговариваем. Вы приехали в гости — хорошо. К кому, можно поинтересоваться?
— Тебе оно надо?
— Мне — совсем не надо. Но есть люди, которые просто любят, чтобы всё вокруг было тихо, спокойно и понятно.
— Хаим Мотлевич?
— Сейчас — он.
— Бабушка Геня стукнула?
— А разве вы её об этом не просили?
— Мы просили, чтобы нас не беспокоили, пока у нас не появятся другие желания.
— Разве это беспокойство? Гость в дом — бог в дом. Но хоть назвать себя хозяевам полагается?
— Кто бы спорил. Так ты же видишь — дядя устал с дороги. Он отдохнёт, побреется, переоденется — тогда и познакомимся и поговорим. А вы пока можете подождать. Хоть у себя, хоть на улице…
Тональность и, главное, мимика Кристины комиссию по встрече явно раздражала, но они строго следовали инструкции.
— А в квартиру не пригласите? Очень нам интересно, к кому это вдруг такие уважаемые люди приехали? Прямо в голову не возьму. А я тут всех знаю.
Кристина на глаз прикинула, что в доме примерно Десять квартир, если, конечно, здесь не апартаменты по одному на этаж.
— В чужую — не имею привычки приглашать. Зато у вас как раз занятие будет — чтобы не скучать, попробуйте угадать, к кому мы и зачем. Договорились, джентльмены? Тогда мы пойдём, а то дядя совсем на йогах не держится…
— Я в толк не возьму, — впервые подал голос второй парень, — чего вдруг таких солидных гостей не встретили, и приехали они не на такси, а на трамвае? Уставши-то…
— Вот и вторая задачка. Порешаете — не так скучно ждать будет. Подвинься, да?
— Ты, сестричка, чёт-то не поняла, — ответил второй, делая ещё шаг поперёк тротуара. И продолжил на идиш, обращаясь непосредственно к Ибрагиму: — Извините, уважаемый, дела тут у нас таким интересным образом складываются, что мы просто не можем допустить, чтобы такой человек, как вы, попал в неловкую ситуацию. Законы гостеприимства, знаете ли… Случись что с вами, опять всей Молдаванке отвечать? Пройдите в калиточку, я вас от всей души прошу. Безопасность и всё положенное почтение гарантируем. Порожняк здесь не гонят.
Катранджи решил, что пора брать игру в свои руки. Он демонстративно извлёк из кармана пиджака прихваченную из гостиницы бутылку, шумно глотнул, прислушался, как прошло, потом сплюнул и спросил у Кристины почти трезвым голосом:
— Если так настойчиво приглашают, неудобно отказываться, правда, девочка? Пойдём, что ли?
Та пренебрежительно пожала плечами:
— Вам виднее, дядя.
Ничего более не сказав, Ибрагим решительно двинулся в проём калитки. Уже ясно, что без скандала разойтись не получится. Но и на происки врагов поведение парней никак не походило. Просто Кристина слегка перестаралась. В таком районе (а сколько таких районов в десятках городов за пределами Периметра он успел повидать) нужно было не рисоваться своими прелестями и кулаками не размахивать, а пробираться «ниже воды, тише травы». С другой стороны — кто мог предположить, что вдруг такой Сёма в вагоне окажется? Если он, кстати, тоже не подстава.
Да нет, так подставы не делаются, просто глупая случайность. Старушка, явно профессиональная наводчица, уже сидела в вагоне, когда они вошли, и никаких средств связи наверняка не использовала. На расстоянии вытянутой руки Катранджи не упустил бы любого подозрительного жеста.
Любой среднероссийский человек, попав во дворик, куда они вошли, несказанно бы удивился. И хороший стол накрыт под навесом с оплетёнными виноградными лозами столбами, и «комиссия по встрече» в полном составе.
Похоже, что здесь справляли второй день еврейской свадьбы. А, возможно, всегда так привыкли ужинать. В кругу семьи и соседей.
Пресловутый, он же теперь почти легендарный Хаим Мотлевич, полноватый, круглолицый мужчина явно за семьдесят, но назвать которого стариком не повернулся бы язык, сидевший во главе стола, приветственно помахал рукой, не вставая с места. Катранджи, по пути раскланиваясь, двинулся прямо к нему, а Кристина с Гертой остановились по обе стороны калитки, в достаточно характерных позах.
— Девочки, здесь этого не нужно, — мягко сказал тот, что с усиками. — Свои пушечки оставьте при себе. Только ни один человек в Одесе не может и не мог бы сказать, что в этом доме они кому-нибудь пригодились… — наткнулся на взгляд Кристины и поправился: — Потребовались, так скажем. Если что, имейте в виду, меня зовут Иосиф, а его, — показал он на товарища, — Василий. И мы никаким образом не принадлежим к списку лиц, которыми поимела бы желание заинтересоваться лучшая в России одесская полиция.
— Жутко повезло, — ответила Герта, внешность которой не имела ничего общего с обычными здесь типажами. Типичная выпускница восьмого класса[59] провинциальной гимназии Ревеля, Риги или Гельсингфорса. И пистолетов при ней не видно, широкая юбка и жакет скрывают, где именно они спрятаны. — Мы — того же сорта. К нам российская полиция тоже претензий не имеет. Главным образом потому, что наши и её интересы никогда не пересекаются.
— Тогда присаживайтесь, где вам будет удобнее, перекусите с дороги. Отдохните, для вас работы пока не предвидится.
Девушки должны были согласиться, что он прав. До того, как Катранджи переговорит со здешним паханом, смотрящим, или какой там ещё пост занимает радушный старичок, им делать нечего. Тактически их позиция абсолютно проигрышная. Снайпер, если потребуется, из глубины комнат, оставаясь невидимым, может застрелить Ибрагима через любое из десятка выходящих во двор окон. Они сами, скорее всего, успеют в ответ положить несколько человек, и даже прорваться с боем (не батальон же штурмгвардии против них выставят), захватить какую-нибудь машину, но ведь их посылали не за этим. Девушки должны доставить объект по назначению живым и здоровым, это категорический императив2. Поэтому сейчас самое рациональное — не препятствовать развитию событий, ожидая либо очередной команды руководителя операции, либо момента, когда вновь появится возможность овладеть ситуацией.
Они выбрали место на краю стола, спинами к глухой стене дома. Фланги остаются открытыми, но всё же эта позиция лучшая из возможных.
Василий сел напротив, а Иосиф переместился поближе к хозяину, возможно, в ожидании очередных инструкций.
Катранджи решил, что пора бы ему протрезветь. Не зря их сюда пригласили, хозяева Молдаванки (или — очень близкие к настоящим хозяевам) явно имеют свой интерес. В подобных случаях Ибрагим очень ловко умел обращать чужой интерес в свой собственный.
Отпил глоток зельтерской воды из предупредительно поставленного перед ним стакана, вытер лоб скомканным платком.
— Пора и познакомиться, — сказал он по-русски, но с восточным колоритом. Это он тоже умел — говорить на многих языках, когда нужно — чисто, в иных случаях — с любым желаемым акцентом.
Хозяин представился, подал крепкую горячую ладонь. Ибрагим назвался паспортным именем, присовокупив — коммерсант.
— И какая такая коммерция привела прямо сюда? Чем намереваетесь торговать? — ехидно спросил Хаим Мотлевич.
— Чем придётся. Можно пшеницей, можно презервативами, можно танками. Имеете что предложить? — Катранджи улыбался простодушно, именно — простодушно, без всякой задней мысли, предоставляя собеседнику гадать, что за этой улыбкой таится.
— Придёт время — что-нибудь предложим, — посулил хозяин, — только сначала прояснить бы надо. Ваша племянница говорила, что к тёте едет, то есть к вашей сестре. Накажи меня бог, всю жизнь здесь прожил, но даже краем уха не слышал ни о какой… Борисовне Финкельмон.
— Розалии Борисовне, — уточнил Ибрагим. — По мужу — Дорошенко. Только с чего вы взяли, что она должна жить на этой вашей Молдаванке? У неё вполне себе хорошая квартира на Маразлиевской. А здесь так — один человек, привет я ему собирался передать от общих знакомых.
— Надо же, как я обмишурился, — сокрушённо сказал Хаим. — Покорнейше прошу прощения… Да что же вы так сидите? — всполошился он. — Ривка, Сима! — Тут же подскочили две дебелые тётки лет по пятьдесят. — Угощайте дорогого гостя, на нашем краю совсем ничего не осталось, сами не видите? — и что-то ещё добавил на идишском жаргоне.
— Послушай, где тут у вас определённое заведение? — обратилась Кристина к парню. — Руки помыть, губы подкрасить?
— Проводить?
— Ну, проводи, если думаешь, сама не найду…
— Наверняка не найдёшь… А звать тебя как? — спросил Василий, когда они вошли в коридор под лестницей. Здесь сильно пахло кухней, причём — специфической.
Кристина ответила.
— Ты это, слушай, на самом деле, не бойся. У нас вам ничего плохого не сделают. Поговорят деды, до чего-нибудь договорятся. Не напрягайтесь, вина выпейте, у нас хорошее, своё, а то ты прямо как перегретый утюг — плюнь, зашипит…
Кристине показалось, что она произвела на парня мгновенное незабываемое впечатление и он таким примитивным способом пытается завязать с ней более доверительные отношения.
— Выпьем, отчего же не выпить, — ответила она, открывая указанную дверь. — А ты пока подальше отойди, не люблю, когда подглядывают и подслушивают…
Настоящего переговорного устройства, как у старших «печенегов», не было даже у Анастасии, самостоятельные действия её группы в таком форс-мажоре, который случился, просто не предполагались. Не было и блок-универсалов, положенных каждому координатору: не успела Дайяна присвоить им классный чин и снабдить положенной экипировкой. Об этом Кристина сейчас очень пожалела.
При ней, как и у всех её подруг, был только довольно примитивный маячок, позволявший руководителям базы на Таорэре пеленговать местоположение каждой из его владелиц и отслеживать их перемещения по территории, а курсанткам передавать на главный Шар и друг другу некоторое количество условных сигналов на десять-пятнадцать километров, в зависимости от рельефа местности. Такие опознаватели выдавались сразу по зачислении в Школу и до выпуска все они находились под круглосуточным контролем, как окольцованные радиобраслетами дикие звери или опасные преступники.
Оказавшись на Земле, вне досягаемости Дайяны, они продолжали их носить, скорее в качестве талисманов, памяти о прежней жизни, ну и на всякий непредвиденный случай, который настал только теперь.
Кристина, оказавшись в гостях у дедушки Хаима, Решила послать сообщение Анастасии. До этого всё представлялось до крайности простым. Сопроводить Ибрагим-бея до явочной квартиры, оттуда позвонить Насте на один из трёх телефонов, установленных в заранее обусловленных местах, и дальше действовать по обстановке.
Кристина не была посвящена в тонкости операции, даже не догадывалась о том, что все планы их непосредственного начальника — Валерия Павловича Уварова, посыпались, как карточный домик. Она считала, что всё идёт как надо. Анастасия — та знала, что они вынуждены работать по запасному, почти невероятному варианту, тем не менее предусмотренному проницательным подполковником. Он даже поручил ей, «в случае чего», самостоятельно вывозить Катранджи из Одессы: в Херсон, Николаев, куда получится, но не в северном направлении, и потом напрямую связываться с Тархановым или Ляховым.
Сейчас назначенное место буквально в десятке шагов, но попасть туда не удаётся. Она была всего лишь недоучившейся кандидаткой в координаторы третьего класса, не имеющей при себе главного инструмента принятия решений — Шара. Приходилось мыслить самостоятельно, на своём уровне компетенции, то есть — двадцатилетней девушки-подпоручика, почти лишённой обычного житейского опыта. Пока что выручал громадный набор поведенческих стереотипов, интеллект и энциклопедическая эрудиция.
Жетон походил на обычный золотой кулон размером с небольшие наручные часы, с откидной крышечкой, под которой помещались три кнопки, имеющие вид камешков — рубина, сапфира и изумруда, каратов по десять в каждом. Почему это выглядело столь изысканно и дорого — неизвестно. Кто поймёт логику инопланетных дизайнеров, творивших тысячелетия назад? Может быть, имелся тут какой-то сакральный смысл, по аналогии с портсигарами, положенными настоящим агентам и агентессам.
Кристина, как и подруги, оказавшись на Земле, по совету Майи носили маячок на прочной стальной цепочке вокруг талии.
— Так надёжнее, — сказала их первая здесь наставница. — Не привлекает внимания. С шеи или запястья легче потерять — проверено. Зацепишься за что-нибудь, например. Или — просто сорвут в толпе, бывают у нас такие специалисты… А на поясе — никуда не денется. Вздумаешь перед кем-то обнажаться — всегда можно соврать, что это — священный амулет секты каких-нибудь розенкрейцеров. Вот так, приотпустим цепочку, вот досюда. На пляже — в плавки спрячешь. А что — даже стильно… Прямо Саламбо[60] вылитая».
Одно неудобство — сейчас вот пришлось проситься в туалет, чтобы воспользоваться прибором.
Пользуясь ограниченным набором доступных комбинаций, она составила короткое, но понятное подруге сообщение.
Ответ пришёл сразу же.
«Жди. К вам едут (смысл употреблённых Анастасией символов означал нечто вроде «сильные, знающие»), Я и Марина в условленном месте. Тоже приедем. Будь настороже, не ошибись (так она истолковала использованный Настей значок)».
Кристина вышла из «приюта уединения», как это называется в книгах «Тысячи и одной ночи», в совершенно другом настроении. Сейчас она готова была шутить с Василием и его напарником Иосифом, флиртовать, вообще изображать полную отстранённость от не касающихся её проблем. Тем более что такая манера поведения будет работать на выполнение задачи ещё лучше, чем предыдущая. А что? Побыла наедине с собой, осмыслила, согласилась, что старикам — виднее.
Демонстративно одёрнула юбку, встряхнула волосами.
— Всё. Пойдём, покажешь, что у вас за вино такое особенное. — И вдруг посмотрела на сопровождающего подозрительно: — А ты таки не подглядывал? Что-то глазки у тебя не так блестят.
— Да ты шо? — возмутился Василий. — За чем там подглядывать? У тебя и так всё на виду. Только красивее, чем у других девчонок, — он провёл глазами от туфель до талии, не стесняясь, заглянул в декольте. Чего стесняться — для того и сделано. Может, когда там, — он мотнул головой в сторону двора, — разберутся, сходим куда-нибудь? Тут у нас хорошие посиделки можно организовать.
— Денег хватит? — нагло ответила Кристина.
— На кабак хватит, — не смутился Василий. — За остальное — неужто потребуешь? Вроде — не твоя профессия. По любви тоже можно…
— Любовь придумали такие дураки, как ты, чтобы деньги не платить, — нагловато ответила Кристина, вспомнив слова Майи.
Парень, внешностью никак не соответствующий своему имени, откровенно захохотал. Никогда этой шутки не слышал. Да и вправду, она из другого времени. А у самой Кристины была одна-единственная любовь — Олег Левашов — первая и пока последняя.
Вернулись к столу, Герта посмотрела на подругу вопросительно. Та кивнула, мол, всё в порядке. Кончай бояться. Полчаса продержимся, и всё. Дальше — не наши заботы.
Раз так, и со стороны охраняемого объекта тревожных сигналов не поступает, отчего и не потренироваться в общении с людьми, живущими по незнакомым законам и обычаям? И Майя, и её муж, старший над «печенегами», Вадим Петрович Ляхов, именно это и рекомендовал.
— Девочки, — говорил он им ещё в Кисловодске, и потом в Москве, — жизнь сложна, утомительна, но и очень интересна. Чтобы ей соответствовать, учитесь, учитесь и учитесь, как говорил великий вождь. (Впрочем — «великий вождь» на самом деле сказал Ляхов-Фёст. Секонд употребил бы — «один из красных вождей». Но девушки разницы между этими аналогами не видели и не могли увидеть.).
«Давайте поучимся», — подумала Кристина, садясь рядом с Гертой.
— А вам, неназвавшаяся, — спросил, — не нужно туда же?
Исходя из уроков хорошего тона, Герта собралась возмутиться, но Кристина сделала минималистический жест, уловимый только аггрианкой же. Иди, мол, и задержи его там минут на десять.
— Спасибо, нужно, а зовут меня Герта, чтобы больше глупых вопросов не возникало.
— Почему же глупых? — возмутился Иосиф.
— Я по дороге объясню, — с тевтонской надменностью, странно сочетавшейся с чёртиками в глазах, церемонно ответила та.
«Правильно, — подумала Кристина. — Главное — тянуть время. А когда наши подъедут, пусть и разбираются».
Во главе стола Ибрагим разговаривал с Хаимом Мотлевичем оживлённо и вполне благодушно. Значит, и здесь пока опасаться нечего.
Она приняла из рук Василия стакан тонкого стекла с соломенно-жёлтым вином, которое тот налил из трёхлитрового графина, подождала, пока нальёт и себе, решительно предложила поменяться. Тот с тонкой усмешкой согласился.
«Знаем мы эти штучки», — подумала Кристина и, встав, потянулась к сидевшему через три человека напротив мужчине средних лет. — Налейте мне вот этого, что вы пьёте.
Тот сильно удивился.
— Аккерманской самогонки желаете?
— Её, её. С детства люблю…
— Ох, ты ж и хитрюга, — уважительно сказал Василий, когда они выпили. Он — стакан вина, она — грамм полтораста зверски крепкого самогона на чабреце и полыни.
— Служба такая. Это вы тут попросту живёте, а мы с хозяином…
Она чуть закатила глаза, что означало крутизну Катранджи и полную опасностей жизнь в его окружении.
Василий сразу поверил и проникся.
— Слушай, Христя, — сказал он минут через пять, когда, по его расчётам, её должно было начать развозить. — Ты мне свой пистолетик не покажешь? Интересно, с чем девочки в нашем Израиле ходят.
И положил под столом горячую ладонь ей на колено. Она не стала протестовать. Во-первых — приятно, чисто физически, во-вторых — работает на схему. Зачем возмущаться, выходя из роли? Сильная ладонь поползла выше, пока не упёрлась в край ствола.
— Ого! Здорово!
Кристина толчком колена отбросила его руку, а через полсекунды чёрное дуло ствола смотрело ему между глаз. Соседей такой пассаж нисколько не заинтересовал. Люди продолжали выпивать и закусывать, будто только для этого и собрались. А может быть, и вправду именно для этого, появление же чужаков оказалось только привычным, никак ничему не мешающим эпизодом.
— Ох, ты! Интересная штучка. Никогда не видел.
И не мог он видеть пистолета совсем из другой реальности. «Глок-18», с магазином на 19 патронов, а весом на двести граммов меньше восьмизарядного «ТТ».
— Дай подержать…
Кристина сдвинула предохранитель, протянула пистолет рукояткой вперёд.
— Имей в виду, второй я достану так же быстро, но уже на взводе. Уловил?
— Чего уж. Нет, ну, красота. И где же такие делают? Продай, а? Двести рублей дам.
Насколько Кристина знала, предложенная цена — запредельная. Вышеупомянутый «ТТ», новый, в фирменном магазине — рублей пятьдесят. Так ведь и оружие разное. Если Василий промышляет в околокриминальных кругах, пусть и говорит, что полиция к нему претензий не имеет, один факт обладания такой пушкой способен сильно поднять его авторитет. Именно — факт. На самом деле модель и свойства огнестрела особого значения не играют, как выражался Валентин Валентинович Лихарев. Кое-кто в отряде «Печенег» с обычным наганом проделывал такое, что двое с «глоками» не сумеют.
— Щедрый ты, — мило улыбнулась Кристина. — И очень симпатичный. Налей мне ещё «аккерманской».
— Да ты шо? Верняком развезёт, ты и не закусываешь даже. Вон, колбаски пожуй — кошерная… — Василий сказал это с долей издёвки, из чего следовало, что сам он к еврейскому племени себя не относит. Да оно и так видно было.
— Наплевать мне и на ваш кашрут, и на всё остальное, — с должным подъёмом заявила она, употребив и вставив одно русское и одно идишское непристойное слово. Именно так, как следовало обычной двадцатилетней девушке, принявшей сгоряча полстакана шестидесятиградусной самогонки. Сначала раздухарилась, потом развезёт. Пока не развезло, самое то — разводку устроить.
Правда, если парень — не совсем шлемазл, должен бы сообразить, что охранницы её класса, при таком хозяине ни напиваться, ни вообще распускаться — не могут. Если не сообразил — грош ему цена. А если да, но делает вид — тем интереснее. Аггрианская школа Дайяны всякого рода логикам учила хорошо.
Она выпила поданный стакан, не глядя зачерпнула ложку синеньких[61] с орехами.
— Продавать мне ни к чему. А подарить — могу, если что…— вытерев губы салфеткой, сказала Кристина. — Долго слишком Герта с твоим дружком не возвращаются…
— Тебе-то что? — широко растянул губы Василий. — Может, быстрее нас договорились…
— Может. Всё может, — она не стала спорить. — Наш дядя никому ничего не запрещает. Вот папа у нас суровый, а дядя — прямо душка. Видишь, как они с вашим дедом сошлись?
Катранджи действительно сбросил с себя все признаки недавнего тяжёлого хмеля, разговаривал с Хаимом легко и раскованно, шутил, по всему видно, и старый еврей часто смеялся, иногда деликатно, в ладошку, иногда — от души.
— Так что насчёт — подарить? — вернулся к теме Василий. — Какой в этом раскладе твой кербеш?[62]
— Как раз на двести рублей. Ты никого не закладываешь, а просто говоришь, кто вы и что на самом деле здесь и сейчас происходит. Как коллега коллеге. Никто ничего не узнает, кроме нас двоих, ручаюсь. «Глок» — твой. Мне его списать — ничего не стоит. Ваших интересов касаться не собираюсь. Мне свои важнее. А ты, кстати, — вдруг отвлеклась она, полезла в сумочку за сигаретой, — сходи, посмотри. Что-то там действительно процедура затягивается. Вдруг Герта твоему Иосифу невзначай шею сломала? Если б руку — крик бы стоял, — философически завершила Кристина, прикуривая.
— Тьфу на тебя. Выдумаешь тоже, — небрежно отмахнулся Василий. — Не из тех он, чтобы по-глупому с девушкой. Болтают, наверное, как мы сейчас с тобой…
Он вертел пистолет в руках, ласкал его пальцами, будто настоящий гипноглиф1 не в силах оторваться. На что и был расчёт.
— Хорошо, слушай, — осторожно покосился он на соседей по столу. — Или давай перейдём на лавочку, вон там, под сиренью…
Примерно о том же шёл разговор у Ибрагима со старым Хаимом. В чём смысл случившегося, и какой у кого интерес. Катранджи сейчас чувствовал себя в своей тарелке, или, по-научному выражаясь, среде. Бандит среднего пошиба, держащий некоторую часть города и её (части) криминальную составляющую, неглупый и успешный, раз дожил до своих семидесяти лет в добром здравии и таком же положении импонировал ему.
На огромной планете Земля, и даже на той её половине, что не принадлежала к «цивилизованному миру», людей, подобных Хаиму, он знал многие сотни. Одни с ним сотрудничали, другие пытались проявлять самостоятельность. Если их интересы не пересекались, Ибрагим– бей не препятствовал любому жить, как умеет.
В Одессе субклиенты Катранджи проворачивали какие-то торгово-закупочные операции, но не того масштаба, чтобы попадать в сферу его внимания. Может, по этой причине он и выбрал город у моря как место конфиденциальной встречи с генералом, который вскоре обещал стать главной фигурой на доске или джокером в колоде. Далеко, никому не интересно, а значит, и безопасно. Вышло несколько по-другому. Спасибо тому же генералу и его девицам, иначе мог бы всемогущий паша кормить рыб на морском дне или пребывать в неизвестно чьём узилище.
— Так на чём мы сходимся, уважаемый Ибрагим Рифатович? — говорил Хаим Мотлевич, невзирая на возраст, наливающий себе и гостю уже четвёртую рюмку сладкой еврейской водки. — Что лично я на старости лет мог бы сделать для вас, и что с того заработать, само собой? Я убедился, что кое-кого из тех людей, что якобы знаете вы, знаю и я. Вы говорите, что самые почитаемые люди старой Одесы не более чем слуги ваших слуг — готов и с этим согласиться. Не понимаю одного — почему мы сейчас, рядышком, сидим на ограде Второго еврейского кладбища, как будто у нас на носу очки, а в душе — осень?
— Оставьте, Хаим. Эту книгу я тоже читал[63]. Человек, жаждущий ответа, должен запастись терпением? Человеку, обладающему знанием, приличествует важность? Всё это вздор. Вы знаете, что случилось сегодня у «Потёмкина»?
— Знаю. Поэтому вы здесь и мы с вами разговариваем. Поэтому мои мальчики не пустили вас туда, куда вы так стремились, — он указал рукой в сторону недалёкого дома с явочной квартирой. — Там вас наверняка бы повязали. В том доме есть только одна квартира, на которую вы могли надеяться, так она давно числится за жандармским управлением…
— Неужели? — вполне натурально удивился Ибрагим.
— Можете мне поверить.
— И для чего я, по-вашему, нужен жандармскому управлению? Наши пути никогда не пересекались, и этот адрес мне дали очень надёжные люди. Я скорее готов поверить, что ошибаетесь вы. Если не хуже… Не странно ли, что ваша… хаза, хавира, не помню, как правильнее — окно в окно с жандармской?
— Рядом с фонарём — темнее всего, — назидательно промолвил Хаим. — Да и жандармы с уголовной полицией — совсем разные ведомства. Что интересно одним — ни к чему другим, и наоборот.
— Так на чём мы сойдёмся ? — ответил Катранджи Хаиму его же вопросом. Ему надоело и застолье, и хитросплетения ничего не значащих слов.
— Если вам нужна настоящая помощь, мы сделаем. Вывезем, куда скажете, если что-нибудь другое — тоже.
— За какую плату?
— Бесплатно. Просто пометьте у себя в книжечке, если вы вправду тот человек, за кого себя выдаёте, что живёт по такому-то адресу старый еврей Штаркер, и передайте всем, кто готов вас слушать, что с ним можно иметь дело. На худой конец — не нужно ему мешать.
Только всё это будет иметь интерес, если вы по правде чего-то стоите. А я этого так пока и не понял…
На этом месте Ибрагим рассмеялся. Совершенно искренне, от души. Ему захотелось немножко побыть в роли Гарун-аль-Рашида. Кроме того, Хаим ему просто понравился. Это же надо, так лихо, под видом дружеской помощи захватить в плен ЕГО, и после — спокойно торговаться. Ну что же, пусть так. Посмотрим: стоит ли он чего-нибудь, как здешний авторитет? А если стоит — пригодится ли в будущем?
— Насколько вы способны контролировать не самую законопослушную часть Одессы? Вы, простите, не выглядите таким уж сильным человеком?
— А вы? Особенно сейчас. Вы ведь у меня в гостях… — продолжение подразумевалось.
— А вы, в свою очередь, не задумались, что, махни я рукой, сейчас здесь не было бы ни одного живого человека? Вон, видите, моя девочка любезничает с вашим мальчиком? Тридцать шесть выстрелов из двух стволов она сделает за полминуты. И все — в цель. Вторая — столько же. За этим столом людей гораздо меньше. Спросите у тех, кто был сегодня возле «Потёмкина», как там насчёт жмуриков? И с какой стороны? Да, с какой? Это очень важно, с какой…
И тут же, не давая хозяину опомниться, властно приказал:
— Велите подать телефон!
Старинного вида чёрный аппарат на длинном– длинном шнуре немедленно принесли.
— Звонок — за ваш счёт, — якобы шутки ради сказал Катранджи, и Хаим вежливо хихикнул. Мол, всё понял. На самом деле, Ибрагим имел в виду несколько другое, но до поры объяснять не стал.
Иерусалим ему дали через минуту. Сотрудник тамошнего офиса по условной фразе сразу узнал хозяина.
— Ну-ка, парень, живенько подними мне всё, что у нас на… — Он повернулся к старику, резким тоном спросил: — Под кем ходишь? Фамилия, погоняло…
— Эфроимсон, Лазарь Менделевич. Сенатор.
Катранджи назвал клерку оба имени.
— На всё пятнадцать минут. После этого пусть куратор перезвонит мне и Эфроимсону. А тот тоже мне. На этот же номер. Ясно? Исполняйте…
Быстрота и натиск гостя произвели на Штаркера впечатление. Пожалуй, чрезмерное.
— Вы хотите сказать, что Лазарь Менделевич сам станет звонить мне? Неизвестно с какой радости? И что он потом скажет, и что я ему отвечу? Сдаётся, сейчас я сделал большую ошибку…
— Перестаньте ныть, реб Хаим. Вы сейчас сделали самый крупный гешефт в своей жизни, и сами этого ещё не поняли. Если ваш Сенатор хоть что-нибудь из себя представляет, вы вместе с ним получите такие шансы… — Ибрагим зажмурился. — Но если нет — так нет. На этом закончим переливать из пустого в порожнее и немного подождём. Расскажите пока что-нибудь интересное за Одесу, я слишком давно тут не был…
Катранджи стало легко на душе и даже весело. Ещё две недели назад он не думал, что жизнь снова приведёт его в Россию, а вот привела, при довольно странных обстоятельствах. И он неожиданно опять ощутил себя почти тем же нормальным питерским студентом, чьей национальностью, происхождением и положением на родине никто не интересовался. Он был своим среди своих. И внутренний голос ему подсказывал, что всё может повториться. Не по Гераклиту, по марксо-энгельсовской спирали. Почти то же самое, но на другом совершенно уровне.
На дальнем конце стола вдруг возник какой-то шум. Несколько вскриков, звон бьющейся посуды. И сразу, как здесь принято говорить — вселенский хай.
Ибрагим выдернул из заднего кармана пистолет, вовремя возвращённый Кристиной, глянул на хозяина бешеным взглядом, упёр ствол ему в бок.
— Что такое? Почему?
Штаркер закричал неожиданно зычным голосом. Словно боцман парусника, командующего в шторм матросами на реях.
Мгновенно всё стихло.
Катранджи толкнул хозяина:
— Пошли, посмотрим…
Картинка обрисовалась интересная.
Тот, кто назвался Василием, сидел на земле, обеими руками зажимая лицо и тихонько поскуливал. Между пальцами сочилась кровь, и довольно обильно. Над ним стояла Кристина, держа свой «глок» за ствол.
— Что случилось? — спросил Ибрагим, опережая Штаркера.
— Этот придурок попросил у меня посмотреть пистолет, — как отличница на уроке, ответила девушка. — Я дала. Он попросил продать. Я сказала, что могу и подарить, если он расскажет, для чего весь этот цирк и кто его устроил. Он согласился и предложил поговорить в сторонке. И вдруг направил пистолет на меня. Сказал: «Это ты мне, сучка, всё расскажешь, или…» Я захотела отобрать у него оружие, тогда он два раза нажал на спуск. Правда, целил в ногу. Пистолет не выстрелил, я его у него забрала. Всё.
Штаркер обвел гневным взглядом окружающих.
Ему ответили, что слов они не слышали, но со стороны примерно так всё и выглядело.
— И что это означает, любезнейший? — Нейтральный вопрос. Но голос турка прозвучал достаточно серьёзно.
— Пока не знаю. Но выясню немедленно… — Движением головы он указал на Василия.
Пока того поднимали под локти, из тени коридора вышла Герта. Перед ней с руками на затылке, спотыкаясь, двигался Иосиф. Штанины с вырванной ширинкой едва держались на поясном ремне, практически по отдельности.
— Нет, милейший, — снова сказал Катранджи, с лёгкой издёвкой, — у вас действительно чёрт знает что происходит… Тебя тоже хотели обидеть? — обратился он к Герте.
— Да они тут все ненормальные какие-то. Только я присела на унитаз, он сорвал крючок и набросился, навалился сверху. Я сначала подумала — насиловать прямо здесь хочет. А он обеими руками — за пистолеты. Я его — за то самое место. Хотела сразу оторвать, но только сжала посильнее. Он даже заплакал. Я отпустила и велела идти сюда. Он пошёл. Это всё.
Разразиться хохотом и скабрёзными криками, как требовала достаточно комичная ситуация, полутора десяткам обитателей Молдаванки помешали стволы в руках у Катранджи и Кристины, но более всего — лица девушек-телохранительниц. Совершенно безмятежные, без малейших признаков злости, агрессивности, хотя бы обычного боевого азарта и высокомерности победительниц. Ничего.
Спокойная удовлетворённость людей, хорошо сделавших обычное, привычное, ничуть не героическое дело. Пробитое колесо на машине заменить, коров подоить…
Ибрагим смотрел на Герту. В её облике — никаких следов только что случившегося эксиденса. Костюм в полном порядке, даже причёска. Значит, хватило нескольких минут, чтобы и с нападавшим справиться, и себя в порядок привести. Прежнее чувство сменилось Другим. К восхищению примешивался почти мистический страх. Не на этих девушек направленный, обращенный совсем в другие сферы.
— А я ведь вас предупреждал, — мягко, но с металлом в голосе сказал Ибрагим Штаркеру.
— Я тоже предупреждала бабушку в трамвае, — легко вмешалась в разговор старших Кристина. — Зачем, спросила, на Молдаванке трупы? Передайте, кому положено.
— Она передала, я не сумел правильно объяснить, — сокрушённо склонил голову Хаим. — Этих — убрать, — он брезгливо отмахнул рукой. — Потом разберёмся. А вы, Ибрагим Рифатович, простите, если можете. Пойдёмте, телефонного звонка подождём. Вы, девушки, с нами…
Остальным, якобы гостям, заполнявшим двор, велел продолжать застолье, но — чтобы ни звука.
— Так почему пистолет не выстрелил? — спросил Катранджи Кристину, когда они вчетвером расселись во главе стола, как равные. Ривка и Сима стремительно меняли приборы и тащили очередные подносы с тарелками, мисками, горшочками.
— Я похожа на дуру, дядя Изя? Долго из полной обоймы патроны вытряхнуть? Для чего и в туалет выходила… А разницу в весе без хорошего опыта у чужого ствола не заметить.
Ибрагим довольно кивнул, а Штаркер съёжился.
— Поверьте, Ибрагим Рифатович, ничего такого никому не приказывал. Велел глаз не спускать — это да. Но ни слова больше.
— Ваша забота, — небрежно ответил Катранджи.
— Имейте в виду, — минуя его, прямо обратилась Кристина к Хаиму, — минут через пять сюда могут подъехать ещё две наших девушки и два других человека. Ошибка не повторится?
— Да ни боже мой! — интересно, как кадровый еврей легко употребляет присказки совсем другой конфессии. Впрочем, на то она и Одесса: здесь смешалось то, чему смешиваться вроде как совсем нельзя.
Телефон зазвонил резко, пронзительно и отрывисто, как это принято в международной связи. Катранджи снял трубку, выслушал доклад с той стороны.
— Хорошо, — и отсоединился. — Первый экзамен вы выдержали, Штаркер. Подождём результатов второго. Скажите, кстати, у вас найдётся место, где мы сможем побеседовать с вами и кое с кем ещё по-настоящему конфиденциально? Без малейших опасений?
— Да здесь и можем. С гарантией… — и осёкся, встретившись взглядом не с Катранджи даже, с Кристиной.
Звук подъехавших с до предела сброшенными оборотами моторов автомобилей за общим шумом не расслышал никто, кроме неё и Герты.
Девушка перевела свои глубокие, чарующие глаза на Ибрагима и с потешной миной глубоко вздохнула. Только что руками не развела.
Калитка открылась, в неё вошли Уваров и Окладников, во всем блеске военной формы. Тремя шагами сзади — Анастасия и Марина.
— Вот и вся ваша гарантия, — спокойно констатировал Катранджи. — Если это, допустим, жандармерия, вы нас защитили?
— Если бы это была жандармерия или полиция — я бы вас точно защитил. Вернее сказать — они бы сюда без предупреждения и не приехали. А если приехали и вошли без шума — их заслуга, но немножко и наша…
— Умеешь ты выкручиваться, — отпускающе махнул рукой Ибрагим. — Но нам как раз такие нравятся. Присаживайтесь, господа офицеры, — он даже встал навстречу Уварову. — И прекрасные дамы. От всей АУШи благодарю за ваши труды. — Сказать «благодарю за службу» он права не имел.
— Не говоря о высоких материях, прошу иметь в виду, что моё слово, данное милейшим девушкам, украшению нашего стола, распространяется и на вас. Независимо от долга службы.
Уваров посмотрел на Анастасию, на Кристину. Первая пожала плечами, вторая кивнула. Всё в порядке мол, знаю, о чём речь.
Телефон зазвонил снова. Уже — по местной линии. Ибрагим указал глазами Штаркеру — бери, это тебя.
Тот сколько-то времени слушал, отвечая междометиями, потом, вытерев пот со лба, ответил:
— Спасибо и на этом. А как там дальше повернётся… Передаю трубку.
С Сенатором Катранджи говорил совсем недолго. Назвал несколько сочетаний цифр, пару раз хмыкнул в ответ на какие-то слова.
— Одним словом — на всё вам полчаса. Тогда и продолжим.
Удовлетворённо и даже расслабленно вздохнул, опустив трубку на рычаг. Чего ему теперь опасаться? С ним уже четыре девушки и два боевых офицера. И главный смотрящий Одессы скоро приедет. Глядишь, с его помощью он размотает все непонятки раньше генерала. Легче будет дальше вести переговоры с Игорем Викторовичем, а там, глядишь, и с самим Императором.
— Вам, господин подполковник, эта форма идёт больше, чем смокинг метрдотеля, — повернулся он к Уварову.
— Тот кивнул по-гвардейски, несколько утрированно благодаря за комплимент.
— Вы бы позвонили вашему шефу, — сказал Катранджи, — что у нас всё в порядке и он может не беспокоиться. А то ведь переживает, наверное.
— Непременно будет исполнено, — снова наклонил голову Валерий.
— Пока присаживайтесь, закусите, чем бог послал, — тоном хозяина предложил Ибрагим. — Теперь я окончательно почувствовал, что основные неприятности позади. Можно и поразвлечься. Тем более — у вас всех есть все основания быть довольными сегодняшним днём…
Кристина загадочно улыбнулась всем сразу, а Уварову почти фривольно подмигнула, наслаждаясь мгновенно посуровевшим лицом Анастасии.
Лазарь Менделевич Эфроимсон оказался мужчиной возрастом около пятидесяти лет, явно за собой следящим. Крупный, но не толстый, подтянутый, в очень недешёвом костюме, регулярно посещающий хорошего парикмахера. Пышная каштановая шевелюра без намёка на седину модно подстрижена и уложена волосок к волоску.
Весьма приличный господин. Со всеми присутствующими поздоровался с достоинством, без подобострастия, не выразив ни малейшего удивления пестротой собравшейся компании, хотя удивиться было чему. Два офицера армейской и морской пехоты, четыре девушки-красавицы и неопрятный жлоб, он же заграничный миллиардер (и не только), в окружении колоритной молдаванской публики.
Если обстановка до конца непонятна, но находишься всё-таки на своей территории, некоторая доля непринуждённой наглости не повредит. Как задел на будущее, если всё пойдёт, как представляется, и позиция, с которой нетрудно отступить в противоположном случае.
И что же у нас такого приключилось, если пришлось договариваться о встрече аж через Иерусалим? — спросил он, устраиваясь на стуле между Штаркером и Катранджи. Остальные участники застолья, «местные жители», исчезли так быстро и бесшумно, словно их тут никогда и не было. Только Ривка и Сима задержались на несколько минут, чтобы в очередной раз убрать со столов лишнюю посуду и подать гостям свежие приборы.
Уваров с Окладниковым сидели по правую руку от Ибрагима, девушки — по левую от Штаркера. В результате новоприбывший оказался под прицелом шести пар глаз. Если юные валькирии не выражали взглядами ничего, кроме любопытства по поводу очередного явления природы, то от офицеров Эфроимсон предпочёл бы оказаться как можно дальше.
Подполковник в форме строевого пехотного офицера смотрел на него с улыбочкой, очень нехорошей. С ней же он мог бы приказать своим солдатам расстрелять его, и кого угодно другого, небрежно похлопывая стеком по голенищу сапога. А второй, капитан Очаковской морской пехоты, земляк, можно сказать, даже не пытался как-то маскировать свои чувства. Видно было, что он давно и тяжело ненавидит всех, принадлежащих к миру Молдаванки и окрестностей. Или были у него на то какие-то личные причины (что совсем не исключено), или он просто считал всех, избравших не тот жизненный путь, которым следовал сам, отребьем человечества, не заслуживающим права на жизнь.
Лазарю Менделевичу стало зябко на душе. Очень наглядно в карих глазах морского пехотинца высвечивалась библейская истина: «Все мы в этой жизни лишь прохожие». Он, всесильный хозяин Одессы и прилегающих территорий, тот, кому беспрекословно подчиняются около ста тысяч человек, весь мир «деловых», «фреев» и «шестёрок», а также все, хоть раз имевшие неосторожность соприкоснуться с этим великолепным тайным миром, в глазах капитана с жалким жалованьем — дерьмо. Скомандуют ему, или скомандует он сам — «пленных не брать!», и никакими деньгами, никакими мольбами от этого беспощадного приказа не откупишься.
И ещё одно понял Эфроимсон — эти два офицера сегодня были в бою. Именно там, на бульваре и возле Потёмкинской лестницы. Он уже знал, что среди убитых восемь нападавших и трое — государственных людей, неважно, какой служебной принадлежности. До тех пор, пока не отомстят за товарищей, эти вояки не успокоятся.
Значит, он сделает всё, чтобы такая туча ушла с его горизонта.
— У вас бы лучше спросить, уважаемый, — ответил на вопрос смотрящего Катранджи. — Когда последний раз в центре города у вас случался такой шухер?
— Да и не припомню, честно говоря. Лет тридцать назад что-то похожее было, так аж на самой Пересыпи, а в центре — с Гражданской войны не случалось, пожалуй.
— Договоримся следующим образом. — Ибрагим, давая понять, что обо всех предыдущих недоразумениях забыл и желает начать отношения с чистого листа, поднял свою рюмку и жестом предложил всем сделать то же самое. — Вы, Лазарь Менделевич, вы, Хаим Мотлевич, с помощью всех ваших людей за два Дня выясните, что и как в вашем прекрасном городе случилось без вашего ведома (непорядок, согласитесь) , установите виновных и причастных, после чего объясните происшедшее мне. Так, чтобы я правильно понял, с одного раза. До кого сумеете дотянуться — возьмите и спрячьте в надёжном месте. Мы с подполковником посмотрим и решим — что с ними дальше Делать.
Он посмотрел на Уварова. Тот одобрительно кивнул, не тратя время на слова.
— Российские власти, безусловно, предпримут все необходимые, с их точки зрения, меры, я не сомневаюсь… Но меня интересует то, что сумеете найти вы. От этого будет зависеть вся дальнейшая наша с вами совместная деятельность. Или — на ваше место найдутся другие персонажи. Вы видите, насколько сегодня тесны мои отношения с государственной властью? Я это не стесняюсь говорить при очень высоких людях из Москвы. Советую оценить. На этом встречу высоких договаривающихся сторон считаю оконченной. Господин подполковник, — обратился он к Валерию, как к старшему здесь по званию, — скажите Лазарю Менделевичу, где нас можно будет разыскать в пределах обозначенного мной срока.
Уваров назвал несколько номеров телефона. Этого достаточно.
— Тогда мы поехали. Счастливо оставаться.
Теперь, считал Валерий, опасаться им в Одессе больше нечего. Их автомобили сопроводил довольно приличный кортеж из трёх легковых машин и десятка очень крутых мотоциклистов, ехавших, впрочем, не кучей и не строем, а вразбивку, перекрывая сразу несколько кварталов впереди и позади. Эти крупные, наглые, устрашающего вида парни на тысячекубовых кроссовых «Днепрах» и «Уралах» способны были внушить уважение инспекторам дорожной полиции в любом чине, не говоря о мирных автовладельцах. Им и было поручено почти демонстративно обозначить патрулирование дома, где остановились Чекменёв, Катранджи, и Уваров с девушками. До особого распоряжения «молдаванским мальчикам» постов покидать было не велено, но никто не запрещал им сменяться по свободному графику. Так что центр Одессы имел удовольствие всю ночь слушать рокот сотни мощных мотоциклов, хаотически перемещавшихся по улицам и переулкам. Но — никаких безобразий. И с заполнившими город военными разъездами у них недоразумений не возникало.
Настенные часы отбили полночь. Катранджи смыл с помощью Кристины и Марины идиотский грим, принял душ и отправился спать в отведённую ему комнату. Девушки вчетвером устроились в соседней. Только после этого Уваров, сам уставший до невозможности, не меньше, чем после варшавского рейда, с ощущением песка из пустыни Кара-Кум в глазах, доложил генералу факты минувшего вечера и свои предварительные соображения на грядущий день.
— Позвольте и мне, Игорь Викторович, минут триста ухо придавить. Могу даже, как в карауле, не раздеваясь. Расстегну две верхние пуговицы и сапоги стяну до середины голенища.
— Не надоело дурака валять? Или мне теперь до конца дней, твоих или моих, предстоит выслушивать вариации на тему всех бывших, действующих и проектируемых уставов?
— Это уж как сложится, ваше высокопревосходительство. Жизнь у нас с вами, конечно, не слишком комфортная, так нас ведь на службу никто силком не тащил…
Чекменёв понял, что так действительно всю жизнь и будет. Не даст ему спокойной жизни граф Уваров. Если… Если только не настоять перед Императором, чтобы спровадил тот наглеца, в соответствии с титулом и заслугами, военным агентом[64] в какую-нибудь Бразилию или Аргентину. Должность там генеральская, а личные контакты будут сведены максимум до одного-двух в год. В худшем случае.
— Да, иди, конечно. Я тоже посплю. Пока тебя не было, я связался с Тархановым. Завтра он прилетает во главе спецгруппы. С особыми полномочиями.
— Куда уж особее, чем есть? — безразлично спросил Валерий, которому начальственные игры смертельно (в буквальном смысле) надоели.
— Бывают, бывают, — заверил его генерал. — Ты давай, иди, но до прибытия Тарханова расскажешь мне всё про твоих девушек. Тут вы меня в тупик поставили, честно признаю… Могли бы и раньше доложить про столь ценное приобретение.
— Это не ко мне вопрос… Крут моих полномочий вы знаете.
— Как не знать. И крут знаю, и твои возможности знаю. Давай лучше, завари себе и мне кофе или чай по-адмиральски и по-быстрому изложи, что с этими девицами и как, откуда взялись… Минут в десять уложишься, и спи, сколько влезет…
…Уваров рассказал генералу не так уж много, лишь самую суть, могущую представлять интерес на его уровне компетенции. Но всё равно доклад подполковника Игоря Викторовича заинтересовал весьма и весьма. С разных точек зрения. Пусть он официально отошёл от дел, но не случайно его пост начальника Разведупра оставался вакантным. Ставить на него любого, пусть даже вполне надёжного, проверенного и лично ему преданного человека он не хотел. Лучше оставить как есть. Тарханов — первый зам. Стрельников — второй с правами первого. Есть ещё три по разным вопросам. Как-то так сложилось, что были все уверены, будто фактический начальник в природе существует, но вроде поручика Киже — фигуры в данный момент не имеющий. Бубнов — возглавляет отдел спецконтроля, формально тому же Тарханову подчинённый, но на деле — скорее Ляхову. Сам Ляхов — по-прежнему слушатель Академии, он же императорский флигель-адъютант, он же куратор Тарханова по линии вновь восстановленного в прежнем качестве военно-исторического клуба «Пересвет».
Сильно всё закручено и запутано (для посторонних, чтобы труднее вмешиваться было), но схема работает. Причём — что главное — помимо всех перестраиваемых под нового самодержца и вновь создаваемых общегосударственных структур. Нет, Византия из нашего естества никуда не девается, невзирая на почти трёхсотлетние попытки устроить жизнь в общеевропейском духе. Никак не выходит и не может выйти — не в Швейцариях живём!
А затея у Ляхова вышла знатная, верен себе Вадим Петрович. Хорошо, что все неясности в отношении него давно рассмотрены и признаны несущественными. Можно использовать его способности, явные и скрытые, без опаски и для пользы общего дела.
Чекменёв прикрыл глаза и начал реконструировать, облекать в плоть и кровь живых подробностей Доложенную Валерием схему. Не девушки, а настоящие кошки. Сегодня он мельком увидел четверых. Дело своё они исполнили блестяще, Катранджи не смог скрыть восхищения, а оценка такого человека — Дорогого стоит, пусть и эмоциональная. Уваров фактическую сторону изложил в обычной своей манере:
«Пишем, что наблюдаем, а чего не наблюдаем, того не пишем». От этого картинка приобрела объёмность.
Да, кошки сиамские. Не дурак был тамошний король. Двести особей, и никакой гвардии для охраны дворца не нужно. Государю Императору Павлу первому, Петровичу, в Михайловском замке его примеру последовать — мог ещё лет тридцать процарствовать, и Мальту бы присоединил к Империи, до войны двенадцатого года не допустил. Так то — обыкновенные кошки, бело-кофейные, а если вот таких, как их предводительница Анастасия — тоже двести?
Чекменёв медленно уплывал в глубину наконец посетившего полунаркотического сна, и перед глазами мельтешили кошки-девушки, девушки-кошки и совсем уже непонятные цветозвуковые химерические видения…
Валерий, сообщив Чекменёву всё, что мог и хотел, ушёл на кухню, почти с отвращением выкурил неизвестно какую за этот бесконечный день сигарету, устроился тут же на диване под раскрытым окном. Внизу на улицах — полная тишина, удивительно даже. Только изредка рокочет на малых оборотах проезжающий мотоцикл, визжит вдалеке на повороте колёсами по рельсам трамвай.
Уваров закрыл глаза, натянул на голову одеяло, и через несколько минут с удивлением понял, что сон не идёт. Только что казалось — едва донесёт голову до подушки, тут и отключится без сновидений, что у него получалось даже сразу после настоящего боя. А сейчас — никак. Лезут разные непрошеные мысли, в том числе и о Насте, спящей сейчас вместе с под– рутами в соседней комнате. А если б здесь, рядом с ним? Диван узковат, да уж поместились бы…
Он ещё поворочался с боку на бок, перевернул подушку прохладной стороной вверх — никакого реультата. Пришлось снова встать, налить ещё рюмку. Испытанное средство.
И — опять ничего. Буквально ни в одном глазу. Или действительно сегодняшняя нагрузка оказалась сильнее любой из ранее пережитых, или тревога за любимую девушку, его же приказом брошенную в водоворот событий, не каждому профессионалу посильных. Прямо как у Пушкина: «Воспоминанья предо мной свой длинный развивают свиток… И с отвращением читая жизнь свою…»
…Месяца два назад Уварова пригласил к себе в Кремль полковник Тарханов. Поговорили о делах текущих, порассуждали о том, что в ближайшие несколько лет ни отдел «Глаголь» со всеми отрядами «Печенег», ни старую Гвардию реформировать и включать в новые общегосударственные структуры не стоит. Здесь они были вполне солидарны. Уваров, пользуясь случаем, аккуратно намекнул исполняющему обязанности, что два-три новых отряда развернуть невредно.
— Мобилизационные возможности у нас возросли, финансовые — тем более. Давайте попробуем, Арсений Николаевич… Тревожно мне, хоть верьте, хоть не верьте. Случись чего — лишние несколько хороших рот могут больше, чем строевая территориальная дивизия сделать. Сами лучше меня знаете. И для офицеров Экспедиционного корпуса, выводимого из дальнего зарубежья, работа найдётся, не всем же из спецназа в интенданты переходить захочется…
— И у тебя должность сразу полковничья станет, — сказал, без стука входя в дверь кабинета, полковник Ляхов, в обычной форме слушателя третьего курса, без всяких аксельбантов, орденов и планок.
— Селектор у адъютанта отчего-то включен, — тут же пояснил Вадим Петрович, отметая мелькнувшую у Уварова мысль о подслушивании. — А самого — нету. Мышей перестаёшь ловить, Сергей Васильевич? (Как-то так сложилось, что Тарханова называли то так, то этак, в меру личной приближенности или оперативных соображений. Хотя по основным документам он всё же проходил Тархановым С. В.).
Сергей взглянул на пульт селектора и, выматерившись, хлопнул ладонью по кнопке. И вправду непростительно. Сейчас-то ладно, а если в другом случае повторится?
— А ты его вообще отключи на хрен, — посоветовал Ляхов. — Звонком адъютанта вызовешь, ничего с ним не сделается, лишний раз пробежаться… Но я не об этом.
Полковник вальяжно расположился в кресле, спиной к окну.
— Валерий прав, но скромничает. Не два отряда — пять нам очень даже пригодятся. Главное — запретить некому, по причине отсутствия внятного руководства. Десять отрядов — полноценная бригада, по фактическим возможностям равная армейскому корпусу, а заодно и нескольким окружным охранным управлениям. Без тяжёлой техники, правда, так я по своей линии всегда эти вопросы могу, где надо, порешать. Добавят нам в условные планы развёртывания танковый, вертолётный и два моторизованных полка оперативного подчинения — гуляй, Ваня! Знаю даже, какие именно, с командирами за рюмкой обмозговывали. У нас в «Пересветах» больше и заняться нечем. И ты, ваше графское сиятельство, незаметно для окружающих выползаешь на генеральскую должность, как разведчик на высотку…
Этих слов Ляхова, как и многое другое из сказанного тот раз в кабинете, Уваров, естественно, Чекменёву не передал.
Затем Вадим Петрович, как бы ни с того, ни с сего, без всякого предварительного подхода, кроме как испрошенного у хозяина «гвардейского тычка» (у Императора научился), предложил один из новых печенеговских отрядов сделать чисто женским. И уловил на лицах собеседников тень непонимания — зачем, мол, такое? В случае чего подходящие к конкретному заданию девушки всегда найдутся в управлении, а отдельный отряд… Странно даже. Что, к примеру, они станут делать большую часть нормальной службы, специфических качеств не требующей, но женскому организму противопоказанной психологически и физиологически.
— Примитивно мыслите, господа, — развеселился Ляхов. — Строевики, тудыть вас туда, куда отцовский вестовой всех окружающих посылал, после окончания загиба непременно добавляя: «Господ штаб-офицеров не касается»[65]. Девицы для разовых поручений или там оперативных игр — это совсем одно, а спаянное боевое подразделение — совсем другое. Не мне объяснять вам, граф, строевому офицеру, что надёжнее: собственная разведрота в полку, которую вы поштучно собрали и не первый год тренируете «под себя», или временно приданный взвод с «бору по сосенке», пусть даже от щедрот насуют в него лучших спецов из дивизионных и корпусного разведбатов… Не так?
Тут возразить было нечего. Уваров великолепно знал, насколько трудно и, главное — утомительно для психики командовать сводными частями. Особенно — на опыте последней польской кампании.
Он ещё раз подивился удивительным талантам Ляхова: никакой не офицер, лекарь из запаса, а в тактическом да и стратегическом мышлении любому кадровому полковнику фору даст. Что значит общее качество личности и знание психологии! Медики — они в массе такие. Если человек им понятен изнутри, во вскрытом виде лежащий на операционном столе, так и в здоровом виде — не менее.
И тут же Валерию вспомнился военврач третьего ранга Терёшин Александр Алексеевич. Именно благодаря натуре и знанию всяческих подводных течений, имеющих место на службе, помогший Уварову — затюканному поручику захолустного гарнизона стать тем, кем он есть сейчас[66]. И охватил его стыд. Настоящий, глубокий, ничем не компенсируемый. Александр ведь ему тогда впрямую сказал: «Если у тебя сложится, ты меня не забывай. Позвони или письмишко черкни. Из Африки ли, из Пентагона. Договорились?» И что в итоге? Терёшин наверняка читает (а что ещё в глухом гарнизоне делать?), все исходящие приказы, не только циркулярные, а и публикуемые в журнале «Русский инвалид». Там было и о его награждении Георгием, и не только, и о производстве в чины… А Саша так и сидит в своём БМП[67], изнывая от тоски, бесперспективности жизни и злости на неблагодарного товарища. А что можно сделать? Да вот что — пронзила мысль.
— Мы, господин полковник, предложенную вами идею обсудим пятью минутами позже. А сейчас можно — личную просьбу? Первую за всё время совместной службы. — Валерий опять не удержался от лёгкого ёрничества: — Многие, достигая чинов и званий, склонны забывать о тех, кому обязаны не токмо продвижением, а и самой жизнью моментами…
— Это ты о ком? — удивился Тарханов?
— Тост, что ли, собрался произнесть? — проявил большее понимание момента Ляхов.
— Тост тоже можно, если нальёте. Но перед тем как… — он выдержал паузу, — прошу обещания безусловно выполнить мою скромную просьбу. Абсолютно сейчас вашей властью исполнимую, Арсений Николаевич, и уж тем более вашей, Вадим Петрович…
— Чего это он? — весело воззрился на Тарханова Вадим, разливая меж тем извлечённый из сейфа Сергеем коньяк, недопитая бутылка которого покрылась исторической пылью ещё с начала московских событий.
— Да обычно с таким настроением у старшего начальника руки его дочери принято просить, — показал Тарханов, что и он не чужд юмора.
— Вроде того, — глубоко вздохнул Валерий. И рассказал ту самую историю. Она вызвала похожую, но не совсем одинаковую реакцию у двух действительно почти всесильных на сей момент полковников.
У Тарханова — скорее служебную, а у Ляхова — эмоциональную. Очень он ярко представил себе жизнь и настроения коллеги (пятнадцать лет, представьте себе!), тянущего гарнизонную лямку. Дослужившегося пусть и до бригадного врача и обречённого уйти в отставку максимум подполковником. Чистый Жюль Верн — «Пятнадцатилетний капитан»! И уже второй Г°А ждущего, не поможет ли и ему чем товарищ, которого он из этой дыры вытащил.
— Чего же ты хочешь? — спросил после короткой общей паузы Тарханов.
— Пусть кто-нибудь из вас снимет сейчас трубку нужного телефона, и прикажет направленцу Главупраформа по Туркестанскому округу — сегодня же, самолётом командировать такого-то и такого-то в Москву. В личное распоряжение… Ну, кого хотите. Наверное, удобнее будет в ваше, Арсений Николаевич. А насчёт следующего чина и всего, что можно дать за многолетнюю и беспорочную, включая Владимира третьей степени с мечами — проще вам решить, Вадим Петрович…
Валерий замолчал, чувствуя, что запал и настрой руководить старшими начальниками у него кончился.
Ляхов предложил всем выпить налитое и сказал задумчиво, адресуясь в основном к Тарханову.
— Всё же неплохую молодёжь мы воспитали, ваше высокоблагородие. (При том, что был он старше Уварова всего на пять лет.) Момент-то как выбрал! И куда нам деваться?
— А я готов взять Терёшина к себе, старшим отрядным врачом. Он, конечно, не вы и не Бубнов, но в общемедицинских вопросах и как человек вполне меня устроит, — уже в пустой след добавил Уваров.
— Да хватит, хватит, — отмахнулся Тарханов и отдал по телефону соответствующее указание, тоном, не предполагающим дополнительных вопросов: — Да, именно самолётом, любым, хоть специальным, если подходящих рейсовых нет. Завтра в десять жду его у себя…
— Видишь, Валерий, — с лёгким оттенком назидательности сказал полковник, — «Дульце эт декорум…», как там дальше? — замялся не слишком грамотный в латыни Тарханов.
— Если в оригинале: «э про патриа море»[68], — снова вмешался Ляхов. — Не совсем по делу, конечно, но я твою мысль уловил. Но если продолжить в римском стиле, тогда лучше так: «Бис дат, кви цито дат ад хонорес кауза»[69].
— Завтра в десять прошу быть у меня в приёмной, — строгим голосом сказал Уварову Тарханов, после чего вернулся к прежнему. — Так давай, Вадим, продолжай про девочек. Лично мне очень интересно.
— Кому ж неинтересно, — состроил мефистофелевскую гримасу Ляхов. — Я, чтобы было ещё интереснее, предлагаю создать отряд «Печенег-7», или — «Печенег-А», от слова «амазонки», для вящей экзотики. Первый взвод супербарышень я вам через неделю представить готов. Два следующих — через три, из уже числящихся в кадрах, и других тоже, от профессиональных разведчиц до философинь, филологинь и инженерш любой квалификации. На военмехе, кафедрах взрывчатых веществ или артиллерийских систем есть тоже весьма талантливые девочки… Каждая будет иметь какое-нибудь мастерское спортивное звание, от стрельбы, боевых единоборств и горных лыж до акробатики, художественной гимнастики включительно. Я уже прикидывал наши мобилизационные возможности. Через верископ в том числе. В таком отряде и особые курсы ввести можно, в присутствии мужского контингента неуместные, и ещё всякое такое… — он пошевелил в воздухе расставленными пальцами.
— Снова несёт тебя, Вадик, — сказал Тарханов, а Уваров вслушивался в слова полковника с большим интересом.
— Да пусть и несёт. Свободный поток сознания, он, знаешь ли… Очень способствует.
Ляхов особенным образом приосанился, подвинулся на самый край мягкого кресла, положил локти на стол и взгляд его стал отстранённо-туманным.
Хорошо поставленным голосом (не зря в детстве занимался в драматической студии), начал вдруг читать, будто священник с амвона проповедь пастве:
— Киплинг, если не ошибаюсь, — сказал Уваров, когда произошёл процесс усвоения психологически выверенного текста.
— Кто же ещё, — кивнул Ляхов. — В нашей богоспасаемой державе между поручиком Лермонтовым и поручиком Гумилёвым зияет дырка диаметром в век. В промежутке исключительно: «Только не сжата полоска одна, грустную думу наводит она…», «И пошли они, солнцем палимые, повторяя — «храни тебя Бог», «Ваши пальцы пахнут ладаном…». Какая, на хрен, при такой поэзии национальная идея? То ли дело: «Несите бремя белых, пошлите сыновей…»
Полковнику Тарханову эти интеллигентские рассуждения были мало интересны. Некрасова он читал, по программе, и Лермонтова. Гумилёва в основном от Вадима слышал, до Киплинга его образованность не дошла. А сейчас показалось, что — надо бы. Он, разумеется, не воспринял общение Ляхова с Уваровым на их уровне за унижение, но некоторую обиду всё же испытал. Но тут же и снизил планку. На скрипке его тоже играть не научили, так что?
— И вообще, дорогие друзья, — с весёлым вызовом сказал Вадим, — совершенно ни в чём я вас убеждать не собираюсь. У меня к вашей службе отношение Десятое. А вот в хороший кабак приглашаю. На несколько часов службу забудете и к выходящей за пределы вашего воображения жизни прикоснётесь.
При этих словах Уваров насторожился: Вадим Петрович никогда (в его присутствии, по крайней мере), не говорил ничего просто так. И, следовательно, опять ожидается нечто интересное.
А Тарханов отнёсся к приглашению друга попросту. Чем, на самом деле, плохо? Закатиться в приличное заведение, отдохнуть, как встарь. Начальства над ним нет, никто не вызовет в самый неподходящий момент.
— В штатское — переодеться? — только и спросил Сергей.
— Вполне необязательно. Мало по ресторанам офицеров хаживает? Да мы в такой пойдём, где, если захочешь, нас вообще никто не увидит…
Ляхов привёз друзей в неизвестное им место, недалеко от центра, в одном из многочисленных, причудливо запутанных переулков между Гоголевским и Смоленским бульварами. Москва большая, любой может найти что-нибудь по вкусу именно себе. Да вдобавок у каждого из сотрудников управления имелись собственные места, рассчитанные и на приятное времяпрепровождение вдали от посторонних или слишком знакомых глаз, и обеспеченные всем необходимым для конфиденциальных встреч. Такие, куда не тот человек не забредёт даже случайно. А если и забредёт, так ничего лишнего всё равно не увидит и не услышит.
Этот ресторанчик, разместившийся за неприметной дверью в цокольном этаже семиэтажного доходного дома постройки конца позапрошлого века, за популярностью явно не гнался. Вывеска на нём имелась, но столь неприметная, что, проходя мимо, не каждый заметит. Зато внутри всё было оборудовано с учётом самых требовательных вкусов. Вообще это был не столько ресторан, сколько подобие клуба с соответствующими порядками, но пускали гостей и «с улицы», если швейцару они казались того достойными.
Официант, знавший Ляхова в лицо, немедленно, не дожидаясь заказа, начал их обслуживать. Меню не предлагал.
— Да и не нужно, всё давно известно, — сказал Ляхов, раскуривая сигару.
— Так не будет, как на Дмитровке? — на всякий случай спросил Тарханов[70], вспомнив так до сих и непрояснённый инцидент в «Извозчичьем трактире».
— Здесь — точно не будет.
Пока они слегка закусывали, Вадим продолжал прерванную тему — относительно женского подразделения.
— Вы сейчас это потому не представляете, что слишком глубоко в вас пехотная закваска сидит. А могу привести доводов в пользу своего предложения не меньше, чем доказательств бытия божьего, которых, как известно, насчитывается ровно пять, а с учётом кантовского — так целых шесть. И это только в христианстве, не касаясь более экзотических религий…
— Ну, понесло, — благодушно сказал Тарханов, которому ресторанчик нравился, закуски и напитки — тем более. — Наверняка собирается очередные зачёты сдавать и на нас тренируется.
— И это не лишено, — согласился Вадим. — Я не буду говорить о таких банальных вещах, как то, что правильно подготовленные девицы способны выполнять задания, мужикам не доступные по определению. Зачастую они могут одновременно участвовать в Двух или более акциях, иногда в разных ролях, а иногда, что ещё более интересно — в одной и той же, но по разные стороны баррикад. Отличаются высокой психологической устойчивостью и физической выносливостью (причём, что особенно ценно, в тех случаях, когда от них этого совсем не ждут), да ты и сам, Сергей, в этом убедился за время нашего рейда. Свойственные женскому полу обстоятельность, педантичность, бытовая предусмотрительность, равно как и пресловутая женская логика при грамотном использовании тоже могут обеспечить определённые преимущества в играх с противником, которому свойственны те же предрассудки, что и большинству из нас. А если противник принадлежит к иным цивилизациям и культурам — тем более.
И, наконец, будучи сведёнными в одно подразделение несколько десятков дам и девиц разных возрастных групп способны образовать внутри себя некое новое качество, по отдельности и на вольных хлебах недостижимое…
Уваров, не перебивая старшего товарища, усмехнулся довольно двусмысленно.
— И это тоже, мой юный друг, и это тоже, — с энтузиазмом откликнулся Ляхов. — Таким, как ты, молодым, активным и полностью посвящающим себя службе, инспекторские поездки в означенное подразделение намного облегчат неизбежные «тяготы и лишения». Вдруг да и жену себе там подберёшь.
Теперь уже и Тарханов засмеялся.
— Не в этом ли как раз твой интерес и заключается, Вадим Петрович? С тех пор, как твоя и моя супруги больше времени проводят на Кавказских Водах, нежели в Москве, отчего бы и нет?
Тут Сергей коснулся деликатной темы.
Майя и Татьяна настолько полюбили Кисловодск и вообще южные курорты, что, подобно дамам девятнадцатого века, жившим более в Ниццах и Парижах, чем на родине, при каждом удобном случае норовили выскочить туда, когда на неделю, а когда и на месяц, особенно весной и осенью. В чём, безусловно, сказывалось вредное влияние Ларисы. Но, откровенно сказать, чем особенно заниматься в Москве, когда мужья сутками пропадают на службе, причём Вадим не только служит, но ещё и учится ? Татьяна во второй (впрочем, теперь уже первой), столице настоящими подругами так и не обзавелась, северная прельщала её ещё меньше. А Майе интереснее было прежних московских приятельниц принимать в своих новых владениях. Всего-то — полтора часа самолётом. Стало даже модно большими компаниями выезжать в Кисловодск на уик-энды, что значительно способствовало оживлению провинциальной светской жизни.
Они даже подбили Тарханова с Ляховым затеять строительство собственных вилл по соседству с Ларисиным замком, благо и сама Лариса, и господин Лихарев не отказывали в бессрочных и беспроцентных кредитах, да и в остальном помогали, пользуясь своими безграничными связями. Что было очень кстати, поскольку ни Сергей, ни Вадим по известным причинам засвечиваться в тех краях не имели никакого желания.
В общем, такое положение устраивало всех. Ляхов, как известно, вообще был не сторонником «настоящей» семейной жизни, «не созрел ещё», как он сам выражался, и сложившийся порядок вещей был именно таким, как ему и представлялось в идеале. Да и Майе, судя по всему. А Тарханов вообще до сих пор не понимал, что у них с Татьяной получилось. «Ни то, ни сё», можно сказать. И не любовь, и не семья, а так. «Просто встретились два одиночества…». Он самим фактом возобновления старой связи дал ей столько, включая орден, дворянство и статус придворной дамы, что большего и требовать невозможно. Она и не требовала. Согласилась бы и на роль настоящей Жены при строгом и даже деспотичном муже, если бы Сергей оказался таковым, а если ему достаточно, что она носит его фамилию и делит с ним постель, когда возникает желание или возможность, — пусть будет так. В любом случае с ним лучше, чем было без него.
О настоящей причине своего отношения к Тарханову Татьяна не догадывалась. Единственная, кроме него самого. Но это уж, как водится. Кто бы им рассказал?
— Идея гарема мне в принципе не чужда, — согласился Вадим, дождавшись, пока официант наполнит рюмки и удалится, — но не на службе же! Вы только представьте, во что подобная коллизия может вылиться с течением времени…
И тут же согнал с лица усмешку сластолюбивого сатира.
— Я, собственно, для чего вас пригласил именно сюда и для чего завёл этот разговор. Все мы тут люди серьёзные. И я от не менее серьёзных людей получил аргументированное предложение, которое и вынес на ваше рассмотрение. У них, в отличие от нас, женщины служат везде, достигая и генеральских чинов. Вполне успешно. Словесные доводы, как я понимаю, исчерпаны, теперь хотелось бы кое-что продемонстрировать. Пойдёмте…
Горячие блюда подадите, когда мы вернёмся, — бросил он, проходя мимо метрдотеля.
— Тут, видите ли, не только ресторан, и даже — не столько ресторан, — продолжал Вадим, когда они спускались по лестнице в полуподвальные помещения. — Оздоровительно-развлекательный комплекс, в некотором роде. Идея позаимствована тоже у наших друзей… Из близкой параллели.
Тарханов и Уваров поняли, о чём речь. Успели познакомиться с вояками-прадедами из врангелевской Югороссии. Хотя, как и этому Вадиму, побывать в двадцать пятом или две тысячи шестом году им пока не довелось. Организовать экскурсию через стодешниковскую квартиру для каждого из них членам «Братства» не составило бы никакого труда. Просто по необъясняемым Ляхову причинам это считалось нецелесообразным.
На самом же деле в «Братстве» опасались (обоснованно или нет, не так важно), что грузить Главную Историческую последовательность дополнительными парадоксами не стоило. И без того забот хватало.
Ляхова-Фёста пропускать сюда считалось возможным, а вот Секонда и вообще кого бы то ни было туда — Левашов предполагал делом если и не чересчур рискованным, то малопредсказуемым. Чёрт его знает, может, Ловушка того и ждёт, чтобы двойники– аналоги совместились не в химере, а в реале. Может, ради именно этого всё и задумано? Мало того, что уже случилось?[71]
— Здесь и бани есть, и тренажёры всякие, и бильярд, и комнаты для тихих игр, вроде карт, и довольно шумных… Да вот сами посмотрите.
— А насчёт законов как? — вскользь осведомился Тарханов.
— А это, видите ли, совершенно постороннее помещение, к ресторану никак не касающееся. Частная собственность, относящаяся к квартире, выходящей в другой подъезд и на другую улицу. В некотором роде — экстерриториальная. А то, что дверь оттуда в ресторан имеется, так что — людям после бани и прочих упражнений два квартала по улице в непогоду бегать? Вопрос личных взаимоотношений с хозяином, не более. Никакой пристав не подкопается.
— «Они», что ли, держат? — В голосе Тарханова послышался лёгкий холодок. Не нравилось ему, в самой глубине души не нравилось, что «пришельцы» ведут себя в его стране, в гостях то есть, как дома, и даже более того — без всякого почтения относясь к правам и привычкам хозяев. Словно бы забыл Сергей, что и он сам, и возрождённая Империя абсолютно всем обязаны именно «гостям». Но такие вещи у многих достаточно легко вытесняются из сознания более рутинными эмоциями. Здесь Тарханов солидаризировался с Чекменёвым — Игорь Викторович к любым контактам с обитателями параллельных реальностей относился крайне негативно, непрерывно ждал от них пакостей любого рода, вплоть до попытки каким-либо образом узурпировать власть и аннексировать всю или значительную часть российской территории. Он прямо не в себе был те несколько дней, пока дивизия Басманова наводила порядок в Москве, а генерал Берестин ежевечерне уединялся с Олегом Константиновичем для приватных бесед.
Несмотря на то что в полном соответствии с договорённостью белые войска покинули реальность сразу же по ликвидации последних очагов вражеского сопротивления, осадочек остался. И не только у Тарханова с Чекменёвым. Своеобразной ксенофобией или, точнее, «хронофобией» заразились многие из тех, кто был «в курсе».
На самом деле — несколько странно получилось.
С одной стороны, на официальном уровне всё выглядело очень благородно. Герои боёв за Москву и Берендеевку, местные и из двадцать пятого года, были награждены. Кроме орденов — специально учреждённым Олегом Константиновичем памятным крестом «Рука всевышнего Отечество спасла», изготовленным с подачи и по эскизам Алексея Берестина. По статусу — почти полный аналог Знака участника Корниловского Ледяного похода 1918 года. «Крестоносец» имел право говорить Императору «ты» и закуривать в его присутствии без специального разрешения. Золотых Крестов было вручено ровно сто, поровну своим и пришельцам, плюс около тысячи медалей того же наименования, трёх степеней — серебряных, из светлой и тёмной бронзы.
Но с другой — мысль о том, что предки, давно покоящиеся под надгробными плитами и в безымянных могилах «от Памира до Карпат», продолжают существовать и в любой момент хорошо вооружённые и железно дисциплинированные могут появиться снова, теперь уже без приглашения, несколько напрягала. Появиться и начать наводить здесь свои порядки. Комплекс, сродни языческим верованиям в добрых и злых духов и прочую загробную жизнь. За одним исключением — шаманам, волхвам и скальдам приходилось верить на слово, а здесь — сотни очевидцев, отнюдь не страдающих психическими расстройствами и склонностью к галлюцинациям.
— Они самые, друзья и благодетели, — ответил Ляхов, сам никаким комплексам и фобиям не подверженный. — Кто же ещё? Я такое пока не тяну. Бескорыстная помощь в создании нашей с тобой материально-технической базы. Сегодня, к сожалению, никого из знакомых тебе людей здесь нет, но есть другие… Тоже интересные.
Ляхов слегка покривил душой. Конечно, «братья» поспособствовали в оборудовании этого «многофункционального жилищно-развлекательного комплекса», включавшего несколько «хитрых» квартир, расположенных на разных этажах многоподъездного, с тремя фасадами, выходящими на улицу и два переулка, с несколькими внутренними дворами-колодцами дома. Но официально их владельцем являлся Ляхов-Фёст, а, следовательно, и он сам тоже, поскольку были они личностями взаимозаменяемыми и располагали комплектами абсолютно идентичных документов, пригодных на любой случай жизни — как в той, так и в этой реальности.
Самым удивительным для Вадима оказалось то, что эта показавшаяся поначалу чисто служебнотехнической недвижимость приносила вполне приличный стабильный доход, хотя он сам финансовыми вопросами не интересовался, предоставив всем заниматься своему аналогу и его людям.
В четвёртой или пятой по счёту комнате анфилады, обставленной, оборудованной и оформленной в стиле раннего модерна, друзья увидели интересную компанию. Семь чрезвычайно симпатичных и неуловимо друг на дружку похожих девушек, вдобавок одетых в форменные воздухофлотовские костюмы, и один тридцатипятилетний примерно мужчина с располагающим лицом, в мундире пилота с четырьмя золотыми нашивками на рукавах, словно бы ждали их, занимаясь кто чем. Девушки смотрели дальновизор, листали глянцевые журналы, обсуждали то, что там изображалось. Только мужчина, сидя за низким столиком, отстранённо прихлёбывал что-то из бокала со льдом и курил толстую папиросу.
«Неплохая маскировка, — отметил Тарханов, — в любом другом качестве весь этот цветник: семь плюс один выглядел бы странно. А так — экипаж во главе с командиром отдыхает после рейса. Нормально».
Увидев вошедших, мужчина энергично встал и пошёл навстречу.
— Здравствуйте. Меня зовут Валентин. Этого пока достаточно. Вас я знаю, правда — по фотографиям…
Он протянул руку сначала Тарханову, потом Уварову. С Ляховым они просто обменялись улыбками, из чего Валерий сделал вывод, что у них это не первая встреча.
Тарханова удивило, что на их появление девушки никак не реагировали. Продолжали свои занятия, как будто ничего не случилось, а тут ведь сразу трое таких видных офицеров, в солидных чинах и собой очень недурных.
Значит, инструкция у них такая, посторонних не замечать.
— Ну вот, господа, — сообщил Вадим, — могу вам представить команду наших гостей, на примере которых я, собственно, и хотел продемонстрировать осмысленность и целесообразность своей идеи. Наша цивилизация отчего-то до сих пор придерживается дедовских принципов, по которым женщинам в боевых подразделениях не место. А мы сейчас постараемся этот предрассудок слегка рассеять.
По жесту Лихарева девушки со стремительностью, почти неуловимой глазом, выстроились в шеренгу по росту, без единого лишнего звука и движения. Руки по швам юбок, носки туфель на ширину приклада, равнение идеальное. Почётче, пожалуй, чем у выпускников полковой школы унтер-офицеров.
— Здравствуйте, бойцы! — словно бы чуть подмигнув правофланговой девице, за неимением на голове фуражки просто прищёлкнул каблуками Ляхов. Тарханов с Уваровым по инерции продолжали воспринимать происходящее как шутку.
— Здр-жла-госп-полк! — слитно ответили девушки, соразмеряя голоса с размерами помещения.
— Напра-во! В тир, шагом — арш!
Команды «вольно» Вадим не подал, и отделение рубануло строевым, непонятно каким чудом не обломав Довольно высокие каблуки своих туфелек.
— Отставить, вольно идти, вольно! — спохватился Ляхов.
— Развлекаешься? — не зная, что сказать, скептически спросил Тарханов.
— Да так, помаленьку. Сейчас все поразвлечёмся…
Уваров, предчувствуя неожиданную забаву, шёл позади, про себя посмеиваясь. Его прежде всего поразило несоответствие внешнего облика девиц и уровня строевой подготовки. В церемониальной роте Кремлёвского полка они явно не служили, а по уровню — похоже. Разве что в цирке или в кордебалете обучались?
Тир здесь был хороший, оборудованный по всем правилам на три огневых рубежа: пятнадцать, двадцать пять и пятьдесят метров.
Смотритель раздал девушкам пистолеты — длинноствольные малокалиберные «вальтеры-олимпия». Потом — патроны.
После положенных команд красавицы, зарядив оружие, приготовились.
Ляхов предложил желающим стать рядом, три позиции были свободны.
— Покажите, господа офицеры, молодёжи, как нужно…
Тарханов и Уваров, чувствуя подвох, отказались. Выиграть у юных девушек — немного чести. Проиграть, если что, — неудобно для чина.
— Ну, как хотите… В корректировочную трубу посмотреть не желаете?
Труба стояла тут же на треножном штативе.
— Да зачем, не чемпионат мира, — ответил Уваров.
— Тогда — три пробных, десять зачётных, огонь!
После пробных смотритель, нажав кнопку, подкатил на роликах стандартные мишени к рубежу.
Сергей взглянул и слегка изумился. В каждой из семи мишеней по три центровых десятки. Ни одной даже габаритной. Так не бывает, но сейчас — было. И пробоины не гвоздём проковыряны. Натуральные, свежие, пулевые.
Из непристреляных пистолетов, смотритель раздавал их явно наугад.
— Зачётные, — скомандовал Ляхов.
Дробь перекрывающих друг друга семидесяти выстрелов без пауз, и девушки снова стоят как положено, положив на барьер пистолеты с открытыми затворами.
— Прошу, господа, — торжествующе предложил Ляхов, указывая на подъезжающие мишени.
Отчего-то Тарханову и смотреть не захотелось. При встрече с непонятным у него обычно портилось настроение. Если он сам не был творцом этого непонятного. У боевиков, встретившихся с ним в «Бристоле», к примеру, настроение испортилось ещё больше. У большинства — навсегда.
Зато Уваров радовался от души.
— Нет, это изумительно, господа! Семь раз сто из ста! Нет, простите, я уж придерусь. Вот здесь, на четвёртой мишени, одна девятка. Почти-почти десятка габаритная, а на полмиллиметра не дотягивает. Что, безусловно, не умаляет… В реальном бою пуля в переносицу да нормального калибра, миллиметрами не измеряется. Когда у нас следующие Олимпийские игры? Девушки, а из винтовки так же можете?
Стоявшая на первом номере длинноволосая шатенка вопросительно взглянула на Ляхова. Тот кивнул.
Из железного шкафа была извлечена и подана ей винтовка «Стрела». Целевая, малокалиберная.
Со стандартной стойки девушка произвела пять выстрелов на двадцать пять метров. И снова все в десятку.
— Достаточно? — спросил Вадим. — Следующий номер нашей программы — рукопашный бой. Для чего поднимемся в зал этажом выше. Зрелище обещает быть интересным. Штыки, сапёрные лопатки, подручные предметы. Быстренько переоденутся в тренировочные костюмы — и к вашим услугам…
Уваров посмотрел на девушек. Они отошли на два шага от рубежа, стояли, заложив руки за спину, в ожидании следующей команды. На слова старших командиров, не обращённые лично к ним, не реагировали.
— Нет, это совершенно хрен знает что, — сказал Тарханов. — Достал ты, Вадик, меня своими фокусами. Без рукопашной обойдёмся. Пошли обратно. И вы… — он замялся, не зная, как обратиться к питомицам Ляхова.
— Юнкера, если завтра не прикажешь произвести их в подпоручики, — подсказал Ляхов. — Одним словом, девчата, начальству вы понравились. — Это уже непосредственно девушкам он сообщил, ненавязчиво подчеркнув старшинство здесь Тарханова, а в чём-то — и Уварова. Сам же он, по этому раскладу, так — погулять вышел. — Общая команда — вольно, благодарю за службу, отвечать по уставу не нужно. Следовать за нами…
В зале девушек, вместе с их старшим, Валентином, посадили за отдельный стол, хотя Ляхов намекнул, что за общий — интереснее. С многозначительным подмигиванием. Тарханов отрицательно мотнул головой. Ему хватило и того, что увидел. Требовалось поговорить конфиденциально. А Уваров был бы очень и очень не против. Уж больно ему понравилась длинноногая правофланговая шатенка, выступившая с сольным номером из винтовки. Как он сумел выделить её среди других, ничуть не хуже лицом и статью? Тайна сия велика есть. Валерий чувствовал, что скорее всего это именно она, о которой мечталось и которую он видел в снах. Бывает такое.
— Теперь объясни, Вадим, как и для чего ты устроил это представление. — Голос Тарханова был сух и серьёзен.
— Как — понятия не имею. В смысле — я их стрелять не учил. Без меня умели. Для чего — отвечу. Чтобы ты в очередной раз поверил Шекспиру. «Есть многое на свете, друг Горацио…» Помнишь, когда Майя позвонила и пригласила нас приехать на выходные? Ты тогда не смог. Я — съездил. Там мне и были представлены эти милые особы. Их доставил в Кисловодск один из наших друзей, Олег Левашов. Поручил попечению Майи и Татьяны, дядькой оставил Валентина. Сам немедленно отбыл по очередным важным делам. Девушки никогда раньше не бывали на Земле, вот и пришлось нашим подругам заниматься их социализацией и «подгонкой по месту с помощью напильника».
— Не были на Земле? — удивился Уваров. — А где жили?
— На одной весьма землеподобной планете по имени Валгалла. Там у наших друзей нечто вроде загородной дачи…
— А девушки, значит, инопланетянки? — спросил Тарханов, решивший не удивляться вообще ничему. Воспринимать факты, как они есть, а практические выводы сами воспоследуют.
— Тоже не совсем так. Они — воспитанницы специального учебного заведения, организованного настоящими инопланетянами для подготовки из человеческих детей собственной агентуры. В подробностях эту историю я изложить не готов, потому что сам знаю намного меньше половины. Надеюсь, при очередной встрече Друзья расширят круг наших понятий. Скажу только, Аля своего и вашего успокоения, что первоначальный проект был свёрнут, и будущие агентессы остались без перспектив и без смысла к существованию. Ну вот, к примеру, как овчарки, если бы вдруг исчезли все овцы. Тогда и возникла у «братьев» мысль переправить первую партию девушек на Землю и посмотреть, чем их тут можно занять. Как вы несомненно убедились, учили их там хорошо. Они в состоянии выиграть Олимпийские игры по любому виду спорта, если им объяснить правила и дать недельку потренироваться. Чтобы не совершать подозрительных ошибок и невольных нарушений общеизвестных норм поведения…
— По штанге тоже? — для чего-то спросил Уваров, соразмеряя понравившуюся ему девушку с громадой железа, с грохотом рушащейся на помост из рук не справившихся с весом слоноподобных мужиков.
— Не знаю, не проверял, — честно ответил Ляхов. — Но по боксу — точно.
Некоторое время Тарханов и Уваров молчали, усваивая информацию. За последний год они увидели и узнали многое, но привычка к невероятному так и не успела сформироваться.
Ляхов прочёл в глазах Валерия невысказанный вопрос, и сразу понял, чем он вызван. Заметил, каким взглядом подполковник смотрел на Анастасию. Влюбился парень, мгновенно и, кажется, основательно. Выбор его Вадим про себя одобрил. На его взгляд, Настя действительно в чём-то превосходила своих однокашниц. Внешностью как раз нет, все одинаково красивы, с незначительными индивидуальными различиями. Дело в другом — она была сильнее психологически, лучше адаптировалась к жизненным обстоятельствам, если ещё проще — в ней ярче ощущалась аристократичность и крови и духа. Как такое могло быть? Свойство исходного материала? (Почему бы и нет, кстати?) Или воспитание по особой программе?
Ляхов сам этого не знал. Разве что у Лихарева спросить? Кстати, нужно его позвать за свой стол, а то неловко выглядит демонстративная, пусть и оправданная сегрегация.
Он так и сказал Тарханову.
— Сейчас. Ещё несколько моментов, его не касающихся, и позовём…
— Ты, Валера, сейчас пребываешь в сомнениях, — витийствовал Вадим, пришедший в очень хорошее настроение, в том числе и потому, что заранее начал прикидывать себя на роль кума Валерия и Анастасии, — а люди ли на самом деле эти репатриантки? Не сомневайся. Я, по профессиональной обязанности, будучи им представлен, заявил, что перед тем, как на равных включиться в наше сообщество, им необходимо пройти углублённый медосмотр… Как при поступлении в военное училище… Девушки, естественно, не возражали.
— Молодец, не растерялся, — с двусмысленной улыбкой сказал Тарханов.
Вадим пренебрежительно махнул рукой.
— Поучился бы на медицинском, школьная мечта невидимкой оказаться в женской раздевалке спортзала быстренько бы тебя оставила. Тем более не сам я этим занимался. Лихарев через своих многочисленных знакомых устроил мне возможность обследовать пациенток в одной из лучших клиник Пятигорска. По всем доступным современной медицине параметрам. За умеренную (в нашем понимании) мзду, и в нерабочее время квалифицированнейшие специалисты поработали. При моём непосредственном участии, естественно. Слепил подходящую легенду, вполне коллег удовлетворившую. Так что, осмелюсь доложить — совершеннейшие люди. Вплоть до клеточного уровня. Другое дело — доктора моментами охреневали от идеальности функционирования всех органов и систем, но тут уж приходилось внаглую врать — мол, из тысяч и тысяч кандидаток отбиралась эта группа для особых целей. А сейчас вот экстренно потребовался промежуточный контроль результатов адаптации к высокогорным условиям и тому подобное. Поверили, не поверили — не моё дело. Криминала здесь нет, а сотня рублей за полчаса работы и моё служебное удостоверение весьма поспособствовали сохранению врачебной тайны. Одним словом, за исключением, как я уже сказал, стопроцентной оптимальности, иных отклонений от человеческой сущности не обнаружено. На доступном современной медицине уровне. Таким вот образом.
Естественно, встал вопрос — и что с этими юбермёдхен[72] делать? Твоя Татьяна, кстати, предложила простейшее решение — с максимальной возможной пользой для нашего общего дела повыдавать их всех замуж… После соответствующей подготовки.
— А что, не лишено, — согласился Тарханов. — У меня и кандидатуры есть, за которыми невредно бы наладить постоянный контроль и «ручное управление».
— Возможно, возможно. Но не так быстро. Я решил иначе. Да вы, собственно, уже знаете, что я решил. Год-два послужат Отечеству, окончательно социализируются и легализуются…
— Отряд «Печенег» как аналог французского Иностранного легиона, — вставил Уваров.
— Именно. Сотрудницам нашей службы лишних вопросов никто задавать не станет. Вот, собственно, и всё. Девушки некоторое время пожили в Кисловодске, потом я переправил их на одну из наших учебно– тренировочных баз…
Тарханов пропустил эти слова мимо ушей, а Уваров удивился, но промолчал. Какая такая база? Отрядные он знал все, и продержать на любой семь таких юнкеров несколько недель или даже месяцев без малейшей утечки информации не по силам даже Ляхову. Не из низменных побуждений, а просто по долгу службы кто-то непременно доложил бы по команде, тому же Уварову или прямо Стрельникову, что так мол и так…
Ляхов, естественно, что-либо уточнять не стал. О новозеландском форте говорить и близким друзьям (если Татьяна Сергею не сказала), пока не время. Пусть лучше думают, что база была не «печенеговская», а принадлежащая «пересветам». У тех всё глухо, как в танке.
В Новой Зеландии, под руководством самого Ляхова, роботов-инструкторов, готовивших ещё первых басмановских рейнджеров, девушки прошли основной трехмесячный курс боевой и антитеррористической подготовки. Затем они изучали экстремальное вождение всех видов наземного и воздушного транспорта, отечественного и иностранного, методику ведения фронтовой и агентурной разведки, сбора информации, снайперскую стрельбу в условиях военных действий на любом ТВД и в населённых пунктах, ведение оперативной слежки, способы незаметного для противника вступления в бой и выхода из боя и многое, многое другое…
Наталья Воронцова, Майя и Татьяна поделились с девушками, никогда не имевшими матерей, старших сестёр и умудрённых опытом подруг, многими тайнами, циркулирующими внутри женского сообщества со времён раннего палеолита и неизвестными мужчинам, даже самым близким.
Однако ничего не оставил без внимания господин ВРИО начальника Управления Тарханов, просто дал время товарищу немного поболтать на общие темы.
— А откуда вдруг у тебя базы, мне не известные?
— Ты не спрашивал. Интересуешься — покажу. Ты и здесь, где мы сейчас находимся, раньше не бывал. Я от тебя ничего не скрываю, но и о каждом своём шаге докладывать — на всё остальное времени не хватит. Зато сюрпризы — это так приятно. Правда, Валерий Павлович? — невидимым Сергею глазом он подмигнул Уварову. Тот совершенно непроизвольно кивнул.
Сергей вздохнул. Не нравилась ему излишняя автономность товарища и слишком тесные контакты со своими друзьями. Разумеется, с тем, что без их помощи с мятежом справиться вряд ли бы удалось так быстро, не поспоришь. Более того, могли бы и вообще не справиться, поскольку без поддержки Берестина с его столетними корниловцами-ветеранами шансов у князя удержать Берендеевку не было — проверено.
Так ведь и сам Тарханов предпочитал держаться от дел Вадима подальше. Несмотря на прямое предложение лично познакомиться с «братьями» ответил уклончиво. Не сейчас, мол. Ляхов, по совету Шульгина, не настаивал. Бывает «пищевой консерватизм», когда никакими силами не уговорить человека попробовать тушёную собачатину или личинки древесных жуков под белым соусом, а бывает и психологический.
— Видишь, нашему юному другу будущие подчинённые понравились. А тебе? — Вадим вроде бы продолжал валять дурака, но Тарханов понимал, что он абсолютно серьёзен. Уж настолько он в манерах друга разбирался.
— Я ведь сказал — выше всяческих похвал. — Тарханов снова вздохнул, теперь с лёгкой усмешкой, адресованной Уварову.
— И что же ты, брат, с такой девушкой делать будешь?
Он тоже в момент просёк реакцию Валерия на Анастасию.
Подполковник опустил глаза к тарелке и не нашёлся, что ответить.
— Да ладно, Сергей, будет тебе, — сказал Ляхов. — Вне поля боя любая из них — милейшее и деликатнейшее существо. Чтобы там руку ухажёру сломать, подзатыльников надавать — не может быть и речи. Я же сказал — учились по программе института благородных девиц.
— В каком качестве? — ответил вопросом на вопрос Ляхов, что весьма полезно для выигрыша времени. — Да, пожалуй, просто обеспечивающего… Он фактически, может считаться их старшим товарищем, если не братом. Окончил то же учебное заведение, правда, лет на семьдесят раньше, сколько-то времени работал на Земле, не этой, а параллельной, потом решил отойти от дел. Приехал к нам и ведёт в том же Кисловодске исключительно частную жизнь…
— Что это на КМВ все сюжетные линии сходятся? — удивился Тарханов. Лично для него там тоже всё началось ещё в юнкерские годы, и всё продолжается, продолжается…
— Воля случая. Если бы в Пятигорске когда-то не обосновался Маштаков, ничего последующего просто не было. Ни твоей встречи с Татьяной, ни набега террористов. Лариса не поселилась бы, наши с тобой бабы туда не поехали. Лихарев себе вполне мог иное пристанище найти. Естественно, и с девушками то же самое… Весь сюжет развернулся бы в каком-то другом месте, скорее всего — и по другому сценарию. Не мне ты, в конце концов, вопросы бы задавал, а кому-то другому. И наш друг Валерий служил сейчас там, где служил, или лежал в сырой земле под скромным офицерским надгробием…
— Скорее уж — в сухой, — вставил Уваров.
— Слишком много «бы», — сказал Тарханов.
— Именно. Потому и не стоит заморачиваться на подобных темах.
Он сделал рукой приглашающий жест Лихареву, и тот немедленно подошёл, сел за стол так, чтобы видеть свою девичью команду.
— Что ж, Валентин Валентинович, давай знакомиться по-настоящему, — предложил Тарханов. Официант немедленно подлетел, поставил Лихареву чистый прибор. Второй сноровисто наполнил гостям рюмки и бокалы.
Ляхов, после того как выпили, опять подмигнул Уварову.
— Ты пойди, барышень поразвлекай. Как вы, графья, умеете. Титула и прочих заслуг не скрывай — дело молодое. А мы тут как-нибудь, по-стариковски…
Подполковник иронически хмыкнул, но предложение принял с удовольствием. Занял освободившееся место Валентина, рядом с Анастасией и лицом ко всем остальным девушкам. Первым делом представился, спросил и с одного раза запомнил, как зовут каждую. О том, что в скором времени станет их прямым и непосредственным начальником, говорить не стал: факт, не способствующий лёгкости едва намечающихся отношений. Начал с обычных в офицерских собраниях баек, в меру забавных, иронично остроумных, наполовину вымышленных, но обязательно базирующихся на подлинных событиях. Иначе рассказчик немедленно был бы дезавуирован бывалыми слушателями.
Хорошую выдумку знающие люди примут и оценят, пустой же болтовни не простят.
Валерий сразу заявил, что видит в окружающих его милых мадемуазелях будущих коллег и товарищей по оружию, почему и считает своим долгом просветить в кое-каких скрытых от непосвящённых тонкостях военной жизни.
— На том и стоит служба, что базируется не токмо на уставах, но и на случаях и примерах…
Девушки были уже не те, что в день своего появления на вилле Ларисы. Знали и понимали о здешней жизни более чем достаточно. Благодаря соответствующим урокам и семинарам, сотням просмотренных фильмов, снятых на этой и на параллельной Земле, регулярным выходам в свет, всей группой и поодиночке, в сопровождении опытных наставниц и в свободном полёте.
Единственное, в чём они по-прежнему испытывали дефицит, так это в равноправном общении с лицами противоположного пола и подходящего возраста. Майя с Татьяной тут были единодушны. Как строгие старшие сёстры, они считали, что девочкам ещё рано. Обживутся, освоятся, повзрослеют, тогда и смогут найти своих единственных. Не в дом же свиданий их вести.
Это в старое время мамаши подбирали своим недорослям горничных, чтобы, не выходя из дома, обучили, чему следует. Но для дочек и они подобных мастер-классов не устраивали. Разве на словах излагали нужные, по их мнению, по возрасту сведения.
Оттого Уваров со своей гвардейской внешностью, погонами, орденскими планками, а главное — манерой держаться и умением говорить интересно и увлекательно на любые темы сразу произвёл глубокое впечатление и вызвал искреннюю симпатию у всех без исключения. Почти то же самое случилось в Форте, офицеры с «Изумруда» проявили к гостьям нешуточный интерес в первый вечер знакомства. Хорошо, наутро Воронцов вывел «Валгаллу» в океан, где тяжелейшие физические нагрузки и яркие впечатления похода сбили наметившийся эмоционально– гормональный всплеск.
Валерий с трудом сдерживался, чтобы не скашивать глаза поминутно на свою соседку. Это ведь надо, удивлялся он сам себе, как это вдруг мгновенно, впервые в жизни он так запал на ничем почти не отличающуюся от своих подруг девчонку. Одну из семи.
Может быть, если бы она не стояла правофланговой и не выделилась сольной стрельбой из винтовки, так и не обратил бы он на неё внимания? И скользил сейчас почти безразличным взглядом, как по любой другой из остальных шести ? А ведь каждая из них совершенно ничем не хуже.
Нет, не может быть. Пробой искры случился сразу же, и совершенно не случайно. Знать бы только, что сейчас она думает о нём?
Опыт подсказывал Уварову, что не следует немедленно позволить ей догадаться о его чувствах. Хотя бы до следующей встречи потерпеть. Но, чёрт возьми, как же это трудно! Никогда он не верил в любовь с первого взгляда, а именно она сейчас и случилась. Сколько раз он подтрунивал над друзьями, в восемнадцать лет влюблявшимися по уши и готовыми ради своего предмета на любые безумства, ведущие к очень неприятным последствиям, от исключения из училища до насильственной женитьбы.
— А что, госпожи юнкера, не организовать ли нам музыкально-танцевальный вечер? — предложил он. — В соседнем помещении достаточно места, всё необходимое имеется. Правда, кавалеров небольшая нехватка. Но ничего, будем почаще менять партнёров…
Девушки выразили общее согласие.
— Как, господа полковники, поддерживаете? — громко спросил Уваров у соседнего стола.
— Отчего бы и нет, — ответил за всех Ляхов, широко улыбаясь и одновременно показав Сергею кольцо из большого и среднего пальцев. Видишь мол, как орёл наш распетушился! И отлично!
Анастасию Уваров пригласил только третьей или четвёртой, по той же самой причине. Под щемящие звуки танго из другой реальности положил ладонь ей на талию, и его снова пробило. Посмотрел в близкие глаза невероятного цвета, пытаясь угадать, что чувствует она. Взгляд девушки был заинтересованно– благожелательный, но спокойный.
Танцевал Валерий вообще хорошо, а сейчас старался, как никогда. И всё же она спросила с лёгким удивлением:
— Что вы так скованны? Говорите куда свободнее…
— Извините. Отвык, наверное, давно не приходилось, — ответил он, на самом деле стараясь расслабиться. Похоже, получилось. Привлёк Настю поближе, её волосы, пахнущие какими-то лёгкими, совсем простенькими духами, коснулись его щеки.
«Сегодня же попрошу Ляхова, пусть по своим каналам раздобудет самые шикарные духи из того мира. Чтобы здесь таких — больше ни у кого», — решил Уваров.
Музыка смолкла. Они подошли к столику в углу, уставленному бокалами с шампанским, лакеи постарались.
— Ну, Настя, за знакомство, — с лёгким нажимом сказал Валерий. Она кивнула, пригубила ледяной брют.
— Полусладкое мне больше нравится.
— Брют — изысканнее. Это вам каждый скажет.
Она не стала спорить. Графу, безусловно, виднее.
Снова заиграл какой-то блюз, и он опять протянул Насте руку.
— Не моя очередь. — Губы её дрогнули в улыбке.
— Ничего, меня простят. А я хочу перед вами реабилитироваться. Может быть, сейчас получится лучше…
На следующий день Тарханов подписал приказ о формировании нового отряда. И Ляхов с Уваровым приступили к его комплектованию. Вадим оказался прав — найти подходящих кандидаток особого труда не составило. В первый взвод с помощью Бубнова и верископа отобрали ещё двадцать девушек, по возможности с близкими к «аггрианкам» (впрочем, Ляхов предложил назвать их «валькириями», раз они с Валгаллы), характеристиками. Чемпионок в боевых видах спорта, имеющих опыт службы в подразделениях Управления, а главное с должными психофизическими и моральными данными. Правда, возрастом куда постарше, вокруг двадцати пяти.
Настю поставили дублёром командира взвода, пока ещё мужчины, кадрового поручика с интересной фамилией Полусаблин. Кристину, Марию и Марину — командирами отделений. Ко дню, когда Чекменёву потребовалось ехать на встречу с Катранджи, девушки стали настоящими бойцами именно стиля «печенегов», которых уже можно было испытать в серьёзном деле, а заодно и представить генералу. Сделать ему сюрприз. Что и удалось в полной мере.
…Недели через три после первого знакомства отношения у Уварова с Анастасией начали складываться. Очень медленно и постепенно. Всё ж таки он был для неё высоким начальством, появлялся в расположении отряда не очень часто и не мог оказывать одной из подчинённых заметно больше внимания, чем остальным. Единственно, пользуясь её должностью, позволял себе отозвать девушку в сторонку, расспросить, как складываются отношения со взводным, между «валькириями» и остальными сослуживицами, как она вообще адаптируется к новой жизни.
Подпоручик Вельяминова на вопросы подполковника отвечала подробно, обстоятельно, на тяготы и лишения службы не жаловалась, но взгляд её, как и при первой встрече, выражал только спокойную приязнь, если не требовалось «есть глазами начальство» в соответствии с требованиями Устава внутренней службы.
В увольнения девушки обычно ходили группами по три-пять человек, только «своих», и однажды, с подачи Полусаблина, Валерий деликатно сделал ей замечание. Не стоит, мол, так подчёркивать свою особость, это не способствует боевому сплачиванию подразделения. Он, конечно, всё понимает, но прошло уже достаточно времени, нынешняя жизнь «такова, какова она есть и больше никакова», нужно одинаково дружить со всеми, с кем свела военная судьба. При выполнении заданий придётся взаимодействовать с любой соратницей, и не только своего взвода. С кем прикажут. Потому и отношения у всех должны быть такими, чтобы не возникало сомнений… Не только служебными, но и личными, дружескими. Ну и так далее.
Совсем недавно обмывшая две серебряные звёздочки на золотой погон Вельяминова согласилась, что господин подполковник прав, и она немедленно займется воспитанием своих подчинённых.
— И вот ещё — в увольнения, особенно длительные, лучше ходить в гражданской одежде, — добавил Валерий.
— А нам в длительные ходить некуда, ваше высокоблагородие. Вечером погуляем по улицам — и всё. Или в кинематограф…
— Непорядок, — улыбнулся Уваров. — Хотя бы офицерское собрание посещать нужно. Там бывает очень интересно. Театры, музеи посещайте, в окрестностях Москвы тоже много достопримечательных мест. На два выходных можно и в Петербург, Петергоф… Вы ведь там не были? Пожалуй, придётся назначить во взвод офицера по культурно-воспитательной работе. Иначе некрасиво как-то получается… Служите в элитной части, и даже в Петербурге не были. А знаете что, поручик (ещё один урок хорошего тона, вне строя употреблять чин собеседника без понижающих приставок), возьму-ка я на себя эту функцию. За неимением… Позвольте для начала пригласить вас сегодня в театр Вахтангова. Премьеру там дают. «Принцесса Турандот».
— Меня? В театр? И только одну меня? — В лице и голосе читалось искреннее удивление. Но и не только, как показалось Валерию.
— Ну, признаться, весь взвод пригласить у меня нет практической возможности. Я и два билета получил случайно, в кассах их давно нет. Как говорят не слишком грамотные люди — полный аншлаг. Спектакль восстановлен впервые с девятьсот двадцать второго года. Играет звёздный состав: Борисова, Гриценко, Лановой, Яковлев, Этуш[73]. Ожидается фурор. А также и фуршет. После спектакля…
— Я даже не знаю… Удобно ли? Как на это другие посмотрят?
— Мало вы ещё в армии служите, поручик. Если старший начальник что-то предлагает, в какой бы то ни было форме, удобнее (а также правильнее и полезнее) расценивать самое деликатное предложение как приказ. Есть у нас, старых служак, такая норма жизни — «ни от чего не отказывайся, и ни на что не напрашивайся». Доходчиво объяснил?
— Так точно, господин полковник! — Девушка чересчур демонстративно вытянулась, щёлкнула каблуками. И тут же не сдержалась, закусила губу, чтобы не рассмеяться в голос. Надо же — «старый служака»! А самому двадцать семь только-только исполнилось. Хотя уже подполковник и кавалер многих орденов — тоже никуда не денешься. О его подвигах ходят легенды среди «печенегов» и не только. И как же хотелось смотреть и смотреть в его глаза, слушать голос, пусть и глупости иногда изрекающий.
Много новых, поначалу непонятных сведений об отношении мужчин и женщин в этом мире получили девушки за время стажировки на «Валгалле». Иногда в корне расходящихся с теми, что им сообщала Дайяна. Их учительницы были совсем другими, и верилось им сразу, без внутреннего протеста.
Но не Майя, слишком раскрепощённая и одновременно зажатая в непонятные Анастасии рамки, не Татьяна, проводившая с девушками всегда полезные и информативно богатые уроки, а жена адмирала Воронцова Наталья Андреевна покорила Настю. Эта, вдвое старше её женщина, вполне годная по возрасту в матери, объясняла девчонкам, обученным бестрепетно убивать, но понятия не имевшим, что значит любить, кардинальную разницу между этими способностями. В том числе — и на личном примере.
Не в том смысле, что она сама была когда-то рейнджером. Совсем наоборот. Не захотела стать женой военного моряка, предпочла богатую, комфортную и, как ей воображалось, искромётную жизнь жены дипломата. И что? Через десять лет случайно встретилась с бывшим лейтенантом Воронцовым и только тогда, благодаря исключительно его готовности забыть прошлое, обрела своё счастье.
— Так что всегда думайте, сто раз думайте — что вам на самом деле нужно, — говорила Наталья Андреевна, рассадив девушек в кружок вокруг своего шезлонга на палубе парохода. — Не будем о возвышенном. Просто в наших женских организмах вырабатывается много гормонов. В том числе — окситоцин и тестостерон. И такая получается интересная вещь. Чем больше тестостерона, тем сильнее у нас влечение к мужчине. Но повышение уровня тестостерона вызывает резкое падение доли окситоцина. И женщина начинает испытывать опасение и даже неприязнь к человеку, вызвавшему у неё слишком сильное влечение. Это понятно?
— Да, Наталья Андреевна, — почти хором ответили девушки.
— В этом есть глубокий смысл. Если вы по-настоящему захотели быть с мужчиной, природа вам подсказывает: не торопись. Десять раз подумай — сможет ли он стать тебе мужем и отцом твоим детям…
Вот и сейчас, с замиранием сердца стараясь держаться с Уваровым как предписывает устав и мечтая совсем о другом, Анастасия вспоминала и повторяла в уме уроки Воронцовой.
— Вольно, поручик Вельяминова. А как другие посмотрят… Вы же не солдат срочной службы, вне расположения части вполне свободны в своих поступках. И не только в отношении посещения увеселительных заведений. Итак, сегодня в восемнадцать ноль-ноль вам надлежит находиться у выхода из расположения части со стороны Нижегородской улицы. Форма одежды гражданская, парадно-выходная. В случае несогласия с данным распоряжением имеете право подать рапорт по команде. С соответствующей мотивацией. Кстати, поручик, что сказано по этому поводу в Уставе?
— Я помню, господин полковник: «…Продолжая, тем не менее, выполнение приказа до его отмены вышестоящим начальником».
— Совершенно верно. А поскольку мой вышестоящий, полковник Стрельников, в данный момент находится в служебной командировке, ваш рапорт будет рассмотрен после его возвращения, то есть, в любом случае, значительно позже указанного мною времени.
Уваров с трудом сдерживал улыбку, проводя сей «воспитательный момент», Анастасия, кажется, тоже.
— Не смею вас более задерживать, поручик. На сборы имеете ещё целых четыре часа… Пока горит свечка.
Разумеется, она немедленно рассказала своим «сёстрам», а заодно и тем девушкам из взвода, кто оказался поблизости в комнате отдыха, о неожиданном приглашении подполковника. Свои отреагировали спокойно, как и на большинство событий, их лично не задевающих. К Уварову никто из них тайных нежных чувств не испытывал, значит, и для ревности повода не было. Зато местные печенежки весьма развеселились.
Достойный повод для женской болтовни. Как же — большой начальник, граф, красавец, кавалер боевых орденов, чуть ли не легенда управления, увлёкся их подругой. Да ещё и вёл себя, как влюблённый гимназист. Остроглазые спецслужбистки с солидным У большинства опытом личной жизни всё замечали. И втайне подсмеивались над монашествующими «валькириями», ни в каких отношениях с мужчинами не замеченными. Весьма частые в однополом коллективе разговоры на соответствующие темы они, конечно, поддерживали наравне со всеми, но не составляло труда понять, что познания их — чисто теоретические, пусть и весьма обширные.
Отчего так, почему — кодекс поведения спрашивать не позволял.
И вот вдруг такой случай, как выразилась подпоручик Полина Глазунова, девица разбитная и успевшая до перехода в «печенеги» побывать замужем, пусть и не слишком долго.
— Значит, начинаем собираться, — объявила она, и полтора десятка девушек принялись дискутировать, в чём именно пристойно идти в театр на премьеру, и не просто так, а в качестве дамы самого подполковника Уварова. Причём дамы всё-таки военнослужащей, что исключало всякие легкомысленности вроде декольте, открытой спины и тому подобного.
Но и строгий английский костюм тоже не подходил.
— Тот же мундир, только без погон, — фыркнула Глазунова, и большинство с ней согласилось.
Из тех нарядов, что Майя с Татьяной подобрали девушкам для московской жизни (почти тридцать комплектов костюмов и платьев при практически полном совпадении размеров давали простор для воображения и «манёвра наличными силами и средствами»), после долгих споров удалось наконец выбрать подходящее.
— Не совсем то, что виделось, — с долей сомнения сказала Глазунова, — но в целом сойдёт. !
Это в ней, пожалуй, говорила зависть. Майя, с куда более тонким вкусом дама, чего зря своим подопечным не приобретала. В тёмно-изумрудном, в меру открытом платье, длиной чуть ниже колен, подчёркивающем все достоинства её фигуры, Анастасия была чудо как хороша. И туфли в тон нашлись, и чулки из натурального шёлка.
— А вы, девки, не из бедных будете, — как бы с удивлением сказала ещё одна «светская львица» взвода, Арина Темникова, кивая на разбросанные по койкам и столам туалеты. — Такой гардеробчик ой-ёй-ёй стоит. — А, кроме формы, ни разу ничего не надевали…
— Это нам тётушки на прощание подарили… — ответила Мария.
— Всем — и исключительно тётушки?
— Их у нас всего две… На всех.
— Сиротки, значит, — со странной интонацией проговорила Темникова.
— Так случается, — сухо ответила Кристина. — Авиационная катастрофа — и сразу полсотни сироток. Только остальные — другого возраста.
Взвод затих, усваивая неожиданную информацию. Вообще в отряде интересоваться подробностями биографий сослуживцев не было принято. А тут вдруг повеяло отзвуком какой-то давней трагедии. Зато многое в поведении «валькирий» сразу становилось на своё место.
— Иди сюда, — потянула Настю к окну Глазунова. На улице с низких, пепельных туч срывался мокрый снег с дождём. Порывистый ветер раскачивал чёрные ветки деревьев гарнизонного парка. — А сверху что наденешь, в такую погоду?
Из верхних вещей у девушек были только плащи и короткие, для брючных костюмов, куртки.
— Совсем не годится. Ладно, сейчас что-нибудь придумаем. Но я тебя не за этим позвала. — Полина понизила голос.
— Ты вот что запомни, если он тебя сегодня же попробует в постель затащить, ни за что не поддавайся. Даже если самой захочется — не поддавайся. Иначе всё у тебя на этом и кончится. Кто ты и кто он? Месяц, не меньше, води на поводке, хоть до исступления доводи, но держись. Пока по-настоящему в любви не признается, замуж звать станет… Уж я хорошо мужиков знаю.
— Да о чём ты говоришь? У меня и в мыслях нет. И чувств к нему никаких. Он же чуть не в приказном порядке велел «культурный уровень повышать». Что же я, с подполковником спорить буду? Придерётся потом к чему-нибудь — и отчислят. И куда? Нет уж, схожу я с ним в этот театр. Пусть покрасуется…
— Вот молодец, правильно рассуждаешь. Правильно себя поведёшь, не только тебе, всем нам польза будет…
Анастасия вышла к указанному месту за пять минут до срока. Поверх платья на ней была очень симпатичная норковая шубка, за которой по просьбе Глазуновой съездила на свою городскую квартиру командир второго взвода поручик Яланская. И попутно тоже дала несколько полезных, на её взгляд, советов о том же самом. Как держаться, что в каком случае говорить, как смотреть на театральную публику, в зале и во время антрактов.
В шубке было тепло, легче и куда приятнее, чем в шинели. Психологически тоже. Нет, затянутая ремнём фигура смотрится лучше, но шубка — совсем другое.
Девушка ждала Уварова и думала о предстоящем. Ей, конечно, совсем не всё равно, как сказала Глазуновой. Она испытывала нешуточное волнение. Подполковник был ей симпатичен, и, возможно, если будет себя правильно вести, у них в дальнейшем что-то может получиться.
Она не забывала и не могла забыть о ночи, проведённой с Новиковым. И он останется мужчиной её мечты, пожалуй, что навсегда. Но перспектив ведь никаких. Он вполне понятно ей объяснил, что не собирается воспользоваться ситуацией. Ничего, кроме разочарования, она не получит…
А ей в тот момент на самом деле очень хотелось узнать, как это бывает и что при этом чувствуешь.
Андрей Дмитриевич её желание исполнил. Он послал ей эротический сон такой силы и достоверности, что даже наставница Дайяна, тщательно Анастасию расспросив, осталась в полной уверенности, что курсантка сегодня стала настоящей женщиной. Причём того редкого сорта, что испытывают восхитительные ощущения с самого первого раза.
Только недели через две, когда начал слабеть поставленный Новиковым блок, она сообразила, что это был именно сон, но столь убедительный, что сопровождался доказательствами не только ментальными, но и чисто физиологическими. Но об этом она тоже читала — как у религиозных фанатиков возникают настоящие раны-стигматы в тех местах, куда были вбиты гвозди распятому Христу.
Дайяне она об этом, конечно, не сказала, да и Марии с Кристиной, те так до сих пор и уверены, что они все трое — настоящие женщины, в отличие от прочих неудачниц-девственниц.
С Новиковым она больше не виделась и не спросила у Левашова, смогут ли ещё увидеться. Да и зачем? Что было, то было, сейчас у неё совсем другая жизнь. И если Уваров сумеет завоевать её сердце, так тому и быть.
Валерий приехал за ней секунда в секунду, на красивом перламутрово-зелёном автомобиле, в тон её платью и глазам. В просторном салоне пахло кожей обивки и хорошими сигарами. От водителя отделяло толстое стекло, вдобавок задёрнутое непрозрачной шторкой.
Увидев Анастасию Вельяминову, подполковник сделал большие глаза, прижал руку к сердцу, потом поцеловал ей руку.
— Всё, поручик, с сего момента мы вне службы, и прошу это накрепко запомнить, как боевое задание. Собьётесь — незачёт.
Сам Уваров был в чёрном расстёгнутом пальто, под ним — настоящий смокинг.
— Может быть, и мне надо было чёрное надеть? — неуверенно спросила она, распахивая шубку. В машине было тепло.
— Что вы, Настя! Ваше платье совершенно изумительно. — Валерий скользнул глазами по едва приоткрывшимся коленям девушки, и она мгновенно отреагировала гормональным всплеском. Хотя — что тут такого? Он неоднократно видел девушку в спортивных трусах и майке на тренировках, в купальнике на занятиях по плаванию. Но сейчас подпоручик остро ощутила — это совсем другое дело.
— Если бы вы надели чёрное, то вдвоём мы походили бы на супружескую пару, явившуюся на похороны, — с тонким, как ей показалось, юмором ответил Уваров.
Полез в карман пальто, вытащил небольшой пакет, завёрнутый в цветную бумагу.
— Это вам, если позволите. Сувенир из Парижа…
Анастасия развернула упаковку. Чёрная бархатная коробочка с тиснённой золотом надписью «Мажи нуар».
— Ой, что это?
Под крышкой в алом атласном гнёздышке — флакон, тоже чёрный, причудливой формы. Духи.
— Откройте, откройте. Я в этом плохо разбираюсь, но мне сказали — модно. И весьма оригинальный аромат.
— Ох, какой запах! — чуть приподняв притёртую пробку, Настя поднесла флакон к лицу. Девушка выглядела удивлённой, смущённой и счастливой. Ведь это первый в жизни подарок от мужчины. И аромат на самом деле головокружительный. Такого названия — «Чёрная магия» — она никогда не слышала.
— Я даже не знаю, го… Валерий Павлович! Могу ли я принять… Это, это…
— Оставьте, Анастасия Георгиевна. В частном порядке подарки такого рода можно принимать от кого угодно. Если, конечно, даритель не категорически вам неприятен…
— Ну, что вы. Большое, большое спасибо, — и тут же использовала духи по назначению. Совсем чуть коснулась пробочкой в нескольких местах, и сразу салон наполнился тревожно-терпким ароматом.
— Вы знаете, этот запах вам изумительно идёт, — абсолютно искренне сказал Уваров. Если бы он сфальшивил, Анастасия уловила бы это мгновенно. — Никогда не думал, что вот так, наугад, можно попасть. Он совершенно точно передаёт затаённую суть вашей личности.
Настя совсем засмущалась.
И дальше вечер удался на славу.
Они сидели в ложе бенуара (пятьдесят рублей билет), не меньше сотни биноклей до третьего звонка успели повернуться в их сторону. И в ходе спектакля множество завсегдатаев, имевших в театре чуть ли не наследственные кресла, то и дело смотрели отнюдь не на сцену. Как, мол, понимать это явление? Граф Уваров вывел в свет невесту? Или просто решил эпатировать общество девчонкой-моделью, если не хуже?
А Анастасия была целиком захвачена действием. Трудно поверить, но в настоящем театре она была первый раз в жизни.
В антракте они посетили буфет, как водится, потом гуляли по обшитому дубовыми панелями и украшенному портретами великих актёров холлу. Уваров со многими раскланивался, кое-кому из мужчин пожимал руку, кое-кому из дам — целовал. Кому считал нужным — представлял спутницу, чтобы не допускать превратных толкований — полным именем: Вельяминова Анастасия Георгиевна. Иногда добавлял — «из тех самых»[74].
— Зачем вы это делаете, Валерий Павлович? — спросила она, вернувшись в ложу.
— Так принято. И мне на пользу, и вам. Заодно, будет светскому обществу тема для разговоров. Если хотите знать — с вашей помощью я только что избавился от необоснованных надежд в мой адрес со стороны весьма важных особ, имеющих дочек на выданье…
— Ах, даже так…
— Простите, если это вам показалось неуместным. Но таковы нравы… Двадцатисемилетний подполковник — заманчивая добыча для перезрелых девиц, и не только. А я под венец отнюдь не тороплюсь. Ещё раз извините.
— А зачем вы вообще мне это говорите? — Настя, как её учили, легко могла изобразить любую эмоцию. В данном случае — недоумение, слегка разбавленное оскорблённым самолюбием.
— Исключительно как товарищу по оружию. И в целях познавательных тоже. Настоящий «печенег» должен ориентироваться не только в боевых искусствах, но и реалиях окружающей действительности. Пока у вас с этим — не совсем… Вот я и просвещаю, в меру сил.
Анастасия сочла его слова поводом чуть заметно обидеться. Мол, я тебе, значит, не девушка из общества, благосклонности коей следует добиваться, а всё-таки солдат, пусть и с двумя звёздочками на погонах. Ну и ладно.
Слегка оттаяла она, когда спектакль закончился под овации и десятикратный выход актёров к публике с поклонами. Играли они действительно великолепно.
Фуршет, естественно, был организован не для всех, но публика первых пяти рядов партера и из лож туда была допущена.
От шампанского и всего прочего у девицы Вельяминовой кружилась голова. «Двести восемьдесят седьмая» на происходящее смотрела профессионально. Её кавалер на самом деле пользовался здесь авторитетом и вниманием. У пресловутых «девиц на выданье» — в особенности. И вот тут Настя впервые ощутила совсем почти незаметный укол ревности. Сразу же отмеченный особым, не подверженным воздействию оперативной информации сектором сознания.
И это её обрадовало. Она всё же стала настоящим человеком.
Вопреки её ожиданиям, ни малейших посягательств Валерий не предпринял. Довёз до расположения, ещё раз поцеловал руку, слегка её, впрочем, в своей задержав, поблагодарил за чудесно проведённый вечер и пожелал приятных сновидений.
Он-то ничего особенного не имел в виду, а она восприняла его слова по-своему. И немедленно решила любой ценой выбросить тот сон из памяти. Он ей больше не нужен.
Мечтала добраться до постели, укрыться одеялом и с приятным шумом в голове спокойно перебрать все подробности сказочного вечера, раскладывая по полочкам каждое слово, взгляд, мимолётное прикосновение. Но куда там. В казарме никто из подруг не спал. В четырёхместную комнату набилось двадцать полуобнажённых девиц, Глазунова с Темниковой извлекли припасённые бутылки и несколько апельсинов. И ей пришлось делать публично и вслух то, что собиралась пережить наедине.
Настю поразило, с каким сочувствием и добрым вниманием к её первому в жизни свиданию отнеслись военные женщины этого мира. С долей зависти наверняка, но главное — с радостью за неё и многочисленными практическими советами. И с этой ночи к ней намертво приклеилась кличка «графинюшка». Не «графиня», что звучало бы грубовато и чересчур определённо, а именно «графинюшка». Как бы не всерьёз, ласково и уважительно в то же время.
Моментами Вельяминову это раздражало, а иногда вдруг — как маслом по сердцу.
Когда Уваров получил от Чекменёва приказ готовиться к поездке в Одессу и объяснил смысл задания, Валерий отнёсся к нему творчески. Из слов генерала извлёк гораздо больше информации, чем тот намеревался передать.
То, что Игорь Викторович своеобразно, но принёс свои извинения за предыдущее, по сути, ничего в их отношениях не меняло. Просто генерал относился к предстоящему гораздо серьёзнее, чем, может быть, и сам догадывался. Иначе ни за что не выбрал бы на роль ближайшего помощника именно Уварова. Ограничился бы кем-нибудь попроще, послушнее и управляемее, но подсознание не позволило. Оно-то соображало, каким должен быть человек, от которого в очередной раз могут зависеть судьба Империи и самого носителя этого подсознания, вместе с телом и должностью.
Да, подполковник ему лично неприятен. Прямо — кость в горле, совершенно, как и бывшему комбригу Гальцеву, однако Чекменёв понимает — есть моменты, когда самолюбие надо уметь вынимать из кармана, а когда — прятать в карман.
Следовательно, с сего момента Уварову следует думать в два раза интенсивнее, чем прежде. За отпущенный срок нужно сообразить, где кроются подводные камни в простом на первый взгляд деле, каким образом их можно миновать, да так, чтобы и начальство не обидеть, и самому предстать в выгодном свете, как бы дело ни обернулось.
Интриганом граф Уваров по натуре был не из последних, другое дело — строевая служба в отдалённом гарнизоне не давала возможностей этим дарованиям развернуться. С товарищами по службе, с которыми завтра вместе помирать, вести себя, как природный граф — неприлично, с бригадным начальством затеваться — противно. Ну, можно позвонить какому-нибудь родственнику, тебя переведут в кавалергардский полк, начальника опустят в совершенно непристойный гарнизон, вроде Красной Речки под Хабаровском, или тех же, трижды проклятых Тоцких лагерей. Полегчает? Радости на душе прибавится?
А вот в разреженных атмосферных слоях высокой политики — отчего бы и нет? Партнёры вокруг достойные, есть с кем и вокруг кого собственную стратегию выстраивать. И к тридцати годам генеральские погоны, своим умом заработанные получить — самое то будет.
Кроме разгорающейся любви к подпоручику Анастасии Вельяминовой (он так её про себя и называл, и мечтал о ней, отнюдь не одетой в то платье, что она подобрала для посещения театра, а в строевой форме), Уварова не оставляла другая мысль: он должен стать кем-то не ниже Чекменёва. Очень скоро. Всё, что за гранью тридцатипятилетия, казалось ему нереальным и почти бессмысленным. В сорок — уже не жизнь!
Бегом, бегом, вперёд за славой и орденами. Император его запомнил, сам Георгия на грязный, пропахший порохом китель приколол. Даст бог, и дальше не забудет, у Романовых на верных людей память хорошая.
То, что встреча личного представителя Императора с главой «Чёрного интернационала» может иметь долгоиграющие последствия для всего нынешнего миропорядка, сомневаться не приходилось.
Если Чекменёв решил не заострять внимания подчинённого именно на этом аспекте, впрямую намекнув, что видит в нём лишь наиболее подготовленного командира отряда телохранителей — его дело. Почти любой человек на месте Уварова ограничился бы буквой приказа, не затрудняя себя проникновением в «дух» оного.
Валерий в подобных обстоятельствах предпочитал считать себя ответственным за всё, имеющее маломальское отношение к порученному делу. А сейчас тем более нашёл здесь и собственный интерес. Поэтому для начала обратился не к непосредственному начальнику, полковнику Стрельникову, как было предложено, не к Тарханову даже, а к Ляхову, ни разу в разговоре с Чекменёвым не упомянутому.
Вадим Петрович был на доске тяжёлой фигурой, вроде ладьи, в отличие от Уварова, более чем конём себя не позиционирующего. Конём, а не слоном, поскольку первый имеет больше степеней дозволенной свободы, причём противнику не всегда понятной.
Кроме того, он был человеком, лично знакомым и напрямую связанным с такими поразившими воображение тогда ещё капитана Уварова, эпическими, можно сказать, личностями, как генерал Берестин, полковник Басманов, прочие герои-корниловцы. В бою под Берендеевкой Валерий сотоварищи исполнил свой долг до конца, до донышка, защищая венценосную персону. Но и лечь бы им там всем, в подмосковном осеннем лесу, если бы не пришли вдруг на помощь умирающей роте молодые, до невозможности отважные прадеды — бойцы многими почти забытой Гражданской войны.
Уваров вспомнил, даже нет, увидел с закрытыми глазами, словно в кинематографе.
…Их осталось меньше, чем полурота. Сидели на последней в жизни позиции, вкруговую допивали тоже, скорее всего, последнюю фляжку, сбережённую Митькой Константиновым. Чужие пули время от времени щёлкали по стволам деревьев, иногда громадный танк издалека посылал вслепую тяжёлый снаряд.
— Ты, братец, считал, сколько нехристей в ихний рай проводил? — спросил Валерий у подпоручика. Умирать в тот момент ему было совсем не страшно.
— Полтора танка, двадцать шесть рядовых, трёх предводителей. Так и пиши в реляции. Мне лишнего не надо. К тому — девять единиц лично захваченного и доставленного по начальству особо секретного по причине неизвестности стрелкового оружия. «Георгия» — как с куста мне полагается, а можно и «Героя России».
Константинов отхлебнул маленький глоток из того, что оставалось, и вдруг задумчиво, совсем не в характере, сказал:
— Нет, правда, братцы, если Герои — не мы, тогда я уж и не знаю…
— Не забивай себе голову, — неожиданно зло ответил поручик Рощин, три раза за сегодняшний день собиравшийся умереть, да всё-таки выживший, назло всем и всему. — Сунут, вон, как командиру раньше — «За пять штыковых…», и спасибо скажешь.
— Кто спорит, — согласился Константинов. — А ты знаешь, как у нас в полку этот значок называли? «На, и отвяжись». То есть и не наградить стыдно, и настоящего ордена жалко. Самим мало… — Подпоручик затейливо выругался. В каждой воинской части, не считая флота и морской пехоты, ещё с петровских времён были приняты и тщательно шлифовались триста лет собственные матерные фразеологизмы. «Малый загиб Петра Великого», «большой» его же имени, и так далее.
Константинов начинал службу в одном из полков, где подобные конструкции являлись гордостью и раритетами, поскольку первым шефом у них был Великий князь Николай Николаевич старший — уж такой специалист по этому делу.
— Если б за каждый бой да по ордену… — подпоручик махнул рукой. Поскольку пить больше было нечего, закурили, дожидаясь новой атаки.
Вдруг задребезжал зуммер радиостанции. С какой-то странной надеждой (а на что надеяться?), Уваров взял протянутую унтером трубку.
— Капитан, живой пока? Мост не взорвал? — услышал он голос войскового старшины Миллера. Тот говорил совершенно другим тоном, чем полчаса назад.
Уваров попытался объяснить свой тактический замысел, но не успел.
— Вот и молодец! Удачно получилось. Как раз пригодится. Ещё поживём, наступать будем! Пришла помощь. Приготовься, к тебе сейчас выдвигаются. Сдашь рубеж, и свободен. Отходи к нам. Противника видишь?
— Ещё нет. Замешкались что-то. Видно, крепко мы им по соплям накидали…
— Ладно, у меня всё. Ждём…
«Помощь — это хорошо, — подумал Уваров, не считая нужным обнадёживать и расслаблять соратников. — Собрались умирать — и умрём. Остальное — нежданный подарок».
Минут десять прошло, не больше, они и докурить не успели, как услышали за спиной мерный, слитный хруст ломающихся под сотнями подошв шишек, веток и палок, покрывающих пространство между лесными великанами.
Офицеры инстинктивно вскочили, вскинув кто автомат, кто ручной пулемёт. То, что они увидели, явно не предназначалось для слабонервных. Но таких здесь и не было.
Ухитряясь идти даже по лесу почти сомкнутыми рядами, на них надвигалась цепь настоящих корниловцев, с той ещё войны. Знакомых по фотографиям в альбомах, на стендах училищ и воинских частей, документальным и художественным фильмам. Именно в тогдашней форме — начищенных высоких сапогах, чёрных гимнастёрках с алыми кантами, демонстративно смятых фуражках с алым верхом. Единственное, что выбивалось из стиля — автоматы, такие же, как у вражеских боевиков, вместо мосинских винтовок с четырёхгранными игольчатыми штыками.
За первой цепью вторая, третья.
— Матерь божья, — выговорил Рощин.
Несколько кучек опалённых огнём неравного сражения «печенегов», слишком оглушённых боем и смертями, чтобы сильно удивляться, поднимались с кочек и брёвен навстречу… Кому? Дедам-прадедам или статистам костюмированного трагифарса?
Спасителям, в данном случае, остальное не так уж важно.
Так и стояли, пока к Уварову не вышел откуда-то слева полковник с не по-здешнему суровым, хотя вполне симпатичным лицом.
— Полковник Басманов Михаил Фёдорович. Рад познакомиться.
Протянул руку, предварительно стянув узкую лайковую перчатку. Да, Валерий вспомнил, тогда все уважающие себя люди носили перчатки, даже летом.
Он тоже представился, машинально взглянув на свою исцарапанную, покрытую полосками запёкшейся крови ладонь.
— Завидую, — сказал Басманов. — Хороший бой выдержали. У нас, к слову, тоже бывало… На Каховском плацдарме мы штыковой атакой этого самого полка, — он указал рукой на спокойно стоящих позади него корниловцев, — сбили красных с позиций, штурмом взяли мост и потом гнали почти целую армию тридцать вёрст. Пока было кого гнать…
— Да, помнится, читал, — только и смог ответить Уваров.
— Оставим лирику, — вздохнув, сказал Басманов. — Вы сдаёте мне позицию. Что имеете доложить?
Валерий доложил, что знал по последней оценке обстановки.
Уже собираясь прощаться, он спросил то, что хотел с самого начала.
— Вас много, Михаил Фёдорович?
— Дивизия, — спокойно ответил Басманов.
Вот тут капитан испытал чувство ошеломления. Отбиваясь из последних сил, мечтал о поддержке простой пехотной роты, чтобы прибавили плотности огня и на себя отвлекли немного внимания противника. Батальон — это уже сон в летнюю ночь. А тут дивизия. Если по штатам — пятнадцать тысяч человек. И со всеми спецподразделениями? И с фронтовым опытом тех сражений, когда действительно один против двадцати в штыковые атаки ходили?
…Уваров хорошо понимал и причины, и всю меру неприязни к нему генерала Чекменёва. Понятно, своей инициативой поломал несмышлёный офицерик стратегическую разведоперацию, годами, может быть, выстраиваемую. Так предупреждать же надо! Обидно, вопросов нет. Взвился генерал, вожжа под хвост попала. Наказал бы дурака своей властью, всё бы на том и кончилось. А тут сначала Стрельников влез со своими понятиями чести и справедливости. «Не позволю мол, лучше в отставку уйду, но сначала передам представление к награждению капитана и его отряда на Высочайшее имя. Пусть и через вашу голову!» Кто такое стерпит? Однако Чекменёв стерпел.
И тут вдруг в Москве мятеж случается, и снова некого, кроме пресловутого Уварова на последний рубеж перед императорской резиденцией кинуть. Погиб бы он там — слава богу! Дали б посмертно Героя России, на том и успокоились. А он ведь выжил! Лично был представлен Олегу Константиновичу, из его рук и Крест получил, и приказ об очередном производстве. На глазах Чекменёва. Успел бы он раньше Императору шепнуть, что не стоит так вот публично превозносить серьёзно провинившегося офицера, может, и сумел сохранить лицо. Да и то неизвестно: Олег Константинович характером крут, мог и самого генерала принародно по матушке послать, объяснив, что нечего на зеркало пенять, коли у самого рожа крива…
…Вадим Петрович как раз находился в городе, неподалёку от штаба Уварова, и согласился в ближайшие полчаса заехать. Ему так было удобнее, чем назначать встречу в каком-то другом месте.
— Ты совершенно прав, — сказал Ляхов, выслушав подполковника. — Не будем гадать, какие мысли у всеми уважаемого Игоря Викторовича в голове и какие тузы в рукаве. Нам нужно либо просто выполнить порученное без сбоев и промахов, что представляется почти очевидным и не слишком сложным, либо вовремя взять игру в свои руки. Так?
— Именно так, Вадим Петрович. Почему я к вам и обратился.
— К кому же ещё? — усмехнулся Ляхов. — Ты быстро и верно набираешь очки, что никак не может не раздражать окружающих. Отец мне давно приводил такой чиновничий афоризм: «Задача помощника чётко и ясно формулировать то, что смутно ощущает начальство». Вот и наш генерал явно нечто неприятное в окружающей атмосфере ощущает, а сам для себя сформулировать не может.
— Точнее — не хочет. Он, как вы рассказывали, прирождённый оперативник высшего класса, а сейчас…
— И знаешь, почему? — прищурившись, спросил Вадим.
— Знаю, — решительно ответил Уваров. — Он вообразил, что эту функцию перерос и как бы воспаряет в эмпиреи высокой политики, где не пристало «грязной тачкой руки пачкать»…
— Очень точно подметил. Не зря мы с тобой во многом сходимся. Люди одной серии, как формулирует некий весьма компетентный товарищ, мой знакомый. Поэтому начинаем свою игру. С того места, где её прервал господин Чекменёв. Не вовлекая в неё до поры ни Тарханова, ни Стрельникова. Согласен?
— Так точно.
Сердце подполковника, как выражались аборигены тех мест, где он начинал службу, переполнилось радостью. Он давно и с определённой уверенностью в успехе надеялся, что Вадим Петрович рано или поздно приблизит его к себе и введёт в круг тайн, к которым причастен. Сейчас он почувствовал, что значительно приблизился к намеченной цели.
— Вот и договорились, — сказал Ляхов. — Я не вмешиваюсь в текущие процессы, беру на себя обеспечение форс-мажоров, буде такие возникнут. А уж ты изволь продемонстрировать, на что способен в свободном полёте. Сдаётся мне, что случится может всякое, не слабже того, что было в боковом времени.
— Как приятно говорить с человеком, свободно понимающим даже невысказанное, — без тени лести ответил Валерий.
— Вполне солидарен, — кивнул Ляхов. — Теперь последний совет — и разойдёмся. У тебя, кажется, возникли достаточно тёплые отношения с Анастасией Вельяминовой…
— Вадим Петрович!
— Разве я сказал что-нибудь неуместное? Весьма достойная девушка. На мой вкус тоже — лучшая в отряде. Всемерно приветствую. И хочу, как старший по возрасту, опыту и чину товарищ попенять на чрезмерную… сдержанность. Отнюдь не только в личных вопросах.
— Поясните, пожалуйста, — чрезмерно напрягся Валерий. Он не хотел, чтобы даже глубоко уважаемый им человек касался этой темы.
— Тише, тише, а то шерсть на холке дыбом встала. Истинно — волк степной. Да, ваше высокоблагородие, — внезапно и резко сменил Ляхов тему, — ты не забыл, как медицинская эмблема на петлицах расшифровывается ?
Уваров, словно с разбега на забор наткнулся, смолк. Секунду подумал.
— Так точно, господин полковник. «Хитрый, как змея, и выпить не дурак».
— Вывод? — Вадим откровенно веселился, словно бильярдист, несколькими точными ударами совершенно поменявший картину на зелёном столе.
— Извините, пожалуйста. Совершенно задёргался с этими проблемами.
Сбегал в комнату отдыха, принёс коньяк и кое-какую закуску.
Многие гражданские люди думают, что подполковник и полковник — почти одно и то же. Подумаешь — тремя звёздочками больше, тремя меньше[75]… На самом деле разница громадная. Служебная — само собой, но и психологическая тоже. Полковник — это уже иное качество личности. Полковника могут поставить командующим корпусом, и комдивы-генералы будут ему подчиняться.
Вот и Уваров не видел ничего странного в том, что реагирует на приказ, отданный вроде и в шутливой форме, как любой поручик — на его собственный.
Ляхов с удовольствием, не торопясь, выцедил коньяк, а Валерий свой выпил залпом, будто плохую водку.
— Поясняю, — сказал Ляхов, закуривая. — Вельяминова должна стать твоим ближайшим помощником, партнёром в делах, далёких от… интима. Это умнейшая девушка.
— Не всё. Ты не спрашивал, она не отвечала. Прямо сейчас, когда я уеду, пригласи её, расскажи всё, что мы тут обсуждали, и вместе подумайте, как станете действовать. Уверен, услышишь много нового и интересного. Умнейшая девушка, — повторил он, — причём в тех сферах, о которых ты пока и не догадываешься. Своим заместителем и командиром боевой группы кого наметил? Окладникова? Правильное решение. А Вельяминову, как воеводу Боброка — на засадный полк. Вместе с её подружками. За-абавно может выйти.
Уваров не до конца понял ход мысли полковника, но, как у каждого влюблённого мужчины, лестный отзыв о предмете его страсти вызвал новый приступ симпатии к понимающему человеку.
Это свойство человеческой личности Ляхов представлял достаточно хорошо и грамотно использовал.
Простившись с Вадимом Петровичем, Уваров выкурил две папиросы подряд, стоя у открытого окна и размышляя, кто же это настолько в курсе его затаённых (как ему казалось) чувств, что уже и до верхних эшелонов власти информация дошла? Стучат, все и на всех стучат! Эта простая истина ввергла простодушного графа в подобие меланхолии. Он словно забыл, что Анастасия, как следует из всего предыдущего, является протеже Вадима Петровича, и очень свободно могла поделиться с ним своей сердечной тайной.
И то не принял во внимание, что сам демонстрировал в театре записным сплетникам и сплетницам свою пассию. Да в отряде числилось полсотни существ, которых офицерский чин и специфика службы не избавили от присущих данному полу склонностей и привычек.
А уж что Ляхов обращает внимание на информацию всякого рода, так ему, инициатору создания женского подразделения, сам бог велел быть в курсе всего, там происходящего.
Уваров по телефону, через дежурного, вызвал к себе подпоручика Вельяминову и встретил её вполне по-уставному. С непроницаемым (как ему казалось) лицом выслушал доклад о прибытии, указал на полукресло у приставного столика.
Анастасия, сев и положив руки на столешницу, смотрела на командира своими изумительными глазами без всякого намёка на самую отдалённую возможность внеслужебных отношений. Так ведь, признаться, и отношений никаких ещё не было. Кроме вполне невинного посещения спектакля. Он даже поцеловать её на прощание тогда не отважился. Случалось, задерживал пальцы в своей руке несколько дольше, чем требуется, в танце, не сдержавшись, привлекал чуть ближе, ладонь, как бы невзначай, соскальзывала ниже талии. Но — в пределах приличий. Пусть и у самых пределов.
— Значит, так, Анастасия Георгиевна. Перед нами руководством поставлена серьёзная задача. Господин полковник Ляхов посоветовал мне обсудить её с вами. И даже назначить вас моим негласным помощником. Официальным заместителем будет капитан Окладников, командир второго отряда… Вадим Петрович уверен, что вы обладаете способностями, до сих пор мне не известными. Склонен ему верить, хотя и удивлён, не скрою…
— Я тоже удивлена. Но не тем, чем вы. — Лицо Насти приобрело непривычное, не знакомое Уварову выражение.
— Поясните…
— Лучше вы сразу изложите задачу. Дальнейшее выяснится само собой.
Валерию опять стало не по себе. Слишком резко начали расходиться образы — девушки, в которую влюблён, и жёсткого профессионала, собравшегося приступить к делу, нисколько не обращая внимания на то, что разговаривает с человеком… Да чёрт с ним, неважно, как она разговаривает и как смотрит. Он ведь и сам встретил её сейчас отнюдь не так, как хотелось бы. Проклятая субординация!
Пряча глаза, он разлил по чашкам свежезаваренный китайский чай, взял из коробки новую папиросу.
— Можно и мне? — вдруг спросила Настя, то есть подпоручик Вельяминова.
— Вы курите? — удивился Уваров.
— Иногда. Особенно — в затруднительных ситуациях.
Он поднёс ей огонёк зажигалки, с интересом смотрел, как девушка затянулась и медленно выпустила дым одновременно ртом и носом. Ещё один неожиданный штрих.
Выслушав вводную, Анастасия взяла кожаную папку с документами, относящимися не только к Катранджи, а вообще ко всем взаимоотношениям российских спецслужб с его «Интернационалом» и к месту предстоящей встречи. Каждый лист она просматривала от силы по две секунды. Закончила, закрыла папку, отодвинула её на край стола.
— Понятно, господин подполковник…
«Вот ведь натура, — одновременно со злостью и нежностью подумал Валерий, — демонстративным нежеланием пропустить приставку «под» показывает всю степень своей ко мне неприязни. А как я себя должен вести, если разговор чисто служебный и очень серьёзный?»
— С вашего позволения, завтра утром я предложу вам как минимум пять вариантов этой операции.
— В каком смысле? — не понял Уваров.
— В самом прямом, ваше высокоблагородие. Дело намечается очень и очень непростое. Если бы я его организовывала… Одним словом — эти варианты я увидела, но нужно потщательнее обдумать каждый. Сразу могу сказать — в трёх мы проигрываем. Но… — она прикусила губу. Но… — был такой вельтмейстер[76] Алёхин, вы слышали?
— А как же!
— И вельтмейстер Рауль Хозе Капабланка. Гении комбинации. По их примеру я хочу найти шестой вариант. Чистый и совершенно неожиданный. Мы делаем своё дело, каждая сторона получает якобы желаемый результат, а все концы, ниточки, вожжи, как угодно, остаются в наших руках…
Она, уже не спрашивая разрешения, взяла ещё одну папиросу, сама и прикурила от лежащей рядом зажигалки. Прямо этакая женщина-вамп из заграничной мелодрамы.
Уваров смотрел на Анастасию со сложным чувством. С одной стороны, подтверждались слова Ляхова, но с другой… Он уже смирился с её превосходством в экзотических боевых искусствах и никогда не вышел бы публично с ней на ринг или фехтовальную дорожку. В глубине души подобное превосходство девушки его, безусловно, задевало, но стало уже привычным, тем более — компенсировалось её мягкостью и деликатностью, пожалуй, чрезмерной скромностью в личных отношениях. А сейчас он видел, что перед ним действительно вельтмейстер, севший играть… Ну, с перворазрядником. Ни о каких пяти вариантах он и не подумал, не говоря о шестом. Хорошо, что увидел хоть два, и сразу обратился к Ляхову.
И кто он теперь, попав в такую комбинацию?
— Вы можете всё это изложить… Доступным мне языком? — Последние слова дались ему с огромным трудом, но он всё время сравнивал себя с тем же Чекменёвым и своим бывшим комбригом. Не желая стать на них похожим. Как же это трудно, оказывается.
— Мы когда должны вылетать? — деловито спросила подпоручик Вельяминова, как и полагалось по её новой должности.
— Послезавтра. К вечеру.
— Тогда успеем. Завтра не позднее десяти часов я сделаю то, что вы хотите. И останется время на практическую подготовку, зависящую уже исключительно от вас, господин подполковник.
Как же она зла на меня, подумал Уваров. Хорошо, хоть «вашим сиятельством» не обозвала. И он мечтает взять такую гадючку подколодную в жёны? Любого другого на своём месте он назвал бы законченным идиотом.
А Вадим Петрович отчего-то считает, что у них может получиться… Так у самого супруга — тот ещё подарочек, если не только на внешность смотреть.
— Договорились. — Валерий непроизвольно сглотнул ставшую вдруг горькой слюну и встал, желая прекратить ставший ему крайне неприятным разговор. Служить желаете, мадемуазель, ну так послужим вместе на благо Отечества. Как я с Чекменёвым.
— А теперь позвольте один личный вопрос? — Анастасия тоже встала, одёрнула чуть сбившуюся форменную юбку, скользнула пальцами по пуговицам кителя.
— Пожалуйста…
Девушка сдвинула в сторону упавшую на глаза прядь волос и спросила исполненным яда голосом:
— Когда ты, ваше, сиятельство (вот и дождался!), перестанешь быть таким дураком? Мне уже надоело выносить твои взгляды, вроде того, как ты на меня посмотрел только что, выслушивать твои благоглупости, ждать, когда ты скажешь что-нибудь человеческое. Хочешь, чтобы я первая? Или мне просто повернуться и уйти, готовить доклад к завтрашнему утру?
— Какая Настя!? Подпоручик Вельяминова! Я приглашаю вас, подполковник граф Уваров, поужинать со мной в ресторане, где мы с вами впервые встретились. И разрешаю вести с собой так, как подсказывают вам ваши чувства. Если они у вас, конечно, есть. Вне службы!
Валерия передёрнуло. Как стыдно. Как глупо…
— Настя… — он едва ли не «простёр к ней руки», словно в пьесе Антона Павловича Чехова.
— Подпоручик Вельяминова, — прибавив металла в голос, повторила девушка. — Если вам угодно, в девятнадцать ноль-ноль встретимся у той же калитки. Разрешите идти?
По-строевому повернулась, щёлкнула каблуками и пошла к двери, так ни разу и не обернувшись больше, и всей своей вытянутой в струнку фигурой выражая снисходительное презрение.
Весь этот растянувшийся до полуночи вечер Анастасия была весела, раскована, неожиданно, по-особенному женственна. Будто не было недавней размолвки, будто вообще она никогда не служила в армии, тем более — в элитном подразделении, где учат убивать, максимально эффективно и без посторонних эмоций, а всегда вела исключительно светскую жизнь.
Уваров никогда её раньше в подобном качестве не видел, и даже не догадывался, что она может быть такой. В театре Настя выглядела просто растерянной и зажатой, несмотря на наряд и восхищённую реакцию мужчин. Он не сообразил, что сейчас она впервые копирует манеры и стиль Майи Васильевны, усвоенные на пароходе, но до сих пор не использованные.
Ей, кстати, посоветовал попробовать себя в этом искусстве не кто иной, как Вадим Петрович Ляхов, сразу же после разговора с Уваровым нашедший Вельяминову в учебном классе отряда и пригласивший её в крохотный кабинетик взводного командира «на пару слов». Парой он, конечно, не ограничился, но за пять минут сумел обрисовать предстоящее задание, а заодно и поделиться кое-какими соображениями насчёт отношений со строгим начальником и робким кавалером.
— У нашего Валерия, понимаешь ли, отягощённая наследственность. Аристократические привычки, с десяти лет — кадетский корпус, училище, нелёгкая служба на переднем крае. Вполне заслуженный, но слишком быстрый служебный рост. Генетическая неприязнь начальства. Правильному обращению с нормальными девушками ему негде было научиться. Слишком острая дихотомия[77]. Либо идеальный образ, увиденный в юности на балу, либо жёны полковых офицеров и доступные за умеренную плату маркитантки. Первые недоступны в силу отдалённости и идеальности, вторые и третьи неприемлемы в силу первой причины. Я понятно изъясняюсь?
— Вполне. — Настя смотрела в пол, и лицо у неё было сумрачным и напряжённым.
— Самое же главное — он впервые в жизни так глубоко и стремительно влюбился в тебя, что просто не понимает, как ему с этим чувством жить. Сделать решительный шаг и нарваться на холодное безразличие или, хуже того, — насмешку? Для него такая мысль непереносима…
— Вы хороший психолог, Вадим Петрович. Я и сама всё это понимаю, вижу, чувствую. Может быть — не так отчётливо, как вы со стороны. И, мне кажется, не раз уже намекала, что приму его объяснение с благосклонностью. Хотя… Смогу ли я стать для него той, какую он придумал…
— Вот этого как раз не бойся. — Ляхов положил свою ладонь поверх её руки. — Я знаю его, знаю тебя, вообще знаю много такого, чего здравомыслящему человеку лучше бы и не знать. Сможешь. А практически… Понимаешь, твои робкие намёки он воспринимает как плод собственного воображения. Проще говоря — не позволяет себе поверить, что ты способна ответить ему взаимностью.
— Но я и вправду могу. И хочу. Я не знаю ещё, что такое настоящая любовь, но когда представляю, как он меня обнимет, начнёт целовать… — Вадим заметил, что полминуты назад напряжённая и строгая девушка разительно изменилась. Словно бы даже слёзы навернулись на большие, ставшие сразу наивными и детскими глаза.
— Попробуй последовать моим рекомендациям, — прозвучало слишком по-докторски, но иначе не получилось. Вадим объяснил, как ей следует повести себя прямо сейчас, потому что в ближайшие полчаса, если не раньше, Уваров её вызовет.
— Главное, это пойдёт на пользу и ему, и тебе, и службе. Включай на полную свои аналитические способности… — Ляхов успел убедиться, на что способны девушки даже и без спецаппаратуры. А если с ней?
— Сегодня действуй в пределах того, о чём сейчас договорились, и смотри, что в итоге получится. А завтра с утра позвони мне, вдвоём над проектом поработаем…
Анастасия сразу и не поняла, какой именно проект имеет в виду Ляхов. Служебный или касающийся её с Валерием отношений.
…Вот она и повела себя с Уваровым, как посоветовал Вадим Петрович. Сказать, что он был ошеломлён её выходкой — ничего не сказать. Он был одновременно деморализован и счастлив. Более ясного намёка об истинных чувствах Насти представить невозможно. Конечно, правильнее было бы самому ей всё сказать, но… Старший офицер, объясняющийся в любви рядовому бойцу — нонсенс всё-таки. Или — использование служебного положения в личных целях.
Манеры Майи она копировала просто потому, что ощущала с ней и с Ляховым эмоциональную близость. Вообще в её теоретическом багаже имелось не меньше двух десятков типовых схем поведения в подобной ситуации. С Новиковым той ночью Дайяна велела использовать вариант «гимназистка». Сейчас больше подходил — «Бабетта идёт на войну»[78]. Откуда взялся термин, Анастасия не знала. Мадам Дайяна умела придумывать самые неожиданные названия для своих разработок.
Уваров постепенно оттаивал, испытывая огромное облегчение от того, что чувствовал — от него, кажется, больше ничего не зависит. Никаких особых слов до сих пор сказано не было, но они и не требовались. Пока. И без того всё ясно и понятно. Зато он испытывал настоящую ревность, когда присутствующие в зале мужчины смотрели на его любимую откровенными взглядами, и тем более со всеми правилами приличия спрашивали у него разрешения пригласить Настю на танец.
Она почти никому не отказывала и танцевала великолепно, он нервничал, но когда девушка возвращалась за столик, делал вид, что рад за её успех. Сам же станцевал с ней всего два раза. Не хотелось под взглядами публики, пусть и отборной.
Кстати, Уваров явственно ощутил, что за всем происходящим кроется рука и стиль Ляхова. Настя сама никогда бы не додумалась, не рискнула пригласить влюблённого командира именно в этот ресторан, где состоялось представление «валькирий» руководству «печенегов», где они впервые увидели друг друга и Валерий ощутил пробежавшую между ними искру.
Нет, он, безусловно, был благодарен Вадиму Петровичу и за ту встречу, и за сегодняшний вечер, но никуда не деться от ощущения, что им манипулируют.
«Ну и чёрт с ним, — подумал Уваров, — пусть даже и так. Иначе вообще неизвестно, чем бы всё кончилось. С Настиным характером её сегодняшняя вспышка могла бы закончиться очень печально. Для меня. Всё оборвалось бы, не начавшись. Окончательно и навсегда только «подпоручик Вельяминова», и никак иначе. А мне — подавать рапорт о переводе в другой гарнизон, подальше от Москвы. Потому что встречать каждый день равнодушный взгляд и слышать только уставные ответы… Проще застрелиться».
О завтрашнем дне они не говорили, но мысли о нём Валерию прогнать не удавалось, при всём его эмоциональном подъёме. Что же такое она сумеет придумать, не доступное ни ему, ни даже Чекменёву?
Развлекая Настю, Валерий превзошёл самого себя. Он сыпал никогда не слышанными девушкой анекдотами, рассказывал, непременно в юмористической форме, о своей прошлой службе, о басмачах, моджахедах, хунхузах, польских инсургентах и обороне сказочной Берендеевки от скопищ диких горцев, спустившихся прямо со страниц повестей Бестужева– Марлинского и четырёхтомного труда историка Потто «Кавказская война». Потом вдруг вспоминал стихи, разительно отличающиеся по тональности от только что старательно демонстрируемой лёгкости отношения к жизни:
— Что это вдруг с тобой случилось? Откуда вдруг такой минор? Я, возможно, и ошибаюсь, но как-то не ко времени… Или — что?
— Да нет, ничего, извини. Нахлынуло вдруг. В молодые годы в нашей компании модно было этакое, лермонтовско-печоринское… Вот не пригласила бы ты меня сегодня, только и осталось бы поэзией былых веков утешаться. Не мы, мол, первые, не мы последние…
И больше ничего, относящегося к собственным чувствам, он не сказал. Анастасию это задевало, ей хотелось окончательной ясности и определённости. Отпущенное самой себе количество шагов навстречу она сделала. Что ещё требовать от девушки?
С другой стороны, то, что он так скуп на слова и сдержан в поступках, её радовало. Значит, действительно не пустяк для него их с таким трудом налаживающиеся отношения, не мимолётное увлечение, не пустой флирт. Ну, посмотрим, посмотрим…
Учёба в Новой Зеландии не прошла зря. Майя, Татьяна, Наталья Андреевна — каждая по-своему кое-чему её научили. Прежние уроки Дайяны если не забылись, то отодвинулись за пыльные кулисы чужого теперь театра.
Наконец вечер себя исчерпал. Пора было уходить. Только до сих пор непонятно, куда и как.
Они шли по ночным, почти затихшим улицам, то широкими, ярко освещёнными проспектами, то кривыми, безлюдными, совсем провинциального вида переулками. Анастасия знала центр Москвы довольно прилично, но сейчас не могла уловить общего направления. С равным успехом могли выйти и в район расположения части, и куда-нибудь ещё.
Было достаточно того, что Валерий держал её ладонь в своей, говорил что-то, говорил, и будто машинально перебирал тонкие пальцы правой руки. (Шёл подполковник по-офицерски, справа от дамы).
Она их время от времени стискивала, будто боялась, что отпустит.
Наконец остановился перед парадным подъездом тяжеловесного многоэтажного дома, изукрашенного полуколоннами, башенками, кирпичным кружевом, не хуже Исторического музея.
— В казарму возвращаться уже поздно, — сказал Уваров, посмотрев на светящийся циферблат часов под фронтоном. — Если хочешь, будь моей гостьей. Места хватит…
Сердце у неё ёкнуло, почти остановилось, потом зачастило.
— А как же доклад, господин подполковник? К десяти утра? — она сказала намеренно спокойно, взяв себя в руки, с намёком на издевку даже. Понимая, что очень, очень рискует. Что как пересиливший себя, пригласивший домой кавалер вдруг психанет, наподобие автора тех стихов, что недавно ей читал. Тот тоже из пустяка стал под выстрел к барьеру, в двадцать семь лет лишив себя жизни, а русскую литературу — невозможно представить чего…
К её счастью, Уваров молча махнул рукой. Потом всё-таки сказал стиснутым голосом:
— О каких глупостях ты сейчас говоришь…
Его квартира на третьем этаже очень культурного подъезда Анастасии сразу понравилась. И не такое видела, особенно на «Валгалле», а тем не менее. Запахи, и те показались родными. Восковой мастики, которой по старинке натирали полы, свежесмолотого арабского кофе, хорошего табака, чуть-чуть — мужского одеколона или освежителя воздуха с похожими мотивами.
«Это — и вправду моё! — мелькнула мысль. — Дом меня принимает раньше хозяина…»
Валерий помог ей снять пальто (теперь собственное, не заёмное), присев, расстегнул застёжки высоких ботиночек, опять на секунду задержав руку на щиколотке. И она снова вздрогнула.
Сам разделся, задвинул дверцу стенного шкафа. Замялся, словно не зная, что делать дальше. Проводить гостью в комнаты или…
«Или» и получилось. Настя ли на него так взглянула, сам он пересилил жуткую скованность тела и сумятицу в душе, но Валерий обхватил девушку руками за плечи, прижал к себе так, что более слабое существо наверняка вскрикнуло бы от медвежьих объятий.
Она сама подставила лицо с мягкими, раскрывшимися навстречу губами.
Несколько минут выпали у Вельяминовой из памяти, несмотря на всю её спецподготовку. Очнулась она уже в гостиной, на широком кожаном диване. Прерывая поцелуи только для того, чтобы набрать в грудь воздуха, Валерий гладил ей грудь через платье, бедро выше края чулка, и она сама, обвив руками его шею, вздыхала судорожно, готовая на всё остальное. Помнила, по наведённому сну, как дальше будет прекрасно.
И вдруг вскочила, вырвалась, преодолела наваждение и тёмную, неподконтрольную и ненужную волну желания.
Он ведь ей так и не сказал главного слова. А без него? Утром встанут, разойдутся, он к себе в штаб, она — в казарму. На том всё может и закончится. Страсть — она и есть только страсть.
— Хватит, Валера, хватит…
Он успел сорвать ей застёжки резинок, и чулки сползали к коленям. Да и без этого — не так получается, как она мечтала, не так.
— Да Настя, подожди, да я…
— Я сказала — хватит! — почти потерявшая голову девушка превратилась в прежнего жёсткого подпоручика. — Покажи, где я могу поспать…
— Да, хорошо, сейчас. — Уваров выглядел и обиженным, и растерянным, но главное — управляемым. Подчиняющимся. Её напору или собственным убеждениям и привычкам — не столь важно.
Анастасия за один вечер сумела превратиться из недоделанной аггрианки в настоящую русскую девушку. С инстинктивным умением объяснить мужчине, выбранному для себя, кто впредь будет в их союзе главным. Независимо от того, как это будет выглядеть на людях.
Она сама внезапно захотела полной близости, и тут же сумела удержаться, в то время как он, чьё желание и готовность Настя ощутила в полной мере, себя перестал контролировать.
Значит, так будет и дальше. Стартовую позицию проигрывают (или выигрывают) один раз. Ну и хорошо, ему, мужу (так она в уме его и назвала), ведь только лучше станет. Со всем своим бестолковым героизмом, умом, отвагой (перед которой подпоручик Вельяминова, как и все офицеры всех семи отрядов «Печенег», неважно, мужчины или женщины, искренне преклонялись), крестами, чинами, лично изъявлённым «Монаршим Благоволением». А муж у неё будет правильный. Свой долг исполняющий, в не касающиеся его дела не встревающий, послушный. Одновременно готовый стать спиной к спине против всего мира. С нею. И упаси бог, на другую (Настя не стала произносить просящееся на губы слово) посмотрит. Двадцать семь лет имел на свободу совести и развлечений. А уж теперь…
— Покажи, где я смогу просто поспать…
Он провёл её в спальню, где стояла явно лишняя Для холостого офицера широкая кровать.
— Спасибо, дальше я сама разберусь…
— Вот тут, обрати внимание, — с вновь проявившимся гордым вызовом, сказал Валерий, — на двери очень прочный засов. Закройся, на всякий случай.
— Что ты у меня за дурак! — она совсем легонько приобняла его за плечи, коснулась губами уголка губ. — Иди. Не морочь себе голову…
Ближе к рассвету Уваров вскинулся, машинально пощупал рукой рядом. Нет её. А он ожидал, что коснётся рукой прекрасного и желанного тела. Могла бы и прийти, при всех её принципах и заморочках. Хоть офицерских, хоть девичьих.
Валерий сел и заметил вдалеке, на навощённом паркете, световой блик. Накинул на плечи махровый банный халат и отправился на разведку.
Открыл третью по коридору дверь, не спальни, куда он Настю определил, а рабочего кабинета. И увидел, выходит, не подругу, а подчинённую, сослуживицуВельяминова, в золотистой комбинации на голое тело, сидела в кресле перед письменным столом и торопливо писала автоматической чернильной ручкой на стандартных листах бумаги. Несколько, уже заполненных, веером лежали на синем сукне слева, толстенькая пачка чистых — справа.
В левой руке она держала дымящуюся папиросу. Это Валерию не понравилось больше всего остального. За каким чёртом ему курящая жена?
От едва заметного движения воздуха между дверью и окном Настя вскинула голову.
— А, это ты? Чего не спишь?
— А ты? Что за?.. — он не подобрал слова, каким назвать её поведение, более чем странное, по любым меркам. На циферблате — пятый час утра. И, несмотря на прочее, его внимание слишком привлекала почти совсем открытая кружевным вырезом грудь любимой.
Нет, не только эта примечательная деталь женского организма его привлекала и отвлекала. Если бы подполковник, бывший фронтовой поручик и штабс-капитан, легко покупался на подобные штучки (как поёт знаменитая «примадонна»), его закопали бы в красный туркестанский песок раньше, чем вручили потом и кровью выслуженную третью звёздочку. Без всяких «пяти штыковых атак».
Он заметил и другое, по службе более важное. Телефонный аппарат, вечером и всегда стоявший на тумбочке у окна, переместился на стол, под её левую руку. Значит, с кем-то разговаривала глубокой ночью, пока он спал. А она — нет.
Интересно. Тут в нём заговорила не ревность, а инстинкт контрразведчика.
— Договорились ведь, — сказала Анастасия, — доклад должен быть готов к десяти утра. Вот и работаю. Заканчиваю четвёртый вариант.
— Нет, ну что ты за…— и опять слов не нашлось, — что за… педантка, Настёна? Успеем, всё успеем, иди сюда!
Он почти силой вытащил её из за стола, прижал к себе, начал целовать, куда попадал губами.
— Моя, моя милая, любимая… Пойдёшь за меня замуж? Прямо завтра?
Анастасия отстранилась, переводя дыхание после собственного, очень длинного последнего поцелуя.
— За тебя? — отодвинула Уварова на расстояние вытянутых рук. Посмотрела внимательно, оценивающе. — Да, может, и пойду. Раз лучше нет. Только не завтра и не послезавтра. Зачем мне муж, который при виде не совсем одетой девушки забывает — времена Для свадьбы совсем не подходящие.
И сразу стала очень серьёзной.
— Не бойся. Я от тебя — никуда. Только давай подождём ещё… немножко.
Словно не замечая, что её одеяние едва-едва, да и то чисто символически прикрывает верхнюю треть бёдер, подставила губы для поцелуя и тут же отстранилась.
— Всё равно, Валера. «Пакта сунт серванта»[79]. В десять утра ты мой меморандум получишь. Даже если захочешь спать до двенадцати. Ты начальник, тебе можно. Найдешь его на тумбочке. А мне скоро на утренний развод. И я его так проведу… Она мечтательно подняла глаза к высокому потолку. — Каждая… вообразит: облом у Вельяминовой с полковником. Пролетела, зараза! Что нам и нужно, правда, милый? Только сам не проколись, не улыбайся в роте с масляными глазками, как кот, объевшийся сметаны. Лучше на Темникову начни смотреть оценивающе. Тогда всё будет в полном порядке. Детали я тебе потом объясню. У нас тут не Туркестанский округ.
Тут же сделала отстраняющий жест, с таким лицом, словно была не обнажена сверх всяких приличий, а одета в королевское платье с длинным треном.
— Иди, иди, ничего больше не будет, мне дописать надо…
Усаживаясь в кресло, начала очень мелодично и отчётливо насвистывать такты строевого марша «Печенегов» на слова бессмертного Дениса Давыдова: «Эй, вперёд, труба зовёт, чёрные гусары. Впереди победа ждёт, наливай, брат, чары!»
Уварову не оставалось ничего другого, как с удручённым видом выйти из кабинета.
Так сложилось, что после встречи немного отдохнувшего и получившего квалифицированную медицинскую помощь Чекменёва, Катранджи, начальника губернского жандармского управления генерала Закатова с Эфроимсоном и несколькими старшими представителями специфического одесского социума, Уваров от дальнейших одесских дел был отстранён.
Исполнил свой долг — и достаточно. Остальное решат без тебя.
Нужно сказать, Валерий в этот момент испытал величайшее облегчение. На кой они нужны ему, эти забавы? Тем более Вадим Петрович Ляхов, выслушав доклад Уварова по личной связи, полностью с ним согласился.
— Возвращайся домой, если отпускают. Девчат забирай с собой. Генералу сейчас кажется, что с помощью Тарханова он справится лучше. Очень может быть. Сергей своё дело знает, и не завидую я тем, кто попадётся ему под горячую, а тем более — холодную руку. А у нас с тобой не менее интересные дела найдутся…
Семеро девушек ни по каким служебным учётам не проходили. Прилетели с Уваровым инкогнито, проявились на несколько часов в нигде не зафиксированном инциденте, так же и исчезли, почти что и безымянные.
Только Ибрагим Рифатович, верный своему слову, придержал за руку Кристину в прихожей квартиры, где они все собрались.
Достал из кармана чековую книжку и ручку с золотым пером.
— Я сказал. Десять миллионов тебе, по пять остальным девушкам. Ещё по миллиону тем двум офицерам. От собственных щедрот. Они хорошо воевали, но договора у них со мной не было. Это справедливо?
— Думаю, да. Вообще я это тогда так, в шутку сказала, — улыбнулась Кристина. — Можем и обойтись.
— Для вас — шутка, для меня — нет. На чьё имя чек писать?
— Можете на моё. Кристина Станиславовна Волынская. Я поделюсь…
— Кто бы сомневался, — хмыкнул Ибрагим-бей и размашисто, знакомым банкирам всего мира почерком вывел сумму прописью — двадцать семь миллионов русских рублей. Для него — копейки, в сравнении с на сколько-то лет или дней продлившейся жизнью.
Два часа Уваров потратил на личный доклад Тарханову. Сообщил ему подлинные факты и все варианты анализа Анастасии, не называя, разумеется, источника. Полковника они, судя по его выражению лица, заинтересовали не очень. Он предпочитал идти по горячему следу, а здесь информация и разработки жандармов и бандитов выглядели убедительнее, потому и предпочтительнее.
— Мы с тобой, Валерий, этими деталями в Москве займёмся. Когда всю конструкцию поймём и выстроим. Я тебе верю, и за всё, что ты сделал, — благодарен, не знаю как. Но, как бы тебе пояснить…
— Да что пояснять, Сергей Васильевич? Мавр сделал своё дело, мавр может гулять смело. А вы с Игорем Викторовичем в остальном и без меня разберётесь. — Уваров улыбался не дерзко, как умел, скорее — сочувственно.
— Ляховские штучки, — как бы про себя, но вслух сказал Тарханов. — Иди. Это я не тебе в упрёк, просто для прояснения… Ваши заслуги, без всяких вопросов, будут отмечены.
— Спасибо, господин полковник. «Минуй нас пуще всех печалей и барский гнев, и барская любовь».
Уже спускаясь по ступенькам, вспомнил заодно и Шекспира: «Неладно что-то в датском королевстве…»
Из Одессы Уваров с девушками прогулочным теплоходом, растворившись среди полутора сотен отдыхающей публики, добрались до Севастополя, а уже там сели в экспресс до Москвы. Заняли целиком спальный вагон– микст — четыре купе двухместных, четыре одиночных. Можно ехать со всем комфортом и держаться свободно, не остерегаясь чужих глаз и ушей. Рядовые валькирии разместились по двое, а командиры — Анастасия и Уваров — во второй половине вагона, поодиночке.
Вначале дружно отправились в вагон-ресторан, нормально пообедать и отметить успех, служебный и личный. «Солдатскую добычу», то есть полученный от Катранджи гонорар, решили поделить поровну, сумма уж очень хорошо делилась на девять. Девушки свои миллионы пока что воспринимали вполне абстрактно, других сумм, кроме ежемесячного денежного довольствия им в руках держать не приходилось. Другое дело Уваров с Окладниковым. Узнав о свалившемся с неба богатстве, они долго обсуждали вдвоём, как к этому «подарку» отнестись. На том, что принять его без урона для офицерской чести можно, они согласились почти сразу. Не нанимались они в ущерб интересам службы в частные охранники к иностранцу, это он сам таким образом оценил свою жизнь. Другой бы на его месте мог каким-нибудь орденом наградить — никакой разницы. Другое дело, что правильно будет разделить «приз» с другими офицерами, непосредственно участвовавшими в операции, и с семьями павших в бою.
А девушкам что ж, деньги на приданое пригодятся, не век же им служить.
Ближе к вечеру, когда все разошлись по своим купе, Валерий заглянул к Анастасии. Впервые с момента приезда в Одессу они вновь оказались наедине, счастливо оставшись в живых, хотя каждый имел равные шансы получить пулю и сейчас перемещаться в сторону дома в совсем другом качестве. Оттого смотрели они друг на друга уже другими глазами, чем всего четыре дня назад.
Настя повернула защёлку замка, обхватила Уварова за плечи, прижалась щекой к щеке и замерла. Сейчас ей и этого было достаточно.
Поезд мчался на стокилометровой скорости, стук колёс по стыкам сливался в ровный гул. На особенно крутом закруглении вагон сильно качнуло, и они почти упали на синий бархатный диван, так и не разомкнув объятий.
— Может быть, мне подать рапорт об увольнении? — спросила Настя, когда они устали целоваться, а перейти к естественному продолжению она Валерию снова не позволила. Слишком тонкие стенки в вагоне.
— Зачем? — не понял он.
— Ну, как же мы с тобой вместе будем служить, если всё-таки… Если ты не передумал.
— Как я могу передумать? Что ты говоришь?
— Вот и хорошо. И как же тогда?
— Да никаких вопросов. Попрошу Ляхова, он тебя пристроит… по специальности. Ты мне подчинена не будешь, остальное никого не касается. Не откажет, надеюсь, Вадим Петрович крестнице своей. Я, кстати, давно спросить собирался, да не до того было — ты ночью, когда варианты разбирала, по телефону ему звонила?
— Откуда ты знаешь? — удивилась она.
— Природная наблюдательность. Зачем человеку, если он никому не звонил, телефон с тумбочки на стол переносить?
— Ох, а я не подумала даже. — Анастасия, похоже, всерьёз расстроилась от своего промаха.
— Вот-вот. Так что давай, пока не поздно, с оперативной работы на чисто аналитическую переходи. Стратегически мыслить ты умеешь, а на пустяки внимания не обращаешь…
— Хватит тебе. Это я потому что у тебя дома была, и во взвинченных чувствах… В Одессе ведь нигде не ошиблась?
— Там — нет. Но всё равно с этой службы уходи. У меня на двоих нервов не хватит. Если опять что-то серьёзное начнётся — из таких заварушек вылезать не будем. О тебе думать стану — сам ошибаться начну…
Этот довод показался Насте наиболее веским.
— Ас девчонками как же?
— Ты с ними до старости в одном взводе служить собираешься? Вас, кажется, изначально к индивидуальной работе готовили?
— Так, конечно, но привыкли уже вместе.
— Не потеряетесь, в одном управлении будете. Да и всё равно в ближайшие годы все замуж повыскакивают. Хочешь, поспорим?
Настя засмеялась, снова, запрокинув голову, подставила губы. Это было восхитительно — наконец не сдерживать естественных порывов, поступать, как хочется, ничего не стесняясь. Вот он обнимает её, горячая жёсткая (нет, сейчас очень нежная) ладонь скользит по телу везде, везде, и она не отталкивает своего мужчину, ему можно всё. Нет, пока — почти всё.
— Я… тебя… люблю, — сказала она с расстановкой, вслушиваясь в звучание этих слов. Упёрлась пальцем в его нос. — Я… тебя… люблю. Смешно звучит, правда? Подпоручик Вельяминова говорит подполковнику Уварову, находясь при исполнении служебных обязанностей: я тебя люблю…
— Чего же тут смешного? Я тебя тоже люблю. Так и надо.
— Хорошо. Оказывается, очень приятно, когда можно так говорить. Я знала, но не понимала. Теперь понимаю. Ну, хватит, хватит. — Она отодвинулась, села, поджав ноги, натянула на колени юбку. — Позвони проводнику, пусть чай принесёт.
— Сделаем. Так о чём ты с Ляховым советовалась?
— Понимаешь, у него всякие электронно-вычислительные машины есть…
— Он и предложил — когда я черновики набросаю со всеми исходными данными, позвонить ему, он вероятности просчитает или что-то нами упущенное обнаружит. Я в деталях его программ не знаю, но вариант с попыткой захвата Катранджи и несколько эффектных контрмер на разные случаи как раз он предложил. Почему у нас с собой грим был, маршруты отхода и всё остальное.
— Не перестаёт меня удивлять Вадим Петрович. А теперь давай, расскажи мне всё по полной правде. Как у вас с ним, с Лихаревым и с его Майей было. И где. Кое-какие обрывки сюжета я знаю, но… Я же больше не посторонний, я тебе почти что муж.
Анастасия снова задумалась. Благо появился проводник с традиционным чаем в тонких стаканах, вставленных в тяжёлые серебряные подстаканники, как бы ни из той, первой партии, что была изготовлена на Кольчутинском заводе в ознаменование открытия движения по Транссибирской, теперь — Трансевропейской магистрали Порт-Артур — Владивосток — Москва — Лиссабон. С ответвлениями к Гавру, Гамбургу и Риму.
Воронцов и Наталья Андреевна с них никаких клятв о сохранении тайны Форта Росс и «Валгаллы» не брали, а вот Ляхов предупредил, чтобы никому и никогда о том, где они проходили подготовку, не рассказывали. Кому нужно — и так знают, остальным — не положено, включая ныне царствующую особу. Все необходимые сведения об их предыдущей жизни изложены в служебных формулярах, тоже, как у всех «печенегов» — секретных.
И что теперь делать? Как это называется в психологии — конфликт интересов. Муж, он, как ни крути, всё-таки муж, пусть пока и гипотетический. Мало ли что может в ближайшие дни случиться? А вдруг это очередной уровень проверки?
Попросил Ляхов младшего сослуживца, буквально из рук выкормленного, ещё раз проверить девушку, предварительно, по совету того же Ляхова, признающуюся ему в любви.
В то, что так может быть, ей верить не хотелось, но в школе у Дайяны «двести восемьдесят седьмой» пришлось узнать и о куда более хитрых методиках.
Если окажется, что это всё-таки проверка и она её не прошла, она потеряет всё — и любовь, и жизненные перспективы. Останутся только три миллиона от Катранджи и возможность поступить к нему на службу, на что он успел намекнуть.
— Знаешь, — едва не умоляюще сказала она, — давай об этом поговорим в присутствии Ляхова. Я ведь ему слово давала…
— Можно и так, — с холодком и тщательно маскируемой обидой в голосе согласился Валерий. — Давала, значит давала. Остаётся надеяться, что в отношении меня твоё слово будет столь же крепким.
А то вдруг прикажут на другой объект внимание переключить…
— Нет, ну как ты можешь! — Настя отодвинула стакан, распахнула дверь купе, выскочила в коридор. На глаза наворачивались слёзы.
К Москве они вроде бы помирились, однако, как в анекдоте из той же Одессы, «осадочек остался». У каждого — свой.
— Поедем ко мне? — полуутвердительно спросил Уваров, когда за окнами замелькали пригородные постройки. — Отдельная комната у тебя есть, лишний комплект ключей — тоже. На службу всё равно только завтра. Ляхова пригласим… Помолвку отметим.
— Я лучше в часть, — тихо ответила Настя, оглядываясь, не слышит ли кто из девчонок. Но тем было не до них. Собирали нехитрый багаж, переговариваясь о своём. Речь шла в основном о том, как бы поинтереснее провести сегодняшний вечер в новом, миллионерском качестве. Упоминали названия самых шикарных ночных клубов, о которых, оказывается, имели представление, пусть понаслышке и из журналов «о красивой жизни».
А свою начальницу будто бы не замечали. Конечно, только из деликатности. Всё они видели, понимали, радовались за неё, не хотели невзначай помешать даже не к месту сказанным словом.
— Пойду со всеми, зачем раньше времени отделяться? А ты со своими настроениями и с Вадимом Петровичем без меня разберись. Придумаешь, что сказать — знаешь, где меня найти…
— Будь по-твоему, — с тяжёлым сердцем согласился Валерий. — Желаю весело провести время. Но вы там, в кабаках, поаккуратнее. Не забывайте, что не на работе. Старайтесь обходиться только добрым словом, без помощи пистолетов и подручных предметов.
— Постараемся…
Девушки уселись в ждавший на привокзальной площади отрядный автобус, несколько обескураженные тем, что Вельяминова едет с ними, а подполковник остаётся один, бодрящийся, но явно невесёлый.
Он попрощался с каждой, ещё раз поблагодарил за службу и выразил надежду, что на построение отделение явится в срок и без потерь.
— Господин подполковник, поехали с нами! — задорно предложила Кристина, в дороге избавившаяся от специального, для Одессы подобранного образа и вновь превратившаяся в светловолосую, вполне славянского облика барышню. — Мы к вам ужасно привыкли, жалко просто так расставаться… Побудете нашим общим кавалером…
Другие девушки почти хором её поддержали, одна Анастасия промолчала.
— Ненадолго расстаёмся. Завтра обязательно увидимся, — пообещал Уваров, с благодарностью приложив руку к сердцу.
— Ну-у, это уже будет совсем не то…
— Честно говорю, никак не могу. Дел — выше головы. Но в следующее увольнение — обязательно. Надеюсь, придумаем повод. — Он бросил короткий взгляд на Настю. И ещё шесть пар глаз повернулось к ней. Она сделала вид, что ничего не замечает, но почувствовала себя ужасно глупо. Устроили тут цирк, словно сговорились, а ей отвели роль клоуна, теряющего на арене штаны.
Уваров махнул рукой, повернулся и, стараясь держаться не по-офицерски, а как подобает нормальному обывателю, слегка развинченной походкой направился к стоянке таксомоторов.
За полчаса поездки до отрядного городка Анастасия выслушала много разных слов в свой адрес. Подруги по очереди и хором объясняли ей всю неуместность и даже глупость такого поведения, расписывали, какой на самом деле замечательный человек их подполковник, и только законченная дура может изображать из себя неизвестно что, в то время как каждой нормальной дуре должно быть понятно… И так далее.
Настя наконец не выдержала.
— Всё, хватит! Хватит, я сказала. — Хорошо, что голос удалось удержать от срыва в истерические нотки. Прозвучало просто как строевая команда. — Ничего не понимаете, так и не лезьте! И нечего воображать неизвестно что. Сама разберусь. Если будет в чём разбираться…
— Действительно, девки, хватит, — строго пресекла дискуссию Маша Варламова. — Не знаем, в чём дело, а рассоветовались… Если что, я Валерию Павловичу хоть завтра предложу себя в утешительницы. Пообещаю, что белее и пушистее меня не найдёт. Никогда ни слова поперёк не скажу. По чину не положено. Вот когда сама под полковником буду…
Девушки дружно рассмеялись, даже Анастасия, и вернулись к обсуждениям планов. Куда всё-таки вечером пойти и в какие магазины немедленно бежать, чтобы, не считая денег, экипироваться самостоятельно, а не под руководством «тётушек».
В самом мрачном расположении духа Уваров приехал домой, долго бесцельно сидел на подоконнике, глядя в окно. От нечего делать принял душ, второй раз побрился. Может быть, напрасно он встал в позу? Делал бы вид, что ничего не случилось, согласился провести вечер с девушками, как-нибудь с Настей в очередной раз объяснились…
По-своему она, конечно, права, тут спору нет. Если тот же Ляхов не хотел раскрывать свои карты перед Чекменёвым, так он тоже не поторопился докладывать генералу, что от Вадима слышал. Почему же от девушки, только начинающей службу, потребовал нарушить офицерское слово? Да ещё и нагрубил. Но ведь попросил потом прощения. От всей души предложил, чтобы она у него поселилась. Без всяких посягательств на её честь и принципы. Искренне посчитал, что так лучше будет, и передумать у неё шансов останется гораздо меньше. А она отказалась. Хорошо, если действительно постеснялась демонстративно уехать с ним, оставив своих девчонок, и решила отложить окончательный шаг на более подходящий момент.
А если передумала совсем? Он, по сути дела, совсем плохо её знает и понимает. Мало ли, что говорит по-русски и старается вести себя как русская — на самом-то деле она иностранка, более далёкая от него, чем какая-нибудь марокканка или китаянка. Если иметь в виду её неизвестное происхождение и чужое воспитание…
С такими мыслями далеко можно зайти…
Валерий не выдержал, позвонил Ляхову. Доложил о прибытии и попросил о срочной встрече.
— Хорошо. Где предпочитаешь, у меня или у тебя?
— Давайте у вас. — В своей квартире Уварову оставаться не хотелось, он думал, что в чужом доме будет легче отвлечься от угнетающих воспоминаний.
Вадим Петрович отчего-то предложил встретиться на углу Петровки и Столешникова, что было довольно далеко и от его холостяцкой квартиры, и от Майиной, где он жил, когда жена наведывалась в Москву. Ну, мало ли, какие у него соображения.
В форму Уваров переодеваться не стал: в центре Москвы слишком много военных людей на улицах, надоест честь старшим по званию отдавать и отвечать на приветствия младших.
Ляхов, к его удивлению, тоже был в гражданском, хотя для него время как раз служебное.
— С удачным возвращением тебя. — Они крепко пожали друг другу руки. — Ну, пойдём, тут у меня рядом есть удобное пристанище. Хороший друг в отъезде, попросил за домом присматривать. Там и посидим…
Квартира оказалась на самом деле роскошной. Ляхов провёл Валерия через большую прихожую с громадным старинным зеркалом в причудливой резной раме, гостиную, где главным предметом обстановки был накрытый полотняным чехлом концертный рояль, в кабинет с несколькими тысячами книг в застеклённых шкафах и на открытых полках.
Кабинет имел и второй выход, в широкий полутёмный коридор, и Уварову показалось, что тот ведёт во множество других помещений и комнат. Само собой складывалось ощущение, что квартира занимает весь этаж большого, весьма престижного по внешнему виду дома.
«Что же это за друг у Вадима такой? Знаменитый музыкант, судя по инструменту, профессор консерватории, допустим, или просто очень богатый человек с хорошим вкусом, любитель наук и искусств?» Тренируя профессиональные навыки, подполковник пытался по множеству деталей составить представление о человеке, жившем здесь, судя по всему, не одно десятилетие.
— Садись, будь как дома, — указал Ляхов на глубокое кожаное кресло рядом с журнальным столиком на ножках в виде лап какого-то сказочного зверя. Сам сел по другую сторону. — Сигару желаешь? Мой друг обожает высококлассные сигары. Что тут у него? — Вадим раскрыл стоявший на нижней полке столика хьюмидор. — Так… «Падрон магнум», Никарагуа. «Артуро Фуэнте», Доминикана, «Пауль Гармириан», оттуда же. «Санчо Панса», Куба и, конечно, непременный «Монте-Кристо»… Выбирай, а я сейчас. Тут где-то в тумбочке «Чивас Ригал» имелся. Всё по протоколу…
Уваров взял сигару не глядя. Знатоком он не был и в «протоколе» не разбирался. Пришлось Ляхову его немножко поучить.
— Привыкай, брат, привыкай. Ты теперь тоже богатый человек, придётся соответствовать…
Валерий чуть не поперхнулся виски, которое только что пригубил. И об этом уже знает полковник. Ну а почему бы и нет, в конце концов? И Катранджи мог сказать Тарханову и Чекменёву о выданном им призе, и любая из девчонок доложить, в том числе и Настя. Приехала на базу и первым делом с рапортом…
— Да всё нормально, что ты занервничал? С паршивой овцы… У меня в биографии похожий случай был, мы с Тархановым тоже «на первичное обзаведение» прилично заработали. Деньги, как известно, не приносят счастья, но успокаивают нервы. Вас с Настей теперь хоть такая ерунда заботить не будет.
Тут Валерий не выдержал и сразу выложил Ляхову всё между ним и Анастасией происшедшее.
Вадим Петрович выслушал со всем вниманием.
— Да не расстраивайся ты, дело обычное. Ты что, надеялся — с бабами бесконфликтно жить возможно? Увы, так только с подружками на один вечер бывает, и то не всегда. А если жениться собрался… Слышал, небось: «В девках все хороши, а откуда тогда злые жёны берутся?» Настя — нормальная девушка, со всеми женскими чертами характера, может быть, даже ярче выраженными, чем у многих других. Более мнительная, ей всё время кажется, что ты никак не можешь заставить себя относиться к ней безотносительно к её, если так можно выразиться, «происхождению».
Уваров подумал, что тут полковник совершенно прав.
— Поэтому ты должен вести себя предельно внимательно, осторожно, ласково, если угодно, с учётом этих обстоятельств. Того, что она тебя оставит, не бойся. Она обидчивая, но отходчивая. Прямо сегодня её разыщи, а что дальше — я тебя учить не буду. Разберёшься.
Что не стала тебе ничего рассказывать — правильно сделала. Эти девушки умеют держать слово. Я же не предвидел, что у неё именно с тобой «чувства» появятся, а она самостоятельно в этой коллизии определиться не сумела, вот и сослалась на меня. Как же иначе? Дальше ты себя неправильно повёл. Поставил перед неразрешимым выбором. Причём никаких особенных тайн в этом деле нет. Просто мы избегаем без нужды расширять круг посвящённых. Вся прошлогодняя московская заварушка случилась во многом именно из-за того, что чересчур много лишних людей в реальности Фёста узнало о существовании нашего мира. И нам совсем не нужно, чтобы здесь стало известно о существовании, а главное — физической доступности ещё нескольких параллелей. Сам видел, как с Катранджи получилось. А тут ставки повыше. Любую из валькирий, меня, тебя совсем не трудно похитить и потом выбить всю нужную информацию.
В ответ на протестующий жест Уварова ответил:
— Ладно, согласен, взять живьём каждого из вас очень нелегко, и заставить говорить тоже, тем более что вы почти ничего не знаете. Но ведь тот, кто вздумает вами заняться, уверен в обратном, и разработка будет очень жёсткая. До окончательного результата.
Вадим долил в стаканы виски, подымил сигарой.
— Теперь-то деваться некуда, я тебе расскажу всё, что сам знаю, потому что надёжные помощники нам нужны. И с проблемой Катранджи придётся разбираться помимо государственных структур, и ещё кое-какие дела на подходе. Согласен?
— О чём вы спрашиваете? Можете на меня рассчитывать полностью и безусловно. Только… Как это будет сочетаться с присягой, служебным долгом и прочими подобными вещами?
— Об этом можешь не беспокоиться. Перед каждым вступающим в ряды «Братства» вставал такой вопрос. Видишь ли, наша деятельность и то, о чём ты спросил — располагаются в разных плоскостях. Почти непересекающихся. Наша задача и цель — охрана и защита реальности от воздействий внешних и внутренних. Как, например, мы защитили её вместе с тобой прошлый раз. Другое дело — такая работа возможна только при строгом соблюдении тайны. От всех, в том числе и от тех, кому мы присягали. Иногда, если иначе нельзя, приходится кое-что раскрывать. О факте наличия «третьей силы» знает Олег, знает Чекменёв, некоторые другие люди. Многие наблюдали результат нашего вмешательства. Но всё это только отдельные элементы мозаики, цельной картинки из них не сложишь. Одним словом — мы все продолжаем исполнять присягу и долг, просто в нужные моменты — нетрадиционным образом… Доходчиво?
— Пожалуй. Но всё равно тут есть о чём подумать.
— Думай, кто тебе мешает. Встреться с Настей, обсудите как следует. Примешь решение — скажешь. Нет — нет. Будете служить, как раньше служили. Только и делов. У нас не сицилийская мафия.
Уваров сразу от Ляхова поехал в расположение части. От дневального узнал, что валькирии из первого взвода недавно вернулись из города, сейчас — у себя в жилом блоке, то есть попросту в казарме, двухэтажном здании в глубине парка, заросшего старыми липами и клёнами наподобие барской усадьбы.
Он для порядка задал ещё несколько вопросов, касавшихся внутреннего распорядка и событий, случившихся в отряде за время его отсутствия.
Вышел на улицу, сел в машину, поставленную напротив калитки, где обычно встречал Настю. Отсюда ближе всего к станции метро и стоянке такси. Через главный КПП обычно никто в увольнения не ходил, и разминуться с девушками он не боялся. Другое дело — сколько придётся ждать? Сейчас начало седьмого вечера, часикам к восьми барышни наверняка соберутся, а пока, наверное, обновки примеряют.
Что ж, спешить некуда, можно не спеша подумать. И не только о своих будущих семейных делах. В отношении Насти Ляхов его успокоил — если она его любит и сделала осознанный выбор — чего ещё желать? Если умеет держать слово, данное почти чужому человеку, то уж мужа наверняка не обманет. В себе он тоже был уверен, патологической тяги к любой юбке и тому, что под нею, не испытывал никогда, с юных лет. Как правило, все его прошлые романы больше напоминали дружбу с лицом противоположного пола, обладающим некоторыми приятными анатомическими отличиями. Длились такие дружеские связи не слишком долго и завершались обычно тем, что подруга находила себе более перспективного поклонника и партнёра.
Гораздо больше его сейчас занимала полученная от Ляхова информация по поводу «Братства» и его целей. Он ведь фактически ничего толком и не узнал. Что организация существует — безусловно. Что мощь её велика, даже — непредставима — тоже. Достаточно одного-единственного факта — переброски через век времени и несколько тысяч километров пространства целой дивизии со средствами усиления. Как человек сызмальства военный, Валерий представлял, что это такое. В обычных условиях на подобную передислокацию потребуется несколько десятков железнодорожных эшелонов и неделя времени, при условии, что поезда будут идти подряд, «зелёной улицей».
Но им ведь противостоят некие, соразмерно могущественные силы, иначе для чего всё?
Теперь ему предлагают записаться волонтёром на эту неизвестно чью войну. Против войны он ничего не имел, потому что ничему другому не учился и ничем не занимался. И получалось у него очень неплохо. С кадетского корпуса равнялся на такие образцы, как генералы Скобелев и Слащёв. Они импонировали ему не столько полководческими талантами (хотя и этим тоже), сколько возрастом. Особенно Слащёв — за три года дослужившийся от капитана до генерал-лейтенанта, в тридцать два года явивший миру столь яркий блеск таланта, что и пресловутый Моше Даян смущённо ковырял бы носком ботинка землю, доведись им встретиться. Даян, тот подавлял противника, кроме всего прочего, безусловным техническим и огневым превосходством, а Яков Александрович — исключительно сумасшедшей по невероятности тактикой и запредельной отвагой своих бойцов. Так что есть разница.
Но опять Уварова увело в сторону. Он ведь о другом думал.
В волонтёры записаться… Долг чести не препятствует, требует! С той минуты, когда он, спокойно и достойно попрощавшись с жизнью в кругу товарищей, готовился принять «последний и решительный» на последнем рубеже и вдруг увидел Михаила Федоровича Басманова во главе корниловского полка… Он готов расплатиться жизнью за ту сказочную помощь. Сказочную, иначе не скажешь. Другое дело — ночь в Берендеевке на сказочную совсем не походила. Обычная офицерская выпивка после смертного боя, когда «печенеги», штурмгвардейцы, дворцовые гренадеры и белые офицеры, побратавшись, дружно обмывали следующий кусок выпавшей, как шестёрка на игральном кубике, жизни, награды и звёздочки, полученные из «Высочайших» ручек. Даже вечный подпоручик Константинов стал наконец поручиком.
Тогда и сказал Уваров, сидя в обнимку с двумя корниловцами, Ненадо и Оноли, что если придётся — и они их так же выручат, не задумываясь…
— Да уж, — ответил худощавый, нервный Валериан, почти тёзка, — твоя рота нам под станицей Торговой в восемнадцатом году вот так бы пригодилась. — Он сделал чиркающее движение ребром ладони по горлу.
— Да что под Торговой, — возразил кряжистый, с грубым унтерским лицом Ненадо. — Вот когда за Минеральные Воды дрались…
— И что — Минеральные Воды? — спросил Уваров.
— Что-что! Хрен в пальто! Нас восемнадцать человек осталось, а всё полком считали. Хорошо эскадрон ингушей подскочил, с тыла красных порубали. А то б так и валялся между путями Игнат Борисович, в одних подштанниках и дыркой во лбу!
— Всё, мужики, всё, — заплетающимся языком говорил Валерий, с трудом дотягиваясь протянутой рукой до налитой рюмки. — Случись у вас чего — только позовите… Долг чести, господа, долг чести…
Об этом и вспоминал сейчас подполковник граф Уваров, прикуривая третью сигарету, сидя в тиснёной кожаной бонбоньерке[80] своей «Ласки» — двухдверной полуспортивной машины, купленной на последние деньги перед экспедицией в Одессу. Специально для Насти купленной. Чтобы со свистом прокатить любимую и по Москве, и до Питера, и до Ялты, если захочет. А не захочет — ну, значит, не захочет.
В «Братство» он, безусловно, вступит. Выбора нет никакого. Настя была в Южных морях на пароходе «Валгалла» — он нет. Настя — крестница Ляхова и совсем другого, незнакомого человека, представляющегося чем-то вроде Вотана (если они там все ориентируются на «Валгаллу», как на обитель богов, а не на нормальный пароход). Встретятся они сегодня — он спросит. Как ответит — так и будет.
«Смешно, господин полковник, смешно», — сказал сам себе Валерий, доставая из кармана на дверце фляжку виски, положенную в любой такой машине наравне с дорожной аптечкой. Три длинных глотка — и хорошо! Мысль приобрела точное направление, не рассеиваясь на побочные, бесперспективные.
«Влюбился наконец в самую красивую, самую умную, самую сильную и отважную девушку на свете. И это чистая правда. Что из Насти за жена получится, если её к кастрюлям и пелёнкам приставить, — вообразить пока невозможно. А если при службе держать и дать ей полную возможность самовыражения — в избранной области, да годик-другой посмотреть — тогда и разберёмся. Мне двадцать семь, ей — двадцать. Время есть».
Наконец из калитки появились валькирии — все семь. А Валерий боялся, вдруг Вельяминова с подругами не пойдёт, что-нибудь придумает для «отмазки». Останется валяться в кубрике, терзая себя глупыми мыслями и ожиданием его (или — не его), звонка.
Шикарно приоделись девушки. По погоде, в меру тёплой. Не одесской, конечно, но всё же. Миллионерши, кто бы мог подумать! Наверняка ездили по самым дорогим магазинам и без оглядки на «богатых тётушек» тратили шальные деньги бессчётно.
Как опытный оперативник, Уваров тут же и подумал, чуть кулаком себя по лбу не ударил — как же он промазал! О Настасьиных словах и капризах подумал, совсем о настоящих делах забыв. А тут же подполковником контрразведки быть не нужно, просто соображать чуть повыше обывательского уровня. Прав, совершенно во всём прав генерал Чекменёв — нельзя на такого вообразившего о себе раздолбая в серьёзном деле полагаться.
Словно бы озарение на Валерия снизошло, и догадался он, чем Игоря Викторовича раздражал. Да вот этим самым! На подкорковом уровне считал, что личным геройством можно все иные привходящие проблемы снять. А генерал дальше видел, не зря ведь сказал, что от твоего самомнения вреда больше, чем пользы, если даже все остальные считают наоборот.
Вот тебе — утирайся! Не могут девочки «хвостов» за собой не потянуть. Самое первое — Кристина Волынская в банк пошла, чек Катранджи учитывать. Ты, замначальника самого специализированного и секретного в России Отдела, подумал, как это выглядеть будет? Двадцатилетняя девушка, пусть и в сопровождении не выставляющихся на чужое обозрение подружек, предъявляет чек на двадцать семь миллионов! Просит раскидать сумму на девять разных счетов и выдать кредитные карточки на предъявителя! Да тут ведь все секретные линии от приказчиков до начальника охраны затрезвонят. Пусть здесь у нас совершенно свободная политически и экономически страна — однако… А если не к охране, к совсем другим людям, подобными вещами интересующимся?
А он, дурак, собственными любовными интригами увлечённый, просто не увидел проблемы. Да нет, не то чтобы не увидел, вообще о ней забыл!
И дальше, в магазинах есть кому — от продавщиц до старших приказчиков — заинтересоваться «соплячками», что платят наличными и кредитными карточками, не спрашивая, что почём на самом деле. И ведь, главное — все без охраны! Это такой случай — последний дурак не промухает. Тут и к бабке не ходи.
Выйдя из машины, пройдясь туда и обратно, Уваров сразу увидел — четыре мощных автомобиля с погашенными фарами стояли в близких к стоянке такси переулках. Нечего им здесь делать, кроме как девушек ждать, подслушав и запомнив все их разговоры. Сопроводив до места и рассчитывая продолжить игру. Днём, на улицах, где вооружённые городовые стоят на каждом перекрёстке, грабить бессмысленно. Зато потом….
Уваров про себя усмехнулся только одному: крутые ребята, сутенёры или бандиты, не столь важно, а вот про принадлежность «пансионата», где запланированные жертвы проживают — ни один не знает. Знали бы — десятой дорогой обходили забор, не говоря о тех, кто за ним обитает.
Хорошо поставлена служба секретности — сколько лет здесь база «Печенегов» существует, и всё чисто! Жители нескольких домов, расположенных по ту сторону оживлённой автомагистрали, уверены: в одной половине парка, за каменной четырёхметровой оградой, находится научно-исследовательский институт военно-химического профиля, с другой, ближе к реке, жилой комплекс сотрудников и гостиница с общежитием для стажёров и аспирантов. Местные привыкли, всем прочим просто неинтересно.
Девушки, весело щебеча, вышли из калитки, на стоянке разместились в двух семиместных «Чайках» (ждущих или горских князей, в одной машине едущих, в другой папаху везущих, или многодетные семьи с баулами и колясками), и поехали к центру.
За ними бесшумно, по-прежнему не включая фар, покатились два «Хорьха»-кабриолета и два четырёхдверных «Вандерера». Солидные машины, по триста лошадей под капотами, а работают так, что на ребро поставленная монета не падает с панели при двух тысячах оборотов.
Уваров тоже тронул свою «Ласку». Пистолет, как обычно, при нём, дежурного по управлению раньше времени предупреждать не стал. Мало ли, может быть, всё — просто плод его воображения. Познакомиться с красивыми девушками приличным молодым людям захотелось, а где же и знакомиться, как не в ночном клубе? Приставать на улице, да сразу к целой группе — не комильфо, за исключением совсем безвыходных ситуаций. А так — интересное приключение с элементами авантюрного романа.
Валькирии не захотели провести вечер в ресторане, где Ляхов представлял их Тарханову с Валерием.
Там было бы абсолютно безопасно, но опять же — с точки зрения Уварова. А что там делать молодёжи, не шары же биллиардные катать? Девушки выбрали хорошо разрекламированный клуб на Неглинной. Не самый респектабельный, наверное, но программа там предлагалась обширнейшая, до утра, и дресс-код строгий, и плата за вход отсекающая.
По одной девушек туда, скорее всего, не пустили бы, во избежание неприятностей для заведения, а сразу семерых — беспрепятственно. Привратник только поинтересовался благодушно — они что, окончание модельного училища явились отмечать? Так лучше нашли бы себе что-нибудь попроще, поспокойнее. Работать начнут — насмотрятся…
Вслед за девушками, выждав меньше пяти минут, попарно прошли восемь парней из сопровождавших машин. На вид — не представляющих собой ничего особенного. Возраст — от двадцати пяти до тридцати лет, одеты, как положено, внешность, можно сказать — нейтральная. Ни ярких красавцев, ни заведомых уродов среди них не присутствовало. Трудно вообразить этих довольно культурных юношей обычными бандитами, охотящимися за несколькими золотыми цепочками и даже колечками с бриллиантами. Их машины стоят гораздо больше.
Либо расчёт у них на совсем другой навар, например, похищение с изъятием банковских карт, или требование очень серьёзного выкупа с тех, кто им покровительствует, либо все подозрения Уварова — обычная профессиональная паранойя. Просто собрались ребята подцепить и раскрутить богатых красоток. Без всякого криминала. С далеко идущими планами или, как обычно, на вечерок, а дальше — как получится.
Нет, кем-кем, а параноиком Валерий себя признавать отказывался. Средняя Азия, Варшава, Одесса и все другие события его жизни подобный диагноз категорически отрицали. Что он, не знает, как ведут себя люди, приехавшие поразвлечься за большие деньги и познакомиться с доступными девочками? Знает. А эти явно явились на работу. Оттого и лица собранные, сосредоточенные. Как у артиста в гримёрке перед выходом на сцену. Это шагнув из-за кулис он будет искромётно веселить публику, изображая Фигаро или Тарталью, а пока — настраивается, выращивает «зерно образа».
По Уварову, к примеру — каждому видно — истинный весельчак и бонвиван, вся его сегодняшняя программа — как на ладони. Выпить хорошенько, партнёршу найти, в казино сыграть, не для выигрыша, а нервы пощекотать… Ну и так далее.
Пока его подопечные входили в ритм заведения, он легко перемещался по залам, оставаясь для них невидимым, потанцевал пару раз с девицей, перехваченной у стойки бара, сделал вид, что увлёкся. Барышня и вправду была весьма неплоха, но с Настей и любой из её подруг — никакого сравнения.
Валькирии правильно поступили, рассредоточившись по необъятному, причудливо освещаемому разноцветными вспышками цветомузыки пространству. Оставаясь в группе, они не вызвали бы ничего, кроме никчёмного любопытства толпы и тягостного недоумения возможных претендентов на приятное знакомство. А так желающих немедленно познакомиться, пригласить на танец или за столик нашлось предостаточно.
Наблюдать сразу за пятнадцатью объектами Уварову было тяжело, но в качестве тренировки — очень даже полезно. Он быстро сообразил, почему за девушками приехали не семь, а восемь человек. Восьмой — разводящий, или — диспетчер. Он делал почти то же самое, что и Валерий, но с противоположной целью, естественно. Командовал своим отрядом моментами лично, сближаясь вплотную то с одним, то с другим исполнителем, чтобы бросить несколько слов, то издалека, особыми знаками указывая, что нужно делать, или передавая команды через официантов и барменов.
«Блестящая организация, — думал Уваров. — Действительно незаурядный талант, плюс высочайшая дисциплинированность подчинённых. На большие ставки идут. Пожалуй, мне даже повезло. В смысле расширения кругозора…»
Он выбрал момент, когда Настя с бокалом вина на какое-то время осталась одна, остановившись у колонны напротив эстрады, где почти совсем обнажённые танцоры — высокий мускулистый парень и тонкая в талии, но с весьма развитыми формами девушка исполняли эротический танец в стиле индуистских тантрических культов.
Подружки Вельяминовой незаметно потерялись, возможные кавалеры ещё не успели правильно использовать её одиночества.
— Извините, мадемуазель, — тихо сказал Валерий, подойдя со спины. — Не позволите ли составить вам компанию, хоть ненадолго?
Анастасия вздрогнула, обернулась. Вспышки радости в её глазах, тут же сменившейся прежней суровостью, ему было достаточно.
— Ты? Как же ты нас нашёл?
— Вопрос для «печенега» несколько бестактный, — усмехнулся Уваров. — Как отвечал на подобные вопросы один персонаж старинного фильма: «Стреляли».
— Тут, кажется, не стреляют… — суховато ответила Настя.
Валерий ощутил досаду. «Может, моё появление её только разозлило ещё больше? Хотела повеселиться как следует, в хороводе поклонников, что-нибудь романтически-сумасбродное себе позволить, в духе этого кабака, а тут я припёрся…»
— Слава богу, — ответил он, переходя на служебный тон, — но вполне могут начать и очень скоро.
Коротко, по-офицерски сообщил ей результаты своих наблюдений и размышлений. И тут же заметил буквально в пяти шагах проскользнувшего мимо «разводящего». У него сомнений не осталось, ни малейших: плотно их держат в зоне внимания. Уйти просто так точно не позволят.
— Сейчас я положу руку тебе на талию. Ты её сбросишь сразу, как только я закончу говорить. Не резко, здесь это не принято, но достаточно решительно. Потом проскользнёшь по залам: всем девочкам полная боевая готовность. Но до настоящего сигнала — никаких решительных действий. Вы — отдыхающие, не совсем шлюшки, но около этого.
Танцуйте, выпивайте, позволяйте трогать вас руками до крайнего предела… Тихо, не спорь, за нами пристально смотрят. Вариантов я без твоей помощи (нашёл моментик припомнить), насчитал четыре. Первый — бандиты. Грабёж или выкуп. Второй — великосветские альфонсы — самый для вас лучший. Либо они вас продинамят, либо вы окажетесь хитрее. Третий — загранразведки. Четвёртый — люди Катранджи. Пятый… пятый на потом оставим.
— Нет, скажи, — шепнула Настя, незаметно со стороны сжав его ладонь.
— Пятый — это твои любовники меня так решили из расклада вывести…
— Иди отсюда, дурак, хам! — Анастасия отбросила его руку с талии, отскочила на два шага сразу.
— Что и требовалось, подпоручик Вельяминова, что и требовалось, — свистящим шёпотом успел добавить вслед Уваров. — Работай по первому варианту. Злее будешь…
Едва заметно покачиваясь, вполне нормально для часа ночи и десятка выпитых рюмок, Валерий зашёл в туалетную комнату. Шикарно, ничего не скажешь. Мандариновые деревья в бочках, усыпанные плодами. Зеркала от пола до потолка, изысканнейшие дезодоранты витают вокруг отнесённых к самой дальней стене кабинок.
Главное — тихо здесь. Не разрывают больше барабанные перепонки старания вертящих туда-сюда ручки усилителей звукооператоров, и не надрываются саксофонисты и трубачи «живой музыки». Ужас какой-то, а не наслаждение чистым искусством. Как в том анекдоте: «Да повбывав бы усих!»[81]
Подполковник достал пачку сигарет. Он не успел спросить у Насти — есть ли при них оружие? Скорее всего — нет. Платьица слишком тонкие, объятия предполагаются раскованные, и не на задание девчонки сюда шли. Не слишком страшно — затейся что-нибудь — оружия в клубе навалом. Бутылки, бронзовые подсвечники, стальные стойки микрофонов, стулья, наконец. А у него под пиджаком настоящий пистолет, и три обоймы в карманах. Всем хватит!
Сигарета только коснулась фильтром губы Валерия, как белая дверь открылась, пропуская человека. Если б не предварительная подготовка — граф непременно бы рассмеялся. Ну, как по-написанному! В туалет вошёл именно тот, кто его интересовал больше всех. Контролёр-диспетчер.
Неплох, совсем неплох. Рядом с ним Уваров, если со стороны — выглядел слабовато. Только что высокий, а в остальном — хиловат. Как написано в военном билете: «Рост пятый, размер сорок восьмой. Обувь — сорок два».
Вошедший мужчина был намного внушительнее. При одинаковом росте килограммов на двадцать тяжелее, и вся его стать демонстрировала упругую силу и умную мощь. Не какой-нибудь там заводской грузчик или бессмысленный посетитель тренажёрного зала, накачивающий мышцы, чтобы летом на пляжах красоваться. Специалист, боец.
Низкий тёмный ёжик волос, недобрые глаза из-под сросшихся бровей. Тонкие губы, резко очерченный подбородок с глубокой ямкой посередине. Самое интересное — без всякого повода и причины немотивированная злость источалась его личностью и отчётливо воспринималась с десятка шагов. Будь на месте Уварова кто попроще — ив обморок мог свалиться. Тем интереснее.
Инфантильному на вид графу непременно следовало бы как минимум испугаться. Пока что просто так, неизвестно чего. Лица вошедшего и непредсказуемости его действий. Мужик наверняка привык именно к такой реакции — сначала он, безусловно, подавляет волю намеченного объекта, дальше начинается разговор.
Сигарета у Валерия висела на нижней губе, прилипнув фильтром, и он не мог сообразить, как её вставить на место. Руки не знали, куда двинуться, зажигалка не слушалась…
Мужчина улыбнулся, как мог бы улыбнуться бронетранспортёр, щёлкнул своим «Ронсоном», поднеся воняющий бензином язык огня к лицу Уварова. Нет, просто к сигарете. Решив, что сыграно достаточно, Валерий благодарно кивнул, прикурил, затянулся, несколько нервно, впрочем.
— Как отдыхается? — спросил координатор.
— Да ничего, нормально. Здесь всегда так?
— Приблизительно. — Собеседник тоже закурил, тонкую чёрную сигариллу. — А вы что — в первый раз?
— Да вот так получилось, — словно бы сам себе изумился Уваров. — На Дальнем Востоке совсем другими делами занимался, вчера приехал — товарищ пригласил в этом кабаке встретиться, да всё нет и нет… Я теперь и не знаю.
— А к девушкам цепляться умеешь? — Вопрос прозвучал двусмысленно.
— Умею, чего ж тут? Они, какие по клубам ходят, что во Владике, что в Хабаровске — все одинаковые. Ноль проблем.
— Тогда слушай внимательно: к той, с кем ты сейчас обниматься пробовал — больше не подходи. Других навалом.
— Это ты про какую? Я сегодня штук пять обнимал. С тремя договорился. К утру ещё будут…
— Заткнись, хватит. — Очень плохо было у мужика с нервами. С большим трудом сдерживаемая агрессия так и пёрла наружу.
Учить надо. Таких — учить. Ничего лучше, чем прикладом в зубы, за время своей службы Уваров так и не придумал.
Валерий медленно вдохнул табачный дым, глубоко, очень глубоко. Если бы не это — страшно представить, как бы он засветил именно в эту ямочку на подбородке! В увлекательных фильмах любят показывать, как персонажи дубасят друг друга стальными ломами и шуфельными лопатами без видимых последствий Для текущей жизнедеятельности и даже внешнего облика. А если по правде — удар раскрытой рукой, в последний момент собранной в кулак (без боксёрской перчатки, само собой), выбьет в чистый нокаут хоть кого, хоть Джо Луиса, хоть великого чемпиона двадцать первого века в супертяжёлом весе Михаила Бубенного! А если с кастетом или просто намотанным на руку резиновым бинтом?
— Я тебе про ту, последнюю, говорю, в сиреневом платье, что ты обнять попробовал…
— Какие вопросы? — удивился Уваров. — Она меня, извиняюсь, послала. Другого принца ждёт… Не тебя ли? Но рожа у тебя на капитана Грея уж сильно не похожа…
Со всей возможной степенью язвительности это подполковник сказал, но — мягко. Чётко в то же время отслеживая любую мимическую гримасу на лице противника, а главное — состояние его зрачков.
Не понравились кадровому убийце (а что он именно из них, у Валерия не было уже никаких сомнений), странные переходы парня в смокинге от демонстративного страха к демонстративной же наглости.
Лучшим выходом из положения мужик счёл хлёсткую пощёчину наглецу. Без всякого членовредительства. Получит фраерок своё, утрётся и уйдёт.
Никакого смысла в подобной выходке не было. Хочешь убить — попробуй. Нет — держись в рамках. Кто таких идиотов на службу нанимает — представить невозможно!
Тут Валерий и позволил себе! Правую руку, размашисто идущую к его лицу, он отразил фехтовальным батманом левой, правой показал направление на переносицу, а ударил в печень. Так, что та, наверное, прилипла к позвоночнику. Если осталась целой, что едва ли.
Затащил пока ещё дышащее тело в крайнюю кабинку, посадил на унитаз, достал из карманов деньги, документы, пистолет, очень серьёзный, служебный, что само по себе интересно. Номер по базе завтра пробьём. Найдут этого клиента, не найдут — его не касается. Главное, вышел Уваров из туалета, не привлекая ничьего внимания.
Рядом был женский. Валерий заглянул — тоже никого. Если появятся дамы — заплетающимся языком скажет, что перепутал. По переговорнику вызвал оперативного дежурного первого отряда. Велел прислать наряд человек пять, с полным штатным вооружением. Взять под контроль, не слишком приближаясь, автомобили с такими-то номерами и парадный вход в клуб.
— Ничего больше. Я, если что, скомандую, голосом.
Снова несколько минут покрутился по залам, глазами, не приближаясь, нашёл Настю, потом остальных девушек, поочерёдно. При каждой уже определился в роли постоянного кавалера примеченный Уваровым специалист из той же команды. Иначе и не назовёшь. Обаяли они свои объекты до чрезвычайности тонко и грамотно. Целью слегка ошиблись, другое дело. Попадись им нормальные московские девушки от восемнадцати и до шестидесяти — никаких вопросов наверняка бы не возникло. Скорее — напротив. Все получили бы свою дозу удовольствия. С какими последствиями — потом бы выяснилось.
Но болтать парни умели, ничего не скажешь. С использованием методик нейролингвистического программирования, в случае необходимости применяя химические добавки в вино или безалкогольные (если вдруг) напитки. Своими ногами (точнее — своей волей) ни одна из жертв не ушла бы.
Через Настю Уваров передал команду сворачивать операцию. Отсутствие куратора, как Валерий заметил, клиентов напрягло. То есть привести каждую в нужное состояние — выполнено. Девушки цеплялись за плечи партнёров, ножки у них подгибались, на руки, лежащие не только на бёдрах, но и пытающиеся проникнуть под широкие юбки, реагировали слабо. Некоторые, приводя в замешательство партнёров, занятых совсем другими мыслями, пытались публично целоваться. Этим ребятам, стопроцентно трезвым, нужно было совсем другое.
Заказанные девчонки приведены в нужное состояние. А дальше что? Команды не поступало. В подвал их тащить, на второй этаж, в номера для очень богатых клиентов или в машины?
Зато, по знаку Уварова, начались естественные в ночном клубе безобразия. Маша Варламова, которую партнёр у стойки бара, под мигающими огнями софитов сначала схватил за коленку, а потом сразу за грудь, вначале хлёстко, с двух сторон отвесила ему по морде и тут же швырнула его вдоль подиума, как городошную биту.
На зрителей полетели ни в чём не повинные демонстраторши нижнего белья.
Насте попался совсем какой-то придурок, плохо понимающий, как следует вести себя с барышней, выбранной, как заранее было сказано, их начальником лично для себя. А она, визгливо хохоча, тянула его за руку к выходной двери.
— Тут душно, понимаешь, душно, поехали кататься. В кабриолете…
По пути Вельяминова прихватила с чьего-то столика бокал шампанского и залпом выпила. Вновь демонически рассмеялась и по-гусарски швырнула хрусталь на мраморный пол.
— Слушай, весело у нас пошло! — закричала она, не стесняясь того, что минутой раньше застёжка платья у неё на спине разошлась ниже талии. — Гуляем все! — Анастасия попробовала залезть на стол, где сравнительно спокойно ужинали четыре средних лет пары. — Хотели клубной жизни, сейчас увидите… Канкан среди тарелок…
Нечто подобное учинили и Кристина с Гертой. Давненько респектабельный клуб не видел такого разгула!
В итоге влезшие непонятно во что «кавалеры» с помощью охранников выволокли сорвавшихся со всех нарезок девиц на свежий воздух. Те и там не успокаивались, громко возмущались хамством и беспределом, показывали неизвестно откуда взявшимся зрителям порванные бретельки и синяки на руках, обещали завтра устроить такое, что этот поганый кабак и за сто первым километром сроду не откроется.
Уваров из темноты смотрел и посмеивался — и мы кое-что умеем. Операция у противника явно провалилась — после такого количества безобразий и шума найдётся сотня свидетелей похищения или бесследного исчезновения сразу стольких девушек, явно не из привокзальных районов. Да и руководитель как-то странно исчез в самый ответственный момент. Самое им сейчас лучшее — плюнуть на всё и самим разбегаться, пока обычные районные городовые не повяжут.
— Эй, ты, Ромка! — схватил за рукав выскочившего на крыльцо неудачливого «альфонса» старший метрдотель в малиновой ливрее, наверняка хорошо его знавший. — Кто за весь бардак платить будет? Мы так не договаривались… Парни, — это уже охране, — взять мудака долбаного, пристегнуть к батарее в подвале, утром разберёмся! Хрена, бога, душу, градоначальника с его семейством тридцать три раза туда и обратно… Хер-те что учинили, да ещё и покойник в сортире валяется!
«Неужто я своего убил? — удивился Валерий, стоявший рядом с дверью, но в глухой тени колонны. — Нет, вряд ли. Или понт гонит, или покойник — чужой».
— Василий Павлович, — взмолился задержанный, — мы тут совершенно никаким краем! Если к кому претензии — к Толяну Армавирскому. Мы за весь вечер слова не сказали, пальцем не шевельнули. Толян велел этих псишек ублажить, напоить толково и к нему на дачу отвезти. А у них крышу раньше времени сорвало… Мы — при чём?
— А какого… было сыкушек фенамином с водкой поить раньше времени? — снижая тон, ответил метр. Но Уваров эти слова хорошо услышал, как и предыдущие.
Вот оно как! Не в случайном наезде на удачно подвернувшихся богатых девчонок нескольких поставщиков приличного живого товара здесь дело. Тут куда интереснее картинка вырисовывается. Плотно заняться — прокурорским на полгода дел хватит. Серьёзная фирма, о каких в императорской Москве почти и забыли. Ан нет. Ну, это потом.
В переговорник Уваров скомандовал командиру отделения «печенегов» забыть про машины и мгновенно атаковать крыльцо и вход в клуб. Как только увидел бегущие фигуры в полном боевом, с автоматами и в затемнённых касках, метнулся вперёд, заломил руки за спину метрдотелю, придавил коленом спину, невзирая на возмущённые, но быстро слабеющие вскрики. Скомандовал своим девчонкам, всё ещё продолжавшим «детский крик на лужайке»:
— Отбой! Всех ваших вырубить и мордой вниз. Этого — туда же, — оттолкнул он ногой потерявшего волю к сопротивлению метра. Взмахом руки остановил «печенегов».
— Я — подполковник Уваров! Слушай мою команду! Перекрыть все входы-выходы. При попытке побега стрелять!
И тут же снова вызвал дежурного.
— Дело серьёзное. Полную роту сюда. Аллюр три креста!
Через десять минут больше ста офицеров оцепили клуб и всю прилегающую территорию. Начали обыск припаркованных машин, жёсткую фильтрацию клиентов и квалифицированный обыск всех помещений.
Уваров тронул с места свою «Ласку» только через полчаса, когда убедился, что здесь и без него справятся. Тем более одна за одной подъезжали машины городской полиции, жандармерии, прокуратуры вперемежку с газетчиками и дальновизорщиками. Давно в Москве таких интересных событий не бывало.
Валькирий он отправил домой на полицейском автобусе, ловко выведя их из поля зрения как «сотрудников», так и репортёров.
Анастасия, странным образом не уехавшая с подругами, каким-то образом оказалась на заднем сиденье его «купе». Как и когда она туда шмыгнула, Валерий не заметил.
Дождавшись (вот что значит подготовка), когда машина вышла на прямое шоссе, свободное от встречных и попутных машин, подпоручик Вельяминова, перегнувшись через спинку, обняла его за шею и начала целовать в щёки и уши.
— Люблю тебя, люблю! Прости, не подумала, не так подумала… Ты меня всё равно любишь? — шептала она, едва ли не со слезами в голосе.
Он, поворачивая голову, доставал щекой только до её пальцев.
Генерал Чекменёв докладывал Императору, а в малой гостиной, примыкающей к кабинету, ожидал аудиенции господин Катранджи, он же купец первой гильдии Катранов, желающий представить на Высочайшее имя проект строительства завода по изготовлению новейших летательных аппаратов. Не имеющих аналогов в мире. Который (мир), как тоже известно, в ближайшие годы будет занят совсем другими проблемами.
Император окончательно решил свой внешний облик привести в соответствие с внешностью глубоко уважаемого предка — Александра второго Освободителя. Ростом, чертами лица и статью Олег Константинович очень на него походил, требовалось только две недели на взращивание волос на лице и усилия хорошего куафёра.
Кажется, получилось. Жаль, что пока не до конца получается с той же быстротой и эффективностью развернуть в подражание Александру весь государственный корабль курсом «великих реформ». Но это — до поры. Вскоре Россия поймёт и дружно станет приветствовать государевы новации, без кнута и крови возвращающие её к золотому веку. Серебряный Олег не любил. Модерн, декаданс и неудержимое скатывание к мятежам, бунтам, мировой войне. – — Так ты уверен, Игорь, что за этой мерзкой авантюрой опять и снова — Англия?
— Совершенно уверен, Ваше Величество!
— Ты это брось, хорошо? — мягко попросил самодержец, разминая папиросу «Кара Дениз». Эти папиросы, необычайно длинные и толстые, набитые табаком, выращенным на специальной плантации, регулярно поставлял ему губернатор Западной Армении. — Не выношу. На приёмах — ладно. А с глазу на глаз — какое я тебе Величество? Не желаю быть Каракаллой, предпочитаю — Марком Аврелием.
— Пусть будет по-твоему, Олег. Англия. Она, причём сейчас — только она. Кто больше неё теряет от выхода России из ТАОС? Сухопутных войск для сохранения статус-кво у неё фактически нет. Жалкие пять дивизий, которые невозможно посылать в самое пекло, иногда фактически на убой. Солдаты просто не пойдут. Они не привыкли. И «общественное мнение» не готово к переходу на военные рельсы. Значит, те доминионы, что мы прикрывали Экспедиционным корпусом, она потеряет завтра же. Флот? Ну, неплохой у них флот, но опять же, если наш займёт нейтральный нейтралитет[82], что им делать? Мы свои эскадры из Атлантики, Индийского океана и Средиземного моря оттянем в Порт-Артур и Хайфу, у европейцев не хватит сил берега и коммуникации прикрыть. На других союзников надежды мало.
Мы всю жизнь им вольно или невольно помогали. Начиная с наполеоновских войн. И — никакой благодарности. Наоборот — старательно культивируемое озлобление масс и подлые выходки, вроде Крымской войны и Галлиполийской[83] (она же — Дарданелльская) операции… Цели и методы у них прежние — «разделяй и властвуй», «у Британии нет постоянных врагов и постоянных друзей, есть только постоянные интересы». «Как тяжело жить на свете, когда с Россией никто не воюет!» Да что я тебе буду объяснять?
— Мне — не надо. Вот, смотри. — Олег показал на груду бумаг, покрывающих почти весь стол. — Это — личные письма и телеграммы от президентов и премьеров Великих держав. Убеждают, просят, почти умоляют не разрушать мировое равновесие…
— И как ты отвечаешь? — Чекменёв спросил с искренним любопытством. Ему на самом деле было интересно.
— Знаешь, они ведь почти все, что протестанты, что католики, любят рисоваться своей приверженностью Библии. Кто Ветхому Завету, кто Новому…
— Так я им и отвечаю: смотри страницу такую-то, стих такой-то. А там написано: «Какою мерою меряете, такою и отмерится вам». Или: «Не желайте ближнему своему того, чего не желаете себе». Без комментариев.
— Лихо. Ты вот Второму Александру стараешься соответствовать, так и Третьего вспомни.
— Что именно?
— «Европа может подождать, пока русский Царь ловит рыбу…»
Олег рассмеялся, достал из тумбы стола любимый графинчик, тарелку с солёным огурцом и двумя чёрными сухарями, сам разлил, и они, как в молодости, махнули по-гвардейски.
— Так и будем действовать. И наблюдать, кто в какую сторону колебаться начнёт. Зови своего Катранджи. Да вот, кстати, дошло до меня, что некий подполковник Уваров, не тот ли самый, что в Варшаве геройствовал, и туг себя показал. Тебя, считай, из глубокой и полной задницы вытащил. Так?
— С чего ты взял? — вскинул Чекменёв подбородок, изображая оскорблённое достоинство.
— Успокойся. Какая бы мне цена была, если б своих информаторов не имел. Так? — с нажимом повторил Император.
— Ну, в определённой мере…
— И теперь что? Полковника ему дать? Золотое оружие? Георгия очередного? Раз ты представления не написал, я и сам могу…
Чекменёв глубоко вздохнул.
— Вот этого — не надо. Прошу. Парень хороший, с перспективами. Но я бы его, такого, ещё лет пять в капитанах подержал. И то для его лет много. А он уже подполковник. Щедрый ты слишком, в ущерб делу…
Олег Константинович разлил ещё по одной, пристально глядя на друга. Умел он смотреть так, что гонор сбивал почти с любого.
— Соперника боишься?
— Что ты, Олег? Какой он мне соперник? Всего двадцать семь ему скоро будет. Способный, да. Очень способный. Только я иногда почти со страхом представляю, на какие выверты он способен, если его постоянно в ежовых рукавицах не держать. Для него же ни авторитетов не существует, ни умения примениться к обстоятельствам. Если уверен, что прав в своём понимании «долга», будет идти до конца.
— А уже были случаи, когда он оказался «не прав»?
— Если дождёмся, долго придётся расхлёбывать. Как после Варшавы.
— Тебе не стыдно, Игорь? — Олег Константинович вертел гранёную рюмку в пальцах и улыбался. — Ты сейчас жив почему? Ответь честно. «А там я буду посмотреть».
— Да неважно это, неважно кто кому чем обязан. Я в чисто воспитательных целях. Нельзя его сейчас поощрять. Он и так много о себе воображает, а награди ты его… Я вообще хотел ему показательный «разбор полётов» устроить. Не наказывать, но дать понять, что личное геройство не искупает организационных промахов и просчётов.
— Эх, Игорь, — сказал Император. — Когда я тебя из поручиков в полковники производил, ты сильно возражал? А сколько у тебя промахов было… Я тебя сильно бил? Смотри, серьёзного врага наживёшь, как Ришелье — Д'Артаньяна. Он молодой, а ты скоро стареть начнёшь. И чем ваше противостояние закончится? Хоть так, хоть эдак, а для дела пользы никакой. Так что орден я Уварову всё равно дам. Какой сочту нужным. А представления на непосредственных участников операции ему прикажу писать, не тебе. Понял?
— Твоя воля. И знаешь, что я тебе напоследок скажу…
— Почему — напоследок? — удивился Олег.
— Да не хочу я больше этой разведкой– контрразведкой командовать. Отправь меня послом в Лондон, в самое ихнее гнездо. И отдохну, и развлекусь, и поработаю.
— Это — можно. А совет какой?
— Будешь кресты вешать, посмотри на ту, которую Уваров первой в наградной лист впишет…
— Что-то особенное? — В глазах Императора, любителя и ценителя женской красоты, просверкнул интерес.
— Не ручаюсь. Просто, как в штоссе, предполагаю, что дама выпадет. Пиковая, червовая — без понятия. Так это ведь интереснее…
— Ладно, посмотрю. На всех посмотрю. Очень меня эти кавалерист-девицы заинтересовали. Или в отряд к ним съезжу, или к себе на чашку чая приглашу, там и награды вручу. Но ты тоже смотри, сам себя не перехитри. И оставим на этом. Зови нашего Ибрагима.
Катранджи вошёл, оставив в приёмной тщательно сработанную личину слегка придавленного счастьем купца, удостоенного высочайшей аудиенции. По эту сторону дверей появился уверенный в себе собрат хозяина кабинета, не менее могущественный правитель, не позволяющий себе держаться на равных только в силу хорошего воспитания. Ну и обстоятельств, конечно.
Император это понимал, а также и чувствовал. Вышел из-за стола, сделал два шага навстречу. Обменялись рукопожатием. Олег Константинович указал на полукруглый диван у окна. Чекменёв устроился в дальнем углу и стал почти незаметен.
— Прежде всего, Ваше Величество, я хотел бы поблагодарить за предоставленную возможность личной встречи. Уверен — этим мы можем открыть новую страницу в наших отношениях.
— Хотелось бы надеяться, — кивнул Олег. — Разумеется, мы не собираемся принимать каких-либо соглашений де-юре. Ввиду присутствия некоторого… диспаритета в наших официальных статусах. Что, конечно, не помешает согласовать позиции де-факто. Но для этого мне требуются личные пояснения из ваших уст. Всякого рода документов я достаточно начитался и слухами пресыщен. Итак, моя должность и степень моей легитимности вам известны и понятны. Мне ваша — отнюдь. Вот с этого давайте и начнём.
— Должность мою назвать затрудняюсь, за неимением таковой, в административном смысле. Даже председателем так называемого «Чёрного интернационала» не числюсь, ибо его как учреждения просто не существует, в отличие от предыдущих «интернационалов», вполне процедурно оформленных. Религиозным авторитетом также меня назвать нельзя, ибо в противостоянии вашему «цивилизованному миру» участвуют люди весьма разных конфессий. То есть единственное, что объединяет людей, так или иначе участвующих в нашем «движении» — неприятие всей так называемой евро-атлантической цивилизации. А ваш покорный слуга, волею судьбы, не более чем координатор, имеющий влияние и средства для того, чтобы руководить процессом, придавая ему по возможности «цивилизованные» рамки.
Олег Константинович суховато и коротко рассмеялся.
— Не парадокс ли — бороться с цивилизацией в цивилизованных рамках.
— Вся наша жизнь состоит из парадоксов, больших и маленьких, — с долей смирения ответил Катранджи.
— Следующий вопрос. Повторяю, я читал много документов, и написанных о вашем движении с точки зрения «Севера», и, так сказать, продукты саморефлексии ваших сторонников. Бессвязно, противоречиво, часто бездоказательно. Не серьёзные труды, а пропагандистские материалы. Есть у меня и сводки наших разведслужб, аналитические записки. Но там в основном конкретика. Попробуйте в кратких словах изложить ваше кредо, вашу личную философию. Что заставляет именно вас, человека европейски образованного, я бы даже сказал — достаточно русифицированного, заниматься этим делом? Впечатления маньяка или фанатика вы не производите, ваше финансовое положение, даже в случае реализации всех программных установок, существенно не изменится…
— Потому что просто некуда, — любезно согласился Ибрагим. — Любой нормальный человек понимает, что свыше определённой суммы деньги просто теряют свой общепринятый смысл.
— Следовательно, исключительно воля к неограниченной власти?
— Не совсем верно. Я же не могу предположить, что ваше решение принять на себя обязанности монарха вызвана этой же причиной.
— Да, пожалуй. Следовательно, вы осуществляете некую миссию. И в чём же она заключается в чистом, рафинированном виде? Пропагандистские штампы, предназначенные для масс, можете опустить.
— Вы, возможно, сейчас назовёте меня утопистом, но моя цель, достижима ли она при моей жизни или нет — другой вопрос — это установление на Земле единого коммунистического общества.
— Вот как? — ничем, кроме лёгкого движения брови, Император не выдал своего отношения к услышанному. — Были уже такие идеалисты, пробовали. Слава богу, их последнюю вооружённую попытку нам, именно россиянам, удалось пресечь. С трудом, однако весьма радикально. Кое-какие локальные выступления после той Смуты — только рябь на воде. Теперь, значит, снова.
— Поймите, Олег Константинович, я имею в виду абсолютно другое. Маркс и Ленин тут совершенно ни при чём. Хотя в наше движение входит значительное количество группировок и партий ярко левых убеждений. И анархисты, и бакунинцы, наряду с ортодоксальными исламистами, и… — он махнул рукой, не желая перечислять. — Вы же не можете не согласиться, что мир устроен крайне несправедливо?
— Это — на чей взгляд. В России мы вот ухитряемся поддерживать классовую и сословную гармонию. Национальную и религиозную — тоже…
— Судя по последним событиям в Польше — не настолько успешно, как вам кажется, — осторожно съязвил Катранджи.
— А вот тут вы сказали глупость, уважаемый. — Олег слегка расправил плечи и поправил усы. — Очередной польский мятеж, кажется, шестой по счёту за последние двести лет и первый в этом веке — как раз яркий пример губительности внешнего вмешательства в налаженную жизнь государства, где равно уважаются права всех подданных. Ваша организация, кстати, приложила к этому наиболее значительные усилия. И что же? Горстку инсургентов фактически никто не поддержал, даже в Привислянском крае. Что такое несколько тысяч…
— Несколько десятков тысяч в составе только вооружённых формирований, — уточнил Катранджи.
— Не имеет значения. Несколько десятков тысяч тщательно распропагандированных и очень хорошо оплаченных сумасбродов, свихнувшихся на «национальной идее». А десять миллионов поляков предпочли продолжить жизнь в составе Империи. Пример Независимой Малополыпи их не слишком вдохновляет. Одно из беднейших государств Европы, которому нечем гордиться, кроме пресловутой «неподлеглости».
Как будто у нас мы запрещаем полякам говорить на своём языке, исповедовать католичество, да и эмигрировать, хоть в Малополыну, хоть на Мадагаскар. Однако эмиграция — фактически нулевая. Посмотрите справочники.
— Кроме нас, восстание…
— Мятеж, — жестко поправил Олег.
— Ну да. «Мятеж не может кончиться удачей, в противном случае он называется иначе», — продемонстрировал эрудицию Ибрагим. — Кроме нас, «выступление инсургентов» пусть неявно, но поддержали многие державы вашего ТАОС.
— Пхе! — презрительно сказал Император, закуривая папиросу и подвигая коробку к гостю. — Почитайте фундаментальный труд Данилевского «Россия и Европа». Эти самые державы и Турцию в 1853 и 1878 годах поддержали, что им впоследствии очень даже аукнулось. И бесконечной резнёй на Балканах и в Малой Азии, где турки уничтожали исключительно европейцев и христиан. За европейские деньги. И Мировой войной, где означенные турки англо-французов и греков били сотнями тысяч. Всё это делалось исключительно, чтобы насолить России. Теперь пришла пора пересдать карты, сыграть по новым правилам. Но мы отклонились. Итак — ваш вариант справедливого коммунизма?
— К чему ирония? Коммунизм, по замыслу, именно подразумевает всеобщую справедливость, которая во всех остальных случаях в большом дефиците. Только не нужно говорить мне про всяческие перегибы в реализации этой идеи.
— Да она вся построена на одном грандиозном перегибе. Идея всеобщего равенства абсолютно абсурдна, поскольку предполагает обязательное и непременное подавление всего, что хоть немного выше уровня нищего бездельника. Это же надо додуматься: «Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей, приобретёт же он весь мир!» Пролетариат — это как раз и есть скопище нищих. Латынь не забыли? По– латыни «пролетарий» — имеющий только потомство. И ничего больше. Не путать с рабочими. Рабочий — уважаемый член общества и цеха.
Не зря вожди коммунистического переворота в России не меньше дворян ненавидели так называемую рабочую аристократию, то есть квалифицированных трудящихся, имеющих сравнимые с основной массой общества жизненные стандарты. И в нашу гражданскую войну большинство этих «рабочих аристократов» поддержало законную власть. Что скажете? Вы — один из самых богатых людей Земли. Разве несправедливо, что вы сумели этого достичь благодаря именно своим личным способностям и качествам? В детали вдаваться не будем. А в случае «справедливости» вам следовало бы довольствоваться тем, что сейчас имеет простой анатолийский крестьянин или мелкий чиновник, поскольку вы всё же выходец из господствующего сословия, которое непременно должно быть экспроприировано… Потрясения восемнадцатого — двадцать второго годов минувшего века задело вашу семью очень сильно. Я в курсе. И после этого…
Чекменёв со своего «наблюдательного пункта» слышал и чувствовал, что разговор заходит несколько не туда, но ему это даже нравилось. Чем туже закручивается пружина интриги, тем эффектнее и непредсказуемее может получиться результат.
Игорю Викторовичу, в предчувствии грядущих мировых катаклизмов хотелось стать не послом в Лондоне, как он с провокационной целью сказал Олегу, а министром иностранных дел в чине канцлера[84], с оставлением в подчинении всех имеющих отношение к загранработе спецслужб.
Это стало бы вершиной карьеры, причём своеобразной синекурой. Не в том смысле, что там можно ничего не делать, пользуясь удобствами и выгодами положения, а наоборот, работать много и напряжённо, но получая от своих трудов удовольствие. Есть разница — восемь часов сидеть в конторе, перебирая бумаги, или столько же времени — за преферансом? Да ещё и в ночное время. Затрат нервной и умственной энергии намного больше, но и самоощущение… То же самое — разыгрывать эффектные партии с мировыми лидерами, радуясь то хитрому сносу на мизере, то мастерски разыгранному «голому» козырному королю…
— Так в этом и дело, Олег Константинович, в этом и дело! — Восточный человек несколько возбудился, речь пошла об очень личных моментах. Он понимал, что сегодня и сейчас — последняя возможность превратить своё движение из маргинального и преследуемого «на земле, в небесах и на море» в достаточно легитимную третью силу. И всё будет зависеть только от одного — сумеет ли он убедить Императора согласиться на союз с организацией, чьи идеи ему чужды, а методы — отвратительны. Короче — что возобладает, эстетика или прагматизм? Катранджи надеялся, что второе.
Ради этого можно временно чем-то и поступиться. Славяне чересчур доверчивы и эмоциональны. Совсем не то, что турки. Для Катранджи поддаться эмоциям — это значит отбросить наносной слой культуры, стрелять, рубить, резать и жечь: армян, курдов, греков, болгар, русских — неважно. Для русского Императора, вообще почти любого русского — совсем наоборот. Всесветная отзывчивость, бесплатная гуманитарная помощь даже в ущерб собственным интересам, сотни тысяч жизней, положенных за абстрактные идеалы, вроде «славянского «Братства». Не зря Омер-паша, сдаваясь в 1878 году на милость генерала Гурко, с горечью сказал: «Вы пролили столько крови ради этого подлого и неблагодарного народца. Не понимаю».
Впоследствии паша оказался прав. Столько неблагодарности, как от болгар, Россия, пожалуй, ни от кого не получала.
Однако Катранджи знал и другое. Не зря пять лет проучился в Петербургском университете как равный с равными. Если русских доводили до крайности, страшнее врага трудно было вообразить. Те же турки, соотечественники, как ни крути (хотя Ибрагим давно позиционировал себя гражданином мира), могли успешно воевать с кем угодно, только не с русскими. Попросту не выдерживали предлагаемого уровня боевого напряжения. Да и стратегическое мышление сильно отличалось.
На гладком Галлиполийском полуострове дивизии Кемаля нанесли страшное поражение в пятнадцатом году англо-французам, в память о чём высится над морем чёрный монумент. А русские войска Юденича в двадцатиградусный мороз взяли штурмом абсолютно неприступный, особенно в зимнее время Эрзерум. И фронт сразу развалился. Сотни тысяч пленных, потеря Карса, Ардагана, Баязета. Отступление, переходящее в бегство, до самого Трапезунда.
— В этом и дело. Мы не собираемся повторять прошлые ошибки. Наша цель — превратить Землю, наш общий дом, в действительно общий дом всего человечества. Долой границы, долой дискриминацию. Все принадлежит всем. Каждый человек — русский, кафр, англичанин, полинезиец — пользуются абсолютно равными правами на все завоевания человеческой культуры. На ресурсы Земли, на достойное образование, на свободу перемещения… Пусть бушмен неграмотен и живёт в каменном веке, но он имеет право, если захочет, жить хоть в пустыне Калахари, хоть в Петербурге. Пользуясь равными благами и правами. И наоборот, естественно… — Глаза Катранджи заискрились фанатически.
Олег Константинович представил себе эту картину и его передёрнуло.
— Достаточно, коллега. На досуге я обдумаю ваши возвышенные идеи. Даст бог, при моей жизни они не имеют шансов на реализацию. Пометьте себе где-нибудь, что тем, кто придёт на смену нам, в этом «прекрасном новом мире» придётся содержать полицию из опять-таки более-менее культурных и образованных людей, намного превосходящую численностью нынешние армии, и знаете для чего?
— Скажите…
— Чтобы не позволить «освобождённому человечеству» морозными петербургскими ночами разводить бушменские костры из холстов Эрмитажа и тамошней мебели. Как бывшему выпускнику университета и неоднократному посетителю этого музея вам должно быть понятно, что я имею в виду. Поэтому — закрываем тему, Ибрагим Рифатович. Мне, честно сказать, просто надоело. Или вы скажете, чего на самом деле хотели добиться, испрашивая аудиенции, или закончим на этом.
Катранджи почувствовал, что слегка перебрал. И с чего его потянуло на философствования? Неужели так сильна воля Императора, что он приказал говорить, а Ибрагим подчинился. Как любил повторять доцент по кафедре психологии Канценбоген: «Если ты говоришь, что думаешь, то думаешь ли ты?»
— Простите, Ваше Величество. Пожалуй, я действительно увлёкся. Всё это, как вы правильно заметили, дела очень и очень отдалённого будущего. Но ведь архитектор и первый прораб Кёльнского собора тоже прекрасно понимали, что едва ли доживут до возведения первых ярусов, однако работали ведь…
В данный же момент я прибыл, чтобы предложить вполне реалистичное и отвечающее текущему моменту соглашение. Наш «Интернационал», вполне понимая и разделяя нынешнюю позицию России, обещает прекратить всякую в отношении её враждебную деятельность. Насколько это в моих и моих единомышленников силах, мы не только отзовём своих эмиссаров, мы готовы вооружённым путем уничтожать тех, кто не последует нашей директиве, фирману, фетве… Мы готовы оказывать посильную помощь российскому правительству в тех случаях, когда она ему потребуется. Дипломатическую, идеологическую, военную…
— Вот это похоже на серьёзный разговор, — усмехнулся Олег и жестом указал Чекменёву проверить, накрыт ли уже фуршетный стол в примыкающей к кабинету малой гостиной.
— И что взамен?
— Подтверждение вашего выхода из ТАОС, невмешательство в дела территорий, лежащих за пределами исторических границ России…
— Кроме Израиля, — вставил Олег.
— На это мы тоже согласны. Пока вас интересует эта… Это… Историческое недоразумение, мы гарантируем неприкосновенность… И последнее — вы будете за деньги, за очень хорошие деньги снабжать нас оружием, боеприпасами и технологиями, которые нам могут потребоваться в дальнейшем…
— Для установления всемирной справедливости? Здесь — вопрос. Большой вопрос. Всё сказанное выше приемлемо, поскольку не выходит за пределы наших внутренних интересов. Нас могут критиковать за выход из союза, за «измену общему делу». Это терпимо. Но вот нарушение эмбарго — совсем другое дело. Мы не можем принять на себя ответственность за то, как будет использоваться оружие. Вы же им будете убивать…
— Оружие для того и существует…
— Нельзя избавиться от зла. Но горе тому, через кого зло приходит в мир. Мы на самом деле не хотим, чтобы с нашей помощью умножалось зло. Его и так слишком много.
— Опять категорический императив?
— Можете считать именно так. Если вы найдёте независимые источники поставок — так тому и быть. Нейтралитет есть нейтралитет. Но по государственным каналам — нет. Это окончательно.
Катранджи задумался. Или — сделал вид. Похоже, он ждал именно такого ответа и заранее к нему подготовился.
— Хорошо. Мы уважаем ваши принципы. Но если мы найдём на территории России частных лиц…
— Вроде профессора Маштакова?
— Что-то в этом роде. Мы бы не возражали, чтобы ему позволили вернуться к прежним занятиям. Готовы взять на себя все необходимые организационные и финансовые вопросы.
Олег Константинович тоже немного подумал и кивнул.
— Об этом поговорим позже и отдельно. Вы ведь собираетесь открыть в России своё новое дело? Пусть это будет исследовательско-промышленная корпорация с очень широким кругом интересов. Танки и тяжёлую артиллерию она, конечно, изготавливать и экспортировать не сможет, а вот что-нибудь не столь наглядное — отчего бы и нет? Вдруг попутно и для нас что-нибудь полезное изобретёте, тем более я считаю справедливым, чтобы большая часть инженерно– технического персонала набиралась в России.
— Можно считать, что по основным позициям взаимопонимание достигнуто? О деталях пусть совещаются специалисты. Я смогу направить в Москву достаточное количество людей, которых никто и никогда не свяжет с моим именем, — сказал Катранджи. Он явным образом получал больше, чем входило в первоначальные расчёты.
— Не возражаю, — ответил Император. — Желательно, чтобы это были люди из Европы.
— Из Европы, из Северной и Южной Америк. У нас достаточно добровольных и весьма квалифицированных помощников.
— В таком случае разрешите пригласить вас отобедать со мной. Заодно и обсудим немаловажный вопрос о гарантиях нашего альянса. Мы должны и будем наблюдать за ходом выполнения соглашений, своевременно пресекать их нарушения. Неофициально, поскольку и все договоренности — неофициальные.
…Чекменёв приехал поздним вечером на квартиру Ляхова. Вадим уже третий день ждал, когда генерал обратится к нему с предложением встретиться конфиденциально. Что это непременно случится, они «С Фёстом просчитали сразу же. Куда ему теперь деваться? Положение, можно сказать, безвыходное. Без их помощи обширные планы сотрудничества с турком — занятие долгое, нудное и малоперспективное.
— Придётся тебе, Вадим, снова к своим друзьям обращаться, — после нескольких дежурных фраз взял быка за рога Чекменёв. — Вы ведь себя называете «Комитетом защиты реальности». Вот она сейчас как раз в защите нуждается.
— Не первый раз. А к каким вы предпочитаете? Из соседней параллели, из двадцать пятого года или сразу из бокового Израиля?
Игорь Викторович чуть заметно передёрнул плечами. Даже упоминание о тамошних некробионтах вызывало у него чисто физиологическую реакцию.
— Это ты мне сам подскажи, к каким. Видишь ли, что за штука получается. Мы с Императором решили, что союз с Катранджи так и так заключать придётся. У него свои соображения, у нас свои. Одновременно мы решили почти открытым текстом донести эту информацию до некоторых людей в генеральной комиссии ТАОС. Есть там вполне вменяемые фигуры, не разделяющие взгляды «пещерных русофобов».
— Торговаться, значит, собираетесь?
— Как же иначе? Торговаться, совсем чуть-чуть шантажировать, ну и морковку на верёвочке перед мордами подвесить. Войны-то настоящей никто не хочет, даже кабинет Уоллеса, хотя как раз они весьма склонны поплясать с факелом на бочке с порохом. Жандармы, Тарханов и одесские бандиты, каждый по своим каналам, всю картину восстановили, полсотни фигурантов отловили, вместе с резидентом. Замысел у части правительственного кабинета и руководителей всем нам известного «Хантер-клуба» был какой? Демонстративный взрыв яхты Катранджи в русском порту с одновременным захватом в плен его и меня. У Ибрагима достаточно и друзей, готовых немедленно начать мстить за своего вождя, и врагов, желающих немедленно приступить к делёжке наследства. Убиваются сразу три зайца. Россия, ставшая объектом агрессии по многим направлениям с Юга и Востока, наверняка, по их расчётам, передумает в такой обстановке выходить из ТАОС.
В империи Катранджи начнётся внутренняя смута, нечто вроде «большой замятии» в Золотой Орде четырнадцатого века, что, естественно, ослабит террористический напор на Север и Запад. И, наконец, как не раз бывало, англо-американцы, не вступая в «прямые огневые контакты» сумеют неплохо заработать на новой войне всех против всех. А при удобном случае самим в неё вмешаться. Против нас, естественно.
— С предыдущим согласен, — сказал Ляхов. — Добавлю и четвёртого зайца. Имея в своих руках одновременно вас и Катранджи, много интересных комбинаций выстроить можно. При современном развитии науки и техники. Но какая может быть война в нынешних условиях между членами Союза? Американцам это на хрен не нужно, у них своих изоляционистов полно. А представить, что англичане с немцами и французами на такое дело отважатся — втроём против «русского медведя» — смешно даже.
— Это ты зря. В восемьсот пятьдесят третьем и девятьсот четырнадцатом тоже никто не верил. Однако же… Как великий еврейский Шолом-Алейхем писал: «Слово за слово…»
Вадим сначала чуть было не удивился избыточной эрудиции генерала, потом сообразил, сколько лет тот с Розенцвейгом сотрудничал. Тут же, пользуясь случаем, и спросил, куда это запропастился Григорий Львович? Давненько не пересекались.
— На месте он, на своём месте. В Нью-Йорке на общее дело работает…
— А я думал — в Триполи.
— С чего вдруг?
— Да по моим данным, оттуда наводка просвещённым мореплавателям[85] на Ибрагима пошла…
— Хочешь сказать, друг Гриша меня на убой подставил? Не верю. — Чекменёв при всей его квалификации, зевнул ход, как великий Чигорин в решающей игре за звание чемпиона мира.
— Не хочу. Заклад был совсем не на это. У евреев, как вы знаете, свои счёты с англичанами. Вот их он и подставил по полной. Одновременно здраво полагая, что вы успеете подстраховаться. И не ошибся, ведь так?
Ляхов, разумеется, не собирался, по крайней мере сейчас, говорить генералу, что с помощью аггрианского Шара, имевшегося в квартире на Столешниковом, они с Фёстом за полночи размотали всю интригу и снабдили Анастасию, а через неё и Уварова, достаточной для действий в Одессе информацией.
— Вся беда, что сам я, получается, не успел и не сумел…
— Ну, к чему такое самоуничижение? Решились, невзирая на личную неприязнь, довериться Уварову, и не ошиблись. Вы же полководец, а не комбат, вам в мелочовку вдаваться необязательно.
— Теперь и ты туда же, — сказал с тоской в голосе Чекменёв. — Да нет у меня никакой к Валерию личной неприязни. Есть здравый смысл и оперативные соображения. Я имел собственное мнение, теперь вы будете руководствоваться своим. Ради бога. Охотно верю, что в ваших категориях Уваров окажется весьма полезен и даже незаменим. Я исходил из своих, в которых не было места всему тому, что для вас естественно и очевидно. И закроем тему.
Ляхов согласно кивнул. Действительно, до появления в сфере большой политики его самого, Тарханова, затем и «Братства» в почти полном составе, Берестина с его корниловцами и марковцами, Чекменёв существовал в совершенно другом образе мира. И в этом мире люди, подобные вышеназванным, особых шансов не имели. Доведись Уварову каким-то чудом вырваться из своего гарнизона и очутиться в составе «печенегов» без поддержки Ляхова, так и трубил бы там до отставки или безвременной кончины с одним просветом. Но, как говорится, новые времена — новые песни.
— И на какую же помощь со стороны наших друзей вы, Игорь Викторович, рассчитываете?
Вадиму было интересно, насколько генерал ориентируется в подлинных возможностях его лично и «Братства». Видел и знал он достаточно, но сумел ли сделать нужные выводы? Правильно сформулированное желание — вещь не такая простая, как кажется, что подтверждает тысячелетний фольклор самых разных народов. «Надо точно и правильно ставить техническую задачу», — с тоской подумал негр, превратившийся в унитаз в женском туалете».
Чекменёв, очевидно, с той самой встречи в тюремной камере, когда он в последний раз попытался разоблачить и сломать Ляхова, достаточно много размышлял в этом направлении, выстраивая собственную линию поведения, так, чтобы и не навредить интересам России своим личным отказом от помощи чужаков, и не попасть в чрезмерную от них зависимость, наподобие какого-нибудь эмира Бухарского.
После окончания московско-берендеевской эпопеи, наведения порядка и официального воцарения Олега Первого, ни Берестин, ни Басманов, ни прочие посланцы из прошлого вестей о себе не подавали. Получили свои награды на торжественном построении в той же Берендеевке и организованно, как и пришли, убыли в места постоянной дислокации.
Ляхов, поскольку его никто больше ни о чём не спрашивал, продолжил службу в прежнем качестве, вопреки опасениям Чекменёва, не претендуя ни на какую официальную должность, вроде «спецпредставителя ВСЮР при особе Императора» или Чрезвычайного и Полномочного посла Югороссии.
Будто бы все заключили негласный пакт — обо всём случившемся забыть. До лучших времён или навсегда. Как сложится.
Теперь Игорю Викторовичу пришлось первому этот пакт нарушить.
Он вспомнил давний разговор с Ляховым и повторил его тогдашние слова: «Отчего бы нам снова в открытую не поиграть? Так, мол, и так, Вадим Петрович, сложности у меня возникли, давай вместе помозгуем…»
Вот видишь — пришёл момент. О военной помощи пока что речь не идёт, военной силы у нас хватит, даже и полномасштабную войну выиграть, если нам её вздумают навязать. Только война, если и обозначится, будет совсем другой. Неявная, но по-своему ожесточённая. Наши пока ещё союзнички, они ведь не смирятся. Отлично всё понимают — впервые за минувший век Россия решила в открытую заявить себя «Третьей силой». С достаточными к этому основаниями. А поверить, что именно третьей, с соблюдением полного нейтралитета — не могут. Как и в то, что по всем геополитическим основаниям она достигла предела единственно оправданных географически и экономически границ.
— И правильно делают, что не верят, — сказал Ляхов. — Я бы тоже не поверил. Стамбул и Проливы — этого России не хватает. Данная геополитическая мечта продолжает витать в умах, в том числе и многих «пересветов». Ведь так? Тем более в реальности Берестина она успешно воплотилась…
— Вот-вот. Там она воплотилась, ну и достаточно. Ты как-то говорил, что можно будет экскурсии для желающих организовывать. Пусть съездят и посмотрят. Мне отчего-то кажется, что особой радости от обладания Босфором, Дарданеллами и ещё одним, условно говоря, Ташкентом, большинство их народонаселения не испытывает…
— Это уж само собой. Велика ли и нашим с вами соотечественникам радость от того, что Россия сегодня во Владивостоке заканчивается, а не под Оренбургом? Только логика обывателя и политика — «две большие разницы», не мне вам объяснять. Они там, на Западе, вполне уверены, что треугольник в математике и он же в политике — разные фигуры. С точки зрения устойчивости. Вы только что сказали о договоренности с Катранджи ? Если вы с Их Величеством до этого додумались, так чем Запад хуже? В ещё одной реальности, из которой к нам в Москву гости пожаловали, имеется такое понятие — «холодная война».
— Интересно. Поясни.
— Ничего сложного. После завершения Второй мировой, где, как и в Первой, конфигурация врагов и союзников была аналогичной, за исключением того, что Турция осталась нейтральной, а Италия, Япония, Румыния воевали на стороне Германии, сложилась интересная коллизия. Наши прежние союзники (столь же лицемерные, как тридцатью годами раньше), ужасно испугались, что Россия чрезмерно укрепилась и на достигнутом не остановится. А та Россия действительно сумела, вначале почти разгромленная, отступившая до Царицына и Грозного, собраться с силами и закончить войну в Берлине, Вене, Белграде и Порт-Артуре…
— Вот как? — Чекменёв выглядел ошарашенным. — До Царицына, говоришь? Ну, ни хрена себе. И обратно? Немыслимо!
— Да я попрошу, ребята с той стороны книжечки передадут для прочтения. И кинофильмы, документальные и художественные. Очень поучительно… — Ляхов сам себе удивился — отчего раньше этого не сделал? Видимо, Чекменёв слишком уж отчётливо демонстрировал своё нежелание вникать в проблемы параллельного мира.
— Ладно, это обязательно. Дальше давай. И, это, хватит нам всухую дискутировать. Распорядись насчёт горло промочить, — традиционным жестом генерал потёр руки.
— Немедленно сделаем. — Ляхов вызвал одного из двух положенных ему, как флигель-адъютанту, постоянных вестовых, велел подать всё подходящее из того, что имеется.
— Вы извините, заранее не предупредили, так чем бог послал…
— Что это ты всё «вы» да «вы»? Когда хотел, на «ты» обращался, без всяких церемоний, — хмыкнул генерал.
— Так я же сейчас, как с официальным лицом. — Глаза Ляхова если не откровенно смеялись, то посмеивались явственно.
— В Кремле на императорском приёме будешь «официально». До утра не выгонишь? О многом ещё нужно поговорить, тем более ты сейчас интересный сюжет подбросил. «Холодная война», надо же…
— Ага. То есть все бывшие союзники и большинство нейтралов согласились с точкой зрения англо– американцев (точнее, наоборот, англичане там уже за шестёрок работали, хотя природной злобы не утратили), что Россию пора «сдержать» и «отбросить». По причине наличия у обеих сторон оружия гарантированного взаимного уничтожения, воевать впрямую никто не рискнул. Но зато на полсотни лет растянулось тотальное противостояние — идеологическое, экономическое, психологическое. Воевали много, только чужими руками. Хотя, впрямую тоже постреливали, но — как бы этого не замечая. В Корее четыре года, во Вьетнаме почти десять, в Афганистане столько же… Наши лётчики американцев сбивали, они наших, но считалось, что это аборигены между собой разбираются. Точно не помню, но, кажется, в пехотных боях действительно ни разу не сталкивались. Зато на клиентах[86] друг друга отыгрывались, как хотели…
— Интересно, — повторил Чекменёв. — Выходит, история в той или иной мере развивается по единой схеме. С незначительными нюансами… И нам, хочешь не хочешь, грозит новая «холодная».
— Ничего не попишешь, Игорь Викторович. Законы — они что в физике, что в истории. Оттого, что в нашей реальности Корнилов не погиб и выиграл Гражданскую, а у них — наоборот, в умах, душах и экономических интересах большинства жителей Земли ничего не изменилось. Оттого я, прошу это отметить, по большому счёту на вашей с Олегом стороне. Не мы их, так они нас, не сейчас, так годом позже. Поэтому — выигрывает тот, кто опережает в темпе. И всё же — какая помощь именно сейчас представляется желательной?
— А вот приблизительно…
Вестовой вкатил в кабинет сервировочный столик.
— Закуски — только холодные, — словно извиняясь, сказал он. — Если прикажете, могу в ресторан позвонить. Мигом горячее доставят.
— Не надо, — посмотрел на стенные часы Чекменёв. — Обойдёмся. Свободен…
— С чего начнём? — повернулся он к Вадиму, когда унтер-офицер притворил за собой дверь. Игорь Викторович свято соблюдал положение из Указа Николая второго ещё от тысяча восемьсот девяносто шестого года: «Господам офицерам запрещается употреблять спиртные напитки в присутствии нижних чинов, хотя бы и услужающих».
— Твоя воля.
— Тогда с водки. Коньяк, ликёры не совпадают с настроением. Очень ты меня морально поддержал, вспомнив про эту «холодную войну». Прямо камень с сердца снял. Нигде мы, значит, против исторических законов, собственных принципов и совести не идём. Не мы, так нас. Очень правильно. Я никак не мог сообразить, как с тобой, таким совестливым да принципиальным, к сути дела подойти.
— Нашёл совестливого, — скривился Вадим, опрокидывая свою чарку.
— Не скромничай. Со стороны виднее. Дело вот в чём: Ибрагим очень настаивал, чтобы в уплату за его дальнейшее невмешательство во внутрироссийские проблемы, помощь и поддержку в остальном мире, мы обеспечили ему снабжение тяжёлым вооружением и всякого рода оригинальными разработками…
— Понятно.
— Олег ему отказал. С моральных позиций. О прагматических мы не говорили. Зачем нам такая головная боль вблизи собственных границ?
— Очень правильно, — согласился Ляхов.
— А если, не найдя понимания у нас, он обратится с той же просьбой к «союзникам»? И с устраивающей их мотивацией?
— Могут и не отказать, если против нас использовать пообещает.
— Я о том же. И мы при этом внутренне гораздо более уязвимы, поскольку у нас кроме Польши и Кавказа имеются и другие болевые точки: всегда найдётся некоторое число ханов, беков и прочих князей, за хорошие деньги и обещания помощи в создании собственных феодов готовых поднять знамя сепаратизма и ирредентизма[87].
— Что мы уже имеем на практике. Но, в случае невмешательства «интернационала», достаточно спокойно, без внутренних потрясений как-нибудь разберёмся. С гарантией.
— Вот я и подумал, а не решить ли этот вопрос с помощью «друзей»? Если они в состоянии перебрасывать сюда целые дивизии, отчего бы не продать клиенту кое-какую технику из их мира? Заведомо не производимых в нашей России образцов. Тогда нас никто ни в чём не обвинит. А обезопасить себя мы сможем, во-первых, жёстким ограничением поставок боеприпасов, во-вторых — по методике, придуманной Леухиным: отслеживание местонахождения оружия с возможностью его гарантированного дистанционного уничтожения…
— Могу сказать только одно — идея вполне на уровне. Если позволишь, я в ближайшее время постараюсь обсудить её «на той стороне» в деталях. Надеюсь, нам не откажут. Одна беда — довольно давно у меня не было с ними контактов. Может быть, у них сейчас есть чем заниматься помимо нас. Но я постараюсь, — повторил Вадим.
— А разве твои девушки — не оттуда прибыли?
— Нет, это уже другая история…
— Что-то слишком много историй, — устало сказал Чекменёв. — Но ты уж постарайся. И на сегодня — хватит геополитики. Напиться, что ли? У тебя найдётся где заночевать? Снова собираться, ехать… Не хочу.
«Укатали сивку крутые горки», — сочувственно подумал Ляхов.
— Оставайся, конечно. Посидим, поболтаем на нейтральные темы. Давно не приходилось так, попросту…
Чекменёв первый раз был на квартире Вадима, и она ему понравилась. Особенно тем, что совершенно неуловимым образом ощущалась в ней какая-то нездешностъ. Хотя ни предметов, ни книг из другого мира он не замечал. Просто, как хороший контрразведчик, он без рациональных объяснений воспринимал иную ауру. Об этом тоже стоило подумать, но не сейчас. Сегодня и так он перегрузился информацией. Не может человек без привычки и специальной подготовки совсем уж свободно оперировать понятиями, противоречащими всем базовым представлениям. Руководствоваться ими в служебной деятельности — хочешь не хочешь, а приходится. Но и не более того…
Василий Звягинцев Мальтийский крест Том 2 Черная метка
Мне, в размышлении глубоком, сказал однажды Лизимах:
«Что зрячий зрит здоровым оком, слепой не видит и в очках».
Теперь Ляхову нужно было найти Фёста. Задача сама по себе не очень трудная, если он сейчас находится в Москве. Своей Москве, естественно. Всего и нужно, что позвонить по специальному телефонному аппарату, связывавшему со специальным коммутатором в квартире на Столешниковом. Если там никого нет, звонок переадресуется в иную реальность, где существует так называемая «сотовая связь», и аналог примет его, где бы ни находился. Это чудо техники «соседей» по-настоящему восхищало Ляхова, поскольку никаких других, принципиально отличающихся изобретений в том мире не было. Разница между там и здесь чисто количественная. С отставанием, как они с Фёстом просчитывали, на 30–50 лет, если не принимать во внимание гигантской политической и психологической разницы в жизнеустройстве общества. Причём такой, что тамошнему Ляхову и его соплеменникам здесь адаптироваться легко и просто, а наоборот — крайне затруднительно, если не не возможно. Без тщательной подготовки.
Фёст ответил на пятом или шестом гудке. Встретиться договорились завтра, прямо с утра. Для удобства — там же, на Столешниковом, чтобы Вадиму в Академию не опоздать: на днях у него экзаменационная сессия началась. Он сам моментами не понимал, зачем это ему до сих пор нужно. И без того всё неплохо складывалось. Так он и сказал однажды Александру Ивановичу, но тот его осадил.
— Знаешь, в ином качестве ты нам особо и ни к чему. Лихих боевиков мы в любой момент сотню найдём. А в вашем мире хоть один человек без легенды, с чистыми документами нужен. Да и тебе самому… Что с нами будет, вдруг да исчезнем мы в неизвестном направлении, на годы или навсегда? Ни за что не ручаюсь, а тебе жить и жить. Академию закончишь, не просто «флигель» — генерал-адъютантом станешь. И вдруг лет через тридцать появляюсь я или кто другой из наших… Будет к кому обратиться в верхних эшелонах.
Одним словом — убедил. Тем более что, пользуясь возможностями квартиры, мог время жизни на учёбу не тратить, за исключением семинарских занятий. За час до экзаменов заехал, хоть три дня, хоть неделю просидел над учебниками, и пожалуйста — входит в аудиторию чисто выбритый, хорошо отдохнувший, знающий всё, что требуется по курсу, и многое сверх того. Непременные двенадцать баллов по любому предмету и в перспективе — занесение на мраморную доску выпускников, окончивших Военно-дипломатическую Академию Генерального штаба с золотой медалью.
Вадим-первый встретил его в хорошем гражданском костюме, значит, здесь на улицу выходить не собирался. Впрочем, при необходимости и переодеться ему труда не составляло.
Немного поговорили просто так, обменялись новостями, на случай, если бы опять пришлось экстренно друг друга подменять, пусть пока обстановка этого и не требовала. Секонд особенно подробно остановился на приключениях Чекменёва в Одессе и на роли девушек то ли в спасении, то ли в мягком интернировании Катранджи. После чего перешёл непосредственно к сути.
— Понимаешь, Александр Иванович довольно долго уже не даёт о себе знать, — ответил Фёст, выслушав. — И я третий месяц — в свободном плавании. Заниматься мне есть чем, но в основном по старым разработкам. Там у нас тоже не совсем понятные дела творятся. И во внешней политике, и во внутренней. Зачистку почти всех, кто к московскому делу отношение имел, мы произвели, но, увы и увы, истинные вдохновители вторжения так и остались неизвестными. Предполагается, что или из очередной, нам пока неизвестной параллели просочились, или являются стопроцентным продуктом Ловушки. Бактериофаги как бы. А мы, значит, с её точки зрения — чистые болезнетворные микробы, угрожающие существованию курируемого ею организма.
Оттого в нашем богоспасаемом отечестве и вокруг него творятся всякие малоприятные дела, политологами и конспирологами всех мастей представляемые результатом заговора тёмных сил собственного разлива. Кто на либерал-демократов грешит, кто на сионских мудрецов, кто на возрождающийся тоталитаризм. Весело, одним словом.
— Не понял, — удивился Секонд. Он-то, будучи человеком общества с совсем другим менталитетом, был полностью уверен, что после раскрытия планов межвременных заговорщиков, ликвидации их материально-технической базы, изъятия всех хоть сколько-нибудь значимых фигурантов всё естественным образом и закончится. В этой России так оно и случилось. Если не считать эксцесса в Одессе. А на той стороне вышло почему-то по-другому.
— Завидую, — без всякой насмешки ответил Фёст. — Тому, что не понимаешь. Хорошо, значит, живёте. Точно так же большинства моих проблем не понял бы нормальный обыватель Монако, Андорры или княжества Лихтенштейн. Швейцарец и исландец, скорее всего, тоже. Но наша Россия — страна пространственная, с очень богатым историческим опытом, а также крайней гибкостью мышления её достойных представителей. Весьма развитой за семьдесят три года Советской власти, которая вас счастливо миновала.
Поэтому, наподобие какой-нибудь амёбы, порубленной на части, вся та масса (или, может быть, лучше сказать — эгрегор), породившая саму идею и техническую возможность агрессии, очень быстро восстановила силы и целостность, заново консолидировалась, переформатировалась, и теперь мы имеем… А что мы имеем? — Вадим-первый невесело усмехнулся, потянулся к сигарному ящику. — Мы имеем то, что случается, когда на полдороге бросаешь лечение антибиотиками. Или, если несколько иначе… «Когда будут наказаны жестокие из сильных, их место займут сильные из слабых. Тоже жестокие… В конце концов придётся карать всех». Дальше объяснять не надо?
— Но так как же? Неужели Александр Иванович и прочие товарищи этого не понимали?
— Да всё они понимали. Со свойственным ему деликатным цинизмом Шульгин однажды сказал, что это — не лечится. А другого народа на место нынешнего ему взять неоткуда. Почему «Братство» и предпочитает охранять Реальность на дальних рубежах, предоставив Главную Историческую последовательность имманентной ей участи.
— Но как тогда понимать всё остальное? — Секонд был явным образом обескуражен. Настолько прямо и с отчаянной безнадёжностью ни Фёст раньше, ни сам Шульгин с ним не говорили. Наоборот, складывалось впечатление, что после некоторых тщательно просчитанных вмешательств и корректировок в том мире постепенно станет не хуже, чем в этом. А теперь что получается? Тонущий крейсер, который некому и незачем спасать?
— Не всё так мрачно, — Вадим-первый понял его мысли, улыбнулся ободряюще (хотя кто на самом деле нуждался в ободрении?), — нам не привыкать. Ляг фотоны-гравитоны чуть в другой транспозиции,[1] сидел бы ты сейчас на моём месте, а я — на твоём. И опять каждый считал бы, что только его мир настоящий, а другой — химера.
Они неоднократно обсуждали эту тему, но снова и снова что-то тянуло к ней возвращаться. Да и странно было бы, если б иначе.
— Мы с тобой оба врачи. Наше дело — лечить, пока есть хоть малейшая надежда. Вот и лечим. Если не произойдёт катастрофического срыва, глядишь, и обойдётся. Не каждая флегмона гангреной или сепсисом заканчивается.
Тут, конечно, не поспоришь.
— Тебе, наверное, легче, чем мне, живётся. Да и то не наверняка. У нас недавно результаты всемирных социо-исследований опубликовали, насчёт понятия «счастье». Так получилось, что жители Бангладеш (это такая страна, возникшая на месте Восточного Пакистана, площадью чуть больше Венгрии, но с населением 120 млн. человек), по всем показателям чуть ли не беднейшие в мире, ощущают себя в пять раз счастливее, чем шведы или французы. Так что всё сугубо субъективно.
У нас вот на Кавказе очередная религиозная война разгорается, на Дальнем Востоке проблемы с деградацией инфраструктуры и китайской опасностью обостряются. И надо с этим что-то делать. Государственная власть мечется. Либо очередная тотальная война, по лекалам Ермолова и Барятинского, либо… Хрен знает что. Ни одна самая красивая девушка не может дать больше того, что она имеет, говорят французы, «ля плю белль филль…» и так далее. Равно и наши руководители. Куда ни кинь, всё клин. Приходится лично мне сейчас на темы процветания державы и наведения конституционного порядка задумываться. Единолично.
— Ну и как, успешно?
— Да пока справляюсь. Осталось только через несколько врожденных предрассудков переступить — и порядок. В одном тебе завидую — не попалась мне у себя девушка, вроде твоей Майи…
Фёст увидел лёгкое движение лицевых мышц Секонда и продолжил успокаивающе:
— Да ты не нервничай. Я, кажись, её у тебя отбивать не собираюсь. Характеры у нас давно и сильно разные. С тобой. С ней — тем более. Но почему так случилось — интересно. Должен же и у неё быть аналог?
— Возможно, и есть. Но вы с ней не пересеклись до сих пор почему-то. Ты у Шульгина не спрашивал? Возможно, всё ещё впереди.
— Вот ещё… — И сменил тему: — А не хочешь ко мне в гости сходить? Хоть на денёк. До третьих петухов. Ни разу ведь не был.
— Отчего и не сходить? — внезапно Ляхов испытал весёлую бесшабашность. — Только ведь Шульгин предостерегал…
— По-моему — ерунда. Я же с тобой здесь сижу — и ничего. Они сами туда-сюда непрерывно шастали. Можно рискнуть. Офицеры мы или твари дрожащие? Левашов с Лихаревым откуда твоих девчонок переправили? Чуть ли не с того света?
— Возможно, прямо с того. — Секонд уже не раз задумывался над этой загадкой и всё больше утверждался в своём мнении. — Уж больно много нестыковок, а спросить не у кого. Лихарев уму-разуму научен — без разрешения старших товарищей правду не скажет.
Вдруг его осенила новая идея, неожиданная, в чём-то забавная и наверняка могущая быть полезной.
— Майи своей, говоришь, тебе не хватает? Могу тебе кое в чём помочь. Мы ведь до сих пор процентов на девяносто — одна и та же базовая личность?
— Процентов не считал, но что-то в этом роде.
— Тогда есть кое-что предложить…
У него в кармане лежал пакет с полусотней фотографий, приготовленный для так и не состоявшегося разговора с Чекменёвым на «женскую тему». Там были изображены «валькирии», в военной форме на штурмполосе, в летних платьях и костюмах на палубе «Валгаллы» и на улочках городков и деревень на островах Южных морей, в купальниках на коралловых пляжах, на досках сёрфов и виндсёрфов.
И ещё Майя снабдила Вадима лично отобранными снимками из бани, выступая в роли не ревнивой жены, а партнёра и сотрудника. Ляхов думал их показать генералу, если тот начнёт слишком настойчиво вникать в загадку появления «этих феноменов». С помощью имевшихся в квартире приборов, оставшихся от Лихарева, часть фотографий была перемонтирована и стилизована так, что подтверждала как минимум два последних года земного существования девушек. В разных местах — Москве, Париже, Лондоне, Хабаровске, и в разном качестве.
Теперь они пригодились.
Передавая стопку Фёсту, Секонд почти демонстративно, как с карточной колоды, снял несколько верхних и отложил на край стола, «рубашками вверх».
— А там что?
— А там — потом. Смотри, что дал.
Тот начал с явным интересом. Что девушки хороши сами по себе, это понятно. Но сейчас подходил не как ценитель «ню» и остального, а как профессионал.
— Вот они, значит, какие, воспитанницы мадам Дайяны с Валгаллы.
Секонд сразу, как только они решили с Майей устроить «валькирий» на военную службу, сообщил об этом аналогу, и о том, что они направлены в новозеландский форт для дополнительной подготовки и специализации, тоже доложил. Но повидаться с новыми гостьями лично этот Вадим не нашёл времени. Не до того ему было.
— Они. И на вид супер, согласись, и боевое крещение выдержали с честью. Как минимум по «Анне» государь им отвесит. А может, и чего посолиднее.
— И что? Предлагаешь из них невесту выбрать?
— Почему бы нет? В отличие от земных, любая не только внешности отменной, но и нравственных качеств. Не изменит, не предаст, всегда поможет, а случится — и защитит. Со временем каждая ничуть не хуже новиковской Ирины будет…
— Смешно, ты не находишь?
— В прямой постановке и вправду смешно. А если подойти к вопросу прагматически? Нам с тобой нужна хорошая связная, чтобы по мелочи каждый раз не отвлекаться. И не только связная, помощник, порученец, секретарь-референт, телохранитель. Постоянная смотрительница квартиры и входных-выходных порталов. Я знаю, ты там у себя сейчас фактически оставлен на произвол судьбы. В своём праве и с немалыми возможностями. А всё же?
— Правильно рассуждаешь. Жаловаться мне не на что. А скучно моментами бывает. Как, наверное, Роману Абрамовичу.
— Это — кто? Не слышал. А фамилия?
— Это и есть фамилия. Абрамович. Отчества не помню. Один пацан отечественный. Миллиардер. Деньгу зашиб, но до сей поры понять не может — зачем и для чего.
— Мы с тобой наверняка в лучшем положении, — кивнул Вадим-второй. — Этого Романа на наш перевальчик бы. — Он мечтательно усмехнулся. — Или пуля между глаз, или догадался бы о смысле жизни… Пушкин предпочитал в случае, когда мысли лишние в голову придут, откупорить шампанского бутылку, а я — свой винтарь вспоминаю и сопутствующие моменты. Хотя и потом разное случалось, а того — не забудешь.
Фёст кивнул. Ему объяснений не требовалось. До момента появления ударных вертолётов судьба и воспоминания у них были общие.[2]
Он ещё раз перебрал фотографии. Разложил на столе, как карты пасьянса. Налево — в одежде, направо — «о натюрель». Посмотрел, подумал. Смотреть было на что. Хорошо, что оба врачи и на анатомические подробности способны почти не отвлекаться, воспринимая их так же, как и иные физические признаки пациентов.
— Вот эта мне отчего-то больше других нравится, — показал снимки девушки с длинными волосами платинового оттенка, падающими на плечи, мило и смущённо глядящей в объектив. Причём, как отметил Секонд, карточку, где она сидела на диване голенькая, в позе Русалочки с копенгагенской набережной, но чуть более откровенно, поскольку в чисто женской компании стесняться ей было нечего, Фёст, будто невзначай, задвинул ниже других.
Интересный штрих. Оба они мыслили и чувствовали почти одинаково, и тем не менее…
— Как же её..? — Ляхов сделал вид, что вспоминает. — Ну, да! Вяземская, Людмила. Имя соответствует, правильно? Слегка удивляюсь, что именно она тебе глянулась, однако — понимаю. Тот самый момент, где у нас расхождение намечается. Помнишь, не помнишь — лет до восемнадцати я влюблялся исключительно в Людмил. Три было. Потом Натальи пошли. Тоже три. Надеюсь, вторая и третья Майя мне не встретятся.
— И у меня Людмилы были. Одну, в семнадцать, обожал до потери самоуважения. Она меня понять не захотела. Её очаровал сорокалетний композитор, посвятивший ей ораторию…
Секонду показалось, что в голосе аналога прозвучала незабытая горечь.
— С Натальями проще получалось? — поинтересовался он, чтобы сравнить. У него самого флирты с Людами и Милами получались лёгкими, приятными, лишёнными драматизма.
— Не скажи, — ответил Фёст и замолчал, снова вспомнив нечто. Вертя в руках фотографии.
— А я знаю, почему тебе Вяземская понравилась, — провокативно заявил Вадим. Не то, чтобы издевался над аналогом, просто захотелось ещё кое-какие соображения проверить.
— Поясни, — ему тоже стало интересно, насколько далеко распространились расхождения личностей, или — сохранились сходства.
— Она — самая беспроблемная. Я это в яви увидел, сначала на занятиях, потом и в настоящем Деле, а ты — по фотографии почувствовал. И не ошибся. Почему и как она такая получилась — не знаю. Но что есть, то есть. Однако сто из ста выбивает, что по фанерной мишени, что по живой… — неизвестно зачем добавил Секонд.
— Бывает, — почти равнодушно ответил Фёст. — Нас с тобой очки никогда особенно не волновали. Попал — не попал, вот и весь критерий. Теперь покажи ту, что спрятал.
— Пожалуйста. — Ляхов подал веером развёрнутые «три карты» с изображением Анастасии.
— Ну и что? — Фёст не понял игры двойника. — Не хуже, не лучше. — Однако в пальцах вертел как раз ту карточку, где Вельяминова была застигнута (случайно, конечно) в очень изящном повороте. Плечо приподнято, правая рука на уровне глаз, очень красиво прорисован переход талии в бедро и тот самый «глютеус», что и врачей заводит.
— Нет, чертовщинка в глазах явно чувствуется, — начал сдавать позиции Вадим. — Но это, скорее, качество фотографии. Атак — ничего сверхъестественного. И что?
— Как будто нас можно удивить сверхъестественным. Я попробовал на тебе проверить, что же именно в этой соплячке есть этакого? На меня — подействовало. На тебя, вижу, тоже. Мой лучший помощник Уваров потащился сразу… Жениться собирается.
— Уварова — помню, — сказал Фёст, только чтобы не промолчать.
— Да и бог бы с ним, с Уваровым, — махнул рукой Секонд. — В его двадцать семь холостых лет — на полковую телефонистку западёшь… Да ладно, сам знаешь. — Действительно, они оба это знали одинаково, при том, что услугами именно того типа девушек ни тот, ни другой не пользовались. По причине врожденного эстетства.
— Дело здесь ещё и вот в чём. По какой-то причине она и Новикову понравилась. Не в том смысле, а просто обратил он на неё внимание и как бы взял под своё покровительство. Есть мнение, что над психикой её он поработал, отчего от прочих сия девушка сильно отличается. Настолько, что сам господин Чекменёв заинтересовался. Со своих специфических позиций. И сдаётся мне, имеет Виды… К государю-императору её подвести. Подарочек, так сказать, сделать.
Фёст рассмеялся.
— Надеюсь, ты-то этого не допустишь?
— Исключительно из-за Уварова. Там у них совершенно шекспировские страсти. А вообще вариантик, сам понимаешь, неслабый. Дайяна, между прочим, девочек именно для использования в роли агентов влияния на важных людей готовила. Еще одну из их команды можно и к Катранджи подвести. Представляешь пассаж?
— А третью — к папе римскому, — усмехнулся Фёрст. — Четвёртую — к нашему президенту. И так далее. Стоит ли умножать сущности сверх необходимого? От этого, похоже, все проблемы. Систему нужно максимально упрощать, а вы опять начинаете громоздить… Император, Катранджи… Я бы не затевался.
— Пожалуй, ты прав. Тогда обрубим. Если радикально — стоило бы вместо Вяземской тебе Вельяминову предложить. Великолепная помощница, уникальное оперативное и даже стратегическое чутьё. И из-под удара здесь выводится. Если Олег её всерьёз захочет, мне трудновато придётся…
— А Уваров как к такому отнесётся?
— Да, ему точно не понравится. Ей, наверное, тоже. Только-только начала понимать, что такое любовь, — и расставаться.
— Тогда остановимся… — Фёст снова перебрал фотографии, — на Вяземской и остановимся. А чего это они обе на «В»?
Теперь засмеялся Секонд.
— Майя с Татьяной дурака валяли. Взяли и всем фамилии для паспортов по справочной книге Петербурга выбрали. Лень им было страницы листать. Вельяминова, Волынская, Варламова, Витгефт, Верещагина, Вирен, Вяземская…
— У Колбасьева (или у Соболева) ещё смешнее описано. Там комфлота на Балтике затеял на эсминцы офицеров по фамилиям подбирать. На один — всех Ивановых, на другой Петровых и так далее. Лучше всего на «Забияке», кажется, вышло. Курочкин, Курицын, Цыплаков, Петухов, а командиром — Куроедов. Кто-то даже стреляться с горя собрался… И как, на службе столь нарочитым фамилиям никто из кадровиков не удивился?
— Ты знаешь, подозреваю, даже внимания не обратил.
— Без фантазии народ. «Мы ленивы и нелюбопытны» — кто сказал?
— Вроде Пушкин, но точно не помню.
— Вот и я не помню. Что подтверждает истинность сентенции. Так когда я могу в натуре со своей партнёршей познакомиться?
— Вот прямо сейчас, если угодно. — Секонд снял телефонную трубку и позвонил Уварову.
— Господин полковник, прошу не отказать в просьбе. Немедленно, если вас это, конечно, не затруднит и не идёт в противоречие с интересами службы, командируйте подпоручика Вяземскую для выполнения специального задания. Сроком на две недели, с выездом за пределы гарнизона. Проездные документы и суточные выписывать не нужно. Эти вопросы Управление берёт на себя. Прибыть… — он назвал известный Валерию адрес, — сразу по готовности. Форма одежды гражданская, при себе иметь личное оружие. За исключением полковника Тарханова о факте данного задания никого информировать не нужно…
Ляхов научился у Шульгина разговаривать с людьми, даже ему прямо не подчинёнными, таким тоном, что возможности не то чтобы возражений, а даже излишних вопросов обычно не возникало.
Сейчас, вдобавок, Вадим ощущал через три километра проводов явное облегчение в голосе Уварова. Ведь могли бы вызвать не Вяземскую, а Настю. И он точно так же вынужден был бы выполнить и этот приказ. По смыслу субординации — не совсем законный, так кто станет разбираться? Флигель-адъютант Императора никому (кроме дежурного генерал-адъютанта) не должен давать отчёта в смысле своих действий. А если этот флигель-адъютант ещё и зять Генерального прокурора и вдобавок старший боевой товарищ, «альтефронткамрад» — никак не поспоришь!
— Будет исполнено, Вадим Петрович. На своей машине доставлю.
— Тоже правильно. Подъезжай…
— Как думаешь, ему стоит видеть нас вдвоём? — с сомнением спросил Фёст.
— Ни к чему. Достаточно, что корниловец Ненадо нас вычислил, но в силу характера не придал значения. Сначала я с Уваровым и Вяземской поговорю, ты подождёшь в той половине, потом его проводим, и я тебя представлю девушке как брата-близнеца. Тогда и сходим в вашу Москву прогуляться. Мне самому зверски интересно…
Уваров сообразил, что его подопечную старший начальник сегодня решил использовать не в «одесском варианте». То есть — не в качестве боевика по индивидуальной программе. Он слегка удивился, отчего полковник Ляхов, ничего не делающий «просто так», выбрал для своих целей именно Вяземскую, ничем не выдающуюся среди подруг. Даже в Одессе она всё время оставалась в резерве. Разве только для некоторых случаев очень может пригодиться невинный взгляд кадровой блондинки из анекдотов. Отлично маскирующий её истинные способности и возможности. Впрочем, такой точно вопрос можно было отнести к любой девушке — все словно на одну колодку сделаны, и у всех — своя «изюминка».
Значит, намечается очередная интрига, до которых очень охоч Вадим Петрович, человек большого ума и ещё большей хитрости.
И ему нужна не кто иная, как Людмила. Немного подумав, Валерий согласился — для работы в одиночку, в смысле — без команды, но под личным руководством Ляхова, Вяземская вполне может оказаться идеальной фигурой. Как по причине внешности, так и характера. На всякий случай он пригласил к себе не Анастасию, что было бы естественно, а поручика Полусаблина, подавшего уже третий рапорт с просьбой о переводе в нормальную часть.
— Я же не извращенец, господин полковник, — на грани срыва объяснял Уварову поручик — очень хороший строевик и контртеррорист, но как человек — абсолютно чуждый восприятия женщин равноправными существами. По какой причине на свою должность и был выдвинут.
— Разговоры их мне надоели, построение в трусах! Издеваются ведь: по уставу на утреннюю зарядку — в одних трусах, правильно. Но вам и ещё кое-что прикрывать надо! Так ведь нет, назло выставляются. Двадцать шесть баб — сговорились, и на каждой тумбочке Устав лежит, где закладка на пункте семнадцатом — в трусах, мол, и точка. В дождливую и грязную погоду разрешает надевать сапоги. Я им разве что плохое сделал? А доведут — лишнюю пробежку по штурмполосе назначаю. Смеются. Бегают.
— Ладно, Геннадий, обещаю — завтра на нормальную роту перекину, если тебе девки в трусах не нравятся. На мужиков насмотришься.
Плеснул поручику «высочайше утверждённые» сто грамм, угостил дорогой, не по обер-офицерскому званию папиросой.
— Про Вяземскую мне доложи, как ротный командир.
— Что услышать хотите? — мгновенно подтянулся поручик. Какими такими прелестями дразнили простодушного командира его подчинённые — один вопрос. Что докладывать официально и по команде — совсем другой.
— Только боевую и психологическую характеристику. Для специального задания её начальство вызывает.
— Смотря какое задание. Я бы, честно сказать, для работы нелегалами в тылу врага только её себе в напарницы и выбрал. Ещё раз прошу прощения, господин полковник, все остальные, а особенно — подпоручики Вельяминова и Темникова в случае чего важное задание провалить могут, по причине неудержимой азартности и нежелания принимать командирские приказы в качестве последней, обсуждению не подлежащей инстанции. Проще говоря — многовато о себе понимают.
В какой-то мере Валерий с ним согласился.
Волынская, Витгефт, Вирен, да и его Настя — слишком бросаются в глаза, вызывают у мужчин не только обострённое сексуальное влечение, но и опаску. Что с наглядностью подтвердилось в Одессе. Зато при виде Вяземской никто даже из самых опытных боевиков, кем бы они ни были, на автомате не сообразит, что этой «глупышке» с эффектной грудью и полупустыми, но столь головокружительными сиреневыми глазами хватит десятой доли секунды, чтобы выхватить из-под юбки пистолет и вложить весь магазин в центр мишени на предельной дистанции. Со скоростью, позволенной автоматикой «глока» или «беретты». Если ей придётся расправляться с противником без помощи оружия, это будет выглядеть ещё эффектнее и страшнее.
Как в фильме ужасов про злых волшебниц и оборотней.
— Хорошо, поручик, если до утра не передумаешь — пойдёшь ротным в третий отряд. Появилась вакансия.
Уваров привёз Людмилу через час с небольшим, то есть практически мгновенно, как по настоящей тревоге. Наверное, ему самому было интересно, для чего она понадобилась, и Валерий надеялся что-нибудь разузнать при личной встрече. Девушка была в лёгком кремовом плаще поверх неброского светло-серого костюма, подходящего очти к любому случаю, с маленьким элегантным чемоданчиком в руке.
«Пожалуй, — подумал Фёст, наблюдая за своей избранницей по видеоэкрану из второй половины квартиры, — в этом виде с ней можно и в мою Москву идти, не переодеваясь. Там сейчас каждый носит, что хочет, и никому это на улицах в глаза не росается. В другие, специальные места, конечно, придётся подбирать туалеты по обстановке. Но хороша, чертовски хороша! Фотография и половины её шарма не передаёт. Неужто и мне наконец повезло?»
— Любопытствуешь, понятное дело, — сказал Ляхов Валерию, провожая гостей в кабинет. Девушка осматривала интерьер внимательно и цепко, но непосвящённый принял бы её взгляд за скучающе-безразличный.
— Только я и сам сейчас мало что знаю. В смысле — какая работа предстоит. Просто придётся подпоручику Вяземской в течение некоторого времени поработать в роли классической эскорт-леди с одним человеком. Не потому, что предполагается угроза жизни и безопасности клиента, скорее — наоборот. Нужно будет в процессе сопровождения фиксировать в памяти всё происходящее, его контакты, суть разговоров, телефонные звонки. По возвращении — исчерпывающе доложить. И только…
Людмила, понимая, что подробный инструктаж в любом случае состоится позже, сейчас просто кивнула головой.
А Уваров был слегка разочарован. Обычно у «печенегов» принято подробно излагать «боевой приказ», то есть — смысл, цель и детали предстоящей работы. Но и мысли о том, что полковник ему не доверяет, Валерий не допускал. Слишком хорошо они были знакомы. Значит, есть причины к такому поведению, и незачем больше об этом думать. Придёт время — узнает. Или — нет.
— Может быть, лучше двоих послать? — предложил он из чисто деловых соображений. — Опыта у Вяземской не так много, мало ли как сложится? С негласным прикрытием всё же надёжнее. В людях у нас недостатка нет, серьёзных заданий в ближайшее время не предвидится. Ей-ей, так бы вернее было…
— Не выйдет, — сразу ответил Ляхов, словно уже обдумал такой вариант. — По предполагаемым обстоятельствам нашему клиенту вторая эскорт-леди не положена. У него с этой должны быть якобы довольно интимные отношения. Значит, напарница просто не сможет постоянно находиться от них в зоне прямой видимости. А без этого затея не имеет смысла. Ну, сумеют они раз-другой пересечься, не вызывая подозрении, и только. Твой вариант — для других случаев.
— Ну, вам лучше знать. Тогда я поеду, пожалуй, если ничего больше не требуется.
— Езжай. На связи будем постоянно. Если Людмиле поддержка потребуется — всю группу за полчаса переправишь.
— Смотри, Вяземская, — то ли в шутку, то ли всерьёз сказал Уваров специально для Ляхова. Всё, что считал нужным, он наверняка разъяснил девушке по дороге. — Не подведи взвод. Старайся. Ты у нас первая на индивидуальное задание идёшь.
— Так точно, буду стараться, Валерий Павлович — спокойно и с достоинством ответила та, уже начиная настраиваться на роль. Ни словом, ни взглядом не показала Уварову, что они с Вадимом Петровичем знакомы больше трёх месяцев и где только не побывали.
Когда Уваров ушёл, Вадиму показалось, что Людмила вздохнула с облегчением. В чём дело? Неужели в присутствии подполковника подённые чувствуют себя неуютно? Раньше он такого не замечал. Впрочем, женщины есть женщины. Что-то могут воспринимать не так, как строевые офицеры. Или — отгадка совсем проста — ревнуют. Если командир отдал явное предпочтение одной из семерых (или из полусотни), как девушке, а не сотруднику, вторичных половых признаков лишённому по умолчанию, — тут простор Для страстей и интриг.
Ладно, понаблюдаем. Да и плановая диспансеризация через месяц, пусть Бубнов обратит внимание на вероятность эмоциональных отклонений именно у валькирий.
— Располагайся как дома, Люда, — предложил он. — Или Мила?
Всегда проблема с именами, как их сокращать. Одним носителям всё равно, «хоть горшком назови», особенно если это делает начальник, а вторые относятся трепетно, если не болезненно. За время совместного плавания на «Валгалле» он с девушками в слишком доверительные отношения не вступал, почти постоянно находясь под строгим присмотром Майи.
— Лучше — Люда.
— Договорились. Твой будущий клиент подойдёт примерно через полчаса. Настраивайся. Чаю предложить, кофе или чего поинтереснее?
— Если есть — какого-нибудь очень дорогого и редкого сухого вина…
— Так! — Ляхов посмотрел на неё с уважением. — Начинаем работать? Хороший ход. Причём отныне ты станешь утверждать, что пьёшь только и именно? А ведь залегендировать придётся, чтобы не выглядело пустым капризом или хуже того…
— Вадим Петрович, не беспокойтесь. Как раз этому нас учили очень хорошо.
— Ясно. Кто бы спорил, только не я. Тогда действуй, раз сама затеяла. В третьем доме от нашего, с левой стороны есть очень хороший магазин «Сомелье». Быстренько туда, выбери, что сочтешь нужным, бутылок пять, для начала. И уж потом не отступай. Денег дать?
— Дайте, — не смутилась Вяземская. — На то, что я выберу, моих карманных не хватит, а чековую книжку не захватила. Вы ведь не предупредили, какое будет задание.
— Правильно сделала. Там, куда направишься, она без надобности. Клиент за всё будет платить.
Подпоручик убежала, и когда за ней хлопнула входная дверь, в кабинет вошёл Фёст. Весёлый.
— Нет, прямо здорово. Чуть не подумал, что вы для меня репетировали. Хороша девчонка. А на вид…
— Так ты же по виду и выбирал, — поддел аналога Секонд. — Поговорить с ней у тебя случая не было. На «поглупее» ориентировался?
— На самую бесспорную красоту. Без дополнительных отягощающих факторов. Ты «Лезвие бритвы» если и читал, то в весьма зрелом возрасте. А я — в девятнадцать лет за одну ночь при свете керосиновой коптилки семьсот страниц проглотил. Под полсамовара крепкого чая и две пачки дешёвых сигарет. Впечатления — непередаваемые. А у нас в одной газетке буквально на днях статейку напечатали, сексологи-сексопатологи, будто общение с чересчур красивой, по меркам среднего мужика, девушкой вызывает на пятой минуте выброс адреналина, примерно как при первом прыжке с парашютом. Что не есть полезно. В дальнейшем ведёт к органическим изменениям.
— Не замечал, — ответил Секонд, разливая по рюмкам коньяк, пока Вяземская не вернулась. — И с девушками суперкондиционными общался, и с парашютом прыгал. Как видишь — цел и совсем ничего не атрофировалось…
— Так ты же себя когда-нибудь «средним» считаешь? Если уж попросту — не возникало ли у тебя мыслишки, что это ты оказываешь девушке честь, позволяя ей продемонстрировать свои чувства?
— Бывало. Как и у тебя, надеюсь… Ты ей честь, а она тебе — удовольствие.
Они дружно выпили, одинаково усмехаясь. Как в зеркало глядя.
— Нарциссизм это называется, — хором сказали аналоги и также хором рассмеялись.
— Что не есть полезно. — Секонд успел раньше.
— Поэтому выбранная мною подпоручик сможет производить вышеназванный биохимический эффект на всякого, на кого укажу пальцем, — продолжил Фёст, — и ни до кого сроду не дойдёт, что она ещё и зверски умна, эрудированна и профессионально подготовлена, как Джеймс Бонд и Штирлиц сразу.
— Это точно. Самые проницательные в ней кое-что от Бонда, может, и разглядят, а вот от Штирлица — вряд ли. Я бы, кстати, мадам де Сталь вспомнил или совсем уже пресловутую Лилю Брик.
— Что? — поразился Фёст. — В твоём мире Лиля Брик тоже была?
— А куда ж ей деться? — не понял реакции аналога Секонд. — К моменту нашей общей революции она была уже в большом авторитете, и наши тридцатые-сороковые годы прошли под совиным крылом этой зверски способной, но крайне мне неприятной женщины. В разведчицы я бы её взял, но она предпочла карьеру дешёвой стукачки.
— На эту тему с Шульгиным бы тебе поболтать в свободное время и с Яшей Аграновым, из всех этих возвышенных фигур стукачей и наделавшего. Задёшево, к слову.
Секонд прервал разговор, интересный, но слишком далеко уводивший от темы.
— А против кого ты Вяземскую собираешься использовать?
— Если бы знать, — засмеялся Фёст. — А чем плохо — новую Брик ввести в наше ужасно бестолковое и лишённое намёка на шарм общество?
Уж поинтереснее, чем с нынешними дивами гламура, может получиться. Если всерьёз — у меня сейчас два проекта. Один внутренний, другой, скорее, внешний. Расскажу чуть позже…
Фёст прервался, потому что тренькнул дверной звонок. Очень коротко.
— Ну, поглядим, какие у нашей валькирии кусы…
Вкусы оказались ничего себе. Елисеевское[3] вино типа «Изабелла», но с плантаций и завода на Майорке. Тысяча девятьсот девяносто первого года. Двадцать пять рублей бутылка с номером партии и фамилией винодела на рукописной этикетке.
— Вот я и есть ваш работодатель, — сказал Фёст, разыскав в буфетной штопор и откупоривая вино. — Это, значит, мне впредь предстоит угощать вас исключительно этим? Ну, ладно, не разорюсь… Правда там, куда мы направимся, такого вина не водится, придётся замену подыскивать.
Вяземская недоумённо переводила глаза с одного мужчины на другого.
— Бывает, Люда, в нашей работе всё бывает, — успокаивающе сказал Секонд. — Считай, что перед тобой мой брат-близнец, о существовании которого никто не подозревает. В оперативных целях и тебе некоторое время придётся его сопровождать. В Москве. Но — чуть-чуть не такой. Ты ведь выросла на Таорэре, и готовили тебя изначально не к здешней жизни, а как раз к той. На Главной исторической последовательности, при бывшей Советской власти. Наверняка немного удивилась, оказавшись в нашем Кисловодске. Вокруг всё оказалось не тем, правильно? На пароходе мы с вами несколько подкорректировали картину окружающего мира. Приехали в Москву и начали служить в отряде, воспринимая окружающий мир как должное.
А мой брат живёт там, куда ты должна была попасть после выпуска, если бы… Но теперь это неважно, раз такая коллизия случилась… Ничего страшного. Вскоре мы эту ошибку исправим.
Мужчины выпили свой коньяк, Людмила сначала медленно, оценивая вкус, в несколько приёмов осушила бокал до дна, только потом кивнула.
— Значит, вы хотите послать меня в мир так называемой Главной исторической последовательности. Понятно. С ней я действительно теоретически была знакома гораздо лучше. И работать должна была начать в тысяча девятьсот пятидесятые годы…
Фёст насторожился. За время, проведённое в «Братстве», он был достаточно наслышан об агграх и форзейлях, о том, как сталкивались и пересекались их пути с путями старших товарищей.
Проштудировал, в качестве учебного пособия, записки и дневники Новикова и Ростокина.
— В пятидесятых? Здесь, в Москве?
— Откуда же мне знать? Куда направят. В Москву, на Дальний Восток или в любую точку мира, где найдётся вакансия.
— Не знаю, не знаю. С твоей внешностью в СССР пятидесятых, мне кажется, трудно было бы найти подходящую для инопланетной резидентки нишу. Я их, конечно, представляю только по книгам, фильмам и чужим воспоминаниям, но…
Комсомольскую или партийную работницу с такими внешними данными даже вообразить трудно. Кинозвезду — тоже. Тогда царили Орловы, Серовы и тому подобные «красавицы». Да на тебя бы просто оборачивался на улице каждый второй мужик моложе пятидесяти. Женщины — каждая первая. Какая уж тут оперативная работа. Вот Ирина Владимировна Седова в семидесятые вписалась идеально, а в пятидесятые… Там офицер-фронтовик был бы на месте, никак не секс-бомба. В Америке, во Франции — там да!
— Откуда мне знать, — безмятежно ответила Людмила и взмахнула ресницами. — Мы до самого выпуска понятия не имеем, кого из нас сделают, когда вдруг случилось то, что Дайяна назвала «катастрофой», все покатилось по инерции. Все потеряло смысл. Но она обещала, что просто так с не бросит. Доведёт курс до конца. Нам и осталось всего ничего. Несколько месяцев индивидуальной спецподготовки, кондиционирование по намеченной роли — и вперёд, за орденами.
Она уже свободно оперировала профессиональной стилистикой.
— Наш человек, — уважительно отозвался Секонд.
— А я бы тебе должность нашёл, — вдруг сказал Фёст. — Именно там, в Москве. Сразу после пятьдесят третьего, в «оттепель», в СССР начали возвращаться многие эмигранты, не запачканные активной антисоветской деятельностью. С детьми и внуками. Из Харбина, Европы, обеих Америк. Ты бы вполне вписалась. И с помощью главного координатора не составило бы труда устроить тебя даже в КГБ. После смерти Сталина в органах большая ротация началась, местечко в отделе по работе с иностранцами легко бы нашлось. Перспективное…
— Видишь, ты за три минуты придумал, так уж наверняка те, кому по чину положено, тщательнее планировали, — похвалил его Секонд.
— Нет, ты подожди, подожди… Вот нам и рабочая легенда, Люда, — Фёст оживился. — Не ты будешь моя эскорт-леди, а я — твой телохранитель и одновременно консультант. Очень, очень интересно. Всё поворачивается с ног на голову. Красавица-княжна Вяземская приехала в Россию, в поисках самоидентификации и прадедовских сокровищ, спрятанных в семнадцатом году в радиусе от Москвы до Харбина. В моей России это до сих пор очень модная тема. И ты нанимаешь меня, скромного частного детектива, чтобы я тебе помогал, защищал от ужасной русской мафии и коррумпированных чиновников. Прямо здорово выходит…
Секонд испытал нечто вроде зависти. Действительно, аналог, органичный и адекватный своей реальности, опять продемонстрировал преимущество человека совсем другого менталитета. Это понятно. Он сам, после хроноклазма, парадоксов «бокового времени», вступления в «Братство» тоже ведь совсем не тот, что накануне назначения в Экспедиционный корпус. Однако тридцать лет, прожитых двойником в совершенно ином мире, — это несравнимо. Общий генотип, общая конструкция личности — данность, а вот жизненный опыт! Даже у разлучённых в младенчестве близнецов, один из которых жил в России, а другой, скажем, в Германии, он отличается меньше.
Да, за два года сотрудничества и совместной (подготовки на курсах «Братства» они научились при необходимости подменять друг друга, и какое-то время этого почти никто не замечал, но всё же, всё же, всё же…
Они сейчас сидели в квартире, представлявшей собой очередной пространственно-временной парадокс. Две соединённых соседних, по планировке зеркально отражающих друг друга квартиры, нормальных, существующих на ГИП. Чтобы законным образом выкупить их у очередных собственников, пришлось приложить некоторые усилия, но в результате хозяевами одной стали Новиков с Ириной, второй — Сильвия с Берестиным. И к ним примыкала третья, межвременная, одновременно находящаяся и в той, и в другой реальностях. Для удобства общения в капитальной стене пробили дверь, и в распоряжении «Братства» оказалось громадное помещение, отделанное и обставленное в духе нынешнего времени, но гораздо более стильно, чем у большинства среднестатистических владельцев подобных апартаментов.
Самое же главное — путём не слишком сложной регулировки управляющей автоматики в межвременную базу теперь можно было переходить изнутри, не затрудняясь манипуляциями с блок-универсалом на лестничной площадке. А уже через неё проникать в любую из освоенных реальностей. Впрочем, на всякий случай тысяча девятьсот двадцать пятый, тридцать восьмой и две тысячи пятьдесят шестой были заблокированы, и, чтобы попасть в них, требовалась специальная настройка модуля СПВ.
Сейчас за окном кабинета внизу один переулок, такой, как и должен быть привычным здешнему Ляхову. Вымощенный диабазовыми брусками, с многочисленными магазинчиками для понимающей публики. Вон, напротив, двухэтажный магазин «Букинист». Существует здесь лет полтораста. На первом этаже текущая литература, а поднимешься по двухмаршевой деревянной скрипучей лестнице — там книги девятнадцатого, а то и восемнадцатого века. Для ценителей. И не очень дорого.
Есть табачный магазин, винный, ювелирный, несколько комиссионных, специализирующихся на антиквариате и живописи. Этого достаточно.
Зато, пройдя через одну из замаскированных между книжными стеллажами дверей, по кругу вернёшься через соседнюю (если квартира тебя знает), окажешься в этом же кабинете, но за окном увидишь совсем другое. Ни нормальной мостовой, ни тротуаров, переулок сплошь покрыт керамической плиткой дикого розоватого цвета. Кричаще-безвкусно оформленные магазины, вывески на смеси «французского с нижегородским», несколько кафе и ресторанчиков, обещающих какие-то «бизнес-ланчи», «суши» и «пиццы». Люди перемещаются слишком суетливо, без степенного достоинства, положенных в респектабельном центре города. Глупая и странная, на взгляд Секонда, жизнь здесь творилась. А главное — опасная. Отсюда приходили в его мир кавказские и западно-украинские наёмники с тяжёлым вооружением, «учёные», зомбировавшие тысячи людей и учинившие едва не удавшийся государственный переворот. Не государственный даже, цивилизационный.
Но ведь это, одновременно, и мир Шульгина, Новикова, всех остальных «братьев» и «сестёр». И Фёста.
Вадим по своей воле вряд ли туда отправился бы, даже на экскурсию, хватит с него боковых времён. Но если друг-брат зовёт — куда денешься? Долг платежом красен.
А пока Фёст беседовал с Людмилой.
— Что подготовлены вы все хорошо, я знаю. оральными принципами не озабочены. Да и ни к чему они, верно? «Нравственно всё, что служит нашему делу»…
— Знаю. Это из Ленина. Изучали.
— Молодцы, в СССР девушка с высшим образованием сотню-другую подобных цитат должна ла навскидку знать. А сейчас нужно текущие реалии западной жизни подучить. Чтобы хоть получасовой разговор со случайно встреченным соотечественником выдержала.
— Дадите нужные материалы — выучу. Извините, как мне к вам следует обращаться? — спросила Вяземская. Ей факт наличия близнецов (точнее не совсем близнецов) был безразличен. Нужно было понимание позиции.
— Да так и называйте. Вадим Петрович. Вам всё равно, а мне привычнее. Только на той стороне не путайтесь, если втроём рядом с посторонними окажемся.
— Не запутается. Пусть я там для простоты, для третьих лиц Пётр Петрович буду, — сказал Секонд. — Ты когда свой рейд предпринять собираешься?
— Сейчас. Тебе, Люда, сколько времени на подготовку нужно?
— Ровно столько, чтобы прочитать всё, что дадите.
— Нормально. Только с твоей «родиной» определиться надо. Что-нибудь поэкзотичнее и подальше… Вот! — хлопнул он себя по лбу. — Парагвай. Там и сейчас живут тысяч несколько потомков белоэмигрантов, геройски себя проявивших в войне с Боливией. Испанский знаешь?
— Свободно.
— Ну и всё. Сейчас в Интернете разыщем и карты, и фотографии, и тамошние газеты, журналы за последние год-два. Кинофильмы из парагвайской жизни — это вряд ли, но посмотришь несколько аргентинских, один чёрт. Короче — цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи…
— Это — Хрущёв. Из речи на XXII съезде КПСС, — вновь блеснула эрудицией Людмила.
— Точно, молодец! — восхитился Фёст, и Секонд отметил, что отнюдь не наигранно. Очевидно, что девчонка брату-аналогу на самом деле начинала нравиться. Стремительно. Он сам не понимал механизма, обеспечивавшего валькириям столь мощную эмпатию. Но с первых дней общения с ними на «Валгалле» отчётливо понял, что любая, если поставит себе такую цель, сумеет заставить потерять голову даже его, знающего, с кем имеет дело. Там роль «графитовых замедлителей цепной реакции» исполняла Майя. Не хуже него ощущавшая исходящую от юных существ магнетическую силу.
У Фёста такого стопора нет. И слава богу. Сам себе, совершенно свободно, выбрал напарницу для работы. А если что-то большее — пусть будет счастлив. В любом случае Людмила красивее, умнее и психологически мотивированнее, чем любая женщина, какую он мог бы встретить (но так и не встретил) у себя. А ведь четвёртый десяток недавно пошёл!
Усадив Людмилу за компьютер и снабдив её десятком книг и толстой пачкой ежедневной и еженедельной прессы, они решили вдвоём прогуляться по той Москве. Родной Фёсту и плохо представляемой Секондом. Провести, как говорится, командирскую рекогносцировку.
Перед тем, как оставить девушку одну, Фёст её проинструктировал, в стиле Синей Бороды, проверявшего моральные качества очередной жены. В какую дверь входить можно, в какую нет, что можно трогать руками, что нельзя. Само собой, входную дверь никому не отпирать. Если зазвонит телефон, отвечать: «Секретарь Вадима Петровича. Кто говорит и что ему передать?» В самом крайнем случае, если, допустим, они до утра не вернутся и никаких инструкций не передадут, таким вот образом выйти через эту дверь, и никакую другую, после чего явиться к Уварову и доложить. Иных действий не предпринимать, о случившемся забыть.
Ляхову-первому, честно признаться, последние полгода жить было просто скучно. После операции «Снег и туман»,[4] когда за одну великолепную, сумбурную и азартную ночь в Москве было изъято около трёх сотен важных людей, от генералов всевозможных служб до воров разной степени авторитетности, ничего интересного в его биографии не случалось.
Цель операции, проведённой «Братством», ему была понятна. Параллельная Россия спасена от хорошо просчитанной и подготовленной агрессии плюс инвазии. А толку? Ему лично.
Подразумевалось, что заодно и эта РФ будет почищена. Ну да, факт имел место. Эффектный. Только он не хотел считать себя политиком. Он оставался по образованию и самоощущению врачом. Военно-полевым хирургом. Почистить, как в Крымскую войну, огнестрельную рану от обрывков грязной портянки и раздробленных мышц, костей — можем, причём без анестезии, за отсутствием оной. И очень старательно. А дальше? Ладно, те доктора насчёт стафилококков и стрептококков понятия не имели, кроме смутных подозрений, а он-то, капитан медслужбы, — имеет.
Оттого не возлагал на акцию «Братства» далеко идущих надежд. В чём немедленно и убедился.
Завершив операцию, старшие братья почти немедленно переключились на какие-то новые дела, да и понятно: приняв на себя функцию «защиты Реальности», неизвестно как понимаемой в широком смысле, много ли сил и внимания останется ля того, чтобы одинаково с каким-то Ляховым воспринимать окружающую его действительность? Хорошо, вообще не забыли, как хам-полковник через минуту забывает сержанта, только что тащившего его из-под бомбёжки или миномётного огня. Хорошо, стряхнёт землю с фуражки кивнёт адъютанту: «Напиши этого на ЗБЗ».[5] А нередко вообще простое «спасибо» не скажет.
В результате в распоряжении Ляхова-первого оказалась вся Россия ГИП в виде подконтрольной территории, огромные возможности, материальные и технические, и никакой разумной цели. До особого распоряжения.
Конечно, возможностями «Братства» в полном объёме он не располагал. Ему, кроме квартиры, со всем, что в ней находится, было оставлено только право распоряжаться очень большими, но всё же не запредельными суммами. Ну, и все наработанные Шульгиным и Новиковым связи.
Александр Иванович так и сказал, при очередном прощании:
— Ты у нас остаёшься на хозяйстве. Смотрящим. До тех пор, пока нам снова что-нибудь не потребуется в этой реальности (или ты сам не потребуешься в другом месте), живи, как хочется. Хоть как Корейко, хоть как граф Монте-Кристо… — Улыбнулся одной из своих знаменитых улыбок, одновременно и застенчивой, и циничной. — Как любому из нас, единственным подсказчиком в вопросе «тварь я дрожащая или — право имею?» остаётся твоя совесть. Или, если попроще — экзистенциальное Я. Вдруг что-то экстраординарное случится — знаешь, куда сбежать. Хочешь — к аналогу своему, хочешь — в Новую Зеландию. Или со мной связывайся, если найдёшь.
На том они и расстались. Вадим Ляхов-первый начал индивидуальное существование.
Какое-то время вёл, как принято было писать в девятнадцатом веке, рассеянный образ жизни. Добирал то, что упустил до встречи с Шульгиным. А что тут странного? Армейский капитан, внезапно превратившийся в Креза, холостой, лишённый какого угодно контроля и не имеющий ни перед кем никаких обязательств.
От нечего делать разыскал свою давнюю любовь. Был уверен, что она его давно забыла, а оказалось, что нет. Пусть и вышла семь лет назад замуж, обзавелась двумя детьми, а вышло всё очень хорошо. На его взгляд. Она оказалась свободна (надо же так случиться!) на целых две недели. Муж с детьми уехал на Канары, а её не отпустили дела.
Ничего почти не придумывая, Вадим сказал ей, что служит в миротворческих частях ООН, далеко отсюда, а сейчас почти невзначай залетел в Москву. Случай подвернулся. Сентиментальность заела, вот и разыскал её через ЦАБ ГУВД.[6] Способ, не каждому доступный, уважающие себя люди (или те, кому есть чего опасаться) давным-давно изъяли свои данные из всех телефонных книг и адресных справочников. Зато эта возможность мгновенно повысила в глазах бывшей подруги его социальный статус.
И был Вадим приятно удивлён, когда в первый же вечер, после ностальгических воспоминаний в ресторане «Седьмое небо», она согласилась пойти ним. Прямо в прихожей, как только он помог ей снять плащ, чужая, казалось бы, женщина сама подставила ему губы, а потом за руку повлекла к ближайшему дивану.
Ей, в общем-то, нечего было так уж стесняться.
И она была его первой девушкой, и он — первым у неё мужчиной, а если потом предпочла другого, этот факт ничего не отменял. Была у них любовь, суматошная и сразу какая-то бесперспективная, но ведь была же!
Пять интересных вечеров и восхитительных ночей они провели вместе, Фёст начал уже задумываться — что же дальше? Не был он, истосковавшись по женской ласке, против продолжения устраивавшей его связи. Пусть даже в таком, неправильном качестве. И тут она сама сказала, всё — хватит. Очень, мол, приятно было вспомнить молодость, но через неделю семья возвращается, и ей нужно восстановить душевное равновесие. Вадим её понял. Чего тут не понять? Пришлось искать другое занятие.
Окружающая действительность раньше, до встречи с Шульгиным, со своим аналогом и паралельным миром, не вызывала у него слишком негативных эмоций. Данность есть данность. Как в химии — процесс протекает, если может протекать — таким именно образом. В любом случае из реакции соли и кислоты «це два аш пять о аш»[7] никаким образом не получится, как бы этого ни хотелось!
Но вот теперь обычная жизнь его раздражала чрезвычайно. Особенно в сравнении с миром Секонда. Тоже не сахар, если внимательно разобраться, и всё же — земля и небо!
А у него ведь остались все концы операции «Снег и туман», и выходы на верхние эшелоны организации «Чёрная метка». Безусловно, придуманной для одной-единственной цели, но в то же время — сумевшей зажить собственной жизнью. Вошедшие в неё сотни старших офицеров и генералов почувствовали вкус «настоящей службы». На благо Отечества, а не хрен знает кого. Только раньше выхода не было, а теперь он вдруг появился!
О таком многие мечтали всю жизнь, прямо с лейтенантских погон, а то и раньше. Когда можно и нужно делать только то, что считаешь единственно правильным, не прогибаться перед начальниками, трусливыми, продажными или просто до предела некомпетентными. А самое главное — ощущать принадлежность к касте или клану, где все спаяны общими убеждениями и единым, так сказать, менталитетом, сколь ни истрёпано в последнее время это слово.
Один пошловатенький публицист даже произвёл от него новую конструкцию: «литет мента».
А те генералы, полковники и — далее, по нисходящей хотели просто служить! Лучше — за хороший оклад денежного содержания, но можно и без, лишь бы не так, как пел Городницкий:
Фёст, пользуясь базой данных левашовского компьютера и лихаревского Шара, начал реанимировать задремавшую после лихих чисток прошлого года организацию. Теперь уже под себя. Очень правильно, что Новиков с Шульгиным выстраивали её не вертикально, а как сетевую структуру. Вадим начал приглашать к себе самых разных людей, не ставя никаких конкретных задач, просто знакомясь, представляясь то эмиссаром «Меча и орала», вроде Остапа Бендера, то таким же, как собеседники, офицером спецслужб, что было истинной правдой, только облечённым кое-какими полномочиями. Беседовал иногда на понятные, иногда — не совсем темы. Зато деньги раздавал без расписок, под честное слово.
Это очень сильный ход, даже в кругу бессребреников и идеалистов. Когда сотни тысяч рублей, а иногда — долларов и евро выдаются из рук в руки без всяких условий. Просто так. Сидит в роскошно обставленной гостиной или кабинете тридцатилетний парень напротив сорокапятилетнего генерал-полковника, приглашённого обсудить взаимно интересные вопросы, поднятые ещё Андреем Дмитриевичем или Александром Ивановичем, да как-то подзабытые, курит неумеренно, угощает виски или коньяком и говорит: «Поймите меня, Кирилл Мефодьевич (хорошо хоть — не Укроп Помидорович),[8] я вам сейчас вот эти раскрашенные бумажки даю зачем?»
— Ну и зачем? — спрашивает генерал-полковник, изображая недоумение. Если изображает — хорошо! Если всерьёз — пора прощаться навсегда.
— Да чтобы вы своих людей простимулировали до уровня, когда им взятки со стороны брать скучно будет. Чтобы не они снизу вверх платили, а, как положено, от руководства получали, за образцовое выполнение служебного долга…
Мы, сами понимаете, взять на себя полностью функции министерства финансов и всяких прочих министерств не можем, но кое-какими возможностями располагаем.
— Ну и зачем это всё? — спрашивает какой-нибудь товарищ посообразительнее. — Вам, как организации, и мне, как функционеру? Разовые акции, и даже весьма эффективные, мы проводить можем, но систему ведь изменить не в силах. Государственную власть поменять, конструкцию правоохранительных и правоприменительных органов целиком. А без этого — сифилис зелёнкой лечим?
— В семнадцатом году поменяли. Не уверен, что хорошо получилось. На второй эксперимент в России людей не хватит. Умные народники в девятнадцатом веке проповедовали «теорию малых дел». Вот и будем заниматься малыми делами, каждый на своём месте. Прошлый раз неплохо получилось. Как я слышал, полторы сотни особо вредных элементов изъяли «с концами», ещё на пару тысяч страху навели. Работать хоть немного легче стало?
— Немного легче, — согласился один из заместителей начальника столичного ГУВД. — Главное, теперь все друг друга боятся. Кроме наших, конечно, — он имел в виду членов и сочувствующих «Чёрной метке». Так всё запуталось, что никто не понимает, с кем прежние дела вести можно. Сегодня со старым приятелем с глазу на глаз вопрос перетрёшь, а завтра в СИЗО окажешься, по санкции прокурора, который, в свою очередь, кого-нибудь из президентской администрации опасается. Зато другая беда обозначилась — многие вообще ничего делать не хотят, ни плохого, ни хорошего. Сидят в кабинетах и сутками в потолок смотрят, жизненные перспективы обдумывают. В отставку подавать или за бугор сваливать, пока загранпаспорта не отменили…
Обо всём, что с ним здесь происходило, не скрывая накатывающейся временами мизантропии, Фёст и рассказывал Секонду, пока они неспешно шли по Бульварам, и Вадим-второй постепенно адаптировался к выглядевшему совершенно чужим городу. Нет, на самом Бульварном еще сохранилось достаточно зданий из «общего» времени, но и только. Всё остальное просто било в глазах кричащей чужеродностью, аляповатой безвкусной роскошью. Как если бы встретил девушку, некогда прелестную простотой и изяществом в поведении и одежде и вдруг размалёванную совершенно не сочетающимися помадой, румянами, тушью, увешанную серьгами, цепями и браслетами «самоварного золота», разодетую в декольтированное чуть не до талии платье дикой расцветки.
Так Ляховым воспринимались витрины, рекламы, заполонившие улицы, переулки, даже тротуары автомобили непонятного экстерьера, общий вид и плебейские манеры публики.
Упаси бог жить в такой Москве. Как ему повезло в сравнении с Фёстом!
— И в чём же я могу тебе помочь? Сам ведь говоришь, что безнадёжно… Революцию нам с тобой вдвоём не учинить. А если устроить какое-нибудь пронунсиаменто — что толку? С вашим человеческим материалом.
— Толк-то быть может, — смутно усмехнулся Фёст. — Имеются у нас примеры, когда именно перевороты, а не «социальные революции» эффект приносили. Вопрос только в том, кто и с какими целями власть захватывает…
— И с опорой на какие силы, — согласился Секонд. — У нас с Олегом такие силы были, а у вас — что-то не похоже, судя по тому, что я успел узнать. Ну, был бы ты, как я, хотя бы полковник гвардии, флигель-адъютант, смог бы выступить в качестве этакого нового Бонапарта. А за тобой ведь армия не пойдёт, и вообще у вас не страна, а не пойми что. Ни у кого ни малейшей политической воли. В таком состоянии на баррикады не ходят, в «железные колонны» для поддержки какой угодно идеи не выстраиваются…
— Со стороны поглядеть — так оно и есть. Но я-то не со стороны, я тут жизнь прожил да второй год в «Братстве» состою…
— И что? «Братство», кстати, в дела ГИП вмешиваться не рискнуло…
— Не то слово. Рискнуть — не рискнуть, для них вопрос не стоит. Целесообразно — нецелесообразно, вот в каких категориях идеи рассматриваются. Они решили: в рамках их нынешних забот заниматься переустройством этой самой ГИП просто ни к чему. Есть много куда более важных, опять же с их точки зрения — времён и реальностей. А эта, попросту говоря, «базовый элемент», лишь — несущая частота. Вокруг неё всё крутится, а она — просто данность…
«Всё будет так, как должно быть, даже если будет иначе», — любит Александр Иванович повторять, цитируя неизвестно кого. Но мне такая позиция не нравится. И страшно руки чешутся что-нибудь в нужном направлении подвернуть…
Они дошли уже до Чистопрудного бульвара, и Фёст предложил заглянуть в заведение поприличнее, выпить по чашечке кофе, покурить спокойно. На ходу курить он с молодых лет не любил.
Такое немедленно нашлось, пусть и с дурацкой вывеской «Кафе-бар „Медея“». У дверей имелась предупреждающая табличка: «Господа! Это частное кафе. Любому посетителю может быть отказав обслуживании без объяснения причин».
— А как же свобода личности и права человека? — удивился Секонд.
— Как будто у вас любого забулдыгу в «Националь» или «Медведь» швейцар пустит…
— У нас он и сам не помыслит близко пойти…
— Видишь, какая классовая сегрегация. А у нас всем позволено всё, вот и приходится владельцам себя и гостей таким образом от неприятностей оберегать. «Фейс-контроль» называется.
Сами они прошли беспрепятственно, охранник скользнул по приличным господам безразличным взглядом и нажал кнопку, отпирающую турникет.
— Тауглих! — вспомнив Швейка на призывной комиссии, сказал Фёст.
Выходя в город, они приняли меры, чтобы не привлекать лишнего внимания своим сходством. Секонд приклеил усы и шкиперскую бородку, а Фёст надел фотохромные очки. Да и причёски у них были разные. А что рост и сложение одинаковое, так кому до этого дело?
Нашли удобный столик в углу, сделали заказ. Секонд ждал продолжения беседы, поскольку они подошли к самому, на его взгляд, интересному, но двойник сделал останавливающий жест.
— Подожди, — и кивнул на компанию, разместившуюся в пределах слышимости.
Четверо мужчин и с ними две дамы, возрастом между тридцатью и сорока, некрасивые, но ухоженные и весьма прилично одетые. Сидят, судя по количеству посуды на столе, довольно давно. Разговаривают громко, не обращая внимания на немногочисленных посетителей. Больше всех тот, что сидит к братьям лицом, отчего его и слышно лучше всех, несмотря на музыку.
Крупный экземпляр, даже скорее толстый, с круглым щекастым лицом и растрёпанными вьющимися волосами, похожий на Дюма-отца в сорокалетнем примерно возрасте. А также и просторным клетчатым пиджаком старомодного покроя.
Витийствовал он почти о том же самом, о чём олько что Фёст с Секондом рассуждали, но несколько в ином ключе.
Речь шла о судьбе страны, только относился к ней этот раблезианский тип совсем иначе. Он с азартом, будто на митинге, доказывал своим собутыльникам, что это государство просто не имеет права на существование. Как таковое. Если оба Ляховых сожалели о том, что власть чересчур слаба и не может навести пристойного цивилизованой державе порядка, то сейчас они слышали противоположное:
— Россия томится под властью кровавой чекистской диктатуры, авторитаризм нечувствительно превращается в фашизм. Народ страдает одновременно от нищеты и щедрых подачек, раздаваемых за лояльность на выборах. Не имеет возможности открыто выражать своё мнение, но настолько пассивен, что самые пламенные трибуны не могут даже в Москве собрать на «марши несогласных» больше нескольких сотен человек. Вгоняющий в отчаяние застой общественной мысли не оставляет шансов на достойное существование ничему мыслящему. Всё вокруг зловонное болото, тлен и смрад… Как в худшие годы брежневского застоя, наложенного на поздний сталинизм…
Секонд слушал, весь обратясь в слух, и очень эта филиппика напомнила вечер встречи с Майей в Доме актёра. В этом толстом жуире, явно небедном, хорошо, даже чрезмерно питающемся, в волю пьющем, мало было общего с аскетичной фанатичкой Казаровой. Кроме одного — патологического неприятия окружающей действительности, какой бы она ни была.
О причинах можно задуматься. У кого — своего рода психопатия, у кого — пресыщенность и жажда острых ощущений. Особенно, если авторитет в «референтной группе» обеспечен, а реального риска от своего «свободомыслия» — никакого.
— Пусть сильнее грянет буря, — не очень громко, но отчётливо сказал Фёст, когда толстяк сделал паузу, чтобы перевести дух и опрокинуть следующую рюмку.
— Что? — Вития медленно поднял глаза и будто впервые увидел соседей.
— Это ты, Вадим? Надо же, какая встреча!
— Горький, Максим. «Песня о буревестнике», — как бы не обратив внимания на следующие слова, ответил Фёст. — Ужасно всё похоже. Только «великому пролетарскому» хоть в какой-то мере позволительно было опасные глупости публично провозглашать, поскольку обитал он в начале XX века. Главное, «долой самодержавие», а там видно будет. И у «буревестника» было куда сбежать — вилла на Капри и всё такое. А ты куда побежишь, если снова грянет?
— Да ладно тебе, — после секундной растерянности нашёлся тот. — Выбрал место для дискуссий. Подсаживайся к нам, выпьем, поговорим…
Фёст кивнул, соглашаясь.
Представил Секонда, как и условились, своим братом, только что приехавшим из Сан-Франциско погостить.
— А это Миша Волович, звезда отечественной журналистики. Ежедневно выступает в прессе с разгромными инвективами в адрес чего угодно, и, что самое забавное, при полном отсутствии у нас свободы слова, собраний и печати его издают массовыми тиражами, прилично платят и ни разу не посадили в «холодную» даже на месяц-другой, что при сверхлиберальном батюшке-царе Николае всё-таки практиковалось. Не говоря о более серьёзных статьях тогдашнего «Уложения о наказаниях».
Встреча и начавшаяся дискуссия с Воловичем и его компанией показалась Секонду не только интересной и поучительной, но и просто забавной. Надо же — в чужой только что мир явился, где всё, кроме собственного аналога и кое-каких архитектурно-топографических совпадений с во всём прочем иной Москвой, не было ничего близкого и понятного. Но не прошло и часа — возникло ощущение, будто с одной стороны улицы на другую перешёл. Витрины другие — и только, а люди — те же самые, пусть и воспитанные в абсолютно чуждых условиях «советской власти». Но с психологией, в своих основах не требующей специального изучения и даже особенной корректировки. Что, таких, как этот Волович, у себя в «Приюте репортёра» на Арбате не встретишь? Да каждый второй из тамошних завсегдатаев с ним мог бы местами поменяться, без ущерба для текущего литературного процесса. В обеих реальностях.
Конечно, и белые офицеры — Ненадо, фон Мекк и Оноли — отважные гранатомётчики, генерал Берестин, полковник Басманов, другие корниловцы и марковцы, геройствовавшие в Москве и Берендеевке, — поначалу показались Секонду невнятными. Своей слегка наигранной бравадой, говностью кидаться в бой с такой отчаянностью, что враг терял боевой дух и моральные устои (и без того слабо мотивированные), а то и сфинктеры у него расслаблялись не по обстановке. Но на второй час совместных действий бойцы, разделённые тремя поколениями, начали понимать друг друга настолько хорошо… Секонд вспомнил картинку — сидят на ограждении скверика два поручика, Колосов штурмгвардеец и корниловец Ненадо. Угощают друг друга куревом, один — сигаретами, другой — папиросами. И уж так им всё понятно в своём нелёгком ремесле. Хотя разница в возрасте — больше восьмидесяти лет.
Так что, в принципе, жизнь везде одинакова.
Секонд представился как бы начальником своего брата, топ-менеджером головного офиса всемирной «Комиссии по изучению и рационализации паранормальных явлений», отчего сразу вырос в глазах окружающих. Эти ребята традиционно относились к любому иностранцу, пусть и родных кровей, с заведомым почтением.
Как писал Салтыков-Щедрин: «Хорошо иностранцу, он и у себя дома иностранец».
Прилично разогретый журналист немедленно начал вышучивать Фёста. Вот, мол, человек, сам в конторе, на западные гранты существующей, работает, а других осуждает.
— Ив чём же осуждает? — осторожно спросил Секонд, взглядом попросив брата помолчать.
— Да как же в чём? Ты же сам только что слышал! Мы, можно сказать, живота не жалея…
Секонд, назвавшийся Петром, выразительно посмотрел на его живот. Обе дамы дружно фыркнули, оценив тонкость юмора. Волович не смутился, даже сильнее эту часть тела выпятил.
— … Не жалея, боремся за то, чтобы хоть как-то раскачать эту страну, мобилизовать здоровые силы, заставить повернуться лицом к демократии, а то ведь вообразить невозможно — чемпиона мира за организацию митинга «Долой президента» заталкивают в автозак и целый день держат в КПЗ. Хорошо хоть не избили. Это — свобода?
— А в той стране, что вашей братии гранты и премии выписывает, своего чемпиона мира по тем же шахматам, Фишер его фамилия, не так давно хотели на десять лет в тюрьму упаковать за то, что в Белграде несколько партий сыграл. Это — свобода? — несколько даже лениво спросил Фёст.
— Ты, это, разные вещи не путай. Поддержка тоталитаризма и борьба с тоталитаризмом — совершенно разные вещи, — несколько картинно возмутился Волович. — И вообще не вмешивайся, не с тобой сейчас разговариваю. Твои взгляды я знаю…
— Ну, пусть люди послушают, — не обратив внимания, продолжил Фёст. — То есть всё дело в торговой марке. Продаем «свободу» — можно делать, что хочешь. Хоть Хиросиму бомбить, хоть Дрезден, хоть Белград, хоть Саддама вешать.
Я тут недавно читал в одной из ваших газеток, что советские солдаты, войдя в Германию, сто тысячи немок изнасиловали. Может, это и нехорошо и правда, но люди хоть удовольствие получили. а те триста тысяч женщин и детей, что в огне Дрездена, Гамбурга, Кёльна сгорели тремя месяцами раньше, — им приятнее? Причём, в отличие наших солдат, четыре года на передовой отвоевавших, семей и домов лишившихся, пилоты «летающих крепостей» бомбили с десяти километров, ничем не рискуя…
И никто за это твоих друзей-америкосов и англичан не обвиняет, даже сами немцы. Нормально? Теперь переключились на борьбу с «тоталитаризмом», причём не китайским, не саудовским, не грузинским — исключительно российским — тут опять: кому положено — в «белых одеждах», а прочие — нишкни!
Вот вообразим, что в Америке появятся издания, шесть раз в неделю пишущие, что существующий в ней режим — имперский, неоколониальный, подавляющий истинные права человека, насаждающий совершенно несправедливую избирательную систему, специально для угнетения свободомыслия придуманную «политкорректность», доктрину Монро и поправку Джексона-Веника. Такой режим, естественно, должен быть разрушен до основания и заменён, скажем, на швейцарский вариант «непосредственной демократии». Причем станет достоверно известно, что и сами газеты, и их журналисты получают деньги прямо из рук российских властей. С опубликованием конкретных сумм. Долго такие газетёнки просуществуют и что дальше будет с этими «продажными писаками»?
— А братец прав, — подключился Секонд. — Всё так и есть. Я тоже не понимаю, как можно за чужие деньги проклинать собственную страну. Американцы, при всех своих недостатках, правильно мыслят: «Права она или нет, но это моя родина». Если тебе так уж здесь невмоготу, приезжай к нам, помогу работёнку найти. По способностям. Есть у меня знакомый редактор приличной газеты. Штук пять баксов в месяц положит, а дальше — как себя проявишь…
Волович изобразил губами почти непристойный звук. И само предложение, и сумма показались ему абсурдом.
— Да ты, Пётр, сам в свободный мир отсюда съехал, — выкрикнул он, покрываясь красными пятнами. И даже задышал прерывисто. — Не по душе, значит, в России-матушке жить?
— Я — не съехал. Просто мой офис в известном городе сейчас располагается. Паспорт у меня российский. Ни грин-карты, ни гражданства не просил и не собираюсь, хотя мог бы получить в любой момент. Главное — ни слова нигде против России не сказал, не написал. Хоть за деньги, хоть «по велению сердца».
— Самая твоя главная беда, Миша, — ласково сказал Фёст журналисту, — что в любом случае ты в проигрыше. Выйдет то, к чему призываешь, всё выльется минимум в октябрь девяносто третьего, только гораздо хуже — в новый октябрь семнадцатого. И поставят тебя к стенке за твою непролетарскую внешность. Поскольку в прежних твоих заслугах перед демократией озверевшей толпе разбираться будет некогда. Доведёте власть своими провокациями до нервного срыва — опять же посадят или просто шлёпнут профилактически. Примеры приводить нужно?
— Да ну вас к чёрту, — отмахнулся журналист, окидывая в рот рюмку. — Ссориться не хочется, и человеческого разговора не получается. Кто ты такой, чтобы я тебя убеждать и просвещать старался?
— Уж точно не тот, к кому ваше «свободолюбивое сообщество» адресуется. На самом деле вы и сами не понимаете, для кого пишете. За сколько — понимаете, а для кого — нет. Те, кто способен бунтовать и воевать с «ненавистным режимом», ваших газет просто не читают. Отчего власть и относится к ним с полным безразличием. А те, кто до сих пор читают, — нынешней жизнью вполне удовлетворены и на баррикады тем более не пойдут. Так что зря ваши хозяева денежки тратят… Но рано или поздно одумаются, мне кажется, и придётся вам… Кому — на паперть, кому — на панель.
Сказал и даже ладонью по столу прихлопнул для убедительности.
А Волович ссориться действительно не хотел. По какой причине — его дело.
— Не понимаю я тебя и никогда не понимал, — сказал он примирительно. — Как будто ты сам всем доволен и не хотел бы жить при настоящей демократии.
— Лет через двести поживём, если всё пойдёт ровненько и без новых потрясений. Ты же, мать твою, историю явно учил, неужто не помнишь, что весь наш бардак от безрассудной торопливости, ни от чего больше! Только-только власть начинает цивилизоваться и благие намерения проявлять, как тут же ей от «прогрессивной интеллигенции» такой ворох невыполнимых претензий и требований, а то и бомба под ноги, что волей-неволей приходится очередной раз порядок наводить. И всё по новой.
Уже на нашей памяти кто мешал в девяносто первом, «распри позабыв», дружно начать строить «демократическую Россию»? Как испанцы после смерти Франко. Это ведь не Ельцин начал, это «народные избранники» до гражданской войны чуть-чуть не довели. В общем, хватит! — Фёст встал. — хотели с братом кофейку попить, а тут опять бессмысленная трепотня! До скорого. Извините, если что не так. Он раскланялся.
— Слушай, давай я с тобой интервью сделаю, — вдруг предложил Волович, который, по ощущениям Секонда, должен был смертельно обидеться. — Альтернативные варианты развития российского общества. В таком вот ключе. На телевизоре…
Профессионал, однако. С одной стороны: «Плюй в глаза — божья роса». С другой: «С миру нитке — голому верёвка».
— Толку не вижу. В прямой записи всё равно не пустите, а плёнку покромсаете, как захотите. В газете — пожалуйста. Короче, я тебе завтра позвоню. Разговор есть. По делу.
— И чего ты с ним завёлся? — спросил Секонд, когда они вышли на прохладный ночной бульвар. — Он ведь почти то же самое, что и ты, говорил. Чуть с других позиций, но по смыслу…
— В том и дело, что позиции у нас разные. Как на перевале. У нас с тобой и моджахедов. А остальное действительно одинаковое.
— Это верно. Так что же ты всё-таки делать собираешься, при наличии вокруг беспросветно-серой массы, бессильного руководства и подобных оппонентов?
— Есть кое-какие соображения. Безвыходных положений ведь не бывает, говорят. Тем более, как ты должен помнить, на первом нашем представлении «Братству» речь шла о том, что и твоя реальность целиком, и часть моей, начиная с семьдесят шестого года… — Фёст вдруг замолчал с таким лицом, будто увидел перед собой прогуливающегося по бульвару некробионта.
— Ну, помню, являются либо порождением, либо объектом воздействия Ловушки Сознания. А чего это ты осёкся?
— Год семьдесят шестой, сказал тогда Шульгин, это момент встречи Ирины с Андреем на мосту. С него и началась вся эта история. И только сейчас до меня дошло, что это ведь год моего рождения… А ты, по своему счёту, родился на год позже. Так?
— Получается так, — согласился Секонд и тоже задумался, поражённый таким совпадением.
— И месяц совпадает тоже. Я, повторяю, в тот раз, поглощённый избыточными впечатлениями, совершенно не обратил внимания и не удосужился спросить насчёт дня. Но и без того наклёвывается гипотеза не хуже прочих. Если я родился в результате (случайно или целенаправленно — другой вопрос) включения Ловушки, инициированного той самой встречей на мосту, тогда становится понятным очень и очень многое… Хотя бы в наших с тобой биографиях.
— Прежде всего — каким образом в реальностях с совершенно разной историей смогли появиться столь полные аналоги, как мы с тобой…
Этот вопрос с самой первой встречи вызывал у обоих Вадимов больше всего недоумений. На самом деле, если реальности двух почти идентичных миров разошлись примерно в восемнадцатом году, где точкой МНВ стала гибель генерала Корнилова, возможность даже рождения, не говоря уже о встрече и женитьбе аналогов их отцов и матерей, уходила в область отрицательных величин. Теперь же всё объяснялось легко и просто. Телеологически.[9] Кроме того, Александр Иванович предназначил нам с тобой роль этакого сдвоенного предохранителя. Отслеживать и корректировать изнутри процессы, способные нарушить хрупкую гармонию между нашими временами. Отчего и не велел без крайней необходимости встречаться на этой стороне.
— Так зачем же мы это делаем? — удивился Секонд.
— Слушай дальше. Там же, в «Братстве», в моём присутствии неоднократно велись разговоры что им хотелось бы организовать подобие конвергенции между твоей и ростокинской реальностями. Где-то лет через двадцать-тридцать, якобы, это возможно…
— Лично мне такое трудно представить. — Мне тоже, но, по их мнению, под воздействием Гиперсети в мозгах миллиардов людей произойдут столь внешне логичные и незаметные изменения, что они поверят и в своё общее прошлое и в полную адекватность вновь возникшего миропорядка. А без этого, мол, мировая ткань расползётся, как ветхое одеяло, и вообще всему наступит амбец…
— Такое рассуждение я тоже слышал…
— Но я ещё не закончил, ты слушай, слушай… — Несколько нервничающий Фёст приостановился, всё-таки закурил сигарету.
С Мясницкой они свернули в сторону Кузнецкого моста, а оттуда уже и до дома недалеко. В переулках было потише, людей совсем немного из-за позднего времени, и разговаривать стало куда легче.
— Как ты помнишь, после московских событий наши друзья к своей идее словно бы утратили интерес. Занялись чем-то совсем другим, причём меня в известность о сути своих дел не поставили. Разбежались по мирам и временам, кто поодиночке, кто сбившись в очередные «кружки по интересам». Нам в них места не нашлось…
— Неудивительно. Боги с Олимпа тоже спускались на Землю или по конкретным поводам, или от скуки… — Секонду было интересно, но не очень. Его по-прежнему больше занимала окружающая действительность.
— И я о том же. Когда я последний раз встретился с Новиковым, он выглядел, с чисто медицинской точки зрения, несколько потерянным. Я даже удивился. Спросил, в чём дело. Он начал что-то плести насчёт «кризиса среднего возраста», потери вкуса к жизни и ощущения никчёмности происходящего. Блока процитировал:
— Депрессия, одним словом. Можно понять… Лариса вон тоже на всё наплевала и, якобы насовсем, решила переселиться в наш Кисловодск. Однако недавно тоже куда-то умчалась.
— А Новиков, наоборот, мне сказал, что ему ни моя, ни твоя реальности не интересны. «Делать мне в них совершенно нечего. Возглавить „Чёрную метку“ и в качестве какого-нибудь глухозаконспирированного „сионского мудреца“ наводить порядок в этой России? Для чего? Пусть сами разбираются. Если у Секонда (тебя он тоже вспомнил) что-то не так пойдёт — поможем, чем потребуется. Но жить я предпочитаю не здесь».
Оно, пожалуй, и к лучшему, — заметил Вадим — второй.
— Может быть. Но дальше ещё забавнее. Оказывается, Шульгин очередной раз влез в Гипереть и закоротил Узел, отвечающий за все земные реальности. Теперь, будто бы, никакое вмешательство извне нам не грозит. То есть получается, что в пределах наших сочленённых реальностей мы с тобой можем и имеем право предпринимать любые действия. Любые! Без оглядки на Держателей Мира, Хранителей Реальности, законы историческогo материализма и всякий там детерминизм. Но желательно, добавил в заключение той странной встречи Андрей Дмитриевич, чтобы эти действия привели к улучшению условий человеческого существования. Это обязательно…
— Чересчур расплывчато, — пожал плечами Секонд. — Не может быть человеческого существования вообще. Для каждого индивида оно конкретно и неалгоритмируемо.
— Мы не на философском семинаре. Главный смысл, как я его понял, — нам даётся карт-бланш на любые поступки, кажущиеся нам правильными…
— Очередной тест? Или выпускной экзамен из кандидатов в «действительные братья»?
— Возможно и такое. Как там у вас на флоте говорят — допуск к самостоятельному управлению? — Фёст слегка завидовал аналогу, удостоившемуся случая покомандовать настоящим боевым кораблём и успешно с этим делом справившемуся.
— Как бы там ни было, я у себя никакими улучшениями заниматься не собираюсь. Как однажды определено: «Ты должен действовать строго в пределах отведённой тебе роли. Сам для себя будь кем хочешь, а для окружающих останься прежним. Ни в коем случае не подстраивай поступки под воспоминания о будущем». Твои слова?
— Да помню я, помню. Если хочешь, давай и этой инструкции следовать. Раз уж мы на экзамене. Но мне такого приказа не было.
В самом тёмном месте Фуркасовского переулка Секонд вдруг приостановился.
— Тебе не кажется, что сейчас с нами что-то произойдёт? Холодком по спине потянуло. — Он сунул руку в карман пиджака, где по привычке своего времени всегда носил пистолет.
Фёст оглянулся.
— Да вроде ничего такого. Сейчас на улицах почти не шалят, а специально за нами никто не шёл, я постоянно проверялся.
— Ну, бог с ним. Двигаем дальше. Наверное, это твоё время и наш разговор так на меня действуют.
— Бережёного, конечно, бог бережёт, и «ходить надо опасно», как в Библии сказано, но сейчас центр выйдем, а там уже недалеко. Секонд сам себе удивлялся, но так и не счёл нужным или возможным рассказать аналогу о долгих беседах, что они вели на «Валгалле» с Воронцовым. Очень может быть, таким образом он пытался как можно дальше развести личности, свою и Фёста. Мало кто может представить, как тяжело разговаривать с собственным отражением в зеркале. Пусть лучше у каждого будет всё больше и больше личных черт, привычек, воспоминаний. Получится у Фёста с Вяземской — они разойдутся ещё дальше. Ничто так не способствует самоопределению мужчины, как надёжная, готовая стать «второй половинкой» подруга. И, глядишь, постепенно они станут на самом деле только братьями. В генетическом смысле. Он сказал другое:
— Не слишком мы сложную легенду для Люды придумали? Она, пожалуй, может пригодиться в каких-то вариантах, а ведь куда проще — очередная «паранормальная» сотрудница. Моя, допустим, ассистентка, приехала ознакомиться на месте с феноменом мистических озарений в политических кругах. С такой научной темой можно в любую структуру проникнуть и самые дурацкие вопросы на полном серьёзе задавать. Паспорт ей выправить, хоть американский, хоть наш — и всех делов.
— Тоже верно, — согласился Фёст. У него сейчас в голове крутилась несколько другая идея, вопросы легализации Вяземской отошли на второй и третий планы. — Но глубокие знания парагвайского языка и прочих реалий в любом случае не помешают. Можно сказать, что она — директор тамошнего филиала, остальное будем вводить по мере изменения обстановки.
Когда они вернулись в квартиру, Людмила продолжала работать с документами. Всё, что касалось Парагвая и вообще латиноамериканской жизни, она проштудировала, теперь изучала здешнюю жизнь. Увидев командиров, оживилась, доложила об успехах и выжидательно (а также — выразительно) посмотрела Фёсту в глаза. Наверное, решила, что со скучными уроками закончено и ей немедленно предложат что-нибудь повеселее.
— Молодец. — Фёст сделал вид, что взгляд девушки не задел его душевных струн, хотя что-то такое по нейронам и аксонам пробежало. — На сегодня хватит, иди отдыхай.
Людмила собрала ворох газет и журналов, ещё раз стрельнула глазами из-под естественных, но поэффектнее, чем на рекламных роликах, ресниц. Направилась в отведённую ей комнату, несколько вызывающе покачивая бёдрами. Вадим-первый смотрел ей вслед с живым интересом. Второй — отвернулся.
Сами они расположились в кабинете, задымили сигарами, что сейчас в Москве считалось крайне модным в тех кругах, где Фёсту приходилось вращаться.
— Итак, братец, наговорились мы с тобой сегодня сверх всякой меры, — сказал Секонд. — Высокие проблемы мироздания и эсхатологии обсудили, а по сути ты мне так ничего и не сказал. И видишь, в чём беда — настолько мы с тобой за последний год…
— Полтора, — уточнил Фёст.
— Неважно. Настолько мы психологически изменились после перевала, что как я ни стараюсь вычислить твой замысел — не получается. Ясно, что каждое твоё сегодняшнее слово и действие должны были подвести к разгадке, а вот никак! Так что открывай карты, сдаюсь.
Собеседник довольно кивнул. И словам аналога и собственным мыслям. Он этого и хотел. Окончательно обозначить позиции, пусть в этом и не было особой нужды. На его территории Секонд в любом случае оставался вторым, однако придётся играть и на его поле. Так чтобы и там всё было ясно.
— Видишь ли, братец, мы с тобой пришли к единому мнению. В данной ситуации на нашем уровне сделать ничего нельзя, да и на любом другом тоже. Аксиома. В стране с подобием демократии, но отсутствием почти равной по силам оппозиции справа и слева, а также «гражданского общества», никакие кардинальные перемены невозможны. Волович называет такую ситуацию застоем, даже гниением, кое-кто — я в том числе — стабильностью, дающей шанс на пусть медленное, но поступательное движение. Слишком медленное, на мой взгляд, моей жизни может и не хватить, чтобы насладиться плодами цивилизации.
К нашему глубокому сожалению, гвардии или тайной полиции, кастово-замкнутых структур, но имеющих собственный политический интерес и волю к его достижению, как у вас, в моей России тоже нет. Тупик?
— Похоже. Чего проще — плюнь и переселяйся, как Лариса, к нам в Кисловодск. Все твои проблемы разом исчезнут, — не то в шутку, не то всерьёз предложил Секонд. — И предоставь этих людей их судьбе. Всё же — Главная историческая, как-нибудь разберутся.
— Нет, — тихо и очень серьёзно ответил Фёст. — Это — мои соотечественники, моя страна. Как говорил персонаж одного некогда популярного романа: «Сердце моё полно жалости. Я не могу этого сделать». И вторая цитата из книги тех же авторов: «Кому я нужен — беглец в коммунизм?» И, наконец, третья: «Нельзя изменить законы истории, но можно исправить некоторые человеческие ошибки. Эти ошибки даже должно исправлять. Феодализм и без того достаточно грязен». «Феодализм» безболезненно можно заменить на любую другую историческую формацию.
В глазах его и в голосе читались неподдельная грусть и что-то ещё, Секонду не совсем понятное. И вправду, они стали слишком разными.
И почти сразу аналог стряхнул с себя минор, открыл спрятанный внутри большого старинного глобуса бар, извлёк чёрную пузатую бутылку.
— Настоящий ямайский ром. Где ни попадя его не купишь. Из двадцатых годов сюда доставлен. Давай причастимся, и ты наконец сам увидишь, какие у меня планы.
В дальней комнате за кухней, в давнопрошедшие времена, скорее всего, обитала прислуга, а затем Лихарев оборудовал там весьма богатую лабораторию и мастерскую. Левашов в её оснащение внёс и свой вклад. Обширное, двадцатиметровое помещение заполняла масса приборов современных, а также семидесятилетней давности. На отдельном столе размещались монитор и пульт управления до предела упрощённого варианта базовой СПВ. Ещё примитивнее того, с которого всё начиналось. Но для целей Фёста этого было достаточно.
Он потрудился над своей внешностью, чтобы изменить её до полной неузнаваемости. Знал, что завтра его портрет будет размножен в миллионах копий и каждый участковый, каждый опер любой из имеющихся в стране официальных спецслужб, также (весьма вероятно) органов внутренней безопасности солидных преступных группировок получит свой экземпляр.
Игра начиналась отчаянная, веселящая кровь. Давайте, господа — друзья — товарищи, посмотрим, чего стоите вы и чего — я! Секонд наблюдал за его действиями со сдержанным интересом. Пусть братец отвяжется по полной, как здесь принято говорить. План у него и вправду был отчаянный, но главное — остроумный. Если что пойдёт не так, подстраховку ему обеспечим, но не раньше, чем вынудят обстоятельства. Иначе — просто не спортивно.
Фёст посмотрел на часы, погладил бороду в стиле Александра Третьего, коснулся пересекавшего лоб и правую бровь сабельного шрама. На ВИД в гриме ему было лет сорок пять, и для своей реаьности он выглядел чересчур экзотично. Такого персонажа в светской компании вряд ли встретишь. На задворках Казанского вокзала — вероятнее, но одежда и манеры окажутся попроще.
— Наверное, господин президент уже вернулся домой. Даже ему когда-нибудь нужно отдыхать, — сказал Вадим сочувственно, набирая на пульте известную ему комбинацию.
Экран засветился, на нём несколько секунд помелькали стремительно сменяющиеся, размазанные картинки, наконец одна зафиксировалась.
Довольно просторная комната с массивным кожаным диваном, двумя креслами, журнальным столиком. На полу скромного вида ковер, на стенах несколько акварелей в тонких рамках. В одном из кресел — президент России собственной персоной. Одет попросту, в зеленоватую вельветовую пижаму. В руках чайная чашка. Смотрит прямо в экран.
Понятно — не в этот. В телевизионный, где как раз идут полуночные новости.
— Значит, начинаем, — сказал Секонду Фёст и отчего-то вздохнул. Почему — «отчего-то»? Ясно и понятно. Теперь и здесь с первым его словом жизнь наверняка покатится по другой колее. Куда — бог весть. Но хуже не станет, в этом он был уверен.
Он повернул рубчатый верньер на четверть оборота. На этой модели не было никаких мышек, джойстиков и прочих современных наворотов. Всё просто и грубо, как на армейской радиостанции «Северок» времён Отечественной войны.
— Здравствуйте, господин президент, — сказал он негромко и вежливо.
Глаза президента расширились. Ещё бы — вместо дикторши новостной программы перед ним возник тот ещё тип, персонаж боевика по мотивам романов Сабатини.
Первая мысль, конечно, — сбой канала. Крайне мало вероятно, разумеется, да ещё и фраза, как бы лично к нему обращённая. Но что же другое?
Выдержка у президента была на уровне. Он медленно отставил чашку и слегка наклонил голову, ожидая продолжения.
— Да, да, я именно с вами говорю. И можете свободно отвечать, связь у нас двусторонняя…
— Как это возможно? Здесь нет модема для подключения к Интернету, — спросил глава государства, внешне держа себя в руках. А то ведь чёрт знает, что за провокация…
— Естественно. И подходящего компьютера тоже, и оптоволоконного кабеля. Да вы, для простоты, можете свой телевизор выключить. И питание во всём доме отключить — роли не играет. Разве доверия к моим словам прибавится.
Президент так и сделал, щёлкнул пультом.
— Вот видите? Не нужно вызывать охрану, она ничем не поможет. А вам и так ничего не угрожает. С моей стороны, — счёл Вадим нужным уточнить. — Завтра дадите поручение хоть ФСБ, хоть Академии наук разобраться в данном феномене. А сейчас я бы хотел просто немного поговорить. Не каждому удаётся вот так, попросту, без свидетелей и протокола, — Фёст постарался улыбнуться располагающе, но при его шраме это не очень получилось.
— Хорошо, давайте попробуем. — Голос президента звучал ровно, однако Фёст догадывался, какой вихрь переплетающихся и сталкивающихся, взаимоисключающих мыслей бушует сейчас в голове собеседника. — Представиться не желаете?
— На данном этапе знакомства называйте меня Александр Александрович, — ответил Фёст, имея в виду царя-миротворца, чей облик попытался себе придать, и те идеи, которые собирался донести до своего визави. — Впоследствии, в зависимости от развития наших отношений, возможно, я представлюсь по-настоящему. Вас это не очень задевает?
— Нет, ничего. Я вас понимаю, хотя вообще-то вы ведёте себя опрометчиво…
Фёст намёк понял.
— Напрасно вы так думаете. Поскольку я принадлежу к типу пресловутого «сумасшедшего изобретателя» из старых романов, используемое мною устройство современными техническими средствами не идентифицируемо. И может находиться далеко за пределами досягаемости каких угодно спецслужб. Вы ведь не станете спорить, что ни о чём подобном не слышали и даже отдалённо не представляете, как подобная связь может осуществляться?
— Пожалуй. Но я не специалист.
— Если бы хоть кто-то в мире только начал приближаться к идее двусторонней межпространственной связи, вам бы непременно доложили…
— Тоже верно.
Президент окончательно взял себя в руки и даже улыбнулся. Располагающе, как очень хорошо умел.
— Я бы мог использовать своё изобретение в каких угодно неблаговидных целях. Продавать бы стал, что вы! Но вот заглянуть в любое место, как к в вам заглянул, получить самую конфиденциальную информацию: финансовую, политическую, любую личную, пригодную для шантажа — без вопросов. Но я хочу использовать его на благо России. Без всякой корысти.
— Откуда мне знать, что вы уже не делали того, о чём сами сказали только что?
— Логика, господин президент, самая простая гика. Вы ведь её изучали. К чему мне в таком случае засвечиваться перед вами, человеком, который способен заставить полстраны землю носом рыть, чтобы разыскать меня и моё убежище? наверняка это будет сделано, я не обольщаюсь, хотите, я вам продиктую список поручений, которые вы непременно раздадите своим сотрудникам через пять минут после завершения нашей встречи? Единственное, что вас может остановить, — страх показаться в глазах прислужников сумасшедшим. Если бы, допустим, у вас сейчас работали камеры видеозаписи… Но их нет, я проверил.
— Может быть, вы оставите свой тон и манеру? — спросил президент. — Я уже понял всё, что вы подразумеваете, Александр Александрович. Страсть к дешёвой риторике не есть признак по-настоящему уверенного в себе человека.
— Я не самовыражаюсь, как вы стандартным образом подумали. Я настраиваюсь на нужную тональность. Раньше не имел удовольствия быть лично с вами знакомым, ну и захотелось уточнить, чем вы отличаетесь от экранного образа.
— Настроились? Тогда к делу.
— Вы не курите? — спросил Фёст, тщательно зажигалкой вокруг кончика сигары. — Напрасно. Те великие вожди XX века, что курили, выиграли у некурящих всё, что можно. Сталин, Черчилль, Рузвельт. Против них Гитлер, Муссолини. Интересно, правда? И дело не только в том, что никотин стимулирует нервную систему. Тут ещё и элемент из репертуара престидижитаторов.[10] Вы и без того напряжены, общаясь с сильным партнёром, а он вдобавок отвлекает ваше внимание на манипуляции, сам при этом выигрывая время для наблюдений и размышлений.
— Вы — позёр? — сделал свой ход президент.
— Естественно, но не только. Как же иначе? Будь я ботаником-интравертом, рискнул бы броситься в такую авантюру? Но, действительно, пора и к делу. Если совершенно в нескольких словах, то так: я истинный патриот России, имеющий достаточное число единомышленников, в определённой мере разочарован вашей деятельностью на своём посту. Хотя в целом поддерживаю, так сказать, Генеральную линию, — счёл нужным уточнить Вадим. С лёгкой такой, едва уловимой усмешечкой, с которой получал некогда приз за скоростную стрельбу из пистолета от начальника политуправления округа.
— Неприятно слышать такую оценку. От вас. От других много гораздо худшего наслышался.
«Как же он задет, — подумал Фёст, — то есть, грубо говоря, „спёкся“. — Это уже школа Шульгина дала о себе знать, с его логиками. — Он, при всём интеллекте и информированности, не понимает, что происходит. Потерял контроль над ситуацией. Таким психотипам это дико некомфортно. Давление среды, от которого успел отвыкнуть.
И вдруг прямо в лоб — следующий тычок. От неизвестной личности, явно в этом раскладе доминирующей. И ничего нельзя сделать. Отключиться не получилось. Встать и уйти — жалко выглядеть будет. И где гарантия, что все остальные телевизоры в доме не продолжат сеанс, причём — невзирая на посторонних. Если жена увидит, ладно, а если… То есть терпеть придётся. Пока собеседник не скажет всё, что хочет».
Ох, как не завидовал сейчас Ляхов-первый президенту великой державы…
И тут же остановил полёт вдохновлённой Шульгинскими апориями и антиномиями мысли, тем более что напротив него сидел Секонд, слушал беседу и откровенно развлекался, то растягивая рот до ушей, то подмигивая. И вдруг сделал пальцами давний, с юности понятный обоим секретный жест.
Точно. Следует остановиться и позволить собеседнику сделать собственный ход. Одно дело — заводить главаря пацанской группировки с соседней улицы, совсем другое — такого человека.
— Вы мою оценку в голову не берите. Это я тоже под влиянием плохо контролируемых эмоции сказал. Давайте взаимно успокоимся, я сначала о сути своего изобретения расскажу, об устройстве для пространственно-временного совмещения сколь угодно удалённых друг от друга точек мирового континуума. Ничего особенно сложного вся разница лишь в том, что у нас на Земле до последнего времени такие вещи можно было проделывать с двухмерными объектами из третьего измерения, а мы оперируем трехмерными — через четвёртое. Всего лишь. По ходу изложения можете задавать интересующие вас вопросы… Кое о чём, попутно, и сами догадаетесь…
— И всё-таки — что вы мне собрались предложить? — спросил президент, когда Фёст закончил говорить, почти докурив сигару. Понятное дело, ему восхититься открывшимися перспективами и виртуально кинуться на шею с криком «Спаситель ты мой» — никак невозможно. Не той психологии люди, достигшие подобных постов. За крайне редким исключением.
Придётся сказать впрямую.
— Вы наверняка читаете хоть какую-то прессу? Если только для вас не печатают газеты в единственном экземпляре, как для умирающего Ленина, и не гонят по ТВ личный канал. Знаете, что происходит в стране? Нет, я не о вообще всём, что происходит. Меня, с моим складом мышления и усвоенной из трудов Ленина идеей о необходимости искать то звено, за которое можно вытащить всю цепь, в данный момент больше всего интересует и тревожит коррупция. Готов согласиться, что для России это естественный образ жизни и образ мысли. Но должны ведь быть какие-то рамки! Ничего не имею против того, что гаишник берёт с водителя сотню, чтобы тому не толкаться в очереди в сберкассу. Вы пробовали когда-нибудь заплатить штраф на законных основаниях? Очень советую. В виде Гарун-аль-Рашида. И сотня водопроводчику беды не представляет. Ему хорошо, и вам удобно. Я о другом.
Вас действительно не удивляет и не оскорбляет ситуация, когда заместитель министра обороны или глава субъекта Федерации разводит руками перед вами или даже перед судом: «Не знаю, не могу объяснить, куда делись сто миллионов долларов. Да и были ли они вообще?» И отделывается публичным порицанием или, что верх жестокости — получает девять лет условно!
Вы же юрист, не технократ какой-нибудь, должны знать, что сие даже за пределами нашего довольно дурацкого Уголовного кодекса. И вы на то спокойно смотрите… Второй пример — из казны просто так исчезают пять миллиардов раскрашенных бумажек, и ведомства, поставленные на то, чтобы найти расхитителей и жестоко наказать, начинают азартно мешать друг другу вести расследование. Не останавливаясь ни перед чем. Трупы уж точно не считают. Хотя в чём вопрос? Вот отправитель суммы, вот получатель. Посадите обоих и всю промежуточную цепочку в банальную пресс-хату,[11] о существовании каковых вы тоже должны знать, до нынешнего поста какие-то книжки читали. Дня через три получите полную картину всех трансферов и трансакций на вверенной вам территории. Под угрозой пожизненного заключения мало найдётся железных людей, замкнувших рот на замок, а ключ выбросивших в канализацию.
Этого не делается. Вот почему, господин президент, у меня и моих друзей появились серьёзные претензии лично к вам. Вы что, ни о чём действительно не знаете? Или отчётливо понимаете, что проявить политическую волю вам просто не позволят, оттого и предпочитаете махнуть рукой? Пусть всё идёт, как идёт?
Третий вариант я предпочитаю не рассматривать, — эту фразу он произнёс с печалью и сожалением в голосе. Сам, мол, додумывай, о чём я.
Ляхов-первый, словно бы сам донельзя выбитый из колеи своим монологом, принялся раскуривать новую сигару, а Второй показал ему большой палец.
— Если бы мы считали, что вы относитесь к тому же клану, никто не захотел бы с вами разговаривать. — Фёст глубоко затянулся, что категорически не допускалось правилами хорошего тона. — Вопреки мнению некоторых товарищей, я постарался доказать, что вы не безнадёжны…
— Спасибо, большое спасибо, — всё ещё держал марку президент. Но стоило это ему почти уже непомерных усилий.
— Да вы расслабьтесь, — сказал Фёст. — Я как врач советую. Прямо сейчас примите грамм полтораста, сразу легче разговор пойдёт. На публике, может, и неудобно, а для себя — вполне. Ни Черчилль, ни Ататюрк, ни Маннергейм не брезговали. Хотите — угощу.
Он подвернул верньер, привёл аппарат в режим «одностороннего окна» и поставил на телевизорный стеклянный столик в комнате президента бутылку «Курвуазье».
— А это могла быть и граната, вы согласны? — Фёст позволил себе сочувственную усмешку. — Четыре секунды — и новые выборы назначай.
Клиента нужно дожать, учил Александр Иванович. Это удалось вполне. Более растерянного человека Вадим в своей офицерской и прочей жизни, пожалуй, не видел. Одно дело — слышать разглагольствования странного типа о перемещении предметов через пространство и время, другое — увидеть подобный фокус наяву. По-прежнему не верится — встань, возьми, попробуй…
— Что вы пить из подаренной мною бутылки не станете, я догадываюсь, — сказал Фёст убедительным тоном. Ему нужно было перевести собеседника в уровень равноценного общения. И это, похоже, удавалось.
— Забудьте на минутку, кто вы и кто я. Поговорим, как простые солдаты. Я по званию полковник медслужбы, в основном в морской пехоте служил, близко к этому, пусть и Верховный Главнокандующий, исходя из должности. Скажите мне, опять же, как врачу, вас очень мучает комплекс Павла Первого?
— Это вы о чём?
— Исключительно о том, что боитесь ли вы, если вдруг придут к вам в резиденцию, как к тому Михайловский замок, близкие друзья, да и вмажут золотой табакеркой в висок, а потом шёлковым шарфиком додушат…
Фёст усмехнулся кривой, совсем уже ничего хорошего не обещающей улыбкой.
— Не сомневаюсь, эта мысль непрерывно крутится у вас в голове. Вечная беда нерешительных Реформаторов. Получится — не получится? Отстранят или свергнут? Убьют или посадят? И генетический страх волевого решения — резко, окончательно, не задумываясь о никчёмных мелочах, развернуть ситуацию.
Чего вы боитесь, президент? Начните вы действовать, как подобает мужчине, вождю, властителю, — девяносто процентов «электората» вас будут носить на руках! В армии, полиции, прочих службах всегда найдётся несколько батальонов верных офицеров, которые за вами, при доходчиво сформулированной задаче — в огонь и в воду. Так решайтесь же!
Президент, как и предполагалось, ни его бутылки не взял, ни из своего бара себе не налил. А зря.
— Решаться — на что?
— Я считал вас более сообразительным человеком. Стать кровавым диктатором я не предлагаю. Да у вас и не получится. Я сегодня, совершенно случайно, пробежал близкую к официозу газетку, — поднял и показал выделенную статью.
— Частный пример, но показательный. Члены созданного якобы вами (или при вас) совещательного органа открыто, на всю страну заявили, что никаких путей преодоления коррупции в системе высшего образования нет, а главное, быть не может. По тем-то и тем-то причинам. Читали?
— Ещё нет.
— Напрасно. Я читал, а президент — нет. Смешно. Но это вы там собрали полторы сотни дураков или провокаторов, которые несут подобные идеи в массы. Да в массы — хрен с ними. Они власть в таком убеждают. А она — верит. Одни воруют, а те, кто не ворует, вы, например, — верите.
— Границы приличия — не переходите? — спросил президент.
— Какие границы? Если сами не понимаете, кто-нибудь ведь должен правду сказать? Раньше цари и короли для таких целей шутов держали. Пусть я таким шутом сейчас выгляжу. Только — технически более оснащённым. Вы тоже уверены, что коррупция непобедима?
— Вы знаете, пожалуй — да. Слишком укоренённое и распространённое явление. Ремонт здания с разрушения фундамента не начинают…
— А я скажу — нет! Вам про Сингапур никто рассказывал? Будете там с государственным визитом — найдите время, поинтересуйтесь. А знаете, как при царе Александре Третьем, на которого я странным образом похож, одномоментным указом и контрабанду, как явление, ликвидировали, и коррупцию в пограничных и таможенных органах? Очень просто. При задержании контрабандистов чины, в том деле участвовавшие, получали шестьдесят процентов изъятого! Для честной делёжки. Остальное — в казну. И никто не жлобился, как ваши чиновники. Эти — солдатам на фронте положенные боевые не платят. Между собой делят. А при царе честнее было: заслужил- получил! Оттого контрабанда, как явление, потеряла всякий смысл. Взятку больше шестидесяти процентов стоимости товара не дашь. Просто Нажеваться не стоит. Зато престиж службы и Государя Императора возросли неимоверно. Не приходилось читать?
— Нет, — честно ответил президент, неожиданнo для себя начавший получать странное удовольствие от разговора с непонятным, но весьма неординарным человеком.
— Жаль, — вздохнул Ляхов. — Тогда хоть кассету с фильмом «Белое солнце пустыни» прикажите принести. И задумайтесь — отчего это Верещагину «за державу обидно», а вашему окружению — нет. Вот если бы вы сегодня издали подобный указ, мол, любой гражданин, доказательно, я подчёркиваю — доказательно сообщивший о факте коррупции, хоть в школе, хоть в больнице и Госдуме, получил бы шестьдесят процентов движимого и недвижимого имущества обвиняемого, процесс сошёл бы на нет сам собой. Помните, при царе Алексее Михайловиче — «Государево слово и дело!» Не доказал — доносчику первый кнут. Доказал — никто не защитит виноватого. Особенно, если нижестоящий коллега, разоблачивший недобросовестного судью или прокурора, получит вместе с его имуществом и его должность.
— Как вы всё примитивно понимаете, — вздохнул президент. В Китае, на который у нас коммунисты чуть ли не молятся, коррупционеров на стадионах расстреливают, а процесс движется по нарастающей. А в нашей богоспасаемой родине? Развернётся такая вакханалия доносительства, взаимное подсиживание, «охота на ведьм»… Новый тридцать седьмой год. Десять человек всегда могут сговориться и посадить, обобрать до нитки единственного честного… Такое — представляете. И что тогда?
— Всю жизнь меня мучила проблема, — вздохнул Фёст. — Отчего все мои начальники глупее меня? Не от личной гордости страдал, от обиды за Отчизну. Выходит, и вы такой же… Неужели непонятно, что с лжедоносчиками справиться не в пример проще, чем с тотальным воровством и продажностью. Особенно, если всё будет делаться предельно гласно и любой гражданин страны в каждом конкретном случае сможет выступить как на стороне обвинения, так и защиты. Веря при том, что Власть его не сдаст! На каждый Шемякин суд найдётся Государево Око!
— Послушайте, Александр, или как вас там… — резидент потерял ту психологическую нить, вдоль которой они могли бы выстраивать что-то взаимоприемлемое. — Скажите прямо, что вам от меня нужно, где в ваших инвективах позитив? Креатив,[12] как некоторые любят говорить…
— Вот, наконец-то! — обрадовался Фёст. — Господин-товарищ президент, вы с вашим очень неплохим образованием и служебным опытом догадались, что я не дурака валяю, что дельные мысли до вас пытаюсь довести, пусть и не совсем обычным способом.
Вадим увидел, что достиг своей цели. Президент подскочил с кресла, начал быстро расхаживать по просторной комнате, то и дело оглядываясь на экран, когда он оказывался у него за спиной.
— Я, то есть мы, хотим, чтобы вы стали настоящим лидером нации. И нашим другом. Не потому, что нам что-то от вас нужно. Скажите только — через пятнадцать минут во дворе вашей дачи мы выгрузим столько золота или цветных бумажек, что нефтью десять лет торговать не потребуется, или лучше восьмиполосный автобан Владивосток — Калининград наконец построим. С эстакадой над Литвой, на высоте, выходящей за пределы её юрисдикции. Пока шучу, но технически это возможно.
Одним словом, мы предлагаем вам собственную программу. Детализирую — вы продолжаете воплощать в жизнь свою собственную, но с нашими коррективами. Мы вам гарантируем полную безопасность с любой стороны. И помощь в проведении, скажем так, непопулярных мероприятий, к которым лично вы не будете иметь никакого отношения. У нас есть собственный инструмент принуждения и возмездия. «Чёрная метка». Уж о ней вы наверняка слышали в прошлом году, когда неизвестно куда делось некоторое количество весьма коррумпированных личностей, а пара десятков отпетых отморозков рассталась с жизнью. И, вы это тоже должны знать, ни по одному случаю никакие структуры не добились никаких результатов. Ну настолько никаких, что даже самый липовый отчётик придумать не получилось. Стопроцентные «висяки».
— Так вы и к тем событиям отношение имели? — с долей оторопи спросил президент.
То, что в «Братстве» получило кодовое обозначение «Снег и туман», доставило массу неприятностей, головной боли и бессонницы очень и очень многим важным людям. Но из ситуации выбравшимся, примерно как немцы из зимних боёв под Москвой сорок первого года.
— Кто же ещё, господин президент? Соперников на этом поле у нас нет и вряд ли появятся, поскольку любой честный человек в России, от участкового инспектора райотдела милиции до генерала, всегда предпочтёт помогать нам. Думаете, людям не осточертело про «оборотней в погонах» каждый день слышать?
— Мне помнится, кое-где организации такого типа назывались «эскадроны смерти», — уклонившись от ответа по существу, президент произнёс эти слова со всей возможной неприязнью в тоне. — Бессудный террор, вы к нему призываете катиться? Вам не кажется, что…
— Ни в коей мере не кажется. — Фёст наконец нашёл должную пропорцию в тональностях и сути произносимых слов. — Если в стране парализована не только правоохранительная система, но у «элиты», по преимуществу, патологически деформированы архетипы[13] добра, зла, греха и в этом роде, терапией не обойдёшься. Хирургическое вмешательство рискованно, кроваво, но подчас неизбежно. Лучше ампутация ноги, чем газовая гангрена. Я учился на врача, я знаю.
И насчёт «бессудности» вы зря говорите. Особенно при нынешних «судах». После нескольких «показательных порок» все прочие сообразят, куда ветер дует. Когда-то Каддафи в Ливии проводил санитарную акцию под девизом: «Откуда у тебя это?» Любой гражданин, не способный документально подтвердить источники своего благосостояния, подвергался конфискации до уровня законного дохода. А наш великий полководец любил повторять: «Каждого интенданта после пяти лет службы можно вешать без суда».
Негуманно, разумеется, но тут уж или — или!
— Я убедился, что вы действительно сделали одно из величайших открытий в истории, — осторожно подбирая слова, ответил президент. — Вот бы я и посоветовал вам продолжить работу в этом направлении. Хотите, я распоряжусь, завтра же вам предоставят научно-исследовательский институт с необходимым финансированием? Мне трудно сразу вообразить все сферы применения вашего изобретения, но, безусловно, это будет революция в целом ряде областей…
Фёст рассмеялся, протянул руку и забрал бутылку с телевизионной подставки.
— Видите? Точно так я могу взять любую сумму из хранилищ форта Нокс, любого банка в любой точке Земли. Что мне ваше финансирование? Могу в одном месте взять атомную бомбу, в другом её взорвать. Но, предположим, я — пацифист, альтруист и гуманист. Если у вас хорошее воображение, представьте, что случится на планете, если о моей установке СПВ станет известно кому-то кроме нас с вами и тех людей, которые имели отношение к её созданию? Так что всё-таки сначала нужно привести страну и мир к более вменяемому состоянию, а уже потом…
Он прервал свои морализаторские речи. Заговорил коротко и жёстко.
— Вот список, просмотрите. — Вадим переложил на ту сторону лист бумаги. — В нём пятнадцать фамилий людей, крайне опасных для страны и общества. Вообще, с любой, самой толерантной точки зрения. Вдобавок каждый из них является вашим злейшим врагом, готовым на всё. Если вы об этом не догадывались — тем хуже для вас. Если догадываетесь, но чего-то выжидаете — рискуете опоздать.
Подождал реакции. Президент молчал, вглядываясь в список, будто впервые видел эти фамилии и старался их заучить наизусть.
— Против четырёх стоят крестики. Выборка случайная. Эти люди сегодня попадут в крайне неприятные и одновременно — вполне естественные эксиденсы. Так для них карта легла. Поверьте, каждый из них давно заслужил высшую меру, у нас, к сожалению, отменённую. Но судьба выше политических жестов. Поэтому, господин президент, я на этом с вами распрощаюсь. Не знаю, что к вам поступит раньше, сводки МВД или телевизионные новости. Мы своих комментариев в прессу давать не будем. «Брать на себя ответственность» — тоже. Случай и есть случай. Пусть журналисты поупражняются.
А вы изучите информацию, подумайте, напрягите свои службы. Хочется верить, они вам подтвердят, что ни один из тех, с кем случится до восхода солнца несчастный случай, невинным агнцем не был. Как минимум — со дня окончания средней школы. Я, возможно, снова повидаюсь с вами завтра в это же время. Или — несколько позже.
Экран телевизора погас, несколько секунд оставался черным, и снова на нём появилось изображение дикторши, бодрым и несколько взвинченным голосом продолжавшей сообщать слушателям итоги дни. Такого же, как все предыдущие, не лучше и не хуже.
Сорок восьмой Президент САСШ Джеральд Доджсон обратился к Императору возрождённой Российской Державы Олегу Константиновичу по полуофициальному каналу. Не напрямую, потому что специальной телефонной линии между Белым Домом и Кремлём ещё не было установлено, а через посольство, только что переехавшее из Петрограда. Заранее предупреждённые связисты быстро, как на фронте, протянули кабель особо защищённой связи с Моховой до Кремля. Поверху, по обычным столбам уличного освещения. Всего-то на полкилометра, даже меньше. К американскому линейно-батарейному коммутатору подключили свой, рассчитанный на пропуск специально модулированного сигнала.
— Я вас слушаю, Джеральд, — сказал Император, когда полковник с молниями на жёлтых петлицах подал ему трубку.
— Здравствуйте, Олег, — начал президент по русски. Имя американец произнёс легко, а на «Константиновиче» наверняка бы запнулся, отчего и пропустил.
«Интересные люди, — пренебрежительно подумал самодержец, — считают себя солью земли, а фонетикой не владеют. Любой русский свободно выговорит „Йокнапатофа“ или „Попокатепетль“, а эти… Даже выкарабкивающиеся на берег лягушки им не под силу».
Однако ответил вежливо:
— Рад вас слышать.
И тут же перешёл на английский. На очень хороший английский, оксфордский, по сравнению с которым луизианское произношение президента звучало забавнее, чем малороссийский крестьянский суржик.
— Вы первый, кто решил со мной поговорить напрямую. Официальные телеграммы с поздравлениями и аккуратные ноты наших европейских коллег не в счёт. Я это ценю.
— Разве вы не получили гораздо более тёплых писем от представителей родственных вам Виндорской, Голштейн-Готторпской и иных династий?
— Если бы даже и да, это не имеет принципиального значения. До тех пор, пока они не располагают в своих странах сколько-нибудь значительным влиянием. Вы это понимаете не хуже меня, Джеральд. Но не будем терять времени. Чем вызван ваш звонок? Неужели президент САСШ вспомнил далёкий тысяча восемьсот шестьдесят третий год?[14]
— Скорее — тысяча девятьсот тридцать первый.
— Продолжайте. — Олег закурил папиросу. Игра начинала удаваться.
— Я предлагаю вам личную встречу. На уровне официальной дипломатии это сложно. Но я знаю, что вы не только великолепный политик, но и учёный. Уссурийская тайга, вообще Дальний Восток входит в сферу ваших давних интересов. Сейчас у меня на столе лежит книга Олега Романова «По следам Арсеньева». На этот раз я правильно произнёс фамилию Владимира Клавдиевича?
«Не прост Джеральд, не прост», — подумал Олег.
Американец заговорил по-русски почти безупречно.
«Тем интереснее…»
— Слушаю дальше. — Император тоже вернулся к родному языку. Вообще, с точки зрения протокола, это не совсем верно — главы государств должны разговаривать каждый на своём, чтобы в случае чего недоразумения возложить на переводчиков, и суверенность, вдобавок, подчёркивается. Но сейчас считалось, что общение личное, с глазу на глаз, и Доджсон пытался заранее расположить к себе собеседника, с которым раньше не встречался.
— Может быть, вы возьмёте отпуск, и мы повидаемся… На острове Святого Лаврентия вас устроит?
— С удовольствием! Давно в те края собирался. Русский царь любит свою страну и должен знать её, как хороший помещик — имение. Я прилечу. Когда?
— Если у вас нет более важных забот, прямо завтра и вылетайте. Сумеете?
Олег пожал плечами, пусть этого телодвижения по телефону увидеть нельзя.
— Естественно. Что может быть более важным, чем возможность в приватной обстановке обменяться мнениями с таким человеком, как вы?
Большинство даже сравнительно образованных людей привыкло считать, что Америка очень далека от России. Из Москвы до Нью-Йорка самолёт летит девять часов, до Сан-Франциско — четырнадцать. А на самом деле на обычном снегоходе в САСШ можно доехать за час. Из Уэлена или с острова Ратманова до Нома. Просто — с другой стороны. Через Берингов пролив.
Американский остров Святого Лаврентия расположен в ста километрах от порта Провидения, что на российской стороне. Там военно-воздушная и военно-морская базы, город со стотысячным населением. У американцев тоже аэродром и пункт захода подводных лодок. Благоустроенный посёлок, нечто вроде курорта для любителей северной экзотики. Хорошее место для встречи.
Императорский реактивный самолёт преодолел путь до Провидения по дуге Большого круга всего за восемь часов. Остаток дня и вечер Олег провёл в общении с местными жителями. Губернатор, едва успевший примчаться к трапу из Анадыря, суетился позади, среди свиты. На него Величество, после дежурных протокольных фраз, почти не обращал внимания.
А народ был счастлив. Для каждого обывателя, оказавшегося поблизости, Император находил свое, когда серьёзное, когда шутливое слово. Предложил, ещё по Уставу Петра Первого, высказать личные претензии выстроенным на плацу (по отдельности) нижним чинам и офицерам гарнизона.
Кое-кого осчастливил — без этого самодержцу нельзя. Пожилого многодетного капитана, отслужившего «на северах» без продвижения десять лет, велел перевести в Крым с производством в следующий чин. Всем прочим офицерам объявил, что по выслуге пяти лет соизволяет замену в любой гарнизон России по желанию. Сверхсрочным унтерам, «беспорочным», накинул по лычке, нескольких казачьих вахмистров произвёл в хорунжие, рядовым вдвое повысил денежное довольствие и удлинил до трёх недель ежегодный отпуск (не считая дороги).
Страху навёл только на гражданских чиновников, вспомнив реакцию Николая Первого на «Ревизора».
Утром на вертолёте, сопровождаемом российскими четырёхмоторными летающими лодками «Г-200» и двумя американскими истребителями, Император вылетел на Лаврентий.
Встречу Доджсон устроил, исходя из возможностей, по первому разряду. Невзирая на туман с дождём и порывистый северный ветер, вышел на посадочную полосу в визитке с полосатыми брюками и в лакированных туфлях. Адъютанты с трудом удерживали над ним огромные зонты, всё время выворачивающиеся из рук. Вдоль бетонки змеями струились водяные вихри.
— Бедняги, — иронически бросил свите Олег, предусмотрительно надевший утеплённый офицерский костюм, высокие сапоги и сверху — непромокаемый плащ-накидку. — Куда им воевать? — Он имел в виду солдат из взвода якобы почётного караула, сжимавших винтовки посиневшими от холода руками. — Распорядитесь угостить их вместе с нашими морпехами после церемонии. Как положено. И каждому — медаль «За усердие». Хватит?
— Так точно, хватит, — ответил войсковой старшина Миллер. — И медалей хватит, и всего остального. Лишь бы их президент разрешил.
— Договоримся. — Олег с удовольствием посмотрел на своих сопровождающих. Морские пехотинцы Тихоокеанского флота, тоже взвод, как по протоколу положено, невзирая на погоду, выглядели очень браво. Береты, надвинутые на правую бровь, чёрные мундиры, белые перчатки, автоматы поперёк груди. Что им какой-то дождь, если до самой глубокой зимы в ледяное море с десантных кораблей приходится прыгать и брести до берега, ломая грудью лёд, пока он это позволяет. Зато потом десятикилометровый марш-бросок по тайге очень неплохо согревает.
А физиономии у наших бойцов какие! Ни малейшего сравнения с «товарищами по оружию». Олег, отдав положенное приветствие президенту и караулу, наплевав на протокол, под локоть повлёк Доджсона в здание. Как будто был здесь хозяином.
— Вы, Джеральд, совсем с ума сошли. Зачем это представление? Простудитесь ведь Север бл… Никогда не любил. В тепло, переодеться и немедленно выпить. В наши годы к здоровью нужно относиться со всем вниманием. И — никаких журналистов.
— Их здесь вообще нет. Я вылетел по личным делам в неизвестном направлении.
— Ну, да. А завтра вы объявитесь где-то на Гавайях, я — во Владивостоке. И — никаких комментариев. Так какова у нас повестка дня?
В отличие от официальных встреч глав государств ни президент, ни Император не взяли с собой руководителей внешнеполитических ведомств, вообще никаких важных чиновников, только личных секретарей. Действительно, абсолютно частная встреча. Доджсон решил примерить на себя фрак Вудро Вильсона,[15] признанного любителя персональной подковёрной дипломатии. Да и Франклин Рузвельт[16] предпочитал похожую методику общения с теми, кого считал себе равными.
— … Мир встревожен, Олег Константинович, и вы это знаете, — говорил президент, опять по-русски, любуясь в широкое окно штормовым океаном и дождевыми зарядами, горизонтально летящими над землёй. — Вы сделали заявку на самое кардинальное за семьдесят лет переустройство сложившегося миропорядка. Очень многие уверены, что ваш шаг поведёт к очередной международной смуте.
Слово «смута» он выговорил с особым вкусом, гордясь знанием подобных семантических тонкостей.
— Не человек для субботы, а суббота для человека, — как бы совсем не в тему ответил Олег.
— Простите? — приподнял бровь Доджсон. — Ах да…
— Именно. «Сложившийся миропорядок», на мой взгляд, не имеет самодовлеющего значения. Предназначался он для наиболее рациональной, на тот момент, организации отношений между великими державами после всемирного кровопролития, поддержания «вечного мира», ну и так далее. Но ведь ничто не вечно под Луной. На сей момент идея себя изжила. На наш, конечно, взгляд. Вы можете придерживаться любой другой точки зрения…
— Я не буду перечислять сейчас все доводы, вам наверняка известны не хуже меня. Чем-то ведь ваши аналитики занимаются? Скажу лишь одно, в чём мне неприятно признаваться, но — истина дороже. Экономика России не выдерживает бремени членства в ТАОС. Наши военные расходы и взносы в бесконечные «фонды вспомоществования» непомерно велики. Одновременно во внешней торговле мы сталкиваемся с протекционизмом и демпингом в самых неприличных формах. Вопреки договорённостям, даже вы закупаете аргентинское зерно и мясо, лишая наших помещиков и фермеров заработка. Вы торгуете оружием на свободном рынке дешевле себестоимости… Нужно продолжать примеры? Ещё максимум десять лет, и мы столкнёмся с проблемами, перед которыми те, что могут возникнуть вследствие выхода из Союза сегодня, — не стоящие внимания мелочи. Автаркия[17] для нас — единственный выход. А торговать мы будем с кем хотим, исходя исключительно из конъюнктуры. Никаких преференций одним и санкций против других. Деньги против товара, и пусть потерпевший плачет…
— Простите меня, Олег. — Президент, известный игрок в гольф и в покер, слегка разнервничался. — Я, конечно, пока ещё не уполномочен говорить от имени всего Союза, но, думаю, если вопрос только финансовый, решить его — в наших возможностях. Да и некоторые другие разногласия не носят фатального характера. Готов признать и определённую вину моих предшественников. Они слишком сочувственно относились к интересам более культурно близких, скажем так, союзников, и, по нашей американской привычке, слишком часто думали: «Бизнес есть бизнес, ничего личного». Они не изучали так глубоко, как я, русскую культуру и русскую историю. Но ведь всё ещё можно исправить, без развода и битья фамильных сервизов?
Разумеется, вопрос слишком деликатен, чтобы решать его на Генеральной Ассамблее… Воленс-ноленс, приходится возвращаться к давно вышедшим из употребления традициям непосредственной дипломатии. Народы Свободного мира, стань им это известно, естественно, были бы возмущены. Ведь они — источник власти, а мы лишь избранные ими администраторы…
— Ко мне, слава богу, это уже не относится, — небрежно заметил Олег.
— Вот именно, вот именно. Почему я и избрал такой способ общения. Вы позволите краткую политическую преамбулу?
— Как же я могу не позволить?
— Тогда послушайте. Действительно, мы все упустили момент. Точка невозврата была пройденa примерно в начале шестидесятых годов прошлого века. До этого мы могли бы, пересмотрев свои «основополагающие принципы», начать мягкую экспансию за пределы Периметра. Неоколониализм, да, можно назвать это и так. Постепенно и очень аккуратно инкорпорировать наиболее перспективные в смысле экономики и культуры территории и псевдогосударственные образования. Лет за тридцать создать в мире десятки «очагов роста», развивать там промышленность и культуру, вырастить подконтрольные нам региональные элиты и собственный «средний класс». Причём одновременно не допускать никаких «горизонтальных связей» между этими «квазигосударствами». Никаких военных, политических, экономических союзов. И, разумеется — тотальная демилитаризация. Это было бы проще и дешевле, нежели то, чем мы занимались на практике…
— Естественно, — вставил Олег. — Поделить Землю на протектораты и подмандатные территории. И пусть за пределами периметра каждый член ТАОС «возделывает свой садик».
— Но на это не пошли, ибо итоги Мировой войны оказались столь страшны, что призрак воссоздания новых Империй, пусть и в далекой перспективе, полностью затуманил мозги тогдашним политикам…
— Очень верная оценка. И, добавьте, обсуждать модель, похожую на вашу, считалось просто неприличным даже в научном, не то что политическом сообществе, — с едкой иронией добавил Олег.
— Ну и к чему же мы пришли? — Президент словно вообразил себя на Римском Форуме, не совсем понимая, что он — не Цицерон и русский Император — не Катилина. Подобные речи стоило бы произносить на Генеральной Ассамблее лет тридцать назад, взывая к более авторитетным (в то время) игрокам на Мировой шахматной доске. Но в то время Доджсон играл в бейсбол в на спортивной площадке своего кампуса и ни о чём более серьёзном не задумывался.
— Сегодня Юг — зона неоварварства. Население трущобных городов превышает два миллиарда человек. Это — зоны самовоспроизводящегося социального распада. Туда давно уже не рискуют проникать даже вооруженные подразделения и полиция их собственных «правительств». Но перспективы — гораздо хуже. Впереди — грандиозные конфликты социально дезорганизованного населения с социально организованным (даже на периферии).
В ближайшие годы число агрессивных люмпенов достигнет трёх миллиардов. Ни экологически, ни социально-экономически, ни психологически такой численности, такой обездоленности и отверженности мир трущоб выдержать не сможет, и его обитатели выплеснутся во внешний мир, устремившись туда, где «чисто и светло». Трущобники сначала начнут штурмовать относительно более благополучные страны самого Юга, а затем, сметая всё, хлынут на Север. Удержать их без грандиозных гекатомб не удастся. Придётся объявить всеобщую мобилизацию «белого», условно говоря, населения.
Ещё один важный аспект: основная масса Юга — молодёжь. Демографический провал начинается, когда доля мужчин старше пятидесяти лет превышает в популяции двадцать процентов! В Западной Европе этот показатель — 50 %. На Юге в среднем меньше десяти. С 1930 по 2000 год рост населения «деколонизированных» территорий — в среднем 400–800 процентов. При этом надо учитывать, что южане организованы не только этнически — клановым образом, но и по горизонтали, криминальным. Отсюда и «Интернационал»!
Исход грядущего противостояния мне в целом ясен, тем более что за счёт потери того, что один из ваших русских учёных назвал «пассионарностью», «белые» не способны к всеобщей мобилизации, и уж тем более — к войне на уничтожение, счёт погибших пойдёт на сотни миллионов. Что там Мировая война!
«Восстание низов» грозит перерасти или в глобальную революцию, если у них найдутся союзники в социально более высоких группах, либо в глобальный бунт, бессмысленный и беспощадный. В результате мир погрузится в новые «тёмные века», причём в отличие от раннего Средневековья кризис будет тотальным, охватывая не только социумы, но и биосферу Земли в целом. В условиях всеобщей анархии всё, что можно, — сожрут, а Дальше — глобальная техногенная катастрофа…
И в этих обстоятельствах Россия хочет разорвать и без того крайне хрупкий единый фронт! Нас просто передушат по частям…
Президент, возбуждённый своей эмоциональной вспышкой, вытер вспотевший лоб, поднёс к губам стакан с виски.
— Я вас понял, Джеральд, но ничего нового вы мне не сказали. Мы говорим как друзья, надеюсь? Естественно, в дальнейшем вы мои слова можете передавать хоть коллегам, хоть прессе и трактовать, как угодно, но это будут ваши трактовки… Для всего мира и для истории останется один достоверный факт — президент САСШ пригласил на конфиденциальную встречу Российского Императора. Никак не наоборот…
— И что, по-вашему, из этого следует?
— Только одно. Если по итогам встречи не было опубликовано никакого совместного коммюнике, значит, на ней были достигнуты какие-то тайные соглашения. Скорее всего — за счёт остального мира. А если одна из сторон начинает односторонне как-то её комментировать, значит, она проиграла. И пытается взять подобие реванша. Заведомо невыгодная позиция…
— Я не совсем понял.
— Тут и понимать нечего. Я получаю возможность говорить, не стесняя себя дипломатическими предрассудками, отчего наше с вами общее дело только выиграет.
Византийская вязь императорской мысли, похоже, поставила Доджсона в тупик. Вначале вроде как согласие на полную дружескую откровенность, потом нечто похожее на завуалированную угрозу, попытка «застолбить свой участок» и снова возвращение словно бы и к исходной точке, но с намёком на заранее уже выигранную позицию.
Очень трудно человеку, избранному на высший государственный пост одной из великих держав всего на четыре года, соперничать с якобы коллегой, но принадлежащим к страте, потомственно занимающейся этим делом вторую тысячу лет. Не озабоченному, очевидно, такими «важными вещами», как мнение конгресса, сената, избирателей, наконец! Ему на это — плюнуть и растереть. Самодержец ответственен только перед Народом, Богом и Историей.
— Ваша цель, Джеральд, — размеренно, очень убедительно, с доброжелательным, но в то же время твёрдым лицом говорил Император, — функция или задача, назвать можно как угодно, заключается в том, чтобы убедить меня сохранить Россию в составе ТАОС, одновременно выторговав какие-нибудь преференции для своей страны. Я ещё не разобрался, самостоятельны ли вы в роли политика, избранного судьбой-историей, или же где-то конъюнктурно пытаетесь опередить события и оседлать удачный, на ваш взгляд момент. Или, что самое для меня удобное, просто выражаете согласованное в тиши кабинетов, где собираются члены всяких там «плющевых» и им подобным лиг,[18] общее мнение. К «Хантер-клубу» не имеете гости принадлежать? Хотя вряд ли. Там другой уровень…
Доджсон не выдержал и вскочил, не выпуская из руки стакан, а из угла рта сигару.
— Вам не кажется?! — президенту показалось, что он сумел выразить должную степень возмущения неджентльменским поведением собеседника. Совсем забыв, а точнее, просто не зная, что русские цари и императоры с XV века великолепно умели изображать все положенные европейским владыкам формулы и позы политеса, на самом же деле по собственному усмотрению легко переходили от властных стереотипов византийских императоров к стилю и манерам ордынских ханов. И обратно.
Разве такому за пять или даже двадцать лет в «гарвардах» и «итонах» научишься? А вспомнить тысячелетней давности предка, какого-нибудь скандинавского ярла, Отара из Нидаросса,[19] грязного хама и убийцу, с сотней викингов завоевывавшего тогдашнюю Францию или Англию, — воспитание и политкорректность не позволяют. А иногда бы и не мешало!
— Что мне должно показаться? — мягко спросил Олег. — Вы согласились говорить со мной по-дружески. О судьбах мира, заметьте. А такая высокая цель разве предполагает вспышки мелочного самолюбия? Подумаешь, упомянул, что для членства не в русском, заметьте, в английском клубе ваша должность — не повод. Невместно, батенька…
Президент десять лет изучал русский язык в колледже и университете, свободно на нём читал и говорил, но кое-каких тонкостей всё же не постиг. Ему бы лучше было вести переговоры с Императором по-английски. А он увлёкся. Вообразил, что использует лишний, а то и решающий в его игре шанс.
— Как? Неуместно, несовместимо? Что с чем? Он и сам не заметил, что допустил непростительную для большого политика ошибку. Поддался славянскому обаянию Олега, действительно незаурядного человека, только это обаяние было сродни нежности шёлковых нитей, какими паук опутывает свою жертву. Очень немного людей на свете могли противостоять почти совсем незаметному со стороны давлению могучей воли Императора.
Чекменёв, Ляхов (по известной причине), ещё кое-кто. Доджсон к этому типу не принадлежал.
— Не из той темы вопрос. Невместно — означает несоответствие занимаемому месту. Боярину Репнину невместно сесть за царский стол левее боярина Кошкина. Так Государь Император Пётр Алексеевич и формулировал — большого литературного таланта был человек.
Олег Константинович своим талантом гордился — умением процитировать почти любой документ за последние триста лет дословно или очень близко к тексту.
«Ежели кто выше ранга будет себе почести требовать или сам возьмёт выше данного ему ранга должен быть подвергнут за каждый случай штрафу — вычету двухмесячного жалованья. Равный же штраф и тому, кто кому ниже своего ранга место уступит, чего надлежит фискалам прилежно смотреть, дабы тем охоту подать к службе и оным честь, а не нахалам и тунеядцам получать. Почитание лиц по рангам не касается лишь тех случаев, когда некоторые, яко добрые друзья и соседи съедутся или в публичных ассамблеях».
Император перевёл дух, смочил горло очередной гвардейской «соткой», вытер усы.
— Видишь, друг Джеральд, где настоящая-то демократия? Сам своё право упустил, так фискал напомнит. И тебе, и обидчику. И всё это было осмыслено и подробно расписано за сто почти лет до вашей, так сказать, Конституции…
Так вот нам, по положению, невместно по пустякам, не касающимся исполняемых нами должностей, ссориться. Эмоции оставим для другого случая. Поэтому продолжаю.
Хотя мы ведём переговоры «без предварительных условий», одно наличествует априорно. Россия из ТАОС выходит. В нарисованном вами апокалиптическом сценарии, с которым я в целом согласен, нам гораздо легче будет продержаться в одиночку. Это очевидно. Просторы и климат делают мою страну куда менее привлекательной для «выходцев с Юга», чем любую другую.
Наша армия готова защищать свои рубежи до конца, от Владивостока до Варшавы, опираясь на полную поддержку привычного к любым невзгодам населения, генетически умеющего воевать без оглядки на собственную жизнь, и уж тем более — конвенции любого рода, если их заведомо не соблюдает неприятель. Наш мобилизационный потенциал, что вам, как Верховному Главнокомандующему американской армии, наверняка известно, на сегодня составляет сорок миллионов достаточно обученных военному делу мужчин в возрасте от двадцати пяти до пятидесяти лет. Ещё столько же, с привлечением женщин, может принять участие в иррегулярных[20] формированиях и партизанском движении. Так что мы устоим в любом случае. Лишь бы патронов хватило, а их точно хватит.
Ни один, даже теоретически вообразимый противник не сможет, проникнув вглубь России на пару тысяч километров, просто физически выжить там больше нескольких недель — с напрочь отрезанными коммуникациями. При этом нашему солдату для поддержания полной боеспособности достаточно кружки кипятка и двух сухарей в сутки. Плюс — подножный корм…
Пока до «подножного» дело не дошло, Олег Константинович положил себе на тарелку несколько ломтиков страсбургского паштета, кусочек копчёного угря, какую-то зелень. Поднял на уровень глаз рюмку.
— Дорогой Джеральд, перед иными, называющими себя цивилизованными народами давным-давно не стоит проблема физического выживания этноса. А для нас это — тысячелетняя, увы, но повседневная реальность. К тому же (у русских — очень хорошая память, если кто не знает, просто мы из врожденной скромности ею не рисуемся), мы не забыли, как наши союзники по Мировой войне фактически предали Россию. Да, да — очередной раз предали, заняв якобы «нейтральную» позицию в нашей борьбе с большевизмом. На самом же деле — желая отхватить по куску, какой проглотить удастся. Немцы — Украину и Прибалтику, англичане — Архангельск и Кавказ, вы с Японцами — Дальний Восток от Камчатки до Урала. Если всего урвать не получится — под благовидным предлогом отказаться хоть от ранее достигнутых договорённостей. В частности — по Константинополю и Проливам, нам обещанным за спасение Парижа и прочие мелкие услуги в одна тысяча девятьсот пятнадцатом году. Теперь, как говорится, долг платежом красен.
Доджсон не то чтобы смутился, но почувствовал себя некомфортно. Император прав, как личность и правитель гигантской, по всем показателям — могучей страны. Не только экономикой — железной волей, абсолютно нечувствительной к привходящим обстоятельствам.
Но это ещё полбеды. Олег и его страна действительно имеют практическую возможность предъявить союзникам счёт за все прошлые обиды, опираясь на единодушную волевую позицию, безусловную солидарность, или, как выражались в Византии, симфонию власти — светской, церковной и нутряной, народной, не всегда сформулированной, но всегда очевидной.
ЦРУ о раскладе внутренних сил в России президенту справочку представило. И специально отметило, что какая угодно оппозиция, под любыми лозунгами и за любые деньги не имеет там ни малейших шансов. Властям государства, обладающего полным комплектом так называемых «прав человека», реально не достижимых ни в одной другой стране, что в ТАОС, что за его пределами, в случае инспирированных извне беспорядков и рук пачкать не придётся.
Приказчики охотнорядских купцов, услышав о том, что на Скобелевской или Триумфальной площади опять шелупонь всякая против Государя агитирует, сначала спросят хозяина — можно на часок лавку запереть? Получив утвердительный ответ, вытрут руки о фартуки, неторопливо двинутся вверх по Тверской. А уж там, отнюдь не нарушая правил и законов, спокойно объяснят интеллигентам, что именно в позиции митингующих им не нравится.
— Ты сначала пойди, с пяти утра спину на погрузке товара поломай, потом ещё десять часов за прилавком отстой, после и поговорим…
Довод, как правило, неубиваемый, при том, что ражие, по сто и более килограммов весом мужики сохраняют предписанное властями спокойствие — кого тут обижать? Эти же господа, кто в пенсне, кто в очках, а кто и без — наших сыновей и дочек в своих Университетах высоким наукам обучают.
Вот и пусть обучают, за то им хорошие деньги платят. Мы сами и платим. Да без подарочков на праздники не обходится — как без того? Так и ты против родной нашей власти — не балуй. От баловства все неурядицы происходят!
Доджсон, до своего президентства, пять лет Петрограде послом оттрубил, многое в русой жизни понял, впрочем, ещё в той, «парламентской», а тут вдруг неудачно сошлось. Он, президентом став, с чужой точки зрения, советниками и партнёрами атлантическими навязанной, на Русские дела смотреть начал. Как будто бинокль поборот перевернул.
Только сейчас спохватился, увидев, что не поезд от перрона трогается, на который опоздать без особой беды можно. Грозный линкор под флагом и гюйсом самодержавия вот-вот концы отдаст, и тогда, ваше превосходительство, господин президент, то ли мексиканцы для вас, то ли вы для мексиканцев каштаны в горячей золе собирать будете…
Эти именно слова Доджсону сказал партнёр по гольфу, восьмидесятилетний отставной адмирал, наполовину русский по крови. После чего, ночь просидев на веранде за бутылкой виски с ним же, президент и решил сделать поразительный по неожиданности и крайне эффектный ход ферзём.
Понервничав, сначала ожидая телефонного звонка, потом в ходе уже происходящего разговора, Доджсон увидел, что ферзя он поставил на нужное поле.
— Что касается любых других вопросов, Джеральд, — окончательно заняв господствующую высоту, сказал Олег, — мы готовы их обсуждать. Но только с вами, то есть — с Северо-Американскими Соединёнными Штатами. Ещё лучше — лично с вами — Джеральдом Гастингсом Доджсоном. Вы с вашими демократическими заморочками можете принять мои слова в штыки, но я говорю по-русски, от души. Выпьем?
Налили и выпили.
— Зачем нам другие собеседники? Нам — это я имею в виду своё собственное Императорское Величество, подписывающее Высочайшие рескрипты в такой грамматической форме, а также и Государство Российское в целом. Сроков пять вашего президентства примерно совпадут с продолжительностью моей предстоящей жизни. Только не надо, не надо мне рассказывать про вашу так называемую Конституцию! — Император театрально воздел к потолку руки. — Я уже сказал сегодня и повторю: «Суббота для человека, а не человек для субботы».
Знаете, Джеральд, вы мне очень симпатичны, как человек, а сам я, наверное, пребываю в некоторой эйфории от того, как легко удалось воплотить вековую мечту русского народа о настоящей, просвещённой и в то же время самодержавной монархии. Мне кажется, что философ был всё-таки прав, и мир — это только воля и представление. Ну, сами подумайте — мы с вами наметим обширные планы противодействия наступлению «Тёмных веков», которых вы так боитесь. Распишем, согласуем — и вдруг через три… Ах, уже через два года вам уходить?! Не переизберут — и всё! И по воле нескольких процентов дураков — конец надежде на выживание человечества?! Смешно, Джеральд, дико, бессмысленно. Не сомневайтесь, мы сможем вас поддержать. Особенно через год-другой. Один ваш президент избирался на четвёртый срок, вопреки Конституции, и мир не рухнул. Мне кажется — совсем напротив. Но это — вопрос будущего. А что прямо сейчас мешает нам, например, договориться о разделении сфер влияния в том мире, что начнёт в ближайшее время переформатироваться? О создании какого-то совещательного органа на двусторонней основе. Об обмене разведывательной и технической информацией и прочая, и прочая, и прочая…
— О координации, в случае необходимости, действий наших флотов в Мировом океане, — добавил Доджсон, в прошлом морской офицер. Эта тема была ему близка.
— И даже о создании чего-нибудь вроде «Объединённого русско-американского комитета начальников штабов», — поддержал идею Олег, понявший, что, ничего, по сути, пока не сказав, президент де-факто принимает его предложение. Можно сказать, заложен краеугольный камень небывалого в истории российско-американского альянса.
— Я вот что представляю, — указал Олег Константинович на карту, — мексиканскую границу вы в любом случае удержите, войск у вас хватит. Канада — глубокий оперативный тыл. Для отражения любых иных потенциальных угроз нам никто не мешает превратить Тихий океан в российско-американское озеро. Договоримся о свободном базировании и ремонте ваших кораблей в Петропавловске и Владивостоке, наших — в Сан-Франциско и Сан-Диего. Очень даже хорошо выйдет, и верфи загрузим, и рабочие места появятся…
Доджсон, на которого равное количество выпитого подействовало скорее угнетающе, сел на подоконник и приоткрыл окно. Сквозь узкую щель хлынул резкий тихоокеанский ветер.
Олег Константинович видел, что цель достигнута. Уж больно яркую блесну он забросил президенту. Чрезвычайно выгодное предложение «на сейчас» и перспектива стать первым несменяемым президентом САСШ. Чего уж больше. Дальше пусть разбираются дипломаты. А научно-стратегическую проработку проекта поручим «пересветам» под общим руководством Чекменёва, если ему в России тесно стало.
Тут же и кодовое наименование запущенной операции в голову Императора пришло — «Мальтийский крест». Олег Константинович любил всяческую конспирологию, и придумывание хитрых названий своим планам было одной из самых невинных его забав.
Тут в двух, никому ничего не говорящих словах содержался намёк и на предстоящую роль генштабистов, в Москве сидящих, и по всему миру разведывательно-дипломатическую службу исполняющих, чьей эмблемой этот самый эмалевый Мальтийский крест является. На собственную роль, как наследника и продолжателя дел Императора Павла, планировавшего устроить совсем другую конфигурацию европейской политики, своевременно устранив Наполеона. Кто знает, что бы у него получилось, но интересные шансы имелись. Самое главное — Олег Константинович подразумевал себя прямым наследником последнего Гроссмейстера ордена Мальтийских рыцарей, и, естественно — законным властителем Мальты с её стратегическим положением. То есть — при подходящей возможности заняв остров, всегда можно выложить на стол кипу бумаг (было бы перед кем выкладывать!), после чего сотню-другую лет ждать решения какого-нибудь международного суда, на всякий случай созданного из представителей или, Эквадора и Республики Кокосовых островов под председательством Специального прокурора из Монголии.
— Ещё немного поговорили теперь на совсем общие, не имеющие отношения к высокой дипломатии темы. Как два близких по возрасту и интересам мужчины, оказавшиеся в домике, обдуваемом арктическим ветром и поливаемом дождевыми зарядами. С бутылкой виски на столе между ними. Примерно как персонажи рассказа О'Генри «Справочник Гименея». Один — о рубаях Хайяма, другой — о «Херкимеровом справочнике необходимых знаний».
— С удовлетворением можно констатировать, что наша первая встреча прошла плодотворно, в тёплой и дружеской обстановке, — сказал Император. — Я лично удовлетворён. Предлагаю в завершение обменяться рукопожатием и крепким мужским словом.
— Не возражаю. Но «мужское слово» — в чём?
— В том, что мы лично обязуемся друг другу в случае возникновения каких угодно недоразумений, на любом уровне, с чьей угодно подачи, хоть вашего Госсекретаря, хоть моего премьера, не принимать опрометчивых решений, не давать воли эмоциям, не обсудив проблему наедине. Это может впредь оградить нас от глупых размолвок.
Второе — вы без предварительных консультаций со мной не поддержите никаких решений прочих членов ТАОС, направленных против России.
Третье — Россия обязуется в приоритетном порядке, независимо от чьей бы то ни было позиции и минуя международные организации, рассматривать любые вопросы, касающиеся взаимных интересов наших стран. И ждёт от вас того же.
То есть, — Олег сам подошёл к окну, за которым стихия по-настоящему разгулялась. Чёрт его знает, взлетит ли вертолёт? Но «Г-200», самая большая в мире летающая лодка, способная при необходимости даже в пятибалльный шторм идти несколько часов в режиме экраноплана, его домой доставит. Подхватил рукой дождевую воду, льющуюся с козырька, умыл лицо. — То есть я предлагаю тактически вернуться к временам президента Линкольна, Авраама вашего, и Императора Александра Николаевича, Второго. Наше соглашение формально никого ни к чему не обязывает, кроме как к столь редкой на вершинах власти элементарной порядочности и дворянской чести…
— Я, увы, не дворянин, — усмехнулся Доджсон, протягивая руку.
— Однако британским рыцарем являетесь, Приняв в прошлом году этот титул от их королевы. Теперь станете русским дворянином, что никак не ниже «сэра», если согласитесь принять от меня в память о нашей встрече орден Белого Орла. Созвучен вашему национальному символу и даёт право на потомственное дворянство Российской империи. Кроме того — он очень красив. С вашими наградами, прошу прощения, нет никакого сходства.
— Приму с благодарностью. К сожалению, чтобы ответить вам столь же достойно, мне придётся провести решение через Конгресс. Я надеюсь этим дело не станет.
Олег принял из рук адъютанта большую, как том энциклопедии, сафьяновую коробку, извлёк лежащий в чёрном бархатном ложе орден. Собственноручно надел на шею Доджсона синюю муаровую ленту с ювелирной работы крестом.
— Тут же войсковой старшина Миллер, личный адъютант Императора, неизвестно откуда извлёк две бутылки лучшего Голицинского шампанского. Только ко двору Государя поставляемого. Раньше, бывало, в фирменных магазинах продававшегося, пусть и по дорогой цене. А теперь — нет.
Выпили, президент непроизвольно погладил рукой орден — не малозначащая европейская бляшка, а настоящая награда, одна из высших в Империи. Да и вручен не «от имени и по поручению», а лично!
— Знаете, Джеральд, как вас теперь положено отчествовать, яко настоящего столбового дворянина? Вы ведь наши обычаи знаете?
— Форстерович, — улыбнулся навстречу императорской улыбке президент.
— Так хочу тебе сказать, Джеральд Форстерович — я теперь имею право на ты обращаться, громадную ты только что ошибку совершил. — Олег Константинович просто лучился весельем и добрым юмором.
— Уточните, пожалуйста, — сам не понимая почему, напрягся президент. Нехорошим холодком вдруг за воротник рубашки повеяло.
— Да нет, ничего, настолько-то ты русский язык понимаешь, со всеми его сложными оборотами. А в психологии и геральдике — мимо пролетел. Орден принял, к сердцу прижал, за честь оказанную винишка пригубил. Только самую-самую тонкую детальку твоё трижды высшее образование понять не позволило. Минуты, чтобы догадаться — хватит?
На тридцатой секунде до Доджсона дошло. Ох, как дошло!
Если кавалер ордена Белого Орла — автоматически дворянин, а также — особа IV класса,[21] а Император — Всероссийский, несменяемый Предводитель дворянства да одновременно — глава орденского капитула, так кто теперь для него «их высокородие» господин Доджсон?
Тут, конечно, всё непременно сводилось к обыкновенной шутке, не феодальные времена всё-таки. Не потребует же от своего «сэра» английская королева громоздиться в седло и ехать освобождать Гроб Господень. И тем не менее…
Никто бы не помешал американскому президенту сорвать с шеи этот царский орден, хоть на пол бросить, хоть вежливо, с поклоном, в руки возвратить. Но — не сделал. Иначе — что дальше будет? Император сильнейшей на планете державы мгновенно из друга превратится в злейшего, смертельного врага. Самодержцы такого не прощают, времена ведь действительно грядут ох какие непростые. Союзниками (такими союзниками!) разбрасываться — себе дороже выйдет.
— Ты, Форстерович, теперь кто? — продолжал Олег Константинович. — Я твою американскую должность не беру. Там ты вольный владыка заморской державы, над своими людишками властен, в полном праве (а я тебя поддержу, хоть флотом, хоть танками). А на российской земле — видишь, как получается… Я ведь тебя за язык не тянул, первый ты мне сказал, что боишься наступления «нового феодализма»! Если опасаешься, так отчего же нам с тобой первыми на его наступление не среагировать? Целее будем!
Трудно — понимаю, демократические кандалы шагнуть не дают. Куда ж нам без «Либерте, эгалите, фратирнете»?
Если же «посмотреть с холодным рассудком вокруг», очень даже понятно — куда. Тем более — зачем.
Император видел, что Доджсон не по обстановке занервничал. А что, казалось бы, такого произошло? Ну, орденком его почтил, все иностранные лидеры постоянно друг друга чем-нибудь да награждают. Другое дело — никто, наверное, так вот грубовато не намекал… Да ничего, переживёт, одумается, когда хмель выветрится.
— Садись, садись, — указал рукой президенту на кресло Олег Константинович. — Шампанское — мы просто так выпили. По традиции. Сейчас Миллер нам чего-нибудь лучше принесёт…
Никто на свете не поверил бы, что американский президент, что называется, поплыл под психологическим натиском русского царя. При условии, что кому-нибудь на свете вообще позволили бы наблюдать подобную картину. Кроме адъютантов и камердинеров, естественно.
Император закурил свою обычную папиросу, трезвый что в алкогольном понимании, что в эмоциональном. Обратился к президенту, совершившему самую большую ошибку в своей жизни, попытавшись с Олегом Константиновичем разговаривать, как с каким-нибудь Каверзневым или Паттон-Фантон-де Вирайоном![22]
Прикиньте разницу. Одному — в двадцать лет поступить в самый престижный университет САСШ, имея за спиной родителей-миллионеров, два колледжа, чудесный жизненный опыт бонвивана и недельная поездка в Париж «по девочкам» мало отличалась от «простой» выпивки в кампусе с однокурсницами. Легкая и приятная жизнь. Президентом далеко не каждый станет, но правительственным чиновником или адвокатом с не меньшим заработком — гарантированно.
Другому, пусть и урождённому Великому князю — с десяти лет воспитываться в обычном кадетском корпусе, где никого не интересует твоё происхождение. Выживешь — молодец! Сломаешься — даже ротный воспитатель за тебя не ответит, не потянул парень — и всё на этом. Потом, в девятнадцать — три года самого тяжелого в России военного училища — Николаевского кавалерийского.
Кто не знает, как весь первый семестр кожа с бёдер и голеней до мяса стирается, а в седло каждый день садиться надо, хоть умри, — тот ничего не знает. И в двадцать два — погоны корнета. Служи, куда пошлют.
Никого твои весьма относительные шансы на опереточную должность Местоблюстителя не интересуют. Почти двадцать следующих лет и оттарабанил, только в Уссурийской тайге — четыре!
И вот напротив этого, битого-перебитого, почём фунт лиха до копейки знающего человека — целый президент. И даже — великой державы. Спокойный, сытый, мясом кормленный, как казаки и две недели, бывало, конским комбикормом питавшиеся, о «территориалах» выражались.
— Ты Джеральд, одну вещь пойми, — сказал Император, опрокинув очередную стопку и подождав, пока Доджсон сделает то же. — Через полчаса мы разойдёмся, весь наш забавный разговор тобою забудется…
— А тобою — нет? — спросил президент, начавший пьянеть быстрее и ощутимее.
— У меня такое поганое свойство, я за всю жизнь не забыл ничего. Ни одной прочитанной строчки, ни одной сказанной мне или мною фразы. Речь не об этом. Пожалуйста, запомни сам и передай всем тем, кого ты считаешь соотечественниками и коллегами, а я — нет. Я, собственно, для того и прилетел, чтобы довести до всех сравнительно вменяемых людей простейшую, по идее, мысль…
Секретарь поднёс президенту стакан с двойной дозой «Алкозельцера», да ещё и чашку кофе. Император рассмеялся. Обидно, разумеется.
— Миллер, мне ещё чарку, и огурец где-нибудь поищи…
Требуемое немедленно нашлось.
— Послушай меня, Джеральд Форстерович. Ни на какие твои прерогативы я не посягаю. Всё, что слышал, смело можешь на счёт моей весёлой натуры отнести. Люблю людей разыгрывать, с кадетского корпуса привычка осталась. Там без специфического юмора не выживешь. Но вот что своим друзьям передай. — Император снова подошёл к окну, опёрся о раму плечом, опять залюбовался серым штормовым океаном. — Россия никого сдавать не будет. Не в наших это привычках. Твоя Америка от внешнего вторжения защищена. Со стороны Канады на вас никто не нападёт. Мы через Берингов пролив — тоже. По мексиканской границе можете колючее заграждение под током моря и до моря создать. В десять колов. Ваше дело. У «Чёрного интернационала» авианосных эскадр в ближайшие двадцать лет не появится. Следовательно?
— Следовательно, нам никто не угрожает, — согласился Доджсон.
— Верно. И какой вам интерес в чужие дела путаться? Изоляционизм — великолепная политика для твоей страны. Живите и развлекайтесь. Был я как-то в Лос-Анджелесе, Голливуд видел. Давайте и дальше кино снимайте, мы вам в ближайшее время тоже заказики подкинем. Сценарии и артисты найдутся…
Олег Константинович хитро посмотрел на президента.
— Ты так и не догадался, в чём мой настоящий интерес?
— Прости, Олег, до конца не понял, — развёл руками Доджсон.
— Тогда слушай. Первое — я хочу, чтобы вы, американцы, и все, кто ещё считает себя европейцами, поняли — Россия больше никогда ни для кого каштаны из огня таскать не будет. Ни, как в тринадцатом веке, мы вас от монголов заслонять не станем, ни как во времена Наполеона, в ваши разборки не полезем. Есть такая, не очень благородная Русская присказка: «Умри ты сегодня, а я завтра». Вот на этом вся внешняя политика возглавляемой мною Державы и будет основываться. Отныне и века. Хватит! Наигрались во «всесветную отзывчивость». Второе — я очень хочу, прямо мечтаю, чтобы вы, европейцы и американцы, снова научились быть нормальными людьми…
— Что значит — нормальными в твоём понимании? — спросил американский президент, загнанный в угол инвективами Императора.
— Чего же проще? — удивился Олег. — Мы перестаём вас защищать, а вы к этому очень привыкли — четырёхмиллионная русская армия и русский флот всегда окажутся там, где их ждут, и помогут, и спасут… Не так?
— Так, — согласился Доджсон и снова сболтнул лишнее. Всё же триста граммов крепкого и два бокала шампанского — многовато для слабых англосаксонских мозгов. — Ведь это ваше предназначение — спасать…
Спохватился, но поздно.
«Это же как у них, телесным и мозговым салом заплывших европейцев, нормальная, хрестоматийная шизофрения в мозгах уживается? — налился холодной, тяжёлой яростью Олег Константинович. — У всех сразу — от президентов и премьеров до последних мусорщиков. У почти миллиарда человек иудейско-христианской цивилизации. С одной стороны — русские, даже самые культурные и богатые, крупными западными фирмами владеющие, на балетных подмостках танцующие и чемпионаты мира почти по всем видам спорта выигрывающие, — всё равно тупые варвары и потенциальные бандиты. А что внешность у них самая что ни на есть арийская и женщины красивейшие в мире — так это странный каприз природы.
Зато с другой — стоит затеяться в мире по-настоящему крутой заварушке, этим, по сути, никчёмным европейцам всерьёз угрожающей, — только на русских и надежда. Не зря поручик Ненадо вспоминал, как в пятнадцатом году в Марселе француженки цветы под ноги солдатам Второй Особой бригады бросали, на шеи вешали, „Вив ля Рус“ кричали. Потому как немцы чересчур близко к Парижу подошли, и повторением тысяча восемьсот семидесятого года здорово запахло. А леса вдруг в Пиренеях как следует разгорятся — к кому первым делом за пожарными вертолётами, летающими лодками и спасателями? К русским! К норвежцам или немцам и не пробуют обращаться. Даже в голову не приходит».
Не видел ещё Доджсон разозлённого, но из последних сил сдерживающегося Императора. Это Николай Второй злиться вообще не умел, только обижаться, а предыдущие Романовы очень даже! Николай Первый Павлович чуть войну Франции не объявил, когда про него фарсовую пьеску в парижском театре поставили. Вежливо, через посла попросил эту пакость из репертуара убрать. Тогдашний президент, Луи-Наполеон, императором ещё не назначенный, заявил, что у них демократия и подобные вопросы не в его компетенции. Пришлось Николаю передать по телеграфу, что в таком случае он направит в Париж миллион зрителей в серых шинелях, которые пьеску непременно освищут. Так и сняли — никакая демократия не помешала.
А вот этого — не видел? — вопреки всем законам дипломатии (да и при чём здесь дипломатия, Олег считал, что разговаривает со своим вассалом), Император показал президенту обыкновенный, простонародный кукиш. — И не возмущайся, — тут же пресёк он возможный протест. — У нас многие лишние слова заменяются жестами. Степняки-кочевники, что с нас взять? Повторяю — с сегодняшнего дня мы никого спасать не будем! — сказано было так, словно каждый звук этой фразы произносился отдельно и с особым напором. — Как в морском законе, вами, англосаксами придуманном: «Нет спасения, нет вознаграждения». Наоборот — ещё правильнее. Мы, дураки-русопяты, тысячу лет всех бесплатно спасали, сами при этом погибая нередко, и в голову никому прийти не могло, что с нуждающегося в помощи можно за спасение деньги брать…
— Что ты от меня хочешь? — потерянно спросил президент, понявший, что напрасно он в эту игру ввязался.
— От тебя? — удивился Олег, восстанавливая душевное равновесие. — Совсем ничего. Третий раз повторяю — мы хотим, чтобы вы, в духе той декларации, что ты изложил, насчёт угрозы Дикого Юга цивилизованному Северу, объявили у себя всеобщую мобилизацию, построили всех, способных носить оружие, «под ружьё», перевели экономику «на военные рельсы». Знаешь такое выражение?
Доджсон грустно кивнул. Он, похоже, уже мало что соображал геополитически. Примерно как король Греции на крейсере «Олег» в одиннадцатом году, в обществе лейтенанта Луки Пустошкина.[23]
См. С. Колбасьев, «Поворот все вдруг». Л. 1986 г. Забавный, в своём роде, случай.
Крейсер пришёл в Афины и давал бал в честь королевской семьи. Королева эллинов, как известно, была русская, бывшая Великая княжна Ольга, и в обществе соотечественников чувствовала себя превосходно. Король же Георг, за номером первым, по рождению был датчанином, но за отсутствием практики по-датски говорить разучился. По-гречески учиться не хотел — он уже вышел из такого возраста, чтобы учиться. По-французски ни слова не понимал, а по-русски, конечно, ещё меньше. Вообще только мычал, и от этого ему было очень скучно.
И Луке Пустошкину, который к тому времени дослужился до старшего лейтенанта, приказали его величество развлечь, и он сразу сообразил, что ему делать.
Почтительно пригласил монарха следовать за собой, в пустую кают-компанию. Показал ему всё, о стояло на столе, и сказал: «Вуаля!» у короля лицо сразу стало более интеллигентным, и даже замычал он как-то веселее…
Примерно после десятой рюмки Лука проникся к Георгу уважением. В первый раз в жизни видел настоящего монарха, который пил, как лошадь. От избытка чувств он похлопал его по колену и предложил:
— Руа, бювон ещё по одной?
— Бювон, — согласился руа, сиречь король, который к этому времени уже немного овладел французским языком.
Ещё через полчаса союз между греческим королем и русским старшим лейтенантом был заключен союз на вечные времена. Они сидели обнявшись и плакали. Лука сквозь слезы пел про камаринского мужика, а король горестно ему подвывал…
Доджсон, в отличие от Георга, пока ещё ухитрялся держать державного приятеля и сюзерена в фокусе обоих глаз и разбирал смысл произносимого.
— А мы, Великая Россия, — с напором говорил Олег, которому эти капли алкоголя до души не достали, — впервые в истории собираемся никому не помогать, забыть о случаях, на которые вы сильно надеетесь. Хватит, одним словом. Точка. Амба. Впредь, если очень попросите — то за очень большие деньги. К примеру — каждому русскому солдату, согласившемуся добровольно за вас повоевать, станете платить вдвое от принятых у вас сумм. Подходит?
— Ошибиться не боитесь? — неожиданно трезвым голосом спросил Доджсон.
— Нам ошибаться не в чем, — ответил Олег. — Вы, допустим, за океаном какое-то время отсидитесь. Европейцы — хрен. Ежели попрёт на них миллионная сила через Средиземное — не отобьются. Пока этого не случилось — перескажите и им то, что мне объясняли насчёт положения на Юге. Пускай у себя объявляют всеобщую мобилизацию, тренируются круглосуточно (инструкторами мы поможем), бросают всё и готовятся к тотальной войне…
— Да как же это можно, так сразу? — спросил Доджсон.
— Можно, если жить хотят. Езжайте, как Вудро Вильсон, с лекциями, разъясните, что их ждёт. Мы, Россия, ни в какие конфликты, нас лично не касающиеся, вмешиваться теперь не будем. Зато согласны взять на себя обеспечение всех стран ТАОС продовольствием, газом, нефтью и любой промышленной продукцией, производство которой у вас упадёт вследствие всеобщей подготовки к войне. Оружием любой номенклатуры и в любых количествах. По рыночным ценам, естественно.
— Хорошо вы всё продумали, — слегка обескураженно ответил президент.
— Вы надеялись — это мы станем даром кровь проливать, вы — за деньги технику поставлять. Наоборот — не желаете ли?
На этом, собственно, переговоры и завершились. Главное сказано и услышано. Олег Константинович не сомневался, что все его условия будут приняты, а куда деваться? Ну, само собой, формулировки можно уточнять и шлифовать, но — непринципиально.
Император надеялся, что кое-какие акции, планируемые Катранджи в Средиземноморском бассейне, произведут на европейских политиков, а главное, на их электорат нужное впечатление. После чего останется только ждать и прикидывать, чьего премьера или президента можно принять сразу, а чьего — в приёмной помаять. Русские князья, бывало, в Орде по полгода у ханов аудиенции ждали…
— Ты свою партию провёл блестяще, — сказал Секонд, наблюдавший все перипетии поединка Разумов и воль со стороны.
— Не преувеличивай. Шульгина бы на моё место вот был бы мастер-класс. Я ещё удивляюсь, как прилично президент держался в полностью проигрышной партии. Не знаю — впервые столкнувшись с подобным… Типаж таких, как он, ребят, мне знаком с детства. Художественное мышление и раскованная фантазия у них отсутствуют от природы: невозможно совместить свободу воображения и волю к власти. Это не упрёк, а медицинский факт. Никто никогда не видел выдающегося штангиста, в свободное время концертирующего в составе струнного квартета.
Наш президент — способный человек, один из лучших на таком посту со времён Сталина. Только фантастики — Стругацких, Азимова, Шекли, Андерсона — наверняка не читал. Не в жилу она юным прагматикам. Иначе мозги не в ту сторону повернутся. Нельзя одновременно ассоциировать себя с Руматой Эсторским и работать доном Рэбой…
— Это ты зря, — насмешливо сказал Секонд, наконец-то получивший выигрыш в позиции. — Я последнее время именно доном Рэбой и служу, воображая себя при этом Руматой…
«Трудно быть богом» он прочитал с подачи Фёста едва ли не в первые дни их близкого знакомства. Был одновременно поражён и восхищен книгой, с тех пор регулярно её перечитывал, постоянно соотнося свои мысли и поступки с текстом.
— Только вот зря ты своего президента в положительном смысле со Сталиным ассоциируешь. Считаешь, Сталин вообще лучший, а этот — второй после него? Кому-кому, а уж мне ты такого не говорил бы…
— Тебе-то что? Ты в его реальности не жил. Но если в общем смысле — мораль оставляем за кадром. Критерий один: цель — качество — эффективность.
Мой наставник Александр Иванович поработал с этим историческим монстром. В реале. Каждодневно рискуя головой. И сказал: жертвы неизбежны при любой системе, неважно — от голода, репрессий, наркотиков, суицидов и никчёмных войн. Но что на выходе? Те же самые миллионы умерших, но — «просто так». Которые не смогут внучку сказать нечто вроде: «А зато я строил пирамиду Хеопса, Беломорканал, раздолбал японцев при Халхин-Голе, взял Берлин, запустил первый Спутник! За следующие пятьдесят лет, внучок, умерло ничуть не меньше, или — не намного меньше людей, но совершенно бездарно!» То, что Сталин палач, никак не отменяет результата его «исторических свершений». Как у Петра Первого или всеми забытого Ивана Калиты. Все они, если угодно — функция. Производное исторических обстоятельств, сложившихся в тот или другой период на Главной исторической. Возникла ситуация, коллизия, если хочешь. Татаро-монгольское иго, татаро-монгольское эго! И в любом случае, если ты на должность поставлен, надо как-то разгребаться.
Мы же с тобой врачи! Слава богу, не довелось холерных, чумных, тифозных эпидемиях работу как в девятнадцатом веке нашим коллегам. А если бы пришлось? До идейных ли воззрений политической правоты тех, кого нужно хлорки засыпать и в общую яму столкнуть? Тем более сейчас размышлять о тонкостях психики персонажа, помершего полвека назад, нет ни малейшего настроения. На это Воловичи есть…
— Да ты что? — возмутился Секонд. — Свои ли слова говоришь? Мрак какой-то. На тебя никак не похоже!
— На тебя — тоже, — огрызнулся Фёст. — Кроме тех книжек, что тебе всесветный гуманист Левашов подсовывал, у Новикова с Шульгиным ещё бы что-нибудь попросил. Для стереоскопичности взгляда на настоящую человеческую историю. «Трудно быть богом» — ужасно благородно, — изобразил Фёст интонацию одного из персонажей указанной книги. А ты Шаламова почитай, как без всякого благородства люди в лагерях дохли. У Солженицына, в сравнении с ним — не лагеря, а санатории. Уж о моём отношении к моей истории и к нашему сталинизму говорить больше не будем. Не желаю! Хватит!
Ты со мной работать собрался? Привыкай. — Вадим-первый явно нервничал, покусывал губу, взял сигару, отбросил, закурил сигарету — меньше отвлекает.
— Двойники, говоришь? Ни черта ты не соображаешь. Ты бы смог сейчас — на моё место? Владимир Ильич Ульянов-Ленин то ли для понта, то ли в порыве откровения сказал однажды: «Не могу музыку слушать. После неё людей по головке гладить хочется, а по ней — бить надо!» И мне президента в абсолютно безвыходное положение, да ещё с хамскими выходочками, ставить совсем не хотелось. А куда деваться? Ты фильм «Горячий снег» смотрел?
— Смотрел, — кивнул Секонд.
— Так вот по замыслу операция совсем дурацкая была. Тактически и оперативно. Через сорок дет никто из теоретиков так её и не обосновал в научном смысле. Но полста тысяч солдат и лейтенантов в ней по полной правде угрохали! Ни за что! Ты думаешь, почему генерал Бессонов с таким мёртвым лицом по позициям идёт и шестью орденами «Красного Знамени» совесть отмазать пытается? Потому что до этого струсил, не нашёл в себе сил кому надо наверх сказать, что операция эта никчёмная и бессмысленная, кровью ещё двух армий будет оплачена. Так это режиссёр сообразил и придумал. А настоящим персонажам, в натуре эту мясорубку устроившим, — им что?
Им ничего. В худшем случае послушали через двадцать пять лет песню одного нашего барда: «Я маршал, посылающий на смерть».
При штурме Зееловских высот какой-то смысл в жертвах был, пусть и несоразмерный. А при атаке грозненского вокзала Майкопской бригадой в девяносто четвёртом? Да откуда тебе это знать… Фёст махнул рукой и налил себе полстакана из бутылки, предназначавшейся президенту.
— Поэтому ни жалости, ни сочувствия у меня ни к кому не осталось. Одна надежда — президент одумается и начнёт свои обязанности как должно исполнять.
— Террором и репрессиями?
— Не бойся. Террор и репрессии я на свою совесть приму. Мне давненько уже терять нечего. Но если с нашей страной ещё хоть что-то хорошее сделать можно, я это сделаю. И плевать хотел на комментарии! В историю моё имя по-любому не войдёт.
— А хотелось бы? — провокационно спросил Секонд.
— Да вот ни на грош. Ты за свои подвиги в Москве и кресты получил, и аксельбанты. А я? И ни хрена мне не надо. Что, от Шульгина медальку «За боевые заслуги» попросить? От вашего Императора памятный значок? Так ты за меня получил, мне рядом с тобой не по делу стоять было. Мы с Ненадо и другими корниловцами во дворе пили, нам за царским столом места не хватило…
— Какие мы с тобой разные стали, — печально сказал Ляхов-второй.
— Совсем ничуть. Это тебе случайно показалось. Захотел во мне своё подобие увидеть — и увидел. Капитально при этом ошибившись. Что между нами общего, кроме одинакового генетического кода? Под пулями рядом полежали, стреляя в одну цель? Неплохо вышло, только результаты снова неодинаковые…
Фёст, прервав резкие, рвущиеся из души слова, несколько раз глубоко вздохнул. Отошёл к открытому окну, дотянул сигарету и выбросил окурок на улицу, подумав: куда же он прилетит? В ту или в другую реальность?
— И всё же ты мой брат-аналог? — спросил он, возвратившись к столу.
— Несомненно, — ответил Секонд.
— Тогда тебя не шокирует мой поступок? Я сейчас пойду в комнату к Людмиле. Попробую с ней поговорить, не как «работодатель», тобою назначенный, а просто так… Можно?
— О чём ты спрашиваешь? — удивился Секонд.
— Именно о том. Можно мне с этой девушкой повести себя как со случайно встреченным сегодня и здесь человеком? Кинофильм «Июльский дождь» видел? Да, — он махнул рукой, — откуда ж тебе… — Снова закручинился. — Ладно, ты ей потом скажи, что ли, чтобы она меня как саиба, за большие деньги её купившего, не воспринимала…
— Нет, ну зачем ты опять? — Вадим-второй не столько обиделся, сколько расстроился. — Ничего говорить не нужно. Для неё я командир, в плане сложившихся в нашем мире обстоятельств. Ты теперь — понятно, кто. Либо она — эскорт-леди, либо ты её телохранитель. По обстановке. Вот и решайте сами…
— Понятно, — со странной интонацией ответил Фёст. — Любопытно, конечно, но и вправду, попробую сам разобраться…Ты знаешь, она мне действительно очень понравилась. Как одна похожая девушка на преддипломной практике. А, — махнул он рукой, — всё без толку! Раньше бы ты понял, сейчас наши установки слишком разошлись. Короче — ложись спать, фронте камерад. Комнат здесь даже слишком много. Иногда страшно становится.
— Чего тут не понять? — удивился Секонд. — Фиически она и меня волнует точно, как тебя, раз у нас и структура личности, и гормональный набор одинаковые. Сразу не хотел говорить, себя и тебя проверял. На «Валгалле» мы с девчонками с утра до вечера общались, и на штурмполосе, и на пляже, и в музыкальном салоне. Я её сразу из всех выделил, потом тебе колоду фотографий предъявил — ты её выбрал. Я понял — что не ошибся. Значит, генетически и психофизиологически она тебе и мне больше всех подходит. Другое дело — я человек женатый, в целях самосохранения научился кое-какие рефлекторные дуги и ассоциативные цепочки отключать…
— Она-то нам, может, и подходит, а как мы ей?
— Экспериментируй, естествоиспытатель…
Фёст вошёл в отведённую Вяземской спальню, очень большую для помещения такого назначения. Кроме широкой кровати, шкафа, тумбочек и прочего там, на специальном столе, стоял не секондовского времени, а настоящий здешний компьютер. С большим жидкокристаллическим монитором, принтером и другими наворотами.
Удивительно, но Людмила освоилась с ним почти мгновенно. Наверное, брала уроки во время практики на «Валгалле». Сидела напротив экрана, бегала пальцами по клавиатуре, будто только для этого и родилась. Перед ней разворачивались то тексты из «Гугла» и «Яндекса», то фотографии и отрывки зачем-то нужных ей фильмов из здешней реальности.
Свой серый жакетик она бросила на соседний стул, а тонкий белый свитер с воротником под горло, юбка ниже колен с разрезами, серые, змеиной кожи туфельки с высоченными шпильками оставались на ней.
Ляхов обратил внимание, без которого не жить и не выжить, что два своих пистолета со всей тяжёлой сбруей (суммарно — почти три килограмма) Люда тоже сняла, но положила рядом.
Его подготовки хватило бы, чтобы длинным броском, вроде «флеш-атаки»,[24] достать от двери до так небрежно оставленного оружия. Схватить, перевернуться, выстрелить! Только незачем. И не в кого. Людмила скосила на него глаза и снова повернулась к экрану. Там, наверное, было интереснее. Яркие подземные тоннели, жуткие монстры, голые девицы, палящие из бластеров и попадающие под зубья мясорубок. Развлекаловка, одним словом. В натуре вам, барышня, такого мало?
Ляхов испытал очень сложное чувство. С одной стороны, девушка, находясь в абсолютно защищённой квартире, под прикрытием двух старших офицеров, её начальников, на самом деле могла ничего не опасаться. И вести себя так, как ведёт. Вроде ежика, развернувшегося, лёгшего на спину и подставившего миру мягкое брюшко.
А с другой — что же это за телохранительница, бросившая пистолеты и не думающая, что убийцы могут, например, легко нагрянуть через окна третьего этажа. Или, использовав какой-нибудь газ мгновенного действия, пущенный в вентиляцию, нейтрализовать охраняемые объекты, а теперь прийти за ней.
Паранойей попахивает, разумеется, но отчего бы не поучить молодую на наглядных примерах?
Все видели фильм «Место встречи изменить нельзя»? Как там Жеглов слегка поучил молодого Шарапова насчёт правил обращения с секретными документами? Все, кто смотрел, сочувствовали Шарапову. А на самом деле на чьей стороне правда?
Проходя мимо, он мгновенным движением прихватил ременный пояс с двумя кобурами, сунул его под мышку.
Только тут Вяземская дёрнулась. Поздновато.
Вадим прошёл в эркер, где стояло несколько цветков в кадках, положил оружие на широкий подоконник. Внимательно наблюдая за её движениями, достал сигарету из обычной, чуть смятой пачки, закурил.
— Подпоручик! — Он постарался, чтобы его голос хлестнул, как длинная, вибрирующая стальная полоса. Как у капитана Гергарда фон Цвишена из романа «Секретный фарватер». Куда там Секонду с его интеллигентскими замашками! — Где ваше оружие?
На Людмилу жалко было смотреть.
— Это вы меня собрались охранять или как?
— Вадим Петрович, но…
— Какие могут быть «но»?
Ляхов собрался сказать ещё одну очень неприятную для девушки, зато вполне подходящую плохому солдату фразу, но вовремя опомнился. Не садист же он, в конце концов. Ей и так хватит самоуничижительных мыслей на несколько дней. А в таком возрасте подобные неурядицы переживаются очень тяжело. Немедленно нужно отыгрывать назад. Насколько получится.
— Иди сюда, Люда…
Она подошла, понурив голову. Ляхов приобнял за плечо правой рукой, левой время от времени поднося к губам сигарету.
— Ты меня прости, девочка, — сказал он. — Урок чересчур, наверное, жёсткий. Но запомнишь, да?
Вяземская подняла на него совершенно невероятные, невыносимые цветом и настроением глаза. Вдобавок — набухшие слезами.
— Разок всего прозеваем, — он подчеркнул тоном, что не она только, вообще, — и концы нам. И в своей квартире, что в африканских джунглях. Всегда нужно начеку быть…
И не удержался, то ли вину (вполне условную) хотел загладить, то ли просто одинокую девушку, третий раз из чужого мира в ещё более чужой перебрасываемую, приласкать, успокоить. Провёл ладонью по щеке. Удивительно нежной.
— Я не говорю, что ты должна круглые сутки палец на спуске держать. Но и бросать оружие, где ни попадя — непрофессионально. Оно должно быть либо при тебе, либо в неприметном и в то же время легкодоступном месте, — осмотрелся, положил пистолеты на нижнюю полку компьютерного стола. Тем более — мы сейчас в большую игру ввязываемся. Договорились? В Людмила кивнула.
Он вдруг вспомнил, зачем пришёл. Не слишком удачная вышла прелюдия. Впрочем, как посмотреть…
Совершенно спокойным, безразличным тоном, скользя глазами по изящной лепнине потолку спросил:
— Слушай, ты сейчас раздеться можешь?
Она снова посмотрела на него. В другой момент, наверное, спросила бы — как именно, по какому сюжету, но сейчас, ничего не сказав, начала исполнять приказ, замаскированный под вопрос.
Отошла на несколько шагов, к стоявшему рядом с кроватью стулу, повернулась к Ляхову спиной. Неторопливо, с неподвижным лицом стянула тугой свитерок, слегка растрепав причёску, повесила на спинку. Следом за ним юбку. Можно было подумать, что в комнате, кроме неё, никого нет и она просто готовится ко сну, почти автоматически, погружённая при этом в глубокие мысли.
«Да уж, не стриптиз», — подумал Вадим. — Но как раз он-то интересовал Ляхова меньше всего.
На Вяземской остались только форменные трикотажные трусики цвета хаки. Совсем не сексуальная деталь туалета, вполне пригодная для спортивных занятий на свежем воздухе. Скрестив руки на груди, Людмила повернула голову, стряхнув на половину лица густую прядь платиновых волос.
— Достаточно или совсем? — И непонятно, как девушка, раздевающаяся перед мужчиной, она это спрашивает или как солдат — командира.
Как девушка — она чудно была хороша. Фёст видел фильм «Три мушкетёра», шестьдесят, наверное, третьего года выпуска, и запомнил, навсегда влюбившись, в Миледи в исполнении Милен Демонжо. Наверняка Вяземскую под неё зрительно оформляли или, ещё проще — напрямую склонировали.
Тут же, в безвыходном лабиринте зеркальных отражений собственных планов и чужих мыслей возникло простейшее решение.
— Подойди ко мне, — тихо сказал Ляхов. Положил ладони ей на талию, там, где начинался плавный изгиб бёдер. Тяжело вздохнул, дёрнул уголком рта.
— Приказы выполнять умеешь. Вольно. На сегодня других не будет. Можешь отдыхать…
Пристально посмотрел ей в глаза.
— А если без приказов…
Пальцы на её теле слегка дрогнули, и этого оказалось достаточно. Людмила подалась вперёд, опустила руки, запрокинула лицо. Вадим коснулся губами её приоткрывшихся мягких губ. Совсем легонько, чтобы, в случае чего, это сошло просто за пожелание доброй ночи.
Она тут же ответила, обвила руками его шею, прижалась всем телом.
Неужели за несколько часов я успел произвести достаточное впечатление? — удивился Фёст, вспоминая, как нужно целоваться с юными девушками, впервые это позволившими. Чтобы и не разочаровать, и не испугать. — У неё здесь никого не было, Секонд в курсе…
В том, что он, тридцатилетний, приятной наружности мужчина, способен нравиться женщинам, сомнений у Ляхова не было, но всё равно странно как-то. Непривычно…
Наконец они оторвались друг от друга, Вадим крутанул девушку за руку, усадил рядом с собой на край постели. Наклонился, потёрся щекой о высоко приподнятую, классической формы грудь.
— Ты, это… Не думай, если что… Я сейчас пойду. — Просто — не удержался вдруг… Красивая ты…
Он сделал движение, чтобы встать. Людмила придержала его.
— Подождите. Поцелуйте меня ещё. Как хотите… Меня никто раньше не целовал. Вы так похожи с вашим братом. Мне кажется, что вас я тоже очень давно знаю. Потому и не боюсь совсем, — шептала девушка, пока Вадим целовал её крутые груди с затвердевшими сосками. Никакими духами от них не пахло, только слегка — туалетным мылом.
«Всё правильно, — думал он. — На пароходе, сколько они там прожили, всех мужиков — Воронцов да Секонд. Поневоле привыкла, где-то и влюбилась немножко. А при нём — жена неотступно. И в части — опять он то и дело перед глазами мелькал. В блеске погон и аксельбантов. И тут вдруг на тебе — брат-близнец, совершенно свободный. Очень даже интересно, — должна подумать Людмила. Теперь, главное, её не спугнуть. Несколько слов не так скажешь — и привет…»
— Ты, знаешь… — сказал он, с сожалением отстраняясь от Людмилы, — накинь на себя что-нибудь. Тут ещё работа кое-какая предстоит. Так чтобы не отвлекаться…
— Вам со мной не понравилось? — И опять глаза повлажнели. Но отстранилась послушно, нащупала рукой край простыни, набросила через плечо. Грудь вроде по-прежнему на виду, а вроде и прикрыта.
«Как она с таким эмоциональным фоном в „печенегах“ служить сможет?» — удивился Фёст, не сразу догадавшись, что для Вяземской, да и остальных её подруг работа — это одно, а собственные чувства — совершенно другое. Понятия абсолютно разноплановые. Непересекающиеся.
— Очень понравилось. — Он снова поцеловал её в губы. — Ты чудесная девочка. Только сначала как следует подумай. Вдруг ты принимаешь меня за кого-то другого? Даже если мы с братом очень похожи, я — не он. И наоборот. Жизнь, надеюсь, у нас не сегодня кончается…
Ляхов с огромным усилием отстранился от девушки, настолько красивой и настолько готовой стать для него самой-самой… О какой всю жизнь мечтал. Потому и отстранился. Завтра, может быть — послезавтра что-то и выйдет. Если она захочет увидеть в нём того самого человека. Тогда и подойдёт. Нет — нет. Тридцать лет прожил — ещё проживу.
— Тогда я вот тут, с краю постели прилягу, — прошептала Люда, — вы отдохнёте, будем работать.
Легла, вытянувшись всем своим прекрасным телом, накинула поперёк бёдер простыню. Из скромности, как будто. Грудь не закрыла, а то место — сочла нужным. Ляхов поразился, но через минуту она действительно спала. Глубоко, по-настоящему. Такого не изобразишь. Ему пришлось выпить ещё рюмку коньяка, выкурить сигарету, изо всех сил заставляя себя не смотреть на раскинувшуюся, спящую на спине Вяземскую. Вот и Бунин вспомнился:
Или не Бунин? Да какая разница?
Провёл ладонью по щеке девушки, послушал её тихий, неизвестно чем вызванный вздох, и вышел. В соседнем кабинете устроился на диване, целый час пялился на мутные фонари за окном, слушал стук капель по козырьку подоконника — снова дождь пошёл — и незаметно для себя уснул. Правда — ненадолго. И Люду разбудил. Служба есть служба, работа — работа. Единственное, что себе позволил, — приобнял за талию и коснулся губами шеи в вырезе халатика, что она на себя накинула. Ничего больше.
Все трое встретились в гостиной только утром. Людмила, в узких белёсых джинсах и сиреневой, в цвет глаз, маечке, туго обтягивающих соблазнительные формы, была спокойна, деловита, явно готова к дальнейшей работе. Хоть теоретической, хоть «в поле». Только общее выражение лица, глаз, манера держаться почти неуловимо для постороннего изменились. Однако Секонд посторонним не был. И порадовался за обоих, не обратив внимания на совсем лёгкий укол ревности.
— Люда, кофейку не затруднись, — попросил Фёст.
— Кофейком не обойдёмся, — сказал Секонд, когда девушка ушла на кухню. — Всё в порядке?
— Более чем, — ответил Ляхов-первый со странной интонацией, закуривая, вопреки общей привычке, до завтрака. Потянулся к пульту, включил первую программу телевизора.
Секонда до сих пор поражало, что в этом мире имелось больше полусотни программ кабельных и под двести тарелочных. Как в очень старом еврейском анекдоте совсем на другую тему: «Кому это надо, и, главное — кто это видит?»
Как раз начинались утренние новости. То, что Вадим услышал из уст очень красивой дикторши с нерусской фамилией, его не то, чтобы совсем уж потрясло, но близко к этому. При всём его опыте участия в боях и спецоперациях. «Прав был Фёст, все мы перед ними салаги! Я думал, он на девочку девятнадцатилетнюю запал, хвост павлиний распустил, уговорил, походу и всё. Дела побоку. Ночь короткая, Вяземская — мечта, а не женщина. Начальства над ним нет.»
Вадим здраво оценивал свою (их с Фёстом общую) натуру. Если бы не Майя, если бы вообще шанс аналогом поменялись местами, он наверняка предпочёл бы ласки Вяземской любому, никому, по-большому счёту, не нужному делу. Президента в другой раз удивить можно. А вот братец поупёртее в своих намерениях, оказывается. «Первым делом, первым делом самолёты, ну а девушки, а девушки потом», — вспомнил он песенку из старинного фильма о здешней Отечественной войне.
Тридцатилетняя дама (по меркам секондовской России), улыбаясь только губами и не двигая ни одной другой мышцей на тщательно раскрашенном (как здесь принято) лице, мелодичным голосом сообщала собирающимся на работу соотечественникам, что в течение минувшей ночи случилось несколько удивительных происшествий. Для них здесь, в этом мире, ни страшных, ни трагических, просто — удивительных.
Известный рядом умеренно скандальных подробностей биографии депутат Госдумы господин «N» в три часа ночи возвращался из ночного клуба за рулём собственного «Бентли». Естественно, приобретённого непосильным трудом на ниве сомнительного законотворчества и ещё более сомнительного лоббирования. На скорости около двухсот километров в час вишнёвый красавец с большим шумовым эффектом пробил ограждение Краснохолмского моста и канул в грязные воды Москва-реки. Какой-либо злой умысел или теракт исключаются, поскольку нарушителя последние десять кварталов преследовали патрули ДПС, непрерывно подавая звуковые сигналы. Автомобиль и тело ищут до сих пор по причине крайней мутности воды и сильного течения.
— Номер раз, — сказал Секонд. Фёст равнодушно кивнул.
Люда прикатила столик с кофейником, чашками и тарелочками с холодными закусками.
— Может быть, вам яичницу поджарить? — спросила она, как настоящая хозяйка.
— Спасибо. Лучше потом в город сходим, пора тебе с ТВД[25] знакомиться, — поблагодарил Фёст.
— Всем хорошо известный предприниматель «NN», недавно поднявшийся на три пункта в списке Форбса, выпив сверх всякой меры в большой компании друзей в своём швейцарском замке, безобразно поскандалил со своей третьей женой, ударил её по лицу, вышел в соседнюю комнату и почти демонстративно выстрелил себе в голову из пистолета большого калибра, — сообщила дикторша.
— Два, — загнул палец Секонд. Фёст разлил по рюмкам коньяк.
— Ну, за всё хорошее. — Он посмотрел на Людмилу и едва заметно ей подмигнул. Вадим-второй увидел, что сияющий взгляд девушки направлен только на «брата». Того, что звучало с экрана, она, кажется, даже и не слышала.
«Везёт же людям», — внутренне усмехнулся он и тоже выпил.
— Сегодня же ночью, предположительно между тремя и четырьмя часами утра, один из предполагаемых кандидатов на должность Генерального прокурора «Z» в собственном загородном доме на Рублёвском шоссе, соперничающем размерами и архитектурой с дворцом артиста «М» (этот факт дикторша с нескрываемым удовольствием подчеркнула интонацией), оступился на лестнице. От удара затылком о мраморные ступени произошёл перелом основания черепа. По словам врача «Скорой помощи», давшего эксклюзивное интервью нашему корреспонденту, случайно оказавшемуся вблизи места происшествия, пострадавший скончался мгновенно. Кроме него, жены и двух собак бразильской породы (что исключает возможность проникновения злоумышленников), в доме никого не было. Ведётся расследование. В настоящее время на месте работают бригады сотрудников прокуратуры, МВД и МГБ.
— Уже три, — вздохнул Секонд и искоса взглянул на Вяземскую. На Фёста смотреть было бесполезно. А если он заставил девушку к этим происшествиям руку приложить, неужели ничего не вогнет у неё в лице?
Глупая, в общем-то, мысль. Как будто не сам он помогал инструкторам готовить из «великолепной семёрки» настоящих валькирий, воинственных дев. Правда, готовили их в основном к вооружённой борьбе на поле боя, а тут — несколько иное.
— Нашим обозревателям кажется, — сказала дикторша, старательно делая скорбное лицо; — количество несчастных случаев за минувшие сутки превышает статистическую норму. Это, конечно, не взрыв на шахте, но столько совпадений. Только что мы получили сообщение с другого континента. Директор департамента Главного финансового контроля такой-то, находясь в отпуске и катаясь на гидроцикле в Палм-бич (там ещё был вчерашний вечер), на полной скорости врезался в бетонную причальную стенку. С безусловно летальным исходом. Американскими властями проводятся следственные мероприятия и анализы для определения присутствия в организме алкоголя и наркотиков.
По предварительной информации от неназванных источников, все потерпевшие имели в своё время достаточно тесные контакты с представителями крупных ОПГ.[26] Однако какие-либо выводы делать преждевременно.
А теперь — новости из Индии. Скоростной экспресс Калькутта — Бомбей столкнулся со встречным поездом. Семьдесят погибших, триста раненых. По предварительным сведениям, причина — взрыв полотна маоистскими террористами.
— Четыре, — вздохнул Секонд, почти против воли протягивая Фёсту пустую рюмку. — В каком е интересном мире вы живёте…
— А у вас поезда не сходят с рельсов и миллионеры по пьяни не стреляются?
Сейчас Фёст выглядел вполне довольным жизнью человеком. А Секонд, забыв о грустных сообщениях здешнего ТВ, снова смотрел на Людмилу. Чёрт его знает, может, и не было у них сегодня общей постели. Очень возможно, что вдвоём и крайне лихо проведённые за те шесть часов, что он безмятежно спал, операции сблизили их гораздо больше.
Юной, жаждущей романтической любви девушке что нужно? Капитан Грей на алых парусах или просто добрый и честный парень, осторожно коснувшийся губами к уголку её губ, не сделавший того, чего она одновременно и боялась, и хотела? А он намекнул и отстранился, в ожидании ответа… Многие при такой, инстинктивной, прямо скажем, политике проигрывают. А кое-кто и наоборот. Предложив кандидатке в любимые поиграть в другие игры.
Вяземская, ощущая себя в полном праве, присела на подлокотник кресла Фёста, причудливо сплела ноги. Смотри, как я теперь могу, словно говорила она второму. Хоть ты мне и начальник, но — я его женщина, это ты тоже запомни накрепко.
— Да, президенту сейчас, наверное, есть о чём думать. А вам — не о чем? — спросил Ляхов-второй.
— Что-то мне такое вспоминается… — врастяжку начал говорить Фёст. Людмила тут же заботливо налила ему в чашечку кофе по-венски. Он благодарно кивнул.
— Что-то такое… Перевал не берём. А из пулемёта разрывными пулями по совсем неизвестным тебе людям в Москве[27] — можно? Подумаешь, мужики по паре штук баксов решили подзаработать, ни тебя не зная, ни меня. А мы их — в кровавые дребезги! Помнишь, как танк со всем боезапасом взорвался, и с экипажем, естественно? «Три минуты над кварталом потроха его летали». Совесть не мучает? По ночам нормально спишь?
Вадим непроизвольно, подчиняясь волевому напору двойника, постарался обратиться к подсознанию.
Нет, те эпизоды его не мучили.
— Так какого же… ты мне сейчас достоевские комплексы навязываешь? Моралист, мать твою…
Секонд увидел, что Людмила и улыбается, и кивает одобрительно словам, пусть и матерным, своего нового, точнее — первого, и, пожалуй, последнего друга. Зачем ей другой?
— Ты думаешь, это мы с Людой их убили? Ни хрена. Все — сами. Подсказать, подтолкнуть под руку — это было. Обо всём рассказывать не буду. Лишнее. Но вот с этим, в Швейцарии — чистая психология. Он на самом деле за вечер выпил с литр виски, дико орал на друзей и обслугу, дал по морде жене (и было за что), цепляясь за перила, кое-как вскарабкался по лестнице к своей комнате, а там…
— Можно я скажу? — ласково спросила Вяземская. — А там я. Без одежды, понятное дело. С мазками губной помады на запястьях. Очень похожая статью и прочим на одну девушку, которая из-за этого подонка перерезала себе вены несколько лет назад. Говорю — дорогой, с тобой что-то случилось? Сейчас мы всё исправим. Снова всё станет как было. Главное, ни о чём не думай. Вот (он, выход, — и протягиваю ему рукояткой вперёд «найнтин элевен».[28] А другой рукой пытаюсь погладить по щеке. — Сделай это, — шепчу, — и мы будем вместе навсегда…
Он диким взглядом посмотрел на пистолет, схватил его и выстрелил себе снизу вверх под челюсть. Я за него спуск не нажимала…
Как выглядели последствия выстрела, Людмила уточнять не стала.
— Так его что, за девушку? — глупо спросил Секонд.
А разве мало? — удивился Фёст. — Если мало, прибавь ещё десять миллиардов долларов и. остаточное количество махинаций, в том числе — имеющих отношение к поставкам оружия с заводов и складов на Кавказ и в иные регионы. Там, пожалуй, счёт наших убитых солдат на сотни идёт. Пацанов-срочников. Плюс гражданское население. По здешним меркам — почти ничего особенного, но с кого-то ведь надо начинать? Я президенту обещал. И при необходимости на всех остальных столько компры представлю… Через нынешний суд земной, может, и не прокатит, а небесному — вполне достаточно.
— Будешь с ним сегодня встречаться? Вечером. Днём он сильно занят. Сегодня, пожалуй, особенно. Так ты с нами или как Понтий Пилат?
— Куда я от вас денусь? Только роль моя здесь не совсем понятна, — пожал плечами Секонд.
— Для начала — как прошлый раз. Будешь моим дублёром, если обстановка потребует. Оператором установки. А на будущее есть работёнка. По специальности. Днём, пока делать нечего, давай весь твой женский отряд сюда переправим. Через ту квартиру: в этой я кое-какие обеспечивающие мероприятия собираюсь осуществить. А девчонкам, пока Тарханов занят, своей властью через Стрельникова за одесские подвиги по недельке отпуска организуй. С запасом. Мы тут, по здешнему времени, может, и за сутки управимся, но мало ли… Непременно — с правом выезда за пределы столицы. В Питер, например, для коллективного осмотра достопримечательностей. А то и в Гельсингфорс, в гости к твоим родителям. Папаша наш, почти общий, морские прогулки организует, то да сё… Сообразишь? — Фёст, сказав об общем папаше, слегка скривился.
У Секонда, действительно, отец, в чине старшего инспектора кораблестроения, то есть, попросту, инженерного вице-адмирала, имел огромную квартиру в Гельсингфорсе на Эспланаде и дачу на берегу. Его же родитель, отставной контр-адмирал, жил в петербургской трёхкомнатной «хрущёвке» в Автово, получая грошовую пенсию. Не посылал бы Вадим родителям денег — перебивались бы с хлеба на квас.
— Уж это — полностью в наших силах. Лариса, к примеру, мадам Эймонт по мужу, совершенно случайно оказалась сводной тётей Вирен Инги Робертовны. С бумагой, от её (Ларисиного) имени моей Майей написанной, могут и в Стокгольм поехать… По местам боевой славы предков. Там несколько сельских участков им теоретически принадлежат, глядишь — отсудят. В любом случае — своё присутствие зафиксируют.
— Это, может, и лишнее на данный момент, а вообще идея хорошая, — прикинул Фёст. — Однако сейчас им в моей реальности вертеться придётся. Какая там Швеция…
Внезапно обозначилась проблема с размещением «валькирий» на Столешниковом. Если семь молодых и красивых девиц в ней сегодня-завтра поселятся, внимание на сей примечательный факт непременно обратят. Не соседи, соседям без разницы. Кроме профессора с супругой с верхнего этажа, остальные тут люди серьёзные, занятые, им чужими делами интересоваться некогда.
Бывший в полном курсе[29] истории приобретения смежной жилплощади через голову держащих центр Москвы бандитов, Фёст, кое в каких вопросах поопытнее не живших здесь в девяностые Новикова и Шульгина, с большими основавши предполагал, что присматривать за этим местом продолжают.
Самое простое было бы — поселить девчонок в какой-нибудь большой гостинице неподалёку, в «Метрополе», «Национале» или даже «Рице» (денег бы хватило). Там они наверняка потеряются среди нескольких сотен других постояльцев, но для стратегического замысла — крайне неудобно. Фёсту нужна была команда в сборе. В любое время дня и ночи.
Тем более ни снаряжение, ни оружие в номерах самого «надёжного» отеля не оставишь. Прислуга непременно работает или на власть, или на ОПГ. В каком-нибудь Париже можно положить на тумбочку запертый кейс с деньгами и рассчитывать, что любопытного с фомкой среди горничных и гарсонов в ближайшие сутки не окажется. Да и то…
Придётся действовать напрямик. «Честность — лучшая политика», в чём лично убедился герой хорошего фантастического рассказа, пообщавшись с инопланетными агрессорами.[30]
Фёст, взяв с собой Людмилу, спустился в вестибюль. В кабинке консьержа за пуленепробиваемым стеклом дежурил один из шести охранников, нанятых ещё Новиковым. Платили им даже по московским меркам крайне прилично, и текучесть кадров в отделении была нулевая. Кроме того, имелись ещё какие-то причины их верности служебному долгу и особой преданности лично хозяевам двух конкретных квартир. Хотя и с прочими жильцами они были предупредительны и профессионально вежливы.
Уезжая якобы в длительное путешествие, Новиковы и Берестины, на которых и была зарегистрирована жилплощадь, по полной юридической форме доверили все права проживания и распореженния господину Ляхову. А Шульгин, пользовавшийся у охраны ещё большим авторитетом, чем сами хозяева, перед отбытием представил Вадима всему личному составу и с непререкаемой убедительностью сообщил, что данный товарищ в его отсутствие будет по отношению к ним пользоваться всеми правами командира отдельной части в военное время. Если кому не нравится — расчёт роизведём на месте. У нас — свобода личности и трудовых прав граждан. С одновременным аннулированием разрешений на ношение короткоствольного боевого оружия. Всякие там «макарычи» и «наганычи» нас не касаются.
Охранники — все люди послужившие, с боевым опытом, сразу и отчётливо поняли всё, что не только говорит, но и подразумевает «шеф». Как-то сразу им стало на подкорковом уровне понятно, что никак не меньше он по званию, чем генерал. Они могли только догадаться — какой именно генерал.
Возражений на его слова не последовало. Однако Ляхов-первый всё равно не испытывал полной уверенности в надёжности этой службы. Имелся у него собственный опыт. Кого-то можно перекупить, кого-то запугать, а кто-то с самого начала мог оказаться специально внедрённым «кротом». Всё в этой жизни случается. А сейчас, на пороге великих дел, прокалываться на пустяке совсем не хотелось.
Представил Вяземскую старшему наряда, серьёзному мужчине слегка за сорок, отставному майору Тихоокеанской морской пехоты, прихватившему в три приёма больше года непрерывных боёв на самой что ни на есть передовой.
С его специальностью куда по нынешним временам человеку деваться? ОБЖ в школе преподавать или — сторожевать. А на этом месте платят больше, чем его прежнему командиру дивизии. Плюс чаевые ежедневно и премиальные от каждого жильца, по-разному, но в среднем — раз в неделю. Посторонние, не входящие в договор услуги почти всем требуются. Иногда совсем неожиданно. Как вот сейчас.
— Это, Борис Иванович, моя племянница, Люда. Месяц-другой у нас поживёт, осмотрится, может, поступит куда-нибудь учиться. Пока не решила.
Главный консьерж кивнул, добро пожаловать, мол. Скупо улыбнулся, несмотря на то, что девушка перед ним стояла — загляденье. Непременно бы приударил, не здесь познакомившись.
— Она вам хлопот не доставит. Девушка тихая, домашняя. С правилами внутреннего распорядка ознакомлена. Только вот беда, пользуясь моей природной добротой, упросила меня разрешить, чтобы подружки к ней приехали. Погостить, Москву посмотреть. Провинциалки, столицу никогда не видели, а эта балаболка им напела, что у дяди две квартиры в центре пустые стоят и очень им здесь удобно будет разместиться…
Отставной морпех вежливо кивнул, ожидая продолжения. Просто так подобные речи не заводят.
— Вот сегодня всей компанией и заявятся. Понятное дело — беспокойство. Вам в том числе. Будут по двадцать раз на дню шнырять туда-сюда.
Ха-ха да хи-хи и всё такое. Нет, парней водить не будут, это я железно гарантирую — девчата порядочные. Всё же с юга, там с этим построже. Я, Люда, правильно говорю?
Ляхов взглянул на неё, как и положено дядюшке — домашнему тирану. Она с готовностью закивала.
— А всё же лишнее беспокойство, — сказал Фёст и просунул в окошко караульной будки три красные бумажки.
— С юга, вы сказали? Из каких краёв? — спросил консьерж, сметая деньги в ящик стола.
— Из Кисловодска. Так что я вас попрошу — будут бегать, пусть бегают. Не обращайте внимания… В лицо каждую запомните, с другими вряд ли перепутаете.
Сказано было с едва заметным нажимом.
— А если вдруг что не так покажется — мне сообщайте. То же и по всем сменам передайте. Кстати, Борис Иванович, вы про такую организацию — «Чёрная метка» — слышали?
Скулы консьержа на какое-то мгновение затвердели. Не наблюдал бы за ним Ляхов так пристально, мог бы и не заметить. Так для того и разговор завел.
— Что-то приходилось. Краем уха. А вы почему спрашиваете?
— Телевизор сегодня посмотрел. — Вадим коснулся рукой локтя Вяземской. — Ты, Люся, меня на крылечке подожди, я скоро.
Она послушно кивнула, пошла к парадной. Борис Иванович нажал кнопку — турникет и броневая дверь открылись.
Вадим тщательно фиксировал всё: и как она — себя ведёт, как он сам, как консьерж. Кажется — нормально. Даже будучи в курсе, не заметил в поведении Людмилы малейшего прокола. Отставной майор, кажется, тоже. Ни взглядом, ни жестом, ни походкой она не проявила принадлежности к элитному офицерскому корпусу.
— Вот и я посмотрел. Что ещё на посту делать, если настоящей работы нет? — Борис Иванович раскрыл армейский, дембелями в подарок уважаемому начальнику сделанный портсигар из латуни гильз от «ЗСУ-37». С чеканкой, травлением, полуготическими буквами «Славянка, 1985-88».
— Закурим, товарищ… — Консьерж сделал паузу, ожидая, когда фактический хозяин десяти-комнатной квартиры назовёт своё звание и можно будет говорить на том или ином уровне.
Ляхов молча взял из рук собеседника портсигар, преувеличенно долго его рассматривал со всех сторон, только потом закурил «Лаки страйк» без фильтра.
— А мне такого не подарили, — сказал с лёгким сожалением. — Майор я тоже. Последнее время служил в миротворческих силах ООН. Чад, Сомали, Судан, Израиль… В отставку вышел добровольно, кое-чего подкопил, а так… — Он махнул рукой. — «Жена моя, красавица, оставила меня. Она была ни в чём не виновата. Ни дома, ни пристанища, какая там семья? Аты-баты…».
— Как же! Трофим. Уважаю. Так что, товарищ майор, насчёт «Чёрной метки»? — Будто не Ляхов первым задал свой вопрос.
— Да я тоже — краем уха. А интересно. Думал, вы люди к таким делам поближе моего, что-то достоверное знаете.
— Откуда? Там совсем не наш уровень. Но попросту так скажу — давно пора. Всех уже этот барк достал. Вы думаете — это они? — Они — не они, откуда мне знать? Я не в МГБ служил. Однако впечатляюще так всё сложилось…
— Ваш друг — генерал — тоже ничего не знает? — теперь с откровенным, почти провоцирующим интересом спросил консьерж.
— Знает — не знает, моё ли дело? Он в основном по космической части. Где-то в Гвиане соображает, как очередную ракету на геостационарную орбиту запустить…
— Понятно. Интересно было поговорить. А то мимо пробегаете, едва кивнёте…
Они ещё раз обменялись с Борисом Ивановичем изучающими, но приязненными взглядами, синхронно улыбнулись, и Ляхов с Людмилой отправились как бы приезжающих подружек встречать.
«Явно не дурак бывший морпех, — думал Ляхов. — Не знаю, что там у них с Шульгиным и Новиковым было, каких деликатностей касались. Но меня, он, кажется, просёк, за своего признал. Не вышло учёного придурка убедительно сыграть. Да и чёрт с ним. Нам не только на верхушку опираться, нам надо, чтобы простые ребята, вроде этого поверили…» Он решил, когда вернётся домой, связаться с кем-нибудь из руководства «Метки» и попросить, чтобы всю бригаду охранников деликатно, но проверили. Бережёного бог бережёт. У него возможностей, как у старших братьев, нет.
Только на себя полагаться можно, да вот ещё на Люду с подружками. Эти уж точно не выдадут.[31]
Переброску отряда «валькирий» из той Москвы в эту организовали по сложной, но безупречной с точки зрения безопасности схеме. Сначала Секонд организовал переход группы с полным боевым снаряжением, под командой Анастасии в квартиру по СПВ, вернулся в свой штаб и вручил Уварову предписание о направлении означенных сотрудниц в отпуск.
Валерий, достаточно знающий своего командира, сразу догадался, что за «отпуск» девушкам предстоит, и настоятельно попросил подключить к операции и его. Ляхов пообещал, что в ближайшее время что-нибудь придумает, и заверил, что ничего опасного девушкам не предстоит, вполне рутинная психологическая работа. А за Вельяминовой обязался присмотреть лично, чем вызвал некоторое смущение подполковника.
На Столешниковом снабдили подружек российскими паспортами, которые принтер квартиры отпечатал так, словно стоял в комнате ПВС[32] Кисловодского горотдела УВД, со всеми присвоенными именно этому подразделению очередными сериями, номерами и секретными метками. Велел переодеться в то, что приготовила подругам уже освоившаяся здесь Вяземская, и по одной пропустил через «окно» в туалетные кабинки Курского вокзала. Иначе их внезапное появление выглядело бы странно. У выхода в зал ожидания их встретили Фёст и Вяземская.
Среди тысяч людей, вываливающихся на московскую землю из непрерывно прибывающих с южного направления поездов, шесть девчонок в джинсовых платьях и костюмчиках не привлекли и малейшего внимания. Двумя группами, одна в сопровождении Вяземской, вторая — Фёста, на отдалении около пятидесяти метров, расстоянии прямой зрительной связи пешком прошли с Земляного вала через центр к месту постоянной дислокации. Ляхов видел, что эта Москва нравится девочкам больше той. Кто его знает, почему? Возможно — именно разлитой в воздухе аурой постоянной, пусть не обозначенной чётко опасности. Они для подобной жизни и выращены. Что делать овчарке в мире, где нет и не предполагается наличия как овец, так и волков? А здесь тех и других имелось в изобилии.
Он смотрел на милых красавиц, шедших под присмотром дядюшки по прекрасным улицам, и видел, что они фиксируют каждый бросаемый на них встречными мужчинами и парнями взгляд. В Москве Секонда большинство взглядов были благожелательными или нейтральными. Здесь — иначе. Разброс настроений чересчур широк, и позитивных зарядов гораздо меньше. Были и они, конечно. Увидит вдруг человек перед собой красивое лицо, изящную фигурку и озарится обрадованной улыбкой, будто в музее, наткнувшись на Мадонну Литту или Афродиту. Многие же прохожие — проезжие, на вид вполне приличные, сразу цепляли девушек совсем другим, отчётливо транслируемым настроением: «Ах ты, сучка, нарисовалась тут! А вечером — на панель! Куда ж ещё с такой рожей и задницей?!» Или: «Ты, значит, такая вся из себя,…! А вот поставить бы тебя… тогда что запоёшь?» И совсем почти невинное: «Сколько же штук тебе надо отвалить, чтобы ты не с этим козлом шла, а со мной?» Несколько раз им кое-что и вслух высказывали, от незамысловатых комплиментов до прямых предложений.
Подопечные жадно ловили эту давным-давно надоевшую Фёсту ауру «большого города». Вроде бы и туристки-провинциалки, а в то же время — офицеры на рекогносцировке ТВД. Он с тайным наслаждением представил, какое интересное, в стиле Стивена Сигала, зрелище могло бы получиться, перейди хоть один из тех, что идут по улице или едут в «Мерседесах» и «Лексусах», пялясь в открытые окна, не ими определённую грань.
К сожалению, ему не пришлось по присутствовать на вечеринке в Кисловодском парке. А он любил красивую «работу».
— Девочки, садимся, — скомандовал он, увидев в тени столетних лип кафешку, со столиками на тротуаре. — Всем — спрайт и мороженое, мне — пива.
…Вторая встреча с главой государства состоялась раньше, чем накануне, в половине одиннадцатого вечера.
Фёст, включив СПВ односторонне, с минуту долго смотрел на президента, читающего какие-то бумаги в своём домашнем кабинете. Выглядел он явно озабоченнее, чем вчера. День наверняка выдался непростым. Было с чего. Вадим примерно представлял, чем он мог заниматься сегодня, с кем совещаться, какие задачи ставить «силовикам», как отвечать на вопросы встревоженных, а то и напуганных приближённых.
Повернул верньер, тем самым «включив» президентский телевизор.
— Добрый вечер, — поздоровался он и заметил, что президент непроизвольно вздрогнул. А кто бы не вздрогнул?
— Как вам моя маленькая демонстрация?
— Послушайте, господин Александр Александрович, или как вас там! — Человек с той стороны экрана вложил в интонацию весь металл, запас которого у него имелся. — Демонстрация вполне убедительная, но нельзя же так!
— Как? — спросил Фёст невинным голосом, совсем не вязавшимся с его пиратским обликом.
— Вы развязываете абсолютно беззаконный и бессудный террор! Если всё это, конечно, не дикое Совпадение…
— Я ещё вчера хотел вас попросить — в ситуации невозможной, фантастической, бредовой, если хотите — постарайтесь оставаться самим собой, забыв о роли, о должности, что на вас возложена. Просто самим собой, если у вас остались хоть какие-то воспоминания о подобном состоянии. Трудно, не спорю, но всё же?
Фёст впервые увидел, как президент достаёт из кармана домашней вельветовой куртки пачку «Кэмела» и закуривает. Значит, прошлый раз ещё пытался поддерживать привычный всей стране имидж. А теперь — сдался?
— С вашим знанием обычной теории вероятности — крестики на вчерашнем листе и то, о чём вещала очаровательная дикторша ТВ, попадает в сферу «диких совпадений»? «Мастера и Маргариту» давно перечитывали? Есть там чудесная фраза насчёт того, что человек иногда бывает «внезапно смертен». Да и вообще в этом романе масса интересных мыслей, доступных людям со вполне средним, а иногда и начальным образованием…
— Я не пойму, вы специально, пользуясь своим положением, пытаетесь меня оскорбить? — задумчиво спросил президент, глубоко затягиваясь сигаретой вражеского производства.
— Захотел — оскорбил бы так, что надолго хватило бы. А я просто выискиваю точки, где вы ещё остаётесь нормальным человеком. Не так много осталось, но ещё есть…
— Опять грубость на грани хамства.
— Извините, но мне отчего-то кажется, что вам в глубине души нравится мой тон. Давно с вами так никто не разговаривал. Да, что-то вы там говорили насчёт беззакония и бессудности. Прямо только что. Забавно — с вашим-то юридическим образованием. Вы, когда бреетесь, в зеркало на себя глядя, не смеётесь? У меня иногда случается. Ваше высокопревосходительство, введи вы завтра в доверенной вам стране закон, суд и так называемую «социальную справедливость», немедленно исчезнет почва для моих жёстких, но пока ещё эффективных поступков. Готовы?
Президент прикурил вторую сигарету, раздавив в пепельнице не до конца догоревшую первую.
— Вы ведь понимаете — такое невозможно, я не Сталин.
— Кто бы спорил. А посадить на самую верхушку десяток полностью верных вам людей и организовать толковую зачистку продажных нижестоящих — тоже трудно? Министр МВД не в силах нагнуть до пола начальника областного и даже районного отдела. Генеральный прокурор возбуждает уголовные дела против честных офицеров, исполнявших ваш приказ. Суд присяжных их оправдывает. Вопреки всем законам и даже понятиям прокуратура решение суда отменяет. Вы молчите. Вам самому не смешно?
— Смешно — слово не из того смыслового ряда. Вы — не знаю, кем на самом деле являетесь — жестокий идеалист. Бывали в истории такие. Хуже вас или лучше… Впрочем, количественные оценки здесь едва ли применимы.
— Не смею возразить. Тогда вы — мягкотелый прагматик. Кажется, того парня, что ночью по пьянке застрелился, вы числили в когорте «приличных людей»? Пусть там и остаётся. Я, честно говоря, осмелился предположить, что прямо с утра вы должны были затребовать настоящие досье на жертв несчастных случайностей. И, с точки зрения обычного юриста, задать вопрос себе и своим помощникам: каким образом подобные люди так долго оставались на свободе и кто персонально приложил руку к обеспечению их безопасности и процветания? Далее, при получении ответа, дать законный ход. Несчастный случай есть несчастный случай, покойника к суду не привлечешь, но ведь все их подельники вполне в сфере досягаемости…
Или в нашей стране подобные элементарные шаги даже для президента уже переместились в область фантастики?
Ответа не последовало. Вернее, последовал, но не ответ, а вопрос. И тоже не из самых умных.
— Вам не надоел этот грим? — спросил президент, намекая на чрезмерную театральность облика собеседника.
— А у вас перед глазами никогда не разрывалась миномётная мина? — Фёст имел в виду ту, что ударила между ним и его Тархановым. Его самого осколки в очередной раз не зацепили, а майору пробили голову. Если бы не Шульгин, умер бы «бедняга в больнице военной», как написал в своём жалостном романсе Великий князь, он же поэт, знаменитый «К.Р.». — Нет? Жаль. Много интересных впечатлений мимо вас пролетело…
Подождал реакции, её не последовало. Тогда Фёст задал следующий вопрос:
— Что вы скажете насчёт очередных крестиков в списке? — и подал через экран новый лист. — Если там есть чем-то симпатичные вам люди — вычеркните. Взамен других отметьте…
Президент мельком взглянул на него и отложил в сторону.
— Неужели вы не в состоянии понять, что ваша затея — аморальна и одновременно бессмысленна? Печальный опыт народовольцев и эсеров ничему не научил?
— Ну, сейчас мы находимся на несколько ином уровне общественного и технического развития, — с усмешкой ответил Ляхов. — Почему вы так старательно уходите от сути разговора? Моим моральным обликом можно озаботиться несколько позже. Гораздо рациональнее спокойно, с со знанием дела и на условиях полной конфиденциальности попробовать просчитать реальные последствия начатой мною акции. Ваших слов никто сторонний не услышит, я их оглашать не собираюсь — смысла нет.
Давайте обсудим хотя бы пункт первый — на какой по счёту справедливой и вполне случайной жертве в определённых кругах начнётся паника? В какой момент правоохранительные органы решат заняться своими прямыми обязанностями, чтобы элементарно сохранить свою ресурсную базу. Итак далее…
Фёст тоже закурил. Дымок сигареты потянуло сквозняком от него в кабинет президента.
— Да вот, кстати, — прервал он предыдущую тему, — хочется спросить — почему вы так безразлично относитесь к факту появления в мире такой штуки, как мой аппарат. Неужели не представляете, что произойдёт с миром, если ввести его в широкое употребление?
— Предпочитаю об этом не думать. Сейчас, отчего-то мне кажется — вы до последней возможности будете сохранять его в тайне. Или не вы, а кто-то ещё. По названной вами причине. Как только информация о вашем «устройстве» станет достоянием гласности, мир на самом деле изменится кардинально, а это в ваши планы не входит. Верно? Следовательно, будем решать проблемы по мере их поступления. Меня гораздо сильнее беспокоит то, о чём мы рассуждаем в данный момент.
— Разумно. Поэтому — ревену а ну мутон. Вы уверены, что мой вариант «индивидуального террора» аморален и бесперспективен. Я считаю ровно наоборот. Сегодня некоторые СМИ получат нечто вроде декларации. От имени мифической организации «Чёрная метка» (которую, антр ну, следовало бы создать на самом деле) я объявлю о том, что ввиду явного бессилия и бездействия власти в России начинается настоящая борьба с коррупцией. Как писал Ленин: «Никакими законами не стеснённая, опирающаяся непосредственно на насилие». Ясно ведь каждому, что именно коррупция — альфа и омега всех прочих неурядиц в стране. Справимся с ней — остальное естественным образом потихоньку нормализуется…
— Идеалист. Действительно идеалист, — с явным сожалением сказал президент. — Неужели не понимаете простейшей вещи — ваша «методика» приведёт к катастрофе. Почти немедленной. В стране просто всё, вообще всё остановится и тут же начнёт рушиться. Пойдёт насмарку то, над чем мы осторожно, не очень заметно, не всегда результативно, но всё же работаем. Остановится производство, будут заблокированы зарубежные и внутренние банковские счета, воцарится финансовый хаос. Затем начнётся хаос кровавый. Под маркой вашей «организации» любой сможет начать делать то же самое. У нас (я специально говорю — нас) отсутствует миллионный, действенный, абсолютно послушный власти следственно-карательный аппарат, чтобы удержать процесс под контролем. И ваше изобретение не поможет. Вы ведь не в состоянии одновременно отслеживать тысячи объектов… Я вас не убедил?
— Вы хорошо подготовились, господин президент. B своё время я тоже весьма преуспел в умении придумывать сотни доводов в пользу того, чтобы чего-то не делать. Вы изобразили вполне апокалиптическую картину и кое в чём, разумеется, правы. Но, во первых, вы не представляете, сколько именно объектов мы в состоянии отслеживать. Допустим, не тысячи, а лишь сотни одновременно, зато — круглосуточно. По часу в день на каждый. Тем самым мы имеем возможность любое нежелательное явление пресечь в корне. Но вы упускаете главное — я ведь предлагаю не очередную социалистическую революцию и не тотальный сталинский террор. Всего лишь систему точечных уколов в нервные узлы. Известные и вам, и мне. Чтобы армия разбежалась или капитулировала, нет необходимости убивать каждого солдата. Достаточно уничтожить, в быстром тем-штабы и системы связи. Или, как писал товарищ Жданов товарищу Сталину: «Мы подрубим столбы. Заборы повалятся сами».
Уголовный кодекс сам по себе просто не слишком толстая и довольно скучная книжка. Только Высоцкий получал удовольствие, читая с любой страницы и до конца. Остап Бендер предпочитал его просто «чтить». Кодекс не имеет целью полное искоренение преступности, он лишь расставляет ориентиры и определяет «меру воздаяния».
Того же хотим добиться мы. В новых условиях на другой основе. Вы ведь изучали историю права. Кодекс Хаммурапи был весьма революционным документом для своего времени. Кодекс Наполеона — тоже. Этот, — Вадим показал президенту книжечку, — давно и безнадёжно устарел…
— Опрометчивое суждение.
— Устарел, — непреложным тоном повторил Фёст, — поскольку не выполняет своего главного предназначения. Точнее — полностью его искажает. Из него, к примеру, практически изъято понятие «конфискации» — альфа и омега борьбы с экономическими преступлениями. Он позволяет судьям давать за государственные преступления условные сроки, оправдывать наркобаронов и торговцев казённым тяжёлым оружием, оставляя в неприкосновенности полномасштабные репрессии за кражу курицы или мобильного телефона. Причём власть совершенно не волнует факт, что содержание под стражей мелкого воришки обходится в сотни раз дороже цены украденного.
За найденный в гараже малокалиберный патрон тысяча девятьсот тринадцатого года выпуска гражданина российских краёв и областей сажают легко и с удовольствием, в то время, как на Кавказе даже крупнокалиберные пулемёты в личном пользовании не являются правонарушением…
Ляхов чувствовал, что начинает нервничать, а это недопустимо.
— Именно с таким порядком вещей мы и боремся. У нас есть Государственная Дума и соответствующие комитеты, постоянно работающие, в том числе и над поднятыми вами вопросами, — ответил президент.
Фёст рассмеялся почти презрительно.
— Как говорится, сейчас все законы пишутся на нарах. А цена прохождения хорошего закона через профильный комитет начинается от миллиона долларов. Это не я придумал, это в любой газете каждый день можно прочитать. Пресловутая «независимость судов» заключается лишь в том, что судья не несёт ответственности за самое абсурдное, но имеющее денежный эквивалент решение, так вот — нам такой порядок надоел. Мы введём собственный Кодекс, о чём широко объявим через Интернет и иными способами…
— Собственный, негосударственный Кодекс — это уже «понятия». Их и так предостаточно.
— Любые законы вырастают из «понятий», каковые есть не более и не менее, чем те же законы, добровольно и свободно принятые внутри некоего сообщества. Чем иным является юридическая система США, как не кодифицированными в течение двухсот лет «понятиями» первопоселенцев? — Обойдёмся без коллоквиума на правоохранительные темы? Едва ли скажете что-нибудь новое для меня. Ответьте на прямой вопрос — есть ли способ убедить вас отказаться от своих планов? На основе какого угодно консенсуса?
Президент смотрел на человека по ту сторону экрана, и весь его жизненный и профессиональный опыт подсказывал, что тот честен в своих убеждениях, пусть и глубоко ошибочных. Честен и готов за них идти до конца. Не задумываясь, что его непреклонность выльется в массу невообразимо тяжёлых последствий.
— Страна только-только начала приходить в себя, а вы собираетесь снова…
— От своих планов мы можем отказаться, если государственная власть немедленно начнёт выполнять задачи, для которых она существует. Если за десять лет сумели посадить одного олигарха, разрешив остальным делать всё, что им заблагорассудится, значит — это не власть. Очередной Карфаген должен быть разрушен. Зачем нам жизнь, построенная на ещё большей продажности и лжи, чем прежняя?
Я понимаю, некоторые финансисты, «крепкие хозяйственники», многие другие, не могущие функционировать вне тщательно выстроенных схем, понесут миллиардные убытки, лишатся бизнесов, а то и жизни. Но основные структуры государства уцелеют. Появится масса новых рабочих мест, снова заработает социальный лифт… В любом другом случае Россия или взорвётся, или тихо сгниёт… Сумели ведь западные немцы после сорок пятого года очень быстро наладить вполне приличную экономику, практически с нуля. Почитайте труды Адэнауэра и Эрхарда.
Президент не догадывался, это было слишком сложно даже для него, что собеседник блефует, очень по-крупному, но другого выхода у Ляхова не было. Он на самом деле не располагал никакими возможностями, кроме чужого фантастического устройства и сотни человек, готовых поработать на его стороне. Слишком мало для седьмой части суши.
— Если вы не хотите подобного исхода, объясните народу нынешние цели и задачи всеми доступными главе государства способами. Если не хотите или не можете — объясню я. В результате моих безрассудных, авантюристических, с формальной точки зрения даже и преступных действий (хотя действия, совершённые в условиях крайней необходимости, не являются преступными, даже если и несут очевидные признаки таковых), кто-то потеряет жизнь безусловно, кто-то вместо миллиарда останется с миллионом — но живой! Множеству людей придётся похлебать тюремной баланды. Так давно известно — кто не рисковал, тот в тюрьме не сидел. Зато очень и очень многие процветут. Ничего другого я не могу предложить, как Черчилль своим соотечественникам в сороковом году.[33] Не помните? Перечитайте. Полезно. Узнаете, каким образом можно навсегда войти в историю.
И ещё я могу обратиться к народу поверх вашей головы. Хоть завтра. И что тогда? Вам придётся что-то ответить. А вдруг неудачно? Участь очередного «короля в изгнании»? Да и то, если удастся перебраться через «румынскую границу».[34]
— Значит, жребий брошен и Рубикон перейдён? Или всё же…
Фёст развёл руками.
— Сожалею, но нет. Вам просто нечего мне предложить. Вы сами признали, а я это знал и раньше, что решительных и радикальных мер для наведения «порядка» вы принять не в состоянии. Это не ваша вина. Воля обстоятельств и специфика исторического момента, не более. Я и моя организация — можем. Естественно, тоже не так радикально, как нам бы хотелось. По той же, только что названной причине. Но мы хотя бы укажем путь. Девяносто процентов населения, когда ознакомятся с нашими «тезисами», нас поддержат, уверен. Кто-то добровольно перестанет брать мелкие взятки, кто-то — давать. Люди станут активнее сотрудничать с правоохранительными органами, информировать нас (и вас) через Интернет. Особенно если мы наладим настоящую обратную связь…
Заметил, что президент хочет ещё что-то сказать, предостерегающе поднял руку.
— Минуточку. Предупреждаю: разворачивать государственную машину для борьбы с нами, а не с ними — бессмысленно и недальновидно. Прежде всего — мы неуловимы. Я сейчас, например, сижу на веранде своего бунгало с видом на Большой Барьерный риф… А это довольно далеко.
Он раздвинул рамку экрана, и президент увидел безбрежную гладь невыносимо синего океана, несколько парусов на горизонте, белые полосы прибоя на мелководье. Технически показать такую картинку не составляло труда. Но выглядело впечатляюще.
— Правда, красиво? А через несколько минут я могу вернуться в Москву или любую другую точку по своему усмотрению.
Президент вздохнул. Его сильной психики хватило, чтобы за минувшие сутки принять случившееся как очередной факт действительности. Другие столь же неожиданные, казавшиеся невероятными достижения технической мысли, вроде атомной бомбы, высадки на Луну или изобретения мобильной связи, были всего лишь больше растянуты по времени, но оказали не меньшее влияние на мир. Как-нибудь и с этим справимся. С немалыми сложностями, конечно, так ведь человечество только и делало, что сталкивалось с очередными вызовами. И до сих пор существует.
— Как с вами связаться, если потребуется? — Спросил он. И пояснил: — Это на самый экстраординарный случай. Вы меня поняли?
— Прекрасно. Белые перчатки — это так красиво и гигиенично. Вот номер, пожалуйста. Я или кто-нибудь из моих людей постоянно дежурит возле этого телефона. Только не советую пробовать его искать, зря время потеряете. В природе его просто нет, фантом, не более. Не очень приятно прощаться на такой ноте, но…
И последнее — хочу вас заверить — никто и никогда не сможет связать то, что может произойти (а может и остаться в области чьих-то болезненных фантазий), с вашим именем. За это я могу поручиться словом офицера. До встречи. А списочек вы всё-таки посмотрите. Вдруг ещё где-нибудь что-нибудь с кем-нибудь случится? Человек ведь, как мы согласились, бывает внезапно смертен… Могу напоследок дать единственный совет. Если вы заинтересованы в том, чтобы с каким-нибудь человеком, отягощённым криминальным анамнезом не случилось никакой фатальной случайности для него есть одно убежище — тюрьма. Реальный срок по правильной статье. В противном случае… Случайность может произойти и по дороге в аэропорт, и в уже взлетевшем личном самолёте. То есть в подобном случае ответственность за жизнь человека, пусть и плохого, нести будете вы — гуманист, а не я — жестокий идеалист. Всего хорошего…
— Хорошо ты ему завинтил, — сказал Секонд. Он сидел сбоку и чуть позади от своего альтер эго, чтобы одновременно видеть и его, и президента. Внимательно всматривался в каждое мимическое движение и вслушивался в каждую интонацию. Очень возможно, придётся его подменять и в этой роли. А президент — человек наверняка очень наблюдательный.
Девичья команда в полном составе расположилась на диванах с другой стороны пульта. Им тоже полезно войти в курс ожидающихся здесь дел. Очень, кстати, близких к тем, какими предполагалось заниматься обычным аггрианским координаторам.
Если бы вдруг каким-то чудом они получили полное оснащение агента-координатора: Шар, блок-универсал, гомеостат, под них настроенные, да ещё и соответствующую поддержку со стороны старших, обеспечивающих на высшем уровне контроль над обслуживаемой территорией…
Очень бы упростилась задача.
Шар в мастерской, оставшейся от Лихарева, имелся, только пользоваться им Фёст мог процентов на десять от фактических возможностей, в пределах, которым его обучил Левашов, сам не слишком большой специалист. Самоучка.
Такая у аггров была хитрая система. Похожая на ту, что в Китае с иероглифами. Знаешь пятьсот — прочитаешь только специально для таких же малограмотных издаваемые брошюрки и газеты. Знаешь две тысячи — среднюю школу можешь закончить. Десять тысяч постиг — открыты для тебя все сокровища китайского и мирового разума.
И вдруг у него мелькнула идея. Великолепное озарение, какими иногда достигаются невозможные в рамках классических теорий результаты. Но — ещё обмозговать нужно.
— Да чего там, плохо получилось, — ответил Фёст. — Я до конца надеялся, что он как-то меня поймёт, не для себя ведь стараюсь. Не смог донести. Не то у него воспитание. — Он грустно улыбнулся. — Что дальше делать будем? На дачу за город закатимся или здесь поужинаем?
— Я бы лучше на дачу, — ответил Секонд. — девушкам развлечение…
Девушки дружно поддержали идею. Они просто жаждали новых впечатлений. И догадывались — после того, что только что услышали, скучно не будет. Одесса — так, лёгкая разминка.
Десятиместный минивэн у Фёста в распоряжении имелся, и компания, обременённая сумками, свёртками и пакетами, загрузилась в него быстро й весело.
— Наверное, только завтра к ночи вернёмся, — предупредил Вадим охранника на выходе. — На пикничок решили выбраться, по случаю гостей…
Консьерж, другой, не Борис Иванович, помоложе, завистливо посмотрел им вслед. Хорош будет пикничок, семь девок, два мужика. В двадцать три выезжают. Самое то. Пробок уже нет, за час-полтора доберутся, и гуляй. С полуночи и до обеда. Шашлыки, банька и всё сопутствующее.
В гипермаркете перед Кольцевой запаслись необходимым, и машина на хорошей скороди рванула по Ленинградскому шоссе. Слава богу, по позднему времени пробки рассосались.
— Сегодня дадим президенту ещё немного времени на размышления, а завтра придётся устроить цирк шапито…
— Почему «шапито»? — спросил Секонд.
— Ты бы лучше спросил — «почему цирк»? А «шапито» — передвижной. Сегодня здесь, завтра там. Зрители так себе, и труппа — с бору по сосенке.
— В минор впадаешь, — упрекнул Секонд, включая приёмник. По «Дорожному радио» как раз говорили о ходе расследования вчерашней аварии на мосту. Машину и тело погибшего отыскали. Следствием установлено, что действительно ехал он один, из ночного клуба. Судя по показаниям свидетелей, времени ему впритык хватило на предельной скорости доехать до конечной точки маршрута. Содержание алкоголя в крови — 0,7 промилле. Таким образом, состав преступления очевидным образом отсутствует.
— Крепкий парень, — прокомментировал Фёст. — Другой бы и ключом в замок не попал, а этот — прямо тебе «адский водитель». Это фильм такой когда-то был, — счёл он нужным пояснить. — Про мужиков, что динамит на грузовиках возили.
— И как же он — «не справился»?
— Наверное, с перепугу. Не сообразил по пьяни, что остановился бы — и менты ему б ничего не сделали. Депутат! Ещё и домой с почестями доставили. А тут оглянулся не вовремя — и привет. На такой-то скорости!
Секонд понял, что именно на эту тему двойнику говорить не хочется. Наверное, что-то личное замешано.
Так оно и было. Эту акцию осуществила Людмила, как бы для тренировки. Всего-то — на секунду приоткрылось окно СПВ за спиной водителя, она протянула руку и резко крутанула руль. Но Фёсту вдруг показалось, что аналогу этого знать не стоит. Хотя бы сегодня. А вроде — чего уж теперь? одно дело делаем. Секонд понимал: идея насчёт ужина на даче, осторожно подкинутая напарником, родилась не просто так. Что-то он опять затевает. Вот преимущество человека, живущего в своём мире. Лучшая адаптированность, отсюда и способность принимать не совсем понятные постороннему решения.
— Я тут сегодня днём выкроил момент с известным тебе господином Воловичем повстречаться, — сказал Фёст, меняя тему.
— Мнениями обменяться. Мы ведь тот раз не договорили.
Фёст, он же для окружающих просто Вадим Ляхов, человек приятный во всех отношениях, независимый, богатый, знакомый с половиной Москвы, неизвестно чем по-настоящему занимающийся, разыскал журналиста в одной из реакций. С точки зрения теории вероятностей это было невозможно, ибо Миша носился по столице а своем «Самурае» (с шофёром) со стремительностью и непредсказуемостью какого-нибудь нейтрино. Отличала их только доступная наблюдению масса, которой Волович обладал даже в относительном покое.
Но раз перехватить его всё-таки удалось, дальше журналист повёл себя с послушностью привязного аэростата, то есть беспрекословно направился в буфет под лестницей.
Вадим распорядился об угощении и сразу перешёл к сути. Слышал ли уважаемый коллега каждые полчаса передаваемые по всем каналам новости, и если да, то как к сим прискорбным инцидентам относится?
Ответ его не удовлетворил своей обтекаемостью. Рано, мол, делать какие-то выводы, задумчиво сказал Волович. Судя по имеющейся информации, злого умысла ни в одном случае не выявлено, а сами по себе совпадения, понятно, занимательные, но и не такие случались.
— А если какая-нибудь организация, сепаратистская или патриотическая, вдруг возьмёт на себя ответственность и заявит, что все четыре события являются тщательно спланированной и блестяще проведённой акцией, преследующей такие-то и такие-то цели?
— Ты что-нибудь знаешь? — взвился Волович, торопливо опрокинув вторую рюмку.
— Предположим…
— Материал дашь?
— Фактами не располагаю. Только слухами из не подлежащих огласке источников и собственными предположениями. К делу не подошьёшь. Но всё развивается в русле твоих желаний и деклараций, твоих единомышленников. Власть одновременно жестока и слаба, правосудие отсутствует, гражданское общество тем более. Народ по своей лености и тупости не поддерживает «несогласных», не желает видеть, какие замечательные политики готовы хоть сегодня принять на себя бремя власти. Произвол силовых структур тотален и непреодолим… Похоже?
— Если не утрировать, то так примерно всё и обстоит.
— И крайне желательна очистительная буря, не «оранжевая», так «берёзовая»? — с усмешкой спросил Ляхов.
— На Украине и в Грузии, конечно, не всё идеально, но там, по крайней мере, народ хотел перемен и сумел их добиться конституционным путём.
— Конституционным? Упаси нас бог от таких путей. Хотя это моё личное мнение. Некий в своё время близкий к Кремлю деятель однажды заявил, что для организации аналога киевского «майдана» в Москве ему хватит пяти тысяч человек и миллиона долларов. Дальше само покатится…
— Ну, я бы сказал, что подобный сценарий возможен. Не сегодня, сам понимаешь, однако в принципе… Оно бы и неплохо.
— Теперь вообразим, — медленно разминая сигарету, сказал Вадим, — что пять тысяч уже нашлось. И нужное количество любой подходящей валюты. Только цель у этих людей прямо противоположная…
Журналист сделал глотательное движение, уставился на Ляхова взглядом, ставшим цепким и даже пронзительным. Стал похож не на сибаритствующего Дюма — на совсем другой исторический персонаж. То есть?
— Спасение нынешнего режима и государственной целостности российской. Даже если сама власть не слишком готова себя защищать.
— Новый ГКЧП?[35]
— Некорректное сравнение. Скорее — белогвардейский СЗРС.[36] Не по целям, по структуре и методике. Вот, вообрази, эти ребята решили путём беспощадного террора очистить страну от тех, кого они считают врагами, коррупционерами, пособниками внутреннего и внешнего криминала. Заодно — террористов и сепаратистов. А также «агентов мировой закулисы». Не от всех, конечно — на всех патронов не хватит. Произвести, грубо говоря, децимацию,[37] в надежде, что прочие одумаются и станут вести себя хорошо…
— Страшная вещь, если правда. Но ты-то откуда осведомлён? Уж очень на туфту похоже… — Покрасневшее лицо журналиста выразило нешуточную тревогу. Отнюдь не напускную.
— У тебя моя визитка есть?
— Была где-то.
— Найдёшь, посмотри, что на ней написано.
— Я и так помню. Что-то насчёт изучения паранормальных явлений…
— Именно, — кивнул Ляхов. — С последующей рационализацией и утилизацией оных. В суде наши исследования — не доказательство. Однако, многие, увидев чёрную кошку, без всяких доказательств уклоняются от встречи с ней. Ночные события насторожили нас примерно по таким же основаниям. А вспомнив вчерашний разговор, я решил, что невредно тебя проинформировать. Ты-то, с твоими способностями и связями, копнуть можешь весьма глубоко. Да, кстати, ещё одно ощущение. Похоже, одним из пунктов программы этих революционеров намечено поголовное уничтожение всех «воров в законе» и «авторитетов». В том числе и в зонах. По-большевистски — как класс. Интересно, правда?
— Так это ж начнётся полный беспредел.
— На что и расчёт. Голова срублена, а низовые структуры остались. И большущие деньги остались, общаки, подконтрольные бизнесы, потерявшие смотрящих рынки и прочее. Такая драчка за это наследство начнётся — я те дам! Половина претендентов друг друга перестреляет, остальных честные менты под шумок добьют, поскольку их руководство ориентиры потеряет, с ходу не сообразит, кого теперь защищать надо. Не без своего интереса, конечно, но их потом легче будет в рамки ввести, чем нынешний преступный мир…
— Слушай, как-то у тебя всё стройненько вырисовывается, будто своими глазами подобные планы видел…
— А на какой хрен вообще наука «ясновидея» существует? — усмехнулся Ляхов, своей усмешкой и прочей мимикой давая понять, что разговор у них вполне шутливый. Просто так, для приятного время препровождения.
— Кончай темнить, а? — непривычно серьёзным для него тоном ответил Волович. — Я тебя никогда за дурака не держал, и упаси меня бог тебя за него держать. Для чего этот слив? И от кого? И почему — мне?
— Добавь для полноты вопроса — «и почему через тебя»?
Вадим взглядом указал журналисту на графинчик, тот мгновенно наполнил рюмки. Почувствовал, что, кажется, разговор пойдёт всерьёз.
— Почему тебе — догадаться нетрудно. Авторитет у тебя такой. Всеядный. Где угодно печатаешься, сегодня за красных, завтра за белых, и везде ухитряешься всеобщим любимчиком и рубахой-парнем оставаться. Одни тебя всерьёз воспринимают, другие за балаболку держат — из тех, кто «ради красного словца…». И сегодняшнюю туфту ухитришься так подать, что кто сумеет правильно прочитать — тот молодец. Кто не сумеет — позабавится. До поры…
— Таким, значит, образом ты меня воспринимаешь? — будто бы расстроился Волович. Ещё полчаса назад сам он Ляхова не воспринимал вообще никак. Ну, есть такой общительный парень, неглупый, но с тараканами в голове, всегда при деньгах, любитель спорить на любые темы. Ни к каким тусовкам не примыкающий, но почти в каждой более-менее терпимый.
А сейчас вдруг проглянуло в нём нечто такое… напрягающее. Пожалуй, даже пугающее. Чёрт его знает, вдруг и на самом деле с нечистой силой знается? При свойственной ему широте взглядов журналист и такие экзотические варианты предпочитал не отметать с порога.
— По форме — да. А форма, как известно, для журналистов, женщин и офицеров важнее содержания. Так что… На вопросы «для чего» и «от кого» имеешь полное право ответы придумать сам, где-то, от кого-то я не так давно слышал странное название. «Чёрная метка». Что-то из Стивенсона кажется? Вот на господина Роберта Льюиса и можешь сослаться. Сегодня её наверняка получит кто-то ещё. Как говорится — следите за рекламой…
— Подожди. Так она что, действительно существует?
— Судя по воспоминаниям Джима Хокинса — наверняка. Капитан Билли Бонс в этом убедился. Только упаси тебя бог упомянуть где угодно и при любых обстоятельствах иной источник информации! Я достаточно ясно выразился?
Намёк Ляхова был чересчур прозрачен. От него Воловичу сделалось совсем не по себе.
— Оккультные тайны — такая штука, — доверительно сказал Вадим. — Мы, кто ими занимаемся, всё время по краю ходим. В общем, я побежал.
— Интересную ты мне историю рассказал. Надеюсь, на печатных страницах выйдет ещё занимательней… Прямо-таки рад, что её первый от тебя услышал, прозвучало это так убедительно, что Воловичу впору было задуматься. И задуматься как следует.
Ляхов сунул под лежавшую на краю стола барсетку журналиста плотненький конверт.
— Рассчитайся за коньячок.
Сделал ручкой и стремительно исчез.
— Думаешь, уже пора расшифровываться? — спросил Секонд, выслушав Фёста. — Я бы ещё подождал…
— Не просёк, — покачал головой тот. — Нам пока без разницы, что он там напишет, а вот с кем информацией поделится и куда она дальше пойдёт — существенно.
— Что, думаешь, он на наших клиентов работает?
— Он — едва ли. Зато каналы у него — не хуже, чем под Варшавой. С запашком, зато топография — закачаешься! Ну, я и проследил. Спасибо Лихареву с Левашовым. С их техникой проще, чем в «Гугле» нужное найти.
— Что-нибудь нашёл?
— Больше, чем рассчитывал. Думаешь, мне на самом деле шашлычков на природе пожевать захотелось и в окружении гурий рассвет встретить? Нет, шашлыки будут и всё остальное, но ты не поверишь, как всё обалденно удивительно-поразительно складывается…
Фёст свернул в тёмную просеку, с трассы почти незаметную, через километр с небольшим остановился перед воротами в высоком глухом заборе. Они раздвинулись по сигналу и автоматически закрылись, едва машина пересекла инфракрасный луч. Сам дачный дом был так себе, средненький, не большой и не маленький, одноэтажный с мансардой, стоящий в окружении кустарников и нескольких разлапистых сосен.
Зато участок был хорош: не жалкие шесть позднесоветских соток, а полноценные полгектара, что раздавались в сталинские времена заслуженным людям. У кого и по какой цене «братья» приобрели имение, Фёрст не интересовался.
— Ну, добро пожаловать. — Он отпер дверь дома, с пульта на веранде включил свет сразу во всex помещениях. — Девушки располагаются наверху, там четыре двухместные комнаты, а мы пойдём мангал разжигать. Устроитесь — вернётесь к нам, получите очередное задание.
Секонд с интересом осматривал освещённую луной и светом из окон часть участка. Уютно, но и тревожно как-то. Кроны сосен шумят, одуряюще пахнут клумбы, заросшие ночной фиалкой — маттиолой. Река вдалеке плещется.
— Воры не шалят? — спросил он. — Место уединённое, дача явно не бедная.
— Было дело, попробовали, — туманно ответил Фёст. — Больше желающих не находится.
Посидели, полюбовались тихой ночью, а заодно и фигурами девушек в выходящих на полянку окнах. Задёрнуть шторы никто из них не удосужился.
— Красота, — сказал Вадим-местный, непонятно что имея в виду: переодевающихся валькирий или янтарные полоски облаков, то и дело набегающих на полный диск луны. — Однако… Раз мы до макушки погрузились в пучину совпадений, любое новое нас не должно смущать, — говорил Фёст, поправляя кочергой разгорающиеся в мангале буковые поленья. — Однако всё равно забавно сколько господ, имеющих сомнительную честь попасть в мой реестрик, всего через четыре часа после моего разговора с Воловичем оказались в курсе. Я не называл никаких имён, и, тем не менее они неприлично взволновались, быстренько, по сугубо защищённым системам связи созвонились, решили провести экстренное совещание. По очередной случайности место конфиденции назначено всего в пяти километрах отсюда вниз по реке. Я очень смеялся и снова вспомнил арабскую притчу про раба и смерть…
Увидел, что Секонд не понял. Неужели в его мире эта история не получила заслуживающего распространения?
— Очень поучительная притча, — неторопливо начал он. Ему всегда нравилось растолковывать непосвящённым общеизвестное. — Раб одного богатого купца встретил на багдадском базаре Смерть. Она странно усмехнулась и погрозила ему пальцем. Перепуганный раб прибежал к хозяину, рассказал и попросил разрешения уехать на время в Басру. Тот разрешил и сам отправился на базар. Смерть всё ещё была там.
— Зачем ты напугала моего раба? — спросил купец.
— Я его не пугала, — ответила та. — Я просто удивилась, что он делает здесь, если у нас назначена встреча в Басре…
Так вот. Эти ребята тоже, наверное, испугались. Моментом собрались и выехали пятью машинами из разных мест, опередив нас примерно часа на два. Так что сейчас, пожалуй, уже нервно беседуют, одновременно готовясь свининки с пылу с жару отведать. Но мы с тобой люди просвещённые и знаем, что настоящий шашлык возможен только из отборной баранины…
— Кто они? — спросил Секонд, стараясь не поддаваться чувству обиды. Пора бы уже аналогу перестать вести себя подобным образом. Он, второй, повидал и пережил никак не меньше первого, и продолжать акцентироваться на том, что именно в данный конкретный момент, на своей территории, тот знает и умеет чуть больше по меньшей мере, некорректно. И тут же подумал — поменяйся они местами, вёл бы себя подобным образом. Вспомнить только, как выпендривался перед Чекменёвым, вернувшись из «бокового Израиля».
— Достойные люди, — прикурил Фёст от уголька, скатившегося на землю. От мангала тянуло жаром, как от кузнечного горна, и они отошли на несколько шагов. — Пули у стенки каждый достоин, трое из пяти — виселицы.
— Сурово. И с доказательствами всё в порядке?
— На мой взгляд — да. Возьмёшь в машине досье, сам посмотришь.
— Кто-то из них был в списке для президента помечен?
— Удивишься, но нет. Оттуда утечки пока не проходило. Прямой, я имею в виду. А так, естественно, всё, о чём мы с ним говорили, наверняка уже известно не одному десятку людей. О сути моего замысла и методике реализации… Шапки начинают загораться на самых умных и осторожных: туфта, она, может быть, и туфта, но бережёного бог бережёт. Я не поленился, потратил полчаса времени, загнал в центральные компьютеры пограничников и таможни абсолютные запреты на пропуск за границу нескольких сотен Фигурантов, якобы находящихся в федеральном Розыске. Так что по-быстрому и без скандала претендентам смыться не удастся. Долго разбираться придётся. А мы к тому времени новую подлянку придумаем.
— Заблокировать всем, кому нужно, заграничные банковские счета, — предложил Секонд.
— Я пока не очень представляю, как это делается, но, глядишь, покумекаем — разберёмся… Специалистов подключим. А пока давай лучше о сегодняшней работе думать.
— Ты всё-таки предварительно мне диспозицию изложи. Я в тёмную не привык.
Из дома появилась девичья команда в полном составе, пока не догадывающаяся, что не только сервировкой стола с последующим чревоугодием ей сегодня предстоит заниматься.
Фёст мгновенно изобразил старшего по команде. У девушек с самого начала возникли эмоциональный и психологический раздрай. Секонда они знали гораздо лучше и считали его прямым начальником по службе в «печенегах». Но здесь начали путаться. Их полковник Ляхов явно отходил на второй план. Но приказа о переподчинении тоже не поступило.
Одна Вяземская в вопросе субординации определилась окончательно. Глядя на неё, остальные тоже стали исходить из текущих обстоятельств.
— Становись! Равняйсь! Смирно! — скомандовал Фёст.
Смирно так смирно. Подпоручицам одинаково, что за столом с начальниками сидеть, что, вытянувши спину и ноги до струнной вибрации мышц, раздвинув носки обуви на «ширину приклада», смотреть «вправо на грудь четвёртого человека». Устав не предусмотрел, что груди второго и третьего в строю солдата могут случайно не позволить исполнить предписанное. Если предварительно не приказано разобраться не только по росту, и по размеру бюста.
Фёст, с позволения Секонда, развлекался. Что-бы снять ту внутреннюю разность потенциалов, внезапно возникшую между ними.
— Вельяминова, Волынская, Витгефт, Вирен — три шага вперёд! — Он выбрал тех, кто уже показал себя в бою. Ничем иным не руководствовался, ни собственной привязанностью, ни тем, что Секонд пообещал поберечь подругу Уварова Анастасию.
Чётко выполнено. Залюбуешься. Всем бы солдатикам, какими довелось командовать товарищу капитану российской армии Ляхову, так. Да и офицерам тоже. У Вадима, хоть в той ещё, советской армии он не служил, перемены в форме одежды вызывали естественную неприязнь. Особенно когда парадные коробки маршируют по Красной площади в штанах навыпуск. Выглядит непристойно, прямо-таки на грани порнографии. Хорошо, президент хоть своё «потешное войско» оставил при сапогах. Должно ведь в стране быть что-то постоянное! Вышедшие перед строем девчонки тянулись ещё старательнее.
«Ах вы, милые мои, — подумал старый (почти тридцатидвухлетний) циник Ляхов-первый. — В бой вас, таких, посылать? Опять „Зори здесь тихие“? А что делать? Либо — либо. Мы — люди военные. И сдуру я никого не подставлю…» Риск в задуманной им операции был минимальный. Всё, что в человеческих возможностях, он предусмотрел и продумал. Девушек всех в деле испытать нужно. И брату-двойнику показать, как у нас такие вещи исполняются.
— Вельяминова. Вы — старшая группы. Переодеться в полное боевое. Оружие — по штату. Готовность — пять минут. Исполнять!
Четвёрка исчезла из глаз мгновенно. Остальные трое ждали, что будет приказано им. На правом фланге — Люда Вяземская.
— Вам к нашему возвращению обеспечить ужин, а также, если понадобится — оборону и охрану территории. Огнестрельное оружие применять только в безвыходной ситуации. В любом другом случае — только руками и ножами. Без шума. Ясно?
— Так точно, — ответила Людмила, но взгляд у неё был прямо прожигающий: «Как же ты можешь! Тех с собой берёшь, а меня в тылу бросаешь?»
Ляхов-второй продолжал наблюдать, как бы со стороны. Чёрт возьми, как его аналог отчётливо себя ведёт. У него, с точки зрения своих подчинённых, тоже получалось неплохо. Однако в Москве, во время странного мятежа, когда он командовал штурмгвардейцами, а Первый — взводом корниловцев, и картинка боя, и результаты оказались несоизмеримы. Там он не взялся бы братца подменить.
— Ты с ними останешься, — сказал Фёст. — Начальником гарнизона.
— Чего это ради? — возмутился Секонд. — Я хочу лично поучаствовать. Или хоть посмотреть, что вы там затеваете.
— Отставить, — жестко приказал напарник, хотя оставался по-прежнему капитаном и говорил с заслуженным полковником. Но в российских армиях, что в той, что в другой, старшинство определяется должностью, а не званием. Это в разных других, хоть тресни, нельзя поставить толкового генерал-майора командовать корпусом, если комдивы старше его не только чином, но и по производству. А у нас контр-адмирал Кузнецов, разжалованный, но назначенный Главкомом ВМФ, командовал десятками и вице-адмиралов, и полных, в том числе своим заместителем, адмиралом флота Исаковым.
Да и в самом деле, кто он здесь, Секонд? Гость. В лучшем случае — волонтёр.
— Девчат оставить здесь одних нельзя — раз, — счёл нужным пояснить Фёст. — Все яйца (он усмехнулся невольной аллюзии) в одну корзину не кладут — два. Если что сразу с обоими случится, барышни сами с Левашовым и Кисловодском связаться не смогут. Про «три» сам догадайся…
Он указал на уложенное напротив мангала бревно, специально, для удобства сидения обтёсанное поверху.
— Нет, ты мне скажи, — не успокаивался Секонд. — Если у вас через СПВ вчера так отлично получилось, зачем в бой лезть? Мог бы прямо из Дома всё сделать…
— Попивая чаёк и лаская девочек по коленкам, — в тон добавил Фёст. — Ты меня начинаешь разочаровывать. Выражение такое — «неспортивно» — слышал? Русские князья и цари на кабана и медведя с мечом и рогатиной ходили. Генсеки по привязанным за ногу оленям из дорогих «Меркелей» стреляли. Я им уподобляться не собираюсь. Затеял свою войну — так и веду её, не на глобусе, а на местности. Лучше скажи мне, что с тобой случилось? Воздействие чужого времени, как такового, или чины, слава, должности? На перевале, встретив Тарханова, ни ты, ни я на секунду не задумывались, уезжать или оставаться…
Пауза длилась слишком долго, и Фёст успел процитировать:
Объяснять, что это и откуда, не стал. Притушил о бревно окурок.
— Воевать мы сегодня не будем. Подействовали на меня инвективы господина президента, и, глядя на тебя, свой бывший гуманизм припомнил. Но живыми оттуда всё равно никто не уйдёт. Излагаю диспозицию…
…Прежде всего информация Воловича о «Чёрной метке» и её планах в отношении преступного мира дошла до двух самых сильных в Москве «воров в законе», давно поделивших столь серьёзные сферы экономики и политики, что обычная утоловщина осталась на далёкой периферии их интересов. «Нормальные» ОПГ они тоже контролировали, но больше в качестве инструмента воздействия на конкурентов и поддержания статуса, чем источника доходов.
Часом позже о том же, но в несколько иной трактовке узнал их куратор, генерал-лейтенант МГБ, пользовавшийся среди коллег столь дурной репутацией, что никто не счёл возможным не то чтобы пригласить его в «Чёрную метку», а и просто ознакомить с самим фактом существования такой организации. Прочитав полстранички оперативной сводки, он пришёл в бешенство и одновременно испугался. Слишком отчётливо представил, чем подобная структура может угрожать ему лично, если в неё входит хоть десяток старших офицеров «конторы».
Немедленно вызвал на ковёр непосредственно подчиненных ему аналитиков и в выражениях, пристойных ротному старшине после втыка вышестоящего начальства, потребовал тут же представить ему любую имеющуюся по треклятой «метке» информацию, пусть даже косвенную. Получил ворох выдержек из агентурных донесений, оперативных сводок и прослушек, в которых так или иначе присутствовало означенное словосочетание. Прочёл и крепко задумался. Ни одного достоверного факта, зато целый букет «фольклора», в котором организация выглядела практически всемогущей, беспощадной и, что самое отвратительное — абсолютно бескорыстные апологеты — а таких среди источников оказалось большинство — склонны были любое нераскрытое преступление определённой направленности соотносить именно с «Чёрной меткой».
Ерунда, конечно, но ведь никаких других объяснений серии случившихся прошлым летом бесследных исчезновений и неразгаданных смертей сотни с лишним влиятельных людей до сих пор не нашлось. Был человек — и нету. И никаких следов. Сплошные висяки.
Все эти дела проходили по другим управлениям и ведомствам, строжайшей секретности во взаимоотношениях между ними никто не отменял, и генерал только сейчас получил представление о масштабе и пугающей непонятности случившегося.
Первой и самой здравой мыслью было — прямо сейчас переодеться в гражданское и, не заходя домой, скоростным поездом в Питер. Оттуда — машиной к Выборгу. И — на ту сторону. Пока хватятся — ищи-свищи.
Всё бы так, но есть недоделанные дела, необрубленные концы и неполученные долги. Даст бог, успеем!
Был у него способ позвонить так, чтобы прослушка, если она контролирует его абонентов, не засекла аппарат, расположенный между Уфой и Челябинском. Он договорился о срочной встрече не только с авторитетными ворами, но и с сотрудником президентской администрации, вхожим без доклада если не к самому, то к особам, совсем уже приближенным.
И с ещё одним подельником, способным, прикрыть их кружок независимой вооружённой силой, и идеологически.
В таком составе ночное совещание давало шанс не только «прикрыть свою задницу», как любят выражаться американцы, считающие эту часть тела наиважнейшей, в сравнении с головой, например, но и отыграть у вероятного противника несколько ходов. Большего пока и не нужно.
— В принципе ясно, — сказал Секонд. — Про воров у меня сомнений нет. Это ещё Тарханов сформулировал: надел погоны вражеской армии — не жди, что кого-то озаботят твои личные качества и семейное положение. — Я всегда считал его умным парнем.
— Генерал МГБ — тоже понятно. Крышевание бандитов, сто двадцать миллионов на швейцарском счете и вилла в Этрета под присмотром любовницы из своей же конторы, якобы находящейся в служебной командировке — для военно-полевого суда достаточно. Только, по царскому указу от тысяча девятьсот шестого года, таковой суд должен состоять из трёх офицеров. Нас — двое.
С крыльца, готовая к немедленному бою, спускалась четвёрка Анастасии.
— Вельяминова — ко мне! — скомандовал Фёст. — Остальные на месте!
— Ты что — извращенец? — спросил Секонд. — То с Вяземской глаз не сводил, а сейчас — Вильяминова да Вельяминова.
— Ага! Активный строефил. Был у меня прапорщик Мороз — тот, очевидно, пассивный. А я обожаю, когда такого экстерьера девушки передо мной в струнку тянутся.
— Чего же Вяземскую не позвал? — Голос Секонда сочился ядом.
— Она мне в горизонтальном положении больше нравится. А эта — в вертикальном, — издевательски ответил Фёст. С самим собой чего уж стесняться, если сразу не доходит?
Подпоручик уже стояла рядом, прижав полусогнутые кисти к швам брюк и вздёрнув подбородок. Продолжать пикировку при ней было непедагогично. Причём неизвестно, слышала ли она последние слова. При её способностях вполне могла, но вида не подавала.
— Садись, Анастасия Георгиевна, — указал Фёст на бревно. — Курить разрешается. Дело вот в чём — тебе, согласно чину и должности, придётся побыть членом экстренного военно-полевого суда. Знаешь, что такое?
— Так точно, знаю. Могу наизусть процитировать все существующие уложения, — ответила Вельяминова, гордая тем, что её сочли достойной.
— Обойдёмся, — не слишком вежливо ответил Фёст. — Достаточно одного пункта: заседание проводится без участия защиты, предполагая, что суд в состоянии самостоятельно рассмотреть все обстоятельства, конфирмация[39] приговора производится старшим воинским начальником, за его отсутствием — председателем суда. В исполнение приговор приводится немедленно…
— …На Красной площади, с барабанным боем, — к месту или не к месту вспомнил Секонд — фразу из романа графа А.Н. Толстого «Светлое утро».[40]
Фёст замечание проигнорировал.
— Вот тебе формула обвинения. — Он пересказал Анастасии то, что говорил Секонду о превышениях генерала и его подельников. Короче и конкретнее. — Вот мой вариант приговора — смертная казнь. Господин полковник Ляхов, твой непосредственный начальник, колеблется. Значит, господин подпоручик, вам решать.
Настя, проявив недюжинные дипломатические способности, молчала ровно столько, сколько позволила изредка потягиваемая сигарета. Того сорта, что не горят, как бикфордов шнур, сами по себе. Которые нужно курить всерьёз.
— Моё слово действительно решающее? — наконец спросила она, растерев окурок в пальцах и бросив то, что осталось, с ногтя в мангал. Как учили рейнджеры, отвоевавшие четыре войны и оставшиеся в живых всем смертям назло.
— Не сомневайся, подпоручик, — кивнул её начальник, полковник, флигель-адъютант Ляхов. А его брат-близнец, всё это явно затеявший, смотрел в небо, покрытое звёздами, совершенно не похожими на те, что украшали купол Таорэры. Здесь Их в десятки раз меньше, но они крупнее. И, как бы это сказать — убедительнее.
— Тогда я за высшую меру. Предатели и убийцы права на жизнь не имеют…
Фёст, не сводя до конца ладоней, изобразил намёк на аплодисменты.
Секонд слегка улыбнулся.
«Провокатор», — подумал Фёст с опережением.
— Последний вопрос, подпоручик, — спросил её командир. — Приговор ты поддержала. А в исполнение привести?
— Стен боад, коонел, — почти выкрикнул Фёст. И продолжил по-русски: — Дурак, твою мать!..
— Нашу, — вежливо ответил Секонд. — Играем так играем.
Настя сориентировалась мгновенно.
— Вадим Петрович, — назвала она Секонда по имени-отчеству, как бы выходя за границы субординации. — Если вы ставите вопрос именно так и хотите определённого ответа, вы его получите. Да, готова. И не только в отношении мне абсолютно неинтересного генерала…
Фёст показал Вельяминовой большой палец.
— Я всё понимаю, — ответил Ляхов-второй, только что — безусловный начальник Вельяминовой и всех остальных девушек. Разве можно забыть чудесные месяцы на пароходе «Валгалла», всё, что там было? И буквально вдруг — смена декораций. — И ты совершенно прав, и она. Я просто действительно никак не привыкну. Спасибо за честность, подпоручик Вельяминова.
— Служу России! — подхватилась Настя, но Фёст придержал её за руку.
— Хватит нам тут плац-парады устраивать — Сейчас мы впятером сгоняем на моторке в расположение противника и, как в китайской поговорке понаблюдаем за схваткой тигров в долине. Сами никого исполнять не будем…Это он вспомнил профессиональный термин из книжки бывшего сотрудника одного специфического подразделения МВД.
— Разве — в порядке самообороны. Давай, Анастасия. Там в сарае надувная лодка с водомётным движком. Спускайте её на воду, я сейчас подойду.
Из сумки, постоянно носимой при себе, он достал «маузер К-96» «девятку»,[41] пристегнул к рукоятке кобуру-приклад, рассовал по карманам шесть открытых обойм по десять патронов.
— Чего это тебя на архаику потянуло? — спросил Секонд. — Автоматов не хватает?
— Да кто его знает. Захотелось. В руке привычен, бьёт хорошо, и криминалистам лишняя заморочка.
— Ладно, хватит разговоров. Езжайте. И живыми возвращайтесь. Шашлыки на мангал через час поставлю. Управитесь?
— Как пойдёт. Будем стараться…
Шестиметровый клипербот,[42] странно смотрящийся на узкой, извилистой, но с быстрым течением Истре, оснащённый совершенно бесшумным двухсотсильным мотором (для сомалийских пиратов в самый раз судёнышко), притёрся к берегу полусотней метров выше ограды генеральской дачи.
Девушки и Ляхов опустили на глаза бинокулярные ноктовизоры, своими характеристиками и компактностью намного превосходящие те, что имелись в этом мире. Без всяких искажений они давали точную картинку окружающего (с полной цветовой гаммой) в радиусе пятисот метров. Следующие полкилометра различались, но в мутноватом зелёном тумане.
Забор из часто поставленных четырёхметровых столбов, между которыми натянуты десять ниток острейшей «егозы», спускался на пару метров в воду. Не беда, если случайный купальщик напорется. Вышестоящие товарищи здесь не плавают, от прочих отмазаться — не проблема. Да и охрана границу священной частной собственности постоянно патрулирует.
Фёсту было не привыкать, но неконтролируемая злость снова подкатила к горлу. В какой же… стране мы живём? У Секонда сам Государь Император не позволил бы себе свой Петергоф колючкой под током окружить. А здесь наверняка на ночь вольт триста восемьдесят на «цаункёниг»[43] подают, при десяти амперах. Насмерть не обязательно убьёт, но тряхнёт как следует. До следующего утра заикаться будешь.
Участок занимал не меньше двух гектаров. Трёхэтажный хозяйский дворец, двухэтажный флигель для прислуги, одна караулка у ворот со стороны трассы, вторая — у выхода на личный пляж. Рассыпавшиеся редкой цепочкой вдоль всего северного фаса «фортеции» валькирии мгновенно зафиксировали текущее местоположение десяти охранников.
Очень господин генерал уважал свою «душонку, отягощённую трупом», как неэстетично выражался Эпиктет.[44]
— Вирен, на левый фланг. Наблюдать за въездом, — шёпотом приказала Анастасия Инге.
Там происходило кое-что интересное. За узкой асфальтовой дорогой, отделяющей дачу от густого елового перелеска, обозначилось непонятное шевеление. Инга, как разведчик-ирокез, бесшумно скользя между кустов, доползла до кювета, бестелесной тенью перемелькнула через шоссе. Ни ботинками, ни снаряжением, ни автоматом не брякнув.
Под и между могучими деревьями в пределах стометрового радиуса затаилось не меньше десятка человек. Хорошо подготовленных — бесспорно в Афгане, Чечне, даже джунглях Анголы им бы цены не было. Оружия, излучавшего понятный любому подготовленному человеку запах смазки и металла, при них было намного больше, чем требовалось.
Сильные, но глупые люди, по мнению Инги, по легенде правнучки главного командира Кронштадта, контр-адмирала Роберта Николаевича Вирена, имеют склонность таскать при себе в пять раз больше ножей, автоматов, пистолетов и гранат, чем может потребовать какая угодно обстановка. Просто так, на всякий случай. Или — от личной неуверенности.
Сама она была вооружена предельно легко.
Жаль, что никто не сказал тем серьёзным мужчинам, что против не отметившей своё двадцатилетие девчонки сейчас они — как солдаты-первогодки Первой мировой войны против нынешнего прапорщика спецназа ГРУ.
Поступи команда, Инга перещёлкала бы всех, не дав времени даже обернуться на звук.
Но команды не было. Подпоручик Вирен, ориентируясь сначала на слух, а потом и на визуальную информацию, быстрее тропической кобры переползла на двести метров дальше, попутно обнаружив ещё две засадные группы примерно той же численности.
Дача была обложена плотно. Кем и почему — ей знать не полагалось. Кроме командира и трёх подруг — все остальные враги. Исходно и по умолчанию. Поступит команда думать по-другому — она подумает. После того, как…
Даже не кошкой, а лаской Инга взлетела на горизонтальный сук дуба, вытянувшийся над предполагаемым полем боя. Отсюда ей видно всё, и стрелять сподручно, и путей отхода с дерева на дерево, по смыкающимся ветвям — сколько угодно А беззвучные и беспламенные очереди пойди засеки в предстоящем беспорядке и бардаке.
Инга устроилась поудобнее, пристроила автомат в развилке ветвей, вытащила из кармана миниатюрную гарнитуру переговорника.
Фёст (пока будем называть его капитан Ляхов) всё то, о чем доложила Вирен, не только предвидел и предполагал, но и лично организовал.
Какая же удобная и полезная штука — этот инопланетный Шар, пусть и используемый на первой скорости, как автомобиль, где не знаешь, как воткнуть следующую передачу. С таким устройством можно творить почти всё, что придёт в голову, однако Вадим знал и другое — при грамотно организованном противодействии и на такой газ найдётся противогаз. Сумели же Новиков, Шульгин и компания переиграть владельцев этой техники, использовавших её в полном объёме.
Так толковый и отважный солдат мог грохнуть вражеский танк со всем экипажем обычной связкой ручных гранат.
Не слишком много труда составило и капитану разыскать с помощью Шара телефоны особо доверенных источников, нигде не зарегистрированные и, по мыслям хозяев, не фиксируемые даже особым подразделением МГБ.
Потому полученные уже в пути сообщения их адресаты приняли со всей серьёзностью. Как же иначе?
Ляхову даже не пришлось особенно трудиться с формулировками. Шар, усвоив общую установку, в считаные минуты собрал всю имеющуюся в ноосфере информацию, относящуюся к каждому из персонажей, и преобразовал её в индивидуальные психологические портреты. После чего трансформировал замысел Вадима в единственно понятные и приемлемые именно данной личностью тексты.
У читателя может возникнуть естественный вопрос — отчего агграм, располагающим не в пример более мощной аппаратурой, не удалось справиться с «Братством» в самый момент его возникновения? Казалось бы — несколько пистолетных выстрелов в Шульгина, Новикова, Ирину[45] — и любые проблемы снимаются на века. До рождения ещё одного комплекта «кандидатов в Держатели Мира».
Пожалуй, по той самой причине, по какой японцы за неделю взяли великолепно защищённый, снабжённый всеми видами боеприпасов и продовольствия Сингапур, окружённый бетонными стенами и отгороженный от материка широким морским проливом. А недостроенный, без всяких ДОТов Порт-Артур штурмовали почти год. Немцы в сороковом за месяц раздолбали всю Францию, прикрытую линией Мажино и голландско-бельгийскими фортами, и не сумели за три месяца взять лежащую в чистом поле Одессу, которую оборонять теоретически вообще невозможно. Что сами же немцы и подтвердили, в сорок четвёртом сдав её обратно практически без боя.
У одних этот фактор называется — «загадочная славянская душа», у других — «русский характер», а если языком бывших замполитов — «морально-политическое превосходство». На чём господа аггры и сломались. Без всяких на то оснований вообразили, что противник, о котором они ничего фактически не знали, сдастся при первом же угрожающем жесте в его сторону. А когда сообразили, что сдаваться он не собирается, было уже поздно.
Примерно за час до назначенной встречи, уже в пути каждый из ехавших на генеральскую дачу для серьёзных переговоров и выработки общей стратегии противостояния внезапно возникшей, всем понятно, что нешуточной угрозы, вдруг узнал, что на самом деле готовится капитальная разводка. «Друзья и партнёры» на самом деле собираются работать только на себя. Все имеют планы, как кинуть остальных, или просто сдать, в обмен на гарантии личной неприкосновенности и подходящее вознаграждение из чужих долей в общем бизнесе.
Подано было всё очень убедительно, со ссылками на факты, никому постороннему никак не известными.
Вдобавок сообщалось, что каждый из участников стрелки прихватил с собой мощные группы поддержки. Вопреки договорённости. То есть стрелка изначально получалась гнилая.
Само собой, люди обиделись, немедленно вызвали в нужное место всех, кто имелся под рукой.
Самое забавное — генерал действительно, без подсказки Ляхова, по собственной инициативе направил к своей даче опергруппу, впятеро превышающую по численности телохранителей остальных гостей, вместе взятых. На всякий случай.
По представлению Ляхова обстановка выглядела следующим образом. Внутри дачи уже находятся пять ВИП-персон и заранее оговоренная охрана. Вокруг — успевшие подтянуться бандитские боевики, боевики не совсем бандитские и кадровые сотрудники одной из спецгрупп МГБ. Суммарно — человек сорок. Но генерал, хозяин дачи и организатор стрелки, всё равно обладал двукратным превосходством в живой силе и подавляющим — в технике. При этом находясь на своей, хорошо известной и инженерно оборудованной территории.
Что ему могут противопоставить коллеги, прекрасно понимающие должностное и позиционное преимущество хозяина? Ответ очевиден. Если ситуация потребует острых решений, два десятка бандитов, никаким образом не подготовленных к бою с военными, в худшем случае успеют стрельнуть из гранатомётов по караулкам, ввяжутся в безнадёжный бой с охраной, тут их и разделают настоящие специалисты. Будет что предъявить президенту, как доказательство своей верности и непричастности к любым заговорам. Наоборот, имеются кандидатуры, вполне подходящие, чтобы их подставить…
Его гости, тоже не последние люди в подобных играх, имели собственные планы, почти стопроцентно гарантирующие совершенно иной результат. Случись что-то непредвиденное — их боевики были ориентированы на захват генерала и любого из присутствующих. С последующей разборкой совсем в другом месте.
Капитан Ляхов рассматривал обстановку на театре в собственном ключе. Что бы кто ни планировал, боевики любой из сторон непременно пересекутся ещё на рубежах выдвижения. Неужели не понятно?
Ах да, конечно! Никто из них не подозревает, что противник не глупее и располагает не меньшими силами. Расчёт примитивнейший — их двое, нас десять!
Вадим на месте любого из командиров, уж спецназовского — наверняка, организовал бы разведпоиск. Вроде того, в который он послал Ингу. Никого не обнаружишь — ладно. Попадутся — без звука переколоть вражеский дозор. Если не спецназовцы, а бандиты успеют раньше — атаковать дачу, не дожидаясь прямого приказа хозяина. Отвязка простая — они первыми начали. Доказать ничего невозможно, а прав всегда тот, кто победил выжил. Главное — выжил.
Вельяминова почти неощутимо коснулась его локтя.
— Река, — почти бесшумно шепнула девушка. Как же он сам не сообразил? Толковый специалист именно отсюда и должен предпринять проникновение. Откуда они сами пришли.
Сначала едва слышный плеск услышала расположившаяся ближе всех к берегу Герта Витгефт, потом и сам Ляхов. Нашлись в штате у пациентов боевые пловцы. Вернее — всего один. Хорошо различимый в ноктовизор, он на несколько секунд высунул над поверхностью воды голову, сориентировался на свет из окон и снова погрузился. Охранник, следящий за пляжем, его не заметил. Помочь, что ли?
Вадим нащупал рядом голыш покруглее, с полкило весом, прикинул, хорошо ли лёг в руку. Нормально… Зашептал в переговорник:
— Герта, Кристя, как начнётся — по три короткие очереди в окна дома. По верхним стёклам. Потом броском шагов на двадцать назад — и затаились. Инга — сиди, где сидишь, ни во что не вмешиваешься.
Протянул руку вправо — Анастасия здесь.
— Ползи к берегу, без моей команды — ничего. Как тебя и нету.
Она тут же бесшумно растворилась в темноте — послушная девушка.
Теперь Ляхов совсем успокоился. Ни о ком в ближайшие минуты заботиться не надо. Дождался, когда подводный пловец вынырнул снова, уточняя позицию, всего в пятнадцати метрах от него. Прикинул угол и расстояние, швырнул камень. Попал, как и целился, в плечо, облитое чёрной резиной гидрокостюма. От неожиданности и резкой боли «ихтиандр» громко вскрикнул, выплюнув загубник, и рванулся к берегу, шумно шлёпая по воде одной рукой.
Не та подготовка! Настоящий боевой пловец на задании и тонуть должен молча, чтобы не выдать напарников.
Но получил он здорово! Такой булыжник мог запросто кость раздробить, а в верхнем плечевом поясе и вокруг много чувствительных нервных узлов и сплетений.
Охранник с другой стороны пляжа услышал, что-то закричал, включил мощный фонарь.
«А собачки? Отчего собачек здесь нет?» — мельком подумал Ляхов, вскинул «маузер» с пристёгнутой кобурой-прикладом, трижды выстрелил поверх головы постового. Низко, тик в тик, чтобы пули отчётливо свистнули.
И — началось!
Слитные очереди «АКМСов» с этой стороны, звон десятков бьющихся стёкол (если пули попадают в рамы или рикошетят от стен, стёкла рушатся целиком, с должным звуком). Полное впечатление морского десанта.
Тут же в ответ ударил шквальный огонь охраны из крупнокалиберных помповых дробовиков. По всем азимутам.
— Кристя, Герта! По полмагазина в лес. Левее ограды. И броском ко мне. Настя — весь рожок по второй караулке. И сюда же!
Сам он, опираясь спиной о двухобхватную сосну, за которой спрятаться можно хоть от ДШК, положив ствол «маузера» на сгиб левой руки, прицельно бил по веранде, по мелькающим за занавеской теням. Дострелял обойму, присел, перезарядил пистолет.
Рядом, возникнув из темноты, распласталась на песке Вельяминова. Дышала она совершенно ровно.
Через несколько секунд подползли Волынская и Витгефт.
— За дерево, девочки. Перезаряжаем оружие работаем по плану «раз». Пошли!
Как и рассчитывал Ляхов, боевики всех пяти группировок среагировали правильно. Часть кинулась к даче, на выручку своих боссов, остальные начали крошить друг друга, ориентируясь на целеуказание валькирий, сделанное трассирующими пулями.
По названному Вадимом плану три девушки и должны были, стремительно перемещаясь, короткими очередями обозначать местоположение каждой из групп, чтобы остальным понятнее было, в кого стрелять.
Риск нарваться на шальную пулю, конечно, был, но совсем незначительный, при их быстроте и отличных ноктовизорах. Игра в жмурки пяти зрячих с полусотней слепых. Однако трассы летели густо. Со всех сторон.
Инга Вирен по длинной ветви доползла до самого края. Там, среди во все стороны торчащих пучков листьев, заметить её было невозможно никаким образом. Ниоткуда.
А у неё тоже ноктовизор, автомат и триста патронов.
— Инга, что видишь? — спросил Ляхов, продолжая руководить боем. Очень трудная работа, если кто не знает. Ротным служить тяжело, взводным — ещё хуже, в разгар ночного, маневренного встречного боя.
Вирен доложила шёпотом — система чётко передавала каждый звук и интонацию. Не то, что старый полевой телефон.
— Смотри. Никак не проявляйся. Ты — мой засадный полк. Если увидишь попытку прорыва главных фигурантов через ворота к машинам — тут твоя игра. Но стреляй не выше пояса. Самое лучшее — тазобедренная область. Только смотри — сама подставишься — ремнём так отделаю, неделю сесть не сможешь. Невзирая, что женщина и офицер…
— Я поняла, — шепнула в микрофон подпоручик Вирен, тихонько хихикнув.
«Здорово иметь таких подчинённых, — подумал Вадим. — Что скажешь, то и сделают. И проверять не нужно. Только взвод поручика Ненадо здесь бы лучше сгодился. За тех мужиков не пришлось бы так переживать. Отдал приказ — и забыл».
Капитан Ляхов, не дослужившийся до иных чинов нашёл среди исполосованного трассерами пространства пустую, тёмную щель. Отчего, почему она там образовалась — потом разберёмся. Но — есть. И — слава нашему богу авантюристов! Не Христу, ему такого не понять. Как же звали того древнегреческого раздолбая? Завтра вспомню. А пока — помогай, если хочешь!
И — рванулся, и — побежал! Не имея гепардовых мышц и всего другого, свойственного его валькириям. Гомеостата — тем более. Только злой офицерский азарт. А что, корниловцы с гранатомётами против никогда не виданных танков выскакивавшие — на инопланетные штучки надеялись?
A перевал?! Да какой там, на хрен, перевал! Позиционная война на приличной позиции. А вот сейчас…
Раз пять он перекатился под пулевыми трассами, не отвечая выстрелом, не обнаруживая себя, не видели капитана Ляхова в бою — увидите! Каких придурков набирают в охрану, и даже спецназ — посмеяться только. Обыкновенный капитан медслужбы проскочил через все рубежи их обороны. Мимо людей, получавших тысячи евро или долларов, чтобы защитить своего хозяина или убить тех, на кого покажут. А он взял и прошёл. Раза три, конечно, выстрелить пришлось, в безвыходных обстоятельствах, когда на тебя выскакивает громила с дикими глазами и кругым стволом, и разговаривать некогда и не о чем. Тут древний «маузер» отвечал быстро и достойно.
Ляхов всё-таки дошёл, куда собирался. Живой, почти спокойный. С легендарным пистолетом в руке. Третью обойму воткнул в приёмник уже на веранде.
Только что роскошный зал для приёмов важных гостей был засыпан битым стеклом и вообще выглядел неприятно. Да ещё и запах. Вадим потянул носом. Точно, кто-то здесь обгадился.
Он, невзирая на образование, в душе не верил, что нормальный человек, не стесняющийся убивать себе подобных, может от страха обмочиться или — хуже того… Должны же быть какие-то моральные принципы?
Но воняло ощутимо и именно этим.
За спиной в проёме двери появилась Герта с автоматом у бедра и лёгкой брезгливой улыбкой на устах.
— Ты зачем здесь? Я что приказал?
И вдруг показалось, что сейчас ответит девушка словами Спартака Мишулина — Сайда: «Стреляли…»
Витгефт промолчала. Хватило и выражения лица.
Да и молодец, что пришла вслед за командиром. С нею рядом он почувствовал себя гораздо увереннее. Хорошо, когда подчинённые умеют проявлять разумную инициативу.
С чердака дома внезапно забил длинными очередями пулемёт. «ПКМ» скорее всего.
Он увидел торчавшие из-за спинки дивана ноги в дорогих туфлях. Оттуда и воняло.
А ведь пора сматываться, подумал Вадим. Сейчас по пулеметчику наверняка шарахнут из гранатомёта. У цыганки не спрашивай.
— Герта, хватай этого — и к берегу. Я прикрываю!
Та рывком выволокла крепкого на вид, но впавшего в прострацию мужика, как раз генерала, хозяна дачи. Остальные или успели выскочить на улицу, или попрятались в других комнатах.
На всякий случай с размаха ударила его ботинком в челюсть, чтобы не вздумал рыпаться не вовремя, перебросила через плечо, как лев антилопу, метнулась к двери.
Ляхов, помня уроки поручика Ненадо, сдёрнул с пояса и швырнул в двери, правую и левую, по гранате «Ф-1».
Не он девчонку, а она его, невзирая на груз, подсекла и повалила в клумбу рядом с бетонным цоколем виллы.
Ракета из РПГ ударила во фронтон одновременно со взрывами «лимонок» в доме. И что-то такое там сдетонировало. Килограммов на десять больше бабахнуло, чем должно было, исходя из факта.
Ляхова с подпоручицей спас тот самый высокий цоколь и мёртвая зона под ним. Половина крыши рухнула всего в трёх метрах, а над головами свистела всякая мелочь, вроде кувшинов эпохи Цинь и обломков мраморных статуй из Пантикапея. Не хуже осколков шестидюймового гаубичного снаряда.
От тротилового дыма Ляхов раскашлялся. Живы, господин полковник? — спросила Витгефт, которая, оказывается, лежала у него на спинe, накрыв Вадима своим, таким хрупким на вид телом. Сама она, слегка контуженная, перепутала чины и фактическую сущность своих начальников.
— Слезь, тогда разберёмся, — сохраняя кураж, ответил капитан.
Герта привстала, что далось ей с некоторым трудом, поскольку поверх неё лежал ещё и пленник. Откинула его вбок, насторожилась.
— Вадим Петрович, клиент того, готов…
В свете разгорающегося пожара Ляхов увидел, что у генерала каким-то предметом напрочь снесло затылок.
— Да и хрен с ним. Хоть на это пригодился… Вадим сейчас не очень отчётливо соображал, для чего вообще решил взять «языка». Разве — для очной ставки с президентом. Зато отлично понимал, что, не сделай этого, вполне мог бы стоять сейчас на коленях над телом убитой Герты.
Они успели проползти под нижней ниткой проволоки, и тут из-за горящей дачи, захлёбываясь, забил автомат Инги.
Ляхов его сразу угадал, и по направлению, и по манере стрельбы.
— Всем назад, — приказал он в микрофон. Передатчик, по счастью, уцелел. — Всем назад, к лодке. Инга — поосторожнее на отходе. Дробь![46]
Они уже столкнули клипербот на воду, когда к берегу подбежала Вирен с алой, сочащейся кровью царапиной поперёк щеки.
— Пуля? — спросила Анастасия.
— Ветка, — так же лаконично ответила Инга.
Дачный дом горел уже сплошь, снизу доверху, Перестрелка на территории и в лесу продолжалась, без всякого очевидного смысла. Просто сталкивающиеся бойцы противоположных лагерей понимая, кто есть кто в этой сваре продолжали своё бессмысленное дело. Хозяев уже нет, и нет парламентёров, способных призвать к прекращению ненужного кровопролития. Лодка, едва слышно зафырчав водомётом, пошла вверх по реке. Скоро, стоит кому-нибудь из обитателей посёлка позвонить по телефону, (да уже позвонили наверняка, бой длился целых двадцать пять минут), сюда столько разных омоновцев, эмчээсников, прокуроров и прочего начальства понаедет — плюнуть некуда будет.
Дача далеко, по дороге больше двух часов пешего хода, и в совсем другом лесном квартале. К ним вряд ли обратятся как к возможным свидетелям. В ближайшее время, по крайней мере. Следователям трупы, а тем более гильзы и прочие вещдоки не один день собирать придётся.
Раз Чекменёв возмечтал о дипломатической карьере, Олег Константинович пошёл ему на встречу и для начала назначил Чрезвычайным и Полномочным послом Российской Державы, в ранге министра, при Верховном Совете ТАОС.
Чин достаточно почётный, особенно интересный тем, что Игорю Викторовичу предстояло официально огласить окончательное и не подлежащее обсуждению решение Императора выйти из состава этой уважаемой и мощной организации, худо-бедно на протяжении последних семидесяти лет обеспечивавшей мир на Земле.
Мир, конечно, весьма относительный, воевать на планете не прекращали, но хоть «цивилизованные страны» ни разу с приснопамятного тысяча девятьсот восемнадцатого друг с другом в вооружённые конфликты не вступали. В том числе не состоялась и Вторая мировая война, о которой в соседней реальности известный поэт написал:
«Она такой вдавила след и стольких наземь положила, что двадцать лет, и тридцать лет живым не верится, что живы».[47]
Чекменёв, в новом дипломатическом мундире, с золотым шитьём на обшлагах, воротнике и фалдах, серебряными восьмилучевыми звёздами, в отличие от армейского генерал-лейтенанта, расположенными вдоль погонов особого плетения, выглядел весьма импозантно. Аристократичный и вальяжный настолько, что никто не заподозрил бы в нём отважного боевого офицера, совсем недавно не гнушавшегося, в целях маскировки, носить скромную форму подполковника административной службы, Игорь Викторович хорошо поставленным голосом зачитал Императорскую ноту.
Более двадцати постоянных членов Совета, сотня высших чиновников аппарата и не поддающееся подсчёту количество журналистов внимали его словам.
О том, что будет сказано, всем было известно давно, но одно дело — неофициальная информация, другое — документ, оглашаемый от Высочайшего имени и расставляющий все точки.
Россия, заявляя о прекращении своего членства в высокоуважаемой организации, не отказываясь ни от одного из ранее взятых на себя обязательств, экономических, политических, культурных, за исключением военной составляющей альянса.
— Наша Держава немедленно отзывает все свои вооружённые формирования в пределы своей общепризнанной территории и отныне будет их использовать только и исключительно для защиты своих границ… — Чекменёв сделал паузу и завершил фразу: за исключением тех случаев, когда потребуется защищать государственные интересы, личные и имущественные права своих граждан.
По залу прошёл шум.
— Хотите ли вы сказать, — поднял молоток председательствующий, — что Россия оставляет за собой право на интервенцию в любой части мира?
Я сказал только то, что изложено в ноте, которую все члены уважаемого собрания получат на руки в соответствии с принятыми правилами. Толковать это положение каждый волен в меру своего понимания международного права.
— Но всё же поясните, — выкрикнул кто-то от микрофона.
— Как-либо пояснять или любым образом комментировать подписанный Государем документ не входит в мои прерогативы, — гордо ответил посол — Что касается моего личного понимания тех его положений, я могу ответить в ходе пресс-конференции, в ходе фуршета, который я даю членам дипломатического корпуса и всем присутствующим по случаю своего вступления в должность. Милости прошу в банкетный зал на восьмом этаже.
Он захлопнул сафьяновую папку с тиснёным императорским орлом и передал её председательствующему, бельгийцу Де Фризу.
Фуршет на пятьсот, ориентировочно, персон был накрыт с истинно русским размахом. Олег Константинович велел не стесняться.
— Одно дело — престиж, — напутствовал он Чекменёва, — а другое — обычный купеческий расчёт. Покинув эту говорильню, мы сэкономим столько, что остальное — сущие копейки. Хоть ты каждому по ведру водки и фунту икры выставишь.
До подобного купеческого размаха не дошло, но фуршет действительно получился самый богатый и многолюдный за фиксируемый завсегдатаями и «постоянно аккредитованными лицами» отрезок времени. То есть лет за пятнадцать.
Разгуливать по залу с бокалом шампанского Игорю Викторовичу не пришлось. Несколько десятков корреспондентов и в лицо знакомых генералу резидентов европейских разведок, работающих под прикрытием, зажали его в углу, где адъютант вовремя обеспечил столик с креслом.
Первый же вопрос, заданный известным фрилансером десятка информационных агентств Нэдом Мэллоуном, этой темы и касался.
— Господин посол, — оттолкнув коллег крепкими локтями регбиста, сунул тот прямо в лицо Чекменёва микрофон, — вы достаточно долгое время руководили службой личной безопасности нынешнего вашего Императора. — Как понимать вашу смену профессии? Означает ли это…
— Ничего не означает, — громким командирским голосом, чтобы слышно было и всем остальным не столь пробивным журналистам, ответил посол. — Все мы в Российской Империи несём пожизненную службу Отечеству. В полном соответствии с единожды данной Присягой. Если завтра я получу предписание стать директором Императорских театров или принять командование Тихоокеанским флотом — я его исполню.
— Независимо от образования и фактической компетенции? — попытался съязвить Мэллоун.
— Компетенция — крайне растяжимое понятие. Вот вы, как известно, имеете единственное серьёзное образование — отделение зоологии в колледже города Де-Мойн, штат Айова. Что не мешает вам успешно трудиться на ниве дипломатической журналистики. Всем понятно — дипломаты являются такой же частью биосферы, как кольчатые черви или муравьи вида формика руфа, однако…
Громыхнул такой общий хохот корреспондентской братии, что прочие гости изумлённо завертели головами, не понимая, что вдруг случилось.
Чекменёв мгновенно набрал массу очков, а неудачник Мэллоун был дружно оттеснён на периферию.
Следующий вопрос был более конкретным, повторяющим вопрос председателя Совета:
— Следует ли понимать позицию России так, что отказываясь от международных обязательств, тем самым развязывает себе руки во вмешательстве в любые процессы в любой точке мира?
— Абсолютно не следует. Всё изложено предельно ясно. Россия отныне намерена заниматься только собственными делами на собственной территории. Однако подразумевается, что если кто-нибудь, кто угодно — правительство или частные лица в любой точке земного шара попытаются вооружённой силой или любым другим образом посягнуть на вышеназванные, закреплённые законом или обычаем права нашего государства или любого её гражданина — будет предпринят адекватный шаг. Будет он заключаться в возмездии за необратимые последствия или восстановлении статус-кво с адекватной компенсацией — предсказать невозможно. Главное — мы не признаём никаких «двойных стандартов». «Какою мерою меряете — такою и воздастся».
Если мы с вами одинаково понимаем смысл термина «интервенция» — она не исключается. Допустим, — с дипломатической улыбкой сказал бывший генерал, — некое государство осуществит вторжение на территорию нашего посольства или иного экстерриториального объекта, включая, скажем, судно под российским флагом. Не следует надеяться, что таковое деяние останется лишь предметом обсуждения в Гаагском или каком угодно другом суде. Но меру воздаяния определять буду не я и не вы.
— А кто же?
— Простите, у нас пресс-конференция, а не курсы повышения квалификации. Обратитесь к законодательству той страны, что вы представляете. Или — к принципам ООН, ТАОС. Там, я думаю, всё достаточно чётко прописано. Мы, как я уже сказал, фактически выходим только из военной структуры нашего сообщества. Ни от каких других обязательств не отказываемся, что, хочу подчеркнуть, является традицией российской дипломатии последние триста лет. Другие государства неоднократно нарушали свои обязательства.
— Об этом мы сейчас спорить не будем, — просунулась вперёд энергичная дамочка с бэджем какой-то австралийской телекомпании. — Но следует ли понимать, что Россия отныне откажет в помощи любому из своих бывших, — это слово корреспондентка произнесла с особым нажимом, — союзников, если он подвергнется вооружённой агрессии?
— В том случае, если все остальные союзники не смогут или не захотят оказать подобную помощь, мы готовы рассмотреть прямое обращение на двухсторонней основе… Хотя я посоветовал бы всем, интересующимся геополитикой, посмотреть вон туда…
И для наглядности простёр руку. Вся задняя стена зала представляла собой великолепно выполненную рельефную карту мира. Шесть на пятнадцать метров. Как же без этого в штаб-квартире организации с глобальными интересами?
— Как видите — почти девяносто процентов «периметра» составляют границы России и АСШ. На долю остальных членов приходится…
Чиркнул по полоске между Гибралтаром и Босфором световой указкой, заранее, как видно, приготовленной, — сравнительно небольшая полоса зоны. Учитывая глубину стратегического построения, — луч скользнул снизу вверх, от Италии, до Швеции, — даже ожидая войны со всей Африкой и Ближним Востоком, сотню дивизий противодесантной обороны отмобилизовать можно.
— А на всякий случай разрешить ношение оружия всем лояльным гражданам и ввести уроки начальной военной подготовки с пятого класса средней школы. В таком случае потребность в российской помощи отпадёт сама собой. Разве не так? — Чекменёв улыбнулся одной из самых ярких своих улыбок. Наверное, припасённой для такого именно случая, когда его фотографии попадут на первые полосы тысяч газет.
— Что же касается государства, вами представляемого, я бы посоветовал, не ожидая агрессии со стороны Самоа или Фиджи, начать строить собственный военный флот. Здесь Россия вам поможет безусловно и в кратчайшие сроки. Парочку авианесущих крейсеров можем продать прямо сегодня, обратитесь в наше торгпредство.
Переждав очередную вспышку смеха, посол жестом попросил паузы, сделал два глотка шампанского, закурил.
Увидел, что из противоположного угла ему дружелюбно и приглашающе машет рукой посол САСШ господин Бордмен, пятидесятилетний весельчак, чем-то напоминающий диккенсовского мистера Пиквика.
Надо бы подойти. Игорь Викторович, как и все присутствовавшие в зале, обратил внимание на то, что Бордмен сидел в своей персональной ложе представителя стран-учредительниц, никак не реагируя на выступление Чекменёва. Усмехался собственным мыслям, что-то черкал паркеровской ручкой в блокноте, а может быть, просто чёртиков рисовал.
Само собой, такое поведение посла вызвало в дипломатическом сообществе, а особенно — в кругах журналистов острый интерес. Слухи о личных контактах российского императора и американского президента и раньше имели хождение, а сейчас они получили весьма явственное подтверждение. Что же может означать тайное сотрудничество двух великих, никак не зависящих от всего мирового сообщества держав? Новый передел мира за счёт всех остальных, мгновенно переходящих в разряд второ- и третьестепенных стран?
Генерал, раздвигая корреспондентов, направился к коллеге. На полпути его всё же придержали два особенно нахрапистых журналиста из Швеции и Англии. Уж шведу-то чего? На него только эскимосы из Гренландии напасть могут. Или финны вздумавшие отквитаться за давнюю трёхсотлетнюю оккупацию. — Извините, господин посол. А что вы скажете об отношениях России и Израиля? В новых обстоятельствах?
«Вам какое дело?» — захотелось ему ответить, — дипломат же он теперь, чёрт побери!
— В наших отношениях ничего не меняется, Россия, вместе с Германией, кстати, остаётся гарантом независимости государства, в котором больше половины населения имеет российское гражданство или родственников — граждан России!!
— Вы хотите сказать, что Израиль переходит в статус российского протектората? — с вызовом спросил англичанин.
Тут Чекменёв и произнёс фразу, только что удержанную на языке.
— Вам лично — какое дело? — Приятно, когда можно не стесняться. На фуршете он — частное лицо. Человек, который платит за выпивку, и ничего больше. Жестом подозвал официанта с подносом, уставленным большими, по европейским меркам, пятидесятиграммовыми рюмками водки.
— Угощайтесь, — предложил он «акулам пера и шакалам ротационных машин». — Лучше — по две сразу. Мозги проясняет. Понятнее станет, что ни королевство Великобританию, ни королевство Швецию никаким образом не могут затрагивать наши отношения хоть с Израилем, хоть с пиратской республикой Тортуга. Если внезапно географы обнаружат в дальних морях остров, населённый исключительно древними шведами, мы не станем возражать против установления между вами и ними сколь угодно тесных дипломатических и военных отношений… Извините, меня ждут.
В теплой, дружеской, сопровождаемой умеренными возлияниями беседе Чекменёв и Бордмен провели полчаса, и всё это время охрана одного и другого послов не позволила журналистам пересечь десятиметровую зону «прайвести».
От комментариев в кулуарах и Чекменёв, и Бордмен отказались, сразу после окончания фуршета вылетели из Лозанны в противоположных направлениях.
Этим хорошо обдуманным и согласованным поступком они дали пишущей братии заработать гораздо больше денег, чем прямым и конкретным заявлением для прессы. В чём бы оно ни заключалось.
На самом же деле Чекменёв и Бордмен (отставной коммодор, чего по виду никак не скажешь), отвязавшись от назойливого внимания, обсудили вопрос весьма серьёзный.
Российский Императорский флот к описываемому моменту, кроме стационарных сил в шести основных ГВМБ[48] имел в Атлантике, Средиземном море и Индийском океане четыре эскадры дальних крейсеров-рейдеров типа «Рюрик»,[49] столько же вертолётоносцев типа «Адмирал Колчак»,[50] восемь дивизионов эсминцев «Новик-3»[51] и отдельную бригаду БДК.[52] С достаточным количеством судов обеспечения.
Теперь, согласно приказу, они возвращались к портам приписки. В Хайфу пришли шесть «Рюриков» и восемь эсминцев. В городе, да и во всем государстве Израиль стало шумно и весело. Почти десять тысяч моряков ежедневно сходили на берег, щедро тратя скопленные за сотни проведенных в море суток деньги. В порту и вокруг возникло масса рабочих мест. У одиноких девушек и женщин возникли небывалые возможности для устройства личной жизни, у кого временной, у кого и постоянной.
У пирсов всей этой армаде мест не хватило, и эсминцы швартовались борт к борту с крейсерами, стоящими на внешнем рейде. Что, кроме очевидных неудобств, создавало и ряд преимуществ. С берега очень трудно было заметить, если глухой ночью один, стремительный, как змея, и настолько же трудноразличимый «Новик» уходил в море, а его место занимал другой, похожий на него как две капли воды.
Как только моря опустели от окрашенных светло-шаровой краской грозных кораблей под Андреевским флагом, оживились пираты — алжирские, марокканские, сомалийские, йеменские. И это только в средиземноморском бассейне. А мадагаскарские, малайские, китайские и филиппинские! Для них за одну только неделю настала почти райская жизнь.
Английская эскадра Гибралтара, французский, итальянский и австрийский флоты очевидным образом не были готовы к серьёзной войне на коммуникациях. О чём говорить — итальянские, к примеру, лёгкие крейсера и эсминцы не могли находиться в море больше двух суток по причине отсутствия самых обычных камбузов и запасов продовольствия. Выскочить на пару сотен миль от баз, накормить моряков три-четыре раза макаронами из только для их варки предназначенных котлов — и назад.
В то время, как даже российские «Новики» имели автономность по продовольствию двадцать суток, по пресной воде — месяц. В любых природных и погодных условиях, от Северного полярного круга до Южного. В случае острой необходимости могли без захода в чужие порты дойти из Севастополя в Порт-Артур. Если очень потребуется — и обратно, питаясь «подножным кормом», то есть пополняя припасы и топливо за счёт неприятеля и нейтральных судов. Естественно, сохраняя полную боеготовность. За последние сорок лет ТВД (в данном случае — театр не военных, а «возможных» действий) был изучен русскими моряками не хуже, чем Маркизова лужа.[53] Любой адмирал, до Морского министра и начальника Генмора[54] включительно, начиная с мичманских погон, непременно отслужил в этих водах кто пять, а кто и пятнадцать лет. Совершил по нескольку дальних походов, и вокруг мысов Доброй Надежды и Горн, Красным морем и Суэцем, Панамским каналом и Северным морскимм путём. Стояли стационерами на греческих островах, ближневосточных и североафриканских портах. Знали пункты базирования пиратов, тактику, психологию, каналы сбыта. Умели держать их в подобающих рамках.
А теперь — ушли. Демонстративно, дав понять всем, что эта проблема отныне русский флот не интересует. Наши транспорты и лайнеры не трогайте, остальное — ваше дело.
Ту же мысль, но в гораздо более конкретной и доступной форме довёл до всех вольных и кому-то подчиняющихся пиратских капитанов Ибрагим Катранджи. «Москва шутить не будет. Я — тем более. Кого не достанут русские — накажу я. В остальном — свободны».
Тут же и началось! Средиземное, Красное, Аравийское моря, Индийский океан и восточная часть Тихого мгновенно превратились в зону открытой охоты на любые суда, от прогулочной яхты до танкера в сто тысяч тонн.
На американцев тоже нападать опасались, зная их безбашенную жестокость и наличие двух десятков авианосцев, бомбардировщики с которых могли накрыть напалмовым ковром любой портовый город Юга, хотя бы заподозренный в том, что он даёт пиратам приют.
Остальным приходилось плохо. Торговое судно из Юго-Восточной Азии или Австралии без военного конвоя практически не имело шансов спокойно дойти до Европы. Уже в момент окончания погрузки и получения документов на рейс все, кого это интересовало, располагали нужной информацией.
Добычи стало столько, что грабили даже несколько лениво. Хорошо вооружённый катер военного образца или небольшой быстроходный дизель-электроход перехватывал жертву в удобном месте, заставлял членов экипажа перегружать самую ценную часть груза к себе на борт, изымал из капитанского сейфа валюту, если она там была, потом отпускал. Транспорты с углём, зерном, металлом и прочей дешёвкой обычно пропускали даже без досмотра.
Не то пираты мелкие, самодеятельные и дикие Всего снаряжения — мореходная пирога или джонка с подвесным движком, несколько автоматов, пара бухт тросов с острыми кошками и лёгкие штормтрапы. Эта публика не имела ни моральных принципов, ни даже инстинкта самосохранения.
Им годилось всё. Любой товар, личные вещи моряков, включая поношенные ботинки, даже бронзовые пробки от горловин для заливки топлива, само топливо — тем более. А уж если на захваченном борту оказывались белые женщины… Сначала их «пробовали» сами пираты, кое-кого оставляли себе, остальных продавали в отдалённые от берега городки и деревни, где о такой прелести многие даже и не слышали…одним словом, в полном соответствии с предсказаниями президента Доджсона, наступление «тёмных веков» началось не через десяток лет, а прямо через месяц после его встречи с Олегом Первым.
Тут же мировая пресса взорвалась девятым валом антирусских публикаций. Мол, только её демонстративная позиция вызвала этот сравнимый с достопамятным шестнадцатым веком всплеск пиратства, раньше державшегося в сравнительно терпимых сообществом рамках.
На что незамедлительно последовал официальный ответ не кого-нибудь, а Главкома Российского Императорского флота адмирала Максимова.
Суть его была коротка. Сутки пребывания в открытом море одного крейсера стоят шестнадцать тысяч золотых рублей, эсминца — пять. Если уважаемое сообщество настаивает на возвращении русских кораблей в океаны, стоить это будет столько-то и столько-то. Плюс гарантированные страховки за каждого погибшего и раненого моряка, аналогичных тем, что приняты для своих граждан в странах, обратившихся за помощью.
Естественно, накал европейского общественного мнения ещё более возрос, хотя куда, казалось бы, больше?
Россия, по общему мнению, не должна чего-либо требовать, особенно — в денежном выражении. Есть же общечеловеческие ценности, принципы гуманизма и тому подобное.
На прямой запрос Императору коллективного руководства ТАОС и ООН Олег Константинович ответил, что бюджет содержания военно-морского флота утверждён в ноябре прошлого года и какими-либо экстраординарными суммами казна не располагает.
«При этом я не возражаю, если любое правительство захочет заключить договор с командованием РИФ на, допустим, конвоирование того или иного судна из пункта А в пункт Б по взаимоприемлемым расценкам».
После опубликования этого документа Императору позвонил Катранджи.
— Ваше Величество, я восхищён вашей твердостью и последовательностью. Однако хочу предупредить — в ближайшее время могут начаться неприятности.
— У меня или у вас?
— В том и беда, что сначала — у вас…
— Догадываюсь. Но, как говорят на Востоке — не разбив яйца, яичницу не приготовишь.
— Что-то я не помню у нас такой поговорки, — с сомнением сказал Катранджи.
— Ну, это, наверное, на Дальнем Востоке. — Удэгейцы, буряты, тунгусы тоже любят яичницу и поговорки…
Выступая на очередном экстренном заседании Совета ТАОС, посол Чекменёв предложил простейший вариант решения проблемы, якобы страшной, а на самом деле — пустяковой. Методика отработана пятью столетиями раньше, достаточно почитать популярные романы Сабатини и посмотреть поставленные по ним фильмы. Следует всего лишь вооружить суда и экипажи оружием, превосходящим по своим ТТХ пиратское. Для сопровождения особо ценных грузов нанимать команды профессионалов с необходимым боевым Опытом. Оплата услуг целой роты морской пехоты на один рейс будет стоить в сотни раз меньше, чем потерянное судно и груз, не говоря о жизнях людей это немедленно последовал шквал протестов от правительств и общественных организаций, наверняка хорошо срежиссированный. Причём непонятно, на каком уровне.
Главный довод против — весь корпус законодательства по морскому праву. Ведь если мореплавание «свободно», то оружие невозможно применять до тех пор, пока не начнётся явный абордаж. В любом другом случае открывать огонь по как годно близко подошедшему судну недопустимо, если попытка захвата станет очевидной — обороняться тем более нельзя: могут пострадать совершенно непричастные к пиратству люди, как из числа захватчиков (технический персонал, пассажиры, заложники), так и «захватываемых», поскольку они являются «некомбатантами» и в боевых действиях, каковыми несомненно является борьба с пиратством, принимать участия не могут. Меры из обычного права, приводимые сторонниками позиции Чекменёва, относительно того, что на твёрдой земле защита собственного имущества считается правомерной, отметались с порога. У морского судна единственный собственник (персональное лицо или группа акционеров), они-то и могут с оружием в руках защищать свою собственность, с момента, когда покушение на неё становится очевидным. Но для этого им непременно нужно находиться на борту и начать стрелять лишь после того, как означенное деяние совершится.
Позиция с точки зрения здравого смысла абсолютно идиотская, но «общечеловеческие ценности» относятся к этой же категории вторую сотню лет, и никто с этим ничего поделать не может. Именно поэтому Олег Константинович и решил избавиться от такого бремени, пока последствия не стали необратимыми.
Основания для запрещения сопровождения судов вооружённой охраной основывались на той же логике. Во-первых — привлечение частными лицами вооружённых подразделений, не состоящих на действительной военной службе, к участию в боевых действиях, причём в личных корыстных интересах трактуется как «наёмничество». Наёмничество же, само по себе, относится к числу тяжких международных преступлений, и поощрять его нельзя ни в коем случае.
Вообще для решения вопроса о борьбе с пиратством следует создать полномочную комиссию Генеральной Ассамблеи ООН, которая и внёсет предложения по разработке необходимых правовых норм, не вступающих в противоречие с уже существующими.
Заранее получивший все необходимые полномочия посол, утомлённый трёхдневной бессмысленной говорильней, заявил, что Российская Держава, на основании всё того же международного права, объявляет о готовности защищать любой объект, стационарный или плавающий — не имеет значения, но обозначенный государственным флагом и, следовательно, являющийся частью её территории, всеми имеющимися в её распоряжении средствами. Вопрос о наёмничестве также снимается, поскольку российское предприятие и организация любой формы собственности имеет законное право нанимать должным образом лицензированную частную охрану. И она будет выполнять принятые на себя обязательства, не нарушая юрисдикции иных субъектов пресловутого права. Если же «глубокоуважаемые мировым сообществом господа пираты» сочтут свои интересы в чём-либо нарушенными, то имеют полное право обратиться в суд по месту регистрации правонарушителей. Где иск будет рассмотрен со всей возможной тщательностью и оперативностью.
Кроме того, великолепным способом избежать подобного рода неприятностей является обыкновений отказ от сближения с российскими судами в открытом море на дистанцию действительного артиллерийского огня.
Совершенно понятно, что демонстративно вызывающее, а моментами издевательское поведение российского посла вызвало горячую поддержку судовладельцев, моряков и рядовых граждан государств, имеющих к мореходству хоть какое-то отношение. И, одновременно, массовую истерию русофобии в большинстве официальных и официозных средств массовой информации ТАОС. За исключением САСШ, надо отметить.
Очередным шагом навстречу всем заинтересованным в безопасности своего бизнеса грузоперевозчикам стало предложение перерегистрации плавсостава под российский флаг за сравнительно небольшую плату. Гораздо меньшую, чем взлетевшие до небес суммы страховок. Тут, правда, таилась небольшая юридическая тонкость: судном под трёхцветным флагом мог командовать только капитан того же подданства, но желающих наняться на престижную должность среди старших, первых и вторых помощников, имеющих судоводительский диплом, а также и отставников в стране найдётся достаточно.
Идея, настолько выгодная для России финансово и политически, немедленно встретила отпор в виде контрпропагандистской кампании, в основном сводившейся к крайне простой мысли — русские затеяли всю эту театральщину с выходом из ТАОС и косвенным поощрением пиратства, чтобы взять под контроль все мировые транспортные потоки. К примеру, пока продолжались дипломатические прения, а пираты день ото дня наглели, объём грузоперевозок и пассажиропоток по Трансъевразийской магистрали Порт-Артур — Владивосток — Париж вырос почти наполовину.
«Даже если и так, — отвечали трезвомыслящие, которых и среди иностранных политиков и журналистов находилось достаточно, — то остроумию русских можно только позавидовать. Что в их действиях незаконного или хотя бы удивительного? Во все времена существовали пираты на морях и разбойники на суше. И за безопасность караванов и обозов купцы всегда платили тому, кто эту безопасность мог гарантировать. Следовательно, либо мировому сообществу нужно перехватывать инициативу, либо — смириться с данностью».
В подходящий момент сказал своё слово в неофициальной обстановке американский президент: — любить Россию имеет право каждый. Недооценивать — только идиот. И сопроводил эту сентенцию несколькими историческими примерами. Чем ещё больше укрепил подозрения в том, что давняя евроатлантическая солидарность впервые с тысяча восемьсот шестьдесят четвёртого года дала трещину.
Прошла всего лишь неделя, и предупреждение Катранджи начало подтверждаться. В юго-восточном секторе Средиземного моря, а также в районе Африканского Рога бесследно исчезли два российских сухогруза и один танкер. Не подав даже автоматического сигнала бедствия, который включается нажатием единственной кнопки в ходовой рубке.
По мнению специалистов, такое могло иметь место только в двух случаях — суда мгновенно затонули от торпедного залпа с подводной лодки (при атаке торпедных катеров, времени на подачу сигнала хватило бы) или с экипажами произошло вроде так и не проясненного инцидента с «Марией Селестой», с которой люди просто исчезли, оставив не только все личные вещи, но и тарелки с недоеденным супом.
Первый вариант казался более вероятным. Некто (Катранджи уверял, что ни одна из подконтрольных ему организаций мореходными субмаринами не располагает, да и бессмысленное уничтожение гражданских судов отнюдь не в обычаях пиратов) решил то ли запугать русских, дав им понять, что никакие вооружённые команды им не помогут, то ли дать отчётливый сигнал всем, кто вздумает «сменить флаг».
В описываемый момент в водах Мирового океана находилось более двухсот российских судов, из них — тридцать пять в угрожаемых водах. Капитаны немедленно получили по радио шифрованные инструкции о переходе на режим военного времени. Из Хайфы навстречу пароходам, идущим Средиземным морем, вышли восемь «Новиков» и два вертолётоносца: «Адмирал Эссен» и «Адмирал Рощаковский» — глухой ночью, без огней, в режиме радиомолчания и полной противо-локационной защиты.
Командующий эскадрой получил приказ — при обнаружении неопознанных подводных и надводных объектов действовать по обстановке, но с максимальной жёсткостью.
Разделившись на две оперативные группы, эскадра словно крыльями невода начала охватывать с востока и с запада район движения гражданских судов. Их капитаны, в свою очередь, стали менять ранее проложенные курсы на рекомендованные.
Шансы на то, что неизвестный противник попадётся в ловушку, были достаточно высоки. Террористические атаки, предполагающие устрашение, должны производиться массово, по принципу «волчьих стай» кайзеровского Кригсмарине.
Так оно и получилось, но в этот раз подводным террористам не повезло. По чистой случайности очередной жертвой был избран теплоход «Анапа», шедший из Новороссийска на Касабланку с ценным и одновременно компактным грузом, весьма удобным и для захвата, и для реализации. Поэтому, в виде эксперимента, на теплоход посадили взвод морской пехоты, кроме штатного вооружения усиленный батареей ПТУРС. Одного попадания управляемым снарядом хватит, чтобы утопить бронекатер, полного залпа под ватерлинию — практически любое невоенное судно.
Капитан «Анапы», следуя рекомендациям, увеличил ход до полного и пошёл противолодочным зигзагом, уклоняясь к зюйду, чтобы обойти Мальту милях в сорока и в самое тёмное время ночи проскочить под тунисским берегом. Раз сказано — считать время военным, так он и действовал. Морские пехотинцы, разместившись на верхней палубе, отдыхали посменно, не спускаясь в низы, там было слишком жарко. Это их и спасло. Вражеский командир, наудачу или по наводке, верно вычислил курс атаки, а теплоход, к сожалению, не был оснащён гидрофонами.
На выходе из очередной циркуляции «Анапа» получила четырёхторпедный залп между десятым и восьмидесятым шпангоутами. Чему удивляться — лодка стреляла почти в упор, с пятнадцати кабельтовых. Слепой попадёт, даже без помощи перископа с инфракрасной подсветкой. Упреждение на четыре корпуса — и всё. Никаких торпедных треугольников командиру лодки рассчитывать не надо.
Теплоход в двадцать пять тысяч тонн разломился пополам, носовая часть ушла в воду вертикально и почти мгновенно (какие тут сигналы бедствия?), корма тонула чуть дольше. Поручик, весь его взвод и несколько оказавшихся на палубе матросов во главе с младшим боцманом, прикрытые от ударной волны кормовой рубкой, сохранили самообладание и намертво вколоченные в подкорку инструкции. Были бы на месте морпехов обычные солдаты, пусть и классные спецназовцы, ничего бы у них не получилось.
А тут на кренящейся палубе, оглушённые, половина — разбуженные взрывом, бойцы и матросы, исполняя согласованные команды офицера и боцмана, сумели вывалить с левых шлюпбалок шестнадцатиметровый баркас, организованно в него погрузиться с оружием и отдать тали раньше, чем их накроет валящимся сверху бортом.
— Р-раз, взяли! Р-раз, взяли! — начал командовать боцман, когда двадцать два морпеха и шесть матросов расселись на банках перед рычагами винтового привода, заменившими архаичные вёсла. Примерно такими, как на железнодорожной дрезине, числом восемь и с длинными рукоятками, позволявшими работать на каждом — четверым. На один рычаг людей не хватило.
Боцман задавал темп, поручик сел к румпелю.
Баркас, не уступавший размером и мореходностью драккарам викингов и поморским лодьям, ходившим из Кеми на Грумант,[55] свободно мог дойти с места гибели «Анапы» и до Мальты, и до Туниса. Но сначала он по кругу обошёл место гибели теплохода. Спасти удалось только одного, раненого штурмана, цеплявшегося за шкертик автоматически раскрывшегося плота. Перевалиться через высокий надувной борт у него сил уже не было. Пока санинструктор оказывал спасённому «доврачебную помощь», поручик сказал боцману:
— Срываемся отсюда полным ходом, на вест, в темноту… Не надейся, что уже кончилось…
— У тебя закурить есть? — спросил тот внезапно ослабевшим голосом. Каждый человек имеет предел физической и нервной выдержки, только морской пехоте думать о таком не положено. Жив — воюй, остальное — на потом.
— И закурить, и сто грамм. Глотай, держи… Сунул в руки боцмана портсигар и фляжку, приподнялся на кормовой банке. — И раз, и раз! Не сачковать! Хоть спины поломайте, а ход дайте… Садись к румпелю, — уступил он своё место.
Паспортно такой баркас при полном усилии гребцов мог развить узлов восемь. Сейчас, наверное, выходили все десять. А толку?
Поручик увидел, что фосфоресцирующая вода обозначила примерно в миле позади длинный корпус с высокой рубкой. Ясно, лодка, и примерно известного типа.
— Такое дело, братцы, — обратился он к своей команде, — живыми нам уйти не дадут. Вон она, та сука, всплыла. Сейчас ищет уцелевших. Только не на тех напали! Оружие — на боевой взвод, положить рядом. Если нас не раздолбают на дистанции, грести до последнего. По моей команде — огонь. По всем, кто шевелится. Пулемёты — по рубке, снизу доверху. Патронов не жалеть, другого шанса не будет. А там как выйдет — или на абордаж, Всё понятно?
Со своими двадцатью пятью надводными узлами, даже двадцатью, лодка догонит баркас через пять минут. И наверняка постарается взять в плен. Если бы хотели просто убить — как раз подходящая дистанция для стрельбы из палубной «сотки». А теперь уже и для спаренного пулемёта. А не стреляют. Или заложники им нужны, или просто уточнить захотелось, кого на этот раз потопили, в темноте флаг не разобрали.
Поручик смотрел на приближающийся сзади и немного слева форштевень, разбрасывающий по сторонам веера сияющей пены, на узкую башню рубки с торчащими трубами перископа и шнорхеля. Начали различаться фигуры людей, толпящихся на артиллерийской площадке и в так называемом «лимузине».[56]
«Да они просто собираются нас таранить, — осознал поручик. — Сбрасывать ход, чтобы швартануться к баркасу — поздно. Вот же падлы! Ударят форштевнем, пройдутся по уцелевшим корпусом и винтами и на глубину. Свидетелей не останется. Ну так получайте!»
Когда до лодки осталось не больше кабельтова, боцман резко затабанил[57] и переложил румпель вправо до упора.
Баркас увело в сторону, метров на сорок, но достаточно, чтобы форштевень его не зацепил. Двухтысячетонная субмарина к таким маневрам была не приспособлена. И на то, чтобы осмыслить происходящее, отдать хоть какую-то команду, всему комсоставу лодки, вылезшему наверх в предвкушении развлечения, артиллеристам, пулемётчикам, сигнальщикам — времени тоже не оставалось. Совсем. Даже перекреститься, если верующий.
— Взво-од! Огонь! — скомандовал поручик, вставший на банке во весь рост, демонстрируя собственное презрение к смерти и уверенность в победе. Очевидной.
Четырнадцать автоматов и четыре пулемёта хлестнули в упор, сметая отлично видимые при свете полной луны фигуры на палубе и мостике. С такой дистанции не промахнулся бы и солдат-первогодок, а во взводе служили парни, заканчивающие службу. Поход на теплоходе — «дембельский аккорд».
В течение пяти секунд на палубе убиты были все, а рубка издырявлена бронебойными пулями в такое решето, что погружаться не имело никакого смысла. И шахта перископа перебита, и шнорхель. Тем более что и команду на погружение отдать было некому.
Баркас ткнулся кормой в кранцы на борту лодки, и специально к такому делу подготовленные бойцы, во главе с поручиком, рванулись через штормтрапы с обеих сторон рубки к верхнему люку, — вниз.
— Только механиков не трогать! — успел прокричать поручик. Пусть в такой команде не было необходимости. Внутри лодки сопротивления не оказал никто. Единственный вахтенный штурман, не выпущенный наверх своим командиром, в центральном посту получил прикладом по зубам и отключился от дальнейшего. Люки между отсеками, что поразительно, были отдраены все.
— Кто же так воюет, мать вашу?! — нецензурно удивился один из старшин, кое-что знавший о службе на подплаве.[58]
Поручик устроился в вертящемся кресле ныне покойного командира перед перископом. К нему подвели человека, назвавшегося стармехом, или, по-русски, «дедом» данного «Наутилуса».
— Что, сволочь, надводным ходом до Хайфы дойдём? — поинтересовался взводный, цыкая зубом и, вопреки всем правилам, закуривая в «святая святых». Беды в этом не было. Открытый люк и иссечённая пулями рубка создавали нормальную вентиляцию.
— Дойдём, господин… — Стармех, судя по своим нашивкам пребывавший в чине приблизительно капитана второго ранга, очевидно, ждал, что этот младший офицер ему представится.
Но получил только плевок под ноги, на палубу центрального поста.
— Тогда приведите в чувство вот этого, — указал на валявшегося у переборки штурмана, — и поехали. Вот сюда. — Он ткнул пальцем на разложенную на навигационном столе карту. — У меня в команде дураков нет. Одно неправильное движение — пуля в лоб и за борт. Доходчиво?
— Так точно, господин, — и льстиво добавил: — Уже убедились.
— Ну и вперёд. Иди, не отсвечивай… Ромашов, — приказал он старшему унтер-офицеру, замкомвзвода, — выведи наверх кого найдёшь, пусть трупы с палубы в холодильник оттащат. К каждому живому на этой коробке приставь по человеку. Чтобы следом ходил, глаз не спускал. Хер их, раздолбаев, знает, какую они подлянку могут выкинуть, если им и так и так помирать… Чтобы ни один вентиль, ни одну задрайку никто не лапнул, не спросив предварительно разрешения. Всех, кто не имеет отношения к обеспечению хода, — запереть в канатный ящик.
— Николай Егорович, — попросил он боцмана, — вы со своими ребятами тоже приглядывайте. От торпед спаслись, неужто теперь до своих не дошлёпаем? Берите на себя весь распорядок на борту… На руль есть кого поставить?
— Сам стану, приходилось.
— Так и сделаем. В подвахту трёх-четырёх парней возьмите, пусть на ходу учатся. Кто знает, когда своих встретим…
В этот момент поручик Летягин из простого статиста на мировой шахматной доске внезапно превратился в фигуру историческую. Его имя и фотографии скоро заполнят мировые газеты и журналы, несколько раз наверняка покажут по дальновидению. Очень может быть, пригласят как свидетеля выступить с трибуны ООН. Главком ВМФ, а то и сам Император примет орденом Святого Георгия пожаловать, ибо в Уставе прямо записано: «Кто с боем захватит вражеский корабль…».
Подводные лодки Летягину никогда не нравились, даже свои, пусть и спускался он в их таинственные недра несколько раз, в порту, когда приятели приглашали в гости. Искренне считал тех, кто добровольно, в девятнадцать лет поступал в Первое Балтийское имени адмирала Дудорова училище подводного плавания, не совсем нормальными. И вправду, кем же нужно быть, чтобы до конца службы согласиться ползать по тесным отсекам и месяцами не иметь права даже свежего воздуха глотнуть? Ради чего? Какая здесь может быть романтика?
То ли дело — морская пехота!
Вот и сейчас: в отсеках воняло всем сразу — человеческим потом, кислотными испарениями аккумуляторов, выхлопом дизелей, мокрым металлом, бог знает чем ещё. Двигатели гремят, давя на барабанные перепонки, стальной настил вибрирует, даже зубы, если их не сжимать, начинают выстукивать морзянку… Мерзость.
Из центрального поста поручик взбежал по трапу в «лимузин», цепляясь широкими плечами за стенки шахты. Звёзды на головой сияют, солёный ветер с норда наполняет лёгкие, волны с плеском набегают на палубу. Совсем другое дело! Он теперь — полноправный командир и владелец этой «шаланды». И нужно думать не как засидевшемуся в должности взводному, а — стратегически!
Прежде всего — заняться допросом пленных. Это первое дело. Составить и предъявить начальству такой документ, чтобы потом поручика не отстранили, не задвинули. Знаем, как оно бывает. Все коврижки — себе, а непосредственному исполнителю — бумажку на подпись «О неразглашении», и гуляй, Вася. Нет уж! Мы люди тёмные, но не настолько. Радио в порядке, значит, в эфир на единственной знакомой ему волне, открытым текстом (Летягина секретными кодами не снабдили): «Мною, таким-то, после торпедирования и гибели т/х „Анапа“ порт приписки Новороссийск, захвачена пиратская подводная лодка. Координаты примерно такие-то. Следую курсом норд-норд-ост пятьдесят градусов. Прошу помощи». Едва ли у противника поблизости есть ещё корабли, способные перехватить его сигнал раньше своих. А если и есть — милости просим. Из пушки стрелять обучены, и в аппаратах то ли шесть, то ли восемь торпед. Погружаться не умеем — так в надводном положении повоюем!
Летягин убедился, что лодка завершила разворот. Без всякого компаса видно, по Полярной звезде начали двигаться в нужном направлении. Осмотрелся, увидел более-менее знакомый пульт управления, сильно поковерканный пулями и залитый кровью. На всякий случай дернул рычаг машинного телеграфа на «средний». К его удивлению, сработало. Снизу отрепетовали[59] команду, и лодка прибавила ход. Он спустился в ЦП, сообщил о своём открытии боцману.
Давай наверх, Николай Егорович, оттуда лучше видно. Сам соображай, когда вперёд крутить, когда назад, прикинь, сколько ещё узелков добавить Чтобы и не потонуть по глупости, и до своих побыстрее добраться…
Затем расположился за обеденным столом в тесной кают-компании, велел по одному, в порядке старшинства, приводить ему «подследственных». В роли командира отдельной части он правами дознавателя обладал. Следовательно, составленные им протоколы будут иметь не только оперативное значение, но и юридическую силу.
Рядом посадил сразу двух секретарей, матросов первой статьи — вольноопределяющихся, с незаконченным высшим образованием, жаль, что не юристов. Велел записывать точно, разборчиво — «аутентично», вспомнил он подходящее слово. Чтобы, значит, одну копию — начальству, вторую — себе. И особых расхождений в заверенных бумагах быть не должно. На случай разбирательств.
Итак. Экипаж подводной лодки, не имеющей названия, только карандашом написанный на первой странице вахтенного журнала номер «12-бис», составлял сорок восемь человек. Из них двенадцать офицеров. Убиты четырнадцать, в том числе командир и восемь офицеров. Список — составлен. В живых — стармех, второй штурман, начальник минно-торпедной части, тридцать один человек рядового и старшинского состава.
Поручик начинал собеседование с подлежащих обсуждению вариантов. В старых традициях: или — за борт, по доске (опять же — Сабатини), или — повешение на перископе (Летягин с большим вкусом описал, как интересно такой способ может выглядеть. Ничуть не хуже, чем на рее).
— Все вы — помимо тех, что лежат в холодильнике, где вино для отмечания очередной победы берегли, — находитесь в полной моей власти. Вы утопили мой пароход, убили моих друзей. С шумным весельем собирались убить меня. Каким-то удивительным случаем тебя, например, — он указал зажатой в пальцах сигаретой на командира минно-торпедной службы, — в первой партии наверх не выпустили. Пообещали во второй, так? Но торпедами стрелял ты?
— Я ничего не знаю, — глядя в железную палубу под ногами, ответил крепкий, жилистый мужчина лет сорока, с очень волевым лицом. Судя по всему — никак не меньше, чем коммандер одного из западных флотов, или — старший лейтенант по нашему.
— Чего ты не знаешь, милый? — с тихой лаской, которой он едва-едва ухитрялся маскировать бешенство, спросил Летягин. — Выпускал ли ты торпеды, не знаешь? Или как тебя зовут? Где на службу нанялся, к кому? Не знаешь? В кого стрелял и зачем — тоже не знаешь? Тогда и я не знаю — зачем вдруг вот этот старшина засунет тебя в торпедный аппарат и стрельнёт. Тоже не зная — куда. Но ведь куда-нибудь ты долетишь? Или это будешь уже не ты? Я не очень разбираюсь в торпедном деле, тебе лучше знать…
— Я не знаю, кто и зачем меня нанимал. Я ирландец, бывший подводник, лейтенант-коммандер[60] Чарльз О'Доннел. В Дублине ко мне в подошёл человек, предложил заработать. По прежней специальности. Пенсия у меня была очень маленькая, предложили впятеро. Какой смысл отказываться? В своём отсеке я готовил торпеды. Только. По команде выпускал. Куда, в кого — понятия не имею.
— Отлично, — сказал Летягин, почувствовавший, что выходит на интересную тему.
— Начнём с самого начала. Какой паб, название, адрес. Какой человек? Дата и место подписания контракта. Куда отправились после этого? Где базировалась лодка? Сколько их было, кроме этой? Сколько раз выходили в море, сколько раз стреляли по целям. Координаты, результат. Когда и откуда вышли в последний поход… Видишь, как много интересных вопросов. И наверняка столько же ответов будет. Должно быть, — уточнил Летягин. За отказ отвечать — смертная казнь. За ложь — то же самое. У меня есть время, чтобы допросить каждого на борту и сопоставить информацию. Заранее предупреждаю — никаких обнадёживающих обещаний не даю. Не в моих возможностях. Приплюсовать к уже имеющимся покойникам — свободно. Отпустить — нет. Суд будет разбираться. Наш или международный — не моё дело. Но верхней меры у нас не предусмотрено, так что поживёшь в любом случае. Так что — начинаем?
Бывший лейтенант-коммандер сделал правильный выбор. Жизненного опыта ему хватило, чтобы сообразить: в своём нынешнем состоянии русский поручик и без того проявляет чудеса психической устойчивости, заставляет себя держаться в рамках и устава, и так называемого гуманизма. Едва ли хоть один из офицеров очередной реинкарнации «Летучего голландца», каковой являлась субмарина «12-бис», вел бы себя настолько корректно с этим же поручиком.
Поэтому О'Доннел решил все свои силы и изобретательность приберечь для нормального суда. А с человеком, счастливо избегнувшим мокрой могилы, да вдобавок, вместо того, чтобы от радости напиться вдребезги, занявшегося нудной канцелярщиной, лучше по пустякам не спорить. Кто знает, в какое мгновение и от какого слова у него сорвётся нарезка загадочной славянской души, и он начнёт крушить направо и налево, не разбирая правых и виноватых?
Правда, лейтенант-коммандер отчётливо понимал, что «правых» на борту его лодки гораздо меньше, чем имелось праведников в Содоме и Гоморре, вместе взятых.
Чарльз оказался человеком весьма памятливым и наблюдательным и всячески демонстрировал поручику свою лояльность. Несколько раз попробовал надавить на жалость, повествуя о своей трудной судьбе, но увидел на лице едва ли двадцатипятилетнего офицера гримасу брезгливости по отношению к себе, сорокалетнему мужчине, и устыдился. По крайней мере, перешёл на тон деловой и почти бесстрастный.
Большая часть его показаний Летягину показалось не то чтобы неинтересной, а попросту непонятной. Поручик крайне мало был сведущ в международной политике. Окажись на его месте Чекменёв или даже Ляхов, они мгновенно зацепились за незначительные, казалось бы, детали, вроде мельком услышанного О'Доннелом разговора между командиром лодки, то ли с бывшим, то ли до сих пор состоящим на службе коммодором английского (!) флота, и штатским господином.
Разговор происходил в береговом ресторанчике, незадолго до последнего рейда. Там и прозвучало — «Хантер-клуб». Ирландец об этой организации слышал и раньше (жизнь длинная, чего только не услышишь) и предположил, что в России о ней тоже имеют представление. Кому нужно — разумеется, имеют, но не каждый же строевой офицер, если он не из Разведупра.
Гораздо более важной информацией Летягин счёл ту, что касалась расположения базы подводных лодок. Фарерские острова, один из фьордов миль на тридцать севернее Торсхавна, столицы островов, с населением около десяти тысяч человек.
Главное — база там, судя по словам О'Доннела, появилась не вчера и не позавчера. Лет пять назад, не меньше, и была она тщательно оборудована для обслуживания минимум пяти лодок. По полной, что называется, программе.
Причём явно не датчанами, в чьей юрисдикции находились острова.
…Время от времени подавая условный сигнал на принятой в средиземноморской эскадре частоте, трофейная лодка почти полным ходом шла курсом норд-ост. Погода была самая подходящая ветер умеренный попутный, волнение не больше трёх баллов, сплошная облачность и дымка, ограничивающая видимость тремя-четырьмя милями. Достаточно, чтобы заблаговременно уклониться от нежелательной встречи с посторонними судами. Торговые моряки не настолько бдительны, чтобы навскидку обнаружить у горизонта всего лишь семиметровую рубку и почти погружённый корпус. От военных кораблей, конечно, не скроешься, но пока бог миловал.
После полудня лодку наконец обнаружили, на пределе своего радиуса, вертолёты с «Эссена». Снизились почти до высоты рубки, сбросили на тросике красный алюминиевый пенал. Летягин прочитал короткую записку с указанием нового курса и только тут почувствовал, как смертельно устал. Час, от силы два продержится, и всё! Свалится, где стоит. Одновременно, другой частью сознания, понимал, что останется на своей вахте сколько нужно. Хоть бы и ещё сутки.
Очередная пара вертолётов прилетела через час. Один барражировал поверху, другой зашёл с кормы, почти коснулся палубы разлапистыми поплавками, завис, уравняв скорость.
Из распахнутой дверцы спрыгнули пять человек в спасательных жилетах. Два со «строевыми» кантами на погонах, трое с «механическими». Поручик, с ладонью у виска, отрапортовал старшему по званию, капитану второго ранга, и в заключение спросил: — Могу считать, что командование сдал?
— Так точно, поручик, так точно, — обнял его смутно знакомый офицер. Где-то виделись, а убей бог, не вспомнить.
— Капитан второго ранга Шелавин командование принял. Можешь отдыхать, — посмотрел он в красные, воспалённые глаза офицера. — Ходу нам часов пять. Выспишься. На «Эссене» тебя торжественная встреча. Сам понимаешь…
На свою дачу Фёст с командой возвратились благополучно. Никто их бесшумного скольжения по реке не заметил, всё внимание не слишком многочисленных в это время обитателей прибрежных посёлков было привлечено звуками боя и высоким пламенем пожара.
Секонд, Мария, Марина и Людмила встретили их, как случайно выживших героев — слишком уж большой шум они подняли.
— Даже здесь слышно было, будто батальон воюет, — сказал Ляхов-второй, довольный, что всё закончилось и кроме царапины Инги — никаких потерь.
— А шашлыки готовы? — демонстрируя и выдержку, и чувство юмора, спросила Анастасия.
— Чуть-чуть не подгорели, — в тон ответила Людмила.
— Шашлыки ещё немного подождут, господа офицеры, — сказал Фёст. — Десять минут на всё. Мотор с клипербота снять, протереть, слить бензин. Убрать в дальний угол, можно каким-нибудь мусором притрусить. Словно к нему год не подходили. За полчаса он остынет, не придерёшься. Воздух из лодки спустить, её у огня подсушить. И тоже в сарай. Отдельно и подальше…
— Думаешь — кто-то проверять будет? — удивился Секонд.
— У вас, может, и не стали бы, а у нас… Хрен его знает, товарищ генерал-лейтенант.
Эту присказку из уст аналога Вадим слышал неоднократно, и всегда — в разных вариациях.
— Дальше, девушки и дамы, — сказал Фёст, неизвестно зачем проведя такое разделение среди ходивших с ним валькирий, — форму, оружие — тоже в подвал. Там есть люк в полу, Вяземская знает керамический. Никакой металлоискатель не возьмёт. Затем быстренько, но тщательно моемся с применением специальных косметических средств, чтобы ни следа порохового дыма или почвы с того участка ни на ком не осталось. Переодеваемся в самые лёгкие и соблазнительные из имеющихся у вас туалетов — и к столу! Ох, и осторожный же ты! — В словах Секонда Фёсту послышалось некоторое осуждение.
— Неужели Конан Дойла не читал? Или Рассела рассказик — «Рутинная работа»? Если кому-то в голову придёт к нам придолбаться — долго отмазываться придётся. Возможно — и со стрельбой. А мне — надоело. Мог бы своим приятелям в больших чинах прямо сейчас позвонить — прикрыли бы. Но опять лишняя засветка. А если сейчас не наши люди всей силой навалятся — мало не покажется. Тем более президент, уверен, кого надо здрючить уже успел. В свете последнего разговора у нас, при всех негативах, спецы ещё встречаются — упаси бог! Особенно если генерала МГБ и взвод спецназовцев неподалёку завалили. Подворный обход верняком начнут. Так одно дело — полупьяные эфемерные создания в просвечивающих сарафанчиках на голое тело им явятся, совсем другое — отчётливые девки с горящими глазами, грязью под ногтями и пороховым нагаром на щеках… Музыку подходящую заводим, всем — грамм по двести крепкого или по бутылке на нос, кому чего нравится — прямо сейчас. Посуду, пустую и полную, сколько есть — на стол. И тут подавая пример, разлил валькириям по полстакана жутко дорогой, для самых отвязанных любителей понтов выпускаемой водки. Обыкновеннейший «спиритус этиликус», известным способом разбавленный, хорошо, если не водой из-под крана, зато эксклюзивные бутылки из самой Франции…
— Давайте, девчата мои дорогие. Спасибо вам за всё, главное — что не подставились.
— Усложняешь ты всё-таки, — с сомнением сказал Секонд, проглотив свою порцию.
И оказался неправ.
Минут через сорок, когда вся компания не наигранно веселилась, ела сочные шашлыки, запивая их хорошим вином, под приятную, довольно громкую музыку из расставленных вокруг беседки колонок, у ворот грубо загудел мотор «УАЗа». Требовательно крякнул сигнал.
— А я что говорил? — сказал Фёст, вставая. — Люда, со мной… Остальным без команды в разговор не вступать…
Вяземская, одетая именно так, как он приказал, на самой крайней грани приличия, разбросав волосы по плечам и изображая умеренную, не преследуемую законом степень опьянения, пошла следом, на шаг сзади, с трудом ухитряясь не провалиться высоченными шпильками в щели между каменными плитками.
Ляхов открыл калитку, демонстративно держа пред собой мощный травматический пистолет.
— Кто тут и какого…Уже два ночи. До семи утра имею право никого не пускать… — Это он начал говорить, увидев перед собой милицейского старшего лейтенанта и двух людей в штатском чуть позади него. — Чего вам? Постойте, — махнул расслабленно рукой, свободной от оружия. — Вы — наш участковый, что ли? Чем могу служить?
— Так точно. Старший лейтенант Семиколенных. А вы?
— Доктор медицинских наук, магистр парапсихологии Ляхов Вадим Петрович. В настоящее ремя — хозяин этой дачи, — подчёркнуто вежливо раскланялся Фёст. — Чем могу служить? — повторил он.
— Вы, это, Вадим Петрович, пистолет опустите, если не трудно, — сказал мужчина слева от участкового. — Разрешение, кстати, имеете?
— Всенепременно. И на пистолет, и на шесть стволов нарезного охотничьего оружия. Только винтовки в Москве и разрешения в Москве. А на это, — он повертел копией «беретты», стреляющей, кстати, очень тяжёлыми резиновыми пулями, шагов с пяти в голову — гарантированно насмерть, — при мне. Как же иначе. Учёные… пойдёмте, предъявлю… Только сначала тоже представьтесь…
Людмила, не вникая в суть разговора, начала чесать комариный укус намного выше выставленной вперёд коленки.
— Несущественно, — ответил спросивший, переместив взгляд с пистолета на гораздо более привлекательный объект.
— Так что вы хотели? — несколько жёстче — спросил Вадим участкового. Сейчас он изображал человека, балансирующего у грани патологического опьянения. Вроде бы полностью адекватен, способен поддерживать разговор и держаться в рамках, но чуть-чуть сверху — или отрубится в секунду, или начнёт творить невообразимо что, не отдавая себе отчёта. — А то у нас баранина остывает. Она, баранина, имеет отвратительное свойство остывать быстрее, чем надо. Тьфу ты, — шлёпнул он себя ладонью по лбу. — Да что мы тут стоим? Заходите, по стопарику-другому примете, и дальше. Собачья работа ночью по улицам таскаться. И ради чего? — спросил он с интонацией Сократа. — Очередного поросёнка у Солодухина украли или пацанва на танцах передралась? Да, простите, заболтался я. Вчера три лекции прочёл, никак не могу остановиться. Так пошли? Там всё и расскажете. Постараюсь быть всемерно полезным… — он подавил икоту, — нашим родным правоохранительным органам…
Вяземская убила на щеке очередного комара и тут же, изящно изогнувшись, занялась щиколоткой. При этом из выреза сарафана наполовину выскользнула слишком роскошная при общей стройности девушки грудь.
Дав приезжим две секунды полюбоваться на чудо природы, он рывком за плечо заставил Люду выпрямиться и поддернул вверх кружевную оторочку, тоже мало что скрывающую.
— Извините, господа! Мила, иди во двор…
— Обещал, что здесь комаров нет, — капризно сказала Вяземская, словно и не заметив лёгкого казуса, — а их тучи.
— У костра не будет, иди, иди, — подтолкнул её Фёст.
За забором очень вовремя пронзительно засмеялись сразу три девушки. Как будто услышали явно неприличный, но смешной анекдот.
— Вы в последние два-три часа чем занимались? — спросил участковый, догадавшийся, что ловить здесь нечего. Хозяин с компанией пьют настолько давно и упорно, что даже молоденькая девчонка, что называется, в зюзю. Однако явно старше восемнадцати, ничего здесь не пришьёшь. Они не то чтобы пять километров, они и сто метров до соседней дачи по прямой не дойдут. Да в таких обалденных босоножках. Если только правда заглянуть «на огонёк», стакан накатить. Увы, «соседи»[61] не позволят. Может, завтра с утра? Познакомиться поближе. На участке душевных жильцов не так уж много…
— А этим самым и занимались. И сейчас занимаемся. У нас, знаете ли, помолвка. Ещё раз прошу — заходите. Кто вас проверять будет, сколько «опрос местных жителей» продолжается…
— А стрельбу слышали? — Мы пьяные, но не глухие, — твёрдо сообщил Фёст. — Нельзя не услышать. Сразу подумали — хорошо люди свадьбу отмечают. Горцы, наверное, недавно и такая мода появилась. Минут сорок салютовали…
— А машин мимо вас не проезжало? Да кто ж их знает? Смотря какие машины. Волгу бы сразу услышали, а «Ауди», допустим, проскользнёт — не заметишь. Откровенно говоря, после десяти вечера ни одной не слышали… — Фёст задумчиво посмотрел на старшего лейтенанта. — Так, может, присядете с нами? На полчасика. — Идея затащить за свой стол участкового не оставляла его отуманенный алкоголем разум. — Не последний раз видимся. Чтоб и дальше — по-хорошему…
— Спасибо за приглашение, — улыбнулся участковый, делая в памяти отметку. — Дела делами, а в свободное время отчего к хорошему человеку не заглянуть? Одним словом, я вас прошу — что-то подозрительное случится, сообщайте немедленно. Через «ноль два». Здесь со мной сразу соединят. И, мой совет, на такие игрушки, — он указал на пистолет, — не полагайтесь. Вреда от них больше, чем пользы…
— Да это как сказать.
Видимо, тон его каким-то образом изменился, и один из штатских снова вскинулся, нечто одному ему понятное почуяв. Но ничего не сказал, молча полез в заднюю дверцу.
«УАЗ» рыкнул, пробуксовав в песке, и рванулся в лесную темноту.
— Ну, вы и актёр, — сказала Людмила, когда за ними захлопнулась калитка. — Магистр парапсихологии, читающий лекции полудюжине голых студенток…
— Ты — не хуже. С комарами — блеск. Я, честно сказать, на такие ножки и позы верняком бы засмотрелся. Уже не о задании б думал, а соображал, надеты под сарафаном трусики или так обходишься… Вот только глаза научись прятать. Те, может, и не заметили, но зыркала ты чересчур по-трезвому. Хорошо, ночь. Днём умный опер мог бы просечь…
— А какая разница постороннему, есть под сарафаном трусики или нет? — спросила Людмила с интересом. Как бы продолжая занятие по практической психологии.
— Да чёрт его знает, — честно ответил Вадим. — Но, как правило, парней, особенно до тридцати, эта проблема основательно волнует. Хотя и вправду — какая разница, один слой материи, два или три, если тебе лично в любом варианте ничего не светит…
Пока они не вышли на освещённое пространство, Люда, словно в продолжение темы, обняла его, несколько раз, слегка даже агрессивно, поцеловала.
— Спасибо, что ты — такой… — Она впервые назвала его на «ты». — Спасибо, что живой вернулся. Девчонки рассказали, как ты там… Они все теперь за тебя в огонь и в воду. А если хочешь, я всегда с тобой буду.
«Вот и меня, наконец, кто-то полюбил» — грустно и непривычно радостно подумал Фёст…
— Всегда — понятие растяжимое, — сказал он, отрываясь от невыносимо притягательных девичьих губ и всего остального, что теперь вдруг снова стало совсем не тем, что он небрежно прикрывал глаз оперов. Совсем не тем…
К столу они подошли порознь, на приличной дистанции. Вяземская не хотела, чтобы подруги раньше времени что-то узнали. Анастасия — ладно. Сама призналась, что Уваров сделал ей официальное предложение и она его приняла.
У неё пока — ничего подобного. Человек, с которым она возмечтала сойтись судьбой, совсем не то, что подполковник Уваров. И не тот, что брат-близнец: с ним очень легко и просто было чувствовать себя на «Валгалле». Поразительно другой, словно бы намного старше, суровее, жёстче, и время вокруг — не то. О том, что избранному ею мужчине едва перевалило за тридцать, она не подумала. Зато сумела почувствовать, что при всей своей жёсткости — и нежнее тоже. Возможно — именно поэтому.
— Испугался? — благодушно спросил Фёст у Секонда, сделал несколько больших глотков коньяка, стянул зубами с шампура кусок не успевшего остыть мяса. Совершенно как артист Смирнов в короткометражке «Напарник» тысяча девятьсот шестьдесят шестого года выпуска, который никто, кроме него, в этой компании не видел. А зря.
— А ничего. Как видишь — обошлось. Спасибо Людмиле…
— Ты бы — не испугался? — тихо спросил Секонд. Фёст его понял сразу. Как его самого поняла Людмила, милая Люда.
— Как тебе сказать? Не осуждаю — в твоём положении, то есть — в чужом, до последней гайки непонятном мире, какой бы ты ни был геройский-разгеройский солдат — испугаться можно, иногда и нужно. Страх для того и придуман. Вопрос — чего пугаться? Впасть в несоответствие перед поверившим в тебя коллективом — пожалуй. А физически — нет. Отстрелялись бы, с боем пробились, до дома доехали. Только в этого лейтенанта, участкового, стрелять я бы ни в коем разе не стал… Глаза у него честные, а жизнь — не приведи бог. Оклад — тысяч двенадцать, а «на чай» и сотню далеко не каждый даст. И не у каждого он возьмёт…
Фёст почувствовал, что его понесло совершенно не туда. Бесконечно длинный день, занятия с девушками, встреча с Воловичем, бестолковая дискуссия с президентом, бой, в котором, признаться, он выжил лишь чудом, нарушив все предварительно данные самому же себе обещания. И после этого — едва не пол-литра крепкого почти без закуски. Чего же ждать? Хорошо, попросту не развезло. Вполне он ещё держится, практически — в норме. И в состоянии младшего братца поучать.
— Вот если бы меня там, на даче генеральской, убили, вот тогда вам худовато пришлось бы… Не захотел бы я на твоём месте и в твоём положении оказаться. Но раз я снова выжил — нечего здесь комплексовать. Тебе. Если твой мир — зоопарк, а мой — подлинные джунгли, о чём речь? Я вот хотел благодарность перед строем объявить… Повинуясь его взгляду, девушки дружно встали. В кителях с погонами и форменных юбках, в высоких сапогах они выглядели бы куда воинственнее, но и в платьицах с босоножками — тоже вполне ничего.
Фёст жестом велел Секонду налить всем, у него самого в чарке уже было. Недопитое. Раза три он только губы мочил. Сам выпрямился, ухитрившись не качнуться. Вздохнул и сказал:
— Не обладая никакими дисциплинарными и прочими правами, только от себя лично, а может, и не от себя, а от всего становящегося для вас близким мира, который мы вдруг вздумали спасать, хочу объявить эту благодарность… — Сам подтянулся, сдвинул каблуки. — Подпоручикам (а поместному — лейтенантам) Вельяминовой, Волынской, Витгефт, Вирен — за мужество и героизм, явленные в боевых действиях. Подпоручику Вяземской — за выдержку и тактическое мастерство в сложной оперативной обстановке. Варламовой и Верещагиной — за тыловое обеспечение очень непростой операции. Сам я ничем государственным вас наградить не могу, а негосударственное каждая из вас завтра получит. Надеюсь, что господин полковник Ляхов на своей стороне что-нибудь придумает. Сообразно должностным возможностям. Проще говоря — спасибо вам, девочки. Что бы я без вас… А теперь — забыли абсолютно всё и гуляем до утра. Танцы и тому подобное…
С танцами всё получилось хорошо. Девушки, поголовно влюбившиеся в своих командиров (а как иначе может быть после случившегося?) да ещё, согласно приказу, одетые абсолютно символически, немножко страдали.
Пятерым из семи, чувствуя на теле желанные руки, отчётливо знать, что ничего другого не будет, — каково? Все они хорошо знали Вадима Петровича-второго (для них — первого) и его жену Майю Васильевну, что на палубе «Валгаллы», что на пляже за лишний неслужебный взгляд, брошенный любой из них на своего мужа, одаривала таким ответным… Желающих перешагнуть черту не нашлось.
Тут вдруг объявился его брат-близнец. Неженатый и очень спокойный. Слегка меланхоличный даже. И что? Его мгновенно, никто даже сообразить не успел, как именно и когда, окрутила Людка Вяземская. Самая тихая и неприметная все последние пять лет в лагере Дайяны.
Казалось бы — что в ней? Всей разницы — цвет глаз, размер груди. На один номер больше, чем у всех, кроме Инги (у неё второй), и только-то? Рост, фигура, ноги, не говоря о прочем, — одинаковые. Но каждой видно — она на Вадима Петровича-второго, а по внутреннему счёту братьев — Фёста (значит, есть за что), посматривает через каждые десять, от силы — двадцать секунд. Мгновенно, из-под ресниц, и снова отворачивается. Но долго вытерпеть не может.
Да и он, хоть и сел специально на другой конец стола, уделяя внимание и Маше Варламовой, и Мане Верещагиной, без намёков, по-дружески то за ручку невзначай беря, то по плечам поглаживая, танцевать чаще всех приглашая (наверное, потому, что в бой не взял), всё равно на Вяземскую смотрит.
Даже с любой из девушек танцуя, то и дело на свою пассию оглядывается. Словно боится, что убежит куда-то.
Ладно, хватит об этом. Всего не перескажешь и ничего не исправишь.
Около четырёх утра, когда едва засветлело небо на востоке, Фёст, протрезвевший, будто вообще ничего не пил, вдруг сказал:
— Собираемся и уезжаем. Девчата, что вам нужно из снаряжения — грузите в машину. Кто-нибудь, для смеху, трусики или бюстик на вот эту ветку повесьте. Прямо перед глазами входящего. Пусть люди порадуются. Пустые бутылки и прочий мусор — в яму за домом. Одну полную на столе оставьте. Быстро, быстро…
— Да в чём опять дело? — удивился Секонд. — Со всем разобрались…
— Слушай старших. Очень мне взгляд одного из оперов, что с участковым были, не понравился, бывают такие… Или упёртые служаки, готовые старушку, не там улицу перешедшую, замордовать, или мерзавцы законченные. Представь себе картинку, у вас, может, малореальную. Примерно сейчас, кое-как покрутившись на глазах у начальства, которое само в периоде полураспада пребывает, означенный капитан или майор, хрен его знает, втихаря отойдёт в сторонку. Наверняка, если не дали ему конкретного задания, о нём никто и не вспомнит. До утра минимум.
За это время (если он такая сволочь, как я предположил) подскочит сюда. Сдуру может и один, а скорее — с двумя-тремя мордоворотами. Очень у нас всё колоритно. При должном старании алкаша, каким я представился, можно раскрутить на любое признание, любую явку с повинной. В стельку пьяная девчонка, — он указал на Людмилу, — тоже что хочешь подпишет. Они же не знают, кто она есть. Предположат, что дочка приличных, но не слишком влиятельных родителей. Проституцию ей пришьют или — предложат соглашение о сотрудничестве. Выбор почти очевидный…
— Страшные вещи ты говоришь, брат, — поёжился Секонд.
— Привыкай. С этим мы и решили воевать, если ещё не понял. Рад, если ошибусь. Всё может оказаться совсем наоборот, и этот капитан или майор станет верным бойцом «Чёрной метки». Поэтому ты с девочками прямо сейчас гонишь на Столешников и вызываешь по СПВ Воронцова… Скажешь ему вот что…
Фёст начал объяснять, что именно, и тут до него дошло.
— Эх, чёрт возьми! Совсем у меня ум за разум зашёл. Как ты поедешь? У тебя ни прав, ни документов… А сейчас, небось, менты все, какие у них есть «Перехваты» и прочие схемы в действие ввели. Тут и я то ли проскочу, то ли нет. Всё. План отменяется. Грузитесь…
— Давайте все останемся, — предложила Анастасия.
— Не пойдёт, — возразил Фёст. — Случись новая заварушка, по-светлому мы все вместе не прорвёмся. Сейчас поехали, время единственно благоприятное…
Мало кому известными дорогами, скорее — с трудом проходимыми просеками — они выбрались к Волоколамскому шоссе. Ухитрились, наверное, из-за своего одновременно респектабельного и разгульного вида спокойно миновать все стационарные и передвижные посты. ППС, ДПС и поддерживающие силы высматривали совсем другой контингент. Домой вернулись в самый раз, до начала пробок.
— Теперь — всем отдыхать, — распорядился Фёст, убедившись, что за окнами нужной половины квартиры — время Секонда, не его. — Не слишком у нас спокойный пикничок получился. Ну да ладно, другим разом отдохнём спокойнее, если Вадим Петрович пригласит…
… Для связи с «Валгаллой» имелась фиксированная частота, так что найти Воронцова не составило труда. Вновь увидев пароход и ставший привычным пейзаж, Секонд испытал чувство, похожее на умиротворение. Вот то место, где нет «ни скорбей, ни воздыханий». А то за истекшие сутки нервотрёпки было многовато. Он сам себе удивлялся — казалось бы, ничего особенного не случилось, и не такое приходилось видеть, а вот поди ж ты. Вадим ещё не догадывался, что таким образом он ощутил «давление времени». Предупреждал ведь Шульгин — походы именно для него из химеры в реальность могут закончиться плохо. Точнее — неизвестно как и чем. Вплоть до развоплощения.
Об отдалённых последствиях судить пока рано, сейчас воздействие проявилось в депрессии, сильной усталости и словно бы потере части собственной личности. Причём — лучшей части. Словно бы она вся перешла к Фёсту, а сам Секонд превратился в его бледную проекцию… Не зря ведь, когда просветление моментами находило, мелькала мысль: «Да что же это со мной? Лимон выжатый — и тот себя лучше должен ощущать…».
«Так это же оно самое и есть, — подумал Ляхов, переходя на палубу парохода. — Пробудь я там ещё несколько суток, вообще истаял бы, как снеговик на солнце. — Представил себе подобную картину, передёрнул плечами. — Нет уж, я туда больше не ходок. Старших надо слушать».
А вот Фёст был по-прежнему бодр и подтянут, словно на самом деле позаимствовал у своего аналога часть жизненной энергии.
Дмитрий Сергеевич принял гостей с обычным радушием. Здесь у него, после ухода Ляхова с девушками, прошло всего около недели, и новостей от «братьев с сёстрами» не было. Они продолжали свои исследования вновь открытой цивилизации дуггуров и на связь выходили всего один раз.
Ляховых, с их сегодняшними заботами, события фактически столетней, с их точки зрения, давности интересовали мало. «Довлеет дневи злоба его».
Зато рассказ о проекте Фёста Воронцова позабавил. Родное ведь для него время, пусть и не удосужился он ни разу за шесть биологических и неизвестно сколько физических посетить собственное «будущее». Новиков с Шульгиным ходили, а его не привлекло. Даже, по некоторым мельком сказанным словам, не очень, кажется, верил в его подлинность. Ровно в той же мере, как в тысяча девятьсот сорок первый год, где повоевал, ни разу не усомнившись в подлинности пуль и снарядов, что летали мимо и рвались вокруг.
В ответ на недоумённый вопрос Секонда, как возможен такой интеллектуальный дуализм, предложил перечитать главу шестую «Суммы технологии»[62] Лема. Фёст, кстати, читал её ещё в студенчестве, а в параллели книга так и не была написана, (хотя несколько других пан Станислав всё-таки сочинил.) Историческая и материально-техническая стабильность не весьма способствует развитию футурологического стиля мышления.
Узнав о появлении обоих Ляховых, в салон пришла Наталья Андреевна, от всей души заинтересованная в судьбах своих воспитанниц.
Секонд тут же доложил, что Фёст собирается сделать предложение Людмиле, а Настя уже нашла себе суженого в его реальности. — Рада за девочек. Люда, имей в виду, — это она уже к Фёсту обратилась, — самая из них нежная. Не очень хорошо, что ей наш мир достался. Лучше бы наоборот. Анастасия покрепче…
— Наталья Андреевна, — при разнице в возрасте всего в семь лет ни он, ни Секонд говорить ей «ты» не научились, — зачем о грустном? Один наш популярный певец предлагает:
«Не будем прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнётся под нас».
Я Люду никогда не обижу, всем остальным шести миллиардам населения Земли этого делать тем более не стоит. При всей её нежности. Вы вон тоже в моём мире тридцать лет прожили, и ничего. Мне тогда восемь лет было, когда вы ушли, но я восемьдесят четвёртый хорошо помню. Следующие двадцать — тем более. Вы не пропали, уж как-нибудь и мы не пропадём, особенно с вашей помощью.
Фёст говорил со всей возможной деликатностью, но Наталья остро почувствовала в его словах и ревность по поводу того, что не он, а Секонд провёл здесь с девушками очень много дней в тесном общении, и обиду на то, что она как бы выразила недовольство тем, что Вяземская выбрала его, невзирая на естественную логику.
Гораздо отчётливее то же самое почувствовал Воронцов. Редкий случай, когда его умная жена допустила «гаф».[63]
Однако русский офицер, тем более — военврач и психолог, Вадим Ляхов очень аккуратно вышел из ситуации.
С улыбкой принял поданную стюардом, по жесту адмирала, чернёную серебряную чарку, приложился к ручке адмиральши. Сказал любимый отцом тост: «Побудем, пожелаем».
Секонд непроизвольно дёрнулся. «Опять всё тот же сон!» То есть слова его отца, использованные, как свои, совсем другим человеком.
Наталья Андреевна выпила своё шампанское, Воронцов и Секонд то, что и Фёст. Пятидесятилетний (если он вообще бывает) коньяк.
— Да, кстати, — по неистребимой привычке немедленно взяв сигарету, но пока её не прикуривая, сказал Ляхов-первый. — По этому поводу мы и пришли. Разрешите, ваше превосходительство, приступить к теме?
— Кто же тебе, такому, может не разрешить? — улыбнулся Воронцов.
— Если вас не затруднит и аппаратура позволит, не могли бы вы связать нас с леди Спенсер? Кажется, в том положении, в какое мы попали, или — влезли, что тоже правильно, только она сможет нам помочь. Хотя бы советом…
— Советом — наверняка, — кивнул Дмитрий Сергеевич. — Ты, наверное, помнишь этот анекдот: «У нас ведь страна Советов, а не страна баранов…»[64]
— Как же, непременно…
Наталья тоже засмеялась, а Секонд снова ничего не понял.
— Я — не могу? — совершенно серьёзно спросил Воронцов.
— Насчёт переброски в Москву очередной Ударной дивизии — не сомневаюсь. Но здесь вопрос несколько тоньше…
— Хорошо, прямо сейчас и займёмся. Воронцов через вестового вызвал андроида — инженера, допущенного к самостоятельной работе на СПВ. Обычный на вид капитан-лейтенант в синей рабочей форме внимательно выслушал задание: разыскать по имеющимся в аппарате настройкам в Лондоне тысяча восемьсот девяносто девятого года госпожу Сильвию Спенсер. Не ошибившись и не соединившись с подобной личностью в любом другом году двадцатого века. Их там может оказаться около трёх. А возможно, и больше.
— Попросил бы пройти, господин адмирал, в нижний центральный пост, вне его такой контакт недопустим… — сказал робот. — При этом необходимо отключить уже действующий канал с две тысячи таким-то годом. И ему синфазным. Три межвременные связи сразу — мощный парадокс.
Фёст ощутил беспокойство. Прерывать канал со своей Москвой, где сейчас отдыхают девушки и где у него столько недоделанного, — просто немыслимо. Кто знает, куда войдёшь следующий раз? Туда, где жизнь идёт заведённым чередом?
«Отец пасёт крысиные стада, мать, как всегда, безмятежно несёт яйца. Дубы-гиганты по-прежнему перекочёвывают на юг…»[65]
— Не возражаю. Пойдём, — приняв решение, сказал он, вставая. — Но ты, брат, ступай домой. По ту сторону экрана. Если что не сойдётся — вернётесь в твоё время. У вас там всё устроено, и Государь своими милостями не оставит. Постарайся, чтобы Люда не подумала, что я её бросил. Жив буду — вернусь…
— Ты что-то в минор впал, — сказал Воронцов сочувственно.
— Не вам бы спрашивать, Дмитрий Сергеевич, — ответил Фёст не то чтобы резко, но убедительно, с большой долей печали в голосе. — Вы куда с сухумского пляжа попали? А если бы вас девушка в Мурманске, или где там, до сих пор ждала?
Он заметил, что у Натальи Андреевны губы слегка дрогнули. Значит — представила, как оно в любой момент с каждым случиться может. С ней — хорошо случилось, а с другой на её месте?
… Робот-оператор нашёл Сильвию всего через пять минут поиска по волнам сразу нескольких мировых эфиров.
Леди Спенсер в викторианском платье с огромным декольте беседовала за чашкой пятичасового чая с довольно неприглядного вида старухой. Берестина поблизости видно не было.
Блок-универсал, он же портсигар, издал в дамской сумочке едва слышный даже самой хозяйке писк. На грани ультразвука.
— Извините, дорогая Аннабель, — со всей возможной любезностью сказала Сильвия. — Мне настоятельно нужно отлучиться. Через несколько минут я вернусь и мы продолжим. Я почти уверена, вашего племянника в Сандхёрст мы устроим…
Единственное близкое место, где можно было разговаривать по межвременной связи спокойно, — дамский туалет. В нём, как убедилась леди Спенсер, не было никого.
— Кому я потребовалась? — спросила Сильвия, глядя на кафельную стенку кабинки.
— Мне, — ответил Воронцов, предупредительно открывая «дверь» до самого пола. — Заходи…
— Алексею сообщить не надо? — приподняла Сильвия бровь. — Он сейчас наверху, за бриджем.
— Не вижу необходимости. Пока роббер[66] доиграют, успеешь вернуться.
— Ну, хорошо, — приподняв подол муарово переливающегося платья, она шагнула в проём. — Рада вас видеть, господа. Вы — Секонд или Фёст? — спросила она Ляхова. — Подождите, не отвечайте, сама догадаюсь… — Сделала вид, что задумалась. — Да, разумеется, Фёст. Невозможно ошибиться. Как у вас там дела?
— Спасибо, леди. Дела у прокурора, у нас так, делишки… О них и хотелось бы потолковать…
Он с предельной лаконичностью изложил то, что случилось с курсантками Дайяны, от момента их гибели до сегодняшнего (если так можно выразиться о событиях, случившихся восьмьюдесятью годами позже) утра. И о том, какую именно личную игру он затеял в своём времени.
— Весьма, весьма интересно, — сказала Сильвия, выслушав. — Несмотря на все наши и ваши усилия, лавина парадоксов вот-вот готова сорваться со склона и покатиться вниз. Не слишком ли опрометчиво вы действуете? Кажется, роль охранителя реальности предполагает несколько более сдержанное поведение…
— Прошу прощения, леди. Некоторое время назад я от своего куратора слышал прямо противоположное. Он считает, что Ловушку Сознания следует перегрузить выходящими за пределы её опыта впечатлениями, заставить вцепиться зубами в собственный хвост…
— Александр всю жизнь страдает привязанностью к извращённым логикам. — Сильвия несколько раз шлёпнула сложенным веером по затянутой в перчатку ладони. — Вы, разумеется, вольны прислушиваться к именно его умозаключениям раз он ваш наставник и куратор. Только за помощью сейчас решили обратиться ко мне, не к нему…
Она повернулась к Воронцову.
— Что это твой стюард до сих пор не обслужил даму?
— Ах да! Прошу прощения, слишком быстрый набрала наша беседа. И зачем стюард? Всё на столе. Тебе шампанского, виски?
Леди Спенсер снисходительно улыбнулась.
— Мы с герцогиней уже начали вечер с розового джина. При дворе сейчас все подражают королеве, это самый популярный напиток…
— Будет исполнено. Вестовой — рысью! Джин, стакан, лёд.
— Итак, — спросила Сильвия Фёста, — какая помощь вам от меня требуется? По-моему, спасенные девушки вполне прилично у вас адаптировались. И что я вообще могу предложить сверх того, что имеется в распоряжении Дмитрия?
— Видите ли, вы ведь единственный для них, по-настоящему родной человек на всей Земле…
— А Ирина? — тут же возразила леди Спенсер.
— С одной стороны — её здесь нет, а с другой… Она ведь не слишком далеко от них ушла… По статусу. Вы же — представитель «старшего комсостава», почти Дайяна. С прерогативами и опытом…
— Интересно. Дальше…
— Потому я и хотел просить вас — побеседовать с каждой. С позиции одновременно и высокопоставленной аггрианки, и члена «Братства». Выяснить, какие из латентных качеств и свойств, полезных в этой жизни, у них можно дополнительно активизировать. Ведь, как я понял, диплом они не защищали и выпускных экзаменов не было, следовательно… И, напротив, не стоит ли окончательно заблокировать те, что им здесь могут только помешать. В том числе — и в личной жизни. Две из них уже подумывают о замужестве, остальные — только мечтают… Так вот…
Ляхов сказал всё, что хотел, со всей прямотой, потому что это его действительно волновало. Врачом со склонностью к психиатрии и психологии Вадим был не из последних. Сам президент с ним свободной дискуссии не выдержал.
Бог знает, какие на самом деле комплексы могут начать проявляться у великолепных по всем качествам девушек. Вадиму в институте, занимаясь в психиатрическом кружке, довелось столько всякого повидать… Надо быть очень уверенным в себе человеком, чтобы в восемнадцать поступить в медицинский, изучать и делать всё, что там положено, в двадцать четыре получить диплом, сохранив в себе и лучшие черты изначально заложенного характера, и романтическое отношение к жизни.
— Это я поняла, — сказала Сильвия. — Сделаю, что от меня зависит. Дальше…
— Дальше… В мастерской Лихарева на Столешниковом остался ваш Шар. Мы им пользоватья не умеем. Как следует. Девочки — тем более, допуска у них к такому нет. Я знаю, что у вас есть уровни. Ирина Владимировна так и осталась на третьем. Лихарев как будто — на шаг возвысился. Вы — насколько я знаю, после Дайяны самая квалифицированная агентесса. Можете научить меня и девушек работать на вашем уровне?
Тон Ляхова не выражал просьбы. Чувствовался нём и нажим, и вызов.
— О чём речь, Вадим? — спросила Сильвия. — Естественно, всё, о чём вы просите, я сделаю. Что такое Шар? Обычный инструмент. В моё время, чтобы получить право перейти на следующий уровень управления им, приходилось служить десятки лет. По понятным вам причинам. А технически… Я и вас за три дня обучу навыкам координатора… Моего уровня. Выше — извините, ключа не имею. Ясно?
— Вполне. И вашего уровня абсолютно достаточно для наших целей. Потребуется повыше — Дайяну попросим.
— Очень вы решительный молодой человек, — дохнула Сильвия. — Правда, Дмитрий?
— Мы ведь сами предложили ему учиться плавать, — ответил Воронцов. — Теперь наблюдаем результаты…
— Вполне впечатляющие результаты. Так мы прямо сейчас пойдём? — Сильвия с некоторым сомнением осмотрела свой наряд. В Лондоне рубежа веков — прелестно. На палубе «Валгаллы» — терпимо. В Москве второго десятилетия двадцать первого века — абсурдно.
— Хочешь — сначала ко мне, — сказала Наталья Андреевна, — найдём, во что приодеться.
Женщины ушли. Воронцов тут же разлил ещё по стопке.
— Как думаешь, не переигрываешь? — спросил Воронцов у «младшего брата», до сих пор не проявлявшего (по крайней мере, в его присутствии) признаков агрессивности.
— Вы думаете — я играю? — грустно спросил Ляхов. — Хотел бы. Беда в том, что положение у меня довольно дурацкое. Числюсь вроде бы за «Братством», а на самом деле — ни то ни сё… А это не по мне. У вас у всех хоть какие занятия есть, пусть и придуманные. Сами пьесу написали, роли распределили, для самих себя и играете. Где-то я подобную историю читал…
А я в вашу пьесу опоздал. Не нашлось у драматургов времени сообразить, для чего такой персонаж может пригодиться. Вот и приходится мне как бы настоящей жизнью жить. Представьте — вы с Антоном так и не встретились, но откуда-то узнали, что встреча такая должна была случиться, да Ловушка помешала. И всё, что потом произошло, — тоже знали бы. Хоть в виде воспоминания о несбывшемся, хоть — фантастического романа. Тоскливо, да? Сейчас там, у меня, вам бы под шестьдесят было. Пенсия скоро, Наталью Андреевну так и не нашли, «Валгаллу» только на картинке в альбоме увидели.
Что мне остаётся? Махнуть рукой и пользоваться предоставленными от щедрот благами жизни? Не мой стиль. Сопьюсь потихоньку, скучно и без эксцессов. Думал я, думал и решил сочинить собственный сценарий. По тем же правилам, о с поправкой на эпоху и психологию персонажей.
— А цель? — осведомился Воронцов, плеснул в чарки ещё понемногу. — Мотивы понятны, цель неясна.
— Да примерно та самая, что у вас была, когда, вы в белый Крым направились. Убедиться: тварь я дрожащая или право имею… Если получится то, что задумал, очень многие проблемы «Братства», почти неразрешимые, исчезнут сами собой. Ко всеобщему удовольствию. Не выйдет — никто, кроме меня, ничем особенно не рискует. Я ведь единственный из всех вас коренной обитатель моей реальности. Очень возможно, такой же придуманной, как и все остальные. А единственная подлинная Главная Историческая Последовательность закончилась или в семьдесят шестом, когда Новиков с Ириной встретились и я, очень может быть, по этой самой причине возник… Или в восемьдесят четвёртом, когда вы ушли.
Поэтому любые мои поступки никак не могут внести возмущения в Мировую Сеть. Они ничем не отличаются от поступков любого из миллиардов ныне живущих, то есть — имманентны этой самой реальности…
— Ишь, как закрутил. Ещё один философ. Дерзай, что тут другое скажешь? Я, если о чём и начал догадываться, оставлю свои озарения пока при себе. В процессе же воплощения очередной сверхценной идеи ты, ясное дело, решил взять на вооружение тактику не существующих в твоём мире аггров. Или и стратегию тоже?
— Со стратегией потом разберёмся, а с тактикой всё верно. Личной гвардией в количестве семи штыков я уже обзавёлся. Теперь к этим «штыкам» нужна ещё кое-какая амуниция. Работе с Шаром Сильвия обучить уже пообещала… Как вы считаете, — задал Ляхов с самого начала беспокоивший его вопрос, — никаких неожиданностей со стороны леди не последует?
— В смысле?
— Не решит ли она, пользуясь своими возможностями и моей темнотой, подкорректировать психику девчонок и в своих интересах тоже? Или даже — только в своих?
— В пределах своей компетенции скажу — нет. Я её за эти годы изучил достаточно. Ей это просто незачем. С «Братством» она себя связала осознанно и окончательно. Я, как ты знаешь, медиум так себе, на Держателя тем более не тяну, но Новиков, Шульгин, Удолин даже по отдельности любые отклонения сразу бы выявили. А им и втроём сразу приходилось на очень высоких уровнях её ауру изучать. Здесь можешь полностью Сильвии довериться.
— Спасибо, одним камнем меньше…
— Валяй дальше. Чего ты ещё, кроме этой консультации, от Сильвии хочешь? Она правильно заметила — сверх того, что уже попросил, все остальное и я могу предоставить. Или нет?
— Не знаю. Раньше эта тема не возникала. Я хотел спросить, есть ли хоть какая-то возможность снабдить моих валькирий положенным штатным снаряжением?
Воронцов посмотрел на Вадима с уважением.
— Интересная идейка. Губа, то есть, не дурра только, боюсь, со всем комплектом ничего не выйдет. Гомеостаты, увы, на дубликаторе не размножаются. Пробовали, с самого начала пробовали. Получилось точно, как у Полесова с мотором.[67] По сию пору пользуемся теми, что есть.
Гомеостат, естественно, интересовал Ляхова в первую очередь. Блок-универсалы тоже вещь в хозяйстве незаменимая, но — никакого сравнения. Полная опасностей жизнь «странствующего рыцаря», какую он себе определил, при гарантии личной безопасности и почти вечной молодости могла бы стать гораздо насыщеннее и эффективнее.
— Я не о дубликаторе, Дмитрий Сергеевич, — медленно сказал он. — Я о тех комплектах, что девушкам полагались в качестве «приданого» при выпуске. Они должны были где-то храниться, настроенные именно на них? Нам чужого не надо. Вот что я хотел у Сильвии выяснить…
Не промах ты, парень, далеко не промах. — даже Воронцова удивила самоочевидная простота решения. Интересно, что никому из них, в том числе и Ирине с Сильвией, такая идея в голову не пришла. А ведь, казалось бы…
Ещё во время самого первого рейда на аггрианскую базу можно ведь было, кроме взрыва информационной бомбы, предусмотреть и захват трофеев — ладно, там было не до того, сами едва ноги ели. Ну а потом? Кто мешал специальную операцию именно с этой целью прокрутить? Разве только опять Ловушка, каким-то способом не допускавшая возникновения подобной мыслеформы в мозгах своих клиентов.
— Имеешь в виду организовать набег на базу Дайяны и изъять требуемое? Технически — выполнимо. Сам думаешь сходить или вместе с девочками?
— Сам. В крайнем случае — Лихарева привлечь…
Воронцов изобразил полное одобрение.
— Это — хорошо! И замотивировать акцию можно классно, и не своими руками «товар взять». Глядишь, в будущем вам с ней ещё контактировать, так незачем отношения портить…
Тут как раз вернулись Сильвия с Натальей. Леди Спенсер переоделась в джинсовый костюм, под курткой — пёстрая рубашка, на ногах кроссовки. Волосы собрала в «конский хвост». Всю косметику смыла. Этакая получилась молодая женщина неопределённого возраста и профессии. Не способная привлечь на улице ни малейшего внимания, разве что у слишком уж наблюдательного человека, и то, если дать ему время тщательно эту «прохожую» рассмотреть. А в потоке мелькнёт неразличимой тенью, и всё…
— Очень даже хорошо, — одобрил Вадим. — А то мой консьерж наверняка мыслями о моём нравственном облике озаботился. Теперь увидит, что я вашим воспитанницам действительно добрый дядя и ничего больше. Мы с вами выглядим подходящей парой…
Наталья засмеялась, а Сильвия бросила на Ляхова заинтересованный взгляд.
— Пожалуй. Ко двору ни меня, ни вас в таком виде точно бы не допустили.
… Фёсту и Секонду было очень интересно наблюдать, как девушки отреагировали на появление Сильвии. Нескольких слов было достаточно, чтобы они поняли, что за дама их навестила. И вот тут сразу выявились различия в реакции.
Анастасия и Людмила сразу, аккуратно, но твёрдо дали понять, что с прошлым, которое координаторша высокого уровня олицетворяет, они не желают иметь ничего общего. Кристина и Мария тоже старались подражать подругам, однако слишком часто поглядывали в сторону своих командиров, как бы за моральной поддержкой. Труднее всех пришлось Герте, Инге и Марине. В них инстинкт подчинённости старшим в своей иерархии выветриться не успел, несмотря на полгода предыдущей подготовки, совсем по другим канонам. Они очевидным образом нервничали, не совсем понимая, что будет дальше.
Сильвия так и сказала Фёсту, пригласив его на минутку в комнату напротив.
— Ты правильно сделал, что меня позвал. За свою девушку можешь не беспокоиться, за Анастасию тоже. С остальными мне придётся поработать. Импринтинг на Дайяну и таких, как я, у них ца сильнее привязанности к вам. Они держатся, но с трудом. Собака, отданная новому хозяину, всегда бросит его, если позовёт старый. Тем более, есть специальные формулы подчинения. Лихарев их освободил слишком поверхностно.
Я постараюсь всё это убрать. Наверное, весь день придётся потратить. Лучше, если вы с Секондом, Анастасией и Людмилой сходите погулять в город. Возвращайтесь к ночи.
— Экзорцизм? — почти шутливо спросил Вадим.
— Очень близко к истине, — не поддержала его интонацию Сильвия.
— Тогда я вас очень попрошу, постарайтесь, чтобы они остались просто обыкновенными девушками. Любящими подруг, уважающими старших товарищей, преданными присяге, которую они принесли своему Государю. И ничего больше. Мне не нужно, чтобы их импринтинг переключился на меня или Секонда. Ему и мне хватит своих, единственных женщин. Вам, наверное, не понять чувства мужчины, на которого смотрят влюблёнными глазами, а он испытывает одновременно жалость и вину за то, что не может ответить. Я совсем недавно понял, что мы, что бы на эту тему ни говорили, особенно последнее время, гораздо моногамнее вас, якобы «хранительниц очага».
— Молодец, Вадим. Вы мне очень понравились именно сейчас. Я сделаю так, как вы хотите. Однако признаюсь — если бы вы не сказали того, что сказали, вы сильно рисковали. Я, без всяких шуток, собиралась в очередной раз проверить свои чары. На вас, мой дорогой, на вас. Когда живёшь слишком долго, тянет на свежие ощущения…
Фёсту её слова тоже пришлись в настроение. Сразу по нескольким причинам.
— Не повезло нам с вами, леди Спенсер, — вздохнул он. — Всего бы на недельку раньше встретиться, и мы могли бы остаться довольными друг другом…
— Вот эта девчонка — и я ей проиграла?! И никаких колебаний? — Сильвия словно бы и шутила, а где-то и нет. В чём в чём, а в женской психологии доктор Ляхов разбирался. Опыт имел большой, и профессиональный, и личный.
— Наверное, хватит колебаться. Тридцать лет а плечами. И прямо тут же и повезло. Спасибо Лихареву, Левашову, вам, Дайяне. Будто все дружно решили моим личным счастьем озаботиться, снизошло озарение… Вы мне, миледи, что могли предложить, хоть год назад, хоть сегодня? Видел, знаю, с восемнадцати лет. А тут, как ни выспренно это звучит — любовь и дружба до гроба. Я ведь правильно вас понял: за другими мужиками через некоторое время моя Люда бегать не начнёт?
— В этом можете быть уверены беззаветно, лишь бы вы не начали.
— Обстановка покажет, Сильвия… — ну всё время меня тянет назвать вас по отчеству, такая национальная привычка. А до сих пор его не знаю.
— И не надо. Не воображайте меня старше, чем я есть. Леди Си — вполне достаточно. Ну, идите. Для первой встречи с глазу на глаз мы сказали друг другу едва ли не больше, чем нужно.
В одиннадцатом часу вечера Ляховы с Анастасией и Людмилой вернулись. Фёст постарался показать им ту Москву, которой до сих пор можно было гордиться. Старые, не потерявшие былого очарования улочки и переулки, бульвары, где под навесами и зонтиками можно ощущать себя почти в Париже. Воробьёвы горы с видом на Москву-реку, ярко освещённый центр. Хрошо нагулялись и ни разу не касались темы Сильвии и будущего, пусть и видно было, что девушек не оставляют связанные с этим мысли. Людмилу меньше, ей хватало и того, что, приотстав от Секонда с Настей, она сжимала пальцы Ляхова и шла, погруженная в текущее мгновение.
На кухне, традиционно, пусть и хватало в квартире других комнат, сели втроём, оставив девушек заниматься своими делами. Фёсту было интересно, как после проведённых Сильвией процедур они себя поведут, оказавшись вместе. Но леди Си сказала, что сейчас их трогать не нужно. Пусть адаптируются.
— Сами не понимая к чему? — спросил Секонд.
— Именно. Из занятий со мной они ничего не запомнили. Кроме того, что очень приятно пообщались с твоей, Фёст, старинной подругой. — При этом Сильвия мстительно улыбнулась.
Да, такая специалистка своего не упустит. Как-нибудь когда-нибудь у Людмилы прорежется зубочек ревности. От запавшего в память слова Инги или Марины.
— Но ты с этим справишься, — улыбнулась Сильвия, легко реконструировав промелькнувшую у Ляхова-первого мысль. — Вы бы знали, парни, — обратившись сразу к двум аналогам, сказала она, полностью попадая в образ вышесреднего класса московской женщины, не захотевшей вращаться в гламурных тусовках, но сохранившей верность идеалам студенческой юности, Грушинских фестивалей и тому подобного. — Вы бы знали, как я смертельно устала. Та ещё работёнка. Поэтому не задавайте мне сегодня больше никаких вопросов. Налейте обычной водки, какой к чёрту «розовый джин»! Помнится, где-то в одной из гостиных был обычный, древний магнитофон. Принеси его… — она задумалась, выбирая, — ну, ты. — Указала пальцем на Секонда. — И найди в тумбочке бобины. С подходящей настроению музыкой… той и, надеюсь, вашей. На трёхсотпятидесятиметровых катушках магнитной ленты типа «десять» ничего другого, кроме бардовских песен шестидесятых годов и того же времени блюзов и джазовых композиций, Ляхов не нашёл. Имелись ещё виниловые пластинки, числом несколько сотен, но его ведь просили именно магнитофон.
— Настолько глубоко пришлось погружаться — заботливо спросил Фёст. — Девчонки ведь рождения максимум условного конца восьмидесятых… Скорее даже начала девяностых.
— Само собой, — ответила Сильвия, подмигнув и подняв гранёную стопку. — Поэтому у них должны были быть любимые матери и отцы, воспитанные на Высоцком, Клячкине, Городницком, Хампердинке, Поле Мориа…
Секонд принёс и поставил на тумбочку магнитофон, ткнул пальцем в клавишу. И тут же на всю кухню разлился голос Сальваторе Адамо: «Томбе ля неже…».[68]
— Одного я не пойму, леди Спенсер, вы ведь, насколько мне известно, всю жизнь по Западу специализировались. Откуда вдруг такое проникновение в психологию наших «шестидесятников»? — спросил Фёст, сам сын родителей этой страты. Секонду подобные ностальгические рефлексии были абсолютно чужды. Понимал, о чём речь, поскольку посмотрел десяток кинофильмов того времени, ничего в них по-настоящему не поняв. Что ему, к примеру, «Июльский дождь» или «Улица Ньютона, дом один»?
— Ограниченно мыслите, молодой человек, — ответила Сильвия. — По должности мне приходилось контролировать деятельность координаторов практически всего Северного полушария. С дореволюционной российской и советской действительностью была неплохо знакома. Врангеля лечила от посттифозного миокардита, с Савинковым, всем известным, дружила. Одна из героинь фильма «Операция „Трест“» — тоже я. Поэтому — не удивляйтесь больше. Скажите лучше — что дальше? Мне не терпится вернуться в «прекрасную викторианскую эпоху». Помогу, если сумею — и обратно. Не хотите себя там попробовать? Моему Алексею одному скучновато, вы смогли бы составить ему подходящую компанию, особенно после того, как повоевали вместе. Людмилу, само собой, тоже возьмите.
— Спасибо за приглашение, леди Си. Мы к нему, при случае, непременно вернёмся. Но сейчас у меня к вам другая просьба…
… — Да почему и нет? — с непривычным обоим Ляховым бесшабашным весельем ответила Сильвия. Неужели так на неё подействовала обстановка «интеллигентской кухни», почти советская на вкус водка и совершенно советская музыка? Или не столь уж «прекрасна» викторианская эпоха? Времена детства и юности могут казаться субъективно прекрасными, но вот вернуться в на постоянное жительство в конец сороковых — начало пятидесятых годов лично я не захотел бы.) Давайте попробуем! У меня с Дайяной давние счёты. Вот прямо сейчас! — Леди Си вытащила из нагрудного кармана куртки свой золотой портсигар, с гораздо более сложной, чем у Ирины Новиковой, как только что сейчас заметил Фёст, инкрустацией рубинами и бриллиантами на рифлёной крышке.
Улыбалась она и подначивающе, и успокаивающе одновременно.
«Что-то такое интересное затевается, — подумал Фёст. — Моя идея — это одно. Реакция на неё Сильвии — другое. Мнение Воронцова — третье. Что выберем?»
— Только не напоминай мне сентенцию из твоего любимого Михайлова: «Если не знаешь, что делать, в любом случае делай шаг вперёд», — вслух ответил на его мысль Секонд. — Штурмана в тумане стопорят ход, и сапёры не шагают на непроверенное поле без миноискателя…
— Ловушка ждёт стандартных реакций. Леди и нас явно провоцирует. — В очередной раз Фёст с сигаретой подошёл к окну. Дождь монотонно колотил в стёкла. Значит, по ту сторону — другая Москва. В настоящей — ни тучки на небе не было. Для него за эти сутки намечался уже второй Рейд. Едва ли он будет легче первого, но усталости, что удивительно, он не испытывал ни малейшей, только бодрящее возбуждение.
— Поэтому — пошли, — жёстко сказал он. — Прямо сейчас, с этого места. Никто и в туалет не выйдет. Знаем мы эти туалеты. Включайте, мадам…
— Так и сделаем, — согласилась леди Спенсер, — а в туалет и там можно сходить, это не вопрос.
Она произвела несколько манипуляций, стремительными, почти неуловимыми для взгляда движениями нажимая отточенным ногтем мизинца какие-то кнопки внутри своего портсигара.
— Поехали, как сказал Юрий Гагарин. — Сильвия развернула свой блок-универсал в сторону Ляховых, блеснула яркая вспышка.
«Везде разные эффекты», — подумал Секонд, растворяясь в нирване. Если бы он из неё не вышел секундой позже, наверняка бы ничего не потерял. Поскольку некому и не о чем было бы сожалеть.
А раз вышел — как бы ничего и не изменилось в его самосознании. Окружающий пейзаж — да, он изменился сильно. Шумящие под ветром кроны исполинских сосен, высокая жёсткая трава под ногами. Темнота. Несколько звёзд в просвете ветвей. Довольно прохладно.
— Мы теперь где? — спросил он.
— По-нашему — на Валгалле, по их — на Таорэре, — ответил Фёст.
— Как ты быстро ориентируешься, — не то с уважением, не то с насмешкой сказала Сильвия.
— На всех зачётах командирской учёбы — топография всегда «отлично», — ответил Фёст. — Что неизменно вызывало тупое недоумение проверяющих. Не встречал ни одного человека, отчётливо понимающего, что врачи — отнюдь чеховские «Ионычи». Тем более — военные. Как будто карта-километровка и компас в их понимании несравненно более сложные предметы, чем «Атлас Синельникова» и хирургический набор «Б-1».
Тогда — начинаем движение, — предложила Аггрианка. Оружия ни у Фёста, ни у Секонда не было никакого, даже пистолетов. От этого они чувствовали себя неуютно, на чужой планете, в полусотне парсеков от Земли.
Идти пришлось не очень далеко, меньше километра.
Становились перед оградой, за которой в долине виднелись несколько домов. Один — освещенный электричеством или чем-то подобным, остальные — тёмные. «На Теберду похоже, — подумал Фёст, — даже речка вдалеке шумит».
— Сейчас я попробую нейтрализовать охраною сигнализацию, — сказала Сильвия. — Если ничего не изменилось, мы пройдём спокойно. — А если? — спросил Фёст. — Тогда вы будете стоять за моей спиной и молча наблюдать за происходящим… — Понятно, — ответил Секонд, чувствуя, что попал в ситуацию, где от него ничего не зависит. Фёст перемолчал.
Дайяна, видимо, не сочла нужным перенастраивать системы Базы. Аггры вообще отличались непостижимым, с точки зрения землян, технологическим консерватизмом. Если что-то работает десять тысяч лет с предполагаемым эффектом, так и пусть работает. Как колесо, например.
Сильвия провела своих напарников по нескольким дорожкам, обходящим постройки посёлка извне. Её блок-универсал по мощности превосходил любой из тех, что могли здесь оказаться. Кроме принадлежащего самой Дайяне. Но он наверняка был выключен, иначе тревога поднялась бы сразу, при пересечении первого рубежа.
— Вот мы и у цели, — сказала Сильвия, открывая дверь в цоколе здания, похожего на противоатомный бункер.
Фёсту было очень неприятно. Непрерывно его царапало, и снаружи и изнутри. То ли подобие чужого взгляда в спину, то ли пробегающие по нервам искровые разряды.
Люминесцентные лампы освещали длинный коридор непривычной взгляду землянина конструкции, а главное — пространственной метрики. Не квадратный, не цилиндрический, а словно бы овальный, но с беспорядочно меняющейся кривизной, да вдобавок несколько скрученный по оси. Вестибулярный аппарат сразу запротестовал, словно в «комнате смеха» с раскачивающимися кривыми зеркалами. Слегка пружинящий под ногами пол. Россыпи огоньков следящих устройств (видимо) по складкам стен, послушно гаснущих под лучом портсигара Сильвии. И совершенно нечеловеческая тишина. Здесь поглощалось всё — звуки шагов и даже дыхания.
— Залезли хрен знает куда, — едва слышно прошептал Секонд в ухо аналогу.
— Ничего, прорвёмся…
В известном ей месте Сильвия остановилась, направила плоскость блок-универсала на изгиб трубы. Снова чёрная вспышка и мгновенный приступ дурноты у людей. Раздвинулась ирисовая диафрагма, открывая проход в просторное помещение.
— Получилось, — с оттенком торжества в голосе сказала аггрианка. — Вот оно, перед вами…
Теперь они оказались словно бы внутри гигантского улья.
В сотнях шестигранных ячеек, от пола до потолка всех пяти стен комнаты, лежали жемчужно-серые футляры, похожие на сплющенные куриные яйца. С полметра длиной. На верхней поверхности каждого светился зеленоватый экран с непонятными знаками.
— Быстро, — свистящим шёпотом сказала Сильвия. — Забирайте. Вот эти, — она провела рукой вдоль ряда на уровне пояса, — семь штук.
— Куда? — почти выкрикнул Секонд. — Даже рюкзака не догадались взять!
— Да хоть в рубашку, — досадливо ответил Фёст. — Снимай, рукава завязывай…
Сильвия сделала успокаивающий жест, снова подняла портсигар.
Посреди комнаты открылся проём в московскую квартиру, точно в точку отправления.
— Бросайте туда. Не бойтесь, не разобьются…
— Так, может, ещё штук пять лишних прихватить? — спросил Фёст, поднимая первый контейнер. Не тяжёлый, килограмм пять или шесть.
— Взять можно, только не отсюда, с самой нижней…
Сильвия не успела закончить, у неё за спиной как бы из ничего появилась Дайяна с таким же блок-универсалом в руке.
— Какая неожиданная встреча, — язвительно сказала хозяйка Базы. — Что вам здесь потребовалось? Даже невежливо — стоило бы вначале ко мне заглянуть, объясниться… Не чужие люди.
Она взглянула на маркировку футляра в руках Секонда.
— Ах, вот как! Очень интересно. Они опять живы? Неужели ваш Левашов ухитрился ещё одну петлю создать? Не думала, что такое возможно. Или…
— Скорее — «или», Дайяна. Петля из реала в реал — я тоже не могу это представить… — ответила Сильвия.
— Пожалуй, — кивнула Дайяна. — Твои друзья оказались здесь позже их безусловной гибели. И горевали вполне искренне. Ирина проявила сочувствие, сказала Новикову, что любую из «заготовок» можно переоформить так, что он никогда не заметит разницы…
— Вот как? Ирина предложила ему восстановить собственную соперницу? Они что, решили перейти к многожёнству? — Сильвия была совершенно искренне удивлена, и это лишний раз убедило Дайяну, что она говорит правду и в остальном.
— Не совсем так. Он подал это несколько иначе. Мол, девушка помогла ему оправиться после психического удара «дуггуров», а он в благодарность пообещал стать ей добрым дядюшкой-покровителем в будущей земной жизни…
— Очень похоже на Андрея. Ирина должна была ему поверить.
— Тем более, он почти не солгал. Его действительно тяжелейшим образом контузило. Увидев Новикова снова, я, признаться, удивилась, что он вообще выжил…
Пока дамы разговаривали, Ляховы в четыре руки перекидали прямо на пол своей кухни и семь замеченных контейнеров, и пять лишних.
Потом стали так, чтобы в глаза хозяйке не бросились опустошённые ячейки из нижнего ряда.
— Таким образом, — вернулась к причине своего здесь появления Сильвия, — семерых девушек больше нет, их комплекты никому не нужны, тебе и оставшиеся девать некуда, а мы найдём им применение. Знаешь, если верна прямая теорема, верна и обратная. У меня хватит подготовки, чтобы сделать из обычных людей то, что ты так долго делала из нас…
— И к чему всё это? Только попроси, я отдам тебе столько курсанток, сколько скажешь. Сама ведь знаешь. Мы, кажется, обо всём договорились…
Заметила недоумение на лице Сильвии, которое та не сумела скрыть.
— Понятно. Очередное пересечение. С твоими друзьями я уже успела несколько раз встретиться, ты с ними — ещё нет. Из какого же ты года, милочка?
— Из восемьсот девяносто девятого через тридцать восьмой, — ответила леди Си, уверенная, что с названными датами она не промахнётся. Всё, что касалось её воплощения там, она знала доподлинно. А Дайяна успела запутаться в нескольких реинкарнациях своей некогда ближайшей помощницы. С последней настоящей она как раз встречалась в тридцать восьмом, но через восемьдесят четвёртый. А потом сама потеряла нить и даже часть памяти. Касающуюся как раз событий, непосредственно примыкающих к моменту взрыва информационной бомбы.
Отчего и не сообразила, та ли Сильвия перед ней, что попадала на Таорэру из две тысячи шестого, или другая.
— Пусть так. И эти молодые люди — оттуда же? Решила восстанавливать структуры? Для себя? Будь по-твоему, меня это совсем не касается. Я твоим друзьям сказала — ничего, кроме личной жизни в ненужной им реальности, меня больше не интересует. Как считаешь, стоит прямо сегодня деактивировать всё оставшееся оборудование? И на Главной базе, и здесь. Снимутся все проблемы. Когда я вернусь на Землю в подходящее для меня время и место, спокойнее будет жить, зная, что в ничьи руки оно больше не попадёт.
— Не верю, — сказала Сильвия. — Мы с тобой не из тех, что способны на окончательные поступки. Всего пять лет назад я тоже решила жить сама по себе, не участвуя ни в наших, ни в человеческих играх. А сейчас вдруг пришлось передумать. Откуда ты знаешь, что случится лет через пятьдесят?
Мосты за собой сжигают только идиоты или параноики.
— Возможно, ты и права. Я подумаю. Ты взяла всё, что собиралась? Ни о чём больше не хочешь спросить? Тогда расстанемся. Но всё-таки… — Её лицо выразило сомнение. — Откуда ты можешь знать о гибели именно этих семи номеров? Если мы не встречались…
— Кто сказал, что не встречались? В Кейптауне, в девяносто девятом Лариса сказала Берестину о гибели Лихарева и девушек, трое из которых успели подружиться с Новиковым, Левашовым и Шульгиным. С Валентином все мы были знакомы очень хорошо… Лариса ещё сказала, что о смерти одной из «номеров» Андрей очень горевал. По не слишком понятным мне причинам. Теперь ты объяснила. Она же, ничего не имея в виду, просто по привычке хвастаться своей памятью и эрудицией, назвала и номера, и имена. Со слов скорее Левашёва чем Новикова. Вот тут я и подумала…
— В принципе — правильно подумала, — почти равнодушно ответила Дайяна. Сильвия сумела окончательно развеять её подозрения. — Только не забывай — с твоим уровнем из взрослых землян ничего близкого и к третьему классу подготовить не удастся. Да и мне — едва ли.
— Кажется, некоторые взрослые земляне и без предварительной стажировки от нас с тобой кое чего добились, — рассчитываясь за прошлые обиды, особенно за последнее пережитое по вине Дайяны унижение,[69] небрежно ответила Сильвия. — Как, на твой взгляд, из этих молодых людей выйдет что-нибудь приличное?
Дайяна лишь на секунду повернулась к Ляховым лицом.
Когда-то она при первой же встрече сумела определить потенциальные способности Новикова и Берестина, да и то сильно их недооценила.
— Кое-что — безусловно может. Иначе ты не стала бы ими заниматься. Действуй, ты в своём праве. Не забывай только, что и Шары, и блок-универсалы не под них настроены. Вреда может случиться намного больше, чем пользы…
— Ничего. Все лишние функции заблокировать в моих силах. В любом случае эти юноши с аппаратурой будут мне куда полезнее, чем без неё…
— Тогда — до свидания, — сказала Дайяна. — Рада буду встретить тебя в нерабочей обстановке.
— Лариса говорила, будто ты собираешься обосноваться в её Кисловодске.
— Подумываю об этом. Но сначала нужно окончательно понять, кто такие «дуггуры», и разобраться с ними. Иначе никакой спокойной жизни не получится. Ни у меня, ни у твоих друзей.
Сильвия со своими паладинами[70] ушла по третьему из возможных каналов связи то ли с далёкой, то ли составляющей с Землёй одно целое планетой. Нет, не одно, понятное дело, даже планетография у них была совершенно разная. А вот идея «гантели», двух шариков на одной ручке, бесконечной и одновременно нулевой протяжённости, многим казалась убедительной. Прежде всего — некроманту Удолину.
Снова они втроём оказались на кухне. Не той, конечно, положенной простому советскому интеллигенту, в окраинной «хрущёвке» — шестиметровой, в Черёмушках на юго-западе. В девятнадцатом веке эти самые «кухни», ставшие чуть ли не символом «интеллектуального сопротивления» полувеком позже, строились метров по двадцать, заведомо предполагая их прямое назначение. А трепаться и проклинать власть вполне можно было и в гостиных. Как, например, в квартире скромного инженера Телегина[71] собиралось по полсотни футуристов.
Икра, водка, колбаса и прочее в разгар Мировой войны в разряд «пустоты» попадали без всяких внутренних сомнений. Через восемьдесят лет ситуация в России вернулась на круги своя. Действующую власть по-прежнему проклинали, пусть не за отсутствие в достаточном количестве колбасы по два двадцать, приличного пива и радиоглушилки,[72] теперь — чисто экзистенциально. За сам факт существования и за собственную неспособность дарованными свыше свободами разумно распорядиться.
— Напугались, ребята? — простецки спросила Сильвия, положив локти на край дубового стола, за которым даже в нераздвинутом виде могло свободно разместиться десять человек.
— Офицерам пугаться не положено, — ответил Секонд, на самом деле испытывающий огромное облегчение от того, что весьма сомнительный по последствиям инцидент закончился вполне благополучно.
— Так-то оно так. — Сильвия показала на пустующие стопки, разминая сигарету абсолютно русским манером. В Европе такая привычка отсутствует. — Но я, признаюсь, слегка испугалась. Видимо, Дайяна действительно перевоспиталась. Мы ведь были в полной её власти. Стоило ей захотеть — от нас бы не осталось ничего, кроме лёгкого мезонного облачка. И никаких претензий, поскольку никто не знал, куда мы пошли…
— Воронцов знал, — возразил Фёст.
— Он знал, да и то не точно, о твоих намерениях. Допустим, совместными усилиями «Братства» удалось бы восстановить примерную картину. И что толку? В любом случае — нам с вами легче бы не стало. Трюк с девушками неповторим…
— Эрго бибамус, — хором сказали доктора — знатоки латыни.
— Лучше объясните нам, Си, — предложил Фёст, — что она подразумевала, говоря, будто от пользования этими штуками вреда может быть больше, чем пользы? — указал на принесенный им из гостиной один из контейнеров.
— Совершенно правильно говорила. — Сильвия коснулась пальцами двух почти незаметных сенсорных полей рядом со светящейся табличкой, обозначавшей, что предназначен он для номера д29Д, то есть Кристины Волынской.
— Вот — стандартный комплект снаряжения координатора, направляемого к месту службы, гомеостат, блок-универсал… — Ещё четыре футляра, отливающих синевой ружейной стали, она отложила в сторону. — Это дополнительные стройства, сейчас значения не имеющие.
— Каждый предмет в наборе изначально настроен на конкретную хозяйку. Ритмы мозга, общая аура, биохимия и так далее. Если показатель «пользователя» не совпадают, прибор блокируется…
— А как же? — удивился Фёст. — Он знал, что и «портсигарами», и гомеостатом умел пользоваться любой «старший брат». Самому не приходилось, зато с Шаром управлялся довольно уверенно.
— В том и хитрость. Я и Ирина умеем перевести ряд функций в общедоступные. Но далеко не все. И гомеостат для вас будет служить только «походной аптечкой», способной спасти жизнь в почти в любой ситуации, а для «хозяйки» он — куда большее. Следующий раз расскажу подробнее. То же самое Шар. Представьте всеволновой приёмопередатчик, где вам доступны две-три частоты или «вавилонскую библиотеку» с запертыми шкафами.
— Жаль, конечно, — согласился Секонд, — а в чём опасность?
— Всего лишь в том, что с помощью Шара и блок-универсала безответственная или неуравновешенная личность вполне способна устроить на Земле полноценный Армагеддон. Например — взорвать атомную станцию или подводную лодку с полным боезапасом баллистических ракет…
— Кажется, — спросил Фёст, — ни один из членов «Братства» ничего подобного до сих пор не совершил?
— В том и суть. Осталось убедиться, что вы оба относитесь к тому же психотипу, — ответила Сильвия.
— Вы — в состоянии?
— Думаю — да. Но от такой ответственности — увольте. Пусть Воронцов решает. Единолично или с привлечением консилиума. Я и так взяла на себя слишком многое…
Видно было, что спорить с ней бесполезно. Да Ляховы и не собирались этого делать. Нарисованная перспектива выглядела слишком… неуютно. Вроде как носить в кармане гранату с вставленным запалом.
— Спасибо, леди Си, — сказал Фёст. — Действительно, пусть решает Воронцов. Вы и так сделали для нас слишком много.
— А как же девушки? — заинтересовался Секонд. — Им вы доверяете приборы с полным набором свойств и возможностей?
— Доверяю. В каждую из нас заведомо встроены предохранители. Именно поэтому я, например, Ирина, Лихарев, многие другие координаторы практически никогда не использовали свои обширные возможности для решения служебных, а тем более — личных задач силовыми методами. Предпочитали действовать через добровольных помощников — людей. Воздействуя на них методами убеждения. В качестве оружия блок-универсалы применялись крайне редко и только для самозащиты.
— Кто-то, наверное, убедил Трумэна сбросить атомные бомбы на Японию, — задумчиво предположил Фёст.
— Очень возможно, хотя и не наверняка, — улыбнулась Сильвия. — Глупости у многих людей и своей достаточно. Но если предположить, что альтернативой Хиросимы была Москва — что бы вы предпочли? Имея возможность выбирать.
— Взорвать «Малыша» и «Толстяка» ещё в процессе сборки, — быстро ответил Фёст.
— Хорошо соображаете, — похвалила Сильвия, опять указывая глазами на опустевшие стаканчики. — По последней, и пойдём отдыхать. День сегодня выдался тяжёлый даже для меня. Что касается подобной идеи — она рассматривалась. Серьёзные аналитики решили, что вариант плавного перетекания Второй мировой в Третью, если Сталин, зная, что у американцев бомбы нет, решит наступать до Атлантики — ничем не лучше. Жертв следующие тридцать лет могло быть на порядки больше…Тем более, американцам, с их возможностями, собрать сразу десяток новых «Толстяков» труда бы не составило, но применили бы они их по самому центру России…
Фёст махнул рукой. Действительно, о чём спорить и, главное — с кем? Как ему было известно, в те годы Сильвия работала на западной стороне, так что всё достаточно ясно.
— Встреча с президентом у тебя сегодня не намечается? — спросил Секонд, когда леди удалилась в одну из дальних спален своей, пространственно и временно смежной с этой, квартиры.
— Сегодня — нет. В свете «вновь открывшихся обстоятельств» нужно крепко подумать. И манеру обращения изменить, и имидж, да вообще у меня появились несколько другие соображения. С нашими нынешними возможностями можно и по-другому… Давай лучше посмотрим, как на нас пресловутые гомеостаты подействуют. Выбирай, — он указал на один из пяти «лишних» контейнеров.
— Думаю, никакой разницы, если мы генетически идентичны. — Секонд повторил жест Сильвии над сенсорами. Крышка послушно откинулась.
— Ну, если получится, — сказал Секонд, надевая на запястье браслет, — завтра проснёмся новыми людьми.
— Скорее — обновлёнными, — по привычке уточнил Фёст, делая то же самое.
Проснувшись, особой разницы в самочувствии они не ощутили, что и неудивительно. В тридцать лет что лечить совершенно здоровым парням? Немного лёгкости в теле прибавилось, исчезло чувство накопившейся за последнее время физической усталости. В общем, ничего особенного — словно после трудового года беззаботно провели две недели на морском курорте.
Однако Сильвия намётанным глазом разницу ловила.
— Достаточно, мальчики. Попробовали — и хватит. Омолодитесь ещё на пару лет — вопросы у окружающих могут возникнуть. Надевайте, если действительно заболеете или перед опасной работой.
За общим завтраком, после того, как леди Спенcep, в завершение вчерашнего кондиционирования, выдала каждой девушке изначально положенный ей комплект и пообещала провести итоговый инструктаж вкупе с выпускным экзаменом; Фёст сменил тему.
— Не хотите ли вы вместо меня поговорить сегодня с президентом? На размышление он имел меньше суток. Я — тоже. Если попробовать вот в каком плане… — за десять минут он успел изложить ей свои тезисы.
— Не возражаю, — лучезарно улыбнулась Сильвия. — С королевой Викторией находила общий язык, с королём Георгом. О Чемберлене, Лойд-Джорже, Черчилле и вспоминать не буду. Это меня слегка развлечёт, пожалуй. Только вечера ждать не стоит. Застанем его в рабочей обстановке.
— Да неудобно вроде, — выразил сомнение Фёст. — У нас с ним как бы личные контакты.
— Всё нормально. Пора переходить на официальный уровень. Да и возможности ваши продемонстрировать. Вы даёте мне право на импровизацию по ходу беседы?
— Не в нашем праве отказать, Си.
— Тогда мне нужно немного времени, чтобы привести себя в форму… а вы, молодёжь, — это она обратилась уже к девушкам, — отправляйтесь город изучать. По музеям походите, ещё куда-нибудь. Пора привыкать жить без нянек. Блок-универсалы у вас теперь имеются, так что опасаться вам нечего. Но в стайку всё равно не сбивайтесь, гуляйте по двое, по трое, в пределах видимости.
Валькирии охотно начали собираться. Сидеть в четырёх стенах и слушать неинтересные разговоры им основательно надоело. А прогулка в эту Москву сулила массу новых впечатлений.
Обоим Ляховым казалось непонятным, что там Сильвии «приводить в форму», она и так способна покорить любого мужчину на Земле, если не за счёт внешности, так опыта — точно.
Однако, увидев леди Спенсер после подготовки, дружно признали, что женские таланты безграничны.
Настроив на предельный уровень своей компетенции взятый наугад девчоночий Шар, вполне способный в заданном режиме заменить СПВ в пределах планеты, Сильвия дождалась момента, когда от президента вышел посетитель, а следующего в приёмной не было.
Полутораметровый экран телевизора, стоявший в кабинете больше для антуража, — смотреть его хозяину было некогда, а в основном и незачем, сам собой засветился.
Президент не очень удивился, третий раз — не первый. Но когда вместо прежнего «пирата» он увидел изысканно-прекрасную женщину, мило ему улыбающуюся, ощутил сильный дискомфорт. Не совсем понимая его причину.
— Здравствуйте, — поздоровалась дама, в её мелодичном голосе ощущался неуловимый и непонятный акцент. — Не затрудняйте себя посторонними мыслями — отчего вдруг перед вами я, а не он. Темпора мутантур, эт нос мутамур ин иллис. Перевод нужен?
— Нет. Кое-что из латыни и я помню.
— Прелестно. Люблю эрудированных мужчин. Проще будет разговаривать. Вас наверняка нервировал мой предшественник. Ведь правда? Президент непроизвольно кивнул.
Мы тоже так подумали и решили временно отстранить его от переговоров. Он был излишне резок. — Сильвия снова улыбнулась, но так, чтобы стало понятно: резкость «Александра Александровича» ничуть не хуже её очаровательности — Себя — не назовёте?
— Сильвия. Меня зовут Сильвия. Вы поняли, что я имею в виду?
— Конечно. «Бонд. Меня зовут Джеймс Бонд». Отдаёт безвкусицей, вам не кажется?
— Отчего же? О «безвкусице» стоило бы говорить в случае вашего превосходства, в том числе и ксательно «вкуса». Пока у нас другая ситуация. И то что вы подразумеваете под «вкусом», — наша пререгатива. Но, может быть, хватит пикировать — Перейдём к сути?
— Попробуйте. Собираетесь поговорить о том, что случилось минувшей ночью?
— Об этом вам явно интереснее говорить, чем мне. Или вам — об этом? — Сильвия умела играть словами, как немногие. Больше сотни лет, проведённых в кругах, где изящество риторики зачастую ценилось выше грубого смысла, сказывались. — Что же касается минувшей ночи — это как раз образец нашей новой тактики. Сначала мы сделали ставку на случайности. Вы ведь до сих пор думаете, что первые четыре смерти — следствие нашего злого умысла. Это хорошо. Так подумали вы, тут же и пресса поддержала, пресловутую «Чёрную метку» вспомнила…
— На самом деле — нет? — сохраняя выдержку, спросил президент.
— Конечно же! Обычный карточный фокус. Вы загадали бубновую даму, вам её из колоды и выбрасывают. В тот факт, что мы способны общаться с вами внепространственно, вы уже поверили. Теперь попробуйте поверить в возможность предвидения будущего, пусть в пределах всего нескольких суток. Вот и всё. Сначала наши специалисты, маги и некроманты, просчитали, кто из более-менее заметных личностей должен покинуть этот мир такого-то числа. Потом аналитики выбрали из мартиролога лично известных вам людей, с отчётливо криминальной биографией. Александр Александрович, ничего не говоря прямо, намекнул вам, всего лишь…
Она подождала реакции собеседника. Её не последовало. Умеет человек владеть собой, ничего не скажешь.
— Теперь — о вчерашней ночи. Я уверена — вам уже доложили, во всех подробностях, и сюжет, и фабулу, и внешне незначительные, но существенные детали. В том числе и «послужные списки» пострадавших. Наверняка вы задумались — что связывает (связывало) столь разных по служебному положению и роду занятий людей. Каким образом и отчего на месте происшествия оказалось почти полсотни боевиков, в том числе и состоящих на действительной государственной службе, до зубов вооружённых, готовых и способных сражаться друг с другом буквально «до последнего патрона». Я права?
— Правы, — согласился президент. Обаяние Сильвии действовало на него даже через телеэкран. Примерно, как на генерала Врангеля, когда она устроила тому сеанс «восточной медицины».[73] — Я уже дал все необходимые поручения…
— Вот здесь мы и можем найти точку соприкосновения. Никто из нас не собирался учинять в стране кровавую вакханалию. Вы этого тоже не хотите…
— Да, уж я-то — меньше, чем кто-либо…
— Поэтому мы, всего-навсего, накануне сообщили погибшим во вчерашней разборке абсолютно достоверную информацию о том, кто кого, когда и как именно «кинул», кто перевёл на собственные счета половину «общака», кто из воров «стучит» в уголовку, кто — в МГБ. Наоборот — тоже. О вариантах намеченной «стрелки» и о том, вопреки договорённости, «кореша» едут в сопровождении своих лучших боевиков, и о том, что живым оттуда сможет уйти только один. Кто именно — вы догадываетесь…
Понятное дело — печальный исход был неизбежен, принимая во внимание психологию названной публики. Нас же можно обвинить только в разглашении врачебной тайны. Или, в самом худшем случае, в доведении до самоубийства… — Слова её прозвучали деликатно, безукоризненно серьёзно, но с явной насмешкой, как принято было обмениваться колкостями в лондонском высшем свете рубежа позапрошлого и прошлого веков.
— Допустим. Но я так и не понимаю до конца — чего, даже принимая во внимание вышесказанное, вы хотите от меня? Обладая неограниченными возможностями — зачем вам вообще обращаться к моей скромной персоне?
— Вы просто не хотите понять, возможно, не отдавая себе отчёта. — Сильвия сделала капризно-расстроенное лицо. Будто не с президентом великой державы говорила, а просто с приятным мужчиной, плохо поддающимся её чарам. — Наша организация, я готова сказать, как она на самом деле называется: «Комитет по защите реальности» — ставит себе именно эту цель. Никакой другой, поверьте. Вам ведь уже демонстрировали — мы можем всё, но на это самоё «всё» — не способны. Почти физически.
Только вообразите: через этот экран я могу вас застрелить, похитить, подменить неразличимым двойником. Одновременно мои соратники сделают то же самое со всеми главами великих и не очень держав. Завтра я выступлю на всех мировых каналах и объявлю себя «Царицей мира». И приведу неопровержимые доводы в пользу своей абсолютной безальтернативности на этом посту. Думаете — возникнут возражения?
— Скорее всего — нет, — немного подумав, согласился президент. — В предложенных обстоятельствах если возникнут, то немного. И вы их немедленно подавите…
— Какие-то меры принуждения использовать придётся, — чуть ли не в стиле Мерилин Монро улыбнулась Сильвия. — Но строго в пределах необходимой достаточности.
— Очень может быть, что на первых порах так будет, — ответил президент, отводя глаза в сторону. Но что ему это признание стоило — отдельный вопрос.
— Слава богу, — облегчённо вздохнула леди Спенсер. — Прогресс наметился. Значит, следующий тезис тоже не должен вызвать возражений. Имея неограниченную возможность установить неограниченную власть, мы, тем не менее, хотим хоть в этот раз избежать потрясений. Пройти по лезвию бритвы, как определил Ефремов, Иван Антонович. Глубоко изучив «материалы дела», сочли, что вы на своём посту достаточно профессиональны, адекватны, отвечаете «народным чаяниям». То есть — и нашим тоже. Только мушкетёрской отваги и решимости немного не хватает. Ничего, оно, пожалуй, и к лучшему. Проще говоря, мы всесильно, всемерно поможем вам исполнить исторический долг перед Россией…
— Не слишком ли помпезно? — президенту приходилось говорить хоть что-то. Молчать — глупо. Возражать по сути — нечему.
— Ничуть. Исторический долг — категория безусловная. Качество исполнения — особая статья. Хотите пример? Когда Сталин назначил Кагановича, с его двумя классами образования, наркомом путей сообщения, количество аварий и катастроф на транспорте за один год упало в сотни раз…
— Какой ценой?
— Этого вопроса я ждала, — без улыбки на этот раз кивнула Сильвия. — Сами себе и ответьте. Человек сто, от стрелочников до начальников дорог, пошло под расстрел. Тысяч пять получили лагерные срока. Но железнодорожный транспорт начал работать почти без жертв в мирное время и обеспечил нигде в мире не виданную эффективность в военное. Что спасло миллионы жизней и, в итоге, обеспечило Победу. Сделайте за год в стране то, что Лазарь Моисеевич на вверенном ему участке… Разумеется — строжайшим образом соблюдая «социалистическую законность», в чём, как мы знаем, товарищ Каганович не был силён.
Президент снова не выдержал и достал из ящика стола сигареты.
— Тогда и я закурю, — сказала Сильвия. — Мне кажется, со мной у вас взаимопонимание достигается легче, чем с Александром Александровичем. Я поясню. Вы почти согласились, хотя бы внутренне, с нашей новой тактикой. То, что мы проделали вчера, — не вызвало у вас категорического неприятия. И это хорошо. Отныне все заинтересованные лица станут получать ежедневные сводки о происках своих конкурентов, личных врагов, с указанием финансовых проводок, крышевателей, инициаторов и покровителей рейдерских захватов и тому подобного. Одним словом — читайте газеты. Ваша задача — обеспечить соблюдение законности, которой вы так привержены.
Скажем, завтра председатель Верховного суда получит документ с перечислением всех федеральных судей, в течение последнего года получивших взятки. От кого, по какому делу, сколько. Копии — Генеральной прокуратуре, МГБ, МВД, прессе, само собой. Послезавтра появится подобный же список по прокурорам, начальникам ГУВД… А сколько у вас появится добровольных помощников из частных сыскарей, ушедших на вольные хлеба от неприятия обстановки на казённой службе! Те же шестьдесят процентов от суммы вскрытых финансовых преступлений — Новый мы с вами будем встречать в другой стране. Вам бы следовало сегодня же издать «Именной указ», помимо всяких там парламентских процедур обязывающий каждую из правоохранительных структур немедленно возбуждать дела в отношении «коллег» по статьям «бездействие власти» и «соучастие», если возникнут попытки что-то «замазать» или кого-то «отмазать». Помните, у Солженицына: «Одной головы не досчитаешься — своей головой пополнишь»?[74]
— К тому и пришли, — грустно сказал президент. — Тотальный террор…
— Если элементарное соблюдение даже действующего, весьма несовершенного уголовного кодекса для вас — тотальный террор, тогда я даже и не знаю, — развела руками Сильвия. — Тогда давайте уж по-прибалтийски к этому вопросу подойдём. Каждый участник Отечественной войны должен быть судим по статье «убийство» за каждый прицельный выстрел по «гражданам страны с иной политической ориентацией», прибывшим на данную территорию в полном праве распространять своё понимание истины. «Врачи без границ», «Журналисты без границ», «Гомосексуалисты без границ» — кумиры нынешнего толерантного общества, получающие от цивилизованного сообщества миллионные гранты и миллионные же премии. Вы считаете, что к ним следует приравнять и отечественных «Воров без границ»?
— Не надо, не отвечайте, — резко взмахнула она рукой с зажатой в пальцах сигаретой, так что пепел полетел на ковёр президентского кабинета. — Себе ответите. Помните Пушкина:
В такой момент и ответите. Как же вы не поймёте — люди, которым совершенно ничего не нужно — ни деньги, ни власть, ни почитание толпы, стремятся сделать всё, что в их силах, для возрождения и процветания Родины. И видят в вас своего естественного союзника…
Пусть завтра одновременно арестуют сотню судей, две сотни прокуроров, дадут им на широко раньше использовавшихся «показательных процессах» по верхней планке, разве это террор?
И какой-то там Италии давно отменён принцип презумпции невиновности в отношении коррупционеров. Если ты за три года построил себе на Рублёвке виллу, ценой превышающую твой заработок за двести лет, — объясни, как? Не можешь — безусловная конфискация, потом суд и срок, если найдётся состав преступления. Вам никогда не попадались такие, к примеру, сведения? В Италии (просто я недавно оттуда, оттого и ссылаюсь) в прошлом году по коррупционным делам произведено конфискаций на четыре миллиарда евро. В России — на шестьсот тысяч рублей. Меньше зарплаты одного районного прокурора. Забавно?
— Не очень, — ответил президент. — Но если вы действительно готовы помочь ненасильственными методами, у нас есть точки соприкосновения.
— Вот и хорошо. Я вижу — наш разговор получился утомительным для обеих сторон. Но — продуктивным. Одним словом — мы обещаем вам гарантию личной безопасности и информационную поддержку любого полезного начинания. Телефон для связи у вас есть. Мы оставляем за собой право обращаться к вам по мере собственного усмотрения. Желаем успехов. Был такой немецкий поэт Генрих Гейне. Он писал: «Бей в барабан и не бойся».
— Подождите, — поднял руку президент, поняв, что эта странная женщина, красивее какой-нибудь Синди Кроуфорд с обложки рекламного проспекта, умнее Талейрана и разговорчивее Дизраэли, сейчас исчезнет. Унеся с собой не разгаданную им тайну. Ибо всё, что сказала она, — наверняка лишь часть правды, а может быть, не только правды, но и истины!
— Охотно, господин президент, я никуда не тороплюсь. — Но вместо очередной улыбки она посмотрела на него внимательно и словно бы даже строго. Как бы намекая: «Если ты до чего-нибудь дозрел, так и отношения наши переходят в другую плоскость…»
— Давайте встретимся немного по-другому. На должном уровне, как равноправные договаривающиеся стороны. Мне, признаться, эти фокусы с телевизором слегка надоели. Вы готовы войти в мой кабинет, здесь, или в иной резиденции, и провести нормальные переговоры? Я подготовлю свои предложения, вы — свои. С моей и вашей стороны будут присутствовать советники, специалисты, эксперты. Назовите как угодно. Допустим — через три дня…
— Мы — готовы, — опять улыбаясь, сказала Сильвия. — Только заранее хочу предупредить — никаких «спецмероприятий». Ни одного из наших представителей вы захватить или задержать не сможете, хоть всю Псковскую дивизию используйте. А меры нашей самозащиты могут, оказаться… — Сильвия сделала вид, что подбирает наиболее удачное слово. — Да, вот так — могут оказаться слишком адекватными.
— Как вы можете подобное подумать? — возмутился президент, но леди Спенсер легко просчитала степень искренности его возмущения.
— Разумеется, если сам российский президент даст мне слово чести — ни о чём подобном я думать себе не позволю. И, в качестве благодарности, сделаю вам сюрприз. Значит, договорились? Через три дня в назначенном вами месте. Пусть ваш секретарь позвонит в десять утра. Если в мировом континууме ничего не случится — встреча состоится в полдень. То есть — в двенадцать часов jo московскому времени, — сочла нужным уточнить Сильвия.
Сообщение о захвате подводной лодки с экипажем, краткое изложение полученных Летягиным данных о расположении пиратского гнезда было немедленно передано с борта «Эссена» в Москву. Императора разбудили в три часа утра, как только закончили дешифровку длинной телеграммы.
Олег Константинович, как был, в исподнем, дважды перечитал текст, сверяясь с поданными адъютантом картами.
Вот тут мы их и ущучили, — с наслаждением, пробуя слово на вкус, сказал Император, — Записывай, — приказал он, облачаясь в халат, подходя к выходящему в Александровский сад окну. Дёрнул створку. В комнату хлынул густой и влажный от недавнего ливня с грозой воздух — За Воробьёвыми горами продолжало погромыхивать. Отчётливо пахло озоном. «Хорошо как, — подумал Олег. — А в Берендеевке! С утра туда и отъеду. Если войной руководить придётся — лучше места нет…»
— Записывай, — повторил он штабс-капитану — Первое — поручика Летягина, за то-то и того, сам посмотри формулировки, удостоить звания «Герой России» с одновременным производством в чин капитана, выслугой с сего числа.
Император, подобно августейшим предкам Петру и Павлу Первым, считал, что забота о преданно служащих Престолу людях важнее всего остального. Как это писал в собственноручном Указе Пётр Алексеевич: «А ежели окажется в Нашей армии хоть один человек, награждённый всеми существующими наградами, немедленно следует учредить новую, дабы никого не лишать стимула к свершению подвигов и воинской доблести».
— Прочих воинских чинов, — незаметно для себя, под влиянием высоких мыслей, перешёл Олег на стиль восемнадцатого века, — в сём деле участвовавших, наградить, помимо артикула, знаками ордена Святого Георгия первой степени. Со всеми вытекающими правами и преимуществами.
— Так и писать, Ваше Величество? — осмелился переспросить адъютант.
— Что-то не нравится? — удивился Император.
Его приближённые знали, что задавать вопросы самодержцу можно и спорить, если обоснованно.
— Мне — нравится, — слегка улыбнулся штабс-капитан, — я бы всегда теперь так Указы и Рескрипты писал. Повелеть соизволите — лично редактировать буду, помимо Протокольного приказа. Убедительнее звучит.
Император рассмеялся, похлопал адъютанта по погону., — На себя тоже представление напиши. Сколько в штабсах ходишь?
— Два с половиной года, Ваше Величество!
— Хватит. Снимай звёздочки…[75] — Служу России, Ваше Величество! Но я — про кресты. Не положено первую степень давать раньше трёх предыдущих… Георгиевская дума возражать начнёт… Император лично открыл настенный погребец красного дерева (иностранное слово «бар» он не любил), налил себе и новопроизведённому капитану.
— Давай про кресты. Не положено, говоришь? мне, скажем, проще Георгиевскую думу распустить, чем заслуживших солдат без достойной награды оставить. Если она, Дума, вдруг не вспомнит такую статью: «Не всегда верному сыну Отечества такие открываются случаи, где его ревность и храбрость постоянно блистать может, оттого следует наградить его немедленно, не держась Устава яко слепой — стенки». В таком случае самодержавной власти позволено обойти Уложения, дабы заслуги каждого должным образом отметить. А я совсем не уверен, что этим бойцам удастся дожить до золотого крестика, если снизу вверх начинать…[76] Понятно?
— Так точно, Ваше Величество…
— На этом закончим. Пиши второе… Император снова выглянул в окно с дымящейся папиросой в руке.
— Подожди. Никакого второго. Тот лист закончи, я подпишу. Морского министра ко мне. По тревоге. Посмотрим, как адмиралы умеют бегать…
Адмирал Гостев явился в Кремль через тридцать семь минут. Неплохо, если учесть, что пустая ночная дорога заняла не меньше двадцати. Значит, на пробуждение, умывание, бритьё, одевание в парадную форму ушло не больше пятнадцати. Моряк есть моряк.
— Читай, — сунул ему в руки шифрограмму Олег Константинович.
— Так точно. — Адмирал всё понял мгновенно. — Как прикажете распорядиться?
— Это я бы от тебя лучше послушал. Как мой морской министр думает распорядиться. Не стесняйся. Выпей вот, закури. Пять минут на всё про всё хватит. Или нет? — Олег присел на уголок дивана, вытянул длинные босые ноги. Такие вводные он ставил своим подчинённым, хорунжим и сотникам Уссурийского казачьего войска, сам будучи обыкновенным, почти не причастным к высшим сферам подполковником во время верховых странствий по Маньчжурии и Уссурийскому краю.
— В Норвежском море, миль на триста северо-восточнее Фарер у нас крейсирует отряд адмирала фон Фелькерзама. Вертолётоносец «Адмирал Исаков», два крейсера — «Диана» и «Паллада», четыре «Новика», корабль обеспечения «Нарова». Запас автономности на вчерашний день — пятнадцать суток. Вооружение — по штату, — не глядя в бумаги, сообщил адмирал.
Точность доклада Императора устроила. Знает Порфирий Игнатьевич диспозицию, знает. Послушаем, куда дальше станет развиваться военно- морская мысль.
— Если я сейчас же поеду в Главморштаб, подниму оперотдел по тревоге и мы начнём готовить боевой приказ немедленно, Фелькерзам его получит часа через полтора, пусть два. Ему на принятие решения и подготовку — ещё два, в лучшем сутки. С криком и топотом ударные и десантные вертолёты можно поднять. — Адмирал посмотрел на тумбоподобный футляр «Павла Буре», безразлично размахивающего бронзовым, размером в тарелку маятником. — Скажем, в пять по Гринвичу. Над целью они будут около семи. Хорошее время. Не все успеют проснуться. Час на непосредственную работу. Дальше — по обстановке и согласно последующей задаче. Можно на месте подождать подхода отряда, можно улетать…
— Молодец, Порфирий! Начинай командовать. А у меня и других забот достаточно. Вдруг дипломатические осложнения возникнут… Езжай к себе, а я разворачиваю полевую Ставку в Берендеевке. Туда и докладывай. Одно запомни — выжженная земля мне не нужна. Базу, лодки, персонал, документы — чтобы в целости. Если попадутся датчане — ну, вдруг попадутся, — обращаться всей возможной деликатностью. Их, как ни крути, территория. Надо будет — отдельную претензию предъявим. Королю ихнему… — Император намеренно употребил нелитературное слово, как бы демонстрируя своё истинное отношение к так называемым европейским монархиям.
Для выполнения внезапно поступившего приказа крайней степени срочности контр-адмиралу фон Фелькерзаму пришлось импровизировать в пожарном порядке. В Москве легко принимать «принципиальные решения», а исполнителю нужно думать конкретно. В штабе отряда подобного рода операция не прорабатывалась даже теоретически, все заготовки подразумевали разные варианты противодействия надводному, подводному или воздушному (причём — «условному») противнику. Нынешний период не объявлялся даже «угрожаемым», то есть корабли, фактически, несли службу по планам мирного времени, находились в учебном, а не боевом походе.
По всем нормативам требовалось хотя бы десять-двенадцать часов на нормальную подготовку.
Но — приказ есть приказ, тем болёе, если отдан по личному повелению Императора. Да и само по себе задание было очень интересным. Задубевший от морской соли, с четырнадцати лет качающийся на палубах адмирал Фелькерзам великолепно это понимал. И перспективы тоже видел не хуже статс-секретаря министерства иностранных дел. А то и лучше. С мостика иногда виднее, чем из-за канцелярского стола.
В распоряжении адмирала на «Исакове» и «Нарове» было всего шесть транспортных вертолётов «Си-51», способных перебросить к цели роту морской пехоты с лёгким стрелковым оружием и носимым боезапасом. Да и то в перегруз, горючего придётся брать в один конец, с очень небольшим резервом. Не предусматривались отряду операции по чужому берегу.
— Зато огневую поддержку десанту можно организовать солидную — десять ударных «Си-85», с мощным ракетным и пулемётно-пушечным вооружением. По скорости они почти на сто километров превосходят транспортники, значит, флагманскому штурману авиагруппы пришлось срочно рисовать и просчитывать графики подхода к цели и маневрирования. Ещё одна головная боль — никаких данных о вражеской базе, кроме довольно приблизительных координат, не имелось. Есть там противовоздушная оборона или нет — бог весть. Пяти десятка переносных ЗРК хватит, грамотно используемых на подходах к базе, чтобы поставить на операции жирный крест. Будет с его авиагруппой, как в детской песенке: «Нос налево, хвост направо». По отдельности.
И так далее, и тому подобное… Но в полтора часа лихорадочной, с элементами обычной отечественной бестолковщины, работы штабисты, механики, вооруженцы уложились. Одни морпехи собирались без суеты. Им на сборы хватило и пятнадцати минут. Расселись в специально отведённых местах, закурили, с интересом наблюдая за суетой на палубах и мостике.
Пока на «Исакове» готовился десант, четыре эсминца, раскручивая турбины до полного хода, стремительно исчезли за горизонтом. На форсаже им бежать до цели не меньше семи часов. Значит, целых четыре часа морские пехотинцы и вертолётчики смогут рассчитывать только на самих себя. Едва ли секретная база пиратских субмарин охраняется превосходящими силами регулярных войск, а там — кто его знает.
Транспортники один за другим тяжело поднялись в воздух, выстроились в походный ордер, потянулись на зюйд-вест.
В тридцати милях от предполагаемого места цели один из «восемьдесят пятых», с наскоро нарисованными на фюзеляже опознавательными знаками британской морской авиации, выделенный для разведки цели и введения противника в заблуждение, начал резкое снижение, до километра. И сменил курс, как будто летит с зюйд-оста, из недалёкой Англии.
Остальные штурмовики продолжали идти широким строем фронта на высоте около трёх тысяч. За ними, чуть ниже, плотной группой держались транспортники.
— Дай бог сразу на цель выйти, — пробормотал штурман. — На втором заходе нас только дурак не завалит…
Командир его услышал.
— Не дрейфь. Там, может, вообще ничего нет. Тоже мне информация: «Одна бабка сказала»…
— Тогда ещё хуже, — огрызнулся штурман. — Нас точно крайними сделают. Не сумели найти, мол, и так далее. Не адмирал же виноват будет!
— Ему побольше нашего отвесят.
— Не бывает такого, чтоб адмиралу крепко отвесили, если два лейтенанта[77] под рукой. — Штурман был мужчина скептический, перехаживающий в чине второй срок.
— Стоп, Коля, что-то там такое замаячило, смотри, на десять часов… — Меланхолию с лейтенанта как встречным потоком воздуха сдуло. — Разворачивай на норд, выравнивай, правее, ещё правее, вот так, и заходим, с бреющего!
Действительно, в глубине фьорда, врезавшегося в невысокое скалистое плато на милю с лишним, у левого берега отчётливо просматривалось несколько построек и длинный бетонный пирс, прикрытый двумя брекватерами.
— Оно, Коля, оно! И лодки, сука, стоят… По обе стороны пирса действительно вытянулись длинные узкие корпуса с высокими гладкими рубками и бульбообразными вздутиями на полубаках. Правда, всего два. А речь в приказе шла о трёх-пяти. Остальные в море, значит, «работают», сволочи!
— Ох и старьё, — удивился командир. — Тип «Оберон», проект семьдесят первого года, тысяча шестьсот тонн, семнадцать узлов под дизелями, восемь аппаратов, пушка сто, экипаж шестьдесят восемь человек…
Столько лет лейтенант-противолодочник ежедневно справочники и таблицы зубрил, что сейчас все ТТХ и прочее от тех же зубов и отскакивало.
— Туман-два, Туман-два, — закричал он в микрофон ведущему эскадрильи, — цель обнаружена, цель обнаружена! Атакую! Вы за мной, по пеленгу. Десант бросайте беспосадочно — скалы, пляж узкий. Как понял?
«Восемьдесят пятый», до предела убрав газ, лишь бы только не потерять управляемость, прошёл над домиками, покачался с борта на борт, демонстрируя свои эмблемы, в расчёте выиграть нужные до подхода десанта пять-семь минут. Изобразил намерение приземлиться, и вдруг командир подумал: «А зачем изображать? Сяду, и всё. Контрольная комиссия прилетела».
Лейтенант рассудил правильно: если вертолёт с опознавательными знаками «дружественной державы» (а в то, что здесь окопались марокканцы или малайцы, салага-первогодок не поверил бы) собрался сесть, значит — надо. Кому — отдельный вопрос. Главное, раньше времени фонари не открывать. Броня вертолётов и остекление — пули, даже крупнокалиберные, выдержат. А уж ответить — есть чем. Даже интересно будет посмотреть, как шестнадцать ракет с пилонов сработают по этому милому городку. Плюс две тридцатисемимиллиметровые пушки и четыре пулемёта «УБК».
— Туман-два, Туман-два, отставить! Отставить! Я сажусь. Здесь тихо. Мне с крыльца дружелюбно машут. Оставайтесь в зоне прикрытия. Десант сбрасывайте вне зоны видимости. За горкой на шесть часов. Добегут пешком…
В этот момент два лейтенанта гидроавиации уже заработали свои новые погоны.
— Слышь, Толя, — сказал командир штурману, — ты инглиш лучше меня знаешь. Сядем — выходи, начинай плести, что в голову взбредёт. А я озираться буду…
Лейтенант довернул вертолёт, чтобы в сферу пулемётно-пушечного огня попал пирс и подходы к нему. А ракеты в пилонах смотрели на посёлок. Считай, дело сделано.
Штурман лейтенант Финогеев спрыгнул на площадку, покрытую утрамбованным вулканическим щебнем, пошёл навстречу высокому, наголо бритому мужику в синей робе, помахивая своим планшетом.
— Хеллоу, камрад! Пакеты вам привёз… — с двадцати шагов крикнул штурман и не встретил Ответной улыбки. На него смотрело напряжённое лицо человека, заведомо и предварительно ненавидящего весь окружающий мир. Лет ему примерно сорок пять, из них две трети этого срока биография, скорее всего, складывалась не так, как воображалось.
Ну а сейчас-то что? Какие претензии к летунам, доставившим почту? Вдруг в ней сплошная польза и радость? Чек за службу на год вперёд, призовые за последнюю успешную операцию…
Лейтенант, успев сделать ещё десять шагов, вдруг увидел округлившиеся до невероятия глаза и жуткую гримасу и без того малопривлекательной физиономии. Уловил мгновенный бросок руки к кобуре, пристроенной под рубашкой по-немецки, сильно слева. И сам метнулся вбок, против Часовой стрелки. Не ковбой он, но кое-чему учили. Почти полный оборот придётся сделать камраду ему вдогонку, а двуствольная ракетница, как у любого штурмана, пристёгнута снаружи к правому сапогу. Не боевое оружие, а попадёшь под выстрел — извини-подвинься: от белых медведей на Новой Земле легко отбивались.
Кнопки расстёгивать некогда. Рывок, ремешки пополам и навскидку, на уровне колен, сразу на оба спуска.
Сдвоенный хлопок, свист, фиолетовое пламя и нечеловеческий крик. Всё здесь — нечеловеческое. Никакой выдержки. Ранили — ну и терпи.
Николай Шорохов, верный друг-командир, за пять лет даже до звеньевого не дослужившийся, среагировал мгновенно. И приказ помнил, и то, как товарища спасать, сообразил в секунду. Отпустил тормоза, вертолёт, покатившись вперёд, прикрыл штурмана своим шасси. Из правого под-фюзеляжного пулемёта прошёлся по крышам (не ниже), разнося по окрестностям старинной работы черепицу. В ответ — ни выстрела. Как иначе? Сколько бы их там ни было, лежат носами в пол. Стены — простая щитовка, а позади, в полусотне метров — вкопанные в рыхлый склон горы цистерны с бензином или соляркой. Тонн на тысячу. Дадут по ним — и привет, ребята. Ни зарплата не понадобится, ни премиальные…Как писал, по другому, впрочем, поводу гений всех времён Козьма Прутков: «В таком случае не останется ни того человека, ни даже самых отдалённых его единомышленников!»
— Туман-два, садитесь за мной, садитесь. Не стрелять! — прокричал лейтенант в микрофон.
Финогеев втащил через комингс вертолёта тяжеленное тело врага. Ох и лихо он ему попал!
Ниже колен ног, считай, нет. Ракеты, пусть не успев как следует разгореться, имели страшную кинетическую энергию с температурой в тысячу градусов. Отчего сосуды спеклись, нет кровотечения.
Штурман всё равно, как учили, затянул жгуты по бёдрам раненого, вколол сразу три тюбика морфия. Выживет, сволочь, от шока не сдохнет. А где — и как не наше дело.
Глаза раненого начали приобретать осмысленное выражение. Минут на десять, потом снова отрубится.
Финогеев спросил то, что его больше всего сейчас интересовало:
— Ты, идиот, зачем за пистолет схватился? Я к тебе по делу шёл… Сейчас бы сидели, виски пили…
Пленник поднял руку и показал пальцем на грудь штурмана.
Ох, ты, вот уж действительно… Вертолёт замаскировали, а тут над левым карманом — русский флаг, над правым — чин и фамилия. Выражаясь научно — бывает! Они ведь садиться и в зрительный контакт с противником вступать не собирались. Так уж вышло!
Так кому в итоге не повезло?
Внезапно с близкой сопки часто забил тяжёлый пулемёт. Миллиметров двенадцать, если не четырнадцать. Фюзеляж загудел от нескольких попаданий, на лобовом стекле возникла чёткая белая борозда.
— Врёшь, падла, нас этим не возьмёшь, — оскалился Шорохов, ударил в ответ НУРСом. Попал, попал — пулемёт примолк.
— Взлетаем, Толя!
— Взлетай, я выскочу. Они, бля, там сейчас, небось, бумаги жечь начнут…
— Да плевать, не наша забота! Мы цель нашли, языка взяли…
Однако в крови у штурмана бурлил не только боевой адреналин. Хрена б ему, действительно, о чужих делах думать? Так нет! У любого должен быть свой Аркольский мост! Убьют — так и чёрт с ним. А последний шанс упускать — всю жизнь жалеть будешь.
Финогеев выдернул из зажима рядом с сиденьем штатный автомат.
— Прикрывай меня, Коля, а я им щас…
— Туман-два, Туман-два! — кричал Шорохов, подняв вертолёт на двадцать метров и зависнув напротив строений посёлка, из которых начали стрелять, и довольно дружно. — Высаживайте десант на пирс, прямо на лодки. — В мою сторону не работайте, там Финогеев!
— Какого… ему там нужно, — выругался командир ударной группы капитан второго ранга Туманов-второй. Очень ему хотелось ударить по объекту из всех стволов. Когда ещё придётся?
Однако просьбу-приказ младшего по чину и должности выполнил. В армии, если есть взаимопонимание и доверие — командует тот, кто лучше понимает обстановку. Сколько раз бывало, когда взводные и ротные своевременными и грамотными решениями командиров полков выручали.
Чисто для психологического воздействия «восемьдесят пятые» кружили над фьордом и посёлком, демонстрируя готовность спалить здесь всё к чёртовой матери. Грохот двигателей, отчётливо видимые снизу пилоны с десятками смертоносных ракет, ищущие цель стволы пушек й пулемётов.
Два «пятьдесят первых» с десантом рискованно сблизились, коснулись колёсами узкого, как школьная линейка, пирса, вдобавок — перехлёстываемого боковой прибойной волной. Пилоты виртуозно манипулировали ручками управления и газа, удерживая машины в неустойчивом равновесии.
Двадцать морпехов спрыгивали с кормовой аппарели и из боковых дверок, бросались — вправо-влево, по намеченному уже в полёте плану — на палубы субмарин.
Опять лишние секунды проспали подводники. Если бы немного раньше, с первым звуком приближавшегося вертолёта, дежурные расчёты по тревоге выбежали к пушкам и пулемётам — совсем другая могла получиться картина — из стомиллиметровки в упор по садящемуся рядом вертолёту — вообразить страшно, как бы такое выглядело. Из спаренного «гочкиса» — немногим лучше.
Зато теперь — как на отработке упражнения «семь-восемь» на Оленегорском полигоне. По возникшей из рубочного люка голове — точный удар затыльником приклада, из палубного — специально окованным по ранту ботинком. И следом, вниз — дымовая граната с хлорацетофеноном. Ужасная вещь — в тесных отсеках ничего не увидеть, а тысячи острейших крючков раздирают глаза, носоглотку, бронхи… Легче умереть.
В это время лейтенант Финогеев, непременно решивший поймать за хвост чересчур близко подлетевшую «птицу счастья», в несколько бросков добрался до торца дома, определённого им как штабной. С какой бы другой радости над ним торчала десятиметровая антенна с несколькими решётками и симметрирующими петлями? Из обращенных к пляжу окон часто били несколько автоматов и ручной пулемёт. Смысла в этом сопротивлении — никакого, при наличии подавляющего превосходства противника и в численности, и в огневой мощи. А вот поди ж ты…
Ещё один транспортный вертолёт заходил со стороны берега — несколько минут подождать, он зависнет прямо над посёлком и высадит десант. Ребята сработают как надо, сомнений нет, но минуты на три-четыре они явно запаздывают. А кроме того, лейтенанту ну просто хотелось слегка блеснуть. Не всё же ждать почти бесперспективной выслуги, раз в неделю выполняя скучные подскоки с палубы и учебный поиск не менее учебного радиобуя, имитирующего вражескую подводную лодку.
А тут вдруг — шанс, как у флотских мичманов, сходивших на сухопутные позиции Порт-Артура, как у пресловутого, в тысячах анекдотов прославленного Луки Пустошкина, придумавшего атаковать японцев на суше минами заграждения. Кто догадается — как, получит приз.
Злой был сегодня лейтенант Финогеев. На чистый убой их с командиром послали. Горючки — в один конец, все силы вражеского ПВО — ваши. И спасибо, если живой прилетишь, едва ли скажут. Слетал — и слетал. Лишняя запись в лётную книжку. И тройной суточный оклад. Нам — самый риск, а ордена — вам? Давайте чуть иначе попробуем! Прижавшись к сложенному из крупной гальки на цементе цоколю, штурман прикинул — с фронта, ничего не выйдет. Шлёпнут при первой же попытке высунуться. А если с тыла?
Была б у него пара гранат — совсем другое дело. Но чего нет — того нет. Откуда у штурмана разведывательного вертолёта гранаты? Хорошо, хоть один на двоих ППС со сдвоенным магазином выдали. Ну, и пистолеты в кобурах — вот и весь арсенал.
Зато сзади барака он увидел малозаметную дверь, выходящую на бетонированную дорожку, к кирпичному гальюну и длинному одноэтажному сараю. Годится. Самое смешное — дверь была не заперта. Финогеев ворвался внутрь, сообразил, откуда стреляют. С порога длинной очередью, патронов на двадцать, расстрелял всех, кто работал у станкового «гочкиса», и пристроился у боковых окон со старыми «мадсенами». Сразу же — налево по коридору, к очередной двустворчатой двери. Вот, пожалуйста, что и требовалось доказать. Настоящий штаб соединения. Большая комната несколько столов посередине, заполненные картонными папками шкафы у стен. Ящик мощной радиостанции в специальной выгородке, ещё одно электромеханическое устройство, с первого взгляда не идентифицируемое. Возле него суетятся сразу три человека. И — самое ценное — штук пять больших плексигласовых планшетов с контурными картами морей и берегов, с нанесённой дислокацией лодок и колонками цифр на полях. Здесь штурману объяснять не надо, что почём. За одни эти карты им флотские разведчики руки должны целовать…
Всего в комнате — семь операторов, или хрен их знает, может — это как раз и есть командование. Нет, не семь их, восемь. Восьмой как раз поднимал пистолет, прячась за вешалкой с мокрыми брезентовыми плащами. Салага, лет двадцати пяти, рыжий, губастый… Пистолет неизвестной конструкции, очень длинный…
Всё это успел заметить за полсекунды Финогеев.
У морского штурмана-бомбардира реакция многократно быстрее, чем у любого шпака,[78] тем более — из числа заплывших мозговым жиром европейцев.
Короткое «та-та» навскидку, и тело дурака-неудачника сползло по стенке. Чего он хотел, на что надеялся?
— Всем стоять! Руки за голову! — заорал лейтенант устрашающим голосом, свободно перекрывавшим на палубе рёв нескольких вертолётных моторов.
И всё. Вот они стоят рядом со своими аппаратами и канцелярией. Что уж там, в этих папках и в начинке машин — не лейтенанту разбираться.
Он указал ближайшему от него человеку стволом автомата на белую оконную занавеску.
— Сдёрни, выходи на крыльцо и маши. Только без дури. — Финогеев указал на ларингофон. Отключённый, естественно, да кто сейчас об этом догадается?
— Скомандую — всем амбец…, о том, что при таком повороте — и ему тоже, пленникам задумываться было некогда.
И тут как раз на своих колёсах подкатился «восемьдесят пятый», проломил стену дома бронированным носом, заполнил половину комнаты. Щепки, труха из начинки стен полетела, движок ревёт, лопасти над самым коньком крыши свистят. Тютелька в тютельку рассчитал командир. Вот теперь по всем ВВС шорох пойдёт. Шорох — про Шорохова… Финогеев облегчённо опустил автомат.
Хватит, наверное. Нагеройствовался. До конца службы будет о чём в кают-компаниях рассказывать. Но сначала — особистам.
Лейтенант вышел на крыльцо, предварительно выгнав перед собой пленных. Удивительно, от тарана никто не пострадал. Только одного балкой слегка приложило. Однако на своих ногах держится.
Приятная картина открылась его глазам. Цепь морпехов уже окружила весь посёлок, стоят — стволы на окна и двери нацелены, но не подходят, команду исполняют. Дивятся, что тут летуны учинили. Придумают же — таран морским вертолётом сухопутной огневой точки!
На узких полосках пляжа сидят три «пятьдесят первых», остальные садятся по ту стороны гряды, на альпийский лужок. Скорее всего — дожигая последние литры бензина.
Пятнадцать минут всего, и база захвачена без потерь. С нашей стороны. Но это ведь только начало куда более затейливой игры, где и капитаны второго ранга — пешки.
Подошёл кап-два Туманов, с ним незнакомый, тоже кап-два, но просветы на погонах не голубые, а белые. Представился, первым протянув руку. Ну, всё верно — из разведотдела флота, капитан второго ранга Мамаев.
— Ну и какого… вы эту… затеяли? Жить надоело? А за вертушку я платить буду, в двенадцатикратном размере?[79] — наверняка, чтобы произвести впечатление на разведчика, разбушевался Туманов. Так-то он был мужик спокойный, несколько флегматичный. Вертолётчик, чай, не истребитель.
— Осмелюсь доложить, господин капитан второго ранга, — выдвинулся вперёд штурман. При равном чине он был старше командира и возрастом, и по производству. Вдобавок — кровь ещё играла боевым азартом, автомат в левой руке. — Вертолёт понёс незначительные повреждения при выполнении боевой задачи. Мы бы чуток промедлили — вам точно влепили бы из ПЗРК по полной. У них имеются, лично видел. Кроме того — иным образом невозможно было обеспечить захват радиостанции, шифровальной аппаратуры и, я думаю, главное — схемы дислокации вражеских лодок в мировом океане…
— Что ты трепаться умеешь, я давно знаю, — ответил Туманов. — А всё равно дураки. Хрен тебя понёс с автоматиком бегать под пулями, если всё равно Шорохов к ним по самое не могу заехал? Там бы, внутри, открыл фонарь и вылез — без всякого риска.
Тут спорить было не с чем.
— Так на то вы и кап-два, чтобы оптимальные решение за нас, дураков, принимать, — подключился Шорохов. — А у нас, простите, в боевом запале умишка-то и не хватило. Но если потерь нет, задачу, так полагаю, мы выполнили.
— Выполнили, выполнили, — сказал Мамаев, которому слушать «спор славян» между собою было неинтересно. — Если и планшеты и аппаратура уцелели, я вас по своей линии к наградам представлю. Не возражаешь? — спросил он Туманова.
— Я и сам представлю, — взревновал комэска. — Только после разбора полётов. Мало не покажется, штурмгвардия, мать их! Схему маневрирования над целью нарисовать не заставишь, а им бы с автоматиками бегать…
Увидев перед собой сразу два раскрытых портсигара, Туманов прервал свою филиппику,[80] оказавшись в роли буриданова осла. Шорохова он считал более виноватым, но и папиросы у него были заведомо лучше штурманских. Возьмёшь у него — уже как бы и простил. А курить хотелось.
Мгновенно принял решение, самому Чекменёву под стать, будь он с ним знаком: предложил первым угоститься особисту, сам взял после него. И скроил на своём дублёном лице торжествующую усмешку: «И здесь я вас сделал, салаги!»
Финогеев кивнул и развёл руками: «Кто бы спорил, командир?»
— Идите отдыхайте, — бросил Туманов, чувствуя, что чистого выигрыша у него не получилось. — Летать сегодня не будем, флот подождём. Разрешаю по сто грамм за мой счёт…
— Душевно благодарим, — прижал ладонь к сердцу Шорохов. Где сто, там и двести, не проверишь, фляжки у всех полны. Не за упокой, так за здравие…
Через полчаса, в окружении временно свободных от службы экипажей обеих эскадрилий и офицеров морской пехоты, закончив предварительно обкатывать на очевидцах первоначальную версию собственных геройских приключений (а какой дальше эпос сложится — представить невозможно), лейтенанты, обнявшись, запели:
… Государь Император, получив докладную сначала от адмирала Гостева, а потом и по нескользким другим каналам, пришёл в великолепнейшее расположение духа. Если окружающий мир соглашался поступать сообразно с его настроением, так и Олег Константинович был полон желания творить исключительно добро, врагам своим прощать… Что там ещё в Евангелии написано? На всё; согласен. Если вдруг наоборот, и приносят тебе документальные подтверждения жалкого, подлого, мерзкого коварства людей, совсем недавно с тобой за одним столом ужинавших, в уверениях vдружбы рассыпавшихся, — с ними и поступать следует соответственно. Не так, как они, гордыней обуянные и оттого разучившиеся тонко и изящно думать, — совсем иначе.
Ha веранде Берендеевского дворца, в прохладе дующего со стороны реки ветерка, под сенью ветвей вековых сосен Олег Константинович давал урок правильной политики двум десяткам генералов, адмиралов и лиц гражданских ведомств. На бревенчатых стенах шелестели развешанные адъютантами карты. И мировые, и отдельных театров.
Император положил ладонь на стопку бюваров «К докладу», где содержались материалы, захваченные на Фарерах, сообщения официальных воженных агентов из стран ТАОС, расшифровки донесений агентурной разведки.
— Чувствую, большинство из вас горит желанием немедленно вынести имеющиеся у нас факты на обозрение мирового сообщества. О чём говорить — карты неубиваемые! Вот и пиратская база, вот и доказательства британского участия в создании. И рапорты командиров лодок, и инструкции из Лондона. Списки потопленных судов. Кое-что ещё — тоже. Шум, само собой, поднимется. Пресса трёх континентов, забитая дешёвыми сенсациями, вскипит праведным гневом. И что в итоге? Мало-помалу всё так или иначе рассосётся. С определённой пользой для нас, не спорю. Но не более, чем с тактической, господа, тактической. Месяц-другой — всё вернётся на круги своя. Запад снова поверит, что любые мировые инциденты — так или иначе происки России. А англичане, если в чём и виноваты, то как бы случайно. Выхода у них не было, ибо иначе русские непременно сделали бы гораздо хуже…
— На понимание и благодарность нам рассчитывать нечего, поэтому русская армия и флот должны служить исключительно отечественным интересам. Десять лет назад наш учебный отряд кораблей Балтийского флота спас несколько десятков тысяч погибающих от землетрясения на Гаити. И хоть кто-нибудь об этом сегодня помнит? Никак нет. Благодарственная мемориальная доска поставлена в честь бывшей метрополии — Франции, через две недели после нас приславшей туда пароход с одеялами и просроченными консервами. Так-то…
Данная тирада встретила полное понимание и одобрение приглашённых. Кого-кого, а либералов-западников среди них не было. Скорее, наоборот. Император был здесь самым умеренным человеком, понимавшим необходимость балансировать между крайностями политических настроений.
— Потому мы сделаем так. — Олег Константинович щёлкнул пальцами, адъютант немедленно принёс массивную коробку телефона ЗАСовской связи на длинном шнуре. — Премьера Англии мне найди и скажи, что дело крайней срочности, — бросил в трубку Император, услышав голос первого заместителя министра иностранных дел.
Соединили почти сразу, получаса не прошло. Понятно — минут десять, чтобы секретарь понял, от кого звонок, нашёл своего шефа, хоть в постели (у любовницы,) доложил, в чём дело.
Ещё двадцать господину Уоллесу, чтобы наскоро обсудить с оказавшимися под рукой советниками, как и о чём говорить. На большее время отложить разговор — духу не хватило. Не Черчилль, не Рузвельт, а других политиков с характером там с начала двадцатого века больше и не было.
Олег Константинович сразу после протокольных приветствий перешёл к делу. В жёсткой форуме. С подобными персонами иначе нельзя.
— Вы полностью в курсе последней операции моего флота на Фарерах? Очень хорошо. Вы согласны, «сэр», — титул был назван со всей возможной язвительностью, — что повод к объявлению войны достаточно веский? Не в пример более, чем тот, что вы придумали в тысяча восемьсот пятьдесят четвёртом году. Имеете возражения? к А какие именно? Давность в данном случае не имеет никакого значения. Вы ведь признаёте исключительно «прецедентное право». Вот теперь и мы тоже. Всё, что на протяжении последних пятисот лет можно было вам — можно и нам. Обсудить, конечно, можно всё, что угодно.
— Я только что с датским королём переговорил — ему наличие иностранной военной базы на своей территории очень не понравилось. Даже — вывело из себя. А он — потомок викингов, мужчина резкий, с трудом сдерживаемый в рамках идеей конституционной монархии. Но — ненадолго. Самодержавие его тоже интересует. Тем более — его прабабка Мария Фёдоровна, она же принцесса Луиза София Фредерика Дагмара, была матерью моего прадеда. То есть мы с ним довольно близкие родственники. Я сумел его убедить, что база — пиратская и все причастные после необходимых процедур будут переданы именно датскому правосудию. Правда, при этом попросил у Его Величества Гальфдана Третьего неделю для завершения мероприятий, датчанам непосильных и неинтересных. С определённой компенсацией.
— И что же за компенсация? Точнее — за что? — Премьер явно путался в мыслях. Да и то! Мало кому пожелаешь оказаться на его месте. О далёких последствиях скандала с постепенным угасанием зыби он сейчас не думал. А вот о возможном падении Его Кабинета, да ещё с подключением Международного Трибунала — очень даже! Русский Император только что назвал ему несколько фамилий, номеров бумаг, принятых на совершенно секретных заседаниях «Особой палаты».
Премьер помнил, как не слишком давно американцы десантировались в столице суверенного государства, перебили президентских гвардейцев, а самого президента вертолётом доставили «куда надо» и военно-полевым судом отвесили ему двадцать пять лет за терроризм и наркоторговлю. Никто во всем мировом сообществе не возразил, разве десяток газет из подворотни тихонько гавкнули, да и тем мгновенно заткнули глотку доводом о том, что любое национальное законодательство имеет силу только в случае его совпадения с интересами «демократии».
— Компенсация за то, что нашим войскам разрешено официально и экстерриториально проводить на островах необходимые следственные и иные мероприятия. Кроме того — за правильное понимание датским королём международной обстановки. Поэтому Российский флот совершенно бесплатно берёт на себя обязательство защищать границы Датского королевства, как свои собственные… Поскольку ваши, господин премьер, подданные позволили себе так грубо нарушить датский суверенитет, явно полагаясь на неспособность этого маленького государства должным образом защищать свои интересы. Россия с времён государя Петра Алексеевича относилась к нему гораздо предупредительнее..
На той стороне подводного кабеля британский премьер судорожно вздохнул. Такого ни ему, ни одному из его советников в голову прийти не могло. Махнув рукой на все законы и принципы, под сильным давлением председателей «Хантер-клуба» и ещё нескольких наднациональных организаций, он согласился на эту авантюру. Собирались внезапными лодочными атаками как следует напугать русских и их сателлитов, пресечь претензии на равенство, а то и превосходство в торговом судоходстве. Через полгода-год добиться, чтобы только в зоне ответственности британского флота не случалось «внезапных исчезновений». Десяток или два фрегатов и корветов под «Юнион Джеком» примутся эффективно уничтожать пиратов. А русские покажут всему миру, что даже собственные пароходы защитить не в силах…
Теперь же Россия, мало того, что готова выложить на стол ООН и ТАОС тома прямых улик и доказательств преступной, что уж тут прятать глаза, политики британского правительства, что вызовет невиданный и неслыханный политический кризис, так ещё и на полном законном основании получает под контроль Фареры, Гренландию, Каттегат, Скагеррак, Большие и Малые Бельты. То есть половину Атлантики и всё Балтийское море. Лет на триста назад отброшена Великобритания в своей геополитике. Балтийский флот может перенести передовое базирование на Ольборг, а Северный — на Торсхавн.
Даже средний русский бомбардировщик теперь на одной заправке долетит до любого английского города и любой военно-морской базы. Хоть до Саутгемптона. Оркнейские острова — те вообще под прямым прицелом «Рюриков» и тяжёлых, вооружённых пятнадцатидюймовой артиллерией «Измаилов».
Когда всё это станет достоянием прессы, не отставка грозит мистеру Уоллесу. Разъярённая толпа (особенно заранее подготовленная) может растерзать его в буквальном смысле, а дом в центре Лондона и загородные поместья — сжечь в назидание прочим. Бывали в английской истории такие прецеденты.
— Вам это нравится, господин премьер? — заботливо спросил Олег Константинович. — А ведь не я это начал. Помните — тысяча восемьсот пятьдесят четвёртый год? Петропавловск-на-Камчатке.
— Зачем вы приходили туда, за двадцать тысяч миль? Чтобы нашлось местечко для похорон адмирала Прайса?[83] Не спорю, могила на склоне Петропавловской сопки моряку приятнее, чем яма для детоубийц на окраине Лондона… Так Россия большая, двадцать четыре миллиона квадратных километров. Всем хватит… Да что вы молчите? У нас дружеский разговор. Я вот сейчас назову вам ещё десяток фамилий людей, у которых вы давно на содержании. И они вам, в случае чего, не помогут. Давайте так рассудим. Мы воевать не хотим, пусть повод имеется прямо великолепный. Исход войны одной Англии против одной России вам понятен. Коалицию вы создать не успеете, наш флот сильнее, сухопутной армии у вас просто нет. Согласны?
Премьер сдавленно кашлянул. Были бы настоящие силы и характер, бросил бы трубку и тоже застрелился. Как удивительно к месту помянутый Олегом адмирал Прайс. А не хочется. Жить куда лучше, особенно если ещё раз вдуматься в слова Олега Константиновича. Великолепные условия он предлагает. Данный прискорбный эпизод считать не случившимся, базу признать пиратской, неустановленной принадлежности. Забыть иные-прочие межгосударственные недоразумения, вернуться к временам «искренней дружбы», которая то ли была, то ли нет с тысяча девятьсот четырнадцатого по восемнадцатый год.
Император очень хорошо помнил, а премьер Уоллес, видимо, забыл, а то никогда и не знал интересный эпизод общей истории.
В тысяча девятьсот четырнадцатом году, в самом начале Мировой войны в Средиземном море зависли, что называется, немецкие крейсера, линейный «Гебен» и лёгкий «Бреслау». Деваться им было некуда, море плотно контролировалось английским, французским, итальянским флотами. Ни через Гибралтар, ни через Суэц не уйти. Выхода у адмирала Сушона оставалось только два — геройски погибнуть в неравном бою, подобно «Варягу», или сдаться. Но он нашёл третий — прорываться через всё море на норд-ост.
Турция тогда ещё числилась нейтральной, но Сушон был политик покруче нынешних. Вопреки прямому приказу своего Адмирал-штаба он повернул к Проливам.[84] На переходе от Мессины до Дарданелл преследующие его английские линейные крейсера «Индефетигейбл» и «Индомитебл», совокупно с крейсером «Дублин» и «Глостер», легко могли раскатать в тонкий блин «Гебен» с «Бреслау», едва выжимавшие осенью четырнадцатого года двадцать два узла при двадцати семи английских.
Однако английские адмиралы Милн и Трубридж, получив инструкции из Лондона, одновременно приняв к сведению мнение французского комфлота Лапейрера о том, что его корабли с немцами сражаться не в состоянии и технически, и психологически, сделали то, что сделали. «Гебен» и «Бреслау» пришли в Константинополь, где были, якобы куплены у Германии Турцией. Адмирал Сушон под титулом Сушон-паша назначен командующим флотом, и весь остальной турецкий флот перешёл под его полное, беспрекословное и никакими законами не регулируемое подчинение, что в обычной дипломатической практике явление как бы и немыслимое. Но Олег Константинович отныне решил именно такие отношения с соседями-союзниками взять за основу. И о дальнейшем Император напомнил собеседнику. Усиленный германскими крейсерами турецкий флот три года рейдировал в Чёрном море, уступая российскому в артиллерии, но вдвое превосходя его по скорости. Англичане радовались — никакая Босфорская операция русских до конца войны невозможна, дай им бог свои базы хоть как-то прикрывать. А они, «сердечные друзья»[85] в то время, когда русские корпуса гибнут в Восточной Пруссии, спасая Париж, сами возьмут, что хотят и где хотят. К случаю вспомнил стихотворение ныне забытого автора:
Но зато и сами союзнички, по законам исторической справедливости, своё получили. Так получили, что от души умылись кровавыми соплями!
Утопив германские крейсера, они через год не пролили бы море собственной крови, пытаясь штурмовать укрепления Дарданелл. Русский десант на Босфоре, не имея противодействия на коммуникациях, спокойно дошёл бы до Седдюль-бахира и Кумкале,[86] освободив союзникам 18 линкоров, 12 крейсеров, 40 эсминцев и полумиллионную армейскую группировку[87] для действий на других театрах. Глядишь, бессмысленная война кончилась бы годом, а то и двумя раньше.
Но занятие союзной Россией Проливов казалось англо-французам страшнее, чем тяжелейшее поражение от общего врага. Ну так и теперь не жалуйтесь, господа.
Император широким жестом расправил усы.
— Мы обо всём договорились, мистер Уоллес? От вас, по сути, ничего не требуется. Пресса пусть болтает, что хочет, служба у неё такая. А вот Кабинет её Величества отныне, перед тем, как предпринять какое-либо действие на арене внешней политики, пусть предварительно осведомится о его разумности и своевременности у нашего посла в Лондоне, барона Гирса. Если что посерьёзнее — можете и прямо мне звонить. А то приезжайте, рыбалка тут у нас на Валдайской возвышенности хорошая. Главное, при разумном поведении пять-десять спокойных лет в нынешнем кресле я вам гарантирую… Россия своих друзей не сдаёт.
Вчерашний день получился невероятно длинный и страшно насыщенный всяческими событиями. Большинству так называемых «простых людей» за всю жизнь столько переживать не приходилось, за исключением участников главных событий мировых войн. Да и то далеко не всем.
Сегодняшний, напротив, казался пустым — после разговора Сильвии с президентом делать было как бы и нечего. Девушки гуляют в Москве и до вечepa едва ли вернутся. А чем заняться остальным? Фёст подумал и решил, что обстановка вполне позволяет встретиться с Воловичем и кое-кем ещё из журналистской братии. Поделиться собственной информацией, а главное — выяснить, что творится внутри так называемого «экспертного сообщества», как оно намерено реагировать на происходящее. Особенно его интересовали каналы связи Михаила с преступным миром. С помощью Шара выяснить это можно было в несколько минут, но в личной беседе — интереснее. Машина — она и есть машина, а когда глядишь человеку глаза в глаза, ловишь его реакцию на только что сказанное слово, догадываешься, что может значить та или иная интонация, — совсем другой получается коленкор.
Секонд и Сильвия удалились на другую половину квартиры, прямо связанную с две тысячи десятым годом императорской России. Так леди Спенсер показалось удобнее.
И Ляхову-второму опять немедленно стало легче. По всем показателям, лучше даже, чем после воздействия гомеостата. Дома — одно слово.
— Как хотите, леди Си, но не могу я к вам обращаться по имени, — сказал Вадим, садясь в просторное кожаное кресло у письменного стола в переполненном книгами кабинете. Сколько значительных людей до него здесь сидело. — Вот прямо требуется отчество, иначе ничего не получается…
— Старухой я тебе кажусь? — без всякой посторонней эмоции спросила Сильвия.
— Ни в жисть! А так складывается. Не хотите назвать имя своего уважаемого папаши — не надо. Давайте я вас буду называть Сильвия Артуровна?
— Забавно. — Она посмотрела на него чуть по-другому. — А почему?
— Чёрт его знает. Король Артур на память пришёл, да в детстве у меня была подружка с таким отчеством, отдалённо на вас похожая кое-какими манерами…
Сильвия рассмеялась серебристо.
— Хочешь — называй. Тем более что моего гипотетического отца действительно звали Артуром. Лорд Артур Гедеон Филип Дормер Стенхоп Спенсер. Если полностью. Это у тебя ясновидение, озарение или как?
Ляхов тоже улыбнулся, облегчённо. Странным образом эта тема его беспокоила, а теперь — отпустило.
— Как хотите думайте. Но ведь интересно?
— Более чем… Слушай, может, мы с тобой тоже куда-нибудь сходим? В ресторан пообедать, например. Давно в здешних кабаках не была, — предложила Сильвия, рассеянно глядя в потолок.
— Почему бы и нет? Для меня будет большая честь. И местечки уютные есть на примете…
— Тогда посиди, поскучай… Сильвия вышла из кабинета. Квартира была устроена по старым архитектурным принципам. Больше половины комнат — смежные, в каждой по несколько дверей, ведущих в общий длинный коридор и прилегающие помещения. В советской малогабаритке при такой планировке мебель ставить было бы некуда, а здесь — нормально, на всё стен и простенков хватало.
Между двумя книжными шкафами, прямо напротив кресла, где сидел и дымил сигареткой Ляхов, — двустворчатая дверь в спальню, выбранную для себя Сильвией, хозяйкой этой секции.
Там она и начала переодеваться из наряда, в котором беседовала с президентом, в более удобное, домашнее платье.
То ли случайно, то ли специально леди Спенсер приоткрыла зеркальную створку шифоньера так, Что Вадиму было видно её отражение и большая часть спальни, с разбросанными в беспорядке предметами туалета, девятнадцатого века и нынешнего. К числу аккуратисток леди явно не относилась, привыкла, что её постоянно окружают многочисленные горничные и камеристки. И приберут, и подадут, и корсет зашнуруют.
Сильвия точно так же отбросила на ковёр жакет, блузку, потянула через голову юбку.
Уж никак этой женщине не дашь её то ли сто сорок, то ли сто пятьдесят лет. Тридцать пять от силы. Самый прекрасный возраст, когда всё сошлось — и красота неувядшая, и ум, и опыт… Как говорил всем известный профессор Выбегало: «Она, значить, хочет всё, что может, и может всё, что хочет!»
Что касается фигуры Сильвии Артуровны — снимай и помещай без всякой ретуши на обложку самого престижного мужского журнала. Обосновавшись на жительство в викторианской Англии, она, похоже, многое потеряла. Там ничем не блеснёшь в свете, кроме как тонкостью талии и глубиной выреза декольте.
Леди раздевалась не спеша, обстоятельно, давая возможность рассмотреть себя в любой из тщательно продуманных поз. Секонд несколько раз непроизвольно сглотнул слюну, не отрываясь от лично для него устроенного представления.
Сняв абсолютно всё, она так же не спеша начала выбирать подходящий наряд из десятков платьев и костюмов именно этой эпохи, развешанных на плечиках. Наконец остановилась на ярком, но одновременно весьма элегантном платье, приложила к телу, прикидывая, хорошо ли будет, поправила причёску и вдруг от души рассмеялась, скорчила забавную гримасу, резко повернулась и вышла в дверной проём, подбоченившись и отставив в сторону ножку.
Секонд отчего-то не подумал, что если он её видит в зеркале, так и она его тоже. «Угол падения равен углу отражения» — закон физики.
— Интересно исподтишка за голыми женщинами наблюдать? — спросила она, садясь напротив, ничуть не стесняясь своей наготы, на расстоянии протянутой руки всего лишь. Даже алое, в белых цветах платье положила не на колени, а рядом, на подлокотник.
— Врачу — не очень, — ответил Вадим, однако остал из пачки вторую сигарету. — На первом-втором курсе действительно интересно было, да и то далеко не в каждом случае…
— Оставь. — Она плеснула себе в рюмку на палец коньяка. — Ты — будешь? — придержала в воздухе наклонённую бутылку.
— Не хочется, — мотнул головой Секонд. — Сколько можно?
— Как знаешь. А тяга к рассматриванию обнажённых, ещё лучше — обнажающихся женщин, в процессе — от профессии не зависит, иначе все врачи были бы профессиональными импотентами. Уж гинекологи — обязательно. Любой взрослый мужчина совершенно точно знает, что увидеть что-нибудь принципиально новое невозможно теоретически, и тем не менее…
— Наверное, — рассудительно сказал Секонд, стараясь всё-таки смотреть в лицо Сильвии, а не на грудь и ниже, — нас волнует не анатомия как таковая, а возможность увидеть конкретный объект в нестандартной ситуации. Нет ничего более скучно-раздражающего, чем нудистский пляж или плановый медосмотр сотрудниц ткацкой фабрики. Пусть и двадцатилетних, но в числе около ста человек.
— Опять философствуешь. — Леди Спенсер потянулась к сигаретной коробке на столе, качнув над столом совершенно девичьими, но впечатляющими грудями, как бы опровергающими только что изложенный тезис. — А сам небось еле-еле сдерживаешься…
Пришлось, в душе, согласиться, что Сильвия скорее права, чем нет. Особенно — глядя на её правую ножку, перекинутую через колено левой, плавно раскачивающуюся перед глазами.
— Так пойдём? — Она правильно поняла его ускользающий взгляд. Сделала движение, чтобы встать с кресла, одновременно указывая головой на спальню.
Вчера она сделала попытку соблазнить Фёста, но тот, весь в процессе ухаживания за Вяземской, её прямые намёки проигнорировал. А Сильвия себе отказывать в желаниях не привыкла. Постоянный мужчина, вроде Берестина, конечно, нужен. Не может нормальная женщина без такого. Но лёгкие фривольные приключения значительно разнообразят жизнь. Прожить с одним и тем же, вроде первого мужа, графа Стенбок-Фермора, за которого она вышла в тысяча восемьсот девяносто третьем году, сто десять лет — физически и психологически невозможно.
Фёст не согласился, чувствительно Сильвию задев. Но чем хуже Секонд — аналог и близнец?
— Знаете, Сильвия Артуровна, — ответил Ляхов-второй, — при всем восхищении вашими прелестями… — прелести имели место, кто бы поспорил: что ноги, что изгиб бёдер, что грудь, — давайте оставим эту тему.
— Почему? — Она удивилась совершенно искренне. — От твоей жены нисколько не убудет. Тем более — Майя не узнает ни о чём. Мы здесь одни, я отнюдь не болтлива. Пятнадцать минут взаимной страсти — и разойдёмся. Навсегда или до следующего раза.
— Тяжело объяснить, — вздохнул Вадим, против воли закуривая третью подряд местную сигарету. Они ему нравились гораздо больше, чем отечественные папиросы. — Есть такое понятие — философский дуализм. Предположим, что пятнадцать минут в постели с вами станут самым незабываемым впечатлением в моей жизни. Значит, все прочие отпущенные мне годы я буду вспоминать вас и мечтать о новой близости… Во что тогда превратится жизнь с законной и, добавлю, любимой женой? Берём обратную теорему — ничего интересного вы мне предложить не сможете… — Уловил искру гнева в пронзающих его глазах. — Или — я вам, что вероятнее. Не совпадём мы с вами анатомически и физиологически. В этом случае один великий русский писатель говорил: «Нет худшего чувства, чем ощущение напрасно сделанной подлости». Да, вдобавок, комплекс у меня какой-нибудь разовьётся, как у одного приятеля, лишившегося мужской силы от неожиданности, когда страстно желаемая особа вдруг, без предупреждения, решила уступить его домогательствам. На всю жизнь лишился, заметьте… — Ляхов сделал печальное, как у патера Брауна, лицо.
— Значит, так это ты понимаешь? — Сильвия встала во весь рост, заведя руки за спину, отчего грудь поднялась и стан вызывающе изогнулся.
— Уж простите, Сильвия Артуровна. Как женщина вы меня восхищаете. Давайте на этом чувстве и остановимся… Если бы вас сейчас сфотографировать, было бы о чём вспоминать долгими зимними вечерами и о чём сладко сожалеть…
Слова Секонда Сильвии понравились.
— Чего-чего — фотографий могу целый альбом подарить. Только где ты его от жены будешь прятать? — пренебрежительно махнула она рукой. — Пожалуй, я тебя уважаю, Вадим. — Сильвия одним движением натянула через голову платье, одёрнула, поправила, где нужно. — У настоящего мужчины должны быть принципы. А я… Да перетерплю как-нибудь. Не смертельно. Завтра домой поеду.
Вдруг у Секонда появилась интереснейшая мысль. Как производная от всех прочих, двое суток крутившихся в голове. Словно запал сработал.
— Знаете, леди Си, мы сейчас одним махом можем решить все наши проблемы. Ваши, мои, Фёста и двух российских государств заодно.
— Неужели? Это очень интересно. А то мне на самом деле показалось, что вы в тупике. Помочь я вам помогла, в меру сил, но в окончательный успех затеянной Фёстом авантюры не верю. Инерция и упругость истории — страшная сила. Ваш, вернее — его президент прав. Сотня лет кропотливого и целенаправленного труда рано или поздно принесут свои результаты, но никак не раньше. Кавалерийскими набегами войны не выигрываются. Хочешь — моему личному опыту поверь, хочешь — вспомни печальную судьбу империи, созданной Чингисханом…
— Так и я об этом же, — с энтузиазмом согласился Секонд. — Не хотелось только друга и брата огорчать. Лишать, так сказать, последнего смысла жизни. Он не из тех, чтобы удалиться с любимой «под сень струй» и коротать следующую сотню лет, наблюдая за неспешным вращением жерновов божьих мельниц…
— Поэтически выражаться умеешь, — одобрительно похлопала его по руке Сильвия. — Я, правда, не совсем поняла, при чём тут мои проблемы, тем более — текущие. — Она улыбнулась весьма двусмысленно.
— При этом самом. Всё взаимосвязано, и одно вытекает из другого. Кроме громкой геополитической победы и славы в веках вы почти немедленно получите самые яркие и сильные впечатления, которые только можете представить…
— Ну-ка, ну-ка. — Леди Спенсер, похоже, заинтересовалась. — С кем же, любопытно узнать?
— Вы умеете производить на мужчин мгновенное, убойное впечатление? — спросил Вадим. — Такое, чтобы на колени падали, в попытке облобызать ножку, или сразу, невзирая на сопротивление, хватали в охапку и тащили в койку? — По идее, должны бы. А вот с нами как-то не получилось, не в обиду вам будь сказано…
Сильвия снова рассмеялась и покровительственно погладила его руку.
— Милый мальчик, — сказала она, — да-да, мальчик, хоть и полковник. Стоило мне захотеть, и ты бы сейчас орошал слезами мою грудь, вымаливая позволение одним глазком взглянуть, что же у меня всё-таки спрятано под платьем. — Она эффектным взмахом поменяла ноги местами. — Втайне надеясь, что я, возможно, позволю что-нибудь ещё…
— Да неужели? — не поверил Секонд. — Тогда почему не вышло?
— Тебе известна разница между чистой взаимной страстью (я не говорю «любовью») и изнасилованием? Мне нужно было, чтобы ты искренне меня пожелал и я, млея от счастья, тебе уступила… А то, о чём спросил ты, может сделать с любым, повторяю, с любым мужчиной даже каждая из ваших «валькирий», как вы их, довольно банально, на мой вкус, именуете. Но ведь не делают, ждут совсем другого… Две, похоже, дождались, что значительно повысило градус желания «чистого чувства» и у остальных. Но зачем ты об этом спросил?
— Видите ли… Государь Император Олег Первый — страстный обожатель красивых женщин. Совершенно как его августейший прапрадед. И вам он непременно понравится, как мужчина вообще и особенно — как уникальный экспонат вашей обширной, насколько мне известно, коллекции. О способности внушать мгновенную страсть я спросил просто для подстраховки. Вдруг его Величество именно сегодня окажется не совсем в настроении, так скажем… А ни вам, ни мне откладывать дело в долгий ящик незачем…
Сильвия пришла в великолепнейшее расположение духа, едва ли не в восторг.
— Молодец, это ты шикарно придумал! Российский Император — действительно, трофей! Тем более, мне приходилось слышать о его подвигах на любовном поприще. Ещё когда он был почти никем всерьёз не принимаемым Великим князем. Сублимировался, попросту говоря, таким образом. И как ты это намереваешься обставить?
— Нет ничего проще. Государь сейчас в Берендеевке, пребывает, как это здесь называется, в трудовом отпуске. Я, в качестве флигель-адъютанта, «пересвета», Георгиевского кавалера и так далее, имею право на немедленную, вызванную обстоятельствами, естественно, аудиенцию.
— И что же у нас за обстоятельства? — уже по-настоящему заинтересовавшись, спросила Сильвия. Ей стал интересен этот юноша, уже не как Платон Зубов Екатерине Великой, а в роли государственного деятеля. Она с первого взгляда поняла, насколько некомфортно Ляхов себя чувствовал в реальности ГИП и как расцвёл, вернувшись в свою. Оттого, может, её к нему и потянуло.
— Да простенькие такие… — Вадим, наконец, разрешил себе наполнить рюмку. Разговор пошёл деловой. А к Императору явятся — там при любом раскладе пить придётся, пока их Величество сам не велит заканчивать. Ну и Сильвии тоже предложил.
— Можешь даже и не спрашивать. Запомни на будущее, милый, с гомеостатом на руке ты теперь имеешь возможность пить круглосуточно, семь дней в неделю. Нужно только режим поднастроить — немедленно по поступлении в организм разлагать алкоголь или с замедлением на нужный отрезок времени, чтобы хоть что-то приятное почувствовать…
— Спасибо, леди, на службе нам это свойство прибора очень пригодится. Особенно вам…
— То есть? — приподняла Сильвия тонкую бровь.
— Государь любит, когда женщины за его столом напиваются в стельку. Ходить ещё могут, а сдерживать поток подсознания — уже нет.
— Прелестно. Доставлю ему такое удовольствие. До-олго будет вспоминать, как сладкий сон…
Глядя на ставшее азартным и совсем молодым лицо аггрианки, Вадим по-хорошему позавидовал своему Императору.
— Только… Это, Сильвия Артуровна, переоделись бы вы подходящим к приёму образом. Олег Константинович любит, чтобы женщины были одеты строго, элегантно. Платьице ваше, простите, для похода в ресторан с полковником Ляховым годится, а вот для императорского приёма… И чтобы снимать с них нужно было много, преодолевая известные трудности, — это он намекнул на то, что Сильвия натянула и так фактически прозрачное платье на голое тело.
— Совершенно в моём вкусе мужчина. — Она в который уже раз рассмеялась серебристо и очень завлекательно. — Одеваться — при тебе?
— Да лучше нет, избавьте от нравственных терзаний. Я пока тезисы предстоящей беседы набросаю, а вы — дверь в гардеробную прикройте.
— Жаль. Вдруг бы посоветовал что. Адъютанты обычно много знают о тайных пристрастиях своих начальников.
— Самые обычные пристрастия. Хлысты, чёрное бельё и «шнурованные ботинки до самой задницы» не потребуются.
— И Ремарка читал,[88] надо же, — восхитилась Сильвия. — Настоящий мужчина, не зря тебя в «Герои России» произвели.
— Стараемся, леди, в меру сил стараемся постоянно повышать как служебную квалификацию, так и общую эрудицию. На руководство не очень, а на красивых дам иногда впечатление производит, — теперь уже откровенно развлекался Секонд.
Ляхов по телефону предупредил Фёста, что они с Сильвией кое-куда съездят в своём мире, вернутся или через час, или утром, видно будет. И настоятельно попросил никаких действий, выходящих за рамки общепринятых, не предпринимать.
— Лучше всего включи Шар, посмотри, где сейчас девочки колобродят, разыщи Люду и погуляйте как следует, ни о чём постороннем не думая. Три дня мы президенту дали, вот на три и отвлекись. Я бы знаешь, что сделал?
— Что? — с ожиданием подвоха спросил Фёст.
— Поехал бы с ней в самый богатый ассортиментом антикварный магазин, наверняка здесь такой есть, и купил бы ей обручальное кольцо или старинный перстенёк…
На удивление, аналог отнёсся к его словам с полным пониманием.
— Нет, обручальное в «Антикваре» нельзя. Только новое, лучше — на заказ. Знаю, где. А перстенёк века восемнадцатого — это ты здорово придумал… Спасибо. До встречи. И удачи тебе…
При этом голос Фёста звучал в трубке так, будто тот заведомо предположил, что в планах аналога — капитальный разгул с сексуальной красавицей. На той же загородной даче. Что же ещё могло прийти в голову почти одинаково мыслящему человеку, заметившему и взгляды, то и дело бросаемые леди Си на одного и другого «близнеца». Он даже слегка испугался за Секонда — неужто махнул на Майю рукой и решил пуститься во все тяжкие?
Ну, даже если так — ему какое дело. Истинно: «Никто не сторож брату своему».
Ехать к Императору на съёмном таксомоторе верх бестактности. Поэтому Вадим с Сильвией сначала добрались на такси до Управления, где Ляхов в своём кабинете переоделся в придворную форму с орденами и при холодном оружии (для малого приёма), взял свою машину, а главное — позвонил по спецсвязи дежурному сейчас в Берендеевке генерал-адъютанту. Попросил передать просьбу о неотложной аудиенции.
— Чего это тебя вдруг разобрало? — по-товарищески спросил генерал-майор Дзилихов. — Государь не слишком в духе. Рассеянный какой-то. Сидит на веранде и из воздушного пистолета мух стреляет. Может, завтра лучше?
— Глядишь, я его и развлеку, — с куражом в голосе ответил Ляхов. — Доложи, а там посмотрим…
— Знаешь, ты угадал, — зазвучал через несколько минут в трубке раскатистый баритон генерала. — Не сказать, чтоб обрадовался, но оживился. Какого, говорит,… ему от меня надо? Пусть едет, послушаю, а то мне штатные раз…и уже надоели. Так что приезжай, вдруг свой профит поймаешь. Часа хватит?
— Придавлю как следует — хватит.
— Ну, Вадим, — восхитилась Сильвия, увидев Ляхова при полном параде, — я просто понять не в состоянии, как ты ухитряешься сохранять целомудрие в окружении стольких очаровашек… Всё, всё, не сердись, я только шучу.
Олег Константинович не собирался устраивать торжественного приёма одному из тридцати своих флигель-адъютантов. Спасибо, что вообще не послал очень и очень далеко в известном направлении. Так и сидел на затенённой сосновыми лапами и кустами сирени веранде, с длинноствольным пистолетом на коленях и открытой коробкой свинцовых пулек на столе. Там же ваза с фруктами, бокал и две бутылки испанского хереса. Ветерок шелестел страницами толстой книги формата «ин кварто», названия которой Ляхов увидеть не смог, точнее — не успел. И ещё — рядом с книгой лежала толстая красная папка «К докладу».
Император был приведён в восторженное состояние фактически мгновенно. Как только на крыльцо, в сопровождении побрякивающего заказными серебряными шпорами и придерживающего у левого бедра шашку с аннинским темляком Ляхова вспорхнула, иначе не скажешь, — великолепнейшая Сильвия. Одетая, обутая, причёсанная, накрашенная и надушенная так, чтобы пришёл в полное расстройство чувств именно этот мужчина (у Шара имелась и такая опция). Так и получилось. Недавно обуревавшие самодержца меланхолические и даже мизантропические мысли как ветром сдуло.
«Садизм, конечно, — подумал Вадим с внутренней усмешкой, наблюдая за своим Государем, — так и садизм для чего-нибудь полезен. Как бы иначе существовать мазохистам?»
Прежде Олег Константинович вскочил, приложился к ручке прелестной дамы, поедая и ощупывая её глазами от щиколоток до глаз и обратно. Будто сам не веря своему счастью. И только после этого выслушал положенным тоном произнесённое флигель-адъютантом представление:
— Дама Сильвия Артуровна Берестина, супруга хорошо вам известного генерал-лейтенанта Берестина, Алексея Михайловича…
— Да не может быть! — удивился и одновременно восхитился Император. — Прямо из тысяча девятьсот двадцать пятого года? И что же вас привело сюда, очаровательная Сильвия Артуровна? А где ваш супруг? Я для него держу коробку с орденом, желая вручить при личной встрече, а его всё нет и нет…
Про орден Вадим услышал впервые. Так и не должен ведь Его Величество с каждым полковником своими намерениями делиться. А всё же любопытно — каким таким орденом Олег собрался Берестина наградить? Врангелевского «Николая Чудотворца» только «Андреем Первозванным» можно перешибить, на шейной цепи ювелирной работы.
Или прямо сейчас ему такая идея пришла, после того как в глаза Сильвии заглянул и в вырез декольте, естественно? И что там такого невероятного мог увидеть опытный мужчина, удивился полковник, в глубине души гордый тем, что устоял перед якобы непреодолимым соблазном. По прошествии двух часов леди Спенсер уже казалась ему совершенно рядовой женщиной, прелестно сложенной, но и не более того. Жене изменять ради того, что банально, как солнечный рассвет, — себе дороже.
Однако Император считал совсем иначе. Тем более наверняка уже начала действовать включённая аггрианкой программа.
Но характер у Олега Константиновича всё равно был правильный. Выказав Сильвии все положенные знаки внимания, усадив её в удобное плетёное кресло, он повернулся к стоящему, как положено, почти «во фрунт» полковнику.
— Какие у тебя ко мне вопросы или предложения? Зачем приехал? Докладывай. Если здесь неудобно — пойдём в кабинет. Сильвия Артуровна нас подождёт? Я распоряжусь, ей скучно не будет. Тебе сколько времени нужно? Пятнадцать минут, полчаса?
Император на то и Император, чтобы по глазам адъютанта понять, что не просто так он явился, а с по-настоящему серьёзным делом.
Обо всём, что Ляхов придумал, он обстоятельно рассказал Сильвии, пока они крутились по лесным дорогам, через каждый километр перекрытым казачьими патрулями. Урок из прошлого служба императорского конвоя извлекла, серьёзный до крайнего предела.
Леди Спенсер его замысел понравился чрезвычайно. Вадим даже удивился, насколько живо эта, по всем параметрам далёкая дама отнеслась к совсем не нужной ей идее. Или — наоборот. То, что не. получилось двадцать с лишним лет назад у неё, руководительницы мощной, охватывающей полмира организации, решили с помощью нескольких недоученных девчонок воплотить два вполне рядовых парня. С некоторыми способностями, но и не более того.
— Ваше Величество, — ещё раз звякнул шпорами Ляхов. — Желание обратиться к вам с особой важности предложением изъявила госпожа Берестина. Я всего лишь позволил себе попросить об аудиенции, используя должность, и доставить её сюда. Прошу прощения, если…
Император махнул рукой. Его меланхолия, или, по-английски выражаясь — сплин, исчезла, как и не было.
— Молодец. Смелость города берёт. И, это… — Он кашлянул, не придумав подходящего продолжения сентенции, которая могла бы стать исторической. — Миллер!
Войсковой старшина[89] появился из глубины дворца почти мгновенно.
— Ты давай… Займитесь с полковником в охотничьем домике чем-нибудь интересным. Не стесняйтесь. Я потом позову… У нас с госпожой Берестяной важное государственное дело.
Государь, придерживая Сильвию под локоток, направился к ведущей на второй этаж лестнице. За ними было направился неразлучный пёс, дремавший под столом, но Олег Константинович на него цыкнул, и Красс, недовольно дёрнув ухом, вернулся на прежнее место.
Войсковой старшина Миллер, с которым Ляхов был хорошо знаком, особенно после боёв за Берендеевку, откровенно обрадовался его приезду. Тем более — поступил приказ, заведомо предполагающий хорошую гулянку без последствий.
Казак в пятом поколении с немецкой фамилией посадил на своё место поручика из общего адъютантского наряда, повёл Ляхова в охотничий домик, крайне удобно расположенный метрах в ста позади главного терема. Полсотни гостей в нём принять всегда можно, двое тем более поместятся.
— Надолго мой с дамочкой завязался, как думаешь? — спросил Миллер, чтобы правильно «распределить силы». Его бы устроило — до утра пусть Император гостьей занимается… Что, в общем, привычкам Олега соответствовало. Если только женщина не оказывалась слишком капризной или неинтересной. — И где ты такую… её разыскал? Вроде — не по твоей части, царю баб поставлять. Но — неплоха, неплоха, честно скажу. Даже великолепна. Ножкой как из-под юбки сверкнула — полный…тоё-моё и каменные пули. Не московская? — Войсковой старшина, седьмой год с тогдашним князем, нынешним Императором неразлучный, весь более-менее подходящий столичный контингент знал. Поскольку Олег Константинович уделял внимание только дамам безукоризненного происхождения и непременно замужним. Девственницы были скучны, разведённые — опасно непредсказуемы.
Ляхову сегодня напиться ужас как хотелось, да ещё и в хорошей компании одного с ним происхождения и воспитания человека. Нелегко ему далось общение с Сильвией. Он решил отключить гомеостат часа на два хотя бы. Далее — по обстановке. Служба потребует — через двадцать минут будет как огурец.
Дворцовые лакеи уже тащили, непосредственно с царской кухни, жаренных в собственном жире с луком свежедобытых перепелов, закуски всевозможнейшие, названия которых большинство населения Империи если и слышало, то о сути не догадывалось: «страсбургский пирог», например. Естественно, напитки всякие, лично для Государя в особых винокурнях производимые. В количестве — на весь дворцовый адъютантский наряд, не меньше.
— Ты, Паша, хоть и войсковой старшина, — сказал Ляхов, отстёгивая шашку и снимая мундирный китель, слишком тугой и жаркий по этому времени, — а в высокой политике — ни в зуб ногой. Этот бабец, тебя очаровавший, думаешь — так себе? Графиня, проездом из Вятки в Карлсбад?
— Так и разъясни, чего зря трепаться, — сказал Миллер, поднимая чарку. Чокнулись, выпили, чтоб не последнюю.
— Позволь тебе доложить, друг мой Павел, что сия дама — непосредственно собственная жена очень тебе хорошо известного генерал-лейтенанта Берестина, плац-парад не так давно вам здесь устроившего.
— Да ты… Твою ж мать! — Аж поперхнулся душистой травкой Миллер и немедленно налил по второй. — Того самого, врангелевского? Ну-у, брат. Ох уж и бабы у них там, в старой России. И чего она сюда?
— Личное послание, вроде бы, привезла, то ли от мужа, то ли от самого Верховного Правителя…
— Ох, ты,… — не нашёл более оригинального междометия Миллер. Опять чего-нибудь затевается? А для чего вот эту прислали? Офицеров не хватает?
— Читай «Три мушкетёра», — назидательно ответил Ляхов. — Миледи, граф Рошфор, кардинал и всё такое… О подробностях мне ничего не сказали. Велели встретить, договориться с Императором о встрече и препроводить…
Миллер снова покрутил головой, поскольку рот был занят разгрызанием перепелиного туловища. Адъютантская служба — она тоже не сладкая. Когда с царём рядышком сидишь и питаешься от пуза, а когда и сухпайком перебиваться приходится.
— Я всё равно не понимаю, — сказал войсковой старшина, прожевав и вытерев губы салфеткой. — Зная нашего Государя (а кто, как не ближний помощник, стременной и постельничий, может знать его лучше?), посылать для государственных переговоров такую бабу — он закатил глаза, — это или глупость, или провокация…
Ляхов был с ним совершенно согласен, не только потому, что уж очень они с Миллером друг друга знали и понимали, а поскольку сам интригу затеял. Ему было интересно, как опытные, неглупые люди, свободные от комплексов (а Павел был именно таким), отнесутся к разыгрываемой им комбинации. Вспомнился советский фильм-мюзикл по мотивам «Двенадцати стульев», ария Миронова-Бендера: «Вы оцените красоту игры!».
— Ты, что ли, подозреваешь генерала Берестина — а ты его помнишь в самый трагический момент нашей обороны, и здесь, и в Москве — в том, что он мог собственную жену Олегу подсунуть? — Голос Вадима прозвучал настолько естественно, как только возможно.
— Не заводись, Вадик, — положил ему руку на погон с вензелем Миллер. — Пей, пока позволено, и не осложняй себе жизнь. Я тебя на десять лет старше, всякого насмотрелся. Прежде всего — с чего ты вообразил, что он её подсунул? Есть масса других объяснений происходящему, и если бы не лень — каждое тебе изобразил. Второе — откуда ты знаешь, что это именно его жена? Не слабый вопрос, правда? Ты ведь до белого Севастополя и Харькова так и не добрался? А нас ведь звали…
Ляхову пришлось кивнуть, соглашаясь, что в тех местах и временах он так и не был и нотариально факт супружества этой дамы и генерала Берестина заверить, само собой, не готов..
— Поэтому, друг ты мой — забей на всё, — доверительно, почти на ухо сообщил ему Миллер. — Знать нам лишнего не позволят, кому следует, а главное — стремиться к этому не нужно. Сказал Олег — отдыхайте, так и будем отдыхать, чтобы он потом в изумление пришёл… Сказали тебе — жена генерала. Значит — жена. И не придерёшься. Велено. Главное — на второй этаж не лезь, и всем будет хорошо… А вообще очень ты вовремя приехал — словно специально подгадал. Телепатией, случаем, не занимаешься?
У Отца нашего почему настроение плохое — облом у него по женской части получился. Чекменёв ему обещал несколько ве-есьма, по его словам, соблазнительных девчонок показать, новых офицерш из женского отряда «печенегов», да ты наверняка в курсе. Они там в Одессе весьма ярко себя проявили и к орденам представлены. Государь и соизволил повелеть, чтобы их для награждения сегодня сюда представили. А они — надо ж такому случиться, все скопом отпуск на несколько дней испросили, с выездом за пределы Москвы. В неизвестном, можно сказать, направлении…
«Очень интересно, — подумал Ляхов. Как же это такая информация мимо меня проскочила? Специально, что ли, Игорь Викторович решил меня „за кадром“ оставить, как бы чего не вышло? И Тарханов не сказал… Хотя он, может, и собирался, так меня в зоне телефонной доступности не было… Вовремя, получается, я девушек из-под удара вывел, а то и не знаю, что бы здесь сейчас случиться могло…»
— Так слушай дальше, — продолжал Миллер, — решил он другую даму из фавориток пригласить: не пропадать же куражу. Так и она, представь, в отъезде… В общем, настроение у Государя упало ниже уровня моря — и вдруг ты, как с неба свалился.
— А если и с ней не выйдет? — спросил Ляхов.
— Не наша забота, — отмахнулся Миллер. — Не догонит, так согреется… Давай-ка я гитару велю принести, и споём мы с тобой что-нибудь этакое, фронтовое. Из репертуара офицеров Добровольческой армии.
— Это — хоть сейчас, — согласился Вадим. Слух у него был великолепный, с раннего детства родители на рояле заставляли упражняться. Не дожидаясь гитары, запел «а капелла»:
Император провёл Сильвию в очень удобную и приятную светёлку. Комната в мансарде, обставленная скупо, но красиво. Ручной работы, причём — выдающегося резчика по дереву — два кресла, стол, скамьи по обе стороны окна, шкаф книжный и шкаф для напитков. Всё — из карельской берёзы или причудливых корневищ. Едва ли не стеклом выскобленный пол, ковры и паласы, привезённые из дальних среднеазиатских походов. Такое интересное сочетание стилей.
— Так что же просил передать мне ваш супруг, в котором, снова повторюсь, я вижу идеал настоящего русского офицера? — спросил Олег, вначале устроив гостью, потом выставив на стол два обливных глиняных кувшина с напитками, крепким и не очень, глиняные же чарки и кружки. Ваза со свежайшими фруктами уже присутствовала, неизвестно когда успевшая появиться.
— Ужинать мы будем позже и в другом месте, — счёл необходимым предупредить Император, — а это просто так, с дороги освежиться…
Сильвия устроилась в кресле поудобнее.
На Столешниковом она выбрала себе наряд, для здешней светской дамы странный, но, с учётом совета Ляхова, подходящий. Если она явилась на аудиенцию прямо из двадцать пятого (тысяча девятьсот) года неизвестной Императору реальности, как раз то, что нужно. По любым вкусам, хоть аристократическим, хоть военным — не придерёшься.
Платье стиля «сафари», модного в конце семидесятых годов двадцатого века в ГИП. Травянисто-зелёного, ближе к хаки цвета. Длиной на ладонь ниже колен, но с разрезами по бёдрам почти до пояса. Много больших накладных карманов, пряжки, хлястики, подобие газырей (или гнёзд для боевых патронов) на груди. Кто-то помнит Джейн из фильма тридцатых годов про Тарзана, там она бегала по джунглям в таком же платье, но в моду фасон тогда не вошёл. Вторая мировая война помешала. Зато в семидесятые в СССР — две инженерские зарплаты за такое отдать нужно было, и то на «толкучке» не всегда найдёшь.
Вот на разрезе Император и зафиксировал свой намётанный глаз. Роскошную дамскую ножку приличия позволяли (в обычной обстановке) видеть едва до колена, ну, если повезёт — чуть выше: ветерок внезапный юбку девушке на улице приподнимет, ещё что-нибудь в этом же роде.
Зато генеральша Берестина совсем не собиралась скрывать длинного разреза, который позволял видеть тонкие голубые резинки от пояса до широкой кружевной окантовки бледно-зелёных шёлковых чулок. И мраморно-белую, совсем не загорелую кожу выше.
Она охотно выпила с Олегом Константиновичем не вина, а куда более крепкого напитка, из личных погребов. Тут же и закурила — с конца девятнадцатого века светские дамы ввели в стиль курение. Причём табаком развлекались самые скромницы, прочие предпочитали гашиш, опиум, кокаин.
Помните, у Северянина?
В двадцать первом веке подобный жест никого не мог удивить или шокировать.
При этом, почти не затягиваясь и картинно пуская дым, Сильвия сосредоточила на Императоре все свои чары. Да их особенно много и не требовалось. Олег Константинович был сам по себе как следует эмоционально разогрет. Единственное, что его сдерживало, — не фрейлина своего Двора всё-таки перед ним, а генеральша, чей муж состоит начальником штаба Верховного Правителя дружественной и вполне Великой Державы.
Но исходящие от неё флюиды (как и феромоны) были так сильны, что Император, понимая, что теряет голову и совершает недопустимое, протянул руку и положил ладонь именно в этот манящий разрез платья, коснувшись пальцами внутренней, особо гладкой и нежной поверхности бедра. Сильвия подняла на него удивлённые глаза.
— Не лишнее ли вы себе позволяете, Ваше Величество? Мы ведь едва знакомы…
И тут же легко встала с кресла.
— Впрочем, Ваше Императорское Величество, если у вас здесь такой этикет, смею ли я… В чужом монастыре… — Сильвия одним щелчком расстегнула замок широкого пояса платья, чуть подалась вперёд, как бы давая понять Олегу, что большие бронзовые пуговицы, от воротника до подола, ему придётся расстёгивать самому.
Она стряхнула с плеч своё «сафари», повела плечами и грудью.
— Налейте мне того же, что раньше, — капризно сказала Сильвия, приглашающе взмахнув ресницами.
Надето на ней и помимо платья было слишком много, причём большинство предметов туалета — незнакомых Императору фасонов и конструкций. В его достаточно непритязательном мире женщины до сих пор обходились крючками и пуговичками.
Она села в кресло, сделала маленький глоток и начала пространно объяснять стоящему перед нею на коленях Олегу назначение и принцип действия наличествующих застёжек и пряжек.
— Вы, при вашей силе и нетерпении, наверняка что-нибудь сломаете, а починить даже ваши адъютанты не сумеют…
Доведённый теорией и практикой до крайней степени возбуждения, Олег Константинович наконец подхватил собственноручно им обнажённую Сильвию на руки и понёс в соседнюю комнату, где имелась подходящих размеров кровать.
Император оказался мужчиной того очень редкого в бесчисленной череде поклонников леди Спенсер типа, которого настроения, желания, вкусы женщины совершенно не интересовали. Обычно она достаточно ясно давала понять партнёрам, чего именно ей хочется в данный момент, а достаточно часто вообще ничего не позволяла, действуя сама в соответствии с настроением. Какие-либо попытки инициативы пресекала решительно, не всегда в тактичной форме.
Но сейчас, пожалуй, впервые в жизни, Сильвия встретилась с совершенно другим случаем. Император повёл себя так, будто она была существом, вообще лишённым права на какую-нибудь самостоятельность, вроде рабыни из гарема или приглянувшейся барину крепостной девки.
Возмущённая таким отношением леди попыталась сопротивляться, но при всей её силе и гибкости смысла в этом было столько же, сколько в намерении рукой остановить паровой молот. Телодвижения Сильвии и малоприличные слова протеста Олега скорее возбуждали, если он вообще обращал на них внимание.
Но очень скоро она почувствовала совсем незнакомое возбуждение, начавшее разливаться по всему телу. Происходящее вдруг стало невыносимо прелестным. Более того — ничего подобного прославленной своими похождениями светской львице раньше просто не случалось испытывать. Партнёры, допущенные к телу, чаще всего обычным образом эту тигрицу (как писал поэт Отто Бамбус в своём бессмертном цикле) боялись.
Алексей — не боялся, но и вёл себя в постели весьма банально. А сейчас вместо возмущения грубым насилием в её голосе вдруг зазвучало сначала удивление, а потом откровенная, неподвластная разуму страсть. Только что она колотила кулаками по широкой, с сильными мышцами спине и пыталась оттолкнуть Императора, сбросить его с себя, и вот уже стискивает его в объятиях, бормочет какие-то бессвязные слова, то низко стонет, то пронзительно вскрикивает.
Потом её сознание вообще накрыла странная багрово-чёрная волна, и Сильвия пришла в себя, только когда Олег отпустил её и отодвинулся на край постели.
Она несколько минут лежала на спине, приводя мысли в порядок. В какой-то книжке она читала или слышала от специалистов, что настоящий, редко кем достигаемый в полной мере экстаз у женщин ничем не отличается от эпилептического припадка со всеми клиническими признаками. Вот его она сейчас наверняка и пережила… Слабость в теле, и одновременно — переполняющее все ее естество, медленно перетекающее во что-то другое ощущение мучительного сладострастия.
Прямо как в «Фаусте» — «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!».
Император встал, обернул вокруг бёдер полотенце, сел к столу. Налил себе большую чарку, залпом выпил, закурил толстую папиросу. Посмотрел на Сильвию с улыбкой.
Она села, сжав колени, по-прежнему несколько не в себе.
— Понравилось? — спросил Олег.
Леди Спенсер кивнула. Язык ей ещё не совсем повиновался.
— Иди ко мне. — Он указал на соседнее кресло. — Глоток доброй «Зубровки» сейчас не помешает…
Они выпили по одной и по второй, восстанавливая душевное равновесие, перебрасываясь малозначительными словами, потом Император взял Сильвию за руку и снова повлёк к постели.
— Давно мне такие способные любовницы не попадались, — сообщил он, касаясь губами её груди. — Задержишься у меня денька на три? Переговоры обещают быть трудными… Он провёл большой и тяжёлой ладонью с мозолями от сабельной рукояти и лопаты, которой окапывал деревья в саду, по самому нежному и восхитительному месту женского тела. — А всё же скажи, дорогая, зачем муж тебя ко мне прислал? Сам не мог, подходящего порученца не нашёл? Или что?
Царь и в постели с самой прелестной женщиной — царь. Непонятностей не любит. Другие, бывает, боятся, а он чего бы то ни было бояться в пятнадцать лет навсегда отвык. Так что просто не любил.
— Всё очень просто, Ваше Величество. — Сильвия перенесла руку Олега с того места на грудь. Ей так больше нравилось. — Алексей, прежде всего, сейчас очень занят. Кроме того, я дипломат на несколько порядков лучше его, если тебе интересно. Когда-нибудь расскажу подробности, если сохраним дружеские отношения. Ну a, last but not least, я на самом деле захотела лично познакомиться с человеком, сумевшим совершить невозможное…
— Это ты о возрождении самодержавия? — спросил Олег.
— Сначала я имела в виду только это. Сейчас — не только…
— Ну, в таком случае, может быть, и ты меня чем-нибудь удивишь?
— Постараюсь. — Сильвия встала на колени, оперлась рукой о его плечо. Внимательно посмотрела на Олега прищуренными кошачьими глазами. Наваждение кончилось. Она снова старший координатор, а не горничная юного графа Толстого, Льва Николаевича. — Вы меня удивили, Ваше Величество, теперь я вас удивлю.
Ляхова вызвали в кабинет к Императору часа через три. На такое время он примерно и рассчитывал, поэтому успел почти полностью протрезветь. Совсем — не следовало: Олег Константинович не любил «умников, до вина не охочих», резонно полагая, что адъютант, получивший приказ отдыхать и веселиться, этим и должен заниматься. А то мало ли что ему в голову придёт? Но точно так же он не терпел и пьяниц, не способных после гвардейской пирушки до рассвета явиться на утренний развод в полном порядке.
Они с Сильвией тоже были слегка навеселе, но по виду его самого и госпожи Берестиной невозможно было представить, что они занимались чем-то ещё, помимо дипломатии.
На большом столе лежала карта фёстовской России, точнее нынешней Империи, где Сильвия толстым красным карандашом обозначила существующие в том мире границы. Их вид вызывал у Олега Константиновича почти физическое отвращение.
— Это же надо, как всё просрать умудрились господа большевички, — сказал он Ляхову, не стесняясь присутствия дамы. — Стоило русскую кровь триста лет проливать ради вот этого… — Он раздражённо бросил поверх карты карандаш.
— Сильвия Артуровна мне в общих чертах доложила, что у них там творится. Помочь землякам надо, никаких сомнений. Она берётся устроить мне встречу с их президентом. Однако предупредила, что сама очень сомневается в успехе. Я с ней во многом согласен. Не любят «демократические правители» с нами, тиранами, дела иметь, властью, суверенитетом поступаться. По нашему Каверзневу знаю, сколько его уламывать пришлось, едва ли не угрозой военного переворота припугнуть, хотя на моей стороне и народ был, и Конституция. Давай теперь ты — выкладывай свои соображения, «пересвет-генштабист»… — прозвучало это наименование вроде и уважительно, но с долей иронии.
— Слушаюсь, Ваше Императорское Величество. Разрешите шашку снять?
— И шашку снимай, и мундир. Если рубашка чистая, — пошутил Их Величество. — Садись, говори, что думаешь, и без этих… титулов. Пить будешь?
— Как прикажете, Олег Константинович.
— Тогда так прикажу. По одной все вместе — за благополучное начало переговоров между тремя великими Россиями…
По искоркам в глазах Сильвии Вадим понял, что термин «переговоры» Государь толкует весьма расширительно.
— Дальше — каждый употребляет по настроению, памятуя слова из Указа Государыни Императрицы Екатерины Великой: «Гостям есть вкусно и сладко, пить обильно, но дабы каждый мог найти свои ноги, выходя из дверей…» Нам сегодня ещё парадный ужин в честь дорогой гостьи предстоит…
«Дорогая гостья, — подумал Ляхов, — уж такая дорогая! Вот что бы было, если их взять и поженить? Если она с Берестиным официально нигде не зарегистрирована и не венчана — никаких ведь династических препятствий. Герцогиня английская почти что повыше, небось, захудалой принцессы Фике[90] будет… Лихо выйти может, если, конечно, всех знавших её раньше не пересажает и не перестреляет. Бывали прецеденты».
— Я тебя, Вадим, сейчас спрашивать буду по всем вопросам, на какие мне Сильвия Артуровна ответы дать не смогла, не успела или не захотела. В её присутствии. Только потом все вместе думать станем, — сказал Император, причём — на полном серьёзе, сейчас шуточками в его голосе и не пахло.
— Так точно, Олег Константинович. Для того вы нас и держите, — снова малиново[91] призвякнул шпорами полковник.
— Ну и хватит болтать. Я тебя слушаю.
Для начала Ляхов доложил Императору, что их с Чекменёвым проект о снабжении боевых формирований Катранджи оружием из двадцать пятого года не встретил никаких возражений у Верховного Правителя Петра Николаевича Врангеля. Девать это добро всё равно некуда, воевать Югороссия в ближайшие десять лет ни с кем не собирается, а помочь внукам — святое дело.
Сильвия при этих словах утвердительно кивнула.
— Причём, Олег Николаевич, денег они с вас не возьмут. Что сдерёте с Ибрагима — всё наше.
— Благородно, чрезвычайно благородно, — сказать-то Император сказал, но задумался. Потом посмотрел на открытые коленки Сильвии и посветлел лицом.
«Чёрт знает что, — удивился Ляхов. — Или я чего-то не понял? Эта женщина ещё утром тащила меня на себя, а я гордо отбрыкивался. Царь, в полтора раза меня старше, переимев дам столько, что и в телефонном справочнике не поместишь, впал едва ли не в сексуальную прострацию… Он с ней забавлялся минимум два часа. Остальное на переодевание и умывание с бритьём. И опять потянуло? Или я чего-то не понимаю, или где?»
— Далее, Олег Константинович, — отбросив ненужные мысли и возвращаясь к академическому тону, продолжил Ляхов, взяв, для полной убедительности, в руки указку, — мы имеем перед собой братское российское государство, в отличие от Югороссии, где всё прекрасно, пребывающее в весьма печальном положении…
— Я и сам понял, — ответил Олег. — Половину территории оторвали, население — сто сорок миллионов, живут не знаю как, да эта западная сволочь только и думает, как бы чего ещё откусить…
Император налил «Зубровки» себе и Сильвии (всё же он мечтал увидеть её пьяной «в стельку», «в доску», «вдребезги», «в лоскуты», «до положения риз», «не вяжущей лыка» и так далее, как определяли подобное состояние представители самых разных на Руси профессий). Ну хотелось, и всё! В подобном состоянии женщины иногда бывают очень забавны.
— У нас созрел план, — сказал Ляхов, упорно преодолевая внутреннее сопротивление сюзерена, — вместе с людьми, которые успешно руководят Югороссией — оказать своим братьям, да не только братьям — просто русским людям, попавшим в трудное положение, — помощь.
— Помощь — непременно окажем. А как ты это видишь? — спросил у флигель-адъютанта царь. — Если правильно ответишь — прямо сейчас в генерал-адъютанты произведу, особенно — в благодарность, как ты удачно мне интересную собеседницу привёз. Никогда с такими умными женщинами не разговаривал. — И прозвучало это абсолютно искренне.
А что, на самом деле, Государю стоит в обмен на такую подружку полковнику двухпросветные погоны на гладкие поменять? Мановение пальца, не больше. Лишние триста рублей оклада жалования для государственной казны сумма совершенно нечувствительная. Меньше статистической погрешности при подведении годового баланса.
— Вот так и вижу, Олег Константинович. — Ляхов встал, расправил плечи. Не мог он с Императором на подобные темы сидя да развалясь в кресле разговаривать.
— Я тут и с подполковником Бубновым недавно на эти темы говорил, с профессором Маштаковым тоже. С другими людьми из трёх соседних параллельных реальностей. Имеются, да вы ведь в курсе, переходы от нас и в боковое время, где некробионты живут, и в другие прочие тоже. А совсем недавно мы нашли совершенно удивительное природное образование…
— Излагай, излагай, чего мнёшься? — Олег Константинович налил всем. Вадим заметил, что Сильвии — больше всех. Ох и интересная ночка ждёт Их Величество, если леди Си не вздумает вдруг слинять мгновенно. Но это — едва ли. Судя по глазкам — ей в Берендеевке очень понравилось.
— Да мне мяться нечего, — твёрдо ответил Ляхов. — Вам решать. Непосредственно рядом с трассой Транссиба некроманты профессора Удолина обнаружили под Уральскими горами невероятной мощности межпространственный тоннель из нашего времени — в то…
— Стой, стой, поясни…
— Поясняю. Тоннель шириной более сорока метров ведёт сквозь Уральские горы из нашего времени — в то. Необходимых работ, чтобы всё в нужный порядок привести, — инженерному батальону на неделю. Ещё конкретнее — если мы построим железнодорожные, или какие угодно вам будет станции, по обе стороны прохода — открывается постоянная, стационарная, ни от каких природных катаклизмов не зависящая дорога из одной реальности в другую.
Император, много чего в своей жизни слышавший и видевший, натуральным образом обалдел.
— Не понял, — сказал он. — Ещё раз — и медленнее…
— Ваше Величество, — как первокласснику во вспомогательной школе, начал объяснять Ляхов. — Если вы сядете в специальный поезд возле Екатеринбурга, то, проехав тоннель, через десять минут окажетесь на этой же дороге, но ведущей в Москву другой реальности. И наоборот, естественно.
Сильвия сделала ладонью останавливающий жест. Мол, пора бы Вадиму и замолчать — хватит перегружать непривычного человека. В конце концов, это на неё возложена миссия убедить Императора в нужности и взаимной полезности этой идеи. И она его непременно убедит.
— Вы понимаете, Олег Константинович, — не мог остановиться Ляхов. — Наша четырёхсотмиллионная Россия со всеми её политическими и культурными достижениями получит связь с другой. Где миллионы десятин неосвоенных территорий, где плотность населения в Сибири не намного больше, чем в Антарктиде. Где казачьи станицы от Кавказа до Урала и Уссури в полном запустении. Где люди нас ждут, в конце-то концов!
— А как к этому отнесётся их власть? — здраво спросил Император. — Не будет ли это воспринято как агрессия?
— Уж это я беру на себя, — ответил Ляхов. — Мы завтра же можем устроить по всероссийскому дальновиденью подобие плебисцита. Вопрос — всего лишь открытие несуществующей границы внутри той же самой страны. Сама постановка звучит бессмысленно, поэтому противникам возразить будет просто нечего. Имею ли я право посетить деревню или станицу, где родились, жили и умерли мои предки? Не нарушая никаких законов. Из Екатеринбурга в Екатеринбург и дальше ездить кому-то запрещается? Хоть здесь, хоть там…
— Всё верно, Вадим, всё верно, — сказал Император. — Только понять все политические тонкости тебе ума пока не хватает. Зато я уже вижу массу проблем, больших и маленьких. Этим лично сам и займусь. А тебя…
Он сделал паузу.
— Эй, Миллер, ты где там?
Войсковой старшина появился на пороге мгновенно.
— Ужин готов?
— Так точно, Ваше Величество.
— Сейчас подойдём, распорядись… А тебя, Ляхов, я назначаю главным исполнителем операции «Мальтийский крест». Акт второй.
Олег Константинович посмотрел на своего полковника очень, даже — слишком внимательно. Вадиму показалось, что не только согласия — понимания смысла кодировки царь от него ждёт. Зато Сильвия из-за спины Его Величества взглянула одобряюще.
Историю в Академии изучали очень хорошо. И общую, и военную, и альтернативную. Вадиму не составило никакого труда понять, о чём говорит Император. Он с ходу успел оценить изящество придуманного Олегом названия операции. Очень, очень к месту. Если не Сильвия, конечно, эту мысль ему подкинула. Да нет, вряд ли. Она всё же англичанка по основной профессии.
— Слушаюсь, Ваше Величество. Ошибки Павла Первого, принявшего под своё покровительство Мальту, но не сумевшего её удержать, постараюсь не допустить. В пределах своей компетенции. Лишь бы у вас очередной Растопчин[92] не нашёлся…
Это прозвучало явной дерзостью, но Император был сегодня благодушен, тем более — Сильвия. его незаметно для всех (кроме Ляхова) пальчиками за руку придержала.
— Этого не бойся. Я не Павел. Исполнишь — не обижу…
— Служу России, Ваше Величество!
Василий Звягинцев НЕ БОЙСЯ ДРУЗЕЙ Том I. Викторианские забавы «Хантер-клуба»
Глава первая
Лондонский «Хантер-клуб» существовал в том же собственном здании и в том самом качестве уже почти две сотни лет, невзирая ни на какие исторические и политические катаклизмы, прокатившиеся над миром за эти долгие годы. Собственно, несколько поколений клубменов эти потрясения не слишком и затронули. Как организацию, естественно. С каждым отдельным джентльменом могло случаться что угодно — от осечки карабина во время охоты на льва-людоеда до геройской гибели на фронтах многочисленных войн, какие вела некогда великая Империя во всех уголках земного шара. Но организм жил, представляясь его членам почти бессмертным.
Скорее всего, большинству граждан даже цивилизованных стран никогда не удастся достигнуть такого положения в обществе, чтобы быть представленным хотя бы одному из сорока пяти постоянных членов клуба. Стабильное число «сорок пять» восходит не к известному роману Дюма, а всего лишь к калибру любимого карабина одного из отцов-основателей клуба, сэра Уильяма Юарта, внедрившего у охотников моду на нарезное оружие. Ещё меньше шансов у любого, как угодно богатого нувориша быть приглашённым в число десяти (столько патронов входило в подствольный магазин легендарного «слонобоя») членов-соревнователей[1].
Зато жизнь члена клуба была более чем прекрасна. Круглосуточно несли службу многочисленные вышколенные лакеи, отбор которых не уступал по строгости отбору в личную королевскую охрану. Многие из них передавали свои места по наследству, о чём свидетельствовали специальные нашивки на викторианских полуфраках зелёного, егерского цвета. Для джентльменов форма одежды была свободная, лишь на специальные, посвящённые какой-либо значимой дате общие обеды полагалось надевать «охотничьи костюмы» — узкие серые бриджи, высокие коричневые сапоги и красные приталенные сюртуки.
Кухня клуба отличалась традиционностью, в ней преобладала дичь и всевозможные «плоды земные», кулинарные изыски в духе изнеженных французов не приветствовались, ставка делалась на свежесть и качество продуктов вкупе с высочайшей квалификацией поваров. Как встарь, в незабвенном девятнадцатом веке. Даже при намёке на какое-нибудь «суси» или «фуа-гра» лица клубменов искажала презрительно-брезгливая усмешка. То ли дело старый добрый «Хаггинс»[2]!
Каждый джентльмен имел на верхних, выходящих окнами в сад этажах отдельную, также наследственную спальную комнату, пусть даже пользовался ею всего несколько раз за всю жизнь.
Но это всё, как говорится у философов, — форма. Гораздо интереснее содержание. «Устойчивые общества», вернее, общества с устойчивой социальной структурой, хороши тем, что разного рода институции могут в них существовать столетиями, эту же устойчивость и обеспечивая. Мало кого удивляет факт существования в европейских странах университетов, основанных в двенадцатом веке, или адвокатских контор — в шестнадцатом. Но невозможно вообразить до сегодняшнего дня функционирующий в Петербурге клуб «лейб-кампанцев», гвардейских солдат и офицеров, возведших на престол в 1741 году «дщерь Петрову», императрицу Елизавету! А ведь тем отважным ребятам сплошь были пожалованы офицерские чины и дворянство, у кого его не имелось. И что? Большинство банально спилось от «вольности» и приличного жалованья, а с наступлением следующего царствования о самом факте существования этой самой «лейб-кампании» велено было забыть, «во избежание излишних аллюзий и неконтролируемых ассоциаций». А могли бы, в иных условиях, и сегодня здравствовать и существовать, как особая, весьма почтенная «страта». Вроде французского «Почётного легиона».
Джентльмены-охотники двести лет подряд видели свою основную функцию отнюдь не в стрельбе по крупной и мелкой дичи, хотя и этим занятием не пренебрегая. Если кто не знает, так умелый стрелок по бекасам, вальдшнепам и им подобным птичкам имеет достаточно оснований гордиться своим мастерством даже и перед гордыми убийцами носорогов.
Скорее этот клуб можно сравнить с тем же «Комитетом по защите реальности» Андреевского братства. Джентльмены сосредоточились на поддержании устоев британского общества, которые они сами, как и их деды с прадедами, считали единственно правильными и справедливыми. Для себя, а значит, и для всей Империи. Изобретали направления внешней политики, создавали и свергали кабинеты министров, выстраивали международные коалиции. Не всё и не всегда у них получалось. Например, не удалось добиться крушения и гибели своего главного союзника в Мировой войне — России. Напротив, переоценив свои силы и надорвавшись, развалилась сама Британская империя, над которой довольно долго «никогда не заходило солнце». И ещё много разных «недоработок» у них случалось, так ведь и технические (а главное — интеллектуальные) возможности клубменов были не сравнимы с таковыми у «Андреевского братства».
Но зато в величественном трёхэтажном здании на Пелл-Мелл джентльмены чувствовали себя, как в надёжном противоатомном убежище на стометровой глубине. Что бы там ни творилось на поверхности, здесь тихо, тепло, уютно, и очень легко отрешиться от мыслей о бренном.
Но отрешаться нельзя. Последние события очень уж раздражали и не могли расцениваться иначе как дерзкий, едва ли не последний и окончательный «цивилизационный вызов», используя термин А. Тойнби.
— Вызов, остающийся без Ответа, повторяется вновь и вновь, — как раз сейчас назидательно говорил вице-президент клуба герцог Честерский. — Неспособность того или иного общества в силу утраты творческих сил и энергии ответить на Вызов лишает это общество жизнеспособности и в конце концов предопределяет исчезновение с исторической арены. Распад общества сопровождается нарастающим чувством неконтролируемости потока жизни, движения истории. В такие моменты с отрезвляющей ясностью выступает действие исторического детерминизма, и Немезида вершит свой исторический суд. Трагедия распада с неизбежностью ведёт к социальной революции…
— Или — к контрреволюции, — то ли перебил, то ли продолжил мысль герцога некий мистер Одли, один из старейших ныне живущих членов клуба. «Ныне живущих» — важная оговорка, поскольку «ушедшие в страну удачной охоты» из списков не вычёркивались и считались всего лишь находящимися в длительной отлучке. Бывали случаи, когда мнение какого-нибудь полковника Флэнагана, изложенное в частном письме или в статье, датированной 1839 годом, вовремя извлечённое из архива одним из клубменов, принималось как вполне правомерное и учитывалось при голосовании современного, текущего вопроса. Это напоминало практику дискуссий знатоков Торы в синагоге. Те тоже не делали различий между доводами, высказанными в конце двенадцатого и начале двадцать первого века. Лишь бы они имели отношение к теме.
— Совершенно верно, что мы и видим на примере последних событий в России, — согласился герцог. — Но это не имеет никакого принципиального значения, ибо там «контрреволюция» явилась не следствием отсутствия Ответа, а как раз самим Ответом, а вот мы, к глубокому прискорбию, на брошенные нам Вызовы давно уже не можем найти достойных Ответов. Империя деградирует прямо с того дня, когда согласилась отказаться от плодов победы в Мировой войне ради весьма условного «вечного мира».
— Недавно попытались, с использованием новейших достижений неизвестной нам науки… — усмехнулся Одли. Он имел в виду попытку учинить в Москве военный переворот с привлечением людей из другой реальности, владеющих аппаратурой нейролингвистического программирования и психотронного воздействия.
— Или — самого дьявола, — сказал мистер Левер, сообразно своим словам внешне напоминавший пастора, но явно не являвшийся таковым.
— Дьявол, насколько я представляю его привычки, непременно исполняет взятые на себя обязательства, — со смешком сказал господин Пейн, один из немногих присутствующих являвший собой тип настоящего охотника «пар екселленс[3]», по крайней мере, официальных постов он не занимал ни в политике, ни в бизнесе, а свои капиталы якобы хранил по старинке, в сундуках со звонкой монетой и драгоценностями. Подобно султану Брунея. Но это уж точно слухи, распускаемые завистниками.
— По крайней мере, известные документы свидетельствуют, что все недоразумения с означенной персоной начинаются уже за пределами этого мира.
— Так там они и начались. Откуда, по-вашему, были приглашены все те люди, что попытались, но не сумели избавить нас от всех раздражающего новоиспечённого царя Олега?
Присутствующие молчаливо согласились с Пейном.
Каждому было понятно, что та история была чересчур невразумительной. Никаким образом не совпадающая с тем, что считается «нормой» у джентльменов, воспринимающих действительность наилучшим из возможных способов. «Охотники» привыкли считать, что в «старой доброй Англии» нет людей умнее и могущественнее их. Во многом они были правы. Но «во многом» не значит «во всём». Бывают моменты, когда безусловные преимущества превращаются в явные недостатки.
…Из всего вышесказанного следует, что данное заседание клуба происходило «во второй реальности», то есть в той, где существовал Император Олег. Но, как бы странно это ни выглядело с «позитивистской» точки зрения, оно точно так же могло (а значит, и происходило) в «первой», Главной исторической последовательности. Время — оно иногда весьма пластично, а иногда и инвариантно[4], если ему самому этого хочется. Таким образом, невозможно с достоверностью утверждать, в каком из две тысячи каких-то годов на самом деле общались почтенные джентльмены и в какую именно реальность открывалась (или открылась бы) входная дверь клуба в тот или иной момент. В полном соответствии с принципом Шредингера[5]. Достаточно иметь в виду, что в каждом фиксируемом случае подлинной остаётся лишь одна из реальностей, а другая и последующие обращаются в гипотетические. Впрочем, это утверждение справедливо только для рассматриваемого случая.
…Около двух лет назад в клубе появился странный джентльмен весьма почтенного вида. Вопреки ещё при Дизраэли утверждённым правилам он был пропущен охраной у входа, а старший лакей проводил его прямо в кабинет мистера Одли, как раз в то время исполнявшего обязанности дежурного вице-президента.
— Каким образом вы осмелились явиться сюда без приглашения? — демонстративно-бесцветным — для знающих его людей весьма угрожающим — голосом спросил вице-президент в ответ на вежливое приветствие незнакомца. При этом он уставился на лакея, допустившего столь вопиющее нарушение Устава: не только впустить «человека с улицы» в здание, но и сопроводить его через анфилады кабинетов, курительных комнат и иных помещений, нарушив покой отдыхающих клубменов и, более того, — позволить ему увидеть то, что посторонним видеть никак не полагалось.
— Но, сэр… — растерянно начал лакей. — Господин предъявил… Я не мог…
Незнакомец остановил его уверенным жестом.
— Оставьте нас, Кид. — Он правильно назвал служителя по имени.
Не желая затевать перебранку в присутствии лакея, Одли движением руки подтвердил распоряжение «гостя». Лакей удалился, всем своим видом изображая оскорблённое достоинство человека, честно и буквально исполнившего свой долг.
— Итак? — спросил вице-президент.
— Да, именно так! Ваш лакей поступил единственно возможным для него образом, — нежданный гость протянул вице-президенту «клубную карточку». Настоящую, изготовленную из толстого лакированного картона со всеми положенными эмблемами, надписями и подписями. К великому удивлению и шоку мистера Одли — восьмидесятилетней давности!
Но — подлинную, в этом вице-президент не усомнился ни на мгновение. Он, состоящий в клубе полсотни лет, ещё застал джентльменов, имевших такие же, полученные в первой четверти прошлого века. Да и фамилия владельца карточки была ему знакома. Без подробностей, естественно — слишком велика разница в возрасте. Одли мельком удивился собственному спокойствию. Впрочем — чему удивляться? Какое-то объяснение данному факту непременно найдётся. Не случайно ведь было введено в давние времена правило «вечного членства», не из одного только стремления к экстравагантности. Очень может быть, что подобные «явления» случались и раньше. А что сам он ни о чём таком не слышал, ещё ничего не значит.
— Извините, сэр Арчибальд, — сказал вице-президент и потянул с полки толстый том, содержавший рукописные формуляры всех клубменов, начиная с самого первого.
Вот, всё верно, под номером, совпадающим с номером карточки, значится сэр Арчибальд Боулнойз. Год рождения — тысяча восемьсот восьмидесятый, принят в действительные члены по баллотировке в тысяча девятьсот двадцатом. Скончался в тысяча девятьсот шестьдесят девятом.
— И где же вы, достопочтенный сэр, находились последнее время? — мягко осведомился Одли. — Теперь я вспомнил, мы с вами встречались несколько раз. Но вы тогда посещали клуб крайне редко по причине преклонного возраста, а я, наоборот, вёл слишком активный образ жизни и тоже не слишком часто появлялся в Лондоне…
О том, что он и на похоронах сэра Арчибальда присутствовал, вице-президент из деликатности умолчал. Не самый важный эпизод. Как-нибудь позже к этой теме можно будет вернуться.
— Должен заметить, что сейчас вы выглядите гораздо… свежее.
Гость поблагодарил за комплимент, взял сигару из радушно подвинутой к нему коробки.
— Ничего удивительного, сейчас мне приблизительно пятьдесят лет, и чувствую я себя превосходно. Но давайте по порядку, иначе у нас ничего не получится.
В течение ближайшего получаса сэр Арчибальд сообщил Одли, что практически одинаковых «Хантер-клубов» существует как минимум три. Настоящий согласимся считать пока единственно подлинным, раз они сейчас тут находятся и беседуют. С этим не поспоришь.
Но ведь и тот, где сэр Арчибальд получил своё удостоверение, в смутное время окончания Мировой войны и попытки установить новый, приемлемый для Грейт Бритн порядок непременно имел своё место в истории.
И ещё один — находящийся как раз посередине между ними — тоже со счетов не сбросишь. Притом что местопребывание клуба оставалось тем же самым, да и больше половины его членов совпадали документально и физически.
Голова у мистера Одли слегка поплыла, но не настолько, чтобы он потерял возможность рассуждать в пределах своей должности.
— Итак, я понял, сэр Арчибальд, — сказал вице-президент, щедро наливая себе и гостю шотландского виски. Если мозги и так едут, чего стесняться? Вдруг хоть чуть поможет. — Вы, пользуясь правами клубмена, пришли ко мне через сорок лет после своей смерти. Я не ошибся?
— Само собой, нет, почтеннейший сэр. Только это вас не должно пугать. Я не призрак, не посланец «князя Тьмы». Я просто попытался вести себя в соответствии с нашим Уставом. Вы, вступая в клуб, не выразили протеста или хотя бы удивления по поводу присутствия покойников в качестве «действительных членов»?
— Нет, — согласился Одли, на самом деле плохо понимая, что происходит, и сделал очень большой глоток.
— Совершенно правильно поступили. Диссиденты у нас никогда не приветствовались. Любое сомнение толкуется не в пользу баллотируемого, не так ли?
— Не смею спорить. На том клуб стоит и стоять будет.
— Вот мы и подошли к сути. Никто из нас, покинув бренный мир, не умирает насовсем. В христианской традиции подразумевается, что «жизнь вечная» где-то там, в райских кущах или кругах ада. На самом деле всё выглядит проще и одновременно сложнее, как учит философия. В течение множества веков, промчавшихся до изобретения пароходов, трансокеанского телеграфа, а потом и аэропланов, человек, отправившийся в дальнее плавание, подобно Колумбу, Магеллану и многим другим, не вернувшись в срок, становился для родных и близких таким же покойником, как и те, что зарыты в землю на ближайшем кладбище с соблюдением положенных обрядов.
— Не могу возразить, — кивнул Одли, вопреки привычке сделав сразу два глотка, ненамного меньше первого. Гость тут же подлил ему ещё, до прежней отметки на стакане.
— Но при этом вышеозначенные лица вполне могли отнюдь не сгинуть в океанской пучине, а высадиться на райском острове и прожить там долгую и счастливую жизнь, намного лучшую, чем, скажем, в унылой, раздираемой религиозными войнами и вымирающей от чумы Европе. Согласны?
— Ни малейших сомнений, сэр. — Вице-президент начал находить в словах Боулнойза проблески истины, обещающие превратиться в настоящее зарево, сметающее тьму заблуждений.
— Теперь осталось вообразить, что поселенцы «райского острова» между делом построили реактивный самолёт и прилетели навестить друзей. Как по-вашему — сходится?
— В шестнадцатый век? — удивился Одли.
— Да какая вам разница? — ещё более удивился сэр Арчибальд. — В шестнадцатый, в двадцать первый… Я материален? — Он протянул руку, чтобы собеседник мог её потрогать. — Моя членская карточка в порядке? Если нет, давайте вынесем вопрос о правомочности моей персоны на общее собрание действительных членов. И мне бы очень хотелось посмотреть, — с саркастической улыбкой произнёс он, — какие доводы смогут пересилить основополагающие пункты нашего Устава.
— О чём вы говорите, достопочтенный сэр! — воздел руки Одли. — Никто о подобном и помыслить не в состоянии. Только мне хотелось бы узнать — чем вызван ваш сегодняшний визит. Едва ли только желанием просмотреть последние выпуски «охотничьего бюллетеня» и удостовериться в квалификации нынешнего поколения поваров…
— Тут вы полностью правы. Я бы хотел ближе к ужину встретиться с директоратом и Советом клуба. Общее собрание — неработоспособный орган. Вы уж не сочтите за труд потревожить названных мной особ, а я буду ждать в курительном салоне. Здесь сейчас есть кто-нибудь из настоящих стрелков?
— Да вот как раз собираются обедать Гамильтон-Рэй старший, он, кстати, член Совета, с ним два его сына и три внука. Внуки ещё молоды, самому старшему двадцать один, но впоследствии…
— Старина Гамильтон-Рэй! — воскликнул сэр Арчибальд. — Его ведь звали как-то так… А! Джеймс Авраам! Когда ему тоже было двадцать с чем-то лет, как его внукам, я учил его одному хитрому приёму брать упреждение при стрельбе по бекасам. К сожалению, я вскоре умер, не имел возможности убедиться в плодотворности своих уроков.
— Я думаю, сэр, он будет рад видеть вас за своим столом, — со странной интонацией сказал Одли.
Сэру Джеймсу Гамильтон-Рэю было уже прилично за семьдесят, но выглядел он удивительно бодро для своего возраста, настоящий викторианский джентльмен, хоть портрет лорда Джона Рокстона[6] в старости с него пиши. И сыновья были на него похожи, и даже внуки. Их имена сэр Арчибальд запоминать не стал, за ненадобностью.
Самое удивительное, что и старина Джеймс сразу узнал ветерана. Хладнокровием он не уступал майору Мак-Набсу[7]. Да и в самом деле — как реагировать настоящему «хантеру» на появление человека, считавшегося давно умершим? Не под стол же лезть, отмахиваясь крестным знамением, или вообще обратиться в бегство под изумлёнными взглядами потомков. «Чёрная пантера из Ширванапали» была пострашнее, особенно когда в руках у тебя винтовка жалкого калибра «ноль двадцать два»[8]. Хорошо хоть «лонг», а не «курц».
— Давненько вас не видно было, сэр, — сказал Гамильтон-Рэй, дождавшись, пока лакей примет заказ у Арчибальда. — Как всегда, виски?
— И именно ирландский. Вы же не изменили своим вкусам?
— Как можно, — чопорно поджал губы тот. — Сто сорок лет Гамильтон-Рэи выписывают продукт с одной и той же фермы. Вы не забыли его вкус?
Арчибальд посмаковал, прищёлкнул языком:
— Нет, не забыл. Он тот же самый, что прежде. Признаться, я по нему иногда скучал.
— Там невозможно даже выпить хорошего виски? — явно представления сэра Джеймса о загробном мире были чересчур оптимистичны. Это его слегка опечалило.
— Нет, что вы! Проблем никаких, просто в вашем обществе, из вашего личного графина — совсем другое дело, чем походя, в случайной забегаловке…
Сыновья и внуки, ничего не понимая, слушали тем не менее с почтительным интересом. Им приходилось, штудируя сотни подшивок ежеквартального «Бюллетеня» (без знания которого не стоит и надеяться на членство в клубе), встречать фамилию Боулнойза, даже собственноручно написанные им отчёты и заметки. Отец и дед тоже упоминал о своей дружбе с этим достойным человеком.
Правда, молодые люди, воспитанные в конце прошлого и начале нынешнего века, воспринимали положение о «вечно живых» клубменах не иначе как чисто риторическую фигуру, вроде постулата о «непорочном зачатии» или «непогрешимости Римского папы, наместника Бога на Земле». И вдруг увидели одного из них воочию.
Арчибальд и Джеймс тем временем пустились в пространные рассуждения именно на эту тему. Гамильтон-Рэя, несмотря на крепкое здоровье, сам возраст подталкивал проявить интерес к своей грядущей судьбе. В частности — является ли членство именно в «Хантер-клубе» непременным условием и особой прерогативой, или «яхтсмены» и «жокеи» тоже вправе претендовать на загробное существование с использованием прежнего тела? Пусть в качестве парадно-выходного облачения.
Арчибальд объяснил, что, насколько ему известно, такие понятия, как «существование» и «несуществование», достаточно условны. В каждом конкретном случае они должны рассматриваться как совокупность весьма рациональных и глубоко мистических элементов. В силу исторически сложившихся условий большинство основоположников клуба значительную часть жизни провели в индийских, а не каких-нибудь других колониях Империи, где и прикоснулись к совершенно определённым сферам эзотерики. К моменту принятия положения о «вечном членстве» (сороковые — пятидесятые годы XIX века, ещё до Сипайского восстания, весьма осложнившего отношения «честных охотников» с йогами, магараджами и даже махатмами) большинство клубменов отчётливо представляли, что под этим термином подразумевается. Знали способы переходов из обычного тела в «тонкое» и «эфирное», имели представление о «нирване» в буддистском и джайнистском смыслах и вполне допускали возможность собственных реинкарнаций, в том числе с сохранением исходного облика и нужного объема личной памяти.
Потом — да, несмотря на обилие в архивах клуба «пыльных хартий», содержащих почти всю нужную теоретическую информацию, истинное знание постепенно превратилось в «догматическую шелуху»: непонятный большинству анахронизм вроде левостороннего движения. Однако ведь именно левостороннее движение по дорогам средневековой Европы было практически оправдано: правая рука обращена к встречному, а меч и копьё поворачиваются туда автоматически, без затруднений. Попробуйте наоборот рубить и колоть, через шею и туловище собственного коня!
— Я, был момент, ушёл от вас, под воздействием непреодолимой, но благожелательной силы. Это не совсем приятно в общепринятых понятиях. Но привыкаешь легко. Вы, молодой человек, — обратился он к старшему из сыновей Джеймса (его звали Айвори[9], хорошее имя для «хантера»), — в армии служили?
— Так точно, сэр Арчибальд, начинал энсином[10], да и сейчас…
— Быстро привыкли?
— За год привык.
— Вот и я примерно так же. Зато теперь — удивительное чувство свободы. Как если бы вас, Айвори, направили командиром парусного капера в океан при отсутствии радиосвязи.
— Интересно было бы, — сказал младший брат, Льюис, сорокадвухлетний, примерно, мужчина с лицом скорее бизнесмена, чем бесшабашного охотника. А старший выглядел именно таковым. Отчего и казался гораздо симпатичнее.
— У вас всё впереди, — крайне благожелательно пообещал Арчибальд.
Невзирая на предостерегающий взгляд отца, Айвори продолжал:
— Вы умерли? Сорок лет назад? Вам сейчас должно быть примерно сто двадцать?
— Смотря как считать. В посмертии время утрачивает свою линейность. — Арчибальд достал из нагрудного кармана пиджака очень длинную и очень дорогую сигару. Раскуривал её преувеличенно долго, заставляя окружающих молчать, наблюдая за плавными движениями длинной фосфорной спички, из тех, что перестали выпускаться сразу после Мировой войны.
— Но если вас что-то смущает, я попрошу — встаньте, подойдите к вон тем шкафам в углу, достаньте первый попавшийся том.
Мужчина посмотрел на отца, тот едва заметно опустил подбородок. Этого было достаточно.
Айвори принёс книгу, точнее — подшивку рукописных текстов. На белой, голубоватой, жёлтой бумаге. Тряпочной, тростниковой, рисовой и даже на новомодной по тем временам типографской из дерева. Она как раз сохранилась хуже всего.
— Откройте на любой странице, — предложил Арчибальд. — Читайте вслух…
«…Ранним утром тринадцатого февраля восемьсот тридцать седьмого года мы выехали из Джайпура. Вдалеке, в густой туманной дымке виднелась гора с отвесными склонами, на вершине которой помещался дворец магараджи Амбер. У её подножия ждали боевые слоны, единственно способные доставить нас к воротам. Признаюсь — это очень неприятное ощущение, когда твои ноги свешиваются над бездонной пропастью, а слон движется таким непривычным, дёрганым шагом, что кажется — в любой момент подпруги седла могут лопнуть, и ты полетишь туда, откуда нет возврата. Мы с сэром Генри несколько раз прикладывались к нашим флягам и в конце концов благополучно достигли окованных толстыми железными полосами ворот. Там нас встретили…»
Читал Айвори хорошо, глубоким голосом и с выражением, пытаясь воспроизвести интонации очень давно умершего человека.
— Достаточно, я думаю, — сказал Арчибальд. И обратился не к отцу, не к сыновьям, а непосредственно к внукам:
— Вы что-нибудь поняли?
— Да, — ответил, кажется, самый младший. — Сейчас мы несколько минут слышали голос, воспринимали чувства живого человека. Он говорил нам — «я», «мы», и мы видели то же, что он сто семьдесят лет назад. Он был жив только что…
— Как и я, — сказал Арчибальд, снова беря в руки стакан виски.
Никуда не спеша, почтенный охотник приступил к рассказу. Заинтересованные слушатели, удивительным образом немедленно забывшие о своих сомнениях и о том, сколь рациональный век царит за окнами обеденного зала, внимали ему. Внимали так, как было раз и навсегда принято в этих стенах ещё до открытия водопада Виктория и истоков Нила. Никто за мелькнувшие и рассеявшиеся, как пороховой дым «нитроэкспресса», десятилетия не позволил себе не то чтобы вслух, даже внутренне усомниться в достоверности изложенных коллегами фактов, случаев, обстоятельств, приёмов. Это влекло немедленное и скандальное исключение, с изъятием клубного галстука, а главное — перстня, с перекрещенными на алмазной плакетке золотыми ружьями. И то и другое — из «копей царя Соломона», никак иначе.
И опять, как пресловутое «левостороннее движение», это жёсткое до беспощадности правило (ибо исключённый из клуба терял свой социальный статус так же безусловно, как Оскар Уайльд, посаженный в тюрьму за гомосексуализм) имело практический смысл. Настоящий «хантер» должен верить товарищу беззаветно. Пусть он что-то преувеличит в рассказе о длине убитого крокодила, но уж никогда не соврёт, описывая методику сбережения капсюлей для штуцера в дождевых лесах Итури или изображая на собственноручном чертеже единственную убойную точку в голове белого носорога.
Сэр Арчибальд объяснил суть взаимоотношения трёх параллельных миров, в которых существовал клуб, а главное то, что, пользуясь известными эзотерическими методиками, каждый из «действительных членов» умирает лишь в одном из них, в крайнем случае — в двух. Имея возможность сохранять самоидентификацию (не всегда совпадающую с телесной, но духовную — обязательно). Самое же главное, помимо того что выражение насчёт «страны удачной охоты» приобретает буквальный смысл (нет никаких препятствий для посещения «позднего мезозоя» или «раннего кайнозоя» хоть с рогатиной, хоть с «ПЗРК»), настоящий клубмен не забывает об основном смысле своей жизни.
При упоминании о нём, о смысле, и Джеймс, и его сыновья слегка напряглись, будь они российскими гвардейцами, непременно встали бы и звякнули шпорами. Но и так всё было понятно.
Однако Арчибальд продолжил, не считая, что намёка достаточно.
— Одной из главнейших целей существования клуба является борьба с Россией. Желательно, конечно, чужими руками. Нет больше в мире силы, способной противостоять британским устремлениям. Со времён Ивана Грозного, потом от Петра и до Николая II Великобритания все свои действительные усилия направляла на противостояние этой варварской державе!
— Простите меня, достопочтенный сэр, — позволил себе вмешаться один из внуков. — Мне кажется, что последние пятьдесят лет не Россия, давно утратившая свой агрессивный потенциал, а Соединённые Штаты всемерно нас унижают. Мы знаем, что сегодня американцы на почти подсознательном уровне считают нас не более чем своим доминионом с рудиментами былого величия. Нас, молодое поколение, это раздражает гораздо сильнее, чем монархические эксперименты так называемого Местоблюстителя. Да и потом…
— Оставьте, молодой человек, свой идеализм. Когда придёт время, США, нация выскочек и парвеню, снова склонится перед британским вызовом. Мы — творцы смыслов и демиурги истории. Американцы — тьфу! — Он сделал жест, будто сдувая пушинку с ладони.
— А вот Россия — вечный враг. Даже когда она будто бы не делает ничего, она угрожает нам больше, чем американцы, китайцы и «Чёрный интернационал», вместе взятые. Наше совместное существование на этой Земле невозможно без окончательного решения вопроса о глобальном первенстве.
— Да как же? — удивился юноша, явно хорошо знающий историю и сопряжённые с ней науки да вдобавок старающийся мыслить с позиций объективизма. — Если как следует разобраться, действительно вреда Россия Британии никогда и не наносила. За исключением совсем, по нынешним меркам, незначительных трений по ближневосточным и среднеазиатским вопросам. А уж тем более с тех пор, как все мы, равноправные члены ТАОС, сплотившиеся перед лицом общей для всех угрозы, общими силами защищаем «свободный мир». И русские штурмовые бригады — в первых рядах, от Англо-Египетского Судана до джунглей Бирмы.
Старый Гамильтон-Рэй смотрел на внука неодобрительно. Не стоит в этих стенах произносить такие слова. Особенно — в складывающихся обстоятельствах. Что-то ведь значит внезапное появление сэра Арчибальда? Без участия высших сил дело явно не обошлось, и, значит, они или сочувствуют его позиции, или он вообще вещает с их голоса.
А если эта молодёжь, нахватавшаяся «прогрессивных идей», не научится сдерживать свои языки, не бывать им членами клуба, он сам проголосует «против». Позор для семьи, конечно, но «твёрдость основ» важнее.
Сомнения сэра Джеймса нашли своё подтверждение ближе к вечеру, когда собрались члены правления и Совета клуба, оказавшиеся в пределах досягаемости.
Достопочтенным джентльменам, столь же подчинённым идеям позитивизма и «научного знания», тоже потребовалось время, чтобы вдуматься в очевидную дилемму. Кое у кого возникли веские сомнения — а не является ли назвавшийся Боулнойзом господин обыкновенным мошенником, избравшим столь нетривиальный способ с неясной пока целью внедриться в их закрытое от чересчур суетного мира сообщество.
Гораздо ведь проще предположить такое, нежели всерьёз поверить… И принцип Оккама никто не отменял. На том стояла и стоит Британия: «Простейшее объяснение — наилучшее».
Хорошо, что среди «хантеров» имелось достаточно людей, остротой ума, способностями к дедуктивному[11] и индуктивному[12] мышлению не уступающих Шерлоку Холмсу, патеру Брауну и иным светилам криминалистической логики. Иначе бы они не могли исполнять своей исторической функции, далеко выходящей за пределы собственно охоты на протяжении столетий. В конце концов, первым прототипом «Хантер-клуба» был «Круглый стол» короля Артура[13].
Так, господин Одли, немедленно после того, как проводил гостя обедать, вызвал к себе начальника службы безопасности клуба и предложил ему немедленно провести дактилоскопическую экспертизу отпечатков, оставленных воскресшим «Боулнойзом» на стакане, и сличить их с имеющимися в его личном формуляре.
Процедура поголовного дактилоскопирования членов была введена сразу же после того, как этот метод был признан научным и достоверным. Причём отпечатки делались пальцев не только рук, но и ног. По роду своих занятий джентльмены иногда попадали в такие ситуации, что только крепкие сапоги или ботинки сохраняли пригодный для идентификации материал: лев запахом крепкой ваксы побрезговал, или верные кафры выдернули остатки саиба из пасти крокодила в мутной речке Лимпопо. Всякое случалось.
К большому удивлению вице-президента, дактилокарты совпали полностью, удостоверив личность старого джентльмена. Конечно, при желании можно было выдвинуть следующую гипотезу, предположив, что предварительно был подменён сам формуляр, но тогда проблема начинала уходить в «дурную бесконечность»[14].
Пришлось бы заподозрить (а в чём, собственно?) несколько десятков высокопоставленных господ, имевших доступ к конфиденциальным документам клуба за последние четыре как минимум десятилетия… Во-первых, это выглядело слишком скандально, а во-вторых — невозможно представить цель, оправдывающую столь экстравагантные средства.
Одним словом, самым узким кругом руководства было решено счесть сэра Арчибальда вновь реально существующим, полноправным членом и в качестве такового — выслушать его со всем вниманием.
Означенный сэр в третий раз повторил, что хотя и действительно «скончался» в здешней реальности, но продолжил своё существование в двух других, подобных, но «не вполне конгруэнтных». Что в принципе относится и ко всем прочим почившим клубменам. Просто у них пока ещё не возникало необходимости, а также и желания «вернуться» именно сюда, а у него она появилась.
— И где же пребывают в настоящий момент наши дорогие друзья и коллеги? — спросил герцог Честерский, более всего, судя по его взгляду и тону, заинтересованный именно этим.
— В тот «настоящий момент», что вы невольно подразумеваете, их бренные останки покоятся в родовых склепах или должным образом оформленных могилах. В любой из других «возможных моментов» они вольны заниматься всем, чем считают нужным. Я, например, в реальности номер три (по моему счёту) проживаю в Бомбее, в собственном поместье, и в свободное время, приезжая в Лондон, по мере сил способствую приходу к власти в Германии национал-социалистов во главе с неким Гитлером в надежде, что через какое-то время он вступит в союз с российскими коммунистами и они вместе уничтожат уродливое геополитическое образование — Югороссию, возникшее на обломках Российской империи и сумевшее таки захватить Константинополь и Проливы.
По залу прошёл возмущённо-недоумённый гул.
— Спокойно, коллеги, я ещё не закончил. В третьей реальности я проживаю в тысяча девятьсот двадцать пятом году, и там мне, как и положено, — сорок пять лет. В некоторых случаях я перемещаюсь в конец девяностых годов двадцатого века реальности номер один, где продолжаю борьбу за окончательное сокрушение остатков России, семь десятилетий существовавшей под псевдонимом СССР. В этой реальности мы добились наибольших успехов, отбросив извечного врага к границам почти что семнадцатого века. Теперь я прибыл к вам, чтобы и здесь добиться сопоставимых результатов. Час настал, и в руках у нас имеются и силы, и оружие, а главное — могучие союзники.
На этот раз реакция присутствующих была оживлённо-одобрительная.
— Скажите, сэр Арчибальд, а там, где вы бываете, наш клуб также существует? — прозвучал волнующий всех вопрос.
— Несомненно! Я ведь с этого и начал наше собеседование. Клуб существует, кое-где он более силён и могуч, чем здесь. И многих из вас я встречал там совсем недавно… Они вас приветствуют, передают наилучшие пожелания и надеются на скорую встречу.
Прозвучало довольно двусмысленно, но в общей эйфории этого почти никто не заметил. Британцы в определённых обстоятельствах умеют поддаваться эмоциям не хуже каких-нибудь итальянцев.
А сейчас ведь случилось нечто совершенно невероятное. Христос и предыдущие боги тоже обещали людям «жизнь вечную», но в довольно абстрактной, а главное — не поддающейся проверке форме. Сейчас же уважаемый и некоторым из присутствующих лично знакомый джентльмен явился, чтобы засвидетельствовать возможности личного бессмертия, причём в наиболее приемлемом варианте — с сохранением и физического облика, и памяти. Самое главное — эмоционального настроя тоже.
— А доказательство, сэр, хоть какое-нибудь доказательство! — поднял руку герцог Честерский. — Если вы недавно виделись со мной, не сказал ли я что-нибудь такого, чтобы вы могли окончательно рассеять мои… Нет, не сомнения — я никогда бы не позволил себе сомневаться в слове старшего товарища. Просто нечто вроде пароля, чтобы окончательно убедиться, что вы — это вы, я — это я, и в потусторонних мирах с нами не происходит никаких изменений личности и аберрации памяти.
Боулнойз рассмеялся. Одновременно добродушно и язвительно.
— Вы удивительно проницательны, Рамфорд. — Он назвал герцога по имени. — Безусловно, мы обсуждали возможность подобного вопроса. Там, то есть здесь же, вы занимаете свой пожизненный пост, и я специально озаботился переговорить, отправляясь сюда, именно с вами. Чуть позже вы поймёте, почему именно. Извините, господа, никому больше я никаких известий не доставил. Я всё-таки не почтальон, — с хитровато-огорчённым видом он развёл руками.
— А себе, Рамфорд, вы просили передать, что известная реликвия вашего рода нашлась. И если вы не производили последние тридцать пять лет перестановок в вашей фамильной библиотеке, она находится во втором зале, на пятой полке восьмого стеллажа. Между страницами первого полного издания Даниэля Дефо[15].
— Благодарю вас, Арчибальд, — внезапно задрожавшими губами ответил герцог. Очевидно, известие это было столь для него важно, что ничто другое его сейчас больше не интересовало.
— Извините, джентльмены, я вас покину на несколько минут, — сказал вице-президент и быстро вышел. Наверняка к телефону, звонить жене или дворецкому. Что это за реликвия, никто из присутствующих никогда не слышал, но, поскольку род герцога восходил к временам Вильгельма Первого, в крайнем случае — Второго, она могла быть чем угодно, вплоть до карты с обозначением местонахождения Чаши Святого Грааля. Сама Чаша между страницами книги просто не поместилась бы.
Пока Честер отсутствовал, Арчибальд объяснил присутствующим, для чего вообще приходится периодически умирать в одной из реальностей.
— Вообразите, как выглядел бы в глазах общества наш клуб, если бы столетние члены продолжали считаться юнцами. Никакие войны и никакие самые отчаянные охоты не обеспечили бы нормального демографического баланса. А так ротация происходит естественным образом. Я, например, решил вернуться и снова пожить здесь. Поскольку наши формуляры не являются открытыми для прессы, равно как и для полиции и прочих организаций, моё регулярное появление в клубе абсолютно никого не заинтересует. Просто нет в Лондоне людей, способных сопоставить достаточно бодрого мужчину зрелого возраста с умершим сорок лет назад девяностолетним старцем.
Будучи действительными членами клуба, так же в своё время поступите и вы. Если я сочту нужным открыть вам этот способ. — Голос Арчибальда прозвучал обнадёживающе и угрожающе одновременно. Каждый из услышавших его отреагировал по-своему.
Но «общим» ответом ему были сдержанные аплодисменты. По команде Одли лакеи обнесли всех шампанским. Виски в графинах и так стоял на столах.
Вернувшийся герцог производил впечатление не просто избавившегося от сомнений человека. Он выглядел так, словно только что получил из рук короля «Орден подвязки». Арчибальд мог теперь не сомневаться, что при голосовании по любому вопросу вице-президент будет на его стороне. А в отсутствие настоящего президента (этот пост был вакантным уже восемнадцать лет по причине неспособности джентльменов «демократическим путём» договориться об устраивающей всех кандидатуре) у «вице» голосов было два.
Когда Боулнойз вышел в туалетную комнату (физиология у него была вполне человеческой или выглядела очень правдоподобно), герцог догнал его, точнее — последовал за ним.
Подождал, пока тот вышел из кабинки, помыл руки и причесался, протянул сигару. Если у Одли виски был с фамильного заводика, то у Честера — сигары с плантаций в Британской Гвиане, где девушки-самбо[16] скручивают их, без всякой техники, на своих пышных, лоснящихся под тропическим солнцем бёдрах. Из нигде больше в мире не произрастающих табаков.
— Давайте без церемоний, Арчибальд.
— Конечно, Рамфорд, — старый охотник раскуривал сигару, может быть, слишком долго, но получил всё предполагаемое процессом наслаждение. — Конечно, без церемоний. К чему они теперь?
— Я убедился: то, о чём вы говорили, оказалось именно там, где вы сказали…
— Меня не интересует, что именно…
— Понимаю. Вы и так можете узнать всё, что угодно.
— Я бы так не сказал, — осторожно ответил Арчибальд. — Абсолютного знания не существует, как и абсолютной истины. Следовательно…
— Да оставьте вы ваши парадоксы. Я прочитал «Портрет Дориана Грея» пятьдесят лет назад и помню наизусть все высказывания сэра Генри. То, что я получил с вашей помощью, позволяет мне сегодня же подать прошение об отставке, забыть все наши «якобы важные дела» и погрузиться совсем в другие аспекты бытия. Вы именно этого хотели? Чтобы я подал в отставку и оставил вакансию для ВАС? За ВАС проголосуют сто процентов Совета. — Сделал короткую паузу, длиной в затяжку, и, как бы между прочим, добавил: — Сегодня!
— Какая чепуха! — с эмоциональным напором ответил Арчибальд. — Я хочу совсем противоположного! Чтобы сегодня мы заполнили вакансию и избрали ВАС Председателем Совета и Президентом Клуба. В одном лице! И это тоже пройдёт, вы согласны?
— Да, — снова пыхнул сигарой герцог. — Сегодня. Но зачем это ВАМ? — он опять выделил местоимение тоном.
— Война, дорогой Честер, переходит в новую стадию. Я имею в виду нашу вечную войну с Россией. В одной реальности мы почти всё проиграли, в другой — многое выиграли. Остаётся третья попытка — здесь. Знаете, как на прежних турнирах. С боевым оружием. Король Генрих поймал острие копья щелью забрала, и история Англии стала другой. Черчилль заключил союз с дьяволом — Сталиным, спас Британию, но проиграл Империю. У нас выбора не осталось. Или клуб всеми силами станет работать на «последний бой», и тогда у нас есть шанс сокрушить Россию сейчас, пока слабый премьер Каверзнев не руководит ничем, а их парламент — Дума — пребывает в полном разброде. Или к власти придёт новый Пётр, а того больше — Сталин в лице царя Олега! Тогда наши перспективы станут очень туманными… Как весь наш Альбион.
— А кто такой Сталин? — спросил герцог.
Глава вторая
Олег Константинович, вживаясь в должность Самодержца, старался руководствоваться стилем и обычаями своих державных предков. Давно уже стало ясно, что так называемые «демократические нормы» работать перестают не только в его стране, но и во всём мире. А если брать за образец поведения прапрадедов, начиная с Николая I (остальные слишком далеки психологически), то всё будет гораздо проще, отчётливее и осмысленнее…
После хорошо прошедшего обеда Государь был в настроении, успев посовещаться час-полтора с генералами армии и гвардии по неотложным вопросам. А в середине ужина, проходившего «по-походному», в специальной беседке на самой окраине Берендеевки, Олег Константинович крайне деликатно намекнул Сильвии, положив ей ладонь на предплечье, что не против затронуть кое-какие вопросы внешней политики наедине с госпожой Берестиной. Мол, врангелевская Россия его в данный момент интересует куда больше, чем «соседняя» РФ. И есть темы, не нуждающиеся при обсуждении в посторонних ушах.
Император удивился, получив слишком прямой и недвусмысленный ответ.
— Вы, наверное, несколько неправильно меня поняли, Ваше Величество, — мягко ответила Сильвия, убирая его руку со своей. — То, что было между нами, никак не может рассматриваться в качестве «прецедента». Эксцесс — не более, хотя и весьма приятный. Простыми словами: я пока что не собираюсь становиться вашей штатной фавориткой. Эта роль несовместима с моими убеждениями и, более того, с миссией, на меня возложенной. Подумайте сами…
Император подумал, с трудом беря себя в руки. Он-то настроился как раз на стилистику предыдущего «эксцесса», тщательно подкорректированного воображением. Однако, как государственный деятель, не мог не согласиться с тем, что дама права. Что же это такое начнётся, если «чрезвычайные и полномочные» послы начнут спать с главами «государств аккредитации»? Безобразие, и никак иначе.
Он представил себе подобное и едва не рассмеялся. Вожделение, вызванное столь ярко отложившимися в памяти анатомическими и прочими достоинствами женщины-посла, прошло, как ничего и не было.
Всё правильно. Всё сказанное его недавней партнёршей совершенно правильно. Он просто на короткое время потерял голову. Бывает, с кем не случалось? Быль молодцу не в укор. Значит — быть по сему. Приключение, о котором не раз приятно будет вспомнить, состоялось, и хватит об этом.
— Ценю вашу прямоту и откровенность, — сказал Олег, приглашая Сильвию присесть в кресло перед круглым столиком на террасе. Время было позднее, парк вокруг императорского терема опустел, только слышалось похрустывание кирпичной крошки под сапогами дворцовых гренадеров, патрулирующих окрестную территорию, да едва доносились от охотничьего домика голоса офицеров, по традиции продолжавших вечер после того, как Император удалился, пожелав остающимся более не стесняться, но и не забывать о завтрашней службе.
Обтянутые серебристыми чулками колени аггрианки отсвечивали под луной, и Император поглядывал на них, как юнкер, ещё не успевший понять, что женские ноги отнюдь не безусловный источник соблазна, а лишь намёк на него в определённых обстоятельствах.
— Вы необыкновенно красивая и умная женщина, — сказал он, с усилием отводя глаза, — мне даже кажется, что из вас получилась бы императрица. Не в том смысле, что вы наверняка подумали, а самовластительница не хуже Екатерины Великой…
— Это вы зря, — легко улыбнулась Сильвия. — Подобная роль меня никогда не прельщала. Как раз в качестве жены и верной подруги сильного правителя я могла бы состояться. Но это — не наш с вами случай, — закончила она фразу вполне жёстко, пресекая всякие попытки Олега развить тему. — Вы моего мужа видели. Зачем мне другой?
…Император вспомнил, как в атакуемой штурмовыми отрядами неизвестных врагов Берендеевке, этой самой, сейчас тихой и романтической, докуривал последнюю перед боем и смертью папиросу, следя за стрелкой секундомера. Как смотрел на него сидящий рядом верный, всё понимающий Красс. И, глядя в тревожные янтарные глаза, он потрепал пса по мохнатому чёрно-палевому загривку:
— Не дрейфь, Марк Лициний, вот-вот подойдут легионы Лукулла…
Но сам уже в такую удачу не верил.
И тут, когда прошло целых сорок пять секунд после назначенного времени, незнакомый поручик из дворцовых гренадеров закричал:
— Ваше Величество!
Олег Константинович раздражённо встал. Папироса не докурена, и сам он не совсем приготовился.
— Что тебе?
— К вам, Ваше Величество!
…По каменной дорожке шёл, твёрдо ударяя подкованными каблуками хороших, даже отличных сапог, абсолютно незнакомый генерал-лейтенант в старинной полевой форме с отливающим воронением шейным крестом. Высокого роста, но всё же пониже Олега, с лицом настолько независимым, что князю на мгновение стало даже тревожно. Хотя куда уж, если умирать в неравном бою собрался.
Руку к козырьку лихо смятой фуражки поднёс, но не совсем привычным образом, и правую ногу, звякнув шпорой, подтянул к левой как-то замедленно. Не так царям представляются.
— Здравия желаю, Олег Константинович. Без титулов обойдёмся. Не тот момент. Генерал-лейтенант Берестин для помощи и поддержки прибыл. Алексей Михайлович. — И протянул руку. Первый.
Великий князь крепко пожал протянутую руку. Если человек, по феодальным, скажем, временам, из своего удела пусть с малой дружиной, но на помощь пришёл, значит, друг он и брат, до смены политической обстановки.
— Искренне рад. Может быть, желаете шампанского с дороги? За благополучное прибытие, встречу и знакомство.
— Можно, — Берестин усмехнулся краем губ.
Камердинер дрожащими руками (тоже умирать собирался) разлил по бокалам голицынский брют.
— И чем же вы нам помочь можете, уважаемый Алексей Михайлович? — спросил Великий князь, делая глоток и закуривая очередную папиросу. За лесом громко стреляли танковые пушки, потрескивали ручные пулемёты и автоматы, изредка ударяли ручные гранатомёты. Уваров держал рубеж. Казачий заслон обещал продержаться ещё час. Потом не патроны — люди кончатся.
— На данный момент я располагаю ударной дивизией со средствами усиления, она может вступить в бой немедленно. Желаете полюбоваться?
Берестин достал из кармана кителя золотой портсигар, как раз по размеру, открыл, протянул Императору.
— Попробуйте, очень неплохие папиросы, «Корниловские» называются.
А сам повернул к губам внутреннюю крышку и почти беззвучно прошептал:
— К торжественному маршу, поротно…
Остальное известно[17].
— Да, всё так, Сильвия Артуровна, — сказал Олег, незаметно, как ему казалось, подливший в бокал шампанского для Сильвии грамм сто коньяку. Обычно дамы такого «коктейля» не ощущают, но по мозгам и эмоциям бьёт крепко. А он не оставлял надежды тем или иным способом продолжить с красавицей неформальное общение.
— Алексею Михайловичу я не соперник. Но в то же время… Мы ведь теперь не совсем чужие друг другу люди? — Олег посмотрел на неё вопросительно.
— О чём речь, Ваше Величество? — сказала Сильвия, отреагировав именно так, как молодая дама, принявшая полный бокал «Огней Москвы»[18]. — Настолько не чужие… Но я ведь на работе?
Тон был наивно-вопросительный.
— Конечно, конечно. Ваша миссия далеко не завершена. Тут ведь дел не на один месяц при самых удачных обстоятельствах…
— Вы совершенно правы, — начала изображать следующую стадию опьянения Сильвия. Взяла сигарету, с долей недоумения попыталась сообразить, с какой стороны у неё фильтр, попала правильно, прикурила.
— Вначале я думала ограничиться несколькими днями, после чего передать свои функции другому человеку, теперь — передумала.
— И в чём причина? — не скрывая интереса, спросил Олег. Может быть, ожидал пусть завуалированного, но комплимента в свой адрес.
— Увидела, что обстоятельства не благоприятствуют. Ваши люди, с которыми я познакомилась, за исключением флигель-адъютанта Ляхова и ещё двух-трёх, находятся не на высоте стоящей задачи.
— Вот это — поподробнее, пожалуйста. — Его слова Сильвии задели и как вождя, и как военного стратега. И неудивительно, притом что он видел, как женщину ведёт. Скоро не о высоких материях говорить придётся, а о совсем даже наоборот.
— Какие же вам нужны подробности? Вы помните положение, в котором оказались в этой самой резиденции, о чём думали и чего ждали, пока не появился вдруг генерал Берестин и полковник Басманов со своими бойцами?
О чём именно думал тогда Олег, она, естественно, не знала, но реконструкции его состояние вполне поддавалось.
— Если бы не Берестин с Басмановым, едва ли мы сейчас с вами разговаривали, — достала до самой больной точки Сильвия.
— Мои офицеры сражались великолепно, — из естественного чувства справедливости возразил Олег. — Вы сегодня видели и Ляхова, и Уварова, и Миллера… Отличные солдаты, готовые стоять до конца!
— Да кто же станет спорить, Ваше Величество? Они и в нашем мире, по нашим меркам — беззаветные герои. Только, снова простите, Олег, героизмы бывают разные. В том мире, которому мы собрались помогать, — героев бесконечно больше. Просто потому, что и войн там было — не в пример, и жестокость тех войн для вас почти непредставима. Я прямо сейчас могу кое-что показать, хоть документальное, хоть художественное. Ваши гвардейцы, во главе с Уваровым (я его тоже запомнила — не думайте), очень мне напоминают героев Брестской крепости. Защищали её до последней капли крови, упаси вас бог вообразить, как именно это выглядело, но тем не менее немцы всё равно дошли почти до Москвы, оставив развалины крепости в тылу. «Погибаю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!» — прекрасный лозунг. Чисто в русском духе. То же самое мог бы воскликнуть и Уваров, и вы лично. Но за один удар часов до «урочного часа» или «третьего крика петуха» пришёл кто?
— Подождите, — удивился Император. — Опять — Брест? У нас в Мировую войну был «бессменный часовой», простоявший на посту пятнадцать лет в подвалах крепости, а в том мире — тоже Брест, и снова…
— Ну, наверное, там располагается какая-то причинно-следственная аномалия, — пожала плечами Сильвия. — Куда более мощные крепости, вроде Новогеоргиевска, ничем таким не прославились. Но я ведь говорила о другом: мужчины, солдаты из соседнего для вас мира, умеют воевать неизмеримо лучше. Славнейший из ваших героев вполне сравним с рядовым солдатом оттуда. Просто у них сейчас свои сложности, одной солдатской доблестью не решаемые, и теперь помочь им можете только вы!
Император решил больше не возражать даме, но — не совсем даме, как он начал ощущать.
— Хорошо. Я опять соглашаюсь. Вы умеете появляться неожиданно и неожиданным способом решать якобы неразрешимые проблемы. Но так ли это?
— Судите сами, Олег Константинович. Навязывать своё мнение неподготовленному человеку… С точки зрения Льва Толстого, «попытка убеждения» — это тоже насилие. Я, то есть мы, всё наше «Братство» и «Комитет защиты реальности» как его «действующий отряд», — всегда готовы отстраниться, устраниться… Как вам угодно. Не было бы поздно. Сколько минут вам не хватило, чтобы геройски умереть на этой самой веранде? И сейчас, если бы она не сгорела от снарядов, на ней кто-то другой праздновал бы свою победу. Вам, мёртвому, это было бы безразлично, но как быть с оставшимися в живых?
Император был поставлен в тупик её очевидной софистикой. И возразить нечего, и молчать невозможно.
Ответил он единственно возможным, со своей точки зрения, образом:
— Скажите, Сильвия, оставив в стороне любые дипломатические ухищрения и даже «бытовую логику» — чего вы хотите? Нет, по сути я всё понял сразу. И отдал полковнику Ляхову в вашем присутствии необходимые распоряжения по операции «Мальтийский крест». Всё, что от него требуется, он сделает. Я хочу поговорить… с других позиций. Ибо отдать приказ — возможно, просто под влиянием эмоций — одно. Николай Второй тоже ввязался в Мировую войну, не имея никакой осмысленной цели, кроме как защиты «братушек-сербов» — не лучший пример для подражания. По крайней мере я, пока нахожусь при должности, ничего подобного совершать не собираюсь.
Сознательно же переложить «руль российской государственности» на девяносто градусов, сменить все приоритеты, всю геополитику, наконец — для этого нужны чисто логические доводы и очень точный расчёт — военный, финансовый, политический, психологический. Я должен мыслить государственно и на десять ходов опережая противника, или, скажем, более обще — партнёра.
Сильвия увидела, что при всех своих возможностях недооценила противника. Точнее сказать — кандидата в союзники, а «противник» — просто фигура речи. Противник в шахматах и преферансе на самом деле может быть лучшим другом «по жизни».
Олег, разумеется, человек весьма эмоциональный, в силу гормонального фона — падкий до женских прелестей, отчего и согласился, почти не задумавшись, на идею «Мальтийского креста». А «разрядившись» и начав думать — вновь превратился в прагматичного, жёсткого и очень умного политика.
Он продолжал:
— Со всей вашей военной и какой угодно силой — видел, убедился, вы обращаетесь ко мне. Почему? Что я могу сделать такого, на что не способны вы сами?
— Ну, давайте я объясню в деталях. Не в первый уже раз Россия находится в трудном положении. Как говорил один из министров Александру Третьему: «Ваше Величество, Россия стоит на краю пропасти». На что царь со свойственным ему чувством юмора ответил: «А когда она не стояла?» Сейчас у нас примерно тот же вариант. Разумеется, и на этот раз всё обязательно образуется тем или иным образом, и мир очень скоро снова будет поражён очередным экономическим и политическим «чудом». Другое дело — чего это в очередной раз будет стоить? Выход из Смутного времени при Михаиле Романове (первом и по имени, и по фамилии), петровские потрясения, наполеоновское нашествие, Крымская война и реформы Александра Второго, Японская война, Мировая, три революции… В параллельном мире ещё и пятилетняя Гражданская, коллективизация и индустриализация, двадцать лет локальных войн и грандиозная Великая Отечественная, потом Холодная. Наконец — крушение Советской власти и снова всяческие реформы. Страна, народ просто надорвались. И сколько времени займёт очередной подъём при нынешнем стечении обстоятельств — сказать невозможно. А врагов, внешних и внутренних, меньше не стало. Скорее — напротив. Вы видели карту нынешней России…
— Да, видел и был расстроен до глубины души, — согласился Олег.
— И вот именно сейчас у вас появился шанс стать величайшим из правителей Земли Русской, — в голосе Сильвии появился не свойственный ей, но вполне подходящий к случаю пафос. — Практически без каких-либо жертв вы мгновенно удваиваете свою территорию, получаете сто сорок миллионов новых подданных, причём не инородцев, не индусов, малайцев или зулусов, а своих соотечественников, с весьма высоким образовательным и интеллектуальным уровнем, во многом превосходящим таковой у большинства жителей вашей Империи.
Технический и научный потенциал той России тоже превосходит ваш… Невзирая на события последних двух десятилетий, которые, впрочем, тоже нельзя трактовать слишком уж однозначно.
— Так в чём же дело?
— Я ведь уже сказала. Народ надорвался под тяжестью почти невыносимых «свершений». Другой — просто прекратил бы своё существование в качестве самостоятельной, по-прежнему великой цивилизации. Где Британская, Германская, Оттоманская, Австро-Венгерская империи? А Россия живёт! Вы можете представить, чтобы Австрия, например, нашла в себе силы и вопреки всему осталась столь же влиятельным игроком на мировой шахматной доске, как и до четырнадцатого года? Я уверена, что нынешняя Российская Федерация очередным напряжением сил, очередной «всеобщей мобилизацией» в состоянии вернуть себе лидирующие позиции, но как бы это напряжение не стало последним, за которым наступит распад и хаос мирового масштаба.
Мы предлагаем произвести эффектную рокировку. Вместе с вами сделаем немыслимое. Как на фронте неожиданно для противника заменяют измотанные боями и истощённые потерями дивизии на свежие, переброшенные из тыла, так и мы заменим утомлённый народ на свежий, а нынешний отведём на отдых и переформирование…
Император не сдержал удивлённого возгласа.
— Вот видите, Ваше Величество, — даже вы, скажем так, озадачены. То, что мы обсуждали в присутствии вашего флигель-адъютанта, — чистая правда. Но — не вся. Мои планы идут гораздо дальше…
— Ваши? Ваши личные, не организации? — уцепился за слово Олег.
— Да какая разница? — отмахнулась Сильвия. — Идея общая, но до сих пор никто не брался за то, чтобы должным образом её оформить. В нашем «Братстве» много людей, и у каждого есть свои приоритеты. Как в Академии наук. Одним интересно бабочек изучать, другим — синхрофазотроны строить. Кто-то сейчас занимается исследованиями воздействия на исторический процесс Англо-бурской войны, другие продолжают работать в той самой врангелевской Югороссии, и так далее. Один из наших сотрудников, коренной обитатель и уроженец нынешней РФ, о которой мы и говорим, решил самостоятельно решить все тамошние проблемы. Технических возможностей у него достаточно, но при ближайшем рассмотрении его планов мне показалось, что всё очень легко может скатиться сначала к ситуации эпохи народовольцев, а потом и в самые глубины «инферно»[19]. Вот я и постаралась найти более изящное решение этой «шахматной задачки». Вы не увлекаетесь?
— Одно время — весьма увлекался, было дело — и в турнирах участвовал, в журналах публиковался.
— Тогда вы меня тем более понимаете. Вывести страну из довольно глубокого кризиса без новой крови, политических потрясений, да ещё и так, чтобы никто на очередных реформах ничего не потерял, все только выиграли — очень интересная задача. Вроде как мат в три хода конём и пешкой.
— На мой взгляд — едва ли осуществимая, — скептически усмехнулся Олег.
— Да неужели? А разве ваша идея восстановления самодержавия в XXI веке не казалась большинству политиков абсолютной утопией? И тем не менее — пока всё идёт хорошо.
— Вот именно — пока, — ответил Император. — На пути масса подводных камней и непременные потрясения, которых я жду с не самыми радужными настроениями. Например — надвигается война с Великобританией и, боюсь, не только с ней. На этом фоне затевать ещё и предложенное вами…
— Так в том и суть, Ваше Величество! — с весёлым энтузиазмом воскликнула Сильвия. — Вы привыкли играть в игры с нулевой суммой — сколько один проиграл, ровно столько другой выиграл. А я предлагаю совершенно другое. Выигрывают все, причём намного больше первоначальных ставок…
— Звучит заманчиво. Один вопрос — за чей счёт в конечном итоге? Поговорку про бесплатный сыр, надеюсь, знаете?
— Как не знать. Ответ: «За счёт того, кто покупает сыр для мышеловки», вас устроит?
— Нет, вы совершенно изумительная женщина! — от всей души развеселился Олег. Позвонил в серебряный настольный колокольчик. Велел возникшему на пороге поручику подать ещё шампанского и всего прочего. Грешные мысли он окончательно оставил, но вот желание напоить гостью допьяна и посмотреть на неё в этом состоянии никуда не исчезло. Возможно, таким образом он надеялся компенсировать моментами возникавший при разговоре с нею дискомфорт. Если сказать резче — свою интеллектуальную недостаточность.
Она проявлялась прежде всего в том, что странная женщина очевидным образом опережала его в мыслях, на шаг, на два или на целый круг. Но опыта боевого офицера, учёного, политика, вождя, в конце концов, было достаточно, чтобы иногда это понимать, иногда — просто чувствовать. Она без всяких усилий, без задержки отвечала на любой задаваемый вопрос, причём так, будто заранее его знала. С подобным он в своей жизни встретился только один раз до этого — когда познакомился с тогда ещё поручиком Чекменёвым. Сам Олег был всего шестью годами старше, но — уже подполковником, ещё не Местоблюстителем, но всё равно одним из Великих князей.
Они тогда почувствовали взаимное влечение, как влечение стрелки компаса к магнитному полюсу. Оба были умны, каждый по-своему, обладали взаимодополняющими способностями, причём Олег сразу понял, что амбиции поручика никогда не перейдут известного предела, и решил, что в нём он найдёт, может быть, единственного человека, с которым всегда сможет оставаться самим собой. И за двадцать очень непростых лет ни разу не имел повода пожалеть о своём тогдашнем выборе.
И вот сейчас он увидел многие черты своего помощника и друга в этой женщине.
Её муж, генерал-лейтенант Берестин, ему тоже понравился как солдат и человек. Олег охотно мог назначить его на пост своего Главковерха[20], но «личным другом» не сделал бы никогда. Два медведя в одной берлоге не уживаются. Не в том дело, что такой человек способен учинить заговор и захватить его место. Это невозможно по определению: не Древний Рим у нас, не эпоха «солдатских императоров». Просто близкое общение с подобной личностью вызывало бы постоянные, пусть и неявные, трения, вредные для общего дела.
Оттого и при Врангеле, не слишком сильном полководце, как знал Император из документов, Берестин оставался лишь начальником штаба, хотя и удостоился высшего ордена Николая Чудотворца за номером один. Вояка хоть куда, однако с амбициозными начальниками органически несовместим при всём демонстрируемом уважении и практической незаменимости.
(Олег ещё не знал, как в «реале» Врангель изгнал с должности и из армии вообще генерала Якова Слащёва, величайшего тактика XX века, им же титулованного Слащёв-Крымский. А девятью годами позже и большевики предпочли убить ими же амнистированного генерала, нежели терпеть его издевательские оценки деятельности «красных маршалов» на лекциях в Академии Генштаба.)
«Немедленно нужно вызвать сюда Игоря и познакомить его с Сильвией Артуровной. А самому — посмотреть со стороны, как у них друг с другом отношения наладятся», — подумал Император. Как и подобает особе его масштаба, решение было неожиданное и изящное. Если противник переигрывает тебя позиционно, попробуем комбинационно сыграть.
— Извините, Сильвия Артуровна, мне нужно отлучиться на минутку, — сказал Олег вставая. Сейчас он поступил противоположно принятому в высших кругах этикету. Там считалось, что дама не поймёт, если мужчина вздумает выйти в туалет, не сказав, что ему нужно позвонить по телефону. А Император собрался именно звонить, но не хотел, чтобы гостья догадалась.
— Послушай, Олег, — Сильвия сделала очередной ход, — зачем эти лишние «онёры»[21]? Наедине называй меня на «ты» и просто Си. Обоим же проще будет…
Император ничего не ответил, просто наклонился и поцеловал ей руку.
«Умеет вести партию, не устаю удивляться, — подумал он. — Тем лучше, тем лучше…»
С Чекменёвым его соединили сразу. Генерал, он же «полномочный посол и министр при ООН и ТАОС», по счастью, находился в лондонской резиденции посла барона Гирса, где сейчас велись трудные переговоры с премьер-министром Правительства Её Величества Уоллесом. Трудные для обеих «высоких договаривающихся сторон». Россия старалась не продешевить, по полной использовав имеющееся на руках «каре тузов». Великобритания — не потерять лицо, если придётся сбросить карты, но втайне надеясь, что придёт «флеш-рояль»[22].
Как он может выглядеть в переводе на общедоступный дипломатический язык — пока не совсем ясно было и премьеру, и руководству «Хантер-клуба», создавшего Уоллеса, как в своё время ребе Бен-Бецалель своего Голема. Только Голем был из глины, а этот — вообще неизвестно из чего. Но он сам и его «патроны» надеялись, что и на этот раз фортуна будет благосклонна к «старой доброй Англии» и сумеет учинить нечто подобное внезапной гибели в шторм испанской «Непобедимой армады».
— Как там у тебя? — спросил Олег без предисловий и прочих дежурных фраз.
Чекменёв тоже не был занудой, на подобный вопрос отвечающий пространно и детально. Он сразу понял, что Император имеет в виду совсем другое.
— В пределах. Если карт-бланш не отменяется, я его дожму…
— Отменяется…
На той стороне защищённого кабеля повисла пауза. Если так, то Чекменёву нужны пространные пояснения.
— Одним словом, прикажи Гирсу тянуть резину, с намёком на нашу готовность «войти в их положение», а сам вылетай в Москву немедленно.
— В буквальном смысле? — счёл нужным уточнить Чекменёв.
— В самом.
— То есть — на посольском самолёте? Два часа уйдёт на согласование эшелонов и подготовку экипажа. Сейчас по Гринвичу двадцать три. Часам к пяти Москвы постараюсь прибыть во Внуково.
— Вот и давай. Жду в Берендеевке. Счастливого полёта.
— Только я опасаюсь, что мой срочный вылет может быть расценен самым превратным образом. «Чрезвычайного посла» экстренно отзывают «для консультаций». Это может быть воспринято как начало разрыва дипотношений.
— Да и чёрт бы с ними. Пусть думают. Штатный посол ведь остаётся на месте. А лишняя сумятица в стане врага нам не повредит.
Император положил трубку. Вернулся на веранду.
Сильвия, облокотившись о широкие перила, всматривалась в окружающую терем ночь, покуривая длинную, нездешнюю сигарету. Её очаровавшее Олега платье сзади приподнялось настолько, что открылись ноги до самого верха, во всей красе. Император подумал, что таких ног он до вчерашнего дня ещё не видел. У любой женщины вольно или невольно, но найдутся хоть какие-то дефекты, физические или эстетические. Иногда и сбившийся шов на чулке, и не так поставленный каблук могут вызвать неприязнь (но наверняка — если есть и другая причина, пусть и фрейдистская). Здесь же всё было идеально.
И одновременно — ни малейшего влечения к обладательнице этих ножек он больше не ощущал. Совсем другие игры начались.
— Знаешь, Си, — стал он рядом и тоже закурил, — я немного подумал и решил заключить политический союз лично с тобой. Это ведь немало — личный союз российского Императора с женщиной из другого мира. Знак большого доверия и… порядочный риск, как ты понимаешь.
— Не спорю. В том числе и большая честь для женщины. — Ирония прозвучала весьма тонко, в стиле аристократических салонов, где Сильвия воспитывалась. — Что касается риска — в той России есть интересная поговорка: «Кто не рисковал, тот в тюрьме не сидел». Я заодно надеюсь, что не только мои «чисто женские качества» подвигли тебя на судьбоносное решение.
— Разумеется. «Чисто женские качества» тоже неоднократно оказывали воздействие на судьбы мира. Только я не Антоний, возлюбивший Клеопатру, не какой-то из Людовиков с его фаворитками. Я за сутки знакомства успел разглядеть в тебе надёжного партнёра и, надеюсь, друга. Времена нам предстоят трудные, очень трудные, и я хочу, чтобы можно было положиться не на одного Чекменёва. Хотя бы на равную фигуру из другого лагеря.
Разговор у них пошёл серьёзный, что следовало даже из интонаций Олега. Сильвия немедленно это заметила. Он говорил с ней негромко, раздумчиво, будто бы на ходу подбирая подходящие слова к только что рождающимся мыслям, не заготовленным впрок и не вытекающим из «должностных инструкций». А они у императоров тоже есть, просто не все об этом догадываются.
— Если можешь — вообще забудь о том, что случилось. Не хочу, чтобы «это» стояло между нами, — сказал наконец Олег.
— Забывать — незачем. Если бы я не почувствовала искреннего влечения к тебе, ничего бы не вышло, какой бы ты там ни был император или Казанова. — Сильвия говорила с Олегом сейчас так, как много раз случалось разговаривать друг с другом людям, слишком уж эмоционально тонким и одновременно слишком рассудительным.
— Однако ты тоже прав, Олег, другие нас ждут дела. Если сумеем с ними справиться — и об остальном поговорим. Ничего не исключаю. Что ты собрался сказать сейчас?
— Ближе к рассвету сюда должен подъехать человек, с которым, как я надеюсь, вы сработаетесь. У меня нет времени заниматься сиюминутными проблемами, у меня, боюсь, новая мировая война на носу. Я ему передам все связанные с «Крестом» заботы.
— А я думала — ты Ляхову всё препоручил, — прикидываясь наивной, сказала Сильвия. — Мне он понравился. Симпатичный юноша и решительный офицер.
— Ему найдётся где проявить свою решительность, — слегка излишне резко ответил Император. — А тот, кто приедет, — будет замещать меня по всем действительно государственным вопросам.
— Как интересно. — Сильвия сделала лицо и улыбку типичной блондинки из модных последнее время анекдотов. Всё, что нужно знать о Чекменёве, она знала с момента первого пересечения реальностей. Но лично действительно не встречалась. — Введи в курс, хоть предварительно. Чтобы я знала, как себя с ним вести.
— Приедет — сама определяйся. Не хочу портить «первое впечатление». Достаточно сказать, что он моё единственное по-настоящему доверенное лицо в государстве…
— Неужели же? Как можно править, опираясь на «единственное доверенное лицо»?
— Я не совсем точно выразился. Видишь ли, вокруг меня множество сановников, истинно преданных людей, но мне не очень нравится иметь дело с нерассуждающими (где-то они, может, и рассуждают, но не со мной и не в той тональности). Великое счастье — иметь рядом человека преданного и рассуждающего. Поэтому судьба мне послала Чекменёва. Он безусловно предан, у него искренне такие же взгляды, как у меня, и в то же время он всегда готов отстаивать свою позицию, в определённом ракурсе, в своём понимании. Я как бы имею самого себя себе в собеседники. Для человека, находящегося на такой вершине, это редкое счастье. Человеку можно доверять безусловно, и в то же время он не поддакивает бесконечно, как большинство сановников, не встает навытяжку, а способен высказывать своё мнение и не отступаться от него. Достойный собеседник и при этом — преданнейший союзник, навсегда, а не к случаю…
— Если это действительно так, тебе на самом деле повезло. Из меня такое «альтер эго» не получится, при каждом удобном случае я буду доводить тебя до белого каления несовпадением наших взглядов и логик. Единственное, что могу обещать, — это будет искренне и для пользы дела.
— Я догадываюсь, что примерно так и будет, — сказал Олег, — но готов рискнуть, как уже говорил. Но сейчас я о другом хотел спросить. Или ты пойдёшь отдохнуть часа четыре-пять, или мы с тобой в разговорах за бокалом вина так и будем его здесь дожидаться?
Сильвия в отдыхе не нуждалась, естественно, с гомеостатом на руке она могла без сна и отдыха добраться хоть до вершины Эвереста, однако решила, что отдохнуть следует Олегу. Не каждый и тридцатилетний мужчина после общения с ней и многочасового застолья выдержит ещё одни напряжённые (в этом она не сомневалась) сутки.
…Чекменёв, чтобы зря не терять времени, побрился уже в самолёте, там же переоделся в мундир. Император не любил, когда военные люди без крайней необходимости появлялись перед ним в штатском. В аэропорту его ждал небольшой четырехместный вертолёт Управления. Перед ним по площадке несколько нервно прохаживался исполнявший здесь его обязанности полковник Тарханов. Генерал поднял его в два ночи, Сергей только-только прилёг после очередного трудного дня, и — пожалуйста!
Наскоро собрал документы, которые, по его мнению, могли заинтересовать начальника. Впрочем, думал Тарханов, едва ли экстренный вызов к Императору мог быть связан с их службой. Чекменёв достаточно давно отошёл от оперативных дел, и всё, что требовалось, Олег Константинович мог выяснить лично у Сергея и в более разумное время.
Тут что-то другое, явно внешнеполитическое, поскольку внутри страны всё спокойно, за это начальник управления спецопераций и фактический врио начальника Главного разведуправления штаба Гвардии мог ручаться в пределах своей компетенции. Не к европейской ли войне дело идёт? Тогда подобная срочность может иметь смысл. Но и то едва ли. Тарханов достаточно соответствовал должности и по ходу дела успел справиться по своим каналам — не поднят ли по тревоге кто-то из старшего войскового комсостава. Нет, и штабисты и строевики продолжали мирно почивать в своих резиденциях. Да и непосредственно в Берендеевке тоже царило внешнее спокойствие. Информаторы Тарханова непременно доложили бы, если вдруг что…
Единственный интересный штрих — Вадим Ляхов минувшим днем выехал туда же, в придворной форме и в сопровождении некоей дамы. О даме у агента никаких данных не имелось. Будь момент серьёзным, Ляхов непременно поставил бы друга в известность, об этом у них имелась твёрдая договорённость. Очень возможно — в обязанности флигель-адъютантов и такая функция входила — повёз самодержцу «на погляд» кандидатку в очередные пассии. Интересно, кого бы это? Вадим абы с кем, хотя бы и из «света», связываться не станет.
Но тогда при чём тут срочный, как на пожар, прилёт Чекменёва?
Если связать то и другое воедино — интересный вариант получается. Ляхов разыскал где-то даму, располагающую информацией высшей степени важности, информация эта Государя настолько заинтересовала… Ну и так далее. А где, без участия ГРУ, Вадим мог такую даму отыскать? Вот то-то и оно.
Довольный результатами своего анализа, Тарханов, расправив китель под ремнём, пошёл навстречу генералу.
…По дороге к Берендеевке успели обменяться мнениями. Предположение Сергея показалось Чекменёву заслуживающим внимания. В любом случае никакие другие гипотезы в схему не монтировались без швов и лишних деталей.
— А Катранджи последнее время на горизонте не рисовался? — уточнил на всякий случай Чекменёв.
— Смотря в каком смысле. В плане предыдущих рассуждений мы обсудили возможности его снабжения оружием. Ляхов всем занимается. Я ведь в те миры особенно не вхож, ты знаешь. Вадим вёл какие-то переговоры с правительством Врангеля и одним крайне хватким и изобретательным евреем. Не Розенцвейг, конечно, но личность примечательная. Нечто вроде Гинцбурга и Захарова[23] в одном лице. Должны были на нейтральной территории обсудить разные схемы снабжения «Интернационала» неидентифицируемым вооружением. Но в детали я не вдавался.
— На нейтральной — это где? — на всякий случай уточнил Чекменёв.
— В девятьсот двадцать пятом или двадцать шестом году, я сам уже слегка запутался. Это тоже ляховская прерогатива, ему Император прямое поручение дал. Где-то на острове Мармор в Мраморном море. Там у Югороссии экстерриториальная военная база. Очень удобно для организации транспортировки снаряжения на Ближний Восток.
Тарханов кое о чём умолчал, зная непростые отношения Чекменёва с Ляховым, да и поговорку о том, что если умеешь считать до десяти, вовремя остановись на семи, никто не отменял. В спецслужбах только дурак даже прямому начальнику открывает все свои карты.
— Хорошо, об этом позже, — отмахнулся генерал, которого вертолётная дрожь и гул нервировали куда больше, чем предстоящие дела.
Удивительно, но и по прошествии достаточного времени не только разговоры, но просто попытки размышлять о хитросплетении исторических линий и параллельных реальностей вызывали у Игоря Викторовича раздражение и одновременно — томительную скуку. Как при решении квадратных уравнений на уроках математики в кадетском корпусе. Проще всего списать у соседа и тут же об этом забыть.
— Давай всё же хоть вчерне прикинем, какие к нам с тобой могут возникнуть вопросы и как на них отвечать.
…Отвечать, по счастью, им ни на что не пришлось. В основном — слушать.
То ли Император торопился высказать прямо на месте всё, что хочет, то ли свежего воздуха ему не хватало, но деловой разговор начался сразу же на ведущей от вертолётной площадки через лес прямой, как Николаевская дорога, сосновой алее.
С Сильвией Тарханов и Чекменёв ранее не встречались, и она произвела на них стандартное впечатление: неконтролируемое мужское восхищение пополам с профессиональным уважением. И тот и другой сразу разглядели в ней коллегу высокого класса. Вдобавок — тоже сразу обоим — она напомнила девушек-«валькирий». Типажом и неуловимо похожим стилем поведения. На гораздо более высоком уровне, разумеется.
Тем более присутствовавший при встрече своего «как бы» начальства (на самом деле он был достаточно условно подчинён лишь Тарханову, да и то только по одной должности, которую занимал почти на «общественных началах») Ляхов утвердительно кивнул в ответ на вопросительный взгляд Сергея. «Из этих, мол, инопланетных, что ли?»
Государь же, представляя Сильвию, достаточно обтекаемо назвал её «одним из руководителей дружественной нам организации». Впрочем всё это было, так сказать, данью протоколу, потому что, не затребовав от Чекменёва никаких отчётов о его английских делах, Олег сразу перешёл к делу. И изложил ситуацию так, как сам захотел её видеть и понимать. Что вот, мол, господа, долг платежом красен, и как нас с вами здесь недавно очень выручили доблестные русские войска под командованием генерала Берестина, так теперь и мы должны помочь нашим братьям из другой России. И присутствующая в нашем кругу госпожа Сильвия Артуровна Берестина прибыла сюда, чтобы согласовать вопросы сроков и масштабов этой помощи.
Чекменёв слегка удивился самой постановке задачи. О какой, собственно, помощи может идти речь, если, по его данным (вот и пригодилась информация Тарханова), как раз Югороссия в очередной раз оказывает сейчас помощь нам, пусть и косвенную, по известной Императорскому Величеству проблеме. Взявшись снабдить, совершенно бесплатно (в денежном выражении, естественно), несколько сот тысяч ибрагимовских боевиков весьма совершенным и никак с нынешней Россией не увязываемым оружием. В полном ассортименте — от карабинов «СКС» и «РПГ-7» до самоходок «САУ-100». Мало того, что такие конструкции и используемые боеприпасы нигде в этом мире не производятся, так ещё и маркировка сделана какими-то иероглифами, острова Пасхи, допустим. Инструкции по применению отпечатаны на немецком или французском языках. Любые эксперты впадут в ступор, пытаясь понять, что это такое и откуда взялось.
А вот каких-либо сведений о том, что самодостаточная Югороссия нуждается в какой бы то ни было поддержке с нашей стороны, по заслуживающим доверия каналам не поступало.
Сказано это было хорошо, как раз в стиле Игоря Викторовича. Одним пассажем он довёл до сведения сюзерена всё, что хотел, дав понять, что и за пределами Отечества остаётся в курсе всех дел, как явных, так и тайных. Император это понял и оценил истинно византийскую тонкость царедворца.
— Не о той России речь, — благосклонно ответил он и предложил Сильвии самой прояснить обстановку, имея в виду, что, если вопрос о реализации «Мальтийского креста» будет решён положительно, скорее всего, как раз генералу Чекменёву придётся выступить в роли куратора — наместника Высочайшей особы.
— У меня и других забот достаточно, — излишне категорично и сухо ответил Чекменёв.
При этих словах он покосился на стоявшего чуть в стороне Ляхова.
— С полковника это ответственности никаким образом не снимает. Как я и решил — вся техническая сторона операции за ним. А ты, Игорь Викторович, постарайся, чтоб и дело шло, и ваши функции с прерогативами сильно не пересекались. Если нужно, я позабочусь.
Расставив всё по своим местам, Император решил больше не вмешиваться, просто послушать, как сложится разговор между официально представленной генералу «посланницей» и его ближайшими помощниками.
Успело уже как следует рассвести, шестой час утра пошёл, но плотные тучи, затянувшие восточную часть небосвода, не позволяли пробиться солнечным лучам. От этого окрестности царского терема выглядели несколько нереально, как вообще всё происходящее здесь и сейчас. Тяжёлый, вроде дымовой завесы, туман, ползущий между кустами и низкими лапами вековых елей, скрывал рельеф местности и близкие постройки. Очень хотелось уйти отсюда, не смотреть и не чувствовать на лице холодную липкую сырость. Зажечь бы камин, отгородившись от мира толстыми бревенчатыми стенами и непробиваемыми дверями.
Из леса сильно пахло смолой, из ближней березовой рощи — прелью палых листьев, что, по народным приметам, обещало скорый дождь, по всей видимости — обложной. Между кустами затаились упорно не желающие рассеиваться ночные тени.
Все, за исключением Сильвии, толком выспаться не успели, а день обещал быть не менее длинным и многотрудным, чем предыдущие сутки.
Олег предложил пройти в чайный павильон, расположенный весьма живописно на берегу небольшого пруда в японском стиле.
— Ни то, ни это, — сказал Император. — Ни утро, ни ночь. Петухи своё отпели. Отдохнуть я вам позволю, хоть до обеда, а пока перекусите с дороги, да так, приватно, сомнительные вопросы обсудим. К примеру, стоит ли вообще Рубикон переходить? Обратно вернуться бывает гораздо труднее.
Ляхов повёл Сильвию и Тарханова по узкой, окружённой густыми кустами в росе тропинке к парадному входу на закрытую веранду, а Император с Чекменёвым чуть приотстали и как бы невзначай свернули к соседнему крыльцу, с которого дверь вела в ещё одно уютное, изукрашенное лаковой мебелью и шёлковыми картинами помещение.
Имелись моменты, о которых следовало обменяться мнениями с глазу на глаз.
— Ты всерьёз решил в это ввязаться? — спросил генерал без обиняков. — Предупреждаю — я был против тех экспериментов с «боковым временем», слава богу, удалось их аккуратненько свернуть до более подходящего случая. Не раз говорил, что не желаю иметь никаких дел с «югороссами», а нам сейчас явно что-то ещё похлеще навязывают. Дамочка эта… Что-то взгляд у неё слишком пронзительный для остального облика. В любовницы ещё сгодится, а политикой я с ней поостерёгся бы заниматься.
Их отношения допускали подобные вольности, Чекменёв был в курсе почти всех увлечений Императора за последние пятнадцать, как минимум, лет, поэтому Олег только усмехнулся.
— За что я тебя и ценю, Игорь, — говоришь, что думаешь, — ответствовал он, довольный тем, что может сейчас открыть буфет, налить себе обычный «тычок» (без которого мысль работала несколько вяловато) не на глазах у гостьи. Отчего-то при ней делать это в шесть утра не хотелось. Обычно ему мнение посторонних по поводу любых своих поступков, тем более — привычек, было глубоко безразлично. В смысле придворного, военного и любого другого этикета Император был столь же безупречен, как британский принц Уэльский, будущий король Георг — в смысле законодательства в моде. А если что-то кому-то вдруг (что очень маловероятно) показалось бы несоответствующим — имелась в запасе историческая фраза Николая Первого: «Это полк одет не по форме!»[24]
Но находясь рядом с Сильвией, Олег ощущал странное чувство — он как бы остерегался этой женщины, при самом искреннем восхищении ею же. Вчера, не считаясь ни с какими «приличиями», овладел ею (правда — «при полном непротивлении сторон», как выражался монтёр Мечников[25]) и не почувствовал, что тем самым приобрел над ней хоть долю власти или превосходства.
— Кое в чём ты, разумеется, прав, особа она очень непростая. Из таких хорошие любовницы не получаются. Составишь компанию?
— Пожалуй, — взял чарку Чекменёв. — В самолёте не употребил, хотя и зверски хотелось. Турбуленция, туды её мать. Крылья так и помахивали, будто прикидывали, куда отломаться — вверх или вниз. Не поверишь, мне пришлось стюарда в салоне успокаивать, а не ему меня…
— Чего тут не поверить. Слаба нынче духом молодёжь пошла. Но мы это скоро исправим, — подмигнул соратнику Олег. — На полста лет вперед обеспечим полигон для разминки зажиревших мышц и заплывающих мозгов…
«Что-то не по-хорошему он весел сегодня, — подумал Чекменёв. — Не иначе чем-то эта дамочка его приворожила. Пусть и жена Берестина. Да не пусть, а именно поэтому! Я от него ждал прямых действий, а он свою бабу к Олегу подпустил. Ну ладно, сейчас пойдём, послушаем, глядишь, разберёмся, что к чему…»
Он заранее настроился на жёсткую конфронтацию с «гостьей». В голове крутились слова известной песни: «Нас на бабу променял!» А что у Императора с этой бабой точно вчера или даже сегодня «было», Игорь Викторович уже не сомневался.
«Ещё и в императрицы её возжелает короновать, — мелькнула мысль. — Как Пётр — шалаву Скавронскую…»
Тут, конечно, умный генерал был не прав, сравнивая «урождённую леди Спенсер», едва ли не герцогиню по боковой линии, с дочкой литовского крестьянина. Но, во-первых, о её происхождении Чекменёв ничего не знал, а во-вторых, с профессиональной проницательностью уловил главное сходство — Марта, она же потом Екатерина Первая, обладала изумительной интуицией и в любых ситуациях подчиняла необузданного, резкого и грубого Петра своей ненавязчивой воле. Только ей удавалось спасать от опалы и даже казни провинившихся сановников.
При появлении такой императрицы Чекменёву наверняка пришлось бы удовольствоваться никчёмной синекурой или почётной отставкой. Или, не дай бог, «Наместником в „боковом времени“». Уж не у израильских ли некробионтов?
Генерала аж передёрнуло.
— Ты б меня просветил по дружбе, — попросил Чекменёв, синхронно опрокинув чернёную серебряную чарку, — ввёл в курс дела. Всерьёз. Кто эта прелестница на самом деле, какой у тебя к ней интерес, как мне с ней держаться, на твой взгляд? В чём заключается настоящая польза для России и для нас с тобой, если Рубикон таки будет перейдён? Вот это мне разъясни, пожалуйста.
Никто больше в Империи в таком тоне и в таком плане с Самодержцами последние пятьсот лет разговаривать не осмеливался. И не от страха перед репрессиями (после Павла I какие-либо репрессии в принятом ныне смысле у русских императоров против лиц первых трёх классов как-то вышли из моды[26]), а именно, что не приходило в голову так разговаривать. Если бы пришло, причём без подсказки и заранее гарантированного всепрощения, история России наверняка развивалась бы по другому, новгородскому, например, сценарию.
А вот Игорь Чекменёв, в совсем ещё юном, с точки зрения опытных лиц, окружавших будущего Местоблюстителя, возрасте и незначительных трёх звёздочках на погоне, нашёл подходящий момент и уловил настроение подполковника Романова. Сидя у полевого костра, в обстановке, перекликающейся со стихами поэта-партизана Первой Отечественной войны, а потом и генерала Дениса Давыдова: «Деды, помню вас и я, испивающих ковшами. И сидящих вкруг огня с красно-сизыми носами».
Вот тогда к слову будущий генерал процитировал будущему Императору слова Сенеки: «Я покажу тебе, чего не хватает высшим мира сего, чего недостаёт тем, кто имеет всё. Им не хватает человека, который говорил бы им правду! Высокий сановник в присутствии лживых советчиков теряет всякую чуткость. Он перестаёт отличать истину от лжи, потому что вместо правды он вынужден слушать только лесть. Ему нужен человек, который говорил бы ему, какие из донесений ложны, а какие — нет. Разве ты не видишь, как перед этими властелинами разверзается бездна? И происходит это потому, что они слишком часто доверяли ничтожным тварям. Никто из окружающих властелина не подаст ему совет по внутреннему убеждению; все они лишь соревнуются в подхалимстве, стремясь лживой лестью превзойти друг друга. И, как часто случается, такие властелины теряют всякое представление о своих истинных силах, начинают считать себя непревзойдёнными гениями, впадают в ослепление… Они проливают реки крови, пока наконец кто-то не прольёт их собственную кровь…»[27]
Олегу Константиновичу понравилась не сама цитата — и Сенеку, и многих других мыслителей последних двадцати веков он тоже знал неплохо. Ему понравилась уверенность и, как бы это лучше сказать, бестрепетность молодого офицера. Какой-никакой, а всё ж Великий князь рядом сидит, и чины у них на целый просвет отличаются[28]. Неужели уже тогда Чекменёв разглядел в почти обычном штаб-офицере будущее Величество? И рискнул?
Не вдаваясь в подобные психологические тонкости, спросил он у поручика одно: «А ты уверен, что сам можешь быть человеком, понимающим, какие донесения ложны, а какие — нет?»
И получил ответ из того же самого текста: «Я уверен только в одном — всегда говорил и буду говорить именно исходя из „внутреннего убеждения“. Насколько оно совпадёт с „объективной истиной“ — ручаться не могу. Но, по крайней мере, тот, кто меня услышит, будет иметь возможность сопоставить моё мнение со своим. И с фактами…»
Поручик Чекменёв курил, по привычке разведчика в кулак, выпускал дым в костёр, смотрел на обшарпанные носки своих сапог. Над головами шумела под ветром-баргузином забайкальская тайга, на сотни вёрст вокруг — цивилизационная пустыня. Карабин на боевом взводе лежал справа, на расстоянии вытянутой руки, расстёгнутая кобура нагана — на ремне слева. Над костром закипал закопчённый чайник, неподалёку переговаривались казаки и всхрапывали кони.
Два офицера, не могущие даже на сутки вперёд провидеть свою судьбу, вдруг одновременно подумали о чём-то очень далёком и, скорее всего, несбыточном. Так в этом и есть истинный смысл жизни мужчины и солдата — думать о несбыточном. И надеяться, само собой.
— А ты возьмёшь на себя такую тяжесть? — вдруг спросил Олег.
— «Царям в лицо с улыбкой правду говорить?» — не поворачиваясь, то ли спросил, то ли уже и ответил Чекменёв. И неожиданно понял, что свой выбор уже оба сделали. Теперь осталось одно — воплотить его в жизнь. Чем плохая цель для поручика — посадить своего старшего товарища на пока ещё не существующий престол несуществующей империи? Куда как более интересная, чем выпиливать лобзиком из фанеры микроскопический дачный сортир[29], или проводить никчёмное время, наблюдая за поплавком на речной воде, зная, что даже самый восхитительный улов не окупит и четверти выпитой на этой рыбалке водки.
— Возьму, если ты не против. Но на условиях допустимой обоюдности…
Продолжения не потребовалось. И вот они уже двадцать лет вместе, и до сих пор Чекменёв может говорить что хочет, с улыбкой или без улыбки — это уже зависимо от обстановки и настроения.
— Дама эта — на самом деле жена чересчур уж тебе не понравившегося генерала. Она же, судя по всему, руководит неким «Комитетом по защите реальности». Что это значит на самом деле — чёрт его знает. Точнее — Ляхов очень хорошо знает, Тарханов — более-менее, а мне других забот хватает. Но что между временами можно ходить, как между комнатами собственного дома, ты успел убедиться. О своих нынешних интересах она через несколько минут расскажет вам сама. Не буду предварять, но замысел, как таковой, кажется мне интересным. Касательно же моего морального облика можешь не беспокоиться. Кто там в греческих мифах по этому делу была специалисткой? Цирцея, кажется. Так госпожа Берестина покруче будет. Наше с тобой счастье, если она эти способности для других персон оставит.
— Даже так? — Чекменёв слегка удивился, а потом вспомнил девушек, защищавших его в Одессе, и сообразил, что его сомнения неуместны. Если они из одной команды. Тем едва по двадцать, а воли и неукротимой решительности — на десятерых штурмгвардейцев. Так госпожа Берестина явно и намного старше тех девчонок чином, и лет ей наверняка под сорок, хоть и выглядит немногим старше тридцати. Пожалуй, и вправду не стоит с ней без нужды отношения портить.
— Пойдем, короче говоря, ты всё выслушаешь сам и сам ответишь. Сначала себе, а потом и ей, что сочтешь нужным. От моего имени, как я и пообещал. Только перед каждой фразой хорошенько думай.
Игорь Викторович уже догадался, что думать придётся. Исходя не только из собственных убеждений, но и Олеговых тоже. Да и Ляхов с Тархановым не прогуляться по дорожкам сюда вызваны. Эти ребята, помимо войны, мало кому и нужны. В мирное время, что самое страшное, обязательно образуется зазор между уходом «людей мира» и приходом «людей войны». Точнее — наоборот. «Люди мира» добровольно никуда не уходят. Они или непонятным образом вдруг оказываются на достаточно тёплых тыловых должностях, или очень быстро пополняют списки санитарных и безвозвратных потерь по причине неприспособленности к фронтовым условиям.
Кто-кто, а Чекменёв знал это прекрасно, и страшно ему было вообразить, что на месте Тарханова в Пятигорске оказался бы по всем параметрам выдающийся офицер штаба ГРУ, но — другой. В лучшем случае он выбрался бы из города живой и доставил какие-то разведданные. И его пришлось бы наградить, потому что нельзя требовать от штабного аналитика в одиночку воевать с батальоном. А что он сам увидел бы в курортном городе после трёхдневных уличных боёв — Чекменев не хотел и представлять, тем более вариант «Тарханов» ему для сравнения никто бы не предложил. Так бы и спорили от «самого верха» до местных жителей, кто виноват, и пятьсот своих за шестьсот чужих — это победа или «не очень».
Иные варианты — «ноль за триста» никто и рассматривать бы не взялся, ибо «история не имеет сослагательного наклонения».
Глава третья
…После разговора с Сильвией российский Президент некоторое время пребывал в достаточно расстроенных чувствах. Не в том смысле, что действительно был расстроен случившимся. Напротив, новый поворот сюжета его, скорее, воодушевил. Перед ним открывался горизонт непредставимых ещё вчера возможностей. При условии, что его новые знакомые действительно таковы, какими себя изображают, с заявленными техническими возможностями и геополитическими целями. Обещанная поддержка сразу снимет массу проблем, постоянно, с самого момента вступления в должность, осложнявших ему жизнь, не позволявших в полной мере реализовывать достаточно амбициозные планы и намерения.
Это только со стороны кажется, что президентская власть в России авторитарна и почти не ограничена. За что его не только критикуют, но и прямым образом клевещут многочисленные оппоненты дома и за рубежом. Одни, как тот же «Александр Александрович»[30], обвиняют его в потворстве или даже в сотрудничестве с коррупционерами и иными криминальными структурами, другие — в зажиме демократии, великодержавном шовинизме и едва ли не фашизме. Запад всеми силами, прямыми и непрямыми действиями пытается заставить Президента играть по своим правилам, причём не по тем, что использует сам во внешней и внутренней политике, а специально придуманным для тех, кого считает своими сателлитами или надеется в таковых превратить.
От Китая или Саудовской Аравии ни США, ни ЕС не требуют следовать их пониманию «демократии» и «прав человека», а от России — постоянно и непрерывно, зачастую в самой непристойной форме. Причём такую разницу в подходах нельзя объяснить ни страхом перед мощью Китая, ни «особыми союзническими отношениями» со средневековой теократией. Отнюдь нет. Всё упирается в иррациональную, подсознательную ненависть к России, которая никуда не денется до тех пор, пока вообще существует такое государственное образование, хотя бы ради его уничтожения пришлось вести горячие или холодные войны ещё несколько сотен лет. Не считаясь ни с какими угодно потерями, ни со здравым смыслом.
Вот и приходится непрерывно маневрировать, с оглядкой на массу факторов, соглашений и предрассудков, которые он с удовольствием послал бы по известному адресу. А вот нельзя, по множеству причин, перечислять которые бессмысленно и неприятно.
Политика — это искусство возможного. Предел своих возможностей Президент осознавал вполне, отчего и стал Президентом, а не остался, по Бабелю, качаться на нижних ступеньках веревочной лестницы.
Но теперь, если поверить и «Александру Александровичу», типу интересному, но неприятному своей фанатичной убеждённостью (вроде Савонаролы), и очаровательной, но опасной, как коралловая змейка или паучиха «чёрная вдова», Сильвии, он сможет раздвинуть предписанные ему текущими обстоятельствами рамки.
А он им почти поверил. Причём эта вера определялась не только продемонстрированными «чудесами техники» — впечатляющими, с этим не поспоришь. Зря похожий на фарсового персонажа «Александр» намекнул на отсутствие у Президента раскованного воображения. Оно имелось в полном или хотя бы достаточном объёме. Достаточном, чтобы поверить в реальность межпространственных перемещений, научного анализа близкого будущего, иначе именуемого «ясновидением», и тому подобного. За последние двести лет наука продемонстрировала массу не менее удивительных и даже невероятных, с точки зрения обыденного «здравого смысла», открытий, воплощённых в действующие устройства и приборы.
Президент вдобавок разбирался в человеческой психологии, групповой и индивидуальной, как мало кто другой в его стране (по крайней мере — из тех, с кем приходилось контактировать по должности). И он видел — «Александр» и Сильвия с ним откровенны. Не до конца, конечно, о многом они умалчивали, но в сказанном он не улавливал намеренной лжи. И вполне убедительно звучали слова о том, что лично для себя никому из них ничего не надо. У них и так есть всё — от возможности безнаказанно убить любого человека до неограниченных материальных ресурсов. В таких случаях начинают действовать мотивации высших порядков.
Другое дело, что слова «высшие» и «возвышенные» — не синонимы. Сталин, к примеру, мог бы иметь тысячу пар лучших сапог ручной работы, а годами ходил в одних, старых. Он был «выше» банальных материальных потребностей, но что этот факт меняет, если из «высших соображений» или собственного каприза ему ничего не стоило приговорить к смерти или каторге любое количество людей «невзирая на лица», от близких родственников до всемирно признанных гениев?
Президент, в отличие от «вождя народов», ставил кантовский «нравственный закон» выше сиюминутных интересов, хоть личных, хоть «государственных». С этих позиций он и рассуждал. Если действительность такова, какой ему представляется, значит, в планировании своих дальнейших действий нужно исходить из двух предположений. Допустим, у него появился могучий союзник, которому можно верить. Не ищущий личной выгоды, но озабоченный тем же, чем он. Могущий действовать самостоятельно, нестеснённо никакими законами и «привходящими обстоятельствами», но нуждающийся именно в легитимизации результатов своей деятельности. Абсолютно при этом бескорыстно (в материальном, разумеется, смысле).
С личной властью тоже понятно. Сильвия сказала, что может в любой час объявить себя «Царицей мира», и он с ней согласился — да, сможет. И мир действительно пойдёт за ней после демонстрации нескольких эффектных фокусов или, на крайний случай, — устранения тем или иным способом любого количества оппонентов.
Сразу Президент сам себе не признался (действовала иная установка), а теперь, при здравом размышлении, вынужден был согласиться со словами «Александра» — ему ведь действительно понравилась та манера, в которой с ним разговаривали и он, и Сильвия. Как с человеком, а не с «функцией». Что ж, он постарается соответствовать тому мнению, что сложилось о нём у этих людей.
Только… Только их наверняка удивит факт, что он на самом деле ещё более широко и свободно мыслящая личность, чем они предполагают.
Президент ведь не исключал и прямо противоположного варианта. На самом деле цели и намерения «пришельцев» при тех же исходных посылках можно трактовать совсем иначе. Выводя пока за скобки вопрос об их происхождении, отчего не допустить, что их всё же интересует пресловутая «власть над миром»? Неважно, в какой форме.
Но если их всего несколько человек, они физически не в состоянии использовать свои технические возможности должным образом. С какими угодно приборами нельзя круглосуточно наблюдать за всем и вмешиваться во всё. Обязательно нужен многотысячный техперсонал, вообще аппарат управления, какое-то подобие идеологических и карательных органов… Без этого никакая власть немыслима даже теоретически.
Снова вернувшись к Сталину, Президент подумал, что даже ему, в тогдашних условиях, при наличии победившей и правящей партии, комсомола, профсоюзов и тому подобного, потребовалось больше десяти лет конструировать, неоднократно переформатировать и непрерывно «чистить» систему НКВД-НКГБ. Только после устранения выполнившего свою функцию Ежова и доброй половины его гвардии, от сержантов до комиссаров всех рангов, «органы» заработали так, как от них требовалось.
Новоявленные «друзья» Президента никаким подобным, вообще никаким аппаратом для захвата и удержания власти не располагают. Мифическая «Чёрная метка», организация «честных и болеющих за Россию» сотрудников всякого рода спецслужб, даже если и существует, не может насчитывать больше нескольких сотен человек. Разобщённых по разным ведомствам, единой штатной оргструктуры не имеющих и иметь не могущих.
Поэтому ничего лучше нельзя придумать, как использовать для своих целей готовое государство. Главное в котором не его реальные экономические и прочие возможности, а только и единственно легитимность. От имени государства прямо завтра можно начинать любые, самые радикальные преобразования. Как, собственно, это и делали большевики начиная с победы в Гражданской войне. Раз уж Советская власть существует, никуда вы от неё не денетесь: захотим — НЭП введём, захотим — отменим. Коллективизацию взамен получить извольте. Прямое, ни на какие совершенно законы не опирающееся насилие (как говорил тов. Ленин) и незамаскированный ничем Большой Террор — сколько угодно. Советский народ в едином порыве одобрит и поддержит всё! Как и последующее единодушное свержение этой же «общенародной власти» без всяких нравственных угрызений.
Как раз на этот исторический период пришёлся тот возраст Президента, когда в человеке сочетается всё самое лучшее — молодость, достаточная эрудиция, незашоренный ум, эмоциональность, уже избавленная от юношеской восторженности и щенячьего энтузиазма. Хорошо он помнил пресловутую «перестройку» и всё дальнейшее. И сейчас склонен был думать, что, появись эти или другие «пришельцы» двадцатью годами раньше, лучшего варианта, как подчинить своей воле всего лишь одного человека и заставить его действовать по своему сценарию, они бы придумать не смогли. Дальше система заработала бы сама. Сигнал на входе, ожидаемая реакция на выходе. И никаких тебе социальных потрясений, войн и революций. Всё идёт по плану, строго по плану, непременно «в духе решений» съездов и пленумов.
Сам он в роли тогдашнего генсека оказаться бы не хотел. Но вот в состоянии ли он в одиночку противостоять подобному, если это не конспирологическая фантазия, конечно, а суровая действительность?
Выдержит не выдержит, а деваться некуда. Он тоже на свой пост определён, не только чтобы протокольные мероприятия проводить, ленточки разрезать и ордена раздавать. Возложена и на него некая миссия, если из сотен тысяч ровесников, не худших, в чём-то наверняка и лучших, именно он сидит в этом кабинете и мучается «проклятыми вопросами». Как командир попавшей в окружение армии. Выбор есть. Один — генерала Власова. Другой — генерала Кирпоноса[31]. Но были ещё и третьи. Из окружений выходили, абсолютно безвыходные ситуации в свою и Отечества пользу превращали, маршальские погоны всего через три года получали. Вот он и постарается быть «третьим». А малоизвестная пьеса Константина Симонова называется «Четвёртый». Там тоже интересный вариант поведения обычного человека рассматривается.
Он поднялся из-за стола в состоянии весёлой бодрости. Интеллектуальная задача решена — и, кажется, неожиданным, изящным способом. Мыслей читать «друзья-пришельцы» наверняка не умеют, мысль — слишком неформализуемый объект, а вот в словах, произнесённых даже с самыми верными друзьями наедине, нужно быть предельно осторожным. Имея в виду всё те же технические возможности своих партнёров.
Президент отправился в спортивный зал и целый час приводил себя в нужное физическое состояние сначала боксом на специальных тренажёрах, умеющих при неверном выпаде дать сдачу не хуже Майкла Тайсона, потом в бассейне.
На ближайшие двое суток он решил удалиться от текущих дел, благо отчёта давать не имел необходимости никому. «Желаю поработать с документами», как говаривал один из его предшественников на этом посту. А ещё более ранний тиран и диктатор выезжал на свои дачи, хоть подмосковные, хоть кавказские, вообще никому ничего не объясняя. Не царское это дело.
«На хозяйстве» есть кого оставить, остальное — моя компетенция.
У Президента, как у любого нормального руководящего лица этого уровня, имелся собственный, «внутренний», так сказать, «кабинет». Или — «Совет безопасности», ни в каких законах и уложениях не прописанный. Тесный круг личных друзей, заведомо не связанных ни с какими другими структурами отношениями финансовыми или политическими. Чем Президент втайне гордился. Не каждому правителю удаётся подобным образом подкрепить собственную должность.
Сталин, неожиданно часто приходящий сегодня на память, первым делом избавился от всех людей, знавших его в предыдущем качестве, имевших моральное или какое-то другое право считать его «обычным человеком», с которым можно говорить на «ты», знать и помнить слова и поступки из совершенно другой реальности. В качестве каприза тиран мог позволить кое-кому из них жить, иногда даже неплохо, но всё равно — это была жизнь канатоходца на проволоке. Нет, не так, намного хуже. Что канатоходцу? Прошёл — не прошёл, упал — не упал, что заработал, то и заработал.
А вот если ты фактически первое, как Калинин, или второе, как Молотов, лицо в государстве, и всего лишь партийный секретарь, легитимной власти не имеющий, сажает твою жену (у обоих, кстати) в тюрьму на «десятку строгого». Твои действия?
Ты униженно кланяешься и соглашаешься. Вождь ведь оставляет тебя при должности и всех привилегиях, и ты это принимаешь. Иногда плачешь, как слабак Калинин, чугунно крепишься, как Вячеслав Михайлович. Посылки женам отправляете, а они, бывает, «не доходят» по причине «естественных почтовых трудностей» и «недоработок органов на местах». А ты служишь, «наступив на горло»… Чему, интересно? Маяковский — «собственной песне», а тысячи ближних слуг режима? Загадка истории или просто — психологии?
Казалось бы, на месте того же Молотова или начальника охраны Власика — пусть не золотой табакеркой, мраморной пепельницей в висок товарищу Сталину или из пистолета в лоб. И тут же по телефону объявляй о «постигшей нас невосполнимой утрате» и о том, что, несмотря ни на что, партия ещё выше поднимет знамя и ещё теснее сплотится…
Обдумывая следующий день, Президент очень много рефлектировал. Нормальная интеллигентская привычка, лишь бы она не заходила слишком далеко. Всегда есть рубеж, где надо переходить к действиям.
Не погружаясь ниже времён Петра Великого, соотносил текущие обстоятельства с опытом предшественников. Разница оказывалась исчезающе мала, если не обращать внимания на вполне несущественный антураж. И проблемы стоят перед Державой одни и те же, и способов их решения за пределами ранее использованных трудно придумать.
Президент, никак этого не афишируя, с момента прихода к власти свой идеал правителя (с поправкой на время, естественно) видел, скорее всего, в Николае Первом. Этот Государь, будучи очень интеллигентным и мягким от природы, по крайней необходимости санкционировал казнь всего лишь пяти главных «декабристов», и этого оказалось достаточно. Больше никаких заговоров и беспорядков в его правление не случалось. Вдобавок царь имел высшее инженерное, а не среднее военное, как другие самодержцы, образование, и все тридцать лет своего правления с утра до вечера работал, рассматривал и подписывал бумаги, путешествовал по стране, учил искусству управления своего наследника. И, что самое важное, не отдавался на волю бюрократии, предпочитая окончательные решения принимать самому. А чтобы держать собственную «вертикаль власти» под неусыпным контролем, были у него верные, без лести преданные друзья — Бенкендорф и Аракчеев, впоследствии незаслуженно ославленные, как и сам царь, либеральными историками.
Точно так и Президент: уже на подходах к должности он понял, что и как бы ни складывалось, близкие друзья у него останутся, причём останутся в прежнем качестве. Их было не так много, но каждый — только и именно друг. Не желающий извлечь какие-то дивиденды из прошлого, не стремящийся к постам и власти, не настроенный обогащаться сверх некоторого, довольно скромного уровня, дозволяющего определённый комфорт и независимость, но и не более того.
Исходя из личных качеств каждого, он предложил им государственные должности, внешне не слишком заметные, но с серьёзным «потенциалом влияния», особенно при согласованных действиях. Своеобразный «серый кабинет» во главе с «серым» же «кардиналом». Одни согласились, другие под разными предлогами отказались от официального статуса. Но при этом выразили готовность в случае необходимости помочь взлетевшему на вершину власти другу «словом и делом», «без гнева и пристрастия».
Пока что необходимости использовать эту структуру в полном объёме её возможностей у Президента не возникало, разве что примерно раз в месяц встречались в переменном составе неофициально, для обсуждения отдельных ситуаций, по которым у него не складывалось сразу собственного мнения. Но теперь он решил, что критический момент наступил. Доводить до сведения посторонних полученную информацию и суть непонятных, но уже вызвавших нервозность и напряжение в президентском окружении, правительстве и бизнес-сообществе событий он пока не считал нужным. Если всё же имеет место невероятно тонкая мистификация — стань она достоянием гласности, он рискует как минимум авторитетом в условиях и так достаточно нестабильной политической обстановки. Но если происходящее — правда, выпускать из рук сведения, способные перевернуть всё мироустройство, — та самая ошибка, которая хуже преступления.
Зато обсудить положение, в котором он (а точнее — все они) оказался, с близкими друзьями и выработать с их помощью линию поведения для следующей встречи с представительницей «Комитета по защите реальности» (надо же такое придумать!) — в самый раз. В его личную честность они поверят, никаких сомнений, а вот как истолковать случившееся и какие действия предпринять — станет ясно в ходе «мозгового штурма». Подобным образом у них было принято действовать со студенческих времен.
Президент не верил в способность «пришельцев» — так он для простоты продолжал называть «Александра» и «Сильвию» — контролировать все существующие каналы информации и даже заглядывать в близкое будущее. Если бы это было так — какая необходимость им назначать личные встречи? И без них узнали бы всё, что интересует…
Но, как известно, бережёного бог бережёт.
Один из друзей негласно курировал Службу охраны, он и обеспечил прикрытие отъезда Президента на одну из редко используемых дач, «Охотничий домик» в двух сотнях километров к северо-западу от Москвы. Подготовил сопровождение и группу обслуживания из абсолютно надёжных людей. Прочие участники «тайной вечери» добирались на место самостоятельно, разными маршрутами, будто вообразив себя персонажами давно прочитанных «шпионских романов». Предосторожность, скорее всего, совершенно излишняя, по своему статусу эти люди никак не могли находиться под постоянным и плотным наблюдением собственных или чужих спецслужб, но… Кто же на самом деле всю правду знает?
К вечеру первого из трёх отпущенных на размышления дней на даче, надёжно отгороженной от внешнего мира десятком километров труднопроходимой лесной чащи, болотами и четырехметровым забором, снабженным всеми современными средствами охраны и обороны, собрались все приглашённые. Удивлённые не тем, что их вдруг собрали, а тем, что это не случилось намного раньше. Поводов хватало. А тут неожиданно, без предварительных разговоров — и всех сразу!
На всякий случай из гостевого помещения были убраны телевизоры, компьютеры и прочие электронные устройства. Электропитание отключено, комнаты освещались многочисленными восковыми свечами. Президент внутренне посмеивался, но не мог не признать, что чем-то происходящее ему даже нравится. Словно перенёсся в девятнадцатый век или просто времена своей юности.
Это тоже послужило темой для предварительного обмена мнениями. Лёгкого, раскованного, ироничного, словно все присутствуют здесь в прежнем, давнопрошедших времен качестве.
— Тогда уж надо было и о дресс-коде позаботиться, — полушутливо сказал товарищ, в своё время талантливый журналист, согласившийся возглавить группу президентских спичрайтеров и заодно — консультант по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации. — Приодеться в соответствующем стиле. У нас сегодня что — чей-нибудь день рождения? — Он обвёл глазами присутствующих. — Прошу прощения, если вдруг запамятовал. Служба протокола недорабатывает?
— Нет-нет, с памятью у тебя всё в порядке, — улыбаясь, ответил Президент. — Никаких достопамятных дат, вообще ничего торжественного. Просто вот захотелось пообщаться, как встарь, за столом посидеть без посторонних, а то и пулечку-другую расписать. Государи-императоры не стеснялись, помимо государственных дел, и в картишки перекинуться, в домино даже. А мы уж больно в официозах погрязли. Вот давайте попробуем. Никакого двадцать первого века за бортом, вообще ничего за пределами ограды. Хоть на сутки. Согласны?
Возражений не поступило, хотя ни один из присутствующих не поверил в столь простое и будто бы естественное объяснение. Не то время и не тот человек Президент. Не говоря о прочем, каждый по своим каналам кое-что знал о событиях последних дней и каждый по-своему случившееся осмысливал и трактовал. Ребята все были с неограниченным доступом к всяко-разным источникам, умеющие думать о вещах, далеко выходящих за пределы непосредственных обязанностей, с использованием исторических прецедентов «от Ромула до наших дней», как писал Пушкин.
Но если «первый среди равных» желает обозначить встречу таким именно образом — кто же будет возражать? Даже интересно, каким образом он, в конце концов, перейдёт к сути дела.
Часа полтора прошло в общих разговорах, касающихся не столько настоящего, как прошлого. От воспоминаний о лыжных походах по Кольскому полуострову и сплавах на катамаранах по алтайским рекам до споров, кто и где именно сыграл «девятерную без трёх».
Даже ужин Президент распорядился подать в старых традициях. Никаких изысков, исключительно то, что было доступно, пусть чисто теоретически, в студенческие годы.
И только когда совсем потемнел небосвод над кронами мачтовых сосен, заметно раскачиваемых западным, сулящим дождь ветром, хозяин застолья, добившись нужного, по его мнению, настроения компании, заговорил о главном.
Его рассказ, разумеется, произвёл впечатление на собравшихся. Все они люди эрудированные, независимо от образования, у кого гуманитарного, у кого технического, были, что называется, «книжными мальчиками», то есть как научились читать в пять-шесть лет, так и до сих пор читали всё, что казалось интересным или заслуживало внимания с точки зрения своих референтных групп. Знатоки фантастики немедленно начали вспоминать названия произведений и фамилии авторов, за последние полвека так или иначе затрагивавших подобную тему. При этом, как и предполагал Президент, в правдивости его слов никто не усомнился. Не принято было в их кругу путать розыгрыши с серьёзными делами. Что допустимо в студенческих компаниях, никак не уместно на нынешнем уровне. Сколь бы свободомыслящими, без лишнего пиетета относящимися к феномену «высшей государственной власти» личностями ни были здесь присутствующие, степень ответственности своего друга за каждое сказанное слово они представляли вполне.
Некоторый момент ошеломлённости и даже растерянности, безусловно, присутствовал. Так любой образованный человек с детских лет вполне разделяет идею Джордано Бруно о множественности обитаемых миров, но наверняка испытает вполне понятный культурошок при личной встрече с инопланетянами. Только в фантастических романах эта встреча обычно переносится героями легче, чем можно вообразить «на почве строгого реализма».
Впрочем, скорее всего, рассуждения о «культуро−» или «футурошоке» можно отнести к разряду очередного интеллигентского алармизма, поскольку весь опыт человечества свидетельствует, что психика хомо сапиенс пластична почти до бесконечности. Ни одно доныне известное техническое изобретение, ни один социальный катаклизм не производили слишком уж сильного впечатления на отдельных личностей и уж тем более на социумы. Хоть изобретение пулемёта или аэроплана, хоть революция масштаба французской или февральской/октябрьской воспринимались подавляющим большинством современников достаточно адекватно, нередко — просто безразлично. Можно сказать — мечты о невероятном вызывали более сильные эмоции, чем их реализация.
Вот и сейчас, после краткого момента осмысления услышанного, сопровождавшегося всеми положенными в подобном случае реакциями, а затем и уточняющими вопросами, отражающими степень заинтересованности каждого теми или иными аспектами ситуации, разговор перешёл в конструктивное русло.
Техническая сторона вопроса единогласно была выведена за скобки. За недостатком достоверных сведений обсуждать тут было нечего. Имеет здесь место факт внепространственного канала связи, «прокола римановой складки» или чего-то другого — никакой разницы. Точно так же, как абсолютно неважно, каким образом функционирует ноутбук — устройство гораздо более непредставимое с точки зрения середины XX века, когда уже появились ЭВМ размером с железнодорожный вагон.
— Таким образом, что же мы имеем? — спросил руководитель аналитического управления администрации, доктор философии, защитивший диссертацию в тридцать пять лет — в те годы, когда практического смысла в этом было не больше, чем в коллекционировании бабочек. — Некие гении изобрели устройство, дающее реальную возможность абсолютной власти над миром, — слово «абсолютной» он по профессорской привычке отчётливо выделил интонацией. — И вместо того чтобы использовать его так, как предпочло бы девяносто процентов «разумных людей», они начали с попытки заставить тебя «должным образом исполнять свои обязанности»? Нонсенс!
— А себя ты относишь к девяноста процентам или?.. — спросил Президент. Ему вдруг стало удивительно легко на душе. Будто бы вот, как в те времена, когда приходилось подрабатывать на станции разгрузкой вагонов: сбросил очередной мешок, и можно посидеть, перекурить в тени пакгауза.
— О присутствующих пока не будем, — возразил Философ. — Мы говорим о наиболее общих законах…
— Бытия и мышления, — продолжил Журналист. Удобно вытянулся в кресле, повертел перед глазами пузатым бокалом с ароматным, медового оттенка хересом. — Генерал Корнилов, помнится, вопреки этим самым законам отправился в ледяную степь с винтовкой и вещмешком сухарей и патронов. Россию спасать. А мог бы и чем попроще заняться…
— Твои взгляды мы знаем, но сейчас несколько другой момент…
— Брэк, — пресёк готовый затеяться спор Президент. — Хоть и брэйнсторминг[32] у нас, но не до такой же степени. Продолжай, — предложил он Философу.
— Чего тут особенно продолжать? Если девяносто процентов людей немедленно занялись бы личным обогащением, а не… То априори можно считать, что вероятность, будто твои «Александр» и «Сильвия» руководствуются «возвышенной идеей», в любом случае не может превышать десяти процентов.
— Вероятность того, что средний выпускник очень средней школы понял всё, чему его учили, а тем более умеет применять полученные знания на практике, тоже не превышает десяти процентов, — то ли согласился, то ли возразил Юрист, исполнявший при Президенте роль «адвоката дьявола», то есть рассматривавший проект любого документа, готовящегося в президентской администрации с точки зрения — в чём его возможный вред, отнюдь не польза.
— Значит, ты считаешь, что этим «персонам» следует верить?
— Не имею достаточных оснований. Послушаем, что наш «товарищ крот» скажет.
Эти слова относились к самому молодому из всех, работавшему на малозаметной, хотя и генеральской должности, но позволявшей быть в курсе всех, даже сверхсекретных, документов, проходивших через внешние и внутренние компьютерные сети МГБ, МВД и ряда учреждений подобного типа.
— Во всём, что касается моей сферы ответственности — верить стоит почти безусловно. Я внимательно слушал и вспоминал. Очень многие ранее непонятные факты теперь выстраиваются оригинальным, удивительно непротиворечивым образом. В том числе касающиеся так называемой «Чёрной метки».
— Что же ты раньше мне не говорил? — с долей обиды в голосе спросил Президент.
— А о чём? Мало ли легенд, слухов, намёков всегда ходит в наших специфических сообществах? Конспирология, братцы, это дело такое… Любое непонятное событие «простецы» склонны толковать самым невероятным и в то же время убедительным (для себя и подобных) образом. И что ж, твоё высочайшее внимание на каждый чих обращать? Сейчас другое дело, раз уже всё случилось, можно вплотную заняться анализом «теории невероятности»…
— Если позволят, — с весёлой, не по случаю, улыбкой сказал Литератор. Абсолютно «несистемный» человек, уже лет двадцать с лишним назад развлекавший друзей своими рукописными «романами» на темы альтернативной истории. Тогда эти упражнения, попади они в поле зрения КГБ, грозили нешуточным сроком, а сейчас неплохо кормили да заодно позволяли выступать, зависимо от настроения, то защитником существующего режима, то его непримиримым оппонентом. Но в целом Литератор стоял на позициях «просвещённого монархизма» и постоянно доказывал, в основном ориентируясь на молодёжь, пагубность для России иного другого способа правления. Его книги были весьма популярны, но необъяснимым образом вызывали отчётливую неприязнь у критиков всего спектра, от крайне правых до крайне левых.
— Мне отчего-то кажется, что за нами и сейчас наблюдают, несмотря на все меры предосторожности. Слушают, смотрят, делают выводы…
— Паранойя? — спросил Философ.
— Отчего же? Если принимать слова «защитников» всерьёз, это вполне в их стиле и их возможностях. Но — неважно. В любом случае они нас воспринимают адекватно, раз вышли на контакт и сделали известные предложения. Если даже не слушают сейчас, так ничего им не стоит смоделировать нашу беседу и наши реакции. Я бы и то смог…
— Тогда о чём речь? — спросил Философ.
— О том же самом. Их заявленная позиция лично мне близка. На их месте я действовал бы примерно так же. И совершенно нелицемерно говорил бы при встрече то, что говорю сейчас. Следует принять предложенное сотрудничество. И к какому бы решению мы сейчас ни пришли, оно не должно расходиться с тем, что ты станешь говорить при личной встрече, — это относилось к Президенту. — Хорошо бы и нам в ней поучаствовать…
— Никаких возражений. Мне предложено госпожой Сильвией пригласить на следующую встречу советников, экспертов, специалистов, — ответил тот.
— Так давайте все и пойдём, — с энтузиазмом произнёс Литератор. — Пусть они даже заранее узнают о нашей позиции на переговорах. Что нам скрывать? Мы согласны на сотрудничество в принципе, а детали можно уточнять. Цель ведь, в итоге, у нас одна…
— Ну-ка, ну-ка, — оживился Философ. — Похоже, ты наживку уже проглотил. Наконец у тебя обозначились союзники, способные реализовать твои «фантазмы»…
— И слава богу. Раз собственных силёнок не хватает, чтобы в стране порядок навести, так, глядишь, варяги помогут…
— «Варяги без приглашения», — вспомнил название очень давней книги Журналист. — Не боишься?
— Мне-то чего бояться? Как вытекает из сказанного, «желающего судьба ведёт, нежелающего тащит». Если всё, о чём мы сейчас рассуждаем, — блеф, нет оснований для рефлексий. Подумаешь — невинный розыгрыш. Если правда — они сделают как хотят. С нами или без нас. Но лучше с нами. Возражения принимаются…
— По сути — нет. Возражение только одно. Все идеи насчёт розыгрыша, моего внезапного сумасшествия, наведённой на всех присутствующих галлюцинации предлагаю оставить как непродуктивные. В случае чего — меня одного или всех нас доставят куда нужно и станут лечить. Исходя не из последних достижений медицины, а из текущей политической целесообразности, — жёстко сказал Президент. — Это всем понятно?
Выдержал паузу, ожидая реакции. За столом молчали, осмысливая его слова. А ведь действительно, постепенно начало доходить до присутствующих — это совсем не дружеская болтовня в начале уик-энда. Это более чем серьёзно: поворотный пункт если не в судьбах мировой цивилизации, то в их личных — точно. Удивительно, что сразу этого не поняли. Возможно, оттого, что слишком велика была инерция представления, будто «прошло уже время ужасных чудес». В широком смысле этого постулата.
— Хотелось бы уточнить, что ты понимаешь под «куда нужно»? Поконкретней бы, — осведомился Литератор.
Президент усмехнулся едва заметно.
— В случае нашего неправильного решения это не будет иметь принципиального значения. Шлиссельбург, кремлёвские подвалы или комфортабельные апартаменты в каком-нибудь другом мире. Уголок в яме для «невостребованных прахов» тоже не исключается.
— А ведь он прав, ребята, — сказал наконец Философ.
— Не зря ведь — вождь…
— Хорошо хоть — не «учитель», — кивнул Президент. — Итак?
Кое-как собрав разбегающиеся мысли, перешли к конструктивному обсуждению «предложенных обстоятельств».
Литератор подтвердил, что он принципиально согласен с данной «Александром» оценкой положения в стране и позиции Президента.
— Слишком мы все заморочились на пресловутой «стабильности», «поступательном развитии» и «общеевропейских ценностях». Сколько раз я уже спорил с вами на эти темы, и что? Получается, что я таки был больше прав. Чем вы…
— Сократическая школа, — кивнул Философ. — Преимущество софистики и интуитивного знания перед рациональным. Вся беда в том, что практикам приходится руководствоваться гораздо более вескими основаниями, чем интуиция одного человека, хотя бы и наделённого не только острым умом, но и ясновидением…
— «Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах», — согласился Литератор. — А настоящая беда в том, что «власть предержащие», за редким исключением, остерегаются доверять собственной фантазии и интуиции. Тебе ведь на самом деле кажется, — обратился он непосредственно к Президенту, — что существует некий набор политических и экономических факторов, обозначающий для тебя «коридор возможностей», вроде как фарватер через минное поле. И ты не то чтобы боишься с него свернуть, ты просто находишься в плену догм и предрассудков. «Волки знают — нельзя за флажки».
— Интересно, как бы ты повёл себя на моем месте? — усмехнулся в ответ Президент. — Насколько мы все знаем, ты всегда, с комсомольских времён, открещивался от любой реальной, самостоятельной работы…
— Именно. Чем чище погон, тем чище совесть. Кроме того, для руководящей работы, что в СССР, что сейчас, нужен набор личностных качеств, которых я полностью лишён. В подробности вдаваться не будем, неподходящий момент, да вы их и так знаете. Но ты-то наделён ими в достаточной мере. Следовательно, вопрос лишь в том, чтобы верно уловить момент, когда и какие из них следует пустить в ход, не ограничиваясь в средствах. Нравственно всё, что ведёт к достижению цели. Была бы цель достойной… — Литератор непроизвольно начал впадать в назидательный тон, больно уж момент был провоцирующий.
— А кто это вправе определять? — осведомился Президент.
— В данном случае — ты, если уж наделён мандатом и облечён доверием. Я во многом согласен с твоими «собеседниками», «защитниками реальности». Ситуация с этой самой реальностью действительно непростая и требует неординарных мер. «Александр» упомянул про «синдром Павла Первого». Доля истины в его словах есть. Ты ведь действительно имеешь в виду… Пусть не табакерку в висок и шёлковый шарфик, но что-то вроде «бунта элит», переходящего в «последнюю и окончательную» российскую смуту. А «защитники» — не боятся. Иван Грозный не боялся, ввёл, когда счёл нужным, опричнину, Пётр, Александр Третий, Сталин, наконец… Да и Ельцин, уже на наших глазах. — В ответ на протестующий возглас одного из друзей Литератор примиряюще улыбнулся: — Только не будем о нравственных оценках. Для каждого времени они свои. Атомную бомбардировку Хиросимы большинство граждан антигитлеровской коалиции восприняли с чувством глубокого удовлетворения. Как в то же время мир рукоплескал победам Красной Армии. Через недолгое время точки зрения на указанные события кардинально поменялись. То же касается и всего остального. Часовой на посту стреляет без предупреждения по нарушителю охраняемой территории и получает награду, не вникая в обстоятельства и личность убитого. Но одновременно казнь по суду безусловного преступника вызывает такие протесты, что фактически отменена в «цивилизованных странах». А американцы плевать на мнение «общечеловеков» хотели, прошу заметить, и проводят «санитарные чистки» и у себя дома, и за его пределами, везде, где можно это делать безнаказанно…
— Мы, кажется, отвлеклись, — сказал Философ.
— Отнюдь, — не согласился Литератор. — Я подвожу вас к мысли, что позиция «защитников» пусть и несколько прямолинейна, но зато рациональна. Если у нас с вами есть какие-то цели и идеалы, нужно проводить их в жизнь решительно и бескомпромиссно. Или бросить вёсла и… Куда вынесет. Одним словом, я за то, чтобы принять помощь кандидатов в союзники. Лучше всего после переговоров создать какой-то совместный координирующий орган. Другого выхода я просто не вижу. Иначе, не исключаю, могу пойти на личную унию с этими ребятами. Если позовут…
Сказано было так, чтобы присутствующим стало ясно — хоть и шутит товарищ, но не так уж и шутит.
— Стоп, — пресёк слишком длинный монолог товарища Президент. — Брэйнсторминг так брэйнсторминг. Твоя позиция ясна. Кто присоединяется?
С теми или иными оговорками позицию Литератора разделило незначительное, но большинство. Категорически против были Финансист, Юрист и, что показалось удивительным, Контрразведчик. Резоны двух первых были ясны и во многом совпадали с точкой зрения Президента. Угроза краха кое-как отлаженной экономической системы, серьёзные проблемы с важнейшими зарубежными партнёрами, почти тотальный слом всей правоохранительной и правоприменительной системы и полная неясность, что удастся выстроить взамен и удастся ли вообще хоть что-нибудь при нынешнем внутреннем и международном положении. Запаса прочности у страны почти не осталось.
Но вот Контрразведчик… Казалось бы, ему следовало обеими руками ухватиться за предложение «комитета». Неограниченные ведь возможности открываются.
Президент так и спросил.
— Ребята правы, — ответил тот. — С запасом прочности у нас плохо. Зато имеется масса желающих организовать десяток «цветных революций» сразу. И технически это не такая уж сложная задача. Особенно если и «друзья» захотят сыграть на этом поле. Ты ведь об этом тоже думал, признайся.
Немедленно вставил очередное слово Философ:
— Коллега просто боится конкуренции. С теми методиками, что якобы доступны «защитникам», ему и его структурам, как бы он лично к ним ни относился, в новых условиях светят только вторые, а то и третьи роли — мальчиков на подхвате и на побегушках. Вдобавок все наши разведки и контрразведки сами станут объектами наблюдения и разработок. Я правильно понял?
— И это правильно, — не стал кривить душой тот. — Такой «союз» непременно низведет нас до роли марионеток. Нам всем будут что-то сначала подсказывать, потом рекомендовать и, в конце концов, просто предписывать. И самостоятельности у нас в итоге не останется никакой, и способов противостоять давлению — тоже.
— А сейчас они есть? — осведомился Литератор. Казалось, ему диспут доставляет истинное удовольствие. Да так оно и было. Он оказался в своей стихии: всё, что раньше представлялось лишь играми разума его самого и «собратьев по перу», сейчас явилось совсем в ином свете. Будто бы богослов вдруг наяву встретился с объектами своей схоластической деятельности. И всем стало абсолютно ясно: нет больше у него другой цели, как вступить в личный контакт с «защитниками», по воле Президента или вопреки ей.
— Кто это может знать? — неохотно вымолвил Контрразведчик. — Демонстрация, на твой взгляд, выглядела убедительно, не спорю, — обратился он к Президенту. — Но что, если это была именно демонстрация, на пределе их возможностей? Предположим, их прибор способен только на то, что он изобразил. Прямой контакт через телеэкран, перенос некоторой материальной массы на километры, а может быть, всего лишь на метры. Мы ведь не знаем, откуда велась передача. То же и с якобы «жертвами». Достаточно простой фокус — замотивировать нужным образом уже случившиеся события. Шерлок Холмс демонстрирует чудеса дедукции, называет имя и адрес преступника, описывает внешность, все повергнуты в шок и восхищение, а он всего лишь нашёл на месте преступления впопыхах оброненный паспорт. То же и их «аппаратуры» касается. Пусть она действительно есть, но в настоящее время — как винчестер без патронов. Только что стрелял и произвёл фурор, а что перезарядить его нечем — никто вообразить не может.
— И это не лишено. Тем больше оснований согласиться на предложенную встречу. Так что давайте как следует к ней подготовимся, исходя из любых мыслимых вариантов. Это для вас с Философом задача, — предложил он Литератору, — спрогнозировать ходы партнёров, — прекратил Президент дискуссию. — Прочие подготовят соображения каждый в своей области.
А Контрразведчику он поручил озаботиться мерами обеспечения безопасности, исходя из максимума возможностей «защитников».
— Если из «максимума» — вообще ничего делать не надо, — ответил тот. — В таком варианте мы перед ними бессильны. Если блефуют — тем более бояться нечего. А вот меры безопасности против чересчур любопытных «своих» я безусловно приму, надёжнейшие из возможных.
Глава четвёртая
Ляхов-Секонд так до сих пор и не получил обещанные Императором «под настроение» за организацию романтической встречи с Сильвией и идею «Мальтийского креста» генерал-адъютантские погоны. Через несколько дней Олег Константинович как бы между прочим заметил, что он своих слов не забывает, но сначала — результат, награды — позже. Вадим и сам не особенно надеялся, учитывая свой неприлично молодой для генеральства возраст. Но всё равно было немножко обидно, пусть на самодержцев и не принято обижаться. «Над жизнью я своих людишек волен, и над смертью тоже», — как любил выражаться Иван Грозный.
Грешным делом, Вадим считал, что в его карьерной неудаче косвенно виновата именно Сильвия. Согласись она ещё дня три-четыре поиграть с государем во всепоглощающую страсть, заданного в подходящий момент вопроса: «А что это наш конфидент до сих пор в прежнем чине ходит?» — хватило бы.
Карьеристом в обычном смысле Вадим не был, велика ли разница для рыцаря «Братства», какие аксессуары украшают его в один из преходящих моментов? Но для пользы этого же «Братства» его генерал-адъютантский чин предоставлял значительно большие возможности, без сомнения.
Игра Сильвии тоже была ему не совсем понятна — отчего она вдруг резко прервала так удачно им подстроенную связь с Императором. Женщине её характера и морали не всё ли равно, одну ночь провести в чужой постели или «сколько потребуется»? Сам он с юных лет считал, что понятие «измена» количественному измерению не поддаётся. Что в любви, что на войне. Если «старшая сестра» изменила нынешнему мужу единожды, то, не рискуя больше повредить своей «чести», могла бы делать это и далее, в меру необходимости.
И тут же сам себя одёрнул — не его дело рассуждать и оценивать поступки людей иного уровня и иной культуры. Если Сильвия поступила именно так, значит, имела к тому основания. Со своими бы делами разобраться.
Он вплотную занимался порученным делом, как вдруг поступило новое задание — в трёхдневный срок подготовить необходимые обоснования по «Мальтийскому кресту» для намеченной личной встречи Императора с Президентом Российской Федерации.
Ничего особо сложного, если бы не сам предмет переговоров. Если говорить без обиняков, то подразумевалась неслыханная в истории акция — фактическая аннексия независимого государства самим же собой, но выступающим в другой ипостаси. Как если бы богословам предложили рассмотреть практическую возможность слияния «живоначальной Троицы» в единую личность. При всей их «нераздельности и неслиянности».
Увлёкшись идеей «Креста» как чисто военной задачей, способом обеспечить Россию несокрушимым тылом и стратегическими ресурсами на случай грядущей европейской или мировой войны, он упустил из виду политический аспект. С некоторым опозданием вспомнил, что нации, а уж тем более такие, как русская, крайне болезненно относятся к малейшим попыткам ущемления своего суверенитета.
Впрочем, пришла следующая мысль: собственно высокая политика — не его уровня проблема. Он должен дать в руки Императору инструмент для её проведения, всего лишь, а уж как он им распорядится…
Всего за три отведённых дня нужно было успеть собрать подходящих людей из числа «пересветов», наилучшим образом подготовленных дипломатически, свободно владеющих необходимыми статистическими, демографическими, военно-экономическими данными, разъяснить им смысл задания и снабдить нужной информацией о реальном положении дел на «сопредельной стороне». Чтобы могли без запинки играть на сопоставлении потенциалов, крыть доводы собеседников цифрами, историческими примерами и политическими аналогиями.
То есть работать экспертам пришлось в условиях жесточайшего цейтнота, как в условиях внезапно вспыхнувшей и неудачно развивающейся войны с малознакомым противником.
Здесь очень к месту пришёлся Федор Ферзен, обладавший всеми необходимыми качествами как раз для такой деятельности. Он очень хорошо проявил себя в польской кампании и при ликвидации «московского инцидента», где успел познакомиться, пусть и поверхностно, с положением дел в стане предполагаемого «союзника». Да и не просто союзника.
В последний перед днём судьбоносных переговоров вечер Вадим, в принципе довольный результатами работы своего «полевого штаба», пригласил Фёдора Фёдоровича посидеть с ним в том самом «извозчичьем трактире» напротив храма Христа Спасителя, где состоялась их первая беседа после поступления Ляхова в Академию[33].
Тогда у них состоялся интересный разговор. Ферзен на семинаре по истории высказал мнение, что нынешнее государственное устройство и само послереволюционное существование России не соответствует основным принципам геополитики и даже «здравого смысла» в широком понимании. Проще говоря, тогдашний подполковник самостоятельно пришёл к выводу, что окружающая его реальность является в определённом смысле «химерической». До тонкостей хронофизики и истинного устройства мироздания он, конечно, не додумался, но суть ухватил верно. Проанализировал все доступные ему источники и пришёл к выводу, что по всем предпосылкам и политико-психологическим раскладам в гражданской войне должны были победить большевики и установить свой «социализм». «Белые» не могли выиграть, при всей своей отваге и тактическом превосходстве, без полномасштабной интервенции вооружённых сил Антанты.
Этот вариант показался Ляхову довольно любопытным, как опытному шахматисту — неожиданный ход в давно известной, канонической партии. Тогда Ляхов ещё не читал соответствующих трудов из «параллели», не был знаком с деятельностью Шульгина на испанской гражданской войне 1936–39 годов. Иначе восхитился бы проницательности Ферзена, столь чётко реконструировавшего неизвестный ему «исторический симулякр», как некогда Кювье, наловчившийся восстанавливать полный облик динозавров по одной-единственной кости.
Сейчас, по прошествии достаточно долгого времени, они снова сидели за тем же столиком, даже заказали, кажется, то же самое.
— Ну вот, Фёдор Фёдорович, вы завтра, наконец, сможете наяву увидеть результаты того самого коммунистического «эксперимента». Всё у них там случилось совершенно так, как вы предположили. Я до нашей встречи понятия не имел ни о каких «параллельных реальностях», не мог и вообразить возможности их физического существования. Преклоняюсь перед изощрённостью вашего воображения и полётом фантазии…
— А не расскажете, если не секрет, как вам удалось в моей правоте убедиться? — спросил барон, поднимая зеленоватую гранёную рюмку. — О ваших приключениях в «боковом времени» все, кому положено, знают, а вот насчёт «прямого»? С самого начала…
— Некогда, Фёдор Фёдорович. Слишком долгий рассказ бы получился. А если в двух словах — не более чем слепой случай. Попал я необъяснимым до сих пор образом на перекрёсток времён, выжил, несмотря на крайнюю маловероятность такого события, и, более того, привлёк внимание людей, умеющих ходить по трёх- и более мерным мирам, как мы с вами циркулем и курвиметром по топографической карте. «Боковое время», что вы упомянули, для них такая же частность, как физика Ньютона в сравнении с Единой теорией поля, которую никто до сих пор не создал. А «другая Россия» — вместе с нашей, заметьте — две рядом очутившиеся раковины на морском берегу…
Ферзен покрутил головой, будто воротник кителя стал ему внезапно тесен, хмыкнул непонятно в адрес какого высказывания Ляхова, предложил для успокоения выпить ещё по рюмке.
— Большой, — уточнил он.
— Да вы сами скоро всё своими глазами увидите, — продолжил Вадим. — И мир этот увидите, и людей. Раньше я не имел права говорить, но теперь уже можно. Вместе с нами на переговоры пойдёт лично Его Величество, и встреча состоится на той стороне.
— Ух ты! — Ферзен удивился, но не очень. Естественно, что первое лицо непременно должно скреплять своей подписью и рукопожатием акты государственного значения, однако барон считал, что непосредственная встреча вождей состоится на заключительном этапе, когда все принципиальные договоренности будут достигнуты. — Не слишком ли рискованно?
— То есть? Риска гарантированно никакого, это мы обеспечим…
— Не в том смысле. Представим, что переговоры закончатся неудачей. Это какой же урон самолюбию Государя! Зная его характер, можно ожидать вспышки неконтролируемых эмоций с самыми серьёзными последствиями…
— Ну, зачем этот пессимизм, Фёдор! Государь гораздо более здравомыслящий человек, чем это моментами представляется. Эксцессов не будет. Прежде всего потому, что лично я неудачу просто исключаю.
— Отчего же вдруг? — хитровато прищурился генштабист. — Если я правильно мыслю, подразумевается ведь самая банальная аннексия «дружественного государства», пусть и обставленная как братская помощь без малейшего посягательства на суверенитет…
Ферзен почти дословно повторил недавнюю оценку предстоящего самим Ляховым. Что ещё раз подтверждало — не зря они так легко и быстро нашли друг друга на первом курсе Академии.
— Вот этого я и опасаюсь, — серьёзно сказал Вадим. — Что подобная гипотеза придёт в голову и нашим партнёрам. Навредить сильно она не сможет, слишком легко опровергается и логическими доводами, и текстом договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который мы намерены предложить. Но осадочек может остаться, не спорю. Если противники соглашения грамотно разыграют эту карту, переговоры могут осложниться. Поэтому (для чего, собственно, я вас и пригласил) следует прямо здесь обсудить все возможные контрдоводы и гарантии, чтобы сразу пресечь любые выпады переговорщиков с той стороны в этом направлении. Там люди не глупее нас с вами соберутся. Вы знаете, в той реальности, куда мы завтра отправимся, имел место близкий по смыслу сюжет. В тридцать восьмом году Австрия, как и сейчас, была независимым государством, только ещё меньшим территориально. Союзники по Версальскому договору обстрогали её по самое некуда. А Германия как раз набирала силу и решила братскую Австрию присоединить в качестве обычной провинции Остмарк. Так самое интересное — более восьмидесяти процентов населения были «за». Аншлюс прошёл гладко. Антанта не возразила. Правда, канцлера Дольфуса, сторонника независимости, пришлось убить, но это на ход событий никак не повлияло. Правда, потом австриякам пришлось опять воевать на стороне Германии против Антанты, и конец был аналогичный, так это ж потом…
— Завидую вам, Вадим Петрович. Мало, что у нас в отличниках числитесь, так и историю параллельных миров назубок. Я бы тоже книги оттуда почитал…
— Закончим дело, назначим вас старшим военным советником при тамошнем начальнике Генштаба. Вот уж начитаетесь… — как бы в шутку, но и с вполне прозрачным намёком сказал Ляхов, действительно считая, что вариант этот вполне приемлемый. В бывшей Советской, а ныне Российской армии давненько природных русских немцев на высоких постах не бывало. После умершего в 1950 году в тюрьме адмирала Галлера — кажется, ни одного. А зря. Как раз на штабной работе немцы себя хорошо зарекомендовали.
Ферзен намёк пропустил мимо ушей.
— Из ваших слов следует, что вы всё же считаете, несмотря на все гарантии, австрийский вариант вполне вероятным?
— Убивать их Президента точно не будем. А в остальном — отчего же нет? — удивился Ляхов. — Конвергенция почти неизбежна, без всякого насилия. Чтобы не утомлять вас плохой школьной латынью, скажу по-русски: «Благо народа — высший закон!» Мы и «лучшие люди» с той стороны настроены одинаково, я надеюсь. Мало кто упрётся исключительно из «чистых принципов». А что каждый свои идеалы и интересы станет отстаивать жёстко — нет сомнений. Наменять на грош пятаков в России всегда стремились, независимо из какой она альтернативы.
Но я о другом сейчас думаю, — сказал Ляхов, рассеянно глядя в окно. — О степени реализуемости наших проектов. На мой взгляд, начиная разыгрывать великокняжескую карту, вы находились в зоне гораздо большей неопределённости: правовой, психологической, юридической, военной, наконец. Я, честно сказать, в успех реставрации монархии долго не верил, да вы помните… Сейчас, в сравнении с тем временем, — всё достаточно прозрачно и просто. Вообразите, мы с вами — команда консультантов вельтмейстера перед решающей партией на мировом турнире. Противник известен, стиль его игры, теоретические предпочтения, темперамент. Мы с вами знаем наизусть сотни его партий, вошедших в учебники. Всего и делов — угадать, какими домашними заготовками парировать его седьмой, пятнадцатый и двадцать третий ход…
Ферзен понял, что он имеет в виду.
— У вас столь обширный объём разведданных? Вы имеете своих людей в окружении их Президента?
— Разведданные, естественно, есть, куда ж без этого? Вы аналитик, я разведчик «пар экселленс»[34]. Только психологию и замыслы противника придётся отслеживать «по факту», не шахматы у нас могут получиться, а классическое фехтование на шпагах без «пуандаре»[35], — ответил Ляхов, маскируя невольную усмешку поднесённой к губам рюмкой. Совершенно ни к чему говорить, что аггрианский шар позволял проиграть десятки вариантов поведения партнёра, выбрать из них наиболее вероятные по любому из заданных критериев, заготовить контрдоводы и антитезисы на любое президентское предложение или возражение.
«Туман войны»[36] затенял не более пятнадцати процентов поля предстоящего боя и распространялся лишь на непрояснённые глубины психики «противника» и спонтанные, вызванные неожиданными изменениями текущей обстановки реакции. Ну и пресловутое «трение» тоже предусмотреть было невозможно. Всё же остальное… Как говорил Остап: «На такие шансы можно ловить».
— Мы ведь с вами, Фёдор Фёдорович, последнее время несколько отдалились…
— Не по моей вине, — тут же вставил барон.
— О какой вине речь — исключительно стечение обстоятельств и пресловутый расклад. А сейчас наступил момент очередного сближения. Сие знаменует гармонию природы. Мне помнится, генеральские погоны в тридцать или около того лет вы считали непременным признаком состоявшейся карьеры. Теперь к этой цели мы близки, как никогда. Олег с определённостью обещал и мне, и всем причастным. Со свитскими аксельбантами причём.
Похоже, он Ферзена не слишком удивил.
— Да и странно, если б иначе. Скобелев в тридцать пять уже полного генерала получил. Получится у нас — это ж поболее, чем какой-нибудь Туркестан для Империи завоевать.
Не поддержав эту посылку, Ляхов продолжил:
— Только ведь тут, милейший барон, главное — не ошибиться в выборе приоритетов…
— Вы намекаете, Вадим Петрович, что главным в кампании предпочитаете видеть себя, а я и все другие-прочие должны на вас ориентироваться, считая Императора вторичной фигурой?
Ферзен всегда отличался проницательностью, развитым аналитическим умом и немецкой, остзейской конкретностью, сопряжённой с жёсткой практичностью и непреклонностью в достижении цели, несмотря на свою благодушную, обломовскую внешность, совсем не соответствующую облику предков, мрачных рыцарей Ливонского ордена.
— Не попали, Фёдор Фёдорович. Упаси вас бог завтра подобным образом промазать. Как говорят в артиллерии — на два лаптя влево…
Барон вдруг привстал, перегнулся через стол и почти прошептал, хотя их и так никто не мог услышать:
— Вадим Петрович, ну признайся — ты ведь сам «оттуда»? Очень всё хорошо в таком случае в схему укладывается. Прямо зеркально. И твоё внезапное появление у нас, и благоволение Императора, и твои способности. Не говорю уже про московские прошлогодние дела. Заслан ты к нам, чтобы завтрашний день подготовить! Диссидент ты тамошний. Допустим, вроде нашего Агеева. Своими силами не удалось у себя порядок навести, решили к нам обратиться?
Ферзен, отодвинув рюмку, налил себе и Вадиму сразу в фужеры. Уж очень ему показалась своя идея остроумной и сразу всё объясняющей.
Ляхов выпил и тут же рассмеялся искренне, от души. Больно забавно барон извратил доступные ему факты. Распространённая в философии и логике ошибка. Вывод, обращённый к посылке.
— Умный ты человек, Фёдор Фёдорович, а промазал сейчас крепко. Как некоторые, что не только в «десятку», в воздух не попадают. Если я «оттуда», зачем всё, сопутствующее моей здесь жизнедеятельности? Прежде всего, ничего бы не стоило придумать легенду, не требующую трёхлетнего, крайне трудоёмкого внедрения, связанного с массой рисков без всякой гарантии успеха. Далеко ходить не будем. Ваш заговор, попытки до сих пор неустановленных сил не допустить воцарения Олега, Московский путч, Берендеевка и Корниловская дивизия. Мы её сюда перебросили из третьей по отношению к нам и вам реальности, использовали, чтобы спасти Императора, втереться к нему в доверие и так далее, вплоть до сегодняшнего нашего вечера, а также и завтрашнего дня? Да ты пей, пей, Федя, я от тебя не отстану, чёрт знает, как хочется напиться по-настоящему, чтобы хоть один вечер не думать о «проклятых вопросах». А ведь приходится!
Дальше — будь я тем, что тебе вообразилось, с теми возможностями, что ты мне приписываешь, минуя десяток ходов и позиций, ввёл бы не одну дивизию, а три, весь добровольческий корпус, в «соседнюю» Москву, посадил на престол своего человека. Хотя бы и самого Лавра Георгиевича Корнилова, ему там едва пятьдесят пять исполнилось, юноша по нынешним понятиям для политика. Он бы навёл и справедливый, и демократический порядок, причём переместившись только вдоль временно́го потока, совсем не поперёк. И к чему в подобном случае такие сложные вариации, как ты себе вообразил?
Берендеевка — идеальная точка исторической развилки. Ты там не был, так у Миллера спроси. Я видел, как у войскового старшины слезы на глаза навернулись, когда корниловцы строевым шагом по плацу ударили. А ещё лучше тебе Уваров всё обрисует. Тот уж душой не покривит. Ты хороший штабист, Фёдор, но вообразить не можешь, что значит — с остатками роты безнадёжно оборонять последний рубеж, глупо надеясь, что хоть взвод ему Миллер подкинет. И вдруг увидеть за спиной выходящую из леса цепями дивизию, которая штыковым ударом опрокинула и уничтожила врага, которому четверти часа не хватило, чтобы разобраться и с остатками наших войск, и с Олегом Константиновичем лично…
В этих условиях кто помешал бы генералу Берестину, герою Каховского сражения, и мне, разумеется, совершить прямо там государственный переворот или мирную передачу власти кому заблагорассудится? — Ляхов прервался, закурил, раза три подряд молча затянулся. Потом спросил: — Что, Фёдор Фёдорович? Не один ты умеешь неудобные вопросы задавать. Некая кавалерственная дама, там присутствовавшая, мне потом излагала свои дамские чувства. «Когда я увидела генерала Берестина, чеканящего шаг навстречу Олегу, я подумала: „С таким лицом и манерами идут убивать!“» Через полчаса она сменила мнение на прямо противоположное.
Фон Ферзен задумался. Как положено немцу, думал долго. Вадиму даже стало надоедать смотреть на его глубокомысленное лицо. Но мешать он не собирался. По крайней мере, сигару можно выкурить спокойно. А сигары он использовал, чаще всего чтобы выглядеть солиднее и независимее и иметь возможность окутываться клубами ароматного, почти непроницаемого для посторонних взглядов дыма.
— Не имею возможности с тобой спорить, Вадим, — наконец произнёс барон. — Но ведь, если додумывать до конца, всё это бессмысленно, глупо, натянуто — как хочешь… Тебе лично я готов верить, как ты недавно поверил мне. Понимаешь — тебе лично. — Ферзен, то ли начиная проваливаться в глубины алкогольного любомудрствования, то ли имитируя это (что Ляхову казалось более достоверным), подскочил со своего места, пересел рядом с Вадимом и дружески обнял его за плечо. — Ну, вот давай ещё выпьем и договоримся — я твой верный паладин в любой предложенной ситуации…
Неужели барон настолько не понимает характера своего коллеги и якобы приятеля, что пытается так вот примитивно его подловить? Или действительно торопливо, не ожидая горячей закуски, принятые двести грамм так понесли боевого офицера? Непохоже. Даже среди своих начинаются игры? Ляхов поморщился.
— Федя! На какой хрен мне паладины? — Грубость в сочетании с лёгкой злостью в голосе — самое то. — Если, как ты вообразил, я способен повелевать мирами, воздвигать и рушить троны, перемещаться вдоль и поперёк времён — зачем мне ты, Олег, Чекменёв, вообще любой бессмысленно-смертный человек? Я вас могу даже не видеть среди туманных проявлений лишённой самосознания природы!
Сильно было сказано, как Вадиму показалось. И достаточно близко к истине. Но тут же он и смягчил посыл, после очередной рюмки водки, сноровисто налитой половым каждому из, на его взгляд, слишком раздражённых офицеров.
— Видишь, до чего договориться можно, если, вопреки уважаемому нами обоими монарху, начать бесконтрольно умножать сущности? И пить нам хватит — не для того ведь встретились. День завтра, как бы там ни было, обещает быть трудным.
…Переговоры с Сильвией Президент решил провести не в одной из своих резиденций, а на неприметной по нынешним временам даче в старомодно-уютном посёлке неподалёку от МКАД, принадлежащей Философу. Построенная в первые послевоенные годы для его деда по материнской линии, члена-корреспондента Академии медицинских наук, она наилучшим образом удовлетворяла требованиям конфиденциальности и безопасности. Именно тем, что ничем не выделялась из десятков подобных, расположенных на порядочном удалении друг от друга, с участками от гектара и больше, обнесённых не слишком высокими дощатыми заборами. В те времена развитого тоталитаризма проблемами безопасности творческие люди не слишком были обеспокоены — от «органов защиты пролетарской диктатуры» всё равно не спрячешься, если что, а бытовая преступность реальной опасности не представляла, поскольку посягательство на жизнь и имущество «государственных дачников» тянуло не на обычные год-другой, а на полновесную пятьдесят восьмую статью. Пункт — терроризм, от двадцати пяти лет до вышки, как прокурор взглянет. Оттого достаточно было держать сторожа-дворника-садовника в одном лице, калитку запирать на щеколду и вполне полагаться на участкового милиционера в старшинском звании.
Сейчас, естественно, меры безопасности были несколько усилены, но не до «рублёвских» масштабов. Само собрание тоже не должно было привлечь излишнего внимания. Соседи давно привыкли, что почти каждый выходной сюда съезжались многочисленные компании: летом купаться в речке и плавать на байдарках, зимой кататься на лыжах со склонов глубоких оврагов.
В этот раз несколько машин с неприметными номерами, подъезжавшие с утра до полудня, тоже никого в ближних окрестностях не заинтересовали. Если бы даже кто-то от скуки проявил любопытство, узнать главу государства в одном из десятка примерно одинаково одетых «по-походному» мужчин едва ли было возможно, просто из-за невероятности такого допущения.
Сильвия с Императором, Секондом, Фёстом и сопровождающими лицами прибыли на довольно потрёпанном внешне, но подготовленном «ин леге артис» микроавтобусе «Баргузин» и вместительном, но ничем не примечательном джипе. Чтобы в пути не случилось задержек и недоразумений с ДПС, на переднем сиденье ехал приглашённый Фёстом «для обеспечения» полковник Службы собственной безопасности МВД, член «Чёрной метки».
Олег Константинович всю дорогу после перехода в параллельную реальность неотрывно смотрел в окно, жадно впитывая детали и подробности здешней жизни. По выражению его лица трудно было судить о реакции на способ перемещения в «иной мир» и окружающую действительность, а от каких-либо вопросов и собственных оценок он пока воздерживался. По привычке географа и этнографа предпочитал составить собственное, незамутнённое представление о «неведомой стране», в которой довелось очутиться.
Одет он был, как и большинство пассажиров автобуса, в высокие десантные ботинки и выцветший камуфляж, весьма удобно для похода за грибами в окрестные, довольно влажные, а местами и заболоченные леса. На поясе универсальный нож с тридцатисантиметровым клинком, под курткой в наплечной кобуре пистолет, больше для самоуважения. Не пристало первому дворянину империи ходить без оружия.
Одна Сильвия выделялась в мужской компании голубыми джинсами, заправленными в высокие замшевые сапожки, и элегантной курткой того же материала и цвета.
В километре и трёхстах метрах от поворота к даче «гости», не останавливаясь, отметились на импровизированных контрольных постах — первом, организованном Фёстом, втором — президентском.
Погода стояла самая что ни на есть благоприятная. И для прогулок по лесным тропинкам, и для дружеского застолья на обширной веранде. Ярко-синее небо, покрытое редкими белоснежными облаками, температура около двадцати градусов, лёгкий ветерок, пахнущий нагретой сосновой смолой и хвоей, полевыми цветами и боровой сыростью, пение птиц и жужжание пчёл.
Умели люди выбирать подходящие для отдохновения места, если и через полвека с лишним вокруг незаметно никаких признаков цивилизации, за исключением электрических столбов.
На веранде, открытой в сторону солнечной лужайки, а с боков густо заплетённой хмелем, Президент со свитой встретили первую в истории делегацию из другого мира. Ну, не так чтобы действительно первую — встречу Кортеса с каким-нибудь Монтесумой или древних египтян с древними же китайцами тоже можно провести по этому разряду. Но всё равно подобного события не случалось очень давно.
Президент догадывался, что для переговоров с ним прибудет весьма высокопоставленное лицо из «Комитета по защите реальности», скорее всего, сам «Великий Магистр», или «Гроссмейстер», хотя таких титулов ни Сильвия, ни Фёст не упоминали. Вообще не проводили параллели между своей организацией и рыцарским орденом. Но такое ощущение у него сложилось, ничего не поделаешь. Считать того и другую «высшей инстанцией» у Президента не получалось.
Чтобы всё было естественно, приехавшие в разное время гости держались как обычно в подобных случаях. Знакомились, прогуливаясь по территории, до поры не упоминая должностей и чинов. Время от времени сосредотачивались у накрытого а-ля фуршет стола между тремя отдельно стоящими кряжистыми, не менее чем столетними соснами, обменивались мнениями о погоде и даче как таковой, благо было где прогуляться и на что посмотреть. Кое-кто, приняв по рюмочке крепкого или бокалу вина, заинтересовался великолепным бильярдным столом в специальной беседке. Тут же составилась партия в американку, просто так, чтобы размяться и блеснуть умением попасть кием по шару и шаром в лузу, что не каждому доступно, невзирая на чины и звания.
Здесь, кстати, великолепно проявил себя барон фон Ферзен, скромно представившийся просто Фёдором. Благоразумия и умения применяться к обстановке ему хватало, чтобы в совершенно новом для себя мире не произносить лишних слов, слушать, о чём и как говорят «местные жители», одновременно демонстрируя собственные способности.
Раз язык общения здесь тоже русский, пусть и не совсем правильный, то хорошо образованному немцу нетрудно вести изящную, моментами остроумно-двусмысленную светскую беседу, несмотря на очевидную разницу в культуре и менталитете. А предварительно извиняясь, загонять в лузы такие шары, на которые никто и внимания не обращал как на совсем бесперспективные — это у него получалось ещё лучше.
Кроме того, мужчины из другого мира, окружавшие его, барону нравились. Может быть — именно какой-то особенной непринуждённостью, пусть и находились они в присутствии своего «сюзерена». И, живя в стране, категорически барону не нравящейся по массе параметров (исходя только из документальных данных, естественно), оставались безусловно достойными внимания и общения. Более того — ощущал Фёдор Фёдорович исходящую от них непривычную силу. Это, впрочем, понять было можно. Если вокруг тебя жизнь, невыносимая для нормального человека, а ты в ней не только живёшь, но и достигаешь чего-то — то заслуживаешь даже больше, чем обычного уважения. Может быть — преклонения, как перед вернувшимся с войны солдатом, увенчанным полным Георгиевским бантом и кое-чем сверх того.
Заодно барон тщательно сравнивал с этими людьми манеры, стиль речи и поведения Ляхова и убеждался, что действительно ошибся — Вадим, при самых выдающихся актёрских способностях, не смог бы замаскировать свою принадлежность к чужой реальности, хоть когда-нибудь невольно и не заметив этого выдал бы себя.
Сильвия же, на которую барон ещё на своей стороне мира обратил тщательное внимание, поскольку никогда раньше не видел женщин с такой мощной энергетикой (именно так, её красота Ферзена не слишком взволновала), умело маневрируя среди мужчин, словно бы невзначай оказалась рядом с Президентом.
Знакомы они были только «по телевизору», а теперь вот — заговорили наяву. Сильвия видела, сколько глаз направлено на них, включая и двух охранников, засевших на чердаке со снайперскими винтовками.
— Мы так не договаривались, — сказала она, чуть сжав пальцы на локте Президента.
— Вы о чём?
— Да о тех ребятах, что щупают перекрестьями наши спины. Меня это слегка раздражает. А вас нет?
— Не совсем понял. — Президент на самом деле был удивлён.
— Что тут понимать? Вы и здесь себе не хозяин. А это очень плохо. Король Ричард Львиное Сердце, при всех своих недостатках, обходился без прикрывающих его снайперов. И император Александр Второй считал зазорным… А ваши «охранники» посадили на чердаке двух парней с «СВД», как будто это может что-то решить и от чего-то уберечь. Смешно, право…
— Как?! Да я немедленно..
— Оставьте, мой друг, — Сильвия легко и серебристо рассмеялась. — Не пытайтесь показать себя круче, чем вы есть. Пусть каждый пьёт из своего стакана, как говорят французы.
И впервые назвала его по имени-отчеству, а не по должности. От этого Президент ощутил непривычную ему близость к мало того, что посторонней, но и внушавшей ему сильную опаску женщине.
— Да не нервничайте вы так, — сказала Сильвия. — Всё гораздо проще, чем кажется. Ваших (или не ваших) снайперов я могу нейтрализовать прямо сейчас. Массой способов. Хотите — они заснут, не выпуская из рук винтовок, или спустятся вниз, доложив нам, кто и зачем назначил их на это дело… Всё равно это пустяки. Послушайте лучше, в какой интересной жизненной ситуации вы оказались…
Она, пользуясь его растерянностью, под локоть повлекла Президента, очевидным образом утратившего свою должностную харизму и нечувствительно превратившегося просто в обыкновенного мужчину средних лет, полностью подчинившегося воле женщины, в заплетённую плющом беседку. Физическая красота — дело десятое, он подчинился ей по совсем другой причине.
— Так что вы хотите мне сказать? — отчего-то плохо повинующимися ему губами спросил он.
— Ничего особенного. Только лишь — расширить круг ваших представлений…
И начала излагать ему теорию о двух параллельных Россиях. Одна из которых — эта, где они сейчас пребывают, а соседняя — совсем другая… Вполне подробно Сильвия всё рассказала и, на её взгляд, убедительно.
— Так это вам нужно обсуждать не со мной, а с моим другом Писателем. Он как раз на подобных темах специализируется… — Президент по-прежнему пытался сохранять здравомыслие, пусть это и не слишком удачно у него выходило. Есть пределы у каждого…
— С ним тоже поговорю. Но отчего вы так демонстративно мне не верите? Что в моих словах вам кажется глупым, нелогичным, абсурдным, наконец? Вы помните «свою» историю? А хорошо ли помните? Например, апрель тысяча девятьсот восемнадцатого года?
— А что произошло в том апреле? — Лицо Президента выразило искреннее недоумение.
— Плохо вас учили, ваше превосходительство, — голос Сильвии выразил долю пренебрежения, что Президент почувствовал сразу.
— Подзовите вон того молодого человека. — Она указала рукой на Ляхова-Секонда. — Он наверняка сообщит вам, что это за дата… Да и ещё кое-чем сможет правоту моих слов подтвердить.
Секонд подошёл, повинуясь жесту Президента, подтверждённому разрешающим кивком Сильвии.
— Вот, Вадим Петрович Ляхов, полковник гвардии, флигель-адъютант Императора и многих орденов кавалер… Кстати, одновременно слушатель Военно-дипломатической Академии.
Вадим вежливо наклонил голову.
— Скажите, Вадим Петрович, чем знаменит апрель восемнадцатого года в моей реальности? — спросил Президент, понимая, что подчиняется чужой воле, но, как ни странно, не испытывая от этого никакого дискомфорта. Ему на самом деле было интересно — готов ли этот симпатичный молодой офицер навскидку ответить на достаточно неожиданный вопрос. Если он, конечно, не входит в домашнюю заготовку.
— Единственное, что приходит в голову, — неудачный штурм Добровольческой армией Екатеринодара и гибель в бою генерала Корнилова, — продемонстрировал Ляхов знание не только своей истории.
— А у вас? — Президент на самом деле заинтересовался. Сейчас он вдруг перешёл на уровень своей давней уже аспирантской и преподавательской деятельности.
«Студент» ему попался способный и эрудированный.
— Естественно — всё наоборот. Снаряд лёг перелётом, генерал выжил, Екатеринодар был взят, кубанское и терское казачество в массовом порядке признало Лавра Георгиевича своим Походным атаманом и Верховным Правителем. Отступающая от Эрзерума и Трапезунда Кавказская армия тоже решила организованно перейти на сторону «Добровольцев». Ну и так далее.
— Спасибо, Вадим Петрович, — сказала Сильвия, совершенно с тем выражением лица, которое могла бы сделать преподавательница, проверяемая комиссией министерства образования на предмет завышения оценок своим ученикам. — А теперь не затруднитесь показать нашему гостеприимному хозяину свой документ.
Слегка удивившись, Ляхов протянул Президенту Служебную книжку слушателя Академии с вложенной в неё выпиской из Рескрипта о назначении его флигель-адъютантом Государя. Со всеми должностными правами и привилегиями.
Президент прочёл все до единой строчки документов, исполненных на гербовой бумаге и заключённых в обложку из ярко-зелёного (совсем не красного, как здесь принято, сафьяна), выполненные причудливым писарским почерком. Вернул владельцу, слегка пожав плечами:
— И что это доказывает? Насколько я знаю, даже грамота наследника дома Романовых стоит в Интернете не слишком дорого…
— Ну, ваше превосходительство! Не настолько же вы плохо о нас думаете, на самом-то деле. Вы пока свободны, Вадим, извините за беспокойство. Кстати, что касается произнесённого вами имени, — вновь обратилась она к Президенту, — вон тот мужчина, представившийся вам Олегом Константиновичем, как раз и есть наследник того самого дома, он же — действующий Император Российской империи, коронованный самым законным образом.
Она указала рукой на Олега, только что с треском загнавшего почти безнадёжный шар в лузу в поединке с Ферзеном и довольно засмеявшегося.
— Его Императорское Величество, прекрасно понимая важность сегодняшней встречи, благосклонно согласился принять в ней участие. Пока инкогнито, но назовёт себя, если будет уверен, что не станет объектом насмешек с вашей стороны и со стороны ваших друзей. Подобное неуважение может стать причиной больших неприятностей… Как вы понимаете, удостоверения с указанием занимаемой должности он при себе не носит. И верительных грамот сам себе не выписывает. Так как?
— Для кого — неприятности? — спросил Президент, с удивлением ощущая, что, похоже, готов поверить прекрасной даме. Независимо от своего характера, поста и привычки общаться с главами государств, в том числе и женского пола (но ни одна из дам-президентш, канцлерш и премьерш рядом с Сильвией не стояли по любым критериям), Президент ощутил некоторую дрожь, в доли секунды пробежавшую по его организму. Вроде как в школьные годы при взгляде на старшеклассницу, признанную королеву красоты. Это чувство вызвало у него раздражение собой и немедленную обратную реакцию.
— Вот именно — для кого? — повторил он, явно проигрывая темп. — Не для меня же, если, пусть на мгновение, я вам поверю…
— Конечно, в данный момент лично вам беспокоиться не о чем. Верить — не верить, это вопрос глубоко личный. Государь весьма терпимый и деликатный человек и никоим образом своего неудовольствия вами не выкажет. Надеюсь, устроители переговоров с нашей стороны тоже не слишком пострадают. Хотя… Вот как бы вы, в служебной обстановке, отнеслись к людям, ответственным за сорванный визит вашего американского коллеги, предположительно — судьбоносный?
При взгляде в её глаза, да и в сторону так называемого «Императора» Президент вдруг подумал: «А что, если Сильвия всё же говорит правду? Абсурдную, но тем не менее…»
Пожалуй, Сильвия всё же совершила ошибку. Президент только-только созрел для того, что поверить в существование «Комитета защиты реальности» и имеющейся у него аппаратуры, но именно как в феномен автохтонный[37]. О существовании параллельных реальностей с почти аналогичными историей, населением, культурой, и уж тем более — второй Россией, почти сто лет назад избравшей иной путь развития и успешно по нему идущей, речи не велось. А это коренным образом меняло ситуацию. Одно дело — заключать союз с могущественной, но всего лишь группой, совсем другое — с Державой, превосходящей Российскую Федерацию численно, территориально и, скорее всего, экономически. Очень вдруг понятна ему стала позиция лидеров нынешней Украины, к примеру. Да и пример «союзного государства» ФРГ и ГДР.
Проще говоря, ситуация мгновенно развернулась на сто восемьдесят градусов. И все предыдущие «дипломатические заготовки» потеряли смысл. Придётся импровизировать на ходу, или — прервать встречу, взять тайм-аут для консультаций.
— Хорошо, — ответил Президент после паузы. — Будем считать — сейчас я выступаю фактически как частное лицо. И, похоже, совершаю очередную глупость, поддавшись вашим… Вашим…
— Фокусам, вы хотите сказать, — помогла ему леди Спенсер. — Или, если угодно, — «чарам». Скажите ещё — «провокациям». Каждое слово будет по-своему верным. Я прямо-таки и не знаю, чем вас убедить. Что бы я ни говорила, вы заведомо настроены негативно и приложите все душевные силы, чтобы сохранить в неприкосновенности свои предрассудки и то, что вы называете «здравым смыслом». Вот разве что… Это запрещённый приём, но — другого выхода просто нет! Подзовите сюда человека, здравомыслию которого вы наиболее доверяете. Я не хочу говорить без свидетелей, иначе любые мои слова вы истолкуете в прежнем ключе.
Президент огляделся. Ближе всех к нему находился Журналист. Что ж, его здравомыслию он действительно доверял. А также чутью, политическому и, так сказать, общечеловеческому.
— Толя, можно тебя на минуточку?
Журналист подошёл, выражая на лице искреннюю радость по случаю представившейся возможности лично приложиться к ручке роковой (такое определение мелькнуло у него в мыслях) красавицы, за каждым жестом и словом которой он наблюдал с первой секунды её здесь появления. Можно сказать и больше — он эту Сильвию уже целый час физиологически вожделел, безуспешно пытаясь убедить себя, что смешно в его возрасте так реагировать… Да и на что? Кокетства ноль, тело полностью прикрыто, хотя очертания фигуры, стройность ног, грация пантеры способны возбуждать не меньше, чем пляжное бикини, даже и топлес… Но здесь, скорее, дело в мимике, глазах, интонациях. Так какая в них должна быть эротическая сила?
— Видите ли, Анатолий, — она улыбнулась до невероятности лучезарно и интригующе, — ваш друг позволил себе усомниться в моей искренности и правдивости…
— Да как можно?! — едва не ужаснулся Журналист, одновременно незаметно подмигивая Президенту невидимым Сильвией глазом: я, мол, сыграю как надо, не сомневайся, пусть пока и не знаю, в чём моя роль должна заключаться…
— Видите — можно. Ваше общество, не здесь присутствующие, а вообще, в глобальном смысле, слишком уж успешно прогрессирует. В процессе этого «прогресса» отказалось от понятий чести и благородства в пользу так называемой «политкорректности». У нас совершенно невозможно усомниться в честном слове человека своего круга, тем более — титулованной дамы. У вас же, как я неоднократно имела возможность убедиться, всё наоборот. Неприлично говорить правду, если она способна причинить малейший дискомфорт. Даже в делах государственной важности.
При этих словах лицо Сильвии приобрело выражение надменное и почти угрожающее.
— Вы не так меня поняли… — Президент ещё недостаточно долго занимал свой пост, чтобы полностью утратить способность к естественным человеческим реакциям.
— Так, так, — отмахнулась Сильвия. — И за это будете наказаны. На глазах своего друга. Я не мужчина, к сожалению, на дуэль не вызову, но и меня нельзя обижать безнаказанно.
Никто не успел сообразить, как именно следует реагировать на эти слова, прозвучавшие отнюдь не шутливо.
«Чёрт её знает, — мелькнуло у Журналиста. — Вдруг всё подстроено, и она сейчас выхватит пистолет, а то и замкнёт контакт пояса…»
Но обе руки Сильвии были на виду, она вертела в пальцах тонкий золотой портсигар, на крышке которого вспыхивала водопадами искр драгоценная монограмма.
— Я закурю, — сказала она совершенно другим, мягким, чуть ли не просительным тоном, щёлкая рубиновой кнопкой. И явственно подмигнула Журналисту. Он машинально сунул руку в карман за зажигалкой.
…Сильвия уже поняла — никакими словесными доводами ей не удастся убедить Президента в истинности своих слов, и личное присутствие Олега ничего не меняло. По крайней мере — сегодня. Если человек зациклен на какой-то идее, в данном случае идее против него направленной мистификации, то переубедить его так же трудно, как шизофреника в нелепости его бреда. Иногда, правда, помогает нечто вроде электрошока.
Значит, его и надо использовать. Не в буквальном, конечно, смысле. Просто — устроить небольшую демонстрацию. Приём был стандартный, требующий минимальной предварительной настройки блок-универсала. Таким же образом она однажды перебросила Новикова из своего английского поместья на Таорэру. Сегодня процедура была гораздо проще, дистанция не десятки парсек, а столько же километров, и без какого-либо межвременного смещения. Переместиться нужно в синхрон аналогичной реальности, через барьер толщиной в несколько хроноквантов. Не сложнее, чем переход из комнаты в комнату на Столешниковом.
Сильвия заранее выставила координаты, всего лишь двухметровый радиус захвата, достаточный, чтобы в зоне переноса оказались только они трое. Нажала рубиновую кнопку защёлки.
Проморгавшись после ослепительной вспышки тьмы, Президент с Журналистом увидели, что они стоят не на зелёной, тщательно подстриженной лужайке, а на диабазовой брусчатке Красной площади рядом с собором Василия Блаженного. Место было выбрано так удачно, что их появление в затенённой нише храмового цоколя никто не заметил. А если кто-то из проходивших вдалеке, вдоль фасада ГУМа (то есть здесь — Верхних торговых рядов), москвичей или гостей столицы и взглянул случайно именно в этот момент в их сторону, наверняка подумал, что женщина и двое мужчин только что вышли из-за ближнего угла.
— Всё нормально? — заботливо спросила Сильвия у Президента и его друга. — Не тошнит?
Те вертели головами в полном ошеломлении. Переход из мира в мир не вызвал у них неприятных физических ощущений, да и психологический шок пока не случился. Слишком всё произошло внезапно.
— Это что было? — первым раскрыл рот Журналист.
Президент нашёл в себе силы сохранить положенную должностью выдержку.
— Это то, о чём я и говорила. Нельзя настолько не верить даме и союзнику. В противном случае рискуете оказаться в неудобном положении. Ладно, извинений я от вас не потребую, вы и так достаточно наказаны. Видите ли, Анатолий, — через Журналиста доносить до Президента свои слова и эмоции ей казалось правильнее в смысле субординации. Кроме того, она знала об обрушившемся на мужчину приступе почти детского эротического восторга, как у школьника, подсмотревшего, как раздевается за кустами на пляже его первая любовь. Сильвии не составило труда вызвать у Журналиста подобную реакцию: ей нужен был человек, который, пережив такое, и впредь будет подсознательно поддерживать её, а не чью-либо другую точку зрения и в далёких от личных симпатий и антипатий вопросах.
— Я несколько минут назад осмелилась изложить истину, которая была воспринята неадекватно ввиду чрезмерной зашоренности вашего мышления. Хотя, казалось бы, чего проще? Во Вселенной существует бесчисленное множество обитаемых миров, за подобное утверждение Джордано Бруно сожгли ещё пятьсот лет назад. Некоторые из них находятся от нас в сотнях световых лет, другие — на расстоянии вытянутой руки. И населены не монстрами негуманоидными, а неотличимыми от нас людьми. В чём вы имеете возможность убедиться. Прошу…
Она обвела широким жестом панораму Красной площади и окружающих её зданий, группы и группки праздно озирающих кремлёвские стены и башни туристов, простых москвичей, спешащих по своим делам.
Гости, постепенно приходя в себя, увидели картину одновременно знакомую и невероятно чуждую. Шпили башен, увенчанные вместо звёзд двуглавыми орлами, городового в чёрной с красной отделкой форме на углу Хрустального переулка, одежду мужчин и женщин, автомобили незнакомого облика, рекламные щиты на фасаде Торговых рядов, отсутствие многих известных зданий в окружающей панораме и многое другое. Достаточно, чтобы понять — мир вокруг действительно чужой.
— Мне кажется, вы поступили опрометчиво, — сказал Президент, сосредоточившись совсем не на том, на чём следовало бы. Может быть — в качестве психологической защиты. — Представьте, какая сейчас поднялась суматоха в связи с нашим исчезновением. Я опасаюсь — вашим друзьям придётся очень непросто.
— Ах, оставьте. Был, кажется, во времена вашей молодости такой анекдот: «В Политбюро тоже не дураки сидят. Всё предусмотрено. На Солнце полетите ночью». Так и у нас. Чудеса техники и хронофизики простираются настолько, что мы вернёмся буквально через несколько секунд. Большинство ваших людей, — она подчеркнула это интонацией, — вообще ничего не заметят, кроме, может быть, не слишком яркой вспышки, которую вполне можно счесть солнечным бликом. Наши, само собой, в курсе…
— Вы уверены?
— Какое ещё чудо техники требуется совершить, чтобы вы перестали задавать подобные вопросы? — ледяным тоном спросила Сильвия, прищурившись. — Может быть, желаете из ложи бенуара полюбоваться на звезду Бетельгейзе? Правда, будет не очень комфортно, она в восемьсот пятьдесят раз больше Солнца…
— Извините, Сильвия Артуровна, я опять сказал не подумав, — склонил голову Президент.
— Принимаю. Теперь — краткий инструктаж. Мы с вами прогуляемся несколько кварталов вверх по Тверской. Если угодно — можно и по Охотному ряду, и в сторону Арбата. На ваше усмотрение. Посмо́трите. Ку́пите свежие газеты — вам будет интересно. Можно где-нибудь на веранде трактира попробовать местного пива. Средствами я располагаю, — снова улыбнулась она. — По поводу своей безопасности можете быть совершенно спокойны. Документы здесь предъявлять не нужно, многие вообще давным-давно забыли, для чего они, если за границу не выезжать. От вон того городового, — она указала на дюжего, но благообразного унтера с несколькими медалями на кителе, при револьвере и шашке, — пользы и помощи гражданам больше, чем от целого райотдела милиции у вас.
Президент предпочёл не реагировать на очередной выпад, а Журналист едва заметно улыбнулся. Он жадно осматривался по сторонам, сознавая, что началось самое яркое в его жизни приключение. И, как он понимал, далеко не последнее. Повезло репортёру, как никакому другому в писаной истории…
— И — главное, — закончила Сильвия, — держитесь ровно и спокойно. Вы теперь рядовые граждане Российской империи. О своём положении дома временно забудьте. Здесь на улице и наследник Престола правовым статусом ничем не отличается от дворника или разносчика папирос. От меня не отставайте. Если потеряетесь, я вас найду, конечно, но лучше держитесь в пределах шаговой доступности. Вот и всё, пожалуй. Так куда идём?
Президент со странным чувством посмотрел на кремлёвские стены.
— Ну, давайте по Тверской…
Вздохнул и двинулся через необъятную площадь, отчего-то избегая слишком близко подходить к местным жителям. Из суеверности, что ли?
Своим обликом они с Анатолием и Сильвия не слишком выделялись среди народа. Именно так никто здесь не одевался, но если предположить, что они — путешественники, хоть из-за рубежа, хоть из отдалённых провинций, — вполне сойдёт. Любопытство к окружающим в Москве не было в ходу. Каждому хватало своих забот, и внешность посторонних не являлась предметом обсуждения. Лишь бы она не оскорбляла «общественную нравственность». А этого не было.
Часы на Спасской башне пробили одиннадцать. В другой тональности, чем дома. Оно и понятно: в эти куранты большевистские снаряды не попадали, восстанавливать и переналаживать механизм не пришлось.
На месте гостиницы «Москва», стремительно снесённой и так же быстро выстроенной заново Лужковым, протянулся трёхэтажный корпус старого «Гранд-отеля». Журналист, увидев газетный киоск, немедленно обратил к Сильвии вопросительно-просящий взор. Она протянула ему жёлтый горизонтально-продолговатый рубль, размером с эрэфскую пятисотку.
— Хватит, хватит, не бойтесь…
Анатолий жадно взял с прилавка «Речь», «Русское слово», «Новое время», ещё несколько многостраничных изданий, включая даже «Ведомости Московского градоначальства», которые здесь никто не читал, за исключением лиц, напрямую зависящих от деятельности этой административной структуры. После этого получил сдачу несколькими серебряными гривенниками и медной мелочью.
— Вот истинная свобода средств массовой информации, — то ли в шутку, то ли всерьёз сказал он, неизвестно к кому обращаясь.
— Что, у нас меньше? — отреагировал Президент.
— Я о ценах. Три копейки номер, а не двадцать рублей. А какая у вас здесь средняя зарплата?
— По способности. Я не очень вникала, я ведь тоже нездешняя. Но на рубль дня три прожить можно. И в трактире выпить-закусить. А пожелаете в «Националь», — она кивнула на здание напротив, — в четвертной едва уложитесь.
— «Четвертной» — это двадцать пять? — уточнил Журналист. — Как и у нас при Советской власти?
— И как до революции тоже. Он же «Сашенька» — по портрету Александра Третьего.
— Устойчивая валюта, цены практически те же, что сто лет назад…
— Надеюсь, теперь вы окончательно поверили, что вокруг вас не декорации, и газеты я специально для вас у себя дома на ксероксе не печатала, — не упустила случая снова уязвить своих «кавалеров» леди. — Что касается «устойчивости» — это тоже вопрос государственной воли. Соблюдайте постоянный паритет бумажных денег к золотовалютным резервам в пропорции два к трём — у вас и тысячу лет инфляции не будет…
Сказано как бы в пространство, но Президент намёк понял. Однако промолчал. Сильвия наблюдала за ним очень внимательно, опыта хватало. Держится «молодой человек» неплохо, психика устойчивая. Ни одного по-настоящему лишнего слова или жеста. Но внутри напряжён до предела. Тоже понятно. Это Журналисту просто интересно, тот по типажу куда ближе к Ляховым и старшим товарищам по «Братству». Так те — парни от природы «отвязанные», экзистенциалисты в чистом виде. Никаким посторонним факторам не подверженные, кроме собственных убеждений и в этих понятиях трактуемого «долга». Долго ей пришлось привыкать и подстраиваться, чтобы её признали за свою. И удивительно, подобное признание было бывшей аггрианке дороже всего, случавшегося в предыдущей жизни.
Президенту, конечно, труднее. Скажи ему сейчас, что возврата не будет и придётся навсегда обустраиваться здесь, он наверняка не растеряется и не потеряется, но пока ощущает себя не частным лицом, а воплощённой в теле смертного «функцией».
По сторонам тем не менее смотрит с интересом, наверняка продолжая просчитывать: не «подстава» ли? Ради такого, как он, все враждебные силы могут сосредоточиться, чтобы… Чтобы что? С помощью гипноза и тому подобных средств создать у него иллюзию реальности окружающего? А зачем?
Она так его и спросила негромко, пока Журналист впитывал ауру иного мира.
— Если вам тяжело, можем вернуться прямо сейчас. Зайдём в ближайшую подворотню или подъезд. У вас, наверное, давление сильно подскочило, и пульс частит…
— Нет, спасибо, мне очень интересно. Давайте дойдём хотя бы до Маяковского. И действительно пива выпьем, там, где студентами пили. Сохранились те точки, или всё окончательно иначе?
— Честно говоря, не в курсе. Я по пивным как-то не очень. Ни в юности, ни сейчас. Но что-нибудь подходящее найдём непременно.
И нашли, конечно — слева по ходу, позади памятника Пушкину, стоящего напротив привычного места. Отсутствие на площади редакции «Известий» и кинотеатра «Россия» при наличии Страстного монастыря гостей не очень удивило — видели старые фотографии и кинохроники.
— Неплохо, очень неплохо, — сказал Журналист, сделав глоток из массивной фаянсовой кружки, поскольку пивная была немецкая, закусил ржаным бубличком, покрытым крупными кристаллами соли. — Я бы, например, с целью изучения действительности охотно задержался здесь на сутки, двое… Как, не возражаешь отпустить меня в «творческую командировку»? — полушутливо спросил он Президента.
Тот был погружён в задумчивость и отреагировал серьёзно:
— Ты действительно так легко к этому относишься? Пришли, погуляли, вернулись…
Не заботясь об имидже, попросил у Сильвии сигарету, прикурил чуть торопливее, чем следовало, нервы всё-таки не железные, да и некому сейчас хладнокровие демонстрировать. С точки зрения аггрианки, это было правильно.
— Желаешь с моей стороны театральных эффектов? — пожал плечами Анатолий. — Не вижу оснований. Только что мироздание приоткрылось ещё одной стороной. Ну и что? Мир не рухнул… А, чёрт! Ядерный чемоданчик!
До него только сейчас дошло. Как ни относись к чудесам и парадоксам природы, факт налицо — Президент здесь, чемоданчик — там. И между ними — непреодолимая никаким мыслимым способом пропасть. Ничего другого врагам, хоть внутренним, хоть внешним, и не нужно. Чемоданчик — там! То есть — неизвестно где.
— Господа, да будьте же вы мужчинами, — с усмешкой сказала Сильвия, вместо пива поднося к губам рюмку коньяку за неимением в заведении джина. — Я сказала — через полсекунды того времени вы окажетесь дома. В случае присутствия с моей стороны враждебных намерений вы просто бы не существовали уже (не знаю, правда, зачем бы это мне, нам могло потребоваться?). Выкуп за вас взять? Чем? Нет в России, да и на всей Земле ничего такого, что мы не могли бы взять без дешёвой театральщины. Посадить на ваш, господин Президент, престол другого человека? Смысла ещё меньше. Да расслабьтесь вы, поживите хоть десять минут спокойно, получите от пива и новых впечатлений удовольствие. Полюбуйтесь на местных девушек и женщин — когда ещё придётся. И, пожалуйста, ревену а ну мутон[38]. Можем прямо отсюда, а можем из деликатности, не шокируя аборигенов, вон из того дворика напротив…
…Левый снайпер на чердаке, державший в перекрестье прицела спину Сильвии, непроизвольно дёрнул головой, выпуская цель из поля зрения.
— Что такое? — спросил правый.
— Глаз засветило. Точно лазером по стёклам мазнуло. Тебе как?
— Блымснуло что-то, но слегка. Детишки зеркальцем балуются?
— Ярковато, до сих пор пятна мелькают… Ты смотри, смотри…
Затея Контрразведчика была дурацкой, как и многие другие идеи и решения этого ведомства. Чем могут помочь снайперы в случае покушения на «охраняемое лицо»? Абсолютно ничем. Разве что стрелять куда придётся после случившегося. До инцидента — бессмысленно.
Вот как и сейчас. Совершенно случайно вспышка, сопровождавшая переход, через оптическую ось прицела почти ослепила снайпера. Хорошо, не выстрелил от неожиданности, а то мог бы попасть в кого-то из гостей, беспорядочно перемещавшихся вдоль линии огня.
Сильвия хоть и сдержала своё слово, но с опозданием на целых три секунды. Все трое оказались практически на том же месте, но развёрнутые на сто восемьдесят градусов. Принцип неопределённости Гейзенберга, ничего не поделаешь.
Зато короткий обмен мнениями между снайперами впоследствии не позволил им правильно оценить интервал времени — полсекунды прошло, полторы или три.
— Протёр глаза? Всё, не отвлекайся, — сквозь зубы бросил правый снайпер. Ему тоже показалось несколько удивительным случившееся. Только что он наблюдал «предполагаемую цель» и «охраняемое лицо» в фас, а теперь — наоборот. Но здравый смысл, необходимый людям их профессии, не допускал излишних фантазий. Повернулись — значит, повернулись в тот момент, что они отвлеклись на вспышку и посторонние слова. Ничего ведь не случилось. Президент — вот он, там, где и был, и его приятель, и странная (вот именно так и подумал старший лейтенант — «странная») женщина. Докладывать «наверх» не о чем. Но вот задуматься…
На двадцать километров впереди — сплошной лесной массив. С любого дерева можно послать световой импульс, способный ослепить снайпера. Но зачем? Если цель — «охраняемое лицо» и кто-то имел намерение его убить, это бы уже было сделано. Без всяких игр с солнечными зайчиками. Банальной ракетой с осколочно-фугасной головкой. Как Джохара Дудаева. Но подобный вариант уже за пределами «оперативной задачи». На этом стрелок и успокоился. Если дальше ничего не случится и их снимут с поста по миновании надобности — проще всего забыть о «непонятном». Мало ли в природе всяких «атмосферных» явлений. Но пока что нужно удвоить бдительность и немного сменить позицию. Он отодвинулся на метр в сторону, продолжая выполнять своё совершенно бессмысленное задание.
Сильвия ободряюще кивнула своим спутникам. Мол, вот видите, всё получилось так, как я обещала. При этом, маскируя острый взгляд ресницами, продолжала наблюдать за Президентом. В отличие от Анатолия, воспринявшего «прогулку» с огромным удовольствием, верой и жаждой новых приключений, Президент был напряжён и мрачен.
Да и как же, по большому счёту, иначе? Достоевский, кажется, написал: «Если Бога нет, какой же я штабс-капитан?» Так и здесь: «Если у вас есть параллельная Россия, какой же я теперь Президент? И главное — чего?»
Глава пятая
Сильвия убедилась, что их кратковременной отлучки никто не заметил, даже Фёст с Секондом. На это и был расчёт: если она бралась за дело, то предпочитала сохранять в процессе его исполнения инициативу, а также и обладать максимумом недоступной другим информации. Такая тактика обычно обеспечивала несколько дополнительных степеней свободы поведения.
Президенту и Журналисту она коротко шепнула, чтобы о случившемся с ними пока молчали и ничему предстоящему тоже не удивлялись.
— …Ну так что, господа, — громко сказала Сильвия, поднимаясь на веранду, — познакомились, настроились? Пора и к делу.
Пусть она не была хозяйкой дачи, но хозяйкой положения — безусловно. А также и инициатором этой встречи. А ещё — единственной дамой в мужской компании. Не говоря уже о том, что в подобных дипломатических играх она имела куда больший опыт, чем общая продолжительность жизни любого из присутствующих.
Президент кивком подтвердил, что не возражает. Его друзья сразу заметили его непривычную скованность, но отнесли это на счёт важности момента. «Руководитель» сосредотачивается.
«Высокие договаривающиеся стороны» разместились по обе стороны длинного стола согласно протоколу. Стенографистки, естественно, не было, но с общего согласия был включен высокочувствительный диктофон.
Президент представил своих коллег и помощников, с указанием качества, в котором они здесь присутствуют. То есть как лиц совершенно неофициальных. Группа советников и консультантов, не более того.
— Как всем должно быть очевидно, — подчеркнул он, — мы собрались исключительно в частном порядке. Просто для того, чтобы посмотреть друг другу в глаза и обсудить доверительно вопросы, могущие иметь для нашей страны исключительное значение. Как в позитивном смысле, так и наоборот…
Сильвия, в отличие от него, сразу взяла быка за рога.
— Мы находимся в несколько ином положении и правовом статусе. Среди нас нет экспертов и консультантов. Часть присутствующих занимает вполне конкретный пост в той организации, которую мы, для простоты и удобства, назвали «Комитетом защиты реальности». Сама по себе организация является неправительственной, внесистемной, добровольческой и так далее. Но при этом, по ряду причин, вполне может рассматриваться и с совершенно иной точки зрения. Например, по аналогии с одним из рыцарских орденов, наш «комитет» также не является элементом государственного устройства, но вполне сравним по значимости и возможностям с той же администрацией Президента.
«Советники и консультанты» изобразили то, что в стенограммах принято обозначать значком «оживление в зале».
— Остальные члены нашей делегации пока что являются просто наблюдателями. С вашего позволения, свои, так сказать, «верительные грамоты» они вручат несколько позже. Прошу прощения, но у них есть основания некоторое, очень недолгое, время сохранять инкогнито… Так что нашу группу можно расценивать в качестве посредников, равноудалённых от каждой из сторон…
Заявка красавицей была сделана неслабая, в некотором смысле даже вызывающая. О сути, роли и месте в истории рыцарских орденов все имели понятие, но как-то несерьёзно выглядело здесь такое самопредставление со стороны нескольких человек, пусть и овладевших чудесным техническим средством, но всё равно ничтожной в сравнении с государственной машиной. Любая, к примеру, террористическая организация, имеющая на вооружении самую современную технику, включая и ядерное оружие, всё равно заведомо проиграет, если начнётся тотальная и бескомпромиссная война на уничтожение.
Другое дело, что такого развития событий никто не хотел, и большинство присутствующих с президентской стороны ориентировалось на то, чтобы каким-то образом поставить «Комитет» с его возможностями на службу собственным интересам. То есть государственным, конечно!
— Спокойно, господа, спокойно. — Сильвия включила очаровательнейшую из своих улыбок, которая, впрочем, не замаскировала завораживающе-давящего взгляда. — Ход ваших мыслей мне ясен. Увы, всё не так просто. То, о чём вам несомненно рассказал ваш Президент, — лишь малая и, признаться, не самая важная из наших… способностей. Для демонстрации, само собой, выглядит эффектно, и… очень полезно в ряде случаев. Но имеется и многое другое, друг Горацио… Продолжение цитаты вы знаете. Одним словом, я бы хотела довести до вашего сведения следующее — окружающий мир устроен совсем не так, как вы привыкли себе представлять. Отвратительно устроен — скажу от всего сердца. Соответственно — все ваши навыки, знания и привычки — примерно как семь классов школы при поступлении в аспирантуру Курчатовского института. Большинство из вас, естественно, не помнит, но аттестат об окончании «неполной средней школы» с начала двадцатых годов и до конца пятидесятых был документом, легко позволявшим занять абсолютно любой государственный и партийный пост. У Кагановича подтверждённых классов вообще два набралось, а наркомом путей сообщения он стал вполне успешным. С тех пор роль образования значительно возросла. Так что учиться придётся всем нам, независимо от желания. Особенно в свете наличия буквально на расстоянии вытянутой руки такого феномена, как возрождённая Российская Империя…
Последние слова Сильвии внесли явный интеллектуальный и эмоциональный беспорядок в и так не слишком монолитные ряды «президентской рати».
Люди-то они все были мыслящие, притом умеющие это делать в любых обстоятельствах, за оговорку никто это заявление не принял, но вот отреагировали каждый по-своему.
Первым нарушил немую сцену Философ.
— Конкретнее можно изложить последний тезис? В форме, доступной для нашего, без всякой иронии признаю, плохо информированного в данном вопросе общества? — спросил он. И взглянул на Президента.
Тот сидел, опустив глаза к столу, и что-то рисовал в лежащем перед ним блокноте.
«Да ему же скучно! — подумал Философ. — Невероятно, но факт. Такое впечатление, будто он уже знает, о чём речь. И ждёт каких-то других слов, главных. Причём ждёт тревожно… Самое главное — узнал он об этой „другой России“ только что, скорее всего — когда прогуливался с этой интриганкой по участку. Когда ехали сюда, он ещё был не в курсе, ручаюсь. Иначе бы обязательно поставил нас в известность. Но ведь и Анатолий был с ними. Он тоже знает, о чём речь? Интересно карты ложатся…»
— Нет ничего проще, — заверила Сильвия, — при условии, что вы, как и положено человеку вашей профессии, в традициях сократической школы согласитесь считать мои слова истиной, пока не сумеете доказать обратного. Логическим или эмпирическим[39] способами. Видите ли, прямо рядом с нами, ещё точнее — одновременно с нами и занимая то же самое место в пространстве, — она широким жестом обвела окружающий пейзаж, — существует практически аналогичная страна Россия. Отличающаяся лишь тем, что в ней большевики проиграли Гражданскую войну уже к началу девятнадцатого года. Что из этого последовало — вам, надеюсь, понятно. Там тоже говорят по-русски, строят своё светлое будущее, как они его понимают, уже девяносто лет без войн и революций. При этом те, кто осведомлён о существовании нашей с вами реальности, крайне встревожены тем, что здесь творится…
Философ, Контрразведчик, Юрист, Финансист и Дипломат не удержались от внешнего проявления эмоций. Каждый в своём стиле, но отреагировали. В диапазоне от явного недоверия до сдержанного возмущения тем, что в серьёзном обществе и при важном разговоре допускаются подобного рода высказывания. Как если бы при встрече глав государств, хотя бы и «без галстуков», кто-то начал травить казарменные анекдоты.
Одновременно Философ заметил совсем неадекватную реакцию Журналиста и Писателя. Именно — неадекватную с точки зрения «нормального человека», только что узнавшего о факте, меняющем всю привычную картину мира и его личную судьбу заодно. Эти двое держались так, будто не услышали ничего нового и с нетерпением ждут продолжения. Что при этом подумал Контрразведчик, и заметил ли он вообще такую тонкость — неизвестно.
Переговорщики со стороны Сильвии вообще никаких эмоций не проявляли, что и понятно. Они сейчас словно были в своём праве, пусть и на чужой территории.
Зато Писатель прямо расцвёл. Бросил три быстрых взгляда — на Сильвию, Президента и самого Философа. При этом последнему — подмигнул.
Другого от него и ждать не следовало, будь он только старым школьным другом и автором развлекательных книжек. Но он ведь ещё и в кое-каких спецструктурах послужил. Выше подполковника не поднялся, но для написания достоверных исторических боевиков — более чем достаточно.
Что-то интересное начинается, знать бы вот только — что. Но ждать в любом раскладе недолго. Так и вышло.
— Очень хорошо, — с серьёзным видом согласился Философ. — Поскольку я действительно не в состоянии привести обоснованных доводов против вашего утверждения, считаем его принятым. Рядом с нами на самом деле существует параллельная Вселенная, в ней — Солнечная система, Земля, на ней, само собой, присутствует и Россия. Правда, мне не совсем ясно, отчего она тысячу лет развивалась абсолютно идентично с нашей и только именно в девятнадцатом году решила пойти собственным путем. Не надо мне ничего объяснять, — предостерегающе поднял он руку. — Я тоже читал достаточно и серьёзных работ, и беллетристики. В нашем случае это такая же данность, как, предположим, температура кипения воды или скорость звука. Меня другое интересует. Хочется понять ваши, обаятельнейшая Сильвия Артуровна, мотивы. С любой разумной точки зрения. Интерес ваш не просматривается в заявленных обстоятельствах. До того как вы объявили о существовании «параллельной России», я, к примеру, мог для себя ваши действия объяснить. Обращаясь к Президенту, вы намеревались легализовать свою организацию и уже в официальном статусе добиваться тех или иных целей. Мы с вами могли бы достичь, рано или поздно, взаимоприемлемого консенсуса. И хотя бы лично я готов был на сотрудничество, тоже имея в виду свой интерес…
— Господа, — вдруг перебил его Фёст. — Может быть, сделаем паузу? Выпьем, раз уж сидим за накрытым столом, чуть снизим накал обсуждения. Спешить нам особенно некуда…
— Дельное предложение, — поддержал его Писатель. — Никто нас в шею не гонит. Куда более простые вопросы на международных конгрессах неделями и месяцами обсуждались…
— Не возражаю, — ответил Философ. — Только позвольте, я всё же закончу свои тезисы. Повторяю — я был готов поддержать идею сотрудничества с «Комитетом». Но если вы вводите дополнительный фактор, эту самую вторую Россию, так зачем вам мы? Чего вы надеетесь получить здесь, уже имея гораздо более мощного и благополучного, как мне представляется, союзника? Извините — моего воображения хватает только на весьма неприятный для Российской Федерации вариант, и я его принять не могу. Лично я! — с какой-то бесшабашной отчаянностью заявил он. Будто после этих слов его тут же поволокут на дыбу. Так хоть рубашку на груди перед этим рвануть.
Сильвия, ничего не ответив, посмотрела на Президента. Тот едва заметно пожал плечами, явно не собираясь высказывать своё мнение.
— Вы всё время говорите только об интересах, — снова ответил за неё Фёст, — и совершенно забыли о такой категории, как идеалы. А они нередко выше… Разве не так?
— Господа, господа, — постучал вилкой по хрустальному бокалу Журналист, — давайте действительно последуем предложению Петра Петровича, выпьем прежде всего за взаимопонимание. Как бы ни расходились наши мнения, поводов для конфронтации у нас нет и быть не должно. Осознаем прежде всего величие момента — это ведь больше, чем даже встреча инопланетных цивилизаций. У меня просто слов нет. Каждый из нас, — он сделал жест, будто захотел обнять всех присутствующих разом, — и каждая из Россий как бы обретает свою утерянную почти век назад половину…
— Аркадий, не говори красиво! — с усмешкой процитировал Островского (не Николая, а Александра Николаевича, драматурга) Контрразведчик.
Наступила некоторая разрядка. Выпили, кто водку, кто вино или коньяк, заговорили все разом, свои со своими и через стол. Теперь друзья Президента видели своих гостей как бы другими глазами, искали и находили раньше не замеченные отличия в манере поведения и речи.
— Что же ты меня заранее не предупредил? — с лёгкой обидой спросил Философ Журналиста. — Кажется, нетрудно было, я бы хоть морально подготовился. И до сих пор что-то скрываешь, только в толк не возьму, что именно. Чем она вас с шефом обратила в свою веру?
— Ну, подожди ещё немного. Тебе же интересней будет, — ушёл Анатолий от прямого ответа.
— Как знаешь. — Философ отстранился и потянулся с рюмкой к сидящему напротив Фёсту, резонно считая его человеком, не менее информированным, чем Сильвия.
Когда застолье приобрело хотя бы подобие непринуждённости, Сильвия решила снова обострить партию. Без всякого заранее написанного сценария, полагаясь только на интуицию и естественный ход событий.
— Моим словам большинство из вас всё же не поверили, господа. — Набор улыбок леди Спенсер был неисчерпаем. — Как-то легкомысленно отнеслись. Придётся углубить шокирующее действие…
Она вдруг сделала шаг назад, согнулась в изящном полупоклоне и возгласила тоном и децибелами средневекового дворцового герольда:
— Его Величество Государь Император и Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий князь Финляндский, Всея Великая и Малая и Белая Руси Государь и Повелитель, и прочая, и прочая, и прочая!
Сильвия произнесла лишь «малый титул». Если бы она взялась излагать «Большой», церемония непременно потеряла бы темп, а в нём вся интрига и заключалась.
«Немая сцена» из финала «Ревизора» произошла немедленно. Олег Константинович, своим нынешним обликом более напоминающий егеря с дальнего кордона, нежели Венценосца, встал, располагающе улыбнулся всем сразу, сделал шаг навстречу Президенту, едва ли не щёлкнул каблуками, признавая его особой почти что равной себе да вдобавок и полновластным хозяином на своей территории.
Президент почти машинально поднялся, растерянным взглядом скользнул по приближённым, потом посмотрел на Сильвию, снова на Олега. Происходящее, даже после прогулки по Москве, было непонятно, а этого он не любил. Даже когда ещё преподавал в университете. Неужели Сам Император той России явился сюда лично, никак подобающим титулу образом сего не обставив?
— Поясните, — после непозволительно затянувшейся паузы попросил он Сильвию. Задать тот же вопрос непосредственно Олегу что-то ему помешало. А казалось бы…
— Да что тут пояснять, ваше превосходительство, — снова улыбнулась Сильвия. — Просто мы решили, что достаточно испытывать ваше терпение, да и наше тоже, вот и решили сразу расставить все точки и снять все проблемы. Сразу и окончательно.
— После окончания Гражданской войны Учредительное собрание и Земский собор провозгласили Российскую Державу с демократическим парламентским устройством, но одновременно и сохранением поста Местоблюстителя Императорского престола. То есть монархия как бы и сохранялась, но — в латентном[40] состоянии, примерно так, как Патриаршество в нашей реальности с 1917 по 1943 год. В прошлом году очередной Земский собор решил, что пришло время восстановления Самодержавия в полном объеме. Местоблюститель Великий князь Олег Константинович Романов был провозглашён и коронован Императором Олегом Первым! Его Императорское Величество, осознавая важность момента, нашёл, как видите, возможность и изъявил желание явиться сюда СОБСТВЕННОЙ АВГУСТЕЙШЕЙ ПЕРСОНОЙ. Поскольку визит его, как уже было сказано, — неофициальный, было решено все положенные протокольные процедуры отложить до более подходящего момента.
Гражданам, и даже главе демократического государства, было неизвестно и непонятно, как следует вести себя с коронованной особой. Нет, если бы это был иностранный король, султан или эмир, прибывший и принимаемый в установленном порядке — вопросов бы не возникло. Есть на то тщательно прописанный церемониал. А здесь ситуация щекотливая — во-первых, из чего следует, что этот представительный мужчина — на самом деле Император из дома Романовых, в этой реальности давным-давно потерявших права на царствование в полном соответствии с Законом о престолонаследии? Любой актёр мог весьма убедительно сыграть такую роль. Во-вторых, если Сильвия всё-таки сказала правду, как соотносятся в смысле субординации главы одной и той же страны, существующей как бы в двух ипостасях, в юридическом смысле взаимоисключающих. Либо одна, либо другая, но никак не обе сразу.
Впрочем, есть же в физике понятие дуализма волны и частицы.
Император был более подготовлен, поэтому он первый шагнул вперёд и крепко, по-мужски пожал своему коллеге руку.
— Будем знакомы. Окончательно я смогу подтвердить свою подлинность только в одном случае — если вы согласитесь нанести мне официальный визит. Я приму вас в Кремле, и вы лично сможете сравнить, что у нас до сих пор совпадает, а что изменилось бесповоротно.
— Что ж, готов принимать вас в этом качестве, пока не убедился в обратном… — Ошеломление постепенно оставляло Президента.
Император усмехнулся. Очень эта сцена напоминала известный фильм «Иван Васильевич меняет профессию», который Ляхов ему прокрутил в берендеевском конференц-зале.
— С удовольствием приму приглашение, — продолжил Президент, считая, что лицо сохранил, — но, сами понимаете, не сегодня и даже не завтра… — Он до сих пор находился под впечатлением краткой прогулки по той Москве и склонен был поверить, что разговаривает действительно с российским Императором. Иначе степень абсурдности превысит все мыслимые пределы.
— Это понятно. Сначала можете направить к нам группу сотрудников, они на месте посмотрят, с моими людьми процедуры согласуют, темы переговоров обсудят, тогда и милости просим. Но и сейчас нам есть о чём мнениями обменяться, а то мы всё подходим, подходим, да к делу никак не перейдём.
— Я готов вас выслушать. Это как-то будет связано с событиями последних дней, «Чёрной меткой» и всем прочим?
— Как вам сказать… Меня, согласно занимаемой должности, подобная мелочь не слишком интересует. Ваши это внутренние дела, не мои.
— Тогда я вообще не понимаю, на каком основании ваши люди в них вмешиваются? Что бы у нас ни происходило — это наши вопросы, наше суверенное право.
— По поводу последнего не смею возражать. Только так называемый «Комитет» — организация не моя. И входят в него граждане, так сказать, экстерриториальные. Кое-кто из числа ваших подданных, иные, насколько мне известно, — из третьих и четвёртых параллельных времен. Мне тоже, знаете ли, — по-свойски улыбнулся Император Президенту, — пришлось в эти вопросы вникать. Просто я по основной специальности учёный-естествоиспытатель, мне легче было соотнести реалии натурфилософии и политики. В этом самом «Комитете» из моих — только полковник Ляхов, до последнего участвовавший в этих делах по своей личной инициативе. Меня он поставил в известность о своём фактическом там статусе совсем недавно. Я счёл, что вещи, выходящие за пределы, артикулом определённые, являются личным делом каждого. Потом все эти ваши дела завертелись, явно угрожающие спокойствию моей Державы. Вадим Петрович, как мог, объяснил обстановку. И убедил встретиться с вами. Я согласился, скорее из любопытства, поскольку, как уже сказал — до того, как Императором стать, всё больше научными исследованиями занимался, путешествовал, книжки писал. Пока Отечество не призвало…
— Экстерриториальные? — Президент явно путался в изящных построениях Олега. — А я вот вообразил, что и Сильвия Артуровна, и всё остальные — прибыли к нам от вас. И занялись, как говорится, «самодеятельностью», с полным основанием квалифицируемой как вмешательство во внутренние дела иностранного государства.
— Ну, «иностранной» я бы вашу Россию не назвал. Тут вообще никакие привычные нормы права неприменимы. На ваше отражение в зеркале чья юрисдикция распространяется?
Вмешался Философ:
— Ваше Величество, господин Президент, парадоксов в данной ситуации лучше избегать. Мы в них запутаемся, и ни к чему хорошему это не приведёт. Для общей пользы давайте всё-таки считать нашу и вашу России совершенно самостоятельными и независимыми государствами. Дружественными, союзными сколь это возможно, но всё же суверенными. И контакты, если договоримся, будем поддерживать на уровне обычных посольств… Иначе можем зайти слишком далеко.
Он взглядом спросил Президента, согласен ли тот с его инициативой. Тот кивнул и добавил:
— За одним исключением. В открытую объявить о появлении на карте мира «другой России», на мой взгляд, пока невозможно. Наши контакты придётся до поры осуществлять под грифом высшей степени секретности. Не подключая к этому официальные структуры. Думаю, объяснять причину нет необходимости. И ещё — как в данном случае понимать термин «экстерриториальность»?
— В самом прямом, — ответила Сильвия. — Наш комитет не принадлежит ни к одной из известных нам реальностей и одновременно — ко всем сразу. Нам на этот момент известно, как минимум, семь. И все они друг с другом взаимосвязаны — в некотором смысле каждая является причиной и одновременно следствием всех остальных. Мы не настолько хорошо представляем себе основы такого мироустройства, но эмпирическим путём установили, что любые потрясения в любой доступной точке континуума способны вызвать нечто вроде эффекта домино. С непредсказуемыми, как любят выражаться журналисты, последствиями. Вот нам и приходится отслеживать неблагоприятные тенденции в каждой из них и, в случае необходимости, принимать адекватные меры.
— Без согласия коренных обитателей этих «реальностей»? — не совсем искренне удивился Президент.
— А как вы себе представляете получение этого «согласия»? Вы, юрист-правовед! Всенародным плебисцитом? Или обращением к законным властям с разъяснениями? Был у нас случай, в одной из «веток» вашей реальности. Там пришлось экстренно решать вопрос об отстранении от должности хорошо вам известного «товарища Ежова». По понятным причинам мы это сделали, не обращаясь к единственно законному органу народного представительства, Верховному Совету СССР. К «народу вообще» тоже не обращались. Да и товарища Сталина, принявшего «окончательное решение», мы сыграли втёмную. Неужели вы считаете, что если бы и здесь товарищ Ежов был ликвидирован своевременно, пусть и без соблюдения «юридических процедур», и на его место поставлен другой человек, отнюдь не Берия, народу, стране стало бы хуже? Может быть, вы скажете: «Pereat mundus et fiat justitia!»[41] Для меня это спорный тезис.
Вот в теперешнем случае мы решили действовать открыто, обратились прямо к верховной власти в вашем лице. И что? Чувствую — обсуждение ситуации затянется на месяцы, притом что большую часть наших доводов вы явно не готовы воспринять. Не в силу своей ограниченности или злой воли, упаси бог! Просто для того, чтобы знать то же, что знаем мы, мыслить в унисон, вам придётся присоединиться к нашей организации, сначала — в качестве учеников. Вот господин Ляхов третий год с нами взаимодействует, благодаря чему оказал Престолу и Отечеству неоценимые услуги, но полноценным членом комитета так и не стал. Именно потому, что иначе у него не осталось бы времени на службу. А в отставку выходить он не хочет.
При этих словах Император молча кивнул. Да, мол, подтверждаю всё сказанное.
— Ну и какая же опасность грозит «реальностям» сейчас? Исходит она из нашей страны, раз вы обратили на неё своё «благосклонное внимание»? — Президент постарался, чтобы все присутствующие ощутили его иронию и даже сарказм.
— Вашему превосходительству достаточно дать поручение тем руководителям МГБ или иных организаций, которым он безусловно доверяет, предоставить ему полную информацию по событиям, имевшим место в Москве осенью прошлого года. У нас та операция прошла под кодом «Ночь и туман»[42], — впервые взял слово Фёст. — Только запросите действительно полную информацию. С фактами, установочными данными на бесследно исчезнувших лиц (не вокзальных бомжей, конечно, а действительно значащих фигур), посадите хоть целое аналитическое управление, пусть они вам все версии выдадут, а заодно и изменения, которые после всего этого произошли в раскладах внутри ОПГ, финансового и политического сообщества…
— А зачем? — спросил Контрразведчик, который наверняка был в курсе если и не всего, то значительной части того, о чём говорил Фёст. — Если вы располагаете всеми необходимыми материалами, так и поделитесь. Конфиденциальность я гарантирую.
— Для повышения уровня взаимного доверия. Чтобы это не выглядело примитивной «дезой» или попыткой оказать на вас информационное давление. А если возникнут вопросы — охотно на них отвечу. Я тоже лицо неофициальное, у меня свой бизнес…
Контрразведчик взглянул на протянутую Фёстом визитку, удивлённо приподнял бровь.
— Совершенно верно. Именно на этом уровне меня и воспринимайте. «Паранормальные явления», и ничего больше. Сейчас мы занимаемся в основном ясновидением, в разработке левитация и телепортация. Кое-каких успехов добились, как видите. А если без шуток… Так до конца и не прояснённые нами силы пытаются использовать территорию вашей России для дестабилизации соседней. И нет оснований надеяться, что прошлогоднее поражение противника его так уж образумило. Ещё проще — наша страна сейчас — это вражеский плацдарм, с которого планируется очередное и гораздо более масштабное вторжение к ним, — он указал на Олега Константиновича. — Это нешуточная угроза сразу двум реальностям, вплоть до их физического, а не только политического существования. Такого, я думаю, не потерпит даже Румыния от Болгарии, например.
Президент вдруг уловил в голосе Фёста знакомые нотки. «Александр Александрович?» Пожалуй, он самый. Грим гримом, а взгляд, голос, манеру говорить замаскировать трудно.
Говорить об этом вслух он не стал, разговор и так пошёл слишком скомканный. В подтверждение той мысли, что действительно не два посольства суверенных держав здесь встретились, а близкие родственники (причём скорее — из южной семьи, многочисленной, с полузабытыми генеалогическими отношениями), для которых сиюминутное настроение и какие-то давние пересечения внутрисемейных приязней и антипатий куда важнее внешней пристойности и этикета.
Сам Президент и то подумал, что интересная юридическая коллизия вырисовывается, если к ней с беспристрастной меркой подойти. В смысле — является ли его страна правопреемницей царской? До семнадцатого года существовавшей, как Ельцин в своё время признал РФ правопреемницей СССР со всеми юридическими и политическими последствиями. Или же ныне здесь присутствующий Олег Константинович вправе предъявить собственные ленные права на это, с точки зрения параллельной реальности, «химерическое» государство. Как Китай на неизвестно кому по праву принадлежащий Тайвань.
Подумал мельком, но тут же и оформил эту мысль в чёткое решение. Почему и стал Президентом, а не совладельцем мелкой коммерческой фирмы или «помощником присяжного поверенного». Данное подобие переговоров — немедленно прекратить. Дабы не придать им какое угодно подобие легитимности. Познакомились — достаточно. В частном порядке можно ещё какое-то время пообщаться с человеком, назвавшим себя «Императором», ничем не более убедительным в данной роли, чем насмешливо улыбающийся «Александр Александрович». Для окончательного прояснения позиций и ситуации.
Президент уже почти сумел отрешиться от впечатления, полученного за время краткой прогулки по чужой Москве. Ну, было и было, причём не совсем даже и ясно, что было, и было ли на самом деле.
А вот своим друзьям-консультантам он немедленно поручит вступить в самые тесные отношения со своими визави. Каждый из них, судя по всему, занимает примерно аналогичное положение при своём «государе», и поговорить им будет о чём. Пусть найдут способ (а зачем его искать, сами предложат) заручиться приглашением в гости в ту реальность. На неделю, на месяц — несущественно. Командировку выпишем и командировочные выплатим по факту, невзирая, что и годичная командировка может ограничиться тремя секундами. Именно столько времени сам он провёл там, если верить подаренному главой Швейцарской Конфедерации штучному «Лонжину».
Олег Константинович, очевидно, пришёл к такому же выводу — о бессмысленности ожидания от встречи с «этим мальчишкой» немедленного позитива. «Мальчишка» — отнюдь не подразумевало негативного отношения ненамного старшего по возрасту Императора к своему… Да неизвестно, как его и назвать, исходя из понимания вопроса. О жизненном опыте думал Император, о том, что наверняка руководитель этой России (термин «Президент» ему даже про себя произносить было неприятно. Как глотать «консоме» вместо борща с добрым куском мяса) понятия не имеет, как седлать коня, как трястись в этом седле по полусотне вёрст ежедневно, не снимая ладони с шейки приклада верного карабина, в любую секунду ожидая… Да чего угодно ожидая в двухсотвёрстной полосе по обоим берегам Амура.
И слишком уж этот «Президент» сейчас пытается… Да, именно пытается выглядеть «соответствующим должности». А этого не надо. Пытаться. Сам он, ещё тридцатилетний капитан, заезжал, небритый, в пропотевшем кителе, на глухую таёжную станицу, от которой за трое суток переменным аллюром никуда не доскачешь, и полдюжины заслуженных дедов, на вечерние посиделки у правления выходившие в выцветших гимнастёрках, при крестах и медалях, инстинктивно, пусть и с достоинством, вставали и отдавали честь. И не ехали при этом впереди него машины с мигалками, кортеж мотоциклистов (эти тонкости здешней жизни Секонд ему показал на видеороликах).
Три казака позади, верный Миллер, или Чекменёв рядом — и достаточно. Пять патронов в карабине, десять в «маузере». Вот в этих пределах ты и человек. Само собой — глаза при тебе, руки-ноги, сила и реакция. «Благословение Господне» — как получится. «Ему там» виднее. Захочет — снаряд, точно в тебя направленный, рядом упадёт и не взорвётся. Захочет — шею сломаешь, не на тот край лавочки сев.
Олег Константинович улыбнулся. Секонд и Миллер знали эту добродушную, одновременно хитрую улыбку.
— Может быть, для укрепления взаимного доверия согласитесь принять моё предложение? — спросил он у Президента, заведомо не рассчитывая на позитивный ответ. — Тут до моей летней резиденции не так уж далеко. Посидим, поговорим. Приму по-царски… — опять якобы с усмешкой. — Посмотрите, как при «военно-феодальном строе» живём.
Это уже откровенная подколка, на основе почерпнутых Императором из нескольких доставленных флигель-адъютантом отсюда книг, написанных в стиле марксистско-ленинского понимания истории. Ничего, кроме отвращения, они у него не вызвали.
— Спасибо… — Президент замялся. «Вашим Величеством» называть собеседника явно не хотелось.
— Да Олег, и всё, — понял его затруднение Император.
— Олег… Спасибо за приглашение, «царский обед» нам и здесь скоро накроют. Но вы должны понять…
— Да не затрудняйся ты так, — вдруг перешёл на «ты» Олег Константинович. — Свои же люди. Давай я тебе лучше подарочек сделаю…
Президент насторожился.
Он, в отличие от президента американского[43], догадывался, что подарочки оч-чень разные бывают. От иного долго-долго не сообразишь, как избавиться. Да и «отдариться» не всегда получается.
Император сделал жест в сторону войскового старшины Миллера. Тот немедленно извлёк из внутреннего кармана куртки (адъютантской полевой сумки с собой не взял) не слишком большую, обтянутую вишнёвым бархатом коробочку.
— Возьми, товарищ (другого слова Император не нашёл, кроме этого, очень почётного обращения, к большевикам отношения не имеющего[44]), просто в память нашей встречи. — О том, как это слово воспримут аборигены, он не задумался.
Президент взял, оснований отказаться не было, хотя Контрразведчик непроизвольно дёрнулся.
Внутри лежал орденский крест, размером с Георгиевский третьей степени, но иной формы, выполненный из золота, с чёрно-белой эмалевой окантовкой лучей, с кольцом для шейной, сейчас отсутствовавшей ленты.
— Это не орден, макет, — пояснил Олег Константинович. — Пока не утверждённый, но исполненный в натуральную величину и из натуральных материалов…
— Действующая модель паровоза в натуральную величину, — вроде бы буркнул себе под нос Писатель, но все услышали.
— Вот именно, друг мой, вот именно, — немедленно отреагировал Император. — Вы и раньше, как я заметил, проявляли должную быстроту мышления, так я попрошу вас к себе в гости независимо от точки зрения политической.
Нет времени сейчас описать выражения глаз, лиц, а главное — мысли людей с президентской стороны стола. Достаточно одной, Журналиста: «Трепач, ничего для собственного успеха не сделал, а в „мэтрах“ обозначился. И сейчас совсем не в тему ляпнул, и на тебе, личное приглашения! Я первый туда сходил, и что?»
Причём мнение это было совершенно дружеское. Без тени зависти или желания навредить, точно как непроизвольный вскрик — собрался то ли на мизер, то ли на тотус упасть, просчитал, заслабило, партнёру прикуп отдал. А там либо два туза в жилу, либо две «хозяйки». И тебе и ему одинаково, на двенадцати картах игралось. Но ведь обидно же! Сам Боб Власов, любимый партнёр, чуть не Капабланка в «префе», и тот в таких случаях едва не до слёз расстраивался.
Президент «макет» орденского знака принял. Внимательно его осмотрел, с особым вниманием прочёл «девиз»: «Рука всевышнего отечество спасла!»
— Это по какому случаю? — на всякий случай спросил, ибо в истории «параллельной», естественно, был не силён. Но что-то такое ему эти слова напоминали.
Что так называлась весьма популярная в тридцатые годы уже позапрошлого века драма Кукольника, Нестора Васильевича, изданная раньше «Ревизора» Гоголя и «Героя нашего времени» Лермонтова, он не помнил, но, как известно: «Высшее образование — это то, что остаётся, когда всё выученное забывается».
Император умел «руководить процессом». Не считал нужным отвечать сам, если подчинённые могли это сделать лучше или видел для себя «некоторый урон».
Не войсковой старшина Миллер, державший в руках коробку с наградой, а флигель-адъютант Ляхов, по незаметному знаку, ответил со всем возможным пиететом к любым проявлениям «щепетильности»[45] со стороны здешнего правителя. Так, «чтобы очень», как в грузинском анекдоте, этот Президент ему не нравился. Но — должностное лицо, официального почтения заслуживающее.
— Ваше Превосходительство! — Ляхов очень здорово умел «играть голосом», щёлкать каблуками любой надетой на нём обуви и вообще выглядеть так, что «проникались» и начальствующие мужчины, и самые красивые женщины, вроде Майи Скуратовой. — Данный орденский знак Его Императорское Величество решил учредить в ознаменование разгрома вторгшихся на территорию Империи банд, проникших туда с подконтрольной Вам территории. Имевших в своём составе чеченских и иных кавказских, вкупе с иными исламистами сепаратистов, украинских и прибалтийских фашистов, а также и прочий наёмный сброд. Гвардия Государя совместно с доблестными Корниловской и Марковской дивизиями, пришедшими нам на помощь, навели в Москве и окрестностях «конституционный порядок». — Это сочетание Ляхов употребил специально. Чтобы понятнее было.
— Простите, — не выдержал Контрразведчик. — Какими «корниловскими и марковскими»?
— Именно теми, о которых вы подумали, — почти издевательски сказал Ляхов. — Вам известны какие-нибудь другие?
— Вас опять что-нибудь удивляет? — уж с этим «жандармским» генералом Вадим мог держать себя абсолютно раскованно и независимо. И не таких видали.
— Да, естественно, с первого раза это с трудом укладывается в привычные представления. А мы все и здесь присутствующий Государь откуда? У вас такой-то год, у нас приблизительно соответствующий, ну а в «третьей реальности» двадцатые прошлого века в самом начале. Точно так же люди живут, независимо от того, что на Главной исторической последовательности все они давно покойники. И связь с тем и нашим временем отлажена довольно чётко.
— Если существование вашего параллельного времени ещё может быть как-то объяснено, — сказал Философ, до сих пор не догадывавшийся, что Президент и Журналист там уже побывали. Того, как друг спрятал в походную сумку пачку газет, он просто не заметил, — то прошлое, с какой бы точки зрения к нему ни подходить, уже не существует. Иначе бы оно таковым не было…
— Да как же так? — в стиле Коровьева удивился Секонд. — Если вы хоть раз держали в руках любой предмет, изготовленный раньше текущего момента, то не можете не признать, что если реален сам предмет, то не менее реально место и время, где он был произведён. Конечно, в ньютоновой физике и марксистской философии эта точка и все ей предшествующие точки континуума недоступны. Про парадокс с убийством дедушки я тоже знаю. Суть вопроса в том и заключается, что вы рассматриваете слишком частный случай. Допустим, вы проехали железнодорожную станцию, и она для вас безусловно позади географически и в прошлом хронологически. Но только — в пределах системы «поезд-рельсы-расписание». Сама же она никуда не делась, с помощью автомобиля или вертолёта вы вполне можете туда вернуться, сделать какие-то упущенные дела, после чего на следующей станции догнать свой вагон, внутри которого за время отсутствия никаких значимых изменений не произойдёт, и в пункт назначения прибудете в положенное время…
Аналогия не показалась Философу корректной, и он немедленно захотел её оспорить, почти забыв об исходной точке дискуссии.
Увидев, что спор одинаково эрудированных людей обещает быть долгим и вполне может перейти в банальную склоку, Император сделал короткий, но сразу ставящий спорщиков на место жест.
«Что ж, сувенир он и есть сувенир, отчего и не принять? — думал Президент. — Что там за намёк Олег этим подарком обозначает — не суть важно. Только теперь нужно немедленно ответить чем-то равноценным».
Он передал коробку в руки Писателя, обвёл друзей вопросительным взглядом. На что ещё нужны советники? Подсказать необходимое решение в момент, когда сюзерен не то чтобы в растерянности (такого быть не должно, а следовательно, и не может), а по известным только ему причинам размышляет о чём-то другом, не менее важном.
Здесь у него под руками равноценного подарка не было, и где его взять? Хоть в Москву посылай специального человека, имеющего доступ к Спецхрану.
Тут и подфартило Контрразведчику. Без всякой специальной цели, просто — друзьям показать, заодно и пристрелять по бутылкам и другим подходящим целям прихватил он с собой попавший на днях к нему в руки пистолет «Гюрза», заводского производства, но побывавший в руках неких умельцев, превративших его в произведение искусства. Не иначе как в знаменитом ауле Кубачи над ним поработали (или в одном из мест лишения свободы, где «народные умельцы» что угодно изготовят, был бы заказ). Все металлические детали расписали золотой чеканкой, травлением по металлу и прочими изысками, всячески обыгрывающими наименование модели. На щёчки пустили слоновую, а скорее — моржовую кость, сплошь покрытую неповторяющимся орнаментом. Может, для какого «амира» то ли своего, то ли заграничного делали. Или — министру ко дню рождения.
Немного жалко было вдруг взять да отдать красивую игрушку. Так и выигрыш тоже светил немаленький, что с этой, что с другой стороны. А себе ещё найдём, особенно если весь «цех» накрыть удастся. Самое главное, пистолет был из той серии, что предназначалась под девятимиллиметровый патрон «Парабеллум». Такие и в параллельном мире наверняка найдутся[46].
Не рояль в кустах, но около этого.
— Я сейчас, — сказал он Императору.
И бегать никуда не пришлось, только до машины дойти. При всём своём скептицизме и даже несколько вызывающем неприятии общеполагающей идеи Контрразведчик оказался профессионально «грамотным человеком». Чётко сообразил, что проще поверить в невероятное, чем остаться на перроне, глядя в хвост уходящему поезду. Журналист и Писатель явно уже поверили и «императору», и его свите, а они ребята хваткие, на пустую блесну не ловятся. Как бы не выиграли «поперёд него» редко выпадающий шанс. Текущий расклад в случае чего бо-ольшущий куш сулит.
Деревянный футляр, в каких обычно хранилось целевое оружие, он подал Президенту почтительно, одновременно бросив взгляд в сторону. Не на Императора (не его уровень), а, как у царедворцев положено, на человека, который приставлен к аналогичным делам, то есть на Миллера. В любой иерархии, начиная с Древнего Египта, сановники близких рангов легко друг друга узнают.
Президент был обрадован мгновенностью реакции друга, ещё не зная, что именно скрыто в коробке. Просто знал, что этот — не подведёт. Грубо выражаясь, «туфту не подсунет». И подал Императору ответный подарок, даже его не раскрывая.
— Сами понимаете, Олег Константинович, не готовился я к нашей встрече. Вообразить не мог. Но — чем богаты, тем и рады! Примите от души. — Слова Президента прозвучали со всей возможной теплотой и радушием, но чувствовалась в них некоторая неуверенность, не всеми уловимая. Вдруг да не то в футляре окажется? Фрейдизм в какой-то мере, но был у него в молодые годы подобный случай. Перепутал на Восьмое марта подарки: то, что девушке предназначалось, маме вручил…
Олег Константинович, в отличие от Президента человек военный до мозга костей, по виду футляра догадался, что там может содержаться. И откинул замки крышки с нетерпением. Интересно же!
Увиденное его восхитило, без всяких преувеличений. В смысле оружия Император был редкостным знатоком и ценителем. А тут — совершенно потустороннее изделие. Словно Сильвия среди его придворных дам!
Прекрасный пистолет! Невзирая на отделку, бог с ней, с отделкой, хотя и она хороша! Особенно эта хищная змея, обвивающая своим золочёным телом чешуйчатый кожух затвора. Он сразу же взял его в руки, прикинул эргономику, вес, баланс. Нескольких секунд хватило, чтобы сообразить, где кнопка магазина, затворная задержка, предохранитель и всё прочее.
И обратился он не к Президенту, а прямо к Контрразведчику.
— Характеристики изложите. Что калибр «девять» я и сам вижу, а остальное?
Тот доложил со всей возможной полнотой и точностью, присовокупив, что именную табличку в ближайшее время изготовят и передадут любым удобным способом. Чем набрал дополнительные очки.
— Попробовать можно? — У себя в Берендеевке Олег никого бы не спрашивал, а здесь всё-таки «чужая земля».
— Да о чём речь?
Первым выстрелом Император сбил с дерева сидевшую метрах в двадцати ворону. Только перья полетели. Ещё двумя — крупные еловые шишки на том же примерно расстоянии[47].
— Хорошо, — расплылся в довольной улыбке Олег Константинович. — Надёжная машина. Теперь вы? — Он протянул пистолет рукояткой вперёд Президенту.
— Вот здесь — увольте, — выставил тот вперёд ладонь с раскрытыми пальцами. — Я в плавании кое-чего достиг, в теннис играю, велосипедом занимался, а это как-то мимо прошло. В другое время рос…
Император с весёлой хитринкой в глазах скользнул по президентскому окружению.
Позориться никому не хотелось после изображённого чужим предводителем мастер-класса.
— Мне позволите? — сделал шаг вперёд Писатель.
Остальные его друзья облегчённо вздохнули. Что он стрелять умел довольно прилично, знали все, но вот при всех посоревноваться с державной особой, владеющей оружием, как Юл Бриннер? Так это, может быть, даже и лучше! Человек умственного труда примет на себя удар. Никакой не удар, конечно, обычное развлечение, в котором, однако, более значительные лица останутся в стороне, высокий гость — при своей победе и восхищении зрителей с обеих сторон. В случае же неудачи интеллигент с самомнением удовлетворится тем, что хотя бы удостоился чести занять второе место в соревновании с непревзойдённым стрелком, тем более — Императором.
Может возникнуть вопрос — как именно все эти «демократически», а главное — крайне скептически настроенные господа так быстро, поперёк собственного отношения к любого рода «мистификациям», согласились воспринимать Олега Константиновича в заявленном им качестве? Харизма ли тут подействовала, свойственная всем Романовым, или иное что-то, но даже сам Президент ощутил, что при первом же серьёзном историческом катаклизме его личные друзья охотно признают главенство не его, а этого вот самоуверенного мужчины. Не то чтобы предадут, это исключается, просто согласятся с неизбежным, как если бы он отслужил определённый в должности срок и вернулся в исходное состояние.
Писатель тем временем перешёл в иную позицию своей личности.
Этому перевоплощению он научился очень давно и пользовался при необходимости, в ситуациях, с которыми в повседневном состоянии справиться не мог. Тогда он, как талантливый актёр школы Станиславского, превращался в другого человека. Сейчас — в стрелка типа Криса из «Великолепной семёрки», попадающего навскидку в любую цель. У него даже черты лица стали резче и жёстче, фигура приобрела давнюю стать и пружинистую силу.
С лёгкой уважительной (а как же иначе) улыбкой взял из рук Императора пистолет, внимательно его осмотрел, взвесил на руке, несколько раз вскинул от колена до плеча и обратно. Усмехнулся, прямо взглянув в глаза Президента, будто спрашивая: «Делать „клиента“ или уступить?»
Президент, сам не понимая, мысли он друга читает или просто думает и ощущает происходящее одинаково, кивнул, одновременно выкрикнув ментально, едва не вслух: «Делай, делай. Что можешь!»
Писатель снова усмехнулся весьма двусмысленно. Можно было догадаться, что мысленный посыл он принял.
Повернулся к Олегу Константиновичу, пошевеливая пальцами на рукоятке и перед спусковым крючком.
— Ворон что-то не видно. Разлетелись, напугались. По шишкам, что ли?
Император уловил в стоявшем перед ним подтянутом, худощавом мужчине с ироническим складом губ серьёзного противника. Этот не станет ради дипломатического политеса шар в бильярде подставлять или играющего короля на козырную шестёрку сбрасывать.
— Давайте по шишкам, — согласился Олег.
Писатель вскинул пистолет и шестью выстрелами, прозвучавшими почти как очередь, снёс с вершины стоявшей у края ограды сосны (двадцать пять метров до неё точно) целую гроздь, то ли шесть шишек, то ли семь, никто и посчитать не успел. Долго падали на землю крупные янтарные пластинки чешуи после того, как смолк последний выстрел.
Для пущего эффекта Писатель прокрутил «Гюрзу» на спусковой скобе вокруг пальца, дунул в ствол, изобразил попытку бросить его в кобуру на бедре, которой, естественно, не оказалось, снова усмехнулся, развёл руками и протянул пистолет владельцу.
— Приятно было размяться, — сказал он. — Счёт равный, так будем считать?
Император приобнял Писателя за плечи.
— Великолепно, друг мой, просто великолепно. Счастлив видеть и здесь прекрасного стрелка. Мы, уверен, ещё посоревнуемся как следует. А пока я награждаю вас золотым знаком «Императорского стрелкового общества». Достойны — без всяких рекомендаций и представлений достойны. Войсковой старшина Миллер или полковник Ляхов завтра же вам его доставят… Только вот — не люблю я поражений. И мы с вами непременно встретимся в моём тире и проверим, кто чего стоит по-настоящему…
— Что значит — по-настоящему? «Большой стандарт» стрелять будем? И не вижу я, отчего вы себя «проигравшим» посчитали. Три ваших выстрела, шесть моих, и все — в цель. Нормально, мне кажется, боевая ничья.
Император эти слова пропустил мимо ушей. Видимо, имел своё мнение. Его другое заинтересовало.
— «Большой стандарт» — это что? И где вы учились?
— Стрельбе — сначала у школьного военрука Владимира Ивановича Максина, потом у тренера клуба ДОСААФ Ивана Ивановича Ледовского. Остальную часть жизни — самостоятельно…
— Хорошие учителя. Так что за «стандарт»?
— «Большой стандарт», Ваше Величество, это достаточно трудное упражнение. По тридцать выстрелов подряд из винтовки с трёх положений — лёжа, с колена и стоя. Лично мне уж слишком тяжело «с колена» давалось. Связки, наверное, плохие достались. Отчего и на пистолет перешёл.
— Очень, очень интересно, — сказал Император, положив руку на плечо соперника. — Непременно попробую. Люблю я это дело, в отличие от вашего Президента. Закуривайте. — Он протянул свой портсигар: — Мои любимые «Кара Дениз», смесь по особому рецепту…
По лицам Президента и его окружения не совсем понятно было, довольны они успехом своего товарища или расценивают его как-то иначе.
…Пока доставленные из города официанты (каждый — сотрудник ФСО в офицерском звании) накрывали столы для достойного высоких гостей обеда, Президент пребывал в тяжких сомнениях. Ему не нравилось сейчас абсолютно всё. Не только локальная окружающая действительность, но даже и родная Солнечная система в целом. Совершенно как в «Записных книжках Ильфа».
Никому не нужно ничего объяснять, но для себя он понимал — фактически проиграно всё! Нет больше у него уверенности в себе, без которой занимать подобный пост — профанация, если относишься к своей миссии серьёзно. А он к ней относился именно так, считая себя в нынешней ситуации единственным спасителем России, призванным провести её узким бурным проливом между Сциллой диктатуры и Харибдой анархии.
Отчего и вызвало у него такое возмущение появление на горизонте сначала «Александра Александровича», а потом и Сильвии. Не столь даже важно, что реализация их идеи влекла за собой и то и другое сразу, в других условиях подобную опасность можно было пресечь в корне, пользуясь привычными и испытанными средствами. Но ведь продемонстрированные «защитниками» возможности, если принять их всерьёз (а как иначе?), сводили на нет все доступные ему и государственной машине в целом способы управления ситуацией. Словно как появление в рядах дружины Мстислава Удалого на Калке десятка банальнейших пулемётов «ПКМ», грамотно расположенных и снабжённых достаточным количеством боеприпасов, поставило бы крест на геополитических планах Чингисхана.
Что же касается направления деятельности по «наведению порядка» в России, а тем самым и «сохранения реальности», оно вызывало у Президента принципиальное неприятие. Сторонник теории эволюции, он считал, что бороться с коррупцией и прочими негативными явлениями окружающей действительности можно лишь неуклонным, но неторопливым ростом экономики, «смягчением общественных нравов», совершенствованием административной и правоохранительной системы, развитием гражданского общества и так далее. Предполагая и соглашаясь, что процесс может занять исторически длительный срок. Как становление парламентаризма и правовых государств в Европе. Главное — не торопиться и не делать резких движений.
В широком смысле он понимал свою задачу следующим образом — отладить процесс так, чтобы в стране постоянно и неуклонно происходили пусть внешне почти незаметные, но позитивные изменения, с одновременным уменьшением всяческого негатива. Всего лишь.
То же, что предлагали «комитетчики», обещало новый цикл «бури и натиска», автоматически, имманентно предполагающий очередной разгул хаоса. По всем направлениям. Президент хорошо помнил, как из-за вполне благородных по замыслу кампаний по «преодолению пьянства и алкоголизма» и «борьбе с нетрудовыми доходами» одновременно начали рушиться и экономика, и авторитет центральной власти. До восемьдесят пятого года Советская власть была только неэффективной и догматичной, а тут вдруг, почти в одночасье, стала ещё и смешной.
Столь же разрушительным примером «усердия не по разуму» и «намерений, которыми вымощена дорога в ад», он считал решение о создании кооперативов на базе действовавших «социалистических предприятий». Горбачёву и его советникам мыслилось, что частная инициатива процветёт под прикрытием и присмотром «советских крепких хозяйственников» и государственного контрольно-репрессивного аппарата. Вышло же всё с точностью до наоборот: как только появилась возможность легально обналичивать «безналичные деньги», которые вообще деньгами не являлись по идее, всего лишь условной расчётной единицей — в первых рядах «кооператоров» оказались «надёжнейшие, честнейшие и вернейшие». То, что пафосно называлось «Честь, ум и совесть эпохи».
Оказаться в подобной ситуации Президент боялся больше всего и невольно уподобился врачу, уповающему исключительно на терапию и категорически не приемлющему хирургических методов, забывшему, а может быть, просто не знавшему афоризма К. Пруткова: «Ничего не доводи до крайности. Человек, желающий трапезовать слишком поздно, рискует трапезовать рано поутру».
Сегодня он увидел и понял, что его оппоненты сильнее его. Не только тем, что располагают чудесными техническими устройствами, но и наличием у себя в тылу такого государства, как Императорская Россия, во главе с волевым и не склонным к компромиссам и интеллигентским рефлексиям лидером.
Собираясь на эту встречу, Президент готовился именно к дискуссии с несколькими авантюрно настроенными людьми, пусть и владеющими методикой межпространственных перемещений. С ними он, пусть приблизительно, знал, как договориться и на каких условиях.
Но теперь-то всё совершенно иначе. И он — в положении князя, собравшегося сразиться с дружиной соседа в полтысячи копий и сабель, но, выехав на поле, увидевшего перед собой теряющиеся за горизонтом тумены хана Батыя.
Президенту хватило проведённого в другой Москве часа и личного знакомства с Олегом Первым, чтобы понять безнадёжность своего положения. А существует, оказывается, ещё и третья Россия, белогвардейская, врангелевская, располагающая мощной Добровольческой армией, готовой и способной направить «интернациональную помощь» в любую точку «иных миров». Настолько боеспособной, что, по словам Императора и его придворных, двумя дивизиями сумела подавить вооружённое вторжение из этой реальности, оснащённое, очевидно, самой совершенной боевой техникой двадцатого и даже двадцать первого века, против которой оказалась бессильной императорская гвардия.
Подробности того «инцидента» следует тщательно изучить, но в любом случае… Если Олегу и «комитетчикам» придёт в голову начать действовать своими методами, противопоставить им будет нечего. Президент достаточно знал свой народ, чтобы понять — на демагогию «защитников реальности» и «борцов с коррупцией» он легко поддастся, даже с восторгом, особенно если узнает — есть совсем рядом, только руку протяни, «сказочная страна». Не Америка какая-нибудь, не европейская конфедерация (при всей заманчивости тамошнего уровня жизни психологически чуждые и внутренне враждебные «русской душе»), а самая настоящая, процветающая «Русь-матушка», во главе с добрым царём, с почти полумиллиардным счастливым населением, в границах тысяча девятьсот четырнадцатого года, если не больше…
Сохранить свой пост, может быть, и удастся, но на деле сам он превратится в нечто подобное руководителю «братской независимой Абхазии».
И ведь никаких мер контрпропаганды придумать невозможно, по крайней мере — с ходу. Положение хуже, чем у Хонеккера и… как там была фамилия последнего руководителя независимой ГДР? Если народ загорится идеей объединения с братьями «за берлинской стеной»… тем более, и «стены» никакой нет. Откроются сотни, а то и тысячи проходов только в одной Москве — вот вам и всё!
Одна надежда — Олег и его царедворцы сами не захотят «объединяться» с такой страной, как наша… И организуют «стену» со своей стороны.
Президент в одиночестве (друзья, понимая его состояние и настроение, имитировали бурную деятельность по организации парадного обеда) прохаживался по тропинке позади дома, нервно курил, уже не скрывая «вредной привычки». Как студент-первокурсник перед трудным экзаменом.
Сильвия возникла у него за спиной бесшумно, как спецназовец в тылу врага.
— Вы напрасно всё так драматизируете, — сказала она негромко, чтобы не напугать внезапностью, — дела обстоят гораздо лучше, чем вам вообразилось.
— Откуда вам знать, что именно мне «вообразилось»?
— Подумаешь — бином Ньютона, — располагающе улыбнулась Сильвия. — Не стану воспроизводить ход ваших мыслей, но опасаться недружественных шагов со стороны Российской Империи нет ни малейших оснований. С нашей — тем более. Это, разумеется, касается только государственного устройства и государственных интересов вашей страны. Что же касается отношений «Комитета» с лицами и организациями, представляющими действительную опасность для «реальностей», — тут уж извините. Вы не обязаны читать будущее, как открытую книгу, хотя способность к футурологии для государственного деятеля весьма желательна. Но вот мы, этими методиками владеющие, не можем ставить на карту существование нескольких миров в угоду чьим бы то ни было предрассудкам и личным интересам. Вам же, для общего спокойствия, если не готовы деятельно помогать — лучше всего не обращать внимания на происшествия, «несущие внешние признаки преступления, но не являющиеся таковыми…».
— Спасибо, что такое действия, совершённые в состоянии «крайней необходимости», я знаю. Жаль только, что вы присваиваете себе исключительное право, принадлежащее только суду.
— Уверяю вас, наша квалификация неизмеримо выше таковой у рядового судьи или прокурорского работника, тем более что в нашем случае АБСОЛЮТНО исключается воздействие «привходящих» факторов как административного, так и финансового планов. Я надеюсь, вы сегодня в этом окончательно убедились…
Говорила Сильвия с такой психологической убедительностью, подкреплённой созданной ею локальной мыслеформой, что Президент, вопреки недавним мыслям, с огромным облегчением решил: единственный достойный выход из логического и нравственного тупика — полностью принять точку зрения собеседницы. Действительно — никаких доводов, оправдывающих собственную непреклонность, нежелание воспринимать объективную реальность как высшую в сравнении с собственными предрассудками и стереотипами, он привести не мог. Даже себе самому. Способов противодействия деятельности «Комитета» он тоже не видел. Следовательно — до поры до времени правильнее всего заняться тактическим маневрированием, удерживая занимаемые позиции и уповая на пресловутую кривую, которая куда-нибудь непременно вывезет.
— В то же время вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. Любую. — Последнее слово она выделила интонацией. — Обдумайте это, время есть. Помните, как писали классики? Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей, приобретёт же он весь мир. А сейчас пойдёмте. За дружеским столом, в непринуждённой обстановке обсудим практические вопросы помощи, которую Империя сможет оказать Российской Федерации в ближайшее время. Эта помощь, в отличие от любой другой (вернее — оказанной кем угодно другим), будет совершенно бескорыстной, квалифицированной и эффективной. Без всяких предварительных и постфактум условий.
— Так разве бывает?
— У кого как. Обращаясь в трудную минуту к родному старшему брату, вы обсуждаете с ним сроки компенсации и сумму, с учётом сложных процентов? Если помните, Россия, даже неся тяжёлые потери, рискуя самим своим существованием, никогда ничего не требовала взамен. Зато нередко получала в ответ чёрную неблагодарность. Болгария, Сербия, арабские страны, Грузия — вы помните, чем обернулся наш альтруизм, сотни тысяч ни за что погубленных солдатских жизней, сотни миллиардов безвозмездной помощи, отнятой у своего полуголодного народа?
— Но всё-таки — старшему? — единственное, что смог спросить Президент.
— Как вам будет угодно считать. Претендуете сами на эту роль — приготовьтесь платить золотом, потом, кровью… Однако примите во внимание, что РФ официально существует около двадцати лет, а Российская Империя, даже если считать только с Ивана Третьего — более пятисот[48]. Однако, если не ошибаюсь, в Новгороде Великом памятник «Тысячелетие России» установлен ещё в девятнадцатом веке…
Глава шестая
План переговоров, тщательно отработанный Ляховым и Ферзеном, оказался скомкан. Неправильно они рассчитали эмоциональный настрой своих партнёров, исходя из собственных взглядов и мировоззрения. Сам факт существования второй России (не в фантастических романах, а наяву) оказал на Президента и его команду такое воздействие, что не потребовался ни политико-экономический доклад барона, ни подготовленные Вадимом «тезисы для дискуссии». Привычка к академическим, почти безэмоциональным симпозиумам «пересветов», где обсуждались любые, самые невероятные с точки зрения здравого смысла проблемы, выставила «теоретиков» в достаточно глупом свете. С точки зрения Императора, конечно.
Ему-то можно было слегка ошибиться в психологическом рисунке своего коллеги, никогда не виданном человеке абсолютно иной культуры и воспитания, но никак не штабистам, на то и поставленным, чтобы в любых обстоятельствах предлагать полководцу оптимальные решения без ссылок на то, что «неприятель» повёл себя «неправильно».
Зато каждый из «друзей Президента» нашёл время, чтобы подойти к вывешенным рядом картам одной и другой России и посмотреть статистические таблицы, касающиеся экономики, военно-стратегических ресурсов, демографии и многого другого, касающегося сравнительного положения той и другой державы на «мировой шахматной доске».
Безусловно, эти материалы впечатление произвели. Другое дело, что не на всех то, что изначально подразумевалось аналитиками.
В какой-то момент рядом с этим «уголком наглядной агитации» оказались Ферзен, Секонд, Фёст и Писатель, профессиональная тяга которого к «пришельцам» была неодолима. Да и после своего сольного выступления он предполагал, что имеет право держаться на равных с этими офицерами. Тем более — по приказу Императора Секонд должен был завтра же вручить ему «Золотой значок». Правда, как и когда, оговорено не было. Вот, кстати, и повод, чтобы от этого частного вопроса перейти к более общим.
Писатель не догадывался, что на самом деле представляют собой Секонд и Фёст, вместе и по отдельности, что один из них его соотечественник (если это слово в данной ситуации применимо, может быть, лучше — современник?) и что каждый из них — стрелок гораздо более высокого класса, чем он. Просто потому, что не по шишкам они мастерски стреляли, а по движущимся и отвечающим плотным огнём объектам, и не на двадцать метров, а на двести и дальше.
Но тем не менее взаимная тяга ощущалась. Пусть и по разным причинам.
У друзей Президента, получивших, пока он, поглощённый беседой с Императором, в буквальном смысле не видел ничего вокруг, возможность пообщаться с вполне на первый взгляд адекватными ребятами «другой России», вызвала энтузиазм, впрочем, довольно противоречивый. Журналист, лично побывавший в их Москве и полностью уверенный в своём психическом здоровье, стремился доказать своим товарищам и новым знакомцам, что темы для дискуссии — заключать союз с другой Россией или нет — вообще не существует.
Стоит всем им побывать на той стороне, и останутся только вопросы исключительно практические. При этом он любовно погладил рукой по пачке газет, в которых едва ли успел просмотреть больше чем по колонке. Этого было достаточно. Он решил — при любой позиции Президента опубликует хоть одну полосу целиком, репринтно — это будет убойным материалом. С соответствующими комментариями, конечно. Народ у нас доверчивый, но здравомыслящий, к чему угодно привычный, «самый читающий в мире, между строк», легко поверит в такую вот «другую Россию», «Беловодье», «град Китеж», если хотите. С гораздо большим энтузиазмом, чем двадцать лет назад — в «великую Америку, где текут реки молока и мёда».
Анатолий взглянул на Писателя, с непередаваемой усмешкой на лице цедящего свой коньяк.
— Что? — спросил тот. — Поддержка собственным мыслям требуется? А я для кого писал с десятого класса? Вы читали. Нравилось вам, как вы в придуманных мною мирах геройствовали? Теперь давайте сами. «Вперёд и вверх, а там…»
— Я, кстати, ваши книги тоже читал, — сказал Фёст, назвавшийся здесь Петром. Он показался Писателю очень похожим на Ляхова, особенно если бы ему сбрить усы и шкиперскую бородку. — Если вы не дурака валяли, так должны сейчас радоваться. Почти всё по-вашему выходит.
— И где же вам это удалось?
— Здесь, где же ещё? Я, чтобы вам понятнее было, из местных. Коллаборационист, так сказать. Из чисто прагматических соображений давно и тесно сотрудничаю и с «Комитетом», с господами-товарищами имперцами — не знаю, как бы их правильнее назвать. Вы тоже подумайте, придётся ведь всё равно какой-то звучный и общепонятный термин придумать, чтобы простому человеку сразу понятно было и прижилось.
— Придумаем, — сказал Журналист.
— Ну, допустим, сотрудничаете, — согласился Писатель, — это весьма удачно, есть хоть одно связующее звено. Но отчего вы сказали в мой адрес «если не дурака валяли»? Интересная, в принципе, оценка…
— Вас что-то задело? Напрасно. Я в том смысле выразился, что либо автор в какой-то мере верит в то, что пишет, либо просто «гонит километраж», зарабатывая на конъюнктуре. Сам же, кроме денег, вообще ни во что не верит…
— Друзья, вы, похоже, не в ту сторону заворачиваете, — вмешался Философ. — Нам сейчас только дискуссии о психологии творчества, взаимоотношениях масскульта и серьёзной литературы не хватает.
— Мы быстренько, — успокоил его Пётр-Фёст. — Если вы допускаете возможность существования придуманной вами модели мироздания, то должны бы сейчас, когда нечто подобное осуществилось, стать нашим самым главным союзником и помощником. Поскольку единственный здесь, кому нет необходимости ломать через колено собственные предрассудки, а также и фобии любого рода. Даже вот Анатолий, по профессии обязанный иметь максимально широкие взгляды, очевидным образом колеблется в диапазоне от любопытства до ксенофобии. Понять его можно. От нечего делать книжки про пришельцев или даже всяческих вампиров почитывать и фильмы посматривать — это одно. Лично в тёмном переулке встретиться — несколько другое. Очень неплохо, если помните, в «Сказке о тройке» звучит речь товарища Вунюкова о недопустимости контакта с инопланетянами.
И он на память процитировал:
— «Вы предложили нам дружбу и сотрудничество во всех аспектах цивилизации. Это предложение беспрецедентно в человеческой истории, как и беспрецедентен наш ответ на ваше предложение. Мы отвечаем вам отказом по всем пунктам предложенного вами договора, мы отказываемся выдвинуть какой бы то ни было контрдоговор, мы категорически настаиваем на прекращении каких бы то ни было контактов между нашими цивилизациями и между их отдельными представителями…» Похоже?
— Чего же дальше не продолжаете? — спросил Писатель. — Вот это: «Что же касается нашего закоренелого мистицизма, нашей застарелой надежды на добрых богов, добрых царей и добрых героев, надежды на вмешательство авторитетной личности, которая грядёт и снимет с нас все заботы и всю ответственность…»
— Да потому, что считаю это полной ерундой, — отмахнулся Фёст. — Авторы писали это в совершенно другое время и других условиях. С тех пор прошло почти полвека. Обстоятельства изменились кардинально. Если мы пойдём на союз с Империей, откроем границы — шок может случиться только у определённой страты — от сильно больших олигархов до нескольких миллионов «офисного планктона», тяжелее компьютерной мышки никогда ничего в руках не державших. Но это преодолимо. Лесоповал — великолепное средство против избыточного самоуважения. Как свидетельствуют многочисленные мемуары — у очень многих убеждённых коммунистов, «бойцов ленинской гвардии» мозги после «норильской десятки» гораздо реалистичнее начинали работать.
— Ну, это вы опять в крайности бросаетесь, — усмехнулся Писатель, снова взяв с фуршетного стола очередную рюмку и предложив остальным последовать его примеру. — Что вы по натуре экстремист, сразу и издалека видно. Только не вкладывайте в мои слова нынешнего негативно-юридического смысла. «Экстремум» — всего лишь крайность, и не более того. Это же я отношу к вашим инвективам насчёт лесоповала и тому подобного. Давайте лучше о другом.
О футуро- или каком-либо другом шоке. С вами такового ведь не произошло? Я, может быть, не совсем корректный пример приведу, но человек боится только неведомого. Как только оно перестаёт быть таковым, он успокаивается. Большинство наших сограждан панически боится «тюрьмы и сумы». Когда же такое случается — человек очень быстро восстанавливает душевное равновесие и начинает обживаться в предложенных обстоятельствах. Будете спорить?
— Ни в коем разе. — Фёст поднял руки ладонями вперёд. — Я ведь сам это же самое хотел сказать, только другими словами. И вам, пожалуй, если мы всё же придём к соглашению, предстоит нелёгкая задача убедить нашего Президента, что всё действительное — разумно.
— Это, скорее, по моей части, — выпив свою рюмку, сказал Философ.
— Да необязательно, — ответил Фёст.
И его тут же поддержал Секонд.
— Не сочтите за неуважение, — обратился он ко всем сразу, — но сегодня я убедился в том, что ваш Президент — довольно тяжёлый в общении человек. Несмотря на его старание произвести противоположное впечатление.
Друзья Президента почти одновременно отметили, что тембр голоса и манера выражаться у своего Петра и чужого Вадима удивительно, моментами до полной неразличимости похожи.
Отметили, но прежде дружно начали возражать, что это совершенно не так, и Президент, наоборот, удивительно толерантный, широко мыслящий, мягкий иногда до несовместимостью с должностью человек.
— Уж с Государем Императором — никакого сравнения, — сказал Контрразведчик. — С более жёстким человеком я и не встречался, пожалуй.
— Вы? — наигранно удивился Фёст. О том, с кем и как встречался его визави, он знал достаточно. И сумел показать это понятным им двоим (ну и Секонду с Ферзеном) образом. — Я военный человек, врач по образованию, агентурный разведчик по призванию, связной между нашими цивилизациями по должности, со всей откровенностью должен вам сказать: или вы стараетесь показаться проще, чем есть, или совсем не разбираетесь в людях. Вот господин Писатель, инженер, по дурацкому выражению тридцатых годов, человеческих душ, скорее всего, меня поддержит. Олег Константинович как раз куда более отвечает характеристике, данной вами Президенту. Да вы прямо отсюда посмотрите, не слыша слов, как они друг с другом общаются.
Все посмотрели. И, по крайней мере в душе, согласились.
— А ведь наш — у себя дома, а тот — в чужом мире. Это первое. Второе, — он снова обратился к Писателю, положив руку ему на плечо. — Ваш друг никогда не читал или, хуже того, читая, не понимал фантастики… Даже вашей!
— А какое это имеет значение? — удивился Контрразведчик.
Писатель усмехнулся. Ход мысли Петра ему был понятен. Остальным потребовалось пояснить, что странный «коллаборационист» сделал весьма доходчиво.
— А вот не кажется ли вам, разумеется, чисто гипотетически, — снова ввязался «чекист», — что Президент, независимо от мнения всех присутствующих и того, о чём сейчас говорит с Императором, в итоге сочтёт наиболее полезным полностью и категорически отказаться от всяких контактов с «параллельным миром». Достаточно его приказа, и вся делегация может быть интернирована. И освобождена лишь после недвусмысленного, должным образом гарантированного соглашения о полном и абсолютном невмешательстве в дела друг друга?
Сказано было вроде как в плане общего, ни к чему не обязывающего разговора, но искорки, промелькнувшие в глазах Контрразведчика, намекали, что не так уж он и шутит. Неизвестно, выражали его слова истинное намерение (или хотя бы настроение Президента), уловленное чутким специалистом, или же были чистой провокацией.
Ляхов и Ферзен напряглись. Чёрт его знает, какая дурь может аборигенам в голову прийти. И более идиотские решения господа правители принимали, не думая о последствиях.
— Ты это что, всерьёз? — удивился Журналист, а Писатель просто покрутил пальцем у виска.
— Пока — как вариант. Хочется ответ услышать, — смотрел Контрразведчик только на Фёста.
— Лучшего подарка своим оппонентам вы бы не могли придумать, даже если бы очень долго думали…
Он вытащил из пачки сигарету, слишком тщательно её разминал перед тем, как прикурить.
— Даже если были бы раньше меня завербованы «коварными агрессорами». «Казус белли»[49] налицо, и больше никаких сомнений морально-этического плана. Исходя из наших возможностей, эта акция была бы пресечена или немедленно, или… — он не спеша выпустил дым, — в тот момент, когда мы сочли бы это более подходящим. Например, после того, как одновременно по всем телеканалам и Интернету было бы передано должным образом составленное обращение к народам России. Что в нём можно написать и показать — товарищ не хуже меня знает, — указал он сигаретой на Журналиста. — Ну а дальше… Чтобы освободить интернированных и «изъять» Президента со всем его «штабом» из самого защищённого подземного бункера в любой точке России, много времени не потребуется. Затем, по аналогии с «берлинской стеной», снять барьер между нашей и их Москвой, при горячем одобрении народа ввести сюда некоторое количество полков императорской Гвардии. Это вам не ГКЧП будет, а гораздо интереснее. Коллаборационное правительство сформировать труда не составит. Я доходчиво объяснил?
— Следует понимать как угрозу? — некрасиво скривил губы Контрразведчик.
— С угрозы вы начали, — небрежно отмахнулся Фёст. — Я только развил тему и расставил акценты. Как вы понять-то не можете, господа, что положение у всех у нас, если разобраться, абсолютно проигрышное. Это я как обитатель нашей с вами реальности говорю. Вы что, воображаете — я за большими деньгами или ради какой угодно должности в эти дела влез? Совершенно неправильно, если так подумали. Исключительно — от полной безысходности. Вот вы, — обратился он к Журналисту, — Мишу Воловича наверняка знаете?
— Знаю, конечно. И что из этого?
— Да то, что с болью сердечной я с ним во многом согласен. Политически его позицию не приемлю, но это — моё личное дело. А так, «без гнева и пристрастия», — очень во многом он прав. Ерундой вы вместе со своим Президентом занимаетесь! «Стабильность» и всякое другое прочее — звучит, конечно, хорошо. А на самом деле? Трепотня, маскирующая безволие и страх. Как в Европе перед Второй мировой…
Я историю, и не только нашу, вполне прилично изучал и прекрасно всё это вижу, да и вы тоже видите, только признаться не хотите. Между собой, возможно, подобные темы обсуждаете, а при посторонних — упаси бог. Как Пушкин говаривал, за точность цитаты, впрочем, не ручаюсь, только за смысл: «Я от всей души ненавижу своё Отечество, но мне невыносимо, когда это чувство разделяет со мной иностранец…»
У нас с вами то же положение, с некоторыми нюансами. Господ Ляхова и Ферзена можете не стесняться, они — не иностранцы, следовательно, обладают тем же менталитетом и наши беды воспринимают как свои собственные. Тем более не так давно МЫ им оказывали помощь в весьма непростой ситуации…
— «Мы» — это как понимать? — спросил Журналист. — Явно ведь не на государственном уровне…
— «Мы» — это, в частности, ваш покорный слуга, многие члены организации «Чёрная метка», а также бойцы «Вооружённых сил Юга России» в количестве нескольких знаменитых полков, — совершенно спокойно ответил Фёст. — Но мы уклоняемся от темы…
— Тем самым, быть может, прямо на глазах формируем очередную альтернативу, — добавил Секонд.
— Без всяких «может», — ответил Писатель. — Она уже сформировалась в тот момент, когда ваша организация напрямую обратилась к Президенту. Никто ведь не станет спорить, что мир вокруг нас уже не тот и «тем», что был три дня назад, уже никогда не станет. А какова окажется «N+2, 3 и так далее», будет зависеть от результатов сегодняшнего совещания…
— Мы и вправду слишком уклонились, — прервал очередной поворот сюжета Журналист. — Пётр собирался нам поведать, в чём прав Волович и отчего он сам якобы «ненавидит своё Отечество». Послушаем?
— Насчёт «ненавидеть» — это не ко мне, к Александру Сергеичу. Лично я столь ярких эмоций не испытываю. Разочарование пополам со злостью — вернее будет. Это и заставляет меня заниматься тем, чем занимаюсь, а не сибаритствовать в собственном имении, которое я давно заработал. Причём могу предаваться «неге» с чистой совестью, а не так, как «объекты моего пристального внимания». Не знаю, обижу я кого-нибудь сейчас или нет, но сказать должен: «Лишь звёзды капитанские я выслужил сполна…» Если вы свои чины и «звёздочки» получили аналогичным образом — примите моё уважение. Если в чьих-то есть сомнения — только сочувствие. И не более того…
— Меня вы точно не обидели, — сказал Философ. — Я как жил в двухкомнатной «сталинке» на проспекте Мира, от отца доставшейся, так в ней и живу. На Рублёвку перебираться ни желания, ни возможностей не было. Но вы всё время отвлекаетесь — явная недисциплинированность мышления. Что вас, человека, обладающего невозможной, а кое в чём и нереальной мощью (в обычном представлении), так раздражает в нашем «несовершенном мире»? Если вы от него сумели отстраниться.
— Как же это — отстраниться? — возмутился Фёст. — Головой который год рискую, за благо Отечества. Вначале — в миротворческих силах, не столько за деньги, хоть немного большие, чем Родина считает для своих защитников необходимыми и достаточными, а по искреннему убеждению в важности такой службы, если Россия действительно не «Верхняя Вольта с ракетами», а полноценная цивилизация мирового масштаба…
Теперь вот вообще превратился в одинокого партизана, даже конвенциями никакими не защищаемого, поскольку не представляю собой «комбатанта государства, ведущего войну, чьё правительство не подписывало капитуляции, и носящего явно видимые знаки различия и оружие — открыто[50]».
— Я правильно процитировал? — обратился он ко всем сразу, но к Философу и Контрразведчику — особо. В Писателе и Журналисте он уже видел людей, готовых перейти на его сторону. А те двое колебались, но — по разные стороны баррикады. Философ при достаточно точно рассчитанном давлении явно склонен был присоединиться к большинству, Контрразведчик — наоборот. Увидел, судя по выражению его глаз, приличные шансы с другого края. Что ж, камрад, посмотрим, чем и тебе при случае можно помочь.
— Достаточно близко к тексту, — согласился Контрразведчик. — А зачем взрывать поезда, если война двадцать лет как кончилась? Помните этот анекдот?
— Как же, как же! А одновременно с ним другой почти такой же появился, к двадцатой годовщине Победы, товарищем Брежневым возрождённой. Про человека, что еврея от немцев прятал за приличное вознаграждение. «Так война ж когда кончилась! — удивился приятель. — А у него в подвале приёмника нет».
— И к чему вы это? — удивился «боец невидимого фронта». — Как бы и не по теме…
Фёст скользнул взглядом по окружающим. Секонду и Ферзену тут всё непонятно, с них и спрашивать нечего. Только Писатель и Журналист, похоже, поняли. Что и подтвердило правильность ставки.
— Да вот, уважаемый, вопрос очень по теме. Зачем означенного еврея в подвале двадцать лет держать, кормить, по ночам на прогулки выводить, получая от него регулярное и не слишком уж большое, судя по всему, вознаграждение? Я понимаю, что анекдот и есть анекдот, но ведь, чтобы его придумать, именно такой, и чтобы он успехом пользовался…
Фёст повернулся к Писателю и сделал ему комплимент, одновременно демонстрируя и собственную эрудицию:
— В одной из своих книг вы писали, что логика русского анекдота не требует дальнейшего развития сюжета. И это верно. Но — вы ответите на мой вопрос или товарищам предоставите?
— Я ответ знаю. — Писатель снова сдержанно усмехнулся и потянулся к бутылке, чтобы налить всем ещё.
— Тогда — вы? — предложил Фёст Философу. Как бы подразумевая, что от Контрразведчика он толкового ответа не добьётся.
Однако ответил именно он.
— Имеете в виду, что с иной психологией проще было его убить и забрать всё сразу?
— Точно! Вот и считайте, что я руководствуюсь логикой именно автора этого анекдота.
Ферзен незаметно толкнул Секонда в бок. В том смысле, что молодец твой братец.
А Фёст продолжал, очевидно, желая забить хоть один «заявочный столб» перед тем, как встреча закончится (неизвестно чем, поскольку видно было, что и Президент с Императором явно не могут прийти к взаимоприемлемому решению), да и его ближайшие конфиденты пребывают «в разброде и шатаниях», как товарищ Ульянов-Ленин выражался. Ситуацию он решил не обострять. Эти ребята, все умные, пусть и хорошо образованные, но недалёкие по определению (его определению), живут с ним в одной Москве. И жить в ней же ещё придётся либо распивая шампанское в президентских резиденциях, либо отстреливаясь из автоматов и пистолетов, делясь последними патронами… Как случится. Но врагами он их не видел.
— Совсем я не хочу говорить ничего ни для кого обидного. Просто констатирую текущее положение в нашей стране под вашим руководством. Но вы наверняка обидитесь. Для самоутверждения и самооправдания. Вы тут все постарше меня. Однако и мне в «судьбоносном» девяносто первом было шестнадцать. И назад многое помню, и вперёд тоже. Вы, господа, что ни говорите, «демократы» ли вы «первой волны» или чиновники при нынешней власти, — а ничего у вас не получается! — Фёст сказал это с очевидным напряжением в голосе, что свидетельствовало о его крайнем недовольстве и темой, и ходом разговора. — При «до конца разложившейся царской власти» Транссибирскую магистраль за девять лет построили, от Владивостока до Москвы, без экскаваторов, бульдозеров «Катерпиллер», грузовиков «БелАЗ» и прочей японской и американской техники. А, к примеру, за семьдесят лет советской власти и двадцать — вашей одну-единственную автодорогу по тому же маршруту до сих пор до ума не довели. Ни страх перед Президентом, раз сто уже на эту тему высказывавшимся, ни соображения гигантской государственной выгоды не смогли на какого-то министра повлиять. Он над вами смеётся, в глаза, можно сказать, плюёт, а вы только утираетесь да про «божью росу» бормочете…
Фёст явно начал нервничать. Секонд положил ладонь ему на плечо.
— Да нет, я в порядке, — отмахнулся он. — Суть моих слов в чём? Вы, господа либерал-демократы, а то и «державники», делать ведь ничего не умеете. Вообще. За двадцать лет — ну что вы сделали? На Марс слетали? Всех мировых лидеров на представительские «ЗиЛы» и «Чайки» пересадили? Ещё Горбачёв, помнится, обещал наш автопром в законодателя автомобильной моды превратить. Отчего же у вас не вышло? Даже Китай, на век с лишним от нас отстававший, на нашей с вами памяти лопаты в СССР покупавший, где теперь? За те же самые двадцать лет…
Фёст закончил фразу на грани надрыва, закурил и внимательным, совсем не возбуждённым взглядом (хотя многим, напротив, показалось, что он сейчас сорвётся в истерику) посмотрел на друзей Президента.
— Готовы ответить, друзья-товарищи, на заданные мною вопросы? Не мне, самим себе в первую очередь. Ну, кто первый? Вы, коллега Философ, вы, Литератор? — Мимо Журналиста он отчего-то проскользнул взглядом, будто его тут и не было, остановился на Контрразведчике: — Неужели вам нравится жить именно в этом, кем-то для вас или вами для себя созданном мире?
В Контрразведчике Фёст видел главную опасность для своих планов. Прямого физического воздействия, несмотря на недавние слова, он не боялся. И в долговременной перспективе ничем он со всей своей конторой помешать не в состоянии. Но в качестве «друга Президента», да ещё — человека со специфическими навыками и обширными возможностями способен вредить на каждом шагу и словом, и делом. Пока не надоест настолько, что заставит себя нейтрализовать тем или иным способом. А этого делать категорически не хотелось. Впрочем…
— Я — отвечу, — не смутился Контрразведчик. — Совершенно ничего нового и неожиданного вы не сказали. Могу расширять ваш список хоть до бесконечности, нет ничего легче. Только зачем же ограничиваться «неполным служебным соответствием» нынешнего руководителя. Можно с Керенского начать — не с того конца демократию взялся в России насаждать. Можно — с Петра Первого. Лучше всего — сразу с Рюрика. И весь народ с того же девятого века во всех своих бедах сам и виноват. Надо было новгородскую демократию развивать, всяческие отклонения от неё со всей решительностью пресекая… Смешно? Мне тоже. Значит — остаётся принимать окружающую действительность как данность. При всех её недостатках, которые следует изживать с разумной постепенностью и строго в рамках закона. Именно это Президент и сказал. Ничего лучшего ВЫ нам предложить не можете… Любое насильственное вмешательство чревато… Сами знаете чем.
Фёст неторопливо обвёл глазами всех соотечественников. На Секонда и Ферзена смотреть не требовалось.
— Что ж, господа! Очень жаль, если именно эта точка зрения возобладает в вашем дружном коллективе. Но, надеюсь, естественный ход событий всё расставит по своим местам. И очень скоро. Не помню, приводил ли я в данной аудитории одну старинную максиму: «Желающего судьба ведёт, нежелающего — тащит».
Фёст широко улыбнулся, поднял на уровень глаз полную рюмку, которую так и держал в руке во время дискуссии.
— А пока давайте «пить и смеяться, как дети». Расхождение во взглядах — отнюдь не повод отказывать себе в радостях жизни… Кстати, судя по выражениям лиц, Президент с Императором сейчас в той же фазе разговора, что и мы, грешные.
Писатель и Журналист выглядели расстроенными, что и неудивительно. Срыв переговоров ставил их в крайне неудобное положение. Если будет наложен мораторий на оформление дипломатических отношений с «другой Россией», неминуем раскол и резкое охлаждение внутри их тесного кружка друзей. Что само по себе заметно ослабит позиции Президента в системе власти. Сейчас, по весьма достоверным данным, полную и нелицемерную лояльность ему сохраняют едва ли десять процентов высших чиновников. Остальные, как это вычислили и Фёст с Сильвией, лояльны «ситуативно» и, значит, при изменении обстановки способны на всё, что угодно, от тихого саботажа до откровенного предательства. Так, как это случилось в окружении Ельцина в девяносто третьем году.
Причём в подобном случае Президенту придётся гораздо труднее. Если бы он захотел и сумел за предыдущие годы реформировать армию, МВД, МГБ и, разумеется, агитационно-пропагандистский аппарат таким образом, чтобы безусловно рассчитывать на них при любом повороте ситуации… А ведь примеров, достойных подражания, в истории имелось предостаточно. Нескольких лет вполне достаточно, чтобы «кнутом и пряником» создать «железную гвардию» профессионалов, своим благосостоянием и положением в обществе обязанную лично «верховному правителю» и проводимому им курсу. Тогда любые экономические и внутриполитические проблемы можно решать, не буксуя в бесконечных согласованиях интересов всевозможных «групп влияния».
Да и международную политику, имея прочный тыл, проводить проще без оглядки на «двойные стандарты». Клаузевиц писал, что «нельзя быть сильным везде». Но уж тем более недопустимо везде быть слабым.
Значит, очень может быть, думал Журналист, что скоро Президенту придётся обращаться к Императору уже не как к равноправному партнёру, а как к «королю в изгнании». С просьбой о вооружённой интервенции или сразу — о политическом убежище.
Случай, конечно, крайний, но отнюдь не невероятный.
Писатель повёл себя более решительно.
— До тех пор пока мне не докажут, что союз между двумя Россиями угрожает коренным интересам народа и государства — я на вашей стороне, — сказал он Фёсту, глядя при этом на Контрразведчика.
— Я — тоже, — развел руками Журналист. — Благо народа на самом деле — высший закон, в отличие от благополучия достаточно случайно сложившейся системы власти.
— Это что — бунт на корабле? — как бы пытаясь свести всё к шутке, весело удивился Контрразведчик. — А ты с кем — со мной или с ними? — это уже к Философу.
— В чём? — тот, демонстрируя профессионализм, тут же ответил вопросом на вопрос. Кто спросил, пусть сам и отвечает мотивированно.
— В поддержке позиции нашего Президента. В чём бы конкретно она в данный момент ни заключалась. Ему, в конце концов, виднее. Не только сиюминутные выгоды, но и более отдалённые последствия…
— Это уже демагогия. Все присутствующие слышали, что Президент полностью поддержал идею продолжения контактов между нашими… мирами. Вот мы этим и займёмся. Какой же тут «бунт на корабле»?
— Он же при этом недвусмысленно дал понять, что эти контакты до определённого времени должны сохраняться в строгой тайне и от нашего населения, и тем более от заграницы, — продолжил Контрразведчик. — Из чего с неизбежностью вытекает — никто, кроме нас, к этой тайне допущен быть не может. С полной ответственностью заявляю — в противном случае о ней менее, чем за неделю, узнают все. И последствия…
— Да никаких последствий, — снова вмешался Фёст. — И цена этой информации будет копейка в базарный день. Вот попросту — как вы себе это представляете? В одной из газет — кстати, какой, как вы думаете, лучше эту сенсацию предложить — «Известиям», «Комсомольской правде», «Секретным материалам», «Завтра»? В одной из этих газет появляется — что? Редакционная статья, передовица Проханова, перехваченная докладная записка Министра ГБ Президенту? Или вот Анатолия попросим, — он указал на Журналиста, — завтра же подготовить репортаж о нашей встрече и, для усиления эффекта, о его личном посещении «другой Москвы». А я вас любым количеством фотографий снабжу. Надеюсь, у вас есть возможность подключить необходимый контингент социологов. Через пару дней будете иметь полную картину реакции общественного мнения… Лично я результат могу предсказать прямо сейчас…
— Да как сказать, — не хотел сдаваться Контрразведчик. — Если материал пустить через пресловутого, не к ночи помянутого Воловича или любого из его команды, то его спонсоры и работодатели вполне могут ухватиться и погнать волну уже в своих массмедиа… Впрочем, ладно, — неожиданно легко отыграл он назад, — похоже, этот раунд в целом остаётся за вами. Не нокаутом, но по очкам. Подождем, чем закончится беседа первых лиц. Извините, мне нужно отлучиться…
Фуршетные столики были расставлены вокруг дома с верандой на достаточном отдалении друг от друга, и каждый мог остановиться там, где вдруг захотелось перекинуться словом и чокнуться рюмочкой с нужным человеком, не опасаясь, что конфиденциальность будет нарушена. Или — побыть наедине с собственными мыслями. Можжевельников и других вечнозелёных растений вокруг было достаточно, чтобы обслуживающий персонал, не раздражая гостей, мог, соблюдая дислокацию, видеть всё и должным образом реагировать на любое, пусть и не высказанное вслух пожелание гостей.
— Терпеть не могу этих фуршетов, — сказал Писатель, когда они вдвоём с Фёстом устроились на удобной скамье перед низким столиком, скрытым от посторонних глаз пышными кустами. — Русскому человеку не пристало есть и пить стоя. Не лошадь же.
Тут же перед ними возник официант с подносом.
— Это ты правильно, — похвалил его Писатель, снимая несколько тарелочек с бутербродами. Фёст впрок запасся рюмками очень неординарного коньяка.
— Давайте за успех нашего безнадёжного предприятия, — предложил он. — Сейчас этот тост можно понимать в абсолютно буквальном смысле…
— А поделикатнее нужно было игру выстраивать, как поначалу задумали, — ответил Писатель. — С частными лицами, и даже частной организацией, сколь угодно могущественной, Президент нашёл бы общий язык. А вот сразу всех тузов на стол выбрасывать, — он имел в виду карту, где Российская Империя простёрлась меж трёх океанов и множества морей, значительно превосходя территорией даже бывший СССР, цифровые и графические таблицы, любовно вычерченные Ферзеном, — провокация, иначе не назову. Кто это у вас такой… — писатель помялся, подбирая слово поделикатнее, — такой непредусмотрительный?
— Считайте, что я, — решил закрыть грудью амбразуру Фёст. — Я здешний, вот по некоторому идеализму и врождённой наивности вообразил, что Президенту радостно будет узнать, какой у него роскошный союзник объявился. Ни китайцев, ни американцев бояться больше не нужно, проблемы экспорта снимаются полностью — всё, что мы действительно умеем, наклепаем для братской страны в неограниченном количестве, а качественный ширпотреб они нам поставят. А уж с газовым и нефтяным краниками отныне сможем поступать, как заблагорассудится…
— То есть энергетический шантаж в чистом виде? — спросил Писатель с непонятным выражением лица.
— Вот именно! Нам, скажем мы им, ребята, ваши самопальные баксы и на хрен теперь не нужны, как и всё прочее. Теперь вы думайте, чем бы таким-этаким матушку-Расею ублаготворить, чтоб ей по вкусу пришлось. Помните, как сибирский кулак Сталину предложил в двадцать седьмом году, в конце «угара НЭПа»: «А ты, начальник, мне спляши, может, я и дам тебе хлебушка. А твоими бумажками только задницу подтереть…»? С чего, в общем, и началась коллективизация.
— Восхищён вашей эрудицией, — сказал Писатель, — но наивность ваша…
— Что поделаешь? Я ведь уже покаялся. Знаете, не хочу, чтобы мои слова были неверно истолкованы, однако с детства меня крайне удивляли моменты, когда окружающие, независимо от ранга и возраста, оказывались глупее меня. Я странным образом был уверен, что всё должно быть наоборот…
— Распространённый случай, — улыбнулся Писатель. — Есть на эту тему один хороший фантастический рассказ, где человека официально признавали идиотом, не способным ни к какому общественно полезному труду, и только в специальной резервации ему объявляли, что он признан годным для вступления в касту творцов и руководителей их предельно зарегулированного общества.
— Да, помню, — тут же ответил Фёст. — Азимов. «Профессия».
Писатель только уважительно развёл руками.
— Короче говоря, вам бы следовало начинать переговоры со мной, с Журналистом, с Контрразведчиком даже, и уж в самую последнюю очередь — с Президентом.
— Да, не повышаете вы своими словами его авторитет, — развеселился Фёст. — Я, знаете ли, не имел счастья общаться с ним так же близко, как вы, вообще последнее время был поглощён делами, далёкими от ситуаций в коридорах власти, но исходил из постулата, что правитель должен быть умнее любого из своих сотрудников, вместе взятых. Как Наполеон, например, или Чингисхан, да и Олег Константинович, в конце концов. Не квалифицированнее в тех или других вопросах, а просто умнее. Вообще. А ваш сюзерен простейших моментов не улавливает. Без обиды только, взгляд со стороны, ничего личного.
— Какие обиды! Человек своего времени в предложенных обстоятельствах. Но мозги у него в полном порядке, да и характер тоже. Давайте вместе соображать, как ситуацию выправлять будем. Я-то на вашей стороне, не сомневайтесь. Пойдёмте послушаем, о чём за общим столом наши лидеры беседуют. Да и обед, кажется, уже подают.
Президент с Императором сидели в самой удобной для доверительного разговора позиции — по обе стороны левого угла торцевой части стола.
— Я не хочу превращаться в тирана и даже автократора, я хочу всеми доступными мне средствами строить в стране настоящую демократию. Хотя это и нелегко, — излагал свою позицию Президент.
— А вы представляете — я имею в виду — по-настоящему представляете, чем отличается автократор, даже «самодержец», от тирана? — с несколько печальной улыбкой умудрённого жизнью и даже несколько от неё уставшего человека отвечал Олег. — Так я вам поясню, на личном опыте. А то чувствуется в ваших словах нечто неуместное для человека вашего калибра. Некритично заимствованное из трудов безответственных писак, никогда даже ротой не командовавших, не то чтобы Империями. Первое — самодержец отличается от тирана прежде всего тем, что первый неукоснительно и без изъятий исполняет законы, им самим и предками установленные. Подданные могут, по слабости человеческой, грешить, но самодержец — никогда. Он имеет право инициировать принятие новых законов или самовластно их вводить, но нарушать существующие, без теми же законами установленной процедуры — ни за что! Иначе он теряет Свыше определённую легитимность. Вам, так называемым «демократам», эту тонкость трудно уловить. Но на досуге — попробуйте. На мои дружеские и нелицемерные советы в этой сложной сфере человеческой деятельности можете рассчитывать. Вас ведь, и всех ваших «коллег» дома и за рубежом, «на президента» не учили. Якобы выбрали, «народным волеизъявлением», без всякого учёта «профессиональной пригодности». А на самого обыкновенного ротного, каких в армии тысячи, учат от трёх до десяти лет, если считать кадетский корпус, и лишь после двух-трёх лет реальной и весьма нелёгкой службы что-то из него получается. Или — нет. До комдива, которых тоже сотни, лет через пятнадцать дослуживается меньше десяти процентов. И из них по-настоящему соответствует должности едва ли каждый второй. С командармами положение ещё хуже. Что уж тут о царях говорить! На царя учат не только всю твою личную, не слишком продолжительную жизнь, сюда нужно приплюсовать тщательно изучаемый с пелёнок опыт, положительный и отрицательный, всей твоей династии. Вот вам и разница.
Второе, и, пожалуй, самое главное, — Император понизил голос и очень дружеским, почти отеческим жестом, положил тяжёлую ладонь воина на руку Президента, — самодержец волен над судьбами людскими, над судьбой своей Державы и, нередко, многих других тоже. Но вот над СОВЕСТЬЮ человеческой он не волен. Указать может, подсказать, попытаться наставить на путь истинный, но не более. Если какой-нибудь поручик или полковник, вроде известных вам из истории пестелей, кропоткиных, даже помощников присяжных поверенных ульяновых, против власти злоумыслил и решил революции учинять — самодержец в том повинен. Не тому и не так в кадетском или Пажеском корпусе учили, в Университете опять же. Вовремя не распознали заразу и вовремя нужного лечения не предложили. Меа кульпа[51]. Но ежели вдруг подобное случилось — наказать в пределах, определённых законом, нужно с непременностью и непреклонностью. Для избавления от «паршивой овцы» и в назидание окружающим. А заставить кого-то мыслить и ощущать иначе — не в нашей власти. Было дело — и декабристы каялись в совершённом грехе, и иные «революционеры», когда в девятнадцатом году начали массово судить тех, кто выжил и за границу сбежать не успел. Плакались, что бес попутал, другие народ обвиняли, не сумевший понять величие их идей и чистоту помыслов. Однако — поздно было. Ты поступал в соответствии со своей совестью, я — со своей. Да воздастся каждому по делам его! Я доходчиво излагаю? — спросил Олег.
— Да уж куда больше. У нас в пятидесятые годы прошлого века целая философская система появилась, близкая к вашим воззрениям — экзистенциализм называется…
— Слава богу, не знаю. Но если близкая — значит, и я, можно сказать, стихийный философ, — сделал значительное лицо Император.
— Только та система в основном как раз против «правящих» направлена. Мол, если ты с властью борешься на основе собственной «чистой совести» — так безусловно прав. Поскольку честный и мыслящий человек просто обязан противостоять любой власти…
— И я о том же, — согласно кивнул Император, не повышая голоса. — Он прав, и я прав. Только на моей стороне законы и подкрепляющая их сила, а на их? Сумеют навербовать достаточно сторонников, чтобы существующую власть низвергнуть, — их счастье. Нет — закопаем без салюта и прочих почестей. Экзистенциально[52]? — усмехнулся Олег.
У Императора были и другие дела, кроме как просвещать Президента братской державы в вещах общеизвестных. Но ему, с одной стороны, было просто интересно, а с другой — он был уверен, что тем или иным способом, с этим партнёром или с другим, своей цели всё-таки добьётся. Вначале он отнёсся к идее Ляхова-Сильвии с интересом, не более. Должна же появиться у него какая-то большая цель, достойная его правления. Ну, отчего бы не эта? А побыв здесь совсем немного, увидев параллельную Россию наяву, он вдруг впал в азарт. Теперь уже решил добиться своего во что бы то ни стало. Кроме новой гражданской войны, конечно.
Президента он счёл подходящим объектом для своей игры. Господин, весьма похожий натурой на бывшего премьера Каверзнева, тоже избранного главы «российской демократической республики». Разобрались с ним, без особых затей разобрались: власть сдал, как эскадрон, без всяких вывертов. Так теперь наслаждается должностью Канцлера Империи, особы Первого класса по Табели о рангах, равной генерал-фельдмаршалу. И сидеть на ней будет, сколько захочет, хоть до девяноста лет, как министр двора граф Фредерикс, дай ему бог здоровья.
Да ведь, здраво рассуждая, этот Президент ещё проще Каверзнева будет. Тот хоть поднаторел, изучая опыт девяноста лет парламентского правления в России, а визави четыре года на своём посту, а фактически никакой властью, приличной главе великой державы, так и не обзавёлся.
Тут, конечно, нужно отметить, что позиции Императора и Президента сравнивать невозможно. Не по разнице властных полномочий, но по стилю личностей.
Один из историков писал по поводу адмирала Нельсона, который якобы всегда имел «каре тузов» в рукаве: «Обладание ими делало флотоводца гением. Первый туз — лидерские качества, способность завоевать преданность людей и повести их за собой даже на смерть. Второй туз — нестандартное, гибкое мышление, искра гения. Третий — способность и готовность выслушать подчинённых, учесть их мнение. Четвёртый — агрессивный наступательный характер». С этой характеристикой нельзя не согласиться в отношении Нельсона. Только Император Олег Первый, похоже, имел с рождения к «каре тузов» ещё и джокера. Кто играет в покер — поймёт. Джокер, в данном случае — способность отвлечься от всех привычек и стереотипов, при необходимости принять решение, полностью противоположное тому, что от него могли ожидать люди, считающие, что досконально изучили натуру и стиль Его Величества.
— Друг мой, — продолжил Император, положив ладонь на плечо Президента. — Я говорю сейчас с вами, как с братом. Не в том смысле, что подразумевали владыки ПРОШЛЫХ империй. Николай Второй называл «братом» Вильгельма под тем же номером. Ещё большим «братом» был ему английский король, сначала обещавший, а потом отказавшийся принять под своё покровительство даже жену и дочерей Николая, когда им грозила жуткая смерть. И после этого вы думаете, что стоить верить подобным словам?
— Простите, Олег, — несколько нервно сказал Президент, задетый словами державного коллеги, — а как же я тогда должен верить вам? Кто бреет цирюльника?
Император раскатисто рассмеялся.
— Мы сейчас начнём обсуждать апории Зенона или что-нибудь более близкое ко времени нашего правления? Я всего лишь хотел сказать, что я — совсем другое дело. У меня нет интересов, ради которых стоило бы лгать, изображая дружелюбие, одновременно точа за спиной нож и пряча камни за пазухой. Если я в чём-то заинтересован в вашем мире — я скажу прямо. И если что-нибудь пообещаю, дав честное слово офицера, — я это исполню. В вашей реальности, к сожалению, давно отвыкли от такой военно-феодальной простоты.
Император посмотрел на несколько стоящих перед ними бутылок очень хорошего вина.
— Буквально по глотку, и на этом закончим. Видите, официанты нервничают, и наши с вами соратники с неудовольствием поглядывают в нашу сторону, обоняя соблазнительные запахи… — Олег при этом очень хитро усмехнулся.
— Только ведь… Знаете, если к вам придут те, кто пришли ко мне в Берендеевку, чтобы меня убить и установить свою власть (кстати — ко мне они пришли из вашего мира, и я не поручусь, что следующей целью они не изберут вас), всё может закончиться гораздо хуже, попросту говоря… — Император, не затрудняясь эвфемизмам, прямо и отчётливо сказал, что ждёт его коллегу.
— И, насколько я знаю, полковников Ляховых и капитана Уварова на вашей стороне вовремя может не оказаться…
— Простите?
— Да он здесь присутствует, мой флигель-адъютант. Проявил отвагу и мужество в боях с мятежниками на улицах Москвы, одновременно координировал действия наших войск с врангелевской гвардией. Уваров сейчас в другом месте решает судьбы истории, командовал ротой, до последнего оборонявшей мою резиденцию, пока не подоспела помощь. Хорошо ощущать себя императором, которому служат Лукулл, Помпей, Сципион Африканский одновременно. Верно, без лести и собственных претензий на власть, готовые умереть за царя, хотя и предпочитают выжить. До сих пор это им удавалось. И ни одного Брута поблизости.
Президент, не настолько хорошо знающий Древнюю историю, тем не менее согласно кивнул, поняв общую суть. Императору легко рассуждать, думал он. Самодержавие — действительно совсем другой способ правления и, соответственно, другой образ мыслей и стиль поведения правителя. При этом Президент как-то упускал из виду, что нынешнего положения Олег Константинович добился собственными усилиями, превратив за короткий срок в Империю вполне себе демократическое государство со всеми его пороками, ухитрившись избавиться от пороков, но сохранив и приумножив преимущества. Такое, разумеется, не каждому дано, тут требуется непреклонная воля, чёткое осознание цели и достаточные силы, в том числе и вооружённые, на которые можно опереться в критические моменты.
Но то, что в существующих обстоятельствах ни сам он, ни один из лично известных ему людей «высшего эшелона» на подобный подвиг не способны, Президенту было очевидно. Увиденное во время краткого посещения императорской Москвы и общение с Олегом Константиновичем и его соратниками надежд не оставляло. Сегодня же о том, где они побывали, Анатолий расскажет остальным, предъявит документальные подтверждения. Кроме тамошних газет — собственноручно сделанные телефоном фотографии. Остальное — вопрос времени.
Разве что, отказавшись от всех своих принципов, сыграть на опережение? До последнего демонстрируя упрямую непреклонность, отступая шаг за шагом, якобы под давлением непреодолимых обстоятельств, спланировать и осуществить собственную операцию, вроде контрнаступления под Сталинградом. Как именно это будет выглядеть, он пока не представлял, но, как говорится, есть над чем работать… С большими оговорками, но кое в чём признать правоту «Александра», Сильвии, согласиться на частичную легализацию их «Чёрной метки» и провести несколько показательных антикоррупционных акций. Решительных и беспощадных. А у Императора попросить несколько надёжных воинских частей для пресечения возможных беспорядков хотя бы в столице и ещё нескольких ключевых точках.
Тут-то и наступит «момент истины». Но какой ценой? США и Евросоюз, что совершенно очевидно, отреагируют мгновенно. Объявят всё происходящее не менее чем фашистским переворотом, введут санкции вплоть до тесной блокады границ, а то и отважатся на прямое военное вмешательство. И что — использовать ядерное оружие, поскольку обычных вооружённых сил явно не хватит для «классической войны». Наверняка тут же активизируется «исламский фактор», да и Китай своего не упустит.
Короче — глобальная катастрофа. Или — наоборот? Как в дни Кубинского кризиса продемонстрировать готовность идти до конца и в решительный момент выбросить на стол козырного туза.
— Да, Олег, — со всей доступной ему твёрдостью ответил Президент. — Пожалуй, пока нам стоит остановиться на достигнутом, на какое-то время расстаться. Расстаться друзьями, разумеется. Я не возражаю против поддержания культурных контактов, весьма желательным считаю обмен какой-то взаимополезной информацией… — Он замялся. Что-то ещё следовало сказать, но вот что? — Создадим контактную группу, вполне неофициально, разумеется. Любые утечки информации, а они непременно будут, мы с полным основанием будем игнорировать, не снисходя до комментариев столь абсурдных утверждений. Как говорили в анекдоте времен «холодной войны»: «Хай клевещут!»
— И это совершенно правильно, — поддержал его Олег. — Чем больше вы будете отрицать, тем сильнее занервничают ваши противники, внешние и внутренние. Грамотно поставленной кампанией разнонаправленной информации можно такой раздрай в геополитике учинить… — Император даже прижмурился, как кот, от удовольствия. — Непременно предоставлю вам несколько специалистов этого дела. Их методика, неизвестная в вашем мире, подбавит перчика…
Я, честно вам признаюсь, одного не понимаю — такой вот вашей слишком нервной реакции на наше знакомство, — продолжил Император, великолепно ощутив весь спектр обуревающих собеседника чувств. — Очевидно, сегодняшний день оказался слишком труден. Слишком много экстремальных впечатлений, без привычки-то. Чересчур жизнь у вас выдалась спокойная, что личная, что государственная. Оно и хорошо, если по-обывательски смотреть. «Царствуй, лёжа на боку», как наш общий поэт писал. А в кризисной ситуации?
Если вдруг вражеское вторжение на тысячекилометровом фронте, войска отходят, почти не оказывая сопротивления, в тылу бардак, соратники ненадёжны, союзники предают, да вдобавок народные бунты там и там возникают — в такой обстановке вы готовы Державой управлять? На любое решение — несколько часов от силы, и каждое должно быть единственно верным, а главное — осуществимым. И конечная цель — непременная победа, иначе лучше сразу капитулировать, «во избежание ненужного кровопролития», после чего застрелиться или преобразиться, как Александр Первый, в старца-отшельника…
— Это вы тоже на Сталина намекаете? — спросил Президент, к которому вполне сейчас была применима поговорка насчёт «голодной кумы».
— Да на кой мне чёрт какой-то ваш Сталин? — возмутился Олег. — Своих примеров достаточно. Один — Николай Второй, второй — ваш покорный слуга. А вы какую-то мерехлюндию развели. Меня действительно дела торопят, а у вас, похоже, времени в избытке. Вот и поразмышляйте на досуге. Я ведь чего в идеале хочу — истинного возрождения и процветания не чужой мне страны. Прадед не очень хорошо ею распорядился, плоды чего вы до сих пор пожинаете. А ведь и у меня, и у вас до сих пор живут люди — немного, но ещё есть, — родившиеся до «развилки». Значит, одинаково мои и ваши подданные. Их судьбы в чьей фактической юрисдикции? А детей, внуков?
Президент совершенно не был готов к подобному стилю общения. Как на государственном, так и на личном уровне. С ним последнее время вообще не спорили, а разные формы несогласия, что в правительственных кругах, что на всяких зарубежных «саммитах», облекали в бесчисленное количество пустых словесных обёрток.
А тут в лицо говорят, что если ты и не совсем пустое место, то близко около этого. И отвечать нужно без подсказки «спичрайтера», да так, чтобы потом не было «мучительно больно». Как в детстве и юности на крутых пацанских разборках.
Да ещё Сильвия с дальнего конца стола смотрит обволакивающим русалочьим взглядом, и как-то ведь придётся объясняться с друзьями, когда гости отбудут восвояси. Тяжело, очень тяжело, и стыдно как-то. Перед самим собой, прежде всего.
Ну, не готовился он к такому, действительно, что тут теперь поделаешь. Правильно пел Высоцкий: «Я на десять тыщ рванул, как на пятьсот, и спёкся…»
— Ты вот, коллега, — продолжал тем временем Император, — главное, нервы не перетруждай. Выпивай вечерами, не с горя, а для веселья, на рыбалку или охоту выезжай почаще, в хорошей компании, вот она, то есть жизнь, сама на нужную колею и выберется. Куда как трудно Александрам, что Второму, что Третьему, приходилось, никак не легче, чем нам с тобой, а в радостях жизни себе не отказывали. Может, и вправду — двинемся прямо сейчас ко мне в Берендеевку? Развлечёмся — небу жарко станет, и все государственные проблемы обратятся в мелочь, не стоящую внимания!
Олег Константинович был совершенно искренен в своём приглашении, и Сильвия будто бы кивала, напоминая, что и месяц в другой России здесь секундами обернётся.
Но это уже мо́рок какой-то затягивающий, и едва ли, поддавшись, сумеешь остаться самим собой.
Президент отрицательно мотнул головой:
— С удовольствием принимаю приглашение, но, увы, не сегодня. Многовато для первого раза будет. Вообще предлагаю прекратить прения. Обед так обед.
— Быть по сему, — согласился Олег, допивая свой бокал. — Даст бог, не последний день живём. Пробил адмиральский час[53], и Шехерезада прекратила дозволенные речи…
Глава седьмая
В положенное время участники собрания ведущих членов «Хантер-клуба» перешли в каминный зал, где на ужин в их присутствии по всем правилам готовились бекасы, вальдшнепы и прочие птицы этого семейства. А также и кроншнепы, относящиеся к семейству ржанковых и достигающие размеров приличной курицы. Были и куропатки из семейства фазановых. Запахи по залу распространялись умопомрачительные, повара в егерских одеждах орудовали вертелами, лакеи готовили столы «по-походному».
Арчибальд перешёл от общих рассуждений к вопросам практики, от которой кое у кого начали кривиться губы. Одно дело — создавать теории и «продвигать их в массы» ничего не понимающих исполнителей, совсем другое — поставить на кон собственные головы, согласившись, что они ничуть не ценнее и, главное, не крепче прочих.
После достопамятного разгрома британской кавалерии под Балаклавой 13/25 октября тысяча восемьсот пятьдесят четвёртого года (официальная траурная дата военной истории Англии), когда были массово уничтожены представители самых аристократических фамилий[54], гордые альбионцы предпочитали избегать прямых боестолкновений с русской армией. Да их после окончания Крымской войны и не случалось больше, англичане воевали с Россией или чужими руками, или вонзали ей ножи в спину и ставили подножки, числясь официальными союзниками.
Удивительно, насколько утратила боевой дух нация, потеряв в честном бою всего лишь сотню офицеров и пару тысяч рядовых! Этого хватило, чтобы её полководцы решили в настоящих сражениях с достойным противником больше не участвовать. Один раз не удержалась, и опять в связи с «русским вопросом». Так Британии не хотелось, чтобы Россия, надёжнейший союзник по Антанте в Мировую войну, заняла Босфор и Константинополь, что решилась она на опережающую, неподготовленную операцию по захвату Дарданелл. Бывшие друзья-турки устроили ей страшный мордобой при Галлиполи, взяв заодно реванш за тяжёлое поражение от русских под Эрзерумом и Трапезундом. В той бестолковой мясорубке англичане потеряли двести тысяч солдат и несколько тяжёлых кораблей.
Так дальше и покатилось: бегство из Дюнкерка, сдача японцам первоклассной крепости Сингапур всего через неделю после первого обстрела, причём атакующие крепость имели личного состава втрое меньше, чем обороняющиеся за бетонными фортами.
Это вам не Порт-Артур, где британские клиенты — японцы почти год штурмовали глинобитный городишко в чистом, практически, поле. Ничего подобного укреплениям Сингапура там не было. После этого за минувшие тридцать пять лет самураи кое-чему научились. Своих покровителей и друзей раздолбали в пух и прах. А уж что с пленными делали — смотрите английский пропагандистский фильм «Мост через реку Квай». Очень, наверное, пожалели гордые британцы, что таких друзей выпестовали. Зато встретив под Халхин-Голом русскую пехоту и танковые бригады, те же японцы быстро ощутили, «что вам здесь не тут». И навсегда оставили идею ещё раз повоевать с этим грубым народом. Хотя советские политруки так и не смогли научить своих бойцов и командиров публично вырывать у пленников печень и съедать её на глазах восхищённых подчинённых, что считалось доблестью у самураев.
Отсталая, конечно, нация — русские, по сравнению с умельцами, делающими «Тойоты» и магнитофоны. Просто интересно, отчего ни один подобный факт в вину нынешним японцам не ставится, хотя, при их продолжительности жизни, каждый второй благовидный пенсионер в чём-то, вроде «шанхайской резни», наверняка участвовал. И вкус горячей, живой печени помнит.
Однако до сих пор во всех исторических трудах (включая и советско-российские) Японская и Крымская войны Россией позорно проиграны, а двукратная сдача французами Парижа, все кампании 1939–1941 гг. — включая Дюнкерк — вершина национального боевого духа.
Да и в новейшие времена афганскую эпопею СССР принято считать позорным поражением, а французские Вьетнам и Алжир, где отважные галлы бежали с собственных территорий, Вьетнам и Корея, проигранные американцами вкупе со всеми союзниками по НАТО, СЕНТО и СЕАТО, — к разряду унизительных исторических эпизодов относить не принято.
Но оставим лирическое отступление, которые так любил в своих романах Виктор Гюго.
То, о чём сейчас говорил Арчибальд, то есть окончательное выведение России за скобки мировой истории, выглядело крайне привлекательно, но присутствующим по-прежнему хотелось, чтобы этим занялся кто-то другой. Нет вопросов, «Хантер-клуб» почти двести лет поставлял в правительство премьер-министров, министров финансов и иностранных дел, вся разведка и контрразведка тоже была «своя». Джентльмены, не склонные к просиживанию штанов в парламентах и иных кабинетах, находили возможность захаживать, под видом «частных лиц», на заседания всяких там «бильдербергских», «заксенхаузеновских», «миннесотских» и прочих конгрессов, якобы определявших векторы текущей политики, сегодня и в далёкой перспективе, внимательно слушать прения, моментами отпуская замечания, как правило — принимаемые к исполнению.
Большинство усилий достопочтенных джентльменов, то «прямых», то весьма опосредствованных, последние три века направлялись на причинение максимального вреда России, лишь изредка отвлекаясь на почти семейные разборки с немцами и французами. То, что антироссийская политика всех без исключения британских кабинетов нередко противоречила реальным интересам Империи, во внимание не принималось. В этом случае традиционный прагматизм «мировых лавочников» уступал место романтической ненависти. Можно бы назвать это своеобразным инстинктом, архетипом, не поддающейся рационализации уверенностью, что две эти страны одновременно сосуществовать на одной планете не могут. Неважно, почему. Евреям тоже нельзя в субботу поднимать с земли оброненные деньги.
Арчибальд указал рукой на выложенный готическими золочёными буквами девиз, почти незаметный в окружении других щитов, эмблем и флагов, на стене позади председательского стола.
Все посмотрели.
«Как трудно жить на свете, когда с Россией никто не воюет!» Подпись — лорд Пальмерстон[55].
— Это сказано полтора века назад, — поднял палец Арчибальд. — И эти мудрые слова не потеряли своей актуальности. Правда, после Севастополя и Петропавловска прямых вооружённых столкновений не было, оказалось, что воевать с русскими на их территории Британии не по силам. Более того, в одной мировой войне здесь и в двух — в другой реальности нам пришлось оказаться союзниками, но это ничего не изменило. Напротив, опасность стала ещё очевиднее. И вот, наконец, пришло время нанести решительный удар. «Карфаген должен быть разрушен!»
— Каким же это, интересно, образом? — осведомился один из джентльменов, имеющий отношение к «Форин офис», т. е. министерству иностранных дел. — Россия — член ТАОС, весьма авторитетный, и я, например, не вижу даже гипотетической возможности как-то изменить ситуацию. Нам никогда не удастся расколоть Союз и создать жизнеспособную антирусскую коалицию. Сегодня не тысяча восемьсот пятьдесят третий год.
— Об этом не идёт и речи. Конечно, ни у кого нет сил, а главное — желания начинать новую мировую войну в то время, как «свободный мир» и без того напоминает осаждённую крепость. Но есть куда более простой и надёжный путь. Силы, направившие меня сюда, вернее, позволившие вернуться в этот мир, по которому я, признаться, немного соскучился, заинтересованы в том же самом. Им очень не нравится существование России в её нынешнем качестве, а главное — последствия, могущие наступить по её инициативе очень скоро. Если в одном из параллельных миров, как я уже говорил, она практически выведена из числа главных мировых игроков и тщетно пытается сохранить жалкие остатки прежней мощи и влияния, то в двух других, включая и этот, всё обстоит противоположным образом. Югороссия, существующая в двадцать пятом году, стремительно развивается, по своим военным и экономическим возможностям уступает только Соединённым Штатам. А если (что рано или поздно случится) присоединит к себе остальные территории, ныне управляемые большевиками, или просто объединится с РСФСР в «Евразийскую конфедерацию» под лозунгом «Одна страна — две системы», для Европы это станет катастрофой. Тамошняя «версальская» Германия, похоже, сделала ставку на идеи Бисмарка, и если оформится прочный русско-германский союз, наша «добрая старая Англия» превратится в ничтожный островок, населённый вырождающимися потомками титанов девятнадцатого века!
— Вы говорите странные и страшные вещи, сэр Арчибальд, — возмутился один из клубных «ультраконсерваторов».
— Да неужели? А разве сейчас, здесь, у вас, Великобритания по-прежнему «владычица морей», «мастерская мира», дирижёр «европейского концерта»? Вне рамок ТАОС мы что-нибудь можем предпринять в отношении своих бывших колоний и доминионов? Способны противостоять «Чёрному интернационалу», если он сочтёт нас очередной целью?
Оппонент промолчал. Молча ждали продолжения и остальные.
— В том и дело, джентльмены, что единственная реальность, где мы что-то можем и что-то значим, зажата между двумя другими, с совершенно проигрышным для нас раскладом. И я прислан сюда, чтобы проигрыш превратить в победу. Прошу вас усвоить: все параллельные миры сплетены воедино, взаимопроницаемы, населены во многом одними и теми же людьми, используют зачастую общую инфраструктуру. В этом самом кабинете в другом мире сейчас сидят почти те же самые люди и, возможно, говорят о том же самом, но с другой точки зрения. В случае необходимости мы можем рассчитывать на их помощь, так же как они — на нашу. Ведь это так естественно, так соответствует нашему национальному характеру: «Помоги себе сам, тогда и Бог тебе поможет».
Именно поэтому силами, способными в равной мере контролировать все известные реальности, сочтено необходимым осуществить массированное воздействие на стыке пространств и времён. Вычислено — именно сейчас эта реальность зависла в состоянии неустойчивого равновесия. Если Олегу Романову удастся его план узурпации власти и возрождения российского самодержавия в его, так сказать, «идеальной форме», начавшийся XXI век станет веком русской гегемонии. И Россия будет определять, как должен быть устроен мир, кого взять себе в союзники и клиенты, а кого — предоставить собственной участи. Я не хочу жить в таком мире. Вы, разумеется, тоже, поэтому должны полностью положиться на меня, вернее, на те силы, которые меня направляют.
В ответ на вопрос, что именно представляют собой означенные «силы» и каковы основания считать их дружественными и стремящимися к тем же, что и «Хантер-клуб», целям, Арчибальд сказал, что сущность их столь же непостижима, как и «божественное провидение». Достаточно того, что они обладают возможностью управлять законами природы и, пожалуй, определять мироустройство в пределах этой, конкретно взятой Вселенной.
Скептически настроенный мистер Пейн, до сих пор отчего-то не удостоенный даже рыцарского звания, притом что «сэром» не так давно стал даже популярный в кругах богемы певец-гомосексуалист (наверняка Оскар Уайльд от зависти и негодования перевернулся в гробу), своим вопросом попал в точку.
— Ни в коей мере не подвергая сомнению слова достопочтенного докладчика, я просто следую урокам известного большинству присутствующих Сократа. То есть ищу в словах собеседника логические неувязки, в которых не могу разобраться самостоятельно, и немедленно прошу меня просветить. Итак — имеются некие «силы», настолько могущественные, что в состоянии воскрешать мёртвых, творить миры и забавляться законами природы, как ребёнок кубиками. Так отчего бы им самим не отменить Россию как исторический парадокс, расселить нас на её территории, как не столь давно было сделано на американском континенте, и предоставить остальное естественному процессу эволюции? Для чего привлекать к столь грандиозной задаче совсем небольшую группу людей, весьма достойных, конечно, но далеко не всесильных!
Пейн произнёс эту тираду и сел с победительным видом.
— Я вас понимаю, — проникновенно ответил Арчибальд. — Но в том ведь и дело, что Господь Бог не установил на Земле даже после пришествия Спасителя тех порядков, которые вытекали бы из дарованных им Заповедей, постулатов Нагорной проповеди… Он, в неизречённой милости своей, предоставил людям право самим решать свои судьбы, лишь иногда тем или иным образом направляя и подсказывая…
— И карая, — с места добавил Пейн.
— Да, и карая. Причём последние две тысячи лет предпочитает делать это не собственноручно. Что касается «всесилия»… Человек, настолько всесильный, что в состоянии одним нажатием кнопки семикратно уничтожить планету со всем её населением (впрочем, это не из нашей истории, здесь, слава богу, до такого ещё не додумались), подчас затрачивает массу усилий, ухищрений и смекалки, чтобы вырастить в своём садике розу диковинного голубого оттенка. С прагматической точки зрения ему это совершенно не нужно, однако он посвящает своему увлечению всё свободное от руководства судьбами нации или целого мира время. Рыхлит землю, вносит удобрения, уничтожает тлей, отбраковывает неудачные образцы. Думаете, Господу нашему нечем больше заняться, кроме как определять меру наказания ничтожнейшему из грешников? Однако он это делает. По крайней мере — мы уверены, что он это делает. Вот сейчас он неожиданно пропустил в наш мир эти «силы», для которых у меня нет определения. Очевидно, это очередное проявление Божественного Провидения. Вы удовлетворены, мистер Пейн?
— Удовлетворён. Переходите к сути.
Суть оказалась достаточно простой по сравнению с очень затянувшимся предисловием. Здешнему составу «хантеров», с привлечением всех имеющихся возможностей, соратников и сотрудников в Англии, за её рубежами и в самой России, необходимо спланировать и провести операцию по физическому устранению Великого князя Олега. Одновременно с ней из одной или двух параллельных реальностей в эту будет переправлено достаточно специалистов, технических средств и боевых групп «добровольцев», чтобы организовать в Москве, Петрограде и любых других местах (если потребуется) масштабные беспорядки по типу февраля 1917 года. Власть возьмут «нужные люди» из Главной Исторической Последовательности (ему пришлось попутно объяснять метафизический смысл этого термина), знающие, как следует действовать для достижения безукоризненно просчитанного результата.
Россия немедленно будет дезинтегрирована на минимум пятьдесят безусловно независимых государственных образований с массой территориальных и политических претензий друг к другу. В идеале это обеспечит немедленное начало одной всеобщей гражданской и десятка межконфессиальных и этнических войн. И весь наступающий век именно британцам (как единственно понимающим смысл происходящего и держащим в руках рычаги силового и психологического управления) будет предоставлена возможность пользоваться плодами этой внезапной «геополитической катастрофы».
Идея как таковая вызвала горячее одобрение и энтузиазм собравшихся. Собственно, она ни в чем не расходилась с той, что со времён Ивана Грозного и королевы Елизаветы составляла суть и стержень британской политики, просто впервые после завершения Мировой войны была сформулирована с беспощадной определённостью. Полное уничтожение геополитического противника, и никаких политкорректных нюансов. Раньше приходилось жить, стиснув свои чувства в кулак, как на светском рауте в доме бесконечно ненавистного человека.
— Вы уверены, достопочтенный сэр, что предлагаемая вами операция пройдёт достаточно гладко и не потребуется прямой силовой акции, нашей и наших союзников? Всё же у России четырёхмиллионная, весьма боеспособная армия и мобилизационный потенциал под сорок миллионов.
— У царской России было под ружьём двенадцать миллионов к моменту революции, и это никак не помешало свержению Николая и развалу Империи, — с чувством превосходства ответил Арчибальд.
— Вы говорите о какой-то другой истории, — с места довольно запальчиво выкрикнул молодой (по клубным меркам) человек. — В нашей — несколько царских генералов смогли выделить из двенадцатимиллионной серой массы боеспособное ядро в несколько сот тысяч офицеров и солдат. Этого хватило, чтобы разгромить большевиков и восстановить ту же Империю, пусть и без царя, не только в границах девятьсот четырнадцатого года, но и с солидным приращением. А теперь речь идёт уже и об официальной реставрации монархии. Это безусловный вызов самой идее прогресса и демократии, но неизвестно, устоит ли «демократия» перед таким вызовом? — очевидно, Айвори Гамильтон-Рэй был достойным сыном своего отца и к истории относился прагматически, без идеологических шор.
— В той реальности действительно была допущена ошибка, — согласился Арчибальд. — Правительство Ллойд-Джорджа слишком долго колебалось, не зная, кого поддержать — монархистов, кадетов, беспартийных генералов или большевиков. Когда разобрались, было уже поздно.
— Но, насколько я понял ваш предыдущий рассказ, точно те же ошибки совершены и в других реальностях. И там и там хоть монархисты, хоть большевики (но всё равно русские!) преодолели «смуту» и вышли из неё достаточно сильными, чтобы остаться государством, в той же мере превосходящим Британию, что и раньше.
— Россия никогда не превосходила Британию! — с возмущением провозгласил герцог Честерский.
— Тогда отчего всё-таки мы в трудные моменты нашей истории искали союза с Россией и никогда — наоборот? — Поняв, что его слова раздражают «высокое собрание», молодой Гамильтон-Рэй пояснил, оправдываясь: — Я полностью разделяю наши общие идеи, но как любой охотник предпочитаю составить полное представление о звере, против которого выхожу. И хочу правильно выбрать снаряжение, вне зависимости от чьих-либо предрассудков. Неосторожно внушать себе, что бекасиная дробь годится и против тигра, как, впрочем, не стоит стрелять по зайцу экспансивной пулей…
— Молодой человек прав, — примирительно сказал Арчибальд, которому сейчас умный оппонент-скептик был полезнее восторженного дурака-догматика. Работать ведь придётся с первыми, вторые, не понимая этого, годятся лишь на роль буйволов, тянущих фургон в нужную сторону.
— Все наши беды — от недооценки противника. И самое неприятное: после стольких конфликтов, войн и революций мы не научились понимать — когда же и в чём мы ошибаемся! У нас ни в министерствах, ни в штабах, ни в самом клубе столько лет (даже веков!) не было людей, способных мыслить на той же волне, что и неприятель. Вот русские цари, при всей разнице положения и образования настроения и характер своего народа, возможности рядовых, неграмотных солдат понимали и умели использовать… Зато теперь мы учли абсолютно все ранее допущенные ошибки, в том числе невозможность и ненужность личного участия европейцев в открытых столкновениях с русскими. Мы, наконец, поняли психику нынешнего, живущего в вашей реальности русского человека.
При слове «русского» лицо Арчибальда исказила странная усмешка.
— Мы не только знаем теперь, как именно «оставить за кадром» столь много неприятностей доставлявшие нам черты его «национального характера», мы на примере «Главной реальности» провели натурный эксперимент. В принципе он удался. Если в точно рассчитанный момент ликвидировать «князя Олега» и несколько человек его ближайших соратников, остальная «Россия» и не почешется. Зато назначенная нами «колониальная администрация» сразу даст «народу» то, что является его естественной и вековой мечтой, постоянно подавляемой авторитарной властью. Мы дадим людям «волю»…
— Поясните, что это слово значит, — попросил неугомонный Айвори. А ведь он, судя по его взгляду и интонации, знал русский язык. Тем интереснее будет поработать с этим человеком.
— Вообще, у русских, в их наиболее полном словаре Даля, трактовка этого термина занимает три страницы мелкого шрифта. Я имею в виду то, что нужно нам: «данный человеку полный произвол действия, отсутствие любого принуждения». Это совсем не то, что европейская «свобода». Винтовка в руке и никаких сдерживающих принципов. Вот вам и русская «воля».
— Спасибо, сэр, — кивнул Айвори, опускаясь в кресло. — Только отчего вы думаете, что четыреста миллионов таким образом настроенных людей захотят слушать вас и наших ставленников? Если хотя бы десять процентов из них сохранят винтовки, а также автоматы, пулемёты и танки? Притом что никакая власть, тем более иностранная, не сможет контролировать эту «волю» на таких территориях. Сколько дивизий мы сможем выделить для оккупации, и насколько далеко они смогут продвинуться от морских портов и аэродромов?
— Им и не потребуется куда-то «продвигаться». Русские всё за нас сделают сами. Подконтрольная нам власть будет поддерживать подобие порядка там, где это необходимо. На остальной территории пусть делают что хотят.
— Очень вероятно, что скоро очередному генералу Корнилову захочется установить свою власть, навести свой порядок, и в очередной раз повторится то, что неоднократно случалось — мы получим ещё более агрессивного, озлобленного против нас и всего свободного мира противника. Он вдобавок может объединиться с «Чёрным интернационалом», и тогда нас ждут совсем весёлые времена…
— Хорошо, что вы умеете так чётко выявлять слабые места в стратегических планах, — с кисловатой улыбкой сказал Арчибальд.
— Это его специальность, — пояснил председательствующий. — Коммодор[56] Гамильтон-Рэй служит старшим аналитиком Адмиралтейства.
— Прекрасно, такие люди нам нужны даже больше, чем простые организаторы и исполнители. У вас будет много интересной работы, но я бы хотел, чтобы вы знали — сначала нужно разгромить врага и лишь потом решать вопросы послевоенного устройства. Иначе не стоит и начинать.
— Иногда такое решение бывает единственно правильным, — почти дерзко ответил коммодор.
Клубмены не ожидали, что сравнительно молодой человек, обязанный своим членством исключительно авторитету и влиянию отца, вдруг вступит с гостем в столь длительный, на грани приличия, спор. Почти всех остальных, в силу их возраста, настолько увлекла возможность обрести бессмертие и возможность свободно перемещаться между мирами, что они не желали задумываться о прозаических вещах. Тем более никому из них всё равно не придётся делать что-либо своими руками. Всего лишь — давать указания тем, кто станет принимать решения и проводить их в жизнь.
Отзвуки даже мировых войн редко достигают слуха «настоящих джентльменов» сквозь стены клубов и ограды родовых замков.
…За следующие полтора года произошло много интересного. Сэр Арчибальд и те, кто его поддерживали, сделали правильный выбор, определив «Хантер-клуб» мозговым и оперативным центром операции «Кроссворд». Самим достопочтенным джентльменам, действительно, думать почти не приходилось. Из самозваных вершителей судеб полумира они превратились в простых «направленцев», как называют в высоких штабах офицеров, ответственных за контроль над конкретным участком театра военных действий, сами этого не осознавая.
Арчибальд, присвоив себе должность, аналогичную как минимум начальнику Генштаба, свой «тщательно разработанный план» держал в голове (по крайней мере, написанным его никто никогда не видел), и целиком план был известен только ему. Все прочие клубмены получали от него лишь приказы, тщательно замаскированные под деликатные инструкции или просто советы. Но зато они, используя огромный опыт, колоссальные связи и неограниченные финансовые возможности подконтрольных структур, включая транснациональные корпорации, умело эти разработки реализовывали, не стараясь вникать в подробности.
Сложность современной системы международных политических, экономических, военных отношений была такова, что ни отдельный человек, ни даже спецслужба целого государства не в состоянии были составить представление о какой-либо взаимосвязи, а уж тем более — однонаправленности множества ежедневно происходящих в мире событий. Где-то активизировались сепаратисты, где-то обанкротилась целая отрасль промышленности, пошла вверх или, наоборот, резко упала цена на золото, ушло в отставку правительство вполне благополучного государства, возникла новая политическая партия — такие вещи случаются постоянно на протяжении веков. И до тех пор пока не образовалась где-то, как-то, почему-то критическая масса обстоятельств, чреватая взрывом, как, например, летом тысяча девятьсот четырнадцатого года в Европе, даже самые проницательные политологи и аналитики не способны предугадать абсолютно ничего.
Единственное, на что можно рассчитывать в подобной ситуации целенаправленного изменения вектора, так только на «гениальное озарение», но люди, увы, никогда в них не верили и не верят. Им подавай «неопровержимые доказательства», получить которые невозможно по определению.
Зато у Арчибальда имелось доказательство необходимости и правильности своих действий. Одно-единственное, но совершенно неопровержимое. Для каждого из руководителей «Кроссворда» он организовал обставленное по высшему классу посещение обеих реальностей, в программу которых входил и двух-трёхдневный визит в некий неимоверно древний, но оборудованный по последнему слову науки, техники и искусств «Замок». Где именно он находился, Арчибальд каждый раз отвечал по-разному или вообще не отвечал, делая перед гостями многозначительное лицо. Кроме экскурсий и развлечений каждый «посвящённый» прошёл курс оздоровительных и омолаживающих процедур, почти не затронувших внешности (зачем почтенным пожилым людям привлекать ненужное внимание множества давних и хороших знакомых?), но полностью избавивших от старческих недомоганий, хронических болезней, последствий старых ран. И, что самое главное, как обещал Боулнойз, все они минимум на десятилетие были застрахованы даже от обычного насморка, не говоря об инфарктах, инсультах или, упаси бог, онкологических проблемах.
Его соратники, а по сути всё-таки клиенты[57], не испытывали отныне никаких сомнений, любая возможность нелояльности исключалась полностью. Почти гарантированное бессмертие на чечевичную похлёбку не меняют, даже из самых возвышенных соображений.
Пожалуй, за всю писаную историю земных цивилизаций не проводилось столь масштабных и скоординированных операций, направленных против одной цели. Даже обе мировые войны, а также и «холодная» уступали «Кроссворду» глубиной замысла и степенью использования психологического и психотронного оружия. Прежде слишком рано и непродуманно начинались боевые действия, нападающая сторона почти всегда следовала формуле Наполеона: «Главное — ввязаться в бой, а там посмотрим». Не до конца или совсем не учитывались экономические потенциалы сторон, бездумно выбирались союзники, и уж совсем не принимались во внимание такие нематериальные факторы, как «боевой дух», способность противника к сверхмобилизации, да, в конце концов, просто непреодолимая разница в менталитетах своего и вражеского населения.
Сейчас Арчибальд был уверен, что предусмотрел абсолютно всё.
Парламентский строй России-2, естественно возникший совсем в других странах и других исторических условиях, перенесённый на чуждую почву, демонстрирует крайнюю неустойчивость. Он просто неприспособлен для обеспечения жизнедеятельности такого государства, как Россия. Сегодня она существует только потому, что входит в ТАОС и функционирует в его рамках и по его правилам. К самостоятельной жизни она едва ли способна. Настоящей войны, да ещё «по всем азимутам», определённо не выдержит, как это случилось в первой реальности после прихода к власти Керенского.
Нынешний премьер Каверзнев немногим лучше. Не вдаваясь в теоретические дебри, любому хоть немного мыслящему человеку самоочевидно, что не может государство площадью в двадцать пять миллионов квадратных километров и населением четыреста пятьдесят миллионов человек ста разных национальностей управляться по тем же принципам, что Швейцария (население 7 млн, площадь 41 тыс. кв. км). В такой стране прения в Думе между представителями десятка антагонистических партий по самому пустяковому вопросу занимают больше времени, чем в названной альпийской республике всенародный референдум. А если придётся принимать диктуемые обстоятельства, но непопулярные по определению решения о введении всеобщей мобилизации, военного положения, приостановке действия Конституции, гражданских свобод, учреждению военно-полевых судов, заградотрядов и смертной казни по упрощённой процедуре? Передовые части агрессора раньше войдут в Петроград и займут Мариинский дворец, чем «народные избранники» договорятся о повестке дня!
Единственный стержень, там ещё имеющийся, — это Московия[58] князя Олега. Как только стержень будет сломан — остальное посыплется само. Сделать это совсем не трудно. Стоит устранить князя и его ближайшее окружение, нейтрализовать (без применения военной силы, чисто по модели ликвидации Павла Первого, которой тоже немало поспособствовали тогдашние английские агенты) немногочисленные части великокняжеской гвардии, и Москва перейдёт в руки «нужных людей». Петроградское правительство прежде всего растеряется. Тем более — тут же вспыхнут мятежи во всех «внутренних колониях» — от Закавказья до Финляндии, с ключевой точкой в Польше, которая всегда являлась любимым «Архимедовым рычагом» британцев. Средняя Азия, благо тамошние эмиры, ханы и беки спят и видят себя полновластными владыками, заполыхает, как сухая июльская степь.
Вольные и невольные пособники Арчибальда в Правительстве и Думе парализуют любые осмысленные действия немногочисленных «государственников». Армия будет деморализована серией бессмысленных и взаимоисключающих приказов, а её боеспособные Экспедиционные корпуса, расположенные по границе Периметра, связаны бесчисленными, никакими планами не предусмотренными стычками с легионами «Чёрного интернационала».
Частично их отдельные полки и бригады, предательски оставленные без поддержки «союзников», будут уничтожены, кое-как уцелевшие начнут беспорядочное отступление в глубь страны. А отступать им придётся через очень недружественные, объявившие «независимость» территории. То есть в течение максимум нескольких недель Россия лишится кадровой армии.
Внутри страны согласованно выступят преступные группировки и, несомненно, асоциальные элементы, стремящиеся успеть «отнять и поделить» всё, что плохо, а тем более — хорошо лежит. Нейролингвистическое программирование и идеологическая подготовка «авторитетов» уже ведётся.
Тут и настанет время для интервенции. Устав ТАОС подобный случай прямо предусматривает. Кому из российского правительства придётся подписывать «обращение к союзникам» — определится по обстановке.
Более всего Арчибальд уповал на созданный по его личному проекту и строго засекреченный «Институт глубокого нейропрограммирования». Нашлись и в «первой» и во «второй» России талантливые учёные, за хорошие деньги и обещание «очень красивой жизни» изготовившие достаточное количество установок для нечувствительного превращения тысяч людей в абсолютно адекватных внешне исполнителей чужой воли.
Наконец «была пришита последняя пуговица к мундиру последнего солдата».
— Завтра мы начинаем, джентльмены, — торжественно сообщил Арчибальд на специально посвящённом этому долгожданному дню ужине. Самонадеянность его была так велика, что он совершил недопустимую для умного политика или военачальника ошибку — раскрыл сразу все свои карты и намерения, ничего не оставив на случай «неизбежных случайностей». То есть Клаузевица он если и знал наизусть, то многих постулатов мыслителя просто не понял.
Впервые он обрисовал членам клуба, собравшимся по такому случаю «ин корпоре»[59], картину предстоящего во всей её полноте. В зале отсутствовало лишь несколько человек, ещё в самом начале отказавшихся участвовать в «этой авантюре». Людей настолько самодостаточных, богатых и умных, что их не прельстили никакие посулы, в том числе и «вечной жизни» между мирами. Кто-то посчитал, что она и так обеспечена, доказательством чему был сам факт присутствия здесь Боулнойза (если это всё-таки он), кто-то заподозрил в происходящем происки дьявола. Два джентльмена помоложе просто заявили, что их действительно интересует только охота, для чего они и вступили в клуб, заведомо не собираясь заниматься никакой политикой, а съездить в Сибирь, повидаться с медведями они смогут при любой российской власти. И это было правдой.
Само собой, такое «противопоставление себя коллективу» никаких последствий не имело и иметь не могло. Достаточно было честного слова о «неразглашении», тем более что ни за обеденным столом, ни в курительных комнатах посторонних разговоров вести было не принято.
Доклад сэра Арчибальда с демонстрацией карт и нужных таблиц был подкреплён и детализирован сообщениями лиц, ответственных за конкретные направления.
Айвори Гамильтон-Рэй, получивший к этому времени, не без специальной помощи Арчибальда, уже адмиральские шевроны, доложил едва ли не посуточно расписанную диспозицию силовых составляющих операции.
— Что, уважаемый адмирал, вы, похоже, избавились от своего скептицизма? — благодушно спросил герцог Честерский, сопровождая вопрос изрядным глотком хереса.
— Я сообщил, как выглядит военная сторона плана, если смотреть с нашей стороны. Мы сделали всё, что могли. Тактические и оперативные расчёты не вызывают у меня никаких сомнений…
— Но?! — вопросил герцог, который и сам имел чин генерал-лейтенанта в отставке. — У вас же наверняка имеется какое-то «но»?
— Безусловно, — ответил адмирал. — Вы же играете в бридж и в шахматы и прекрасно знаете, что все ваши домашние заготовки имеют смысл лишь до первого неожиданного хода противника. Я по-прежнему не могу ручаться, что русские будут так любезны, чтобы на каждом этапе «Кроссворда» делать то, чего мы от них ждём, а не исходя из собственного восприятия обстановки.
Да вот вам наглядный пример, — адмирал взял лазерную указку и вывел на экран карту Закавказья и Восточной Турции. — Это, как видите, без сомнения, ключевой театр военных действий, наряду со Средней Азией — объект непреходящих жизненных интересов Империи, при этом — доступен для полномасштабного вторжения и обеспечен стратегическими коммуникациями. Планируя наступление, мы исходили из того, что командир Четвёртого экспедиционного корпуса оперативного направления «Кавказ» со штабом в Эрзеруме, — он указал пункты дислокации бригад и отдельных батальонов, — будучи атакован с трёх направлений превосходящими силами, тем более зная, что происходит в метрополии, немедленно начнёт планомерное отступление по расходящимся направлениям — на Батум и Эривань. Так, как это сделал Юденич в тысяча девятьсот пятнадцатом году. Другого разумного варианта в этой местности просто нет, несмотря на появление авиации. Пусть с потерями, бросая тяжёлое вооружение, он имеет шанс, прикрываясь заслонами на перевалах, эвакуироваться морем или продолжить отход вдоль побережья на север. Но мы даже не рассматривали абсурдный вариант, при котором генерал Сапегин решится на прямо противоположное и всеми силами начнёт прорываться вперёд, через Сирию, к своей военно-морской базе в Хайфе.
— А почему не рассматривали? — спросил некто с дальнего края стола. — Этот вариант всё же пришёл вам в голову, хотя бы как абсурдный? Вдруг именно он и будет реализован?
— Потому что я — не сумасшедший. В одной русской книге об их гражданской войне я читал такое: «Армия наступала. Командарм Сорокин десятый день питался только спиртом и кокаином. Он метался по фронту и успевал везде…»[60] У меня высшее военное образование, но меня не учили планировать действенные контрмеры против стратегических идей, способных прийти в голову подобной личности. Семисоткилометровый марш по чужой территории, почти без дорог, с открытыми флангами, или стокилометровый по своим тылам к хорошо оборудованному центру, не растягивая, а уплотняя боевые порядки — мне кажется, выбор очевиден.
— Не совсем так, — раздался голос сэра Уилбура Даунтлесса, известного своими нетривиальными историческими исследованиями. — Кстати, адмирал, вы не помните, что там было дальше? Хотелось бы узнать, у того командарма что-нибудь получилось?
Вопрос Гамильтон-Рэй счёл издевательским, поскольку собеседник не мог не знать общеизвестных фактов последней большой войны в Европе.
Однако положение обязывало, и докладчику отвечать пришлось.
— Как вы несомненно помните, командарм Сорокин выиграл подряд несколько сражений, а потом выбрал подходящий момент и, в блеске воинской славы, перешёл на сторону Белой армии, — со всей принятой на королевском флоте холодностью ответил Гамильтон-Рэй. — Однако я не берусь рекомендовать ни вам, ни кому-либо другому решать стратегические проблемы подобным образом. Ни один профессор фармакологии не способен с приемлемой степенью вероятности предсказать, что начнёте совершать вы, перейдя на методику вышеупомянутого полководца. А ещё существует масса препаратов, растормаживающих подсознание и помогающее творить художникам и музыкантам. Вы готовы, сэр Уилбур, принять командование хотя бы дивизией на таких условиях на русском кавказском фронте?
Даунтлесс усмехнулся со всей возможной язвительностью.
— Что и требовалось доказать. Успех возможен и при таких, абсурдных для вас, но приемлемых стратегом с иными психологическими установками обстоятельствах. И это следовало бы учитывать…
— Прошу прощения, джентльмены, — сказал адмирал, усмехаясь теперь уже льдисто. Будто вёл эскадру вдоль мыса Нордкап, в холодную неизвестность. — То, что я сказал, — было только для примера. Примера того, что вариантов можно вообразить сотни, но отнюдь не стоит каждый принимать во внимание. Допустим, генерал Сапегин будет убит в первом же бою, и его сменит неизвестный нам подполковник, которому покажется наиболее правильным марш на Тегеран и к порту Энзели. Так что, выдвинуть усиленный корпус с артиллерией ещё и на это направление? У беглеца тысяча дорог, говорят на Востоке, у преследующего только одна. Мы исходим из вероятностей и здравого смысла…
— Джентльмены, поздно обсуждать незначительные детали, давайте поговорим о том, что случится через неделю в Москве, Петрограде, Лондоне, Париже и Берлине, — призвал Арчибальд. — Уж там-то всё отработано до мелочей…
…Случилось всё и везде очень плохо. Гораздо хуже, чем представлял себе скептичный адмирал и уж тем более — организатор всей этой затеи Арчибальд Боулнойз. Уж лучше бы они действительно, подражая Сорокину[61], пили спирт и нюхали кокаин.
Операция началась по плану. Батальон отлично подготовленных горских боевиков под руководством турецких офицеров нанёс внезапный удар по Пятигорску, намереваясь захватить несколько тысяч заложников и взбунтовать многочисленные кавказские племена от Баталпашинска[62] и Майкопа до Дербента. После чего, шантажируя безвольные и бессильные власти, начать выдвижение к Ставрополю и Екатеринодару, объявив Северный Кавказ независимым имаматом. Как в первой половине девятнадцатого века[63]. Кроме единственного горно-егерского военного училища общей численностью в полторы тысячи штыков, считая первокурсников и преподавательский состав, и разрозненных отрядов станичных ополчений Кубанского и Терского казачьих войск, на всём пространстве от Каспия до Чёрного моря боеспособных армейских частей не было. Ближайшие — во Владикавказе или Ростове. Но им, при планируемом развитии событий, будет не до того.
Всё сорвалось совершенно невероятным образом. Местная полиция и воздушный десант ставропольских юнкеров (как потом докладывали) сумели уничтожить отряд, способный взять даже Лондон. Несколько английских инструкторов были убиты, а руководитель акции, офицер турецкого Генштаба и одновременно связник Арчибальда с лидером «Чёрного интернационала» Катранджи — взят в плен[64].
Адмирал Гамильтон-Рэй и его сотрудники поставили рядом с одним из пунктов диспозиции жирный крестик, сопровождённый двумя вопросительными знаками. Им было трудно представить, как при внезапном налёте на спящий, никем не обороняемый курортный город тысяча отлично вооружённых боевиков с многолетним опытом подобных операций была уничтожена, будто команда школьников, захотевших поиграть в пейнтбол с ветеранами нескольких афро-азиатских войн, вооружённых боевым оружием.
Самое же главное, что вывело из равновесия специалистов чином повыше, чем адмирал — России как-то удалось полностью заблокировать передачу информации о событиях в Пятигорске не только на Запад, но и вообще. Случайно проскочила пара сообщений об уничтожении группы вооружённых бандитов на то поставленными службами — и тишина.
Руководителю Королевского Управления информации и контрпропаганды это показалось плохим знаком.
Дальше — больше. Полным крахом закончилось тщательно спланированное покушение на князя Олега, несмотря на то что в нём участвовало больше сотни человек, специально обработанных нейролингвистическими машинами. Простые конвойные казаки оказались проворнее и стреляли лучше. После этого план затрещал и по всем остальным швам.
Самое же трагическое — необъяснимо провалилась операция «Жало скорпиона», ради которой, собственно, и затевалось всё остальное. «Всё остальное» — только акции прикрытия. Их успех был желателен, но по отношению к главной цели — вторичен. Пока лучшие гвардейские дивизии Великого князя ускоренным маршем выдвигались на запад и юг, великолепно подготовленные, вооружённые, руководимые лучшими инструкторами и специалистами в организации военных переворотов отряды должны были взять Москву и уничтожить претендента на Престол. Специальный научно-исследовательский институт из другой реальности перепрограммировал в столице множество людей, военных и штатских, превратив их в настоящую «пятую колонну» грядущего переворота. Через межвременную границу переправились несколько батальонов злейших врагов русских — боевиков УПА, УНА-УНСО и чеченских сепаратистов, пылающих боевым духом и зоологической ненавистью.
И все они, вместе с инструкторами и двумя десятками невиданных в этом мире танков, настоящих «сухопутных линкоров», при виде которых в панике разбежались бы солдаты любой армии мира (как это случилось с хвалёными немцами, впервые увидевшими английские танки в 1915 году, в сражении на Сомме), были разгромлены наголову, «в ноль», на улицах Москвы и на подходах к великокняжеской резиденции. Тысяча с лишним беспощадных убийц и головорезов (Гамильтон-Рэй не заблуждался по поводу нравственных качеств наёмников-союзников) были мастерски уничтожены, не дойдя всего пяти километров до Берендеевки.
Кроме того, спецназовцы личной разведки князя захватили небывалой ценности специалистов «глубокого нейропрограммирования» вместе с аппаратурой. Это была катастрофа[65].
Однако умного и сильного духом аналитика-адмирала со всем приданным ему штабом подкосило совсем другое явление, безусловно из разряда мистических. Самый изощрённый человеческий ум не в силах был бы столь утончённо и одновременно грубо унизить претендента на пост Председателя «Хантер-клуба» в глазах его товарищей и будущих избирателей.
Он ведь только для примера упомянул в ходе демонстрации своего стратегического гения планируемую в Восточной Турции и Западной Армении операцию и имя генерала Сапегина, командира Закавказского экспедиционного корпуса. Мог бы назвать любого другого полководца, командующего войсками, растянутыми от Порт-Артура до мыса Нордкап, а пришёл на ум и на язык именно этот, ничем не примечательный.
Адмирал хорошо помнил этот день, пасмурный и дождливый, под стать настроению. В «ситуационной комнате», где сидели над компьютерными планшетами и бумажными картами самые лучшие специалисты его «комиссии», завершался разбор просчётов и ошибок, допущенных непосредственными исполнителями «Жала скорпиона». По умолчанию подразумевалось, что разработчики операции всё спланировали верно. И тут, будто по задумке талантливого, но злого режиссёра, из-за кулис, то есть из двери шифровальной комнаты, появился лейтенант и положил Гамильтон-Рэю на стол несколько сколотых скрепкой листов специальной, цветом обозначавшей степень срочности и секретности бумаги.
Адмирал взглянул мельком, потом внимательнее, схватил, вчитался. По-русски ругаться он не умел, а английскому не хватало экспрессии. Интересное сообщение — вроде как последний гвоздь в крышку гроба его профессионального самоуважения и клубной репутации. То, что написано на этих торопливо отпечатанных, с массой грамматических ошибок листках, звучало более чем дико, выходило за пределы самых смелых допущений.
В этот день он прочитал только экстренное сообщение, а уже позже разобрался в случившемся детально. Первая горечь и злость прошли, он вернул себе способности оценить красоту игры генерала, смотревшего на Гамильтон-Рэя с не слишком чёткой фотографии, переснятой из какого-то журнала.
Коренастый мужчина лет сорока пяти, типично славянское лицо с короткими усами, хмурый взгляд из-под козырька полевой фуражки, три тусклые звёздочки на широком погоне с чёрным зигзагом.
Против корпуса Сапегина (три мотомеханизированные бригады, три горных артполка, два отдельных разведбата, кубанская горно-пластунская бригада и обычные средства усиления), разбросанного на фронте в четыреста километров, было выделено десять кадровых турецких штурмовых батальонов, переодетых курдами, около двух десятков настоящих, независимых ни от турецкой, ни от персидской власти курдских орд и неустановленного числа интернациональных абреков. Суммарное количество охваченных «священным восторгом» и неукротимым стремлением к убийствам, насилиям и грабежам «хищников», как называл такие формирования генерал Ермолов, по самым скромным подсчётам, превышало пятьдесят тысяч, на самом же деле — намного больше, штыков и сабель. Как в тысяча восемьсот семьдесят седьмом и тысяча девятьсот четырнадцатом годах они по бесчисленным горным тропам ринулись на север и восток, охваченные почти муравьиным инстинктом — прорваться в густонаселённые, по их меркам — невероятно богатые долины Южной и Западной Армении и, даже если не удастся там закрепиться навсегда, то разграбить и сжечь всё, что возможно, угнать в свои ущелья и оазисы десятки тысяч рабов и будущих наложниц. Специально для этого позади «боевых подразделений» тянулись тысячи и тысячи женщин и подростков — с вьючными лошадьми в поводу, на арбах и даже, где позволяли дороги, на всяком легковом и грузовом автохламе.
Отдельно расположенные и разделённые труднопроходимой местностью русские подразделения могли уничтожаться на выбор, внезапно и без шансов на прорыв и соединение с «главными силами», которых, при такой дислокации, фактически не было, кроме как за Большим Кавказским хребтом.
Десять вариантов действий русского комкора было просчитано в штабах от Лондона до Ангоры и Диярбекира, где засели курды. А одиннадцатый им в головы не пришел. Видимо, надо было всё же, для расширения сознания аналитиков, использовать методику командарма Сорокина.
В том месте, что ему показалось особо угрожаемым, Сапегин нанёс сокрушительный контрудар силами танкового полка и срочно собранной из чего придётся вокруг батальона штурмгвардейцев десантной группой на броне. Отчаянные до почти полной потери инстинкта самосохранения, святого для каждого хоть европейца, хоть азиата, русские танкисты намотали на гусеницы столько «воинов ислама», что через полтора часа воевать с той стороны было просто некому. А облепленные пылью поверх крови танки и бронетранспортёры с десантом перешли в стремительное наступление на главном оперативном направлении, прямо от Татвана на восточном берегу озера Ван на Диярбекир. Водителям команда была одна — «моторесурса не жалеть», и танки выжимали на крутых горных серпантинах по тридцать-сорок километров в час.
Остальным частям и подразделениям корпуса по радио был передан приказ: «Занять жёсткую оборону в местах расположения и держаться до последнего патрона. Авиации и вертолётам работать по коммуникациям противника на пределе возможностей».
Потом генерал Сапегин, гордившийся тем, что не только внешностью, но и характером походит на «белого генерала» Скобелева, на открытом броневике, в сопровождении только адъютанта, выпускника Петроградского университета, знатока десяти восточных языков, включая древнешумерский, и ещё одного человека в чёрной рясе и клобуке въехал в полевую ставку Модамин-бека.
Самый главный курд, эмир и шейх-уль-ислам, не придававший, впрочем, этому религиозному титулу никакого значения (по крайней мере, грабить и бесчинствовать на захваченной местности он ему не препятствовал), вышел из шатра навстречу гостю. Он очень хорошо разбирался в психологии, в том числе и в русской военной. Оттого не удивился ни дерзости генерала, пробившегося всего с одной ротой через пятьдесят километров густо заполненной вооружёнными людьми «зоны племён», ни тому, что его аскеры (или нукеры?) пропустили генеральскую машину без малейшей попытки уничтожить её или захватить в плен.
Беку уже доложили о катастрофическом прорыве, и вся «армия» об этом знала раньше «главкома». Бежавшие с поля боя успели поделиться впечатлениями. Все ожидали вполне законной, торопливой и оттого ещё более беспощадной мести за вероломство, ведь «вторые эшелоны» орды и мародёрский обоз остались в тылу атакующих войск.
Генерал привёз с собой десять известных беку кожаных мешочков, по две тысячи золотых червонцев в каждом. Подарок для завязки разговора.
Комкор и сопровождающие сняли сапоги, сели на краю протекавшего мимо шатра арыка. Бек, скрестив ноги, устроился на шёлковой подушке напротив. О здоровье многочисленных жён, детей и внуков бека генерал осведомляться не стал, что обещало крайне жёсткий тон переговоров.
Мюриды (или как их там) принесли зелёный чай в персидских стаканах «армуды» и засахаренные фрукты. Сапегин скривился и кивнул адъютанту. Тот снял с пояса армейскую фляжку в суконном чехле.
— Простая водка. Будете? Не очень ещё и тёплая.
Курд с достоинством изъявил согласие. Выпили. Пожевали то, что в Средней Азии называется «урюк».
— Я почтительно слушаю вас, генерал, — наконец сказал курд на довольно приличном русском.
— Мы никогда не были врагами вашего народа, — ответил Сапегин, раскуривая папиросу.
— Может быть, приказать принести кальян? — спросил Модамин-бек.
— Как-нибудь потом, — отмахнулся генерал. — У меня в подчинении двадцать тысяч человек с тяжёлой техникой, два полка боевых вертолётов, а бомбардировочной дивизии из Батума лететь сюда полчаса. Они раздолбают тяжёлыми бомбами все мосты на полсотни вёрст окрест, а главное — плотины гидростанций. Единственное, что вы успеете эвакуировать, так это свой гарем. Один только выстрел в сторону моих солдат, и вы здесь все погибнете. Даже если и нам придётся умереть. Но это наша профессия и долг. Я доходчиво излагаю?
Поручик начал переводить со всеми положенными цветистыми оборотами. Эмир жестом велел ему прекратить.
— Вполне доходчиво. Ваши деньги я взял. Англичане столько не дарят, и они далеко. Турок мы совсем не любим, а посмотреть, чем они торгуют в своих лавках, куда интереснее, чем смотреть в дула ваших пушек.
Тут вмешался человек в чёрном:
— И ещё послушай меня, Модамин. Меня зовут Тер-Исакян, Месроп. Я епископ Ванской епархии. Я хочу сказать вот что. Наши русские братья, собравшись уходить, если им это прикажут, пообещали подарить нам пятьдесят тысяч винтовок и автоматов, а также всю военную технику, которую не смогут забрать с собой. Я, смиренный слуга Господа нашего, хочу подтвердить братьям-мусульманам, во имя общих наших пророков Исы, Мусы и Мариам[66], слова высокопревосходительного Артёмия Борисовича — если с вашей стороны прозвучит хоть один выстрел в сторону русских солдат или наших сёл — не обижайтесь. Вы знаете, как умеют воевать армяне. Мы не хотим, чтобы ваш народ исчез с нашей земли. Мы не турки[67]. Но будьте благоразумны.
Курдский эмир изображал размышление, поглаживая бороду.
С русским корпусом и пятьюдесятью тысячами отчаянных армян он ссориться никак не хотел. Но поблизости ведь три дивизии турок и английские рейнджеры, очень хорошо умеющие убивать.
— Мы вас не тронем, — наконец сказал он. — А сможете вы защитить нас?
— Уж чего-чего, — с облегчением ответил генерал. — Если вы прикроете наши фланги, мы ваших турок раздавим, как дерьмо сапогом. А вам, почтеннейший Модамин, Государь Император позволил предложить чин генерал-майора Российской армии с возможным причислением к Свите, как эмира Бухарского, хана Хивинского, шамхала Таркинского и других столь же уважаемых правителей. Своих сыновей вы сможете отдать в Пажеский корпус.
— Я готов принять этот чин, — с достоинством ответил эмир. — Но у меня двенадцать сыновей. От шести до пятнадцати лет. Я хотел послать их учиться в Каир. Но Петроград — это интереснее. Возьмёте всех?
— Нет вопросов, младшего — через два года. Старшего — не позднее пятнадцатого августа нынешнего, в следующем уже не подойдёт по возрасту, останется только в Каир, — облегчённо вздохнул генерал. За какие-то полчаса приобрёл для Империи нового, весьма полезного вассала. Предыдущие восемьдесят лет этому мешали Измирские соглашения о сферах влияния на территории бывшей Блистательной Порты.
Мигнул, и без дела скучавший поручик тут же налил генералу, эмиру и епископу ещё по серебряной чарке неплохой эриванской водки.
— Вы, ваше превосходительство, — титуловал он Модамин-бека по его будущему чину, — скоро увидите, какие из ваших сыновей получатся орлы-корнеты[68]. И в Петрограде действительно веселее, чем в каком-то Каире. У меня там дача на Островах. Рад буду принять, когда сыновей привезёте.
Глава восьмая
Разумеется, все детали разговора русского генерала с курдским эмиром английской разведке и самому Гамильтон-Рэю остались неизвестны. Но то, что Модамин-бек перешёл в российское подданство и получил генеральские погоны, после чего с истинно восточным азартом принялся ликвидировать британскую и турецкую агентуру на своей территории — абсолютный факт.
Прощаясь, Сапегин, как о вещи совсем несущественной, сказал Модамин-беку, что судьбы турок его не интересуют, но за каждого англичанина (живого) он готов выплатить от десяти до ста червонцев, в зависимости от чина и рода занятий. Очень скоро от Диярбекира и Ангоры до Стамбула и Дамаска живые англичане, имеющие хоть какое-то отношение к вооруженным силам и государственной службе, а заодно и журналисты, представители всяких «неправительственных организаций», стали очень ходовым товаром. Их ловили, продавали, перепродавали и обменивали друг с другом все, у кого имелись силы, возможности и желание заработать. Дошло до того, что британскоподданные, а заодно и другие, чем-то на них похожие, превратились в разновидность местных «ценных бумаг». Ненужные русской контрразведке (все сливки она сняла в первые дни), эти несчастные обращались между племенами, то падая, то повышаясь в цене и давая возможность людям «заработать на разнице».
Те из них, кто по какой-то причине не был выкуплен правительством или родственниками, в конце концов просто обращались в рабство. Восток, что вы хотите…
Но полной катастрофой для Арчибальда и штаба Гамильтон-Рэя обернулось очередное, то ли четвёртое, то ли пятое по счёту за последние два века, польское восстание. Великолепно подготовленное, снабжённое оружием в немыслимых количествах, включая и тяжёлое (благодаря открытым границам между Россией и якобы дружественными ей сопредельными странами), оно должно было увенчаться полным успехом с далеко идущими последствиями. Вопреки обычной дипломатической практике, европейские державы выразили России протест по поводу использования армии против мирного населения, демократически выражающего свою тягу к независимости. Ни одна из фотографий зверств «польских повстанцев» — повешенные на фонарных столбах офицеры и солдаты, сожжённые жилые дома в военных городках, и тому подобное — в европейской прессе и в передачах дальновидения не публиковалась. Зато все каналы информации были забиты материалами об азиатской жёсткости своего якобы «союзника», развернувшего чуть ли не геноцид в центре Европы. И это при том, что, согласно Уставу, любому члену ТАОС полагалась всеобщая помощь и поддержка в случае посягательств на их территориальную целостность и внутренний порядок. Любому, но только не России, как оказалось.
Впрочем, согласно плану Арчибальда, так и намечалось — за одну-две недели изобразить Россию наследницей Чингисхана, а поляков, финнов и прочих сепаратистов — как жертв до сих пор не цивилизовавшейся феодальной империи. А если кому-то русские по причине белого цвета кожи и сравнительно связной речи кажутся похожими на европейцев, так это естественная ошибка. Есть, мол, такой термин — мимикрия!
И ведь европейцы поверили, что, по правде говоря, и было единственным сработавшим пунктом программы. От Лондона до Пиренеев и Альп взвилась волна народного возмущения — демонстрации, протесты, сбор средств для помощи героическим полякам, потом и осторожные (поначалу) дипломатические ноты.
Адмирала всегда, кстати, интересовало, отчего, несмотря на то что разделы Польши в XVIII веке были произведёны по инициативе Австрии и Пруссии, а Екатерина Великая приняла в них участие довольно неохотно, и России отошла всего одна треть «Речи Посполитой», с преимущественно мало- и белорусским населением, вся ненависть поляков была обращена именно на Россию. Видимо, потому, предполагал Айвори, что «гордая шляхта» подсознательно считала себя ниже германской расы, и её право главенствовать над собой так или иначе признавало. Опять же и разница в вероисповедании имела значение, так что русских поляки ненавидели как «схизматиков» и «быдло», культурно и религиозно примитивных, но непонятным образом отражавших любые вторжения и сумевших выстроить могучую Империю, в то время как поляки проиграли всё и всем.
Эти настроения господствовали среди шляхты и интеллигенции, последний смерд с затерянного в глуби Мазурских болот хутора считал себя выше русского, не говоря о белорусах и украинцах, которые людьми не воспринимались принципиально. Притом что благодаря царскому стремлению не подавить, а «умиротворить» привислянских подданных, население Царства польского пользовалось с времён Николая Первого невиданными для настоящих «великороссов» привилегиями, вплоть до чеканки собственных денег, а польская аристократия имела право занимать в Империи самые высокие государственные и военные должности, чего, кстати, отнюдь не было на отошедших к австро-германцам землях. Там дискриминация и апартеид действовали в полном объёме вплоть до настоящего времени.
Нынешний мятеж тщательно готовился, через западные границы полгода переправлялась масса оружия и сотни военных инструкторов. Радомские военные заводы чуть ли не половину своей продукции переправляли повстанцам или прятали в специальных схронах на территории, пользуясь сочувствием инженеров-поляков и бестолковостью петроградских контролёров и приёмщиков.
Варшавский «Комитет национального спасения» почти на треть состоял из иностранных советников. За полгода до начала «событий» уже была сформирована «добровольческая повстанческая армия»[69] в несколько десятков тысяч штыков и с достаточным количеством собственных офицеров и зарубежных «волонтёров».
Разгром уже объявившей о суверенитете и сформировавшей своё правительство «Четвёртой Ржечи Посполитой»[70] был мгновенным и страшным. После двухсуточного замешательства российское командование сориентировалось в обстановке, ввело в действие Гвардию, авиацию, флот, многочисленные десантно-диверсионные отряды с высочайшим уровнем подготовки. На западных границах Российской Империи впервые за много десятков лет был введён строгий пограничный и паспортный режим. Из страны выпускали только гражданских беженцев, то есть женщин, детей и мужчин старше шестидесяти лет. Въезд в Россию и ввоз каких-либо товаров, кроме как медикаментов по линии Красного Креста и Могендовида[71], до окончания «беспорядков» был запрещён.
Целые караваны тяжелогрузных машин с оружием и боеприпасами, замаскированными под «гуманитарную помощь» для «страдающего населения», застряли перед погранпереходами со стороны Германии, Австро-Венгрии и Малопольши. Аналитики из оперативного управления штаба группы войск «Висла» по данным разведки и аэрофотосъёмки посчитали, что задержанных грузов должно было хватить для снабжения «НСЗ» всеми видами довольствия в течение месяца.
Водители и сопровождающие сначала просто загадили все окрестности, а потом у них начались серьёзные конфликты с местным населением. Чехам, словакам, немцам совсем не нужны были перед своими окнами и заборами подобные «гуманитарии», тем более неизвестно откуда возник и прокатился слух, что русские заявили, будто эшелоны с оружием с завтрашнего дня будут бомбить с воздуха или уничтожать на месте диверсионными группами.
Разрозненные и вялые протесты западных держав против «чрезмерного применения силы» Москвой игнорировались или встречали неслыханные по бестактности ответы. Например, Берлин получил по прямому проводу предупреждение, близкое к шантажу.
«Правительство Державы Российской заявляет о неприятии ноты за номером таким-то от такого-то числа сего года, осуждающей „наведение конституционного порядка“ на мятежной территории Привислянского края. Данная территория является общепризнанной и неотъемлемой частью нашего государства, согласно таким-то и таким-то международным договорам и соглашениям. Происходящие там события не входят в юрисдикцию какого бы то ни было национального или наднационального органа. Если Германское правительство публично не откажется от своей позиции, правительство Державы Российской объявит о денонсации всех ранее принятых по делиминации границ соглашений, начиная с 1772 года, своём признании восточных земель Германии, включая Поморье и Данциг, исконно польскими территориями, и вместо уничтожения и пленения инсургентов Привислянского края позволит им беспрепятственное отступление на германскую и иные территории с оружием и знамёнами». А там, мол, сами разбирайтесь, как поступить с несколькими дивизиями обозлённых мятежников. Недобитые, они охотно согласятся «разменять Варшаву на Данциг».
Немцы, конечно, немедленно струсили: получить в своих ухоженных землях полноценную гражданскую войну и направленные теперь уже против «извечного германского империализма» демарши французов и англичан им никак не улыбалось. И «единенный фронт демократии против авторитаризма» рассыпался очень быстро.
Благоразумные прибалты и финны вообще решили не ввязываться в столь ненадёжное и кровопролитное предприятие, как «борьба за самоопределение», так что «пылающего фронта от Кавказа до Ледовитого океана» у британцев во главе с Арчибальдом организовать не получилось.
Напротив, в прямых боестолкновениях и операциях «зачистки театра военных действий» были уничтожены физически или «изъяты» тысячи ценнейших кадров, которые могли бы десятилетиями, оставаясь на своих местах, приносить Британской империи ощутимую политическую и экономическую пользу.
Теперь военным аналитикам всего мира, стратегам и тактикам явных и тайных операций приходилось мучительно думать, отчего всё вышло именно так, а не иначе. Профессиональных ошибок не было допущено нигде, адмирал Гамильтон-Рэй готов был за это поручиться, потому что большая часть его личного участия в «Кроссворде» как раз и заключалась в их выявлении и заблаговременном предупреждении. А оказалось, что прав он был один-единственный раз, заявив о принципиальной невозможности что-либо предвидеть, имея дело с русскими из первой, второй или третьей реальности.
Ошибок допущено не было, но отчего-то провалились абсолютно все расчёты, вплоть до самых элементарных. Рота английских королевских гвардейцев в медвежьих шапках непременно разбежалась бы под ударом двух батальонов отборных головорезов, поддержанных танками. А охрана Великого князя, имеющая только штатное стрелковое вооружение, выстояла и победила. Как, почему — неизвестно. Свидетелей боя под Берендеевкой, способных дать достоверные показания, не осталось[72]. Хотя в составе кавказских батальонов присутствовало до десятка представителей организации «Репортёры без границ», назад не вернулся ни один.
Гамильтон-Рэй просматривал и откидывал в сторону доставленные ему фотографии сгоревших на улицах Москвы и в лесу на подступах к великокняжеской резиденции танков. Даже в столь жалком виде они внушали уважение, если не обычный страх. При виде подобных монстров из другого мира любой нормальный (т. е. цивилизованный) солдат побежал бы, бросив оружие, или просто поднял руки. А здесь… Неизвестно кем и как сделанный высококачественный снимок — два бойца в незнакомой форме буквально с двадцати шагов стреляют по танку из длинной, положенной на плечо трубы. Позади первого танка виднеется второй, уже горящий. На лицах солдат не предсмертное отчаяние, не тупость накачанных наркотиками смертников — только весёлый яростный азарт. Как у настоящих «хантеров», встретивших в саванне долгожданного носорога или бешеного слона.
Айвори взял большую лупу, присмотрелся. Да, военная форма незнакомая, но на погончиках-хлястиках отчётливо видны традиционные для российской армии нашивки и звёздочки. А вон там, в глубине кадра, ещё один боец в подобной форме стреляет с колена из ручного пулемёта неизвестной системы. И тоже выглядит совершенно спокойно, «по-деловому», можно сказать, как в тире, ничуть не встревоженный тем, что позади него только что разорвался танковый снаряд, скоростной объектив запечатлел даже летящие куски кирпича в оранжево-чёрном дымном конусе. Непосвящённый и не поверит, что это репортажная фотография, а не искусный монтаж.
Адмирала передёрнуло. Как нормально воевать с такими людьми?
Наверное, этим вопросом задавались (когда наступал момент) Наполеон, лорд Раглан, Канробер, маршал Сент-Арно[73], Гинденбург, Людендорф, Макензен. Однажды, в Гражданскую, им довелось на равных повоевать друг с другом. Очевидцы пишут, что ничего страшнее они не видели, куда там войнам Алой и Белой Розы или Севера против Юга.
Адмирал, по незнанию, не мог добавить в этот ряд Гитлера, Паулюса, Саакашвили. Вот Роммелю — тому повезло. Вошёл в историю, гоняя по Северной Африке своими двумя дивизиями английские армии, как стая борзых несчастного волка. А на русском фронте ему повоевать не довелось, к сожалению. Пожевать мёрзлой конины в подвале сталинградского универмага, погреться у коптилки из снарядной гильзы и выйти наверх с поднятыми на уровень фельдмаршальских погон руками под прицелом стволов ППШ. И отсидеть потом ровно десять лет в Красногорском лагере для пленных генералов Вермахта[74].
«Как воевать?» — мысль возникала у многих, порождая, подчас, вполне бредовые фантазии. А вот «зачем?» — похоже, только у Бисмарка. Наполеон в своих воспоминаниях от этой темы уклонился, Гитлер перед концом начал задаваться столь простым вопросом, но литературно оформить «плоды размышлений» не успел. Русские, по извечной злокозненности своей натуры, довели последнего на текущий момент «объединителя Европы» до самоубийства.
Стоило ли вообще начинать? Видит бог, Гамильтон-Рэю этого не хотелось, внутренне. Вспомнилось завещание Бисмарка своим ученикам и последователям: «Никогда не воюйте с Россией». Они его не послушались и в течение XX века дважды (об этом он слышал от Боулнойза) были разгромлены жесточайшим образом.
Но душа и тело адмирала не могли смириться с подобной телеологией[75]. Это что же — раз и навсегда признать, что есть на Земле сила, необоримая никакой другой силой? Следующий шаг — согласиться, что все цивилизованные нации и державы могут существовать только до тех пор, пока не перейдут некие, не ими определённые рамки? И ещё дальше — склонив голову, как император Генрих в Каноссе, забыв о гордости и славе, «возделывать свой садик», то и дело с опаской поглядывая на восток: а вдруг непредсказуемому соседу не понравится планировка его огорода или методы агротехники?
С таким чувством невозможно жить понимающим себе цену представителям цивилизации, на тысячу лет раньше русских придумавшей парламент (о Новгороде и Пскове адмирал не вспомнил), устроившей университеты, на пятьсот лет раньше обошедшей вокруг света и открывшей новые континенты. Учредившей сотни колоний (считай — очагов цивилизации). Англичане в Новой Зеландии, на Фольклендах, в Бомбее и Калькутте носят те же одежды, пьют «пятичасовой чай», говорят на том же языке. С Северной Америкой не совсем то вышло, мельком подумал Гамильтон-Рэй. Если бы в 1775 году английские солдаты защищали бы право и власть британской короны так, как вот эти русские, — он опять посмотрел на фотографию уличного боя, — не было бы никаких «Соединённых Штатов», только «Большая», очень большая Великобритания, «Соединённое королевство Англии, Азии и обеих Америк»!
Он и сам не заметил, как его разочарование в собственных военно-политических способностях превратилось в чувство оскорблённой чести (польские шляхтичи называют это более точно — «гонор») сначала личной, а потом и национальной. Несколько дней унизительных поражений (тем более унизительных, что внутри России информированные люди случившееся восприняли как незначительный эпизод — подумаешь, обнаглевшего комара на щеке прихлопнули) уверенно превратили его из здравомыслящего аналитика в оголтелого империалиста и русофоба пальмерстоновского разлива.
Вот и прекрасное объяснение всей английской многовековой русофобии, бессильной перед целесообразностью, логикой, даже «её величеством Выгодой». Уж сколько выгоды можно было извлечь из равноправного, а главное — честного союза с Россией! Но нет! Довод: «Мы хотели поступить с вами, как американцы с индейцами. Вы не согласились и крепко набили нам морду. После этого какие же вы „цивилизованные люди“, какое вообще имеете право на существование?» — перевешивал любой другой.
Его гордая душа жаждала реванша, рвалась к подвигам, сравнимым с подвигами античных героев. Вот только путей к реваншу он не видел никаких.
Адмирал подошёл к окну, за которым шумела аристократическая Пелл-Мелл, заполнявшим её людям не было никакого дела до только что случившейся очередной геополитической катастрофы. Хоть одно хорошо — никто в Британии не знает о полученной оглушительной пощёчине. Остаётся только удивляться сдержанности российской прессы и полной индифферентности Петроградской (теперь уже Кремлёвской) дипломатии.
Очередное оскорбление или тонкий намёк: «Сидите тихо, и мы промолчим, если впредь не станете вмешиваться в уже наши дела на всё той же пресловутой „мировой шахматной доске“».
На самом деле оскорбительно, позорно и противно. Плюнуть, что ли, на всё и попроситься, пусть с понижением, на должность начальника Гибралтарской эскадры крейсеров? Лучше с пиратами воевать, чем кружить по кабинетам, как потерявший нюх пёс.
«Но делать это придётся совместно с русским флотом, и каждый раз, глядя на вызывающе-гордый Андреевский флаг, снова испытывать угнетающее чувство бессильной ненависти», — трезво подумал адмирал.
В кабинет бодрым шагом вошёл сэр Арчибальд. Ему бы сейчас прятаться от взоров соратников или вообще сбежать в другие времена, а он подтянут, весел, искрится оптимизмом.
Мельком взглянул на карты, на разбросанные по столам документы и фотографии. Взял ту, что внимательно изучал адмирал. Взглянул, даже не покривившись, бросил в общую груду. Вежливым, но исключающим неповиновение жестом велел удалиться сидевшим за дальними столами референтам.
— Расстроены, разочарованы, потрясены, угнетены, — безошибочно назвал он спектр обуревавших Айвори чувств.
Возражений не последовало. Адмиралу стало интересно, какие причины нашёл Боулнойз для оптимистического, едва ли не игривого настроения, после того как сам всё это затеял.
— У вас есть виски? — спросил Арчибальд.
Адмирал, пряча глаза, кивнул.
— Тогда давайте. Есть повод напиться как следует.
— Не совсем понимаю. С горя, говорят, пьют только русские.
— Где же вы увидели горе? И в чём? — Гость уселся в кресле, сгрёб в сторону бумаги, освобождая место для графина и стаканов. — На мой взгляд, дела идут более чем нормально. — Он налил себе и Айвори на три пальца, подмигнул и выпил двумя длинными глотками.
— Не отставайте, и я объясню. Кое-что вышло не совсем так, как намечалось? Не беда. Никто ведь из нас не понёс никакого ущерба. Интересы Королевства не пострадали тем более. Что нам с вами за дело до тех, кто погиб от собственной глупости и недостатка мужества? У поляков прибавилось оснований по-прежнему ненавидеть русских. Наёмники из-за Периметра не сумели сохранить свои головы и воспользоваться полученным авансом? Зато нет необходимости платить им впятеро больше. Думаете, я циник? Совсем нет — я жёсткий прагматик. Считайте — мы провели с вами «глубокую рекогносцировку». Она не перешла в решительное наступление — бывает. Зато теперь мы имеем полную картину реальных возможностей противника, увидели, какова у него тактика и стратегия в подобного рода войне. А самое главное — мы наяву увидели собственные слабости и ошибки и больше их не повторим. Игра только начинается, мой дорогой Айвори, завершился только дебют. Мы ведь играем белыми, вы поняли?
Он не стал говорить адмиралу, что главной его целью было выяснить, как при подобной «вводной» поведут себя его оппоненты из «Андреевского братства». Интересы Великобритании и вообще чьи угодно интересы Арчибальда не занимали совершенно. Нужно было убедиться, способен ли он самостоятельно, используя всё доступные ему средства, выиграть у партнёра, не нарушая заведомо установленных правил «Большой игры». Попросту говоря, победа, достигнутая с помощью удара доской по голове, не засчитывается.
Оказалось — ещё не способен. Арчибальд считал, что ему не составило бы особого труда ликвидировать или надёжно изолировать всего лишь нескольких главных фигурантов, самонадеянно посчитавших себя равными Держателям. После этого операция «Кроссворд» (по крайней мере — её первый этап) безусловно прошла бы без заминки и запинки. А вот оставаясь живыми и на свободе (как оказалось, добраться до них у него пока не хватает «квалификации» или чего-то большего), эти люди, даже не зная, что на самом деле происходит, не подозревая о замысле и вообще участии в этом деле его, Арчибальда, несколькими точными ходами поставили очевидных противников на грань поражения. Ещё не чистый мат, но благоразумный игрок, чтобы зря не тратить силы и время, останавливает часы.
Что явно собрался сделать весьма способный адмирал, на которого Арчибальд возлагал далеко идущие надежды в предстоящем «миттельшпиле». Явная слабость духа. До «эндшпиля» далеко, и разыгрывать его «мистер Боулнойз» в одиночку не собирался.
— Стараюсь понять, — честно ответил Гамильтон-Рэй, снова потянувшись к графину. — Были, конечно, полководцы, умевшие наносить уже празднующему победу противнику смертельный удар с помощью тщательно сбережённого резерва. Но я себя к таким не отношу, и резервов у нас просто нет. Знаете, что я вам скажу, сэр? Наш главный промах, поведший к катастрофе, заключается в нашей самонадеянности и верхоглядстве. Следовало все силы бросить на уничтожение князя Олега, хоть Кремль взорвать вместе с ним и его окружением, и только после этого… А мы положились на «Стратегию непрямых действий» мистера Лидел-Гарта[76], вообразили, что наёмники-иностранцы сделают за нас главное, а мы подберём созревший плод… Да, мне пришла в голову и ещё одна неприятная мысль — если проанализировать подобную стратегию лет за триста, получается неприятный вывод. Полагаясь на наёмников, вроде сипаев, или на полноценных союзников, вроде французов и тех же русских, мы словно признаем, что слабее тех и других…
— Ну-ка, поясните, это интересно…
— Интересного мало. Перекладывая основные усилия на плечи союзников, мы делаем вид, что экономим драгоценные жизни британцев, на самом же деле — просто негласно признаём, что они сделают эту работу лучше нас. Следовательно — и наши враги и наши «друзья» на самом деле сильнее нас. Империю большую часть её истории спасает только хитрость и удача, — в голосе Гамильтон-Рэя при этих словах прозвучало не сожаление и раскаяние, а всего лишь досада. В том смысле, что хоть и неприятно признавать, что у твоей жены ноги кривые, а приходится…
— Видите — вот и очевидная польза от рекогносцировки[77]. Мы, — он подчеркнул это «мы», — непростительным образом недооценили «роль личности в истории». Считали — как может противостоять один человек, пусть и незаурядный, макровоздействию почти тектонических масштабов? Мы не допускали мысли, что Олег решится на государственный переворот в столь смутной, и без того грозящей почти неизбежным крахом, обстановке. В момент, когда обозначилось предательство и заговор в его ближайшем окружении. А он рискнул, опираясь на несколько сотен лично ему преданных людей, — и сразу выиграл всё. Мы думали — узурпация власти вызовет возмущение общества и брожение в армии, а она инициировала всеобщий восторг и взрыв энтузиазма. Премьер Каверзнев первый принёс уверения в покорности, собственной и своего правительства. Государственная дума девяносто пятью процентами голосов признала правомерность применения в данном случае статьи Конституции о принятии «в трудный для Отечества час» всей полноты власти Местоблюстителем Престола. Какие выводы мы с вами должны сделать?
Арчибальд посмотрел на Гамильтон-Рэя мудрым взглядом учителя, ждущего от любимого ученика достойного ответа на судьбоносный вопрос.
— В такой постановке, сэр… Очень может быть, что теперь от физического устранения Олега, ныне Императора, не будет никакой пользы. Время упущено. Ему на смену может прийти ещё более жёсткий и беспринципный правитель. Как вышло у нас в Индии: ликвидировали тихого гуманиста и сторонника «ненасильственных действий» Ганди и получили взамен энергичного, чуждого всяких «либеральных иллюзий» Джавахарлала Неру. Чем это кончилось, вам известно[78].
— Да, пожалуй, намного лучше, чем вам, — загадочно сказал Арчибальд, намекая на знания, полученные в остальных реальностях.
— Тогда, пожалуй, нам действительно следует, учитывая опыт поражения, приняться за изучение факторов, сделавших возможными победу Олега сначала над собственным народом, а потом и над нами! Вы поймите, сэр, — Айвори подался вперёд, стакан виски у него в руке дрожал, — при всем к вам почтении я не могу поверить, что, начиная «Кроссворд», вы знали противника хуже меня! Не тот вы человек! И, значит…
— Всякую мысль следует доводить до конца, дорогой адмирал. Значит…
— Вы заранее предвидели, что наше дело может закончиться именно таким образом. Не поддержали меня в моих сомнениях, буквально «толкали в шею» всех остальных. И не «рекогносцировку» вы проводили. Вам нужно было выяснить что-то для себя лично. И, возможно, проверить в деле своих «соратников».
— Браво, адмирал. Вы не только угадали мою цель, вы только что подтвердили собственную пригодность к по-настоящему большому делу. Я думаю, когда мы продолжим, вам следует занять пост более достойный ваших талантов. Президентство в клубе я вам пока (но только пока!) не предлагаю. Во-первых, процедура прижизненной смены руководства уставом не предусмотрена, а во-вторых — в нашей игре клуб — структура всё же избыточная, хотя и необходимая. Хорошо сказано, а?
— Очередной парадокс в стиле уайльдовского сэра Генри, — вежливо кивнул Айвори, не уловив в очередной банальности и намёка на отточенность формулировок упомянутого персонажа. — Но я приблизительно понимаю, что вы хотели сказать.
— Очень хорошо. Значит, вы согласны войти в мой личный штаб на правах первого лица? Я буду генератором идей, организатором и вдохновителем, вы — полноправным руководителем исполнительного аппарата. Подберёте себе с десяток помощников, исходя из личной оценки их способностей и надёжности. Больше не надо, иначе система потеряет управляемость. А «Хантер-клуб» останется в своём нынешнем качестве нашей опорой, инструментом влияния и… прикрытия. Вас такая конструкция устраивает?
Гамильтон-Рэй не имел ничего против, единственное, что его тревожило — полное непонимание истинных целей «сэра Арчибальда». А также его метафизическая сущность. Проще говоря — следует ли его считать человеком в обыденном понимании этого термина, пусть и наделённого особым знанием и возможностями, выходящими за рамки позитивной практики. Или же он — существо сверхъестественное, не бог и не дьявол (в европейской традиции), но всё равно — воплощение иного.
В пользу того и другого предположения можно привести достаточно доводов. Однако гипотеза о том, что Арчибальд — человек, перевешивала. Для дьявола, здраво рассуждая, он слишком недалёк. На гроссмейстера или фельдмаршала явно не тянет, хоть и пытается выглядеть таковым, всё время оперируя военными и шахматными терминами. Уж слишком много прямо-таки детских промахов допустил, якобы «играя белыми». И дело не только в недооценке князя Олега и его соратников. Он, как бы это поточнее сформулировать, — был просто неумён. Наделён массой способностей и возможностей, а того самого, позволяющего всем этим правильно распорядиться, — недобор. Никто ведь не ждёт, что тренер нынешнего шахматного чемпиона однажды сам выиграет матч и корону.
Зато, если он вообще не человек, то и его стратегия была бы нечеловеческой. Основанной на иных логике, морали, целеполагании. Айвори не мог себе представить, чтобы нечеловек занимался обычными земными делами, используя земные методики. Хоть что-нибудь в его поведении насторожило или удивило бы за полтора года совместной работы.
Несколько настораживали лишь частые отлучки сэра Арчибальда. Иногда он исчезал на недели, а то и на месяцы, не объясняя куда и зачем, но всегда оставлял подробные инструкции, что и кому делать в ближайшее время. А вновь появившись, тщательно знакомился с отчётами и, если считал нужным, вносил коррективы в планируемые операции. Возможно, этих отлучек требовал его «воскрешённый организм» для отдыха и регенерации?
Остальное было совершенно обыкновенно, до банальности. Да, каким-то образом этот господин получил возможность перемещаться между параллельными реальностями и омолаживать людей. И это всё. Ни всеведения, ни всемогущества, ни даже, — адмирал внутренне поморщился, — проблеска гениальности. Классический джентльмен поздневикторианской эпохи, как их описывают в книгах. Море апломба и никакого изящества мысли и полёта воображения. Оттого столько сарказма и неприязни вызывали эти персонажи у Оскара Уайльда, Бернарда Шоу, Джером Джерома, Конан Дойля и Честертона…
«Пожалуй, — подумал адмирал, — есть один штрих, выделяющий „мистера Боулнойза“ (а это именование к нему подходит гораздо лучше, чем „сэр“) из ему подобных джентльменов „старого закала“, — великолепная способность убеждать окружающих в собственной правоте. Почти гипнотической силы. Он и сам не раз и не два чувствовал, что соглашаться не следует, что Арчибальд говорит ерунду, с ним нужно спорить или просто делать по-своему. Но в итоге подчинялся. И сейчас я на грани полной моральной капитуляции».
Но если это ему теперь стало понятно, то нет никаких оснований выходить из игры. Напротив, нужно, оставаясь в образе, который сложился о нём у Арчибальда, постараться повнимательнее разобраться в сути его личности и подлинных замыслах, совершенно ничем не рискуя. Ни с какой стороны. А выигрыш может быть огромным, куда больше того, что сейчас можно вообразить.
— Я согласен, — кивнул адмирал, стараясь держаться именно так, как должно в понимании Боулнойза, и они снова выпили по этому поводу. — Мне только непонятно, что же мы всё-таки будем делать теперь?
— Ничего принципиально нового. Цель остаётся прежней, и все занятые в «Кроссворде» люди будут продолжать начатое. С учётом допущенных ошибок и изменения политической конфигурации. А вот мы с вами попробуем подойти к проблеме с другого конца. Я вас посвящу в некоторые тайны, ставшие мне известными в последнее время, и с их помощью… Образно выражаясь, в то время, как все играют в шахматы, мы попробуем сыграть в покер. Краплёной колодой. Но сначала нам ещё придётся её изготовить и научиться правильно ею пользоваться. Я тут приложил некоторые усилия в нужном направлении, в уверенности, что вы непременно примете моё предложение. И раз вы его приняли, рад сообщить, что уже завтра или послезавтра будет подписано распоряжение о создании нового ведомства при Адмиралтействе и о назначении вас его начальником. Должность, к слову сказать, вице-адмиральская, и производство не заставит себя ждать.
— Что за ведомство? — слегка опешил Гамильтон-Рэй.
— Звучит заурядно — «Комитет планирования нестандартных операций». Это — секретное название. Для общего употребления «Подразделение 12-бис».
— То есть — «тринадцать», — усмехнулся адмирал. — Звучит несколько вызывающе.
— По отношению к кому?
— К судьбе. Она не очень любит такие шутки. Я не только кресла в кабинетах просиживал, я и на мостиках стоял. Могу рассказать вам много историй на тему, как нехорошо заканчивались проявления «свободомыслия» в отношении вековых традиций. Вот, помню, когда крейсер «Корнуолл» вышел из ремонта на мерную милю…
— Спасибо, — прервал адмирала, с загоревшимися глазами пожелавшего изложить очередную флотскую историю, Арчибальд. — У нас, надеюсь, будет время и на этот, и на другие интересные рассказы. А пока принимайте действительность такой, какая она есть. Ваш комитет мы укомплектуем вместе, людьми, которых сочтём подходящими. Финансирование будет на самом высоком уровне. Разместитесь в неприметном особняке под ничего не значащей, но имеющей сакральный смысл вывеской. Отчитываться будете всего два раза в год непосредственно перед Первым лордом Адмиралтейства. Отчёты ваши он читать наверняка не будет. Но на всякий случай я вам подготовлю несколько проектов безусловно нестандартных операций, абсолютно никому не понятных. Потому и не подлежащих никакой критике. При этом вы сможете заниматься другими проектами. Свободными, как полёт кондора над Кордильерами. Да, собственно, только ими вы и будете заниматься. Лучшей синекуры и придумать невозможно — за казённый счёт делать что в голову взбредёт. Разумеется, на благо конечной цели.
Гамильтон-Рэй покачал стаканом с очередной порцией янтарного напитка.
— Одна идея мне в голову уже взбрела. Для её тщательного рассмотрения потребуется длительная командировка на Гавайи, в Порт-Артур и Североморск. Допустимо?
— Не только допустимо, но наверняка необходимо. Пока мы с русскими продолжаем оставаться в союзнических отношениях. Вы хорошо отдохнёте, а в результате появится отчёт, а лучше сразу монография с наукообразным, но весьма далеко уводящим от сути ваших истинных интересов названием. Нечто вроде: «Влияние гидрографии прилегающих к прибрежным крепостям акваторий на стратегическое мышление возможного противника».
— Как вы догадались? — поразился Айвори. — Я вообще-то пошутил, но…
— Ничего удивительного. Вы умный человек, моряк, историк, разведчик. Я тоже умею сопоставлять и анализировать. Поэтому дарю вам эту тему. Нет, очень интересно: Порт-Артур — понятно, неудачное сочетание глубин рейдов и динамика приливов плохо повлияла на исход войны. О Пёрл-Харборе вы здесь ничего не знаете, но от меня могли слышать. Североморск — следующий объект в развитии прежних тенденций. Название темы я придумал только что, исключительно чтобы замотивировать необходимость поездок во все концы мира, интерес к архивам, невозможность определить вашу сверхзадачу, как говорил русский театральный режиссёр с тройной фамилией[79]…
— Да, сэр Арчибальд, несмотря на наши неудачи, естественные, я бы сказал (слишком долго мы реально ни с кем не воевали), я готов играть на вашей стороне. Пусть и краплёными картами. Джентльмену обмануть противника (если он не член твоего клуба) для пользы дела вполне допустимо.
— Слово сказано, мой дорогой адмирал. Теперь я должен вас предупредить — обратной дороги нет!
— В каком, простите, смысле?
— В самом прямом. До тех пор пока мы не завершим нашу миссию, вы не сможете ни от чего отказаться, уйти в отставку и уж тем более — сменить флаг!
Ни о чём подобном Гамильтон-Рэй до этого момента не помышлял, совсем наоборот, но эти слова ему очень не понравились.
— Кажется, кровью я нигде не расписывался. На ваше достаточно интересное и даже лестное предложение я ответил согласием. Но ведь и не более!
— Джентльмен — хозяин своего слова? Хочет — даёт, хочет — берёт обратно? — в голосе Арчибальда, несмотря на полушутливый дружеский тон, прозвучали вибрирующие металлические нотки. — Нет, у нас так не бывает. В той стране, с которой мы решили воевать не на жизнь, а на смерть, у не самой законопослушной, но славящейся твёрдыми внутренними устоями части общества имеется ряд принципов, не кодифицированных, но превосходящих государственные законы силой прямого действия, обязательностью исполнения и весьма жёсткими санкциями. Вы, Айвори, по-моему, знаете русский язык гораздо лучше, чем стараетесь это показать. Поэтому поймёте. Если нет — я помогу с адекватностью перевода. Принципы, относящиеся к нашему случаю, такие: «За вход рубль, за выход два». И — «За базар ответишь». Что-нибудь непонятно?
— Второе, — сглотнув невзначай сигарный дым и сильно закашлявшись, ответил кандидат в вице-адмиралы. — Не могу состыковать. «Базар» — азиатское место торговли. Кто-то за него, наверное, отвечает. Менеджер или «базар-баши», допустим. Но при чём здесь я?
— Поясняю. В непостижимом даже для тех, кто окончил Итон и Сандхёрст, русском языке ежедневно возникают новые слова и фразеологизмы, бессмысленные для иностранцев. Как писал наверняка известный вам Салтыков-Щедрин: «Нечего тут объяснять. Мы — русские; мы эти вещи сразу должны понимать».
— Но вы ведь — не русский? — начинающим заплетаться языком удивлённо вопросил Гамильтон-Рэй.
— Я — гражданин мира! — гордо провозгласил Арчибальд, тоже выглядящий не вполне трезвым. — Я знаю всякий язык, как родной. Так мы о чём? О базаре? В российском преступном мире «базаром» называется разговор, несущий смысловую нагрузку и подразумевающий некие обязательства. Если вы, даже сгоряча, не подумав, или из иных соображений, заявили нечто такое, из чего вытекают некие пусть и не предусмотренные вами последствия, вам придётся или неопровержимо подтвердить свои слова действием, или понести назначенное авторитетом (в исключительном случае сходняком) наказание. С чем-то принятым в цивилизованном мире с его дурацкой юриспруденцией не коррелируемое.
Слова Арчибальда прозвучали для Гамильтон-Рэя крайне неприятно. Будучи адмиралом, ни разу в жизни не участвовавшим в морских сражениях, он, естественно, понятия не имел о кое-каких жёстких способах поддержания дисциплины в экстремальных условиях. Что такое «расстрел перед строем», его аристократические мозги представить не могли. Даже заключение матроса (свободного человека) за безалаберность или, нечто худшее, «в изолированное помещение с приставлением часового» Гамильтон-Рэй считал чем-то средним между каннибализмом и «русским тоталитаризмом».
— И каким оно может быть в нашем случае? Мы ведь ещё не члены «российского преступного сообщества»? — адмирал пытался удержать в уме логическую нить (или нить логических?) рассуждений, а также и собственную гордость. Что у него одновременно сильно затряслись поджилки, достоверно утверждать нельзя.
— Я этого не говорил. Мы с вами благородные люди, «хантеры». Что касается наказания, оно не будет зависеть от моей или чьей-то ещё осознанной воли. Чтобы Я! Вдруг! Причинил вред товарищу по оружию, сыну моего ученика, двоюродному внуку моего учителя и так далее, — Арчибальд вдруг изобразил дешёвую патетику. — Кисмет[80]. Вы знаете, что это такое?
— Так кисмет! Кисмет алса[81] — если будет угодно судьбе! У вас могут оторваться колёса на скорости двести километров в час, может дать осечку верный карабин, трёхфунтовый метеорит попадёт в крышу вашей виллы, жена, застав с любовницей, размозжит вам голову шкатулкой с фамильными драгоценностями. Или вас застрелит муж вашей любовницы в самый волнующий момент. И никто никогда не узнает, закономерность это или случайность. Прав Энгельс, писавший, что случайность — это непознанная закономерность, или Кротон из Милета, утверждавший три тысячи лет назад прямо противоположное.
Арчибальд встал, отчётливо покачиваясь.
— На самом деле, дорогой адмирал, размышлять на подобные темы перед сном крайне неполезно для психики. Забирайте графин с собой, он вам до рассвета наверняка пригодится, и пойдёмте, забудемся пророческим сном. Каждый в своей каюте…
…Двумя неделями позже описанной встречи Арчибальд последний раз появился перед коллегами. Как раз в тот момент, когда влиятельнейшие из джентльменов, равные из равных: Одли, Пейн, Левер, герцог Честерский, Гамильтон-Рэй старший и оба младших (без внуков) и ещё почти пятнадцать человек, не называемых по причине их многочисленности (но отнюдь не умаляя важности и влиятельности каждого), обсуждали финал пьесы. Не «Ревизора», конечно, до «Ревизора» свободные англосаксы и через полтораста лет не додумались: у них насчёт обычной — что царской, что советской — «самокритики» слабовато было.
«Теневые правители мира» (слава богу, не всего ещё) до предела едко критиковали столь недавно уважаемого ими сэра Арчибальда. За что критиковали? За то, что не сумел, введя их в заблуждение, единомоментно сокрушить ненавистную Россию. Вот все предыдущие правители Великобритании за четыреста лет, клубмены со своими председателями за двести, неизвестное число «сионских мудрецов» с сотворения мира того же самого добиться не сумели, но к ним — никаких претензий! Очень, получается, мистер Боулнойз почтенных джентльменов обнадёжил. А такое не прощается. Как не прощается засидевшейся старой девой неисполненное обещание жениться.
— Мне крайне лестно было вас послушать, — сказал Арчибальд, выходя из тени портьер, — особенно когда мистер Пейн отказался признать меня самим дьяволом или хотя бы его инкарнацией.
Его внезапное появление ввергло почтенных охотников в смущение. Всё же не принято, даже за глаза, говорить о коллеге, тем более — намного старшем, не весьма корректные слова.
Он прошёл к председательскому столу, презрительно взглянул на бутылки с очень плохой минеральной водой и на чашки чая, разливаемого лакеем в белой куртке (не в ливрее почему-то).
— К сожалению, я и вправду не дьявол. Обычный человек, способный ошибаться, как все, и проигрывать противнику, оказавшемуся сильнее меня. Но что сказать о вас, джентльмены? Россия ещё не рухнула, не превратилась в «чёрную дыру» на карте мира? Неужели в этом виноват только я? Отчего же никто из присутствующих не вспоминает об очень интересном моменте…
Он сделал очень длинную паузу, достал из нагрудного кармана бледно-зелёную сигару в целлофановой обёртке, распаковал, прикурил от чужой, лежавшей на столе зажигалки.
— Насколько мне известно, за последний год каждый из вас заработал на операциях, связанных с проектом, никак не меньше трёх миллионов полноценных фунтов. И без всяких налогов. Вот вы, герцог, — Арчибальд сделал жест в стиле римского сенатора эпохи Республики. — Назвать? Сколько и на чём именно?
Герцог Честерский спрятал глаза. Остальные славные охотники тоже зашевелились. На такие вопросы джентльменам отвечать не хотелось. Даже в своём узком кругу. Арчибальд был уж слишком прав. Деньги получили все, деньги были не так чтобы уж очень чистые, и налогов с них не заплатил никто.
— Считаем тему закрытой? — усмехнулся Арчибальд. Он привык к тому, что подобного типа людей следует угощать алкогольными напитками до предела их биохимических возможностей. Потому налил себе и взглядом приказал другим не отставать. Строго приказал.
— Вот и хорошо. Как в одной песне пелось: «Козырей в колоде каждому хватило». Поэтому я должен на некоторое время вас покинуть. Возможно, на неделю, возможно, на месяц. Неотложные дела, джентльмены. Продолжайте жить, как жили. Я это специально подчёркиваю. Все начатые программы продолжайте, реагируйте на изменения обстановки строго в соответствии с нашими разработками. И ничего сверх этого.
— Вы нам опять что-то хотите навязать? — прищурившись, приподнялся с кресла господин Пейн, самый аполитичный человек в совете клуба, объехавший три континента, истративший несколько сотен патронов с дробью «семёрка», чтобы добыть легендарную «серебряную ржанку»[82], увы — безуспешно. А на «Кроссворде» не заработавший ни единого фартинга.
— Уж вам, сэр, ни в коем случае, — почти раскланялся Арчибальд и протянул навстречу стакан. — Только посоветовал. Вам лично могу предложить сафари в очень интересном месте, там, возможно, вы найдёте то, что искали всю жизнь. Всем остальным джентльменам — аналогично. Хозяин — барин. Хочет — живёт…
После этого сравнительно конструктивного разговора, во время которого Айвори Гамильтон-Рэй ухитрился не произнести ни единого слова, Арчибальд простился со всеми за руку и откланялся, произнеся с порога нечто странное:
— Князя Скорбной Памяти спросили об Алтаре Земли. Цзай Во ответил: «Владыка Ся использовал сосну, у иньца применялся кипарис, а чжоусец избрал каштан, чтобы народ дрожал от страха».
Когда двери за Боулнойзом закрылись, господин Пейн, допив виски, спросил, ни к кому специально не обращаясь:
— И как это прикажете понимать?
Одли, окончивший два университета, ответил, что это наверняка что-то из Конфуция, но вне контекста звучит не слишком ясно.
— Куда же яснее? — не согласился герцог. — Память о случившемся у нас скорбная, какой ещё ей быть, Боулнойза вполне можно считать её Князем, и ничего из «свершённого» он так и не объяснил.
— Осталось выяснить, кто, в таком случае, Учитель, — со всем доступным ему сарказмом сказал Гамильтон-Рэй.
Глава девятая
Императору было чем заняться и кроме «Мальтийского креста». Идея, конечно, была намного заманчивее, чем возвращение, например, Константинополя и Проливов, кто же будет спорить. Удвоить территорию Империи, получить полтораста миллионов новых подданных, технические возможности, невиданные в мире. Совершить, можно сказать, геополитический и технологический скачок на века вперед. Как, например, из эпохи Николая Первого сразу в двадцатый век, причём располагая необходимым для освоения нового уклада жизни контингентом культурно и технически подготовленного населения. Уйдя в такой отрыв, можно не опасаться, что в обозримом будущем какая-нибудь держава Россию догонит!
А всё же не верилось отчего-то. Именно в силу грандиозности плана и прямо-таки пугающей его простоты. Поймать в ограниченной акватории с применением современной снасти Золотую Рыбку, «только и делов». Отказываться от сказочного шанса Олег Константинович не собирался и дал своим помощникам карт-бланш. Делайте, мол, что хотите и можете, только предъявите результат. Любой успех будет оценён и одобрен. Но одновременно Император от этого дела решил несколько отстраниться, как Александр Второй от завоевания Средней Азии.
Как оно тогда было? Значилась на картах неосвоенная, никому фактически не принадлежащая территория от Оренбурга до Памира, застрявшая где-то между временами Александра Македонского и Чингисхана. На запад совершали из неё бесконечные набеги орды грабителей и работорговцев, с юга-востока точили зубы на эти земли британские империалисты. Любой шаг вперёд грозил новой войной России, истощённой двумя предыдущими и сотрясаемой внутренней смутой. Оставаться на прежних рубежах было невозможно, двигаться вперёд — тем более.
Император-Освободитель решил сделать вид, что никакой так называемой «Средней Азии» и нет, соответственно, у России никаких в этом регионе интересов. Так и велено было держаться дипломатам — кроме как о приграничных стычках с грабителями, иных сведений с южных рубежей не поступает.
Стычки действительно происходили постоянно последние полтораста лет, и пришло время решить вопрос радикально. Отчаянные, неизвестно как и кем воспитанные генералы Кауфман, Черняев, Скобелев на свой страх и риск, иногда вопреки прямым запрещениям дипломатов и военного министерства, собирали небольшие, из имеющихся под рукой сил, отряды и двигались вперёд. На сонный обывательский взгляд — бессмысленно и безнадёжно — в дикие безводные пески и степи, на которые не было даже карт, а стратегически важная информация заменялась слухами и донесениями редких разведчиков из сочувствующих аборигенов. Наступали в не приспособленной для тех мест одежде и обуви: юфтевых сапогах и суконных мундирах, с обычными строевыми лошадьми вместо дромадеров и бактрианов, одной-двумя тысячами рязанских, тверских, ярославских солдат и оренбургских казаков против десятков и сотен тысяч свирепых, английским оружием вооружённых аскеров местных ханов, беков и эмиров. Да вдобавок путь им преграждали мощные крепости: Ташкент, Чимкент, Бухара, Самарканд, Хива, Геок-Тепе, не считая множества более мелких. Так в пустыне любой дувал и мазар — приличный опорный пункт против бредущих барханами пехотных колонн, лишённых тылов. Великолепная иллюстрация к описываемым событиям — картины Верещагина «Туркестанского цикла». Очень там всё наглядно изображено.
И ведь взяли все эти крепости, привели к покорности средневековых «хищников», как тогда было принято выражаться. А когда встретились с англичанами в предгорьях Гиндукуша и на берегах Пянджа, откуда Индия видна, то как бы и сами удивились: «Ни хрена себе, куда нелёгкая занесла».
Поудивлялись, обменялись нотами, кое-как договорились о разделе сфер влияния, до войны дело не дошло. Как выразился то ли генерал Скобелев, то ли сам канцлер Горчаков: «Броненосцы, слава богу, по пустыням не плавают!»
Потом, раз уж пришли, железные дороги начали строить, цивилизацию насаждать, Ташкент превратили чуть ли не в азиатский Париж. Вот тогда отчаянные генералы были поощрены чинами, наградами, генерал-губернаторскими должностями. Пусть и теперь так будет.
В конце концов — что такое Император сам по себе, будь он трижды новатор и реформатор? Вот когда окружит он себя тысячами человек, каждого из которых можно, не сомневаясь, в любой момент хоть наместником провинции поставить, хоть министром путей сообщения или руководителем такого вот «Мальтийского креста». Чтобы, не вникая в подробности, финансовые и политические, выслушать в нужный момент рапорт и разрезать ленточку. А для этого Олег Константинович задолго до своего воцарения давал простор инициативным людям, подчас так, что они и сами этого не замечали, открывал пути способным капитанам и титулярным советникам к шинелям с красными подкладками[83]. Кто-то ведь должен превращать полуразложившуюся «парламентскую республику» в блестящую Империю по матрице нынешней «Московии», никак не ленивые троечники и второгодники эпохи Каверзнева и его предшественников. Но это дело месяцев, если не годов, а сейчас у Императора возникли обстоятельства, не терпящие и малейшего промедления.
Вроде бы на мировой арене всё складывалось не так плохо, учитывая удачную договоренность с американским президентом. Но что с той Америки в военно-политическом смысле? Прикрыт тихоокеанский фланг, появились у России открытые для захода и ремонта порты Сан-Франциско и Сан-Диего, свободные, в случае конфликтов с третьими странами, от ограничений по срокам стоянки и необходимости разоружаться. На дипломатическом уровне господин Доджсон, зная свою выгоду, благожелательный к России нейтралитет сохранит. Ну а воевать со своими старшими братьями[84] на нашей стороне его никто заставлять не собирается. Есть поинтереснее проекты.
Значит, воевать всё равно придётся только нам. Непосредственно с Альбионом, при этом предполагая, что на его сторону в любой момент могут перейти от половины до двух третей крупных и мелких сопредельных государств. Как в Крымскую войну. Непрерывно ожидая «удара ножом в спину[85]» или глотка яда в дружески поданном некоей условной «миледи Винтер» бокале. От любого, кого теоретики-генштабисты числят в «нейтралах» или «союзниках».
А настоящих союзников у России только два, любил повторять Александр Третий, «её армия и флот». Романовы и Россия всегда должны помнить, как валявшийся в ногах у Николая Первого австрийский Франц Иосиф умолял спасти его от охвативших половину «лоскутной империи» венгерского и польского восстаний. И что? Мятежи русские дивизии легко подавили, империя Габсбургов очередной раз была спасена, царь получил титул «палача и жандарма Европы», а неблагодарный австрийский Франц через семь лет выступил на стороне антирусской коалиции англо-франко-турко-итальянцев. Такое можно простить, имея характер Николая Второго. «Страстотерпец и великомученик», что с него взять? Нынешний самодержец считал даже Николая Первого слишком деликатным человеком, не собирался никому ничего прощать, а уж тем более помогать бесплатно. Неплохо было бы установить в зале для аудиенций геральдический щит с девизом, золотом по лазоревому полю: «Утром деньги, вечером стулья». Эта книга, презентованная Ляховым, очень Императору понравилась.
Международная обстановка выглядела странно, Олег Константинович не постеснялся употребить именно это слово. Нормы и обычаи взаимоотношений цивилизованных стран в течение двух третей двадцатого века стали настолько изощрёнными, предусматривали, кажется, все возможные виды межгосударственных конфликтов и способы их разрешения. То есть август тысяча девятьсот четырнадцатого года не должен был повториться ни в каком варианте. И вдруг оказалось, что все изощрённые дипломатические методики превращаются в труху, стоит только отказаться их применять. И война, хоть локальная, хоть мировая, может вспыхнуть в любой момент, стоит только достаточно сильному игроку на мировой шахматной доске дать понять всем остальным, что их резолюции и санкции он видал очень далеко, а на несколько миротворческих батальонов ООН и ТАОС он плевать хотел, имея отмобилизованную массовую армию. Причём таким образом может поступить даже Россия, не имеющая сопоставимого по силе союзника. Что тогда говорить о Великобритании, со всеми основаниями рассчитывающей на вооружённую поддержку своих «исторических союзников» и благожелательный нейтралитет всех остальных.
Олег Константинович собрал в Кремле Главный военный совет, доставшийся ему по наследству от парламентской республики, который он всё никак не удосужился распустить, именно как орган, не приспособленный для выполнения предписанных ему функций. Ему сейчас нужна была не квалифицированная военная и геополитическая оценка складывающейся обстановки, на то хватало собственного разумения и помощи «пересветов». Императору гораздо интереснее было понять, с какими людьми ему пришлось бы спасать Отечество, если бы война началась завтра, и как быстро они довели бы державу до катастрофы. Как демократическое правительство Францию в тысяча девятьсот сороковом году соседней реальности. Кое-какие предварительные выводы он сделал по итогам польской кампании, сейчас готовился к окончательным.
Канцлер с военным, морским, иностранных дел и ещё несколькими министрами, главкомы трёх родов войск, начальник Генштаба, командующий Отдельным корпусом жандармов, ещё несколько значительных особ, появление которых в зале у прочих приглашённых радости не вызвало.
Заслушали военного министра Воробьёва (в содокладчиках начальник Генштаба Хлебников), морского министра адмирала Гостева. Председатель клуба «Пересвет» (по официальной должности — всего лишь командующий ВВС Московского военного округа), генерал-лейтенант Агеев, сидел с краю длинного стола с довольно толстой кожаной папкой перед собой, постукивал иногда по ней остро отточенным красным карандашом, но похоже было — происходящее вокруг не слишком его увлекало.
Без всяких новомодных устройств обстановка докладывалась по обычным бумажным картам, развешанным по стенам, одной Генеральной и полудесятку — отдельных театров. Министр всё время вертел в руках длинную указку, вроде как светский щёголь тросточку, она, похоже, помогала ему сосредотачиваться.
Император сидел отдельно, за небольшим столиком у окна. Перед ним блокнот, пепельница, раскрытая коробка папирос. Прочим на заседании курить не позволялось, только во время перерывов в буфетной, где подавались бутерброды, прохладительные и прочие напитки.
— Таким образом, господа, — с чувством и пониманием ответственности момента докладывал Хлебников, — стратегическое и международное положение Российской Империи таково: мы очевидным образом вошли в предвоенный период, который я исчисляю с момента назначения Первым морским лордом[86] адмирала Фридмана и перевод пяти эскадр линкоров и трёх — авианосцев с режима глубокой консервации в вооружённый резерв. С объявлением мобилизации их штатного приписного состава, если таковое последует, факт войны можно будет считать состоявшимся. Независимо от текущей политики и деклараций членов будущих коалиций. И мы оказываемся в заведомо проигрышной позиции. По полной аналогии с тысяча девятьсот четырнадцатым годом. В тот раз миротворческие заявления России и её попытка провести частичную мобилизацию только против Австро-Венгрии немедленно вызвала объявление нам войны Германией, хотя взаимных претензий фактически не имелось…
— Историю вопроса, если потребуется, нам гораздо подробнее сможет изложить генерал Агеев, — негромко бросил Император. — Не отвлекайтесь.
— Так точно, — изобразил указкой нечто вроде фехтовального салюта министр. — В настоящее время единственной державой, очевидно противостоящей нам и готовящейся использовать любой повод для развязывания конфликта, способного перерасти в полномасштабную войну, следует считать Великобританию.
Предшествующие события, наш выход из ТАОС и достаточно демонстративная позиция по проблеме Фарерских островов и Балтийских проливов, очевидным образом склонили её к силовому сценарию. Причины тут не только геостратегические, но и экономические. Об этом говорят многочисленные и разнообразные источники. Её сухопутные вооружённые силы в доминионах и подмандатных территориях уже неделю находятся в состоянии развёртывания по штатам военного времени. Одновременно ведётся откровенно антироссийская пропаганда в печати и иных средствах массовой информации, очевидно — с целью моральной подготовки населения к объявлению войны…
— Прошу прощения, — дождавшись паузы, вставил генерал Агеев. — Слова уважаемого докладчика нуждаются в уточнении, иначе картина может получиться искажённой. Сегодня мы одновременно наблюдаем три разнонаправленных вектора, которые, на наш взгляд, отражают противоречия во взглядах внутри британского истеблишмента: и гражданского, и военного.
Ведущей темой пропаганды для гражданского населения является именно выход России из ТАОС, что трактуется как её недвусмысленное намерение приступить к очередному «переделу мира». Из чего возникает посылка о неизбежной борьбе на морях и «континентальной блокаде». Детали используемых доводов несущественны, но на «простой народ» они действуют. Среди высших государственных (особенно — аристократических) кругов распространяется идея не полномасштабной войны, как таковой, а некоего «воспитательного момента на грани». Проще говоря — молниеносной военной акции, направленной на наиболее уязвимые точки российских «центров влияния» и блокады флота в местах его постоянного базирования, а также вытеснения наших эскадр с океанских просторов во внутренние моря. После чего их военные аналитики считают неизбежным прекращение конфликта и начало переговоров о «новом мироустройстве».
И в то же время генштабы армии и флота Метрополии ориентируются на тотальную войну с «решительными результатами». Там сейчас собрались «суперястребы», планирующие операции без учёта людских и материальных потерь. Вернее — с учётом того, что степень «неприемлемости ущерба» мы ощутим раньше, чем они… Имеют какие-то не совсем нам ясные основания. Ещё раз прошу прощения, что перебил докладчика. Но это самая последняя информация, возможно, до военного министерства ещё не дошедшая.
— Благодарю вас, — кивнул Олег, — только непонятно, почему не начальник разведки с этим «дополнением» выступил.
— Я ждал, когда мне будет предоставлено отдельное время для доклада, — генерал Рейценштейн, словно в доказательство, показал бювар, лежавший у него на коленях. — И я не совсем согласен с Алексеем Михайловичем.
Император кивнул, показывая, что других вопросов пока не имеет.
— Перейдём к статистике, — невозмутимо продолжил Воробьёв, — соотношение боевых возможностей нас и вероятного противника, без учёта сил союзников с обеих сторон, таково. По сухопутным силам с нашей стороны перевес подавляющий: вполне боеготовых дивизий — 40, кадрированных, требующих от пяти до десяти суток для принятия приписного состава и вооружения с баз хранения — 45. Ещё сто пятьдесят мотострелковых и кавалерийских дивизий могут быть сформированы на базе управлений территориальных соединений в течение тридцати суток после объявления всеобщей мобилизации.
По артиллерии — кроме штатных двадцати тысяч стволов в полках и дивизионах стрелковых частей и соединений, мы располагаем более чем десятью тысячами стволов отдельных дивизий и бригад армейского и фронтового подчинения калибрами 57–152 миллиметра. Артиллерия резерва главного командования — десять тысяч стволов калибрами от 152 до 305 мм. Боеготовые подразделения располагают в среднем тремя боекомплектами, не требующими специального подвоза к местам расквартирования. Мобилизационные запасы — до пяти боекомплектов.
По танкам: пять тысяч единиц непосредственной поддержки пехоты, двенадцать отдельных танковых и механизированных дивизий и бригад в приграничных округах. На базах хранения имеется до десяти тысяч машин разных типов, включая самые раритетные, условно боеготовых, обеспеченных тремя заправками горючего и тремя боекомплектами. Экипажи, за исключением офицеров и сверхсрочнослужащих учебных подразделений, подлежат мобилизации из запаса первой очереди. Авиация — три тысячи бомбардировщиков и истребителей первой линии, столько же в составе учебных подразделений и в резерве. Для них требуется мобилизация лётного и технического состава с доучиванием и боевым сколачиванием подразделений.
Сухопутные силы Великобритании штатно составляют шесть территориальных дивизий, после всеобщей мобилизации в течение двух недель не превысят двадцати, и это при полном отсутствии возможности доставить их к нашим границам, кроме как морскими десантами на Севере и Дальнем Востоке. Исходя из этого, в расчёт они могут не приниматься.
Британская сухопутная авиация Метрополии численностью до двух тысяч самолётов всех типов способна, при поддержке достаточно мощной ПВО, осуществлять эффективное прикрытие собственной территории неограниченное время, учитывая возможности промышленности и переброску самолётов из Канады…
— Итак, из вашего доклада следует, что планируется нечто вроде поединка между слоном и китом. На суше нам противник никакого серьёзного вреда причинить не может, а мы, в свою очередь, не в состоянии даже подавить воздушное прикрытие Островов, не говоря о десанте и их полноценной оккупации.
Следовательно, все наблюдаемые нами приготовления либо авантюра, либо дезинформация, — опять прервал Олег военного министра. Это тоже входило в число его привычек, идущих от Петра Первого. «Господам сенаторам в Сенате говорить не по-написанному, а токмо своими словами, дабы дурь каждого всем видна была». Пусть и Воробьёв оторвётся от текста, написанного или заученного — неважно. — И нам нет необходимости тратить время на выслушивание известных всем присутствующим истин. Насколько я помню, примерно то же самое я читал в «Соображениях к мобилизационному плану на тысяча девятьсот такой-то год». Как раз к экзаменам за дополнительный курс Николаевской академии готовился.
При этих словах генерал Агеев почти незаметно для окружающих улыбнулся, уловив ход мысли Императора.
— Ваше Величество, — вскинул подбородок военный министр, — позвольте закончить информативную часть. С названного вами года некоторые цифры значительно изменились. Затем я доложу резолютивную и отвечу на ваши вопросы!
«Молодец, — подумал Олег Константинович, — выдержки не теряет». И снова благосклонно кивнул, извлекая из коробки следующую папиросу.
— По морской части со всеми подробностями доложит адмирал Гостев. Но в пределах своей компетенции (чувствовалось, что военный министр всё же слегка обижен) сообщаю: если британцы мобилизуют весь свой резервный флот, в Метрополии и на заморских базах, перевес у них по всем статьям подавляющий. В любом эскадренном бою они окажутся намного сильнее нас. За исключением доблести.
Генерал сделал лёгкий поклон в сторону адмиралов с чёрными орлами на погонах.
— По численности и качественному составу основных типов кораблей (суммарно) даже действующий корабельный состав «ХМН» превосходит «РИФ»[87] на сорок процентов. Имеющая ныне быть дислокация, а также возможность блокады балтийских проливов Германией, а черноморских — Турцией ещё более усложняет наше положение. Этим я хочу сказать, что морскую войну против Великобритании мы выиграть не можем. В лучшем случае — пат! А если вспомнить уроки русско-японской войны…
По отдельным ТВД при необходимости будет представлена соответствующая справка. По уровню боевой подготовки «Ройял нэви» и «РИФ» примерно равноценны. Анализ результатов нескольких ролевых игр, проведённых по разным методикам, показывает, что в скоротечных военных операциях возможная война не может быть выиграна ни одной из сторон…
— С окончательным результатом, — бросил с места Агеев.
Воробьёв предпочёл его не услышать.
— В случае тотальной войны «на истощение» Великобритания в состоянии оказывать нам эффективное сопротивление в течение года. Если же САСШ и Канада, сохраняя нейтралитет, одновременно не позволят нам организовать тесную блокаду островов авиацией и подводными лодками, наладят систему «нейтральных» конвоев, начнут оказывать англичанам помощь поставками продовольствия и военной техники, это может затянуться до бесконечности.
Ситуация меняется, если война перейдёт в коалиционную. При определённых условиях Великобритания почти безусловно может рассчитывать на поддержку Австралийского Союза, Южно-Африканского Союза, Канады, Северного Индостана (расчетные военные потенциалы прилагаются). Возможным также является возобновление до настоящего времени не денонсированного, но и не пролонгированного военного союза Англии с Японией. В таком случае потенциал неприятеля значительно увеличивается (см. «Приложение 2»), и возникает опасность морской войны на трёх удалённых театрах в сочетании с сухопутной войной на Дальнем Востоке (Япония и сателлиты) и в Средней Азии (Великобритания, страны Ближнего периметра).
В случае развития ситуации по этому варианту, исходя из позиции, занятой Центральными Державами во время событий в Привислянском крае[88], не исключается вступление в войну на стороне ВБ Германии, Австрии, Малопольши, Турции.
Мы получаем полномасштабные фронты по всей «Дуге нестабильности» «от Балтики до Охотского моря». В этом случае наше положение выглядит как проигрышное. Я не ручаюсь даже за то, что Империя сможет удержаться на своих исторических границах…
Все необходимые расчёты и варианты действий вооружённых сил России в указанных ситуациях прилагаются, — министр указал на приставной столик, где под охраной капитана с адъютантскими аксельбантами лежали три довольно толстые папки.
— Сто двадцать листов документов и пятьдесят две карты…
Император взмахом руки с папиросой велел Воробьёву замолчать и поднял с места «трёхорлового» адмирала Гостева, большую половину жизни не сходившего с мостиков боевых кораблей. Его пост был восстановлен уже после коронации Олега, до этого последние сорок лет флот не имел самостоятельного командования, и Наморси Республики числился одним из трёх первых товарищей военного министра[89], а Генмор[90] — всего лишь управлением при едином Генеральном штабе. Три поколения премьер-министров коалиционных правительств России отчего-то традиционно не любили флот. Очевидно, его структура казалась им слишком сложной, а функции — непонятными для адвокатского разумения. Кроме того, чрезмерно раздражали независимость капитанов первого ранга и адмиралов и несовместимая с «демократическими принципами» вызывающая «кастовость».
Зато теперь Император был кумиром флотского братства.
— Позиция военного министерства и Генштаба мне ясна. С деталями я ознакомлюсь. А вы что скажете?
Двухметрового роста адмирал, любивший «для разминки» показывать молодым комендорам, что при орудиях совсем не нужна никакая «автоматика» и нормальный мужик вполне способен вручную перекидать на приёмный лоток восьмидюймовой пушки пару тонн снарядов и полузарядов, не вспотев лбом под околышем фуражки, встал со своего кресла и подошёл к картам.
— Ваше Величество! Генерал Воробьёв теоретически абсолютно прав. С его высокопрофессиональной, но всё же сухопутной точки зрения обстановка выглядит именно так. «Ди эрсте колонне марширт, ди цвайте колонне марширт…»[91]
У нас на сорок процентов меньше линкоров и тяжёлых крейсеров. Это безусловный факт, хотя наши — новее постройкой и значительно превосходят вражеские по скорости. У англичан двенадцать «больших» авианосцев, у нас пять. Тоже факт. Зато по лёгким крейсерам уже паритет, а по большим эсминцам мы их серьёзно превосходим. Но дальше у нас начинаются разночтения. Военное министерство и Генштаб не учли, что военно-морская мысль давным-давно отказалась от идеи «генеральных сражений» и теории «овладения морем». Уже Ютланд[92] доказал, что они потеряли всякий смысл и не способны обеспечить достижение предполагаемых целей. Мы давно делаем ставку на скоротечные операции ограниченными силами и ту самую тотальную крейсерскую войну, которой так боятся англичане. Благодаря нашему превосходству в береговой авиации исключается высадка крупных десантов и какие бы то ни было операции вражеских сил в прибрежных водах. Вновь полученные базы на датской территории позволяют нам держать под постоянным воздействием даже лёгких сил главные военно-морские базы в Шотландии и Северной Ирландии. Превосходство в скорости наших новых крейсеров позволяет избегать встречи с превосходящим противником и атаковать там, где он в данный момент наиболее слаб. Авианосцев для прикрытия всех морских путей у них не хватит, — адмирал позволил себе многозначительно улыбнуться и сделать паузу, чтобы сделать глоток воды. Этим он давал возможность оппонентам возразить, если появится желание. Зал молчал, ожидая завершения доклада.
— Я уже не говорю о том, что с береговых баз и наших авианосцев мы способны обеспечить постоянные терроризирующие и обезоруживающие воздушные налёты непосредственно на Метрополию. В то время как наши военно-морские базы и крепости расположены таким образом, что атака их ни с моря, ни с суши невозможна даже теоретически. Кроме того, за счёт нашего преимущества в авиастроительных мощностях и численном превосходстве подготовленных пилотов мы в состоянии навязать противнику форсированную войну на истощение. Даже при соотношении потерь два к одному (что невозможно в принципе) у англичан лётчики кончатся ещё быстрее, чем самолёты. Вследствие всего вышесказанного я расцениваю предположения генерала Хлебникова как чрезмерно… пессимистические.
Видно было по его лицу, что адмирал собирался употребить более выразительное слово, но сдержался.
Слово взял ожидавший своего момента генерал Агеев.
— Я буду сейчас говорить не как полководец, а как геополитик и военный футуролог, — при этих высокомудрых словах многие члены Совета поморщились, начали шептаться и пересмеиваться в кулак. — Мы смоделировали текущую ситуацию и пришли к выводу, что Коалиционная война против нас бывших союзников по ТАОС невозможна. Слишком разные у них интересы, военные и экономические возможности, да и с боевым духом… не очень. Я не могу себе представить причин, ради которых простые немцы или французы согласятся вести регулярную полевую войну против России. Ведь она будет означать многотысячные потери среди личного состава войск и мирного населения. Кто-нибудь из присутствующих, — председатель «Пересвета» посмотрел на заслуженных армейских генералов, как на группу призванных на сборы прапорщиков запаса, — может себе представить безвозвратные потери австрийской, скажем, армии, пожелавшей занять Галицию с последующей аннексией? Или японской, решившей наступать до Байкала хотя бы?
А без конкретных целей, сулящих экономическую выгоду и значимые территориальные приобретения, разве окажется сейчас кто-то способен повторить подвиги «героев» Соммы и Вердена[93]?
— В Мировую войну очень даже оказались, — возразил начальник Генштаба, — а тоже очень любили жизнь и рассчитывали вернуться домой живыми и здоровыми «до осеннего листопада». И целей, по большому счёту, никаких не было, особенно у рядовых солдат. Книги Ремарка перечитайте относительно мотиваций в той войне…
— С тех пор прошло почти сто лет, — ответил Агеев, — и европейцы научились ценить свою жизнь намного выше геополитических абстракций. Вы же, уважаемые, по давней традиции продолжаете готовиться к прошедшей войне. Я понимаю — многие хотели бы стяжать славу в новых грандиозных битвах, но увы. Скорее всего, исход весьма возможной, но пока ещё не неизбежной войны действительно решат авиация и флот, сухопутчикам придётся довольствоваться «боями местного значения» в ближнем приграничье. Возможны тактические воздушные десанты, едва ли выше полкового уровня. Зато диверсионно-партизанских операций будет много, очень много на всех наших проблемных территориях. Для врага это единственно возможная стратегия.
Разумеется, я согласен рассмотреть и вариант полномасштабного нападения на нас коалиции европейских держав всеми наличными силами, длительного приграничного сражения в двухсотвёрстном, как минимум, предполье, а затем и ответного контрнаступления с выходом к берегу Атлантики от Португалии до Норвегии…
Широкими взмахами указки Агеев изобразил эти давным-давно нарисованные на других картах стрелы и котлы окружений, но настолько быстро, что тот, кто не следил внимательно, мог ничего и не понять.
— Но тогда Генштабу следует представить план немедленного формирования не ста, а минимум пятисот дивизий и снабжения их всем штатным вооружением, что потребует немедленного, прямо с сегодняшнего дня, перевода всей промышленности на военные рельсы. Мои коллеги в ходе научных семинаров для тренировки посчитали, что наступательная операция Западного и Юго-Западного фронтов с занятием Парижа и выходом к Ла-Маншу потребует боеприпасов в три с половиной раза больше, чем их имеется сейчас в войсках и на всех базах хранения.
Названная мною операция достаточно сложна, но проработана нами вплоть до дивизионного уровня. Потребуется — уточним до батальонного. Однако столь же серьёзного подхода к проблеме, ради которой только и существуют армия и Генеральный штаб, мы здесь не услышали. Надо бы вначале определиться, собираемся мы капитулировать сразу, проигрывать войну на заранее оговоренных с противником условиях или всё же всерьёз воевать, до безоговорочной капитуляции противника на всех фронтах, а уже потом приступить к скрупулёзному планированию ведущих к той и другой цели мероприятий.
В голосе генерала звучала откровенная ирония.
Поднялся шум. Сухопутные генералы сочли себя задетыми. Мало того, что Агеев лётчик, совсем недавно получивший генерал-лейтенанта (то есть младше всех по производству), так ещё и руководитель «научного общества» каких-то там «ревнителей военной истории», слишком много о себе воображающий, всего лишь из-за того, что к нему благоволит Император. Большинство из присутствующих принадлежало к выдвиженцам ещё петроградской, «демократической» власти и очевидным образом не улавливало «новых веяний» и вытекающих из них последствий.
Император движением руки с папиросой привёл Совет к молчанию.
— Советую прислушаться к словам Алексея Михайловича. Во время польского мятежа, пока вы все пребывали в полной растерянности, аналитики «Пересвета» проявили и редкостную сообразительность, и великолепный уровень профессиональной подготовки. Слишком долго многие из господ генералов никак сообразить не могли — воевать ли вообще, а если и да, то на чьей стороне…
Эта полная яда фраза не касалась адмирала Гостева, его морские пехотинцы и боевые катера Балтфлота проявили себя на Висле и в Поморье самым лучшим образом.
Со стороны поведение Императора могло показаться весьма недальновидным: в преддверии большой войны стравливать между собой и восстанавливать против себя лично значительную часть высшего комсостава Империи… Николаю Второму разногласия с командующими фронтами и армиями обошлись в своё время очень дорого.
Правда, Олег — не Николай, да и генералы уже не те.
Поэтому ответом Императору было общее сумрачное молчание.
— Благодарю всех за проделанную работу, — Олег Константинович встал. — Подвожу итоги: новой Мировой войны в обозримом будущем я не вижу. Следовательно, ни о какой «мобилизации» и речи быть не может. Кадрированные соединения «второй очереди» должны быть приведены просто в нормальную боеготовность. Вы понимаете, что означают мои слова? — обратился Император ко всем сразу. Ответа не ждал. — Нормальная боеготовность — это способность подразделения выполнять любую поставленную перед ним задачу до полного исчерпания наличного состава сил и средств. Как некий капитан Уваров легковооружённой ротой не так давно за полк полного штата управился.
Этот намёк генералы тоже проглотили.
— Разве что необходимых офицеров-специалистов (число не ограничиваю) разрешаю призвать на двухмесячные, скажем, сборы, с присвоением очередных чинов. Отчего бы не порадовать заскучавших «на гражданке» людей? Им развлечение, службе польза. Но тренировать их как следует, от рассвета до заката, исходя из требований военного времени.
Помолчал, прошёлся вдоль стены.
— Но вот к чему извольте приготовиться, господа, — чтобы в момент объявления «реально угрожаемого периода» войска были готовы в течение суток занять рубежи обороны или атаки в пределах своих зон ответственности. Безусловно снабжённые всем необходимым, от патронов до сухарей и портянок, с развернутыми медпунктами, полевыми складами ГСМ и боепитания, безукоризненно работающей связью. Вот это и есть, и будет, пока я жив, главная обязанность военного министерства и Генерального штаба.
Знаете… — словно бы на лирику потянуло Государя, или просто он решил резкость своих слов шуткой смягчить. — Когда я ещё поручиком первый год служил, был у меня ротный фельдфебель, Величко Алексей Иванович, как сейчас помню. Добрейшей души человек и юморист, каких мало. Но у него на любое возражение, хоть нижних чинов, хоть младших офицеров, о сложности или невыполнимости задания всегда имелся один ответ: «Чтоб было!» Отворачивался и более ни в какие разговоры по означенной теме не вступал.
Собрание натянуто посмеялось. Намёк был ясен всем.
— Флоту приказываю — с сего числа ввести общую «готовность номер один». Главкому ВВС все оперативные вопросы, касающиеся совместных действий на морях, решать непосредственно с адмиралом Гостевым. Ответственность будете нести солидарную, я в тонкости характеров каждого вникать не собираюсь. Ко мне любому из присутствующих разрешаю обращаться напрямую и в любое время. Только прошу помнить формулу — «Государево слово и дело»[94].
Спасибо, господа Совет[95], все свободны.
Избыточно популярной фразы: «А вас, такой-то и такой-то, я попрошу остаться», Император не произнёс. И без неё в царский рабочий кабинет через короткое время, покрутившись в буфетной, где генералы и адмиралы по традиции снимали напряжение после общения с Государем, без доклада вошли два генерала: Агеев и Чекменёв. Ближайшие доверенные лица, оба без соответствующего авторитету официального статуса, постоянно испытывающие друг к другу ревнивую настороженность, но последний десяток лет работающие в одной упряжке и на общую цель. Олег Константинович всё знал и понимал, его такое положение устраивало. Требовалось одно — опять, как в пятнадцатом-шестнадцатом веках, возрождая в освободившейся от ордынского влияния державе византийские порядки, чётко соблюдать «местничество» и «баланс интересов». И чины, и ордена оба генерала получали одновременно, границы власти каждого то расширялись, то сужались (по обстановке), но тоже соразмерно.
— Ну и как вам? — спросил Император, вытянувшись наконец в кресле, сняв ремень и портупею, расстегнув целых три верхние пуговицы кителя.
Чекменёв, что входило в его обязанности, извлёк из секретера походный погребец, поставил на стол полуштоф и чарки, разлил. Закуска тоже имелась чисто царская — чёрные сухари и солёные в бочке огурцы.
— Будет кому и над чем голову поломать, — сказал Агеев. — Война на носу, у Генштаба даже мобилизационного плана нет, а Верховный главнокомандующий всех со всеми старательно ссорит. Вот что по этому поводу тому же Уоллесу думать прикажете, со всеми его генералами?
— Только ты, Игорь, прямо сегодня толковую «утечку» организуй. Стенограмму — не надо, а так, «выбранные места из переписки с друзьями». Англичанам — одно, американцам — другое, «нейтралам» — третье. Не мне тебя учить. Пусть те, по ком петля плачет, напоследок перед хозяевами отличатся и свой кусок получат.
Император аппетитно хрустел сухарём. Вот надо же — бывали времена, когда в походах Олег по нескольку дней питался единственно сухарями и чаем из закопчённого на кострах котелка. И не приелись, наоборот.
— Уже распорядился, — ответил Чекменёв. — Всем интересно будет.
— Я не стал при всех говорить, — обратился Олег Константинович к Агееву, который со своими «пересветами» и разрабатывал «настоящий» план грядущей войны. — Но вы там включите в подлежащие разглашению документы: ихнее, мол, величество так и выразилось: «Немедленно, активно, от всей души поддаваться на любые возможные провокации. И посмотрим, у кого кишка крепче!» Пусть гадают, что за туз у меня в рукаве, раз я прямо-таки демонстративно нарываюсь.
— Изящно, — сказал генерал.
— Я бы сказал — «зверски тонко», — поддержал Чекменёв. — В близкой к нам реальности тогдашний диктатор требовал от своих войск прямо противоположного.
— Так я ведь не Сталин, — сообщил Император, — и цели у нас совсем другие. Вы мне давайте плесните быстренько по второй и расскажите, что у нас с настоящим «Мальтийским крестом» и с господином Катранджи делается.
Вот в этом и заключался стратегический замысел Императора Всероссийского, царя Польского, Великого князя Финляндского и прочая, и прочая, и прочая… Своим сухопутным генералам, за исключением гвардейских, лично отобранных и выпестованных, он не верил ни на грош. И правильно, в общем, делал.
Зато верил флоту и авиации. Отчего тайно поручил Ляхову любой ценой установить транспортную связь с «другой Россией», внешне имитируя весьма слабую заинтересованность в этой программе, даже среди ближайшего окружения. Да, такие эксперименты ведутся, но сами же видите, господа, — на уровне обычного флигель-адъютанта. На Запад если такая информация и просочится, то и интерес вызовет на соответствующем уровне.
Личная позиция Президента РФ его волновала не слишком. Всё равно в нужный момент тому придётся пойти на союз. Слишком велики его проблемы, личные и государственные. В нужный момент Олег их решит почти без всяких усилий. Но в преддверии грядущей войны, к которой он относился куда серьёзнее, чем демонстрировал на сегодняшнем Совете, и не только, ему требовались технические возможности Российской Федерации.
Олег Константинович умел изображать из себя когда простака, когда бурбона, когда Казанову, но на самом деле он был, пожалуй, единственным в конце XX и начале этого века настоящим великим политиком. Как минимум не уступавшим прочим знаменитостям, от Александра Третьего до Корнилова и Рузвельта. В соседней реальности можно было приравнять к нему Черчилля, моментами — Сталина. Он тщательно и с очевидной пользой проштудировал историю параллельного двадцатого века: барон Ферзен представил ему весьма грамотно составленную сводку как политико-экономического состояния, так и военного потенциала будущей «братской державы», а Ляхов доставил несколько солидных, лишённых политической конъюнктуры монографий по истории 1917–2000 годов.
Читая эти книги и документы, Император испытал много тоски, сожаления и обиды. Да за что же это России всё?! Слегка одумавшись, помолившись в собственной часовне, успокоился. «Коемуждо по делам его…» Ничто не потеряно и ничего не решено, пока он твёрдо держит власть в своих руках и помнит обо всех критических точках несбывшейся истории.
Зато он отдыхал душой за просмотром у себя в Берендеевке кинофильмов, подобранных для него Секондом, а точнее — Фёстом. Вадим сумел отобрать десяток-другой художественных и документальных картин, чтобы они произвели на Императора нужное впечатление, укрепили веру в то, что на той стороне живут настоящие русские люди, и, в случае чего, на них можно положиться, как на своих, а в критических ситуациях — и больше. Фильмы Фёст подбирал, разумеется, в достаточной степени пропагандистские, всякий арт-хаус, вроде «Летят журавли» или «Иваново детство», Императору смотреть совершенно незачем. Или — не сейчас. А вот «Живые и мёртвые», «Освобождение», «Битва за Москву», «Горячий снег», «На пути к Берлину», «Фронт без флангов» очень годились. Олег Константинович увидел, что такое — неизвестная в его мире «Великая Отечественная» и проникся как масштабом тогдашних сражений, так и тем, что совершенно неважно, за какую именно власть самоотверженно сражаются русские люди, если «переступил священные рубежи». Так вольно или невольно у создателей и актёров фильмов получилось. В любом месте можно было подставить вместо «За Родину, За Сталина» — «За Бога, царя и Отечество», и ничего бы, по сути, не изменилось.
Вообразить, что с этими солдатами способны воевать нынешние англичане или арабы, если уж тогдашние немцы не справились, — просто смешно.
Самое же главное — у той России даже сейчас есть оружие, позволяющее ей и в состоянии разброда и шатаний оставаться второй военной державой мира. А если исходить из теории «гарантированного взаимного уничтожения», то — одной из двух первых. Разумеется, о термоядерных бомбах, способных превращать в радиоактивную пыль миллионные города, Олег не хотел и думать. А вот другие, безвредные для мирного населения штучки ему очень нравились. Особенно в рассуждении конфликта с гордыми британцами. Противокорабельные ракеты! Их можно запускать и с самолётов, и с крейсеров, и с самых незначительных катеров. С подводных лодок — тоже. Забавно будет посмотреть на реакцию британского Адмиралтейства, да и всего остального мира, когда линкоры и авианосцы «Гранд Флита» накроют тучи даже самых примитивных и старых (для той реальности) «Аметистов» и «Термитов», не говоря о полуразумных и гиперзвуковых «Москитах», «Гранитах», «Базальтах» и прочих, а за подводными лодками начнут охотиться самонаводящиеся торпеды.
Против самолётов и вертолётов на сухопутье у братьев-славян имеются, кроме авиационных УРСов и НУРСов, ручные «Иглы» и «Стрелы», мобильные зенитные «С-300» и даже «С-400», «Тунгуски» опять же. То есть войну, любую войну на этой Земле можно начать и закончить (на условиях даже и безоговорочной капитуляции), когда сочтёшь нужным.
При условии, конечно, что коллега-Президент поделится матчастью и специалистами.
— С «Крестом» нормально, — ответил Чекменёв. — Тоннель пробили, разведка на сопредельную территорию сходила. Осталось положить километр рельсов, шоссе на ту сторону вывести, ну а дальше — чистая дипломатия.
— Крепко надеюсь, что с их Президентом всё же сумеете договориться без осложнений.
— Да какие осложнения, Олег? — едва ли не рассмеялся Чекменёв. — Это он поначалу в «суверенитет» и «принципиальность» немного поиграл. А так очень неглупый мужик, в собственном интересе скоро разберётся. Мы тоже кое-что делаем. Его ближнее окружение, считай, уже наше. Поучат, подскажут. Собственной тайной полиции, как у Сталина, у него нет. К счастью или к сожалению, как смотреть. Завтра-послезавтра всё решим, не бери в голову. Ты санкционируешь, если в критический момент переговоров я предложу ему за согласие на поставки оружия, скажем… половину нашего золотого запаса? У них сейчас серьёзные финансовые проблемы, мировой кризис, говорят, надвигается, похуже, чем у нас в двадцать пятом году.
— Предлагай, — небрежно махнул рукой Император. — У нас долгов нет, так неважно, в каких подвалах слитки некоторое время полежат. Деваться им из России всё равно некуда.
— Что касается Катранджи, — вступил в разговор Агеев, — здесь, похоже, тоже всё штатно, как в авиации говорят. Если ваши друзья обеспечат его оружием в потребных количествах, мы с коллегами имеем десяток вариантов использования этих ребят так, что европейцам мало не покажется. Что там Пятигорск с Варшавой. Детский крик на лужайке.
Самое смешное, что все расчёты «супостата» строятся как раз на том, что Ибрагим и «Интернационал» станут действовать на их стороне. Оттого они и форсируют всемерно подготовку к войне. Иначе… У них штабисты не глупее наших, уж военные-то потенциалы сторон сопоставить могут. Разве что на какой-то совершенно непостижимый для нас фактор закладываются. Вроде как мы — на чужое оружие.
А пока наши люди, числящиеся за дипломатическим ведомством Ибрагима, ведут с англичанами переговоры о совместных операциях. Оружия его боевикам британцы обещали подкинуть, транспортом помочь, идеологическое обеспечение раскрутить.
«В едином порыве угнетённые народы Юга и Востока, понявшие, кто их главный враг, поднимаются на священную борьбу против кровавого российского империализма. В этой справедливой борьбе на их стороне большая часть демократического человечества!..» — с должным пафосом произнёс Агеев.
— Молодец! — восхитился Император. — Сам придумал?
— Есть кому и без меня. Наше дело эту туфту запустить, где надо, исключая Америку, и скоординировать с несколькими демонстративными выступлениями «интернационалистов». Главное, с моментом не ошибиться. Уловить, когда «сегодня рано, а завтра будет поздно».
— Работайте, — благосклонно кивнул Олег Константинович. — А я, пожалуй, на днях сам в Екатеринбург слетаю. Очень мне интересно посмотреть, как тоннель действовать начнёт. Скоро?
— По графику регулярное движение можем открыть через неделю. Экстренно — хоть послезавтра. Лишь бы договориться, чтобы наш литерный поезд в расписание включили, — доложил Чекменёв.
— Твоя проблема. Лошадей гнать не надо, нас и неделя устроит, лишь бы без сбоев. А не договоритесь — и тебе, и Ляхову отставка без мундира и пенсии.
Олег открыл ящик стола, достал листок бумаги.
— Я тут старые журналы от нечего делать листал, подходящие заметочки попались. Посмотри, может, для чего пригодится. — Он протянул Чекменёву собственной рукой переписанные цитаты.
Об английской политике
«Англия держава очень умная и великолепно знает, что она себе может позволить по отношению к каждому народу и каждой дипломатии, и она никогда не позволяет себе перейти известные границы, хотя, конечно, всемерно старается отодвинуть эту пограничную черту как можно дальше».
«Мы имеем дело с величайшими нахалами (англичанами). Главное — не теряться и не трусить. А министерство иностранных дел струсило».
«Во всех тех случаях, когда иностранные правительства будут действовать под влиянием чужеземного давления, Англия не обязана соблюдать ранее заключённые договора и вправе во всякое время их расторгнуть, не связывая себя условиями общеевропейского характера».
— Благодарю, Ваше Величество. Принято к руководству и исполнению. — Генерал сложил бумагу и спрятал её в карман кителя.
Британский кабинет министров и лично премьер Уоллес ощущали себя крайне некомфортно. После доверительной беседы с Императором Олегом и его согласия не придавать значения скандалу с причастностью Британии к морскому пиратству, премьер решил каких-либо новых политических обострений избегать. Тем более ему было обещано пребывание на своём посту как минимум два срока. Уоллес знал, такие возможности у Олега были и политические, и финансовые.
Другое дело, что, соглашаясь на откровенный и грубый шантаж, Британия как бы теряла статус великой державы. Так кто же об этом узнает, если всё решено с глазу на глаз? А как нейтрализовать выпады прессы и инсинуации оппозиции — опытного парламентского волка учить не нужно. И насчёт визитов «Теневого министра обороны» к проституткам имеется материал, и про нетрадиционные пристрастия жены самого лидера оппозиции есть кому поделиться впечатлениями. Зато готовность России вложить десятки миллиардов в хиреющую судостроительную промышленность — это реальные деньги и реальные рабочие места. Всегда можно обосновать те или иные свои действия именно что заботой о процветании и престиже государства, прямые финансовые подачки назвать «инвестициями» и так далее.
В общем, после Фарерского инцидента всё складывалось не так уж и плохо.
А «государственные интересы» — понятие настолько расплывчатое, что даже всерьёз говорить об этом бессмысленно. Сумеет сегодняшний «власть предержащий» собственные увлечения и пристрастия до населения убедительно донести — вот вам и государственный интерес, и национальная идея на текущий отрезок времени.
Другое дело, если ты, хоть премьер, хоть президент, под чужую дудку плясать обязан, и нет у тебя сил и характера, чтобы дудочку — растоптать, а дудочника — на дыбу. Кто к такой решительности с детства расположен был, так и поступали, а Уоллеса — «не умудрил господь». И приходилось ему играть по правилам «парламентской демократии». Демократии же, до предела деградировавшие в условиях «вечного мира», спинным мозгом осознавшие своё вырождение, кадровое и идеологическое, поняли, что вплотную приблизившийся апоплексический удар можно предотвратить только хорошим кровопусканием. И не только к Великобритании и к правящим политикам это относилось. Мир вошёл в очередную «пассионарную фазу».
За девяносто лет накопилось слишком много горючего материала, былые трагедии забылись, а свойственная приматам агрессивность и стремление к доминированию никуда не делись. Они лишь копились, трансформировались под влиянием культурологических процессов. И никакой ТАОС с его идеей вечного мира ничего не изменил. Скорее, напротив, создал ощущение глухого цивилизационного тупика. Та часть человечества, которую в другой реальности завистливо и не совсем верно называли «золотым миллиардом», вдруг осознала (и не вчера), что с новым миропорядком потерян смысл жизни. Да, мир, процветание, братство народов, нерушимые границы и торжество права над произволом — всё это прекрасно! Разве не за это боролись сорок поколений гуманистов?
Можно сказать — достигли! Но разве не того же самого, как если бы кого-то привезли в тюрьму, более комфортабельную, чем любой отель, с бассейнами, спортивными залами, комнатами для настольных игр, борделями на любой вкус и сказали: «Вот тут и будешь теперь жить, отныне и до века. Правила внутреннего распорядка в каждой камере на стене. Шаг вправо, шаг влево считается побегом, охрана стреляет без предупреждения»? Зато в меню тюремной столовой пятьдесят первых и столько же вторых блюд. Напитки — «а-ля карт».
Удивительнее всего, что идея всеобщего «крестового похода» Севера против Юга не прельщала никого. Мировые противоречия должны разрешиться на территории «цивилизованного мира», а уже потом победитель станет решать, куда направить высвободившиеся силы. Например — по собственному усмотрению планету на новые колониальные владения делить. А то из «всеобщей свободы и независимости» ничего хорошего так толком и не получилось, ни для «колонизаторов», ни для «освободившихся от гнёта».
Кроме «хантеров» с их идеей фикс имелось достаточно классов, групп и страт, которые генерировали импульсы войны почти инстинктивно, и это тоже очень напоминало ситуацию четырнадцатого года, когда «войны никто не хотел, но все делали всё, чтобы она наконец началась».
А то, что в качестве капсюля-детонатора некими тайными силами была избрана Британия, — случайность, не более. Прошлый раз была Германия, позапрошлый — Турция, до неё — Наполеоновская Франция[96]. Интересно отметить, что в качестве «поджигателя войны» никогда не рассматривалась Россия, зато она всегда становилась объектом агрессии, независимо от причин и поводов конфликтов.
Итак, планы были составлены, карты разрисованы стрелами и условными значками, не хватало одного — «Выстрела Принципа»[97]. Премьер Уоллес, кабинет министров, королевский двор, военные и морские круги подвергались постоянному и непреодолимому давлению со всех азимутов. И не только изнутри страны, снаружи тоже.
Не совсем понятную, но лидирующую роль среди лоббистов «военной партии» играл господин Арчибальд Боулнойз, раньше державшийся в тени руководителей «Хантер-клуба», а после поражения польского восстания и неудачи с пиратской затеей вдруг начавший вести себя так, словно он и есть глава «теневого кабинета», готового хоть завтра прийти на смену нынешнему. Причём глава — с диктаторскими полномочиями. Уоллес не раз уже слышал намёки, исходящие от самого подножия королевского трона. Главное — в них были свои резоны. Если ныне правящая Виндзорская династия морально не готова к объявлению самодержавия по российскому образцу, то отчего бы сначала не назначить послушного и на всё готового диктатора и, в случае чего, свалить на него все грехи, как не раз уже практиковалось в прошлом?
Боулнойз взял манеру навещать Уоллеса на Даунинг-стрит почти ежедневно, вёл себя в кабинете запросто, рисовал радужные перспективы, всё чаще и чаще намекая, что с «тайными силами» всё решено и нужно только начать, после чего Россия будет поставлена на колени буквально в несколько дней. Не потребуется и сухопутного вторжения.
— Это те силы, что обещали вам устранить князя Олега ещё до его воцарения? — как-то осведомился премьер, не во всех деталях, но достаточно подробно знакомый с подоплекой «московских событий».
— Те самые, — охотно ответил Арчибальд, раскуривая сигару.
— Особым успехом ваш проект, кажется, не увенчался? — с чисто английской деликатностью спросил Уоллес.
— Вот здесь вы ошибаетесь, мы добились всего, на что рассчитывали, — и повторил то, что говорил Гамильтон-Рэю. — Теперь ошибок не будет. Так что продолжайте вести себя по-прежнему. И дома, и с иностранными главами государств. Остальное мы берём на себя.
Каждый раз после встреч с Арчибальдом у премьера отчего-то начинала болеть голова и настроение сильно ухудшалось — только партия в гольф снимала скверные ощущения. А после нескольких порций виски в компании привычных партнёров под тентом на лужайке наступал прилив сил и чисто античное желание начать рубить все «гордиевы узлы» мечом[98], не задумываясь о последствиях.
Да и в самом деле — британский флот могуч, острова неуязвимы, Арчибальд с его «силами» наготове. Катранджи, с которым была проведена кропотливая работа, жаждущий реванша за срыв своих кавказско-польских планов, поверивший, что оказался жертвой российско-израильского заговора, заверил, что в состоянии бросить на Россию со всех направлений чуть ли не десять миллионов своих разбойников. Дикари, конечно, понятия не имеющие о регулярной войне, и почти без тяжелого вооружения, но само число впечатляло. В подобных толпах завязнут и растворятся какие угодно профессиональные дивизии. Тут самые авантюрные генералы, вроде Сапегина, ничего не сделают. От нашествия саранчи метлой не отобьёшься.
После тяжёлого разговора с наследным принцем, числившимся Первым лордом Адмиралтейства, и вездесущим Арчибальдом Премьер сжал волю в кулак, решился и приказал, наконец, начать мобилизацию флота и территориальной армии Соединённого королевства. Он был всё же настоящим британцем, вроде своего короля Эдуарда, о котором немецкий канцлер недавно метко выразился: «Как всякий англичанин, король ненавидит иностранцев, против чего я не возражаю, если, конечно, он не будет ненавидеть немцев больше, чем русских».
Очень своевременно военно-морская и общая разведки получили информацию из источников высшей степени конфиденциальности в окружении Олега о том, что сам Император в войну не верит, считая личные договоренности с Уоллесом и американским президентом достаточной гарантией сохранения мира. Что на заседании Военного Совета при Высочайшей особе возник конфликт между руководством армии и флота, в котором Самодержец встал на сторону флота, считая его достаточной гарантией от любых непредвиденных вариантов. Более того, имелись сведения, будто прежняя «демократическая» армия крайне раздражена предпочтением, отдаваемым Олегом своим бывшим «московским» гвардейцам, преуспевающим в чинах и назначениях на ключевые должности.
Вполне возможна если не попытка очередного военного переворота, то подобие «фронды» — или «смуты», по-русски выражаясь, — в условиях которых ведение успешной войны проблематично.
Уоллес, достаточно обработанный Арчибальдовым «нейролингвистическим программированием», решил, что вот и обещанное влияние «сил». Ему стало легко и даже приятно. Как кайзеру Вильгельму, отринувшему сомнения и велевшему взять Париж и Москву до «начала осеннего листопада»[99]. «И пусть крайний справа солдат коснётся плечом Чёрного моря, а крайний слева — Белого» — так он определил своим полководцам цель Восточной кампании тысяча девятьсот четырнадцатого года.
Теперь требовался повод. Хоть какой-нибудь повод для инициации конфликта. Дальше всё покатится само собой, однако для учебников и исторических трудов обязательно своё «Сараево», «Глейвиц», взрыв американского крейсера «Мэн» на Кубе или нечто другое, убедительное для публики.
Арчибальд заверил Уоллеса, что повод обязательно будет. Вернее сказать — уже есть, только кое-какие детали подшлифовать надо. Такой, что лучше не придумаешь, нынешним журналистам и будущим историкам затрудняться не придётся. Для завершения подготовки ему нужно приблизительно две недели и Гамильтон-Рэй с его конторой в полное и бесконтрольное распоряжение. Кстати, этого срока как раз должно хватить, чтобы «ХМН» и «РАФ»[100] окончательно изготовились и в час «М» сработали с точностью швейцарского будильника.
Готовясь начать войну, в которой число жертв должно было исчисляться сотнями тысяч, причастные к рычагам управления историей персоны оказались в той же психологической ловушке, что и множество их предшественников. Приняв роковое решение, политики будто отключали у себя какой-то предохранитель, полностью отдаваясь на волю того, кто успел первым объявить: «Я смогу это сделать!»
Самое смешное — воевать хотели не генералы. Как раз они яснее других видели перспективу и, как могли, сопротивлялись политикам. Вернее, воевать генералы хотели всегда, но не завтра и не с этим противником. А так, в принципе, в перспективе. Достаточно почитать многочисленные генеральские и маршальские мемуары. А вот выскочка, фигляр, авантюрист всегда почти имел успех у «сильных мира сего», которым полагалось быть умными априорно. Так, принято считать, что Гитлер был избран «мировой закулисой» (особенно забавно это звучит, учитывая национальный состав пресловутой «закулисы»), или, согласно марксистско-ленинской теории, — наиболее реакционными кругами международного капитала — для «уничтожения первого в мире государства рабочих и крестьян».
В нашей истории «наиболее реакционные круги» пошли на поводу у неизвестно откуда возникшего (вроде Хлестакова или Калиостро) человека, пообещавшего стереть с глобуса страну под названием Россия.
И там и тут окончательное решение принимали люди, назвать которых идиотами не повернётся язык. «Мировая закулиса», как известно, успешно руководит всеми мировыми экономическими и политическими процессами с времён разрушения «второго храма» (или третьего?), более реальный «мировой империализм» известен тем, что деньги считать умеет, то есть знает, как минимум, арифметику в объёме неполной средней школы. Но стоит появиться кому-то, вроде Гитлера или Арчибальда Боулнойза, «тёмные силы» не только арифметику забывают, но и с глазами у них что-то делается. Ни один Ротшильд, Морган или «Соломон энд Бразерс» ни за что не поверит, что рубль медными пятаками больше червонца одной монетой, а, глядя на глобус, охотно соглашается, что страна, которую удобнее всего разглядывать сквозь сильную лупу, способна послать своих солдат в направлении Берингова пролива, и они браво туда домаршируют, не испачкав ботинок, укрепят свой гордый флаг на сопках Порт-Артура или торосах Анадыря.
Никому из тех, с кем мистер Боулнойз почти ежедневно общался, не пришло в голову, что этот импозантный джентльмен испытывает серьёзные трудности.
Собственно, трудности Арчибальда с самого начала сводились к самой что ни на есть общечеловеческой проблеме, хотя «человеком» он был в куда меньшей степени, чем хозяин, учитель и образец для подражания Антон. Физически (а также и философски) Арчибальд, второй год выступающий под маской мистера Боулнойза, был эффектором самого себя, то есть человекообразным биороботом, созданным одной из ячеек Мировой Сети (в просторечии называемой Замком), для реализации в трёхмерном континууме некоторых порождений своих эманаций[101]. Сама по себе псевдоличность была создана неплохо. Замок использовал образцы и матрицы самых высших кондиций, своё творение подключил к такому количеству процессоров и собственных интеллектуальных мощностей, что «вочеловеченный» Арчибальд мог бы изображать «машину Тьюринга»[102] практически бесконечно с любым количеством собеседников.
Однако сам Замок, якобы всемогущий в масштабах доверенного его попечению рукава Галактики, в отсутствие одушевлявшего его «биологического объекта» Антона, отключенный от несущей частоты руководящих ячейками Сети систем «Союза ста миров», вполне мог быть представлен самым обыкновенным големом. Голем же, по одной из философских точек зрения, является высокоорганизованной структурой, не мыслящей, но способной в определённых условиях стремиться к некоей якобы разумной цели, подчас высочайшей степени сложности.
Он знал очень много и умел почти всё, но после того, как «высшие» устранили Антона с занимаемой должности Тайного посла, ничего толком сделать не мог, кроме как бесконечно и бессмысленно перетасовывать триллиарды терабайт информации. Ожидая самой простой, но осмысленной команды. Типа — «Отделение, встать, бегом!». Проще говоря, он был полностью лишён способности к творчеству.
В процессе этого коловращения искусственного интеллекта и образовался Арчибальд, как попытка, словами Энгельса выражаясь, «познать самого себя». Кое-что получилось: внутри Замка этот «голем» выглядел неплохо, питаясь аурой попадавших туда людей и вовремя подключая нужные зоны «Большого разума», «Селесту» и «КРИ»[103]. Он мог, комбинируя уже известные схемы, модели и образцы, выстраивать весьма сложно и на первый взгляд разумно выглядящие конструкции, рассчитанные на длительную перспективу. Как, например, затея с помощью «Хантер-клуба» (о котором, как и о любых других подобного рода организациях, Замку была известна вся существующая в фиксированном виде информация) сначала вывести из игры Россию, способную после воцарения Олега и с помощью «Братства» занять лидирующую и абсолютно независимую позицию на мировой арене. Затем дестабилизировать теперь уже Великобританию и то, что останется от ТАОС, используя «Чёрный интернационал» и его вождя Ибрагима Катранджи. И, в завершение, ещё один «изящный пируэт» с ликвидацией теперь уже самого «Интернационала».
Таким образом на Земле оставался лишь один всемогущий игрок — сам Замок. Добившись этого, он собирался поднести плоды своей победы Антону и «Братству», согласившись в обмен на их признание и восхищение вернуться к исполнению своих обязанностей, ни на какие самостоятельные роли больше не претендуя.
Сам по себе сюжет выглядел непротиворечиво, где-то даже изящно, с неплохими шансами на воплощение. Конечно, если отвлечься от его реальной цены: планеты, опрокинутой в хаос бесконечной войны всех против всех по всему вееру доступных реальностей.
Но ведь исторические примеры как раз и свидетельствовали о том, что великие идеи воплощаются именно через войны, революции, гражданские войны. Не сказал ли один признанный безусловно великим человек: «Насилие — повивальная бабка истории»?
Но вот на практике все тщательно разработанные построения, перенесённые во «внешний» мир, сразу же начинали давать сбои. И это ещё мягко сказано. Что-то сразу не заладилось с «обратной связью». Выходя в любую из физически существующих реальностей и отрываясь от «ноосферы» Замка, Арчибальд становился обыкновенным биороботом, запрограммированным на конкретную задачу, пусть и чрезвычайно многоходовую. Причём, как уже говорилось, запрограммированным самим собой. Энтропия внутри обозначенного «поля задач» нарастала стремительно. Проще говоря, допущенные ошибки суммировались и накапливались в геометрической прогрессии, а исправлять их и даже просто распознавать он не умел.
Достаточно долго предоставленный самому себе Арчибальд, как всякий ограниченный, но исполненный убеждённости в собственных выдающихся способностях человек, решил, что он «самоусовершенствовался» настолько, что по всем параметрам превзошёл людей, некогда бывших объектами его преклонения. При этом он не желал каждому из них зла. Ему только хотелось доказать, будто он в состоянии самостоятельно разрабатывать и реализовывать самые масштабные проекты. «Переформатирование» реальности, установление над ней собственного контроля — что не удалось ни форзейлям, ни агграм при всех их возможностях — казалось ему достойной целью.
Он думал, что понимает людей, а он их не понимал, так же, как и в первый день своего появления в «открытом», по сравнению с очерченным стенами Замка, мире. Используя сделанные в Замке (или Замком для него) заготовки, он довольно долго морочил головы «хантерам», ухитрялся выглядеть адекватным и облечённым полномочиями человеком в Вашингтоне, Париже, Берлине, даже Касабланке[104]. Чем более традиционным и замкнутым на себя обществом было то, где он «функционировал», тем дольше Арчибальду удавались его имитации. Самый яркий пример — пресловутый «Хантер-клуб». Но даже там он в итоге проиграл, хотя никто из джентльменов не успел этого заметить по причине чрезмерной погружённости в собственные заботы. О его российских «эскападах» и говорить не стоит, настолько позорно всё вышло.
Но к самообучению Арчибальд был не способен по определению. Не зря ведь сказано: «Если кто дурак, то это надолго!»
Если подойти к проблеме Арчибальда непредвзято, хотя бы с точки зрения академика Виктора Скуратова, то он, как таковой, был вполне удачным «конструктом». При одном условии — если бы «пульт управления» находился не в его собственных руках. А так — ситуация Мюнхгаузена, вытаскивающего самого себя из болота за волосы, в чистом виде.
Главные противники (нет, противниками этих людей он не считал, просто — оппоненты) Арчибальда сгруппировались в трёх Россиях и вредили его замыслам просто фактом своего существования. Не слишком давно ему удалось большую их часть собрать в Замке и убедить отправиться на поиски приключений за пределы реальностей, представлявших для него интерес. Этот замысел удался. Шульгин, Новиков, их друзья, да и сам Антон ему больше не мешали. По расчётам выходило, что раньше чем через календарный год внутри специально сконструированного «временно́го изолята» никто из них не появится. А с теми, кто продолжает оказывать воздействие на реальности, он надеялся справиться без особого труда.
Причём, по законам восточных единоборств, силы противника он рассчитывал использовать против них же.
Русский император и необъяснимым образом не оставшаяся в зоне специально сконструированной «англо-бурской войны», а внезапно вернувшаяся на ГИП аггрианка Сильвия с несколькими мелкими подручными не казались ему серьёзными противниками. Арчибальд тщательно просчитал, к каким действиям их следует подтолкнуть, чтобы они сработали на его план.
После одесских событий все решили, что Катранджи со всем его «Чёрным интернационалом» перешёл на их сторону? Великолепно. Турку обещаны неограниченные поставки оружия для войны против «Севера»? Ещё лучше. Пусть эти миллионные толпы остервенелых фанатиков получат тяжёлую технику и даже авиацию. Среди них найдётся достаточно специалистов, чтобы укомплектовать десяток вполне боеспособных дивизий «братьев мусульман», «тигров Тамил-Илама», «беркутов Синцзяна» и прочих «Ихэцюаней»[105]. Квалифицированных инструкторов они тоже получат.
А завтра окажется, что Катранджи совсем не тот, кем его считали нынешние партнёры. С ним просто нужно немного поработать, и Арчибальд уже знал как.
Глава десятая
Валерий Уваров последнее время немного заскучал, занимаясь своими достаточно рутинными служебными обязанностями. Необходимыми, но не веселящими душу боевого офицера. И вдруг его пригласил к себе сам легендарный полковник Тарханов, иногда то ли с целью маскировки, то ли в виде дани традиции именуемый Неверовым. Кроме своих личных, чисто солдатских подвигов, отмеченных весьма высокими наградами, Тарханов был знаменит ещё и тем, что всего за два года сумел сделать карьеру от рядового «печенега» (правда, всё же инкогнито пребывая в полковничьем чине) до начальника управления спецопераций. А теперь вдруг прошёл слух, документально не подтверждённый правда, будто Император поручил Сергею Васильевичу вдобавок исполнять обязанности самого генерала Чекменёва в качестве начальника аж всего Главного разведывательного управления Российской Императорской Гвардии.
Такое мало кому удавалось, думал Уваров, даже примеривая на его собственный, уваровский аршин. Граф тоже неожиданно быстро дослужился из «засидевшегося в девках» поручика до подполковника. Но служба у них была разная. С первого дня прибытия в часть после училища до сегодняшнего (ну, пусть до вчерашнего) дня Валерий только воевал. В пустынях Мерва и Кушки, на афганских перевалах, в Варшаве и под Берендеевкой. Да ещё эти, не к ночи будь помянуты, «боковые» времена. Везде выполнял приказы, не задумываясь об их выполнимости, только о способе сделать положенное наилучшим способом.
И с начальством, следует отметить, Уварову везло. За исключением комбрига Гальцева, наверняка мечтавшего и в отставку отправить графа не выше чем штабс-капитаном, остальные в признании личных заслуг не отказывали, чинов не «зажимали». Лично-неприязненные отношения с генералом Чекменёвым — это совсем другое дело. Из иной оперы.
Правда, Тарханов оказался из той редкой породы командиров (в отличие от полковника Ляхова, которого Валерий, почти догнав в чине и не слишком отличаясь по возрасту, откровенно обожал), не допускавших с подчинёнными малейшего панибратства, умеющих в любых обстоятельствах выглядеть «застёгнутым на все пуговицы». Даже и в голову не приходило, что с ним можно, расслабившись, забыть о разнице в положении, сказать что-то попросту, да и выпить при случае предложить. О том, что в ответ нагрубит или накажет, или, хуже того, злобу затаит, и мысли не было. Просто — не хотелось встретиться с Сергеем Васильевичем взглядом, если хоть малейшее за собой несоответствие чувствуешь.
Бывают же такие люди! А с другой стороны — каких сантиментов и поглаживания по плечику следует ждать от человека, в одиночку, в ближнем бою, почти что голыми руками перебившего полторы сотни боевиков в Пятигорске и столько же моджахедов — вдвоём с Ляховым на сирийских перевалах?
Сам Уваров в боях уничтожил врагов едва ли меньше, но великолепно понимал — одно дело сражаться на фронте, выполняя приказ, в составе регулярной воинской части, снабжённой средствами усиления, и совсем другое — ввязаться в драку в одиночку, по собственной инициативе, не слишком рассчитывая на то, что твоё самоуправство вообще станет кому-то известно.
И всё равно — Вадим Петрович Ляхов остался весельчаком и добродушным циником, а Сергей Васильевич затвердел характером до непроницаемости. Но и это понять можно.
Полковник после одесских событий довольно долго Уварова не тревожил. Валерий относил это на счёт не то чтобы интриг, но неизбывной неприязни к нему генерала Чекменёва. Ляхов Уварову проговорился, вроде бы между делом, а скорее всего — с умыслом, будто Император велел (а не «повелел», в чём есть существенная разница) наградить его Георгием третьей степени или хотя бы Владимиром второй с мечами и бантом, но Чекменёв упёрся. Вплоть до того, что «или он, или я!». Его Величество (по словам опять же Ляхова) затевать ненужный спор с «ближним боярином» не захотел, но нашёл способ намекнуть, что своими милостями верного бойца не оставит.
И вот теперь полковник Тарханов, заняв, наконец, господствующую высоту, Уварова якобы «вспомнил». По нынешней должности он в своих кадровых предпочтениях никому отчёта давать не обязан.
Идти от штаба «печенегов» до Кремля всего ничего, но за графом была выслана машина. Кто его знает, зачем. Из уважения или каких-то других соображений? Как будто он на своей не мог доехать.
Перед тем как спуститься на улицу, Валерий подумал, не позвонить ли, на всякий случай, Ляхову? У них была личная договоренность — по ряду вопросов общаться напрямую, минуя непосредственное руководство в лице Тарханова, Стрельникова и ещё нескольких старших командиров. С одной стороны, Уварова такая схема вполне устраивала, в личном смысле, а с другой — офицерская и дворянская честь негромко, но протестовала. Как-то неправильно получалось. «И вашим, и нашим», «Ласковое теляти двух маток сосёт» и тому подобные афоризмы российской житейской мудрости несли в себе некоторый негативный оттенок. Впрочем, здесь граф начинал вдаваться в слишком уж глубокие дебри военной и общегражданской этики.
Махнул рукой на неуместные мысли. Если позволить им резвиться в голове, чёрт знает до чего можно додуматься. Станешь незаметно таким же бессовестным интриганом, как их превосходительство Чекменёв Игорь Викторович.
Принял его полковник сразу, не заставил томиться в приёмной, как некоторые начальники любят: чтобы подчинённый помаялся, припоминая все свои истинные и мнимые прегрешения и недоработки, и явился «на ковёр» в нужном состоянии духа. Впрочем, с Уваровым такие штучки никогда не проходили, слишком подполковник был уверен в собственном «полном служебном соответствии» и считал, что если в его заведывании что-то идёт не так, то прежде всего виноваты отцы-командиры, ставящие неверные задачи или не умеющие правильно оценить реальные результаты их исполнения.
Само собой очевидно, что с таким характером в мирное время служить трудно, так «люди войны» и воспринимают мир лишь как досадную паузу между боями.
Вот и сейчас Валерий надеялся, что полковник придумал для него что-нибудь интересное, а то заниматься бумажными делами было уже невмоготу. Не для того, в конце концов, разворачивали малозаметный некогда отдел «Глаголь» в усиленную бригаду. В штатном смысле, конечно, если считать каждый отряд «Печенег» за роту. А по фактическим возможностям это формирование равнялось не меньше чем армейскому корпусу, да ещё и нескольким окружным охранным управлениям в придачу. И вот эта сила пропадала втуне, инерционно занимаясь по утверждённым планам боевой и технической подготовки, лишь изредка выделяя спецгруппы для выполнения пусть и важных, но весьма частных мероприятий.
Тарханов, по летнему времени, хотя в кабинете с трёхметровой толщины стенами и глубокими нишами окон было сумрачно и прохладно, был одет в белую рубашку без погон, а форменный китель висел на плечиках за полуоткрытой дверцей шкафа. В этом кабинете Валерию всегда нравилось бывать, наверное, по ассоциации с очень похожими помещениями штаба Туркестанского ВО в Ташкенте, куда так приятно было заходить с прокалённых солнцем и продуваемых горячим, с песочком, ветром улиц.
— Заскучал? — без предисловий спросил полковник, выслушав доклад о прибытии и указав на столик в углу с только что закипевшим чайником, двумя чашками и прочим положенным прибором. — Чай, кофе?
— Чай, зелёный, если имеется.
— Для хороших людей у нас всё имеется, — с редкой у него весёлостью в голосе ответил Тарханов. — Не стесняйся, будь как дома. Мне не надо, я кофе глотну. У тебя азиатские привычки, у меня арабские. Так я не услышал — заскучал, нет?
«Всё ясно, — подумал Валерий, заваривая будто специально для него припасённый высшего разбора чай. — Что-то интересное затевается. Ну и слава богу».
— Вы ж позволите без дежурных фраз, Сергей Васильевич? — сейчас Уваров обратился к полковнику по его то ли настоящему, то ли «внутреннему» имени. Для посторонней публики и младшего комсостава он числился как «Арсений Николаевич». В смысл таких разночтений ни Валерий, ни другие «знающие» не вдавались. «Так положено», и всё на этом.
— Я от тебя другого и не жду…
— Заскучал, как сами понимаете. Ну не по мне всё это. Не поверите, сегодня с утра две папки бумажек подписал, а чем остальное время занимаюсь — и не спрашивайте. И деваться некуда, и перепоручить некому…
— А ты на мой стол посмотри.
Валерий посмотрел. Слева и справа разноцветные папки громоздились высокими, готовыми вот-вот потерять устойчивость стопками.
— Думаешь, я прямо счастлив всем этим заниматься? Но, как ты правильно заметил, «деваться некуда и перепоручить некому». Я, конечно, могу прямо вот сейчас подписать твой рапорт и перевести тебя в «вольные стрелки». Подполковника — на должность поручика. Зато от приказа до приказа сам себе голова, и так далее…
Уварову вдруг показалось, что это было бы самым лучшим выходом. Уйти «офицером для особых поручений», и всё. Правда, как Настя к такому шагу отнесётся? К свадьбе они неторопливо, но приближаются, даже обсуждали, что неплохо бы ей выйти в отставку. Миллионерше с отличной квартирой в Москве, с титулованным мужем при должности и перспективой на генеральство — что ещё нужно? Живи, дом веди, детей рожай и воспитывай. И вдруг — всё насмарку? Конечно, вышеназванное при ней останется, за исключением мужа, готового в любой момент исчезнуть на неопределённое время, без телефонного номера и почтового адреса. И не потому, что иначе никак нельзя, а исключительно ради собственного удовольствия.
Так, может, в этом всё и дело — сбежать ему хочется не от «тягот и лишений военной службы», а просто «из под венца»?
— Могу подписать, — повторил Тарханов. — Очень тебя понимаю. Сам никогда себя лучше не чувствовал, чем в Пятигорске. Одно условие — прямо, честно, как офицер офицеру, предложи на своё место человека, способного справиться с твоими обязанностями лучше тебя. Если просто — «не хуже», нечего и огород городить. Даю четыре минуты. Время пошло.
Тарханов отошёл к окну, закурил. У него папироса, если не торопиться, как раз четыре минуты и горела.
Уваров прервал паузу на третьей.
— Ваша взяла, Сергей Васильевич. Нет у меня на примете такого человека. Столько я в отряде про будущее напланировал и под себя настроил, что представил, как другой на моё место придёт, по-своему ломать начнёт — аж зубы заныли…
— Вот и слава богу! Не ошиблись мы. Ротных командиров в России хватает, с полковыми — проблемы, сам знаешь. А уж на твою нынешнюю должность — искать и искать. Не загордись только, заодно и Чекменёва пойми. Он ведь не к тебе лично плохо относится, он за дело своей жизни болеет душой, а ты в его картину мира плохо вписываешься. Прав он или не прав — обсуждать не будем. Но вот уволил бы я тебя сейчас, а на твоё место — капитана Грефенберга. Выслуга и деловые качества позволяют.
Знал Тарханов, кого назвать. Уваров поморщился, как от внезапного приступа зубной боли.
— И я о том же. А ведь конкретные претензии к Оскару Ивановичу и ты предъявить затруднишься.
Снова Валерию пришлось признать — и здесь полковник прав, не только за непревзойдённые боевые заслуги его поставили Управлением руководить. И они с Тархановым, при всех внешних различиях, — тоже люди «одной серии», если классификацией Ляхова воспользоваться. Серий таких много, между комплиментарными, как в химии, свои связи и цепочки образуются, в итоге получаются сети, благодаря которым система функционирует, невзирая на энтропию и якобы непреодолимые объективные факторы.
«Интересно бы посерьёзнее эту тему проработать, глядишь, целая диссертация получится», — подумал Валерий и тут же решил, что как раз Настя в «философских рассуждениях» ему окажется лучшей помощницей. Куда лучшей, чем в роли командира взвода своего «первого женского отряда».
— Значит, данный вопрос пока снят, — с удовлетворением сказал Тарханов. — Переходим ко второму. По удивительным законам диалектики он вытекает из предыдущего. Насовсем ты должность оставить не готов, в чём я с тобой согласился. А на ближайшую пару недель? Кого за себя оставишь, особенно в предвидении серьёзных событий?
— На пару недель? — Уваров опять взял паузу. Значит, командир всё же приготовил ему индивидуальное задание «по основной специальности». Не в санаторий, скорее всего, отправить собирается.
— А никого. Моя должность, если «предвидение» превратится в реальность, самостоятельного значения как бы и не имеет. Командиры отрядов все соответствуют, для общего руководства имеется штатный начальник отдела полковник Стрельников, зама себе под конкретную работу он в любом случае найдёт. Да и вы без внимания не оставите…
Уваров наконец приступил к чаепитию, от которого Тарханов всё время его отвлекал.
— Опять правильно. Даже неинтересно с тобой разговаривать становится. Тогда слушай сюда, как говорят в той самой Одессе… Есть для тебя очередная работенка, как водится — снова с понижением в ранге. Считай, до командира взвода. По военной линии. Зато по дипломатической никак не меньше, чем до Поверенного в делах[106] возвысишься. С главным фигурантом по делу ты знаком, и всякие межвременные штучки тебе не в новинку…
Уваров подумал, что насчёт «межвременных штучек» начальник даст ему сто очков вперёд, но после него и Ляхова он, пожалуй, самый информированный в Управлении человек. Не пойдёт ли речь об очередном рейде через боковое время? Но тогда при чём тут дипломатия и генеральский классный чин?
— С вами не сравниться, — сказал он без всякой задней мысли, просто чтобы уточнить позицию.
— Меня сейчас не касаемся, — поморщился полковник. Он не любил, когда его перебивали, даже в подобных «разговорах по душам». — У каждого своя стезя. А проницательность до более подходящего случая прибереги. Вполне может пригодиться. Сейчас сюда войдёт хорошо знакомый тебе человек. Ты его непременно узнаешь, но виду не подавай. Смотри, как он себя поведёт. Потом я изложу твоё задание, совместно обсудим, как его лучше выполнить. Держись в рамках субординации, сильно умного из себя не изображай. Если он к тебе будет обращаться — отвечай, предварительно спросив у меня разрешения. Служака ты, одним словом, честен, отважен, но недалёк…
— На всё время задания прикажете таковым выглядеть?
— Сам сориентируешься. Но чем дольше, тем лучше, в этой игре сильно умные нам не надобны. Впрочем, сейчас всё поймёшь.
Советом Ляхова — завести себе серебряный колокольчик для вызова адъютанта — Сергей так и не воспользовался, по старинке нажал кнопку селектора, коротко бросил в микрофон: «Пригласи».
Вошедшего представительного мужчину Уваров узнал с первого взгляда, хотя внешность тот изменил весьма изобретательно. Можно сказать — в противоположную сторону от той, что ему сделали «валькирии» в Одессе. Черты лица у господина Катранджи, «чистокровного османа», то есть человека, в котором по женской линии была за последние шестьсот лет намешана масса кровей, преимущественно европейских, «универсальные».
После того как он покрасил волосы в тёмно-русый цвет, отпустил аккуратную интеллигентскую бородку, вставил в глаза контактные линзы с серо-голубой радужкой да вдобавок украсил переносицу элегантными золотыми очками, нужно было иметь специальную подготовку, чтобы уловить сходство между оригиналом и этим господином. По крайней мере — встретив его на улице в толпе прохожих или даже увидев на фотографии, мало кто узнал бы некоронованного властителя по меньшей мере половины «нецивилизованного мира».
На появление преобразившегося Ибрагима Уваров не отреагировал. Подполковнику в форме, пьющему чай в кабинете своего командира, нет никаких причин замечать какого-то штатского. Пришёл — значит, нужен здесь, но не ему.
Только после того как Тарханов проводил гостя к столику, за которым сидел Валерий, и представил его: «А это, прошу любить и жаловать, мой ближайший помощник подполковник Уваров. Это, Валерий Павлович, господин Иван Романович Катанов», — он встал и вполне равнодушно пожал протянутую руку.
— Что-то у вас тут атмосфера тоскливая, господа, — без всякого намёка на какой-либо акцент приподнятым тоном заявил Катранджи, лёгким движением извлекая из портфеля тёмную бутылку с прилепленной сбоку рукописной этикеткой. — Мне тут по случаю из Эривани друзья передали, выдержанный коньяк из монастырских погребов. Думаю, стоит продегустировать.
Уваров заметил, что Ибрагим несколько раз бросил на него мгновенные взгляды искоса, но остался по-прежнему безразличен. Разве что изобразил лёгкую заинтересованность угощением и одновременно сомнение, позволит ли начальник попробовать. В служебное время.
Тарханов позволил, приказав поручику-адъютанту подать пресловутый лимончик, а также развесной, наломанный неровными кусочками шоколад.
— Ну за знакомство, — на правах угощающего предложил Катранджи, — нам ещё вместе работать и работать, — это, судя по взгляду, в адрес лично Уварова.
Выпили. Коньяк без всяких оговорок был исключительно хорош.
— Вы меня действительно не узнаёте, полковник? — поставив на стол рюмку, спросил Ибрагим.
Валерий, как и приказано, поднял глаза на Тарханова. Тот слегка кивнул.
— С господином Катановым никогда не приходилось встречаться. Хоть под присягой утверждать готов. А так… Помнится, в Мерве[107] у одного бухарского еврея выпивать пришлось. Был там один, на вас слегка похожий.
Катранджи рассмеялся от всей души, не стесняясь, по-восточному, чем слегка выбился из образа. На что ему опять же Уваров деликатно указал, в духе известного анекдота: «Вы, Добрыня Исаакович, или трусы наденьте, или крест снимите». Мол, при случае — чеховские интеллигенты не поймут вашей тональности, а бухарские евреи — наряда.
Отсмеявшись, Ибрагим обратился к Тарханову:
— Ну, Арсений Николаевич, ваши офицеры действительно великолепные люди. Мало что бойцы отличные, так и с чувством юмора тоже порядок. Разрешите уж Валерию Павловичу меня узнать…
Тарханов снова коротко кивнул. Складывалось такое впечатление, что он совершенно не в восторге от этого общения и держится тоже в рамках полученного сверху приказа.
— Вы меня, правда, сразу расшифровали или только по манерам? — спросил Катранджи у Уварова.
— Сразу, Ибрагим Рифатович, или вам удобнее — дядя Изя? В тех обстоятельствах, что мы познакомились, каждая ваша чёрточка и интонация так запомнились, что я бы вас и в гриме пожилой негритянки узнал. Но маскировка хорошая. Для обычной жизни — вполне. Однако я бы посоветовал, если под русского дальше собираетесь работать, — психологическую корректировку провести. По внешности всё нормально, но кем вы себя при этом считаете? Профессором по кафедре патологической анатомии — нужно добавить самоуважения в манерах и снисходительного цинизма в разговоре с пока ещё живыми согражданами. Купцом первой гильдии — тогда позволительна развязность в нерабочей обстановке и скрупулёзная, до отвращения, въедливость в деловых вопросах. А вообще я бы посоветовал вам лучше взять образ обрусевшего армянина или того же «дяди Изи» в облагороженном варианте. Впрочем, это не моё дело. А лично — рад повидаться. Мои сотрудницы вам благодарны — теперь все обеспечены приданым…
Катранджи выслушал Валерия с величайшим вниманием. Советы молодого, даже слишком молодого подполковника, выручившего попавшего в смертельную ловушку миллиардера, всю жизнь расставлявшего ловушки другим, он воспринимал почти так же уважительно, как в своё время наставления отца. В чём и преимущество умного человека — в нужное время гонор прячется в карман, и приказания в данный момент лучше всех знающего, что нужно делать, выполняются беспрекословно. Пусть ты — генерал, магараджа или владелец транснациональной корпорации, а он — сержант, погонщик слона или обычный бухгалтер.
— Я не ошибся, Арсений, и вы не ошиблись, по-моему. Лучшего сопровождающего, чем господин Уваров, мне не нужно. Что же касается совета Валерия Павловича — увы, не пойдёт. Чтобы изображать русского сколь угодно долго, у меня навыков хватит, всё же пять лет в Петрограде прожил, да и русские люди настолько разные и столь мало обращают внимания на собственную «русскость», что никакие случайные промахи мне не повредят. Всегда найдётся, чем оправдаться или объяснить. Зато при общении с армянином или евреем я проколюсь в момент. Слишком малые народы с обострённым стремлением к самоидентификации. Вдруг окажется, что я никогда не слышал про всем известного «шурина дедушки Вартана»? Или с кашрутом[108] ошибусь? Они, хоть верующие, хоть неверующие, а в этих вопросах подсознательно натасканы куда лучше меня. Был у меня давным-давно в Питере знакомый еврей. Выкрест, естественно, поскольку в военно-морском училище подводного плавания учился. Так я, вроде как явный мусульманин, водку салом с солёным огурцом легко закусывал, а он дичь, добытую на охоте, — не ел. Так, мол, дедушка заповедовал: «Нельзя есть животное, убитое с причинением страданий». Гуманисты… Торпедой по пассажирскому лайнеру засадить — доблесть и геройство, а утку дробью влёт — варварство и жестокость.
— Согласен с вами, — скупо улыбнулся Тарханов, сам однажды грубо проколовшийся при попытке всего несколько вечеров изображать перед русской, заметьте, девушкой еврея, причём, имея хорошо сделанный паспорт на имя Узиеля Гала[109]. — Тот факт, что вы есть, кто есть, и мы с графом тоже (титул Уварова он, по непонятной Валерию причине, счёл нужным подчеркнуть), позволяет нам самим решать, в каком качестве реализовывать свои желания и способности в этом мире.
«Во загнул господин полковник, — восхитился Уваров. — Наверняка Вадим Петрович ему какую-нибудь очередную заумь для прочтения подсунул!» Если бы эти или подобные слова прозвучали из уст Ляхова, Валерий не удивился бы, наоборот, постарался бы запомнить и развить при случае.
Тарханов замолчал, убедился, что Катранджи не собирается возражать, и, не спрашивая разрешения хозяина бутылки, сам разлил по тридцатиграммовым рюмочкам драгоценный коньяк. Он уже прочёл надпись на этикетке и представлял его «рыночную стоимость». Вернее — цену. Постоянно следивший за повышением его общеобразовательного уровня Ляхов неоднократно, моментами раздражаясь, подчёркивал разницу между этими понятиями — «цена» и «стоимость». Хотя, казалось бы, разница почти та же, что между «весом» и «массой».
— Знаете, Ибрагим-эфенди, — повертел он перед глазами рюмкой, — для того чтобы у нас всё в дальнейшем сложилось к всеобщему удовольствию и пользе, я скажу сейчас вещь, которая может вам показаться… Ну, не знаю. Неприятной, обидной, а может, и пророческой. Но таким странным узлом всё завязано…
Уваров смотрел на своего несгибаемого командира и удивлялся. Словно не прославленный в боях и на административном поприще офицер, едва переваливший тридцатилетний возрастной рубеж, сидел напротив, а… Да бог его знает кто! Чуть ли не монашествующий философ, удручённый странностями и непостижимостью окружающего мира. Какой-нибудь Адсон из Мелька в старости[110].
— Не представляю, что такого вы можете мне сказать после того, что мы с вами прошли и пережили, — спокойно ответил Катранджи, но заметным для Валерия образом поднапрягся.
— И не можете представить, — спокойно сказал Тарханов, впервые с момента прихода Уварова закуривая. — Поскольку и я этого не представляю. Но раз мы теперь союзники и партнёры — слушайте. Прямо какая-то древнегреческая трагедия в стиле «Эдипа» получается.
«Ого, полковник уже и до Древней Греции в своём культурном развитии дошёл», — с подсознательным снобизмом подумал Валерий, считавший, что Тарханов, при всех его достоинствах, человек не слишком образованный. Ставропольское горно-егерское училище в смысле боевой подготовки — очень хорошо. Но до этого — ни классической гимназии, ни пяти поколений предков с высшим образованием и генеральскими чинами, ни просто «подходящего общества».
— На вашем месте я бы тоже удивился, — ровным тоном продолжал Тарханов. — Слишком уж нарочито всё выглядит. Сначала я немножко пострелял на перевале и уничтожил ваш, — он прямо пальцем указал на Катранджи, — «Гнев Аллаха». Потом арестовал вашего изобретателя, по оперативной кличке Кулибин, то есть профессора Маштакова. На следующий день взял в плен вашего приятеля и порученца Фарид-бека, — полковник продолжал говорить, не обращая внимания на мимику и протестующие жесты Катранджи.
— Самое смешное — мы его перевербовали, и он начал работать на нас, а вот этот господин, тогда ещё поручик, к разведке отношения не имеющий, просто по-солдатски лично убил в Варшаве Фарида и ещё одного вашего агента, чем очень осложнил нашу дальнейшую работу. Затем, как вы помните, господин Уваров, уже подполковник, минимум два раза в один день спас вас от неминуемой смерти или чего-то худшего. И вот теперь мы все сидим за одним столом, выпиваем ваш коньяк и собираемся обсудить дальнейшие, теперь уже совместные планы. Как вам такие гримасы действительности?
В полной мере поражённый услышанным, Ибрагим опустил голову и прошептал:
— Вот из кисмета и будем исходить, — завершил свою речь Тарханов. — Я — специалист по Ближнему Востоку, Валерий — по Средней Азии. Свои, одним словом, люди. Недоразумений больше возникнуть не должно. Вы как-то сказали Чекменёву, что в определённых случаях предпочли бы быть русским. Вот и попробуйте, хотя бы на период намеченной операции. Вам это не так сложно, и нам не придётся всё время делать поправку на вашу «непредсказуемую турецкую душу». Договорились?
— По крайней мере, я постараюсь. Значит, Валерий Павлович опять будет обеспечивать мою безопасность? Очень хорошо. След мой потерялся довольно надёжно, на ближайшее время я буду существовать только для своих ближайших помощников, да и то в виде голоса из телефонной трубки или текстов шифрованных телеграмм. Этого достаточно, чтобы обо мне не забывали. Но дело, которое мы с вами начинаем, столь важно, что без надёжной охраны не обойтись. Это и в моих, и в ваших интересах.
Тарханов и Уваров молча кивнули. Валерий предполагал, что у полковника с Ибрагимом давно всё оговорено, оказалось — нет. Для чего-то Сергею Васильевичу (впрочем, теперь снова следует называть его Арсением Николаевичем?) потребовалась эта вводная. Только кому она адресована, ему или турку? Будем считать, что ему, а Катранджи пусть воспринимает сказанное в меру своего разумения.
— Если возможно, я попросил бы, — Ибрагим перевёл взгляд с одного офицера на другого, не зная, кому адресовать свою просьбу, — чтобы в операции прикрытия снова участвовали те же девушки, что в Одессе… Я убедился в их высочайших боевых и… артистических способностях. Да и они меня… достаточно хорошо узнали.
Прозвучало, на взгляд Уварова, несколько двусмысленно. Если подразумевать выплаченный Ибрагимом гонорар. Хочет сказать, что и на этот раз не обидит? Отчего бы и нет, если деньги девать некуда.
— Другой охраны мне не нужно. Одна из них пусть изображает мою эскорт-леди или просто секретаршу. Как использовать остальных — вам, наверное, виднее, Валерий Павлович. Я думаю, так всем будет удобно, как вы считаете?
— Не смею возражать, — ответил Тарханов. — Но последнее слово за подполковником. Вся ответственность на нём, ему и решать, какие силы привлечь к работе.
— Прежде чем решать, хотелось бы знать, в чём вообще суть операции. Где она будет проводиться, сроки, ближайшая и последующая задачи, данные о возможном противнике, — теперь Уваров снова был в своей стихии. — Исходя из этого и начнём думать о численности и составе группы.
Он ничего не имел против того, чтобы использовать своих «валькирий», но, понятное дело, не в прямых боестолкновениях с кем-то вроде кавказских боевиков из-под Берендеевки. Или с теми же некробионтами, если уж в словах Тарханова промелькнул намёк на «иные времена».
— По предварительной схеме всё выглядит достаточно просто. Намечаются крайне важные деловые переговоры. Вместе с Иваном Романовичем и оперативной группой вы прибываете в назначенное место. Там уже предупреждены и ждут. Сколько продлятся переговоры — сказать не могу. По моим предположениям — не меньше недели. А скорее всего — дольше, там придётся решать не только дипломатические, но и технические, и финансовые, и правовые вопросы. Вы — восточный человек, Иван Романович, знаете, как идут дела на восточном базаре. — Тарханов улыбнулся вполне простодушно, давая понять, что предстоящее будет почти целиком зависеть от личных способностей Катранджи.
Теперь полковник обращался непосредственно к Уварову:
— Все вопросы обеспечения вашей миссии берёт на себя «принимающая сторона». Вы, подполковник, отвечаете только за «целость и сохранность» господина Катанова. Никакие другие вопросы вас не касаются. Соответственно, в период операции ничьим распоряжениям в своей сфере ответственности вы не подчиняетесь. Иван Романович может вам высказывать только пожелания. То же касается и должностных лиц, с которыми вам придётся взаимодействовать. Но с ними, я отчего-то уверен, у вас конфликтных ситуаций не возникнет.
При этих словах Тарханов хитровато улыбнулся. Значит, заготовил какой-то сюрприз.
— По завершении переговоров возвращаетесь домой. Вот этот момент определит сам Иван Романович. Как скажет — так и будет. Транспортный вопрос — тоже не ваша забота. Ваше задание будет считаться оконченным после того, как сопроводите господина Катанова в этот кабинет и доложите об исполнении. Вопросы есть?
— Так точно. Вы не сообщили время начала «мероприятия», место проведения и способ транспортировки охраняемого лица и личного состава. Без этого я не могу приступить к подготовке, произвести расчёт сил и средств, даже определить численность и специализацию потребных мне бойцов, — как и велено было Тархановым, Уваров произнёс это стоя, твёрдым тоном, глядя на начальника «открыто, смело, но без дерзости», как предписано уставом.
— Начало — послезавтра утром. Сбор группы в моей приёмной в восемь ноль-ноль. Все остальные указания — в письменном приказе, получите у адъютанта. За дополнительными разъяснениями, если потребуется, разрешаю обращаться в любое время. Выполняйте.
После этих слов говорить было больше не о чем. Подполковник щёлкнул каблуками, кивнул Ибрагиму, повернулся «кругом», вышел из кабинета почти строевым шагом.
— Жестковато вы с ним, — сказал Катранджи, когда высокая дверь закрылась за Уваровым. — Начиналось всё вполне по-дружески. Я думал, мы вместе детали разберём, согласуем, что нужно…
— Мне виднее, как с кем разговаривать. А для дружеского общения с подполковником и его подчинёнными у вас будет достаточно времени, я надеюсь. Сегодня у Уварова такого времени нет, и завтра не будет: подполковнику с группой предстоит реальная боевая операция, а не пикник у тёплого моря. Для успеха дела требуется абсолютная секретность. Даже руководитель (а уж тем более — рядовые бойцы) не должен знать ничего, кроме того, что абсолютно необходимо в текущий момент. Вы знаете, — доверительно положил ладонь на колено Ибрагиму Тарханов, — даже в Москве я не могу дать стопроцентных гарантий, что с Валерием за предстоящие двое суток ничего не случится. Если только я не запру его вот в этот сейф. — Он показал на приоткрытую стальную дверь почти метровой толщины в дальнем углу кабинета. Это действительно был сейф размером с приличную комнату, устроенный здесь ещё в середине позапрошлого века, о чём сообщала фирменная эмблема завода на внутренней стороне двери. Раньше, наверное, здесь хранились особо ценные экспонаты «Алмазного фонда», а сейчас — личная картотека начальника ГРУ.
— Да уж, — Катранджи зябко передёрнул плечами. — Врагов вокруг больше, чем людей. В своё окружение я подбирал сотрудников лично и поштучно. Они ведь знали, что их ждёт за измену… — Ибрагим нервно хрустнул пальцами. — Утешает только одно — действительность оказалась ярче самых жутких ожиданий предателей. Видеозаписи экзекуции я распорядился направить во все подразделения моих служб безопасности и ознакомить руководителей под роспись.
— Я предпочитаю принимать жёсткие меры «до», а не «после», — ответил Тарханов, вновь закуривая. — Излишняя секретность тоже, бывает, вредит. Если бы наш Уваров был в своё время поставлен в известность кое о каких фактах и Фарид со Станиславом были бы живы, история, думаю, несколько изменила своё русло. Но мы умеем делать выводы из своих ошибок.
— Тут вы совершенно правы. Не перестаю завидовать вашей организованности и чёткости в подобных делах. Нам на востоке это никогда не удавалось, да и не удастся, наверное. Генетика, менталитет, тяжкое наследие кочевого прошлого. У нас всё на эмоциях, а земледельцу, живущему в окружении одних и тех же соседей сотни лет, нельзя быть несдержанным…
— Ну, мы, русские, тоже в определённом смысле кочевники, — поддержал затронутую тему Тарханов, ему стало интересно, к чему турок ведёт. — Иначе за двести лет не дошли бы от Подмосковья до Тихого океана.
— Вот-вот, в этом всё и дело. Я как-то упоминал, что одно время был ярым германофилом. Потом это прошло. Надоел их всепроникающий «орднунг». Никакой психологической гибкости. А вы научились и с ними, и с нами вести себя так, что легко обманете и тех и других, а мы всё будем думать, где очередной раз просчитались.
— У каждого свои недостатки, — вспомнил Сергей недавно увиденный в видеозаписи старый американский фильм. — Но давайте вернёмся к нашим баранам. Их ещё осталось достаточно…
Вернувшись к себе, Уваров распечатал пакет с приказом. В нём не содержалось ничего принципиально нового, следовательно, то, что действительно необходимо, будет сообщено в нужное время в устной форме. А бумага — просто чтобы подшить в соответствующую папку и приступить к организационным мероприятиям. Количественный состав группы командиру предлагалось определить по собственному усмотрению и утвердить приказом начальника отдела полковника Стрельникова. Личный состав на период участия в операции считать выполняющим боевое задание с соответствующим исчислением денежного довольствия и сроков выслуги. Немаловажный пункт, понятный любому военному человеку. Вооружение, снаряжение и спецсредства — без ограничений, тоже по усмотрению командира группы. А вот это уже интереснее — «предполагаемый район действий — за пределами территории России». Но где именно — не указано. Так как же готовиться и к чему? Одно дело — Гренландия или Фарерские острова, другое — Центральная Африка или Сахара.
Да, похоже, одесские события настолько вывели из себя руководство, что оно решило перестраховываться по полной программе. Оно, пожалуй, и правильно. Если никто ничего не знает, ничего и не скажет, случайно или под пыткой. Центральный субъект акции — тот же самый, но прошлый раз противнику было известно всё — место встречи, дислокация и численность охраны, совершенно секретные инструкции, поступившие в одесское жандармское управление из Москвы. Если бы не «домашняя заготовка» по использованию «валькирий», в живых бы не остались ни Ибрагим, ни Чекменёв, ни сам Уваров, скорее всего.
Значит, пока будем заниматься вещами безусловными, не зависящими ни от каких «привходящих обстоятельств».
С оружием и экипировкой ясно. На него возлагается только непосредственная охрана клиента. Остальное — дело «принимающей стороны». В словах Тарханова прозвучал интересный намёк. Даже легкая улыбка на губах мелькнула. Сюрприз приготовил полковник, причём явно приятный. Хорошо, постараемся сообразить. Насчёт нарядов и прочего Уваров решил полностью положиться на девушек. Им работать, им и наряды себе подбирать. Как всегда, по паре пистолетов скрытого ношения, переговорники. На этот раз он добьется, чтобы их выдали всем, невзирая на инструкцию. Опять же сославшись на одесский опыт. Автоматы, по три боекомплекта патронов и гранат, приборы ночного видения, штатные сухпайки и спецназовские аптечки — в багаж. Кто там его знает, может быть, и придётся не эскорт-леди изображать, а повоевать всерьёз. «Непредвиденные обстоятельства» имеют мерзкое свойство случаться в самые неподходящие моменты.
Нет, ну действительно, не за Периметром же, не в Магрибе или дельте Амазонки «переговоры» затеваются. Иначе совсем бы другой разговор был, а то «возьми своих девушек, сколько считаешь нужным». Будто прямо в Берендеевке банкет-фуршет намечается, и все тархановские разговоры — исключительно чтобы Ибрагима ублажить. Или — голову ему заморочить. Может, отсюда и слова: «с вооружёнными силами принимающей стороны у вас конфликтов не возникнет». Что же это за «силы» такие, кроме императорской Гвардии? Где у нас союзники имеются, на которых полностью положиться можно? Американцы, что ли, или датчане в духе нового «договора о дружбе и сотрудничестве»? Чушь полная.
Валерий решил не ломать голову, а прямо сейчас позвонить Ляхову. Пусть объяснит, если что знает, или — вместе подумаем. За пределы субординации он этим звонком не выходит, пожалуй.
Телефон, по которому Уваров разыскал Вадима Петровича, теоретически от любой прослушки был защищён, но Валерий уже привык не доверять никаким техническим ухищрениям, зная, что «на каждый газ есть противогаз», причём верна и обратная теорема. Ляхов давно предупредил, что абсолютно безопасна лишь квартира в Столешниковом переулке. Там они и встретились в обеденный перерыв.
Выслушав младшего товарища, Ляхов совсем не удивился.
— Пуганая корова, то есть ворона, куста боится. Опять же, обжёгшись на молоке, дует водку. Народные мудрости, сам понимаешь, на все времена пригодны. И ты правильно догадался — всё, что Сергей говорил, исключительно для Катранджи предназначалось. Веры ведь ему от силы — пятьдесят на пятьдесят. Может быть, окончательно на нашу сторону перешёл, а может — совсем наоборот. Что мы ему жизнь спасли — совершенно ничего не значит. Поэтому расслабляться не стоит. И место встречи ему никто открывать не собирается, пока там не окажется. На тебя, естественно, «особый режим секретности» не распространяется. Если бы ты не позвонил, я тебя через пару часов сам вызвал.
— Почему вы, а не сам Сергей Васильевич?
— Это у нас с ним «разделение труда». В эту «епархию» он влезать избегает. В Югороссию вы поедете, вот и все дела.
— Как? В ту самую?
— А ты ещё какую-нибудь знаешь? Естественно, в ту. В гости к своим старым боевым друзьям. С которыми и повоевали славно, и посидели-побратались от души. Ответный визит, так сказать.
— А я думал, думал, что же полковник в виду имел, — улыбнулся Уваров. Теперь задание казалось чистой формальностью. Уж в девятьсот двадцать пятом году под защитой корниловских и марковских полков опасаться нечего.
Однако Ляхов тут же поумерил его оптимизм:
— Не расслабляйся. Прикроют вас, конечно, надёжно, однако… Имей в виду, как раз там узел всех событий и тайн минувшего и нынешнего веков. Средоточие «химер», и нашей, и более отдалённой. Я тебе дам кое-какие документы почитать, чтобы знал, с чем дело иметь придётся. И если где-то и есть источник естественной, если можно так выразиться, агрессии мироздания против попыток изменения его исконного (если оно вообще существует) состояния, так он — там. И агрессия рукотворная тоже оттуда исходит. Тебе ещё многое предстоит узнать, если нам предстоит вместе работать. Я вот за два года далеко ещё не во всём разобрался…
— Так как же вы согласились сотрудничать с организацией в делах, которые вам до сих пор неясны? — Уваров спросил без осуждения, просто стремясь понять мотивы уважаемого им командира (хотя бы за то, как он помог разобраться в сердечных проблемах с Настей, следовало быть благодарным Вадиму Петровичу по гроб жизни и пригласить его на свадьбу посажёным отцом[111]).
— Боюсь, что я повторяюсь, но приходится снова цитировать слова генерала Корнилова перед на девяносто процентов безнадёжным штурмом Екатеринодара: «Другого выхода нет!» Наш друг Катранджи — человек с великолепной интуицией, и не только из «любви к прекрасному» попросил, чтобы его охраняли именно наши девушки. А откуда они взялись, ты ведь знаешь?
Уваров кивнул.
— Следовательно, твоя жизнь и твоё семейное счастье в какой-то мере являются производными от моего согласия сотрудничать с друзьями из параллельных миров? А уж по поводу предыдущего, я Берендеевку подразумеваю, долго бы ты, вместе с Государем и остатками своей роты, прожил без помощи полковника Басманова?
О чём спорить? Не появись эти суровые и одновременно крайне раскованные за дружеским столом офицеры, Уваров безусловно не дожил бы до встречи с Анастасией.
Поэтому решил прекратить разговор, в котором у него шансов изложить и тем более доказать хоть сколько-нибудь позитивную идею не имелось.
— Я вас вот о чём прошу, Вадим Петрович — скажите хотя бы, как там себя вести, ведь почти столетие назад. Много мы там наработаем, ничего не понимая?
— Этим не озабочивайся. Люди те же самые. Да тебе с обычным населением общаться и не придётся. Встреча Катранджи с представителями назначена на острове Мармор в Мраморном море, на хорошо защищённой базе. Опасности извне почти не существует. Как одеться — я покажу и обеспечу…
Ляхов снял трубку старинного телефона, стоявшего на письменном столе. Подобный аппарат можно увидеть только в коллекции Политехнического музея.
— Анастасия Георгиевна, у вас есть возможность, освободившись от служебных обязанностей, прямо сейчас подъехать по известному адресу?
Валерий, через сильную мембрану, тем более что Вадим Петрович держал трубку немного на отлёте от уха, отчётливо услышал ответные слова поручика Вельяминовой, произведённой досрочно в следующий чин за боевые заслуги Высочайшим рескриптом по представлению генерала Чекменёва:
— Если это ваш приказ, господин полковник, сославшись на него, я немедленно прибуду.
— Молодец поручик, — сказал Ляхов, кладя трубку. — Сколько я сил потратил, начиная с первых дней службы, чтобы внушить личному составу простейшую мысль — по приказу военнослужащие «прибывают». А «являются» только святые иконы и зелёные черти при белой горячке, она же — «делириум тременс». Твоя любимая — запомнила с первого раза.
То, что Ляхов опять отдал приказ его подчинённой и невесте поверх него, Уварова совсем не задело. Тут не до подобных тонкостей.
Пока Анастасия не прибыла, Вадим успел сообщить Уварову много интересных вещей о стране их командировки. Да заодно и предупредил, что существует реальная опасность растерять там половину своего отделения.
— Я ведь не шучу, — сказал Ляхов. — Девушки получили некоторый опыт общения с офицерами того мира сначала у себя на Таорэре, когда корниловцы помогли им отбить нападение на их лагерь жутких инсектоидов, а потом на пароходе «Валгалла» состоялся танцевальный вечер с офицерами крейсера «Изумруд»… Мне, признаюсь, вполне понятно будет, если кое-кому понравятся тамошние полковники и штабс-капитаны… Не всем же графы Уваровы и Ляховы-Фёсты достаются.
В голосе полковника прозвучала неприкрытая, странная в его положении грусть. Уваров ещё молод был, чтобы сообразить — тоска о несбывшемся посещает почти любого наделённого воображением человека, независимо от фактически достигнутых успехов.
А тут и дверной звонок прозвенел, возникла на пороге обожаемая поручик, в караульной форме, вся в ремнях, узкой юбке по колено, саморучно (без помощи денщиков, по чину не положенных) надраенных сапогах. Не зря Настя разбогатела: любой знающий человек сразу бы определил, у какого мастера эти строевые сапожки шились и какова их цена.
Вот характерная деталь — не на косметику парижскую девушка деньги потратила, а на предмет обмундирования, из артикула не выбивающийся, но показывающий, что их владелица к службе относится как к основной части своей жизни. Многие, разумеется, не поймут такого посыла, но если человек решил посвятить себя делу, где смерть в бою или «от неизбежной случайности» — естественная, ежедневная, никого не пугающая составляющая реального быта, то появляются в душе совсем иные приоритеты.
Кое-кто из глубоко штатских людей думает — все эти забавы взрослых, битых-перебитых мужиков, с наборными мундштуками и портсигарами из деталей уничтоженной вражеской техники, с зажигалками из отстрелянных «куда надо» патронов, медальонами из не сумевших убить тебя осколков, всякие смешные обычаи и суеверия — признаки их заведомой ненормальности.
А это просто другой мир. Других психологий, других понятий о смысле войны и мира, жизни и смерти, любви и ненависти. И ещё многого. Сосед и друг по гражданке идёт на работу в нечищеных туфлях и мятых брюках. «Да пошло оно всё!» Солдат или офицер, которого сегодня же могут убить, и нет никакой гарантии, что он вернётся в казарму, в квартиру, где ждут жена и дети, — надраивает сапоги, смотрит на стрелку брюк и проверяет — совпадает ли кокарда с линией переносицы. Это, пожалуй, люди не только другой психологии, но и иной генетики.
Настя приехала очень быстро, наверняка взяла разгонную машину, сославшись на срочный приказ.
Она сначала увидела Ляхова, которому и доложила о прибытии, и только потом — Уварова. Совсем почти незаметный намёк на улыбку, и снова — воплощение службиста, готового получить и тут же приступить к исполнению очередного приказа.
Но как же она была хороша, одновременно подумали и Ляхов, и Уваров, пусть и с разным настроением.
— Присаживайтесь, Анастасия Георгиевна, — предложил Вадим. — Снаряжение, оружие и даже сапоги можете снять. У нас будет достаточно приватный разговор, — и, в подтверждение, расстегнул свой китель, повесил его на спинку ближайшего стула так, чтобы не были видны погоны. — Вы тоже, Валерий Павлович…
Предложение ещё раз поработать телохранительницей у Катранджи Анастасия приняла со всем удовольствием. Это куда лучше, чем повседневная строевая лямка. Вельяминова с подругами, поступая на службу, представляли будущее в более романтическом ключе.
— Вы теперь командир взвода, — сказал Ляхов, — как считаете, вашей семёрки достаточно, или нужно усилить? Мнение подполковника я пока не спрашиваю.
Настя дёрнула бровью. Неизвестно, для кого из внимательно наблюдавших за ней штаб-офицеров.
— В рамках вами сказанного — вполне достаточно, — рассудительно ответила она. — Если же возникнет нештатная ситуация, что отделение, что два — невелика разница.
— Это — правильно, — согласился Ляхов. — Осталось только о распределении обязанностей поговорить. Ваши предложения.
Контейнеры с оружием, боеприпасами и прочим снаряжением были сложены в указанном Ляховым помещении неподалёку от приёмной Тарханова. Вадим Петрович лично прибыл проводить группу, и это девушкам польстило, сочтено было за хорошее предзнаменование.
«Валькирии» в достаточно забавных, на их взгляд, костюмах и платьях первой четверти прошлого века, причём чужого, собрались в просторной комнате, скупо обставленной казённой мебелью. Кроме стола адъютанта с несколькими телефонами и стопками всевозможных «дел» и прочих папок и бюваров, только жёсткие деревянные диваны для ожидающих, вешалки для плащей и шинелей в углу, аппарат для изготовления и выдачи газированной воды, несколько пепельниц. Вполне по-спартански. Ну и, конечно, карта Империи и сопредельных территорий во всю стену.
Они до сих пор точно не знали, куда направляются, Вельяминова только сообщила — «в тёплые края», чтобы наряды можно было по климату и по моде подбирать. Они и подобрали, исходя из среднесуточной температуры в двадцать градусов. Будет больше — так раздеваться не одеваться, резерв почти всегда найдётся.
Сейчас толпились возле карты, поскольку другого центра притяжения поблизости не было, не в окна же, выходящие на сплошную стену голубых елей, смотреть. Перебрасывались короткими словами, чтобы не создавать галдежа и неположенного шума, загадывали, где конкретно могут оказаться, и обсуждали, куда попасть было бы здорово, а куда — упаси бог!
Адъютант, в свою очередь, сидя в своём углу в ожидании приказа «Пригласи», рассматривал нежданно-негаданно попавший в его заведование «цветник». О существовании женских отрядов в составе Управления он, естественно, знал всё, что и его начальник, если не больше. Но вот так, вплотную, видел всего второй раз. Да не в казарме на построении, где особо и не разберёшь среди замерших по команде «Смирно! Равнение на-средину!» кто есть кто, а на расстоянии вытянутой руки, в штатском, со всеми исходящими от них небоевыми запахами. Впрочем, боевыми тоже — ружейной смазкой чуть-чуть потягивает. Значит, все при оружии, только что вычищенном.
«Хороши чертовки, — думал поручик, сохраняя безмятежно-безразличное выражение лица. — Без сопротивления отдался бы каждой». Это у них с корпуса ещё повелось такое выражение, как знак высшего восхищения: «Девушка, я бы вам отдался!»
Наконец приказ поступил, адъютант встал и распахнул дверь.
— Прошу, мадамы и мадемуазели, приглашают! — Раз они не в форме, отчего не пошутить. Пропуская мимо себя каждую, быстро, но тщательно обшаривал взглядом. Посмотреть есть на что, а пистолетов не видно, хотя у всех имеются. Ошибиться он не мог, с десяти лет запахи ружкомнаты ежедневно обонял. Жаль, не поступило команды: «Перед входом в кабинет оружие сдать!» Вот бы он позабавился!
В кабинете Тарханова «валькирии» тоже мгновенно опознали своего «подзащитного». И тоже виду не подали. Построились на свободном пространстве узорного паркета между входной дверью и письменным столом. Спокойно выслушали всё, что начальник Управления счёл нужным им сказать. Ляхов и Уваров держались на шаг позади, Вадим Петрович уголками губ улыбался всем сразу и каждой в отдельности. Те девушки, что участвовали вместе с Фёстом в бою на генеральской даче, в очередной раз отметили, что «их» полковник, он же для них «старший», хотя и слышали, что «тот» неоднократно называл этого «Секондом», всё ж посимпатичнее будет, добрее и проще. Одна Вяземская думала противоположным образом.
Уваров же вообще рассматривал рисунки плиток на изразцовой печке в углу.
Когда Тарханов завершил свою речь, среднюю между боевым приказом и советом доброго дядюшки легкомысленным племянницам вести себя на морских курортах внимательно, сдержанно и благоразумно, чтоб вернулись домой с массой приятных впечатлений и в добром здравии, слова попросил Катранджи.
Он тоже заверил своих надёжных и верных подруг в совершеннейшем уважении, безмерной благодарности и братской любви. Выразил надежду, что на этот раз девушкам не придётся применять на практике свои изумительные способности и далее в этом же роде.
Уваров поморщился.
Упёрся, чтобы именно русского человека играть, так и играй, нечего тут Гафиза пополам с Саади и Рудаки изображать. Видели мы таких и в Самарканде, и в Термезе. Вечером за столом сладкие песни поют, по ночам глотки режут…
— Только одно мне непонятно, — подошёл к финишу турок. — Всех своих спасительниц вижу, только милую Кристину не вижу. Она не в отпуске? Или, упаси бог, в отставку подала? — Лицо Ивана Романовича выразило неподдельное горе.
Дело в том, что в Одессе Кристина Волынская работала в гриме, изображая красавицу семитского типа, произвела на Катранджи незабываемое впечатление, и не только внешностью. В самый критический момент он пообещал ей за свою голову десять миллионов, а она со смешком ответила: «Вот и хорошо. Тогда и брошу эту поганую работу!» Своё обещание Ибрагим сдержал, так, может, и она своё? Это его настоящим образом расстроило.
Он, сам удивляясь своей сентиментальности (или это что-то другое?), часто вспоминал эту восхитительную девушку, не раз задумывался, каким образом переманить её к себе на службу. Отнюдь не наложницей, он бы её своим начальником личной охраны сделал, и когда представился момент, попросил Тарх… (то есть, конечно, Неверова, если ему так больше нравится. Настоящую фамилию полковника он знал почти с самого начала[112]) назначить ему в сопровождение именно этих девушек. Жаль только, что имя не назвал той, что ему прежде всего и нужна.
Конечно, и правофланговая Анастасия, руководившая тогда девушками в «Потёмкине», произвела на него впечатление, едва ли не большее, чем Кристина, но потом… Это ж так почти всегда бывает, из многих и многих девушек и женщин вдруг выбираешь одну, непонятно даже по каким критериям. И та хороша, и эта, но искорка проскочила — всё на этом…
Длинная пауза. Обмен взглядами, многократно перечеркнувшими комнату, как лучи лазерных целеуказателей.
Девчата молчали и даже не улыбались, как и велено.
Тарханов кивнул, и Кристина вышла вперед на три шага, приставила ногу:
— Разрешите доложить, дядя Изя, подпоручик Кристина Волынская к вашим услугам, — и на секунду изобразила лицом нечто такое, что, несмотря на теперешнюю славянскую, слегка даже, соответственно фамилии, со шляхетским оттенком внешность, Катранджи её мгновенно узнал. И снова расхохотался, буквально до слёз. Забыв про недавние слова Уварова.
Глава одиннадцатая
Теперь, когда обратной дороги не было и никто не мог разгласить «военную тайну», Ляхов предложил всем, по обычаю, присесть на дорожку и провёл окончательный инструктаж. Вкратце рассказал о том, что собой представляет «реальность 25», как она возникла, какие люди её населяют, обрисовал внутреннее и международное положение Югороссии.
— Впрочем, сообщаю вам это в целях чисто познавательных, — не стал особенно распространяться Вадим. — Агентурной разведкой вы там заниматься не будете, а со всем, что для работы требуется, вас на месте познакомят. Жаль только, что вы с некоторыми тамошними людьми не успели встретиться. Разминулись немного… — Он имел в виду роту рейнджеров капитана Ненадо, славно повоевавшую вместе с девушками Дайяны на перевалах Таорэры. «Валькирии» «погибли» раньше, чем белые офицеры переправились из Южной Африки в аггрианский тренировочный лагерь.
— Скорее всего, ваша командировка пройдёт гладко, и вы вернётесь, обогащённые новыми впечатлениями и опытом. — Ляхов говорил стандартные слова, как тысячи командиров до него, отправлявших бойцов на задание. Просто потому, что так положено: напутствовать людей перед «делом». — Ну а в случае каких-нибудь неожиданностей — действуйте, как учили.
Он вспомнил их с Тархановым полугодовую «прогулку» через «боковое время».
— Главное — задать себе твёрдую установку на возвращение, имеющую силу убедительной мыслеформы, и все вернётесь, рано или поздно…
Тарханов и Уваров поняли, что полковник подразумевает, а Катранджи — нет. И слегка занервничал. Резковатым оказался переход от безмятежного оптимизма к суровой прозе жизни. Он имел некоторое представление о тайнах и парадоксах времени, сам наблюдал первую демонстрацию Маштаковым переходов в иное измерение на Мальте, но сейчас предстояло несколько другое.
Ляхов и сам уловил, что любовь к разглагольствованиям начинает заносить не туда, а в его функции чтение лекций сейчас не входило. Уваров и без него сумеет сориентироваться и мобилизовать подчинённых.
— Итак, считаем, в курс дела я вас ввёл, — сменил Вадим тон. — Желаю попутного ветра и семь футов под килём. Вопросы, претензии, предложения есть?
Вопросов не было.
— Тогда прошу за мной, на посадку.
Ляхов вышел в коридор, за ним Катранджи, Уваров, девушки. Тарханов на короткое время задержался, чтобы отдать какие-то распоряжения адъютанту.
Группа вернулась в комнату, где было сложено снаряжение. Теперь осталось немного подождать, когда Воронцов с «Валгаллы» откроет канал перехода. Привычное дело.
Девушки были безмятежны, каждая закинула за спину походный ранец, стала возле своего тяжеленного контейнера с оружием и снаряжением. Чтобы, если вдруг что-то не так пойдёт, быть готовыми к бою. И ещё Валерий заметил, что они перед тем, как дверь закрылась, особым каким-то образом переглянулись.
Уварову было легче и проще всех. Анастасия была при нём, на глазах, независимо от того, что может случиться, ситуация, как говорится, под контролем.
Гораздо хуже, пожалуй, ощущала себя Людмила. Только что видела Вадима Петровича, двойника, аналога, «брата» своего «Фёста», слышала голос и многие знакомые обороты речи — но это был одновременно совсем другой, хотя и близкий по «Валгалле» и другим жизненным ситуациям человек. Совсем другой. Пусть она простилась с «Фёстом» всего два часа назад, получив от него кое-какие личные установки и очередную порцию крайне сдержанных, но таких нужных ласк, ей его снова не хватало. «Вот что значит настоящая любовь, — подумала она, — ничего общего с „так называемой“. Какая тут постель, при чём постель? Сжал в руке мои пальцы, погладил сначала по плечу, а потом и по щеке, улыбнулся по-своему — о чём ещё мечтать бедной девушке?»
Ляхов машинально посмотрел на часы. До включения СПВ остаётся пять минут плюс-минус две. Вполне нормальная поправка, если учитывать, где сейчас пароход и где они.
Дверь открылась рывком. Вошёл Тарханов. Видно, что спешил, боялся не успеть к переходу.
— Отставить, — сказал он чуть напряжённым тоном, обращаясь к Вадиму. — На десять минут перенести отправление можешь?
— Да хоть на час, — безмятежно ответил тот. — Что-нибудь случилось?
— По сути — ничего. Просто возник один нюанс, — полковник, как показалось девушкам, слишком пристальным взглядом осмотрел их строй. Все невольно подтянулись.
— Как считаете, Валерий Павлович, — повернулся он к Уварову, — пяти человек вместо семи вам хватит для выполнения задачи?
Граф прикусил губу. Пять, семь — невелика разница. В свете последних данных там, куда они отправляются, ему хватило бы одной Анастасии. Рота корниловцев с опытом действий в современной Москве и на Валгалле вполне заменит его героическое отделение целиком. Но суть ведь не в этом. «Снаружи» (так он внезапно подумал о своей реальности) явно что-то случилось, и Тарханову нужны именно его девчонки. Две, всего лишь, но именно они. Иначе взял бы любых других. В трёх отрядах больше сотни девушек, ничуть не хуже подготовленных.
— Так точно, хватит. Но я просил бы пояснить…
— Поясню, не спеши зря глазами сверкать. Только что ко мне обратился с настоятельной просьбой всем известный полковник «Фёст». Для выполнения не менее важного задания он просит немедленно откомандировать в его распоряжение…
Тарханов выдержал паузу, или так показалось со стороны, а он просто перевёл дыхание. Но этой секунды хватило на многое. То, что вздрогнула Людмила, — понятно. Они виделись с «другим Ляховым» совсем только что, и он не говорил ни о каком деле, где может потребоваться её помощь. Но отчего-то ей так не хотелось уходить, пусть и в загадочную, манящую Югороссию, оставляя его здесь. Неужели ей удалось впервые сформировать ту самую «мыслеформу», о которой говорил Ляхов-Секонд?
И тут же уколом в сердце — другая мысль. Что, если сейчас Тарханов вызовет, но не её? Может ведь быть и такое. Они все офицеры, присягу давали. Клялись «стойко переносить все тяготы и лишения службы». Допустим, новое задание посложнее и поопаснее того ночного налёта на генеральскую дачу? Тогда Фёст её с собой не взял, оставил «расположение» охранять, вместе с Секондом, кстати. И объяснил потом, что не её от опасности прятал, а исходил из личных и боевых свойств и качеств каждого бойца. Что и подтвердилось через два часа всего лишь, когда уже ей пришлось разыгрывать эротическую сцену перед милицией и МГБ. Тут бы уже Вельяминова не справилась. Точно. Не то амплуа, как в театре говорят.
— Подпоручика Вяземскую.
С огромным трудом Людмила сохранила безразличное выражение лица, делая шаг вперёд. Её — значит, её. Да и остальные девушки отреагировали спокойно. Большинство, пожалуй, обрадовались, что предстоящее приключение их не обошло по непредсказуемой воле начальства.
— Подпоручика Витгефт.
На лице Герты мелькнула досада. Старая Россия, прошлый век, красавцы белые офицеры — всё мимо! Но удивиться она не удивилась. Если опять предстоит что-то отчаянное, «по самому по краешку», на кого же Фёсту рассчитывать? Она уже один раз, проявив непредусмотренную инициативу, нарушив прямой приказ, спасла «близнеца» от почти неминуемой (ну, пусть — весьма вероятной) гибели. А с Людкой они хорошо сработаются — нежная блондинка с наивно готовыми восхищаться всем на свете глазами и остзейская холодноватая красавица, умеющая вести себя как дворовая хулиганка.
— Вопросы, возражения есть? — традиционно спросил Тарханов.
— Возражений нет, а вопросов слишком много, — дерзковато ответила Витгефт.
— Главное — возражений нет, а то я уж забеспокоился — а вдруг будут? Слава богу, пронесло, — усмехнулся полковник. — Взять снаряжение — и за мной. А вы продолжайте, — кивнул он Ляхову. — Всем счастливого пути и скорой встречи.
Дальше ничего особенного, по стократно обкатанному, как Николаевская железная дорога, каналу «из точки А в точку Б» — знакомая рамка, свет южного солнца, ударивший в глаза в полумраке кремлёвского каземата, и синева моря до самого горизонта за зубчатым каменным парапетом.
В определённом заранее порядке — сначала Уваров, за ним Анастасия и Мария Варламова, Катранджи с Кристиной в полушаге впереди, следом Инга и Марина перешагнули на столетие назад. Руки у всех на виду, улыбки на лицах, но стрелять готовы начать быстрее, чем опомнится враг, даже если он их и ждёт.
Никакого врага на плоской площадке, вымощенной пресловутым мрамором, давшим название и морю, и острову, они, естественно, не увидели. Единственный человек их встречал, при виде которого Уваров ощутил и радость, и успокоение, и глубоко укоренившееся чувство почтения, уважения, где-то и зависти.
Полковник Михаил Фёдорович Басманов, всего лишь тридцатитрёхлетний, не намного старший возрастом и званием, чем сам Уваров, офицер. Однако, глядя в его глаза, можно было дать и пятьдесят, и больше. Валерий вплотную общался с ним часов шесть-семь, из них час — на поле боя, остальное — в царском тереме.
Очень правильно рассудили Ляхов с Воронцовым, решив направить для встречи гостей именно его, и только его одного. Уваров окончательно успокоится за судьбу своей миссии, Катранджи непременно сообразит, что если начальник его охраны столь явно обрадован, увидев встречающего, причём одного-единственного, без конвоя и даже парадного караула, тоже приспустит пружину своей настороженности, если в стилистике восточных сказок оставаться. Ну и «валькирии» обрадуются, увидев в качестве представителя очередного, нового для них мира — почти что идеального (опять же в понятиях этого мира) человека.
Известно, что пятеро девушек не успели поучаствовать в боях с дуггурами на Таорэре и не делили жизнь, смерть и патроны с югоросскими офицерами, не сидели с ними у костров на опушке леса после выигранного сражения, они погибли раньше. Но и им этот, первый из увиденных, сразу понравился. Высокий, подтянутый, в белом кителе с золотыми погонами, невзирая на субтропическую погоду — в сапогах при шпорах. Лицо загорелое, мужественное, при этом открытое и благожелательное. Радушное.
Поднёс ладонь к козырьку фуражки, представился всем сразу, с особым чувством сжал руку Уварова — товарищи по оружию, как-никак.
— С прибытием, друзья. Поздравляю подполковником, граф. Прошу чувствовать себя более чем дома — в гостях. Помещения приготовлены, я лично разведу всех по комнатам, а через час — если этого достаточно, у нас по расписанию обед.
— Да нам и пятнадцати минут хватит, — ответил Уваров, не подумав, что за свой контингент отвечать не стоит. Может, им, по каким-то собственным причинам, и часа не хватит. — Багаж разложить — и всё. Мы же не верхами тридцать вёрст проскакали.
— Как вам будет угодно. Но обед всё равно через час. Когда пушка вон на том бастионе выстрелит…
Прибывшие наконец начали осматриваться. Место было на самом деле красивое и с точки зрения безопасности — вполне подходящее. Стены крепости, или форта, пятнадцатиметровой высоты, опускались прямо в волны прибоя, пенящиеся вокруг зубьев прибрежных рифов. На юге, примерно в полукилометре, видна небольшая бухточка с двумя пирсами и сторожевыми вышками, обнесёнными солидной оградой из колючей проволоки «в три кола». Ведущая к воротам форта бетонка на всём протяжении простреливается с любой точки.
Вельяминова, представленная Басманову как командир «взвода обеспечения» (неполного отделения на самом деле), закончила обход периметра площадки и, слегка робея — больше ста двадцати лет человеку всё-таки — озвучила свое заключение:
— Возможности нападения извне я при всём старании не вижу, — на самом деле, кроме фортификации, на внешнем рейде слегка дымил двумя трубами из трёх броненосный крейсер под Андреевским флагом, и более мелкие военные корабли виднелись поблизости.
Европейский берег Мраморного моря едва-едва различался на горизонте.
— Но о вариантах нападения изнутри я пока ничего не знаю. Если позволите, в лишние сорок минут я проверю. Моим офицерам ношение оружия на этой территории разрешается? — холодным, чересчур холодным тоном спросила Анастасия.
Басманов толчком большого пальца под основание козырька сдвинул фуражку на затылок, что у него означало неуставную степень весёлости.
— Ради бога, мой поручик[113]. Здесь, на этой площадке, и на вашем жилом этаже вы вправе поступать как считаете нужным. Ниже, а также и на территории посёлка ношение, а также использование тяжёлого стрелкового оружия (кроме личного, разумеется) вам придётся согласовывать с дежурным комендантом. Видите ли, на территории этой военной базы российские общегражданские законы не действуют. Уставы Внутренней и Караульной службы имеют приоритеты над Правом и даже Конституцией. Постарайтесь к этому отнестись с пониманием.
— И даже более чем… — с оттенком дерзости ответила Анастасия и посмотрела на Уварова. Теперь, мол, твой выход…
Подполковник просто предложил Басманову:
— Дорогу покажите.
Тот кивнул и пошёл к мраморной беседке с резными колонками и пилястрами, на самом деле представлявшей собой тамбур перед трапом, ведущим на обитаемые этажи.
Комнат в длинном коридоре, окнами выходящем во внутренний двор, окружённый шестью ярусами галерей снизу доверху и с буйной зеленью на земной поверхности, среди аллеек и фонтанов, оказалось достаточно для всех. И даже намного больше. Здесь можно было бы разместить настоящую делегацию, человек под сотню.
Ибрагиму отвели, согласно его почти что дипломатическому рангу, три большие комнаты. Без всяких изысков, конечно, раз тут всего лишь военная база, но удивительно удобных и уютных. В прихожей ждали горничная и лакей, которого, невзирая на штатский костюм, правильнее было бы назвать вестовым. Катранджи отпустил их со всей любезностью, сказав, что до завтрашнего утра едва ли будет нуждаться в их услугах. И постель сам разберёт, и чай заварит, если чайник исправен. Это он пошутил так, чтобы проверить, действует в этом мире его русский юмор или нет.
Уварова с Анастасией поселили рядом, в двухкомнатных номерах, соединённых, как чуть позже выяснилось, незаметной дверью. Настя её первой обнаружила, открыла, безразличным почти тоном поинтересовалась, сам ли он так заказал или опять случай? Валерий поклялся, что именно он и есть, поскольку в этих краях впервые, а с Басмановым с дней Берендеевки не виделся и даже не догадывался, что лично он их здесь встретит.
— Мы с тобой приказ вместе слушали, — как последний довод сообщил Валерий, в глубине души удивлённый, что его суженая вполне нейтральному элементу чужой архитектуры придаёт такое значение. А если бы им просто одну койку на двоих предложили?
— Значит, ляховские штучки, — согласилась поручик и прикрыла дверь. Щелчка внутреннего замка Уваров не услышал. И совсем не понял, при всей своей образованности, при чём тут Ляхов. Других дел у флигель-адъютанта и начальника спецотдела нет, как о дверях между комнатами своих подчинённых думать? Но все ж таки какой-то предварительный разговор у Ляхова с Басмановым наверняка был. Потому что девушек разместили тоже не как придётся. Имея в виду и специфику подразделения, и варианты не психологического комфорта и реальной боевой практики.
Нашлась на этом этаже, рядом с апартаментами и люксами, длинная десятикомнатная анфилада в стиле дворцов восемнадцатого века или, проще выражаясь, обычного плацкартного вагона. Нет, к дворцам всё же ближе — ковры на полу, гобелены на стенах и всяческие раритетные комоды, торшеры, козетки, банкетки и прочее. В каждой комнате по широкой кровати, выбирай любую. Девушек пять — комнат десять. Выходов из анфилады — два по торцам, один в середине длинного коридора.
Вельяминова, новоиспечённый поручик и по характеру очень предусмотрительная девушка (в каменном веке наверняка стала бы «старшей по пещере»), разместила подруг попарно в ближайших к дверям отсекам, сама заняла койку посередине анфилады, проигнорировав свой люкс, соседний с женихом. Насчёт планирования, пока ещё тактического, она проявляла себя непревзойдённо. Если кто-то смотрит со стороны и отметки ставит — пожалуйста. Всё равно не переиграете, а скорее всего — и не поймёте. Анастасия не знала, да и никто, кроме, может быть, Лихарева, не знал, что она по программе готовилась как дублерша не Сильвии даже, а самой Дайяны. Возможно, оттого и выжила, независимо от поступков самого Валентина и Левашова тоже. Новиков, наверное, единственный что-то такое уловил и от себя немного нужных черт личности добавил.
— Так, господа офицеры, — заявила Анастасия, когда девушки устроились, осмотрелись, проверили оружие, после чего занялись подкрашиванием и причёсыванием. — Чтобы с этого момента все забыли, что в гостях у очаровательного полковника Басманова. Все в тылу врага, в глубокой разведке. Я так чувствую и так приказываю. К Уварову обращаться не советую. Он вам, в мужской компании расслабившись, что угодно наплетёт и даже позволит. Я — нет. Пояснять надо?
Нет, этой пятерке пояснения не требовались.
— Тогда ещё двадцать минут «личного времени», и пойдём…
Примерно в то же время Басманов, когда они вдвоём, в ожидании «валькирий», закурили у окна, осмотрев большую часть башни и прилегающие этажи, ответил на вопрос Уварова. Как это он сумел так удачно всех разместить, не зная, с кем дело иметь придётся, в смысле личных склонностей и привычек.
— Что же я, Валерий Павлович, не усвоил за десять лет фронтовой службы, в каких обстоятельствах военному человеку отдыхать удобнее? Роту бы с собой привели, и роту разместили…
Уварову осталось только поблагодарить старшего товарища.
— Одним только вы меня удивили, полковник — составом своего отряда. Вадим Петрович намекнул, как бы между прочим, что посылает к нам «особое подразделение», но я, признаться, нечто другое себе вообразил. Вы этих барышень прямо с Валгаллы к нам доставили? А зачем? Мне и Оноли, и Ненадо, и другие участники боёв об этих девушках подробно рассказали и даже видеозаписи показывали. Так вот я не понимаю: там где пришлось, ваши барышни геройски сражались, не хуже, чем вы со своей ротой, так это ведь крайний случай. Сейчас-то в чём необходимость? Солдаты в вашей России кончаются?
— Знаете, господин полковник, — ответил Уваров, соображая, как с ходу и в доступной форме ответить Басманову, — у нас минут пятнадцать точно есть, чтобы с глазу на глаз по-солдатски переговорить…
— Натурально, — согласился Михаил Фёдорович, — прямо вот здесь, за углом. Хорошее заведение. «Распивочно и на вынос».
Оказывается, эта формула сохранилась на протяжение более чем сотни лет в неизменности.
«На вынос» им было не нужно, а выпить по рюмочке для создания командирского взаимопонимания, поскольку этого взаимопонимания им всё равно придётся достигать, невзирая на разницу времён, реальностей, возрастов, личного и иного опыта, требовалось обязательно.
Небольшой и уютный бар внутри угловой башенки, обеспечивающей почти круговой обзор по морю и части берега, был наверняка, как подумал Уваров, организован здесь ещё старинными турками, в ином, конечно, виде. Но место уж слишком удобное, пусть даже в виде кофейни для непьющих мусульман. И ошибся. «Автором проекта» был профессор Удолин, известная личность, с которой Уваров был немного знаком, в основном по слухам. Тот скопировал это заведение лично для себя, по памяти, после посещения «исходного Замка».
— Вы, Михаил Фёдорович, — спросил граф, согласившийся, что до общего обеда достаточно ограничиться бокалом хереса, расслабиться чуть-чуть, и разговор легче пойдёт, — отчего так присутствием моих «валькирий» удивились?
— «Валькирий»? — Басманов отпил маленький глоток и тут же потянулся за папиросой. — Неплохо. Сам придумал, или старшие подсказали?
Валерий почти и забыл, что Басманов входит в «старшую группу» «Братства». Как в Белой армии «первопоходником» был, так и здесь.
— Какая разница? По месту, и ладно. Главное — термин полностью соответствует их способностям и возможностям. Это — девушки «для боя». Хотя могут быть очень милыми и нежными с теми, кого не считают врагами. Не я их создал. Но они на нашей стороне, и я крайне этому рад… Они, в случае чего, даже там, под Берендеевкой, взводом не меньше, чем я ротой, а вы дивизией, сделать смогли бы.
Уваров почувствовал, что сказал кое-что лишнее и текстуально, и эмоционально.
Но та же система продолжала действовать. Если он уже хоть чуть прикоснулся к тайнам и принципам «Братства», отступать некуда. На что ему очень доходчиво, пусть и не впрямую, объяснил Вадим Петрович.
— Ты, разумеется, совершенно свободен, лично, политически и религиозно. Как любой член ватаги[114] или старательской артели. Там никто никого не держит. Встал от костра, закинул котомку за плечи и иди. Тысяча вёрст туда, три тысячи сюда. Но — свобода. Заодно и от Насти, если у тебя имеются теоретические возражения. А если с нами — так принципы придётся слегка менять…
— Не удивили, — спокойно ответил Басманов. — Мне капитан Ненадо докладывал, как эти красотки сражаться умеют. Без лишних мозгов, я бы так сказал. Если я чего недопонял, попробуйте ещё раз объяснить, для чего искать себе помощь и поддержку среди тех, кого обязаны защищать мы? Сильвия, конечно, Лариса, Ирина — совсем другое дело, — счёл нужным уточнить свою позицию полковник.
— Не совсем понимаю, что именно объяснять требуется, — сказал Уваров. — Я вправе предположить, что по своему положению и здесь, и в «Братстве» вы должны быть намного информированнее меня. Неужели вам ни Ляхов, ни кто-либо другой не сообщили цель и смысл операции? Я знаю намного меньше вашего, как кажется. Из полученного мною приказа следует — воевать здесь никто не собирается. Сил славных вооружённых сил Юга России должно хватить для обеспечения встречи моего «подзащитного» с кем-то из ваших должностных лиц. Мои девушки назначены сопровождать господина Катанова, создавать для окружающих нужное впечатление внешностью его секретарши. Лишь в случае крайней необходимости пресечь внезапное нападение террористов. Как ближайший для вас пример — если бы вместо австрийских жандармов эрцгерцога Фердинанда в Сараеве сопровождал я со своей группой, Гавриила Принципа и его друзей вычислили бы и шлёпнули, едва они из карманов пистолеты потянули. Мировая война не началась, и вы, господин полковник, наверное, до сих пор служили бы где-нибудь в Красном Селе штабс-капитаном. И до командира батареи едва ли возвысились…
— Понимаю, что вы хотите сказать. Удивитесь, но мне никаких разъяснений по поводу вашего отряда сделано не было. Говорили мы с Воронцовым относительно содержательной части миссии. Да и я как-то не придал значения его словам, что среди телохранителей будут женщины. Другими мыслями был занят. Учёл, конечно, при подготовке размещения, а зачем, почему — не вникал. А сейчас посмотрел своими глазами и задумался. Похоже, тут не просто так. Очень может быть — с южноафриканскими делами какая-то связь прослеживается. Хотя бы в том смысле, что ни вы лично, ни ваши девушки в столкновениях с дуггурами не засвечены… Тем самым… А, впрочем, всё это ерунда, — махнул рукой Басманов. — Зато я и мои люди засвечены дальше некуда, так что́ теперь «пить боржом»?
Из сказанного полковником Уваров не слишком понял, при чём тут Южная Африка и дуггуры, но тоже пока решил не углубляться. Будет ещё время, а пока он решил, как и положено, расспросить Михаила Фёдоровича о моментах, непосредственно касающихся обеспечения его миссии.
— Честно сказать, Валерий Павлович, — начал Басманов, — мне эта коллизия с переговорами вашего турка и наших купцов и интендантов если не полной чушью представляется, но где-то около того. Прежде всего не вижу смысла в самой этой встрече. Любые вопросы финансирования, технического снабжения, даже стратегического планирования мы с Новиковым и Шульгиным ещё в двадцатом году решали, не имея никакого реального опыта. С Врангелем, с Троцким и с другими фигурами… И сейчас, не выходя из московской квартиры, всё обсудить и согласовать можно. Конечно, если тут какая-нибудь высокая дипломатия… Тебя же, как я понимаю, в «Братство» уже приняли? — вдруг спросил полковник, переходя на «ты».
— Судя по словам Ляхова — пока вольноопределяющимся, даже не кандидатом, — ответил Валерий, — обрядов не проходил, клятв не давал.
— Не играет роли. Ты поимей в виду — здесь ранг и статус не от выслуги зависят, не от степени преданности, а исключительно от устройства мозгов. Обладаешь нужным набором способностей — ты и комтур, и магистр, и гроссмейстер. Нет — значит, нет. Я вот полноправный член, с самых первых дней, так сам понимаю, что исключительно — почётный. Не умею ни мыслеформ создавать, ни… — Басманов махнул рукой.
— И не обидно? — осторожно спросил Уваров. Он на себя примерил ту же ситуацию. Впрочем, кто сказал, что как раз у него этих самых способностей — нет? Может, побольше, чем у других! Всё ж таки на него обратили внимание…
— Чего обижаться? — легко спросил полковник. — Ты «Ванькой-взводным» после десяти лет учёбы трубил, другой в то же время — на скрипочке в Большом театре пиликал. Он в пыльной оркестровой яме, ты с девушкой при парадном мундире в третьем ряду партера. Потом ты в окопах, и портянки неделю не перематывал, а он — опять же во фраке перед барским столом поигрывает. Кому чего, одним словом…
Басманов налил ещё по бокалу золотого терпкого вина.
— Есть у меня высшие способности, нет их — я пока на своём месте. И сейчас очень сильно мне обстановка вокруг не нравится. Нет, сама жизнь весьма и весьма хороша. Если б даже никаких больше «параллельных реальностей» и прочего, а осталась только эта, отвоёванная нами Югороссия — и то великолепно. Было за что воевать, проще говоря. Но психологически, друг мой и сосед по окопу на ближайшее время, — очень всё вокруг похоже на то, что творилось под Кейптауном[115]. Даже у очень подготовленных людей начали там гайки отдаваться от невыносимого психологического давления. Как перед землетрясением, например, бывает. Не у всех, к счастью. Опыт — он тоже кое-что значит. Ты в таких заварушках, как под Берендеевкой, раза два-три бывал, и то много! А я и кое-кто из моих корниловцев и марковцев — может, и по сотне. Начиная с Гумбинена и Сольдау[116] вплоть до самых последних… Хорошо, если бы последних. Только не верится.
— Наверное, кое-какие способности у нас с вами есть, — рассудительно сказал Уваров. — Если вы десять лет воюете и до сих пор живы и здоровы, в «Братство» попали, я пока — пять, и тоже… А многих других и на один бой не хватило.
— Есть смысл, — согласился Басманов. — Значит, им и будем руководствоваться. Я тебе пока ничего больше говорить не стану, а чуть позже — скажу. Мне — обдумать кое-какие моменты надо, тебе — осмотреться. Да вон уже и твои барышни появились.
А Уварову тоже несколько интересных мыслей в голову пришло, и хорошо бы их сначала с Анастасией обсудить, а уже потом — с Басмановым. Поскольку явно эти мысли выходили за пределы поставленной задачи.
Вместе с девушками пришёл и Катранджи. Ему было прямо сказано, что с сего момента и до возвращения в Москву индивидуальные перемещения, кроме как в пределах жилого этажа, ему категорически не рекомендуются.
— В присутствии посторонних с вами постоянно будет находиться Кристина, рядом, на шаг сзади, как и положено личному секретарю. Остальные работают по индивидуальным планам, надоедать вам они не будут, при этом оставаясь в пределах прямой зрительной и голосовой связи. Для себя, не для вас, — инструктировала турка Вельяминова.
Ибрагиму очень хотелось возразить, степень возможной личной опасности представлялась ему отнюдь не такой высокой. А у этой суровой командирши, удивившей его своей решительностью и жёсткостью при первой встрече, получалось так, что он оказывается не уважительно охраняемым, а строго конвоируемым лицом. Да, подумал Ибрагим, уж кто-кто, а Настя в любовницы никак не годится, при всей своей красоте и прелестных формах. Ему — во всяком случае. И вообще — что-то тут не так.
— Здесь ведь не тюрьма? — спросил он в ответ на приглашение Басманова спуститься в обеденный зал. — Может быть вы нам устроите экскурсию в Стамбул? Там и пообедаем. Крайне мне интересно, как мой город под русской властью выглядит. У вас, надеюсь, вертолёт найдётся?
— Вертолётов здесь пока нет, — как бы извиняясь, ответил Басманов. — Уровень развития техники не позволяет. Мы прогресс не гоним, наоборот, в меру сил притормаживаем. Вместо этого — гидропланом двадцать минут или глиссером два часа. У меня против такой прогулки возражений нет, это господину Уварову решать, он за вас отвечает.
Катранджи вопросительно посмотрел на Валерия.
Валерий, чисто машинально, — на Анастасию. Та едва заметно улыбнулась и отвела глаза. Мол, мне всё равно, где свои обязанности исполнять, а дипломатия — не по моей части.
«Мне что приказано, — соображал Валерий, — обеспечить безопасность Катранджи во время переговоров. Держать его взаперти команды не было. И какая, к чертям, тут вообще может быть опасность? Армия, флот, полиция и всё такое. Ибрагима здесь ни одна собака не знает и знать не может, разве что его папашу… Стоп, — подумал Валерий, — а это интересный ход мог бы быть. Свести вместе опального бея с сынком из будущего. Зачем, с какой целью — бог его знает, но вариант сам по себе вполне в стиле „Братства“. Но если и так, этим другие люди станут заниматься. А в пределах нашей компетенции — чего ж не прокатиться? И Ибрагиму развлечение, и нам — когда ещё доведётся посмотреть, как предки живут?»
— На гидроплане мы, само собой, не полетим, бог его знает, какие у вас моторы. А вот если, допустим, на военном торпедном катере — свободно, — принял он решение. — Два часа, говорите?
— Два, три — это я утверждать не могу, и никто не возьмётся. Но если море будет тихое, с катером ничего не случится, пираты в пути не встретятся — примерно на такой срок рассчитывать можно, плюс-минус лапоть… — Басманов давно научился не говорить о конкретных сроках в подобных случаях. — Но я бы всё же самолёт предложил. Тут-то фактически — разогнаться, взлететь и сесть. А моторы у нас надёжные, не сомневайтесь. Ничуть не хуже, чем в ваше время.
На том и согласились. Действительно, три часа в море, пусть и таком тихом, как Мраморное, на военном катере… С непривычки может растрясти так, что не только обеда, ужина не захочется. На парусной яхте бы неплохо, не спеша — так весь день на дорогу уйдёт. Вообще, хорошую морскую прогулку, до утра, предусмотреть в программе стоит, но эту уже как обстановка сложится.
Гидроаэроплан «Г-20» «Буревестник» системы Григоровича, постройки Николаевских заводов, представлял собой штабной вариант дальнего морского разведчика, по типу приближаясь к широко известной «Каталине», придуманной американцами десятью годами позже, но с многими конструктивными и технологическими усовершенствованиями. На базе человеческой техники конца XX века, а моментами и нечеловеческой, форзелианской.
В самолёте, который предложил Басманов, имелся удобный, но без особого шика оформленный двенадцатиместный салон и всё необходимое, чтобы обеспечить отдых и работу нескольких высоких командиров при двадцатичасовом полёте радиусом до шести тысяч километров.
Гонять такую машину «до ближнего угла» выглядело не совсем рационально, но чего не сделаешь ради дорогих гостей.
Пока девушки и Катранджи собирались и переодевались с учётом изменившихся обстоятельств, Уваров продолжил беседу с Михаилом Фёдоровичем, теперь — об особенностях жизни и государственного устройства Югороссии, о которой Валерий имел самые поверхностные представления. В его времени никаких открытых публикаций об этой реальности, естественно, не существовало, да и о самом факте её наличия знало считаное число людей. А заниматься этим вопросом специально Валерию как-то не приходило в голову. Хватало своих забот, а на досуге он предпочитал изучать «первую реальность», странный мир Фёста, существующий в той же системе пространственно-временных координат, но разительно отличающийся от собственного. Прежде всего с военно-исторической точки зрения, поскольку главная угроза исходила именно оттуда, но и с культурной тоже. Имелось там столько книг и особенно фильмов, пользовавшихся бешеной популярностью у весьма узкого круга эстетов и специалистов, «допущенных к тайне».
А Югороссия — ну чем она могла особенно интересовать? Исключительно своей парадоксальностью. Существует где-то на задворках времени «исторический тупичок» (почему тупичок? А как ещё назвать мир, отставший в развитии почти на сто лет и явно неспособный догнать более «цивилизованные»?). Ну, не тупичок, так некий заповедник истории, «изолят», вроде «плато Мепл-Уайта».
Никто пока не говорил Уварову об изначальной искусственности этой «ветки», а сам он и вообразить не мог, как на самом деле это было сделано. Знал, что множественность параллельных миров есть естественное, но пока не объяснённое до конца свойство природы — и достаточно. Как будто теория эволюции жизни на Земле более понятна и более объяснима.
Но сейчас ему здесь работать, а он привык обладать как можно более полной информацией о ТВД, желательно — из заслуживающих доверия источников. География здесь была та же самая, история до девятьсот восемнадцатого практически общая, лишь последние восемь лет развивалась Югороссия «по собственному сценарию». А вот психология обитателей этого в высшей мере необычного государственного образования его интересовала чрезвычайно. Наверняка ведь придётся с этим миром не просто контактировать в течение ближайшей недели. Опыт и предчувствие подсказывали, что судьба его завяжется с Югороссией гораздо туже, чем можно это сейчас представить. А предчувствиям своим он привык доверять. Последние годы ничего с ним не случалось «просто так».
Басманов согласился его просветить, с позиции исследователя-эмпирика, не вдающегося в философствования, но располагающего огромным фактическим материалом. И коллеги-офицера, знающего, что в таких случаях наиболее важно и полезно для службы.
Со слов Михаила Фёдоровича, нынешнее устройство Югороссии подходящих аналогов в европейской истории, пожалуй, не имело. Не демократия, поскольку во главе военный диктатор, а правительство одновременно является его штабом, в котором, применительно к требованиям момента, увеличено, против обычного, число управлений и отделов. В государстве действует крайне мощная и высококвалифицированная контрразведка, выполняющая функции и жандармерии, и других близких по функциям ведомств. Судебная система крайне упрощена, до уровня введённых ещё Столыпиным военно-полевых судов, а пенитенциарная фактически отсутствует. В Уголовном «уложении о наказаниях» таковых всего два: смертная казнь и высылка за пределы государства с конфискацией имущества. Менее тяжкие проступки подпадают под действие Административного кодекса, весьма, кстати, проработанного и детализированного.
Тиранией этот строй тоже не назовёшь, личные права и свободы граждан здесь значительно превосходят таковые в любой «цивилизованной» державе. С деятельностью управляющих структур благонамеренный обыватель фактически и не пересекается. Вроде как было в САСШ девятнадцатого века. Не нарушай некоторое количества законов, плати налоги, а в остальном — делай, что хочешь. Всего за пять послевоенных лет жизненный уровень поднялся несравнимо с истерзанной Мировой войной и занятой вдобавок грандиозной политико-географической перепланировкой Европой. Шутка ли — вместо привычных с времён Вестфальского мира[117] держав внезапно появилось полтора десятка якобы «национальных» государств, вполне волюнтаристски разграниченных и немедленно вступивших в непрерывные территориальные споры, иногда — на грани вооружённых конфликтов.
В Югороссии о таком международном положении знали все и очень дорожили своим буквально с неба свалившимся благополучием. Отчего, как выразился Басманов, «контрразведка иногда скучает», поскольку большую часть «асоциальных элементов» за пять лет выловили, а новым, в общем-то, неоткуда браться.
— Что значит — неоткуда? — удивился Уваров. — Они, так сказать, сами плодятся, по законам природы. И воры бывают врожденные, и маньяки, и убийцы. Полиция и другие структуры могут поддерживать уголовную преступность на терпимом уровне, как у нас, например, но чтобы совсем?
— Я и не говорю, что «совсем». Вот, к примеру, в средневековом Новгороде сколь-нибудь значимая преступность была? Я что-то и не помню. Эксцессы всякие, мордобои по пьянке, а так? Вот и у нас в этом роде. Году в двадцать первом — двадцать втором — тогда да, весело у нас было. Как в любой «нормальной» стране после Мировой и Гражданской войны. А тут вдобавок своя специфика — мало что и Одесса-мама и Ростов-папа нам достались, так за все годы войны в «тёплые края» шпана со всей России стекалась. Дезертиры всякие, махновцы, «зелёные» и «жёлто-блакитные». Не приведи бог, одним словом. Почти всю армию к наведению порядка привлекли, операции дивизионного и корпусного масштаба проводили. Военно-полевые суды сотнями в день уголовников расстреливали, целыми «малинами», семьями… На пограничные пункты высылаемых колоннами подгоняли, как военнопленных…
— И что? — внезапно заинтересовался Уваров. — Красные соседи подобный контингент принимали? С распростёртыми объятиями? Или вы их в Персию и Румынию переправляли?
Басманов посмотрел на него с интересом.
— Уловил суть? Братьев по классу, «узников кровавых застенков» — коммунисты принимали. Поначалу. Пока не сообразили, что бандиты наловчились под «политических» косить. А у нас поначалу с Троцким был договор о беспрепятственном обмене… Потом «совдеповцы» разобрались, вздумали прикрыть лавочку. Мы этап пригоняем, а они его к себе не пускают. Вот и коллизия — мы ж, в отличие от красных, гуманисты, нам невыносимо смотреть, как люди, какие б там ни были, на нейтральной полосе с голоду помирают…
— Ну и? — Интересная сторона жизни приоткрылась Валерию. Вроде бы нормальная мера — «высылка за границу», так её же всегда трактовали как способ избавления от политических противников, к уголовникам применять никому в голову не приходило. А здесь — пришло.
— Не поверишь, нашли выход. Тогда остроумием полковник Кирсанов особенно отличился. Собирает несколько месяцев где-нибудь в отдалённом лагере осуждённых, работу с ними проводит по собственной методике. — В голосе Басманова Валерию послышалось восхищение, смешанное с какой-то другой эмоцией. — Находит подходящий участок границы, плохо охраняемый, подходящий момент — и организует прорыв. На нашей стороне — пулемёты, обратно не повернёшь, ну и бегут. А предводители, особо подготовленные, материально простимулированные, вооружённые, если нужно, ведут толпу, как те козлы — баранов. Кого-то пограничники пристрелят, конечно, не без того, кого-то поймают, а тысячи затеряются на бескрайних просторах «страны социализма». Сначала дипломаты такие скандалы друг другу устраивали, чуть не до разрыва дипотношений. Ну, у нас позиции всегда выигрышнее были. А потом само собой на нет сошло. Осознал народ, что лучше честно жить и трудиться, чем у стенки помирать…
У нас-то и тюрем нет, только ДОПРы[118]. Пересидеть недельку-другую от ареста до приговора.
— А как же… Ну, расстрел, высылка — это мне теперь понятно. Но есть же масса преступлений, так сказать, промежуточного характера. Кражи, пусть только клептоманами, насилия, убийства по неосторожности, по халатности, телесные повреждения… Да мало ли! В Уголовном кодексе статей много.
— В теории много, на практике и десятка не наберётся, по общеопределяющим признакам. И большинство санкций не карательные, а воспитательные. Несовершеннолетних в кадетские корпуса и ремесленные училища направляем. Ещё одно остроумное изобретение — в казачьи станицы на перевоспитание. Сначала в качестве батраков, под присмотр и ответственность «общества». А там не забалуешь. Решит «круг», что исправился такой-то, — в самостоятельные хозяева перечислят. Живи, работай, службу на границах неси, как все…
— А неисправимые всё же попадаются?
— Как везде, — пожал плечами Басманов, но развивать тему не стал. Информации о постоянно действующих по-столыпински военно-полевых судах было достаточно.
Рассказ Басманова Валерию понравился — как нравились ему вообще всякие остроумные и нестандартные решения неразрешимых вопросов. Хотелось продолжения.
— Так, с преступностью, допустим, вы покончили. Но про «жизненный уровень» мне пока не ясно. Завоеванная вами территория, безусловно, потенциально богаче любой другой в РСФСР, не считая Сибири, но ведь всё равно! Последствия войны, не слишком дружественное международное окружение…
— Верно мыслишь. А о том Израиле, что у вас существует, да и том, что в параллели, — знаешь?
Странный вопрос. Впрочем, Уваров быстро сообразил, что собеседник имеет в виду. Государства, умеющие воевать, с образованным и трудоспособным населением, зарабатывающие экспортом сложных, в том числе и военных технологий, но в то же время весь срок своего существования получающие дотации, превышающие их ВВП.
— Там совсем другие условия…
— Не продолжай. Я тоже знаю. Так вот у нас условия намного лучше. Территория, природные ресурсы, численность населения. А образовательный уровень ничуть не ниже — в Югороссии, по известным причинам, собралось семьдесят процентов людей с высшим и средним образованием (среднее образование в царской России ненамного высшему уступало, что в гимназиях, что в реальных училищах). Плюс — наиболее мотивированное и способное к труду крестьянство, казачество, рабочий класс. Те, кто ещё до двадцатого года сюда перебрался. Многие — после, узнав, что здесь, а не где-то ещё, «истинная свобода труда и капитала». «Пролетариат», — он интонацией выразил пренебрежение к этому термину, — тот у большевиков остался. Вот у них до сих пор и карточная система, и продналог с продразвёрсткой…
Валерию было чрезвычайно интересно узнать и об этом. Невероятным казалось, что могут существовать рядом две страны с одним и тем же разделённым народом и столь противоположным общественным устройством, но он понимал, что лекция и так недопустимо затягивается. А главного он так и не выяснил.
— Самое же главное, — Басманов тоже решил закругляться, — благодаря постоянной помощи «Братства» Югороссия располагает техническими разработками и производственной базой, на целую историческую эпоху опережающей Запад. Пусть пока в нескольких отраслях, но этого достаточно. У нас есть чем торговать, причём на условиях абсолютной монополии. И имеется достаточно золота, чтобы рубль, даже бумажный, в любой точке мира признавался самой надёжной и устойчивой валютой. Каждый трудящийся может на своё жалованье провести отпуск хоть в Ницце, хоть в Аргентине, если ему этого захочется. В Аргентине, между прочим, самый высокий курс русского рубля, если интересно.
— Рай земной, да и только, — с долей иронии сказал Уваров. — Один вопрос — надолго ли такое процветание? До первой войны? С Совдепией, с Антантой. Думаете, мало и там, и там желающих «всё отнять и поделить»?
— На наш век хватит, — чересчур, кажется, небрежно ответил Басманов. — Швейцария, вон, триста лет золото в подвалах банков копит, и никто её не трогает, невзирая на отсутствие приличной армии. А с нашей никто не захочет связываться.
— Так то Швейцария, — без всякого пиетета к Альпийской республике скривился Валерий. — Одним словом, спасибо за информацию. Одно осталось узнать — как нам себя здесь следует вести? Как свою работу исполнять — мы знаем. Но вот общий фон… Кое-что прояснили — учтём. Преступного мира у вас, считаем, нет, а как насчёт иностранной агентуры? Окружение у вас очень недружественное, значит, шпионов должно быть в избытке, по военной линии, по экономической, легальных и нелегальных. И о поголовной лояльности граждан зря вы мне так убедительно разъясняли. Потому что я вам не поверил. Не можете вы — в таком вопросе наивность проявлять. Тогда зачем меня в заблуждение вводить? Идейные враги у вас внутри страны есть, не может не быть, любая власть обязательно кого-то не устраивает. Те же тайные коммунисты вам изо всех сил вредить будут, просто чтобы не допустить столь наглядного подтверждения краха своих идей, то ли вычитанных из книжек, то ли жизнью выстраданных. И идеальный ваш гражданин, на жалованье имеющий возможность в Ницце отпуск проводить, едва ли найдёт в себе силы отказаться от приличной суммы сверх своего роскошного жалованья. Да что я вам азы своей нынешней профессии излагаю? Купить и завербовать почти любого можно. У вас — тоже.
Похоже, Уваров, как всякий строевой офицер, жандармской службой если не брезговал, то хоть немного, но зазорной её считал. Потому счёл нужным добавить «нынешней». А так я, мол, такой же, как вы, фронтовик.
— У нас тоже жизнь вполне благополучная, — продолжил Валерий, — но врагов всяческого сорта более чем достаточно. Самое же главное и одновременно печальное — врагом легко может стать тот, кого вчера ещё считал… Ну, не другом, в друзьях ошибиться трудно, а вполне надёжным соратником. Вы же сами видели.
— Это — правильно, — не стал спорить Басманов. — Предают всегда свои. И я рад, что ты пришёл к правильному выводу. С общепринятой и у нас, и в Европах точки зрения жизнь в Югороссии великолепна. Это мнение разделяет гораздо более двух третей населения.
Я не зря тебе про ваши Израили напомнил. Особенно про тот, который в твоей реальности — идишский, ашкеназский. Здесь у большинства дееспособного населения примерно такая же психология. Люди или успели лиха хлебнуть за три года жизни в «стране советов», друзей, родственников, детей потеряли, от голода, от тифа, испанки, чрезвычаек и комбедов. Великого писателя Бунина почитай, «Окаянные дни». На ГИП он через десяток лет нобелевским лауреатом станет, здесь пока — просто великий русский поэт и прозаик. На мой вкус — как поэт даже лучше…
Уваров не то чтобы удивился культурному уровню полковника. Особо удивляться было нечему — всё ж таки человек нашего круга, царский ещё гвардеец, в Серебряном веке выросший (лучшие театры с билетами в партер «не дальше седьмого ряда», а такой билет — четверть жалованья мелкого чиновника или армейского подпоручика), книги читавший даже на войне.
Совсем другое его удивило — как сумел всего за пять лет бывший белогвардейский капитан, случайно (а случайно ли?) встреченный на стамбульском бульваре Новиковым и Шульгиным, так великолепно вписаться в логику и психологию совершенно чуждых ему почти по всем параметрам реальностей и человеческих общностей.
Сам он, второй год контактируя с этой организацией, своим себя там пока не почувствовал. А Михаил Фёдорович с ним сейчас так легко, свободно, раскованно беседует. Одновременно как старший товарищ и почти ровесник, фронтовой офицер всеми забытой войны и далеко не последний деятель в контролирующей несколько совершенно разных миров организации. Сумел бы сам Валерий подобным образом, сочувственно, понимающе, одновременно и поучительно, говорить со своим правнуком?
— Остальная, не большая, а, так скажем, — влиятельная часть полноправных югоросских граждан — солдаты, бойцы, — продолжал объяснять Басманов. — Не устрашившиеся многократного превосходства врага и не поддавшиеся на идейные и материальные посылы. Почувствуй разницу. Некий бывший поручик Тухачевский (в голосе Михаила Фёдоровича прозвучало откровенное презрение) или полковник Генштаба Егоров пошли на службу к большевикам. Как же — из неудачливого ротного сразу в командармы! В благодарность — золото мешками, кокаин вёдрами, мраморные дворцы в центре Москвы, личные бронепоезда с царскими салон-вагонами. А у нас — полковники рядовыми в стрелковой цепи или кавалерийском эскадроне головы клали бесплатно! И победили. За счёт этого самого идейного бескорыстия! Такие люди сейчас и составляют элиту здешнего общества. Воевавший вахмистр или подпоручик безусловно выше по авторитету, не говоря уж про «первопоходников», нежели не нюхавший пороху богатей…
— Вроде как в Спарте? — спросил Уваров.
— Кое-чем похоже. Но любая аналогия вредна и опасна, если на её базе делать выводы о текущем моменте. Спарта — уж очень далеко. Израиль, третий раз повторяю, гораздо ближе. Все, кто собрался в Югороссии, кто за неё воевал, кто её сейчас строит — братья, друзья, единомышленники, однополчане. Остальные, а также и весь окружающий мир — враги. Принципиальные или, точнее сказать, инстинктивные. Со скорпионом ведь у нас нет «принципиальных» разногласий, но кусает, бывает и насмерть, при любом подходящем для него случае.
— Спасибо, утешили. Значит, в вашей «тихой заводи» опасаться нужно всех?
— Странный вывод, — стряхивая пепел с папиросы за откос стены, удивился Басманов. — Совсем наоборот. Ты, особенно если будешь в военной форме, и твои девушки — на подсознательном уровне будете восприниматься большинством окружающих как свои. Ну, а меньшинством — естественно, наоборот. Но это всё я о коренной России говорил. Здесь, в Царьграде, немножко по-другому. И население до крайности пёстрое, и психология, что ни говори, — восточная. Правда, турок здесь не так много осталось, русских тысяч сто сюда уже перебралось, греков много, армян, евреи из бывшей черты осёдлости массами хлынули. От ножа в спину в закоулках Галаты я тебе гарантий не дам. Тут уж — каждый за себя. Но в целом жить можно, не хуже, чем в Ташкенте вскоре после присоединения…
— От ножа как-нибудь уберегусь, — ответил Валерий, — если вообще по тем закоулкам ходить придётся. Мы тут не для этого. Мне Тарханов сказал — на друзей там, где окажешься, можешь положиться…
— Конечно, можешь. Во всех отношениях. Однако… — в голосе полковника Валерий услышал знакомые нотки училищных наставников. — Мы с тобой всегда, от присяги до могилы — на переднем крае. Кому доверять спину и голову — нам решать. Откуда враг может ударить — тоже нам. Сколько сможем отличать первых от вторых, столько и жить будем.
Ценное замечание и хорошо сформулированное.
— Вы, Михаил Фёдорович, быстро эту науку постигли?
— Раньше, чем в землю лёг. Ты в каком возрасте на первую войну попал?
— В двадцать два, сразу после училища, — ответил Уваров.
— Я в двадцать один. Так у тебя какая война была? За первые полгода службы в твоём полку, бригаде, что там было — сколько убитых?
Уваров задумался, начал прикидывать.
— Ну, насколько помню — человек тридцать, в бригаде. Правда, там в одном оазисе сразу кавалерийский взвод в спину перестреляли. Как раз предательство.
— Бывает, — потянул из портсигара очередную папиросу Басманов. — А под Берендеевкой сколько потерял? — словно прокурор на допросе, чуть поднажал он голосом.
— Под Берендеевкой — из роты почти сорок… Так вы ж сами видели, что там творилось.
— Да что ты оправдываешься, что ты оправдываешься, — вспылил полковник. — А вот на том пятачке, где я свои первые бои принял, за неделю шесть тысяч убитых, пятьдесят тысяч раненых. В начале Мировой войны в основном шрапнелями стреляли, и на предельных дистанциях на одного убитого два десятка легкораненых приходилось. Меня три раза шрапнельной пулей по голове и погонам задевало — и ничего, как видишь. Зато потом статистика своё взяла, — он скривил губы и сквозь зубы втянул воздух. — И убило вокруг меня, по самой грубой прикидке, только на дистанции прямого выстрела[119] тысяч сто человек, за те девяносто четыре года, что я на службе числюсь.
От услышанного Уварову стало настоящим образом не по себе. Очень трудно было себе представить, даже при его боевом опыте — девяносто четыре года войн, начиная с тёплого и солнечного лета девятьсот четырнадцатого и по сей день!
— Но я тут не один такой, — успокаивающим тоном продолжил Басманов. — Есть у нас капитан Ненадо, ты с ним наверняка в Берендеевке вместе выпивал, а потом он ещё и на Валгалле девушкам вашим помогал, так у него фронтовой стаж побольше моего. На сём заканчиваем, я голоса слышу, команда твоя идёт. В другой обстановке я с ними предпочёл бы встретиться, но, как один поэт не из твоей истории написал: «Времена не выбирают, в них живут и умирают».
Последние слова полковника прозвучали, как показалось Валерию, несколько двусмысленно.
— У нас, вообще-то, всё под контролем, — попытался успокоить его Басманов. — За исключением непредвиденных случаев, или, ещё точнее — предвидимых теоретически, но по месту и времени непредсказуемых. Вроде появления прямо здесь и сейчас над нашими головами дуггурской «медузы»…
Гидроплан приводнился на внешнем рейде и, подрабатывая двигателями, подошёл к причалу военно-морской базы, где, кроме нескольких эсминцев, возвышался у стенки недавно прошедший полную модернизацию «Гебен», свежеокрашенный в оливково-серые тона. Решением адмирала Колчака ему было оставлено исходное название (в турецком флоте он именовался «Явуз Султан Селим»), как бы в назидание потомкам и врагам. Примерно так, как город Баталпашинск[120] был назван «в честь» разгромленного в этом месте, никому по иному поводу не известного Батала-паши.
Уваров, хорошо знавший историю, с большим интересом и вниманием рассматривал линейный крейсер, сыгравший столь большую роль в истории всех трёх (что очень интересно само по себе!) известных ему параллельных миров.
Приходилось слышать мнение, что если бы англичане не пропустили «Гебен» с «Бреслау» в турецкие проливы в августе четырнадцатого года, не случилось бы вообще ничего последующего. Ни завершившейся несколькими революциями четырёхлетней Мировой войны, ни катастрофы распада четырёх Великих Империй[121]. Естественно, и возникновения сразу трёх «исторических развилок».
Скорее всего, вышло бы так, как планировали абсолютно все тогдашние стратеги и политики. Короткая европейская война до «осеннего листопада». А вот английские адмиралы осуществили свой план, не тронув немцев своими линейными крейсерами, и получили то, что получили, причём, что самое несправедливое, не они лично, а миллионов тридцать невинно пострадавших солдат и мирных жителей[122].
На набережной их уже ждали три роскошных ландо-кабриолета «Чайка», для покупки которых иностранные монархи, главы государств и просто очень богатые эстеты записывались за год и более. Слишком хороша была машина — стосорокасильный многотопливный двигатель, хоть сырой нефтью, хоть керосином и любым бензином заправляй, приёмистый и удобный в обслуживании, коробка скоростей с синхронизаторами, простые и надёжные тормоза, гарантия безремонтного пробега в сто тысяч километров!
Уваров, Катранджи, Басманов и Кристина разместились в средней «Чайке», девушки по двое, плюс по два офицера в качестве гидов и охранников (что «валькирий» слегка развеселило), в первой и третьей. В сопровождении ещё двух не бросающихся в глаза броневиков охраны делегация тронулась в путь.
Вначале кортеж часа полтора покружил по городу, и гости непосредственно, с расстояния вытянутой руки, увидели, во что превратился Царьград-Константинополь, бывший Второй Рим, после пятисот лет турецкого владычества вновь возвращённый в лоно православной цивилизации. Сравнивать то, что было ещё в двадцатом году, с тем, что получилось сейчас, никто, кроме Басманова, само собой, не мог. Да и Катранджи, хорошо знавший этот город полувеком позже, ничего не узнавал, кроме общей топографии и наиболее приметных из уцелевших архитектурных памятников. Ибрагим испытывал сейчас сложные чувства.
То, что город стремительно русифицировался, судя по вывескам, рекламам, преобладающему на улицах языку и общей атмосфере, разумеется, раздражало и ущемляло его «гонор». Но при этом он был человеком широких взглядов и «гражданином мира», потому и размышлял «без гнева и пристрастия». Для умного, непредвзятого человека такой «Царьград» ничуть не хуже вестернизированного в другой реальности Стамбула. Скорее всего — лучше. Русское присутствие не так бьёт по глазам и чувствам, как американское.
Гости, свободные от воспоминаний и ассоциаций, просто смотрели, постепенно убеждаясь, что прошлое существует не только в качестве картинок в книгах и на плёнках старых кинохроник, но и наяву. Здесь и сейчас. Всё вокруг абсолютно подлинно, люди на тротуарах и бульварах живые и настоящие. Попробуй Настя, Марина, Маша, глядя через борт открытой машины, представить, что на самом деле их нет, а то и вообще никогда не было! Вот этих молодых мужчин разных национальностей, распивающих кофе, пиво, вино и арак за столиками под полосатыми зонтами на бульваре, где всего пять лет назад Новиков с Шульгиным встретили капитана Басманова, лишённого надежд, проигравшего все свои войны, голодного, потерявшего Родину и пресловутый «смысл жизни». Вся разница, что тот капитан Басманов оставался человеком, не готовым продать греку даже сапоги «за чечевичную похлёбку», будучи голодным никак не меньше, чем Исав. Не говоря об офицерской совести. Потому и не пришлось ему на Елисейских полях ботинки всякой сволочи чистить!
«Всего пять лет! Только-то!» — невольно подумал полковник, краем глаза увидев знакомую, историческую для него скамейку под кроной гигантского платана. Теми же словами подумал, что тогда — о времени, прошедшем после «царского»[123] выпуска из училища и до крушения всего привычного мира и его собственного превращения в жалкого, никому не нужного эвакуанта[124]. Проще говоря — беженца.
Завершив экскурсию, кортеж без остановок отправился к историческому, по-своему, месту. На обрывистом берегу моря, вдали от городских строений располагался ресторан, без затей названный «Византия».
По словам Басманова, именно здесь всё «Братство» тогдашнего состава отмечало Победу, казавшуюся окончательной. Да, собственно, для Югороссии такой и ставшей. Место Уварову, его девушкам и даже Катранджи показалось весьма подходящим. С большим вкусом выбранное и оформленное. Этакое сочетание глубокой древности с нынешним модерном. Руины мощных средневековых стен, крытая дубовая веранда, вознесённая над древним фундаментом, оплетённая очень старыми, но густыми виноградными лозами и какими-то местными буйноцветущими лианами. Внизу, насколько видит глаз — бирюзовая, вся в солнечных бликах гладь Мраморного моря. На рейдах и в гавани — множество торговых и пассажирских пароходов, среди которых весьма солидно и убедительно расположились боевые корабли разных классов.
Между опорными столбами веранды и древними мраморными колоннами, раскачивая занавески, глянцевую, словно бы лакированную листву и цветы экзотических растений, шелестит совсем лёгкий бриз.
Приятно, красиво, умиротворяюще, особенно для людей, неизвестно чьей волей оказавшихся в глубоком прошлом.
Ресторан был совершенно пуст. Сюда и так заезжали компании в основном по предварительной договоренности, а сейчас, стараниями Басманова, не оказалось вообще никого. Официанты, предварительно накрыв длинный общий стол, ждали последующих распоряжений во внутренних помещениях.
Только в правом углу, за двухместным столиком у самого парапета, ограждающего крутой обрыв к морю, сидел, скучая в одиночестве, господин лет пятидесяти, профессорского облика, в чесучовом костюме. Перед ним графин красного вина и тарелка местного сыра. Он курил, неторопливо и задумчиво, и только услышав весёлые женские голоса, повернулся. Наверняка странная по этому месту и времени компания — пять слишком красивых девушек, три мужчины, из них два в военной форме, — его заинтересовала. Вопреки приличиям господин начал рассматривать каждую из эффектных особ чересчур откровенным взглядом. Даже Анастасия, при её характере, почувствовала себя неудобно, словно случайно вышла на люди, забыв надеть юбку. Такое, конечно, бывает только во сне, но и после пробуждения оставляет в душе трудно стираемую тревогу.
Глава двенадцатая
Утром, перед отправкой группы Уварова с Катранджи в Югороссию, Секонд появился на Столешниковом без предупреждения и раньше, чем можно было ожидать. Фёст вообще думал, что ближайшие два-три дня никто его не побеспокоит и он спокойно сможет заняться собственными делами с местными журналистами и подходящими для участия в «Мальтийском кресте» офицерами из «Чёрной метки». К тому же были у него кое-какие интересные соображения насчёт работы с президентскими друзьями.
Сильвия, считая большую часть миссии, ради которой её пригласили, успешно выполненной, собиралась на какое-то время отлучиться в Лондон. Она выскочила оттуда «по тревоге», не зная даже зачем, и Берестин продолжает свою партию в бридж, не подозревая, что его подруга не сплетничает в салоне с баронессами и герцогинями, а опять ввязалась в мировую политику.
Но в том и суть жизни фронтового офицера, что и на час вперёд не может он знать свою судьбу. Хоть на отдых отвели, и до передовой очень-очень далеко, а зазвонил телефон, или ординарец с пакетом на пороге застучал сапогами — и по новой: «Запрягайте, хлопцы, ко́ней». Было дело, отпраздновали Новый год однажды[125]…
Секонд выглядел не то чтобы расстроенным, но и не слишком весёлым. Как бы между прочим сообщил, что после встречи с Президентом Император выразил ему «высочайшее недоумение» по поводу явно неподготовленной встречи, поэтому генеральские погоны в ближайшее время приобретать не стоит. А у них была с аналогом такая полушутливая договоренность — чины, получаемые одним, становились как бы общими. В Москве оба воевали полковниками, и теперь, получи Секонд генерал-адъютанта, и Фёсту в подходящей обстановке носить бы беспросветные погоны со свитскими аксельбантами.
— Олег сказал, что бессмысленной трепотни насчёт демократии и так называемых «свобод» он за годы своего «местоблюстительства» от всяких каверзневых достаточно наслушался. Если мы считаем работу по «Мальтийскому кресту» перспективной, то можем продолжать, не в ущерб прочим служебным обязанностям, а он препятствовать не будет. Но в следующий раз будет смотреть только окончательные документы. А пока у него и других забот достаточно.
— Представляю, — сочувственно кивнул Фёст. — Это он ещё крайне мягко выразился. Другой бы мог под горячую руку вообще вернуть тебя «в первобытное состояние»[126].
— В том и дело. Теперь желает вновь с Сильвией Артуровной повидаться. С одной стороны, поостыл немного, с другой — опять, похоже, «на приключения» потянуло. Боюсь, в зависимости от итогов очередного свидания он и решит, что с нами со всеми делать. Я, признаться, теперь и не знаю, как к ней с этим делом обратиться. Глупо всё это. Прямо тебе «Сказка о золотой рыбке».
Он не стал говорить, что во всей истории виноват персонально брат-аналог, затеявший очередное «спасение России». Раз сам не возразил, когда нужно было, значит — оба хороши.
— Чего это ты вдруг не знаешь? — спросила ясным голосом и благодушным тоном Сильвия, выходя из полуоткрытой двери своей половины квартиры. В утренней тишине через высокие гулкие коридоры слова Секонда были слышны в соседних комнатах. — Думаешь, я вас в беде брошу? Ну уж нет! Ваш государь сам «Крестом» увлёкся, как юнкер — гимназисткой. Это я ему и объясню. И за себя не опасайтесь, и за общее дело — тоже. Как офицеры в Белом Крыму пели:
А мы далеко не с голыми. Все теперь вполне вооружены, так что же горевать? Он меня когда видеть желает?
— Да как подъехать успеем, так и ждёт…
— Ну, полчасика на сборы ты мне дашь? А вы пока завтрак сообразите, с учётом моих вкусов.
— Овсянку, что ли? — с наивным лицом спросил Фёст.
— Мы, мой милый, сейчас совсем не в Англии и даже не в Шотландии. Прояви русскую смекалку, — улыбнулась она. И тут же притворно вздохнула: — Вот всегда так. Собралась к мужу вернуться, а тут снова… Что ж, придётся Алексею ещё немного подождать. Надеюсь, в прах не проиграется.
Она скрылась за дверью, оставив Ляховых, с некоторой растерянностью глядящих друг на друга, словно в зеркало. Они всё-таки ещё плохо знали леди Спенсер, не успели привыкнуть к полной (на обычный взгляд) непредсказуемости этой «старшей сестры».
— Таким, значит, образом, — с явным облегчением сказал Секонд. — Одна проблема разрешилась к взаимному удовольствию.
Он на самом деле чувствовал себя крайне неудобно, готовясь выполнить поручение Государя. Пусть для обычного адъютанта задание — пригласить даму на свидание с Императором — было вполне в рамках служебных обязанностей, так полковник Ляхов себя «обычным» всё же не считал. И Сильвия никак не могла им восприниматься как «просто дама».
— Олег твой всерьёз, что ли, на неё запал? Тогда как бы из неё вторая Екатерина Первая не получилась… — со смешком скаламбурил Фёст, до предела понизив голос. — Оно, может, и к лучшему.
— Не совсем так. Первую стадию Государь уже проскочил. Теперь леди Си интересует его в основном как самая умная из окружающих женщин. Советница ему требуется и верная союзница…
— Особенно если советы будут в постели подаваться, — цинично скривил губы Фёст. — Ночная кукушка всегда дневную перекукует — не нами придумано.
— Не наше дело, — прекратил тему Секонд. — Не по чину. Есть второй вопрос, поближе. Тарханов распорядился для обеспечения крайне важной дипломатической миссии, связанной с окончательной перевербовкой Катранджи, отправить в Югороссию Уварова и отделение наших кавалерист-девиц в полном составе. На неделю примерно. Независимого времени. Я уже распорядился, они скоро сюда подъедут. Не из казармы же их забирать.
Они уже привыкли оперировать такими категориями — «зависимое время», «независимое», «боковое» и в этом роде. Пусть до конца и не понимали, в каких случаях возможно возвращаться из командировок практически в момент отправления, а когда — наоборот: и несколько часовая отлучка в иные миры растягивается на месяцы, если не больше. Кое у кого больше четверти века получилось. Вся, считай, жизнь Фёста уложилась в отрезок между началом прогулки Новикова, Шульгина и прочих «братьев и сестёр» по планете Валгалла и их возвращением на ГИП.
— В Югороссию? Для чего, интересно?
— Да это уже чекменёвские игры. Я тебе просто раньше сказать не успел. Решил он после Одессы Катранджи всерьёз заняться, тем более что отношения у нас с ТАОС стремительно портятся, а иметь ещё и весь «Интернационал» врагами — трудновато выйдет. Цена вопроса обычная. Ибрагим, чтобы ни от кого не зависеть, у нас оружия просит. Взамен обещает всемирную (а также и всеме́рную) поддержку по всем азимутам.
— Нормальное дело, — ничуть не удивился Фёст. — Это и у нас так было. Сначала Союз любому туземному царьку, что обещал у себя социализм строить, оружие гнал немерено и даром. Потом заводы и плотины возводили, под беспроцентные и бессрочные кредиты. В подходящий момент этот царёк «советских братьев» посылал на хрен и перебегал на противоположный берег. Мудрецы из Политбюро утирали сопли и начинали искать нового вождя, «идущего по некапиталистическому пути». Так эта волынка сорок лет продолжалась, пока самим жрать нечего стало и накрылась вся грандиозная идея… Сам знаешь чем.
— У нас не накроется, — успокаивающе сказал Секонд. Когда брат-аналог начинал вспоминать о реалиях своего мира, он очень быстро выходил из себя. — Во-первых, оружие Ибрагим будет получать исключительно за наличный расчёт, а во-вторых — таких образцов, что ни запчастей, ни боеприпасов к ним нигде не найти, хоть все наши военные заводы перешерсти, всех интендантов скопом купи. Советские автоматы, пулемёты, пушки и танки даже шестидесятых годов на порядок эффективнее всего, здесь существующего. И совершенно ни на что не похожи. То есть никакая ООН или международная инспекция нашей России претензий предъявить не сможет в нарушении эмбарго или в чём похуже… Пусть у пленных боевиков спрашивают, откуда у них такие игрушки.
Фёст засмеялся:
— В принципе толково. Только откуда возьмёте? Здесь на базах хранения такого добра — завались. Даже трёхлинеек и ППШ миллионы, пушки образца 1902/27 сам видел. Так ведь наш Президент не даст: «по той же самой причине», как Павел Первый выразиться изволил.
— А у него никто просить и не собирается, — теперь уже Секонд усмехнулся. — В Югороссии места достаточно, чтобы дубликаторы запустить. Нам отсюда всего по штуке каждой системы потребуется. Найдём.
О существовании «дубликатора Воронцова-Левашова» Фёст слышал, но лично видеть не приходилось. И осталось за пределами воображения, что один-единственный автомат или танк в считаные часы можно растиражировать в промышленных количествах, без затрат каких-либо материалов, кроме электроэнергии. Да и той не так много нужно, не больше, чем для повседневных нужд небольшого города.
Когда-то, лет, может, в десять, Фёст прочитал в старой отцовской подшивке журнала «Знание — сила» ещё пятидесятых годов статью, где говорилось о возможности путём рекомбинации атомов получать из вакуума, или так называемого «океана Дирака», любые материалы, в том числе и пищевые продукты. Далее делался вывод — когда наука станет «непосредственной производительной силой», тут и наступит настоящий, полный коммунизм. Поэтому Коммунистическая партия и Советское правительство считают своей первостепенной задачей…
Юный Вадим показал статью отцу (а уже начиналась перестройка) и спросил, почему же так до сих пор наука не решила эту задачу? Вот бы сейчас жили!
Отец, как сейчас вспомнил Фёст, улыбнулся с ностальгической грустью в глазах и ответил что-то вроде: «Идеология всё превозмогает, прежде всего — рассудок». Вадим тогда, конечно, истинного смысла его слов не понял, но общий настрой уловил.
Циничная, как всегда, ирония судьбы заключалась в том, что именно в восемьдесят четвёртом, последнем безмятежном, году «развитого социализма» Левашов с Воронцовым придумали свой дубликатор, то есть воплотили в жизнь идею автора статьи (Гуревич, кажется?). И не захотели в очередной критический момент истории довести своё открытие до всеобщего сведения.
А если бы? На какие-то секунды Фёст вдруг почувствовал острую неприязнь ко всем «братьям» сразу. Устроили себе, значит, персональный рай (или пресловутый коммунизм), интеллектуальный и материальный, а страна, народ — пропадай? Да если б запустить на полный ход по всей стране эти дубликаторы в те скудные, почти голодные годы! Как бы все были счастливы! И СССР бы не развалился, и Западу настоящий укорот бы дали!
— Что ты, братец, глазками засверкал? О чём подумал? — спросил Секонд, до сих пор, несмотря на всё ширящееся расхождение между их личностями, умевший поймать мысль аналога. — Наверняка о недостроенном по вине Шульгина с Новиковым коммунизме загрустил? А ведь лет на двадцать раньше меня Стругацких наизусть заучивал. «Хищных вещей» тебе мало?
Сам он прочёл эти книги в зрелом уже возрасте, и с точки зрения человека не того мира, для которого они писались. Но основное было понятно. Велика ли разница — всего лишь восемьдесят лет раздельного развития. А так — одно и то же. Психология человека с времён Древнего Египта и Шумера не изменилась, о чём и глиняные таблички с доносами свидетельствуют, и вершины тогдашней поэзии.
Ну, правда, психология людей будущего, особенно обрисованная в «Попытке к бегству», ему не понравилась! Мы, значит, в XX и уже в XXI веках совершенно адекватно воспринимали и воспринимаем факты и поведение людей хоть второго века до нашей, хоть восемнадцатого нашей эры (ладно, пусть не совершенно адекватно), но даже о Пунических войнах, не говоря о Крестовых походах и Бородинском сражении, понятие имеем. Нравы и обычаи, характер исторической формации, движущие силы, причины и следствия — обо всём и в школе учили, и в развлекательных книжках читали. Попав туда, как-нибудь адаптировались бы. А вот в безмятежном (якобы) коммунизме, где уровень образования (по другим книгам авторов судя) не в пример выше нашего, «коммунарам» за полтораста лет настолько промыли мозги, что они даже поверить не могут, что феодализм вообще бывает, и при нём (и других формациях тоже) людей можно голыми на снег выгонять и копьями насмерть колоть! И для самообороны, а также восстановления социальной справедливости стрелять не только можно, но и нужно. Но у тех в принципе симпатичных ребят, с высшим, естественно, образованием, и, хотя бы против тахоргов, карабины применять умеющих — при одной мысли, что цель, бывает, оправдывает средства — нервная трясучка начиналась.
И что ж там у них за отделы пропаганды такие гениальные, что до такой степени интеллектуальной деградации лучших людей (космолётчиков) довести сумела, какая и в сталинские времена не снилась?
В словесном выражении мысль Секонда заняла полстраницы, а на самом деле — секунду или две. И аналог ему ответил тут же.
— Да, об «идеальном» коммунизме подумал, — не стал возражать Фёст. — Что «реального» касается — ты такого не видел, а я громадные гастрономы, где на километрах полок ничего, кроме морской капусты, — ох, как помню. Сутки-другие — и их бы не хуже, чем сейчас здесь, заполнить можно было…
— Бы! — веско сказал Секонд и даже ладонью по столу для убедительности пристукнул.
— Да я и сам уже одумался. В этом «бы» всё и дело. Кому в те времена дубликатор отдашь? Что самородок-изобретатель отец Кабани со слезами говорил? «Не для того я колючую проволоку изобрёл, и „мясокрутку“ не для того». «Назад верните» — просил! Ан уж поздно…
Фёст снова резко сменил настроение. Чего грустить о давно пролетевшем, да и безвариантном, на самом деле?
— Ну, суть понятна. «Эскаэсов», «калашей» всех видов вы им пару миллионов нашлёпаете. У нас здесь, на свободном рынке, хороший «АКМ» российского разлива стоит в четыре раза дороже китайского, «ТТ» послевоенный — в десять. В вашей гуманной реальности, я так прикидываю, исходя из имеющихся проблем, качественные стволы европейского производства вообще купить сложновато, следовательно, цена будет, какую запросите. Особенно если на следующий уровень подняться. Тяжёлая техника. То, что можно из советских изделий предложить, — почти по Шекли, «абсолютное оружие». Против любых танков, включая и нынешние российские — «САУ-сотка» или «Т-34–85» — как бульдозер против «Запорожца». Но тут же возникает очередной вопрос, как всегда. Ну, сдерёте вы с Ибрагима и его «Интернационала» миллиарды и миллиарды натуральных «Халифатских реалов»[127], так кто мешает, минуя «долгий и утомительный процесс», сдублировать столько же этой «мелочи», ничем не утруждаясь?
— Эх, братец, — сказал Секонд, загрустив от взаимного недопонимания и оттого, не сдержавшись, разлил в рюмки понемногу коньяка, приготовленного для завтрака с Сильвией. — Тебе бы со мной местами не только в бою меняться, тебе бы через раз вместо меня на лекции в Академию ходить. Сообразил бы, что золото золотом (причём его появление ещё замотивировать надо), а где ты несколько миллионов бойцов найдёшь, готовых за нас (или там где нам надо) воевать? Мы ведь всю вообще мировую конфигурацию изменить собрались, да ещё и с явной прибылью, а не в убыток. Нет, правда, давай попробуем: ты — в аудиторию, а я — по девкам… Давно тебе пора своё образование систематизировать.
— Это по каким, интересно? — с тонким дрожанием в голосе стальной струны спросила так же внезапно, как недавно Сильвия, появившаяся Людмила. Она же — подпоручик Вяземская.
Фёст досадливо хлопнул себя ладонью по колену. Сказал же брат-аналог, что «валькирии» скоро должны появиться. Вот и появились. Консьерж их пропустил без вопросов, входную дверь с помощью блок-универсала открыть ничего не стоит. И тут же услышали то, что для них совсем не предназначалось.
Слух ли у каждой женщины такой нечеловеческий, или гендерный инстинкт направляет туда, где два мужика попросту сидят себе на кухне, ничем, кроме привычного словоблудия, не злоупотребляя? И ведь надо же — недели не прошло, как поняла Люда, что Фёст — готов, и уже не хватает терпения перемолчать, как пристойно подпоручику в присутствии двух боевых полковников.
Сейчас она ощущала себя будущей Ляховой-первой (а Майя, к которой она с дня первого знакомства испытывала нечто вроде женской ревности, само собой, станет «второй», что Людмилу чрезвычайно радовало). Одета она была вполне «по-боевому», но так, чтобы не выделяться на улицах хоть одной, хоть другой Москвы. Достаточно свободные джинсы, скрывающие пистолет, пристроенный на бедре в прорези левого кармана (урок Фёста даром не прошёл), водолазка цвета хаки, «хвостом» собранные волосы. Никакого макияжа. Даже пронзительный взгляд своих сиреневых глаз она научилась маскировать длинными ресницами.
Дело в том, что Людмила, подогреваемая непривычным ей пока чувством, перепутала голоса. Пройдя из прихожей в коридор между квартирами, она услышала обрывок разговора, и ей показалось, что насчёт «девок» сказал именно он.
— Да к таким, как ты, — ответил Секонд. — Чтобы, наконец, научить вас, что грешно издеваться над человеком, желающим вам только добра. Это я имею в виду поручика Полусаблина.
Означенного поручика, командира «женской роты», девяносто подчинённых ему девиц (семь «валькирий» погоды не делали) из природной вредности доводили до грани тихого помешательства, демонстративно, «согласно устава», являвшиеся на утреннюю зарядку топлес.
«А там, господин поручик, статья семнадцатая, ясно сказано — „в трусах и лёгкой обуви. В грязь и дождь разрешаются сапоги“».
Другой бы, на месте Полусаблина, радовался ежедневному бесплатному стриптизу (да какому!) или придумал для нахалок нечто остроумно-неприятное. Начав, например, тоже «согласно устава», комментировать несовпадение имеющейся анатомии с «высочайше утверждённой». А ещё лучше — приказать в дождик, с лужами на штурмполосе: «Рота, по-пластунски, до первого рубежа и обратно!» — и тщательно следить, чтобы упражнение выполнялось по всем правилам. Раз такие знатоки и ценительницы уставов — так извольте. Но — не каждому дано, особенно если на медицинском факультете не учился.
— Ах, извините, господин полковник, не поняла. — Людмила изобразила нечто вроде книксена. Знает, зараза, что не в том настроении и «жених», и начальник, чтобы осадить её, как чины позволяют. — Просто не выношу я, когда свои мужчины о других девках рассуждать начинают.
— Вот, камрад, до чего доброе отношение к личному составу доводит, — развёл руками Секонд. И, уже к Людмиле обращаясь: — И чем же тебе, подпоручик, другие девки так не нравятся, если вы знаете, что вы — всё равно лучше? А где же гендерная солидарность? — Секонд откровенно развлекался, пользуясь возможностью не думать о серьёзных вещах хоть несколько минут. — И имей в виду, раз и навсегда, я тебе, пока погоны не снимешь, никакой не свой. Даже когда невесткой мне станешь, деверем и по имени сможешь называть только при совместном проведении отпуска. Доходчиво?
В шутку или не в шутку, он сейчас сказал то, что Фёст и Людмила вслух пока не обсуждали. И сразу всем стало просто и легко. Не нужно больше никаких «политесов», недоговоренных фраз, попыток «на людях» демонстрировать безразличие друг к другу. Хоть сейчас Секонд сумел показать «близнецу», кто из них старший. А старший брат, как известно, второй отец.
— Что ж, ребята, раз на мои слова ни от кого возражений не последовало, считаем вопрос решённым. По глотку шампанского в ознаменование момента, после чего, поручик Вяземская, передайте Вельяминовой мой приказ построить отделение.
Людмила ещё не до конца пережила случившееся и не сообразила — в каком отношении ей теперь предстоит находиться с Анастасией. Так-то комвзвода, а если по иному счёту? Она, считай, обручённая невеста одного полковника Ляхова и, соответственно, родная невестка второго, а та — всего лишь подполковника Уварова. Интересно складывается. Не зря старые уставы и законы ещё с времён Петра препятствовали созданию подобных конфликтов служебных и родственных интересов.
Ляхов объявил построившимся в коридоре девушкам, что исполнительная команда получена и они немедленно отбывают в пункт сбора. Вадиму показалось — его слова особого энтузиазма не вызвали. «Валькирий» уже увлекла сравнительно вольная жизнь в другой Москве и возвращение к казарменной не радовало. Да и вместе с Фёстом им воевать понравилось. Настоящий командир, и без штаб-офицерских замашек. Но ничего не поделаешь, служба есть служба.
Фёст всего на минуту-другую уединился с Людой, несколько раз торопливо поцеловал, шепнул обычные при прощании слова. Она крепко обняла его за шею, прижалась всем телом, кажется, даже всхлипнула едва слышно. И тут же, отстранившись, превратилась в идущую на задание девушку-бойца.
Проводив Секонда с девушками до двери, выводящей в нужное место и время, Фёст громко, чтобы Сильвия через закрытую дверь услышала, предложил:
— Может, мы, пока Вадим девчат проводит и вернётся, в городе позавтракаем? А то что я вам приготовлю? Яичницу разве? Часа полтора-два у нас есть. Я подходящее место здесь неподалёку знаю. Или на той стороне что-нибудь найдём.
— Как скажешь, — ответила Сильвия, появляясь из своей комнаты, уже полностью готовая, чтобы предстать перед Высочайшей особой. На этот раз она придала себе облик, подобающий рангу посла с особыми полномочиями. С учётом стилей и нынешней Императорской России, и Югороссии тоже. Сделала элегантную, но строгую прическу, нанесла едва заметный дневной макияж. Надела фисташкового цвета костюм английского покроя, не слишком изменившегося за девяносто лет, разве что узкая обтягивающая юбка была покороче, чуть за колени, с разрезами до середины бедра по бокам. Туфли змеиной кожи на шпильках такой высоты, чтобы ноги выглядели наиболее выигрышным образом. Серьги, кулон, два перстня. Неброские, но сразу видно — антиквариат немыслимой ценности.
Фёст подумал, что леди Спенсер наверняка отлучалась за пределы квартиры, в тот же Лондон, где у неё и богатый гардероб имеется, и собственный куафер-стилист. Невозможно при помощи подручных средств за полчаса так преобразиться. Молча выразил положенное восхищение.
— Только ты и сам переоденься, а то слишком у нас в дресс-кодах большой диссонанс получается. Пойдём в гардеробную, что-нибудь подберём.
В квартире имелся ассортимент одежды почти на все случаи жизни.
Сильвия занялась поисками костюма и прочих аксессуаров, гармонирующих с её теперешним обликом.
В это время в кабинете зазвонил городской телефон.
Фёст снял трубку и услышал голос президентского друга Контрразведчика.
— Надо бы встретиться, Вадим Петрович, — без предисловий сказал тот. — Прямо сегодня, часика через два устроит?
Эта линия, подключенная к городской телефонной сети, была абсолютно непрослушиваемой никакими техническими средствами этой реальности, но Ляхов иллюзий не питал. В кабинете собеседника и в его аппарате могло поселиться любое количество «жучков», запущенных коллегами и сотрудниками.
— Устроит. Место?
Контрразведчик назвал точку рандеву в достаточно завуалированной форме, но просто «соблюдая правила игры». Если кто-то, хорошо знающий Москву, их сейчас слышит — в момент вычислит, да и специалистов по наружному наблюдению в любой заинтересованной службе и организации достаточно.
— Договорились.
Фёст повесил трубку и тут же набрал номер кабинета Тарханова. В ту реальность выход тоже имелся, жаль, что сотовая связь там не действовала.
Ситуация начала меняться неожиданно быстро, и он остро пожалел, что остался без поддержки. Сильвия, конечно, прикроет, если потребуется, так её саму Император ждёт.
Только бы успеть!
Он облегчённо вздохнул, услышав голос Сергея. Изложил свою просьбу предельно убедительным тоном.
— Сделаем, — ответил Тарханов, — если уже не улетели…
Несколько минут Фёст сильно нервничал, пока не услышал, что полковник успел и через десять минут Ляхов с названными особами выезжает.
— Что там такое? — спросила Сильвия. — Костюм я выбрала. Посмотри.
Услышав о предложении Контрразведчика, рассмеялась:
— Всё идёт по плану. Этот оказался самым сообразительным.
— Или — наоборот. Нет человека — нет проблемы.
— Едва ли, едва ли. Не рискнут. Однако бдительности не теряй: в стиле их организации — сначала козырей накопить, а потом партию разыгрывать.
Фёст сообщил, что в последний момент успел «снять с поезда» Людмилу с Гертой.
— Молодец. Тогда вообще опасаться нечего, а вот эффектно сюжет завернуть — шансов прибавилось.
Пока Фёст одевался, вернулся Ляхов с девушками. Обсудили обстановку и примерный план действий.
— Не люблю я цейтнотов, — сказал Секонд. — Денёк бы на подготовку не помешал. Экспромты не всегда хорошо получаются.
— Так это ж клиент считает, что меня в цейтнот загнал. Действительно — за два часа толком не подготовишься. Только он не учёл, что его партия для нас уж больно банальная, и двух проходных пешек на предпоследней горизонтали не видит. «Туман войны» в шахматах — на такое партнёр уж никак не рассчитывает…
— Жаль, Вадим, наш с тобой «деловой завтрак» срывается, — очень убедительно вздохнула Сильвия. Людмила будто только что обратила внимание на парадно-выходной облик жениха и аггрианки. До этого преобладали положительные эмоции от внезапного воссоединения. Полоснула Фёста взглядом. Типа: «Я, значит, только за дверь, а ты уже…»
Но тут же и опомнилась. Он же сам, не прошло и получаса, её обратно вызвал. Так собравшиеся «развлечься на стороне» мужчины себя не ведут. Скорее всего, на случай, если не удастся их с Гертой вернуть, он и решил идти на встречу вместе с леди Спенсер. И вообще хватит себе голову глупостями забивать. Если человек тридцать лет сам по себе прожил и вдруг её нашёл, не станет он прямо в день объяснения шашни со столетней тёткой заводить. Хотел бы — давным-давно успел.
— Да не беда, завтраком нас, надеюсь, с царской кухни накормят, — махнула рукой Сильвия. — Как думаешь, Вадим?
— И не только завтраком, — согласился Секонд. — Вы с нами по блок-универсалам связь постоянно поддерживайте, — это уже Фёсту. — Выдернем, если что.
— Бог не выдаст, свинья не съест. Девочки в случае чего меня и сами выдернут.
Людмила и Герта дружно кивнули.
— Заодно, под настроение, намекните Государю, что за свои подвиги эти доблестные офицеры ещё не получили заслуженных наград, — сказал Фёст.
— Не беспокойся. Мы всё равно о дальнейшем сотрудничестве с Катранджи говорить будем, так очень к слову придётся, что если бы не они и подполковник Уваров… Раскрутим Константиныча по полной, — подмигнула ему Сильвия. В мире Секонда такой жаргонизм не употреблялся. — Все в наградном списке будете, не расстраивайтесь.
— Смотрите, Сильвия Артуровна, — с явной иронией сказала Вяземская, — не продешевите там. «Георгия» мы вряд ли заслужили, но уж меньше чем на «Владимира с мечами» не соглашайтесь.
Все засмеялись.
Сильвия оценивающе посмотрела на её обтянутую тонкой водолазкой грудь.
— Пожалуй. Его Величество, думаю, с удовольствием лично увенчает тебя заслуженной наградой.
Людмила опустила глаза.
— Ну, счастливо оставаться. Смотри, Вадим, поаккуратнее здесь. Не зарывайся. В одиночку против Системы воевать не так просто, как тебе в азарте может показаться. В любом случае, думаю, расстаёмся мы ненадолго.
Считая, что всё нужное сказано, она направилась к переходу в соседнюю квартиру.
Сильвия с Секондом отбыли, из окна было видно, как они разместились в большом, как раз на этот случай взятом казённом лимузине и тронулись в сторону Тверской «другой» Москвы, а Фёст с двумя помощницами остались в «этой», куда более тревожной и непредсказуемой. Но погода и там, и там по странному совпадению сегодня была одинаковой: тепло, пасмурно, с намёком на возможный летний дождь, хотя календарные даты в этот раз не совпадали больше, чем на месяц.
— Теперь, значит, подружки, придётся нам втроём судьбами мира заниматься. Довожу диспозицию, — сказал он, адресуясь к Герте. — Как изначально определились, Людмила продолжает числиться консультантом всемирной «Комиссии по изучению и рационализации паранормальных явлений». Приехала сюда вместе с моим братом Петром (то есть вашим Ляховым) из Америки, как бы меня инспектировать. Я его здесь уже кое-кому представил, информация по нужным людям гуляет. В здешних обстоятельствах крыша очень надёжная. Особенно в силу того, что ни одна серьёзная служба такой ерундой, как полусумасшедшие уфологи и телепаты, интересоваться не станет. Вот если б какие-нибудь «врачи без границ» или «журналисты против тоталитаризма» — тут бы коллеги забегали.
— Почему «коллеги»? — спросила Герта. Она слушала Ляхова, теперь «единственного», и параллельно думала о своём, женском. Странно как-то получается. Совсем недавно она, чисто инстинктивно, при взрыве накрыла его своим телом, а то, что оба не пострадали — это уж солдатское счастье. Чем не повод для начала личных отношений? Вроде правильнее было бы, если б со своей спасительницей он затеял имитацию «любовной игры», когда милиция с контрразведкой нагрянули. Тесная ведь близость судеб наметилась, куда теснее? А вот нет, не её, Людку выбрал. Сыграли они хорошо, спору нет, а потом? Остановиться с разгону не смог, что ли? Неужели для такой внезапной «любви с первого взгляда» достаточно вблизи полуголую грудь и ножки снизу доверху увидеть?
Тут же она признала, что всё правильно сделал Вадим Петрович. Не их же, разгорячённых боем, готовностью убивать и самим поймать шальную или прицельную пулю, посылать полупьяную дурочку-блондинку изображать перед знающими своё дело профессионалами? Любая взглядом себя выдала бы. Невозможно только что в прицел обречённую на смерть живую цель ловить и теми же глазами беспросветную наивность изображать.
Но Герта ещё и о другом размышляла. Глядя, как Людка откровенно начала демонстрировать, что свой выбор сделала по-настоящему, сама она ни зависти, ни ревности не испытала. То есть мужчину, которым можно увлечься, она в Ляхове-первом не увидела. И это очень хорошо. Значит, ей нужен кто-то другой. Об этом Наталья Андреевна им на пароходе очень доходчиво объясняла. В том числе и на собственном примере. Той до тридцати лет дожить пришлось, пока не сообразила, кто для неё единственный.
— А как же, если не «коллеги»? — ответил Вадим вопросом на её вопрос. — Все сотрудники определённых служб — коллеги, независимо, на чьей стороне и за какую идею работают. И для вас, «императорских печенегов», здешние эмгэбэшники, кроме тех, кто совсем скурвился, душевно ближе, чем прочие господа, с кем нам тоже скоро встречаться придётся. Так я продолжу, если позволите. Пётр Петрович, как его здесь уже многие знают, отбыл по своим делам в иные палестины, а Людмилу оставил для аудита и оказания практической помощи…
— Не слишком она молодо выглядит для консультанта такому человеку, как вы? — снова спросила Герта.
— Дорогая, мы чем здесь занимаемся? — вкрадчиво спросил Вадим.
— Паранормальными явлениями…
— Оч-чень правылно, — Ляхов небрежно скопировал сталинский акцент. — Так чем они паранормальнее… Здесь все культурные люди видели фильм «Секрет её молодости». Там трёхсотлетняя старушка очень лихо девушку лёгкого поведения изображала. Да и дама, только что нас покинувшая, ненамного её моложе. В нужные моменты Люда может намекать, что на самом деле ей… Столько, сколько обстановка потребует. Доходчиво?
Герта перемолчала.
— А ты, в свою очередь, будешь изображать её подругу. За компанию увязалась, якобы на «стажировку», на самом же деле мужа себе в России поискать. По происхождению ты тоже русская. От американцев и прочих европейцев с их жлобством и политкорректностью тебя тошнит. Чем не легенда? — попутно погордился быстротой своего мышления Ляхов. — Имена вам оставляем прежние, паспорта будут американские. Ты — правнучка героя русско-японской войны адмирала фон Витгефта, сама — тоже «фон», — продолжал он уточнять детали, действительно прямо сейчас приходящие в голову. — Замужем не была, отчего дедовскую фамилию сохранила. С тысяча девятьсот двадцатого года семейство проживает в Сан-Франциско. Вдруг кто спросит — почему не репатриировались, отвечай в достаточно резкой форме — «не ваше дело». В тех кругах, где нам придётся вращаться, — самый подходящий ответ. Заодно сможешь допускать любой акцент, любые фонетические, стилистические ошибки. Нацеленность на поиски мужа позволяют вольности поведения в довольно широком спектре. А в случае, если поведение мужчин, с кем придётся общаться, тебе не понравится, по любой причине, сразу кричи: «Я американская гражданка! Харасмент!»
— А что это такое? — вместо Герты спросила Людмила. Им такой термин был, в силу специфики подготовки, незнаком.
— О, это великолепное американское изобретение. Слава богу, ни в вашей России, ни в нашей, куда более подверженной «чуждым влияниям», не прижилось. Дословно — «сексуальные домогательства». То есть, если тебе мужчина подал пальто в гардеробе, открыл перед тобой дверь или вдруг за ручку без «явно выраженного разрешения и согласия» взял, ты его свободно можешь с помощью адвокатов раскрутить на любую, даже математикой и здравым смыслом неограниченную сумму, а то и посадить на вполне реальный срок. В России за неотягчённое убийство меньше дают.
Людмила удивлённо округлила глаза, как блондинке, тем более — натуральной платиновой, полагается, а Герта засмеялась.
— В обратную сторону закон не действует?
— Увы, — вздохнул Вадим.
— Хорошо. А то бы сколько мне лет за того Иосифа намотали? Я ведь его тоже — «без явно выраженного разрешения». И не за ручку…
— Всё, барышни, хватит. Вы меня утомили. Ваша «старшая сестра» — тем более. Теперь мы остались втроём, что меня очень радует. Из наличных пятнадцати комнат каждая может выбрать любую. Отвыкайте от казарменной жизни. Имейте в виду — я намерен задержать вас при себе всерьёз и надолго. До окончания «Мальтийского креста» — однозначно. И больше, если захочется. Одним словом, как во дворце «Синей бороды» (он же граф Жиль де Рец, близкий друг Жанны д’Арк), лично моей территорией остаётся вон тот кабинет, — он указал пальцем в направлении длинного коридора «основной» квартиры. — Там хороший диван, много книг, бар и вид из окна в «страну моего детства». Ничего другого утомлённому несуразностями жизни самураю не надо. В остальном — веселись, братва! Начнёте пристально исследовать каждое помещение — такое сможете обнаружить…
Ляхов сделал страшные глаза для усиления эффекта, но в основном был прав. Девушки с базовой аггрианской подготовкой наверняка смогут найти много интересных вещей, ускользнувших от внимания и понимания простых землян.
— Только вот… — Вадим сменил тему. — Завтраком так никто и не озаботился. У Эрскина Колдуэлла или у Хемингуэя, точно не помню, есть великолепная метафора: «В комнату вошёл парень, длинный, как день без завтрака». Мне что, кухонные наряды среди вас расписать? Или вы надеетесь, что я совсем уже либерал-демократ и двум подпоручицам позволю беспечно порхать и веселиться, а сам к разделочному столу и плите стану? Не дождётесь…
Насладился реакцией двадцатилетних девчонок, кроме казармы ничего, по-настоящему, и не видевших, что на своей Таорэре, что в «печенегах». Так, обрывки и эпизоды «коловращения жизни». Они действительно смутились, вскочили из-за громадного дубового стола, не слишком, впрочем, понимая, что и как следует делать. О наличии пищевых припасов в доме «валькирии» понятия не имели, и кроме непременной яичницы или консервов, мясных или рыбных, ничего в их милые офицерские головки не приходило. При всей своей «универсальности» до пресловутых «щей из топора» их фантазия не простиралась.
— Отставить, — скомандовал Фёст. — Ставлю незачёт. Заболтавшись со старшим начальником, то ли расслабившимся, то ли вас специально провоцирующим, вы опять забыли о службе…
При этом он словно бы мельком глянул на Людмилу, и она невольно покраснела, вспомнив эпизод с пистолетом.
— Не пойдёт так, девицы, не пойдёт, — чуть-чуть Фёст добавил жёсткости в голос. — Неужто забыли, что нам предстоит встреча с человеком, априори предполагаемым в качестве противника? Встреча намечается в ресторане. Следовательно, продовольственный вопрос следовало заведомо исключить. Совсем о другом начать думать.
Теперь и Герта смутилась. Действительно, что стоило вовремя вспомнить и ответить этак небрежно: «Сегодня нас другие повара накормят, а впредь просим предварительную заявку в письменном виде подавать».
Но Фёст не любил, на генетическом уровне, смотреть на людей, оказавшихся в неловком положении. Даже от провинившихся солдат, после необходимых по службе назиданий, отворачивался, бросив сквозь зубы что-нибудь матерное, но в принципе «отпускающее на покаяние».
— Успокоились, девицы, — сказал он. — Не комплексуйте. Уж сколько я промухивал в ваши годы, и не перескажешь. Сейчас мы пойдём туда, где нас ждёт клиент и, возможно, масса впечатлений. Там я вас буду кормить, а вы — украшать место своим присутствием и по мере необходимости исполнять мои маленькие прихоти. Согласны?
— Так точно, господин полковник! — Это у них получилось гораздо веселее и отчётливее.
— Только это… — Он внимательно осмотрел своих сотрудниц от глаз до щиколоток и обратно. — Переодеться — по моде и погоде. За окно посмотрите. Желаю ощущать себя олигархом-двоежёнцем на отдыхе. Оружия не брать. Блок-универсалов на любой случай хватит. Во второй квартире — женская гардеробная. Почему-то уверен — в ней на ваши размерчики много чего подходящего.
— Так точно, господин полковник! Десять минут. — Это опять Герта.
— Не дурите мне голову, барышня, — с одесскими интонациями ответил на её слова Ляхов. — Я вас не по боевой тревоге поднимаю. Полчаса — это в самом-самом отдалённом приближении, по полкам и ящикам порыться. Столько же — перемерить десяток предметов и мнениями обменяться. Короче — час. Как в эстонской армии. Мне нужны по-настоящему хорошо одетые спутницы. Не обольщайтесь, я не только в ваших боевых способностях разбираюсь.
— При чём здесь эстонская армия? — спросила любящая докапываться до сути вещей Герта, в нынешней реальности и термина такого не слышавшая. Есть Ревельская губерния, и ничего более, её уроженцы служат в войсках на общих основаниях.
— Это — из нашей жизни анекдот. Эстонский десантник, ввиду некоторой врожденной замедленности рефлексов и сниженной двигательной активности по нормативам, должен проснуться, одеться и собраться «пока горит свечка».
Девушки искренне посмеялись. С принципом «пока горит спичка» они давно познакомились на практике.
Витгефт направилась в указанном направлении, а Людмила задержалась, положила Вадиму руку на плечо.
— Поясни всё же, как ты мыслишь. Мы должны девушками лёгкого поведения нарядиться, или как?
У Фёста сейчас было действительно отличное настроение. На сутки или более он решил не думать ни о каких мировых проблемах, просто от души отдохнуть и развлечься в компании великолепных девчонок, одна из которых — почти будущая жена, а вторая — лучшая подруга их обоих. А Контрразведчик — пусть попробует под него, именно такого, подстроиться. Ему ведь, как оказалось, что-то от экстрасенса и парапсихолога Ляхова нужно, а тому от кого бы то ни было — совершенно ничего!
Вадим, не в силах удержаться, привлёк к себе девушку, поцеловал в краешек губ.
Она неожиданно отодвинулась.
— Оставь это. Мы на работе? Вот и веди себя как положено. Я спросила.
— Молодец, подпоручик, истинно говорю — молодец. Вы должны, по смыслу ситуации, как я её понимаю, выглядеть крайне элегантными, знающими себе цену девушками, верхнесреднего класса, что нашего, что американского. Никакой здешней тусовочной гламурности, у вас приличное образование, причём психологическое и историческое, и серьёзная работа. В то же время допустима раскованность, опять же диктуемая положением, изысканная эротичность, в духе героинь Ефремова. Вы не какие-нибудь пошлые феминистки, вы свободные женщины, лишённые комплексов. Идея ясна? Хотя бы в первом приближении?
— Так точно, ваше высокоблагородие. Ясна. Во втором тоже. Вы — блестящий режиссёр, вам бы сам Станиславский позавидовал в умении боевую задачу ставить. Будет исполнено. Сами только на подходящем уровне окажитесь…
«Все они, „валькирии“ „семёрки“, в основах личности здорово стандартизированы, — подумал Фёст, — несмотря на якобы яркие индивидуальности. Воспитывать их ещё и воспитывать. Так и слава богу! Что воспитаешь, то и будет. Жаловаться не на кого».
Людмила с Гертой в час уложились. Из собственных покупок, сделанных в здешнем ГУМе несколькими днями раньше, и из гардероба квартиры, настроенного на Ирину и Сильвию, они сумели скомпоновать такие наряды, что Фёст, ко многому привычный, тем не менее восхитился. Не зря их Дайяна с Сильвией учили. Вышло именно то, что он подразумевал.
Пистолеты под юбками или ещё где-нибудь прятать не требовалось, оттого девушки ощущали дополнительную степень свободы. Блок-универсалы, вместе с необходимой мелочовкой, они уложили в легко открывающиеся сумочки, а больше им ничего и не было нужно.
Если обратиться к упомянутым Фёстом трудам Ивана Антоновича Ефремова, «Часу быка» и «Лезвию бритвы» в частности, «валькирии» использовали из его постулатов и заветов очень многое, эмоционально, психологически и тактически.
Осмотрев взглядом военпреда на танковом заводе всё это великолепие, Ляхов с видом действительно очень пожилого дядюшки вздохнул, но обошёлся без комментариев. Нечего тут комментировать. Описывать детали одежды Людмилы и Герты бессмысленно, сами по себе они, без учёта того, на что именно каждая вещь надета, значения не имеют.
«Гармония, вот что главное», — подумал Фёст, не позволяя себе задохнуться от счастья осознания того, что эта девушка всё же захотела полюбить его, никого другого.
— Ладно, потрудились, — сказал он как мог равнодушнее. — Будем надеяться, сексуальные маньяки всё ж таки невооружёнными стаями по улицам утренней Москвы бродят. А от одиночных отобьёмся. Пойдёмте, снизу такси вызовем. Времени у нас больше часа в запасе. Опоздаем — подождут.
Начальник группы консьержей и вообще охраны дома Борис Иванович, отставной майор морской пехоты, имевший, по его словам, одну большую мечту — уволиться полковником, да вот не сложилось, лёгким движением руки попросил Фёста задержаться у его стойки. Пропустив девушек вперёд, Вадим приостановился. Оба синхронно сунули руки в карманы. Борис Иванович вытащил свой портсигар, подаренный дембелями ещё в бытность его командиром взвода на Дальнем Востоке. Прошлый раз Фёст посетовал, что у него от армейской службы такой памяти не осталось. А сейчас он достал золотой блок-универсал, украшенный монограммой всего лишь из александритов. Форма монограммы, размер и сорт камней у аггров означали не только индивидуальную принадлежность прибора, но и ранг владельца. Они с Секондом не глядя поделили «бесхозные» упаковки с аппаратурой аггрианских агентов, ему — такой достался. Да какая разница, для местных жителей вещь всё равно выглядела эффектно, а набор имеющихся функций блок-универсала всё равно был намного больше, чем удалось наскоро освоить.
Морпех попросил посмотреть, уважительно поцокал языком. В глазах читался вопрос: «А откуда это вдруг, если прошлый раз обычной сигаретной пачкой пользовался?» Не нужно быть профессиональным логиком, чтобы продолжить мысль и как-то увязать недавно состоявшийся у них разговор о «Чёрной метке» с появлением такого портсигара. Хочешь — понимай, что человек «гонорар» получил за удачно проведённую операцию. Или — трофей добыл «на поле боя». Можно и ещё вариант проиграть — портсигар должен послужить собеседнику неким намёком. Каким, на что — сам разбирайся.
Майор — человек проницательный, наверняка ведь сообразил, что не по обычной оплошности человек «засвечивается».
— Да вот увидел ваш и подумал — чего я мятую пачку в кармане таскаю? Тем более — сорт курю непрестижный, а приходится бывать в обществе солидных людей, у них часы «Картье» или «Омега», у меня — «Командирские».
— У меня, кстати, тоже. — Майор поддёрнул обшлаг, продемонстрировал циферблат с флотской символикой. — Привык, и из принципа тоже…
— Вот-вот. Я, когда в Африке служил, ребята золотишко прикупали, оно там почти нипочём. Ну и я за компанию. У мастера на заказ сделал, как раз по размеру кармана кителя. Нагрудного…
— Заместо бронежилета? — усмехнулся консьерж.
— Вроде того. Дантеса от пули Пушкина пуговица спасла…
— А проба хоть толковая? Знаю я то золото. На Руси раньше самоварным, или цыганским, называли.
— Нет, тут всё верняком. У известного человека заказывал, из южноафриканского самородного. По нашему — девяносто шестая, монетная. Всю премию за операцию в Чаде вбухал.
— Стоит того. — Майор подкинул на ладони портсигар, будто проверяя соотношение размеров и веса. — Плюс камешки.
«Понимающий человек, — подумал Ляхов. — Едва ли только в бухте Ольги пацанов десантироваться учил».
— Камешки это так, бонус. — И спрятал портсигар в карман.
Тема была закрыта. Закурили. После первой затяжки Борис Иванович сказал, понизив голос:
— Вами тут интересовались.
— Неужели? И кому это я вдруг понадобился?
— Если б ко мне обратились, я бы вам точно обрисовал и внешность, и род занятий. А это мне сменщик передал. Молодой парень, Иван. Ну, вы знаете.
Фёст, разумеется, знал каждого из консьержей-охранников подъезда. С каждым словом-другим перебрасывался, на чай давал, особенно если поздно домой возвращался. Собирался попросить ребят из «Чёрной метки» составить на каждого подробное досье: на кого полностью положиться можно, а от кого поскорее избавиться. Теперь-то, располагая полноценными «шарами», он и сам разберётся.
— Он со смены домой шёл. Двое догнали, какую-то ксиву показали, пацан и прочитать ничего не успел. Что взять, — Борис Иванович пренебрежительно махнул рукой, — всей службы — сержант-срочник ВДВ. Чечни немного — вот и всё образование. Стали расспрашивать. Не столько о вас, как о «племянницах» ваших. Так вопросы загибая — не бордель ли здесь подпольный.
— Забавно. А участковый у нас для чего жалованье получает?
— И я о том же. Любая контора всё, что нужно, по своим каналам, не вставая со стула, выяснит. Да и хозяин, друг ваш — человек авторитетный. Не уверен, сам начальник горуправления рискнул бы связываться?
— Ваше мнение? Блатные, что ли? А им чего? Не вижу резонов. Как-то, помню, с одним из смотрящих разговор был. Отчего, мол, мимо него квартиры взяли, дорогу кому-то перешли, с общаком не поделились…
— На чём сошлись? — проявил искреннюю заинтересованность Борис Иванович. То ли вправду о той истории ничего не слышал, то ли решил версии сверить.
«Интересно интрига закручивается, — внутренне усмехнулся Ляхов. — Правильно Александр Иванович говорил, иронически цитируя кого-то: „Что бы вы ни делали, вы делаете мою биографию“». В смысле — «самим фактом причастности к „Братству“ вы обречены на участие в заранее предопределённых событиях. Шаг вправо, шаг влево — никакой разницы. Конвой всё равно стреляет без предупреждения».
— Да пустяки, майор, оно тебе надо? — перешёл Фёст на «ты». — Кому положено — за базар ответил, общак похудел на сумму «морального ущерба»…
Тут он не врал, и врать не следовало. Всё, кто «в теме», знают, сколько с общака по правильным понятиям сняли.
Во взгляде консьержа он пытался уловить что-нибудь демаскирующее. Нет, ничего. Чисто. Если только сам он не последний лох, а майор — гений артистизма. Ничего, кроме некоторого напряжения, вполне естественного при внезапном серьёзном разговоре. Похожем на внезапный встречный бой вражеских разведбатов.
— Хорошо, майор, — полуотвернулся Борис Иванович. — Что показалось важным — я сказал. На самом деле — расспрашивали его только о девушках. О тебе — даже Иван понял — для отмазки. Предупредили об ответственности за неразглашение, и то без нажима. Вербовать в агенты не пытались. Это пока всё. Дальше сам смотри. Если что — можешь на меня рассчитывать. Остохренело всё. Уж лучше снова автомат на плечо — и в сопки.
— От Москвы до сопок далековато, хотя я и там бывал. Давай в пределах Бульварного кольца сориентируемся.
Подал человеку надежду, не сказав фактически ничего, кроме намёков, подлежащих и двоякому, и троякому толкованию.
Как уже было заведено, в знак завершения разговора положил на стойку, вне поля зрения должным образом подрегулированной телекамеры, пятитысячную бумажку. Так у них сложилось, что этот момент ни одного, ни другого не унижал. Словно два офицера сигаретой поделились.
— Да вот, кстати, — уже с порога обернулся Фёст, — ты, наверное, чай в каптёрке пил, прозевал — съехали Людкины подружки. Конкурса в институт испугались. Теперь их двое со мной — Люда и Герта. Эти — не испугались!
И опять короткий обмен взглядами.
— Съехали так съехали, — равнодушно ответил Борис Иванович. — Если что — я и чемоданы помог с этажа снести. Вчера?
— Сегодня. Около восьми утра.
— Нормально. К Кисловодскому поезду с Курского вокзала.
— Именно. Так я с оставшимися племянницами погулять пошёл. К вечеру, пожалуй, вернёмся…
— Гуляйте, чего ж, дело молодое. Сотовый твой у меня есть.
— Возьми ещё один. — Фёст положил перед консьержем свою «паранормальную» визитку, где подчеркнул нижний из четырёх номеров, всего четырёхзначный. Выводящий с любого телефона прямо на блок-универсал, помимо ГТС и любых провайдеров.
— Ого! Это что ж за… — не сдержал удивления майор.
— Наука — она что? Она находится в постоянном прогрессе, — назидательно сказал Ляхов. — Придёт время — может, все по двузначным звонить будем, — он постарался, чтобы прозвучало и это достаточно двусмысленно.
Можно считать, что пищи для размышлений он бывшему майору предоставил достаточно. Как он её использует — его дело, но Фёсту казалось, что тот сделает правильный выбор. Наш человек, по манерам и по духу.
На прощание Вадим бросил, негромко и почти в сторону, ещё одну фразу:
— Смотри, майор, глядишь, и мечта твоя исполнится. Быстрее, чем думаешь. Какие наши годы?
Девушки за время его задержки заскучать не успели. Стоя в самом центре Столешникова в платьях, и без помощи ветра (а довольно свежий ветерок вдоль переулка тянул) показывающих, какими должны быть настоящие женские ноги от переплетённых ремешками босоножек щиколоток до почти крайних пределов, можно услышать много лестного. Пусть слова эти сказаны не прямо им, а друг другу проходящими мимо мужчинами.
Особенно лестно прозвучала фраза сорокалетнего интеллигентного мужчины, адресованная спутнице, жене не жене — неважно.
— Видишь, вот тебе! А нам орут — «генофонд русский порушен, антропологическая катастрофа»! В подтверждение на подиумах моделей с ногами типа картофельной ботвы показывают. А это — настоящие русские девушки — смотри.
Что ответила дама, «валькирии» не услышали, но и у неё всё с ногами и прочим было в порядке.
Со словами мужчины-патриота нельзя было не согласиться. Они смотрели здешние телепрограммы, даже одну специальную (как положено разведчикам для изучения обстановки), где круглые сутки ходили по подиумам страховидные девицы на заплетающихся ногах толщиной в предплечье ребёнка.
Ещё двое не таких уже интеллигентных, явно подвыпивших мужиков снова хорошо отозвались о технических и эстетических достоинствах элементов их опорно-двигательного аппарата.
— Тех, на Тверской, соплёй перешибить можно, а эти, спорим, мячиком штангу сломают, как Бобров когда-то…
Кроме прохожих, к девушкам начал пристально присматриваться милицейский лейтенант, до того словно бы скучавший в салоне «девятки» с надписью «ППС» по борту. Фёст, спустившись с крыльца, это мгновенно отметил. Не свои патрульные, не нашего отделения. В инициативном порядке, что ли, на выигрышный участок вышли? Мимо ехали, вызывающе эффектными девчонками заинтересовались? Едва ли. Тут всё чётко поделено. И уж слишком (любому менту понятно) вид у девушек не тот! Не уличный. Вариантов придумать можно много. Допустим, лейтенанта раньше наблюдать за домом поставили, чем наверху диспозиция[128] поменялась? Теперь он сидит и думает, что правильнее — позвонить командиру батальона насчёт очередных инструкций или продолжать исполнять предыдущие?
Вадим что-то, из машины не слышное, сказал «валькириям» и с решительным видом направился прямо к машине. Лейтенанту показалось, что лучше всего сразу бы скомандовать водителю отъезжать: не с его звёздочками тут рисоваться, но не успел.
Ковбойской походочкой «а-ля Юл Бриннер» Ляхов пересек мостовую, наклонился к лейтенанту:
— Здравия желаю, командир! Полковник Ляхов представляется[129] по случаю неотложной необходимости. Тебе всё равно здесь скучно. Кинь нас до Суворовской площади, быстро и без затей. Даже и без сирены, если выйдет. Две штуки на пиво. И дежурь дальше…
Интересно, как легко и понятно выразился непримиримый боец с коррупцией. Так «коррупция» — это где-то там, наверху, в заоблачных высях. А так — простые «реалии жизни», от веку заведённые. Просишь у человека что-то, прямо в его обязанности не входящее, — будь готов отблагодарить. Чем и как — смотря по обстоятельствам. А уж снизойдёт он к твоей просьбе или нет — дело его совести и твоей удачи. Всегда так было, сколько Фёст себя помнил, и до него тоже, с времён Киевской Руси, как минимум.
Милицейский лейтенант нервно сглотнул. Полковников он опасался и не любил, возражать им хоть в чём-то — себе дороже. Тем более, судя по возрасту и манере разговора, этот полковник — никак не милицейский. А документы спрашивать — незачем, с первого взгляда ясно, не на понт берёт.
— Садитесь, товарищ полковник, довезём, труда не составит.
Втроём устроились на заднем сиденье, и всю дорогу лейтенант не сводил глаз с внутреннего зеркала. Будто никогда девичьих коленок не видел.
Где переулками, где проходными дворами, где по встречке с сиреной до бывшей площади Коммуны, ныне — Суворовской, долетели за двадцать минут.
— Спасибо, командир, — сказал Ляхов, выпустив на тротуар девушек. — Ты — хороший парень. Держись, господин офицер, всё ещё впереди.
Положил на торпедо машины обещанные деньги.
— Да вы что, товарищ полковник! Да зачем? Мы и так, из уважения… — Лейтенант, похоже, всерьёз попытался возмутиться.
— За уважение — спасибо. От меня взять можешь. Знаю я ваши с сержантом заработки. Только сволочью не становись за эти же копейки. Не окупается, ты мне поверь. Ладно, езжайте, заболтался я…
На самом деле Ляхов говорил очень продуманно, ориентируясь на довольно понятную натуру этого лейтенанта. С кем же дальше жить, работать и воевать, если молодёжь вовремя не воспитывать?
— Езжай. Вдруг чего потребуется — по службе или просто так — к старшему консьержу в моём подъезде обращайся.
Они вошли в ворота, ведущие к озеру в глубине парка Дома Российской армии. Людмила обернулась, убедилась, что милицейская машина потерялась в потоке, сжала локоть Вадима:
— Да, вот такому нам учиться и учиться…
— Не скромничай. На даче ты так лихо импровизировала…
Герта смотрела на них сбоку, до невозможности тонко улыбаясь. Милуются, понятное дело. Но Вадим Петрович партию провёл действительно аккуратно. Хоть в учебники вноси. Одно было Герте непонятно — для чего эта милицейская машина оказалась напротив подъезда именно в момент их появления? И отчего взгляд сержанта за рулём не соответствовал его роли и должности?
Глава тринадцатая
В пасмурный летний день очень приятно идти по аллеям густого двухсотлетнего парка в самом центре Москвы. Даже не верится, что совсем рядом гудят тысячами машин и стоят в пробках Садовое кольцо, Олимпийский проспект, проспект Мира и менее мощные транспортные артерии. Словно и нет вокруг гигантского мегаполиса. Липы пахнут, зеленеют газоны и лужайки, словно в каком-то Гайд-парке. В обширном пруду плавают утки и лебеди, бабушки с детьми неспешно прогуливаются. Благорастворение воздухо́в, одним словом.
Только Фёста, которого, пока он здесь один, снова можно называть просто Вадимом Ляховым, здешнее благолепие, невзирая на наличие двух прелестниц справа и слева, не слишком умиротворяло.
Герта передала ему своё впечатление от сержанта, сидевшего за рулём подвёзшей их машины, он им сообщил то, что услышал от майора Бориса Ивановича, и кое-какие собственные мысли.
Нельзя сказать, что он, как Михаил Берлиоз на Патриарших прудах жарким московским вечером, почувствовал внезапный укол тупой иглы, засевшей в сердце. И «необоснованного, столь сильного страха, что ему захотелось тотчас же бежать отсюда без оглядки», Вадим тоже «не испытал»[130]. Кое-чем существенным он отличался от председателя МАССОЛИТа, оказавшегося невинной жертвой слишком мощных, чтобы даже просто вступать с ними в дискуссию, сил.
Вадим каким-то не описанным в анатомическом атласе Синельникова органом ощущал тревогу, и это тоже понятно — надвигающаяся гроза на многих людей действует не самым благотворным образом. А если вдобавок к этому учесть факторы уже совершенно материалистические… С давних времён известно: «Минуй нас прежде всех печалей и барский гнев, и барская любовь». Связываться со всей «машиной государства российского», даже пребывающей в полуразобранном состоянии, одиночке не слишком разумно. Могущественные «братья» давненько не давали о себе знать, да если бы вдруг и дали… В данный конкретный момент он сам по себе на этой аллее и мало чем отличается от персонажа фильма «Три дня Кондора». За одним исключением — герои-одиночки далеко не всегда выигрывают поединки с такими организациями, как ЦРУ, НКВД, МГБ, РСХА. В кино — почти всегда, но у нас тут, к сожалению, не кино.
Ясное дело, знал, братец, на что шёл, сначала перчику в чересчур пресную жизнь захотелось добавить и денег подзаработать, потом втянулся. Но вот последнее время ситуация начала обостряться как-то слишком резко и, более того, малопонятно. Хорошо Секонду, при самом катастрофическом раскладе ему грозит всего лишь опала, но ни орденов, ни дарованных ими «преимуществ по службе» сам Император лишить не может, согласно указам «О вольности дворянства».
А ему, «смерду советского разлива», с четырьмя (и коробки теперешних спичек не стоящими) латунными звёздочками капитана медслужбы запаса, который «никто и звать его никак», в какую сторону думать прикажете? Даже в тайге или джунглях, выйдя на охоту, примерно представляешь, с кем дело иметь придётся — с медведем, уссурийским тигром или гигантской гиеной Гишу, «ужасом толстокожих»[131].
Сейчас обстановка похуже. Интересное сравнение пришло в голову: каково пришлось бы Роммелю с его корпусом, окажись он вдруг в Синайской пустыне пятого июня тысяча девятьсот шестьдесят седьмого года, на месте Моше Даяна[132]? Без предварительного инструктажа, естественно. Силы-то есть, а с кем воевать, за что и с какими целями — полный туман.
Причём сейчас — в буквальном смысле. Видимость вдруг упала до полусотни метров. Глядишь, вот-вот ливень хлынет. Пора и под крышу. От атмосферных осадков спрятаться, да и «спину прикрыть». Врагом сейчас может быть (или оказаться) каждый, за исключением, естественно, этих двух девчонок. Теперь выходит — втроём против всего мира.
— Первое, господа поручицы, — начал он инструктаж, не закончив «стратегической мысли». — Что бы ни случилось — «тяжёлого оружия» не применять. Нам мясорубка в центре города ни к чему. Если что — рукопашный бой и пресечение попыток неприятеля использовать огнестрельное оружие парализующим излучением. Устанавливаем дальнобойность блоков метров на сто, дальше бессмысленно. Если сейчас по нам пальнут из «снайперки» — и не увидим, и не парируем. Одна надежда на гомеостаты. Кто сохранит боеспособность, вытаскивает остальных на Столешников. Это ясно?
Его личные «валькирии» выразили полное согласие.
— Теперь второе. Мне так кажется, что сейчас нами интересуются примерно три силы: бандиты, которым Шульгин с Новиковым очень обидно хвост прищемили. Нашу квартиру они давно пасли, по самой обычной логике. Смотрящего, с его кавказско-закавказской «пехотой», мы не так давно по всем понятиям опустили. Причём настолько глубоко…
Фёст даже расцвёл от удовольствия, вспомнив ту историю.
— Дальше — люди Контрразведчика, на встречу с которым мы сейчас идём. Он готов сделать на нас ставку, но остерегается. Они все остерегаются, — с прорвавшимся раздражением сказал Вадим. — Раньше люди, претендующие на настоящую власть, плохие они были или хорошие — не наше дело, умели голову на кон поставить. «Аут Цезарь, аут нихиль», а нынешние! На дерьме сметану собрать, на грош пятаков наменять — вся их идеология!
Ну и последнее — то ли оппоненты, то ли просто соперники нашего сегодняшнего партнёра. Прознали что-то про странные контакты Президента, сами решили или пресечь, или поучаствовать. Вот и весь расклад, девчата. Доходчиво командир изложил? Грустно не стало?
Следует сделать ещё одно пояснение — Ляхов-этот всего пятнадцать лет назад, невзирая на должности и приличное материальное положение отца, собственную эрудицию и культуру, едва не пошёл по пути своих лиговских приятелей, только начинавших формировать основу пресловутого «бандитского Петербурга». Достаточно было вокруг людей, умевших вербовать в свои бригады именно таких, как он — не тупых люмпенов с окраин, а студентов-юристов, химиков, компьютерщиков, мастеров разных видов спорта, изобретателей-самоучек. С его способностями стрелка — прямая дорога в киллеры высокого разбора. Особых моральных преград, по тогдашнему настроению и стилю отношения к фраерам, а уж особенно — ко всем видам власти, существовавшей на рубеже восьмидесятых — девяностых годов прошлого века, Ляхов не испытывал. Другое дело, того же самого природного ума и характера хватило, чтобы сообразить — ларьки курочить или «крышевать», в «бригаду» бритоголового амбала идти — смысла никакого. «Украл, выпил, в тюрьму — романтика!» — не его тезис.
Куда разумнее показалось сдать экзамен в расположенную недалеко от дома Военно-медицинскую академию. Конкурс в двадцать человек на место преодолел легко. Учился тоже без особого напряжения, всякие непостижимые для «обычного» человека науки, вроде нормальной и патологической анатомий, фармакологии, гистологии и тому подобных, превзошёл. В итоге стал военным врачом, с двумя звёздочками на погонах и окладом жалованья меньше, чем у вагоновожатого трамвая.
Зато приобрёл неоценимый жизненный опыт, при этом ничего не забыв из усвоенного в окрестностях блатного мира.
Сейчас Вадим предположил, что бандиты, ничего не прощающие, вплоть до фразы, неудачно сказанной на зоне много лет назад, вполне могли бы решить — появилась подходящая возможность расквитаться с людьми, по-серьёзному их напугавшими. Квартиры за ними так и числятся, пусть самих мужиков, чересчур крутыми оказавшихся, давненько не видно. Зато нарисовалось в том же месте нечто непонятное: семеро девчонок, почти школьниц, и один странный фраер при них. Вполне можно карты пересдать. И за Султана посчитаться, сто тысяч баксов с большим наваром вернуть, и ещё кое-какие неясности прояснить. Давешний милицейский сержант как раз из интересующихся мог быть.
Дальше. Если не бандиты, то цепочка вполне может от дачи тянуться. Они с Людой самый первый дозор отвлекли, но вот только на тот самый момент. Потом (наверное) специалисты начали думать безэмоционально. И очень именно мы им стали подозрительны… Да хотя бы и тем, что, не дожидаясь утра, пьянку и веселье не закончив, сразу, до рассвета, с дачи уехали. А надо бы было, как положено нормальным людям, ни в чём не замешанным, после гулянки спать за полдень, потом похмелиться, в речке искупаться и так далее. А они через час после контакта с правоохранителями — по машинам и нету! Невзирая на якобы (теперь уже — якобы!) нетрезвое состояние. До крайности подозрительно!
Само собой, данные на настоящего хозяина дачи они получили в тот же момент, когда заинтересовались. А заинтересоваться было необходимо, Ляхов это понимал никак не хуже человека, стоявшего за спиной участкового. Если он не совсем дурак. А откровенных дураков в МГБ всё-таки не держат. Хозяин — тот-то и тот-то. Где сейчас пребывает — неизвестно. Дачей и квартирами распоряжается очень странный тип. Его официальная должность звучит смешно для настоящих оперов. «Комиссия паранормальных явлений», с центром в Сан-Франциско. А настоящие в «конторе» наверняка остались. И что дальше?
Девушки (и выращенные только для того, чтобы заниматься оперативно-разведывательной деятельностью) сказанные за десять минут неспешной прогулки господином полковником слова восприняли совершенно правильно. Пожалуй, даже с удовольствием. Как ирландский сеттер, который при одной фразе — «на охоту идём» начинал бешено метаться по двору, размахивая хвостом и высоко подпрыгивая.
«Так для этого и живём, хозяин. Чего ж ты раньше сачковал? Побежали!»
Они подошли к ресторанчику, куда Ляхов и собирался. В ста метрах от назначенного Контрразведчиком места. Подождёт, понервничает, по сотовому звонить начнёт. Или — что-нибудь другое придумает. А мы пока подождём, поглядим, не возникнет ли какая-нибудь уточняющая ситуация.
На берегу большого пруда широкая деревянная веранда под пластиковым навесом в виде крыши японской пагоды, полтора десятка столиков, накрытых настоящими льняными скатертями, солидные книжки меню, тихая культурная музыка. Всё это, и официантки, одетые если не от Версаче, то от (или — под) Зайцева, и немногочисленная публика, выше среднего класса, говорило о том, что не в самое простое заведение привёл Ляхов девушек.
На них обратили внимание. Как мужчины, так и женщины. Судя по классу сопровождающих его девушек, вполне ещё молодой, сорока лет не достигший господин, выглядевший наподобие «ковбоя Мальборо» с рекламы, одновременно мог оказаться персонажем «списка Форбса». Пусть и не первого десятка. Но владельцы пары бензоколонок или даже районные прокуроры не выглядят настолько легко, раскованно и одновременно убедительно.
Вдруг это новый стиль — водить с собой сразу двух супердевушек? Причём любая — намного эффектнее ассортимента крутейшего из эскорт-агентств.
Ясное дело, вообразить, что не имеющие никакого отношения к миру шоу-бизнеса девочки из провинции вместе с искренне их любящим, независимо от внешности, дядей Вадимом, армейским врачом, просто зашли перекусить, представить не мог никто. Как французские академики — что камни могут падать с неба, а у паука не шесть ног, а восемь.
Пока Люда с Гертой листали меню, Вадим продолжал рассуждать вслух:
— Кто-то людей к консьержу подослал, кто-то лейтенанта нам подставил. Скорее всего — просто для психологического давления. Если нужно, там с силовыми воздействиями не стесняются. Простому человеку представить жутко, что с вами и со мной могли бы сделать, будь на то ярко выраженное пожелание. Или — указание.
Людмила и Герта синхронно усмехнулись, вполне недвусмысленно. Как записано у Ильфа: «Это мы ещё посмотрим, кто кого распнёт!»
— Нет, чего я больше всего опасаюсь, — продолжил, рассеянно листая свою книжку меню, Ляхов, — это, как ни странно, президентского друга — эмгэбэшника. Мы ещё на официальной встрече словами перекинулись, скорее всего — друг другу не понравились. С непомерными амбициями парень, вполне способен непоправимых глупостей наделать просто потому, что и в нас до конца не разобрался, и позиция Президента ему слишком расплывчатой показалась. Вот и решил на свой страх и риск «обострить партию». Чтобы при любом раскладе не прогадать. Впрочем, — отстраняюще махнув рукой, сказал Вадим, — проблемы будем решать по мере их возникновения. Зачем-то ведь он нас позвал…
— Вас, — уточнила Герта.
— Меня, — согласился Ляхов. — Вы просто, вдвоём или по очереди, украшаете мою трудную жизнь международного авантюриста и крупного пароходного шулера. Как-то я в круизе вокруг Европы, когда меня пригласили четвёртым в пульку, спросил, какие у них ставки. И ради шутки сказал, что меньше, чем по евро за вист, и садиться не стоит. Так от меня потом до самого конца рейса те мужики шарахались. Хорошо, в полицию не сдали…
Вадим, наслаждаясь звуками зашуршавшего по крыше дождя, закурил. Посмотрел на девушек, не совсем понимающих, какие его слова воспринимать всерьёз, на уровне команд и приказов, а какие — разновидностью офицерского трёпа. Тут ведь тоже ошибаться не стоит.
— Мы сюда зачем пришли? Сейчас половина двенадцатого. Имеем полное право совместить неполученный по вашей вине завтрак с обедом. А там, глядишь, если ничего оригинального не случится, и к ужину плавно перейдём. Впрочем, нет, — одёрнул сам себя Вадим, — ужин я вам устрою в месте, о котором вы сейчас, при самой богатой фантазии, и вообразить не сможете.
Ляхов знал, о чём говорил. Была у него возможность, минуя всякие сложности, провести девушек в ресторан «Седьмое небо», вращающийся на трёхсотвосьмидесятиметрой отметке Останкинской башни. Если кто не был — очень впечатляет. В другой России столь эффектного сооружения построить не додумались.
— Но сейчас, барышни, сделаем так, — он ещё раз привычно, почти незаметно огляделся по сторонам. Пока вроде чисто. — Ты, Люда, сразу включи блок на готовность к «растянутому времени». По полной. Минут десять выйдет? Вот и хорошо. Ты, Герта, так и оставь «парализатор». Безвредный для здоровья простого «хомо сапиенс». Те же сто метров, а раствор луча — градусов девяносто. Хватит, чтобы посторонних не зацепить. А себе я настрою настоящий убойный бластер. На случай, если совсем припрёт. Такой, чтоб любой «скафандр высшей защиты», нашими фантастами придуманный, — в лохмотья! Так вот и сделаем, — говоря, он нажимал кнопки под панелью, заполненной обычными сигаретами.
Ляхов вдруг коротко рассмеялся, причём лицо его весёлости не выражало.
Девушки, закончив программирование, спрятали свои блоки. Герта — в сумочку, повешенную на спинку соседнего стула, причём раскрытую, Людмила — в широкий боковой карман платья. Вадим оставил портсигар на столе, рядом с пепельницей. Вполне естественно для часто курящего мужчины.
— Самая же интересная проблема вот в чём, милые мои, — продолжал Ляхов, отпив глоток расставленной по всем столикам минералки, да не абы какой, а запрещённого к официальному импорту «Боржоми». Похоже — настоящего, а не разлитого из-под крана в ближайшем гараже. — Обычные, «земные» силы меня не так уж волнуют. И с бандитами, и с МГБ и милицией мы всегда сумеем разобраться по-хорошему. В конце концов, с самим Президентом разговаривали, и он, при всех его должностных недостатках, мужчина вменяемый, грубых движений совершать не станет. Гораздо хуже, если нами заинтересовался кто-то не отсюда. О такой возможности старшие товарищи давно предупреждали.
Что мы, мадемуазель-аналитики, для размышлений имеем? Как вы неожиданным образом в соседний, заметьте, мир прилетели, сразу оно и началось. В императорской России массовые беспорядки, внутренней и внешней войной чреватые, у нас здесь с моей, может быть, и дурацкой подачи, насчёт серьёзных реформ разговор пошёл. Что в третьей и четвёртой Россиях происходит — пока не знаю. Вдруг — то же самое? И как же прикажете Держателям этого (или этих миров) на подобные безобразия реагировать? Если они без их ведома происходят? Известным способом…
Официантка принесла закуски, графинчик коньяка Вадиму, вино для девушек. Как Людмила устало-капризным голоском потребовала — самое изысканное из наличных «белых полусладких».
— Что вы хотите сказать? — осторожно спросила Герта.
— Совсем ничего не хочу. Просто предполагаю, без всякого желания. Если я вынужден смириться с вашим существованием, отчего исключить наличие поблизости менее приятных существ? — шутил он уже почти через силу. Так, для сохранения имиджа и стиля.
Его юные подружки задумались. Для них слова Фёста шуткой не звучали. Про Держателей мира они имели очень поверхностное представление, только из отдельных фраз во время застольных бесед на «Валгалле». Но про аггров, форзейлей, землян альтернативных реальностей им объясняли на занятиях вполне серьёзно и детально.
— Поэтому, милые мои, если за нас всерьёз возьмутся иные, останется уповать на «старших братьев». Так я не уверен, что успеем последний «SOS» передать. Они, исходя из прошлого опыта, чего-нибудь опять придумают. Или как в Бресте…
— А что в Бресте? — спросила Людмила. Историю-то она знала не хуже любого профессора, однако не уловила конкретную посылку господина полковника.
— А когда на тридцатый день войны штыком на стенке царапаешь: «Погибаю, но не сдаюсь. Прощай, Родина…» Впереди при этом остаётся ещё тысяча триста девяносто дней этой же войны. Но уже без тебя.
— Оставьте, Вадим Петрович, — небрежно сказала Герта, — пессемизьмы ваши.
Баронесса Витгефт с чёткостью радиолокатора отслеживала отведённый ей сектор, заодно обращая внимание на взгляды посторонних мужчин. Она сидела удобнее, чем Людмила, для тех, кого их ножки привлекали сильнее, чем стакан лимонада — окрестных ос. Заметила, как за три столика от них вполне приличный на вид персонаж, прикусив нижнюю губу, удивительным образом сумел искривить оптическую ось своих глаз. Жене (или просто любовнице) казалось, что он мечтательно смотрит на грациозно скользящих лебедей, а на самом деле — под край стола, на её колени и выше.
Подвинув кресло, чтобы дотянуться до портсигара Ляхова, и нужным образом повернувшись при этом, она позволила нежданному поклоннику увидеть и остальное. Не затем, чтобы продемонстрировать взрослому человеку фасон и цвет кружев своих трусиков, а по его мимике понять — это ли, вправду, его интересует, или настоящий специалист таким образом маскирует истинный интерес.
Нет, ничего подозрительного. Мужика, которому приелась сорокалетняя, заметно увядшая подруга, действительно взволновала двадцатилетняя красотка. Герта легко читала его примитивные мысли, но они ей были неинтересны, раз не несли опасности.
Зато настоящую опасность уловила Людмила. Успела подумать: «Как Вадим всё точно просчитал» — и толкнула его под столом ногой.
Ляхов задержал возле губ недопитую рюмку. Удобная позиция для того, чтоб замаскировать направление взгляда и вообще интерес к чему-либо, кроме текущего процесса.
Три крепеньких мужика свернули с аллеи ко входу в ресторан. Ещё двое, из той же компании, сели, закуривая, на скамейку, с которой хорошо видны все подходы и отходы.
Вадим бросил взгляд на часы. До встречи с Контрразведчиком, причём не здесь, еще целых восемнадцать минут.
Очень похоже, что начинает играться другой (или параллельный?) сценарий. Явно из служб ребята, каких — неважно, но довольно прилично умеющие косить под блатных. Только Ляхова, с пяти лет крутившегося во дворах, где половина мужиков отсидела и даже многие пацаны к совершеннолетию имели по две ходки на малолетку, на такую туфту не купишь. Глаза у них не те — вот в чём проблема в подобных играх. У самого крутого уголовника, если он не крупный авторитет (причём у себя на «малине» или на зоне), не бывает в глазах и повадках подкоркового ощущения причастности к власти. А у этих было, и не лейтенантское. Лейтенанты в свою власть ещё не верят. А эти — никак не ниже капитана каждый.
Но всё равно интересно — неужели Контрразведчик так некультурно себя повёл? Или, правда, «будничная работа»[133] себя оказывает?
Оставалась, правда, слабая надежда, что это — не к ним. Просто нормальные, крышующие ребята заскочили с ресторанщика положенное взять. Оттого и сосредоточенность, привычная опаска, вдруг ССБ[134] прихватит в самый интересный момент?
— Девочки, — почти не двигая губами, прошептал он. — Что бы ни случилось — ведите себя, как на работе.
Они поняли, что он имел в виду.
— Без команды не вмешиваться. Только — если меня всерьёз убивать начнут.
Уж этого они точно не позволят.
Парни (да, серьёзные парни) поравнялись со столиком. Ляхов поставил на стол рюмку, спросил у Герты:
— Горячее уже пора, или ещё посидим?
Двое прошли мимо, будто действительно направляясь к внутренним помещениям, а третий вдруг притормозил. Широко раскрыв глаза, уставился на портсигар Вадима.
— Ребята, вы гляньте только!
Герта успела заметить, как мужчина, только что пялившийся на её ноги, резко отвернулся и словно бы даже голову в плечи втянул.
Чутьё, однако!
Двое немедленно остановились и развернулись на каблуках, как танки, осаженные фрикционами враздрай.
— Рыжьё-то какое! — Их заводила с глуповато-удивлённым лицом выставил вперёд палец. — Полкило, точно. Просто так валяется…
Один из двух, с лицом в принципе правильным, наверное, могущим быть и симпатичным, но сейчас крайне неприятным, сказал почти равнодушно:
— Валяется, так и подними…
Третий, внезапно ставший в дурацкой игре первым, протянул руку. И очень удивился, когда ладонь шлёпнулась о пустую столешницу. Никакого портсигара под ней не оказалось. Александр Иванович в своё время старательно обучал своего «крестника» подобным нехитрым приёмам.
Нехитрый, а впечатление на мужиков произвёл ошеломляющее. «Кто в армии служил, тот в цирке не смеётся». А эти, похоже, в цирке с детства не бывали.
— Вы что-то хотели? — равнодушно-скучающе спросил Ляхов. — Закурить? Угощу. Выпить — тоже плесну. А то знаю, случается: в кабак пришёл, а сигареты дома забыл и деньги. Так что не стесняйтесь.
Людмила и Герта смотрели на «персонажей» абсолютно пустыми глазами девочек, которым за участие в не предусмотренных заранее договором мизансценах не платят.
А Вадим, наоборот, изобразил радушнейшую из своих улыбок.
Ох и в трудное положение попали господа «чекисты». Теперь у него сомнений не было. Милицейские опера текущую «феню» знают. А «рыжьё» — это чересчур архаично. Импровизация на тему в детстве читаных книжек.
Тот, кого Ляхов определил как старшего, совершил под черепной крышкой, приукрашенной хорошо сделанной причёской, мучительное мысленное усилие. Аж нейроны с аксонами задымились, только-только запах палёного сцепления из носа и ушей не пошёл.
Из роли, понимаешь ты, решил не выходить.
— Шутки шутить вздумал? — настолько угрожающе, как сумел (будто в следственной камере находился), сказал он, подойдя и нависнув над плечом Герты.
Ох и удобная позиция, чтобы движением локтя в клочья разнести единственную, в отличие от почек, непарную печень. Но — не приказано. Витгефт, как и Людмила, честно играли девочек по вызову, сто раз видевших подобные разборки.
— Пойдём, Люсь, в туалет. У тебя губы размазались, — сказала Герта, резко двинув стул назад. Нахал чуть не потерял равновесие и отступил на два шага.
— Сейчас. — Людмила открыла сумочку, словно ища там зеркальце, чтобы убедиться в словах подруги, и тюбик с помадой.
— Покажи то, что спрятал, — не обращая внимания на девушек, с нажимом сказал «старший». — Я видел — лежал на столе портсигар.
— Лежал не лежал — твоё ли дело? Если по-своему пришёл — вали дальше. Если ко мне что имеешь — предъявляй. И стой, где стоишь. Остальные тоже. Не люблю, когда над ухом сопят.
При этом Ляхов взял со стола и начал вертеть между пальцами массивную мельхиоровую вилку. Страшное, между прочим, оружие, да ещё если в руках человека, обладающего хорошей моторикой. Престидижитатора или шулера высокого класса.
Если и есть у мужиков в карманах или под мышками «ПМ», неизвестно, помогут ли. Одному верняком помирать, если начнётся. А поскольку неизвестно, кому именно, так каждый вольно или невольно на себя примеряет. Смотрели «Великолепную семёрку» или нет, а знать бы должны, что при прочих равных проигрывает тот, кто первым за револьвер хватается.
Кроме того, у них ведь наверняка был какой-то предварительный план. А портсигар — нежданная зацепка, показавшийся удачным повод для импровизации. В теории действительно просто и красиво — схватить портсигар, хозяин, конечно, отнимать станет. А сколько-то грамм он явно выпил, вот тебе и пьяный дебош в общественном месте. Свидетелей сколько нужно, столько и будет. После этого сажай в машину и вези куда хочешь, с соблюдением всех признаков законности (на всякий случай).
А вот постановления прокурора или судьи у них точно нет, иначе нечего бы и огород городить. Значит, либо действительно негосударственная структура, либо акция проводится в «инициативном порядке».
— Так что, отваливаете? — с интонацией, подходящей для общения с аборигенами Молдаванки, спросила Вяземская. Вместо зеркальца в руке у нее оказался телефон. — Или мне кого-нибудь пригласить?
Герта в это же время встала и заняла позицию, с которой могла достать любого из трёх «нахалов», при необходимости — с гарантированно летальным исходом.
— Подожди, Люда, успеешь, мы ж ещё не выяснили, кого лучше звать? — Ляхов смотрел на парней с откровенной издёвкой. — Не подскажете? Можно Султана с его ребятами, можно вашу службу собственной безопасности, можно наряд СОБРа из ближнего отделения. У меня знакомых много. А если просто так кулаками помахать захотелось — начинайте. Только чтоб потом без обиды и протокола «о сопротивлении сотрудникам». Вы ведь сотрудники? Тогда документик попрошу. Звание, должность, причина и цель обращения…
Шульгинская школа позволяет ставить в патовую позицию почти любого противника. Если, конечно, вы не на поле боя и он не намерен вас убить без всяких разговоров.
Людмила уже положила палец на кнопку вызова.
— Так кому звонить? — чуть капризно повторила она. — Давай сразу Султану…
— А что, может интересно получиться, — широко улыбнулся Ляхов. — Через десять минут подъедет пяток весёлых ребят. Им тут недалеко. Вот всё и перетрёте. Смешно будет, если их крыша круче вашей. У кого-то погоны могут полететь. А я десять минут продержусь. У меня в кармане пистолет зарегистрированный, разрешение при мне, у вас — явная попытка завладения чужим имуществом с применением насилия. Прокуроры любят называть такое деяние разбоем, тем более — в составе организованной группы. Мне в самом крайнем случае — условный срок за «превышение пределов», вам комендант, ежели вы офицеры, по три патрона на салют выделит…
Отвлекая внимание болтовнёй, манипуляциями с вилкой и телефоном Людмилы, Вадим успел вытащить из-под брючного ремня «травматик» — копию «ПММ», пистолета, весьма распространённого в кругах, хоть как-то причастных к властным структурам любого рода. В девяностых и начале нулевых такие механизмы без особого труда получали все: чиновники, депутаты, руководители предприятий и учреждений, бизнесмены, просто друзья милицейских чинов, не говоря уже о людях в каких угодно погонах. Было бы хоть малейшее желание. Так что его проще и безопаснее было принять за настоящий, чем за «пугач». Но с пяти шагов и пластиковой пулей «пугача» легко можно покалечить, а попав куда надо — убить.
Ляхов отодвинул коленом скатерть и показал пистолет первому, так, чтобы посетители ресторана не увидели. На странную сцену возле их стола смотрели уже многие: и не рискующая до разрешения «конфликта» подойти официантка, и, кажется, охранник из-за портьеры выглянул. Но ему тут пока делать нечего и милицию вызывать рано. Может, просто старые знакомые встретились…
— Всем сесть. — Ляхов указал стволом на соседний столик. — Водички бесплатной попейте, только бутылкой кидаться не надо, на лету разобью. А вам стрелять в общественном месте, «создавая угрозу жизни и безопасности граждан», не положено. Опять прокурору объяснительные писать придётся. Итак?
Он указал глазами на свою рюмку, Герта тут же налила. Вадим положил вилку, подмигнул «чекистам»:
— За удачное знакомство. А вы, девчата, правда, сходите, подкрасьтесь. И не спешите сильно. Со стороны общая картина лучше воспринимается…
Девушки удалились, покачиваясь на высоких каблуках, походкой и спинами демонстрируя своё презрение к «фраерам».
— Итак, — повторил Ляхов. — Поговорим спокойно? Водки не предлагаю, на работе нельзя. Документик показывай. И как я уже спрашивал — что, зачем, почему?
«Ох и хреново сейчас тебе, — думал Ляхов, глядя на их командира. — Так перед молодыми облажаться. До самой пенсии анекдоты рассказывать будут, накручивая живописные подробности».
Он-то знал службу, и знал, как в таких случаях бывают безжалостны сотрудники, особенно если зуб на севшего в лужу имеют. И никто ведь не вспомнит, что «дурку» с портсигаром совсем не он запустил. Уж лучше бы этот «ковбой» пулю в живот на «геройском задержании» схлопотал.
Для полноты торжества Вадим левой рукой вытащил из кармана пиджака злосчастный портсигар, открыл, взял сигарету, прикурил, правой не отводя ствола от цели. Положил посередине стола, кивнул дружески «первому» — вот оно, твоё «рыжьё», бери, если сможешь. Картинка с фантика шоколадной конфеты «Ну-ка, отними».
Нажми он сейчас нужную кнопочку, свалились бы парни парализованными. А можно вместо этого мускулатуру им расслабить, в том числе и сфинктеры. Правда, вони будет! А он ещё обедать собирается.
Только что не скрипя зубами, вмиг поблекший красавчик извлек из нагрудного кармана книжечку в сафьяновом переплёте с золотым тиснением.
— Сюда перебрось, — пошевелил Вадим пальцами в воздухе. — Я поймаю, не бойся. И обратно верну.
Подкрепил свои слова очередным движением пистолетного ствола.
И что же мы имеем? Точно, МГБ. Ишь ты, не майор, целый подполковник, Санников Владимир Захарович. Управление такое-то, отдел такой-то. Плохо, товарищ подполковник, явно засиделись на кабинетной работе, а у вашего шефа никого надёжного и с нужным опытом не нашлось.
Он перебросил удостоверение обратно, оно аккуратно легло прямо перед хозяином.
— С этого бы и начинали. Так чем могу служить, Владимир Захарович?
У того аж губы сводило от необходимости отвечать.
— Вам просили передать, что встреча состоится в другом месте. И время уже подошло… Кроме того — вас одного приглашали. Прошу к машине.
— Не поеду, — спокойно ответил Ляхов. — Если б с этого начали — подумал бы. Сейчас — точно нет. Вы на меня злые: в кабине по затылку стукнете или какой гадостью в лицо брызнете. А уж внутри конторы или на служебной квартире — тем более. Ему надо — пусть сюда и едет. Я, по вашей милости, даже и не позавтракал, теперь обедать придётся. Так и передайте. За то, что мне с девушками кайф поломали, я отдельно обижен. Короче — не смею задерживать. Возвращайтесь к своей «тыловой заставе» на скамеечке, оттуда веранду хорошо видно. Обещаю до четырнадцати ноль-ноль не исчезать. Да, вот ещё, подполковник, — сказал он, подводя как бы последнюю черту под разговором. — Опять вы соврали, не знаю уж для чего. Слова «просят» ваш начальник точно не произносил. Сказано было примерно следующее: «Бери пару своих сотрудников понадёжнее, и доставьте мне этого козла мигом, а брыкаться начнёт — действуй, как учили!» Если бы «попросить», так он бы мне сам позвонил, номер знает, и договорились бы полюбовно. А ты и такой ерундовой задачи выполнить не сумел. В моё время я бы такому, как ты, и на старшего лейтенанта представления не подписал, ибо умею в людях разбираться. А ты — нет, и твой начальник — нет. Идите…
Фёст сам себе удивился, произнеся такой длинный и логически безупречный период[135].
О том, что любые попытки Санникова с его командой предпринять ещё какие-то «логически небезупречные», зато «эмоционально окрашенные» действия повлекут за собой полный провал не только до боли примитивно задуманной, но ещё хуже исполненной операции, он говорить не стал.
Вспомнились то ли шестой и седьмой, то ли девятый и десятый постулаты Александра Ивановича. «Если сумел довести противника до белого каления, этим и ограничься. На очень горячую железку плевать не надо». И — «Даже Наполеона проще отпустить из Москвы на старую Смоленскую дорогу, чем навязывать ему уличные бои в городе. Товарищи Сталин и Жуков в случае с Паулюсом этого не поняли».
Санников с товарищами отправились по той самой «Смоленской дороге», к скамейке напротив ресторана, где их с интересом ждали бойцы группы прикрытия. Оттуда и стали звонить, сразу по трём телефонам отчего-то. Впрочем, кто-то мог звонить и жене или подружке, сообщить, что намеченный уик-энд отменяется.
Герте с Людмилой, вернувшимся с позиции «засадного полка», биноклей не требовалось, чтобы наблюдать за противником, расположившимся в сотне метров, они умели подстраивать остроту зрения по принципу трансфокатора. Но кроме сделанного Санниковым доклада начальству, ничего осмысленного они по губам оперативников не прочитали. Перемежающийся малоинформативными фразами мат — и только. А кто бы на их месте не матерился, медленно, с трудом въезжая в ситуацию, в какую их поставили сначала командиры, а потом и этот… Фраером и козлом Ляхова, правда, никто не назвал. Испытали положенное уважение к достойному противнику.
Вадим вкратце пересказал девушкам суть происшедшего разговора и собственный план на предстоящую встречу.
— А вы не боитесь, что нас всё же попытаются перестрелять вон с той пятнадцатиэтажки? — спросила Герта, указав на жилую башню полукилометром севернее. Три её верхних этажа очень удобно возвышались над вершинами столетних лип. И это было единственное подходящее для снайперов место, если не считать окрестных кустов.
— Вот тебе и задача, — сказал Ляхов, — держи объект под контролем, ни на что более не отвлекаясь. Остальное — мы с Людой.
Герта кивнула, сориентировав свой блок-универсал в указанном направлении.
Официантка, опасливо-уважительно посматривая на Вадима, но лишних слов, выходящих за пределы её непосредственных обязанностей, не произнося, подала «агнешку на шкара», которой славился этот ресторан. Проще говоря — большой чугунный мангал с раскалёнными, но без пламени углями внизу и сковородой, накрытой крышкой, сверху. Под крышкой — тонко нарезанные ленточки ягнятины, болгарского перца, помидоров и масса всяких специй. Вкуснятина! Особенно если запивать терпким красным вином.
Вадим, кстати, с самого первого дня знакомства с «валькириями» не переставал удивляться их великолепному аппетиту. Девушки никогда не жеманничали, типа «бежала через мосточек, ухватила кленовый листочек». Нет, они, не скрывая склонности к гурманству, с тем же успехом могли питаться из солдатского котелка и с нормальным солдатским азартом. Понятно, что офицерская служба в войсках спецназа требовала массы энергии. Те, в институтских учебниках прописанные нормы калорийности, вроде: «Семь тысяч калорий косцу и кузнецу, три с половиной — работнику умственного труда», совсем не учитывали, что двадцатипятикилометровый марш-бросок с полной выкладкой и штурм-полоса на финише, и стрельба, из чего прикажут, на промежуточных рубежах — побольше усилий требует, чем «коси коса, пока роса».
Сейчас Людмила и Герта, не оставив без внимания закуски, серьёзно обратились к баранине.
Да и гость не заставил себя ждать. Наверняка ведь сидел поблизости с биноклем и, несомненно, матерился, наблюдая за «мастер-классом» своего посланца. Легко, думаете, видеть, как сыплется на свой страх и риск предпринятая акция? Шансы которой и так болтаются, как стрелка поломанного спидометра, от нуля до двухсот километров, пока машина, взрёвывая мотором, так и не трогается с места.
— Появился, — доложила Людмила, смотревшая в сторону входа. Сам Ляхов предпочитал любоваться плавающими по бутылочного цвета воде лебедями. «Человеку, обладающему знанием, приличествует важность» — эту фразу он ввёл в круг своих понятий ещё в школе, прочитав в книжке ныне всеми забытого автора о войне с басмачами.
— Наблюдай. «Я к нему не выйду» — это уже из Стругацких, «Попытка к бегству».
Только когда Контрразведчик образовался прямо напротив, на ступеньках крыльца, с самой любезной улыбкой, столь же приятной, как за президентским столом, Ляхов соизволил его увидеть.
Поднялся навстречу, протянул руку.
— Присаживайся. Рад встрече. Что не пришёл, куда договаривались — извини. Естественная предосторожность. Правда, я думал, ты просто позвонишь, а не «курьеров» пошлёшь. Они моим сотрудницам не понравились…
Он представил гостю Люду и Герту, без фамилий, но с залегендированными должностями.
Сделал жест официантке, чтобы подала ещё прибор и всё полагающееся.
И к Контрразведчику по имени обратился. Специально, разумеется. На прошлой встрече Президент и его друзья предпочитали, как в романе Лема «Эдем», называть себя только по профессиям и специальностям, будто это хоть что-то меняло. Разве что просто обычай, как полумаски на маскараде, якобы делающие участников неузнаваемыми. Ну, мы — люди, политесу не обученные.
— Товарищ генерал-майор, ничего, что я вас Леонидом Ефимовичем звать буду?
Генерал хоть немного, но удивился. Неужели считал, что при всех ранее продемонстрированных способностях его будущим партнёрам сложно будет не только имя и звание выяснить, но самые засекреченные личные дела поднять?
— Ничего, конечно. Мы не на службе…
А Ляхов продолжал резвиться:
— Кстати, а почему генерал-майор всего лишь? Это когда я службу только начинал, генералы в живой природе редко встречались. Небожители! А сейчас по четыре генерал-полковника в одном кабинете сидят. На метро «Арбатская» в восемнадцать вечера на эскалаторах больших звёзд больше, чем в Млечном Пути. Мой первый комкор, генерал-лейтенант Попов, единственный в таком чине от Чукотки до Хоккайдо, на персональном «ЗиЛе» по Южно-Сахалинску любил кататься, и любой военнослужащий, завидев его машину, по дворам и подворотням прятался, от греха. Вот то был «авторитет мундира». Ты бы тоже три звёздочки нацепил. Эстетично смотрится…
Это было сказано, чтобы сразу привести ситуацию «в соответствие». Мол, в тот раз мы с тобой водку в одном качестве пили, а теперь — совсем в другом будем. Если… Если я тебе болтливым дураком покажусь, так ещё и лучше. Но, вот беда, не выйдет.
Правильный (на его взгляд) ход нашёл Леонид Ефимович, разулыбался вроде Манилова[136]:
— Вадим, кажется, Петрович? Простили бы вы моих… лейтенантов. Они за отсутствием постоянной практики совсем элегантно думать разучились.
Явное предложение забыть предыдущее и начать с чистого листа. С «табулы разы», по-латински выражаясь. Оно бы и можно, только не бывшему капитану медслужбы Ляхову такие «контрдансы» предлагать. Уж если он целого начпрода бригады куда нужно носом потыкал, пока не привёл «в соответствие», так что ему совсем по службе посторонний генерал?
— Лейтенантов бы — простил. Так ты целого подполковника прислал, товарища Санникова. Какая тут элегантность мышления? А что самое главное у медиков, да и у чекистов — результат? Результат — отрицательный, и ты сам глупее своих подручных выглядишь. Вам ведь всем недавно сказано было — ребята, не надо дёргаться. Или мы с вами совсем и навсегда расходимся, или — будем искать консенсус, как последний Генсек и первый Президент СССР выражался. Ну а вздумалось в детские игры со взрослыми людьми играть, так и получите адекватный результат.
— Вадим Петрович, давайте прекратим этот разговор. Все, бывает, ошибки совершают. Я свою готов признать… — Мятлев старательно пытался выглядеть честным, но недалёким чиновником. Крайне удобная позиция, когда на руках в покере не хорошие карты, а чистое «джокерное мучение»[137].
Ляхов не собирался с ним спорить или вообще затевать сложные комбинации. Смотрел на его румяное, до того честное и открытое лицо, что аж противно стало, и вспоминал себя, брата-аналога Секонда, Сергея Тарханова с его пятигорскими делами, Уварова заодно. Эти парни своё право не считаться «тварью дрожащей» под пулями доказали. А ты, мордастенький, что собой представляешь, за что погоны получил?
Для разрядки повисшего над столом напряжения Мятлев спросил, во все глаза глядя на девушек, чересчур, на его взгляд, штучного разбора. Одной — и то выше головы хватило бы господину Ляхову. Две — явный перебор.
— Неужели вы и вправду исключительно паранормальными явлениями занимаетесь? Такие красавицы — любая Шэрон Стоун нервно курит в сторонке.
— Старуха ваша Стоун, и смотреть у неё было совершенно не на что, — мило ответила Герта, явно намекая на бывший некогда сверхпопулярным фильм.
— А любая стоящая женщина, — тут же добавила Людмила, — ничем, кроме паранормальных дел, никогда и не занимается. Вы разве не в курсе?
— В курсе, и даже очень, — сейчас Мятлев вздохнул без всякого наигрыша, от души. — Может, с вами немного оттаю душой и сердцем, — тут же вскочил, приложился к ручкам, предложил называть его просто Леонидом, на основе взаимности, разумеется, а на брудершафт готов выпить следующий же бокал.
— Нам ведь предстоит долгое и плодотворное сотрудничество, если я не ошибаюсь.
— Это уж как пойдёт, — не скрыл скепсиса Вадим. — Прошу, дорогой Леонид, принять во внимание, что Людмила Никитична и Герта Карловна не просто мои племянницы, как тебе наверняка доложили, а ещё и офицеры подразделения, с которыми тут, у нас (намёк, естественно), могут сравниться только лучшие «волкодавы» спецназа ГРУ. Лучшие, заметь! Не так давно по Владимиру с мечами заслужили, что в нашей с тобой России примерно аналогично ордену Мужества. Это я к тому, чтобы дальше недоразумений не возникало. Пойди что не так — из твоих парней ни один живым не уйдёт. О присутствующих не говорим…
При этих лестных для них словах девушки смотрели милыми, наивными глазами, всемерно демонстрируя, что совсем к ним характеристики дядюшки не относятся. Чудит, мол, или цену себе набивает.
— Я понимаю, — переходя в режим нормального разговора, ответил Мятлев. Никак он Ляхову дураком теперь не казался. — Ошибочки в процессе — они у всех бывают. Могу вообразить, как ты над моими сотрудниками в душе издевался, такую поддержку имея. А они ведь только один приказ имели — никаких разночтений не предполагающий и составленный ровно по их уму и талантам. Теперь ясно — «чужой» спецназ перед офицерами, с училища до сегодняшнего дня привыкших больше на «корочки», чем на пистолет в кармане полагаться, все преимущества имеет.
— Издевался, Леонид, не скрою. Но совсем по другой причине. Считаем, я, как паранормальный специалист, внушил собеседникам представление о себе как о некоем Терминаторе, связываться с которым — себе дороже.
Мятлев посмотрел на него уважительно, но с сомнением.
— Совершенно то же самое мне подполковник Санников по телефону доложил. Очень точно сформулировал: «Мне против него сейчас — как с пехотным взводом против танкового полка. Прикажете — все трупы на вашей совести».
— Молодец Санников! — от всей души сказал Ляхов. — Решение верное принял, и неважно, под влиянием моего внушения или собственных ощущений. Впрочем, это почти одно и то же. Но тактически мыслить в кризисной ситуации всё равно не умеет. Были варианты куда более изящного выхода из ситуации…
— Да и где бы ему научиться? — едва ли не печально спросил Мятлев. — Мы до кризисов стараемся не доводить…
— Расскажу при случае, — опять вызывающе усмехнулся Ляхов. — А теперь — снова к покеру вернёмся. Я ставку удваиваю — и раскрываемся. Не согласен — весь выигрыш мой, а ты можешь утешаться видами летней Миссисипи[138].
— Ну, пожалуйста, пусть будет по-твоему, — легко согласился Мятлев, переходя на «ты», как он и предлагал — после следующей рюмки. — Раскрываемся. Вся моя операция — никакая не глупость, естественно, а последняя проверка, перед тем как окончательное решение принимать. Санникова с ребятами я «втёмную» послал, на таком, как ты, зубре потренироваться. И что бы ты о них ни думал, даже принимая во внимание твоё «внушение», — в моём понимании они справились. Вовремя сообразили, когда остановиться надо, без консультации с начальством. А это не каждому дано, чаще — напролом прут, от азарта или желания выслужиться.
— И что же ты проверял? — поинтересовался Ляхов.
— Стоит с тобой дело иметь или действительно проще наплевать и забыть? Что ты собой как личность и боец представляешь, красивые сказки рассказывать многие умеют. Убедиться, каков в деле, один на один с силой, а не под прикрытием потусторонней техники и чужого Императора, если он тоже не «актёр эпизода».
— Убедился?
— В целом да. Выдержка у тебя великолепная, психологию противника на лету ухватываешь, волю свою умеешь навязать, впервые человека увидев, ведёшь себя так, будто ни людей, ни смерти, ни бога не боишься…
— А если так и есть? Боялся когда-то, да вот отбоялся.
— Вот я и говорю. Если бы ты сегодня слабину дал — какой смысл о серьёзных вещах с тобой договариваться? Начал бы из себя Рэмбо изображать — тем более: сильный истерик — кому он нужен?
— Иногда — очень многим.
— Не мой вариант. Мы с глазу на глаз поговорить можем? И не под запись, разумеется, — спросил Мятлев, не глядя на девушек и как бы вообще игнорируя их присутствие. Мол, положенные любезности оказаны, а сейчас мужской разговор начнётся.
Вадим хотел было ответить, что дело у них общее и от своих помощниц у него секретов не бывает, но тут же передумал. Незачем лишнее трение создавать.
— Ну, давай за дальний столик пересядем. Его ниоткуда не видно, даже вон с той крыши.
— А что нам та крыша? — спросил Контрразведчик. — А, понимаю. Нет, я там никого не сажал…
— Ты, может, и не сажал… Вы, девчата, поскучайте тут немного. Боюсь, в ближайшее время к вам ни один кавалер не подойдёт одиночество скрасить. Но я думаю, мы ненадолго…
Дальний столик обслуживал официант-мужчина, возрастом ближе к сорока, судя по взгляду и ухваткам опытный не только в этой профессии. Тоже видевший всё ранее случившееся и сделавший собственные выводы. Да что тут делать-то? Всё как на ладони — парни по недоразумению наехали не на того человека. Он им сделал серьёзную предъяву. Теперь на стрелку прибыл авторитет подходящего уровня.
— Мы, любезнейший, со своего стола не уходим. Нам просто поговорить нужно. Так ты нам сюда графинчик коньяку толкового, лимон не нужно, разве сыру несколько ломтиков и два кофе, настоящего и покрепче, — доброжелательно, с улыбочкой попросил Мятлев. — Сразу и приговорчик изволь, чтобы два раза не бегать.
Словно тут же забыв о существовании официанта, обратился к Ляхову:
— Чтобы неясностей не оставалось — ты действительно что-то такое умеешь? — Контрразведчик неопределённо повертел пальцами перед собой и воззрился на Вадима с простодушным интересом.
— Конечно, умею, — без рисовки ответил Ляхов. — Иначе едва ли ты тут сейчас сидел бы.
Ответ был достаточно двусмыслен, но лжи не содержал.
— Ты мне лучше скажи, — без паузы продолжил он, — друзья впечатлениями от «прогулки» в имперскую Москву и добытой там прессой не поделились?
— Как можно? Поделились, непременно. Газеты мы все, включая Президента, взахлёб читали. Каждую фразу, буквально, анализу подвергли, на предмет внутренней логики и соответствия общему контексту. Впечатлило, ей-бо. Кое-кто до последнего сомневался, не с особо ли хитрой разновидностью наведённой галлюцинации мы дело имеем. Всё же пришлось признать: увы, но всё происходящее — объективная реальность, данная нам в ощущениях. Тут я, похоже, раньше других вспомнил одиннадцатую заповедь[139]. Остальные товарищи пока что линию поведения вырабатывают…
— Молодец. Часть своих слов беру обратно. Значит, газеты почитал, окончательно уверовал, решил ковать железо, не отходя от кассы? Может, и правильно. Я, признаться, тоже разные вариантики прокручивал. Оценивал, кто из вас самый сообразительный. Честно сказать — ждал, что мне Анатолий первый позвонит. С тобой, так решил, работать будём, но при его посредничестве.
— В то, что я с Президентом — до конца, и на ваши посулы не куплюсь, не поверил, значит?
— Да куда ж вам деваться? — теперь уже попросту, как равному и всё для себя решившему человеку, ответил Ляхов. — В том числе и Президенту. Он, по должности, себя правильно повёл. Какой же глава государства с разгону, на слух, так сказать, принимает решения, касающиеся судеб нации. Если он не Наполеон на поле боя, конечно. Недельку-другую ему пасьянсы пораскладывать сам бог велел. Потом, конечно, придётся признать, что в тупике он, из которого самостоятельно не выкарабкается. Вариантов ведь — тю-тю!
Вадим взглядом указал на рюмки, одновременно прикуривая.
— С полноценной «демократией» в России не получилось, да и не могло получиться. Для этого в тринадцатом веке нужно было Москву и Киев под Новгород подгибать, князей на место ставить, университеты создавать, собственный «Хабеас корпус»[140] сочинить, а не вышло, значит, не вышло. Уже у Александра Второго не заладилось, сам знаешь. В параллельной реальности, прошу отметить, — то же самое. Как ни вертелись, а пришлось к самодержавию возвращаться, ибо альтернатива одна — полная потеря управляемости и распад страны на мелкие фрагменты. Это Австро-Венгрии повезло, в том смысле, что на историческую Австрию никто (кроме Гитлера) претензий не предъявил, отчего и существует пока. А у нас такого инвариантного ядра нет, нас до последнего уезда на ломтики крошить будут. В истории часто — «Ван вей тикет»[141]. Не хватило нам уроков в школе Керенского, с его «безграничной демократией», в девяносто первом ещё раз попробовать захотелось? То же и получили — один в один. Даже смешно, «как посмотришь с холодным вниманьем вокруг». Иной раз вдумаешься в «дела наши скорбные» — оторопь берёт.
Выход из «керенщины» в тот раз — Ленин, потом Сталин. Нового Сталина на горизонте не просматривается, да и матерьял не тот. Кончились пассионарии. Что далеко ходить? Я всё же изначально военный человек, ты тоже при погонах. Смотрю, слезами обливаюсь на нашу «военную реформу». Милютин[142] при Александре Втором из рекрутской, крепостной армии вполне современную соорудил, «как в лучших домах Европы». Переодел, перевооружил, всеобщую воинскую повинность ввёл, срок службы с двадцати пяти до пяти лет снизил. И времени на это, при тех-то порядках и общеобразовательном уровне, ушло всего ничего. Даже ничего не разворовали походя, кажется. Зато тут же и русско-турецкую выиграли, и Среднюю Азию с Кавказом замирили.
При Сталине пресловутом как с сорок первого по сорок пятый подобные вопросы решались? Не только из разгромленной почти в ноль армии очень даже боеспособную воссоздали, так и форму новую успели ввести, двенадцать миллионов человек в неё переодели, суворовские и нахимовские училища организовали. А у нас двадцать лет дёргаются, даже с возрождением сержантского сословия, двести лет составлявшего опору армии, вопрос решить не могут. Только орут, начиная с самого министра обороны: «Дедовщину при нынешних условиях изжить невозможно! Каково общество, такова и армия!» На простейшую мысль, что армия должна быть образцом, идеалом, школой мужества и воспитания для общества, куриных мозгов уже не хватает.
Сталина из нашего Президента никаким образом не выйдет, он даже районного прокурора посадить боится: «А вдруг ещё непосаженные обидятся?» Одним словом, синдром Павла Первого в чистом виде, или — Хрущёва, в более мягком варианте.
До вчерашнего дня у вас вообще никаких перспектив не было. Не «жизненных» — с голода в любом случае не помрёте, государственных — вот в чём беда.
— Согласен, во многом согласен. — Мятлев разлил коньяк не по рюмкам, а по фужерам, сразу грамм по сто, если не больше. — Не помню, как там точно в дневнике Николай Второй писал, но что-то вроде: «Вокруг только ложь, трусость и обман». Вот и я — ни на своего министра, ни на восемь остальных его замов по-настоящему не могу положиться. Отчего я, по-твоему, нашу встречу, как свидание Штирлица с женой, обставил?
— На моих ребят из «Чёрной метки» — можно, — небрежно сказал Ляхов. — Неизвестно, найдутся ли среди них таланты министерского уровня, но, условно говоря, «кремлёвский плацдарм» гарантированно захватят и будут его удерживать, давая вам с Президентом время любые политические вопросы решить относительно спокойно, но радикально. Я, военно-полевой хирург, по личному опыту знаю — раздробленную ногу с признаками гангрены, которую в условиях тылового специализированного госпиталя можно за пару месяцев вылечить, на ПМП с ходу отрезать приходится, чтобы до медсанбата человека довезти и у себя ещё пятерым раненым жизненно необходимую помощь успеть оказать. А если полковой врач, чтобы в учебниках прославиться, начнёт проводить двенадцатичасовую операцию по пришиванию оторванного пальца…
Ляхов замолчал, наконец они подняли рюмки, выпили. Вадима, при наличии гомеостата, забирало минут на десять-пятнадцать, не больше, а «пациента» нужно привести в кондицию, позволить разговориться, тем более что он сам этого страстно хочет.
— Гражданская война то есть снова у тебя вырисовывается, — вздохнул Контрразведчик, озабоченный и обиженный тем, что его-то в эту самую «метку» не пригласили, и ни один из могущих входить в неё людей его уровня даже не намекнул о такой возможности. Причины понять можно, но всё равно… Как если за твоей спиной одноклассники о чём-то шепчутся, а при тебе — замолкают.
— Опять стереотипы, — посетовал Ляхов. — Гражданская — это когда сопоставимые по силе народные массы воюют друг с другом за противоположные идеалы. А здесь предполагается лишь некоторая «зачистка» игровой площадки. При полном одобрении «молчаливого большинства».
— Знаем мы, чем это одобрение заканчивается, — сказал Мятлев. — Президент правильно мыслит: начни — не остановишь. Если по закону — придётся сажать всех, от управдома и выше. На каждого статья найдётся. Если «по справедливости» — получится, как он же однажды сказал: «выборочный террор». А это, в свою очередь, тоже несправедливо. Даже, — залихватски взмахнул рукой начинающий пьянеть Мятлев, — пусть решимся мы прямо завтра на это! А кто арестовывать будет, приговоры выносить, сажать? Военно-полевые «тройки»? Это ж сколько таких троек надо, и кого в них назначать? Или — на городских и районных собраниях открытым голосованием приговоры выносить? И что делать, если на местах, особенно — весьма отдалённых, власти, включая силовые структуры, начнут саботировать распоряжения центра? На всех отрядов быстрого реагирования не хватит. А если и хватит… — Мятлев сморщился, как от зубной боли, повертел головой. — Ну, хоть Первую чеченскую вспомни. Кроме того, границы закрыть придётся наглухо и для всех, как без этого? Межбанковские операции с заграницей запретить, тоже для всех. Даже не учитывая реакции мирового сообщества, через два месяца Северная Корея нам Данией покажется. Жрать станет нечего, как в девяностом году, никто ж работать не станет, все политической и классовой борьбой займутся… Остальные — просто грабить в пределах досягаемости.
— Ты знаешь, после разговоров с Президентом я сам почти к такому выводу пришёл. — Ляхов опять поддался эмоциям, снова нервно раскурил сигарету.
«Чёрт, — мельком подумал, — надо и вправду, как другие нормальные люди, на трубку переходить. Не столько никотин, сколько дым горелой бумаги глотаешь».
— Хотя по-прежнему считаю, что тотальный террор от «децимации» кое-чем отличается. И в героизм наших воров и олигархов я не верю. В Скандинавии вон бизнесмены по 60 % подоходного налога платят и не жужжат. Так и наши, если хоть тридцать ввести, под танки с последней гранатой кидаться не станут.
— Чем больше соберём, тем больше украдут, не те, так другие, — возразил генерал. — При Алексее Михайловиче за курение ноздри рвали, и что, кто-нибудь бросил? Готов утверждать, что даже члены сталинского типа «троек» быстренько свои расценки на приговоры установят. Кому потребуется — «расстрел немедленно, без права обжалования», а другому — «десять лет условно без права переписки по эсэмэс».
Вадим вздохнул. Посмотрел в сторону столика, где «валькирии», верные долгу, потягивали сухое вино, бдительно отслеживая порученные секторы. Герта — те, откуда могут прилететь снайперские пули, Людмила — их с генералом столик и окрестности.
— Поэтому я и решил, — доверительно сказал он Мятлеву, — при таких настроениях Президента и «лучших людей государства» затеваться с вами — что в стратегический десант исключительно дезертиров посылать. Без политруков, смершевцев, заградотрядов и прочих тоталитарных методов поддержания сознательной дисциплины. Куда как проще на государя императора положиться. Он одним добрым словом…
— Это ты правильно сказал, — перебил его генерал. — У нас добрым словом гораздо меньше сделать можно, чем добрым словом и пистолетом. Пистолет же — штука обоюдная. За товарища Ежова члены ЦК и Политбюро наверняка от всей души голосовали — уж Николай Иванович укрепит революционную законность! А когда расчухали, куда телега покатилась, — ан, уже поздно. Потому мне твой второй вариант куда больше понравился, чем детские игры в «Чёрную метку» и «беспощадную борьбу с коррупцией». Ушёл поезд. Почему я и здесь. Хотелось бы только услышать, как вы себе на практике всё это представляете. Дьявол — он ведь в деталях кроется. А общие разговоры мне за последние сутки до горькой редки надоели.
Мятлев, не дожидаясь Вадима, опрокинул рюмку и тоже закурил.
Ляхов не стал поправлять стилистическую оговорку Контрразведчика. Ему собственные инвективы наскучили не меньше. Пора пришла переходить к конкретике.
Вадим, попробовав кофе, заметил, что он, хоть и готовится на самых современных импортных устройствах, много уступает абхазскому, на примитивных противнях с песком завариваемому. Мятлев согласился, добавив, что весьма неплох и корсиканский, который он пил недавно в городе Сартен, недалеко от Аяччо.
— Правда, там он по два евро за маленькую чашку…
— Нам бы их заботы, — отмахнулся Ляхов.
Девушки, оставшись вдвоём, отнюдь не скучали в отсутствии кавалеров. Им было о чём поговорить, по мере всё более глубокого погружения в реалии нового мира. Хотя бы о нарядах и поведении местной молодёжи, всё в большем количестве появляющейся на окружающих ресторан аллеях. При этом они не забывали, что мир вокруг только похож на другой, ставший им привычным, а по степени опасности и непредсказуемости немногим отличается от джунглей Соломоновых островов.
— Если совсем попросту, — начал объяснять Вадим, — мы вам предлагаем нечто вроде мягкой конвергенции. Сначала чуть-чуть дверцу между Россиями приоткроем и станем совместно работать и смотреть, что получается. Такого, как при объединении Германий, не допустим…
Мятлев кивнул. Действительно, рвались-рвались немцы сорок пять лет к «братству и единству», а когда получилось, вдруг и бесплатно, двадцать лет притереться не могут: «восточники» чем дальше, тем больше по своему бывшему социализму тоскуют.
— Вот у вьетнамцев всё иначе. Я там не был, но люди говорят — никаких проблем между бывшими Севером и Югом. Наверное, просто менталитет другой. На это и мы рассчитываем — не должно взаимного неприятия возникнуть. Наверняка несколько сотен как минимум стариков и старушек, что «до развилки» родились, и у нас и у них до сих пор ещё живут. А ведь это — одни и те же люди. Ещё, глядишь, смогут друг к другу в гости съездить, общих родителей помянуть.
Мятлев смотрел на Вадима несколько ошарашенно. Пришлось объяснить. Тот, может, и поверил, но эмоционально не усвоил. Как персонаж Хайнлайна не воспринял четырёхмерный дом.
Такое понимание со временем приходит, как у них с Секондом. Притерпелись — и как так и надо. Да и «валькирии», однажды похороненные, а сейчас весело винцо распивающие — сюжет не для слабых духом.
— Тем более, — продолжал Ляхов, — как уже говорилось, императорской России от нашей фактически ничего не надо. Лично Олега мы интересуем, прежде всего, как объект благотворительности. Сто пятьдесят миллионов русских людей, страдающих в клетке того самого, ефремовского исторического «инферно». Он считает своим долгом «Помазанника божьего» нас спасти и «воссоединить».
— А не так и глупо, — почти под нос себе сказал генерал. — Для пропагандистской кампании…
— Кроме того, мы друг для друга — неуязвимый тыл на случай вероятной войны. Вроде как Урал и США в Отечественную.
— С кем войны? — удивился Мятлев.
— А с кем бы ты думал? Уж точно не с марсианами. Земля и там, и там одна и та же, люди те же самые на ней живут, геополитика — наука не менее точная, чем химия, — не понял недоумения собеседника Вадим. — Есть у них свои тонкости, но независимую Россию прочие «великие державы» в покое никогда не оставят, хоть императорскую, хоть коммунистическую, пусть мы ещё десять параллельных реальностей найдём.
— Понятное дело. «Россия и Европа» Данилевского. Приходилось, читал. И какой же из нас для них «прочный тыл» на случай новой европейской войны? Зачем? Солдат своих не хватает или сырья? Чтобы из Америки, как прошлый раз, «ленд-лиз» не гнать? Или кто там у них объявится в «союзничках»…
— Солдат хватит, там ведь население — четыреста с лишним миллионов. И настоящая «всеобщая воинская» — не то, что у нас. От князей императорской крови до киргизов из глухих аулов — все служат. Кто не служил — «або хворый, або подлюка». В нормальной мужской компании первый вопрос при знакомстве, как у Остапа Бендера: «В каком полку служили?» От этой печки и пляшут. Иначе — ни авторитета, ни мало-мальской карьеры.
Что дальше? Любого сырья у них ровно вдвое больше, чем у нас, за счёт территории «в границах тысяча девятьсот третьего дробь семнадцатого года».
— Это значит, и Порт-Артур у них, и Маньчжурия, и Западная Армения? — проявил знание истории с географией Мятлев.
— Совершенно верно, включая Польшу с Финляндией и Бессарабией. Так что им от нас, в случае чего, только современная военная техника потребуется и военспецы для её обслуживания и применения. Хотя они быстро обучатся, там образованность и культурный уровень на порядок выше нашего — эмиграции не было, коллективизации с террором, Великой Отечественной, опять же. И вот за новую технику и новые знания они поначалу очень хорошо заплатят. Больше, чем мы союзникам за весь «ленд-лиз».
— Поначалу? А потом? Даром брать станут? — опять профессионально насторожился Контрразведчик.
Ляхов засмеялся:
— Я тебя, как свой своего, друг Леонид, понимаю. Ты какого года?
На самом деле он знал его год, месяц, число и место рождения. Но так для укрепления неформальных отношений требовалось спросить.
— Шестьдесят восьмого, а что?
— Совсем ничего, кроме как убедиться. Чистое ты, брат, дитя «холодной войны». И двадцать лет «свободы» тебя от стереотипов не избавили.
— Так говоришь, будто сам тогда жил и много меня старше, — не столько с обидой, как с удивлением ответил Мятлев. Подумав при этом, что и на самом деле странно: Ляхову не больше тридцати пяти, а начал он старшему возрастом, вдобавок — генералу, «ты» говорить с первого момента встречи, настолько непринуждённо, что даже внутреннего протеста не вызвало.
Вот что значит — «русский характер». Не по рассказу Алексея Толстого, по глубинной сути. Не втягивает человек голову в плечи, обращаясь к Президенту своей страны, с Императором соседней почтителен без раболепства, значит, всем остальным «тыкать» в полном праве. «Ты» — оно в русском языке, а особенно — менталитете пресловутом много оттенков имеет. К барскому приказчику крестьяне на «вы», да с именем-отчеством обращались, а к Самодержцу Всероссийскому (и прочая, и прочая, и прочая) — на «ты» дозволялось, хоть в челобитных, хоть лично. Притом что сам Он себя величал на «мы»!
Кроме того, это обращение можно было понять ещё и в том смысле, что мы, мол, теперь друзья и партнёры по общему делу и никакие церемонии между нами неуместны.
В общем, за короткие мгновения генерал-майор Мятлев из-за одного междометия всё для себя понял. И никаких речей и трактатов больше не нужно. Не вскинул голову гордо: «С чего это вдруг, милостивый государь, забываться себе позволяете? Я с вами гусей не пас. Извольте держаться в рамках приличий!» А вскинул бы?
Пока Мятлев сам себе всё это понятными словами из смутной мелькнувшей мысли сумел переложить, Ляхов едва успел прикурить и первую глубокую затяжку сделать.
— Я сам в шестидесятые не жил, разумеется, но мои старшие товарищи как раз успели между Двадцатым съездом[143] и «Пражской весной» вырасти, сформироваться, институты закончить. И меня попытались таким же «романтиком» сделать. Информацию их я на сто двадцать процентов усвоил, все книги и газеты, все фильмы тех лет посмотрел. Только вместо романтика законченным циником стал. Знаешь, Леонид, — Ляхов доверительно положил свою ладонь на его. Этот жест в его понимании должен был означать высшую степень доверия и душевной близости. Контрразведчик своей руки не отдёрнул. — Тебе ведь это ближе, нет? Ах! Пражская весна! «За нашу и вашу свободу!» Срока лагерные получали идеалисты недоделанные, чтоб десять минут на Красной площади плакатиком помахать. А зачем? Вышло бы у чехов, потом поляков, далее везде — ты бы, товарищ генерал, уже в детском садике все прелести такой вот свободы ощутил.
— Я тебя понимаю, Вадим, — мягко ответил Мятлев. — Уж кто-кто, а моя «контора» всегда это понимала. Нас до сих пор обвиняют — «вы людей сажали». Было, кто спорит. Только сразу после пятьдесят третьего совсем другой счёт пошёл. Сталин помер, и, считай, на другой день «дело врачей» закрыли, людей из лагерей начали выпускать, реабилитировать. То же самое МГБ этим и занималось. Это, кстати, к нашему теперешнему разговору очень серьёзное отношение имеет. С большинством твоих претензий к Президенту, к нынешнему строю вообще легко могу согласиться…
Генерал сделал паузу, словно не желая именно сейчас продолжать эту тему, спросил у Ляхова, не из другого ли мира у него сигареты? Здесь он, при всём изобилии, подобных не видел.
Вадим сказал, что да, оттуда. В фирменном магазине Асмолова на Петровке куплены.
— Обожди, — вдруг вспомнил Ляхов. — Зачем сигареты? Возьми вот, в знак предстоящего…
У него в кармане лежала приготовленная на случай встречи с Журналистом Анатолием или Писателем коробка «Корниловских».
Экзотика, что ни говори. Изготовлены, судя по дате, восемьдесят лет назад на известной фабрике по заказу офицерского собрания Первого Корниловского полка, что на обороте и обозначено. Свободной продаже не подлежат, цена не указана. А на вкус — словно вчера набиты. Да так оно и есть, не вчера, конечно, но в пределах нескольких месяцев условно текущего в разных мирах года.
На зеленоватой, с золотым напылением крышке слева тиснёный портрет генерала Корнилова в лавровом венке, оплетённом Георгиевской лентой. Остальное поле занимает изображение штыковой атаки полка на Каховский мост. В рост и с винтовками «на руку».
— Ох ты! — восхитился Мятлев.
Настоящий русский человек, понял Ляхов. Либерал-демократ, вроде того же Воловича, встреча с которым на завтра планировалась, непременно бы губы скривил, подсознательно. Не может человек, с юности «на гранты» живущий, попросту обрадоваться виду геройских российских солдат. Хоть на позапрошлого века войне, хоть на позавчерашней.
— Я закурю? — странным тоном спросил генерал.
— Можешь невесте подарить нераспечатанную, — ответил Вадим. Обменялись любезностями, можно сказать.
Леонид Ефимович, преодолевая опасение (неужто думал, ему туда дури какой подсыпали?), ногтем срезал бандерольную наклейку, взял и закурил толстую, очень крепкую и ароматную папиросу из смеси абхазского и трапезундского табаков. Никакой «виргинии». Перед последним в жизни броском в штыковую «Кент» не успокоит и бодрости не придаст. А эти — как раз то самое.
Сделав пару затяжек, Мятлев вдруг заговорил, с некоторым трудом, продолжая при этом смотреть на папиросную коробку, будто на некий предмет религиозного культа.
— Я, думаешь, отчего сам тебе позвонил? Ты сказал — первый с тонущего корабля побежал. Обидно, конечно, но кое в чём и верно. Случай, буквально вчерашний, очень уж меня достал. Был у меня знакомый, самый молодой в России генерал-лейтенант из «соседнего» ведомства. Честный парень, способный. С уголовным миром сражался беспощадно, одних «воров в законе» штук двадцать пересажал. Перед начальством не заискивал, хотя «мохнатой лапы» нигде не имел. О сотрудниках заботился, всегда помогал, квартиры строил, что вообще на сказку похоже. И что ты хочешь — намекнули ему, «с самого верха», что лучше бы ему рапорт об отставке подать, пока не сняли, со всеми последствиями. Он плюнул, выматерился, рапорт немедленно написал и на стол министерскому куратору швырнул. К всеобщему шумному удовольствию. Такая история. Вот сейчас посмотрел на портрет Корнилова. Его ведь тоже сначала Керенский призвал «спасать свободу», а потом испугался и «кинул» за ломаный грош. Пришлось Лавру Георгиевичу самостоятельную войну с большевиками начинать. Так чего ждать, так я подумал…
— А ты, прочие друзья президентские, с ним во главе, отчего же парня не поддержали? Того, кто ему совет дал, не выгнали с позором, а то и под суд не отдали?
— Так всё ведь и получается, как ты говорил. Такой расклад обозначился, что и Президент оказался бессилен. К тотальной войне не готов, и проще ему оказалось глаза закрыть, чем новый «тридцать седьмой» затевать. Нет у него аппарата, чтобы за сутки мог две трети правительства, половину губернаторов и пятьсот генералов разом посадить, и заодно прочую обстановку в стране под таким контролем удержать, чтобы вокруг никто и не дёрнулся…
— Хорошо, вот ещё у нас один кандидат в «Чёрную метку» появился. Ты мне его координаты сообщи, поговорим. Скоро, совсем скоро такие люди на вес золота цениться будут. Император Олег сам такой…
И тут же Ляхов перешёл к ключевой для самого генерала теме:
— Тебя, естественно, беспокоит, что вы потерять можете и что лично ты выиграешь.
Не обратил внимания на слабый протестующий жест.
— Объясняю с предельным цинизмом. Ты остаёшься при своей должности, если она тебя устраивает, и при шансах получить любую другую, исходя из склонностей и способностей. Если согласен трудиться на благо Отечества за установленное жалованье. Для начала могу устроить экскурсию по той России за казённый счёт. Срок и расстояния не ограничены. В сопровождении девочки или девочек отряда «Печенег». Любой, кроме Людмилы. Все остальные, гарантирую, не хуже, просто Вяземская — моя невеста. На Герту Витгефт посмотри — куда там любым гейшам и гетерам! Стихи всякие наизусть знает, от Аристофана до Бродского. Музицирует, даже и на скрипке. Танцует, как Айседора Дункан. И при этом выбивает сто из ста по любой мишени, из любого оружия и на любую дистанцию.
Далее — нашему Президенту гарантируем полную безопасность и сохранение должности до истечения срока. Если понравится и дурака валять не начнёт — до тех пор, пока самому не надоест. Переизбирать его каждый раз с восторгом будут, как Рузвельта, потому что нынешние экономические и политические проблемы исчезнут раз и навсегда.
Вообрази, какой это для всех нас грандиозный шанс. Чтобы наша страна наконец стала сильнейшей в мире державой. Не для того, чтобы кого угодно бомбить и оккупировать под флагом защиты «прав человека». Плевал я на этого человека, если ему право парад геев устраивать на Тверской дороже защиты Родины. Извини за патетику, конечно, — кашлянул Ляхов, в горле от непроизвольного напряжения связок запершило. — Я ведь как, несмотря на все «свинцовые мерзости нашей жизни», роль России вижу: «Придите ко мне, все униженные и оскорбленные, и я утешу вас!» Сообрази — России ни от кого в мире совсем ничего не надо. Только ей одной. Мой товарищ недавно в журнале «Нева» статью написал. Хороший товарищ и умный. На такую же примерно тему. Так вы же в Кремле умных статей и книжек не читаете. Отчего и ваш личный друг, «Писатель», на седьмых ролях прозябает. А мог бы… Но я опять отвлёкся. Этот самый профессор Рыбаков считает, что Россия должна помогать всем и бесплатно, но только по велению сердца и движению души. В чём и будет заключаться её позиция Мирового центра христианской и всех других конфессий, справедливости. Арбитра в спорах, если угодно. Не дурацких «прав человека», за которые крови уже пролито больше, чем всей инквизицией. Как в священных книгах написано? «Какою мерою меряете, такою и отмерится вам». «Не делай другому того, чего ты не хотел бы, чтобы он сделал тебе». А ведь две тысячи лет люди эти простейшие заповеди при первой возможности игнорируют. Куда проще: «Очень приятно жать там, где не сеяли».
А вот мы с Императором и его советниками, мудрецами и философами, кто в капитанском звании, кто в профессорском, такой бесчеловечный лозунг для своей Родины выдумали: «Хочу — помогу вам, спасу вас, если вы тоже хорошие люди и этого заслуживаете. Исключительно для собственной благодати. А если вы мерзавцы и сволочи, то и за миллионы долларов куска хлеба не подам».
Выговорившись, Вадим почувствовал себя опустошённым. Многовато эмоций с надрывом под запал выбросил. Адреналина тоже много. Пусть и понимал, что не зря говорил — генералу, если начинать его вербовку (сам факт встречи и даже его «намёки» пока ничего не значили), именно вот такой нервный срыв должен убедительным показаться. Остальные заготовки — на потом.
Руки у Ляхова настолько заметно дрожали, что Мятлев сам прикурил папиросу и уже горящую сунул в губы Вадима. Тот благодарно кивнул. Наверное, сила его посыла достала и Людмилу, она беспокойно зашевелилась и начала, вместо красивых юношей и девушек на аллеях, чересчур часто посматривать на своего полковника.
Вадим, ещё рюмку коньяка выпив, корниловскую папиросу не торопясь докурив, словно бы успокоился. Эмоции эмоциями, а ему нужно генерала характером и силой логики задавить.
— Ты поверь — я ведь совсем серьёзно говорю — для всех нас ни малейшего иного выхода не просматривается. Чего б я иначе за эту Россию добровольно под пули лез и голову в петлю совал? Деды наши и прадеды не за рубли это делали. Теперь вот и у нас шанс появился, при этой жизни — последний… — эти слова Вадим произнёс с явной печалью.
— Вот и давай, попробуй меня на уровне бухгалтера убедить, — усмехнулся Мятлев. Ему казалось, что со срывающимся в истерику и неумеренно пьющим собеседником он сумеет правильную схему отношений выстроить (не замечая, что сам уже гораздо более подшофе, чем Ляхов). Сорокадвухлетний генерал особой службы и тридцатилетний, пусть и весьма способный авантюрист, где им тягаться?
— Где у меня де́бит, где кре́дит? Попробую, — многообещающе улыбнулся Вадим.
«Страшные тайны тройной итальянской бухгалтерии», — мельком вспомнил он многократно перечитанный «Ибикус» А. Н. Толстого.
— Люди Императора на вашу дачку самые серьёзные документы и расчёты привезли, откровенные настолько, что не всякому специалисту и у себя дома показывать бы стали, так господин Президент смотреть не захотел, предпочёл морализаторством заняться. Сам себя напугал, а Олега в раздражение ввёл. Сейчас мои друзья пытаются исправить, что можно. И вам придётся тем же заняться. Виды той Москвы сильно его из колеи выбили?
— Сам попробуй догадаться, — сделал хитрое лицо Мятлев. — Ты, когда первый раз туда попал, как чужой мир воспринял?
— Я — нехарактерный пример. Я те края увидел, когда, считай, уже убитый был. Факт воскресения сильно на психику влияет, остальные впечатления на этом фоне меркнут.
Вадим не преувеличивал. Что почти погиб — чистая правда — на перевале, когда стрелял из своего винтаря, как последний защитник Брестской крепости. И когда «Гнев Аллаха» рванул, мир долго вращался вокруг него, скалы тряслись и рушились. Никогда не страдая нервными болезнями, Ляхов долго колотился в подобии эпилептического припадка, в кровь рассекая себе подборок и щёки об острую щебёнку.
Потом сознание погасло, не слишком быстро, как раз дав время понять, что вот оно, то самое, во что он не верил, и пришло.
И почти тут же очнулся, в полном порядке, только в голове слышалось нечто вроде замирающего звона прекративших праздничный благовест церковных колоколов[144].
Мятлев до конца докурил «корниловскую» папиросу, не спеша, растягивая удовольствие, как солдаты на фронте курят — до последней складки вытрусив кисет и кое-как набрав на закрутку, возможно, последнюю в жизни. Ляхов признал в Леониде настоящего курильщика. Сам он баловался этим делом с первого курса военфака, но именно что «баловался» — мог курить всё подряд — сигареты, сигары, трубку, в царской России — папиросы. Бывало — помногу, но без пристрастия. В случае чего обходился без табака и сутки, и неделю, выражение — «уши пухнут» к нему не относилось.
А Леонид был в курении такой же гурман, как другие в еде, напитках или женщинах. И загасил догоревшую до начала картонного мундштука папиросу («до фабрики», как в советское время говорили) с явным и отчётливым сожалением.
— Не переживай ты так, генерал, — сочувственно сказал Ляхов, поняв настроение Мятлева. — Закуривай вторую, если хочется. Уж чего-чего — этих папирос и любых других мы тебе организуем неограниченные поставки. Поедем с тобой в ныне российский Трапезунд, познакомишься с губернатором генерал-лейтенантом Тер-Гукасовым, он ради нового друга прикажет особую табачную смесь изобрести, сопроводит цветистым посвящением и коробку со своими стихами и вашим парадным портретом в обнимку в течение суток выпустит.
— Неужели там у них так дела делаются? — не скрыл удивления, неподобающего званию и должности, Мятлев.
— Да только так и делаются, — опять вполне искренне засмеялся Вадим. — У нас же сейчас вся пресса, что отечественная, что зарубежная, сплошь забита алармистским бредом: «Куда катится европейская цивилизация?», «Минареты над Парижем», «Крах модерна», «Закат Европы» (причём не Шпенглера, сто лет назад это предсказавшего, а новых «философов»). Можешь сам продолжить, если в курсе. А Олег Константинович, неизречённой мудрости человек, двадцать лет в роли «Местоблюстителя» коловращение мира наблюдая, за это время несколько географических и геополитических книг написал и две диссертации, — счёл нужным просветить Контрразведчика Ляхов. — И пришёл к выводу, что только немедленное возвращение доверенного ему Отечества к военно-феодальной формации и возрождение Самодержавия даёт шанс на достойный ответ очередному цивилизационному вызову.
— Как ты разбрасываешься, — с сожалением сказал Мятлев. — С темы на тему и с мысли на мысль перескакиваешь, будто боишься не успеть. А мы успеем хоть за час, хоть за сутки всё обсудить. Нас, слава богу, никто в шею не гонит. Или ты просто в другом темпе живёшь? Я предпочитаю — в обычном.
Ляхов обратил внимание, что Мятлев, умеющий контролировать ситуацию, крайне неглупый профессионал, то и дело перебрасывал взгляд на «валькирий». На их чуть поддёрнутые юбки, из-под скатерти демонстрирующие то, что в нынешнюю эпоху никого интересовать не должно бы. В маршрутку садись и любуйся на бесконечное количество входящих и выходящих девушек. С каких хочешь ракурсов. Однако же эти части тела, или — именно этих девушек, как-то по-особенному задевали генерала. Читал, наверняка читал книги Ивана Антоновича Ефремова. Следовательно, сработала «вторая схема» Ляхова-Фёста.
Вадим ведь не только фактической биографией генерала занимался. Шар, будучи очень полезным устройством, в том числе и «коллектором рассеянной информации», и «селектором стабильной», всё равно оставался «железкой», пусть и на многое способной. Суметь задать ему правильный вопрос, а потом понять смысл ответа — вот в чём хитрость!
Ляхов, врач, разведчик и контрразведчик, вовремя сообразил, что наряду с иными моментами невредно поинтересоваться сексуальными свойствами, способностями, склонностями и фобиями господина генерала. Не раз в истории случалось, что у многих весьма почтенных политических деятелей здесь и крылась «ахиллесова пята». Специально Вадим не интересовался корреляцией этих качеств личности «больших людей», но кое-какая тенденция просматривалась даже с дилетантских позиций. Врожденно-повышенный гормональный фон или необходимость компенсации интеллектуальных перегрузок противоположными эмоциями. Хотя бы и нынешнего государя-императора взять.
И Шар тут же его порадовал.
Действительно, женским полом Мятлев интересовался всегда, принадлежа к не слишком распространённой страте бабников-эстетов. Не из тех он был мужиков, что за каждой юбкой гоняются, стремясь соблазнить любую из их носительниц, независимо от внешности, часто — просто ради спортивного интереса, нагоняя счёт. Леонид Ефимович подходил к процессу особо тщательно, выбирая лучших из лучших, а уже потом избирал подходящую именно для этой персоны тактику: то ли внезапного штурма, то ли планомерной осады. И цели своей обязательно добивался, пусть даже однократно.
Как следует нагулявшись, в положенное время женился, опять же на «красавице, умнице, спортсменке» и так далее. Его «брак по расчёту» оказался счастливым, поскольку расчёт был правильный. Но натуру не переделаешь, только теперь ему приходилось проявлять намного больше изощрённости и осторожности, чем раньше.
Тут помогала профессия, и за много лет «свободной охоты» он ни разу не попался. Ни жене, ни в чужие сети.
Так что молодцы были самые первые аггрианские руководители проекта «Земля», решившие готовить своих агентесс из лучшего генетического материала. Сейчас Ляхов мог сыграть на страстях партнёра с гораздо большим эффектом, чем используя более грубые методики. На возможность внезапного личного обогащения и карьерный взлёт Мятлев реагировал слабо. Он был из тех людей, что, подобно пушкинскому Германну, не желают рисковать необходимым в надежде приобрести излишнее.
Перспектива стать очередным «спасителем Отечества» была слишком неопределённой, туманной и отдалённой. Личная обида на Президента и его окружение — штука преходящая, по любой непредсказуемой причине настроение может перемениться на прямо противоположное.
Зато возможность приобщиться к новому, интересному делу, увидеть иную, весьма привлекательную реальность, проявить себя, да ещё и оказаться «первым среди равных» — это уже конкретно. Здесь и промахнуться, теряя в итоге и положение, и голову, практически невозможно, и шанс возвыситься потрясающе высок. Но гвоздь, фигурально выражаясь, полагается забивать по самую шляпку, чтобы и гвоздодёром не зацепить.
Вот Вадим и забросил блесну, которую такой типаж, как Мятлев, ни за что не мог оставить без внимания. А уж подсечь и вытащить добычу — вопрос квалификации рыбака. Кроме всех возможных благ — бытовых, служебных, интеллектуальных, Ляхов предложил его вниманию немыслимой красоты и изящества девушку, наделённую вдобавок качествами, словно бы несовместимыми с изысканными чертами лица, длиной и точёностью ножек, манерами выпускницы Смольного института. Самое же главное, генералу гарантировалось никогда, даже в условиях многомиллионной Москвы, недостижимое преимущество — его интрижка не станет в том мире всеобщим достоянием, хоть по всей Тверской из конца в конец в обнимку с новой пассией разгуливай! По другой Тверской, естественно.
Офицер имперского спецназа, непревзойдённый стрелок, гетера, умеющая поддерживать учёные беседы, и гейша, знающая наизусть и на разных языках тысячи стихов! Бывает ли такое, в одной молодой девушке сосредоточенное? За вдесятеро меньшие достоинства умнейшие люди судьбой и жизнью рисковали, душу, говорят, дьяволу продавали.
— Давай мы оставим серьёзные разговоры на завтра, — предложил Мятлев, доказывая, что блесна с крючком-«тройником» проглочена сразу и на всю возможную глубину. — Ты, как мужчина и офицер, гарантируешь, что Герта свободна и я не стану зря, как носорог, глядящий на Луну, тратить цветы своей селезёнки?
Умеет изящно выражаться господин генерал контрразведки. Хотя цитата всё из тех же Стругацких, если память не изменяет.
— Что она незамужем и у неё нет сейчас бойфренда — гарантирую стопроцентно. А в её ты вкусе или нет, считает ли она, что в двадцать два года сорокалетний мужик способен представлять какой-то интерес, — ты сам выясняй.
Мятлев прямо напружинился, как гепард, завидевший антилопу. Впрочем, на гепарда он статью не очень походил.
— Договорились. Возвращаемся к девушкам, и ты уже мне больше не мешай.
Сказано это было таким тоном, что, и не читай Ляхов генеральской психокарты, и так бы сообразил, с каким мастером имеет дело.
— С Людой твоей я буду общаться, как светскому человеку положено, любезничать, иногда рискованно, но без всякой задней мысли. Будь спокоен. Она мне потребуется для направления и развития главного удара, — оговорил диспозицию Мятлев.
— Вроде как чужой шар в бильярде? — усмехнулся Вадим.
— Вот именно. Я же с ними и не разговаривал ещё, на ходу придётся ориентироваться. Очень хорошо знакомство затевать, когда твоя — с подружкой…
— Можешь не пояснять. — Вадиму эта методика тоже была известна. Тут главное — не заиграться, а то окажешься сам в лузе, и совсем не той, что планировал.
— Все, генерал, мешать не буду. Где смогу — поддержу. С тебя за это — не вмешиваться в мои контакты с вашей «президентской ратью». У меня и на Писателя, и на Журналиста с Философом — свои виды. Но не через твою голову.
— Слажено. — Мятлев докуривал вторую папиросу, весь уже, как актёр перед выходом, погрузившийся в роль.
— И последнее. Я тебе гарантирую — если у тебя с Гертой что-нибудь получится, хоть двухнедельную, хоть месячную турпоездку я вам организую. По Великой России и пока ещё мирным странам ТАОС. Южнее — не стоит. Там даже такая эскорт-леди, как баронесса Витгефт, тебя долго спасать не сможет.
— Почему? — странно удивился генерал.
— Патроны кончатся, — лаконично ответил Ляхов. Он-то помнил, как это страшно — нащупывать в кармане последнюю обойму.
— Так плохо? — профессионально спросил Мятлев.
— Хуже, чем у нас в Сомали или Афгане. Доживёшь — увидишь.
— Баронесса, — непонятно-мечтательным тоном сказал Леонид. Разговор насчёт патронов, имеющих омерзительное свойство кончаться в самый неподходящий момент, он решил оставить на потом.
«Готов, значит», — подумал Ляхов. При всём его мужском, врачебном и офицерском опыте Вадиму до сих пор странно было наблюдать только что нормальных мужиков, вдруг стремительно уходящих под власть гормонов. А сядет он рядом с Гертой и Людой рядышком, и феромоны[145] в ход пойдут. Тогда уже полный абзац генералу.
— Баронесса, — сочувственно, но с нотками ротного командира повторил Ляхов. — Баронесса Рене де ля Тур.
Мятлев посмотрел на него подозрительно и как бы даже с обидой.
— Молодой человек, в ваши годы и в нынешнем обществе, где вы, похоже, заняли достойное место с вашей дурацкой «паранормальной комиссией», свободное цитирование Ремарка едва ли прибавит вам авторитета. Скорее, напротив. Известный журналист Волович не так давно написал в своей колонке, что Ремарка могут считать своим кумиром только совершеннейшие маргиналы, коим недоступен Хемингуэй, а тем более Коэльо с Мураками и Павичем. Вместо погружения в тайные глубины личности — потакание архаичным стереотипам.
— Изящно, подлец, выражается. Но я скоро разберусь, какие у него там «глубины». Ещё Марк Твен развил мысль, доходчиво изложенную на долларовой бумажке: «В бога мы веруем, остальное наличными». И, как ни странно, фамилии вполне второстепенной героини «Чёрного обелиска» вполне хватило, чтобы не только вызвать сей назидательный пассаж, но и посеять в вашей же душе «сурового солдата, не знавшего слов любви», именно ту мысль, которую я и намеревался. — Ляхов уже откровенно веселился. — Кстати, а последняя моя цитата откуда?
— Не помню, — буркнул Мятлев, допивая коньяк. — Я не Литературный институт заканчивал.
— Так я тоже — «не». Однако помню, что цитата — из «Записных книжек Ильфа». Да не бери ты в голову, у меня просто память такая, почти абсолютная, а в остальном я вполне средний интеллигент вымирающего подвида «эстетов-хамов». Герта, в отличие от циркачки — настоящая баронесса, и её родовые замки в Австрии уже тысячу лет в предгорьях Альп стоят. Сумеешь на высоте положения оказаться — твои будут.
Суть же моей мысли, Эрихом Марией[146] навеянной: если ты сам по себе нашей баронессе не понравишься, ко мне никаких претензий. Договорились? Помнишь, чего «друг моего детства Костя Остен-Бакен хотел добиться от подруги моего же детства Инги Зайонц»?
— Любви, — зло бросил генерал, уже доведённый Ляховым до той самой степени «белого каления», что рекомендовал Александр Иванович Шульгин для таких ситуаций. Ничего ведь «такого» не сказал, одни общеизвестные цитаты, а результат?
— Очень правильно. С данной секунды и до указанного тобой момента я буду у тебя «в подтанцовке». Пора бы и отдохнуть, «как встарь, по-настоящему».
— Слушай, за…л ты меня своими цитатами. Эту я ещё помню, «Хищные вещи…». Но лучше пошли, не доводи до греха.
— Пойдём, — с чувством отчётливого облегчения сказал Ляхов. Клиент отработан по полной программе. Теперь его несколько часов лучше не трогать, предоставив обстоятельства свободному течению. — Напоследок скажу, как товарищ товарищу. Герта — девушка. В физиологическом смысле. Увы, характер, плюс суровые реалии военной службы. При этом она не только баронесса, но и миллионерша. Намного богаче меня, к примеру. Миллионерша, за девяносто рублей жалованья подпоручика «стойко переносящая все тяготы и лишения». У нас в благословенном Отечестве мало кто такими принципами руководствуется. Вот из такой вводной и исходи, генерал-майор. Но если за рамки выйдешь, лечиться будешь за свой счёт. И долго…
Официант с чувством глубокого удовлетворения воспринял уход чересчур серьёзных гостей из-за своего столика. Не поглядев на счёт, абсолютно честный на сей раз, они вложили в папочку ещё и голубенькую тысячу чаевых. Совсем неплохо за три минуты реальной работы.
Вяземская и Витгефт настолько погрузились в собственные разговоры, к службе, кстати, отношения почти не имеющие, что возвращение мужчин восприняли без всякой радости. Охранять их безопасность издалека было даже удобнее, а девичьи слова и пересмешки в чужих ушах не нуждаются.
Но Мятлев сразу взял руководство компанией в свои руки. Не так, как тамада на Кавказе, — куда тоньше.
И без всяких банальностей и пошлостей. Не стал ладошку или плечико девушки трогать. Напротив, сделал лицо, подобающее сорокалетнему генералу, тёртому и битому жизнью, дочек, может, того же возраста имеющему.
Вадим наблюдал с интересом. Разные он школы «охмурителей» видел, чем же этот блеснёт? Самому Ляхову, преодолевая то своё, то чужое сопротивление, удалось «побаловаться» (именно так, поскольку ничего серьёзного заведомо не предполагалось) всего с пятью женщинами. В трёх случаях инициатором был он, в двух — они. Как ни странно и ни грустно — совершенно никакой разницы между партнёршами и никакого «запредельного восторга» он не ощутил ни разу. Поначалу просто интересно, в результате в меру приятно — и только. Ничего такого, чтобы просто личным спокойствием поступиться, не говоря о большем.
Но Мятлев-то — почти вельтмейстер в этом деле. Шар подтвердил наличие у генерала более полусотни чрезвычайно активных любовниц, и это уже после женитьбы. Получить «установочные данные» и фотографии каждой при необходимости труда не составляло.
Забавно Фёсту было наблюдать, дураком прикидываясь и, как бы между делом, демонстративно напиваясь, как настоящие «казановы» к «сестричкам нашим меньшим» подъезжать наловчились.
— Извините, Герта, — с лицом суровым, исполненным подозрительности и недоверия, начал Леонид. — Минутой назад наш общий друг Вадим заявил, что вы знаете наизусть всю классическую японскую поэзию…
Чтобы эта фраза не прозвучала слишком жёстко и обязывающее, Мятлев обернулся, махнул рукой официантке, на столе, мол, не хватает…
И опять обратился к Герте:
— Ни в коем случае не сомневаясь в ваших способностях и познаниях, я позволил себе выразить недоверие Вадиму. Наш друг склонен к преувеличениям, пусть и из самых лучших чувств. Вам двадцать лет? — будто между прочим спросил генерал и краем глаза заглянул соседке за вырез платья. Ничего там особенного увидеть было невозможно: верхняя кружевная кромка бежевой «Анжелики» прикрывала именно то, что скромные девушки считают нужным скрывать.
— Двадцать три! — почти с вызовом ответила Герта. Счастливый она переживала возраст, когда приятнее прибавлять себе годы, чем убавлять.
— Чудесно! — воскликнул Леонид. — «Девушки в цвету», как писал Марсель Пруст. Двадцать два — двадцать пять — восхитительный, ни с каким другим не сравнимый возраст!
«Неплохо сказано, — подумал Фёст. — Давай, механик, крути машину дальше!»
— Прости, Леонид, именно о доскональном знании Гертой японской поэзии я не говорил. О европейской — да. А здесь уже твой передёрг. Платить не стану, сразу предупреждаю.
Впрочем, стратегически Ляхов выигрывал в любом случае.
— Нет-нет, девушки, я готов спорить. Он сказал, что вы Басё знаете. Однако не верю я Вадиму. Вы — и японская поэзия?! При ваших манерах вкусы должны быть совсем другими. Ну, давайте проверим, к посрамлению нашего друга, конечно. Вас не касается. Он наговорил лишнего, он и ответит. Вадим поставил бутылку лучшего здесь коньяка. Я отвечаю двумя.
— И что? — спросила Вяземская, естественно заинтересованная, чтобы её суженый не проиграл будущие семейные деньги.
— Пусть Герта прочтёт мне что-нибудь японское, связанное с нашим неожиданным знакомством… Знаете, есть там у них обычай обмениваться стихами по случаю…
Мятлев произнёс эту рассчитанную на безусловное поражение Ляхова и самой Герты фразу с мало скрываемым торжеством. Ничего ведь не придумает, а он уже приготовил в уме пару хокку с соответствующим прозаическим сопровождением, одновременно и примиряющим его с девушкой, и чуть-чуть, но унижающим Вадима. Нужно ведь подравнивать шансы?
Герта, делая вид, что глубоко затягивается длинной и тонкой сигаретой, на самом деле только в рот набрав дыма, медленно выпустила его носом. Исключительно «для понта», как здесь говорится, при этом став изумительно похожей на эпизодическую актрису, точно так же курившую длинную папиросу в белом Севастополе накануне эвакуации, в фильме «Хождение по мукам». Улыбнулась так, что у простого человека мороз бы по спине пробежал, а Мятлев возбудился совершенно непристойным для взрослого человека образом.
— Японское? Прочту, — снова усмехнулась она.
И тут же, без малейшей паузы, произнесла с нужными интонациями:
Слегка задумалась, уперев взгляд прямо в глаза ошарашенному точным попаданием текста в ситуацию Мятлева, прочитала ещё одну танку:
Не вставая с места и почти не двигаясь, выражением лица и лёгким жестом изобразила, будто ничтожнейшая из гейш в восхищении шепчет своему сегодняшнему господину прославляющие его слова. А «луна» в японской традиции как раз и обозначала нечто прекрасное, одновременно недоступное и восхитительное.
Ляхов победно улыбнулся, словно действительно выиграл дорогой коньяк (а что, сам назвался, пусть и ставит, перед дамами лицо терять не захочет), Вяземская чуть дрогнула уголками губ, довольная, что всё идёт как надо. Герта, перестав быть гейшей, вернула себе абсолютно нейтральное лицо, с каким в строю ожидают команду: «Равняйсь! Смирно!»
Мятлев вздрагивающей рукой разлил всем шампанского, не ожидая, когда это сделает официантка.
— Ещё, Герта, прочитайте что-нибудь ещё, но в другой тональности.
Даже Вадим не понял, действительно ли так его потрясли декламаторские способности баронессы или он отыгрывает этюд «восхищённый поклонник»?
Герта улыбнулась совершенно очаровательно. Если б это сделала другая девушка и на неё, полуоткрыв рот смотрел бы не этот человек, вполне можно было подумать, что тайное соприкосновение душ состоялось.
Но хокку, произнесённое ей, как-то не совпало с предыдущим.
«Теперь, господин генерал, как хотите, так и понимайте. Ну Герта, какой ты молодец! Я б тебя инструктировал, и то так не угадал…»
Генерал всё понимал правильно. Хитёр он был от природы и по должности, предлагая девушке посоревноваться именно в японской классике. Её-то Мятлев изучил напрожог, ещё в студенческие годы, сначала просто для собственного удовольствия, а потом оказалось — и в личной жизни, и в служебной деятельности очень пригодилось. Прав был Карл Маркс, заявив когда-то: «Не бывает бесполезных знаний».
Он сделал задумчиво-печальные глаза, прищурился, улыбочку изобразил и стал вдруг очень похож на самурая, культурно отдыхающего между походами на веранде своего родового замка из рисовой бумаги.
Раз началось состязание, посторонним вмешиваться не положено, и Людмила только взглядом сообщила Ляхову, что происходящее ей нравится.
Сделавшись тоже немного похожей на японку умелой гримасой, Герта печально вздохнула.
Вадим с Людмилой снова переглянулись. И оба посмотрели на Мятлева.
— Девушка, — взмахнул он рукой в сторону официантки. — Что там у вас на заветной полке в углу? «Курвуазье»? Принесите два, то есть две бутылки, я хочу сказать. «Пусть проигравший платит, кляня свою судьбу!»
Однако сам он проигравшим и плачущим не выглядел, совсем наоборот. Карта ему явно пошла.
— Ох и напьёмся сегодня на генеральский счёт, — радостно сказал Ляхов, потирая руки. Кто в этой игре выигрывал, так именно он. Только вообразить, как тщательно приготовил и снарядил ловушку Мятлев. Именно на себя.
А тот не успокаивался:
Совсем короткая пауза. Что же сейчас придумает сощурившая глаза и сложившая руки перед грудью прибалтийская красавица? Вадим, выучивший когда-то наизусть всего десяток хокку, знал, что умельцы могут состязаться часами, перебрасываясь сжатыми до нейтронной плотности мыслями и эмоциями.
Надо же, нашла. Да ещё с каким подтекстом! Будто телепатически прочитала замысел Фёста.
Мятлеву пришлось сделать передышку, все выпили по рюмке честно проигранного им коньяку, и тут же его осенило:
Но Герта была наготове. Будто перед её глазами прокручивался бесконечный свиток каллиграфически вычерченных иероглифов.
Леонид Ефимович поднял руки. Не сдаваясь окончательно, но только потому, что счёл «первоначальную задачу» выполненной. После таких слов следует сделать оперативную паузу, привести в порядок войска и амуницию и уже потом переходить к «последующей задаче».
Глава четырнадцатая
Фёст отбыл из Москвы на Урал вскоре после встречи с Мятлевым в полной уверенности, что отныне может рассчитывать на его поддержку. Ляхову не казалось очень сложным совместными усилиями Контрразведчика и его друзей убедить Президента просто посмотреть на результаты «натурного эксперимента», оставив судьбоносные решения на потом. Тем более есть такое понятие — «свершившийся факт» (в данном случае — прошедший сквозь тоннель поезд, хоть пассажирский, хоть товарный, но — оттуда), перед которым отступают любые теоретические построения, самые высокоумные и взвешенные.
Совсем недавно Вадим разрабатывал сложные схемы привлечения на свою сторону каждого президентского конфидента по отдельности, придумывал, каким именно образом (в случае успеха) организовать очередную «психическую атаку», способную вынудить главу государства начать, наконец, мыслить по-государственному. Идеи приходили в голову самые разные, иногда — на грани исполнимости, и он собирался посадить за их проработку обеих своих помощниц, с использованием недавно обретённых Шаров.
Сильвия утверждала, что при умелом обращении эти аггрианские устройства могут работать и в качестве инструмента стратегического планирования, способного переиграть любой Генштаб мира. Вот пусть девочки и потренируются, испытают себя в роли новых Шлиффенов и Брусиловых.
Из чистой деликатности Ляхов не стал спрашивать весьма уважаемую им даму, отчего тогда ни она сама, ни все её сотрудники не сумели справиться с несколькими земными парнями, ничем, кроме собственных мозгов и характеров, не вооружённых?
И вдруг все приготовления Вадима оказались излишними. Условный противник в лице генерала Мятлева сам предпочёл атаковать, внезапно, без артподготовки. И тут же, с ходу, угодил в без особой надежды, на всякий случай расставленную ловушку. Причём сам этому очень обрадовался. А окажись Контрразведчик строгим пуристом, или, хуже того — геем, как бы теперь развивались события?
Посидели они на веранде над прудом очень неплохо. Часа два Мятлев старательно обхаживал Герту, и Люду заодно, как они с Вадимом договорились, чтобы дискриминации не вышло. Сам Ляхов больше помалкивал, иногда переглядываясь с любимой, но больше думая о своём. Генерал развеселился. Заказывал оркестру музыку, танцевал с обеими девушками по очереди, ничем не выражая предпочтения Герте. Скорее, Вяземской уделял больше внимания. Схема достаточно избитая, но в общем действенная, вроде староиндийской защиты в шахматах. Какой бы ни была «валькирия» специалисткой, а волей-неволей, видя, что подруга вызывает у мужчины чуть больше сексуального интереса, сама старается не уступить, а лучше — переиграть.
Уже расплачиваясь, Ляхов посоветовал пребывающему в изрядном подпитии Контрразведчику отпустить своих сопровождающих. Мол, программа ещё не закончена, и продолжение их сегодняшних развлечений сотрудникам видеть ни к чему. В высших государственных интересах.
— Надеюсь, похищать вы меня не собираетесь? — со смешком спросил Леонид, когда его «чекисты», довольные, что последствий их сегодняшний промах иметь, скорее всего, не будет, скрылись за воротами парка.
— Именно это и собираемся, — томным голосом ответила Герта, положив руку на предплечье Мятлева и увлекая его в глубину тёмной липовой аллеи.
Вадим с Людмилой приотстали на несколько шагов, как и положено, чтобы не слышать воркования только начавших сближаться людей. А у них, похоже, нашлось что говорить друг другу. Сочтя место подходящим, Ляхов включил блок-универсал на переход в параллельную Москву. Получилось у него очень удачно, практически в то же место и время суток. Мятлев даже не заметил, когда прошёл рамку, замаскированную нависающими над дорожкой галогеновыми фонарями.
Тем более — отвлечённый действиями Герты, переключившейся с вербально-интеллектуального на физиологический режим охмурения. Мадемуазель Витгефт, теперь изображавшая не гейшу, а европейскую, вполне светскую девушку, исключительно интонациями, мимикой, скупыми и отточенными движениями тела, вполне пристойными по отдельности, за несколько минут сумела создать у генерала, не пьяного, но навеселе «в должной пропорции», впечатление, что она увлеклась новым знакомым не на шутку. Только воспитание не позволяет ей это показать.
«Высший пилотаж, — восхитился Ляхов. — Хорошо их учили! Бурная игра гормонов, едва сдерживаемая страсть, дрожь нетерпения, будто у классной египетской танцовщицы — а клиент воспринимает это лишь подкоркой. Глазами разума видит застенчивость, робкое желание понравиться и одновременно страх, что мужчина превратно поймёт её только-только зарождающееся чувство, поведёт себя слишком решительно, чем всё испортит».
Его вдруг неприятно поразила мысль, что и Людмила умеет всё это, и вполне способна манипулировать им, как и любым другим мужчиной. В зависимости от задания. Как, например, безукоризненно играла на даче перед милицейским патрулем.
Но тут же вспомнил слова Натальи Андреевны, потом Сильвии: «Со своими они никогда ничего подобного не позволят. Если выберут себе мужчину, то вернее их подруг на всём свете не найти». И успокоился.
Правда, Вадиму не хотелось бы, чтобы Герта всерьёз выбрала себе Мятлева. Вроде бы и ничего мужик, но уж слишком любвеобильный. А у него, получается, комплекс старшего брата взыграл — «я лучше знаю, какой парень моей сестрёнке нужен». Да и вообще рановато на такие темы задумываться.
Выпитый коньяк и общество Герты и Людмилы полностью избавили Леонида Ефимовича от футурошока при переходе в другую реальность. Стоило им только выйти из парка на вечернюю улицу, он сразу сообразил, где оказался. Да и странно было бы! Он умел по нескольким фотографиям определить почти любую из мировых столиц, где сделаны снимки, по рисунку букв и особенностям текста легко распознавал язык, даже совершенно незнакомый.
Что уж говорить о родном городе, где хотя и поменялось внезапно почти всё — одежда людей, типы и марки автомобилей, общий вид улиц, даже архитектурные стили новостроек, осталось достаточно легко узнаваемых, характерных именно для Москвы зданий. Тем более именно об этой «другой» Москве он последнее время только и думал.
Огляделся по сторонам, словно от растерянности сжал ладонь девушки. Очень естественно получилось. Он удивился сам себе: стоит сейчас неизвестно где, перенесённый через немыслимые толщи пространства-времени, и не травмирован пресловутым футурошоком, просто радуется приключению, навсегда меняющему его ставшую такой рутинной жизнь.
А ещё больше — ощущению нежной, но крепкой девичьей руки в своей ладони, близости её тугого, высоко открытого бедра, запаху никогда ранее не слышанных духов…
Может быть, в том и смысл, что всё случилось сразу и вместе?
Та жизнь, какая ни была, закончилась окончательно пять минут назад. Если вернётся — то уже будто и не всерьёз. Зато началась новая, где чужой город, чужая страна, чужое время. А между ними связующее звено — именно эта прелестная, невыносимо красивая, столь же умная баронесса Витгефт. Никого подобного ей он прежде не встречал. А сравнивать было с чем.
Вспомнились вдруг слова из песни Визбора:
Ему-то, слава богу, не сорок восемь, только сорок один через три месяца будет, а Герте, она сама сказала — двадцать три. А то и двадцать четыре, что вероятнее. Так какие наши годы?
Ляхов с Людмилой стояли позади, Вадим тоже непроизвольно взял официально объявленную невесту за руку. Смотрели на проспект, с изредка скользящими через световые пятна фонарей такси и лимузинами.
— Кажется, выходит лучше, чем ты спланировал, — шепнула Вяземская.
— Не знаю, лучше или хуже, но выходит. Герцог Бэкингэм за куда более страшненькую женщину, королеву Анну, интересы Отечества продал, а у нас всё наоборот. Только ты что думаешь, у них всерьёз может получиться?
— Вот это меня совершенно не волнует, — несколько резковато, на взгляд Вадима, ответила Людмила. — Вы с Секондом ей задание дали — она его исполнит «любой ценой». Цена эта, в её и твоём понимании, — несколько разная. Ты, со своими патриархальными взглядами, до сих пор уверен, что девушке с мужчиной за деньги или «по работе» спать неприлично. Нас же учили, с четырнадцати, наверное, лет, что это просто один из методов нашей работы. Иногда языком цели добиваешься, иногда кулаком, выстрелом, иногда — этим. Я уже говорила — для тех, кем мы были на Таорэре, понятие морали, совести, как внутреннего императива, отсутствовало вообще. Здесь, спасибо Майе, Наталье Андреевне и службе в отряде, всё изменилось.
Я понимаю, ты её сейчас со мной сравниваешь, — проявила Вяземская специфическую проницательность. — Сразу скажу: успокойся. Я теперь таких заданий выполнять не буду. Да и некому их больше отдавать. Если не передумаешь — в отставку подам, только мы вдвоем будем решать, что мне делать, чего не делать. Заметил — при всей своей «подготовке» с тобой я не легла. Хватило урока с пистолетом. Теперь — только когда ты с меня фату и белое платье снимешь. О другом и не думай. По рукам получишь как минимум. А за Герту не беспокойся.
Мятлев обернулся, сияя улыбкой. Очередная цитата вспомнилась Ляхову: «Тихоокеанский закат освещал их лучезарно-пьяные хари»[147]. Здесь закат был московский, остальное — очень похоже.
— Спасибо, друзья. Хорошо, что вы меня заранее не предупредили, а то бы я, чего доброго или недоброго, сопротивляться начал, в сомнения впадать. А раз уже всё так — давайте пользоваться случаем. Я по оперативной необходимости минимум сутки свободен.
«Что же я с тобой сутки делать буду? — подумал Вадим. — А впрочем, пойдёт. До полуночи по столице погуляем, с утра, чтобы сохранить видимость служебных занятий, какую-нибудь бумагу составим, о согласии на сотрудничество при полном непротивлении сторон, не имеющую юридической, но с большой моральной силой».
Чтобы сразу ввести гостя в текущие жизненные реалии, а заодно и освежить для будущих впечатлений, он остановил идущее в редком потоке машин (как в Москве тридцать лет назад) длинное такси-кабриолет. Лицензионная копия «Паккарда» девяностого девятого года.
За три часа они объехали город по Садовому кольцу, в отличие от предыдущей реальности сплошь обсаженному вековыми деревьями, всего лишь четырёхполосному, с прогулочной аллеей посередине. Поднялись на Воробьёвы горы, полюбовались панорамой города без «сталинских» и прочих высоток, зато с пресловутыми «сорока сороками» церквей и колоколен, среди которых и «Иван Великий» не так уж выделялся.
Мятлев не переставал восхищаться, адресуясь исключительно к Герте, по его мнению — аборигенке. Она не спорила, но конкретностей на всякий случай избегала.
И она, и Людмила всё время посматривали по сторонам, фиксируя, как к их слишком смелым, для другой реальности приспособленным нарядам относятся окружающие. С интересом относились, безусловно, да и то не поймёшь, сами платья их удивляли или девушки, скорее полураздетые, чем одетые, по здешним меркам. В общем, ажиотажа ничуть не больше вызвали, чем в советское время какие-нибудь французские актрисы, гости Московского кинофестиваля. Наверняка многие девицы их возраста, да и лет на десять старше, постарались запечатлеть в памяти и покрой платьев, и материал, и высоту «шпилек», чтобы завтра же кинуться к знакомым портнихам и в модные магазины.
Когда, наконец, окончательно стемнело, они отпустили такси на Триумфальной площади. Пешком прошлись по нарядной Тверской, хотя в этом мире она главной улицей не считалась. Вся шикарная жизнь сосредоточена в секторе между нею, Лубянкой и Красной площадью. А самые дорогие и модные заведения — на Петровке, Кузнецком мосту, Неглинной и в прилегающих переулках.
Мятлев успел как следует проветриться, да и проголодаться, пообедать он прошлый раз толком не успел, увлечённый дискуссией и выпивкой с Ляховым, а более всего — Гертой.
— Где бы нам устроиться? — риторически вопросил он Вадима и сам ответил: — А вот можно и здесь, — он указал на открытую веранду ресторана между гостиницей «Метрополь» и стеной Китай-города. — Что удивительно — совсем почти всё как в моей молодости, почти ничего не изменилось. Только намного лучше. Пойдёт? — И вдруг забеспокоился: — Как у нас с деньгами? Я, сами понимаете, — пас.
— Сегодня Люда банкует, — успокоил его Вадим. — У неё здешних денег больше, чем у меня наших.
Под хороший «живой» оркестр, составленный из пяти девушек в белых костюмах и ударника в чёрном смокинге, Мятлев снова то и дело приглашал потанцевать Людмилу и Герту по очереди, чтобы никому из них не обидно было и, наверное, чтобы «почувствовать разницу». Странно, что при почти одинаковых формах и сравнимой красоте лиц Вяземская вызывала у него чисто эстетические чувства, Витгефт же — возбуждала всё сильнее и сильнее. Почти что уже до неприличия.
Ляхов никогда особенно не увлекался танцами, особенно в общественных местах, поэтому чаще оставался за столиком. Заодно и получал возможность поговорить то с одной, то с другой напарницей без свидетелей.
Когда Мятлев (а уж он-то танцевал высококлассно) повлёк Вяземскую на очередное танго, Вадим ровным, но отчётливо командирским голосом сказал Герте, что она вправе вести себя, как считает нужным, но задание остаётся в силе, и, если что, он вправе её отстранить. А дальше пусть со своим начальством разбирается.
Та не возмутилась его словам и даже не обиделась.
— Вадим Петрович, вы говорите совершенно не о том. Задание я получила, как его наилучшим образом выполнить — моё дело. Ближайшая цель — убедить «объект акции» работать на вас, окончательно забыв о «долге» перед своим Президентом. Будет исполнено. Можете не спрашивать, как я это сделаю, если не потребует «оперативная необходимость». А влюбляться, и уж тем более изменять присяге я не собираюсь. Даже вы гораздо больше в моём вкусе, чем Леонид Ефимович.
— Молодец, подпоручик, — рассмеялся Ляхов, наливая ей шампанского. — «Даже вы» — хорошо звучит. Особенно когда вспомню, как ты меня своим мощным телом от осколков прикрыла.
Натанцевавшись, перешли к анекдотам, рассказывать которые и Вадим, и Мятлев были большие мастера. Девушек, даже не слишком приличные (лишь бы смешные), приводили в истинный восторг. Главное — это был юмор другого мира, куда более остроумный и терпкий, чем им доводилось слышать раньше. Ляхов объяснил, что в значительной мере именно способность острить и смеяться над чем угодно и в любых обстоятельствах позволила их народу пережить то, что для любого другого было бы вообще непереживаемо.
Завершать мероприятие собрались уже за полночь. Контрразведчик словно бы не проявлял никакого интереса к тому, что будет дальше. Видимо, решил полностью довериться своим новым друзьям, а заодно и кое-какую дополнительную информацию получить, и фактическую, о нравах и обычаях местной жизни, и психологическую, касающуюся Фёста и девушек.
«Будет тебе информация, — подумал Вадим, сразу разгадавший тактику Мятлева. — Куда мы тебя, на твой взгляд, определить можем? В отель — едва ли. С гостями так не поступают, здесь пусть и другая страна, но не Германия. Значит, рассчитываешь, на квартиру пригласим. Вопрос — на чью? К кому-то из девушек — едва ли. Ты знаешь, что обе они — офицеры в невысоких чинах, апартаментами, позволяющими без проблем разместить у себя постороннего мужчину, наверняка обзавестись не успели. Остаюсь я. Вот ты сразу и узнаешь, как здесь „перебежчиков“ благодарят, да и адресок на всякий случай запомнишь…
Будь сейчас другие обстоятельства, правильнее всего — перекинуть Мятлева обратно, дружески попрощаться, поблагодарив за приятно проведённое время. Герте — „сделать поклоннику глазки“, тонко намекнуть, что не откажется от следующего свидания. И пусть отправляется ночевать домой, в объятия жены, заодно и дозревает.
Но сейчас приходится форсировать ситуацию, не выпуская добычу из рук. Кто может знать, что за следующие сутки случится с клиентом и с ним самим? Вплоть до самой нелепой случайности, вроде вылетевшего на красный светофор придурка в „Лексусе“ с „красивыми номерами“. Или — более агрессивные коллеги проделают с ним то, что дон Рэба с братом Абой и отцом Цупиком[148]. Всем — хоть прогрессорам, хоть контрпрогрессорам подобных вариантов следует опасаться. Коридоры Лубянки или коридоры „Министерства охраны короны“ — не один ли чёрт для тех, кого по ним грубо волокут или даже вежливо ведут?»
— Ну так что, — обратился он к подругам, — ко мне, что ли, пойдём? Время детское, ещё и «тридцаточку» расписать можем. — Мнения Леонида он не спрашивал, раз в гостях — делай, что скажут.
— Неужто, барышни, вы и в преф играете? — недоверчиво восхитился Мятлев.
— Как каждый уважающий себя офицер, — гордо ответила Людмила, а Вадим добавил:
— И тебя, раз ты у нас генерал, на одних девятерных разденут[149].
— Так я что, я с удовольствием…
Весёлая компания отправилась, никуда не спеша, через Театральную площадь, по залитой светом фонарей и реклам, заполненной гуляющей публикой Петровке на Столешников. Ляхов ничем не рисковал, в этом мире Контрразведчику совершенно всё равно, где квартирует его будущий «фронткамрад»[150], а вот как — пусть полюбуется. То, что оттуда можно почти свободно, как через турникет метро, переходить в их общую реальность, он сообщать не собирался.
И сам факт, что клиент должен бы сильно удивиться, поняв, что Ляхов и там, и здесь проживает по тому же самому адресу, его не волновал. Пусть воспримет это как ещё одну загадку «конгруэнтно-параллельных миров», делающую картину мироустройства окончательно непостижимой.
Мятлев жадно впитывал атмосферу ночной Москвы, столицы государства, где почти век не было никаких потрясений и ужасов, где короткая Гражданская война забылась так же, как свой восемнадцатый год в Германии. Где гуляющие по улицам, сидящие в бесчисленных ресторанчиках, кафе и пивных люди и вообразить не могут, что возможны в природе «коллективизация», «индустриализация», «большой террор» и уж тем более Великая Отечественная и сопутствующие ей войны, включая «холодную».
Очень хорошо рассчитал Ляхов. Внезапный вброс человека в несопоставимую со всем его жизненным опытом реальность, как условную «ивановскую ткачиху» восьмидесятого года в Западный Берлин, да с пачкой дойчмарок в клеёнчатой сумочке, весьма способствует перемене взглядов. Или хотя бы — настроения. А если рядом с тобой девушка, поразившая не только воображение, но и куда более глубокие структуры личности, и ты великолепно понимаешь (не дурак же — специалист), что рассчитывать на её благосклонность, а то и намного большее можно только в одном-единственном случае — если её мир станет и твоим.
Не он первый, не он последний. В Министерстве наперечёт, поимённо знают и помнят всех, кто изменил долгу и перебежал на сторону врага за последние семьдесят лет. Может, и были такие, кто — из «подлинных убеждений» или обоснованного страха за свою жизнь, но то все в сталинские времена. Прочие же — из-за толстого гамбургера и длинного доллара. Но Мятлев ни присяге изменять не собирается (не предусмотрено Присягой таких коллизий), ни на сторону врага перебегать (иначе с тем же успехом чтение дореволюционных книг можно предательством объявить).
Глядя по сторонам, фиксируя в памяти каждую, пусть для местных жителей незначительную, давно привычную деталь, Леонид Ефимович думал: «Да куда тут всем Лондонам, Парижам, Нью-Йоркам, вместе взятым? На порядок лучше, красивее, спокойнее, богаче. Самое же главное — это настоящая Держава, где, без всяких коммунистических заморочек, „всё для человека“, и тот же человек другому „товарищ и брат“. Поскольку давным-давно каждый здесь имеет „своё“, и инстинкт „делить чужое“ практически утрачен. Ради такой „новой Родины“ (а, по правде говоря — „старой и истинной“) стоит и потрудиться и рискнуть головой, если придётся».
Замысел Ляхова был ему абсолютно понятен технически. Курс вербовки он не только изучил в своё время, несколько лет сам преподавал в Высшей школе. Равно как и параллельный контркурс. И знал, что можно было бы господину Ляхову противопоставить. Только ведь это совсем другой случай. Не к измене его весьма квалифицированный, но никак не вражеский агент склоняет, а совсем наоборот.
Десятикомнатная сдвоенная квартира в самом центре московской светской и богемной жизни (остальные пять как бы рабочих помещений Вадим показывать не стал) произвела нужное впечатление. Мятлев обошёл её всю, просто интересуясь, как здесь живут приличные люди. Очень неплохо, и меблировка изысканная, и всё остальное. Ему предложи такую — многовато бы даже показалось. Жена заморится пыль вытирать и общий порядок поддерживать. У него всего лишь четырёхкомнатная «сталинка» в районе «Сокола», и то многие завидуют. Те, кто особняков во всяких Рублёвках и Жуковках не настроили, а во всяких новоделах ютятся.
Особый интерес у генерала вызвала библиотека, составленная частично из советских и постсоветских книг, а в остальном — из дореволюционных и изданных за последние девяносто лет уже в этом мире.
— Сколько у тебя томов? — спросил Леонид.
— Тысяч десять.
— Долго собирал?
— Наши — всю жизнь, здешние — за год. Букинистам только заказ сформулируй. Всё, что угодно, разыщут, привезут, по полкам расставят и каталогом снабдят. Переплётчик — по отдельной таксе.
— Завидую, — вздохнул генерал. — Засел бы здесь, неделю не отрывался, чтобы только кое-что перелистать…
Он жадно посмотрел на полки с подшивками литературных журналов Серебряного века, да и последующих, не прожитых их Россией лет. А чего стоят ненаписанные книги известных авторов! Тех, кто в советской действительности не выжил или эмигрировал, но того, что собирался, не написал. Книги Мятлева привлекали ничуть не меньше, чем женщины, и дилемму эту он решал только благодаря физиологии. С самой невероятной прелестницей можно утолить жажду телесную за час, от силы два, а всё остальное время посвятить вещам духовным. Например — лежать с красавицей в постели и читать ей вслух избранные места из Апулея[151], издания Маркса (не того) 1880 года. Не говоря о том, что поиски подходящей женщины занимали гораздо меньше времени, чем походы сначала по букинистическим магазинам, а потом и по квартирам сотнями начавших вымирать книголюбов, чьи наследники продавали книгу, стоящую половину какой-нибудь «Хонды», по цене бутылки водки.
Обшарив глазами полки, от которых и до завтра можно было не отходить, генерал задал наконец вопрос, давно его волновавший, но уместный только сейчас, в состоянии подпития, и как бы к слову.
— Сколько же тебе платят, если и жилплощадь такая, и библиотека?
— А сколько угодно, — легко ответил Вадим, указывая Мятлеву на глубокое кожаное кресло девятнадцатого ещё века (кто только в нём не сидел, включая Якова Сауловича Агранова), — бери сигару вон. Хорошие, говорят. Девочки себя немного в порядок приведут, и сыграем, если не передумал.
— Да сыграем, конечно. Я ведь сказал — мне спешить некуда. Только что значит — сколько угодно? Я к конкретности привык…
Снова у Ляхова выскочил на язык афоризм, теперь уже Станислава Леца: «На груди они с гордостью носили таблички с обозначением цены, за которую их нельзя купить!» Но он его оставил при себе. До другого раза.
— Здесь не тот случай. Здесь для таких, как я, натуральный коммунизм. Каждому по потребностям. Я ж двенадцать «Мерседесов» всё равно не захочу и ведро икры в день не съем. Если ты заведомо знаешь, что тебе в любом случае всё доступно, войн и революций на днях не ожидается, станешь мешок соли, два ящика мыла и чувал бриллиантов домой на горбу тащить?
— Не станешь, тут я верю, но зачем тебе, холостяку, десять комнат? Да ещё таких.
Ляхов долго-долго выпускал дым тщательно раскуренной сигары. Подбирал логичный и в то же время играющий на его замысел ответ.
— «Общее собрание, рассмотрев ваш вопрос, пришло к заключению, что вы занимаете чрезмерную площадь. Совершенно чрезмерную. Вы один живёте в семи комнатах!»
— Продолжи, пожалуйста. Всегда приятно хорошую прозу слушать. Да и память у тебя…
— Не жалуюсь, — скромно ответил Вадим, «хотя и не памятью поразить тщился» (это уже слегка искажённая цитата из другого романа других авторов). — «Я один живу и работаю в семи комнатах, — ответил Филипп Филиппович, — и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку».
— Ладно, с Булгаковым понятно. Но у тебя десять, и ты не оперируешь.
— Интересно, откуда ты знаешь? — слишком пронзительно (иногда и это нужно) посмотрел Ляхов на гостя, неожиданно, даже для самого себя, смешавшегося. Действительно, откуда он вообще хоть что-нибудь достоверное и полезное для службы знает об этом человеке?
Давно уже ясно, что на оперативную информацию, собранную его сотрудниками, полагаться не стоит. Слишком много лакун, и все они сосредоточены в последнем отрезке жизни бывшего капитана медицинской службы, действительно, как следует из документов Минобороны, пропавшего без вести во время боя с моджахедами на ливанском перевале. И вдруг вернувшегося с другой стороны мира, кстати, и с профессией, весьма подходящей для «пропавшего». Ну как в нынешних войнах человек может пропасть без вести? Атомного оружия на том перевале не применялось, пятидесятимиллиметровый миномёт даже при прямом попадании оставляет от человека достаточно ошмётков, пригодных для опознания.
А этот сначала пропал, совершив подвиг, достойный геройского звания, а потом вдруг появился. В облике представителя совершенно идиотской (но, никуда не денешься, из класса весьма расплодившихся и одобряемых на самом высоком уровне) фирмы.
Получил в распоряжение по доверенности две квартиры, расположенные (только сейчас до Мятлева дошло) по этому же адресу. Его финансовые активы (доступные контролю экономического отдела МГБ) совершенно ничтожны. Проще говоря, ни на одном из трёх не лежит больше, чем за год легально зарабатывает адвокат или менеджер средней руки. Столько, примерно, он и должен получать от своих работодателей. Более тщательно изучить этот вопрос у генерала не было времени, слишком внезапно попал в его поле зрения господин Ляхов.
Если попросту подойти — рубаха-парень Вадим Петрович, как говорится, о том и информатор из числа консьержей его дома докладывал. А с другой точки зрения взглянули — и оказался человеком очень и очень интересным…
Да вот хотя бы взять: по его собственным словам, таких девушек, как Людмила и Герта, среди его «сотрудников» не меньше сотни. Немыслимо представить, как при этом, не будучи евнухом, оставаться спокойным, несколько даже равнодушным к женским прелестям и уловкам человеком. В этом Леонид Мятлев разбирался, как никто.
Он ещё подумал — а если бы ему сейчас было дано право выбора, с кем бы он предпочёл уединиться? Людмила ведь явно красивее внешне и, главное, сексуальнее. Но отчётливо, анализируя себя до самых глубин, понял, что всё равно выбрал бы Герту. Даже вообразив развод с женой и все прочие неприятности. Слава богу, что так вопрос не стоит. При желании можно сказать, что в другом мире и измена изменой не считается. Как сделанное и сказанное во сне.
Выждав две-три секунды, а больше мысли Мятлева не заняли, Вадим снисходительно улыбнулся.
— Оперирую — не оперирую, дело шестнадцатое. Однако военно-полевым хирургом я был не из последних. И в совершенно нечеловеческих условиях. Это здесь я немного нервы поправил и точку зрения на обстоятельства жизни изменил. Да оставим, таким, как ты, этого не понять. Посмотрел бы я на тебя, если бы кровь из перебитой артерии вдруг в глаза брызнула…
Ты касаемо квартиры прикинь, как профессор Преображенский, если вдруг придётся и тебе жилплощадь выбирать. Что светскому человеку в той России нужно? Большая гостиная, чтобы музицировать и вслух стихи и пьесы читать, как в старое время принято было. Пятьдесят квадратов, почти половину из них стейнвеевский рояль займёт. Дальше — личный рабочий кабинет. Библиотека, желательно — дверь в дверь, чтобы далеко не ходить. Как вот здесь, где сейчас сидим. Неплохо ведь сидим? Это — три раза по двадцать пять. Столовая, чтобы два десятка гостей по-человечески угостить. Ещё пятьдесят, меньше не выйдет. Спальня моя. Спальня будущей жены. Три гостевые спальни. Оружейная, она же мастерская. Стеллажи с оружием, стол для чистки, станочки кой-какие, запчасти, расходный материал. И всё. Если дети пойдут рождаться, так гостей селить и некуда станет. А ты говоришь — десять комнат…
— Да, — вздохнул Мятлев, не придумав, что возразить. Вот и разница в психологии и просто воображении людей разных исторических формаций. Советского воспитания генерал (Генерал!), не имея «безгрешных доходов»[152] на рублёвский особняк или замок, продолжал мыслить в категориях «двушек», «трёшек» и прочих квартир стандартных планировок.
Подымили сигарами, Вадим извлёк из тумбочки бутылку коньяку. Привёл старую шульгинскую шутку: «Хлопнем по одной, пока бабы не видят».
Мятлев на неё отреагировал стандартно и без воображения:
— А чего? Мы же с ними и так весь день пьём. И никто не препятствует.
Ляхову пришлось объяснить сакральный смысл этого мероприятия. До Леонида дошло.
Мятлев долго смотрел на висевшую перед глазами картину, и его очень впечатлявшую с момента, когда вступил в понимающий возраст.
Камилл Писарро, «Оперный проезд в Париже». Не мог же хозяин её специально для него здесь повесить. Причём картина эта выглядела подлинником (каким и являлась на самом деле). Значит, если самые тонкие (неалгоритмируемые) вкусы у них совпадают, так и остальное должно бы. Помимо службы. Контрразведчику показалось, что не только «девушку своей мечты» он сегодня встретил, но и друга, может быть — на всю жизнь. Бывает иногда такое.
Ещё раз спросил себя — «стоит ли?» — и задал больше всего волнующий его сейчас вопрос, независимо от должности и обстановки:
— Герта — она тебе кто?
Ляхов снова внутренне усмехнулся (забыл, что ли, генерал — было уже кое-что сказано по поводу девушек. Или настолько гвоздём засела в мозги эта тема, что каждая лишняя рюмка коньяка к ней возвращает?), внешне оставаясь настолько серьёзным, насколько требовали обстоятельства.
Мог, для шутки, ответить в стиле очередного общеизвестного романа — «собрачница». Возможно, это Мятлева ещё более бы возбудило. Хотя куда уж дальше?
Вадим предпочёл, налив по новой, сказать чистую правду (которую умные люди всегда отличают от самой тонкой лжи):
— По легенде — племянница. На самом деле, как я уже говорил, — действительно не более чем подпоручик отряда «Печенег» Главного разведуправления Императорской Гвардии. Не очень давно поступила в моё распоряжение в качестве личного телохранителя и порученца. Случись что со мной — станет ронином. Ты ж у нас знаток японистики. А она не только хокку и танка наизусть читает, она мечами владеет так, что и у меня мороз по коже. Я в детстве отцовской золингеновской бритвой себя по щеке полоснул, так до сих пор возле лица ничего тоньше совковой лопаты видеть не могу.
— Не пугай, а? Война будет завтра, а сегодня ещё вечер двадцать первого июня.
Ляхов отметил оригинальность посылки. Серьёзные он на будущее перспективы воображает. Впрочем, он мог и в другом смысле это сказать, не подумал просто.
Мятлев, высказавшись, снова остановил взгляд на бутылке.
— Что, ещё по одной? — и подвинул к середине стола свою рюмку.
«Чёрт его знает, — подумал Вадим. — Гомеостата не имеет, а вторую пол-литру добирает, оставаясь почти в порядке. Небось ложку того адсорбционного порошка глотнул, что Вовка Беляков совсем для других целей изобретал»[153]. Это он вспомнил своего одноклассника, окончившего институт тонкой химической технологии и создававшего в своём НИИ всякие хитрые композиты, находящие, в частности, и такое утилитарное применение.
— Ну так скажи мне по-мужски, по-товарищески — у меня с ней что-нибудь может получиться? Помимо твоих оперативных игр? Настоящее?
Похоже, последнее слово Мятлев произнёс искренне, от всей души.
А почему бы и нет? «Выражаясь научно — бывает».
Ляхов опять дважды пыхнул сигарой, чтобы вопреки всем правилам извлечь порцию дыма, которой можно затянуться как следует, а не впитывать никотин слизистой оболочкой рта. Всегда проклятые буржуи бессмысленную ерунду придумывают.
— Что же я могу тебе сказать, господин-товарищ генерал? Я не Иван Грозный, «над своими холопами не волен». Сумеешь девушку заинтересовать, особенно после хорошего преферанса, всё в твоих руках. Я сказал — гостевые спальни имеются. Нет — нет. Я, полковник, подпоручику чужой службы не могу приказать в твою койку ложиться. Нет в уставе такой формулы. Достаточно доходчиво?
Вадим сказал это резко, слегка даже агрессивно. Чтоб не думал специалист, что перед ним приплясывать станут, лишь бы в свои сети затянуть. Свобода у нас, полная свобода! «Хозяин — барин. Хочет живёт, хочет удавится». Что-то не нравится — прямо сейчас можем на порог собственного жилища высадить. Со всей положенной любезностью. И букет роз для супруги передать.
— Ладно, ладно, оставь, не заводись, — успокаивающе положил Мятлев руку на колено Ляхова.
Девушки в это время переоделись попросту: лёгкие непрозрачные халатики, у каждой под цвет волос, домашние тапочки вместо надоевших шпилек. Макияж смыли, волосы распустили. Правда, под халатиками совсем ничего, сразу любому видно, так нужно ведь и девушкам от «артикулом предусмотренных» предметов туалета отдохнуть. В преферанс играть — ничего лишнего и отвлекающего. Ни самих себя, ни партнёров.
Со стола для игры убрали скатерть (жена и скатерть — главные враги преферанса!), поставили рядом сервировочный столик со всем необходимым, чтобы потом не отвлекаться. Герта, готовя на кухне кофе и лёгкие закуски, вдруг спросила Вяземскую, будто раньше не успела:
— Как думаешь, если сильно настаивать будет — согласиться?
— Ни за что, — резко, даже чуть слишком, ответила Людмила. — Успеешь. Сегодня уступишь — вдруг этого ему и хватит? Коллекционеры такие бывают. Поимел дурочку, очередную запись в «донжуанском списке» сделал, и вперёд, за следующей. И вся твоя дальнейшая работа — где?
— Верно, — слегка разочарованно согласилась Герта. — А ты с Вадимом — уже?
У них после школы Дайяны и службы в женском взводе никаких запретных тем для разговоров фактически не существовало. А уж всё, касающееся взаимоотношений между полами, обсуждалось постоянно, особенно после отбоя, и, как правило, «своими словами», без эвфемизмов.
— И я — нет. Нам спешить некуда. Сам Ляхов-Секонд обручение произвёл. Могу и полгода терпеть, чтобы всё по правилам получилось. Я честной женой собираюсь стать, а не… Чтобы после свадьбы краснеть и объясняться не пришлось.
А Герта тут же припомнила раздел одного из наставлений по «практической эротике», где говорилось, что девушке старше девятнадцати лет для поддержания гормонального баланса и сохранения психики в хорошем эмоциональном тонусе необходимо заниматься личной жизнью не меньше трёх раз в неделю.
Вяземская фыркнула:
— Слава богу, что Левашов нас от такой участи избавил. Координаторш из нас не получилось. Представить только — выходишь замуж в двадцать три, допустим, а за спиной у тебя «опыт» в четыреста с лишним «процедур» с полусотней партнёров. Те инструкции не для людей писались…
Герта точными движениями нарисовала на листе бумаги «пулю», положила рядом нераспечатанную колоду, четыре карандаша.
— Всё правильно говоришь, я и сама так часто думаю. Замуж за единственного и любимого — это, конечно, здорово. Так не всем же, как вам с Настей, везёт. Но я о деле. Если он сегодня сильно пристанет? Бить его, что ли? Не по сюжету получится… — с долей сожаления спросила всё ещё девушка Витгефт у такой же девушки Вяземской.
— Если мы на мизерах совсем его не отрубим[154], иди с ним, обязательно, и позволь ему абсолютно всё, что в голову взбредёт, кроме… А на самом пике — осади. «Да как вы можете, я не такая!» Очень ласково, рук ломать и синяков оставлять не надо. В крайнем случае — укажи на дверь, но очень убедительно. Утром он не победителем будет на тебя смотреть, а жалкими собачьими глазами. Потом, если нормально пойдёт, верёвки из него вить сможешь. А сегодня — изобрази, как я сказала.
— Тебе хорошо говорить, — вздохнула Герта. Уроки Дайяны, несмотря на сеансы психотерапии Сильвии, сидели слишком глубоко. Курсанткам, чтобы стать настоящими агентессами-координаторами, просто необходимо было пройти процесс «инициации». Как у мальчиков и девочек первобытных племён, чтобы перейти в категорию «взрослых». Этот императив сидел буквально на уровне подкорки. Из их команды реально «повезло» пока только троим, но теорию все знали на отлично, и европейскую, и индийскую, и древнеегипетскую. А Мятлев на самом деле оказался специалистом с колоссальным опытом и, мастерски используя арсенал своих методик, почти добился своей цели. При отсутствии рядом Вадима и Людмилы он непременно бы «сорвал плод её невинности», как в «Тысяче и одной ночи» выражаются.
— Что б ты понимала? — ответила Людмила. — Я по-настоящему замуж хочу и терплю все Вадимовы ласки и приставания, непрерывно медитируя: «Нет, нет, ни в коем случае. Только до сих пор, и ни шагу дальше». Пока помогает, — усмехнулась она. — А тебе всего дня три потерпеть нужно. Потом самой интереснее будет…
Проснувшись в половине одиннадцатого следующего утра (как хорошо, когда не нужно никуда спешить, а за окнами льёт сквозь туман густой обложной дождь), Ляхов отправился на кухню, по пути посетив туалет и ванную. Вошёл туда бодрым, побрившимся и причёсанным. Поставил на горелку чайник, начал разбираться с содержимым холодильника насчёт закусить.
Буквально минут десять спустя появился не слишком свежо выглядящий Мятлев. Что не удивительно — играли-то до пяти утра, а гомеостата у него не было. Хорошо, мизеров выпало умеренно, причём два не сыгрались. Исходя из ситуации, Вадим выставил на стол, кроме кофе, сыра и иных закусок, бутылку «Арарата». Ему лично — без разницы, «что было ночью, будто трын-трава». Никаких последствий.
Генерал, в банном халате на голое тело, бодрился, тем не менее хотел казаться бравым и решительным. Тоже не забыл побриться, растереть щёки одеколоном.
Ляхов, глядя на него, решил помолчать. Пусть человек перенастроится. Глазами указал на папиросную коробку, ими же — на бутылку и чашки.
Первую большую рюмку Леонид махнул сам, закурил, после чего, подождав, пока гематоэнцефалический барьер пропустит нужную для восстановления душевного равновесия дозу, налил по новой себе и Вадиму.
Ляхов продолжал тянуть театральную паузу, которую и сам Станиславский едва ли выдержал (или одобрил) бы.
Ему на самом деле было интересно узнать, помимо всяких оперативных замыслов, что получилось у профессионального Казановы с юной девушкой, попавшей в зону его чар (как муха в паутину опытного «крестовика»), причём в наивыгоднейших для него условиях.
Девушка очень прилично подвыпила, настроена была игриво. За картами Леонид несколько раз то прижимался ногой к её ноге, то, совсем осмелев, уронил под стол карандаш и, поднимая его, ухитрился на мгновение коснуться губами Гертиного бедра, приоткрытого полами халатика. Выпрямившись, взглянул ей в глаза и не заметил ни тени неудовольствия. Обстановка для «развития успеха» тоже идеальная — гигантская квартира, несколько спален, расположенных так удачно, что можно не опасаться постороннего внимания, не говоря о вмешательстве.
Стены метровой толщины и дубовые двери абсолютно звуконепроницаемы. А сколько раз у Мятлева срывались тщательно подготовленные «свидания» только от того, что подружки не могли преодолеть страха перед фанерными стенками в общежитии или между комнатами малогабаритных квартир.
— С тобой можно говорить, как с мужиком? — несколько нервно спросил Мятлев. Излишне нервно, если считать его нормальным мужчиной, принявшим «сотку» для осадки. А тем более — специалистом, намного старшим Вадима возрастом, званием и опытом.
— Ещё не убедился? — чуть дёрнул щекой Ляхов. — Тогда думай дальше.
— Ты военврач, прежде всего, — опять начал заходить из-за угла Мятлев. — О других твоих ипостасях сейчас вспоминать и говорить не будем. Правильно?
— Ну и что, если военврач? — сделал наивное лицо Ляхов. — Тебе экстренная помощь требуется? У нас чётко расписано, в войсках, поэтапно: доврачебная, первая врачебная переднего края, потом квалифицированная, в медсанбате, а уже потом специализированная, в профильных госпиталях. Я тебе сейчас в каком качестве требуюсь?
— В психиатрической специализированной, — стараясь не терять лица, сострил Мятлев. — Дело в том, что я, кажется, всерьёз влюбился. Сам не понимаю как и не знаю, что теперь делать. Твои девочки секретом приворотного зелья не владеют?
— Насколько знаю — нет. Да и пили мы всё время одно и то же, она ведь тебе из собственных ручек ничего специально не подносила?
— Да вроде нет…
— Тем более, ты ведь вчера адсорбенты принимал…
— Откуда ты знаешь? — удивился Мятлев.
— Что же, по-твоему, толковый врач не знает, как кого от известной дозы развозит? Подумаешь, бином Ньютона.
— Так ты всё время со мной наравне пил. И тоже очень хорошо держался.
— У меня алкогольдегидрогеназа в аномальных количествах вырабатывается. С молодых лет трезвею быстрее, чем пью.
— Счастливый человек.
— В финансовом смысле — очень разорительно. Давай дальше.
— Ну а что дальше? Влюбился я, ты это понять можешь? Никогда себе такого не позволял, считал, что у меня пожизненный иммунитет. Не стесняюсь признать — со школьных времен сотни две перепробовал, от одноклассниц до зрелых дам, и все — красавицы на подбор! И я ведь не пацан, могу отличить вспышку желания от настоящей влюбленности, хотя в мои годы несколько смешно такие слова произносить. А куда денешься?
Стыдно сказать, я вчера, когда игру закончили, до комнаты её проводил. Только что на колени перед ней не становился, ручки целовал. Потом… — видно было, что генерал не играет, что ему действительно стыдно и он торопится выговориться перед Ляховым, пока тот не услышал от Герты менее выгодную для него версию случившегося. — Потом не сдержался чуть-чуть, кимоно в запале расстегнул, даже одну пуговицу оторвал… Ничего такого, просто вдруг очень захотел ей грудь поцеловать.
— По морде не получил? — деловито поинтересовался Вадим.
— Чего не было, того не было.
— Тогда нормально. Нынче услуги хороших протезистов дорого стоят. А в остальном… Что, думаешь, я девчонкам в своё время под юбки не лазил? Се ля ви, понимаешь. Физиология пополам с психологией и сексологией. Я поздно научился на жизнь реально смотреть, хоть и в меде учился. Всё мне казалось, что это нас, мужиков, непреодолимо к бабам тянет, а они — не от мира сего, и если когда и уступают, то только из вежливости…
— Да ты мне теории не читай. У меня — любовь, я тебе говорю. Понимаю, что это значит. И я ведь видел — она тоже плывёт! И дышать начала, и на поцелуи очень правильно ответила. Я наяву почувствовал, что мне тоже, как ей, двадцать, ну, двадцать пять, и она ко мне тоже воспылала… А тут тебе и кровать трёхспальная, и блюзовая музыка, свечи горят, опять же…
Вадим отчётливо представил обстановку, что сумела создать Герта, её саму в расстёгнутом халате, настроение крупно выигравшего, в меру навеселе генерала наедине с девушкой, поразившей его в самое сердце. Тот самый «кризис среднего возраста» настиг его в очень неподходящий момент. Зато расчёт Ляхова оправдался в полной мере.
— Потом вдруг, когда я решил, что уже всё, — продолжал Леонид, — она напряглась, как стальной прут. И так меня решительно отстранила, что вправду подумал — сейчас кулаком в морду заехать может или коленкой куда надо.
— Обидно, — сочувственно сказал Ляхов. — Бывает, в таком варианте пожизненными импотентами становятся.
— Обошлось, слава богу, — облегчённо, как после церковной исповеди, ответил Мятлев. — Она меня простила. Сказала, что мужскую психологию понимает и даже сочувствует. Мы с ней потом ещё кофе с коньячком выпили, причём, вот ведь зараза, она халатик на одну только среднюю пуговичку застегнула. Любуйся, мол, если нравлюсь, остальное — зась[155]!
— Считай, тебе крупно повезло, братец, — едва ли не с завистью сказал Вадим. — При её натуре можешь считать — она тебе почти всё пообещала. Только торопиться не надо. Офицеры-«печенеги» — это тебе не девочки с Тверской.
— Так что теперь мне дальше делать? — с надрывом воскликнул ободрённый, но пока не вышедший из минора (можно представить, как он провёл в своей одинокой постели остаток ночи и утро), Контрразведчик.
— В твоих семейных делах там, — Ляхов махнул рукой в сторону окна, — я не советчик. Если Герта тебя не отшила раз и навсегда, шансы у тебя выше, чем на мизере «без хозяйки». Дерзайте, генерал. Аркольский мост перед вами!
— Что же мне теперь — сюда эмигрировать?
— Не уверен, что в качестве пожизненного мужа ты баронессу Витгефт устроишь, — намеренно жёстко ответил Вадим. Вербовщик не должен давать объекту, тем более — коллеге, заведомо невыполнимых обещаний. — Но… Не мне судить. У самого похожий вариант. Людмила будто бы согласилась себя обручённой считать, а там мало ли? Мы ведь всё равно для них — люди другого мира. Как для русской княжны-эмигрантки двадцатого года — парижский лавочник.
— Да и чёрт бы с ним! — после следующей рюмки и затяжки «корниловской» папиросой воскликнул Мятлев, для самоутверждения стукнув кулаком по столу. — И вообще, мы ещё посмотрим! Поверь моему слову — если она согласится, женюсь без всяких. И к Императору на службу пойду, если примет.
— И это — правильно, — поддержал его Ляхов. Не стал говорить, что с нравственной точки зрения позиция Мятлева выглядит несколько двусмысленно. Хотя, может быть, наличие законной супруги в одной реальности в другой не может рассматриваться как двоежёнство. — Я сегодня должен на пару дней кое-куда съездить. Людмилу и Герту оставлю здесь. Хоть в этой Москве поживите, хоть в той. На твоё усмотрение. Они тебя прикрывать будут…
— От кого? — удивился Леонид.
— Сие мне неизвестно. Только такая интересная закономерность существует. Как только кто-нибудь начинает в одни с нами игры играть, количество совершенно невероятных, но крайне хреновых прикупов увеличивается в разы. Но и везуха — тоже.
— Увы, но так. Возьми сегодняшнюю пульку. Играя по нашей российской копейке за вист, ты бы заработал на трамвайный билет и пачку сигарет. Легко и ничем не рискуя. При ставке в здешний гривенник ты выиграл двухмесячное полковничье жалованье. А не сыграй в одном месте твой «голый король»? «Тяжёлая расплата», как назывался один немецкий фильм. Часто у тебя вообще такие игры складывались?
— Не очень, — согласился Мятлев.
— Вот и ответ. Великолепная «пруха» до поры, и адекватное наоборот в любой, может быть, даже следующий момент. «Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь!»
— Я и сам до рассвета заснуть не мог, о многом передумал, о том, что ты сейчас сказал, — тоже. Стоило мне с тобой связаться — и тут же рядом с мрачным и подозрительным типом (такое ты на меня впечатление произвёл) возникло «чудное виденье». Просто невыразимо — такая очаровательная, с невероятным числом достоинств, офицер спецназа и при всём этом девушка. Если ты не врешь, конечно!
Ляхов развёл руками. Тот, мол, случай, что врать бессмысленно. Повезёт — сам убедишься.
А Мятлев, что подтверждало истинность его влюблённости, никак не мог остановиться, заговорив о предмете своей страсти.
— Я, как только увидел их с Людой, наблюдая за действиями Санникова и твоим поведением в хороший бинокль, сразу понял — не могут такие девушки «путанами» быть, как одно время было принято деликатно выражаться. И даже выполнять неблаговидные приказы такого типа, каким ты рисовался, не станут. Лица, мимика — всё у них было… ну, совершенно другое. Тут я, пожалуй, в Герту и начал влюбляться. Остальное ты знаешь.
— Спасибо на добром слове. Перечитай японского Кобо Абэ, он в одном романе подробно разъяснил, что только рассматривая в бинокль фотографию человека, можно составить о нём настоящее представление. А, вспомнил, «Чужое лицо» роман называется. Год издания — тысяча девятьсот шестьдесят седьмой. Журнал «Иностранная литература». Решались ведь и в те годы советские цензоры совершенно ни с какого хрена стопроцентно несоветские тексты в печать пропускать. Наверное, иногда ленинский постулат включался: «Нельзя стать настоящим коммунистом, не обогатив себя всеми знаниями, что накопило человечество». Вот и нам давали одним глазком посмотреть — что же оно такого там, «за железным занавесом», накопило…
Ладно. Надоело мне с тобой болтать, правда. Не обижайся, при всех своих амбициях. Слюни и сопли твои меня раздражают. Если даже ты таким образом пытаешься парировать результаты моей «вербовки» — всё равно мимо. В любом случае, генерал, я всё равно в выигрыше, а ты — «при пиковом интересе».
— Нет, ну, Вадим, ну чего ты заводишься? Мы же с тобой свояками будем, если у нас с Гертой получится. Какая, на хрен, «вербовка»? Я вижу, ты очень злой парень, да и я таким стал бы, повоюй с твоё. Не думай, что я совсем уж «кабинетный крыс». В «Каскаде»[156] до капитана дослужился. Знаешь? — начал немного нервничать Мятлев.
— Слышал. Уважаю. Но сейчас — не об этом. Случай будет — отдельно за всех таких, про кого Трофим поёт: «Служил я не за звания и не за ордена, не по душе мне звёздочки по блату», выпьем.
Короче — давай по-товарищески. Я уеду и скоро вернусь. Ты можешь провести эти дни здесь, в обществе девочек, ничем не рискуя и «изучая жизнь». Можешь домой возвращаться, но они всё равно при тебе будут, хотя в твою квартиру, конечно, не войдут, чтобы жену не шокировать. Однако в любом случае одну вещь тебе придётся сделать.
— Ну? — напрягся Контрразведчик.
— Доложить Президенту, что где-то неподалёку скоро может открыться постоянный проход между этой и нашей Россиями. Я вернусь — сообщу, получилось или нет. А вы с ним обсудите, что для вас приемлемее — «маленькая железная дверь в стене» и «золотой ключик» для посвящённых или нечто вроде погранперехода на реке Псоу. При «взаимном непротивлении сторон» выгоды самоочевидны. Если не примете разумного решения, проход всё равно заработает, но о нём будут знать только те, кого мы сами сочтём нужным поставить в известность. И использовать мы его будем в «одностороннем порядке». Не во вред вам, но исходя из собственных интересов. Доходчиво?
— Куда уж более. Будет сделано.
В коридоре послышались голоса девушек, проснувшихся и явно желающих завтракать.
«Интересно, — подумал Мятлев, напрягаясь, — по-домашнему они явятся или „при полном при параде“?» Ему очень хотелось, чтобы — первое. Этим они (Герта, конечно) покажут, что считают обоих мужчин «своими», перед которыми больше выделываться не надо. Примут такими, как есть.
Так и получилось. «Валькирии» вошли на кухню совсем обычными девчонками. Даже и кимоно шикарных на них не было, простые, едва ли не ситцевые халатики по колено. Лица такие, как природа дала, выражение — именно домашнее. Мятлев больше всего боялся со стороны баронессы взглядов. Именно так, подчёркнуто. Взглядов, нечто особенное выражающих. Презрение за вчерашнее хамское поведение и пьяные разговоры, эмоции, требующие какой-нибудь, но реакции. А тут — ничего. Глаза — прелестная синева горных озёр. Ножки — без всяких чулок и колготок. Вообще ему показалось — просто сестрички пришли, братьев проведать. Вот если бы существовал в природе аппарат «сексометр», вроде армейского «курвиметра», так он бы сейчас показал полный ноль. И это генералу показалось вершиной блаженства. Устал он «от половодья чувств».
Глава пятнадцатая
Отправляя группу Уварова — Катранджи в тысяча девятьсот двадцать пятый год, Секонд решил подстраховаться и попросил Воронцова разыскать и послать им в помощь профессора Удолина. Ведь ни девушки, ни Валерий и даже Басманов не обладали сверхчувственными способностями, понятия не имели о способах взаимодействия с астралом и мировым эфиром. А интуиция подсказывала Ляхову — возможность встречи с «тёмными силами», Ловушками и прочим исключать нельзя даже в местах, где они пока не проявлялись.
Удолина Воронцов разыскал не сразу. Тот, как часто бывало, отбыл по «собственной надобности», но обещал появиться немедленно, как только в нём возникнет необходимость. Обнаружился он с помощью специально им же разработанной и Левашовым приспособленной к параметрам стационарного оборудования «Валгаллы» поисковой системы, настроенной на его рабочее ментаизлучение. Оговорка не случайная. Если Константин Васильевич переключался на какой-то другой режим, техническими способами поймать его (как радиоволну без подходящего приёмника) было невозможно. Разве что путём прямого выхода в астрал, что было доступно только Шульгину и Новикову, да и то без всякого удовольствия с их стороны.
Но и тот, и другой сейчас занимались разработкой дуггурской проблемы, базируясь на Валгалле-Таорэре и в другом временно́м интервале. Отвлекать их Дмитрий не счёл необходимым. Свои возможности посчитал достаточными, тем более Удолин ему потребовался для участия в деле, которое Воронцов с момента спасения «валькирий» считал чисто своим. Давненько он не работал самостоятельно, всё больше на подхвате.
Профессор отыскался в местах достаточно отдалённых, чуть ли не в окрестностях Вавилона эпохи то ли Хаммурапи, то ли Ашшурбанипала. Скорее, всё-таки второго, ибо тот вошёл в историю не только завоевателем, но и знатным библиофилом, собирателем глиняных табличек, папирусов и прочих носителей информации в таких количествах, что и через три тысячи лет не забылось его увлечение. При Удолине находились и трое из пяти некромантов, адептов каббалы и ещё более экзотических учений. Двое других, русские по происхождению, Палицын и Иорданский, ассистировали бригаде Шульгина, изучавшей высочайших дуггуров со всех направлений доступных им наук. За исключением топографической анатомии, о чём Фёдор Егорович Палицын (год рождения не установлен, точно после Крещения Руси, но, по ряду признаков, до монгольского нашествия), старославянский ведун, вивисектор и европейски образованный биолог широкого профиля, не считая прочих менее материалистических специальностей, втайне жалел, но не терял надежды[157].
Удолин появился на палубе парохода в фокусе сиреневой рамки, одетый по-вавилонски (или по-ассирийски), но достаточно богато, а может быть, даже и стильно. Тут Воронцову консультанты не требовались, сразу всё понятно. Любого матроса и офицера он насквозь чуял, стоило один раз глянуть, как на нём форма сидит, где ушито, как наглажено, какие каблуки у ботинок и какие пуговицы на кителе и бушлате, «чистящиеся» или «напылённые»[158]. То же самое можно было сказать и по поводу хитона и сандалий почтенного профессора. С уважением к своему прикиду человек относится, значит, и окружающие его правильно воспринимают.
Константин Васильевич с удовольствием вдохнул густой океанский воздух, такой вкусный, в сравнении с атмосферой древнего Двуречья, окинул взглядом простирающуюся вокруг невероятную синеву (Индийский океан по густоте окраски занимает первое место в мире, Красное море — второе, а третье досталось ныне высыхающему Аралу). Не совсем обычным образом поклонился Воронцову и неожиданно поздоровался на хеттском. Или — арамейском. Дмитрий непринуждённо ответил на малораспространённом диалекте языка малалаям. Пришлось как-то три недели в Мачилипатнаме[159] в ожидании погрузки простоять, немного поднахватался у местных биндюжников. Мог бы и на суахили ответить, но, наверное, звучание ассирийского (или вавилонского) подтолкнуло.
— Ох, простите, Дмитрий Сергеевич, чтоб её так, туда и растак…
Воронцова Константин Васильевич из всех «старших рыцарей» «Братства» по-особому выделял. Пусть адмирал и не владел способностями для погружения в астрал и вообще, кажется, не умел быть по-настоящему серьёзным. Даже в ситуации, когда человек окончательно выведен из себя и готов «рвать и метать, рвать и метать», а уж материть всех и вся в тридцать три света — безусловно, Воронцов ухитрялся взять себя в руки и закончить инцидент таким образом, что и виновники, и сочувствующие, и случайные свидетели не знали, что и делать. Смеяться в открытую — неуважительно как-то, но и удержаться от того, чтобы хоть прыснуть в кулак — невозможно.
Но Удолин видел в этой, едва ли не шутовской манере, признак особой силы. Другим не отпущенной. Кроме того (некромант всё-таки, и из сильнейших, практиковавших после Рождества Христова), Константин Васильевич ощущал совершенно особые отношения Воронцова с «так называемой смертью». Много людей, тем более — военной профессии, соприкасались с ней близко и очень близко. Сами её творили и также становились, в свой черёд, её клиентами. Дмитрий тоже всю жизнь ходил по краю. Но как-то по-другому это у него получалось. У минёра всегда она в руках. У кого семьдесят грамм (заряд ручной гранаты), у кого — триста или пятьсот килограмм (это уже морские мины, торпеды разных типов). Константин Васильевич видел — Воронцов всегда находился в разной плоскости с этой самой! А если и встречался лоб в лоб… Был у какого-то американского (или английского) писателя рассказ, где Смерть оказалась не… Ну, понятно, о чём речь — а юной, невыносимо страдающей от своей должности девушкой.
Вот, пожалуй, Воронцов именно эту девушку-смерть где-то как-то встретил и, может быть, просто по-мужски, по-офицерски ей посочувствовал. Ну а она, как всем понятно, не может же теперь с полюбившимся ей человеком поступить, как с прочим… планктоном.
Некроманту с тысячелетним стажем, знающем о смертях всех рас, наций и народностей почти (но только почти!) всё, сам факт существования такой фигуры, как Воронцов, казался несколько странным. Не совсем совместимым с канонами. Но одновременно и оптимистически-радостным. Пусть никто не заблуждается: некроманты любят жизнь многократно больше и ярче остальных. Почему и стараются пожить не сотню неполную, а тысячу-другую лет, и «из каждого летящего мгновения» извлекают… У кого на что фантазии хватает, то и извлекают.
Сторонником так называемой «философии» Хайяма профессор не был. Как говорил Остап, «низкий класс, не чистая работа»! Подумаешь: «Жизнь, что идёт навстречу смерти, не лучше ль в сне и пьянстве провести!» Такое любой дурак может. Пьянство пьянством, так сколько же ещё интереснейших занятий в мире есть, непрочитанных книг (и глиняных табличек), непознанных женщин, невыигранных войн, не спасённых цивилизаций и вовремя не пресечённых поползновений чуждых всяким цивилизациям «личностей».
Секундой позже, пропустив через оперативную память своего мозга эти и ещё всякие другие имеющие весьма косвенное отношение к происходящему «здесь и сейчас» мысли, профессор расслабился, позволил своим лицевым мышцам принять не вавилонский, а среднерусский тонус.
— Я вам зачем-то потребовался, Дмитрий Сергеевич?
— Зачем-то — звучит несколько расплывчато, вы не считаете? — Воронцов продолжал играть в те же игры. А зачем искать другие, если ходом «Е-2 — Е-4» гарантированно выигрываешь любую партию с любым партнёром? «Охаянному на лекции брюнету гроссмейстер пожертвовал даже ферзя!»
— Я вас понял. Мне нужно около суток, чтобы грамотно обставить мою оттуда временную отлучку. Я вам нужен один или все вместе?
— Все вместе — лучше, — теперь без всяких неуместных улыбок ответил Воронцов.
— Хорошо. Давайте сверим часы. — Удолин вытащил из-под хитона (а он там что, ещё жилетку с часовым карманом носит, мельком подумал Дмитрий) похожий на полуфунтовую гирьку золотой хронометр (можно сказать — «мегахронометр»). — Покажите мне ваш, пожалуйста.
Считая действия профессора камланием, сродни таким же у шаманов или жрецов вуду, Дмитрий протянул снятые с руки свои часы. Тоже очень неплохие.
— У меня здесь… так, это сюда, это сюда… — Удолин, пожёвывая нижнюю губу, сосредоточенно крутил зубчатые головки и нажимал кнопки. — А у вас — сюда…
Профессор удовлетворённо вздохнул.
— Всё, Дмитрий Сергеевич, через десять минут вашего локального времени мы вернёмся на борт. Вот тогда всё подробно и расскажете, а я оценю, стоила ли ваша проблема такого беспокойства и потрясения континуума. Вы только представьте, если мы вдруг основательно отвлечёмся, в ближайший год к власти может прийти Ашшурнасирпал, а это, вы знаете…
— Константин Васильевич, если я скажу, что вследствие вашей слегка затянувшейся трепотни кое-где к власти может прийти господин Погосян, вы расстроитесь?
— Простите, Погосян — это из каких Погосянов? — мгновенно зацепился за новую тему Удолин. — Из московских, ереванских или из Измира? Всего я их знал шестнадцать. Тринадцать совершенно не подходят… Да в большинстве и умерли…
— Всё, ваше степенство, — ничего более резкого на язык не подвернулось. — Вольно. Своего «насирпала» разрешаю прямо сегодня шлёпнуть на охоте или угостить клофелином. Раз я всё равно ничего про него не слышал даже на лекциях в училище, история явно ничего не потеряет. А вы — сюда! Через десять минут. Все четверо, и чтоб трезвые, а то нажрётесь на прощание кукурузной самогонки…
— Кукуруза… — попытался объяснить культурологическую и агротехническую ситуацию Удолин.
— Про кукурузу вы следующий раз Колумбу расскажете или Кортесу, у кого больше свободного времени образуется.
Воронцов дождался, пока «окно» свернётся, и только после этого пробормотал то, что не против был бы высказать профессору в лицо. Увы, приходится создавать у окружающих впечатление, что его терпение действительно безгранично.
Беда, одним словом. И пар выпустить не на ком. На жене — не приучен. На матросах и офицерах — бессмысленно, поскольку они всё-таки роботы. Любую реакцию изобразят, а толку? Разве что молодых, вроде обоих Ляховых и примкнувшего к ним Уварова, подрючить? Как его самого на первом курсе училища.
Удолин во главе своего звена некромантов появился, как и обещал, с опозданием всего на тридцать две секунды по хронометру Воронцова. В сравнении с бездной лет, что им пришлось преодолеть, — исчезающе малая величина. Правда, переодеться они не успели или не сочли нужным, или, пожалуй, — просто не во что было. Так и возникли на шканцах «Валгаллы» во всём великолепии ассирийских (или вавилонских) нарядов. Шлёпая сандалиями и выставив на всеобщее обозрение из-под хитонов волосатые, не слишком спортивные ноги.
Но это Воронцову было без разницы, Наталье Андреевне — тем более. И не такое видала. Она, как хозяйка парохода, успела распорядиться, чтобы стюарды накрывали подходящий для очередных гостей стол, а самих проводили куда положено, для санобработки, дезинфекции и переодевания. Бог его знает, какие насекомые и простейшие паразитировали на человечестве три тысячи лет назад.
Раньше об этом уже неоднократно говорилось, но отчего бы и не повторить? Среди женщин «Братства» Наталья занимала несколько особое положение, которое никто не оспаривал и на подобное не претендовал. С момента, когда Воронцов нашёл её в Москве и доставил (или пригласил) вместе с Ларисой на празднование завершения постройки форта на Валгалле, она ухитрялась, вроде бы участвуя во всех общих делах, ни в чём, на самом деле, не участвовать. Почти что в полном соответствии с канонами дзен-буддизма. Она, радуясь наконец представившейся возможности не заботиться о «хлебе насущном и дне грядущем», непрерывно и беспорядочно читала самые разные книги из огромной библиотеки парохода, иногда подряд, иногда пролистывая лишь несколько страниц.
Однажды попалось вот такое умозаключение: «Великая завершённость „Дзогчен“. Реальность — уже совершенна, ничего не нужно преображать, ни от чего не отказываться. Лишь распознать истинную природу всего. Основной метод — позволять всему, что возникает в переживании, существовать, как оно есть. Не усложняя с помощью рассудочного ума, не питая ни привязанности, ни неприязни». Эта идея Наталью вполне устроила.
Ей в полной мере хватило опыта, полученного за первые тридцать два года жизни, чтобы, оказавшись сначала на чужой планете, а потом и на пароходе с тем же именем в качестве жены капитана, осознать всю степень обретённого счастья и более уже ничего не искать, а тем более не хотеть. Оказавшаяся в её распоряжении «Валгалла» могла заменить собой целый мир. Да и остальной мир никуда не делся, его можно было посещать, вот именно — посещать, когда заблагорассудится, вроде интересного аттракциона, но не более того. В случае чего — мир сам приходил к ней, на её территорию, как, например, не так давно появились девушки с той же планеты, где так всем было хорошо, пока они не слышали о всяких там агграх, квангах и, тем более, дуггурах[160]. Постоянно на «Валгалле», кроме неё с Дмитрием, из людей никто не жил, и тысячи метров внешних палуб и длинных пустынных коридоров, бесчисленных трапов, отсеков и незаселённых кают её нисколько не пугали, как иных вроде и сильных духом мужчин. Она в них ориентировалась, как Квазимодо в закоулках Собора Парижской богоматери.
Тем более что гости на «Валгалле» появлялись почти непрерывно. Из разных времён, иногда опалённые огнём сражений, не имеющих к ней никакого отношения. Она радовалась всем и принимала всех с щедростью и благорасположением какой-нибудь Гоголем описанной помещицы, и очень многие, да, пожалуй, и все, воспринимали возглавляемый матерью-командиршей пароход как единственную надёжную гавань, где всегда примут, помогут, обогреют и приласкают (если кому потребуется). Так, по крайней мере, вспоминали «Валгаллу» и Наталью суровые воительницы-«валькирии».
К слову сказать, они между собой давно договорились, что когда придёт время, свадьбы справлять непременно на пароходе и, очень может быть, с предварительного благословения капитанши.
Дежурный по палубе младший боцман по фамилии Нетопорчук (тоже робот, естественно) с осуждением осмотрел очередную партию гостей, но ничего не сказал, поскольку «их превосходительство» стоял на площадке трапа палубой выше и жестом велел «не препятствовать».
Боцман изо всех своих мимических способностей изобразил на продублённом солнцем, ветрами и морской солью лице радушие, велел вестовому «проводить» и едва-едва сдержал презрительную фразу вслед: «Ходют тут всякие, прости, Господи!»
Вернувшись после помывки и переодевания во флотскую тропическую форму, Удолин представил Воронцову и Наталье Андреевне своих спутников:
— Мсье Анри Жерар дю Руа. Герр Вольфганг фон Панцеркройц. Реб Тов.
Некроманты с достоинством поклонились. На окружающие чудеса техники и шедевры дизайнерского искусства в оформлении салона внимания почти не обратили. В своих многочисленных посещениях разных веков и стран они видели и не такое. Зато — зондировали своими органами чувств ауру этого места. Она их, похоже, устроила.
— Что ж, уважаемые господа, с прибытием. Прошу к столу. Не знаю, как там кухня у ашшурбанипалов и ашшурнасирпалов, но постараемся соответствовать.
— Да уж до коньяков и водок точно не додумались. Вина так себе и просяное пиво, — брезгливо скривился Удолин.
— Но в должных количествах всё равно забирает? — усмехнулся Воронцов.
— Увы — только в неумеренных, — подал голос фон Панцеркройц, и его коллеги дружно кивнули.
— …Таким вот образом, — говорил Дмитрий часом спустя, когда «специалисты» подзакусили и взбодрились качественными напитками. Ели они на удивление много, проявляя при этом известный, соответствующий исходному национальному происхождению гастрономический вкус. Воронцову это казалось даже слегка странным. Один в своё время повешен «с соблюдением ряда дополнительных процедур», второй гильотинирован, третий попросту сожжён на костре. Неужели их новые, внешние тела так же нуждаются в изысканно оформленных килокалориях, как и прежние? Да и в выпивке тоже. Каждый, не стесняясь, употребил свою «рабочую дозу», исходя из привычек и профессиональной ориентации. Реба Това Воронцов особенно расположил к себе, выставив лично для него бутылку сорокаградусной «кошерной», подписанной поперёк этикетки облечённым соответствующими правами раввином.
— Обстановка продолжает ухудшаться, — сообщил своим визави Дмитрий. — А если кому-то кажется, что всё идёт нормально, значит, он чего-то ещё не уловил. Что там получится у ребят с этими дуггурами — мне пока не слишком интересно. Я — к земле поближе. Пришлось мне последнее время обратить пристальное внимание на дела в наших соседних реальностях. И там, и там — неладно. Вы помните, как в прошлом году сорвалась тщательно спланированная попытка не допустить восстановления монархии «в третьей России». Причём — попытка не просто сохранить неэффективный, якобы «демократический» режим, а втянуть страну в «пояс нестабильности», разорвать на составные части да вдобавок использовать психотронную технику, способную необратимо разрушать человеческую личность.
Маги согласились, что да, помнят и даже сами принимали некоторое участие в пресечении этой диверсии, причины которой, а главное — способ осуществления остался неведом даже им. Редкий случай — противник разгромлен, но кто он, каким образом действовал и с какими конечными целями — неизвестно. Некая сила, то ли материальная, то ли магическая, а скорее всего — хитрая комбинация того и другого, сработавшая поверх доступных контролю астральных сфер и узлов Гиперсети.
В заслугу себе «Братство» могло поставить лишь решительность и интуицию. Ответный удар был нанесён вслепую, но крайне точно. Так случается во время ночного встречного боя. Стреляли неизвестно в кого, однако попали настолько хорошо, что враг бежал, бросая технику и не заботясь об отставших. Беда в том, что техника оказалась неидентифицируемой, а пленные — абсолютно ничего не способные рассказать наёмники одноразового применения. Даже от обслуживавших психотронную аппаратуру специалистов с учёными степенями не удалось добиться никакой значащей информации.
— Так вот, уважаемые, враг, кем бы он ни был, деморализован, разгромлен, но отнюдь не уничтожен. И теперь, как мне представляется, готов к реваншу. С дуггурами я его никак не связываю, тут у меня есть собственные соображения, о которых пока промолчу, — со всей серьёзностью сказал Воронцов. — Вновь отмечены какие-то шевеления, я это пока так называю, причём и в той, и в другой реальности. У меня сейчас там и там свои люди осторожненько присматриваются, чтобы раньше времени неприятеля не встревожить. Но очень похоже, что имеется в виду повторение предыдущего варианта, с учётом полученных уроков. И ещё один фактор присоединился…
Дмитрий вкратце обрисовал ситуацию с переносом на Землю погибших «валькирий».
— То есть у вас всё наоборот получилось, — усмехнулся в бороду Удолин. — Герои подобрали на поле боя павших воительниц и вместо Валгаллы доставили их в собственное расположение. И кто теперь кого ублажает? Неординарный шаг, неординарный… А от нас-то вы сейчас чего хотите? Чем можем быть полезными?
— Да тем самым, Константин Васильевич, в чём вы так искусны. По ряду причин я не считаю пока нужным привлекать к делу наши главные силы. Это сейчас и сложно, и не вызывается необходимостью. Обойдёмся действием разведгрупп. Никаких выходов в астралы по методике Новикова — Шульгина: приёмчик, во-первых, достаточно заигранный, во-вторых — весьма демаскирующий. К услугам Антона и его Замка прибегать тоже пока нежелательно: были не совсем удовлетворительные прецеденты. Постараемся обойтись тем, что имеется. Нашим козырем будет аккуратность, осторожность и использование тактических приёмов, о которых врагу, надеюсь, пока ничего не известно. Наличие поблизости и даже вокруг нас Ловушки Сознания, той же самой, или новой, предполагается. Если она существует — постараемся использовать в своих целях. Принято считать, что Ловушки — аналоги фагоцитов в ментальных сферах, так неплохо бы их переориентировать, натравить на наших врагов. Им ведь всё равно, с кем бороться, лишь бы формальные признаки «целей» совпадали. Вот и желательно, чтобы вы поразмыслили, каким образом внушить ей, Ловушке, что действия неприятеля гораздо опаснее для охраняемых ею мыслеформ, нежели наши…
Удолин посмотрел на Воронцова оценивающе, но с ещё более возросшим уважением. Остальные маги тоже включили свои мыслительные процессы, переходя от эпикурейской созерцательности к режиму психической алертности[161].
— Делаете успехи, Дмитрий Сергеевич, мысля при этом чисто эмпирически. Это очень правильно, континуум не колеблется, специальные мыслеформы не генерируются.
— Да какие там мыслеформы, — мотнул головой Воронцов, — обыкновенный анализ текущей обстановки. Мне известно, что ваши научные занятия, пока с нами взаимодействовать не начали, никаких вмешательств подразумеваемых сил в предыдущие века не вызывали. Так?
Дмитрий даже здесь и сейчас не захотел, повинуясь всё той же интуиции, упоминать вслух Держателей, Чёрных и Белых Игроков, прочую нечисть. Знал он, что даже во времена его военной службы существовала аппаратура, способная включаться, услышав некие «ключевые слова».
— Нам и своих оппонентов хватало, — согласился профессор.
— Вот я на это и рассчитываю. Если вы займётесь своими привычными упражнениями, внимания моих «партнёров» это не привлечёт. Если же нам очень повезёт, они возьмут ложный след. Прямо сейчас, с поправкой на разницу времён, следует слетать на остров Мармор, вам, Константин Сергеевич, хорошо известный, встретить там нашу делегацию и организовать наблюдение за обстановкой и, в случае необходимости, магическое прикрытие. С огневым и политическим мы сами справимся. Хорошо?
— Чего же тут хорошего для нас? — впервые подал голос реб Тов. — Желающих свести с нами счёты и без того достаточно.
Удолин строго посмотрел на иудейского мага, выглядевшего несколько легкомысленно в голубых форменных брюках и рубашке с воротом апаш.
— Мы в одной команде, почтеннейший, тем более — долг платежом красен, если вы подзабыли.
Два других мага согласно кивнули, поддерживая предводителя.
— Мы сделаем всё, что в наших силах, — сказал Удолин. — Но надо, пожалуй, набросать хотя бы предварительную диспозицию. Только минуточку, мы поставим вокруг универсальную защиту.
Универсальная, с точки зрения профессора, защита над пароходом, и так мощно и многослойно защищённом и от межвременных, и от чисто механических воздействий, должна была полностью исключить проникновение сюда всех известных ему ментальных и некробиотических волн и воздействий.
Тот же реб Тов, любимый ученик ребе Бен Бецалеля, принимавший участие даже в формулировании пресловутого «Белого Тезиса»[162], подобно пауку, держащему сторожевую нить, не чувствовал ни малейших дрожаний эфира.
Магам потребовался весь вечер, перешедший в южную ночь и захвативший приличную часть утра, чтобы они усвоили и творчески переработали всю полученную от Воронцова информацию. Особенно — касающуюся «валькирий», сохранённую в памяти тех аппаратов корабля, что занимались медицинскими обследованиями девушек.
При этом Воронцов не счёл нужным сообщать Удолину, что «валькирии» вооружены полным комплектом аггрианского снаряжения, способного превратить каждую из них в почти неуязвимую общеупотребительным человеческим оружием боевую машину.
Оно, конечно, и хорошо подготовленный лейтенант российской морской пехоты с автоматом «АКМС», десятком магазинов в поясных подсумках и несколькими «Ф-1» и «РГД-5» мог при случае учинить такое, что и роте американских «Морских котиков» не приснится. Только тут другое.
— Спасибо за приём, Дмитрий Сергеевич, — политесно сказал Удолин, который, при необходимости, умел быть вежливым соответственно своему последнему званию «экстраординарного профессора» Императорского Университета. — Мы прямо сейчас и приступаем.
…Маги из команды Удолина, которых недостаточно посвящённый (в духе марксистско-ленинского материализма и повести Лагина «Старик Хоттабыч» воспитанный) человек мог при поверхностном знакомстве воспринимать скептически и иронически, были личностями гораздо более заслуживающими уважения. Некоторое воображение требуется, чтобы представить, как некто, хотя бы просто «заживо сожжённый», не говоря о более мучительных способах умерщвления, сохранил после этого желание продолжать свои интеллектуальные забавы бескорыстно, «из чистой любви к искусству», зная, что подобная судьба не исключена и впредь.
Обдумав и творчески переосмыслив слова Воронцова, Удолин распределил задания своим коллегам согласно профессиональной специализации.
Панцеркройцу и дю Руа было поручено создать вокруг острова защитную пентаграмму, исключающую проникновение внутрь охраняемой территории мистических сил, выступи они в материальном или исключительно ментальном облике. Или как минимум — способную заблаговременно оповестить о такой попытке.
Реб Тов занялся отслеживанием ментаграмм и аур самих гостей. Басманов и Уваров были слишком ясны и прозрачны, за ними специального наблюдения не требовалось. Девушки казались более интересными той частью своей психики, которая носила следы инопланетного воспитания. После времени, проведённого на Валгалле, маги научились легко дифференцировать человеческие и аггрианские мыслеизлучения, если и не в содержательной части, то в эмоциональной.
Особый интерес представляла сложная, многослойная конструкция личности Катранджи. Удолин обнаружил в главаре «Чёрного интернационала» черты, роднящие его с Аграновым: определённые сверхчувственные способности, что самое интересное — лишённые фиксированной этической ориентации. То есть в зависимости от обстоятельств турок был способен выступать на стороне сил добра или зла, иногда осознанно, иногда подсознательно, и никакой «сшибки» между разными уровнями его «Я» и «сверх Я» у него, как и у Якова Сауловича, не отмечалось. Этот феномен заинтересовал профессора, и он решил им заняться лично. Но в настоящий момент угрозы от Катранджи не исходило, он был настроен на сотрудничество. Страха перед жизнью и своим нынешним окружением, способного зачастую толкнуть человека на безрассудные поступки, тоже не испытывал.
Переместился Удолин с товарищами в крепость на острове без помощи Воронцова и его «механики». Если враг готовится перехватить тебя всеми силами своего, условно говоря, «ПВО-ПРО», а ты тихонечко пойдёшь пешком, болотами, шансы подставиться у тебя минимальные. Вот и они воспользовались верными, надёжными заклинаниями как раз с табличек царя Ашшурбанипала, никем не использованными последние две тысячи лет. И оказались как раз там, куда аппаратура СПВ доставила бы их за сопоставимое время, но с грохотом, сотрясающим мировой эфир, как идущая по ночному городу колонна танков, всего через десять минут после отлёта в Стамбул Басманова с гостями.
Не составившим большого труда Константину Васильевичу образом он внушил коменданту, что принадлежит к той же делегации, что недавно расселил здесь, а потом увёз в Стамбул полковник Басманов. Просто они немного задержались в дороге. Получил комнаты для себя и своих коллег, а также и право беспрепятственно посещать все имеющиеся бары, давно ему известные, а кое-какие — даже лично организованные.
Позволил магам, утомлённым напряжением, необходимым для эфирного пробоя, продегустировать редкие сорта турецкой ракии, попутно раздавая поручения и распределяя обязанности.
Некроманты дружно уверили, что надёжно защитят порученный им объект от нематериальных сил, а уж материальными пусть занимаются рейнджеры Югороссии, которых в распоряжении местного командования имелось достаточно.
Сам Удолин, не желая волновать ещё и здешний эфир межпространственными прыжками, без всяких астральных фокусов вежливо попросил подполковника-коменданта устроить его на свободное место в лёгком двухместном биплане, как раз сейчас собиравшемся вылетать с острова в Царьград по служебным надобностям.
Откровенно сказать, профессору очень не понравилась лёгкость, с которой он подчинял местных жителей своей воле. Ему-то, понятное дело, всё это удобно, ну а если ещё один такой ушлый да хваткий объявится здесь в ближайшее время? Он решил непременно ввести в курс проблемы руководство, но не знал, кого именно. Решил, что лучше всего будет поговорить с Басмановым. Тот — человек, жизнь повидавший. Побольше нынешних. И в этих краях — свой, и в «Братстве» состоит с самого начала.
Пока его подопечные добирались через город, Константин Васильевич, заняв в ресторане ключевую точку, успел слегка подзарядиться ямайским ромом, расслабился, используя солнечные блики на волнах для стимуляции погружения в поверхностный, извне не отличимый от обычной задумчивости транс.
Обычно в трансах он ощущал раскованный полёт фантазии и редкую в обычных состояниях лёгкость. Что же его так беспокоит сейчас? Что давит? С первых минут появления на «Валгалле» профессор почувствовал неладное, уловил опасность, отражённую психикой Воронцова, которую сам Дмитрий идентифицировать не сумел. Но что-то такое почувствовал, магическими способностями не обладая, раз сообразил вызвать «бригаду „Скорой помощи“»? Просто путём сопоставления фактов, самих по себе вполне материалистичных, нормальных, естественных.
К примеру, так называемые «приметы» — перебежавший дорогу чёрный кот, женщина навстречу с пустыми вёдрами, разбитое зеркало, возвращение за забытой вещью (или любые другие, по выбору) — явления обыденные, никаким образом не связанные причинно-следственными законами с событиями, которые могут произойти или не произойти. Однако, что тоже известно, — несоблюдение эмпирически выведенных мер предосторожности повышает вероятность неблагоприятного исхода в разы.
Конечно, считать Воронцова «обычным человеком» неправильно. Уже то, что он имел дело с Антоном, с Замком, перемещался между мирами и временами, силой мысли сумел превратить оптический фантом в живую женщину с великолепным набором истинно человеческих качеств — далеко не случайно. Он не таков, как его товарищи, так, возможно, его истинная сущность кроется просто гораздо глубже. На самом же деле он тоже «игрок» не меньшей силы, чем Новиков с Шульгиным, просто проявляющий свои способности иначе.
И что он сумел почувствовать сейчас? Очередной ход тех, кто направлял дуггуров, или до поры скрытое недовольство «Держателей» вмешательством Шульгина в управляющий здешней Вселенной Узел Сети? Или, наконец, Дмитрий просто ощутил «дрожание покрывала Майи», заслоняющего сцену со столиком, где Игроки расставили фигуры для очередной партии?
Страшно профессору очень давно не было, он всегда считал себя достаточно сильным, чтобы решать вопросы, кажущиеся ему интересными, и избегать многочисленных, очень разнообразных опасностей для тела и для духа, с которыми приходилось либо сталкиваться, либо мастерски уклоняться последние две тысячи лет. Он позволял себе достаточно вызывающе, моментами просто нагло, держаться и со жрецами Ваала, и со средневековыми инквизиторами (приходилось несколько раз встретиться, выручая коллег-марранов[163] из их цепких лап), не говоря о фанатиках-староверах, как-то по ошибке принявших его за никонианца. Опричники Ивана Грозного и чекисты Агранова его тем более не сумели устрашить, несмотря на то что Якову помогали любавические каббалисты, решившие в собственных интересах посотрудничать с ВЧК — ОГПУ, где в какой-то момент собралось достаточно много «своих» и появились интересные для них шансы.
Нет, он вспомнил: один раз ему на короткое время стало страшно. Когда с наводки Агранова он первый раз попытался выяснить, что там за «интересные люди» объявились, осмелившиеся бросить вызов всесильной, легко захватившей Великую страну, Хранительнице Православия и истинно-русского духа кроваво-красной секте, нацепившей на фуражки прямую пентаграмму, а на Главный орден — перевёрнутую[164].
Прикоснувшись к мыслям и чувствам Новикова и Шульгина, проникшим в большевистскую Москву осенью двадцатого года, Удолин испытал и потрясение, и страх, длившиеся, правда, всего около сорока минут. Потом он сумел разобраться в их сущности и взять себя в руки. И почти сразу нашёл в этих людях ближайших друзей.
Но момента первого потрясения при соприкосновении с непонятным не забыл.
Сейчас случилось нечто похожее. И значит, Воронцов — теперь в роли Агранова? Интересный поворот. А кто в роли «полковников-жандармов»? Неужели этот юноша граф Уваров? Или его женщина, Анастасия, сумевшая подчинить себе сильную психику офицера, в грош не ставящего свою жизнь ради исполнения долга?
Кто или что вызвало у Дмитрия чувство тревоги, потребовавшей разыскать именно Удолина в бездне веков? Мало у «братьев» собственных средств? Выходит — мало! Зато у Воронцова ума много, раз решил «сбросить из прикупа выигрышную карту» в расчёте, что противник и сноса не просчитает, и «третья дама» в нужный момент сыграет, вопреки затверженными с детства игроками в преферанс канонами: «дама всегда бьётся, своя и чужая». Тут и вариант «гамбита» на ум пришёл[165].
Нет, на самом деле — страшно не страшно, не имеет никакого значения. Человеческие, атавистические, по сути, эмоции. Наплевать и забыть! А вот сразиться с неведомым куда интереснее, чем тупо выискивать в древних хартиях ошмётки почти никому сейчас не нужных знаний.
На площадку ресторана с шумом, смехом, необязательными, но весёлыми разговорами ввалилась — иначе не скажешь — вся назначенная Удолину под присмотр компания. Девушки, он ещё раз убедился, настоящие, земные. Маугли в своём роде, воспитанные «волками». Опасаться ему их нечего, а положиться — вполне можно. Профессор в те минуты, что потребовались компании на рассаживание за столами, по всем сопутствующим словам и жестам определил — эти исполняющие роль охранниц и превосходно умеющие убивать красавицы абсолютно чисты в своих помыслах. Ни у одной он не отметил хотя бы тени тёмной ауры. Как дети, ей-богу, сущие дети.
А какие красивые! Константин Васильевич в женщинах понимал. Царицу Савскую, правда, видеть не пришлось, а уж всяких мадам де Ментенон и де Монтеспан, прочих королевских фавориток насмотрелся — никакого сравнения. Вот Ирина, жена князя Юсупова, графа Сумарокова-Эльстон, одного из убийц Распутина — та да, хороша была, не зря в эмиграции первый в послевоенной Европе титул «королевы красоты» выиграла. Но эти барышни всё равно на порядок краше.
Удолин повернулся на стуле, изображая радушную улыбку, собираясь подойти, представиться. Басманов его увидел, сделал приглашающий жест, слегка удивившись при этом: здесь и сейчас он профессора увидеть никак не ожидал.
И вдруг мага от затылка до копчика пронзило вдоль спинного мозга ощущение внезапной, смертельной, только-только сейчас возникшей опасности. Без всяких предпосылок. Предощущение, страх неизвестно перед чем — одно, а сейчас, — будто перекрестье прицела на тебя наведено и чужой палец спуск дотягивает…
Уловил присутствие локализованной где-то справа-вверху чужой и чуждой воли, никак не дифференцируемой, воспринимаемой просто как сгусток энергопотенциала огромной мощности, вот-вот готового лопнуть… Пролиться… Чем? Огнём, потоком нейтронов или хроноквантов?
Резко развернувшись в сторону готовой ударить точно в это место «молнии», профессор вскрикнул и голосом, и ментальным посылом, адресованным сразу всем, кто мог его услышать. Выбросил перед собой руки, будто пытаясь растянуть перед верандой защитный полог.
Счёт пошёл на секунды. В отличие от Ирины или Сильвии, Удолин не умел использовать эффект «растянутого настоящего». И отрабатывать назад время, внутри которого находился в длящийся момент, ему не было дано. Если бы хоть немного раньше…
И тут он увидел, точнее — ощутил и опознал причину и источник смертельной опасности: стоявший у стенки в военной гавани бывший германо-султанский «Гебен-Явуз», на расстоянии более трёх морских миль от мыса, где помещался ресторан, занимался то ли учениями, то ли регламентными работами. Нормальный человеческий глаз едва ли заметил бы на таком расстоянии, что две его кормовые башни с двухсотвосьмидесятимиллиметровыми пушками разворачиваются. Для главного калибра линейного крейсера тридцать кабельтовых[166] — смешное расстояние. Вдоль ствола целясь попасть ничего не стоит, особенно — если осколочно-фугасными!
Обычному береговому человеку и в голову бы не пришло заинтересоваться, куда и зачем вертятся башни старого крейсера, привычного, как башни минаретов в соседнем квартале.
Вопль тревоги и предсмертного отчаяния Удолина вскинул и Басманова, и Уварова, и девушек-«валькирий». Офицеры уловили звуковую составляющую, девушки — ментальную. Катранджи, кажется, обе сразу. Раньше всех он среагировал, отбросил стул и перевалился через парапет. Покатился, цепляясь руками и полами пиджака за колючие кусты и торчащие острия камней. Десятью метрами ниже склон заканчивался узенькой площадкой, а за ней до галечного пляжа ничего, кроме тридцати метров воздуха, не создающего опоры.
Будто предчувствовал прозорливый турок нечто подобное, выпрашивая у Тарханова охранниц, и прежде всего Кристину. Увидев «ретираду» своего клиента, в течение тех секунд, что он ещё находился в свободном полёте, она выхватила из широкого кармана платья блок-универсал (теперь положенный по чину), включила «экстренной кнопкой», как научила Сильвия, «растянутое время предупредительно». Это, кстати, позволило и подругам среагировать, разобравшись в обстановке.
Сама «девица Волынская» при этом, подобно цирковой акробатке, перелетела через ограждение веранды, приземлилась на спружинившие ноги двумя метрами ниже Катранджи, поймала катящееся на неё стокилограммовое тело, рывком погасила энергию массы, помноженной на скорость. Ни по каким законам физики девушка, вдвое легче Ибрагима, не смогла бы совершить такого. Оба они просто обязаны были улететь вниз. Все видели, как городошная бита сносит любую выставленную против неё фигуру, и понимали, что это — правильно. А вот изящная Кристина сумела, посрамив великого Ньютона, задержать турка на откосе. Сколько уж там «же» перегрузки Катранджи пришлось ощутить — не существенно. Он лежал ничком на последнем метре твёрдой земли, острые камешки впивались через пиджак в грудь и живот, дыхание со свистом вырывалось из перекошенного только сейчас осознанным страхом рта.
Полоски пляжа отсюда не было видно, только плещущиеся индиговые волны. Можно было подумать, что, сорвавшись, всего лишь врежешься в воду, в худшем случае — хлебнёшь как следует, да и вынырнешь как ни в чём не бывало.
— Спокойно, дядя Изя, — неизвестно почему именно так сказала Волынская, удерживая Ибрагима за руку и поясной ремень. — Тихонько вставай, вот так, на меня. Вниз не смотри. Полметра вот сюда и влево. Сел? Дыши и не дёргайся…
Она, как и все наверху, ждала, что сейчас по площадке шарахнут четыре тяжёлых снаряда. Едва ли невысокий карниз над головой защитит от ударной волны и массы осколков. Бегала глазами по кнопкам своего «портсигара». Какая сейчас поможет?
Артиллерист Басманов по крику и направлению руки Удолина сразу увидел, что башни «Гебена» поворачиваются не просто так: длинные стволы выставлены как раз на нужный угол, целятся прямо в них. Только сделать уже ничего не мог. Прыгать с обрыва, как турок — бессмысленно. Бежать? А куда? От разрывов одиннадцатидюймовых снарядов не убежишь. От трёхдюймовых иногда удавалось, так то — из другой оперы. Значит — только ждать, чем всё это кончится!
Уваров, сидевший спиной к бухте, вообще ничего не понял, включая смысл самоубийственного трюка Ибрагима, даже услышав отдавшийся в голове колокольным ударом крик профессора.
А вот Анастасия и остальные девушки среагировали. Спасибо Кристине — её блок не просто подал нужный сигнал, он включил режим «растянутого времени» и для их «портсигаров», и для них самих. Дальше и напрягаться не пришлось. Пятнадцать секунд выигрыша — это же вечность! Особенно если для всех других — «время ноль».
…Пятьдесят комендоров, унтеров и два мичмана в башнях «Гебена», ведомые непонятной силой, вынуждены были вести себя так, будто вдруг оказались в реальном бою. По команде башенных командиров из погребов пошли вверх по подачным трубам полузаряды и снаряды. Как положено, перегрузились на столах, послушная автоматика загнала в стволы пушек длинные, жирно блестящие смазкой остроконечные чушки, за ними — шёлковые цилиндры с порохом. Замки закрылись. На всё про всё потребовалось едва полминуты.
Всё нормально, всё правильно — враг на горизонте, с КДП[167] выдали дистанцию и целик, да и в панорамы прицелов всё видно. Теперь жди ревуна на залп — и жми педаль!
Линейный крейсер стоял на положенном месте без всяких намёков на предстоящий выход в море. Работали в штатном режиме лишь два котла кормовой кочегарки, чтобы не зависеть от берегового снабжения, чтобы все механизмы действовали, чтобы ход, в конце концов, хотя бы самый малый, дать можно было, случись чего. Уроки прошлой войны ещё не забылись.
По мостику лениво, нога за ногу, болтался с левого крыла до правого и обратно вахтенный начальник в лейтенантском чине. Делать ему было совершенно нечего. Лейтенант прикидывал, что, сменившись, вечерок можно провести с пользой, поскольку следующая вахта только завтра после обеда. От скуки устроил выволочку вахтенному мичману, глазевшему в бинокль на пригородный пляж. С мостика, оказывается, очень хорошо кабинки для дамского переодевания под нужным вертикальным углом просматриваются. Глуповат оказался мичман, непристойной улыбочки не сумел замаскировать.
Неторопливо, вдумчиво, с паузами лейтенант разъяснил мичману, что бывает, когда пялятся куда не нужно. Припомнил «Абукир», «Хог» и «Кресси»[168], «порт-артурскую побудку», по врожденной ядовитости характера не забыл упомянуть, что оный мичман и гардемарином отличался безалаберностью и ленью, за что и выпустился пятым по счёту с конца списка. Так случилось, что лейтенант, четырьмя годами старший, был в Морском Корпусе у этого мичмана ротным фельдфебелем. «Слава богу, Инфантьев, воевать мне вместе с вами не пришлось! А то б вы тоже не на цель, а на всякие… любовались!»
Внушение, пожалуй, спасло крейсер, уж команды кормовых башен — наверняка.
Мичман отошёл к площадке за боевой рубкой и вдруг закричал, как будто наступил босыми ногами на непрогоревшие угли костра:
— Господин лейтенант!
— Ну, что тебе, — обернулся вахтенный начальник.
— Кормовые башни! Развернулись по-боевому! Стволы на угол обстрела выходят!
При этом и мичман, и лейтенант вдруг испытали странное, томительное чувство. Совсем ничего не хотелось делать. Ни говорить, ни двигаться. Сесть бы на тиковый настил и задремать… Ну, крутят пушкари свои башни, ну и что? Мало какие у них там по плану упражнения отрабатываются…
Только профессиональная привычка оказалась сильнее психотронного воздействия! Не прошёл ещё у вахтенного начальника запал, с которым минуту назад вкручивал мичману насчёт порядка несения и бдительности. Теперь подтверждай! Не может быть такого, чтобы артиллерийские учения на швартовах, считай, в центре города проводились! Нечем заняться, так на станке заряжания[169] корячьтесь!
Лейтенант, будто сквозь вязкий кисель, рванулся к массивной трубке телефона прямой артиллерийской связи.
— Башня! Плутонг! Вы там что, охренели? Что делаете? Какого… по городу наводите?! Дробь, дробь[170], я приказываю!
В отсутствие на мостике командира вахтенный начальник располагал всей полнотой власти. С последующим ответом за сделанное.
В трубке прозвучал странно-сонный, совсем не по обстановке голос плутонгового командира, тоже лейтенанта:
— Вражеский форт в прицеле. Установки выполнены. Стреляем…
Наверное, в угольной капсуле микрофона уголь превратился в алмазную пыль от крика вахтенного. Хорошо, вахтенный начальник не начал вступать в рассуждения и пререкания.
— Дррробь, мать твою, Пучок!
Пучок — это была училищная кличка лейтенанта Пучковского. Может, она и подействовала сильнее остального. Он, мотая головой от ударившего в ухо крика товарища, бывшего сейчас старшим на корабле, чисто машинально убрал ногу с педали, включавшей замыкание цепей выстрелов. А тут и блок-универсалы «валькирий» сработали.
Ещё секунда-другая — от плазменного удара вспыхнули бы заполнявшие шахты подачи и перегрузочные столы пороховые полузаряды. Сдетонируй за ними погреба — от внутреннего взрыва взлетели бы на стометровую высоту крыши башен, стволы пушек, сотни матросов сгорели бы в отсеках. Вторая «Императрица Мария»[171] могла случиться, да не на внешнем рейде, а почти в центре миллионного города. Число погибших на соседних кораблях, пирсах и берегу страшно и вообразить.
Возможно, на это и был расчёт организаторов акции, а не просто на залп прямой наводкой по ресторану.
К счастью, Анастасия уловила перекрывшую силу чужого воздействия на артиллеристов эмоцию и отчаянный, по всем ментальным диапазонам слышимый крик вахтенного лейтенанта. Успела понять суть происходящего, остановила свою и троих подруг инстинктивную готовность испепелить цель. Опыта боевого применения блок-универсалов у «валькирий» не имелось, а вот рефлекс — при угрозе такого масштаба отвечать ударом «на полное поражение» — был.
Сильвия не зря занималась девичьей психикой, в ускоренном порядке пройдя с ними курс «боевой и политической подготовки». Вельяминова отдала совсем другую команду вместо той, что рвалась из перешедшего на автоматический режим мозгового «сторожевого центра».
Хорошо, что «растянутое настоящее» всё длилось и длилось. Вместо сосредоточенных плазменных жгутов, способных в долю секунды нагреть броневую сталь до тысяч градусов, корму «Гебена» накрыл гипнотический и парализующий удар. С полным, на многие часы отключением вообще всех мыслительных и двигательных функций находящихся там людей. Придумать что-нибудь более щадящее за эти секунды было просто невозможно.
Все, кто находились на палубах и во внутренних помещениях крейсера, от ахтерштевня до заднего мостика, замерли в тех же позах и фазах движения, что за мгновения до удара, и лишь постепенно, теряя остаточный тонус мышц, начали падать, кто где стоял или сидел. Достаточно мягко, как ощутивший приближение обморока человек. Это позволило большинству избегнуть тяжёлых травм, даже тем, кто взбегал или спускался по трапам и работал с движущимися механизмами. Пострадавшие, само собой, имелись, как иначе, но в не сравнимом с возможными последствиями взрыва количестве. Да и вообще — живые.
Повинуясь поднятой руке Удолина, девушки отключили своё потрясающее оружие.
— Я больше ничего не чувствую, — сказал Константин Васильевич, несколько ошеломлённо поворачивая голову и дёргая шеей. — Совсем ничего. Только волну паники с крейсера. А извне — ничего…
Трижды повторённое в пределах двух фраз слово выдавало его растерянность. Обычно Удолин был отменным стилистом, лектором, случалось — и трибуном. Студенты СПбГИУ[172] до войны (Первой мировой, естественно) сбегались на его лекции сотнями, так что инспектор классов неоднократно выходил лично к ректору с заявлением, что просит подобное прекратить, поскольку не ручается за прочность древних перекрытий под аудиторией.
Глава шестнадцатая
— Однако, — сказал Удолин, когда общее возбуждение стихло и начало приходить в норму возмущение мирового эфира. Вытер большим батистовым платком, изукрашенным каббалистическими знаками (вроде шпаргалки?), пот со лба. — С таким я ещё не встречался… — и сел, не глядя, но попал прямо между подлокотниками кресла, на всю глубину сиденья.
— С каким — таким? — Уваров первый раз оказался в сфере «растянутого настоящего», и мысль его выкарабкивалась к реальности, как оса из сладкого сиропа. Он ещё до конца так и не сориентировался в обстановке.
Анастасия сделала движение бровями, и девушки опустили свои «портсигары», последние секунды посылавшие дезинтегрирующие импульсы в небо над рестораном и портом. Сколько энергии (и откуда извлечённой?) при этом ушло в метрическое пространство и в астрал, почти невольно приоткрытый профессором, трудно сказать. Гигаватты, наверное. Но явно не зря. Так тяжёлая артиллерия расходует вагоны снарядов для огня «на подавление» по площадям.
Услышав злой выкрик Кристины из-под обрыва, Инга и Марина кинулись через ограждение, помогли ей вытащить Ибрагима. Катранджи, присев на край дивана, рассматривал свои исцарапанные руки и прорехи на брюках и пиджаке, цветисто и разнообразно ругался на эффектной смести русского и турецкого языков. И вдруг прервался, сглотнул слюну вместе с последними словами, уставился на спасительниц буквально обожающим, никак не подобающим гордому турку взглядом.
«Наконец моим советам последовал, — злорадно подумал Уваров, — вправду стал на русского купца Катанова похож. Петушок жареный второй раз клюнул. Третий раз прямо по темечку попасть может».
— В моё время в таких случаях обещали, — Басманов и сейчас ухитрялся сохранять полное самообладание и «гвардейский юмор», — до конца дней водкой от пуза поить!
Под «своим временем» он, ясное дело, подразумевал 1914–1920 годы, остальное, невзирая на всего лишь тридцатидвухлетний возраст, уже было «не его». От двадцати до двадцати семи лет он успел отведать столько «медвежьего мяса»[173], что на десять романов хватит.
Катранджи насколько можно отряхнул пиджак от известковой пыли, смахнул со щеки несколько капель вдруг выступившей крови.
— Эх, господин полковник, когда б только о водке речь…Так они же водки не пьют… — прозвучало это не то чтобы с сожалением, куда более философски.
Если с точки зрения японского самурая смотреть, то теперь Ибрагим Рифатович (причём — второй раз) оказался в долгу, который разом не погасить, а пожизненным верным служением выплачивать до́лжно.
Басманов, как старший по должности и званию, представитель принимающей стороны, имеющий опыт боёв и с немцами, и с красными, и с дуггурами разных пород и типов, положенным образом извинившись, прошёл в комнату метрдотеля позвонить по телефону.
Удолин, решив, что за отсутствием Михаила Фёдоровича старший здесь он, заявил:
— «Даже бессмертные боги не смогут несбывшимся бывшее сделать!» Из чего проистекает — обед должен состояться, поскольку одна из угроз миновала, другая может возникнуть когда и где угодно. Снаряд два раза в одно место не падает, что наш уважаемый артиллерист непременно бы подтвердил, — и посмотрел вслед Басманову, — отчего обедать лучше здесь, чем в каком-либо другом месте. Тем более — всё давно приготовлено.
— Два раза в одно место не падает снаряд, выпущенный из одного орудия с неизменными установками прицела, — меланхолически уточнил подполковник Уваров, моментами умевший быть удивительно занудным (это уже мысль Анастасии). — В любом другом случае шансы абсолютно одинаковые. Видели, знаем. И нормальный солдат прячется в воронку не по названной вам «теории вероятностей», а просто потому, что она является естественным укрытием…
Он взял папиросу из открытой коробки, к которой потянулся рукой тремя минутами раньше. Размял, закурил и продолжил. — Поэтому, естественно, куда-то ещё перемещаться смысла нет никакого…
Только Настя ощущала, сколько внутренних сил стоило Уварову вести себя таким вот образом: ничего по-настоящему не понимая, держаться, как положено командиру на передовой. Ей не пришлось видеть, но многие «печенеги» рассказывали про бой под Берендеевкой. Был момент — рванул на краю заболоченной речки тяжёлый снаряд. Кого оглушило, кого кинуло лицом в дно окопа. А капитан Уваров стряхнул со щёк и фуражки грязь и продолжал тем же тоном прерванную разрывом фразу. Бойцы имеют право бояться смерти, командир — никогда. То, что она сейчас чувствовала к Валерию, была уже не просто любовь. Нечто гораздо большее!
— А скажите мне, пожалуйста, Иван Романович, — обратился подполковник к Катранджи, — чем был вызван ваш столь эффектный прыжок? Я, как начальник вашей охраны, должен быть в курсе… Стиля ваших реакций, так скажем. Иначе, в другом подобном случае, можем и не успеть… — Сейчас он вполне относил действия Кристины к общей схеме действий своего подразделения.
Официанты, появившиеся из недр ресторана, вообще ничего не видевшие и не понявшие в случившемся, начали, наконец, накрывать стол.
— Да вот знаете ли, Валерий Павлович, — ответил Ибрагим, торопливо проглотив налитый ему Уваровым фужер «для снятия стресса», никого не ожидая и не чокаясь, — я давно научился улавливать грозящую МНЕ опасность и реагировать мгновенно, не задумываясь об окружающих. Плохо это или хорошо, отдельный вопрос. Пофилософствуем при случае, если ещё поживём, но сейчас я надеялся, почти даже был уверен, что с этого обрыва долечу до воды. Ещё когда я был совсем мальчишкой, мы прыгали со скал в море. Я — сын паши, друзья мои, с детьми водоносов и ночных грабителей с тридцати метров в сильный прибой нырял и оставался жив. Отец, когда ему доложили, одобрительно поцокал языком: «Мужчина растёт. Тру́сы мне не нужны!»
— Здесь бы — не долетели, — мягко сказала Кристина. — Формулу расчёта траектории приводить не буду, но точка падения оказывалась в семи метрах от уреза воды. При самом сильном толчке. Учтите угол снижения дна — чтобы выжить, вам не хватало пятнадцати метров по горизонтали или двадцати тысяч джоулей кинетической энергии на начальной ветке траектории…
— И ты это просчитала? — ошарашенно спросил турок.
— В чём вопрос? — почти так же, но без эмоций на лице и в голосе удивилась Кристина. — Когда вы кидаете камень в цель, ваш мозг успевает оценить его вес, расстояние до цели, нужную степень поворота всех суставов, натяжение связок, силу, необходимую для срабатывания всех сгибающих и разгибающих мышц… Вас это никогда не удивляло?
Странно, что никто из присутствующих ещё не попытался (или не захотел?) начать практическое обсуждение настоящих причин случившегося.
Так, если с другой стороны подойти — «а чего — случившегося?» Уваров видел только прыжок Катранджи в сторону обрыва. Кристина исполнила свой долг в рамках данного факта. Удолин почуял острый дискомфорт от ощущения «постороннего неведомого». Анастасия и её подруги-подчинённые среагировали на профессором же обозначенную и лично для них сформулированную и указанную цель. Басманов видел неуместный в мирной обстановке разворот башен «Гебена» в их сторону. Его эмоциональная или профессиональная реакция фактически спровоцирована тем же Удолиным.
И что в сухом остатке?
Как говорится — прокурору предъявлять нечего.
Конечно, предъявлено будет — просто чтобы всё было по справедливости. Не положено в порту боевому кораблю башнями вертеть? Не положено. Даже винтовку или пистолет, неважно, заряжены они или нет, солдату с первого дня службы строго-настрого запрещается в сторону живых людей направлять. Известно, раз в год и палка стреляет. Обычное оружие — гораздо чаще.
Уваров про себя усмехался. Надо же, как судьба над ним и всеми здесь присутствующими развлекается-то! Катранджи получил всё, что хотел, мало ему Одессы показалось. Добился поездки этой, сопровождения того же самого. Напросился, можно сказать! А в армии не зря говорят: «Ни от чего не отказывайся и ни на что не напрашивайся!»
Кристина тебе, видишь ли, понравилась. Ну и обхаживал бы, как всякую нормальную девицу, дворцами над южными морями, яхтами да бриллиантами соблазнял. Нет — «чтоб опять личной телохранительницей была». А Пушкина подзабыл: «Чтоб служила мне рыбка золотая, и была бы у меня на посылках». Посмотрим теперь, кто у кого и кем будет. Валерию приходилось видеть подобные мезальянсы[174]. Господин генерал-лейтенант, гроза корпуса, а то и округа, женившись на гувернантке своих детей, неожиданно быстро превращался в безнадёжного «подкаблучника». А уж с наследницей древнего рода шляхтичей Волынских, один из которых само́й императрице Анне Иоанновне «кондиции»[175] диктовал, наплачется сын провинциального паши, ох и наплачется. Да и то при условии, если Кристина захочет принять его «кондиции». Вдруг ей жизнь русского подпоручика покажется привлекательнее, чем даже «законной жены» восточного деспота?
Он перемигнулся с Анастасией, та поняла, кивнула.
Полковник Басманов первым делом позвонил командующему Средиземноморской эскадрой вице-адмиралу Кетлинскому Казимиру Филипповичу, участнику фантастической операции по спасению адмирала Колчака и вообще весьма умному человеку.
Не требовалось каких-то специальных объяснений. Вице-адмирал совершенно отчётливо представлял разницу положений его и полковника, по совсем иной, чем официальная, «табели о рангах».
Если с самим Верховным Правителем Врангелем, морским министром Колчаком и прочими фигурами того же уровня Михаил Фёдорович разговаривает пусть и со всем пиететом, артикулом определённым, учитывая и чины, и возраст, но несколько небрежно, что ли. То, что Басманов, лично не присутствовавший на «Гебене», прекрасно осведомлён о «происшествии» и его последствиях, причём раньше и куда подробнее его самого, адмирала почти не удивило. Что-то о сверхъестественных способностях полковника и его друзей Кетлинский знал, о многом догадывался.
— Ты, Казимир Филиппович, — как требовали приличия, не приказал, а попросил Басманов, — объясни, что там у тебя на флоте творится.
Уж ему-то, в отличие от всех присутствующих на веранде ресторана, ни о чём «невероятном» задумываться не нужно было. Насмотрелся он такого во всех видах и проявлениях. Было и в Москве, было и в Южной Африке.
— Только чтобы это было сделано в полной тишине и тайне. Что бы там на самом деле ни случилось, на «Гебене» твоём и вокруг — докладную вели составить, не выходящую за пределы вероятности. Люди, впавшие в беспамятство, скоро в себя придут. И едва ли что-нибудь связное рассказать смогут. Но ты немедленно, именно немедленно, пока разговоры не пошли, флагманского медика и судовых врачей проинструктируй. Пусть объявят, что произошло какое-то отравление… Продуктами разложения плохого турецкого пороха или снарядной взрывчатки. Я артиллерист, с похожими случаями сталкивался. Иного объяснения такого массового помутнения сознания всё равно не придумать. А я попозже своих специалистов пришлю, когда с участниками этого «наваждения» нормально можно будет побеседовать. А «наверх» пока можно не докладывать, рядовой, в общем, случай, вполне в компетенции местных инстанций.
Кетлинский ответил, что понял, да и как не понять? Человек, поучаствовавший в спасении заведомо расстрелянного Колчака, в последующем разгроме даже теоретически непобедимого британского флота (три старых русских броненосца, пусть и модернизированных, и один «условно боеспособный» линкор никак не могли выиграть бой с шестью настоящими супердредноутами, однако выиграли, принудив англичан к капитуляции), давно воспринимал происходящее как данность. Отчего относился к любым мнениям и советам Басманова и прочих причастных к созданию Югороссии особ, как к истине в последней и окончательной инстанции, не затрудняя себя ненужными размышлениями. Следствие на флоте безусловно будет проведено, но ни один из его выводов, расходящихся с предложенной версией, наружу не выйдет. А уж что там на самом деле произошло — Михаил Фёдорович объяснит впоследствии, если сочтёт нужным.
Такую для себя жизненную позицию избрал адмирал, здраво осознав ещё пять лет назад, что существуют в мире вещи, вникать в которые не столь опасно, сколько бесполезно. Живём вот на свете исключительно благодаря этим странностям, и слава богу.
Следующий звонок Басманов сделал уже генералу от кавалерии (особе Второго класса по Табели о рангах, выше которой был бы только генерал-фельдмаршал, но этот чин давно уже в русской армии не употреблялся) Шатилову Павлу Николаевичу. Бывшему начальнику штаба ВСЮР, а ныне Председателю Военного Совета Югороссии.
— Что случилось, Михаил? — спросил Басманова генерал из своего Харькова по специальной, защищённой телефонной линии.
Полковник объяснил. Со всей возможной доступностью. В том смысле, что внешне незначительное и вполне решаемое в пределах компетенции начальника эскадры происшествие может (упаси бог, конечно!) означать собой нешуточную угрозу для всего государства, если вдруг окажется, что это — составная часть заговора неких «потусторонних сил», обладающих соразмеримой с «нашей» мощью. То есть — действующей «вне обычных представлений».
Павел Николаевич, как и Кетлинский (да и вообще всё высшее окружение Врангеля), был человеком умным. И тоже не задавался лишними для него вопросами, лежащими за пределами основного образования и накопленного уже после судьбоносного лета двадцатого года опыта.
Они все, готовившиеся геройски умереть или, при удаче, эвакуироваться из обречённого Крыма, согласились принять Победу, свершившуюся с помощью таких, как Басманов, людей за чудо. Чудо, заслуженное молитвами и самоотверженной борьбой до последнего патрона. Когда защищать уже почти нечего и нечем. Однако — победа случилась! Блестящая победа, крайне выгодный мир с красными и нынешнее благосостояние государства.
С тех пор среди высшего руководства Югороссии действовал как бы обет. Монастырского типа. Не рассуждать о том, каким образом и через кого пришла Победа. Откуда взялись золотые червонцы в почти невообразимых количествах, новые образцы вооружений, люди, учившие этим оружием пользоваться и сами ходившие в удивительные по своим результатам сражения. Словно бы вернулись времена Потёмкина, Суворова и Румянцева, Скобелева — полки громили армии, батальоны брали крепости с многотысячными гарнизонами…
Начертано на кресте ордена Николая Чудотворца «Верою спасётся Россия» — вот и не следует выходить мыслью за пределы девиза! Между собой, как и в средневековых монастырях, люди с эрудицией и воображением могли рассуждать о чём угодно, даже строить какие-то планы, но эти мысли и идеи никоим образом не выходили за пределы узкого круга посвящённых. Всем прочим, невзирая на должности, во избежание «соблазна» (в церковном смысле этого слова), незачем знать, отчего вдруг иконы мироточат и откуда берётся «пасхальный огонь».
Сам генерал Врангель показывал пример. Наладив порядок в стране, обеспечив действенную систему управления, он углубился в занятия военной и политической историей последнего десятилетия, писал обширные и очень подробные мемуары, планируя довести их минимум до десяти томов, чтобы перебить и опровергнуть своего вечного оппонента Деникина с его пятью томами «Очерков русской смуты». И ни одним словом он не коснулся подлинных фактов, так разительно изменивших российскую историю после великой битвы за Каховский плацдарм.
Так ей и предстояло запечатлеться в качестве одного из чудес, вроде «Победы на Марне», где французские историки легко обошлись без упоминания об отчаянном наступлении двух русских армий, Самсонова и Ренненкампфа в Восточной Пруссии, что и заставило немцев в самый решительный момент начать переброску своих ударных корпусов от Парижа на русский фронт.
Но не в этом дело.
— Я не ведаю, что впереди, но из личного опыта знаю — «чудеса» не в одну только сторону работают. Может случиться, что на нас обрушатся в буквальном смысле «потусторонние силы». Не в религиозном смысле, просто — пришедшие из посторонних по отношению к нашей реальностей. Противостоять которым хотя и трудно, но можно.
— И это понял, — ответил Шатилов, на самом деле понимая значительно меньше половины. Он знал, что, кроме этого, «настоящего», существуют вокруг во множестве всякие другие миры, «прошлые и будущие», что там живут люди, кое в чём — очень могущественные. Что и сам Басманов, и многие из его офицеров в этих мирах бывали и тоже участвовали в боях, как бы в благодарность за ранее оказанную помощь. Сам он не имел никакого желания вдаваться в их изучение, а уж тем более — посещать их. Хорошо помнил слова Ницше: «Если ты начинаешь слишком пристально вглядываться в бездну, бездна начинает вглядываться в тебя».
Главное — Басманов и его друзья последние годы фактически не вмешивались во внутренние дела Югороссии. Когда нужно — помогали советами и деньгами, собственными дипломатическими средствами регулировали непростые отношения с «красной» РСФСР, последнее время всё больше начинающей отступать от былой ортодоксальности. Время от времени появлялись инженеры, налаживающие на подходящих заводах и фабриках производство новых образцов военной и гражданской техники. Одним словом — жизнь шла наилучшим из возможных способов.
Сейчас Шатилову тоже было достаточно слов Басманова о том, что обстановка под контролем и что информация о странном происшествии в Царьграде не должна стать предметом обсуждения на любом уровне. Если что и просочится в прессу — «никаких комментариев». В армии и на флоте всякие «случайности» — почти норма, на устранение их последствий есть «надлежащие структуры».
— А если начнётся что-нибудь действительно «серьёзное», тогда и будем разбираться. Вместе, — успокоил генерала Басманов. — «Друзья» нас в очередной раз поддержат.
После этого сообщил, что ожидаемый «гость» прибыл, невзирая на происшествие, находится в добром здравии и готов к переговорам.
— Наш человек когда в Царьграде будет? — спросил Басманов, подразумевая руководителя переговоров с Катранджи о поставках «Интернационалу» оружия в невиданных в мирное время количествах. Нечто вроде американского «ленд-лиза» в СССР. Только осуществляться всё должно было от имени «группы частных лиц» и не совсем обычным способом.
Шатилов заверил, что, скорее всего, уже сегодня к вечеру. И осторожно поинтересовался, не следует ли перенести место переговоров хотя бы в Севастополь, если не в ещё более удалённое место.
— Думаю, никакой роли это не сыграет. Здесь теперь, пожалуй, безопаснее, чем где бы то ни было, раз попытка диверсии сорвалась и планы неприятеля раскрыты. А вот провокаций в других местах, и весьма масштабных, я не исключаю. Потому основные силы Черноморского флота и Южную армию советую привести в полную боевую готовность. Вроде как вы там, в Центре, решили внезапные командно-штабные учения провести, без предварительной подготовки. «Легенда» — мятеж на Кавказе и одновременное вторжение английской, турецкой, персидской, румынской, болгарской и польской армий… Учения на уровне округов с привлечением штабов дивизий и бригад с призывом на двухнедельные, скажем, сборы приписного офицерского и унтер-офицерского состава первой очереди.
Идея только сейчас, во время разговора, пришла Басманову в голову, но показалось плодотворной. Общая военная тревога, забитые всеми видами информации линии связи и средства массовой информации, резкое изменение эмоционального фона всего здешнего эгрегора очень может ввести в заблуждение «вероятного противника». Примерно как глушила вражеские радары стратегическая авиация, тоннами сбрасывая из стратосферы обрезки алюминиевой и свинцовой фольги. Он читал о таком приёме в книгах о Второй мировой войне.
«Знать бы заранее, что против нас затевается, а главное — в каких масштабах, — с сожалением подумал Михаил Фёдорович, — вполне можно было сценку успеха этой провокации разыграть. И посмотреть, что дальше будет».
Вернувшись на веранду, Басманов, не желая «нагнетать обстановку» и портить людям настроение (война войной, а обед по расписанию), жестом подозвал к себе Уварова и Удолина. Втроём они отошли к двери во внутренний зал, сейчас пустой.
— Мы, Константин Васильевич, пока присядем у окошка, бар к вашим услугам. Минут пять свободных имеете. А ты, Валерий, пришли сюда свою Анастасию. Сам оставайся за столом, поддерживай общий тонус и порядок среди личного состава и высокого гостя. Скажи ему, что «нужное лицо» уже в пути, к вечеру будет. Пока всё. А мы тут кое-какие моменты обсудим.
Уваров, понимая, что разговор сейчас пойдёт явно выходящий за пределы его компетентности и информированности, молча кивнул и вышел.
— Ну что ж, господа, — сказал полковник, обращаясь к вальяжно-расслабленному Удолину и, напротив, напряжённой, как пружина, Вельяминовой. — Если я всё правильно понимаю, мы имеем дело с очередным вариантом диверсии, подготовленной «штабистами», ход и способ мышления которых нам до сих пор недоступен. Во всех подобных случаях, в каких мне довелось поучаствовать, противник поступал абсолютно неправильно. Что в Москве, что в Южной Африке любого из нас можно было уничтожить просто и без затей. Сил, внезапности, свободы маневра у неприятеля всегда хватало. Но все мы до сих пор живы. Так, Константин Васильевич?
— Совершенно верно, — ответил Удолин, довольный, что спешить пока некуда, а ассортимент коньяков в баре весьма обширен даже на его взыскательный вкус. — Мы эту тему обсуждали неоднократно и в вашем присутствии, и без оного. Вот девушка, мне кажется, ещё не совсем в курсе, так я с удовольствием вкратце изложу…
— Спасибо, — вежливо, но твёрдо пресёк его поползновение прочитать лекцию в пределах стандартного академического часа знакомый с привычками профессора Басманов. — Несколько позже. Давайте пройдёмся по фактам. Как я понял, вы предполагаете, что имела место психологическая атака, направленная не на нас непосредственно, а на артиллеристов крейсера. Так? А, простите, зачем? Не проще ли было ударить прямо по нам? Чем угодно. Стирающим память или просто волю мозговым излучением или камешком пудов на пять, замаскировав его под метеорит.
— Наверное — не проще, — сказала Анастасия. — Для них. Возможно, они опасались, что устроенная Константином Васильевичем защита, поддержанная нашими блоками, будет для них непреодолима. В любых диапазонах. Или знали это точно. Они ведь уже сталкивались с тем и другим. А вот несколько тяжёлых снарядов магический щит могли пробить… Просто инертной массой, нечувствительной к воздействиям высших порядков.
— Правильно мыслите, девушка, — одобрил профессор. — Кроме того, на основании своих рассуждений и построений могу добавить, что мы действительно имеем дело с абсолютно чуждой логикой. Хотите загадку? В десятиэтажном доме на верхнем этаже живет человек. Утром он входит в лифт, спускается вниз и идёт на работу. Вечером возвращается, входит в кабинку, доезжает до шестого этажа, дальше идёт пешком. Вопрос — почему?
— Лифт исправен? — спросила Настя.
— Исправен.
«Валькирия» наморщила лоб.
— Может, это у него такая прогулка перед ужином?
Басманов молчал и улыбался уголками губ.
— Ну, я не знаю. Тут явно какой-то подвох, и нормальным путём найти ответ невозможно, — сказала Вельяминова.
— Совершенно верно, — согласился Удолин. — Подвох. Хотя, если как следует подумать… Но не будем зря терять время. Ответ — этот человек — лилипут. И может дотянуться только до шестой кнопки…
Глотнул ещё, наслаждаясь произведённым эффектом.
Настя рассмеялась.
— То есть наши враги своеобразные «лилипуты»? И какие-то действия (в том числе и мыслительные) для них недоступны просто физически? Может быть, им просто запрещено нас убивать непосредственно? Правило игры? Шахматному коню вечно прыгать «буквой Г», но нельзя лягнуть копытом подкравшуюся сзади пешку?
— Хотя нормальный, живой конь умеет это делать прекрасно, — тоном знатока-кавалериста сказал Басманов. — Каждый раз, когда нам с необъяснимым постоянством при каждом очередном покушении удавалось остаться в живых, я по профессиональной привычке анализировал рисунок боя, соотношение сил и средств и тому подобное. И приходил к выводу, что это не шахматы, а скорее — любительский бокс или даже — сценическое фехтование. Не спортивное, подчёркиваю, а именно сценическое. Противники обмениваются ударами, каждый из которых, по сценарию, до нужного момента обязательно будет отражён. При этом у зрителя должно создаваться впечатление, что всё — всерьёз. Вспомните хотя бы фильм «Три мушкетера», как там персонажи шпагами машут… Мальчишки визжат и подскакивают, да и у взрослых моментами дух захватывает.
— Но в боях, о которых вы говорите, о которых я знаю, — уточнила девушка, — было достаточно много погибших. Совершенно всерьёз, и с обеих сторон. Разве не так?
— А я вот не видел ни одного погибшего, — вмешался Удолин. — Шахматный матч окончен, фигуры ссыпаны в ящики, все гроссмейстеры отбывают по домам живые и здоровые. Если только, что случается крайне редко, кто-то за доской от инфаркта или инсульта умрёт… Из нас пока никто не умер. На той стороне, думаю, тоже.
Анастасия молча переваривала услышанное. Ей такая точка зрения была в новинку.
— Значит, вы думаете, что погибающие в ходе наших разборок — не люди? А ваши бойцы на войне, а те, кто попался инсектоидам, офицеры, на моих глазах убитые в Одессе?
— Одессу можно исключить. Там другая фабула. Во всех же остальных случаях… Почему не допустить, что, с точки зрения наших противников, «не люди» — мы. Все же так называемые «люди», «инсекты», низшие «дуггуры» — расходный материал. Пешки и фигуры на доске, — спокойно ответил Басманов.
— И я тоже «не человек»?
— С какого-то момента — очевидно, — кивнул Удолин. — Раз вы теперь в нашей команде, кто-то решил, что куколка превратилась в бабочку. То есть — совершился диалектический переход в иное качество, и вы теперь тоже не пешка, а игрок, подчиняющийся совсем другим законам.
— Но бабочки ведь тоже умирают!
— Верное замечание. Вы могли наблюдать то, что остаётся от куколки, но видели и порхающую бабочку. Мёртвых бабочек вы видели тоже, а следующего этапа — ещё нет. Как выглядит компонента, обеспечивающая функционирование по единой схеме личинки, куколки, имаго? В какую «плоть» она облекается на следующей стадии метаморфозы? Ведь никаких общих черт у названных объектов вроде бы и нет. Доступных непосредственному восприятию, я хочу сказать. С чего вы взяли, что закон отрицания отрицания[176] всего лишь двухкомпонентен?
— А вы видели «следующий этап»? — спросила Настя, не склонная сейчас обсуждать проблемы объективного идеализма и тем более субъективного.
Удолин вместо прямого ответа ограничился пожатием плечами и очередным глотком.
— Если всё обстоит так, как вы говорите, нам, возможно, ничего и не следует делать? Просто не обращать внимания на происходящее? — задала она следующий вопрос.
Ей ответил Басманов:
— А вы знаете, что бывает, когда шахматист вдруг отказывается делать следующий ход или раздумывает над ним слишком долго?
— Ему записывают поражение?
— Вот именно. Флажок на часах падает. И мне очень не хочется на собственном опыте выяснять, что это будет означать в нашем случае. Но мы слишком далеко отклонились. Я вас пригласил не для философской беседы. Скажите лучше — кто из вас прямо сейчас может установить контакт с Сильвией? Кому это сделать проще и… безопаснее?
— Непосредственно с Сильвией? Помимо Воронцова? — спросила Анастасия.
— Для начала можно и помимо. С ним позже поговорим.
— Раз я теперь по статусу равна координатору, у меня есть линия прямой связи с любым владельцем блок-универсала. Где бы он ни находился. Сейчас вызову.
Вельяминова откинула крышку портсигара, набрала нужную комбинацию, нажала изумрудную кнопку защёлки.
Прошло значительно больше минуты, пока открылся канал. Это время потребовалось Сильвии, чтобы определить, кто запрашивает контакт, и разрешить, если сочтёт нужным, соединение. Было время, когда у неё было много подчинённых, и в целях поддержания субординации далеко не всем разрешалось общение с вышестоящей по собственной инициативе. Сейчас ситуация изменилась, а настройки блока остались прежними.
В Москве была поздняя ночь, но леди Спенсер ещё не ложилась. С Императором и Секондом они сначала совещались в кабинете Олега, потом ездили на рыбалку к дальним лесным озёрам. Поймали пуда полтора крупных рыбин, на удочки и на спиннинг. Попалось даже несколько местных угрей. Олег Константинович, помня их разговор, больше никаких нескромных предложений не делал, и она, в просторной постели, в комнате, наполненной запахами нагретых летним солнцем сосен, выспалась великолепно. Проснулась только к позднему завтраку, а уже к вечеру Секонд отвёз её на Столешников: узнать, чем закончилась встреча Фёста с Контрразведчиком, нанести частные визиты Писателю и Журналисту. Сильвия решила не терять времени и, используя методики Шульгина, провести «вербовку» наиболее перспективных кандидатов в стремительном темпе. Прошедшего времени им должно было хватить, чтобы тщательно обдумать все «за» и «против». Судя по звонку Мятлева, тот уже сделал желаемые выводы. Дело за остальными.
То, что случилось за сутки её отсутствия, Сильвию развеселило. Всё произошло не так, как планировалось, но, пожалуй, интереснее. Наиболее непримиримый оппонент внезапно превратился в друга, в чём основную роль сыграла Герта. Не зря, выходит, Дайяна её учила. Теперь оставалось уточнить кое-какие психологические моменты и с утра начинать новую партию, обещающую получиться увлекательной.
Дождавшись, когда Фёст с Людмилой, Мятлев и Герта разойдутся по своим комнатам, Сильвия в очередной раз собралась навестить Лондон, повидаться с Берестиным. Он, скорее всего, до сих пор доигрывает свой роббер, её, по нынешнему времени почти недельное отсутствие заметить не должен, но мало ли что. Достаточно совсем небольшого сбоя в характеристиках мирового континуума, и там могли пройти уже годы. Нет, годы вряд ли, уж на Воронцова или Левашова Алексей даже через несколько дней её внезапного исчезновения непременно бы вышел. Но и сутки «безвестного отсутствия» жены доставят Алексею много тревожных переживаний. А это ни к чему, к Берестину она относилась настолько хорошо, насколько это вообще возможно при её натуре.
Поэтому сигнал, пришедший от одной из «валькирий», Сильвию не обрадовал. Что там у них приключилось, в давно оставшейся на задворках её интересов Югороссии? Чуть больше суток прошло, а что-то уже случилось, несмотря на присутствие рядом с ними Басманова, весьма надёжного и опытного человека.
Сильвия включила поддержку канала, дождалась, пока на той стороне возник ресторанный зал с поблёскивающим за окнами морем. На первый взгляд — обстановка идиллическая. Никаких дуггуров поблизости и прочей пакости. Всё знакомые лица здесь, даже неугомонный некромант Удолин, всегда удивлявший её тем, что за многие века занятий практической магией ухитрился ни разу не попасть в поле зрения самой леди Спенсер и её предшественников. Просто потому, что он с единомышленниками никогда не пользовался «техническими средствами», а колдуны, волхвы, заклинатели духов, жрецы вуду и прочие мракобесы не входили в сферу интересов аггров, крайних рационалистов и материалистов. Возможно, в этом тоже была их ошибка.
Вот и красавец-полковник Басманов, привлёкший её внимание ещё на «Валгалле», сразу после Стамбула, не только внешностью, но и необыкновенным психотипом своей личности. Не зря он единственный из уроженцев девятнадцатого века был принят в действительные члены «Братства».
Ну и Анастасия Вельяминова, бывший «номер 287». Совсем немного времени прошло, как они впервые увиделись, а изменилась девчонка ощутимо. Странного тут ничего нет, одно дело — «заготовка» на пороге инициации, и совсем другое — полноценный координатор, получивший личный гомеостат и блок-универсал. Эти устройства — совсем не то, что погоны и пистолет, превращающие выпускника училища в полноправного офицера. Они настраиваются индивидуально, с учётом и характера, и предстоящей специализации, вступают во взаимодействие с организмом целиком — с его соматикой и нервной системой, центральной и вегетативной.
Всё у новоиспечённых агентесс меняется, не только самоощущение. Опытному глазу сразу заметно. Хорошо, что все эти изменения только деловых качеств касаются, базовую структуру личности не затрагивая. А то могла Сильвия немного подрегулировать «браслет», и получилась бы из девушки её «альтер эго», верная клевретка, с тем же набором достоинств и недостатков. В частности — с выраженной нимфоманией. Саму аггрианку страсть к амурным приключениям никак не угнетала, совсем наоборот. Но хватало опыта и здравомыслия, чтобы понять — двадцатидвухлетней девушке подобная склонность совсем ни к чему. А проявись такое — у её возлюбленного могли бы возникнуть сначала неприятные подозрения — «а что это вдруг моя Настя так переменилась?», а потом и серьёзные проблемы. Скандалы, ссоры, разрыв отношений, как следствие — разочарование в себе, в женщинах, в жизни вообще. Но симпатичным ей Уварову и Фёсту леди Сенсер подобного не желала, как и другим мужчинам, могущим стать избранниками остальных «валькирий».
Не зря она провела с аггрианками сеанс глубокой психотерапии и дополнительной настройки. Теперь никому из девушек психологическая деформация не грозит. Зато и настоящими координаторами они не станут, и это хорошо. Теперь ни Дайяна, ни Лихарев не смогут подчинить их своей власти. Просто будут в этом мире (этих мирах) лучшими в любом деле, которым решат заняться, и не более.
Остальная часть компании — Катранджи, Уваров, три «валькирии» расположились вокруг стола на открытой веранде. Сильвия хорошо помнила эту веранду, именно здесь, на праздновании освобождения Царьграда, она подарила Новикову королевскую яхту «Камелот», будущий «Призрак».
— Ну и как вы тут? — непринуждённо осведомилась она, входя в ресторанный зал и присаживаясь рядом с Удолиным. — Похоже, не скучаете? Не откажетесь даму угостить?
Басманов, зная её вкусы, немедленно наполнил бокал джином, больше чем наполовину. Леди Спенсер слегка жеманно, как подобает викторианской даме, сделала несколько мелких глотков.
— Совсем неплохо. В этом времени ещё умеют делать настоящие напитки. Так в чём всё-таки дело? Что свело вас вместе в столь отдалённом от наших палестин «затерянном мире»?
Она была здесь в двадцатом году, пять лет назад по «биологическому времени локально-стабильной особи» и неизвестно сколько — с учётом всех межвременных переходов и трёх взаимопересекающихся жизней. А вокруг совсем ничего не изменилось. Кажется, и выглядывающий из-за портьеры буфетчик тот же самый. А почему бы и нет? Хорошо зарекомендовавший себя персонал без нужды не меняют десятилетиями.
— Кто доложит коротко, ясно, в форме, не допускающей превратных толкований? А то ведь вы меня оторвали от достаточно важных дел. Хотелось бы узнать — обоснованно или… Ты, Михаил, или ты, — посмотрела она на Анастасию, — раз теперь всё, что положено координатору, знаешь?
Сильвии, достававшей из портсигара сигарету, достаточно было одного взгляда на золотую полированную поверхность внутренней крышки, являвшейся также и универсальным дисплеем при умелом обращении. Начальству положено контролировать своих подчинённых, и она тут же увидела, когда, в каком режиме и с какой целью использовала Вельяминова свой блок. Об этой функции портсигара и Ирина не знала, иначе бы вела себя в бытность аггрианской агентессой гораздо осторожнее, и тогда вся уже известная нам история была бы написана совсем иначе[177].
— Настя и доложит, — сказал Басманов. — О последних событиях и своих действиях. Константин Васильевич уточнит детали со своей точки зрения. Что касается непосредственно моей компетенции, я после них расскажу.
Понятным для Сильвии образом он чётко выделил не смысловую, а ситуационную разницу между словами «доложить» и «рассказать».
После того как Вельяминова посекундно изложила всё, что делала и думала в отрезок от тревожного посыла Удолина до извлечения из пропасти Катранджи, настала очередь самого профессора.
Константин Васильевич собрался, по обычаю, пространно излагать «историю вопроса», но Сильвия деликатно-безапелляционно предложила говорить только по сути. Какого рода ментаизлучение было им зафиксировано, его интенсивность, предполагаемый источник, реакция на включение блок-универсалов.
— Любые ментаизлучения, доступные для восприятия тренированным мозгом, более-менее похожи, как свет видимого спектра, как радиоволны. Оценивать, разлагать на составляющие, выявлять гармоники у меня времени не было. Я прежде всего уловил, что оно проникает через мою защиту, как окись углерода через обычный фильтрующий противогаз. Затем — что направлена агрессия не на нас. Успел определить цель и смысл и объекты внушения. Начал перестраивать структуру завесы, рассчитывая подключить к её усилению своих коллег. Не знаю, — честно признался Удолин, — успел бы или нет. И тут отреагировали девушки… Хочу отметить — действовали они с отменной быстротой и эффективностью. Тот случай, когда техника оказывается надёжнее магии. Если бы я успел выйти в астрал… — Он вздохнул. — Враг оказался лучше подготовлен.
— Как всякий нападающий внезапно, — как бы в пространство заметил Басманов.
— Вот именно, — согласился профессор. — После того как девушки включили свои аппараты, я успел ощутить, что направленная ими синхронная и соосная волна пошла точно по направлению вражеской несущей частоты. Подобное уже удавалось проделывать при встречах с дуггурами, и у вас на Таорэре, и в Африке… Эффект всегда оказывался… ожидаемым. И в нашу пользу.
— Как из пушки вдоль луча вражеского прожектора стрелять, — снова добавил полковник.
— Но сейчас излучение было не дуггуровское. То я на уровне спинного мозга запомнил, как и наш Андрей Дмитриевич.
— Значит, считаете — ещё одна сила вмешалась? — спросила Сильвия.
— Не могу ничего утверждать. Излучение было другого типа — это факт.
— А откуда всё же исходило? В пределах земной атмосферы, из дальнего космоса или из вашего… астрала?
— Опять не готов к ответу. Как нерадивый студент на зачёте. Но, скорее всего — если я не прав, то вы меня поправьте, — ваши приборы по астралу не работают. Так, нет?
— Если бы я знала. Я ведь, по-вашему, в лучшем случае начальник резидентуры с особыми полномочиями или, как ваш Антон, — «тайный посол» в чине советника первого ранга. Не физик я, не инженер и не математик. Но давайте считать, что не работают. Если совсем точно — такая их функция мне не известна. И вообще понятие «астрала» в вашем понимании моей цивилизации неизвестно. Значит — либо из космоса, либо с Земли, но из другого пространства-времени. Осталось сообразить, какого конкретно.
— Чего проще. — Басманов, кажется, уже просто веселился. Африканские походы ему вспомнились. — Делим пустыню на квадраты, исключаем те, где льва заведомо нет, в оставшемся берём его пулей или загоняем в клетку.
— Я всегда знала, что вы, Михаил, за словом в карман не лезете. «Делением пустыни» мы сейчас и займёмся. Только скажи мне, Настя… — имя прозвучало, будто написанное курсивом. — Где же ты этому научилась — в долю секунды включить «растянутое» время, изготовиться к уничтожающему плазменному удару… Ты представляешь, что это такое?
Сейчас Сильвия стала похожа на графа Бенкендорфа, любезно, как дворянин с дворянином, беседующего с одним из представителей тайного общества, «злоумышляющего супротив государя». За несколько минут до того, как предъявить ему неопровержимое обвинение, ведущее к виселице.
— Представляю. Потому и остановилась… — Анастасия говорила спокойно, но с оттенком дерзости, возможно, чувствуя за собой поддержку Уварова, Ляхова, а главное — Воронцова с Натальей Андреевной, которых в иерархии «Братства» числила выше этой… не то чтобы «перебежчицы», но близко к тому. Хотя совсем недавно она тоже была «высшая». Так, если человека освобождают от присяги, то в полном объёме. Не только королю или императору он больше ничем не обязан, но и любому подразделению и представителю бывшей власти.
— Можно было сжечь не только крейсер, но и весь город. Особенно если бы все наши блоки сработали залпом, по одной цели.
— И что тебя остановило? — продолжила «выяснение обстоятельств» Сильвия.
Басманов, по обычной привычке усмехаясь так, что причину его усмешки понять было невозможно, закурил первый раз за последние полчаса, глядя левее и выше спорящих дам. Удолин пальцем указал на рюмки. «Пора, мол, брат, пора. Пока они там…»
Михаил изобразил на лице выражение полной поддержки.
— Понимание этого самого и остановило! Успела представить — я нажимаю кнопку, девчата — синхронно. Города нет, флота нет, море кипит. Мы — живы. Что дальше? Я сообразила, переориентировалась. В запасе — десять секунд, я уже увидела, какой режим Кристина задала. Чтобы мне переключить диапазоны — секунда на осмысление, секунда на исполнение. Девчонки услышали команду — «делай, как я!». Вот и всё. Город цел, люди живы, некоторые всего лишь временно парализованы. Ещё одно переключение — второй залп, по лучу, о котором Константин Васильевич сказал и который я тоже словно наяву увидела, будто след молнии перед закрытыми глазами. И…
Всё великолепно слышавший Басманов снова вставил: «Стрельбу прекратили, орудия пробанили».
Сильвия покосилась на него, но ничего не сказала.
— Всё ты правильно сделала, девочка, и понятно доложила. Одно меня несколько беспокоит — никто тебя таким приёмам не учил, и знать, как сделать то, что сделала, ты просто не могла. В этом и стоит разобраться. А то недоумений слишком много. Или тебе кто-то помог, или…
Глава семнадцатая
Вопрос Сильвии, заданный весьма благожелательным, почти ласковым голосом, заставил Басманова едва заметно напрячься. Он всё-таки оставался здесь «старшим по команде» и нёс ответственность за всё происходящее. Леди Спенсер они пригласили, чтобы та помогла, в роли консультанта, намного лучше них разбирающегося в свойствах и возможностях аггрианской техники, оценить случившееся и вместе подумать, как быть дальше. Но она начала, кажется, не с того.
Так-то спрошено чётко, как на умелом допросе. Дальше почти сам собой следует вывод: «Ты этого сделать не могла, значит, это сделала не ты. Или ещё проще: ты — это не ты!» Сам он эту девушку видел первый раз в жизни, восхитился сначала её красотой, потом — самообладанием и быстрыми, безошибочными действиями. Ему довелось видеть, как Антон в Москве использовал такой же, как у неё, портсигар в качестве плазменного оружия. На минимальной мощности — впечатлило, врагов — тоже. А здесь — приборов сразу четыре, с настройкой на полную. Последствия действительно могли быть страшными. Но он в тот момент представления не имел, что именно делала и что сделала Анастасия.
Но рисунок эксцесса очевиден. Нападение имело место, здесь Удолин — эксперт, заслуживающий полного доверия. Настя тоже утверждает, будто видела «луч». Он сам даст голову на отсечение, что пушки наводились именно на них. Вражеская вылазка успешно отражена — тоже факт. Катранджи спасён, и все присутствующие, и порт с половиной города.
Сильвия, видимо, предполагает, что Вельяминова не та, за кого себя выдаёт? Очень сомнительно. С ней близко общались и Левашов, и Воронцов с Натальей. Едва ли кто-нибудь посторонний сумел внедрить в «Братство» своего человека так, чтобы никто, включая мага Удолина, до сих пор этого не заметил. В том числе и сама аггрианка, она ведь, кажется, занималась их окончательным кондиционированием.
Ну-ну, послушаем, что девушка ответит.
— Вы же и учили, Сильвия Артуровна. — Настя нисколько не выглядела смущённой. — И до вас учили, хотя и весьма поверхностно. Сами знаете, спецкурс мы окончить не успели. Правда, Лихарев, когда у нас последний раз появился, начал с нашей группой по своей программе заниматься. Я так теперь понимаю, у него свои планы по поводу нас появились. Бывало, на отвлечённые темы разговоры затевал, любил, так сказать, «боевым опытом» поделиться, вспоминал разные случаи из практики, своей и чужой. О том, в частности, что вверенным оружием нужно уметь пользоваться на крайнем пределе его возможностей и даже лучше. Пример приводил, как в Москве тридцать восьмого года с помощью подручных средств сделал то, на что и Шар оказался неспособен: сам установку собрал, чтобы ваши, Сильвия Артуровна, приборы обмануть и в будущее другой реальности сбежать…
Эту историю Басманов знал и усмехнулся про себя. Аккуратно девчонка бывшую «старшую» на место ставит. И Лихарев правильно их учил. Иногда и самому полковнику удавалось свои орудия использовать так, как никому до него в голову не приходило. Вроде стрельбы из тяжёлых гаубиц прямой наводкой на рикошетах, на Каховском плацдарме.
— И всё же ты не ответила. Я хочу узнать — как ты смогла применить блок-универсал именно таким образом? Понимаешь, что бы там Лихарев или кто-то другой вам ни рассказывал, нельзя на словах обучить тому, что требует многолетних и постоянных тренировок. Даже я за несколько секунд не сумела бы так сориентироваться! Ощутив только тень угрозы, понять её источник и направление, оценить обстановку, одновременно с изменением темпа времени переключиться с плазменного удара на блокировку чужого излучения (предварительно его обнаружив). Тут же создать парализующее поле вокруг крейсера и, не дав противнику ни секунды на размышление, ответить на его волне противофазой превосходящей мощности. И вдобавок скоординировать работу трёх чужих блок-универсалов по одной цели в едином режиме! Как?!
Понимаете, — она теперь обращалась не к Вельяминовой, а к Басманову с Удолиным, — то, что будто бы проделало это юное дарование, можно сравнить… — Сильвия на мгновение задумалась, подбирая доступную аналогию. — Ну, как если бы курсант авиаучилища, слетавший пару раз на реактивном истребителе с инструктором, вдруг оказался на фронте, взлетел самостоятельно на незнакомой машине, сбил несколько вражеских асов и благополучно вернулся на свой аэродром. Представляете?
Басманов представил. И проникся ещё большим уважением к девушке-поручику. Кивнул ей ободряюще из-за спины Сильвии. Да и профессор подмигнул, пользуясь случаем налил себе ещё. Для стимуляции процессов, примитивной, на его взгляд, логике аггрианки недоступных.
— И не такое случалось, — спокойно сказал полковник. — Мне отчего-то вспомнилось то, каким образом ты, леди Спенсер, в наш круг вошла. Будем продолжать или обратимся к более насущным вопросам? Обед ждёт, гость ждёт, а порассуждать и потом можно, в более подходящих условиях.
— Согласен, — поддержал его Удолин. — В форте я с моими коллегами гарантирую полную защищённость. Мы с ребом Товом сумеем наладить «щит царя Соломона»…
Сильвии не очень хотелось вспоминать[178] историю, когда она одномоментно проиграла всё, ради чего служила чужой (теперь и для неё) цивилизации и идее, проиграла обычным, не имеющим ни блок-универсалов, ни Шаров людям. Зато — приобрела невиданную свободу и массу возможностей, о которых не могла и помыслить в своей прежней должности. Но, по известному закону, поражение до сих пор вспоминалось тяжелее, чем радость от последующих выигрышей.
— Можешь что-нибудь толковое ответить, а, Настя? — спросил Басманов, одним этим «а», вставленным в обычную фразу, показывая, что он — на её стороне. Независимо от всего остального.
Анастасия благодарно улыбнулась.
— Видите ли, Сильвия Артуровна, вы всё очень правильно говорите.
Вельяминова чувствовала за собой поддержку «брата» Басманова, не здесь находящихся Ляховых, Воронцова с Натальей Андреевной, то ли старшей сестрой, то ли названой матерью, и, сверх всех, — Новикова. Он научил её тому, что забыть никак невозможно. Если б забыла — так и осталась бы никчёмным «номером».
— Я не могу объяснить того, что случилось. Вы, может быть, лучше меня во всём разберётесь. Я, когда блок-универсал получила, очень старательно его изучала, тренировалась. Но не только в этом дело. Просто, когда всё началось, я сразу очень захотела, чтобы у меня получилось! Как Андрей Дмитриевич это называл — попробовала собственную мыслеформу создать. Удивительно, но вот сумела, кажется. И прошлый раз, — вдруг словно вспомнила она, — когда нас «медуза» расстреливала и Лихарев на перевороте закричал: «Всё…!» — я тоже очень захотела, чтобы мы вывернулись. Представила, будто я за пультом: вот сейчас бы скорость на полный форсаж, полупетлю и в отвесное пике… Через секунду увидела, что «медуз» больше нет, а внизу мелькает «другая земля».
— Надо же, — только и сказала Сильвия.
Это что получается — девчонка смогла то, что не удаётся ни ей самой, ни большинству членов «Братства»? Интересное открытие. Каким вдруг образом среди вполне стандартных, из обычных человеческих клеток выращенных заготовок получилась такая вот Анастасия? Неконтролируемая мутация уже в инкубаторе на Таорэре, или случайно попался генетический материал от латентного «кандидата в Держатели»? Такого же, как Новиков или Шульгин?
— А вы что по этому поводу скажете, Константин Васильевич? — обратилась она к Удолину. — Ещё один маг и медиум среди нас появился?
— Несомненно, что-то магическое здесь наверняка присутствует. Выяснить подробно — потребуются специальные исследования, а это дело не одного дня. С такими проявлениями спонтанного прорыва за пределы общедоступных возможностей мне приходилось сталкиваться неоднократно. Чаще всего такие феномены носили одноразовый характер. Вызывались сочетанием особого душевного состояния, как только что у Анастасии, с фактором синергии[179]. Слишком много сил, полей, воль да просто возмущений эфира сошлось мгновенно в одной точке. Я ведь пока ещё не выяснил даже, как сработала моя пентаграмма на острове, какие вербальные… — На лице Удолина отразился внутренний свет очередного гениального озарения.
Он сообразил, что до сих пор не озаботился проверить, какие именно заклинания произносили или могли произнести его помощники в момент атаки. Они не хуже него умели чувствовать деформации астрала и должны были использовать, по обстановке, все доступные им методики, от древнешумерских до самых современных, включая пресловутый «Белый тезис» Бен Бецалеля (из ныне живущих молодых магов Земли знакомый, пожалуй, только ребу Тову). Но не здесь же об этом говорить.
— Пока одно могу предположить — эта девушка не обязательно ваша.
Вопреки его намерению, в голосе прозвучали нотки радости и даже торжества.
Удолин имел в виду, что не к породе рационалистов, вроде Шульгина, Новикова и Антона, принадлежит Анастасия, а к почти исчезнувшему за последние триста лет (после Калиостро) виду истинных магов. Как ортодоксальные иудеи всё ждут и ждут своего Машиаха, так профессор ждал появления ученика — продолжателя его дела. Оттого он так безоглядно и безрассудно присоединился к «Братству». Увидел в братьях нечто очень близкое. Близкое, вплоть до способности выходить в астрал, но — «не то», вроде как «плотники супротив столяра». Таким образом соотнося себя с друзьями, профессор понимал — «выбирать всё равно не из чего». А тут сверкнул проблеск надежды!
Эта девушка — вдруг да родилась от кого-то, предназначенного стать магом, но не ставшего просто по причине отсутствия рядом учителя? А способность свою он (или она) дочке передал на предгенетическом ещё уровне.
Здесь Удолин и Сильвия «пересеклись мыслями», но — взаимоперпендикулярно. Аггрианке как раз очень не хотелось, чтобы Анастасия оказалась другой. С прежней иметь дело гораздо проще.
Константин Васильевич мгновенно отработал «полный назад». Что умел делать так же мастерски, как Воронцов или капитан Белли на своих кораблях.
— Не ваша, милая Сильвия, потому что она сегодня не по науке действовала, не понимала этих ваших механизмов, на каковой факт вы сами же первая и обратили внимание. Или от сильных чувств интуиция у неё так усилилась, или, действительно, мои и моих коллег заклинания подобным образом ей, да и не только ей, помогли. Знаете ведь постулат: «После этого не значит — поэтому»? Возможно, портсигарчики ваши вообще ни при чём. Гордитесь, что этот крайне важный феномен вы заметили раньше меня, что означает вашу изумительную проницательность…
Но Удолин не был бы самим собой, так вот просто признав превосходство, даже в тактическом смысле, собеседницы, много лет ему знакомой.
— Однако, как нам всем тоже известно, сферы наших познаний и способностей неконгруэнтны. Я правильно употребил этот термин? Так что давайте изучать выявленный нами феномен каждый со своей стороны. Тем более, в отличие от меня, вам есть с кем посоветоваться. Всё, что следует, мы узнаем очень скоро. Или же — никогда. Такое у меня ощущение.
И, чтобы прекратить ненужный ему сейчас разговор, сделал вид, будто только сейчас вспомнил.
— Мы ведь оставили наших друзей одних уже более чем на двадцать минут. Они могут заскучать и обвинить нас в невежливости. Как минимум. Так что давайте вернёмся к общему столу. А вы, милая, — это он уже лично к Анастасии обратился, — постарайтесь на время забыть о том, что сейчас говорилось. Непонятные вам вещи, да вдобавок превратно истолкованные, не приближают к истине, но нарушают душевное равновесие. Хорошо?
— Хорошо, — согласилась девушка.
За общим столом было не то чтобы очень весело, но и особого уныния не чувствовалось. Уваров, как мог, развлекал «валькирий», ухитряясь при этом вести светскую беседу с Ибрагимом. Лишь время от времени посматривал в сторону помещения, где, непонятно зачем, уединились старшие товарищи с Настей. Очевидно, что какие-то претензии возникли именно к ней. Его, как руководителя операции, пригласить не сочли нужным.
Валерий понимал, конечно, что сейчас там разбирают вопросы, далеко выходящие за пределы его компетентности, но всё же…
Катранджи со своим умом, опытом и интуицией думал аналогично. И в меру сил подыгрывал подполковнику, симпатия к которому в значительной мере подогревалась тем, что Валерий занимал трудно адаптируемую к восточному менталитету должность командира целых трёх взводов таких прелестниц, встретить которых что на узкой дорожке, что на большой дороге он не пожелал бы никому. Впрочем, это чисто русская конструкция, не грамматически, а психологически. «Никому бы не пожелал!» Переключившись на свою истинную восточную сущность — любому из своих врагов очень бы даже пожелал встречи с каждой из сидящих напротив него девушек, — и не выразил бы по итогам этой встречи никакого сожаления. Впрочем, это уже приходилось наблюдать в Одессе.
Значит, нужно быть человеком выдающихся способностей, и не только командирских, чтобы подобные женщины соглашались выполнять приказы мужчины-офицера не просто под давлением дисциплинарной или какой-нибудь другой ответственности, а от всей души, даже с обожанием.
В таких вещах Ибрагим разбирался. Убедился в том, как девушки к Уварову относятся, и в Одессе, да и сегодня тоже. Попросту говоря, он Валерию завидовал. Ему самому, он понимал, подобного никогда не добиться. Что бы там ни случилось впереди, как бы ни сложились отношения с покорившей его сердце Кристиной, ни он, ни она никогда не забудут, кто кого второй уже раз спас, рискуя жизнью. И, значит, Ибрагим (или даже Иван) для неё никогда не станет хоть слегка похожим на бравого подполковника, пусть того завтра хоть в рядовые разжалуют.
Если только Катранджи не представится случай расплатиться по-настоящему, не деньгами, а поставив за неё на кон собственную голову. И выиграв, разумеется, иначе… Да что тут говорить!
Усевшийся рядом с Ибрагимом Удолин первым делом заполнил свою тарелку множеством соблазнительных закусок из ассортимента русской, турецкой, иных малоазиатских и ближневосточных кухонь. Басманова, знавшего профессора почти с незапамятных времён, всегда удивляло странное, на его простодушный солдатский взгляд, несоответствие между надмирностью Удолина, его причастностью к высшим тайнам духа и подчёркнутым, почти вызывающим чревоугодием. Ему бы, как истинным мудрецам, стремящимся к просветлению, тем более — достигшим его, довольствоваться горстью жареной ячменной муки, акридами[180], сушёной рыбой, глотком родниковой воды. А этот ест и пьёт, как Гаргантюа или Лукулл[181] в свободное от сражений время.
Так Михаил и спросил, чтобы отвлечься от глобальных проблем.
— Вы, милейший, ничего не понимаете и смешиваете совершенно разные вещи, — ответил профессор, помахивая перед лицом Басманова серебряной вилкой для паштета. — Умерщвление плоти практикуется в совершенно других целях и лишь на первоначальных подступах к раскрытию потенциала личности. Большинство взыскующих ни до чего путного так и не добираются, повиснув на нижних ступенях верёвочной лестницы, образно выражаясь. Истинная же власть над духом и материей требует огромного количества энергии, а это, — он проглотил паштет и обратил внимание на блюдо с мидиями по-гречески, — наиболее удобный и приятный способ её пополнения. Не хотите же вы, чтобы я перешёл на фотосинтез?
Сделал обиженное лицо, указал официанту на бутыль с чёрным хиосским вином и бокал приличной ёмкости.
Все засмеялись. Представить себе Удолина, обходящегося подкожным хлорофиллом, было трудновато.
Константин Васильевич, отдав первый долг мастерству здешних поваров, начал задавать Ибрагиму хитро построенные вопросы, касающиеся личных ощущений того во время инцидента.
— Я понимаю, что вас интересует, но должен разочаровать — не почувствовал совсем ничего трансцендентного[182]. Ни внутреннего голоса, присущего шизофреникам, ни мистического страха или, напротив, божественного откровения. Простейшая рефлекторная дуга: «угроза — ответ». В данном случае ответ был не самым героическим, но инстинктивно единственно возможным. Не можешь защититься — беги.
— На фронте бегущих убивают значительно чаще… — меланхолично заметил Басманов. — В справедливости этой истины вы только что едва не убедились на собственном примере.
— Но ведь не убедился же, — нашёлся Катранджи. — В любом случае, господа, позвольте мне произнести тост[183] за людей, которые исполняют свой долг, не поддаваясь заложенным природой инстинктам…
И говорил долго и цветисто, не оставив без славословий никого из присутствующих.
Далее обед продолжился так, будто ничего экстраординарного вообще не случилось. Нашлось достаточно сравнительно нейтральных, всем интересных тем. «Валькириям» очень интересно было послушать воспоминания Басманова о Мировой и Гражданской войнах, особенно о действиях «белых рейнджеров», в коих они справедливо видели своих прямых предшественников. Михаил Фёдорович действительно рассказал девушкам много интересного.
Особенно ему было приятно, что чудесные девицы слушали его по-настоящему! Не из вежливости, требующей время от времени скрывать зевок скуки китайским веером, а как настоящие молодые офицеры, только что прибывшие на фронт под Сморгонь[184], желая почерпнуть ту информацию, которая позволит выжить и исполнить свой долг.
Басманов вдруг почувствовал непривычное, как бы лучше выразиться, размягчение в душе. Сколько у него, со старших курсов училища, в незабвенных тринадцатом-четырнадцатом годах было моментальных, ничем не кончавшихся влюблённостей, а на войне — ничего не значивших женщин, просто так или за деньги скрашивавших короткие промежутки между боями. Когда просто инстинктивно, выжив вчера и не зная, выживешь ли завтра, стремишься, подобно первобытным предкам, передать куда-то в будущее свой генетический код. И после выигранной войны всё катилось по той же колее. Его восхищали женщины «Андреевского братства», но все они были не для него. Прекрасные, слов нет, но каждая со своим мужчиной, да и в остальном… Для него оставались милашки севастопольского полусвета и барышни на выданье из харьковских салонов, где приходилось появляться по должности и положению.
Честно сказать, Михаил давно поставил на себе крест. Не с его натурой и биографией изображать «молодого Вертера». И буквально только что случилось… Нет, ничего пока не случилось, просто у тридцатитрёхлетнего полковника с опытом столетнего старца (пусть кто-нибудь попробует сохранить юношескую свежесть чувств, пройдя с боями от тысяча девятьсот четырнадцатого до две тысячи какого-то — и обратно!), только что познакомившегося с прекрасными девушками и, одновременно, кадровыми офицерами, кое-что сместилось в восприятии собственных жизненных перспектив.
Он, давно считая себя профессиональным, с десятилетнего возраста, солдатом, находивший радость и почти счастье при виде того, как выпущенная по его установкам шрапнельная очередь накрывала целую колонну немцев, австрийцев или «красных», был уверен — ни одна женщина его в этом качестве не способна по-человечески полюбить. Они смотрели прежде всего на его погоны и прикидывали перспективы дальнейшего карьерного роста, со всей вытекающей из этого пользой для них.
И тут (как и всю практически начавшуюся заново после стамбульской эмиграции жизнь[185]), «Братство» подарило ему очередной шанс. Вот они — девушки, прекрасные, как грёзы Северянина[186], умные, как выпускницы Высших Бестужевских курсов, и — настоящие, «без дураков», солдаты. Такого не бывает, вернее — подобного он не мог себе представить. И вот…
Каким огнём любопытства и восторга вспыхивали глаза девушек совсем другого времени и культуры при рассказе о героической контратаке Первого Нерчинского полка против Добровольческой студенческой дивизии немцев. Бравые, исполненные идеализма и германского духа парни, воспитанные в своих гейдельбергах[187] на Гейне, Гёте, Канте и Фихте (Гёльдерлине[188], пожалуй, тоже), пошли в штыковую атаку на русские позиции. В рост и с песнями. Шли — первый полк в ротных цепях, выставив перед собой длинные «маузеры» с ножевыми штыками, второй и третий — в батальонных колоннах, для развития успеха. Шли романтики и эстеты, поклонники идеи «чистого разума» и «категорического императива» из «Баварии весёлой, из Тюрингии зелёной, из Вестфалии дубовой…», чтобы смять, сокрушить, втоптать в совершенно ненужный «русским свиньям» чернозём этих мужиков в серых шинелях, едва ли умеющих читать, не знающих Оссиана, Ницше и Гегеля, но владеющих необходимым «арийцам» лебенсраум[189]. Великой Германии нужны пахотные поля, места под фермы, замки, майораты, новые заводы. А эти «недочеловеки», странно похожие на людей, должны быть уничтожены и будут уничтожены, прямо сейчас! Проблемы гуманизма обсудим позже, когда вернёмся в свои аудитории и библиотеки.
Первую линию «колючки» и окопов, честно сказать, они отважно прорвали под шквальным пулемётным огнём. Басманов стискивал зубы и матерился, не выбирая слов, наблюдая эту «патетическую ораторию». У него на ствол было всего по двенадцать шрапнельных снарядов! Пушки уже разворачивали, сняв передки, чтобы в последний момент ударить «на картечь» в упор. А там — как выйдет. Были ещё «наганы», «бебуты»[190], банники.
Тут, выждав момент, из окопов второй линии поднялся единым порывом, в полном составе Нерчинский полк, составленный из тех самых «свиней» и «недочеловеков». С трёхлинейками наперевес, с подпоручиками и прапорщиками впереди, он вломился в немецкие цепи, как кабан в камыши. Стреляли, кололи штыками, били прикладами, тычком и наотмашь! Две тысячи человек против десяти или двенадцати тысяч. Но в такой стычке ничего уже не значили даже пулемёты, не говоря об артиллерии. Это была безоглядная сеча, лоб в лоб. Русские солдаты просто работали. Как на покосе, как на лесоповале. «Идей» у них не было, кроме как «За бога, царя и Отечество». А «немцы» — они всегда немцы. Что при Александре Невском, что сейчас. Вас к нам звали? Ах, нет! Ну и получайте!
Только вперёд, только штыками и прикладами! Винтовку в разгар рукопашной не перезарядишь.
И вот всё о немецких «героях»! Через двадцать минут (Басманов засёк по привычке на своём хронометре «Буре») не потерявшие плотного строя роты нерчинцев занимали брошенные в панике немецкие окопы, добивая штыками и гранатами добровольцев второго эшелона.
А ждавший нужного момента за флангом пехоты Отдельный восьмой Донской полк, преодолевая горы трупов, сразу перешёл в преследование обратившихся в повальное, даже непристойное бегство батальонов третьего немецкого полка. До предела физических возможностей конского состава. Люди отчего-то значительно выносливее лошадей.
Тут и Басманов положил, куда надо, всё свои снаряды, даже из передков[191]. Ни одним не промазал. Слишком долго ждал решающего момента. За этот бой поручик получил свой третий орден, «Владимира» с мечами и бантом.
— Ах, как жаль, — сказала голубоглазая шатеночка Марина Верещагина, — нас там не было! Уж до штаба корпуса мы бы точно добрались! Хоть верхами, хоть бегом. И… — Она не продолжила, просто очаровательно улыбнулась.
Улыбка, естественно, адресовалась Басманову. Они вдруг на лишнюю секунду пересеклись взглядами, и у девушки, одновременно с сердечной паузой, мелькнула мысль, что этот то весёлый, то задумчивый полковник с удивительной судьбой мог бы стать её мужчиной. Станет — не станет, отдельный разговор, но она сегодня же предупредит Марию и Ингу, чтобы не мешали, пока она попытает счастья.
— Да если б вы, мадемуазель, тогда на позиции моей батареи оказались, мы б вас на руках до немецкого штаба донесли, — галантно приложил ладонь к сердцу Басманов. А сам подумал, что хотя он всё знает и понимает об этих девушках и никак не вправе их осуждать, есть что-то неправильное в сочетании милой улыбки Марины и чересчур уж демонстративного сожаления об упущенной возможности поучаствовать в одной из самых кровавых мясорубок, что запомнились Михаилу.
Ибрагима больше занимали вопросы геополитики и финансово-промышленного базиса странным для него образом устроенного здешнего мира. Его просвещением занялась Сильвия. Удивительно, но как женщина она его совершенно не заинтересовала. Ту в первый момент такое безразличие даже слегка задело. Очевидно, для её психотипа, несмотря на громадный жизненный опыт и полную удовлетворённость своим социальным и сексуальным статусом, восхищённые, а то и сразу раздевающие взгляды почти каждого из посторонних мужчин давно стали катализатором выброса в организм дополнительной порции эндорфинов[192].
Потом она сообразила, что турок, как и большинство известных ей мусульман, испытывает гормональную недостаточность и нуждается в дополнительных стимуляторах. Не зря же они предпочитают совсем юных девушек, а собственных женщин закутывают с головы до ног. Чтобы было о чём помечтать, воображая, какие прелести скрываются под паранджой. Из этой же оперы «танцы живота» и вообще вся «гаремная культура».
На самом же деле Ибрагим сразу угадал в ней англичанку, а по историческим причинам представители обоих полов этой нации тёплых чувств у него не вызывали.
Вести дела — пожалуйста, но и не более.
А Удолин продолжал ментаскопирование Катранджи, молчаливое и неощутимое субъектом с самой тонкой организацией, если он сам не является магом, конечно. Он понимал, что с этим человеком придётся работать и впредь, для чего нужно выявить специфику его материального, тонкого, эфирного и прочих тел.
И никто из присутствующих, даже Удолин, не ощутил начавший сворачиваться вокруг них кокон пространственно-временных полей. На этих волнах его органы восприятия не работали.
Южный вечер, как положено, быстро перешёл в непроглядную ночь, на территории военно-морской базы, чуть не ставшей центром рукотворного катаклизма, освещённой сотнями мощных фонарей, всё было уже настолько спокойно, насколько это вообще возможно на подобном объекте. Служба шла, как положено, в двадцать ноль-ноль на кораблях спустили флаги, сыграли «Зорю с церемонией», команды приступили кто к отдыху, кто к предусмотренным нарядами и регламентом работам. Небольшое скопление санитарных машин у трапов «Гебена» давно рассеялось. Большинство личного состава базы вообще не подозревало, что произошло нечто экстраординарное, а кто что-то и услышал, но не обратил особого внимания, раз даже без жертв обошлось.
Делать в ресторане, да и вообще в городе, больше было нечего. Разве в ночное кабаре или варьете отправиться, но эта идея никого не заинтересовала. Уваров решил, что можно и возвращаться на Мармор. День выдался слишком длинный и богатый впечатлениями. Завтра утром подъём для всех, кроме себя, он решил отменить. Всё равно за здешнюю часть операции отвечает Басманов.
Вызванная по радио из гидропорта летающая лодка, едва слышно работая водомётными двигателями, предназначенными специально для маневров по акваториям, остановилась в полумиле напротив мыса. Вся компания переправилась на неё имевшимся при ресторане комфортабельном катером (многие гости любили сочетать застолье с ночной прогулкой и купанием в открытом море).
Девушки приникли к иллюминаторам, любуясь роскошной панорамой ночного Царьграда, а прочие продолжили прерванную беседу. Сильвия решила пока в Москву не возвращаться, тоже дождаться утра на острове, а за это время собственными средствами попробовать выяснить, с каким именно явлением им пришлось столкнуться. Пяти девчоночьих Шаров, особым образом соединённых в единый «процессор», ей должно вполне хватить, чтобы разобраться в «загадке природы». Удолин же больше полагался на предстоящее совещание со своими магами. Те наверняка должны были, каждый по своей методике, зафиксировать и оценить параметры «явления», и совместной медитацией профессор надеялся постичь его природу. Если, конечно, в многотысячелетней истории чародейства и колдовства встречалось что-то подобное.
Примерно на половине пути Удолин ощутил смутное беспокойство. Сначала ему показалось, что его пытается нащупать ментаизлучением один из магов, чтобы передать какое-то сообщение, но характеристики вызова были совершенно незнакомы, и он немедленно от них отгородился отражающей завесой. Теперь уловленные им сигналы должны были вернуться к отправителю в искажённой форме, не позволяющей определить ни местоположение, ни свойства объекта.
Он поднял руку, чтобы сообщить Сильвии о новом контакте с «чужим», но не успел ничего сказать. Из-за шторки, прикрывающей коридорчик к пилотской кабине и техническим отсекам, появился второй пилот с погонами флотского лейтенанта.
— Господин полковник, — позвал лётчик Басманова, — вас командир просит.
Одновременно от иллюминатора обернулась Анастасия, за ней другие девушки.
— Ничего не видно! Мы в густой туман вошли? Как же будем садиться?
— Гидроплану туман не помеха, — улыбнулся смотрящей на него огромными глазами красавице лейтенант. — На воду всегда сядем, лишь бы не шторм, — и повлёк Басманова за собой.
— Мне это начинает не нравиться, — сказала Удолину Сильвия. — Давайте-ка рокировку устроим — прямо отсюда и на «Валгаллу». Девочки, приготовьте блоки. Переход на стандартных установках, по моей команде…
— Вместе с самолётом? — успела спросить Вельяминова, уже держа в руке мгновенно извлечённый из бокового кармана платья портсигар.
Канал к пароходу должна была обеспечить Сильвия, у неё все настройки были на «горячей кнопке», а «валькирии» — сработать на подстраховке, своими блоками усиливая поле и подавляя возможность «наведённой турбулентности». Такие случаи, при внезапно возникшем мощном противодействии взбаламученного Ловушками Сознания эфира, в практике Сильвии бывали, пусть и крайне редко. Последний раз — когда она перебрасывала Новикова из своего поместья на Таорэру[193]. Тогда они с Андреем почти заблудились в переплетении псевдореальностей, у каждого своих, а сумели выбраться из них и встретиться только потому, что на Главной Базе ещё работали стационарные генераторы хроносовмещения, настроенные Дайяной именно на них двоих. Они и удержали слабый, в сравнении с мощью Ловушки, межвременной проход, буквально притянули к себе, как сильный электромагнит, их развоплощённые в момент перехода «стабильные структуры» личностей.
То же самое, теоретически, могло случиться при каждом использовании левашовской СПВ, отчего Олег предпочитал, по возможности, дублировать работу «полевых терминалов» включением базового, установленного в недрах парохода и обеспеченного всей энергетической мощью «Валгаллы». А в «угрожаемые периоды», которые с помощью Удолина они научились достаточно точно предвидеть по «вибрациям астрала», вообще избегать всяких перемещений. И всё равно эти упражнения оставались разновидностью «русской рулетки» или трюка, что Шульгин любил демонстрировать окружающим в период своего увлечения мотоциклом — проезд (иногда только на заднем колесе) по бревну или двутавровой балке через широкий овраг.
Вдруг в иллюминаторы гидроплана ударил яркий солнечный свет.
— Поздно, — сказала Сильвия, опуская портсигар. — Не сработало. Нас занесло очевидным образом «не туда». Начинается «второе действие»…
— И без всякого антракта, — согласился Удолин, отвинчивая колпачок фляжки неприкосновенного запаса.
Внизу, полукилометром ниже, искрил солнечными бликами серовато-зелёный океан, ничем не похожий на Мраморное море. Отчего-то сразу было понятно, что это именно океан, есть между ним и самым большим внутренним морем неуловимое, но явное отличие.
Самолёт слегка опустил крыло, входя в разворот, у горизонта показалась тёмная полоса берега и нечто вроде скопления остроконечных скал, смутно различимых в дымке испарений.
— Похоже, это место мне знакомо, — сказала Сильвия с оттенком странного облегчения в голосе.
Девушки молчали, глядя на своего командира. Раз случилось нечто экстраординарное, нужно сохранять спокойствие и ждать приказа. Не так уж давно с ними случилось нечто подобное: полёт на флигере, внезапный переход в другую реальность. И ничего страшного не произошло, скорее наоборот. Тем более сейчас с ними и Сильвия, и Удолин, и два полковника. Может быть, вообще так всё и задумано, и не обер-офицерское дело — требовать от старших разъяснений.
Зато возмущаться и требовать разъяснений начал Катранджи. Если они летели не на Мармор, а в другое место, так надо было предупредить. Он, в конце концов, достаточно значимая фигура, хоть по дипломатическим, хоть по любым другим меркам, чтобы его таскали по всему миру и окрестностям, да ещё с бесконечными покушениями и нарушениями элементарнейших правил этикета. Ибрагим так разволновался, что начал путать подобающую его нынешнему сану и рангу фразеологию с той, что усвоил в студенческие годы в Петрограде. Даже несколько матерных слов проскочило, никого, впрочем, не шокировав. Девушки-«печенеги» вне строя и не такое себе позволяли, остальным было просто не до этого.
Через две или три минуты вернулся Басманов. Лицо у него было напряжённое, но в целом спокойное.
— Залетели мы неизвестно куда, — ровным голосом сообщил он. — Компас крутится бессмысленно и равномерно. Хорошо, высотомер работает и берег виден. Неизвестный голос предложил командиру визуально ориентироваться на горообразования прямо по курсу. Там якобы имеется подходящее место для посадки. На другие вопросы не отвечает.
Пока полковник отсутствовал, девушки прямо здесь, в общем салоне, за полторы минуты переоделись из летних платьев в боевую одежду, предусмотрительно уложенную в походные ранцы с оружием и прочим снаряжением. Никто, кроме Катранджи, на эту мгновенную трансформацию и внимания не обратил. А он зафиксировал в памяти секунды, когда его вожделенная Кристина, нагнувшись и демонстрируя едва прикрытые трусиками округлые формы, натягивала на себя плотные брюки комбинезона. И остальные девушки совсем не думали о том, что ведут себя «недозволенно». Наличие «вторичных половых признаков» не имело никакого отношения к службе.
— Не к Антону ли в гости нас приглашают? — задумчиво сказала Сильвия, а Удолин, не теряя весёлого оптимизма, немедленно предложил Катранджи сделать глоток-другой для успокоения, пообещав, что если действительно к Антону попали, скучно здесь не будет.
— Кто такой Антон? — резко спросил турок, одновременно как следует приложившись к фляжке, формально карманной, но емкостью в добрые пол-литра.
— Один наш старинный приятель, не лишённый странностей, но в целом вполне порядочный человек. Есть такое выражение — «забытые боги». То есть выжившие после того, как исчезли посвящённые им религии и, главное, поклонявшиеся им люди. Я имею в виду не тот случай, когда какие-нибудь хетты или моавитяне смешивались с соседними племенами и перенимали их вероисповедания. В таком варианте всегда остаются потомки бывших жрецов, какие-то тайные секты, предания, пусть искажённые и модернизированные, но всё же… А когда «субстрат» культа перестаёт существовать вообще… В качестве примера можно привести ту же Атлантиду, — пространно объяснил профессор.
— Так что, ваш Антон — бывший бог атлантов? — с недоумением спросил хорошо образованный Катранджи.
— Нет, это я для примера…
— Может быть, пока достаточно лекций? Окажемся на месте — возможно, у вас достанет времени на целый курс сравнительной демонологии, — раздражённо прервала профессора Сильвия. Она явно считала, что пора брать «бразды»[194] в свои руки. Если действительно их таким образом выдернул к себе Антон, кому же, как не ей? Она знала форзейля лучше и раньше, чем кто-либо другой, даже из первых членов «Братства». А из присутствующих с ним более-менее был знаком только Удолин, да Басманов вроде бы виделся однажды, хотя наслышан был достаточно.
Гидроплан ещё немного довернул вправо и начал ощутимо снижаться, сбрасывая обороты моторов. Пилоты, похоже, разглядели предписанное им место посадки.
— Я пойду в кабину. С окрестностями Замка, если это действительно он, знакома лучше всех. Подскажу что-нибудь или помогу, если потребуется, — она небрежным жестом вновь подкинула на ладони блок-универсал.
— Чем, например? — как-то сварливо спросил Удолин. Ему демонстративная узурпация власти аггрианкой не понравилась.
— Остановлю время, если лётчики в створ не попадут, — отрезала Сильвия, выходя.
— Всем занять места, пристегнуться, — распорядился Басманов, посмотрев вслед леди Си с уважением. — Приводнение может быть жёстким. Чёрт знает, какая там волна, отсюда не видно.
И сам первый выполнил свою команду.
Сильвия встала между пилотскими креслами. Сквозь остекление фонаря уже хорошо видны знакомые детали берегового рельефа и, главное, скалы, за которыми должен бы скрываться Замок.
Пилот покосился на бесцеремонную даму, хотел сказать, что посторонним в кабине, тем более — перед посадкой, делать нечего, но столкнулся с ней взглядом и сразу отвернулся.
Всё старшему лейтенанту в отношении этой дамы сразу стало ясно и понятно. Ну и чёрт с ней, офицера куда больше волновало — куда и как их занёсло, ещё больше — почему это случилось именно с его экипажем? Ладно, первое дело сесть, а там видно будет.
Странно звучащий голос «диспетчера» в наушниках подсказал:
— Ещё пятнадцать градусов вправо. Снижайтесь до ста метров, скорость сто двадцать. Вы на глиссаде…
Через минуту командир увидел косо вытянувшийся на сотню метров в океан брекватер, за ним ещё один, почти перпендикулярный первому, а дальше — просторный внутренний рейд, где могла бы разместиться целая эскадра линкоров. Его гидроплану здесь можно было садиться хоть вдоль, хоть поперёк. Места хватит.
Вода за брекватерами была почти штилевая, ветер благоприятствовал посадке в предписанном направлении, пилоты имели опыт работы в открытом море даже при четырёхбалльной волне. «Буревестник» коснулся океанской поверхности аккуратнее, чем пассажирский лайнер бетонной полосы. Под килем гулко захлюпало, стёкла иллюминаторов покрылись крупными брызгами.
Реверсом первый пилот осадил инерцию тяжёлого воздушного корабля, бортмеханик в нужный момент убрал газ, и самолёт аккуратно ткнулся левым поплавком в кранцы будто для него специально поставленного алого плота-понтона, заякоренного в полусотне метров от протяжённого бетонного пирса. Механик с радистом выскочили на срез палубы, набросили на кнехты носовой швартов, стрелок из блистера на шкафуте подал кормовой.
— С прибытием, мадам, — криво усмехнулся командир Сильвии, так и простоявшей всю посадку у него за плечом. Даже ни разу не потеряла равновесия, чётко, как опытный марсофлот, парируя толчки и крены палубы едва заметными движениями ног и корпуса.
— Вас также. Благодарю за мастерскую посадку. До прояснения обстановки оставайтесь на местах. Без приказа, моего или полковника, никакой инициативы. Понятно?
— Кроме одного — кто вы и каковы ваши полномочия? У нас своё начальство есть. В данный момент — полковник Басманов, как старший на борту.
— В данный момент и с учётом обстоятельств — старшая здесь я. Сильвия Артуровна Берестина, к вашим услугам.
Лётчик невольно подтянулся:
— Берестина?
— Так точно. Жена генерал-лейтенанта и одновременно полномочный представитель штаба Верховного правителя. Подробности вам изложит Михаил Фёдорович. Если сочтёт нужным.
Сильвия вернулась в салон, где все уже толпились перед дверью, открытой на узкую полоску палубного настила между гаргротом пилотской кабины и кормовыми пулемётными блистерами.
— Замок, Сильвия? — неожиданно робко спросил Удолин. Она это отметила с долей гордости. Страшновато даже некроманту стало, в непонятном запутался. И к кому теперь апеллировать? К ней, не так давно потерпевшей в этом Замке своё страшнейшее поражение. Или, наоборот, победу? Сейчас, кажется, в эту сторону дело поворачивается.
— Вон у тех элементов сейчас спросим, — ответила она, указывая на замеченный её острым зрением архаичный джип типа «Виллис», вывернувшийся из-за отсекающей порт от окружающей местности горной гряды. За ним, метрах в двадцати, катился небольшой автобус-кабриолет, вроде тех, что в среднесоветское время возили экскурсантов по Черноморскому побережью, от Сочи до Рицы и Сухуми.
— К торжественной встрече — на караул! Подготовительно, — ёрничаньем подавляя нервную дрожь, сказал Уваров. Он был единственный, кроме «валькирий», кто до сих пор мало что понимал. И при этом оставался прямым и непосредственным командиром своих «девчонок».
— Не шутите, Валерий, — повернулась к нему Сильвия. Но «валькирии» слушали не её. Блок-универсалы не к делу сейчас и лежат в карманах, а вот взятые с собой автоматы девушки действительно привели в промежуточное положение между «на грудь» и «на караул»! Можно и поприветствовать встречающих, и «в капусту порубить» из пяти стволов. Всё от следующей, настоящей команды Уварова зависит.
«Виллис», окрашенный в бледно-оливковый цвет, вместо обычных белых американских звёзд на капоте, обозначенный непонятным чёрно-зелёно-алым вензелем, лихо тормознул на пирсе прямо напротив гидроплана. Между понтоном и берегом было метров сто воды.
«Далековато, — подумал Басманов. — Не вплавь же нам добираться?»
Как бы в ответ на его мысль из-за оконечности пирса на приличной скорости вышел низкобортный широкий катер под голубым тентом. Катер приткнулся к понтону, из него табакерочным чёртиком выскочил мужчина, одетый если не по-дурацки, то всё равно странно. Алый английский двубортный мундир до середины бёдер с шестнадцатью золочёными пуговицами. Синие штаны почти в обтяжку. Абордажная сабля у бедра, треуголка в руке. Цирк, одним словом. Однако девушки, в отличие от прочих, ничему не удивились и автоматов не опустили.
— Господа! — низким баритоном возгласил «циркач», водружая на голову треуголку, стандартным офицерским движением ладони проверив совпадение кокарды с линией носа. — Наш Замок (так и было сказано, с большой буквы), в лице его управляющего Арчибальда Арчибальдовича, рад приветствовать вас в своих пределах. Предлагаю пересесть в это судно…
— Или — судно́, — в тон встречающему вдруг выразился смотрящий на церемонию из верхнего люка второй пилот. Громко сказал, все услышали.
— Комфортабельное плавающее средство, которое доставит вас непосредственно к месту назначения, — не моргнув глазом, принял замечание встречающий. — Прошу! — Он изобразил вообще неуместный в данной обстановке полупоклон в стиле восемнадцатого века.
— Что за бред? — позволил себе опять возмутиться Катранджи.
— Молчите, то ли ещё будет, — сжал ему руку Удолин.
Делать нечего, по знаку Сильвии все начали спускаться по короткому трапу в катер. Только пилоты не изъявили желания покинуть свой «Буревестник».
— Нет, нет, господа, все, пожалуйста, все. За безопасность своего аэроплана будьте спокойны, но на берег должны сойти все.
После короткого препирательства семеро лётчиков тоже потянулись к катеру. Уваров и девушки намётанным взглядом заметили, что повешенные по-флотски, на длинных ремешках, кобуры пистолетов у всех расстёгнуты, и сумки с бортпайками и средствами выживания они взяли с собой. Наверное, правильно.
Старший лейтенант своим ключом запер дверцы и люки (бессмысленная, в принципе, мера, но уставом предусмотренная), шлёпнул ладонью по борту гидроплана, словно по крупу боевого коня, и последним спустился в катер.
Василий Звягинцев НЕ БОЙСЯ ДРУЗЕЙ Том II Третий джокер
А пока — в неизвестном живём
И не ведаем сил мы своих,
И, как дети, играя с огнём,
Обжигаем себя и других…
Глава восемнадцатая
Фёст немного удивился быстрому возвращению Сильвии из Берендеевки — он предполагал, что Император сумеет задержать её там хотя бы на неделю. В способностях «госпожи Берестиной» стать за этот срок абсолютно незаменимой и непререкаемо авторитетной советницей и консультанткой в «альтернативной внешней политике» он не сомневался. Секонд, наоборот, к появлению рядом с Государем сильной (явно сильнее кардинала Ришелье) фаворитки относился слегка настороженно, согласно дворянско-феодальному менталитету, доставшемуся от предков и подогретому причастностью к «пересветам». На подсознательном почти что уровне. Налицо, как говорится, присутствовал конфликт интересов, свидетельствующий о том, что аналог всё ещё не осознал себя (только и единственно) членом «Братства». На него действовала та самая, описанная Азимовым и считавшаяся для «хроноагентов» большим недостатком, на грани профнепригодности, «одержимость временем»[1].
Сам Фёст считал, что особой беды тут нет, иначе просто не бывает, если человек не законченный «безродный космополит», а Азимов это явление осуждал, поскольку сам был из таких же.
Не раз вставал перед Фёстом, тоже подверженным временами «интеллигентским рефлексиям», вопрос, лучше всего иллюстрируемый на примере почитаемого им Штирлица-Тихонова. А как у него обстояло с этой самой «одержимостью»? Всё ж таки ровно полжизни он пробыл немцем, нацистом, до штандартенфюрера дослужился. Что-то ведь «фашистское» ему за эти годы приходилось делать, и делать очень хорошо, и не в комиссии по сбору бытовых отходов, а в СД! Старательность ведь явно была и инициативность, и служебное рвение. Как без этого на службе? Так вот кого в нём больше было, не по книжке, а в жизни — покинувшего Советскую Россию в юном возрасте романтика-чекиста или всё же талантливого специалиста РСХА? Для сравнения — можно представить гуманиста-идеалиста, честным трудом заработавшего «старшего майора» ежовско-бериевского НКВД, сохранив при этом в чистоте свои «белые одежды»? Если только некие «высшие силы» или воля автора не позволят ему заниматься какой-нибудь вегетарианской, абсолютно бескровной работой, позволяющей одновременно быть причастным к государственным тайнам высшей степени секретности.
Такие мысли часто посещали Фёста, ибо ведь «реальная деятельность» занимала лишь несколько процентов его жизни после встречи с Шульгиным, остальное — пусть активная, но праздность.
Когда Сильвия вернулась, она, то ли утомлённая, то ли поглощённая своими мыслями, серьёзный разговор отложила на следующий день. Одобрила удачную тактику Ляхова в вербовке Мятлева, согласилась с тем, что дальше, очевидно, особых проблем с выяснением окончательных позиций президентского окружения не будет. Подчеркнула, что ей удалось успокоить Императора и привести несколько весьма заинтересовавших Олега доводов в пользу необходимости изменить отношение к здешнему Президенту. Просто отнестись к нему как к молодому человеку (хотя на самом деле они были ровесниками), честному, наивному в делах государственного управления, почти случайно выброшенному к вершинам власти. А власть — это ведь совсем не то, что под нею понимают «карьерные чиновники». Не приз в «гонке на выбывание», не повод и не способ какой-то срок чувствовать себя «царём горы»…
Все это Сильвия пересказывала Фёсту отрывочно, в моменты, когда они оказывались наедине в кабинете или изолированных комнатах третьей, настоящей квартиры. Большую часть вечера она сосредоточила своё внимание на Герте и Мятлеве. Вела себя то как строгая тётка, старающаяся понять, что за «жених» появился у племянницы, и «самостоятельный ли он человек?», то как светская дама, уже с точки зрения «общества» прикидывающая, заслуживает ли эта юная девица внимания столь почтенной «особы 4-го класса» (т. е. генерала).
В этом, понимал Вадим, крылся очередной тонкий расчёт (а других у леди Си не бывало), только не совсем ясно — какой, на какую ситуацию спроектированный.
Но иногда она делала Ляхову знак выйти, очевидно точно выбирая момент, когда требовалась «оперативная пауза», чтобы «валькирии» и Леонид осознали или обсудили только что ею сказанное.
В один из таких «перекуров» Фёст сказал:
— Если бы вы с Секондом Олега «дожали», заставили включить «Крест» в список первостепенных государственных приоритетов, а сами стали реальным куратором проекта, получилось бы крайне интересно. Извините меня за дерзость, — при этом Ляхов улыбнулся несколько двусмысленно (а чего стесняться перед женщиной, не так давно откровенно предлагавшей себя в любовницы?), — не будем касаться слишком деликатных моментов, но истории известны случаи… Стань вы как-то легитимизированным наместником Императора в переговорах с Президентом, работать стало бы гораздо проще. Я как раз неделю себе назначил, чтобы свести воедино и консолидировать команду «друзей Президента», после чего выступить с новым «предложением», от которого трудно будет отказаться. Тут и «Чёрная метка» пригодится, благо, есть повод для её активизации.
К случаю рассказал об обиде, нанесённой всему корпусу «честных служак» демонстративным, оформленным с подачи «закулисы», которой именно сейчас потребовалось показать свою силу увольнением авторитетного генерал-лейтенанта.
— Явные успехи делаете, юноша. — Сильвия задумчиво выпустила дым в открытое окно. — След в след за мной идёте. Я за вами обоими наблюдаю — вы своего братца всё очевиднее опережаете…
— Среда выживания у нас с ним разная. Одно дело — Гавайские острова, другое — леса северо-восточной Руси. У нас в десятом веке то охотиться, то избы рубить, то воевать приходилось, одновременно добывая хлеб свой в поте лица, а гавайцы в то же время на пляжах валялись, укрепляя силы кокосами, от нечего делать доску для сёрфинга придумали, на чём и успокоились… Иногда завидую.
— Каждому своё. Я другое имею в виду. Всё, что ты сказал, я как раз и делаю. Угол зрения у нас разный, у тебя мужской, у меня женский, а цель в перекрестье — одна. Завтра мы всем, о чём говорим, займёмся. По-брусиловски[2]: сразу и по всем направлениям. И с «друзьями» встретимся в подходящей обстановке, и с Президентом я пообщаюсь прежним способом, в самый подходящий момент… — прозвучало это достаточно зловеще, хоть и с обычной, одной из сотни, улыбкой. В этом леди Си и Шульгин были похожи — Александр Иванович тоже умел улыбаться по-разному и в самые неожиданные моменты.
Однако, не дождавшись утра, даже не разбудив никого, оставив только обычную, на листке бумаги, записку, Сильвия экстренно отбыла в двадцать пятый год. Неужели и там столь сильная команда без неё не может справиться? Вот уж воистину: «Фигаро здесь, Фигаро там».
Ну, так тому и быть. Пока Сильвия не вернётся (чтобы вместе закрутить околопрезидентскую интригу), Фёст с Секондом, что называется, бегом — туда и обратно, сгоняют к месту прокладки тоннеля «из России в Россию». На месте и лично убедиться, что он в полной мере отвечает возлагаемым на него надеждам, и график выдерживается. А уж тогда, со всеми козырями на руках…
Разговор с Людмилой у Фёста вышел не очень приятный. Она упёрлась, настаивая, чтобы ехать вместе. В конце концов, у неё приказ — непосредственно и постоянно осуществлять личную охрану именно этого вот господина, каковому и намерена следовать. Остальные обстоятельства можно временно не брать во внимание.
— Прежде всего, ты ошибаешься. Последний приказ был совсем не такой. «Поступить в распоряжение для выполнения особого задания». Мы его и выполняем. Я, понятное дело, в данном случае твой начальник и принял решение. Оставить Мятлева наедине с Гертой не считаю полезным. Она должна с ним работать, но самостоятельного дела я ей поручить не могу…
— Почему? Ты ей не доверяешь? Она же тебя спасла, рискуя жизнью, — искренне удивилась Людмила.
— И речи нет, чтоб не доверять. Но пора бы тебе усвоить до предела избитую истину: «Каждый человек необходимо приносит пользу, будучи употреблён на своём месте». У нас в «Братстве» она очень в ходу, пора на знамени или нагрудном жетоне написать. Герта уже в роли. Ей, продолжая охмурять генерала, нельзя проявить хоть на столько вот, — он показал большим и указательным пальцами зазор примерно в полдюйма, — выходящих за рамки легендированной должности инициатив. Дураку всё станет ясно. А вот тебе можно всё. И с Мятлевым от моего имени, даже моим тоном говорить, и с Журналистом встретиться. Я тебе даже тезисы набросаю, как его агитировать и чем…
Не заводись, не заводись, — предупредил он, увидев посуровевшие глаза подруги. — На ножки твои он, конечно, пялиться будет, так для того они тебе и дадены…
— Я думала — ходить, — сделала наивные глаза Вяземская.
— Иногда приходится, — согласился Вадим, — ходить, а также и бегать — это проза жизни. Однако с юных лет помню — если вдруг девушке ветром юбку поднимет, вопрос о том, можно ли с данной конструкцией опорно-двигательного аппарата «сотку» за «одиннадцать и две» сделать, приходил в последнюю очередь. Да и то если ты тренер по лёгкой атлетике.
— Снова тебя понесло, — сказала Людмила, — и отчего-то — в одну и ту же сторону.
— Не я первый начал, — возразил Фёст. — Тем более, наш друг Анатолий к женщинам относится не в пример равнодушнее товарища Мятлева. Ты просто скажешь ему вот это… — он подвинул к Людмиле листок бумаги. — Но главное — чётко и неотрывно наблюдать окружающую обстановку, не допускать провокаций, но и не расшифровывать себя. Блок-универсалом пользоваться только в совершенно безвыходной ситуации. В случае серьёзного осложнения обстановки — отходить сюда, на Столешников. Как уйти в свой реал — ты знаешь. Ещё одно — покажется, просто покажется, что за вами и квартирой продолжают следить, ну, вроде того милицейского сержанта, обратись к нашему консьержу. Я его предупрежу…
— Не думай, что с дурочкой разговариваешь, — отчего-то опять заершилась подпоручик, — мы, «печенеги»…
— Стенд боад[3], если по-английски, — с улыбкой сказал Фёст, — или «ша», по-одесски. Даже могучего викинга можно убить пущенной в щель доспеха стрелой с костяным наконечником. Короче, подпоручик Вяземская, ваша задача исполнить приказанное и встретить меня живой и здоровой. Больше трёх дней я отсутствовать не собираюсь.
— А связь? — спросила Людмила, имея в виду, что и у неё, и у Вадима есть теперь личные блок-универсалы.
— В крайнем случае, — отрезал тот. — Дела вокруг тёмные, и лишний раз ночью костёр разжигать или фары включать не рекомендуется. Так я побежал, меня Секонд на той стороне ждёт.
Возле стойки консьержа Бориса Ивановича Вадим приостановился. После вчерашнего утреннего разговора они не виделись. Обменялись приветствиями, закурили, как у них стало принято.
Ляхов молчал, едва заметно улыбаясь. Отставному майору пришлось заговорить первым.
— Обошлось? — спросил он в безличной форме, как бы безотносительно к чему-либо.
— Похоже, — ответил Фёст. — Но вопросы остаются открытыми.
— Первый — кто это был и какого хрена им требовалось?
— Я видел, как ты к ментам в машину сел, — сообщил консьерж. — И?
— Да эти как раз ничего. Под таксистов сработали. Довезли до места за «рубль». А я, между прочим, на встречу с генералом МГБ ехал…
Говоря это, Вадим ничем не рисковал и никаких тайн не раскрывал. Десятки, а то и сотни «наружников» могли отслеживать каждый его шаг, да и на врождённую скромность оперативников Мятлева рассчитывать не приходилось.
— Понятное дело, — деликатно кашлянул майор прикрывшись ладонью. Наверное, дым не в то горло попал.
— Второе. — Фёст чуть понизил голос, просто чтобы придать своим словам значимость. — Насчёт «метки» как, настроения не поменялись?
— Я уже сказал — лучше с автоматом по сопкам бегать, чем здесь.
— До сопок, даст бог, дело не дойдёт, а первое задание, «не отходя от кассы», примешь?
— Я вообще-то конкретность люблю, — сказал Борис Иванович, — втёмную не подряжаюсь…
— Проще некуда. Я на несколько дней уезжаю. Племянницы здесь остаются. Так продолжай приглядывать. Если за чем обратятся — помоги по возможности. И сам, заметишь что непонятное, подскажи. Вот карточка с телефонами Люды и Герты. Звони в любое время.
Номера на визитке опять были четырёхзначные.
В подкрепление своих слов Фёст неуловимым движением на то же место, не просматриваемое видеокамерой, положил не одну «пятёрку», а пачечку, пусть и не очень толстую.
— На оперативные расходы. Отчёта не требуется, — и счёл нужным пояснить: — У нас принято людям реальные деньги платить. Если в группу примут, там твёрдый оклад пойдёт…
— Так точно, всё будет сделано, товарищ …?
— Вадим Петрович, знакомы ведь уже… Оружие требуется?
— Да есть кое-что…
— Смотри. Надо — и зарегистрируем, и «применение» в случае чего правильно оформим. Ну, бывай, я побежал, время не ждёт.
Секонд подобрал Фёста на углу Петровки, и машина направилась в сторону хорошо укрытого густым лесом спецаэродрома. Оттуда на реактивном четырёхместном разведчике лететь до места было не больше трёх часов.
Как раз сегодня к вечеру планировалось открытие первого в современной истории прямого сообщения между реальностями и вдобавок в каком-то смысле и межвременного тоже, поскольку Фёст никак не мог отделаться от ощущения, что, перемещаясь, он попадает не просто в страну с другим политическим устройством. Сохранялась отчётливая иллюзия, что мир Секонда — бесконечно длящееся прошлое, слишком часто в нём попадались элементы, связанные с самым ранним детством, с тех пор бесследно утраченные.
И вот теперь появится действительно полноценный, постоянно действующий транспортный путь туда, железнодорожный, двухколейный, а рядом можно и хорошее шоссе пустить.
Правда, как такое сопряжение миров проявит себя в долгосрочной перспективе, никто ещё понятия не имел. Тут бы сначала профильному НИИ как следует поработать, все плюсы и минусы рассмотреть, теоретическую базу создать, а потом и подвести. Но в таком случае на реализацию проекта следовало бы отпустить лет тридцать, поскольку ни в одной, ни в другой России профессиональных хронофизиков не имелось. Чтобы их подготовить, Левашову следовало бросить все свои занятия и учредить нечто вроде колледжа собственного имени, где сначала передать группе юных гениев свои отрывочные и в основном интуитивные озарения, затем всем вместе попытаться их систематизировать и формализовать, ну и так далее. Проще говоря, в одиночку, с нуля создать новую высокоточную науку, и только потом…
Правда, Удолин, пусть и профессор, но совсем в другой области, несколько месяцев назад, сразу после открытия латентного прохода, заверял, что ничего страшного не произойдёт. Если какой угодно закон природы существует, то существует априорно, и совершенно неважно, пользуется им кто-нибудь на практике или нет. Неприятности могут быть только у отдельных личностей, оказавшихся объектами приложения данного закона, как, например, закона всемирного тяготения.
— Но это — слишком частный и достаточно примитивный случай. Если же взять законы более общие, как, например, перехода количества в качество или единства и борьбы противоположностей, то…
И потекла бесконечная вязь профессорской мысли, из которой прагматик Фёст сделал вполне буддийский вывод: «Одним словом, в масштабах мироздания или делай что угодно, или не делай вообще ничего — итог один». Так что лучше делать. По крайней мере, это интереснее, чем сидеть сложа руки и ждать, куда оно само повернётся. Опять же — тысячам людей, не знающим, куда свои мозги и руки приложить, интересное и на первый взгляд осмысленное занятие появится.
Тоннель под отрогом Уральского хребта, соединяющий две реальности, был создан то ли природой, то ли неведомыми разумными силами в незапамятные времена и предусмотрительно закрыт с обеих сторон скальными стенками всего лишь двух-трёхметровой толщины. Совершенно грандиозное природное образование более сорока метров шириной, от пятнадцати до двадцати высотой, длиной же всего около трёх километров. Подобных пещер в мире не слишком много, доступных для обозрения — наперечёт. И каждая, вроде Новоафонской, например, таит странные секреты.
В той, говорят не просто местные жители, а учёные-спелеологи, время течёт в десятки раз медленнее, чем на поверхности. Обычным туристам, проводящим в лабиринтах сталактитов и сталагмитов час-другой, это незаметно, а те, кто профессионально работает там годами, включая обычных экскурсоводов, выглядят на десять, а то и двадцать лет моложе своих ровесников.
В этой пещере, а точнее всё же тоннеле, поскольку весь он проходил выше уровня окружающей местности, как и в любом другом подобном образовании, уже известном «Братству», ровно посередине его длины горная порода прорезалась кольцом чистейшего самородного золота. Разной толщины и диаметра, никак не связанным со свойствами самого прохода. Например, на пути из Израиля в Новую Зеландию (гигантское расстояние плюс временно́й шаг в восемьдесят лет) золотая прослойка не превышала метра, в Южноафриканской пещере дагонов золота было гораздо больше, но межвременного перехода исследователи не обнаружили. Возможно, он и есть, ведущий в географический и хронологический Древний Египет, только не для всех.
А здесь толщина пласта драгоценного металла просто поражала. Почти десять метров шириной и около двух — глубиной. В самом приблизительном пересчёте (кому нужно, посчитали точно), золота здесь было больше ста тысяч тонн. Чистейшего, девяносто шестой пробы, не нуждающегося в аффинаже, вообще каких-то технических ухищрениях для добычи. Подходи с кайлом или перфоратором и руби сколько хочешь.
— Наверное, так и задумано кем-то, — сказал Секонду Удолин, когда с помощью Маштакова его некромантская команда проникла в земные недра, подражая героям Жюля Верна. — Любые изыскатели, добравшиеся до этого «кольца», тут бы и остались. Никто бы живым не ушёл…
— Это вы, Константин Васильевич, отчего-то на «просвещённых европейцев» равняетесь, разных там англо-американо-испанцев. Это тех «золотая лихорадка» не хуже холеры поражала. А открой это месторождение какой-нибудь армейский географ вроде князя Кропоткина, капитана Арсеньева, да хоть бы и будущего Великого князя Олега Константиновича, спокойно бы всё на карту занес, образцы взял и по начальству представил. Грамма бы никто не присвоил, разве что в виде сувенира.
— Может быть, вы и правы, Вадим Петрович, — согласился профессор. — Только устроители этой штуки явно не на ваших «рыцарей без страха и упрёка» рассчитывали.
— Ни на кого они не рассчитывали, — оставил за собой последнее слово Ляхов. — Это небось ещё во времена трилобитов образовалось.
Как бы то ни было, взорвать каменную преграду со стороны Екатеринбурга служащим «Императорского корпуса военных инженеров» труда не составило. Затем тоннель прошли некроманты, ощупывая всё вокруг известными им методиками. Сразу за ними — оба Ляховых, Секонд и Фёст в качестве тех самых канареек, что брали с собой в забои старые горняки. Лишь они из нормальных людей (хотя можно ли двух аналогов так называть с чистым сердцем?) без всякой подготовки сумели успешно миновать израильско-новозеландский тоннель, да и к «боковому времени» отношение имели, причём каждый своё.
Оттого профессор Удолин, во всяких таких «мистических штучках» ощущавший своё полное превосходство над «умными мальчиками» типа Шульгина с Новиковым, со времён его спасения из лап Агранова вслух и в лицо членам «Братства» свой статус обозначать избегал. Решил посмотреть, что сейчас у этих получится. А он… Ну, что он?
Профессор всегда думал, что Александр Иванович более склонен к бестактностям, чем рафинированный Андрей Дмитриевич. Но именно Новиков как-то спросил, видимо притомившись от профессорской трепотни: «Какого же ты … такой весь из себя, в камере сидел, пока мы тебя оттуда под пулями не выволокли? Махнул бы себе, как ты якобы умеешь, в любимый XV век и у „прекрасных стен Гренады“ тамошнюю чачу с маврами жрал! Что-нибудь из трудов Аверроэса[4] с раввинами обсуждал. Или лично с ним. И никакого „исторического материализма“».
— Какой XV? XIX век тогда был. А от Агранова я вырваться никак не мог. Те страницы каббалы[5], которыми он пользовался, из моих собраний таинственным образом исчезли…
— Хороший был мистик, — без всякой иронии ответил тогда Новиков, — а супротив «нагана» и он ничего не смог…
— Только отчего-то «наган» на него подействовал только в ваших руках. В других — увы, — возразил Удолин.
Как ни лестны были Андрею эти слова, ради поддержания справедливости он заметил, что в реальной истории Яков Саулович принял смерть тоже от револьверной пули в затылок, в лубянском подвале, без всякого вмешательства потусторонних сил.
— Это вы так думаете, — ответил профессор и не стал развивать тему.
Когда Ляховы подошли к «золотому кольцу», оба испытали то же самое чувство, что и при переходе из Израиля на другой конец света: будто вдруг погрузились в ледяной, бурлящий нарзанный источник: пронзивший до мозга костей холод и миллион облепивших кожу щекочущих и покалывающих пузырьков. Дыхание перехватило так, что ни вдохнуть, ни выдохнуть. И тут же отпустило. Прошли. Опять прошли через границу миров.
Самое интересное — поручики и унтера инженерного корпуса, шедшие позади, не почувствовали ничего.
У выхода из тоннеля, точнее, у мощной каменной стены, никаким образом не намекающей, что за нею — выход в иной мир, Ляховы и Удолин остановились.
Константин Васильевич извлёк из внутреннего кармана просторного парусинового плаща (он не любил дождей и был сторонником проверенной от них защиты) пол-литровую титановую фляжку, предложил по глотку офицерам и обладателям двух и более лычек на чёрных погонах.
— Двадцать полукилограммовых зарядов вот по этому кругу, — обрисовал он пальцем. — Шурфы — на метр. Рванёт — посмотрим. Думаю — хватит. Отходим…
Удолин не ошибся. Подрывники — тоже. Минут через десять, когда пироксилиновый дым и кальцитная пыль слегка осели, отряд исследователей выбрался на ту сторону, перелезая через каменные глыбы и груды щебёнки.
— Вот вам и очередной «прекрасный новый мир», — сказал Секонд, поскольку только он и мог сказать это своим соотечественникам и «совремённикам». Фёст по компасу и отечественного издания карте приблизительно определил направление до ближайшего населённого пункта. Поскольку точку выхода тоннеля, находясь на той стороне, угадать было невозможно. Пресловутый «принцип неопределённости». Удолин и его мудрецы соглашались поручиться либо за географические координаты, либо за время, на выбор. Фёста, как специалиста по своему миру, больше устраивал хоть пятисоткилометровый промах по месту, но желательно — в юго-восточном направлении, нежели по времени — на пятьдесят лет. Совсем ему не хотелось встретиться с районным уполномоченным госбезопасности или выскочить внутрь «запретки» каторжного ИТЛ[6].
На мотоцикле того российского производства, очень похожем на советский «М-72» (т. е. немецкий «БМВ»), в сопровождении офицера-«печенега», одетого в потёртую кожанку и солдатскую шапку, одинаковые на территории любой России в интервале почти что века, с трёхлинейным карабином (вдруг чем-то раздражённый медведь встретится, не говоря о «лихих людях»), под тентом коляски, Фёст отправился на разведку.
Чем дальше, тем больше, выехав с щебёнчатого плато, поросшего корявым, местами — с трудом проходимым кустарником, на прилично накатанную грунтовку, он убеждался, что попал, куда надо. Особенно когда увидел на обочине смятую сигаретную пачку знакомой марки.
— Так, — сказал он поручику, с любопытством озиравшему ландшафты незнакомой страны, — плюс-минус десять лет наши авгуры угадали, уже неплохо. Но хотелось бы поближе. Как тебе здесь, у нас?
— Да вроде бы всё то же самое. Кажется, пахнет чуть по-другому, — он несколько раз втянул носом воздух. — Химией какой-то незнакомой отдаёт, и кислорода, похоже, меньше, как в горах.
— Очень может быть, — согласился Фёст. — Промышленная химия на этой Земле наверняка другая. Да прибавь почти сорок лет ядерных испытаний в атмосфере. И до Китая не слишком далеко, а они природу пакостят — не приведи бог! То ли дело у вас — до сих пор «желтолицые братья» в Россию только за золотом и женьшенем забредают, и никакой геополитики и экономической экспансии.
Поручик, крайне далёкий от проблемы российско-китайских отношений даже в собственном мире, на всякий случай согласился:
— Это точно. Давайте, господин полковник, я за руль сяду.
— Ни к чему. Ты наших правил движения не знаешь. Вот выскочит сейчас из-за тех кустов гаишник с радаром и объявит, что ты разрешённую скорость превысил, поскольку вон на том повороте был знак, правда, его в позапрошлом году спёрли, но и сам должен понимать… Что ты ему ответишь, чтобы не спалиться мгновенно?
Поручик впал в задумчивость.
— Что такое «гаишник», господин полковник, почему с радаром, какая-такая «разрешённая скорость», зачем в чистом поле «знак» и откуда я должен знать, что его спёрли? И что, тем более, понимать?
— А мне говорили, будто «печенеги» — ребята, способные на всё и не теряющиеся ни в какой обстановке. Ваш же полковник Ляхов и говорил. А у тебя на одну совершенно бытовую ситуацию — шесть вопросов. Поэтому, пока не освоишься в моём «прекрасном и яростном мире», сиди в коляске, рот как следует сполосни из фляжки «НЗ», да и внутрь в пределах ста граммов принять можешь, чтобы «футурошока» не случилось. И молчи до последней крайности, или пока я не разрешу. Если представитель власти обратится лично к тебе, отвечай невнятно — «день рождения вчера начали праздновать, а сегодня отходняк у меня, Вадик лучше помнит». Любого штатского просто посылай по матушке, но без перехода на личности, а то и схлопотать можешь. На Урале народ политесам не обучен…
— Серьёзная тут жизнь, — без усмешки сказал поручик. — А говорили — на историческую Родину идём. Получается — снова в десант?
— Так не в Центрально-Африканскую империю всё-таки, — успокоил офицера Фёст. — Я там послужил, херовее места не придумаешь, да ещё вокруг — сплошные негры-людоеды с автоматами. А здесь — в лучшем случае с обрезами. И не людоеды, за исключением особых случаев. По-русски говорят. Пооботрёшься немного — может, и понравится. Как нашим евреям в Израиле.
Вадим откровенно развлекался, очень ему забавным казалось подобным образом дурака валять.
Он держал на спидометре пятьдесят, самое то для подобной дороги. Через десять километров им встретился жёлтый молоковоз, древний «ГАЗ-53» с проржавевшими до дыр крыльями. Значит, и райцентр какой-нибудь есть поблизости с заводиком, и фермы, где люди скотину держат. В этих краях Фёсту бывать никогда в жизни не приходилось, но, листая иногда «либеральную прессу», подсознательно думал, что не могут же господа воловичи врать настолько уж беспросветно. И, чёрт его знает, может, за пределами МКАД народ действительно обречённо вымирает, если уже вообще не вымер, ибо как можно жить не на многотысячедолларовые гранты, а на зарплату в пять тысяч рублей? На три заправки «Лендровера» не хватит.
А вот нет — тридцатилетний парень за рулём молоковоза выглядел бодрым и весёлым, машина шла хорошо, не бренча оторванными деталями, тётка лет под пятьдесят — экспедиторша или хозяйка «бизнеса» — с трудом помещалась телом в кабине, а лицом — в лобовом стекле. И взгляд, который водитель бросил на встречный мотоцикл, был удивлённым. Вот тут Фёст осознал свою ошибку. На сотню вёрст в округе, может, и нет теперь ни одного мотоциклиста. Все на джипы, хоть «Нивы», хоть «Нисан патрули» пересели. И откуда они едут? Вёрст на пятьдесят в округе этот шофёр должен всех знать и со всей подноготной. А они, выходит, подозрительные чужаки. Нехорошо. Лучше бы нормальный БТР взяли, тот в любой точке необъятной нашей Родины удивления не вызвал бы. Однако деваться некуда, название ближайшего села узнать необходимо. Да и газетку с датой купить.
До села они доехали, прочитали надпись на синем щите, через двести метров увидели магазинчик с гордой надписью «Минигипермаркерт „Атлант“». Фёст хохотнул от удовольствия за фантазию уральцев, поручик изящества ситуации не оценил.
— Здорово, девчата, — обратился Вадим к двум продавщицам, скорее всего — внучке и бабушке. — Нам две поллитры, вон той, «Кедровой», два плавленых сырка и полторашку минеральной.
— Не мало будет? — спросила старшая тётка.
— Да нет, закуси у нас навалом. Просто вдруг сырков захотелось. Ещё сигарет дайте, блок «Кэмела». И…
Он увидел то, что ему и требовалось больше всего, а остальное так, антураж. В проволочной корзиночке левее кассы сиротливо торчали две «Комсомолки-толстушки» и журнальчик «Теле-семь». А почему и нет: почти на каждом доме и даже на вросших в землю, почерневших от времени избах торчали телевизионные тарелки.
— Я про водку говорю, — пояснила продавщица. — Вы ж туристы? У нас на мотоциклах давно никто не ездит. И говорите не по-нашему. А мы в четыре закроемся и до десяти до завтра. Больше нигде не купите, самогонку давно не делают, разве для себя кто, так пойди ещё найди. Народ обычно по ящику берёт, чтоб два раза не бегать.
— А что, мать, ты права, наверное. Давай ящик!
Фёст сообразил, что лучшего сувенира для участников открытия тоннеля и не придумаешь.
— Надька, подай… — распорядилась старшая.
Деваха сибирской стати легко выбросила на прилавок двадцатикилограммовый, аккуратно звякнувший ящик.
— Перегружать будете? Или за тару ещё триста.
— Давай с тарой, — махнул рукой Фёст. — Коля, неси в багажник…
Пока он расплачивался да и просто болтал с продавщицами, редко видевшими свежих людей, поручик Николай, укладывавший ящик в коляску, таки получил возможность встретиться с представителем местной власти.
Участковый как участковый, в капитанском чине, не молод, но и не стар ещё, не толст, но в теле. Тормознул свой «Патриот» возле магазина, увидев незнакомый транспорт. Что водку в него грузил мужик в чёрной кожанке и крепких, почти под колено шнурованных ботинках, его ничуть не удивило.
Но вот кое-что другое давало шанс негаданно подзаработать.
Николай, как и приказано было Ляховым, в разговор не вступал, смотрел на капитана умело расфокусированными глазами и пытался выковырнуть из здесь уже купленной, в познавательных целях, пачки сигарету. Всё, что он ухитрялся произнести, с трудом складывалось в те же самые: «День рождения, отходняк, садись — налью».
— Здравствуйте, — сказал, поднеся ладонь к козырьку, участковый. — Капитан Самокрутов. Документики ваши предъявите, пожалуйста.
— Свободно, — ответил засёкший осложнение и быстро спустившийся с крыльца Вадим, подавая права и паспорт. С этим у него было всё в порядке. И прописка московская. Не придерёшься.
Капитан рассматривал документы так долго, будто они были действительно из Центрально-Африканской Республики и написаны на суахили или какой там язык в ходу?
Ляхов, скучая, курил, глядя на быстро летящие серые тучи, между которыми иногда проблёскивало синее небо. Украдкой посмотрел на газету в руке. На дату, конечно. Смотри, как чётко выскочили! Всего на неделю раньше, чем планировали. А место уже и неважно — полста километров туда, полста сюда — раз шоссейная дорога рядом, а от неё и до железной рукой подать.
— Ну и что делать будем, Вадим Петрович? — с прежней вежливостью спросил капитан, задерживая при этом документы в руке.
— А ваши предложения?
— На то, что вы возите с собой человека в крайней степени алкогольного опьянения, способного в любой момент совершить любое правонарушение вплоть до выпадения из коляски на дорогу, как смотрите?
— Плохо, — тяжело вздохнул Ляхов. — А куда ж его девать? К вам в ИВС? Жалко. День рождения у человека. Вам бы понравилось такую дату в «обезьяннике» отмечать?
— Я употребляю в положенное время, в положенном месте и в допустимых дозах, — веско сообщил капитан.
— Вот ведь беда. А он всего лишь кандидат философских наук, впервые в жизни выехавший на уральскую природу, то есть за пределы московской цивилизации, я хочу сказать, и от наслаждения первозданностью мира слегка забыл о непреложности произнесённых вами тезисов.
Самокрутов, вдумавшись, оценил изящество словесной конструкции.
— А вы-то сами как?
— Как стёклышко. За рулём с рождения — ни капли. Отец так учил, да и чужой печальный опыт…
— Правильно, — одобрил капитан. — Тогда второй вопрос — и можем распрощаться. — С этими вроде бы вселяющими надежду словами он сунул документы Ляхова в карман кителя. — Как это вы из Москвы до нас — и без номеров? Мотоцикл у вас хороший, раритетный, и четыре тысячи кэмэ на нём проехать можно. А четыреста постов ДПС?
«Это он молодец! — подумал Вадим, как Румата про дона Рэбу. Нет, в книге было сказано — „великодушно подумал“. С великодушием у бывшего капитана Ляхова было не очень. — Тут мы, пожалуй, недодумали. Чёрт его знает, я ведь и не посмотрел, что мотоцикл без номеров. А был бы с номерами? С чужими!»
— Как вас, простите, товарищ капитан? — мягко спросил он.
— Прокофий Порфирьевич, — с некоторым вызовом произнёс участковый. Небось надоели ему некоторые граждане «из Центра», с удивлением воспринимающие его имя-отчество.
— Из староверов? — проявил понимание Ляхов. — У меня врач в полку был Авраам Моисеевич, причём — русский в десятом колене. А солдаты и девушки смеялись. Пришлось Андреем Михайловичем именоваться. Но это к делу не относится. Вот, посмотрите…
Вадим протянул специально изготовленное в столешниковской квартире удостоверение полковника Федеральной службы охраны. Ничуть не хуже настоящего, хоть в экспертно-криминалистический отдел на проверку отдавай.
— Мы, Прокофий Порфирьевич, прилетели в Ё-бург самолётом. Спецрейсом МЧС на «Ил-76». Оттуда — на вертолёте. Таких, как этот мотоцикл, «раритетов» у нас с десяток. Даже один гусеничный есть. Образца тысяча девятьсот тридцать девятого года. Не приходилось видеть? Зря. Но у всех всё впереди. Катаемся, отдыхаем. Иногда дни рождения справляем…
И, не желая показаться московским жлобом, не понимающим «человеческого обращения», одну руку протянул вверх ладонью, другой протянул бумажку в сто евро.
— Возьмите для коллекции. Или детям покажете, что за «фантики» в дальних странах за деньги считают. Так мы поехали?
Капитан, крякнув, поправил фуражку. Немного подумал. Нет, не подстава. Не станут ребята из областного ССБ[7] такие сложные игры затевать с сельским участковым. И мотоцикла такого им взять негде. Спрятал сувенир в карман, потом возвратил права.
— А вы далеко отдыхаете? И надолго ли задержитесь?
Теперь скрывать было нечего, даже, наоборот, хорошо всё складывалось.
Ляхов раскрыл планшет с картой, черкнул пальцем по листу.
— Здесь примерно. Особо любопытствовать не советую. Мы ж там не только на мотоциклах катаемся. Лучше вообще забыть на время, что нас видел и что-то лишнее слышал, пока из области команда не придёт. Там скоро запретка появится и вообще большое строительство. Интересная жизнь начнётся. Майором точно станешь, капитан, старшим участковым на особо охраняемой территории. Я тебя запомнил, и ты меня не забывай. Удачи!
Мотоцикл с рёвом понёсся обратно по уже знакомой дороге.
— Интересная у вас здесь жизнь, господин полковник, — сказал поручик, когда село скрылось из виду и не нужно было больше изображать пьяного.
— Будто у вас лучше, — крикнул Ляхов, преодолевая встречный поток ветра. — Поживёшь немного, присмотришься — домой не захочешь.
«Печенег» с сомнением покрутил головой:
— Я главного не понял — отчего он у вас не спросил: если вертолётами технику возите, почему спиртного не захватили, сколько требуется?
— А оттого, мил-друг, что, посмотрев на мою «ксиву» и денежку на память получив, пропало у хорошего человека желание глупые вопросы начальству задавать. Я ему сотку дал, «а мог бы и зарезать», как в анекдоте про дедушку Ленина, тебе, к счастью, неизвестного, говорилось. И ещё одну присказку запомни — сколько водки ни возьми, всё равно два раза бегать придётся.
Результат рекогносцировки показал, что эмпирические предположения оказались верны, тоннель вывел, куда надо, с исключительной точностью, и теперь не нужны никакие СПВ и блок-универсалы для поддержания постоянной связности двух миров, фактически слившихся в один, но парадоксальным образом устроенный. Полностью объяснить и даже вообразить себе, как он может оставаться именно таковым, не только в физическом, но экономическом и культурно-политическом виде, не мог никто. Одним словом — повторялась история с практическим использованием «бокового времени». С любой точки зрения необъяснимо и даже бессмысленно, а работает тем не менее вполне убедительно, с впечатляющим эффектом.
Впрочем, профессор Маштаков, проводя некоторые аналогии с им же открытым «боковым временем» утверждал, что за два-три месяца он берётся хотя бы предварительную теоретическую базу под «феномен» подвести. С чем и отбыл в Пятигорск, заявив, что в любом другом месте его мыслительные процессы не могут протекать должным образом. А пока следует продолжать чисто инженерные работы, более не пытаясь проникать в соседнюю реальность.
Особенно же он предостерёг от попытки изъять из «золотого кольца» хотя бы килограмм металла. В каких угодно целях.
— Подобное деяние смело сравню с преступлением планетарного масштаба. Вообразите, что произойдёт, если позаимствовать хоть сантиметр провода из схемы Большой электронно-вычислительной машины? Вдруг здесь тоже всё прецизионно[8] отлажено. Измените ёмкость, сопротивление, силу индукционных токов — и провалитесь к центру Земли. Или в мезозой. Вот если бы найти пульт управления, принципиальную и монтажные схемы…
— Ну, это уже из раздела фантастики, — ответил Удолин. — Если такое где-нибудь имеется, так в одном из Узлов Сети. Во всём остальном я с вами полностью согласен, коллега. К примеру, при начертании четырёхмерных пентаграмм ошибка в один милистерадиан[9]… Впрочем, это сейчас неважно. Вы, Вадим, — обратился он к Секонду, — озаботьтесь немедленно направить сюда несколько специально подготовленных офицеров, которые единственно бы наблюдали за сохранностью Кольца.
…Выход в реальность Фёста был заново закрыт металлическими щитами, тщательно замаскированными имитацией камня и живой, чрезвычайно цепкой и буйной растительностью. Затем, в полном соответствии с формулой генерала инженерных войск Карбышева[10], сапёрный батальон за световой день, использовав одну тонну колючей проволоки, соорудил километровое заграждение вокруг горловины распадка. Тексты запретительных надписей, развешанных по всему периметру, придумал лично Фёст: «Из-за дефицита боеприпасов охрана предупредительных выстрелов не делает». Пришлось и реальное патрулирование изнутри организовать, солдатами, переодетыми в здешний российский камуфляж, единственной задачей которых было при появлении посторонних кричать; «Стой, кто идёт, стрелять буду!» Для местных этого было бы достаточно, а на случай чего (мало ли?) Фёст переправил из Москвы несколько старших офицеров из «Чёрной метки», снабжённых документами и предписаниями как раз тех подразделений Центрального аппарата, которые могли бы отвечать за сооружение и безопасность некоего объекта особой важности. Отдохнуть за казённый счёт на природе, ну и для подкрепления сымпровизированной версии. Вдруг да проявит излишнюю бдительность участковый, доложит о странной встрече по команде? Маловероятно, но всё же…
Для окончательной подстраховки Секонд разыскал среди своих «печенегов» бывшего сотника Уральского казачьего войска, ныне штабс-капитана Синеусова, уроженца здешних мест (плюс-минус три сотни километров. Из Сима он был), что по урало-сибирским масштабам вообще ничто. Придал ему поручика Горелова (того, с кем Фёст на мотоцикле ездил и участкового Самокрутова знал в лицо), отделение горных егерей, чтобы местных рыболовов-охотников, а также и бескорыстно любопытных к линии оцепления не подпускали. То, что эти бойцы манерой разговора и поведения сильно отличались от привычных «солдатиков», должно было произвести на встретившихся с ними людей дополнительное впечатление. «Спецназ какой-то, да не отсюда, с Кавказа, небось?»
Строго говоря, тем самым был совершён акт неспровоцированной агрессии — проникновение военнослужащих иного государства на территорию Российской Федерации. Фёст, который в отличие от Секонда никакими должностными полномочиями не располагал, с усмешкой говорил ему и всем остальным:
— Семь бед, один ответ. Если с Президентом договоримся, на такую мелочь никто и не посмотрит. Опять же оправдываться можно пресловутым тезисом о действиях «в условиях крайней необходимости».
— Вообще-то мы сейчас являемся «незаконным бандформированием», — сказал Секонд, — поскольку не принадлежим ни к какому существующему на вашей Земле государству.
— Или же совсем наоборот — обычными первооткрывателями, в ходе исследования собственной территории оказавшимися в неизвестном месте, чья государственная принадлежность никак не обозначена. Вроде необитаемого острова в неизвестном океане…
— Пошла трепотня, — отмахнулся Фёст.
…Приехав сюда, Фёст с Секондом убедились, что на «объекте», а по-старому выражаясь, на «ударной стройке», всё обстоит совершенно нормально. Никто не ставил трудовых рекордов, не стремился выполнить «пятилетку в три года», но работы шли строго по графику, без срывов, человеческих или технических ошибок. Воровать, скорее всего, тоже не воровали, разве что медицинский спирт, выдаваемый «для промывки фокусного расстояния» всяких теодолитов и нивелиров.
Раньше Ляхов предпочитал Императора ненужными подробностями не отвлекать, делал своё дело, довольствуясь тем, что окружные власти и сам генерал-губернатор Урала и Западной Сибири отнеслись к предъявленным им полномочиям и самой задаче с полной серьёзностью. То есть к тому моменту, когда Олег соизволил лично побеседовать со своим «сопредельным удельным князем», то есть Президентом Российской Федерации, подготовительные работы были выполнены на девяносто процентов. Зная об этом, Секонд с Сильвией позавчера в очередной раз «нажали» на Государя, чтобы убедить его изменить свою несколько отстранённую позицию в отношении «Креста» да и самой идеи форсированного воссоединения двух Держав.
Пообещали буквально на днях доложить о практических результатах «проекта», а также и изменении точки зрения Президента. Наметились, мол, серьёзные «позитивные подвижки». Олег Константинович, всегда любивший всякого рода предприятия с авантюристическим оттенком, благосклонно покивал головой.
— Что ж, если так, то я не против. Не против. Посмотрю, что у вас получится.
Пусть в устной форме, высочайше повелеть соизволил — стационарный проход в соседнюю Россию, буде такой практически возможен — открыть! На перерезание ленточки пообещал прибыть лично. А уж как такой путь использовать, и использовать ли вообще, он на досуге ещё подумает. В любом случае всё, что находится на территории Его Державы, входит в сферу Его стратегических интересов. Мировая практика подобных примеров не знает? Так узнает, даст бог.
В очередной раз перед Ляховым-Секондом замаячили широкие погоны с императорским вензелем и витые аксельбанты.
Невиданное (по своей сути) в истории строительство никакого ажиотажа у причастных к нему, но непосвящённых лиц не вызвало. Мало ли где и какие объекты приходилось возводить? Одних горных, военного назначения дорог в непроходимых даже для вьючного транспорта местах проложили десятки, на Кавказе, Памире, Тянь-Шане. Железнодорожную колею от порта Провидения на Чукотке до Якутска недавно сдали в эксплуатацию.
То, что поручили сейчас, — так, пустячок, на два месяца спокойной работы.
От ближайшего разъезда потянули железнодорожную ветку, благо, рельеф благоприятствовал, кроме нормальной насыпи никаких инженерных сооружений строить не пришлось. Параллельно местные подрядчики, привлечённые двойной, против обычных расценок, платой, принялись прокладывать грейдер с перспективой покрытия полотна асфальтобетоном. Зачем, почему — никого не интересовало. Наверное, очередной завод собираются строить. Или рудник. Начнут — видно станет, какой кому гешефт сорвать получится. А пока и так хорошо.
Надев положенные при горных работах каски и иное снаряжение, «инспектирующие лица» на мотодрезине углубились в тоннель, снаружи производящий вполне удовлетворительное впечатление. Производитель работ, инженер-полковник, носивший, по странному совпадению, фамилию Клейнмихель[11], но не Пётр Андреевич, а Василий Августович, давал пояснения.
Внутри тоннеля присланная из отдалённого гарнизона инженерная рота со специальной техникой прежде всего густо, на два сантиметра, закрасила «золотой пояс» битумным лаком и из пескоструйных машин покрыла мелкой гравийной смесью. После чего отбыла обратно. Едва ли кто-то, включая офицеров, вообще догадался, чем здесь пришлось заниматься. Солдаты в минералогии не сильны, и обставлены работы были надлежащим образом, чтобы и чересчур догадливые ни осколка, ни крупинки жёлтого металла в карман не словчились сунуть. А потом думайте и говорите что угодно — привезли роту ночью и увезли ночью, попробуй догадайся, где именно в радиусе пятисот вёрст располагалась пещера, в которой пришлось поработать в противогазах и костюмах химзащиты.
Когда золотое кольцо было надёжно укрыто от человеческих глаз и специальная проверка подтвердила, что маскировка и изоляция никак не повлияли на свойства прохода, началось нормальное обустройство тоннеля, по положенным для такого рода объектов СНИПам[12] и требованиям техники безопасности.
Всего за три недели всё было готово к началу эксплуатации. Из двадцатиметровых, снаружи смонтированных секций рельсов со шпалами положить три километра пути, пока одноколейного — плёвое дело. Так полковник и выразился. И шоссейная двухполоска рядом — в полном порядке, до выходного портала хоть на лимузине подъезжай. Дальше, конечно, на той стороне, до самой заброшенной бетонки на Златоуст (бывшей секретной, для ракетных тягачей), ехать желательно на вездеходах и гусеничной технике, но вполне можно, в любую погоду.
Однако, если Президент согласие всё же даст, императорские инженерные войска, хоть с привлечением областных дорожных служб и фондов, хоть без оного, наподобие древнеримских коллег, за следующий месяц проложат такую дорогу, что пресловутой МКАД стыдно станет. Причём — не украв ни копейки казённых денег.
Очень это легко и просто делается — пресечение якобы непреодолимой силы коррупции. Если есть, конечно, хоть малейшее желание ей воспрепятствовать. Один конкретный человек смету подписывает, второй с ней соглашается (или нужные поправки вносит, поскольку за всё отвечать ему лично). Финансирование открывается на имя непосредственного исполнителя. Между заказчиком и производителем работ — ни единого посредника. Одни безгласные подчинённые. Сегодня за сто рублей расписался — завтра квитанции и платёжные ведомости на стол. Расходы непредвиденные возникли — или оправдай форс-мажором, или возмещай из своего кармана. Как в нормальной семье: сегодня жена, скажем, картошку в десять раз дороже обычной купила (ну, получилось так!), значит, изволь следующие две недели выкручиваться — новым деньгам до очередного жалованья взяться неоткуда.
А закончили объект, сдали совершенно ни от кого не зависимому военпреду (за которым свой пригляд) — тогда и посмотрели, кто в пролёте, казна или подрядчик. Казна своё в любом случае с подрядчика возьмёт, а уж он, болезный, может озолотиться на удачном контракте да с премиями всякими, тоже заранее оговоренными, — за срочность, за качество, за полезные рационализации. А в трубу вылетит, так до нас сказано: «Не умеешь — не берись».
Тем более, как известно, традицию — пешком по этапу к месту отбытия наказания, если ни от кого не зависимый, кроме как от Государя, генерал-прокурор подобную меру изберёт — никто не отменял. Прогулка от Москвы, скажем, до Соль-Илецка, не говоря о Магадане, прочищению мозгов и возрождению нравственного чувства очень способствует (гораздо лучше для здоровья, заметим, чем душные тюремные вагоны и бесконечные пересыльные централы). Плюс сам срок (хоть и «пятёрка» обычная, а не бессрочная каторга), это не собственная дача на Лазурном Берегу или в Симеизе, это гораздо хуже. Сто раз подумаешь перед тем, как казённую копейку зажилить!
— А команда будет — от выходного портала ветку до стыковки с тамошней «железкой» тоже за два месяца кинем. Не впервой. Рельеф-то известный, тот самый, что и у нас, — будничным голосом сказал Клейнмихель. — Изысканий проводить не придётся, давно всё отснято, и глазомерно, и инструментально.
— Вы-то сами на той стороне были? — скорее из любопытства узнать, как реагирует на парадоксы природы обычный армейский инженер, спросил Фёст.
— Бывал, ознакомительно, — ответил полковник.
— Да как всегда, — дёрнул плечом, где под брезентовой курткой топорщился погон, инженер. — До Трансатлантического кабеля письма шли из Америки в Европу месяц. Потом — три дня. Каравелла плыла шестьдесят дней, реактивный самолёт — пятнадцать часов. Теперь сообщения проходят за пятнадцать минут. У вас, я слышал, можно с любой точкой Земли сообщаться с любого места и в ту же секунду. Наши ведь, инженерные достижения. Сейчас оказалось, что в соседние миры проникать можно хоть на паровозе марки «ЭР». Ну и слава богу. Всё дело в том, что я совершенно не уверен, будто наши открытия как-то влияют на сумму человеческого счастья. Вы бы не хотели пожить на древнеримской вилле и сравнить?
«Ещё один философ на нашу голову выискался», — подумал Фёст, глядя на умное утомлённое лицо пожилого и опытного человека.
— А водку вы пьёте? — спросил он в стиле Салтыкова-Щедрина. — Если бы, например, выпить при сём две-три рюмки водки, то ничто бы, пожалуй, не воспрепятствовало нам, помимо свободно-разумного отношения к действительности, выразиться и так: «Господа! Да неужто же, наконец…»
«Современная идиллия?» — уточнил Клейнмихель, одновременно показывая взглядом и общим выражением лица, что означенный тезис полностью разделяет.
Что они и сделали, пока дрезина не докатилась до последнего звена рельсов, упирающегося в броневой щит.
Убедившись, что дело в основном сделано и остались только косметические, по сути, работы, уточнив ряд практических вопросов, в том числе и насчёт оборудования специальных пересадочных и перегрузочных терминалов с обеих сторон тоннеля, Фёст с Секондом вернулись в Москву. Вся командировка заняла ровно двое суток реального времени, без всяких межвременных скачков. Обычный самолёт, обычные автомобили.
На Столешниковом они застали и обеих «валькирий», и Мятлева, всех в полном порядке. Людмила не захотела посещать другую реальность, не дождавшись Фёста. А Леониду с Гертой здесь тоже было лучше. Генерал продолжал медленное и спокойное налаживание с «первой любовью второй молодости» ровных и в перспективе длительных отношений. Герта не возражала. Она тоже увлеклась своим новым положением, на ближайшее время не требовавшим никаких «служебных» действий. Вадим Петрович позволил ей «быть самой собой», и это было чудесно.
Зато Фёста очень встревожил факт, что Сильвия до сих пор не вернулась. Уж ей ничего не стоило рассчитать соотношение времён при самом банальном перемещении по надёжно освоенному маршруту.
Уединившись с Секондом в кабинете, он высказал аналогу своё беспокойство. Тот отнёсся к его настроению как-то очень легко. Мол, что хочет леди Си, то и делает. Шульгин, Новиков и другие сейчас проникли в такие глубины времён и пространств, что связи уже два с лишним месяца нет, и ничего. Воронцов, и тот не волнуется.
— Это совсем, брат, другое. Ты ведь тоже не беспокоишься, как там сейчас Майя с Татьяной в Кисловодске обретаются? Кстати, не сбегать ли нам всем туда на денёк-другой? С женой повидаешься, и гостю «культурную программу» расширим. Покупать человека, так за настоящую цену.
— Свободно. Прямо утром можем, здесь делать всё равно нечего, а к президентским ребятам нам с тобой без разницы, когда приходить. Всё равно окажемся там «когда надо», — легкомысленно ответил Секонд.
— Договорились. С утра и отправимся, опять твоим казённым самолётом. Только Майе предварительно позвони, чтобы не вышло классического сюжета: «Вернулся муж из командировки», — с аналогом он мог себе позволить шутки такого рода.
— Позвоню. Прямо сейчас, пусть стол накрывает. Но про Сильвию мне таки не совсем понятно…
— Соображать надо, господин академик. Если человек, имеющий возможность вернуться в исходную точку времени и пространства по прошествии любого локального времени, этого не сделал, значит, он не может этого сделать. По какой угодно причине, пусть нам и непонятной. Теперь дошло? А с нею и Уваров, и остальные наши девушки. Есть повод для тревоги?
— Не поспоришь, — вздохнул Секонд, — только мы ведь никаким образом на это дело повлиять не можем. Разве что попробовать — по их следам…
Глава девятнадцатая
Встречавший группу гостей, а скорее — пленников «циркач» с погонами английского капитана начала ХХ века, не стыкующимися с архаичной формой, никак не представившийся, был, разумеется, таким же роботом, вышедшим из тех же «мастерских» Замка, что и биороботы «Валгаллы», хорошо и близко знакомые Сильвии и Басманову. Удолину, конечно, тоже.
Профессор, впрочем, хотя и привык пользоваться их услугами, относился к «механическим людям» негативно, воспринимая их как аналогов «големов» Бен-Бецалеля. По личному опыту знал, что добра от «голема» ждать не следует. Уж если заклинания самого правнука в пятой степени царя Соломона не всегда оказывались действенной мерой сдерживания тех лишённых намёка на подобие «души» глиняных существ, так чего можно ждать от сугубо механических изделий на «электронных схемах», понятие о которых Константин Васильевич имел самое смутное.
— Тебя, любезнейший, как звать-величать? — тоном барина-крепостника, обращающегося к незнакомому дворецкому соседа по имению, спросил Басманов, всем видом показывая, что хоть на капитанские, хоть на фельдмаршальские погоны самозванца ему плевать.
Марина посмотрела на своего вновь обретённого кумира с восхищением, остальные — с должной степенью уважения. Правильный тон взял господин полковник. Только пилоты и экипаж «Буревестника» восприняли это как должное. Все они родились, как говорил Бендер, «ещё до исторического материализма» и в чинопочитании толк знали.
Хорошо ещё, по стойке «смирно» не поставил этого нахала Михаил Фёдорович и не заставил рапортовать, как положено. А как это умеет делать Басманов (до сих пор отчего-то полковник), командир легендарных «рейнджеров Каховки», в югоросской армии знал самый зелёный прапорщик.
— Капитан Джинджер, к вашим услугам.
— К моим? — удивился Басманов.
Сильвия с удовольствием наблюдала, как Михаил, используя совсем древние психологические приёмы, приводит в чувство не то чтобы напуганных, но прилично ошарашенных спутников. Из семнадцати оказавшихся здесь человек лишь они трое, включая Удолина, что-то понимают. Остальных удерживает в должных рамках только дисциплина, как Уварова, «валькирий» и лётчиков или высочайшая степень самоуважения, как Катранджи (своим прыжком в пропасть он уже почти «потерял лицо», больше такого не допустит). Наоборот, в рамках своего восточного менталитета способен сорваться в приступ истерики, деликатно называемый «отвагой шахида».
— Если вы офицер, — продолжал гнуть свою линию Басманов, — вы, исполняя приказ или служебный долг, отнюдь не можете быть «к услугам». Я понятно выражаюсь?
«Опять урок даёт девчонкам, больше некому, — подумала Сильвия. — Лётчики и так готовы умереть, раз служба требует. Уварова не вдохновлять, а сдерживать надо. Нет, ну каков Михаил, — она чуть вслух не рассмеялась. — Всё, что можно, человек прошёл и пережил, а мои соплячки (леди Спенсер уже и думать научилась настолько по-русски) ему голову вскружили».
Но тут же с присущим ей чувством объективной справедливости признала, что полковник вёл бы себя точно так же в любой обстановке. Независимо, стоят за его спиной юные девушки-офицеры и она, единственная зрелая женщина, способная правильно оценить его неповторимый стиль, или перед ним стоит расстрельная команда. К случаю вспомнился Гумилёв, с которым ей довелось встретиться в девятьсот семнадцатом в Лондоне.
Гумилёв в той, настоящей для обоих жизни не был знаком с Басмановым (хотя могли бы и пересечься где-то под Сморгонью или во время кратких отпусков с фронта в Петроград), но писал свои стихи, не только себя лично имея в виду (хотя себя прежде всего, конечно), а и таких вот поручиков и капитанов, десятью годами младше его возрастом[13], но воевавших на той же самой войне.
— Отчего вы вдруг — англичанин? — продолжил полковник. — Вы что — завоевали Замок? Как давно? В ходе какой кампании? Многие из нас тут бывали раньше и не замечали следов иноземного присутствия. И почему при этом говорите на чистом русском, даже без акцента?
Слова Басманова на какое-то время повергли «капитана» в замешательство. Он явно не был подготовлен к ответу, а скорее всего, просто не понял, как следует соотнести пять заданных в быстром темпе вопросов, причём — из разных смысловых рядов. Тут и обычный, не слишком развитый человек запутался бы.
— Не могу ответить, — наконец сказал «Джинджер», запрограммированный, очевидно, крайне небрежно, на одну-единственную функцию. — Я — капитан, командир роты охраны Замка. Имею приказ встретить вас и доставить в Замок. До ворот. Там мои полномочия заканчиваются.
Сильвия вдруг шагнула вперед и выдала длиннейшую, очень быстро произнесённую фразу на смеси «оксфордского» английского и солдатского жаргона, употреблявшегося Киплингом в его «колониальных» стихах.
Джинджер посмотрел на неё растерянно. Да и остальные тоже, кроме «валькирий», они, как известно, знали все европейские языки и диалекты. Кто-то даже хихикнул.
— Я повторила твой вопрос, Михаил, причём добавила несколько непристойных и оскорбительных для офицера выражений, — пояснила Сильвия. — С Замком явно не всё в порядке, без Антона он стремительно деградирует. Какая-то художественная самодеятельность в сельской школе…
Басманов махнул рукой:
— Я с первого взгляда примерно так и подумал. Поехали, что ли?
Он, ничего не говоря «капитану», сам сел за руль «Виллиса», указав аггрианке место рядом. «Капитан» покорно, не выразив и тени несогласия, полез через борт на узкое сиденье между задними колёсными нишами. В смысле комфорта «Виллис» — крайне неудобная машина, только втроём на нём ездить хорошо, хотя в боевых условиях и восемь бойцов с оружием легко помещались.
Сильвия устроилась на жёстком, обтянутом дерматином полукресле, напоминающем куриный насест тем, что с него так же легко свалиться, тем более — на скорости. Сиденье почти вровень с бортом, вместо дверцы — вырез, чтобы ноги пронести. Она вдруг с тёплым чувством вспомнила события богзнаетскольколетней давности, ещё до того, как они отплыли отсюда в Крым на строящейся тогда вон там, сотней метров левее, «Валгалле». Шульгин тогда заказал Замку эти самые «Виллисы» для всех, чтобы ездить на верфь и просто кататься по окрестностям. Только что прибыв из страны никак не «доразовьющегося»[14] социализма, ему казалось интересным и забавным тешить себя памятной по детству экзотикой. Такими вот машинками — в том числе. Очень удобно, особенно для женщин, — садиться легко, и даже ключа зажигания нет. Повернула рычажок на панели — и езжай. Скорости переключать необязательно. И на первой (10 км/ч) до места спокойно доедешь.
Остальные пятнадцать гостей разместились в автобусе, где роль водителя исполнял такой же робот, но с нашивками сержанта на рукаве серой рубашки.
— Езжайте прямо, — сказал «капитан», будто здесь была ещё какая-нибудь дорога.
Через десять минут, обогнув скалистый отрог, они увидели Замок. Сильвии по своему опыту сначала пленницы-аггрианки, а потом и настоящей «сестры», проведшей здесь порядочное время, вновь увидеть его невероятной высоты стены, угловые и промежуточные башни, донжоны, десятиметровой ширины ров, неизвестно от кого и от чего защищавший, было просто приятно. Как одну из достопримечательностей своей долгой, но в отличие от распространённых мнений не такой уж богатой яркими событиями жизни.
Вон Басманов кружит девчонкам головы своими геройскими похождениями. Да, были, никто не спорит. Так ведь не говорит же, что на два-три ярких боя приходятся месяцы и месяцы сидения в окопах, грязь под ногами, дождь или снег сверху, борьба со вшами (бичом Мировой войны вместе с давно с тех пор забытым тифом), бессмысленные перемещения вдоль фронта, в тыл и обратно, скудная и невкусная пища.
Да хоть бы и приснопамятную Цусиму взять — больше полугода мучительного кругосветного плавания и три часа сражения!
Вот и у неё так. Почти сто пятьдесят лет прожила на Земле, а если собрать всё яркое и интересное в один букет, ненамного больше и выйдет, чем у тридцатидвухлетнего полковника.
Удолин впервые увидел Замок снаружи. Всегда он попадал только внутрь, внепространственно-астральным способом. И знал там, кроме коммуникационного кабинета, свой любимый бар да ещё несколько помещений.
Остальные Замок не видели никогда, а слышали о нём только девушки, от Натальи Андреевны, причём в основном как о месте, где она «стала сама собой» и встретила своего Дмитрия. Технических, архитектурных и прочих вопросов не касалась. «Валькириям» этот Замок представлялся вещью вполне абстрактной, вроде Шамбалы, Беловодья и чего-то в этом роде, заманчивого, но к повседневной жизни отношения не имеющего.
Катранджи, Уваров и лётчики совсем ничего не представляли и не понимали. Но увидели это титаническое сооружение и, кроме обычного удивления, можно сказать — потрясения от мгновенного перемещения из привычного мира совсем в другое место, невольно прониклись чувством, похожим на то, что испытывает человек, впервые соприкоснувшийся с одним из пресловутых «чудес света». Сильвия не помнила за собой подобной эмоции, вслух высказанной одной из девушек. Замок восхищал, удивлял, вызывал почтение своим величием — это она помнила, пусть и оказалась во вражеском гнезде, подобного которому аггры на Земле не создали. Считали, что и базы на Таорэре достаточно. Но вот чувства «приниженности» перед нечеловеческим величием она не испытывала даже в тогдашнем своём положении. Сейчас — тем более. Начала нарастать в ней боевая злость.
Значит, кое-что изменилось. И землян сейчас пригласили сюда несколько с другой целью, чем раньше, это очевидно.
«Ничего, прорвёмся», — подумала бывшая аггрианка словами своих друзей и пожалела, что нет сейчас рядом Воронцова, первым из всех посетившего Замок. В одиночестве, совсем ничего не зная и не ожидая каких-либо неожиданностей, прямо с сухумского пляжа, но тем не менее не растерявшегося.
Её пальцы нащупали в кармане свой блок-универсал. Одно движение, и можно вызвать сюда Дмитрия. (Если получится, конечно, преодолеть разделяющий неизвестно какие уровни континуума барьер. Но раньше получалось!) Вызвать и возложить на него все заботы, он ведь утверждал, что с Замком у него наладилось полное взаимопонимание, напрямую, минуя Антона.
Нет, не нужно, и сами как-нибудь разберёмся! Ничего ведь особенного. С Антоном приходилось бороться на равных, признавая силу и право друг друга, но и уважая соперника. А здесь какая-то дешёвая ерунда происходит. Словно в средневековом феоде на место барона внезапно уселся его шут.
Сильвия окончательно решила в нынешней ситуации стать главной. Кому же ещё? Даже по высшему счёту «Братства» она признавала по всем параметрам сильнее себя только Новикова и Шульгина. Достоинства Левашова не отрицала, но только в инженерной области. Воронцов, Берестин — мужчины, офицеры, умны и беспредельно отважны, не поспоришь, однако… Пусть чуть-чуть, но из другой оперы!
К старому маразматику и алкоголику Удолину с его замшелыми заклинаниями и почерпнутой из глиняных табличек мудростью она уважения совсем не испытывала. Разве что некоторый не совсем рациональный страх. Возьмёт и от вредности обратит тебя в жабу, и не успеешь блок-универсалом воспользоваться. В эти его способности, как ни удивительно, инопланетянка и «вульгарная материалистка»[15] Сильвия верила. Пусть и выглядело это достаточно нелогично.
В то же время опытным взглядом бывшей главной координаторши она продолжала наблюдать, кто как из девушек-«валькирий» ведёт себя во вновь изменившейся обстановке. Вроде бы все одинаковы: совсем недавно она просканировала каждую и в биологическом, и в психиатрическом смысле. Даже Анастасия Вельяминова старается не выделяться. Однако тут неожиданно ярко проявила себя Марина Верещагина. Вроде не делая резких движений и никого не расталкивая плечами, она вдруг первой оказалась у дверцы автобуса, спрыгнула на вымощенную красным кирпичом дорогу. Раньше даже, чем Басманов перекинул ноги через порог «Виллиса».
С автоматом на изготовку, двумя пистолетами в кобурах на бёдрах и ножом ниже правого колена Верещагина змейкой метнулась влево, замерла у опоры моста в идеальной позиции — сбоку и сзади прикрыта гранитным столбом. Пожалуй, даже с привратных башен её не достать стрелой или пулей. Сама держит под прицелом автобус, джип, доставивших их сюда «охранников» и мост до самых ворот.
Титанический, неизвестно на кого рассчитанный — на колонны трёхметровых троллей или современную бронетехнику, — подъёмный мост был гостеприимно опущен. Поблёскивали ничуть не заржавевшие цепи толщиной с телеграфный столб, под настилом, почти не колеблясь, стояла зеленоватая вода, местами подёрнутая ряской. Но ворота в стене между двумя башнями, громадные, метров десять в высоту и не менее шести в ширину, окованные полосами буроватого металла и покрытые шляпками гвоздей, с тарелку каждая, были закрыты. Отчего бы? И на стенах, башнях, в бойницах никакого шевеления, отблеска оптики или дымков пушечных фитилей, если здесь играют в давнее прошлое.
Верещагина стояла, готовая ко всему. Бравая, подтянутая, даже с озорной улыбкой. Казалось бы, что она может со своей «трещоткой» против стен, какие и шестидюймовые гаубицы пробьют после долгой стрельбы прямой наводкой? Но в нынешних обстоятельствах её решение — наиболее тактически грамотное. И «противник», если он там есть, сразу поймёт, с кем имеет дело. Семнадцать человек, все вооружены, у всех имеется какая-то, пусть и не уровня «валькирий», боевая подготовка. Тут или без разговоров вводить в действие тяжёлое вооружение, или договариваться. Марина, как и все остальные, слышала обещание «английского капитана» проводить их «до ворот Замка». А что будет дальше? Ведь и сама Сильвия, и Басманов знают о почти полной физической неуязвимости роботов Замка. Не с автоматом против них выходить, а с противотанковым гранатомётом, да и то из засады. Или — использовать на полную мощь блок-универсалы.
Но дело сейчас совсем не в этом, до боя на уничтожение наверняка не дойдёт, а только в поддержании боевого духа личного состава.
Самым же главным для Верещагиной было то, что Басманов её решительность оценил, на что и был расчёт! Она сразу заметила его одобрительный кивок. Есть, мол, в группе инициативный боец, какой в нужный момент объявляется почти в каждом подразделении. Командир ещё только собирается приказ отдать, а кто-то уже занял ключевую для прикрытия товарищей позицию и готов к бою.
Вот и Марина! Случись что — откроет отсечный огонь и даст возможность остальным приступить к осмысленным действиям.
Каждая из девушек, как известно, умела (мадам Дайяна постаралась, обучая питомиц) охмурить и совратить любого мужчину по одной из пятнадцати стандартных программ, за полчаса превратить, условно говоря, Атоса в жалкого Казанову, ползающего у ног не поддавшейся ему с первого захода дамы. Только было у них и другое правило. Для работы можно всё. Хоть Катранджи, хоть Императора заставить в себя влюбиться (или просто возжелать) до полной потери самоуважения и здравого смысла. А если вдруг своего мужчину встретишь, уж тут без фокусов. Старайся понравиться, как самая обычная девушка, и страдай, если не повезёт, по-настоящему. Людмила и Настя сумели, кажется, найти своё счастье, оказаться подходящими невестами. Теперь и Марина человека, в которого ей захотелось влюбиться, увидела.
После недавнего обмена взглядами она опять нашла возможность оказаться в центре его внимания. Если даже сейчас прикажет: «назад, отставить», всё равно запомнит, кому он это приказал.
Ни Басманов, ни Сильвия не стали девушку останавливать. Всё правильно она сделала. Что-то долго раскачивается Джинджер, только-только из машины вылез, брюки на коленях отряхивает. И в Замке полная тишина. Ни почётного караула, ни наоборот. С прохождением сигналов какая-нибудь ерунда, или некто сценическую паузу выдерживает? Или ещё хуже — в программе самого Замка начались сбои по неизвестной причине? Может быть, он тоже подвергся информационной инвазии супердуггуров каких-то, оттого все странности. Будто специальный червь в управляющие программы внедрился. Сильвия начала профессионально ситуацию разбирать и оценивать, стоя при этом в сторонке, позади девушек и бравых пилотов, воодушевлённых броском Марины, тоже ладони на рукоятки своих «воеводиных» положивших.
Если дуггуры действительно сумели добраться до Замка, это очень плохо, это полная катастрофа. То, что они десантировались на Таорэру, особого удивления не вызвало. Практически неохраняемая территория, расположенная в том же самом континууме, то есть проблема перед ними стояла чисто транспортная. А Замок — это совсем другое — вневременной и внепространственный артефакт, для удобства посещавших его людей принимавший, в какой-то своей части, доступную человеческому восприятию форму. И что же это за силы, сумевшие проникнуть в него и непонятным, едва ли не бессмысленным образом перепрограммировать?
Предположение выглядит чересчур смело, но резон в нём есть. Не первый необъяснимый момент за последнее время. Отряд Шульгина — Новикова, отважно отправившийся на трофейной «медузе» в поход на «вторую землю», успел передать, что с чем-то непонятным встретился. И тут же Ларису ребята к себе вызвали (зачем, интересно, подумала Сильвия, если там «осложнения» ранее неизвестного типа начались?), после чего всякая связь с экспедицией прервалась.
Объяснения Удолина, единственного сумевшего выбраться со «второй Земли» (причём неизвестно, по своей воле, или его просто вытолкнули некие силы, сочтя его там присутствие лишним), потом рассказывал Воронцову, Сильвии и Берестину, как всё получилось. После встречи на «второй Земле» с представителями дуггурского мыслящего сословия, закончившегося непонятной агрессией «коричневой тучи» на дворец Рорайма, Константин Васильевич ощутил приближение чего-то совершенно непонятного, выходящего за пределы его мистического опыта. Кое-как объяснил друзьям, что, кажется, некие наконец-то «настоящие хозяева» планеты за ними идут, и лучше бы убраться отсюда поскорее. Внутренним взором он смутно различил нечто ужасное, одной природы с гоголевским Вием. Похоже, у профессора наступило некоторое помутнение сознания. Он неотчётливо помнил свои крики о «наступающей полночи», об отбивших «пятый удар» часах. А Новиков, Шульгин, Лариса, Ростокин, несмотря ни на что, сохраняли достойную преклонения выдержку. Стреляли по «туче» из гравипушки и пулемёта, даже сумели захватить в плен одного из «высших», «сияющего ангела», пойманного, как на живца, на Ларисины прелести[16].
Удолин, видя, что к его словам не очень прислушиваются, рванулся к открытому Левашовым со стороны «Валгаллы» проходу. Попытался толкнуть перед собой Новикова, но тот отклонился, сделал шаг в сторону: негоже руководителю экспедиции первым бежать с корабля, оставляя за спиной почти двадцать человек, друзей, офицеров капитана Ненадо, пленника. Так Константин Васильевич в единственном числе вылетел на палубу парохода, и рамка за ним сразу закрылась.
Профессор, очень скоро обретя свой агрессивный апломб, после доказывал Воронцову и Левашову, что совсем он не испугался, и до последнего вёл себя геройски, сопротивляясь «энергетическим порождениям тьмы», похожим на глубоководных скатов, и лично принял на себя удар некробиотической энергии, прикрыв своим телом Новикова (что было правдой). Решение отступить он принял вполне осознанно, поняв, что идущая против них сила непреодолима и бессмысленна, как, скажем, радиация. Смешно же рвать на груди рубаху, пытаясь что-то доказать «рентгенам» или «зивертам».
— А как же ребята? — очень спокойно и даже деликатно спросил у него Воронцов, кое в чём с помощью Левашова разобравшись. — Ты — оттуда ломанулся, а Олег вам в помощь, навстречу твоей ретираде жену послал. Слабую женщину…
— Вы только мне, пожалуйста, господин адмирал, — с некоторой желчностью в голосе, продолжая снимать стресс коньяком, ответил Удолин, — не навязывайте своих идеалов эпохи загнивающего военно-феодального строя. Видел я вашу слабую женщину в разных ипостасях. Оч-чень непонятно, какая она есть. То на балах мужчин очаровывает, то, сверкая глазами, лом об колено согнуть готова. Вы бы видели, Дмитрий Михайлович, с каким она лицом отсюда выскочила и как этого дуггурского мальчишку чуть что не за яйца схватила с отнюдь не сексуальным намерением. Не уверен, что он при её взгляде не обмочился в свои светящиеся ризы. А вы говорите — слабая женщина… Я не убежал, не отступил, не ломанулся, как вы не совсем изящно выразились, а был оттуда устранён. Непонятным мне способом. Или я там оказался лишним с точки зрения кого-то враждебного, или был таким образом спасён от воздействия, коему противостоять был не в силах. Зато там остался ваш Антон, со всеми его способностями. Наверняка он там был полезнее меня. Я не «боец», в вашем понимании, и не нужно от меня этого требовать. Помню я, как в вашей «основной» истории загнали в «московское ополчение» сто тысяч интеллигентов-белобилетников, от студентов в очках минус восемь до профессоров консерватории. Уж они навоевали…
На том у них тогда с Воронцовым содержательная беседа и закончилась. Удолин есть Удолин. С ним ведь не поспоришь на равных. Пока он хочет — ты ему, бывший советский капитан-лейтенант, — годишься в друзья и собеседники. Если вдруг что не по его норову — он двухтысячелетний (как минимум) маг, а ты — всё тот же каплейт (центурион, в переводе на римские или какие угодно служебные категории), тридцати семи реальных лет от роду. И ни одна апория[17] Зенона тебе не по силам. Как, впрочем, и Удолину — расчёт торпедного треугольника на логарифмической линейке (во времена службы Воронцова ни компьютеров, ни даже обычных калькуляторов не существовало). Электроники, считай, никакой не было, а умение соотнести свою скорость со скоростью цели, с учётом углов расхождения курсов, движения самой торпеды, волнения, глубины и всего прочего, да чтоб результат показал — вынь да положь.
Что на самом деле случилось (или как раз сейчас происходит) на «второй земле» с разведывательным отрядом, узнать пока не удалось. Время-то течёт везде по-своему, и если кажется, что банкет в Лондоне, вечеринка в Кейптауне, постельная сцена Сильвии с Императором Олегом, разыгрываемый Фёстом и его подружками покер с президентской командой стыкуются почти поминутно, то это глубокое заблуждение.
Попали друзья в плен к истинным хозяевам «Земли-2», или нашли с ними общий язык — неизвестно. Когда вернутся — тоже. Установка СПВ с парохода канал восстановить не могла. Единственное, что утешало и позволяло заниматься своими делами здесь, не впадая в отчаяние, — каким-то особым образом сигнал от имевшихся у Шульгина и Новикова маячков до форта Росс доходил, подтверждая, что друзья живы, а главное — приборы находятся при них. В чужих руках маячки просто инактивировались бы, имелись на этот случай подстраховки.
Интересно, что передача велась с ретрансляцией через Валгаллу-Таорэру, что первым заметил робот-связист. Ещё более интересно было то, что местонахождение передатчика не фиксировалось хронологически. Учитывая межвременное положение Валгаллы, с равным успехом экспедиция могла находиться в любой точке пространственно-временного континуума, но явно за пределами уже освоенных реальностей, значит, только на «второй Земле» или ещё дальше.
Была, конечно, у Сильвии мысль, что друзья, раз с ними Антон, могли отступить от неведомой опасности именно в Замок, но уж оттуда форзейль имел возможность свободного перемещения практически в любую точку пространства — времени, что неоднократно и доказывал. Следовательно, ни самого Антона, ни «братьев» там нет. Зато очень убедительно, после всего, что только что довелось увидеть, выглядит гипотеза: Антон полностью потерял связь с Замком, и тот пошёл «вразнос», как избавленный от графитовых замедлителей ядерный реактор. И всем сейчас заправляет Арчибальд, обиженный невежливым бегством гостей, на которых возлагал большие надежды. И без того невеликого ума механизм под влиянием «дестабилизирующих эмоций» мог превратиться в совершеннейшего монстра вроде Гитлера, на всю жизнь травмированного непризнанием его живописных талантов. А признали бы — писал по две картины в день, как Айвазовский, и был бы совершенно счастлив, нравственно и материально, оставив остальной мир сходить с ума как-то по-другому.
«Ну, ничего, — подумала Сильвия, — в ближайшие минуты всё станет ясно».
Она надеялась, что их появление (зачем-то их выдернули из своей реальности сюда?) вернёт Замку здравомыслие. Он исходно ориентирован на общение с людьми, по большому счёту — на служение им, и под должным контролем «умеет» вести себя правильно.
На мысли, желания, а то иногда и приказы совсем тогда ничего не понимавшего Воронцова при первой встрече он реагировал вполне адекватно, и модель-копию (чтобы его соблазнить и склонить на свою сторону) Натальи сконструировал без единой ошибки. Более того — сумел выявить, воспроизвести и закрепить самые лучшие, не всегда даже ей самой до конца понятные черты её личности.
Все мысли и воспоминания Сильвии промелькнули настолько быстро, что Басманов едва успел оценить обстановку и обратиться к «начальнику охраны».
— Ну, ты, — без всякого намёка на вежливость сказал Басманов Джинджеру под одобрительными взглядами Уварова и лётчиков, — скажи там, чтоб ворота отворяли, а то мы и обратно можем. Нам такое ваше гостеприимство — до… — Полковник в стиле гвардейской конной артиллерии объяснил, до чего именно. При таких словах кони в манеже обычно прядали ушами и отворачивались.
Михаил мельком взглянул на сплочённую группу в синих рабочих кителях. Пилоты, совсем ничего не понимающие парни, далёкие от любых забав «высших существ», для которых родной двадцать пятый год — единственный из возможных, держались великолепно. Если что — на них можно положиться не хуже, чем на девочек-профессионалок.
Правда, следует признать — кое-какая психическая закалка у авиаторов есть. На их памяти взлетел бамбуково-полотняный самолёт братьев Райт, а сами они, не дожив до тридцати, уже пилотируют летательный аппарат, на два поколения превосходящий то, что им пришлось бы увидеть в нетронутой чужим вмешательством жизни. Вдобавок командир успел конец Мировой и всю Гражданскую повоевать на «Сопвиче», пять сбитых самолётов на счету.
Сейчас эти семеро офицеров и унтеров были гораздо ближе Басманову, чем все остальные, невзирая на его пятилетний опыт в «Братстве». Уваров — особая статья, он просто слегка растерялся, не зная, кем он может по-прежнему командовать, а кому должен подчиняться в слишком уж нештатной ситуации.
Сам же Уваров решил, что всё же полковник, поскольку сам в происходящем совершенно ничего не понимает, а чтобы совсем не оставаться «не у дел», продолжит выполнение единственного, никем не отменённого приказа — руководить своими девушками для сохранения жизни и свободы Катранджи, насколько хватит возможности. Остальное ведь — на ответственности «принимающей стороны»? Так было сказано начальством.
Он передвинулся вплотную к турку, сохранявшему подобающее его рангу спокойствие.
— Ибрагим Рифатович, всё время держитесь возле меня. Что здесь происходит, я, честно говоря, пока не врубился. Девчата будут прикрывать вас со всех направлений. Я — само собой. И вместе посмотрим, как дальше пойдёт.
— Как пойдёт, так и пойдёт, — с восточным фатализмом ответил Катранджи. Он уже устал от валящихся на него один за одним «случаев». — Я смерти не боюсь, а она может прилететь в любую секунду из каждого окошка. Правильно?
Уваров машинально кивнул.
— Только никто никогда не проводит таких сложных операций, чтобы убить одного пожилого турка и несколько молодых русских людей. Наш самолёт можно было обрушить в море без всяких «заморочек». Значит, не только поживём, полковник, (даже эту тонкость русского обращения Ибрагим не забыл), но и увидим наверняка очень много интересного. А то, что случилось с крейсером, это, очень может быть, только преамбула. Или — прелюдия.
Так немедленно и случилось.
Ворота Замка неспешно, с намёком на кинематографический саспенс, отворились, и на мост вышел хорошо знакомый троим из присутствующих Арчибальд Арчибальдович. Впрочем, каждому знаком он был по-разному. В прошлое посещение он ухитрялся казаться совершенно иным Сильвии, Басманову, Удолину, если приходилось общаться наедине. А уж что случалось, когда он затевал свои игры с Новиковым, Шульгиным и пришедшим из будущего специалистом по машинным логикам Скуратовым — это никому из присутствующих до конца не было известно.
«Человеком» он был чрезвычайно примечательной наружности. Высокий и широкоплечий, с заметной сединой в тёмных волосах. Мужественное загорелое лицо, украшенное тщательно ухоженными усами, выражало спокойную доброжелательность. Стройную, несмотря на возраст (около пятидесяти), фигуру облегал полувоенный костюм цвета хаки, к брюкам-полугалифе очень шли коричневые шнурованные ботинки до колен. Вылитый полковник Лоуренс Аравийский, только пробкового шлема и стека в руке не хватало.
— Дорогие друзья, как я счастлив снова принимать вас в своём поместье! — провозгласил он сочным баритоном, легко слышимым с двадцати метров, словно с трёх шагов.
Обращался он, конечно, к своим старым знакомцам, но и на остальных его радушные слова распространялись как бы по умолчанию.
Первым ему навстречу через мост пошёл Удолин, заранее протягивая руку. На середине моста они обменялись крепким рукопожатием, затем Арчибальд, ускорив шаг, приложился к ручке Сильвии, почти по-братски обнялся с Басмановым. Михаил не противился: лично ему хозяин Замка ничего плохого не сделал, конфликты, если и были, произошли на более высоком уровне.
— О! А какие прекрасные девушки появились, чтобы скрасить моё одиночество, временами — прямо невыносимое. — Он перецеловал руки всем «валькириям», каждый раз представляясь. К концу это стало выглядеть слегка карикатурно, как в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Особенно, когда Марине пришлось переложить автомат в левую руку, протягивая галантному кавалеру правую, пахнущую не «духами и туманами», а обычной ружейной смазкой.
Желал ли Арчибальд достигнуть именно этого эффекта — неизвестно, может быть, просто набор стереотипов срабатывал, а элемент, отвечающий за самокритику, в контурах его псевдоличности отсутствовал. Когда Замок вместе с Антоном взялись реконструировать Наталью, они могли непрерывно сверяться с человеческой натурой форзейля и, главное, воспоминаниями и ощущениями самого Воронцова. Оттого всё так удачно и получилось. А сейчас несчастному Арчибальду подсказать, что его «заносит не туда» и что смокинг со шляпой канотье не носят (пусть по отдельности это весьма стильные детали туалета), было некому. Вот он и упивался собственным бесконтрольным величием.
Пожав руку последнему из бортстрелков «Буревестника», что было явно лишним (если в компании оказывается более трёх человек, от вновь пришедшего рукопожатий не требуется, достаточно общего поклона согласно этикету), он широким жестом предложил следовать за ним. Сильвия — по правую руку от него, Басманов — по левую.
— Зачем весь этот цирк? — спросил Басманов, поскольку Сильвия на правах женщины предпочитала по своей инициативе разговор не затевать. — Если захватил нас в плен, так к чему бессмысленные церемонии?
— Упаси бог, Михаил Фёдорович, уж имён-то Арчибальд не забывал, — о каком плене речь? Я только что выручил вас из крайне неприятной ситуации и рад, что удачно получилось. Я ведь предупреждал и Андрея, и Александра, что в «большом мире» им давно уже находиться крайне опасно. Помните наш предыдущий разговор, когда вы все сюда явились? Разве зря я предложил Южную Африку, XIX век? Сидели бы и не высовывались… — эти слова и по тону, и по стилистике прозвучали диссонансно. — Вы не послушались, и случилось то, чего и я предвидеть не мог. Думаете, те, кто изловил и осудил на вечное заточение Антона, смирились с его бегством? Нет, нет и нет! Их злопамятность и мощь не имеют границ. Только я могу им противостоять, да и то лишь в пределах территории Замка.
Тут в его голосе прозвучало нечто вроде самодовольства.
— Я сумел сделать её независимой от существующей Вселенной и предложил вам всем гарантию безопасности. Вы не захотели меня послушать. Вы от меня, попросту говоря, бежали, задев, признаюсь, мои лучшие чувства. Но я не обидчив, моя единственная цель — оберегать моих друзей от любых опасностей, подстерегающих их в этом мире и за его пределами. Я полтораста лет делал это для Антона. Потом пришли обычные земные люди, до которых мне раньше не было никакого дела. И вдруг, познакомившись ближе, я их полюбил… Да, да, не смейтесь, — он обратился непосредственно к Сильвии, заметив скользнувшую по её губам не совсем доброжелательную улыбку. — Ведь единственное, чего я хотел прошлый раз, — как можно ближе познакомиться с вашим другом Виктором. Я раньше не встречал людей с такими свойствами мыслительной деятельности, пришедших из недоступного мне будущего. Да-да, эфемерное будущее мне недоступно, как, впрочем, и вам, Сильвия: мы все обречены существовать в пределах определённых границ. Я только недавно выяснил, что доступное нам время и пространство находятся в обратно-пропорциональной зависимости, в определённых обстоятельствах то или другое стремится либо к бесконечности, либо к нулю… Проще говоря, то ли в вашем распоряжении беспредельное пространство, но крайне ограниченное время, то ли — наоборот.
— Может быть, теоретический семинар мы отложим на более подходящий момент, а вначале вы объясните, что вдруг с нами произошло и каковы ваши дальнейшие планы в отношении нас? — холодновато спросила Сильвия.
— Обязательно и всенепременно, — закивал головой Арчибальд. — Сейчас мы придём на место, вы разместитесь по комнатам, по тем, где уже жили, или любым другим, на ваше усмотрение. Потом за дружеским столом мы удовлетворим взаимную любознательность…
Басманов, услышав о «дружеском столе», с удивлением почувствовал, что успел проголодаться и мысль о предстоящем обеде или ужине его радует. А ведь, казалось бы, они встали из-за обильного стола не более чем час назад. От силы полтора. А есть хочется так, будто прошло не менее полусуток.
Это очередная странность непонятным образом текущего времени, или Арчибальд решил устроить для них подобие одного из вариантов рая, где «удостоенные блаженства» могут пиршествовать и общаться с противоположным полом сколько угодно, не пресыщаясь и не утомляясь.
Удолин, Сильвия и Михаил предпочли занять те же комнаты, где уже останавливались, до сих пор хранившие следы их пребывания, включая предметы, которые они не сочли нужным взять с собой, уходя, и запахи, свойственные лишь им. У Сильвии — её духи, у полковника и профессора — остывший табачный дым.
Остальные поселились на том же этаже, со всем возможным в Замке комфортом, отвечающим вкусам каждого. На всякий случай, по решению Уварова, «валькирии» и сам он расположились в комнатах по обе стороны и напротив просторных апартаментов Катранджи. Лётчики, уточнив у Басманова, действительно ли могут заказать себе помещения по вкусу, попросили расквартировать их вместе. Очутившись неизвестно где, экипаж предпочитал не разделяться — мало ли что. Для них Арчибальд немедленно предоставил требуемое — отдельную секцию из семи комнат с просторной гостиной (или кают-компанией), отделанную и обставленную на уровне адмиральских люксов в доме отдыха под Гурзуфом. На большее фантазии у скромных лейтенантов не хватило, унтер-офицеры же подобной роскоши вообще никогда не видели.
Басманов, осмотрев расположение экипажа «Буревестника», счёл нужным провести краткий инструктаж. Чтобы, наконец, снять общее недоумение и пресечь «излишние умствования», как выражался Салтыков-Щедрин. Так или иначе лейтенантам и мичманам приходилось слышать о не отвечающем гимназическим представлениям устройстве мира. Если не меньше сотни членов достаточно тесной офицерской семьи югоросской армии и флота попадали в разные интересные ситуации, в том числе и в иные миры и времена, так в тайне этого не сохранишь. Дело лишь в трактовке этих ситуаций и степени приближённости каждого к первоисточнику сведений и слухов.
Полковник на ходу сконструировал подходящую к случаю легенду, объяснил, что происходящее вполне укладывается в рамки выполняемой ими задачи, о подробностях которой всё, что нужно, будет сообщено в соответствующее время и строго в пределах должностных обязанностей.
— Пока что можете считать себя в краткосрочном отпуске. Старший лейтенант Дмитриев несёт полную ответственность за вверенный ему личный состав. Вопросы внутреннего распорядка в экипаже — на его усмотрение. Предупреждаю — по территории Замка вы можете перемещаться свободно, куда заходить нельзя — туда просто не пустят. На «экскурсии» по одному не ходить. Заблудиться здесь практически невозможно — в случае чего просто заходите в первый попавшийся лифт и громко произносите место назначения. Он довезёт. Самое главное — во время прогулок вы обнаружите большое количество разного рода питейных заведений. Всё, что в них выставлено, — бесплатно. Поэтому особо предупреждаю — знать меру, как во время увольнения на берег в чужом порту. Мои дисциплинарные права в отношении вас не ограничены, поэтому в случае чего прошу не обижаться. Если кто меня ещё не знает, то не советую начинать знакомство с этой стороны.
На ужин с Арчибальдом собрался только «высший круг», считая Уварова и Катранджи. Для девушек и лётчиков Арчибальд организовал отдельную «культурную программу», нечто вроде кабаре + варьете (что, впрочем, почти одно и то же). Пусть молодёжь отдохнёт и развлечётся, не забивая себе головы «взрослыми» вопросами. Кристине вежливо, но твёрдо было указано, что некоторое время Ибрагим Рифатович обойдётся без её услуг. Спорить было бессмысленно.
С лучшей стороны проявил себя Удолин. Казалось бы, какое ему дело до мелких проблем незначительных людей, которых столько мелькало за минувшие века перед его глазами. Однако озаботился.
Отвел на минуточку Арчибальда в сторону от посторонних ушей и сказал ему достаточно веско:
— И чтобы никаких больше шуточек с этими юношами и девушками. Никаких «римских ночей» и принуждений к «счастью и любви».
Константин Васильевич деликатно намекнул на предыдущую попытку робота (иначе профессор это человекообразное чучело про себя не называл) внушить гостям Замка желание отбросить все моральные принципы и взаимно удовлетворить самые затаённые желания в отношении друг друга. Ему (Арчибальду) тот раз показалось очень интересным, для расширения собственных познаний в психологии, понаблюдать, как поведут себя люди, связанные очень сложными личными отношениями, получившие возможность реализовать все свои мечты и вожделения, хоть в интимной обстановке, хоть публично.
Еле-еле Новиков с помощью профессора сумел эту намечавшуюся и наверняка поведшую бы к нравственной катастрофе вакханалию пресечь в последний момент. Даже пистолетом пришлось намекнуть, что настаивать на своём — не нужно.
Удолин, будучи, с точки зрения Арчибальда, существом не вполне материальным и абсолютно нерациональным, нагонял на него подобие если не страха, то ощущения, что вступать в конфронтацию с магом не стоит. С обычными людьми сначала разобраться бы. Поэтому Константин Васильевич немедленно получил заверения в том, что никаких вмешательств во внутренний мир гостей допущено не будет.
Взяв на себя функции хозяина и одновременно тамады Арчибальд произнёс целую серию вполне дежурных фраз о том, как он очень рад видеть и своих старых друзей, и новых гостей, непременно станущих таковыми, о том, что они не должны себе ни в чём отказывать, ибо «мой дом — ваш дом!» и так далее… Басманов, пусть не очень долго, но всё же послужив на Кавказском фронте, а потом пожив в Стамбуле, кривился от потока восточных банальностей самого низкого разбора.
Он посмотрел на Катранджи. Тот понимающе усмехнулся и сделал римский императорский жест — большой палец вниз.
Всё ж таки, выстраивая свою личность по доступным ему образцам, Арчибальд позаимствовал у землян слишком много лишнего, прежде всего страсть к «велеречивости». Сообразить, что копирование длительных, вплоть до академического часа, рассуждений Удолина на любую подвернувшуюся тему ещё не есть определяющий признак разумного существа, он пока не успел. Что же говорить об обычном «словоблудии» Новикова, Шульгина, Левашова? Стилистика и витиеватость выражений Воронцова заслуживают отдельного разбирательства. Потому Арчибальд, как какой-нибудь персонаж Гоголя или Достоевского, повращавшись в обществе образованных людей, тоже вообразил, что выражаться нужно как минимум «красиво», употребляя как можно больше «по-научному» звучащих слов и выражений.
Мысленно пропуская целые словесные периоды робота, не несущие вообще никакого смысла (как абзацы из докладов партийных секретарей советских времён), а остальную часть его выступления мысленно сократив примерно вчетверо, слушатели поняли, до каких высот самоутверждения успел подняться данный механизм. Лет сорок назад в большой моде были фантастические книжки о всемирном бунте роботов. Так там речь шла о примитивных ламповых устройствах, работавших на перфокартах, с быстродействием тысячу операций в секунду, а теперь к идее мирового (если не вселенского) господства пришёл псевдоразум с непостижимыми для большинства земных учёных способностями и возможностями.
Одно счастье — он по-прежнему оставался конструкцией, пусть даже и наделённой бесчисленным, далеко превосходящим человеческую нервную систему количеством элементов и связей, со скоростью проводимости «нервных импульсов», приближающейся к скорости света, но лишённой существенного свойства, не говоря о «душе» или чём-то подобном. Самой обычной интуиции у Арчибальда не было, и того, что называется «житейским умом», тоже. А что есть «ум», и что отличает даже малограмотного, но «умного» человека от облечённого академическими степенями «дурака»? Всего лишь способность мгновенно принимать решение, адекватное ситуации. И ничего больше. Лишённые же этого природного свойства люди (и «не люди» тоже) приходят к окончательному результату путём длительных сомнений и терзаний, тупого перебора вариантов, гадания на картах или внутренностях животных, а нередко — подбрасыванием монетки. Что уж говорить об интуиции и «гениальных озарениях»?
В конце концов Арчибальд сообщил (и это было самым главным), что после того, как люди, в том числе и Антон, его покинули, он решил принять всю ответственность за судьбы этого потерявшего управление мира на себя. Ничего сложного в поставленной задаче он не видел. Информации у него достаточно, все ошибки, допущенные форзейлями, агграми и обычными земными правителями, стремившимися к власти над миром, он проанализировал и учёл. Разработал собственный, безупречный план. Друзья (он привычно, или подчиняясь какому-то императиву, заложенному в самые основы его личности, продолжал называть Антона и всех остальных «друзьями») вначале правильно поняли его предложение и удалились на сотню лет назад, в Южную Африку. Там они получили возможность создать новую временну́ю линию и жить совершенно спокойно, не вмешиваясь в события на Главной Исторической Последовательности, которую Арчибальд по праву считал «линией своих жизненных интересов». Он не возражал и против того, чтобы люди продолжали использовать планету Валгалла-Таорэра (тут он отвесил полупоклон с сторону Сильвии, как бы признавая её права на названную территорию). Однако его не послушались. Вначале вмешались в дела дуггуров, до которых им не было никакого дела, а потом, буквально ни с того ни с сего, принялись наводить свои порядки и внедрять неподходящие принципы в истинной реальности (понимая под ней ту же ГИП).
— Простите, кто начал вмешиваться? — спросила Сильвия тоном отличницы, не совсем понявшей преподавателя на семинаре. — Кажется, так называемых дуггуров никто не трогал, пока они сами не появились и на Земле, и на Таорэре. Получили отпор, не спорю, но не более чем соразмерный. Не так?
— А зачем Новиков с Шульгиным, меня не послушав, пошли в пещеры дагонов? Зачем, захватив корабль, полетели на «Землю-два»?
— Зачем ты, Арчибальд, захватил наш самолёт и притащил нас сюда? — в той же логике ответил ему Басманов. — Разве это подпадает под положения Гаагских конвенций тысяча восемьсот девяносто девятого и тысяча девятьсот седьмого годов? Все здесь присутствующие относятся к категории некомбатантов[18], в пределах, только что тобою обозначенных. И, следовательно, на территории третьих стран не подлежат даже интернированию. Поясни, пожалуйста.
Полковник давно понял, что в Замке и с Замком лучше всего разговаривать не эмоционально, а формализованно. Так он быстрее запутается в собственных построениях.
Наверняка Арчибальд прокрутил в памяти все пункты и положения названных конвенций, включая дополнения тысяча девятьсот пятьдесят четвёртого года, и ответил почти возмущённо:
— О каком интернировании может идти речь? Это было всего лишь спасение терпящих бедствие на море и в воздухе! — Он мгновенно привёл соответствующие статьи всех существующих в современном международном праве договоров и соглашений. — Без моего вмешательства ваш самолёт и все вы были бы уничтожены ровно через три минуты семнадцать секунд ударом молнии. Естественного в южных широтах природного явления. Я узнал, просчитал и успел немного раньше.
— Как трогательно, — сказал вертящий в пальцах тонкую ножку коньячной рюмки Удолин. — Мы вам несказанно благодарны. И что дальше?
— Дальше вы побудете моими гостями столько времени, сколько потребуется, чтобы нейтрализовать все связанные с вашими вмешательствами в «ткань времени» явлениями.
— Хотя бы совместимо это «время» с продолжительностью нашей физической жизни? — спросила Сильвия, вспомнив разговор Антона, Скуратова и Арчибальда в прошлое посещение.
— Вас это не должно слишком интересовать, — неожиданно резко, если не злобно, ответил Арчибальд.
— Конечно, конечно, — опять удивительно мягко ответил Константин Васильевич очень ему не свойственным образом.
«Наверняка уже придумал свою контроверзу, — подумала Сильвия. — И дай бог! Похоже, иначе, как магическими способностями этого вздорного старца (пятьдесят пять лет физического возраста, более двух тысяч, по его словам, реального), мы с Замком не справимся».
— Меня не интересует почти ничего, — продолжил Удолин. — Если мне довелось увидеть пресловутый «Большой взрыв», так тринадцать миллиардов лет туда, столько же сюда — непринципиально.
Арчибальд естественным образом обалдел. Лишённая воображения машина моментами склонна принимать любой сигнал, поступающий на её воспринимающие внешнюю информацию модули, как истину. Иногда нуждающуюся в проверке, а иногда и нет.
Так и начали вертеться «шестерёнки» внутри немыслимо сложной и настолько же никчёмной, если некому ею управлять, машины. Не умевший писать Сократ и то наверняка презрительно бы поморщился. Простейшая (для «дураков») посылка — если объект «Удолин» существует превосходящее обычное для биологических существ время, то отсутствует принципиальное различие между тысячей и тринадцатью миллиардами лет. Если объект «Удолин» владеет десятью (условно говоря) способностями в ментальной и физической сфере, мне недоступными, нет оснований считать, что он не владеет ста или тысячью.
Вывод (в пределах «сократической» логики) — объект «Удолин» является интеллектуально доминирующим, поскольку я не в состоянии доказать его неправоту.
«Что и требовалось доказать», — в пределах той же логики подумал Константин Васильевич, уловив систему мышления Арчибальда. Он, опустив руку вдоль спинки кресла, показал только Сильвии особым образом сплетённые пальцы. Это был тайный знак посвящённых, употреблявшийся шумерскими жрецами, раскрытый Удолину Верховным из Верховных, после того как профессор извлёк из-под хитона (или шерстяной юбки? Чёрт знает, сколько веков и цивилизаций он посетил, попробуй упомни, где когда что носили!) титановую пол-литровую фляжку. И каким же почтением тот самый жрец проникся к профессору, хлебнув настоящего «Арарата» после мутного просяного пива!
Тайный знак сообщал, что ситуация под контролем, и никому в её разрешение вмешиваться не нужно. Сильвия шумерских обычаев не знала, но мистическое свойство знака было таково, что его понимал тот, кому он предназначался. Независимо от возраста, образования и национальности. Следующим жестом Константин Васильевич сообщил остальным, что вступать в данную дискуссию им никоим образом не следует. Без них разберутся.
Дальше Константин Васильевич самым блестящим образом начал раскручивать Арчибальда.
Он заставил его рассказать всю предысторию, историю, а главное — методику его действий — то ли повелителя, то ли слуги настоящего Замка. Всю картину (несколько не совпадающую по реальному времени) организованной им вооружённой конфронтации между двумя чересчур близкими реальностями. Арчибальд, по своей «наивности», а точнее — интеллектуальной примитивности, считал, что поражение, нанесённое направляемыми им силами возрождающейся Империи Олега, лишит «друзей» как минимум уверенности в своих способностях. Они проиграют сражение за три реальности сразу. Да и как могут не проиграть? Он ввёл в действие и человеческие возможности, начиная от «Хантер-клуба», полтораста лет направлявшего ход мировой истории, и самые современные изобретения «психоволновой» и «хронофизической» человеческой техники, и свои собственные, позволявшие свободно манипулировать межвременными и межпространственными границами. Он открыл людям, которых счёл «подходящими», тайну «бокового времени» (внушив эту идею Маштакову), но они воспользовались ею совсем не так, как он рассчитывал. А рассчитывал он на то, что Катранджи, увлечённый идеей получить в своё распоряжение полностью свободную от населения Землю, освободит от своего присутствия и присутствия своей организации целую реальность, чем значительно понизит геополитическую и хронофизическую связность всего Узла Сети.
Затем он направил в параллельную Россию жестоких и отлично вооружённых боевиков с ГИП, чтобы они убили Императора и захватили власть для последующей передачи назначенцу Арчибальда, но и тут ничего не получилось. Его всё время опережали, то на шаг, то на два.
В конце концов происходящее (особенно попытка некоторых из присутствующих устроить объединение двух абсолютно несовместимых Россий) привело Арчибальда в бешенство (своё собственное, с человеческим ничего общего не имеющее). Он решил поставить точку. Как Господь Бог — ликвидировать мешающее ему человечество в двух лишних реальностях путём чего-то похожего на Всемирный потоп. На ином, разумеется, технологическом уровне. Кого назначить на роль Ноя, он не успел определиться. Вмешалось что-то ещё!
— Ты хочешь сказать, что инцидент с «Гебеном» в Царьграде и следующая попытка нашего уничтожения «молнией» исходят не от тебя? — приподняла тонко очерченную бровь Сильвия.
— Именно это я вам и говорю! Я никогда не поднял бы руку на своих друзей, людей, бывших гостями Замка и столь многому меня научивших. Всё, что я себе позволил — лишь показать вам всем собственную способность управлять мировыми процессами, причём уже после того, как вы приняли моё предложение заняться более интересными и безопасными делами за пределами расползающейся ткани Бытия. То, что я решил совершить в первой и второй реальностях, никак не затрагивало ваших интересов и должно было спасти то, что ещё возможно спасти.
— Реинкарнация британского неоколониализма как способ спасения России, — насмешливо загнул длинный костлявый палец Удолин. — Оригинально. Уничтожение всего, что дорого твоим «друзьям» как метод объяснить им степень твоего уважения. Если им нечего будет больше любить, придётся любить тебя. Прелестно. Но, увы, дражайший, настолько не ново, что просто скучно.
Он протянул вперёд кулак с загнутыми четырьмя пальцами.
— Разрешаю тебе загнуть пятый, — очень жёстким, даже беспощадным голосом, каким, наверное, разговаривал Ашурбанипал со своими клевретами, сказал Константин Васильевич. — Что за неожиданный шаг, способный рассеять все наши сомнения, ты придумал? Впрочем, лучше оставь нас в покое до утра, мы все очень устали, и сам разберись, что же за неведомая сила вмешалась в твои гениально-безупречные планы? А главное — зачем? От кого ты нас спас, и что мы будем делать дальше? Надеюсь — вместе. Ибо глупо и бессмысленно продолжать спор о курице и яйце, когда неведомый враг выламывает двери твоего дома…
Удолин сказал всё, чтобы перегрузить оппонента «Белым шумом». Не так много труда это составило тому, кто опроверг силлогистику Аристотеля задолго до того, как тот её создал.
Неизвестно, сколько триллионов рефлекторных связей задействовал Замок, чтобы Арчибальд — его эффектор — сумел прекратить этот симпосион и распрощаться с гостями самым милейшим, в его понимании, и взаимоприятным (как ему казалось) образом.
Глава двадцатая
— Знаешь, Михаил, — вдруг придержала за локоть Басманова Сильвия, когда они вышли из каминного зала, в которым перед ними вещал, изображая из себя нового «Властелина мира», Арчибальд, — мне нужно с тобой серьёзно поговорить.
— О чём? — сделал вид, что удивился, Басманов. — Как власть в отряде делить будем? Тебя это волнует? — Он вдруг впервые обратился к ней на «ты», а раньше положение и возраст будто бы мешали.
— Волнует, — тихо и спокойно ответила она, чтобы не услышали шедшие впереди Катранджи, Уваров и профессор, говорившие о своём. — Сейчас расходимся по своим комнатам, через полчаса выйди на лестничную площадку.
Тон у леди Си был такой, что спорить не хотелось, да и нужды не было. В любом случае — она для него «старшая сестра». А в «Братстве», как в нормальной биологической семье, случиться в личных отношениях может всякое, но младший брат старшим всё равно не станет. Это вам не армия, где иногда лейтенант (в понятиях Басманова — поручик) обгоняет полковника.
А вдобавок Сильвия очень легко, одновременно нежно и уверенно коснулась пальцами его ладони.
Басманов переоделся в так и не ставшие ему по-настоящему привычными джинсы и майку с короткими рукавами, открывающими руки, в недружественные объятия которых мало кому хотелось бы попасть. Полковник с первого дня в отряде рейнджеров на «Валгалле» понял, что теперь спортом заниматься надо без дураков (иначе просто не выдержишь сержантской муштры), в назначенное время вышел из комнаты. Свой любимый с германской войны «парабеллум» на всякий случай сунул сзади под ремень. Не помешает, пусть просто как атрибут офицерского достоинства. Сильвия появилась через минуту. Точная женщина. Она была одета легкомысленно. Возможно, чтобы дезориентировать того (или тех), кто за ними вздумает наблюдать. Очень открытый сарафанчик, в вырезе которого вольно покачивалась нестеснённая галантерейным изделием грудь. Басманов, несмотря на совсем другой настрой, слегка удивился. Сколько он знал леди Спенсер, она всегда одевалась достаточно строго, и эта часть её тела специального внимания не привлекала, ему как-то не приходило в голову задумываться, что именно скрывается у неё под жакетом или платьем. Полковник вообще всякой ерундой интересовался не слишком, имел слабое представление о «размерах», не мог в отличие от приятелей навскидку отличить третий размер от четвёртого. Зато славился на фронтах умением попадать в наблюдаемую цель вторым снарядом, обходясь без классической «вилки»[19]. На его взгляд, достаточная компенсация. Дурак, кто, засмотревшись на женские сиськи, иногда крайне эффектные, пропускает нечто более важное. Михаил заметил, что не только груди «мадам» освободила (может, им, женщинам, снять свою «сбрую» так же моментами хочется, как солдату — размотать портянки), но и бёдра у неё выглядят шире обычных. Значит, там пистолетные кобуры, пусть и изготовленные по форме тела. Два пистолета, не меньше, чем «девяносто вторые» «беретты». Или нечто примерно того же размера.
Басманов был человек, умеющий мыслить в любой обстановке и не поддающийся слишком броским очевидностям. В боковом кармане юбки Сильвии почти в открытую лежит портсигар. Курящей женщине вполне уместно держать его именно там, раз больше негде. Любой понимающий человек (если Арчибальда можно отнести к таковым) сразу сообразил бы, что владеющей блок-универсалом почти раздетой даме совсем ни к чему таскать под юбкой два килограмма стреляющего железа. Значит, она уверена, что Арчибальд и Замок в целом не подозревают о функциях её золотой игрушки? Если так — это великолепно! Тогда две «пушки» у бёдер — отвлекающий маневр, очевидное доказательство и её «боеготовности», и безвредности для того, кто обладает высшими, на его взгляд, возможностями. Пусть веселится, воображая, что люди всё так же примитивны, раз даже в недрах Замка полагаются на свои примитивные пистолеты, считая их некими амулетами, способными от чего-то спасти.
Она посмотрела на него яркими, до невозможности откровенными и, как показалось наивному полковнику, «старому солдату, не знавшему слов любви», очень добрыми глазами. Ну, действительно, старшая сестра, без всяких посторонних смыслов.
— Сейчас мы немного покатаемся, не спрашивай меня ни о чём, делай то, что я буду показывать только жестами, — шепнула Сильвия на ухо Михаилу во время поцелуя в щёку, так тихо, что и на расстоянии сантиметра он едва услышал. Басманову этого было достаточно. Несколько десятков раз, наверное, Шульгин под настроение заводил ему патефонную пластинку американского певца Дина Рида под названием «Война продолжается». Александру очень нравилась мелодия и слова, и родившемуся полувеком раньше Басманову она в памяти засела. Хорошая военная песня, в строю исполнять можно.
Для него война всегда продолжалась. Но сейчас — в более приятном варианте, чем зябкой, дождливо-снежной весной шестнадцатого года. Вот тогда штабс-капитан Басманов усвоил, что офицерская шинель впитывает в себя до ведра льющейся с неба воды, а самые лучшие сапоги промокают насквозь через два часа.
Сильвия для любого из нескромных наблюдателей, хоть из своего отряда, хоть включённых Арчибальдом, мастерски изображала женщину, охваченную страстью и ни о чём больше не думающую. Разве что решившую, для обострения чувств, предварительно показать любовнику прелести места, где они оказались. Неважно, чьей волей и по какой причине. Радуйся, мол, жизни, пока есть такая возможность, «на том свете не дадут…».
Они заглянули в самый знаменитый среди «братьев» вымышленный и воплощённый Шульгиным бар, с витражами обнажённых наездниц. Басманову «модели» понравились, но сама идея, будто такие красавицы способны получать хоть какое-то удовольствие от строевой посадки (даже для позирования, а не реальной скачки на галопе), в своих эфемерных туалетах или вовсе без них, вызвала у него добродушную, но уничтожающую критику.
— Александра Ивановича я понимаю. Не одну ночь в душещипательных беседах провели. Весь он в этих картинках сублимировался…
Сильвия сначала удивилась чересчур научному слову, не совсем подходящему стилю старинного строевика, потом вспомнила, что он артиллерист, а значит, познаний в химии не чужд.
— Со мной бы посоветовался, я в седле с двенадцати лет. Эту вот фею, — он указал на самый эффектный из витражей, — лучше б в дамское седло посадить. И достовернее вышло бы, и куда соблазнительнее…
Сильвия прикинула и согласилась. Вот тебе и батарейный командир, ничего, кроме кадетского корпуса, училища и шести лет войны, не видевший. Она вспомнила этого же Басманова, только что «завербованного» в Константинополе. Нет, всё правильно — иным он и не мог быть, если из сотни тысяч беженцев Новиков с Шульгиным выбрали именно его. И ни разу не имели оснований усомниться в правильности выбора.
А сколько таких же, ничем не хуже, а может, и лучше поручиков, капитанов и подполковников легли в землю с августа четырнадцатого… Или умерли, спились в эмиграции, не встретив на бульваре чужого города своих Новиковых и Шульгиных…
«Грустно», — подумала Сильвия, неожиданно ощутив, что, может быть, именно в этот момент она полностью сменила самосознание, став уже стопроцентно русской женщиной. Раньше кое-что «спенсерское» в ней оставалось, невзирая на множество ситуаций, где ей приходилось держаться крайне русифицированно. Особенно — живя с Берестиным. Но вот сейчас…
Они пили в основном кофе, который здешняя автоматика готовила просто великолепно и на любой вкус, сопровождая его коньяками и ликёрами, разговаривали на темы, очень далёкие от «злобы дня». Не только Арчибальд при своей интеллектуальной тупости, но и вполне проницательный человек непременно поверил бы, что взрослая женщина применяет все свои чары и способности, чтобы соблазнить довольно инертного в сексуальном смысле офицера.
Басманов, как мог, ей подыгрывал. Труда не составляло — партнёрша была хороша сама по себе и в школе Станиславского могла быть лучшей ученицей, а уж ему стыдно вспомнить, как рассеян и неуклюж он был с дамами, последний раз перед февральским переворотом попав с фронта в «приличное» петроградское общество.
Потом вдруг Сильвия указала ему на дверь позади барной стойки. В лучших традициях детективов они вышли через неё в полутёмный кривой коридорчик, параллельный центральной, ярко освещённой и устланной ковровой дорожкой галерее. В тупике, ничем не примечательном, аггрианка дёрнула Михаила за рукав:
— Нам сюда!
Непонятно, что она сделала, но прямо перед ними вдруг раздвинулись не отличимые от каменной кладки стен двери, засветилась огнями кабина почти обычного лифта.
Несколько минут, как ему показалось, они летели в зеркальной кабине одновременно вверх, вниз, по горизонтали и в других направлениях. Объяснить это трудно, но вестибулярный аппарат реагировал именно так, пусть полковнику и не пришлось крутиться на космонавтских центрифугах и лопингах.
Михаил терпел, хотя несколько раз тошнота подкатывала к самому горлу. Утешало то, что он верил: Сильвия — специалистка высокого класса и за время пребывания в Замке научилась многому, недоступному ни Воронцову, ни Шульгину с Новиковым, пусть они и сумели проникнуть в закрытые для гуманоидов уровни Замка. Просто специализация и система подготовки у них были немного разные, и на одни и те же вещи они смотрели под разными углами.
Она ещё во время их первой (фактически ещё до начала нашей эпопеи) официальной встречи с Антоном, как резидентов и «высоких договаривающихся сторон» в Норвегии, согласилась на пресловутый «Ставангерский пакт»[20]. Если исходить из принципов хоть аггрианской, хоть форзейлианской политики — они в тот раз и стали предателями. Более того — обрушили всю систему тысячелетних, достаточно удачно сохранявших баланс интересов противостоящих сил на этой планете. С того дня, закрепившего их соглашение «о принципах отношений за пределами предписанных руководством конфронтаций» бессонной ночью в апартаментах отеля «Густав Ваза», всё и посыпалось. Нельзя, оказывается, даже из «лучших соображений» выдёргивать хоть один камешек из фундамента на песке построенного здания.
И потом, уже в Замке, она, деморализованная проигрышем каким-то крайне примитивным, пусть и дико агрессивным молодым парням, регулярно проводила время в постели Антона. Эти забавы её не унижали и ни к чему не обязывали. Зато позволили вытащить из его раскрывавшегося на пике страсти подсознания много полезных подробностей и фактов.
Отчего и использовали в своих операциях аггры исключительно женщин, оставляя «примитивным существам» роль исполнителей или, в крайнем случае, подконтрольных «старшим» координаторов. Как того же Лихарева или Георгия.
Наконец утомительный полёт закончился, дверь открылась, они вышли на узкую, окрашенную неприятной синей краской площадку «чёрной лестницы» обычного петроградского дома. Только при «настоящей» жизни Басманова и эти лестницы содержались в порядке, а здесь словно стадо плохо воспитанных обезьян повеселилось. Деревянные накладки с перил сорваны, железные стойки погнуты, будто их пытались сломать или вырвать с корнем, да силы не хватило. Стены исписаны, где гвоздями глубиной на сантиметр, где краской — примитивными матерными словами. Ступеньки в грязи, перемешанной с окурками.
Бывало, видел он такое, попадая в освобождённые от «красных» города. Везде одно и то же, будто существа, некогда вынужденные выглядеть и называться «людьми», превратившись в «пролетариев», облегчённо возвращались к своей истинной сущности.
— Михаил, — сказала Сильвия, запирая за ними дверь на тяжёлый засов, — теперь можно говорить и держаться свободно. Я вижу, как ты натянут.
— Миледи, — ответил Басманов, вынимая из кармана папиросную коробку, — вот об этом — не надо. Тебе смысл подобных слов просто непонятен. Когда у тебя два снаряда остаётся, на боку шашка и «наган», а немцев вокруг полсотни — тогда «натянешься». А шляться с красивой женщиной по кабакам в сухих сапогах — штатским просто не понять, насколько это расслабляет, а не «напрягает».
— Хорошо, Михаил, я поняла, не обижайся…
Она наскоро объяснила ему сущность места, где они оказались. В той самой, придуманной Шульгиным, «советской коммуналке», куда сам Замок всеми своими силами не мог проникнуть и в то же время закрыть в него доступ «посвящённым». Сашка тогда подловил почти всемогущее «явление» (а как ещё назвать этот самый Замок, почти как Вселенная, бесконечный и неописуемый) на древней, как мир, апории. «Может ли всемогущий Бог создать камень, который сам не сможет поднять?» Именно это и получилось.
Басманов в Замке побывал именно тогда, когда решался вопрос о южноафриканской экспедиции. Пробыл очень недолго. Сюда ему зайти не случилось. Он стоял, озираясь на грязные стены и заросший паутиной четырёхметровой высоты потолок, несколько газовых плит и кухонных столов, принадлежавших нескольким хозяйкам живших здесь семей.
— Посмотри вон в том стенном шкафчике, — сказала Сильвия.
Он подошёл, открыл, увидел там будто век его дожидавшуюся бутылку «Московской» водки с красной сургучной головкой. Бывшая британская аристократка в это время открыла холодильник «ЗИС», специально для советских коммунальных кухонь придуманный, с замком на дверной ручке, но сейчас незапертый. Нашла там солидный кусок почти свежего сыра. А в остальном: «Зима, пустынная зима». Да им ничего больше и не требовалось, поужинали они достаточно плотно. Разве что горелку под чайником зажечь. Индийский чай «со слоником», для разговора, голландский сыр, ну и та самая «Московская».
С полчаса Басманов с Сильвией сидели и говорили совсем спокойно. Не хотелось им задевать ни одной темы, способной нарушить хрупкое равновесие отношений. Говорили просто так, старшая сестра с братом, о жизни прошлой и будущей, о каких-то интересных событиях, ну, само собой, о личной жизни.
— Я тебе, Миша, очень советую закончить свою «вольную жизнь». Тридцать два тебе, правильно? — тихо и назидательно спросила аггрианка.
— Тридцать три скоро, — грустно ответил Басманов, будто этот возраст действительно имел для него какой-нибудь смысл.
— Вот и хватит. Марина на тебя обратила внимание?
Полковник будто бы слегка смутился. Не понять, чего вдруг?
— А ты на неё?
Басманов молча согласился.
— Чего же тебе ещё? У моих девушек присутствует нечто вроде импринтинга. От чего он зависит — я не знаю. Верещагина почти год прожила в человеческом мире, послужила в спецназе, мужчин видела достаточно. И — ничего! Тут вдруг увидела тебя — и что-то ощутила! Не узнать девчонки. Логически это необъяснимо: и «братья» Ляховы, и Уваров, и многие другие её ничем не привлекли. Мужчины с московских улиц — тем более. И тут увидела тебя! Наверное, Дайяна их так и программировала — если её девушки захотят влюбиться, так уж в самых лучших, наиболее им подходящих. Ты ей показался лучше всех, увиденных за год. Так уж ты постарайся, Миша, не обмануть её надежд. Если она тебе хоть немного нравится.
— Красивее девушки я не видел, — почти выдохнул Басманов.
— Отчего так? — спросила Сильвия, разливая по стаканам советскую водку. — Ты пятерых сразу увидел. Чем Людмила хуже, Маша, Кристина?
— Что ты хочешь, леди Си? Объяснить необъяснимое? Как будто ты из ста мужчин не выбирала одного…
— Тут совсем другая тема, — ответила Сильвия. — Обо мне говорить не будем. Но вчера ты эту девушку не видел и ничего подобного не думал. Потом перед тобой возникли сразу пять, среди которых даже я не взялась бы выбрать лучшую. А ты — выбрал. Почему? Она на тебя первая посмотрела «нужным» взглядом, или ты ощутил «родство душ»?
— Не терзай ты меня, я сам ничего не понимаю. Завтра мы с ней снова увидимся, тогда, может быть, что-то прояснится…
В третьей по счёту от кухни комнате, обставленной как настоящая спальня, с очень широкой кроватью и абсолютно свежим бельём (крахмалом пахло и морозной свежестью, будто вправду его на зимней улице сушили), Сильвия сказала:
— Завтра ты, Михаил, сделаешь всё, чтобы стать для девочки Марины лучшим и единственным.
— Завтра? — как-то очень безразлично спросил Басманов, глядя, как Сильвия, погасив верхние люстры и включив слабенький торшер в углу, стянула через голову сарафан, слегка растрепав причёску. Под ним у неё действительно были подвешены к широкому, усиленному кевларовой лентой кружевному поясу и ещё ремешками вокруг бёдер, на манер подвязок, пистолетные кобуры. Она их сняла вместе с поясом, бросила на прикроватную тумбочку. Теперь на леди Спенсер остались только трусики, абсолютно символические. Офицеру было даже и непонятно, для чего такое носить? Ни от чего не защищают, всё через них просвечивает и проступает. Давно, впрочем, известное.
Но груди у Сильвии и впрямь были хороши. Тугие, круглые, с розовыми, чуть больше вишнёвых косточек сосками. Не у каждой двадцатилетней такие увидишь. Гомеостат, однако, подумал Михаил, даст бог, с ним и я в сто буду не хуже неё выглядеть. Мысль сама по себе дикая. Сказал бы кто-нибудь человеку, который своё двадцатишестилетие встречал на склоне дороги, ведущей от хутора Верхнебаканского к Новороссийску, что через какое-то время он будет всерьёз размышлять, в какой физической форме отметит вековой юбилей. Тут не знаешь, доживёшь ли до вечера…
Лил бесконечный трёхдневный дождь, снарядов оставалось два десятка на всю батарею. Басманов страшно удивился, когда вахмистр затряс его за плечо в тесной мазанке на окраине хутора и протянул кружку местного вина:
— Господин капитан, с днём рождения!
Басманов медленно сообразил, что так оно и есть. На душе стало ещё более погано.
— А ты откуда знаешь, Пилипенко?
— Так, господин капитан! Мы ж люди православные! Помирать будем, а день рождения и день ангела — святое ведь!
— Спасибо, Пилипенко, — с дрожью в голосе ответил Басманов, половину кружки отпил, вторую протянул вахмистру. — Чтоб я тебя так угостил в твой… Следующий.
— Ваши б слова да богу в уши, господин капитан. А сейчас как? Расстреляем все снаряды, бросим пушки и в Новороссийск через горы? Или станем насмерть? Я там позицию приметил, на повороте дороги. Не спеша да шрапнелью — сотни две выкосим…
И снаряды правильно расстреляли, ни одна картечь мимо не прошла, и почти всю батарею (а вдруг где-то снарядами удастся разжиться) Басманов с Пилипенко вывели к порту. В общей панике полсотни человек с оружием, до последнего верившие своему командиру, медленно, но упорно прошли через ревущую толпу, раздвинув её безразличным к буре чужих эмоций, ощетинившимся штыками строем. Морякам и дроздовцам, сцепившим руки перед трапом, капитан показал свой «парабеллум».
— Восемь выстрелов в вас, а дальше моя батарея — вон она, на том холмике, открывает шквальный огонь по палубе и мостикам. Согласны? Ненавижу тыловую сволочь! Нам так и так помирать, но и вам жить не получится…
— Проходите, господин капитан, — приказал разомкнуться заграждению поручик с исковерканным шрамом лицом, — я вас помню. Екатеринослав?
— Был и Екатеринослав, был Ставрополь, Армавир, Кавказская. Вас не помню, извините…
…Разоблачившаяся до предпоследнего предела аггрианка села на край постели, опершись на руки и вытянула ноги до середины коврика, чересчур, на взгляд полковника, вызывающе. Всякое он видел, но не стоит же — вот так.
— Зачем это, Сильвия? — спросил Басманов. — Ты же сказала — с Мариной…
— Затем, что я не уверена, что мы доживём до завтрашнего утра. И я хотела бы провести эту ночь с тобой. А с Верещагиной ты начнёшь с чистого листа…
— Зачем? — повторил Михаил. — И мне ничего не прибавит, тебе — тем более. — Он действительно с молодых лет не понимал, зачем девушкам и женщинам — это. Ну, женщинам — ладно. Так принято. А девушкам? Чего ради рисковать всем из-за полного пустяка? — Мало у тебя мужчин было?
— Наверняка больше ста, — быстро посчитала в уме Сильвия. С её мозгами могла бы назвать точнее, но не захотела. — А у тебя женщин? — спросила она навстречу.
— Не знаю. Не считал. Были и были. Временами. А не любил и не хотел всерьёз ни одну. Ни лиц, ни имён не помню.
— Несчастный. — Сильвия встала, провела ладонью по его щеке. — Давай сегодня я стану для тебя первой, единственной, только, упаси бог, не последней…
— Крайней, — снова без всяких эмоций ответил Басманов.
— Да что же ты за человек такой? — Сильвия обняла его за плечи, прижалась грудью, начала горячо целовать в губы, расстегнула пряжку ремня. Пистолет тяжело упал на ковёр.
— Ты всех наших парней уже переимела? — спросил полковник, отстраняясь. Отошёл к окну и закурил бог знает какой уже раз.
— Тебя это так волнует? — Сильвия начала заводиться. — Так запомни, запиши — никого! С Берестиным как начала жить в двадцатом, так и живу. Никого! Они все до отвращения моногамны. А сейчас тебя хочу. Ты ведь до завтра совсем свободен. Завтра сумеешь полюбить Марину — ваше счастье. Свадебный подарок сделаю такой, что и вообразить не сможете. А сейчас, ну, почувствуй, Миша… Очень, очень плохое, непонятное нас ждёт. Что ты с «трёхлинейкой» можешь стрелять до конца — я верю и знаю. Так ведь пять патронов — и всё? Все наши блок-универсалы — аналог того же самого, если за нас возьмутся всерьёз…
Очень сейчас грустна и печальна была женщина, обладающая телом, способным привести в исступление и в изумление почти любого мужчину. Но вот обычного капитана Гвардейской конной артиллерии — почему-то нет.
— Поверь, Миша, перед смертью очень меня на это тянет. Так если можешь и хочешь — помоги…
Она, стоя и пряча глаза, медленно стянула паутинно-кружевное нечто, просто обозначавшее границу того, что по правилам приличий следует прикрывать. Легла на кровать, заложив руки за голову.
— Иди ко мне, полковник, или к е… матери. На твой выбор. Чтобы тебе стало совсем понятно — по неизвестной причине мне достался интересный генетический или гормональный код. Мужского типа. Так же, как и вы, я, увидев понравившегося мне… партнёра, немедленно испытываю желание ему отдаться, или — им обладать, что вернее. Так же, как и вы, я умею скрывать и сдерживать своё желание, но до определённого предела, и совсем недолго. Ты понимаешь, о чём я?
Басманов щелчком с ногтя выбросил окурок далеко в форточку, но неизвестно куда. Возможно, на Никитский бульвар начала двадцатого века.
Ему потребовалось определённое усилие, чтобы отвлечься от того, что он знал о Сильвии. И её настоящий возраст, и инопланетную должность, и подчёркнуто вызывающее поведение «старшей сестры» на тех собраниях «Братства», где ему приходилось присутствовать. Если Ларису он считал просто стервой, но «своей» стервой, с которой возможны «простые дружеские отношения», то Сильвия была уж чересчур надменна. Даже великие княжны, дочки Николая Второго, вместе со своей державной мамашей не брезговали работать сёстрами милосердия в госпитале для рядовых солдат. Представить в этой роли леди Спенсер было невозможно.
Теперь она предложила себя почти безэмоционально. Сочтя нужным объясниться при этом. И Михаилу это неожиданно понравилось. Если бы она начала изображать неземную страсть или соблазнять подобием западноевропейского стриптиза, полковник наверняка бы выбрал второй из предложенных ею вариантов.
А так очень даже всё ясно и понятно. Они — два боевых товарища, старшие по команде в своём отряде. Война продолжается. Что случится завтра утром или через полчаса — никто не знает. И если одному из друзей захочется закурить — другой отсыплет табачку, если найдётся. Из заветной фляжки нальёт. Ну, «товарищу» захотелось другого. Пока и это в наших силах.
Басманов выключил последнюю лампочку, разделся и лёг рядом с женщиной. Она подвинулась ближе, натянула до плеч лёгкое одеяло. Из окна ощутимо задувало прохладным ветерком.
— Хочешь, поговорим о чём-нибудь совсем постороннем? — шепнула Сильвия.
Он молча качнул головой. О чём говорить?
— Ты очень суровый мужчина. — Аггрианке говорить хотелось неудержимо, будто до этого она (как и Антон) провела несколько лет в одиночке. Она взяла его руку и положила себе на грудь. — Я думала, мой Алексей зажатый и молчаливый потому, что Ирину до сих пор любит, это я понять могу. А ты? Тридцать два года — сам сказал, что «ничем не озабочен», тебе вешается на шею одна из самых красивых женщин, которых ты в жизни видел…
Она специально это произнесла, ожидая реакции. Удивительно, что, даже заглянув за рубеж третьего века своей жизни, Сильвия не утратила влечения к комплиментам и более весомым знакам внимания. Наверное, правильна идея, Хайнлайном, что ли, высказанная, что даже четырёхсотлетняя женщина, сохраняющая тридцатилетнее тело, поступает по воле тела и гормонов, а не разума.
Зачем вообще женщине разум — это отдельный вопрос, рассмотренный тем же Хайнлайном.
— Знаешь, Си, — спокойно сказал Басманов, хотя его ладонь уже соскользнула намного ниже груди, — налей-ка нам грамм по сто, или полтораста лучше, водки или коньяку…
— Сейчас, мой повелитель! — Сильвия отбросила одеяло, в темноте, видя, как кошка, нашла нужные бутылки, налила себе и полковнику, с двумя стаканами в руках присела на его край постели, подала прямо в раскрытую ладонь.
— Выпьем, дорогой. Выпьем здесь и выпьем тут, на том свете не дадут… Так у вас и у меня теперь тоже, в нашей России, говорить принято?
Басманов, естественно, выпил, потом нашарил на тумбочке сигаретную пачку.
— Из моего портсигарчика закурить не хочешь? — плывущим русалочьим голосом спросила Сильвия. Глаза её, несмотря на полную темноту в комнате, отблёскивали сернистыми (по цвету, только по цвету) искрами.
— Был бы толк, — туманно ответил он, подразумевая в её словах очередной посторонний смысл. А его и не было, она всего лишь имела в виду, что сигареты у неё гораздо лучше, чем у Михаила.
Басманов не знал, какими способами и приёмами владеет Сильвия, но догадываться мог. Не бином Ньютона, как говорится. Но на этот раз Сильвия вела себя на удивление сдержанно. Ещё точнее — прилично. Почти как любящая жена, занимающаяся привычным делом без сумасшедшей страсти, но так, чтобы и ей, и мужу было хорошо.
Обнимала его, целовала, шептала неразборчивые слова, возможно, и не по-русски, прижималась всем телом, но без малейших намёков не только на агрессию, но и на инициативу.
Только подставляла ему для поцелуев то одну, то другую грудь. В нужный момент повернулась на спину.
— Спасибо. Молодец, — сказала она, успокоив дыхание, встала и подошла к окну, как недавно Басманов, даже в полумраке отсвечивая своим мраморным телом. Повернулась лицом, опершись руками о подоконник. — Теперь можно и о деле поговорить. А дело у нас не слишком весёлое. Одна есть у меня надежда… Пойдём…
Ничего на себя не накинув, во всей обнажённой прелести, повела Михаила в другие комнаты. Работала точно и правильно, как сыщик на обыске. Не прошло и пятнадцати минут, как она, перейдя из гостиной в кабинет, раскрыла боковую дверцу забитого книгами шкафа.
— Вот оно, кажется, — облегчённо выдохнула Сильвия.
Басманов знал, что в будущих временах такая штука, похожая на плоский чемоданчик для целевых пистолетов или транспортировки бриллиантов, называется «ноутбуком». Даже научился пользоваться в основном как энциклопедическим справочником или портативной пишущей машинкой. Да большего ему и не требовалось.
Этот, правда, выглядел не совсем обычно. Когда Сильвия откинула крышку, под ней оказались несколько десятков «лишних» клавиш, кнопок, светящихся окошечек с совсем незнакомыми знаками и символами.
— Это я и искала, — сказала аггрианка, похожая сейчас на добрую ведьму из неизвестной сказки. — Когда Скуратов с Антоном отсюда убегали, академик не успел прихватить один из ноутбуков — времени и рук не хватило. А как раз на нём он фиксировал все свои разработки по психоматрице Замка, с точки зрения единственного, случайно оказавшегося в нашем мире, увенчанного Нобелевской премией специалиста по машинным логикам и этологии[21] негуманоидных цивилизаций. Я пока не знаю, что мы отсюда сможем почерпнуть полезного в нашем нынешнем положении, но Левашов мне говорил, как он сожалеет, что эта штука осталась здесь. Олег думал — навсегда. А мы вот с тобой её нашли.
Сильвия вновь обняла полковника за шею, легко коснулась губами его щеки. Сейчас они напоминали аллегорическую картину какого-нибудь гениального классициста XVIII века. «Пенелопа провожает Одиссея на Троянскую войну после получения повестки из афинского горвоенкомата». Только фиговые листики художник не успел изобразить.
— Пойдём слегка приоденемся, — сказал Басманов, — и ты всё объяснишь, чтобы я понял.
Офицер не мог чувствовать себя нормально хотя бы без бязевых подштанников. Если он, конечно, не в бане. Аггрианке было всё равно, но из уважения к его предрассудкам она нашла в ванной подходящие им по размеру махровые халаты.
Они устроились в спальне за журнальным столиком в очерченном лампой торшера круге света, и Сильвия, как могла, объяснила математически подкованному артиллеристу, в чём суть дела.
Левашов, безусловно, гениальный инженер-самоучка, вроде Эдисона, но слаб в теории. Особенно — в теории «несуществующего». Он, как затерявшийся в глубине времён предок, впервые сообразивший, что сочетание кремня и подходящей железки не только даёт человечеству неограниченные возможности добывания огня в любой обстановке, но через тысячи лет приведёт к созданию основанных на том же принципе пистолетов и ружей, никогда бы не сумел описать своё изобретение в патентной заявке. И так далее, и так далее, и так далее… Вплоть до СПВ и дубликатора, об истинных принципах функционирования которых Олег не догадывался, примерно так, как не представляли содержания многотомных книг по аэродинамике создатели первых самолётов. Да и строители средневековых соборов институтский курс сопромата не сдавали.
— А господин Скуратов, на наше счастье, оказался именно теоретиком. Высшего класса сам по себе, так ещё и проживший жизнь в мире, где люди захотели и научились летать к звёздам. Просто захотели, ты понимаешь, Миша?!
— Захотели, и что? — отстранился Басманов. — Мы вот захотели летать на самолётах — и тоже стали. На Луне, говорят, побывали, а чем звёзды отличаются? Немного дальше, всего лишь. «Вулюар се пувуар», как любит выражаться Андрей Дмитриевич. «Хотеть — значит мочь».
— Он прав, кто будет спорить, — согласилась Сильвия, откинувшись на спинку стула. — На той планете, расе которой я раньше служила, и на множестве других с развитыми цивилизациями летать к звёздам через пространство, на космических кораблях, так и не научились. Разного рода межпространственные переходы — да, но не звездолёты. А это, знаешь, такая разница… — Лицо её вдруг стало мечтательным. — Как между путешествием из Европы в Южную Америку в запечатанном отсеке баллистической ракеты, или туда же — на парусной яхте. Но я не об этом, — она снова посерьёзнела. — У тех людей мозги как-то по-другому устроены, мотивации иные, сам способ мышления. Вот Скуратов и сумел вплотную подойти к решению вопроса, как снова превратить Замок в послушный механизм, без всякой «самоидентификации» и «свободы воли».
— И ты сумеешь в его формулах разобраться? — удивился Басманов. — Он сам не успел, а ты сделаешь?
— Постараюсь. Я, само собой, не математический гений, но память у меня абсолютная, да и блок-универсал поможет. Не мешай мне полчаса — вдруг да и получится… Основной алгоритм я представляю.
Полковник отправился бродить по квартире, изучая её содержимое. Вернулся в кабинет, походил вдоль книжных полок, почти машинально скользя по ним глазами. Среди множества золочёных корешков старых книг и переплетённых литературных журналов начала ХХ века вдруг обнаружил трёхтомник «История военного искусства» профессора Строкова, изданный в СССР в тысяча девятьсот семьдесят третьем году. Как книга здесь оказалась, гадать было бессмысленно, по рассказам Воронцова и Шульгина Михаил знал, что Замок с самого начала мог подсунуть гостю любой предмет, исходя из собственных соображений или руководствуясь его тайными или явными желаниями. Но Басманов сейчас о военной истории точно не задумывался, так что книга, скорее всего, осталась здесь от кого-то из предыдущих посетителей.
Однако ему стало интересно, он пролистал оглавление третьего тома и раскрыл страницы с описанием Восточно-Прусской операции девятьсот четырнадцатого года. Захотелось вспомнить, а заодно и посмотреть, как знакомые события описал большевистский историк.
Тихо прошёл на кухню, сел за стол с недопитой бутылкой и пепельницей, закурил — и зачитался. Этот самый профессор, доктор военных наук и полковник А. А. Строков оказался вполне приличным человеком, демонстрировавшим знание предмета и полное сочувствие к старой российской армии.
Он оторвался от книги, только когда Сильвия его окликнула.
— Чем это ты так увлёкся? — Михаил поднял глаза. Пояс на халате она не завязала, скорее всего — без всякого умысла. Леди Спенсер, как древнеримская матрона, не считала нужным, за исключением общественных мест, скрывать свою наготу.
Басманов показал ей обложку книги:
— Молодость вспоминаю. И грустно, и светло…
— А я оказалась даже способнее, чем сама предполагала. — Она присела по другую сторону стола. — Мой успех стоит отметить. Займись…
Заниматься было особенно нечем, разве что сходить на кухню, заварить по чашке «Кофе молотого с цикорием» из круглой коричневой банки с обозначенной ценой — «87 коп.» и местом производства: «Чаеразвесочная фабрика, г. Рязань». Просто, без всяких буржуазных изысков.
Сильвия рассказала, как сумела разыскать около десятка незаконченных, но достаточно полных блоков информации, в которых Скуратов с нескольких направлений подходил к проблеме функционирования подобных Арчибальду псевдомыслящих структур. Кое в чём эта проблема соприкасалась с давними разработками Виктора о возможности и необходимости внедрения элементов «свободы воли» в суперкомпьютеры, управляющие земными звездолётами. За что, в конце концов, тридцатилетний академик и получил свою Нобелевскую премию. Когда появились хроноквантовые двигатели, способные переносить корабли через сотни парсеков пространства, преобразуя его во время и наоборот, быстро выяснилось, что возможности человеческого мозга упёрлись в очередной «непреодолимый» барьер. Массив подлежащей переработке и осмыслению оперативной информации, необходимой для прокладки курсов и соотнесения пространственных и временны́х координат звездолётов, заведомо превосходил быстродействие даже крюгеритовых вычислительных машин. Оставалась обычная для человечества альтернатива — отказаться от космических полётов неограниченного радиуса или придумать что-нибудь ранее небывалое!
В своё время с похожей проблемой столкнулись первые межконтинентальные мореплаватели. И даже на интеллектуальном уровне XVI века довольно быстро её решили, сообразив, что совместное использование точного (по тем временам) хронометра и секстана позволяет определять своё место с погрешностью до нескольких миль. Почти одновременно подоспел Меркатор с его картографической проекцией, и дело пошло.
Почти то же самое, но с поправкой на пять веков придумал Скуратов. Электронный мозг с разработанными Виктором программами и алгоритмами научился так же легко (можно сказать — подсознательно) ориентироваться в межзвёздном и даже межгалактическом пространстве, как обычный штурманский лейтенант в открытом море.
Сильвии помог блок-универсал, настроенный по совету Левашова на не совсем обычные для него режимы, и она привела к законченному виду несколько формул, получив нечто вроде тех кодов, которыми пользуются ленивые любители компьютерных «бегалок и стрелялок»: приходишь к финальной точке маршрута, не затрудняясь преодолением промежуточных этапов.
— Так почему же сам Скуратов с Антоном этим не воспользовались? Ведь еле-еле выбрались отсюда, самым рискованным и грубым образом? — удивился Михаил, для которого почти все «научные» слова леди Си оставались чем-то вроде нудной церковной службы, которую приходилось выстаивать в кадетские и юнкерские годы. Что-то батюшка бубнит, помахивая кадилом, вроде как правильное и полезное, но в итоге — отстоял, выскочил на свежий воздух и забыл.
— Так именно потому, что не успели, — терпеливо пояснила Сильвия. — К идее Скуратов подошёл, а сформулировать работающую формулу, может, часа не хватило… Бывает?
С этим полковник не мог не согласиться. Случалось, пяти минут недоставало, чтобы превратить поражение в победу.
— Зато мы с тобой сейчас можем этого монстра больше не опасаться. Мне бы до Шара добраться, тогда он у меня на задних лапах плясать будет, как медведь в цирке. А блоком я его только припугну как следует. И то дело…
До Шара, целых пяти шаров, принадлежавших девушкам, оставленных в сейфе их комнат на острове, в ближайшее время добраться было столь же проблематично, как до Луны пешком. Зато Сильвия могла ввести в действие шесть блок-универсалов, отсечь все связи Арчибальда с основной, «формообразующей» сутью Замка и, скорее всего, заставить выполнять прямые команды, как и любого робота низшего уровня. Это, конечно, пока только «эскизный проект» доступной им тактики, так ничего лучшего всё равно нет.
— Рад за тебя. За всех нас, — облегчённо выдохнув, сказал Басманов. Если леди ручается — в любом случае это вернее, чем полагаться на верный «ноль-восьмой Борхарт-Люгер». С ним тоже сколько-то поживёшь, но очень недолго.
— Теперь что — к себе возвращаемся?
— А до утра ты со мной задержаться не хочешь? — насмешливо спросила Сильвия, выпрямив спину, отчего груди вызывающе приподнялись.
— Если тебе хочется — пожалуйста. Я ведь в целях уяснения диспозиции спросил. Что там сейчас без нас происходит? Замок ведь ещё не знает о твоём открытии. Мы с тобой, как-никак, командиры. А это, знаешь ли, кое-какую ответственность налагает…
— Приятно сознавать, что ещё остались люди, для которых чувство долга выше собственных страстей. — Она произнесла это вроде бы искренне, но Басманов почувствовал, что Сильвия всё же сочла себя задетой. Женщины вообще непонятные существа, Михаил временами удивлялся — неужели они вправду принадлежат к одному биологическому виду? Взять хотя бы данный случай. Если бы он вдруг начал намекать замужней даме, что не прочь увлечь её в постель, а она тактично отказала — где тут повод для обиды? В противоположной ситуации вполне можно нажить себе в лице нарвавшейся на отказ особы смертельного врага.
— Тогда я сейчас оденусь, и пойдём…
«Нет, кажется, сильно она не расстроилась», — с облегчением подумал полковник.
Удолин, уединившись в своих комнатах, попытался через мало кому известные уровни астрала связаться со своими коллегами-магами. Он представлял, как они сейчас обеспокоены его внезапным исчезновением и наверняка тоже стараются уловить его ментальные следы.
Увы, поставленный Замком или кем-то более могущественным блок оказался непреодолим. Как научная проблема это было даже интересно, стоило бы сосредоточиться и поискать обходные пути, но профессор здраво оценил положение. Не стоит раньше времени раскрывать карты, возможно, у противника против твоего каре чистый флеш-рояль. И вместо астрала со всеми его производными залетишь в такую задницу, что до исхода века не выберешься.
Ему пришла в голову другая мысль. Очень возможно, что Арчибальд сегодня ночью предпримет некие действия. Зачем ему тянуть? Всё, что он хотел сказать — сказано, его «друзья и партнёры» сейчас находятся в самом подходящем психологическом состоянии. Одновременно и деморализованы, и несколько успокоены, примерно как человек, уставший ждать ареста и наконец арестованный. Завтра они опять соберутся с силами и будут готовы противостоять новым обстоятельствам, и любой опытный инквизитор это великолепно понимает. Константин Васильевич имел в этих делах обширный опыт и с той, и с другой стороны.
Второй вопрос — кого Замок считает в их команде «слабым звеном» или, иначе, кто ему представляется самым перспективным объектом воздействия?
За себя Удолин не опасался, если Арчибальд и решит заняться им, то в самую последнюю очередь. То же относится и к Сильвии. Офицеров и девушек вообще можно вынести за скобки, они для Замка — почти что роботы, обслуживающий персонал. Значит — Катранджи! Насколько маг чувствовал расклад, Замок именно его воспринял как ключевую фигуру новой партии. Так оно, в общем, и есть. Военный, политический и финансовый лидер большей части «третьего мира»[22] второй реальности. Вождь «Чёрного интернационала», способного сыграть решающую роль в затеянной Арчибальдом игре, в зависимости от того, на чью сторону он встанет. Вокруг турка закручивается нешуточная интрига, его зачем-то доставили из двадцать первого века одной реальности в самое начало двадцатого другой. Под мощной охраной. Шутка ли — команда магов-некромантов, сильнейшая на Земле аггрианка и пятеро её помощниц.
При этом Арчибальд не может не воспринимать аггрианок как «исторических врагов», весь смысл деятельности Антона (так или иначе, но хозяина, бывшего или по-прежнему настоящего) заключался именно в противостоянии этой расе.
Следовательно, предположил Удолин, в ближайшие часы, если не минуты, должна начаться психическая (пока — только психическая) атака именно против Ибрагима. Для того чтобы начать с ним деловой, «человеческий» разговор, Арчибальд обязательно постарается его предварительно деморализовать. Ну так и мы не лыком шиты, ядовито усмехнулся профессор.
Без «стратегических резервов» он своего существования не мыслил, поэтому сунул в боковой карман пиджака одну из прихваченных в любимом баре бутылок и решительным шагом пересёк коридор.
Катранджи отозвался на стук в дверь не сразу. Душ он, видите ли, принимал. Отпер, в банном халате, с мокрыми волосами, держа в руках полотенце. Хорошо хоть без пистолета. Поверил, значит, в свою относительную, как всё в этом мире, безопасность.
— Что-то случилось, Константин? — спросил с лёгким удивлением. Всё ведь, кажется, было уже обговорено. По крайней мере то, что не терпело отлагательств. А об остальном можно и утром.
— Да не спится мне, Ваня. — Удолин особым образом подмигнул и похлопал по карману. — Может, пустишь?
— Заходи, — сделал широкий жест Ибрагим, он же Иван Романович. Сколько подобных внезапных посещений желающих «продолжения банкета» друзей он помнил с петроградских студенческих дней. И в полночь, и далеко за полночь. Но здесь ведь не Петроград двадцатилетней давности, здесь совсем другое!
Кофеварка в апартаментах Катранджи имелась, и они усидели больше половины бутылки коньяка, неистово куря сигары и горячо споря на совершенно бессмысленные, с точки зрения Арчибальда (наверняка их сейчас слушающего и наблюдающего), темы. При чём здесь, к примеру, Кючук-Кайнарджийский, Ункиар-Искелессийский и другие дипломатические договоры никчёмного, а иногда и нездешнего прошлого? И совершенно незамеченной, на фоне рассуждений о Наваринском, Чесменском, Синопском сражениях и бое у мыса Сарыч, вдруг проскочила фраза Удолина о том, близко ли знаком Иван Романович с тантрическими[23] практиками.
Купец Катранов со своим философским образованием кое-что об этом слышал, но абсолютно мельком, его куда больше интересовала теория «прибавочной стоимости» и кое-какие идеи из «исторического материализма», благодаря которым он и процвёл.
Удолин, зондируя и сканируя окружающее ментальное пространство, уловил, что их перестали слушать. Бог знает почему. Вдруг супермозг отвлёкся на прозрачные мысли девчонок, его тоже весьма интересовавшие. Или на брутальные настроения семи лётчиков, принявших на грудь положенную дозу и сейчас яростно спорящих, как жить дальше.
Одним словом, момент сказать то, что нужно, появился.
— Ничего не бойся. Они там хитрые, а мы хитрее, — демонстративно дрожащей рукой профессор расплескал по рюмкам никому уже не нужный коньяк. Требуемое состояние было достигнуто. — Сейчас я наложу на тебя охранное заклятие…
— Какое? — слегка испугался Ибрагим.
«Они, эти мусульмане, на десять веков опоздавшие со своим Магометом, — слегка пренебрежительно подумал Удолин, — до сих пор опасаются ифритов, джиннов и прочей нечистой силы домусульманских времён».
— Хорошее, — улыбнулся некромант. — Никакая сволочь его не пробьёт. Заклинание именно что чисто тантрическое. Любая, направленная против тебя и близких к тебе людей чёрная сила автоматически превратится в светлую. Шакти[24], если тебе это слово что-то говорит.
— Что-то помню, — небрежно ответил Катранджи. На самом деле он знал этот термин очень хорошо. Да что далеко ходить? В некотором смысле его «валькирии»-телохранительницы тоже воплощение шакти, дважды спасшие его от агрессии «тёмных» (по отношению к нему) сил, да вдобавок одним своим обликом способные пробуждать лучшие свойства его натуры. Он был склонен к самоанализу и понимал, что прежний вождь «Чёрного интернационала» и нынешний «купец Катранов» — во многом разные, моментами даже противоположные люди. И это не продиктованная прагматизмом смена модели поведения, а внутренняя трансформация. Совсем по Достоевскому.
— Давай-ка мы с тобой разойдёмся по домам, Костя, — предложил Ибрагим/Иван. — Устал я очень и спать хочу. Твой последний коньяк был совершенно лишним.
— Так я хотел как лучше…
Удолин пошатнулся, удержавшись за спинку кожаного кресла, и сквозь зубы произнёс нужную формулу, дополнив её пассами правой руки.
— Ну, перебрали чуть-чуть. Так знаешь, на Руси говорят: «Кто пьян да умён, два угодья в нём!»
— Знаю, знаю, — сказал Катранджи, едва ли не подталкивая в спину якобы «в лоскуты» пьяного профессора, проводил его в коридор и убедился, что тот нашёл дверь своей комнаты. После чего вернулся, налил ещё чашку не успевшего остыть кофе и стал прислушиваться к себе. Профессору он верил безгранично. Бывает такое — поверил сразу, и всё!
Так где же его заклинание? Как оно должно подействовать и когда?
Ибрагим лёг в постель, потрогал пальцами лежащий под подушкой пистолет. «Ничего глупее придумать не мог? — подумал он. — Оружие, ожидая ночного вторжения, нужно в другое место прятать». Стремительно проваливаясь в сон, Катранджи увидел, до чрезвычайности ярко, солнечный луг, покрытый одуванчиками и ромашками, и идущую по нему навстречу Кристину, в одной только развевающейся вокруг длинных загорелых ног шёлковой юбке. Босую, с открытым торсом. Она широко улыбалась и отводила рукой падающие на глаза распущенные волосы.
Удолин постоял посередине коридора, глядя в его бесконечную, сзади и спереди теряющуюся в полумраке длину. Прислушался. Катранджи его посыл принял. Теперь, что бы ни захотел с ним сделать Замок, ему придётся столкнуться с непреодолимой, потому что непонятной ему, а оттого и неподвластной силой. Константин Васильевич хорошо помнил слова ещё прежнего Арчибальда о том, что ему хочется постоянно наблюдать, как люди занимаются любовью, и понять, в чём смысл этого развлечения, или — непреодолимой потребности.
«Теперь, юноша, — подумал профессор (он Замок в этом воплощении воспринимал именно как юношу, случайно подсмотревшего, чем иногда занимаются взрослые люди), — ты зависнешь капитально. Сам себе ловушку устроил».
Услышал за ближайшим поворотом голоса Сильвии и Басманова и поспешил скрыться в своих комнатах. Эти двое сейчас тоже сработают на его план. Перестарался Арчибальд в стремлении «очеловечиться». Ему просто не хватит объёма внимания — уж слишком сильная энергия шакти распространялась сейчас ещё и аггрианкой. А они ведь с ней не сговаривались! Сама, выходит, до того же метода додумалась? А почему бы и нет, с её опытом и подготовкой? Используя исключительно женщин для работы на Земле, где вся культура, психология и практика заточены под мужское восприятие мира, её прежние хозяева проявили хорошее знание предмета. Мужчина почти бессилен в серьёзном поединке воль и характеров даже против обыкновенной умной женщины, а если она изучала специальные методики и неизвестные в данном социуме практики, шансы против неё могут быть только у специально подготовленного евнуха. Это, кстати, очень хорошо понимали древние правители и их советники вплоть до византийских басилевсов. С наступлением в Европе «тёмных веков» немногочисленные церковники, как-то причастные к знаниям прошлого, пошли по самому простому в их положении пути — поголовному уничтожению так называемых ведьм.
А Арчибальду далеко даже до полуграмотных, незнакомых с философиями гораздо более древних и утончённых культур. В памяти Замка наверняка содержатся все необходимые знания, но обнаружить их так же сложно, как отыскать нужный текст в библиотеке, принцип классификации и порядок расстановки книг в которой неизвестен.
Константин Васильевич ощутил к Сильвии профессиональное уважение. Бить врага нужно там, где он наиболее слаб. Она это сообразила одновременно с Удолиным, если не раньше. Что ж, теперь посмотрим. Главное — его самого до утра уж точно никто не потревожит. А он за это время, пожалуй, сумеет подыскать соответствующие обстоятельствам положения Белого тезиса, хотя бы в тех пределах, что ему доступны. Замок вполне можно рассматривать как некий суперголем, то есть псевдоразумную систему, не имеющую индивидуального самосознания, а только некую возникшую эволюционным образом, не отрефлектированную цель. Аналогично можно представить так называемый надразум пчелиного улья, муравейника или класса номенклатуры в тоталитарном государстве.
Именно здесь и пригодится Белый тезис, способный придать поведению голема видимость смысла для него самого. Проблема в том, чтобы «смысл» не противоречил «ощущению», проще говоря — воспринимался субъектом как очередной, прогрессивный этап текущего саморазвития, ни в коем случае не как угроза.
Глава двадцать первая
Кристина Волынская, несмотря на проведённые на Земле полтора года, до сих пор иногда ощущала себя всё той же «двести девяносто первой». Примерно как офицер, получивший чин, должность и даже орден, но только устным распоряжением. Окружающим всё равно, но тебе-то — нет!
Вернувшись в свои апартаменты, куда более роскошные, чем даже у Ларисы в её кисловодском дворце, они с девушками привычно поболтали в гостиной, старательно не касаясь смысла случившейся ситуации. Им, по большому счёту, и не полагалось о таком задумываться. Была Таорэра, где они превращались (да так и не превратились) из неизвестно чего в нормальных координаторов, была Земля с Кисловодском, потом пароход «Валгалла», служба в «печенегах», Одесса, теперь вот это. Норма. Ни к чему другому их и не готовили. Каким образом и почему сегодня с ними случилось именно это, а не что-нибудь другое — вопрос не их компетенции. Кто-нибудь другой мог полететь на флигере с Лихаревым, и теперь не с ними, а с другими «номерами» происходили бы эти или совсем другие события.
С девчонками они говорили о всякой ерунде, хотя наверняка их ровесникам было бы интересно послушать. Такое иногда произносят молодые девушки в своём кругу…
Наконец, обсудив, в чём утром выходить к завтраку, в полевой форме или легкомысленных платьицах, коснувшись сравнительных достоинств каждого из лётчиков (уважая чувства некоторых присутствующих, о старших офицерах не упоминали), разошлись по комнатам. Слишком длинный и тяжёлый был сегодня день.
Кристина с облегчением заперлась в своей секции. Хотелось побыть одной. Что-то её беспокоило или томило. Минут десять она простояла под контрастным душем, переключая воду с почти кипятка до ледяной и обратно, внимательно наблюдая за своим отражением в сплошь зеркальной стене. Придумал ведь кто-то. Для неё или за неё?
Сама себе Кристина нравилась больше, чем любая из подруг, хотя у всех практически одинаковые фигуры и «вторичные половые признаки». Считала, что «шарма» у неё больше, но вслух, конечно, никогда бы этого не сказала. Кому нужно — сам догадается.
Вытерлась большим белым полотенцем, не переставая смотреть себе в глаза. Явно девушку по ту сторону покрытого водяными брызгами стекла что-то беспокоило в предстоящем дне. Или прямо сейчас. Вроде бы не она «мать-командирша», Анастасия в данном случае, исполняющая должность взводной, наверняка нежащаяся в объятиях Уварова (пусть Кристина к подполковнику не испытывала совершенно никакого влечения, но факт, что Вельяминова с ним «спит», её несколько раздражал. В основном тем, что волей-неволей она себе это представляла).
Да и повыше есть люди, которым положено «обстановкой владеть» и принимать решения, наилучшим образом ей соответствующие. Полковник Басманов да и Сильвия тоже! Величина, почти недостижимая (непостижимая?), не зря же её так своевременно на помощь вызвали.
Кристина вернулась в спальню (если бы у неё с будущим мужем такая была!), откинула покрывало, легла. Из тумбочки достала спрятанную от подруг фляжку. Как хорошо! Два глотка, длинная тонкая сигарета, одного не хватает — чтобы раскрылась дверь и вошёл «он»!
Да кто же — «он»? В том и прелесть, что пока неизвестно.
Кто и когда из девчонок, даже таких, как она, никогда не знавших родных отца и матери, не любил тайн и сказок? И если в «учебном центре» им на ночь не читали книжек, а «доводили» очередной приказ или вгоняли нужную информацию, то всё равно… Девочки думали «о своём», именно потому, что «своего» у них и не было. И сказки себе сами придумывали.
Вся беда структур, подобных «аггрианской школе», в том и заключается, что полноценный специалист должен обладать массой достоверной информации о мире, где ему предстоит работать. А эта информация зачастую вступает в противоречие с базовыми установками. Не зря в сталинское время в любой анкете имелся пункт: «Был ли за границей, в плену, на оккупированной территории?» И не зря, между прочим. Сразу видно потенциального антисоветчика. Власть понимала — только особо упёртый догматик, побывав в парижах и нью-йорках, продолжит верить в марксистско-ленинские тезисы об «обнищании рабочего класса при капитализме», «неуклонном росте благосостояния советского народа» и стране, где «так вольно дышит человек».
То же самое и с «валькириями» случилось. Раз их заведомо не сделали бесполыми и безэмоциональными, при встрече с нормальной жизнью свойственная каждой девушке тяга к романтике и любви чрезвычайно легко возобладала над идеологическими установками. Кристине и подругам повезло — их Лихарев и Сильвия официально освободили от «верности аггрианской миссии», подразумевавшей, что агенты-координаторы никогда, ни при каких обстоятельствах не способны изменить своему долгу, как не могла овчарка начать сотрудничать с волками. Какие-либо «личные привязанности», не имеющие отношения к выполнению задания, исключались по определению.
Но стоило «отключить предохранители», и сразу фантазия вместе с гормональной системой заработала в полную силу.
Пусть и объект симпатии ещё не встретился, а воображение почти постоянно рисовало всевозможные варианты.
Подобное и раньше случалось, с Ириной, да и раньше наверняка тоже. И сама Сильвия казалась «бракованным» экземпляром. Совершенно точно известно. Возможно, права Наталья Воронцова, сказавшая как-то девушкам во время вечерних бесед на палубе: Земля как планета и окружающая её ноосфера обладают неожиданным для инопланетян свойством, действующим как радиация. Незаметно, но неумолимо она разрушает глубинные структуры «навязанной» личности, а когда это становится заметно, лечиться уже поздно.
Ирине на то, чтобы полностью подавить в себе всё аггрианское, потребовалось чуть меньше десяти лет. А «великолепной семёрке», как она назвала «валькирий» по ассоциации с недавно просмотренным и безоговорочно всем понравившимся фильмом, достаточно было всего лишь месяца. Конечно, у них особый случай, но тенденция абсолютно ясна. Ещё немного, и вся «школа Дайяны», и она сама тоже перейдут на сторону землян. Не обязательно полным составом вступят в «Братство», но тем не менее…
Кристина уже собиралась погасить свет, чтобы, засыпая, вообразить что-нибудь волнующее, но, потянувшись к выключателю, вдруг почему-то взяла с тумбочки свой блок-универсал, могущественный инструмент и знак её принадлежности к «высшим». Да, конечно, она теперь настоящая землянка, более того — принесший присягу офицер Императорской Гвардии, но всё равно «высшая» по отношению к скольким-то там миллиардам остального человечества. Пусть и не в «аггрианском» смысле.
Сначала просто решила выкурить ещё одну сигарету, для настроения, а потом начала рассматривать клавиатуру управления. Как любознательный подросток ХХI века, получивший наконец долгожданный подарок — сотовый телефон новейшей модели, она при каждом удобном случае старалась возиться с ним, выискивая новые, ещё не освоенные функции. Сильвия, проводя инструктаж и демонстрируя возможности «волшебного портсигара», добилась того, что «валькирии» владели им на весьма высоком уровне. Как ковбой своим «кольтом», что Анастасия и продемонстрировала вчера, удивив саму наставницу.
И всё же девушки понимали — знают они ещё далеко не всё. Кнопок и сенсоров в блок-универсале много, и наверняка ведь имеется сколько-то операций, включаемых определёнными их сочетаниями, доступными посвящённым высших уровней. Как у китайцев с иероглифами, — выпускник, допустим, средней школы, знающий их две тысячи, может читать только положенные ему книги, а те, что изучают аспиранты, доценты и профессора, требуют знания десяти тысяч, то есть недоступны так же, как китайский букварь эскимосу. На эту тему как-то пошутил Воронцов, спросив у «валькирий»: «Что на свете сложнее „китайской грамоты“?» И сам же ответил, отвергнув предположения насчёт квантовой теории и тому подобного: «Обычная китайская азбука Морзе».
Говорят — «чёрт дёрнул», так не иначе как пресловутый «чёрт» заставил Кристину одновременно нажать левую верхнюю и левую нижнюю кнопки на панели. Вроде как на телефоне «снять блокировку».
Вначале ничего не произошло, и она собралась — ну, совершенно непонятно зачем, знала ведь про опасность подобных упражнений — ткнуть пальцем ещё одну, между ними.
Тут её и накрыло тяжёлой оглушающей волной, будто при попытке выбраться в шторм на берег. Волна мгновенно схлынула, оставив звон в ушах и странную вибрацию в груди и животе. Которые, впрочем, сразу и исчезли. Кристина вдобавок ощутила в теле приподнятость и лёгкость, словно сила земного тяготения внезапно уменьшилась. И тут же, не успев разобраться в физических ощущениях, увидела в нескольких шагах впереди своё «охраняемое лицо» — Ибрагима.
Он удалялся от неё по узкой аллее старинного кладбища. Что это было кладбище, она поняла сразу, причём не европейское. Вообще непонятно какое. Незнакомой архитектуры склепы, украшенные богатой, чрезмерно богатой каменной резьбой, побуревшие и выветренные временем. Покосившиеся под разными углами стелы, испещрённые причудливыми значками, то ли руническими письменами, то ли своеобразным орнаментом. Кое-где угадывались ивритские буквы, и как бы не древнеперсидские. Сквозь трещины в плитах густо пробивались неприятного вида растения. Различались только ближайшие сооружения, остальные терялись в беспорядочно разросшихся тёмно-зелёных хвойных кустарниках и деревьях.
Насколько Кристине позволяло образование, она догадалась, что такого места на Земле просто не может быть. Если это не декорация к псевдоисторическому фильму. Или — если оно на какой-то другой Земле.
Ещё она заметила, что сама одета совсем не так, как секунду назад. В одну только шёлковую, алую в синих спиралях юбку-солнце, и ничего больше. Такой юбки в гардеробе девушки не имелось. Совсем не её стиль. И на Катранджи наряд был непривычный — белые шаровары и белый замшевый жилет, расшитый золотыми узорами. А за красным поясом — длинный кривой кинжал. Словно у янычара XV века.
Ибрагим не оборачивался, не чувствовал за спиной её близкого присутствия. Кристину происходящее нисколько не удивило. Частью сознания она предположила, что это просто сон. Остальной понимала — самая настоящая явь, такая, как все события чересчур затянувшегося дня. И какую-то роль наверняка сыграли её опрометчивые упражнения с блоком. Кто знает — вдруг такое сочетание команд выводит в неизвестную псевдореальность или материализует собственные (а то и чужие) воображаемые миры.
Но возраст есть возраст — романтическая составляющая начавшегося приключения перевешивала здравомыслие. Правильнее всего было бы ещё раз нажать те же кнопки, обычно это позволяло отменить предыдущую команду, портсигар по-прежнему был зажат у неё в руке. Но она решила продолжать наблюдение и сунула блок-универсал в карман.
Навыки разведчика-рейнджера действовали автоматически, Кристина сделала бесшумный шаг в сторону и укрылась за кустом самшита. Травинка не зашуршала, ветка не хрустнула.
Ибрагим (девушке показалось, что он здесь лет на десять моложе, чем совсем недавно) подошёл к самому древнему и большому из теснившихся вокруг склепу с тёмными, покрытыми пятнами лишайников и грязно-зелёной патиной двустворчатыми дверями. Извлёк из-за пояса приличных размеров ключ, с усилием повернул в скважине и шагнул через высокий порог, предварительно обернувшись. Настороженным, сосредоточенно-мрачным взглядом окинул окрестности. Почти упёрся глазами в её глаза — и безразлично скользнул дальше.
«Неужели он меня не заметил? Ко всему прочему добавилась и функция „невидимости“, — подумала Кристина. — Или вообще случилось разделение души и тела? Одно так и осталось в комнате, а вторая призраком следит за подопечным?» Тогда почему она видит саму себя, и блок-универсал по-прежнему вполне материальный и ощутимо тяжёлый?
О подобном она не слышала, да и если б такое было возможно, большинство из известных ей событий в истории «Братства» потекли бы совсем иначе. Неужели же ей открылось какое-то новое знание, недоступное даже её учителям, Сильвии прежде всего? Почему так, зачем?
Она была приучена всегда всесторонне оценивать окружающую обстановку, вникать в суть происходящего и только потом действовать. Но сейчас не только в теле, но и в мыслях девушки присутствовала эйфорическая лёгкость, подсказывающая, что на самом деле от неё ничего не зависит, и достаточно отдаться на волю обстоятельств. Всё идёт как нужно, ничуть независимо от её воли.
Тем более — рассуждать и размышлять было некогда, время утекало неумолимо и стремительно, как кровь из перебитой артерии. Выждав минуту или две, она вслед за Катранджи скользнула в склеп. Самой обычной невидимости ей пока достаточно, только нужно на всякий случай смотреть под ноги, чтобы чем-то не загреметь и не выдать себя. Пытаться проходить сквозь стены она не рискнула.
С Ибрагимом их разделяла половина лестничного марша. Слабый свет попадал сюда через несколько щелей под потолком, но его было достаточно и ей, и Ибрагиму. Турок выбрал на связке ещё один ключ, прямой и длинный, ткнул им, казалось, просто в стену, но там оказалась потайная скважина. Щелчок — и открылась дверь, ничем не выделяющаяся на фоне древней кладки.
Прежде чем она снова затворилась, Кристина как на пуантах проскользнула за спиной Ибрагима и в дальнем углу прижалась голой спиной к сырой и холодной кладке.
Они находились в обширном сводчатом помещении, посередине которого стоял мраморный многоугольный и многоярусный саркофаг, украшенный в стиле верхнего сооружения склепа. По стенам — полусгнившие, потерявшие цвет драпировки, ленты и вымпелы с едва различимыми узорами и письменами. «Валькирии» вдруг стало нехорошо. Угнетающая, такая же мрачная и давящая, как от случайного взгляда Катранджи, эманация исходила от этого логова смерти. Так она восприняла неизвестно чью усыпальницу, притянувшую Ибрагима, а за ним и её. Именно — притянувшую. Она сюда не собиралась, да и турок тоже, всего час назад выглядевший совсем иначе. Как они вообще могли перенестись неизвестно куда из Замка? Судя по всему, изолировал их там Арчибальд надёжно. Или — это лишь проявление присущих странному сооружению свойств?
За саркофагом виднелся другой проём, на этот раз — без двери. Просто арка в полутораметровой стене.
И уже там — комната гораздо более ухоженная, если можно так выразиться. Почти пустая, но чистая, стены гладкие и светлые. Каменный стол у дальней стены, освещённый имитацией восточной масляной лампы. Именно имитацией — очень похоже, даже высокий язычок пламени подрагивает как бы от движения воздуха, а яркость вдесятеро больше нормальной, и главное — нет жирного запаха и копоти!
На столе — какой-то явно электронно-механический аппарат, большой и совсем не современного, вообще не слишком человеческого дизайна. Он отдалённо походил (да и то лишь потому, что человек подсознательно подбирает к неведомому хоть минимально близкую ассоциацию) на дореволюционные кассовые аппараты «Националь», только раз в десять больше. Весь был усеян рычажками и рычагами из белого и жёлтого металлов, а также разного диаметра отверстиями. Кристине мельком подумалось — такие штуки могли бы строить египетские жрецы, по мнению некоторых учёных, постигшие основы «кибернетики» примерно в эпоху Первого царства, лет за тысячу до начала возведения пирамид.
И какой же «чёрт» (тот, что заставил нажимать кнопки на блоке?) занёс их сюда? Волынская чувствовала, что не своей волей явился в это место Катранджи. А она, значит, что — продолжает исполнять возложенную на неё миссию?
Ибрагим подошёл к «устройству», что-то начал включать торчащими из стены массивными коленчатыми рычагами, поворачивать бронзовые колёса по бокам «ящика». Машина явно отреагировала, защёлкала, загудела, что-то в ней провернулось, как шестерёнки в коробке передач автомобиля «ГАЗ-51». Кристина на таком ездила в школе, их ведь готовили к жизни в тех ещё, «сталинских» годах. И получалось неплохо, по сильно пересечённой местности доезжала из «пункта „А“ в пункт „Б“» не хуже, чем на легковушке с автоматической коробкой по гладкому асфальту.
Ей при включении «машины» стало просто не по себе, а Катранджи — совсем плохо. Особенно после того, как устройство загудело и залязгало во всю силу. Он прерывисто и шумно задышал, шея и не прикрытое жилетом тело покрылось видимыми на расстоянии каплями пота. Но он продолжал то ли всматриваться в происходящее, то ли прислушиваться к нему, пока не подогнулись колени и Ибрагим неаккуратно осел на пол, начал заваливаться на спину, из последних сил пытаясь удержать голову, не удариться с размаху затылком об камень. Перевалился на бок и, наконец, потерял сознание.
Кристина метнулась вперёд — начала действовать программа «защитницы». Кто бы он ни был, зачем бы сюда ни пришёл — если ей поручено, она его должна спасти, остальное потом.
Аппарат, прежде всего отключить аппарат! Разбираться было некогда и страшно. Один щелчок или поворот колеса не туда — случиться может такое, что и не вообразить! Она вскинула блок-универсал — один короткий импульс, и всё! Чем бы ни было странное устройство, оно превратилось в ком деструктурированной материи. Кристине послышалось, что в самой глубине стен что-то разочарованно квакнуло, хрюкнуло и даже простонало.
В ответ она разразилась не подлежащей воспроизведению тирадой, адресованной сразу всем, враждебным лично ей силам.
Вспомнила, как боевая подруга поручик Яланская (из настоящих, земных «печенегов») как-то долгим зимним вечером на учениях, в палатке, едва не срываемой с креплений свирепой пургой, подняла вдруг неожиданную тему. Кажется, в ответ на слова одной из девушек, непристойно выразившейся по поводу погоды, не позволяющей «до ветру» выйти. Взводная командирша, дочь московского промышленника-миллионера и племянница правящего архиерея[25], неизвестно отчего выбравшая себе армейскую, с самого низа, стезю, вдруг посерьёзнела. Что бывало с ней достаточно редко.
— Я вам что, девушки, скажу…
Очень вдруг её тон всех насторожил, а то и напряг. «Валькирий», пожалуй, особенно. Словно бы именно к ним были обращены слова совсем взрослой, уже двадцатипятилетней женщины.
— Материться — вы все, дуры, научились. Кто в войсках, кто и раньше. Я не вмешивалась. Не гувернантка, не бонна и даже не ротный…
Тут все сдержанно захихикали. Ротный — отдельный разговор. Тот, не могущий быть обвинённым в отсутствии мужественности (при трёх настоящих офицерских орденах, полученных за боевые заслуги), вообще никогда не выражался. Что при равных чином офицерах, что при солдатах и тем более при дамах, невзирая на степень проступков.
Резким жестом она заставила десяток подпоручиц замолчать.
— Ротный как раз — понимающий человек. Дай бог, чтобы он нами ещё покомандовал. Вы, девки, никогда не слышали, как наш командир высказываться умеет, а мне один раз пришлось! Это нечто! Я вам и передать не могу.
Девушки навострили уши.
— Интересно бы послушать, — сказала тоже настоящая местная Полухина Валя.
— Не советую. Дядька мой, епископ Илиодор (князь церкви и генерал-майор, в пересчёте на воинские чины), давно мне говорил, что такие слова блудом являются, будучи употребляемы всуе, как и имя Господа! На самом деле это есть древние сакральные заклинания русского народа, коими ещё в дохристианские времена любую нечисть отогнать было возможно. И любого нормального человека в чувство привести, если он вдруг в уныние, тоску или сомнение впал. Уныние ведь и по христианству смертный грех! Убийство — нет, а уныние — да!
Вы только вдумайтесь… Куда при таком «посыле» любая нечисть денется? — И Яланская произнесла несколько «хорошо темперированных» фраз. Настолько изящно построенных и неожиданных, что девчонки просто обалдели. В буквальном смысле.
— Я ведь в первую очередь против тех — что мужиков, что баб, — кто «три слова» сызмальства заладил и так ими и орудует до седых волос. Слова и солёные быстро смысл теряют, а действовать ими на психику, особенно враждебную изначально, надо неожиданностью и новизной оборота. Тут зло и скукожится, в изумление придя[26]. Для этого следует в себе эту способность развивать постоянной тренировкой, но вслух зря не произносить, а другим передавать только по крайней необходимости…
Поручик помолчала, наблюдая, как её слова усваиваются, удовлетворённо кивнула и добавила, закругляя тему:
— Вас научили, как финкой вражескому часовому глотку перехватить, чтоб и не хлюпнуло? А в начальной школе этому же учить возьмётесь? Вот и я о том. Ладно, закрыли тему! Ещё от кого хоть слово «не по делу» в расположении услышу — не обижайтесь! Я вам не Полусаблин!
Вот и пригодился урок Кристине. И то, что Яланская говорила, она сейчас, неизвестно к кому адресуясь, детально повторила и от себя добавила. Со стороны (общечеловеческой или мистической), юная, до пояса обнажённая красавица, выдающая в пространство выражения, пристойные боцману с «Богатыря» (тысяча девятисотого года призыва), или комиссару «Парижской коммуны» (пусть и призванному в двенадцатом, но «настоящую службу заставшему»[27]), выглядела гораздо убедительнее. Непривычности, а значит, и сакральности в ней было больше. Что какой-то царский боцман в сравнении с воплощением древнеславянской «волховицы», вдохновенно выдающей загибы-заклинания.
От этого или нет, но Катранджи, выпав из зоны очередного ментального удара, начал подавать признаки жизни и возвращающегося сознания.
Кристине ничего не стоило, подхватив на руки его почти пятипудовое безвольное тело, выбежать наверх из этого жуткого места.
На всякий случай ногой затворила за собой входную дверь склепа, прошла ещё с десяток метров, пока не увидела освещённую солнцем полянку. Ни одного зловещего сооружения поблизости.
Опустила своего подопечного на мягкую светло-изумрудную, а не мрачно-тёмную траву.
Села рядом и только здесь впервые вздохнула. Оказывается, пока несла чуть ли не умирающего мужика, забыла дышать.
Ибрагим поворочался, что-то пробормотал на совсем незнакомом ей языке, сел и только потом открыл глаза. Абсолютно осмысленно и слегка удивлённо осмотрелся. Мотнул головой, сглотнул и спросил:
— Здесь есть кто-то? Я тебя чувствую… Не подходи, — и сжал рукой рукоятку кинжала.
Что ей теперь делать? Она по-прежнему невидима, но он её чувствует. Как быть? Постараться вернуться обратно или «проявиться» здесь? Волынская непонятным образом знала, что способна и на то, и на другое. Уйти «к себе» проще, а как с чувством долга? Она его оставит, а он — снова в склеп? Зачем — сейчас неважно. Девушка понимала — ничего хорошего там быть не может, только плохое и очень плохое, невзирая на то, что непонятная машина уже уничтожена.
Она сделала самое простое, что пришло в голову. Сказала: «Это я!» — и придвинулась к нему на полметра.
— Кристина? Как ты здесь оказалась? — Теперь он её увидел, и его изумлению не было предела. И не только изумлению. Он пошатнулся и снова стал заваливаться на спину. Она успела подложить ладонь ему под затылок, а то он прилично стукнулся бы о торчащий из земли булыжник.
— Слабоват, однако. — Девушка не сдержала усмешки. Не говоря о «школе молодого бойца», «валькирия» держала перед внутренним взором всех русских офицеров, с кем ей приходилось работать. Хоть Уваров, хоть Полусаблин или Окладников — ни один, даже с пробитой пулей грудью или осколком в животе, не переложил бы на плечи девушки ответственность, пока сам мог хоть что-то. Хоть кольцо у последней гранаты выдернуть.
Вспомнив, чему когда-то учили, она хлёстко, с двух сторон ударила клиента по щекам. Ибрагим снова очнулся и, похоже, резко пободрел.
— Кристина? — снова спросил он, но гораздо осмысленнее. И уставился на покачивающиеся перед самым носом груди. Кажется, именно они включили правильное восприятие действительности. И только потом он посмотрел ей в глаза. Тоже почти в упор.
Она не могла ни понять, ни объяснить, что случилось в следующие секунды. Буквально минуту назад этот мужчина, что в его турецком, что в российском обличье, был ей просто неинтересен. Пусть немыслимо богат, пусть занимает какие угодно посты, вплоть до «владыки полумира». Ей-то что? Она его видела растерянным и испуганным в Одессе, цеплявшимся за руку и умолявшим его спасти. Далеко не каждая женщина после такого согласится считать мужчину мужчиной. Да и в Царьграде вчера героизмом не блеснул!
И вдруг он потянулся руками к её талии, а губами — к груди, а она не отстранилась хотя бы для вида, как уважающая себя девушка. Ничего не соображая (рациональная составляющая личности напрочь отключилась), сама бросилась в его объятия. Под влиянием непреодолимой силы страсти. Если бы при этом прозвучал «гром небесный», Кристина не удивилась бы.
Слились телами, губами, чувствовали, как гулко колотятся сердца, будто пытаясь пробиться друг к другу. Сколько это длилось — вспомнить невозможно.
Каким-то третьим планом своей мыслящей составляющей она понимала, что вот так и случается, когда приходит «любовь», вполне до этого момента абстрактное понятие. Что сказать о нём — неизвестно, ей и самой сейчас было не совсем понятно, как такое могло случиться у совершенно разных по возрасту, происхождению и менталитету людей. Однако…
— Что ты здесь делал? — задыхаясь после поцелуя, но не разжимая объятий, спросила она, не зная, как к нему обратиться, по какому имени.
— Как ты сюда попала, Кристина?
Девушка ещё думала, что ответить, а слишком твёрдые и сильные ладони Ибрагима уже оказались гораздо выше её коленей. И двигались дальше, без всякой осторожной нежности, одновременно сдвигая юбку выше пояса и раздвигая бёдра.
Вот этого она позволять не собиралась, какие бы чувства её ни обуревали. Она слишком хорошо помнила, как вёл себя Левашов, когда Дайяна приказала лечь с ним, сдавая зачёт. Он не шептал ей признаний, но сумел показать, как должен вести себя настоящий мужчина с девушкой. И вдруг такой контраст с Ибрагимом, которого она только что «полюбила».
Кто и зачем создал эту ситуацию, отчего и для чего она представлена здесь такой доступной и вызывающе раздетой, уже неважно. Если кому-то нужно, чтобы она его спасла — она спасёт. А вот изнасилование на травке — явно вне программы. Если бы он ещё хоть сколько-то ласкал её, говорил нежные слова, дождался, когда к ней придёт настоящее желание, тогда Кристина, скорее всего, сама позволила бы сделать всё. А так? Она вывернулась, толчком локтя опрокинула Ибрагима на землю. Любовь не любовь, но отдаваться или нет, как и когда — ей решать.
Нащупала на земле выпавший из руки портсигар, на чистом автопилоте нажала нужные кнопки.
Снова словно бы удар волны по затылку и в спину. И тот же Ибрагим лежит навзничь на ковре её комнаты в Замке. Абсолютно уже ошарашенный и опять «приведённый в изумление». А она — в порядке. И уже не в цыганской какой-то юбке, а в обычной ночной рубашке, той, в которой ложилась в постель. Счастливая от того, что «наваждение» прошло. Остальное — в пределах нормы. О его грубой попытке овладеть ею Кристина легко могла забыть. А вот момент собственной вспышки — никак.
— Слушай, я совсем ничего не понимаю, — сказал он удивлённым, но совершенно нормальным голосом никакого не турка из XV века, а вполне обрусевшего культурного человека. — Где мы были и были ли вообще? Как я к тебе забрёл?
— Брючки свои застегни, тогда и поговорим, — ответила Кристина. Он-то оставался в прежнем наряде, а его шаровары были устроены так, что открывали слишком многое, даже в сравнении с её нарядом.
— У тебя в комнате выпить что-нибудь есть? — спросил он, застёгиваясь и окончательно приходя в себя. С удивлением повертел в руках дамасский (скорее всего) кинжал, отложил его в сторону.
— Ты прости, — сказал он, глядя на нежную кожу её бедер, где могли бы остаться синяки от его пальцев. — Это был словно не я, а тот самый янычар…
Удивительно, как она не обратила внимания — в сне-наваждении у Катранджи была куда более «азиатская» внешность.
— Я сейчас, — в гостиной у них, как в высококлассном отеле, имелся мини-бар с достаточным количеством напитков. Кристина выглянула в коридор — никого, подруги давно спали. Тем более, она представления не имела, сколько в реальном времени длилось её приключение.
Взяла аккуратно, чтобы не звякнуть, несколько бутылок, не глядя на этикетки.
— Пожалуйста, — выставила на стол свою добычу. Понятно, что после столь жуткого стресса мужчине просто необходимо встряхнуться. Да и ей не вредно. Она всё время перебирала в голове возможные варианты случившегося. Нет, это что угодно, только не галлюцинация.
— Как мы туда попали? — В голосе Катранджи звучало искреннее удивление.
— Нет, как ты туда попал? — возразила Кристина. — Я возилась со своим прибором, набирала разные команды и вдруг, словно смена кадра в фильме, — вместо своей комнаты увидела это жуткое кладбище, тебя впереди, и просто пошла следом. После того что с нами вчера произошло, даже не удивилась вначале. И о чудесах этого Замка наслышана, здесь, говорят, может случиться абсолютно всё. А мне приказано не оставлять тебя без прикрытия ни при каких обстоятельствах. Прости, служба есть служба, о другом не говорим… — это она вспомнила страстно-бессмысленные слова, что шептала ему между поцелуями и за которые сейчас было немного стыдно. Разве можно так терять голову? Сейчас Ибрагим по-прежнему казался ей привлекательным мужчиной, но кидаться ему в объятия отнюдь не хотелось.
На всякий случай она встала, надела поверх «ночнушки» армейскую рубашку и застегнула на две верхние пуговицы. Хоть грудь прикрыть. Это отчего-то волновало её больше, чем на две трети обнажённые ноги. Присела на диванчик в трёх шагах от него, не торопясь, тщательно размяв сигарету, закурила.
Теперь она стала очень спокойна.
— Я начинаю догадываться. Перед тем как это случилось, у меня был Удолин. Мы много говорили, в основном, чтобы затуманить главное содержание, на случай, если нас подслушивали. Наконец Константин сказал, что Замок, или Арчибальд, чёрт их разберёт, наверняка в ближайшее время предпримет какие-то действия именно против меня. Я, мол, в их понимании — слабое звено…
Катранджи тоже глубоко затянулся сигаретой, взглядом указал Кристине на рюмку. Она отрицательно мотнула головой, и он выпил в одиночку.
— Знаешь, профессор прав, из вас всех я единственный объект, с которым Арчибальд мог рассчитывать сыграть по своим правилам. Но об этом позже. Удолин пообещал, что может наложить на меня особое заклятие, сделающее меня неподвластным никаким «тёмным силам»…
Ибрагим/Иван старательно отводил взгляд от ног девушки, но он, поблуждав по стенам, будто сам собой возвращался, словно притягиваемый магнитом.
«Нет, точно, перед этими восточными парнями только в парандже ходить», — подумала Кристина, но решила, что начать сейчас одеваться — совсем смешно. Пусть тренирует волю.
— Так вот, «неподвластным никаким тёмным силам», и построено всё на основе тантрических учений, — продолжил Катранджи. — Если совсем примитивно объяснить — излучаемая специально обученными женщинами-ведуньями сексуальная энергия способна нейтрализовать любую другую, причём совсем необязательно понимать это буквально. Эротические фрески на стенах храма Каджурахо обладают огромной магической силой, особые танцы…
— Специфическая русская лексика и некоторые жесты, — добавила Кристина. — Я где-то читала, что индусы от русских произошли, и их санскрит — испорченный старостарославянский.
Катранджи осмыслил это сообщение и продолжил:
— Получается, Удолин оказался прав. Его магия сработала. Я никогда в такие штуки не верил, я рационалист, политик, коммерсант, воин… Сказки «Тысячи и одной ночи» перестал читать лет в двенадцать. Никогда не нуждался в гипотезе о сверхъестественном. Однако последнее время кое-какие взгляды приходится пересматривать…
— Зачем же пересматривать? — удивилась Кристина. — Просто — расширять кругозор. Не помню, кто писал: «Мы похожи на детей, играющих в песок на берегу, а вокруг простирается океан неведомого».
— Скорее всего, так оно и есть, — согласился Ибрагим. — Засыпая, я увидел тебя. Ты была одета точно так, как появилась на кладбище. Шла мне навстречу по цветущему лугу и улыбалась. Я испытал восторг и восхищение…
— Тантрическая жрица? — усмехнулась девушка.
— Почему бы и нет? У индусов они маленькие, толстые, с гипертрофированными формами, у нас — такие…Так вот, я увидел тебя, но не успел ничего сказать. Ты исчезла, и луг, и небо. Я оказался в довольно мрачном помещении, а напротив стоял Арчибальд.
— Вот мы и встретились, Ибрагим-эфенди, — сказал он. — Надеюсь, больше никаких недоразумений у нас с вами не случится. Сделаем одно дело, после чего у меня не будет оснований задерживать кого-либо у себя в гостях. Против желания, само собой, а так живите здесь хоть сто лет…
— Встретились? — удивилась Кристина. — Ты с ним и раньше был знаком?
— Придётся рассказать всё с самого начала, хотя и очень не хочется. Именно тебе. Не та тема…
— Нет уж, говори. Именно мне. А дальше видно будет.
Катранджи вздохнул, потянулся к бутылке, укрепить силы. Кристина снова отказалась.
— Ну, слушай.
…Этот Арчибальд, представившийся сэром Арчибальдом Боулнойзом, одним из сопредседателей широко известного в узких кругах «Хантер-клуба», разыскал Катранджи около двух лет назад в Каире. Этот город, столица королевства обоих Египтов и Судана, считался за пределами Периметра местом довольно безопасным. По крайней мере, европеец с солидными рекомендациями и профессиональной охраной мог чувствовать себя в респектабельных центральных районах относительно спокойно. Ничуть не хуже, чем в Шанхае ХIХ века, в годы опиумных войн.
От имени клуба Арчибальд предложил Ибрагиму совместный проект, суливший куда большую прибыль, чем даже работорговля…
— Ты и работорговлей занимался? — поразилась Кристина.
— Лично я, разумеется, нет! У тебя несколько искажённые представления о действительности, хоть и в контрразведке служишь.
— Во внутренней гвардейской. Иностранными делами заниматься не приходилось, но понимать, что такое современная работорговля, большого ума не надо.
— Так имей в виду, что я контролирую больше полусотни транснациональных корпораций, не считая множества других организаций, от китайских «триад» до «борцов за возрождение империи ацтеков», и не считаю нужным вникать в их текущую деятельность до тех пор, пока она приносит прибыль. Прежде всего я — политик, занятый поддержанием существующего на Земле статус-кво.
Из слов Арчибальда следовало, что в настоящий момент именно Россия представляет реальную угрозу этому «статусу», и имеется план пресечь её разрушительную деятельность.
— В чём же разрушительную? — опять не выдержала Кристина. Сама она появилась на Земле значительно позже описываемого Ибрагимом времени, но за время службы в «печенегах» изучила массу документов и книг, касающихся роли России в ТАОС за последние полвека.
— Так было решено в самых авторитетных кругах, считающих, что они являются «кукловодами» так называемого цивилизованного мира. Меня их потуги руководить процессами, которые в принципе неуправляемы, всегда забавляли. Но отчего же не поучаствовать в деле, в перспективе сулящем крах всего заповедника «золотых полутора миллиардов»?
Усмешка у Ибрагима получилась достаточно зловещей, и Кристине вдруг стало не по себе. Куда она лезет, в какие дела и какие сферы? Как она могла вообразить, будто готова полюбить вот этого человека? Нет, уж лучше кого-то из пилотов «Буревестника» или офицеров с крейсера «Изумруд»!
Ничего, ничего, пусть продолжает. Информация лишней не бывает. Да и потом, раз Чекменёв, Ляхов, Тарханов считают, что с ним можно и даже нужно иметь дело, всё не так просто, как кажется с первого взгляда.
— Так вот, «Чёрному интернационалу» в моём лице не имелось никаких оснований возражать. Временный партнёр сам лез в историческую ловушку. Они хотят дестабилизировать и обессилить Россию? Ради бога. Не хотят думать, что будет с ними со всеми, когда Россия не сможет или не захочет их защищать — не надо. Он их просвещать не собирался. Ему какая разница — сначала вместе с Англией и её сателлитами устроить серьёзные беспорядки в России или наоборот? Всё равно ведь цель — уничтожение ТАОС и всего нынешнего мироустройства — оставалась прежней и не подлежащей пересмотру. «Карфаген должен быть разрушен», и неважно, сколько времени это займёт. Предложения британца в тот момент показались предпочтительнее, поскольку, кроме власти над Кавказом, Польшей и Прибалтикой, «хантеры» пообещали не вмешиваться в дела «Интернационала» в Африке севернее Родезии и в Южных морях, исключая Австралию с Новой Зеландией. Туда интересы Катранджи пока не простирались, отчего он и согласился.
Вдобавок Арчибальд предложил очень хорошие деньги. И наличными, и в виде немыслимо выгодных контрактов для контролируемых Ибрагимом по всему миру фирм и корпораций.
— Насколько хорошие? — будто между прочим спросила Кристина. Теперь она полностью ощущала себя «печенегом»-разведчиком.
— Миллиарды, — небрежно махнул рукой Катранджи, — но это совсем не важно. В моём положении вагон денег или два — значения не имеет. Ты не в ту сторону думаешь. Мне нужна была только власть, а вот её в отличие от денег слишком много не бывает!
Кристине эта точка зрения показалась спорной. Но перебивать она не стала. Ибрагим — непонятно, с сожалением или облегчением — начал рассказывать, как почти сразу начали буксовать, а то и рушиться его планы, то есть к которым он непосредственно приложил руку. Очень быстро русские нанесли ему несколько очень чувствительных ударов там, где он совсем не ожидал. Оказалось, что служба Чекменёва контролирует практически всё в этом мире. Даже то, что контролировать якобы невозможно. Вплоть до его личных разговоров с абсолютно надёжным эмиссаром, с глазу на глаз.
— «Что знают двое — знает и свинья», — к слову вставила Кристина немецкую поговорку.
— Похоже на то, — кивнул Ибрагим. — Короче, мы проиграли везде, где ввязались, при этом позиции русских укрепились, и многократно. Начиная от воцарения Олега. А именно этого Арчибальд хотел не допустить в первую очередь.
— Само собой, — согласилась «валькирия», испытывая гордость за Державу и «контору», к которой принадлежит.
— Ничего хорошего не получилось с придуманным вашим профессором Маштаковым «Гневом Аллаха». Организованная с помощью подобных же устройств интервенция из соседней России в вашу, с использованием не существующих в нашем мире средств, была буквально раздавлена. Назад не вернулся никто, хотя использованных сил хватило бы на почти бескровный захват той же Англии. Вся предоставленная нам Арчибальдом аппаратура межпространственной связи дистанционно сожжена. Уничтожен специально созданный для ведения нейропсихической войны научный институт… Дальше рассказывать?
— Дальше я знаю, — улыбнулась Кристина. — Это уже мои «печенеги» и офицеры составившего нам компанию полковника Басманова действовали. Кстати, и подполковник Уваров, и полковники Ляхов и Тарханов именно в этих делах отличились и заняли своё нынешнее положение.
— Это и мне известно. Короче — я оценил ситуацию и решил, пока не поздно, сменить флаг. Но и «хантеры» оказались не дураками. Результат — Одесса.
Прозвучало это со странной, на взгляд девушки, интонацией.
— Чем тебе не понравилась Одесса? — спросила Кристина. — В рамках твоего менталитета — самое то… Ты с ними договорился, заключил союз и в самый трудный момент решил перебежать на сторону противника. Ликвидировать тебя, да ещё таким образом, чтобы вся вина легла на российские власти, — святое дело. Только вот опять чего-то планировщики не учли. Может быть — нас с Уваровым? Но ты-то, стреляный волк, как не подстраховался? Случай нас вывез, только случай. Опусти тогда в ресторане стрелок автомат на ладонь ниже — и тебе конец, и Чекменёву. И вашему очередному «великому замыслу»… Но продолжай. С предысторией всё ясно. Что сейчас случилось, где мы были и зачем?
Повздыхав и отхлебнув ещё граммов сто, Ибрагим сказал, что Арчибальд непонятным образом осведомлён и о том, что он заключил с русскими вполне официальный союз, и в чём заключается смысл его здешней миссии.
— Ты понимаешь, Кристя, он говорил так убедительно! О том, что нынешняя Россия захвачена инопланетянами, что вместе со «второй и третьей» она собирается объединиться в одну Империю с целью уничтожения «свободного мира». Для Земли и одной России очень много, а три? Но я ещё могу «искупить свою вину», и совместными усилиями мы победим…
— Это твой мир — свободный? — тоном следователя МУРа, говорящего с «вором в законе», спросила подпоручик Волынская, пока оставляя в стороне его последние слова. — Голову там кому отрезать, в зиндан посадить, девушку в гарем продать. Свобода?
— Да, именно так, дорогая! — Ибрагим впал в странное, почти психопатическое состояние. Что-то не получалось с его избавлением от чуждого влияния. — Это и есть свобода! Моё желание — высший закон! Никакой русский царь не смеет мне приказывать…
— Да без всякого русского царя я за твои идеи тебя прямо сейчас… Чья свобода окажется главней? — Волынская встала, демонстрируя готовность к рукопашному или любому другому бою.
И снова Катранджи расслабленно откинулся на подушки. Его, очевидно, терзали противоположные эмоции под несколькими сразу внешними воздействиями. Только что начинал говорить в унисон с «защитницей», и тут же его уносило в настолько «не туда», что он и сам пугался.
— Подожди, милая, подожди. — Ибрагиму казалось, что сердце у него колотится уже не в груди, а прямо под горлом. — Я не знаю… Я ответил Арчибальду, что своих планов менять не собираюсь, и он может катиться… далеко. Нет на Земле такого человека, что осмелится приказывать Ибрагим-бею, с кем дружить, а с кем воевать. Он сделал печальное лицо и удалился, на прощание сказав, что не хотел бы, чтобы я пожалел о сказанном.
Он вдруг побагровел и схватился рукой за левую сторону груди.
— Что-то со мной… Я сейчас умру, наверное. Позови, позови кого-нибудь… — он начал хватать ладонями воздух. И задышал почти по Чейн-Стоксу.
Кристина не испугалась того, что человек, которого она всего полчаса назад «полюбила», от обычного инфаркта или кардиоспазма сейчас, у неё на глазах уйдёт из жизни. Всего и дела — снять со своего запястья браслет гомеостата и надеть ему. Посмотрела на экранчик: ничего страшного. Господин Катранджи ужасно труслив. Без всякого гомеостата хватило бы ему таблетки бензедрина. И ещё два раза по щекам.
Если только у него не включилась программа самоуничтожения, настроенная на определённые ключевые слова.
Но гомеостат должен помочь и в этом случае.
Хоть программа, хоть банальный стресс, а действуют они всё равно на нервные и биохимические структуры. Спасительный прибор, работая быстрее и эффективнее, чем бригада реаниматоров, блокировал источники нарушающих «постоянство внутренней среды организма» импульсов, выровнял давление, привёл в норму концентрацию эндорфинов. Отдышись, утри сопли и хоть на штурмполосу.
Так она ему и сказала. Тут же спросив о следующем:
— В итоге ты испугался. Сообразил, что Арчибальд и компания, не убив тебя в первый раз (или просто припугнув), рано или поздно ликвидируют более надёжно, снова стал работать на него?
— Что ты, Кристя, что ты? Не начал, совсем не начал. Я правда испугался, увидев Арчибальда! Если он способен на такое, найти меня в совсем другом времени, под вашей гарантированной (вольно или невольно он это слово подчеркнул интонацией) защитой — выхода нет. Осталось просто подчиняться. Тем более — не смертью он мне угрожал, хуже. Он сказал, что как джинн был рабом лампы, я стану рабом Замка. Буду процессором, придающим системе человеческое измерение.
— Но внешне ты держался… прилично. Мне и в голову не пришло, что вы с ним вообще знакомы, тем более что он внушает тебе панический ужас.
— Спасибо, — криво усмехнулся Катранджи. — Мне это труда не составило, он мне словно наркотик какой-то ввёл. И наяву со мной не разговаривал. Только улыбнулся пару раз и подмигнул. Как смерть из старой сказки. Вот когда я начал засыпать… Я понял, что люблю тебя, и ты мне всегда поможешь. И тут же ты исчезла и возник Арчибальд. Сказал, что я должен сделать одно, последнее дело, и он меня отпустит. Мол, нужно пройти в тайное святилище моих дальних предков, которые в те времена, когда европейцы недалеко ушли от неандертальцев, уже владели миром.
— И зачем? — легко спросила Кристина.
— В этом святилище есть древняя машина, способная устранить абсолютно всё, случившееся неправильно. Вернуть Главную историческую последовательность к её исходному состоянию, проще говоря — к моменту, когда Антон был назначен работать на Землю. Замок сохранит память обо всём, что было дальше, и не позволит форзейлю сделать то, что он сделал. И не будет на Земле ни Советской России, ни Югороссии, ни твоей Империи. А мы с тобой уцелеем и, если захотим, — он мне определённо пообещал — станем владыками всего правильного мира. Навечно! Ни форзейли, ни аггры не будут над нами властны.
— Какая ерунда, — отмахнулась Кристина. — Что бы сотворила эта машина — я понятия не имею, но за каким хреном ты, а тем более я нужны Арчибальду в качестве «владык мира»? Царь Соломон и царица Савская в тысяча девятисотом году? Смешно. И не «машинами» из театрального реквизита такие дела решать.
— Я и сам теперь так думаю, — уныло кивнул Ибрагим. — Но в тот момент его слова показались мне невыносимо заманчивыми… Я не мог ни думать, ни возражать… Искренне поверил, что иного пути, чтобы… чтобы полностью и вечно обладать тобой, у меня нет.
Он сказал и уставился на неё буквально умоляющим, так не идущим ему взглядом.
— Как ты меня сумела оттащить от этой машины?
— Ты и вправду дурак, Иван Романович, — с откровенным чувством превосходства сказала девушка. — Главный вопрос совсем в другом — почему ему потребовался именно ты? Он что, сам не мог её включить? А как оттащила? Вот это уже магия. Добрая магия. Никаким образом моё там появление в планы Арчибальда не входило. Просто за ненадобностью. Едва ли это он направил меня за тобой следом. И сама по себе не могла я в тебя влюбиться за несколько минут. Элегантного европейца не полюбила, а грубого янычара… Не такая я извращенка. Даже в виде дяди Изи ты приличнее смотрелся, — сказала она с отчётливой иронией. — И тот «нефритовый жезл», которым ты меня обесчестить хотел, на таких, как я, впечатления не производит. Отталкивающее, честно сказать, зрелище, особенно при свете дня.
Она специально это сказала, чтобы окончательно отрезать то, что было. А если случится ещё что-нибудь, так наверняка по-другому. Тогда и видно будет.
— Мне очевидно, что заклинание Удолина, или не только его, всё же сработало. И один у тебя, у нас с тобой (неожиданно для себя поправилась она) шанс. Прямо сейчас пойти к Сильвии и профессору, всё рассказать и спросить, что делать дальше. Не наши игры пошли. Каким-то образом блок-универсал здесь замешан, значит, и Сильвия тоже.
Глава двадцать вторая
В отсутствие Фёста Людмила приняла на себя всю его власть, сообщив об этом Мятлеву без всяких деликатностей, как только он после душа и бритья вышел в кухню. Подпоручик Вяземская, очень рано проснувшаяся и до сих пор расстроенная прощальным разговором с Ляховым, пила кофе, смотрела на низкое облачное небо и вертела в руках бумажку с инструкцией.
— А где народ? — жизнерадостно спросил генерал, подходя к столу.
— Герта, наверное, спит. Сильвия и Вадим уехали. Срочно…
— Как уехали? А мы же собирались… Что же он меня хоть в известность не поставил? Я как раз хотел несколько соображений высказать, надеюсь — умных.
Мятлев не играл, действительно выглядел удивлённым и даже расстроенным. Если его что и встревожило, так именно экстренность исчезновения сразу двух ключевых игроков. Это могло означать внезапное и, скорее всего, неблагоприятное развитие событий. Для всех.
И очень плохо, если «события» способны повредить проекту. Генерал, как это часто бывает, преодолев какой-то рубеж, стал тем самым роялистом, «большим, чем сам король». Ему уже казалась жизненной катастрофой невозможность объединения с «прекрасным новым миром», обречённость продолжать прежнее, почти бессмысленное существование. Он ощущал себя наподобие заключенного, которому накануне освобождения вдруг добавили новую «десятку».
— Дела его крайне торопили, — ответила Людмила. — На долгие беседы времени не было, а извиниться, что не попрощался, он мне поручил. Как и всё остальное. Можете считать меня временно исполняющей обязанности полковника Ляхова, со всеми прерогативами и дисциплинарными правами. Возражения есть?
Генерал не ожидал, что совсем молодая девушка, пусть и подпоручик аналогичной организации, вдруг заговорит с ним вежливым, но не предполагающим возражений тоном. Она стала совсем не похожа на смешливую блондинку с наивными глазами, любительницу танцевать до упаду в фешенебельных ночных клубах и пить коллекционные вина.
— Насколько мне известно, ваши дисциплинарные права на мою особу не распространяются. По очевидной причине.
— Дело в том, Леонид Ефимович, — сочла она нужным пояснить, уловив настроение и ход его мысли, — что теперь я отвечаю головой за вашу безопасность и «за наше общее дело». Вадим обещал вернуться завтра, в крайнем случае послезавтра. Надеюсь, с важными для всех известиями. До этого вам лучше бы оставаться у нас. Мы с Гертой постараемся сделать «каникулы» максимально приятными. Каких-нибудь значимых опасностей здесь просто не существует, если, конечно, очередной мятеж вдруг не вспыхнет. Но это почти совершенно исключается, — поспешила она успокоить гостя.
Подобный вариант Мятлева вполне устраивал, он с огромным удовольствием продолжил бы жизнь бонвивана, сопровождаемого двумя прелестными девушками, в этой Москве, приспособленной для красивой жизни куда больше, чем даже современный ему Париж. Ещё лучше, если бы на эти два-три дня удалось к минимуму свести общение и с Вяземской. Если отношения хоть как-то начали развиваться, подруга твоей подруги становится очевидно лишней.
Его беспокоил только финансовый вопрос. Нельзя же уважающему себя человеку, всерьёз увлечённому девушкой, потупив глаза, сидеть в ресторане, когда она за тебя расплачивается. Пока это делал Ляхов — сомнений у генерала не возникало. Кто вербует, тот и платит. Сейчас он жалел, что не попросил у Вадима какой-нибудь аванс, в счёт будущего, именно «на карманные расходы». Но обратиться с тем же к Людмиле, пусть она и «исполняющая обязанности», было выше его сил. Даже в самые трудные времена Леонид не унижался до того, чтобы брать деньги у женщин.
— Ты хочешь сказать, что до возвращения Ляхова я интернирован? — пошутил он, продолжая соображать, как с честью выйти из положения.
Если Людмила решила его не отпускать домой, она не отпустит, и никаких средств давления на неё нет. Проход открыть может только она или Герта, если даже вообразить такое безумие, как попытку силой отнять у них прибор (а на это именно сил у него не хватит, здраво мыслил Мятлев, несмотря на «вальтер ППК» в кармане), пользоваться им он не умеет. Да и сама по себе идея абсурдна, кто же затевает конфликт с партнёром в самом начале удачно развивающейся операции. С двумя партнёрами…
— При чём тут интернирование? — искренне удивилась девушка. — Исключительно — польза дела. Для его успеха ваша жизнь и безопасность крайне важны. Гарантированно обеспечить я их могу только здесь. К работе в вашей реальности я подготовлена очень плохо. Эффект будет тот же, как если использовать агентурного разведчика в качестве войскового.
— Ну, у себя-то уже вашу безопасность я обеспечу в лучшем виде, — самоуверенно ответил Мятлев.
— Далеко не факт. Повторяю, — сказала она без намека на легкомысленность, которую она при посторонних имитировала настолько органично, что не знающие Людмилу люди терялись, если она вдруг становилась серьёзной, — за вашу безопасность там я не поручусь вот настолько… — Девушка отмерила на указательном пальце едва треть первой фаланги. — Будь вы хоть кто по должности. Царей и императоров убивали не поморщившись, если они кому-то поперёк дороги становились. А уж на вас, да и на нас с Гертой пуля, если вдруг что, всегда найдётся. Сейчас снайперы на два километра научились в цель попадать, а мы на таком расстоянии ничего не почувствуем. Да вот что вы скажете по такому поводу? — Она вкратце пересказала ему то, что Ляхову говорил консьерж, собственные впечатления от милицейской машины и её водителя.
— Это события только одного дня, когда мы собирались на встречу с вами. О других мы просто ничего не знаем. А вы?
Мятлев насупился. Без спросу, как уже обжившийся в доме гость, достал бутылку коньяка из массивного, как готический собор, резного буфета эпохи Александра Третьего. Людмила включила автоматическую кофеварку.
— Вам эспрессо, капучино? Там в холодильнике сыр, паштет, что-то ещё…
— Просто чёрный и покрепче…
Он сел напротив, не дожидаясь, пока Людмила наполнит чашки, выпил большую рюмку, закурил натощак, чего обычно избегал.
— То, что ты сказала, — очень интересно. Угадать бы теперь — мы под одним колпаком или под разными?
— Мы думаем — под разными. Причём не факт, что их всего два. Это дело в нашей разработке не единственное. Что же касается вас, то безотносительно к нашим проблемам я сторонник крайней осторожности. Вы не хуже меня знаете о ситуации и в МГБ, и в параллельных структурах. «Утечка» о хотя бы только факте встречи Президента с неизвестными людьми неизбежна. А учитывая количество посвящённых: снайперы, водители, официанты, я думаю, и суть этих контактов уже не секрет. Вспомните «Семнадцать мгновений…», переговоры Вольфа с Даллесом. Я, кстати, совсем не уверена, что ваш господин Санников и его группа пребывают в добром здравии. Всё это мы скоро узнаем, вообще примем меры, но не сейчас. Одним словом, пока не вернулся Вадим, я вас домой не отпущу. А если руководство сочтёт, что я превысила свои полномочия — так лучше с пониманием принять дисциплинарное наказание, чем потратиться на венок «боевому товарищу».
— Ты меня растрогала, Люда, своим практицизмом, — сказал генерал. — Хорошие венки нынче дорого стоят, а выговор в приказе — ерунда, рано или поздно снимут. Беда только вот в чём — мне сегодня край надо встретиться с Журналистом, с Анатолием то есть. Мы сразу после моей встречи с Вадимом договорились. Он крайне заинтересован в результате…
— Край не край — я своих решений не меняю. Но есть предложение…
Ей ведь тоже Вадим во время своего отсутствия поручил встретиться с означенным лицом, правда, в присутствии Мятлева, и даже вручил некие «тезисы».
— Вы с Гертой отправляйтесь на экскурсию. В Троице-Сергиеву лавру, например, или прогуляйтесь по музеям, они здесь богаче и интереснее, чем у вас. И тематикой экспозиций, и количеством отражающих почти век «раздельного развития» экспонатов.
Предложение Леонида заинтересовало, в точности совпадая с его желанием на неопределённый срок остаться с Гертой наедине. Вчера ночью ему снова удалось провести с ней пару часов в одной из удалённых от обитаемых зон квартиры гостиных. Они в основном говорили о разных особенностях её мира, которые его интересовали на случай, если всё же придётся принимать решение об «эмиграции». Она была мила, весела и общительна, но, несмотря на весь свой опыт, Мятлев так и не мог сообразить, как же она к нему на самом деле относится. Что в принципе хорошо — сомнений не возникало, вся проблема в том, что неизвестно — как это «хорошо» понимать.
Случившийся предыдущей ночью эксцесс, по счастью, последствий не имел. Из опыта Мятлев знал, что не совсем контролирующая себя девушка иногда может позволить слишком многое и вроде бы по взаимному согласию, но наутро испытать к себе и к партнеру неприязнь, вплоть до отвращения. У них такого, похоже, не случилось, но зато для общения тет-а-тет Герта выбрала гораздо более безопасное помещение, чем спальня.
Себя остерегается или только его?
Не слишком важно. Главное — вербовку ценного агента так не проводят. И высоконравственные девственницы в разведке не служат. Вчера его могли бы заснять в любых видах и позах, гораздо качественнее, чем «человека, похожего на генпрокурора», как угодно перемонтировать плёнку и наложить любой текст. Если земная техника это позволяет, так уж «потусторонняя» — тем более. Для шантажа и дискредитации хватит. И нет никакой необходимости на следующий день вести себя так, как Герта. Или уж буря страсти, чтобы окончательно покорить «клиента», или холодное предъявление «материалов». Рассчитывать водить опытного специалиста на крючке с наживкой из «новой чистой любви» — просто непрофессионально.
Мятлев, тем более что ему на самом деле очень этого хотелось, выждав подходящий момент, всё-таки сделал очень деликатную попытку обнять, а если получится — и поцеловать девушку. Без агрессивной страсти, почти по-дружески. Она, не жеманничая, ему ответила. Генерал получил полчаса чистого наслаждения. Герта, достаточно возбудившись сама, но не теряя головы, позволила ему ровно столько, сколько допустимо в комнате, куда в любой момент могут войти посторонние.
— На экскурсию — это хорошо, — кивнул генерал. — Мне вообще у вас всё интересно, просто по улицам ходить, хоть в богемном кабачке, хоть в извозчичьем трактире разговоры слушать.
Настоящих извозчиков в Москве лет пятьдесят как не было, если не считать некоторого количества конных экипажей, используемых для развлечения туристов и в ритуальных (свадьбы или, наоборот, похороны высшего разряда) целях. Но несколько заведений с характерной, зелёной с золотом, вывеской Мятлев, проезжая по улицам, видел. Об этом и спросил, попутно вспомнив Гиляровского.
— А, это такая традиция, — махнула рукой Людмила. — Как в Англии. У нас с незапамятных времен все водители такси и прочего наёмного транспорта входят в профсоюз извозопромышленников. А трактиры и некоторые кабаки[28], ими излюбленные, выполняют функцию своеобразных клубов.
— Понятно. Приятно жить в стране с традициями. Выпьешь? — неожиданно спросил Мятлев. Людмила хотела отказаться, но потом решила, что поддержание уровня общения важнее. Незаметно передвинула верньер гомеостата на два деления. Теперь алкоголь распадётся в организме до воды и углекислого газа, минуя промежуточные стадии всяческих альдегидов через пятнадцать минут, хоть бутылку из горлышка выпей.
— С кофе немного можно. Мы пока никуда не спешим.
Генерал, начав с утречка на вчерашнее, уже слегка плыл. Совсем чуть-чуть, но Вяземской было заметно.
Чтобы «уравнять шансы» и подтвердить репутацию отвязанной девчонки, да вдобавок строевого офицера, она не спеша, мелкими глотками выпила коньяк, закусила ломтиком острого сыра.
— Скажи мне, Люда, — вдруг вернулся к занимавшей его едва ли не пуще вопроса собственной безопасности теме, — только ну совершенно между нами. Как офицер обещать можешь?
— Если касается лично меня, а не службы — могу.
— Тебе Герта ничего не говорила? Наверняка ведь касались вы этой темы. Ну, как она ко мне… Честно скажи, без всяких уловок. Нужно мне это, понимаешь. Иначе я просто брошу это дело. Не смешно разве — сорокалетний мужик перед девчонкой стелется, карьерой и семьёй рискуя, а она, возможно, только посмеивается, отойдя в сторонку. Нет, от наших совместных планов я не отказываюсь, не думай, что Леонид Мятлев ради «ля плю бель филь»[29] соглашается всю мировую систему то ли обрушить, то ли перестроить. Не Парис я и не царь Менелай. Просто желаю своё в этой истории положение отчётливо понимать… И дураком не выглядеть.
Примерно то же самое он уже спрашивал у Ляхова, правда, в другое время и в другой обстановке, которая успела существенно поменяться, даже относительно его собственных чувств.
Людмила засмеялась. Очень дружески положила ладонь на руку генерала, а глазами указала, чтобы налил ещё.
Мятлев мельком удивился — это же у неё выйдет больше ста грамм с утра без закуски? Зверски пьют господа «печенеги», не хуже старинных кавалергардов, пусть и девицы. Ну а его какое дело? Ну, пусть наберётся, завалится спать, а он с Гертой гулять отправится. Где-нибудь в «Национале» или у «Тестова» позавтракают плотненько…
Что сам он может набраться быстрее Людмилы, ему в начавшие сладко туманиться мозги не приходило.
— Что я скажу? Шансы у вас есть, как у каждого, кто хочет понравиться девушке, тем более — свободной. Другое дело — как ими воспользоваться. До вчерашнего вечера вы ей были достаточно интересны как человек и как мужчина. Поменялось что-нибудь с тех пор — не знаю, утром с ней не виделась. Вы бы должны сами лучше меня её ауру чувствовать. Ещё более откровенно, раз уж мы по-офицерски говорим — отдаваться вам из любопытства или чтобы «сделать приятное» она не собирается. Не та натура. Даже если бы этого «интересы службы» требовали. На такой случай мы бы сотрудницу с другими принципами привлекли. Вот если сама решит, что вы — «её человек», тогда всё возможно.
Вяземская взяла сигарету, подождала, пока Мятлев поднесёт зажигалку. Мизансцена требовала такого внешне незначительного штриха. Дымящаяся в длинных пальцах сигарета и слегка нервная затяжка придавали словам Людмилы искренности и убедительности.
— Как вы воспользуетесь этой информацией — ваше дело. Я не сводня, и опыт мой в таких делах — стремящаяся к нулю величина. Давайте лучше о деле, а то скоро Герта проснётся, и вам будет не до него. — Девушка улыбнулась понимающе и даже сочувственно. — Я вот какое решение приняла, пользуясь своими правами: в ту Москву я схожу одна. Встречусь с вашим другом, передам ему то, что считаете крайне важным. Или лучше — напишите записку, сообщите, что хотите (я читать этого не буду), добавьте, что форс-мажорные обстоятельства не позволяют вам вернуться минимум двое суток. Заодно попросите связаться с человеком из вашей организации, которому безусловно доверяете, с тем же Санниковым, если он действительно надёжный человек, передайте поручение — выяснить, кто организовал слежку за нами и за вами. Предпринимать совсем ничего не нужно, только выяснить… А потом у нас найдутся способы прекратить это безобразие.
— По вашей радикальной методике? — спросил Мятлев, подразумевая акции, с помощью которых Фёст демонстрировал Президенту свои возможности.
— Имейте в виду, Леонид Ефимович, — мило, почти соблазнительно улыбаясь, сказала Вяземская, — подразделения «Печенег» были созданы ещё до занятия Престола Олегом Константиновичем, во времена «демократической республики», как лично ему преданное подразделение специального (в широком смысле) назначения. За пределами Московского округа «печенеги» фактически считались «вне закона», отношение к ним было немногим лучше, чем к «организованным преступным группировкам», оттого любые наши методики и акции поневоле были крайне радикальными. Вторых шансов «печенегам» ни действительные враги, ни правоприменительные формирования петроградской власти обычно не давали…
— Теперь уже я вынужден возражать, — генерал встал из за стола. — Как я могу согласиться на твой «одиночный рейд», если, по твоим же словам, обстановки ты как следует не знаешь, твои портреты (если враги Президента и наши собственные оборотни перешли к решительным действиям) наверняка растиражированы в тысячах экземпляров, и ты, и Герта, и Вадим, возможно, числитесь во всероссийском розыске, тайном или явном… Слишком вы ловко и даже вызывающе умыкнули меня из парка. Сейчас там, может быть, землю в буквальном смысле роют, ищут тайный ход ко «второму» или «третьему» метро.
— Как раз за меня можете не опасаться. Внешность я изменю до полной неузнаваемости, оперативная подготовка у меня лучше, чем у любого из ваших сотрудников или врагов. Это в технике «первая Земля» вторую опережает, а «человеческий материал»… Не приходилось слышать, как отряд Ляхова в Москве с наёмниками из вашего мира, подкреплёнными тяжёлыми танками, разделался?
О том, что двух Ляховых поддерживал ещё и взвод корниловцев поручика Ненадо, она говорить не стала.
— Да и вообще, я там у вас засвечиваться не собираюсь. Высажусь, позвоню вашему Анатолию, назначу встречу в удобном месте, переговорю и назад. Намного безопаснее, чем разведпоиск по ближним тылам противника.
Тон и взгляд Вяземской отчётливо давали понять, что спорить с ней бессмысленно. Да и, при здравом размышлении, что ей там могло угрожать? Короткое появление в десятимиллионном городе одной-единственной девушки, достаточно подготовленной к гораздо более сложным заданиям, не может быть зафиксировано даже теоретически, пусть введены в действие сразу все «Перехваты», «Неводы», «Фильтры»…
— Садитесь, пишите записку, а я пока переоденусь, — поставила точку Людмила.
Вернулась она из недр квартиры раньше, чем через полчаса, и генерал сначала поразился глубине её «трансформации». Даже будучи готов к тому, что она тщательно загримируется, Леонид, как ни старался, не мог сейчас найти в облике стоявшей перед ним женщины ни одной знакомой черты. Мятлев не понимал, как это у неё получилось. Ну, изменила причёску, расчесав волосы и повязав их довольно безвкусной банданой, нацепила не слишком идущие ей очки, платье сменила на затёртый джинсовый костюм, под расстёгнутой курткой довольно заношенная майка с надписью «ай лав Нью-Йорк». Переобулась в модные нынче кеды, которые молодёжь от тринадцати и до тридцати вдруг начала носить по делу и не по делу. Любой «наружник», ориентированный на прежний облик девушки, в двух шагах разминётся и внимания не обратит. Это технически и психологически понятно, и, в принципе, даже такого камуфляжа достаточно, она на улицах Москвы станет невидимкой вопреки тому, что ревнители нынешней моды мечтают именно выделяться среди стандартно одетой «серой массы», не соображая, что именно в таковую они и превращаются, тем вернее, чем старательнее подчёркивают свою «неординарность».
Гораздо более удивительным и даже пугающим было то, как изменилось её лицо. Она будто постарела лет на десять, а то и больше. Оказалось, что красота и изумительная правильность её черт легко способны превратиться в свою противоположность — никакой индивидуальности вроде лёгкой асимметрии, присущей только ей формы носа или губ. Просто анатомически безупречный муляж, манекен, с которым можно делать что угодно. И мимика стала сглаженной, невыразительной, как у аутистки, кожа приобрела нездоровый, офисный оттенок. Губы, тронутые нездорового оттенка блёклой помадой, утратили чувственную полноту и естественную яркость, стали заметно тоньше, да вдобавок кривились словно навсегда приклеенной усмешкой неприятия и пренебрежения ко всему окружающему миру.
Вдобавок ко всему Людмила слегка ссутулилась, чуть изогнула спину в сторону висящего на левом плече розового рюкзачка.
Генерал увидел её сначала глазами обычного прохожего, потом патрульно-постового милиционера. Удивительно тонкую грань нашла Вяземская. Ни у мужчин, ни у женщин, кроме таких же, как она профессиональных участниц всякого рода «акций протеста», эта терзаемая комплексами, рано постаревшая особа не вызовет ни малейшего интереса. Скорее — желание поскорее отвернуться и отстраниться, оказавшись слишком близко в вагоне метро.
А любой патрульный милиционер признает в ней коренную москвичку, не представляющую интереса ни с какой точки зрения. Регистрацию проверять бессмысленно, самых маленьких денег с неё не слупишь ни под каким предлогом, а на скандал по любому поводу нарваться очень даже можно.
— Блеск, — сказал Мятлев, тщательно изучив маскировку. — А говорила — нашей обстановки не знаешь…
Людмила не стала объяснять, что схему камуфляжа ей подобрал Шар, избрав типаж, наиболее типичный и одновременно антипатичный для тех многосоттысячных масс женщин нужного возрастного интервала, заполняющих в этот момент улицы Москвы в пределах Садового кольца. Мимическую трансформацию она произвела с помощью гомеостата, был бы лишний час и желание — могла бы превратиться лицом в семидесятилетнюю подмосковную старуху.
— Так и не знаю. Это я с журналов и телепередач за последнюю неделю насобирала. А достоверно сыграть такую девушку при личном общении с ней подобными не возьмусь — манеры разговора, инстинктивных реакций, сегодняшнего жаргона не знаю. На этом специалисты не мне чета, бывало, проваливались. В случае чего буду психастеничку под кайфом изображать… В общем, я пошла, — прекратила обсуждение Людмила. Ей и самой было слегка не по себе — всё же первый самостоятельный выход в чужой мир на серьёзное дело, без подстраховки. Совсем не то, что в компании Фёста и Герты по паркам гулять. — Давайте записку, номера телефонов, самых «прямых», чтобы хозяин трубку брал, а не секретарша и не жена.
Мятлев протянул небольшой листок из записной книжки, исписанный бисерным, но вполне разборчивым почерком, свернул его пополам, текстом внутрь.
— Только вот… — он слегка замялся, — я прошу Анатолия, чтобы он с тобой несколько дореволюционных золотых монет передал. Зайдёте в ювелирный, он знает где. Сам и расплатится. Ты только скажи — как у вас, допустим, «николаевская» десятка котируется, сколько их на неделю хотя бы нужно, чтобы свободно себя чувствовать здесь?
Людмила сначала не поняла, машинально перевела цену восьми грамм царского золота на нынешний бумажный курс. Потом спросила, зачем, собственно, это нужно? Любые золотые монеты, начиная с серий тысяча восемьсот девяносто седьмого года, и здесь можно купить прямо в банке, наверняка дешевле выйдет, и время тратить не придётся.
Мятлев, разговаривая с Вяземской не как с девушкой, а с «исполняющим обязанности старшего по команде», признался, что не может себя нормально ощущать в чужой стране без копейки в кармане, а иного способа переправить ликвидные средства из одной реальности в другую не нашёл.
Людмила рассмеялась:
— Какой вы странный человек. Сказали бы сразу…
Она провела генерала в «основной» кабинет, открыла перед ним секретер, все полки которого доверху заполняли пачки всевозможных дензнаков, имеющих хождение в России, на территории ТАОС и даже за Периметром. Сама она перед «выходом» в другом, разумеется, кабинете рассовала по карманам две пачки эрэфовских пятисоток и ещё одну — долларов и евро не очень крупными купюрами. Фёст говорил, что в некоторых случаях эти деньги в его Москве предпочтительнее.
— Возьмите, сколько считаете нужным, и всё. Это расходной фонд, неподотчётный.
Мятлев смотрел на предъявленные богатства со странным чувством. Словно бы оказался на Гоголевском бульваре, где вся аллея вместо опавших листьев усыпана тысячерублёвками. И не сон ведь. Если это — расходной фонд, то финансовые возможности организации просто невозможно вообразить.
— Да берите, берите, что вы на них смотрите?
Пожав плечами, Леонид, подавляя непонятное внутреннее сопротивление, взял с полки пачку больших, почти как дореволюционные, и похожих на них цветовой гаммой и дизайном здешних сторублёвок в банковской упаковке, вертел в руке, словно не зная, что с ней делать. Машинально читал набранные стилизованными под старинный шрифт литерами гордые слова: — «Государственный банк разменивает кредитные и банковские билеты на золотую монету без ограничений суммы (1 рубль = 1/15 империала, содержит 17,424 долей[30] чистаго золота)». Ниже — подписи: Управляющий — … Кассир — … Факсимиле неразборчивы, но внушают уважение своей отработанной витиеватостью.
— Ещё пятёрок, а лучше трояков возьмите, — подсказала Вяземская. — Для текущих расходов удобнее. Сотню не в каждом месте разменяют, набегаетесь…
Из глубины квартиры донесся голос Герты, проснувшейся наконец и выясняющей, есть ли поблизости кто-нибудь живой.
Людмиле это было наруку. Она подтолкнула Мятлева в нужном направлении, изобразила прощальный жест и направилась в противоположную сторону, к двери, выводящей из принадлежащей якобы Сильвии смежной квартиры в требуемую реальность.
Консьерж Борис Иванович её не узнал. С суровым видом посмотрел на девицу, которой в приличном доме делать нечего. Вдобавок он не заметил, чтобы вчера кто-то из жильцов её к себе провёл, самой же ей сюда проникнуть было совершенно невозможно. Разве что через чердак, если имеет ключ или универсальную отмычку.
Он не открыл решётчатую дверь-турникет, намереваясь выяснить обстоятельства.
— Дядя Боря, это же я, Людмила, — сказала она своим обычным, хорошо знакомым отставному майору голосом.
— Н-да, маскировочка, — одобрительно, но с оттенком усмехнулся консьерж. — Уже до этого дошло?
— Кто его знает, что дошло и докуда, — ответила она, облокачиваясь на стойку и, как давеча Ляхов, протягивая майору портсигар. — Но страховаться точно пора.
Борис Иванович взял сигарету, за секунду во всех деталях рассмотрел портсигар. Свой Вадим Петрович унёс с собой, безусловно. Это — такой точно, только монограмма из других камней, другого рисунка. Африка, говорите? Ну-ну. Сколько же «коллега» их оттуда привёз, «под заказ и по размеру кармана»? Десять, сто, тысячу? Как опознавательный знак комсостава или всех членов организации? Тогда, даст бог, и ему такой скоро носить. А пока, нужно понимать, «племянница» даёт ему знак — «кто есть кто».
— Слушаю вас…
— Вадим Петрович сказал, что на вас можно рассчитывать…
— В основном да. А конкретнее?
— Мне сейчас нужно ненадолго прогуляться в город (специально так сказано, чтобы подчеркнуть свою глубокую провинциальность), а я чего-то опасаюсь. Ну, вы понимаете. Не найдётся ли у вас двух надёжных ребят, чтобы просто сопровождали меня на приличном удалении и ни в коем случае ни во что не вмешивались. Что бы ни произошло.
— А смысл? — спросил майор.
— Мне нужны свидетели. Только свидетели. Нет, не для суда. Для дяди моего. Он моментами склонен считать, что у меня акцентуация в сторону паранойи, так если вдруг произойдёт нечто непонятное, чтобы независимые люди подтвердили. Это можно сделать?
— Сделать, милая Люся, можно абсолютно всё. Я позвоню, минут через пятнадцать подъедут люди, отвезут, куда нужно, высадят незаметно и понаблюдают. Только в одном у нас расхождение получается. Вадим Петрович просил меня присматривать, чтобы с тобой ничего не случилось. А если на глазах у наших начнёт «случаться»? Не помогать и только смотреть, фотографировать, как сейчас у журналистов принято?
— Спасибо, дядя Боря, за добрые слова и намерения. Но всё должно быть так, как я прошу. Если «случится» — я за своих сопровождающих беспокоиться не должна, а то попадутся невзначай под горячую руку. Метров двадцать-тридцать — идеальная дистанция, ближе подходить не нужно.
Людмила подумала, что слишком напрягает собеседника, постаралась смягчить впечатление от своих слов.
— Да вы не беспокойтесь, я, может быть, просто так сказала. Скорее всего, ничего и не будет на самом деле. Поговорю с одним человеком полчасика и вернусь. Или — не вернусь, но вы тоже не очень переживайте. Если мне придётся следы путать, я могу в квартире оказаться, минуя ваш пост… Так чтобы не удивлялись, если только завтра меня увидите из дома выходящей в летнем платьице.
У консьержа голова потихоньку начинала идти кругом. Он думал — хозяин здесь серьёзный человек со странностями, а «племянница», получается, покруче выходит. Вот уж «метка» так «метка». Борис Иванович имел дело с разного рода «спецназами» и сообразил, что того же она поля ягода, неизвестно где и когда очень серьёзным вещам обученная.
Спрашивать насчёт способов, позволяющих, минуя контроль, проникать в квартиры, из-за которых с самим смотрящим района нешуточная разборка вышла, вчистую выигранная «интеллигентами», он не стал.
Просто порадовался за себя, что на верную карту поставил. Деньги деньгами, хотя очень приятно стало снова почувствовать себя «правильным мужиком» и приносить жене не поганые «чаевые», а «боевые» тысячи. Так он для себя оценил получаемое от Вадима Петровича, пусть «боёв» пока и не было. Но не зря ведь тремя часами раньше «шеф» спросил о потребности в оружии. Это уже не шутки.
Он позвонил надёжным боевым офицерам, тоже «с хлеба на квас» перебивающимся и готовым к «серьёзной работе», потом и Людмила с его сотового телефона набрала номер журналиста Анатолия, полученный от Мятлева.
Тот ответил сразу, после второго гудка. Милейшим из своих голосов она представилась хорошей знакомой Леонида Ефимовича и сказала, что у неё имеется от него письмо, которое хорошо бы передать Анатолию Васильевичу в течение ближайшего часа.
— Письмо? Странно. Не эпистолярный век. Телефон потерял?
— Я сказала то, что меня просили. Назовите место и время, — подпоручик Вяземская добавила в голос совсем чуть-чуть металла, что и собеседник на той стороне трубки оценил, и Борис Иванович кивнул одобрительно.
— Возле Маяковского вас устроит? Через полчаса?
Смысла кодированно предлагать что-нибудь другое не было. Если номер Журналиста прослушивается, то его поведут с того места, где он сейчас находится. Впрочем — не факт, это случится только при условии, что «филёры» пасут его постоянно, днём и ночью, дома и на улицах. Иначе просто не успеют отреагировать. Местонахождение мобильника с редко используемой сим-картой в момент не запеленгуешь. А ему достаточно нырнуть в метро или поймать первого попавшегося частника — и «с концами».
Правда, подумала Людмила, чувствуется какая-то странность. Он предложил — через полчаса. Однако не так это просто — в будний день добраться до назначенного места, если уже не находишься в «шаговой доступности». Впрочем, что она себе голову забивает? Проще всего — сам он неподалёку и просто не подумал, что посланница Мятлева может находиться слишком далеко. Простейшая ассоциация — если она от Леонида, так и находится в «конторе» или рядом. Пешком не спеша дойдёт, тем более — она ведь сразу согласилась на предложение.
«Ребята» Бориса Ивановича подъехали даже быстрее, чем он обещал. На вполне приличной, но ничем не бросающейся в глаза серой «Волге»-такси с логотипом фирмы на оранжевом «гребешке». Двое мужчин около сорока лет, высоких и крепких, с грубоватыми, но по общему впечатлению приятными лицами. Вяземская оценила выбор майора (но, может, у него других под руками просто не было), уж эти внимания гипотетического неприятеля не привлекут. Больше всего они похожи на вахтовиков-нефтяников в отпуске, а не на работников «плаща и кинжала». Даже обычной для кадровых военных выправки в них не чувствовалось.
Познакомились. Один Эдуард, другой Григорий. Уважительно пожали новой партнёрше руку. Ни малейшего «мужского» отклика она в их глазах не увидела. Скорее — сочувствие: «ну, не дал бог внешности, другим возьмёшь». Людмила мысленно поблагодарила Дайяну. Красавице превратиться в чучело — пара пустяков. Наоборот — намного сложнее.
— Вы, товарищи, к войсковой разведке отношение имели? — спросила Вяземская.
«Товарищи» посмотрели на консьержа.
— Имели, имели, — успокоил он Людмилу. — Эдуард — командир разведбата, Григорий — ЗНШ[31] десантно-штурмового полка по той же теме.
Бывшие они или действующие, Вяземская уточнять не стала.
— Тогда, друзья, ведите себя сообразно. Городские топтуны к нашему стилю не приучены, просто ничего не поймут…
Без лишних разговоров сели в машину, Людмила впереди, Григорий на заднее сиденье. Она ещё раз повторила им свою схему.
— Даже если на ваших глазах меня с моим связником будут убивать — не вмешиваться. За одним исключением — если в поле досягаемости увидите снайпера, способного меня достать из укрытия. Тогда постарайтесь его хотя бы отвлечь на несколько секунд.
Командир разведбата едва заметно улыбнулся.
— Мы по-всякому умеем. Машина чужая, зацепок от неё на нас — никаких. Бросим её — не хуже, чем в тайге потеряемся.
— «Стечкины» с глушителями и много всякой восточной экзотики.
— Это лучше. Чем в городе стрельбу затевать — вернее сюрикеном или отравленной иглой из духовой трубки.
— Вы — очень серьёзная женщина, — уважительно сказал Григорий из-за спины. — Мы с вами нигде не могли пересекаться?
— Едва ли. Я на совсем других ТВД свои способности реализовывала.
Ребята, отчаянно-нагло пробившись через пробки центра (пешком вышло бы быстрее и спокойнее), высадили Вяземскую на подъезде с Дегтярного переулка к Тверской. Место было такое, что никто и не заметил, как Людмила выскочила среди тщетно ищущих парковки машин и тупо пытающихся протолкнуться на метр дальше, в ещё больший затор.
Выбралась на тротуар, осмотрелась. Да, совсем неинтересная здесь жизнь. Глупая. Что стоит местному градоначальнику просто запретить проезд через центр города, кроме как по нескольким радиусам, а за остановку на любой другой улице или в переулке брать штраф в размере суточного заработка (именно так, а не фиксированную сумму). В её Москве такая схема работала великолепно.
Журналиста она увидела издалека, он стоял прямо перед основанием памятника, с букетом крупных ромашек. Вполне нейтральный вариант — со стороны смотреть, мужчина явно женщину ждёт. Так ведь и на самом деле… То, что они не знакомы, не имеет значения, всё равно ведь не откажется, а в то же время и не розы, те уже к чему-то обязывают. Тем более — голос «посланницы» ему чрезвычайно понравился. Обертоны — сплошное очарование и именины сердца.
Она окликнула его со спины, он обернулся, и лицо его выразило откровенное разочарование. Плохо умел человек мимикой владеть. Да ему по профессии и не требовалось.
Цветы он ей, однако, вручил со всей любезностью, представился, только от целования ручки воздержался.
— Куда бы нам отойти, присесть? — спросила Людмила. — Разговор будет не очень долгий, но не посередине же толпы?
— Да вон, в начале переулка какие-то зонтики стоят, уж наверняка хоть пиво, хоть мороженое найдётся.
По внешности Вяземской лучше бы пиво, оно ей стилистически подходило больше мороженого, как и «Кэмел» вместо каких-нибудь дамских сигарет. Кроме того, массивные стеклянные кружки с тяжёлым дном больше годились на роль ударного и метательного оружия, чем пластиковая вазочка с такой же ложечкой. До того, как придётся использовать более серьёзные средства защиты и нападения.
Людмила осмотрелась и своих сопровождающих не увидела. Значит, схема маскировки на улицах у них другая, отличающаяся от ей привычной.
Анатолий бегло прочёл письмо Мятлева, что называется, «по диагонали», потом второй раз, уже вдумчиво.
Сама Вяземская записку генерала читать не стала, как в её кругах принято было, раз тот сам не предложил. Об этом она сейчас пожалела — работа ведь, а не подиум для демонстрации благородства и воспитанности. Неизвестно, как будет коррелироваться информация, полученная Журналистом от Контрразведчика с тем, что ей поручил сказать Фёст. Она уже привыкла называть Ляхова-первого Вадимом только наедине, а так и в общении с людьми своего круга, да и в мыслях, если не личные — Фёст и Фёст. Удобнее.
— Что ж, Людмила, мне всё понятно. Я провёл в вашем мире полчаса, Леонид третьи сутки «изучает обстановку» на местности. Счастливчик. Я его столько знаю, что прямо вижу — он пишет записку, подпрыгивая от нетерпения ринуться в изучение никем до него не изученного. Не Меллоун, не Рокстон, натуральный Челленджер[32]! Правда, намного красивее. В юности после девятого класса и до окончания института Леонид всё соображал — под кого ему «косить» — от Гриценко в «Хождении по мукам» до Олега Даля в «Операции „Омега“».
— Вам разнос слишком большим не кажется? — осторожно спросила Людмила. Тут она вступила на тонкий лёд. Как может девушка, всего год живущая в человеческом, причём совсем другом мире, поддерживать умную беседу о вещах, известных ей крайне поверхностно? Хорошо, благодаря Фёсту, Воронцову, Наталье Андреевне она посмотрела и почитала достаточно, чтобы понять, о чем вообще сейчас речь ведёт Журналист, и ответить как минимум «в тему».
Но Анатолия реакция антипатичной ему женщины волновала очень мало. Он «токовал» о своём.
— Леонид счастлив, а вы мне поверьте — этот человек, несмотря на профессию, умеет радоваться жизни во всех её проявлениях. С юных лет — всему. От уведённой со студенческого вечера «царицы бала» до купленной за трояк у алкоголика книжки, которая у знающего букиниста нормально стоит не одну сотню. Я даже название той книги помню, хоть было это, скорее всего, до вашего рождения.
Мы с Генрихом (это он так Писателя назвал, полным именем, немедленно это пояснив) с самого начала были на вашей стороне и, если б от нас зависело, идею самого тесного союза с той Россией, вплоть до конфедерации, приняли бы безоговорочно. По поводу Мятлева были самые серьёзные сомнения. Мы не успели обсудить проблему в «узком кругу», договориться о совместной позиции, но считали, что комплот Президента, Мятлева и других товарищей, владеющих «конкретными» профессиями, нам вдвоём не разрушить.
— А почему вы сказали — «конфедерация»? Отчего сразу не «Федерация»? Или просто — «двуединая монархия» вроде бывшей Австро-Венгрии. Нераздельно и неслиянно. Каждая из Россий будет считаться по отношению к другой «заморской территорией», с равными правами «суверенных правителей» и общим, объединяющим всех подданных «высшим законом».
Людмила слегка увлеклась. Подобных деклараций ей Фёст произносить не поручал. Но ей нравилось мыслить геополитически гораздо больше, чем любой из подруг. У Фёста, наверное, нахваталась, а скорее — у Секонда. С виду (не сейчас) — типичная «блондинка», а в душе не то Екатерина Великая, не то Маргарет Тэтчер.
Она не сразу заметила, что Анатолий смотрит на неё как-то слишком пристально. Ни её словами не мог быть вызван такой взгляд умудрённого двадцатью годами репортёрской деятельности и жизнью в «серпентариях», именуемых «редакциями», человека, ни нынешней внешностью.
— Зачем форсировать события? — мягко спросил он. — Мы не дошли даже до нормального союзнического договора. Всему своё время. Будем делать всё от нас зависящее в рамках возможного. Но я сейчас хотел спросить о другом, если вы не сочтёте это нескромностью. Наш друг Леонид, когда писал записку, был слегка «подшофе»[33]?
— Не знаю ваших градаций, но три больших рюмки коньяка за завтраком он выпил.
— Для него это и есть «подшофе». Не пьян, но в слегка приподнятом состоянии мыслей. Иначе он не написал бы следующей, непосредственно к делу не относящейся фразы, позвольте я процитирую: «Остерегайся чар Л, с которой ты сейчас общаешься. Она, как и её подруга, — настоящие Цирцеи[34]. Это приятно, но отвлекает от работы».
Людмила засмеялась. Анатолий печально вздохнул.
— Мне бы хотелось увидеть вас в истинном облике. Ваш грим безупречен, но нельзя на него полагаться, сидя полчаса на расстоянии вытянутой руки от такого прожжённого журналюги, как я. Моя профессия — видеть людей насквозь и при нужде выворачивать наизнанку. До самой души, если она есть. Ваша маскировка годится на улице, в метро, в обществе поглощённых только собственными интересами и заботами людей. Я не хвалюсь, но я — проницательный человек. Что тут первично, профессия или генотип, рассуждать не будем. Вы сумели «держать маску» ровно семь минут…
Анатолий снова взглянул на часы. Это у него было вроде нервного тика или профессиональная привычка — контролировать текущее мимо него время с точностью плюс-минус пять минут. Мало ли зачем пригодится.
— Неужели? — Вяземская состроила одну из самых неприятных гримас, допускаемых обликом.
Теперь засмеялся Анатолий:
— Всё! Наваждение давно закончилось, и ваши попытки «продолжать роль» выглядят как прощальный монолог Офелии в исполнении доярки из колхозной самодеятельности. Даже если бы я не обладал собственной наблюдательностью, слов такого Казановы, как наш Лёня, да ещё сказанных в подпитии, вполне достаточно. Невозможно представить камрада Мятлева, специально, подчёркиваю, специально предупреждающего своего друга, втянувшегося в авантюру с неясными последствиями, не об опасности от настоящих врагов, а о той, что исходит от чар вполне неприятной женщины.
Тут вы очень здорово в стиль моего восприятия попали. Я даже в метро стараюсь на таких, как вы сейчас, не смотреть в целях сохранения душевного равновесия. И сразу крепко задумался, искоса вглядываясь в сидящую передо мной мымру — что бы Лёнины слова могли значить? Шифровка, да?
Боже ж ты мой, думаю, фигура у этой барышни обалденная, никаким прикидом не скроешь, а жесты, голос, интонации, взгляд!
Просто поразительно, как едва ли не впервые попавшая в наш мир молодая девушка сумела сконцентрировать в своём облике почти весь негатив нынешней жизни. Разве что у вас нашёлся очень талантливый консультант. Одному он вас не научил — некрасивая, потрёпанная жизнью тридцатилетняя женщина не в состоянии говорить голосом, от которого хочется «достать чернил и плакать». В какой-то момент почти физически захотелось потянуться рукой и сорвать с вас эту нелепую маску…
— И увидеть прекрасное лицо принцессы из сказки, — продолжила Людмила. — Увы, ничего не выйдет. Что есть, то есть, остальное — плод вашего излишне художественного воображения. О Мятлеве ничего не могу сказать — он у нас действительно нашёл себе девушку по вкусу. Но даже она — не Цирцея. «Валькирия», при условии, что Леонида можно считать героем…
Разговор увял, обсуждать больше было нечего, раз собеседница решительно от этой темы уклонилась. Анатолию, в конце восьмидесятых годов отдавшему на чёрном рынке больше месячной зарплаты за двухтомник «Мифы народов мира» и досконально его изучившему, намёк на «валькирий» и прочее, с ними связанное, даже несколько испортил настроение.
— Суть в чём, — вернулась Вяземская к тезисам Фёста. — Буквально через два-три дня мы хотели бы устроить очередную встречу с вашим Президентом. В узком кругу, без Императора и его сатрапов. За это время вам следует настроить нужным образом остальных своих друзей. Финансисту скажите, что вопросы его компетенции могут быть решены в один день.
— Это, простите, как? — не понял Журналист.
— Элементарно. Ваша РФ одномоментно выплачивает все внешние долги за счёт пресловутых «валютных резервов», состоящих из раскрашенной резаной бумаги, акций и прочих иностранных обязательств. Все и сразу, я подчёркиваю. Этим самым она навсегда избавляется от экономической и политической зависимости. Если на другой день рухнет мировой рынок, финансовый я имею в виду, обесценятся доллар и евро до уровня инфляции двадцатых годов прошлого века — так и хрен бы с ними. Не менее ёмкие рынки сбыта имеются на нашей стороне, и с куда более разумными основами. Наше и ваше государство вполне соответствуют словам Пушкина: они «простой продукт имеют». Начнём торговать только на золото и на рубли. Хочешь в России что-нибудь купить, от нефти до хлеба и оружия — продай нам чего-нибудь интересного за наши «раскрашенные бумажки». Или — предоставь «платные услуги». Всё как на обычном рынке и даже восточном базаре. Вот тогда рубли будут рвать из рук везде, от Гонконга до Патагонии. А вы — включать печатный станок по мере надобности или под настроение.
— Такая шутка закончится всемирным хаосом и, возможно, полномасштабной войной, — ошарашенно сказал Журналист.
— С чего бы? Разве ваши законы запрещают выплачивать долги? Я думала — все только и жаждут ободрать должника.
— Именно за счёт процентов, а то и обычного бандитского «счётчика». Никому не нужен полный расчёт. Он-то и поведёт к катастрофе.
— Плевать, — со вкусом сказала Людмила. — Когда американцы отменили Бреттон-Вудскую систему[35] и фиксированный золотой паритет доллара, мир не рухнул. Не рухнет и сейчас, поскольку наша Россия в состоянии обеспечить финансовую сторону вопроса полностью. Золотые запасы Империи превышают здешние американские и китайские, вместе взятые.
Что касается войны — о чём вы говорите? Какая может быть война? Кого против кого? Что, американцы согласятся получить десяток мегатонн ваших и китайских ракет по своей территории ради интересов Федеральной резервной системы? Или призрачная надежда получить вооружённой силой «дешёвую нефть» перевесит риск превращения всей страны в радиоактивную пустыню? Да они от своих башен-близнецов до сих пор очухаться не могут.
— Но можно и без ядерного оружия, высокоточным, как в Белграде и Ираке… — пытался отстоять свои стереотипы Журналист. — Американцы нас здесь сильно обгоняют.
— Не смешите меня. «Высокоточное оружие» имеет только психологическое значение. Если противник не сдастся, с ним так или иначе придётся воевать традиционным образом. В этом случае на вашу защиту встанет четырёхмиллионная кадровая императорская российская армия. Кадровая, — подчеркнула она. — А мобилизационный потенциал у нас — до сорока миллионов. — Тут Вяземская говорила как специалист, эти вещи у них изучали почти на каждом занятии. — Да и ваша армия по-прежнему кое-чего стоит. Так что в своей реальности о войне забудьте, не четырнадцатый и не сорок первый год. Нужно быть полным Спилбергом, чтобы вообразить американские пехотные дивизии, по колено в снегу продвигающиеся от Чукотки до Уренгоя со штыками наперевес. А вот наши войска, идущие к Ла-Маншу и Гибралтару «с ответным визитом», я себе очень даже представляю.
Вот то, что вы можете обсудить со своими друзьями. А через два дня к вам вернётся Леонид, надеюсь, с новой, ещё более обнадёживающей информацией. На этом всё. Мне пора идти.
— Я вас провожу. Или подвезу. Куда?
— Не очень далеко. Если хотите — пойдёмте. Минут двадцать пешей прогулки.
— С удовольствием, — сказал Анатолий.
В это время вопреки всем договорённостям за соседний столик грузно присел сопровождающий Эдуард. Пластиковый стул опасно хрустнул под его стокилограммовым телом.
— Эй, девушка, — крикнул он официантке, — три пива получше, немецкого, и пачку кальмаров.
Понятным Людмиле жестом он трижды сжал и разжал кулак, будто разминая затекшие пальцы, дёрнул головой назад и вправо, потом уставился тоскующим, жаждущим опохмеления взглядом вперёд, на перекрёсток площади и Садово-Триумфальной.
Глава двадцать третья
«Понятно, хотя и не дюже приятно», — вспомнила Людмила слова какого-то персонажа одного из многих сотен виденных ею местных фильмов и повторила их вслух. Разведчик Эдуард услышал, и Анатолий недоумённо посмотрел на неё, не вязалось это с предыдущим разговором.
— Дело вот в чём, — заговорила она, прижав к губам недопитую пивную кружку (так и по губам не прочитаешь, и направленный микрофон едва ли выделит её голос из общего уличного шума, а Журналисту слышно), — за нами сейчас следит едва ли меньше десятка человек, меньшими силами входы и выходы с площади просто не перекрыть…
Анатолий непроизвольно присвистнул.
— Привели их сюда вы, за мной хвосту неоткуда взяться, но интересую их, конечно, я. Вы — персонаж известный, а вот я — пока «тёмная лошадка». Сейчас мы встанем и пойдём, как и собирались. Очень может быть, что весь наш предыдущий разговор уже записан. Мне нужно в центр, на Петровку. Вы со мной. Одному вам оставаться нельзя — вас немедленно задержат, невзирая на статус, и выколотят всё, что их интересует. Они и так за вами следили, а сейчас ваша ценность как «языка» значительно возросла.
— Да кто «они»? — подражая Вяземской, Анатолий тоже прикрыл рот ладонью с сигаретой между пальцами, поискал глазами зажигалку на столе. Людмила ему подала, одновременно отставив опустошённую кружку.
— Те, для кого наш план смерти подобен…
Людмила с Анатолием пошли вдоль бульвара в сторону Тверской.
«Вот же хреновина, — думала Вяземская, — накаркала».
Чего остерегалась, то и вышло. Город-то чужой! Планировку своей Москвы она знала наизусть, профессионально. А здесь? Только направление улиц и некоторое количество зданий, пригодных на роль «реперных точек», совпадает. Нужных проходных дворов наверняка нет, и уличное движение совершенно нечеловеческое. У себя бы она сейчас, не затруднившись, угнала любую подходящую машину и через десять минут хорошей гонки была бы на месте. Водителей её класса здесь днём с огнём не сыщешь, просто из-за скорости реакции. Но при этом, очень условно говоря, «уличном движении» и ста метров не проедешь, даже по «встречке».
Кроме того, Людмиле обязательно нужно засечь «хвосты». Просто посмотреть на филёров, оценить для начала.
Идя по улице в людском потоке, да ещё и держась под руку, она могла говорить на ухо Анатолию вполне свободно. Нет здесь такой техники, чтобы забиваемый массой уличных шумов тихий, но отчётливый для слушателя шёпот вычленить.
— Раз хвост привели вы, — говорила Людмила, — это не бандиты, на которых я грешила. Те пришли бы за мной. И не милиция, с ней у моих друзей прекрасные отношения. Вывод — сотрудники Леонида?
— Ни в коем случае, — возразил Журналист. — Его «надёжные люди» меня знают. О чём угодно могли бы поговорить по-человечески даже в его отсутствие. Безусловно, в дело включились враги Президента. Лично у меня врагов такого «организационного уровня» быть просто не может. «Протечка» образовалась сразу, с первой встречи на даче с Императором, а то и раньше. Понимаете, в чём штука, Люда, я сейчас могу верить только себе, Леониду и Генриху. Всё! Не потому, что считаю кого-то предателем, упаси бог, мы дружим по тридцать лет, но мне неизвестны их контакты и именно сегодняшние расчёты, вот в чём беда.
Вяземская могла бы сказать, что не нужно никаких «личных контактов», правильно настроенный Шар выдаст любую информацию по любому человеку. Только здесь, по счастью, «шаров» ещё не существует. Всякие местные «глобальные информационные сети» в лучшем случае — волокуша первобытного земледельца в сравнении с гоночным болидом. Но с чего она взяла, что против них используют только «местные» средства?
— Очень надеюсь, скоро мы всё узнаем, — сейчас внешность Людмилы вполне соответствовала её словам и настрою. — Главное — я вас очень прошу — если за нами не просто слежка, если нас попытаются захватить, по первой моей команде бросайтесь на землю и лежите неподвижно. Вообще любую мою команду исполняйте мгновенно и не раздумывая. В армии служили?
— Два месяца на институтских сборах.
— Надеюсь, чему-то и там можно научиться. Короче, пока всё не кончится — абсолютное, беспрекословное подчинение. Думать и действовать буду я.
Анатолий ей поверил. Он ведь и на самом деле боец никакой, а лежащий человек в любой заварухе привлекает гораздо меньше внимания, чем двигающийся.
Он испытывал странное чувство — не то чтобы обычный страх (не мальчик всё-таки) и не предбоевой выброс адреналина (по той же самой причине), а будто попал в волшебную сказку (точнее — модное ныне фэнтези) и никак не может определиться, там он или всё ж таки тут.
В этом настроении шанс получить прицельную или шальную пулю не казался такой уж большой опасностью. Непонятно отчего, он испытывал к предполагаемой красавице, замаскированной под заблудившуюся между молодостью и старостью мымру, полное доверие. По простому принципу — раз уж сумела из другого мира сюда попасть, к другу-контрразведчику в доверие войти — и ему поможет.
Людмила в это время, сжимая портсигар в широком кармане, тщательно «сканировала» и свою сторону улицы, и противоположную, используя навыки, полученные в «печенегах», и интуицию, заложенную в школе Дайяны.
Пятерых «филёров» она засекла сразу. Четыре мужчины и одна женщина вели их в довольно плотной «коробочке», со стороной метров в двадцать. Задача этой группы ясна — держать объект под плотным перекрёстным зрительным контролем. На силовые методы, кажется, не ориентированы. Но где остальные? Вот та шумноватая компания парней, среди которых несколько явно кавказской наружности, и есть, скорее всего, группа захвата.
На широкой Триумфальной, заполненной людьми, и праздношатающими, и спешащими по делам, Вяземская чувствовала себя некомфортно. Слишком много глубоких подворотен вдоль тротуара слева, слишком много припаркованных автомобилей, в том числе и микроавтобусов разной вместимости у обочины справа. Если взять их попытаются именно здесь, придётся работать на поражение, не считаясь с потерями среди мирных обывателей. Этого ей не хотелось. Случится такое — она раздумывать не будет, но зачем ей этот камень на совести?
— Уходим, — сказала она Журналисту, с которым до этого вела довольно громкий, доступный прослушиванию разговор, со стороны звучащий вполне «светски» — о том, как они с Гертой и Мятлевым развлекались в своей Москве. — Сейчас в ближайший подземный переход, ты — впереди на шаг.
Со всеми, с кем приходилось действовать в боевой обстановке, она автоматически переходила на «ты». Интересное свойство русского языка.
Не доходя до Каретного Ряда, они, миновав уже середину спуска под землю, из которого тянуло духом подтекающей канализации, резко метнулись вправо, почти бегом, то маневрируя, то просто расталкивая встречных, тянущих по ступенькам свои сумки на колёсиках, перебежали не слишком длинный тоннель. Не замедляя шага, пересекли тротуар, углубились в Каретный Ряд. Хорошо бы успеть до сада Эрмитаж, там — выгодный для маневренного боя оперативный простор.
На этой улице было не в пример безлюднее, и филёры за ними отнюдь не бежали, как в романах Катаева, матерясь, топая юфтевыми сапогами и свистя в костяные свистки. Подобный вариант наверняка учитывался, первая группа передала «объект» следующей, контролировавшей правую сторону Садово-Каретной. Но и оттуда пока никто подозрительный не появился. Немногочисленные прохожие, что встречные, что попутные, опасений не внушали.
Но это совершенно ничего не значит. «При нынешнем развитии техники», как то ли говорил, то ли нет Остап Бендер, оторваться от с размахом организованной слежки почти нереально. Оптимизм в Людмилу вселяло одно: Фёст, знаток этого мира, утверждал — только за счёт разницы в менталитете и теории боевой подготовки «валькирии» способны переиграть любую здешнюю спецслужбу. Если, конечно, не с голыми руками на БТР.
Вот об этом как раз Вяземская и подумала. Смотрела, в качестве учебного материала, многие видеозаписи работы полиции, что российской, что зарубежной.
Имелся у неё для неприятеля очень неприятный сюрприз. Сквозь левый карман джинсов легко было выхватить пристёгнутый к бедру двумя ремешками на липучках пистолет. Только вместо привычных «беретты» или «глока» Людмила взяла с собой необычную конструкцию, найденную в квартире. Шульгин развлекался или ещё Лихарев. Удобнейшая вещь в городских условиях. Может быть, для борьбы с ежовским НКВД предназначалась.
Нечто вроде многозарядной ракетницы, похожей на старинный «манлихер», но с коротким стволом шестнадцатого ружейного калибра. Перед спусковой скобой в него вставлялась обойма из шести патронов в папковых, чуть короче стандартных, гильзах (будет развлечение для криминалистов). Две трети гильзы занимала светошумовая пуля, совмещённая с капсулой дихлорарсина под очень высоким давлением.
Одной капсулы хватало, чтобы в зоне десяти метров создать совершенно невыносимую для человека концентрацию раздирающего носоглотку, глаза и лёгкие газа, почти независимо от ветра. Газ тяжёлый, силой разрыва поднимается на двух-трёхметровую высоту и, пока не осядет, успевает подействовать во всю силу. Две молекулы хлора на молекулу мышьяка, плюс всякие добавки, способствующие лучшей усвояемости «действующего вещества». Любым «Черемухам» и иным «спецсредствам» по беспощадной эффективности до него далеко. Правда, с гуманностью тоже плохо. Всё-таки боевое ОВ, пусть и проходит по классу «раздражающих». Хорошенько глотнувшему дихлорарсина придётся лечиться долго, и нет гарантии, что без отдалённых последствий.
Вяземская любила разнообразить свой арсенал предметами необычными и экзотическими, для врага неожиданными. В карманах у неё имелось ещё три запасные обоймы, хватило бы, чтобы создать абсолютно непреодолимую без противогазов зону в несколько десятков метров шириной. Когда начнётся расследование, главное внимание, конечно, будет уделено этим гильзам и их химическому анализу.
Но в самый последний момент она сообразила, что даже на малолюдной улице без невинных жертв не обойтись. Пусть немногочисленные, прохожие всё же есть. Во дворах, судя по голосам, играют дети, во многих окнах первых этажей открыты форточки. Газ непременно потянет и туда, и у противников появится отличный повод для разнузданной пропагандистской кампании про террористов, перешедших к химической войне на улицах. Десяток пострадавших легко превратить в сотни отравленных насмерть, проверять никто не станет. А Фёсту потом оправдывайся перед Президентом. Может и не получиться, слишком сейчас всё в неустойчивом равновесии.
Значит, всё-таки блок-универсал. Людмила остановилась, повернувшись лицом к преследователям, извлекла из кармана куртки портсигар, раскрыла, будто собираясь закурить. Успокаивающий и отвлекающий внимание жест.
— А вон и наши «рыбы-лоцманы» появились, — весело сказала она, указывая рукой. Действительно, вся пятёрка сумела преодолеть встречный поток подземного перехода и сейчас настигала, больше не стараясь маскироваться между прохожими и вообще. Да и зачем? Во время «отрыва» от слежки всем всё стало ясно.
Но и чересчур наглядно-агрессивная компания — не главная, автоматически анализировала Вяземская сюжет вражеской акции. Эти, пожалуй, только загонщики. А настоящая группа захвата ждёт за ближайшим перекрёстком. Она бы, перестраховываясь, догадываясь о реальных возможностях противника, спланировала бы операцию именно так. Спровоцировать на активные действия, заставить обозначить свою тактику и показать своё оружие, и уже тогда…
— Сейчас, Анатолий, твоя сольная партия. Когда я начну прикуривать, кидайся на меня, как сумеешь. Хоть по голове бей, хоть руки начинай выкручивать. Я тебя несильно, но убедительно толкну, с театральным замахом и подсечкой, ты упадёшь, желательно — впритык к стене. И — не шевелишься, пока я не скажу. Если не скажу… — она чуть слышно вздохнула, — тебя поднимут другие. И уж им ты будешь говорить чистую правду. Всё, как есть. Кроме… Стой до последнего, что сразу почуял во мне врага, что я это подтвердила только что, отчего ты и бросился, в надежде на близкую, в нескольких шагах, помощь «своих». Баба, мол, и баба, а ты мужик со спортивной и прочей подготовкой. Думаю, как-нибудь с помощью Президента отмажешься. Начнут руки заламывать, в машину сажать — вырывайся, кричи, что хочешь, хоть «караул!»
— Люда, да ты что? — попытался возмутиться Журналист.
— Всё! Время. Бросок на меня сбоку, правой бей по шее, левой пытайся схватить портсигар. Пошёл!
Со стороны понимающему наблюдателю, хоть тренеру, хоть режиссеру, выпад Анатолия показался бы смешным. А и вправду — любому «штатскому» человеку изобразить мгновенную, неспровоцированную уличную драку очень тяжело.
Кое-как Журналист всё же замахнулся на девушку, что-то закричал, толкнул её в бок, попробовал вывернуть правую, свободную руку. В левой у неё был блок-универсал, и она её держала полусогнутой, ближе к груди. Если бы она первая его ударила, Анатолию было бы легче сыграть.
Но со стороны всё равно ничего не поняли. Какая-то сумятица между «объектами» возникла — и ладно! Главное — выиграть время. Девушка отлетела в сторону, потом согнулась, спутник, кажется, бил её сцепленными руками по затылку, через секунду уже она нанесла ему несколько почти невидимых со стороны, но хлёстких ударов. Крепкий мужчина отлетел в сторону, с размаху приложился спиной да и головой, кажется, к цоколю дома и ватной куклой, явно без сознания, сполз на асфальт.
Преследователи прекратили играть в сыщиков и перешли на стремительный, спринтерский бег — двадцать метров всего до «объекта». Выдёргивали из кобур «скрытого ношения» и карманов пистолеты, заорали на пять голосов: «Стой! Руки вверх! Стреляем без предупреждения!» И прочую ерунду. «Печенеги» такой театральщиной никогда не позорились. Надо убить — стреляешь. Надо взять живьём — берешь. Тоже, бывает, стреляешь, но на устрашение и подавление. К чему кричать на полгорода? Любой нормальный зверь, от волка до гепарда, добычу молча берёт.
Ну вот сейчас, напоследок, и поймёте, что почём! Вяземская никогда не была злым человеком, оттого, наверное, в ней Дайяна старательно культивировала фенотип этакой принцессы из сказки, которой любой взрослый человек и ребёнок охотно во всем поверят, и даже самый отпетый бандит не сразу решится по лицу ударить. А если вдруг решится — поздно будет.
Сейчас Вяземская не так выглядела, больше походила на «городскую партизанку» из банды Ульрики Майнгоф[36]. Она стояла, широко расставив ноги, посередине дороги, и машущие пистолетами «сотрудники» начали тормозить. А вдруг это — шахидка какая-нибудь, и под курткой у неё пять кило тротила? Да самой Красной площади ошмётки тел лететь будут.
— Стой, подними руки, брось оружие. Лишнее движение — стреляем. И по ногам и по рукам, — прокричал левый в группе парень, похожий на опера из телесериала.
— Я вас не трогала. И оружия у меня нет, — отозвалась Людмила. — Сами же видите? Может, вы мимо, и я по своим делам? У кого есть постановление на арест — подходи.
С этими словами она положила палец на спусковую кнопку блок-универсала. Нужную команду успела ввести раньше.
«Опер» с направленным в грудь Людмилы «ПМ» сделал три шага. Остальные тоже целились не в воздух.
С максимально противным лицом кадровой правозащитницы Вяземская ещё раз спросила, есть ли у них постановление суда или прокурора.
— А зачем, девушка? — голосом мента, который так рад своей удаче, что может позволить себе говорить вежливо, в пределах УПК, — вы только что нанесли в присутствии пяти свидетелей (любому суду достаточно) телесные повреждения как минимум «средней тяжести» этому вот гражданину. — Он указал стволом на неподвижного Журналиста.
— А он меня изнасиловать собрался, — ответила Людмила.
— Ну вот поедем сейчас в отделение, там и разбираться будем. Или вам «трояк», или ему «червонец». В любом случае на три часа мы вас обоих задержать имеем право…
Людмила оглянулась. За спиной почти чисто, не считая нескольких припаркованных автомобилей и торопливо рассасывающихся по подворотням и магазинам прохожих. Народ здесь юридически грамотный — при виде обнажённого стрелкового оружия предпочитает уйти с линии возможного огня.
Вяземская прикинула угол раствора луча на данном расстоянии. Слегка не хватает, но подстраивать некогда. Пусть подойдут чуть ближе.
— Ладно, уговорили, — прежним агрессивно-вызывающим голосом сказала Людмила. — Сдаюсь. Но немедленно вызову своего адвоката, и вся ваша гнусная провокация пойдёт в Интернет. Президенту это не понравится, тем более вон тот охламон — его личный советник. Как вам, звёздочки плечи не тянут?
Кто есть Анатолий, знал как минимум старший группы. «Втёмную» на таком уровне не работают. Другое дело, облегчает этот факт участь Людмилы и Журналиста или отягчает до предела — пока непонятно.
Вяземская вспомнила присказку Секонда, долго прослужившего в Израиле и даже имеющего тамошние награды: «Исход евреев не всегда летальный».
Пятеро чуть расслабились, видя, что женщина стоит посередине мостовой всего лишь с портсигаром в руке, из которого только что взяла и закурила сигарету, и никакого оружия на ней не просматривается. Куртка короткая, пояса не прикрывает, расстёгнута, подмышечных кобур не видно, да и при тонкости её фигуры и майке в обтяжку, заправленной под обычный, типа офицерского, ремень, «пояс шахида» спрятать негде. Разве что грудь настоящая у неё «нулевого» размера, а всё, что выступает — хорошо оформленный пластит.
Чего-то подобного старший группы всё же опасался, хотя знал, что в нескольких шагах ждёт своего момента мощная поддержка, и оттуда тоже наблюдают за происходящим. Но если рванёт как следует — что ему с той поддержки?
— Подойди к стене, обопрись расставленными руками, ноги на ширину рук.
— Может, мне ещё и штаны для тебя снять? — нагло ответила Людмила, убедилась, что вся группа подтянулась в нужный сектор, и включила блок-универсал. Она его крайне подло (но по-своему гуманно) настроила на шоковое воздействие по нервным узлам, в том числе и тем, что управляют сфинктерами выделительных систем организма, перистальтикой кишечника и прочей физиологией. Попавший под удар человек на полчаса и больше превращался в подобие глубокого идиота. Эффект был мгновенный и крайне неэстетичный. В любом случае, смотреть на пятерых человек, из них одну девушку, которые в подобии эпилептических судорог дёргались на асфальте, весьма неприятно. Особенно если из них неудержимо и очень активно выделяются все отходы жизнедеятельности. И звуки, и амбре, как в холерном бараке, усугубляли картину.
— Анатолий, бегом! — крикнула Людмила, и тут из-за угла задним ходом выдвинулся «Мерседес», раскрашенный в характерные цвета и набитый омоновцами в бронежилетах и касках-сферах. Действительно, навели они на кого-то страху! До полной потери здравомыслия. Это уже настоящая войсковая операция, без всяких шуток, буквальное исполнение команды «Любой ценой». Только снайперов на крышах не хватало, вот тогда Людмиле с Анатолием действительно конец!
Повторять с этими бойцами тот же фокус не имело смысла. Неизвестно экранирующее действие титановых доспехов. Продержится хоть один лишнюю секунду, нажмёт спуск автомата — и достаточно.
Зато очень удачно у автобуса была на всю ширину открыта сдвижная дверь и почти все окна. Похожие на регбистов стражи правопорядка собрались стремительно десантироваться. «С неба — в бой!» Будто очередной «Марш несогласных» тут планировался.
Вяземская выдернула из кармана свой пистолет и положила все шесть пуль внутрь автобуса. Не разбирая, в людей она попадает, в стенки или крышу.
Всё. Через секунду после оглушительных хлопков и ослепительных вспышек, которые и без всякого газа могли вывести из строя весь отряд, автобус заполнился беловато-жёлтым дымом.
Несколько человек выпало наружу, задыхаясь от рвущего лёгкие кашля, с дикой резью в глазах — словно серной кислоты плеснули, начали кататься по асфальту, уже не представляя опасности. Тем, кто остался внутри, было ещё хуже. И бежать некуда, и концентрация газа выше.
«Ничего, — злорадно подумала Людмила, — вы бы нас тоже не пожалели». Она видела по здешнему аналогу дальновизора, что умеют делать ребята в такой форме с уличной толпой.
То, что они умеют не только бить палками и ботинками безоружных, но и воевать, когда нужно, по-настоящему, «не щадя живота своего», Вяземскую сейчас не интересовало. Враг — это тот, кто здесь и сейчас против тебя.
— Анатолий, сматываемся, — снова крикнула она совершенно потерявшему ориентацию Журналисту. Раньше репортёры покрепче были, мельком подумала Людмила, вспоминая фронтовых военных корреспондентов. — Язык нам нужен, — и побежала к старшему первой группы, что угрожал ей пистолетом.
Находиться возле него было тяжело чисто физически, не говоря о более высоких чувствах. Несмотря на то что блок-универсал был сразу отключён, руки и ноги только что вполне активного, пребывавшего в боевом азарте человека всё ещё беспорядочно подергивались, брюки были полны, вокруг растеклась обильная лужа. Пистолет валялся в трёх шагах.
Вяземская подумала, что если штатный — пригодится для идентификации, подобрала и сунула в карман.
Журналисту тоже стало совсем нехорошо. От зрелища и от запахов. Да ещё и со стороны автобуса газом начало накидывать.
— Какой язык? Как ты такого потащишь и куда, главное?
До Анатолия начало доходить, что попал он в крайне неприятную историю, как бы не тщательно спланированную провокацию, и у него остался единственный выход — бросить эту дурную девку, уже заработавшую себе лет десять тюрьмы, и переулками, переулками — в резиденцию Президента. Как во времена Ивана Грозного: «Кинуться в ножки, каяться и вымаливать прощение», всё рассказать и уповать на лучший исход.
«Так ведь не будет лучшего, — внезапно подумал Анатолий. — Раз начались такие игры, друг-Президент или „выдаст меня с головой“ тем, кто сейчас считает себя сильнее, или придётся, упаси бог, как Сальвадору Альенде[37], отстреливаться вместе с ним с балкона. Так что всё — ловить нечего. Последний достойный шанс — с Людмилой и её друзьями — до конца! Леонид после такого тоже никуда не денется».
— И как ты себе это представляешь? — неожиданно деловито спросил он Вяземскую, брезгливо кривясь. — Тащить вот это к милицейскому автобусу и на нём прорываться? Или такси возьмём?
— Видали мы таких белоручек, — возмутилась Людмила. — Да прикажу — на руках его понесешь…
Мужчина в это время корчился уже впустую, радикально опорожнился.
Вяземская, стремительно перемещаясь от тела к телу, собрала разбросанные по мостовой пистолеты. Она представляла, что её видят сейчас сотни людей. Через окна квартир, магазинов, из-за углов и из подворотен. Очень может быть — фотографируют, хотя бы телефонами. Очень это здесь сейчас модно. Но ей было всё равно. Лишь бы раньше времени не вывернулись с обеих концов улицы вражеские машины. Тогда снова стрелять…
Но обошлось.
На девушку-оперативника ей было смотреть особенно неприятно. Тем более, для «работы» она приоделась поизящнее, и теперь всё это бывшее великолепие изгажено с ног до головы.
«Кто же тебя, милая, отмывать-то будет? И как после этого?» — то ли сочувственно, то ли просто с профессиональным любопытством подумала Вяземская. В конце концов это — лучше, чем снарядный осколок в живот.
Обернулась. Ещё раз прошлась взглядом и по автобусу, из которого сумели выползти на улицу почти все омоновцы (тренировка, однако), полностью потерявшие боеспособность. Стонали, кашляли надрывно, плевались, ничего не видя из-за потоков слёз. Отползший дальше других старший лейтенант возился со шприц-тюбиком, стараясь через штаны воткнуть в бедро иглу.
Людмила схватила Журналиста за руку. Намеченный язык оказался между ними. В самый раз вроде.
Включила блок-универсал на режим перехода, практически не могущего особенно сильно поколебать «эфир». Пространственно — меньше километра, по времени можно и ноль в ноль. Другого выхода она просто не видела. Прогнать через центр Москвы дико воняющий ядовитым газом омоновский автобус, сбивая в случае необходимости встречные и поперечные машины, — сумела бы, но зачем? Не американское кино всё-таки. Да и что — прямо к подъезду парковаться, и грязное тело, с которого льётся, на третий этаж тащить? А потом?
Совсем чётко, прямо в ванную, у ней перенос не получился. Материализовались посередине коридора, метрах в десяти от нужной двери.
По-офицерски матерясь, не обращая внимания на изумлённый взгляд Анатолия, на которого её фразеология произвела больше впечатления, чем мгновенное перемещение с улицы в обширную, пустую и тихую квартиру, Людмила осмотрелась. Хорошо, Герты с Мятлевым здесь не было, гулять отправились. А чего не гулять мужчине с красивой девушкой, если кирпич денег, почитай, с неба свалился? Вся Москва его, пусть и чужая.
— Давай, берись, тащим, — приказала она.
Языка свалили в ванну, и Вяземская включила воду на полный напор. Пусть откиснет вместе с костюмом, да заодно и в себя придёт. Потом грязные и мокрые шмотки в мусоропровод сбросим, обсушим, во что-нибудь переоденем, тогда и поговорим.
Всю грязную работу она решила поручить Журналисту. Ничего с ним не сделается, тем более, пока Мятлев не подтвердил его полномочий, он вроде как тоже военнопленный.
— Слушай, — спохватилась она, — пока он не совсем вымок, всё из карманов — сюда. И сиди с ним, чтобы не захлебнулся и вода через край не перелилась. Прополощется — поможешь раздеться, шампунем облей погуще. Станет чист и благоухающ, как невеста перед свадьбой, тогда приодень, обувать не надо. Вещи я сейчас принесу. В разум придёт, тогда и поговорим. И ещё — возьми вон тряпку, паркет, где он следы оставил, выдрай, как палубу крейсера к высочайшему смотру. Воняет… — Людмила впервые позволила себе скривиться от отвращения. — Дезодоранты — вон, на полке. Ванна наполняется минут десять, успеешь…
— Послушайте, Людмила, вы себя ведёте… Я к вам в лакеи на подряжался… — попробовал «взвиться» Анатолий.
— Всё, Анатолий Васильевич, всё, — почти грубо сказала Вяземская Журналисту, человеку вдвое себя старше. Впрочем, в данном облике она могла сойти и за ровесницу. — Все ваши понты и «комильфо-привычки» остались за бортом. Считайте себя рядовым, призванным в часть с оч-чень вредным взводным командиром. Но отделенные — ещё хуже. У нас, в отличие от вашей «демократической армии», дисциплинарные права ротного, к примеру, командира, выше, чем у вашего Генерального прокурора. Десять лет арестантских рот, бессрочная каторга или расстрел перед строем из личного оружия считаются вполне обычным делом. Наказанные редко возражают.
— Боже, куда я попал? — пробормотал Журналист, приверженец «прав человека» и безусловного примата личности над государством, с трудом попадая огоньком зажигалки в кончик сигареты.
— Из вселенского бардака в относительный порядок. Выбор у вас невелик. Или слушаетесь подпоручика Вяземскую, или возвращаетесь на известный нам перекрёсток. Там с вами, может быть, поначалу будут говорить вежливо, но только поначалу. Уж лучше сейчас в коридорчике пол протереть. В тюрьме коридоры стометровые и сортиры на двадцать очков.
Анатолий с выражением лица Васисуалия Лоханкина, произносившего бессмертные слова: «А, может быть, в конце концов, именно так и надо? Может, в этом и есть великая сермяжная правда? Может, именно в этом искупление, очищение, великая жертва… И я выйду из этого испытания…» — решил больше не спорить. Приключения-то начались нешуточные, грандиозные, можно сказать, до капризов ли тут?
«Ему, наверное, сейчас овсянки без молока и сахара бы неплохо», — прикидывал Журналист, глядя на пришедшего в себя, но слабого, как больной младенец, бледного в прозелень оперативника. Когда-то, давным-давно, ему довелось подцепить в предгорьях Памира натуральную, классическую холеру штамма «Эль Тор», почти не смертельную, но жутко мучительную, и он очень хорошо понимал своего «пациента».
За время его отсутствия Людмила воспользовалась ванной и косметическим кабинетом Сильвии, обеспеченным абсолютно всем, что может потребоваться женщине в «войне полов», как однажды выразился Ремарк устами своего героя[38]. Гомеостат избавил её от морщин, угрей, грубой серой кожи лица, кругов под глазами. С остальным она справилась сама.
В любимом кабинете «старших братьев», куда ей попадать удавалось не слишком часто, она, приведя себя в порядок и переодевшись по вкусу, расположилась по-хозяйски. Сейчас-то никто не попросит «освободить помещение», а для других полезно будет увидеть её здесь и так.
Вяземская просторно раскинулась в глубоком кожаном кресле перед письменным столом (чтобы её хорошо и сразу было видно от дверей), снимая стресс кофе с коньяком и настоящей, крепкой сигаретой, а не так называемой дамской, без вкуса и запаха.
На тумбочке напротив стоял полутораметровый экран дальновизора (телевизора, по-здешнему, но какого качества! Плазменный, говорят). Красавица-дикторша, не совсем славянской наружности, как раз рассказывала, натянуто улыбаясь, о стычке городского ОМОНа с какими-то хулиганствующими или бандитствующими элементами.
«Потерь у сил правопорядка нет, — говорила дикторша, не имея возможности показать картину с места происшествия, телевизионщики не успели подъехать, хоть там совсем недалеко, — но в центре города наверняка действует очень дерзкая и хорошо вооружённая банда. Призываем всех граждан, живущих в этом районе, из квартир не выходить. Преступники не останавливаются перед применением оружия. Не переключайтесь…»
Глупость дикторша сказала или те, кто ей текст подсунул. Нет бы хоть что-то ближе к правде придумать…
В кабинет вошёл немного начавший понимать дисциплину Журналист. Увидев Людмилу в новом облике, он слегка обалдел. Телевизор его не заинтересовал. Он просто не видел дикторшу и не слышал её сообщения, он смотрел на «чудное», но очень суровое «видение».
Как-то сразу ему стали понятны слова из записки Контрразведчика.
Перед ним сидела не просто красавица — девушка, каких он в своей жизни просто не видел. Фотомодели не в счёт — у тех просто до предела отшлифованные «фотошопом» лица. На прочее возможностей техники не хватает. Не зря же в случае прямой видеотрансляции «самых-самых» операторы стараются удерживать их на задних планах, даже если они и в «боевой раскраске». Редко у кого из нынешних звёзд лицо гармонично сочетается с телом, а главное, манерой поведения.
Он не усомнился, что перед ним Людмила, а не кто-то другой — на это мужского чутья хватило. Но то, что он перед собой видел…
Вяземская не собиралась его соблазнять, просто так, в компенсацию пережитых ею часов в личине противной, грубой и грязной бабы, захотела показать, кто и что она есть на самом деле. Тщательно вымытые волосы плавными платиновыми волнами падали на плечи и ниже. Яркие, прямо ласкающие глаза, чуть припухшие, готовые улыбаться губы. Неужели именно они совсем недавно произносили квалифицированную, знакомую Анатолию только по журналистским делам фразеологию? И тело, одетое в васильковое кружевное платье (типа «маленького чёрного» Коко Шанель), но совсем, совсем другое.
Что и кто здесь виноваты? Интригующая записка Мятлева, заставившая его долго искать соответствие слов друга внешности «связницы». Чёрт с ней, с одеждой, у неё ведь было лицо потасканной бабы, что легко изобразить с театральной сцены, в расчёте на полсотни метров расстояния и зрительское воображение, но не с полуметра же. Он-то понял, что она «не такая», но какая — вообразить не мог.
Людмила встала ему навстречу. Журналисту стало ещё хуже. Под кружевами почти беспрепятственно просматривалось идеальных форм и пропорций тело. Ноги… Ноги тоже да! Такое под джинсами прячут только феминистки с отягощённой наследственностью.
Анатолий сейчас даже не соотносил девушку с квартирой, где они оказались. А следовало бы.
Он был покорён сразу и намертво. Не влюблён — это звучит примитивно. Журналист готов был припасть к её коленям (лобызать их), вот именно, без всякой надежды на взаимность. Она была ему просто не нужна в ином, чем объект поклонения, качестве. Словно Дон Кихоту — Дульцинея Тобосская.
Пожалуй, Вяземская слегка перестаралась, используя один из комплектов чар серийного набора. Теперь придётся отыгрывать назад. Зачем ей лижущий ноги щенок, если предстоят серьёзные дела. Преданный волкодав — нормально, но не такое вот…
Надо срочно приводить компа́с в меридиан.
— Анатолий! — будто снова командуя ротным разводом, не громко, но с обертоном, заставляющим вибрировать нужные фибры души новобранца, приказала Людмила: — Первое — прекратите пялиться на детали, к службе отношения не имеющие. У вас что, жены или любовницы нет? Разденьте, поставьте «смирно» и любуйтесь от отбоя до подъёма! Разрешается использование портновского метра, циркуля и иных измерительных инструментов, а также анатомических и прочих справочников.
Подпоручик своей цели добилась: наваждение ушло, и Журналист вновь был готов к несению службы. По-прежнему с радостью. Но — другой.
— Тот, кто в ванне мокнет, — жив? Как себя чувствует? Вы ведь это хотели доложить?
— Ему бы что-нибудь укрепляюще-возбуждающее вколоть, совсем слаб… Но в сознание пришёл.
Вяземская снова села, сочтя долг вежливости исполненным:
— Вытрите, оденьте, потом заставьте выпить таблетку бензедрина[39]. Лучше — две. В аптечке слева от зеркала. У вас он запрещён, но мне плевать, мы уже не в вашей дурацкой стране, где людям и пистолеты носить запрещают. Чтобы убедиться — выгляньте в окно.
Анатолий выглянул и увидел совсем не тот город, к которому привык с детства. Но и этого его не взволновало, скорее обрадовало. Уж сюда за ними омоновцы и чекисты не вломятся. Ему уже пришлось с Президентом побывать «за гранью», но теперь вместо нескольких жалких минут, испорченных одновременно недоверием и внутренней дрожью — удастся вернуться обратно или нет? — в его распоряжении сколько угодно времени. Он так и подумал — «сколько угодно», ещё не понимая, почему это пришло вдруг в голову. Не самый, кажется, подходящий момент.
Он снова скользнул глазами от щиколоток Людмилы до обреза юбки, потом выше и до самого лица.
— Знаете, Анатолий, я начинаю в вас разочаровываться, — сказала Вяземская до предела холодно. — Я могу для вас раздеться. Совсем. Хотите? — Она сделала жест, намекающий, что сейчас стянет через голову свой намёк на платье. — Неужели вас что-то удивит, в ваши годы? В другой обстановке, чтобы изменить акцентуацию ваших мыслей, я с удовольствием отправила бы вас с полной выкладкой на штурмполосу… А потом в душевую, у нас они на полигоне общие, и после марш-броска ни у кого никаких побочных мыслей не возникает. Я доходчиво объяснила?
— Люда, поймите меня правильно, — проникновенно, едва не с надрывом в голосе сказал Журналист, — я ничего такого и не думал. Я просто не могу смотреть в ваши глаза. Они… Они…
— Так и не смотрите, — резко сказала Вяземская. — У меня есть любимый муж (тут она слегка преувеличила), а я из тех женщин, на которых чужие комплименты не действуют. Моими глазами разрешаю любоваться в свободное от службы время. Даже фотокарточку могу подарить. А пока — ведите нашего языка.
Анатолий вышел из кабинета слегка подавленный, но одновременно и восхищённый. Случай примерно как в романах Вальтера Скотта. У него появилась «дама сердца». Никаких надежд на физическое сближение (да оно его совершенно не интересовало), но зато есть возможность выходить на рыцарские (или какие-нибудь ещё) турниры, повязав себе на рукав платок её цветов. А интересно — какие Людмила придумает себе цвета специально для него? Или они у неё уже есть?
Вяземская разложила на столе простенький телефон, слегка подмокшие служебное удостоверение капитана МГБ Рейнгольда Юрия Юрьевича, его бумажник с визитками, дисконтными картами в разные магазины, прочей мелочью, что её весьма удивило — затрепанный, часто употребляемый библиотечный читательский билет (надо же, какой эстет, Интернета ему не хватает!), пистолет, немного, в пределах полутысячи, бумажных денег и мелочи. Да, не олигарх и не гаишник, идущий с дежурства. Такой же фактически, как она, служака. Ну, послали дураки-начальники, он и нарвался…
Но сентиментальности она поддаваться не собиралась. Какой-нибудь моджахед из легионов Катранджи тоже мог ходить в библиотеку, питаться сухой лепешкой и улыбаться детям, собираясь на очередное задание. Прикажете и по этому поводу умиляться?
Вяземская твёрдо помнила истину — главное, какие погоны ты носишь, а ангел в душе или демон, никого не касается, пока «судия, не доступный звону злата» не спросит.
Капитан выглядел более чем хреново. У бедного Юрия сейчас слизистая с половины кишечника облезла. Вяземская его не слишком поразила. Не до баб ему было, тяжело пострадавшему и провалившему операцию. Точнее — порученную ему часть. Просто легкий огонёк любопытства появился в глазах при сравнении объектов: за кем он гнался и кто его сейчас допрашивает.
Ничего, подумала Людмила, минут через пять бензедрин достанет как следует, тем более — две таблетки сразу. В бой парня посылать можно будет, в штыковой. Часа через три загнётся от нервного и физического истощения, а до того, если раньше не убьют, — как огурчик будет.
— Садитесь, капитан, — сказала она, вертя в руках его удостоверение. — Мы — коллеги. Я тоже офицер, поставленный охранять интересы государства. Зовут Людмила, фамилия Вяземская, чин — подпоручик…
Рейнгольд слегка дёрнулся.
— Анатолий, — крикнула она в проем двери, — принесите капитану крепкого, очень сладкого и не горячего чаю.
Себе она налила ещё чашечку кофе и рюмку коньяка.
— Вам спиртного никак нельзя. Поверх бензедрина — крышу сорвёт даже соломенную. Потерпите немного, поговорим, потом станем вас лечить. Или — не станем…
— Закурить дайте, — попросил «чекист».
— Курить не возбраняется. — Она жестом императрицы подвинула к нему папиросную коробку. В своём мире капитан последние десять лет если и видел этот сорт табачных изделий, так только в виде плохого «Беломора».
— Вы так жестоки? Не оказать помощи раненому и пленному? — спросил Рейнгольд, прикуривая и с изумлением рассматривая картинку на крышке «Корниловских». Не потребовалось даже держать паузу, чтобы отдалить момент «настоящего» разговора, и непременно должную возникнуть тему, что же случилось с их организмами.
— Какие вы странные термины употребляете, — удивилась Вяземская. — Ещё раз посмотрите на коробку. Причём тут жестокость? Давайте просто поменяемся местами. Захватив меня во время разведпоиска в нынешнем виде, — она вытянула ногу и внимательно её осмотрела, давая возможность полюбоваться и Рейнгольду, — долго бы вы сохраняли джентльменские привычки, если они у вас когда-нибудь и были? У вас какая стояла задача? Взять меня живьём и доставить во внутреннюю тюрьму. В течение часа получить признательные показания. Об УПК речи не было, правильно?
— Вас? — удивился Рейнгольд. — Я вас в первый раз вижу, а охотились мы за опасной террористкой, нисколько на вас не похожей. Что и подтверждается — она применила ядовитый газ поразительной поражающей силы.
Капитана аж передёрнуло.
— Кто вы такая вообще? Что за «подпоручик»? «Корниловские» папиросы. Мы что, на Гражданскую попали?
— Как любят говорить в ваших «органах», — Вяземская снова улыбнулась, — кстати, какая изумительная самохарактеристика: «я — член органа!» Наверное, и девушке так представляетесь? Так вот, это ведь у вас говорят: «Вопросы здесь задаю я!»?
Рейнгольд поморщился. Умеет красотка неопровергаемые пакости говорить.
— Главное — мы с вами сейчас будем беседовать не спеша и последовательно, — перешла Вяземская на строгий тон. — Если будете нагло врать — буду наказывать. Способы у меня есть, — Людмила опять улыбнулась, ещё более очаровательно, чем недавно Журналисту. Даже на чекиста исходящие от неё флюиды подействовали. Бензедрин начал действовать, а он не только общие функции организма стимулирует, он все виды эмоций обостряет.
Несмотря на физическое и нервное потрясение, капитан не мог поверить в пугающие слова столь красивой да вдобавок и внушающей безотчётную симпатию девушки.
Мир плыл… То, что было в «конторе» несколько часов назад, перекрывалось совсем недавними, категорически иного плана впечатлениями: брусчатка переулка, врезающаяся грязными гранями в щёку, жуткие спазмы в кишечнике, боль вдоль всех нервных стволов, лишающая воли и разума!
Да какой там разум? За последние полчаса память восстановилась, а что касается разума, в широком смысле…
— Так, давай коротко и быстро, — сказала «подпоручик», словно не думая о своём, совсем не подходящем для допросов наряде. — Конкретно, по минутам, с самого начала. Кто вызвал, какой приказ отдал, как нас нашли… Речь ведь не о поимке кавказских террористов шла? Моего спутника вы не могли не знать. Или — его тоже в расход, чтобы все концы в воду?
Анатолий сидел на диване за спиной пленника, по профессиональной привычке держал в руке включённый диктофон. Лицо у него было бледное, под глазом дёргалась жилка.
— Я не могу! Вы что, не понимаете? Вам это тоже лучше не знать! — Рейнгольд подался вперёд, взглядом будто старался загипнотизировать своего «следователя». — На том уровне, где мне отдают приказы… Сами же видели — никому нет дела, кто вы и кто ваш подельник… Вас найдут — через час или чуть позже. Никуда не спрячетесь, и не надейтесь. Лучше сдайтесь сразу, это зачтётся. И вам, и мне… — последние слова он произнёс с какой-то сумасшедшей надеждой. Вдруг, действительно, его слова дойдут до этой странной девушки и того, кто шумно дышит за спиной. Они поймут, тогда по крайней мере у самого капитана появится шанс оправдаться…
— Парень, я тебя не поняла, — от всей души удивилась Вяземская. — Прежде всего — для своих начальников ты уже покойник. Кто ж тебя в живых оставит, допущенного к таким тайнам?! Забыл, что с отработанным материалом в сталинские времена делали, да и позже тоже. Твое счастье — ты теперь не там, ты в чужом, куда более гуманном мире. Не веришь — подойди к окну, разрешаю. Выбрасываться, как Савинков, не стоит, стёкла пуленепробиваемые. Как только заметишь на улице что-нибудь знакомое — махни мне рукой. Я тоже поинтересуюсь.
Пока Рейнгольд смотрел, обеими руками оперевшись о подоконник, Людмила налила себе и Журналисту ещё рюмочку (Анатолию это действительно требовалось, а сама она просто создавала образ), налила кофе и опять закурила. Этакая женщина-вамп. Отчего-то они мужчин пугают сильнее всего. Видимо, своей непредсказуемостью и несоотносимостью с нормальным дамским, а равно и девичьим поведением.
— Там какая-то не та Москва, — тоскливо сказал капитан, возвращаясь к столу, и принялся за свой сладкий чай. — Только здания похожи, и то не все…
— А я тебе что сказала? Конечно, не та. И я не лейтенант, а подпоручик. Вернуться назад отсюда возможно, это не «тот свет», а просто слегка другая реальность. Как только разговор закончим и он меня удовлетворит, могу перекинуть тебя в любое место хоть Москвы, хоть России. Даже пистолет и документы верну. Правда, едва ли кого-то сумеешь убедить, что тебя срочно в спецгоспиталь надо. А вдруг и отвезут, так всё равно вскоре помрешь от отсутствия внятного диагноза.
Тут Людмила слегка блефовала. Выздоровел бы он и без всякого лечения — покой, диета, ничего больше. Но он-то этого не знает, а симптомы выглядели весьма пугающе.
— У тебя выбора ну совершенно никакого нет, — сочувственно сказала Вяземская. — Ты сам сказал: «объяснения во внимание не принимаются». Да и что принимать? Задание провалено не то чтобы с треском — с шумом и вонью. Да на глазах сотни свидетелей. Если старший группы ты — и виноват ты. Тем более, в плен к «террористам» попал, и вдруг вернёшься, чистенький и благоухающий, в то время как твои товарищи…
Меня только одно радует — твоим начальникам сейчас намного хуже. Они ведь наверняка без согласования с Президентом операцию по захвату и ликвидации его лучшего друга готовили. А друг прорвался, ушёл неизвестно куда и сейчас, возможно, как раз Президенту и докладывает. Как думаешь — хватит у Президента власти с этой «фрондой» справиться, или его сейчас, как Павла Первого?
Она вдруг вскочила. А ведь действительно!
Контрразведчика там нет, Анатолия нет. Войдут сейчас «серьёзные товарищи», объявят через полчаса по всем российским радиостанциям, что нас постигла «невосполнимая утрата», и так далее.
— Анатолий, быстро к телефону. Вот к этому, прямой связи. Звони Президенту. Всё расскажи, как есть, что сам видел и понял. Предупреди, чтобы в ближайшие час-другой обеспечил собственную безопасность. Насколько это в его силах. А потом мы всё обеспечим, как надо. А я пока в деталях разберусь. Ну ты, быстро! — Она снова повернулась к Рейнгольду. В руке у Вяземской появился неизвестно откуда, наверное, на столе между бумагами лежал, тонкий стальной стек, сплетённый «в колосок» из упругой полумиллиметровой проволоки.
— Жизнь главы государства под угрозой. Или ты честный офицер и всё расскажешь сам, или… Я, повторяю, не из вашего мира, на меня никакие законы и конвенции не распространяются… А допрашивать я умею. На гуманные методы у меня времени нет, так что начинай, отчётливо и в деталях…
Вид девушки-красавицы, продолжающей улыбаться, только теперь многозначительно-зловеще, произвёл на капитана поразительное впечатление. Если бы перед ним сейчас была прежняя «уличная террористка», он, возможно и посопротивлялся бы какое-то время, из чувства самоуважения. А эта фея с сияющими глазами и стальным стеком в руке…
Так ведь она правильно сказала — он офицер, свидетель, а то и участник заговора против главы государства, иначе зачем же всё затевалось? Долг, так сказать, заодно и последний шанс — во всём признаться, тем более его личной вины практически никакой. Получил приказ, сопроводил объект до места встречи, когда показалось, что сложились условия для задержания, — сделал такую попытку. И больше — ни единого действия, подпадающего под категорию «заговора» или хотя бы «превышения должностных полномочий». Даже ОМОН не ему подчинялся.
— Хорошо, слушайте. Скажу всё, что знаю. Сегодня утром меня вызвал к себе заместитель начальника управления. Без особых предисловий сообщил, что оперативным путём установлено присутствие в Москве опасной банды или диверсионной группы, в отличие от всех подобных ориентированной на террор в отношении первых лиц государства. За фигурантами ведётся постоянное наблюдение. Какие-то акции возможны в ближайшие часы. Приказал принять команду над спецгруппой из людей нашего отдела и некоторых соседних. Быть в полной боевой готовности и ждать дальнейших указаний. Примерно через час начальник отдела приказал выезжать. Указал место, предъявил фотографии лиц, подлежащих задержанию. Особо указано — брать непременно живыми, в случае необходимости не считаясь с собственными потерями. Общая координация была возложена на сотрудника, мне лично неизвестного. Мы прибыли на Тверскую, вышли из машин на подходах к площади. По рации получили целеуказание, почти сразу же увидели «объекты». Дальше вы сами знаете…
— Хорошая сказочка, — задумчиво сказала Людмила, машинально похлопывая себя стеком по ладони. — Я бы с ходу лучше не придумала. Не понимаю одного — зачем ты по-прежнему стремишься из меня дуру сделать? Я так похожа? Может быть, тебе ещё в окно посмотреть нужно? Посмотри. Ты бы сам тому, что мне наплёл, поверил? Вот то-то. Давай попробуем ещё раз…
Глава двадцать четвёртая
Когда вернулись Мятлев с Гертой, на столе стоял монитор видеомагнитофона с полной записью допроса Рейнгольда. Пленник спал в небольшой гостевой комнате, восстанавливая силы с помощью гомеостата, на всякий случай пристёгнутый браслетом наручников к трубе отопления. К ночи он будет совершенно здоров, и что после этого с ним делать?
Людмила чувствовала себя психологически не очень хорошо. Воевать в открытом поле — это пожалуйста, но ломать людей, угрожая им пытками и, главное, чувствуя в себе ту степень готовности подтвердить слова делом, что противник поверил и мгновенно сломался — это не по ней.
Но, с другой стороны, она к нему пальцем не прикоснулась, всё, что ему померещилось, — только плод его же извращённого воображения. Сам, наверное, готов был в подходящей ситуации применить к ней весь набор «физических мер», оттого и испугался.
Журналист ей оптимизма не добавил, как всякий либеральный интеллигент, он теперь посматривал на девушку-жандарма с опаской. Куда и делось его недавнее обожание.
Зато он был по-настоящему встревожен. Тех имён, что назвал Рейнгольд, было достаточно, чтобы Вяземская настроила Шар и проследила всю цепочку участников вплоть до того звена, где она вдруг обрывалась. То, что ей удалось узнать, не слишком совпадало с представлением о классических заговорах с целью захвата власти. Проще говоря — отсутствовала фигура, явно претендующая на президентский или какой-нибудь соответствующий пост. Не существовало также программы каких-то реформ, изменения общественного строя, не определялось даже то, что в теории исторического материализма называется «движущими силами революции». Зато всё остальное было в наличии.
Анатолий, судя по всему, был удивлён не меньше Людмилы. Да нет — гораздо больше: он-то был «политическим человеком» этого мира, знал теорию и практику всех революций и мятежей последних трёх веков.
Первый разговор у него с Президентом вышел несколько странный. Фактической стороне случившегося с другом и девушкой оттуда он, пожалуй, поверил. А вот дальнейшему — не очень, чем напомнил Журналисту Сталина, до последнего цеплявшегося за надежду избежать войны.
— Что ты предлагаешь делать? — спросил Президент. — Мне что, созвать Совет Безопасности и обвинить того-то и того-то в антигосударственных действиях? А неопровержимые доказательства я смогу предъявить? То, что произошло с тобой, — уровень даже не министра, а того, кто вашего «капитана» посылал. «Профилактическое мероприятие» — вот и весь ответ. У нас вся пресса круглосуточно долбит, что «органы» разучились «мышей ловить». А как только они попытались заняться своим делом, на них тут же вешают всех собак. Разыщи Леонида, с ним и разберитесь. Меня проинформируйте, если действительно что-то нароете…
— Ты сейчас где? — только и сумел спросить Журналист, понимая, что любые попытки переубедить собеседника вызовут только обратный эффект. Потому-то их друг и стал Президентом, что умел считать своё мнение истиной в последней инстанции. Как бы он ни старался вести себя «демократично» и «интеллигентно», допуская «плюрализм мнений», это некоторое время назад стало просто частью имиджа. На самом же деле никакой государственный деятель не может состояться и успешно править, если доверяет чужому мнению, хоть индивидуальному, хоть коллективному, больше, чем собственному.
— Ты сейчас где? — только спросил Анатолий.
— На ближней даче.
— Это хорошо. Можешь считать меня параноиком, но прикажи до выяснения обстоятельств ни с кем тебя не соединять по связи и никого не пускать даже к предзоннику ворот. За поведением охраны тоже наблюдай, лучше всего — запрись в «малом кабинете». Двери никому не открывай. Очень занят, и всё. Пистолет у тебя в кабинете есть?
— Сам знаешь, что не только пистолет, — с нервным смешком ответил Президент. Искренняя тревога друга до него всё-таки начала доходить. Прямо по телефонным проводам. — Считай, я делаю тебе одолжение. Час или два сумею избежать всяческих контактов. А потом тебе придётся как-то за свою панику ответить…
— Отвечу. А ты пока «поработай с документами», восстанови в памяти, как там со Сталиным, с Хрущёвым, с Чаушеску получилось. Да и «арабская весна» буквально только что случилась… И выбери из своей «особой папки» досье на этих вот товарищей, — Журналист продиктовал с десяток фамилий. Память у Президента абсолютная, ему записывать не надо.
Под «особой папкой» Анатолий имел в виду пакет компьютерных файлов, содержащих информацию на всех действующих лиц правительства и президентской администрации, а также тех, кто по той или иной причине был отстранён от важных постов или не прошёл «окончательное согласование» на должности. Не только анкетные данные и прочие пункты «листка по учёту кадров» там имелись, но и насколько возможно полные психологические характеристики. К созданию этих досье были непосредственно причастны и Мятлев, и сам Журналист, считая, что Президенту полезно, принимая кадровые решения, знать о претендентах не только то, что может (или захочет) предложить спецотдел канцелярии. Мятлев любил при случае повторять очевидную, но не всем доступную истину: «Предают всегда свои».
Анатолий положил трубку с тяжёлым чувством. Он-то, оказавшись неожиданно для себя в эпицентре готового вот-вот разразиться «землетрясения», сомнений не испытывал, но сделать больше того, что уже сделал, не мог. Всё дальнейшее будет происходить независимо от его воли и желания.
Да, очень вероятно, что им остались те самые час-другой условно спокойного времени, как перед первым выстрелом неотвратимо подступившей войны.
Хорошо, что очень скоро, быстрее, чем даже ожидала Людмила, хлопнула дверь прихожей и в квартире раздались голоса Леонида и второй девушки, напарницы Вяземской. Журналист почти бегом кинулся им навстречу.
— Что тут у вас приключилось? — не успев ещё перестроиться после весьма приятной прогулки с Гертой, приподнятым голосом спросил Контрразведчик, которому Герта без подробностей сообщила, что Людмила просит их немедленно, со всей возможной быстротой вернуться домой. Тут же сама остановила такси, и кабриолет за двадцать минут домчал их с Воробьёвых гор до места.
— И ты уже здесь? — без удивления спросил Мятлев у Анатолия. — Следующим кто, САМ будет? Наши дела явно идут в гору…
Вяземская, одновременно пересказывая обоим, что сегодня случилось, сунула в руки генерала распечатки, сделанные по материалам, выданным Шаром.
Опытным взглядом охватив содержание «меморандума[40]», Мятлев нахмурился.
— Принципиально ничего нового. Оппозиция не оппозиция, но большинство здесь упоминаемых так или иначе связаны с сырьевым бизнесом или корпорациями, по тем или иным причинам не заинтересованными в каких угодно переменах, хоть экономических, хоть политических. Система отлажена, каждый имеет свою долю, и малейшая попытка что-то изменить, да хоть вывозные пошлины на лишний процент повысить — уже повод! Кеннеди, кстати, застрелили за проект отмены налоговых льгот «на истощение недр» для «нефтяных королей». К сожалению, у нас слишком мало сотрудников выше полковника, абсолютно независимых от всякого рода лоббистов, групп давления, служащих только потому, что считают это своим долгом. Они необходимы, когда всё же требуются профессионализм и «честность», которая всеми остальными считается дефектом психики или разновидностью снобизма, но ходу им не дают и смотрят как за потенциальными врагами. Такая вот весёлая жизнь…
Он нервно скомкал листки в кулаке, потом опомнился, начал их расправлять. Затем прошёл в кабинет, остальные потянулись за ним.
— Сделать со всей этой компанией в нынешних условиях ничего невозможно, — продолжил генерал, садясь в кресло рядом со столом и телефоном. — Ваши люди правы, — обратился он непосредственно к Людмиле с Гертой, — вариант мог бы быть только один — аналог тридцать седьмого года, с полной чисткой аппарата, но на это во всех ветвях власти ни у кого нет ни сил, ни желания. Всех всё устраивает. Я почти уверен, что сегодня никакого антипрезидентского выступления не произойдёт. Кому нужно — сделают вид, что ничего не случилось. Их цель и так достигнута — сигнал послан. И если Президент промолчит, они убедятся, что этот сигнал принят правильно. И станут делать то, что и делали, но с большим размахом, вообще не заботясь о «приличиях». Дума у нас такая, что закон о пожизненном наследуемом депутатстве со свистом пройдёт в трёх чтениях сразу. За один рабочий день. — Мятлев снова тоскливо и неостроумно выругался, в несколько затяжек дотянул до фильтра сигарету. — Меня, если случайно не попаду под машину на перекрёстке, просто отправят в отставку. И очень многих других…
— Это всё понятно, — ответил Журналист. — Не хуже тебя разбираюсь. Меня поражает оперативность и наглость, а ещё больше — какое-то непостижимое бесстрашие наших «оппонентов». Если они так хорошо осведомлены обо всех наших делах, так могли бы предположить, что ответный удар получат не от Президента… Должны ведь знать хоть что-то о контактах с той стороной.
— Это как раз понятно. В таком кураже просто не хочется верить в неприятное. Сталин же знал, что весь вермахт уже у наших границ, но принимал объяснение Гитлера, что они просто на отдых сюда отведены. А кое-кто, я уверен, рассчитывает после «победы» и этот ресурс себе в актив записать. Чего тут такого сложного…
Пока они говорили, Людмила указала Герте на дверь, и они вышли в соседнюю комнату.
— Будем вызывать Фёста с Секондом. От нас с тобой толку мало, от этих, — она пренебрежительно мотнула головой в сторону двери, — тем более. Говорильня, говорильня…
— Вызывай, — согласилась Герта. — Чёрт с ними, с запретами, — по прямому лучу и аллюр три креста. Нам с тобой поручили всего-то обеспечить безопасность гостей, и то такого натворили…
— Так обеспечили же, — возразила Вяземская. — И показали, что шутки шутить не намерены. Пусть твой генерал что угодно думает, а пока все, кого это касается, не выяснят, как именно я их сделала, следующих пакостей можно не опасаться. А для большой политики мы с тобой точно не созрели. И слава богу…
Понимая, что до возвращения Фёста сделать всё равно ничего невозможно, не кидаться же на выручку Президента вдвоём с одним на двоих пистолетом (да хоть бы и автоматы им девушки сейчас выдали), полная бессмыслица, друзья занялись успокоением нервов и дальнейшими теоретическими рассуждениями.
Рюмка хорошего коньяка вполне заменила «наркомовскую порцию», а в коробке на столе обнаружились и классные сигары. Очень быстро оба поверили, что выход из положения обязательно найдётся.
— Ты видишь, — говорил Мятлев, как бы дирижируя собственными умозаключениями дымящейся сигарой, — работать всерьёз у нас уже нельзя. Как нельзя плавать в рассохшейся бочке. «Протечки» везде капитальные, да и неудивительно, болтают все, кому не лень, что ни попадя на каждом углу. И про наши контакты с той Россией уже небось половина Москвы знает.
Насчёт половины Москвы он фигурально выразился, в том же смысле, как «на премьере такого-то» была «вся Москва». То есть человек сто достаточно известных людей.
— Ты куда газеты дел, что отсюда прихватил? — спросил генерал.
— Да по-разному. Что-то дома лежит, часть Генрих взял…
— И на работу носил?
— Может, и носил, но специально никому не показывал, это точно…
— А специально и не нужно. Мельком кто-то случайно просмотрел, и если голова на месте, тут же и задумался.
— Над чем? — удивился Анатолий. — Кто в такое поверит?
— Один не поверит и бросит, второй не поверит, но станет соображать, кому и для чего такая фальшивка потребовалась. А совсем третий отнесёт в экспертно-криминалистический отдел и через час узнает, что такая бумага ни в России, ни в Финляндии, скажем, не выпускается, типографская краска тоже не современной рецептуры, фотоиллюстрации изготовлены на несуществующем в природе оборудовании… Мало вы с Генрихом книжек читали, ин-тел-ли-генты?
— А то, что имеем. Людмила тебе позвонила, и уже через полчаса вы имели плотный хвост и взвод ОМОНа в полной готовности. Тебя могли и шлёпнуть «шальной» пулей для накала драматизма, а с ней бы занимались долго и тщательно. Не хуже, чем она с этим Рейнгольдом.
— Нет, — тряхнула пышной причёской Вяземская, которая как раз в этот момент вошла в кабинет. — Я бы им полквартала выжгла, но ушла…
— Если б с крыши из снайперки усыпляющей пулей не приложили, — спокойно ответил Мятлев. — Так что там слышно, когда на прибытие Вадима можно рассчитывать? Вы бы, пока он появится, переоделись, для рыбалки или похода за грибами. В ближайшее время кофе-парти нам определённо не светит. Телефон городской, чтобы туда позвонить, — какой?
Он внезапно испытал прилив если не энергии, то двигательной активности. Сидеть на месте и просто ждать, перекидываясь необязательными фразами, показалось просто невыносимым. Чёрт возьми, он ведь не собирается сдаваться. Есть и у него возможности активно вмешаться в чужие игры. Другое дело, что помимо «аппаратных правил» — по-партизански. Так это и здорово. «Волки знают — нельзя за флажки!», а волк-нонконформист об этом забыл.
Наполеон тоже отчего-то был искренне уверен, что как только он войдёт в Москву, сидящий в семистах верстах в Петербурге Александр возьмёт и капитулирует. И Гитлер через сто двадцать лет поддался уже доказавшей свою несостоятельность иллюзии.
Журналист указал на аппарат, по которому недавно говорил с Президентом, и добавил:
— Вот же техника, никак до чувств не доходит. Чтоб по обычному проводу — в другую реальность.
Людмила не стала пояснять, что телефон самый обычный, просто провод от него протянут в ту половину, что входит «на другую сторону», но и «коммутатор» специальный, под себя всю проводную сеть преобразующий.
— Ничуть не удивительнее, чем трансатлантический кабель позапрошлого века, — махнул рукой Мятлев. Ему было не до парадоксов пространства-времени. Он начал поднимать по тревоге стопроцентно верных ему людей, немногочисленных, но кое на что ещё способных. Жаль, что никто из них не обладал уровнем, чтобы сразу, без согласований и постановлений, начать аресты упомянутых Рейнгольдом лиц. И никто в стране, минуя суд, таким правом не обладал, кроме тех, кто законы мирного времени считал для себя недействительными.
Покуда девушки меняли платья на камуфляжи и высокие ботинки, собирали в рюкзаки нужное снаряжение: своё и кое-какое из имевшегося в квартире (Фёст ещё в первый день продемонстрировал припасённый Шульгиным и Новиковым в далёком двадцатом году арсенал), в прихожей возникли Фёст с Секондом. Мятлев встретил Ляхова-первого как родного, да и со вторым и он, и Журналист были уже знакомы.
Генерал изложил свои планы. Ему с опытными полковниками тоже было проще, чем с девушками.
— Сейчас машина подойдёт, и двинем к Президенту на дачу, — сказал он, как о деле решённом.
Леонид уже так адаптировался к обстановке, что возможность просто пройти ко второму выходу из квартиры и очутиться в иной реальности воспринималась им как вполне естественная. — У вас как с оружием?
— Неограниченно, — усмехнулся Фёст. — Автоматы, гранаты, пистолеты и кое-что ещё. Ядерную войну в Москве устраивать не станем, но на несколько танков и прочие мелочи хватит. А ты уверен, что машина подойдёт именно твоя и отвезёт, куда надо нам, а не кому-то ещё? Наверное, мне лучше свою взять, понеприметнее будет.
— Да ты уж слишком. Не могут же вообще все секретные телефоны моих людей прослушиваться?
— Теоретически — да, но есть основания подозревать, что игра сейчас пошла не на вашем уровне и не по вашим правилам. Когда снаряды начинают рваться в расположении и бомбы сыплются — выяснять такие вещи становится поздновато, — без улыбки ответил Секонд.
— Моих сотрудников будет сопровождать ещё одна машина, с людьми, о которых в Министерстве вообще никто ничего не знает, — сказал Мятлев.
— Опасное заблуждение, — сказал Фёст. — Я всё время вспоминаю «Снег и туман»[41]. Операция прошла крайне успешно, как мы посчитали, но и там не удалось выяснить, кто же был подлинными руководителями акции, не говоря о заказчике. Концы были зачищены безупречно, до блеска. Здесь, думаю, та же история. Главный паук сидит просто на другой паутине, наблюдает со стороны и посмеивается. Иногда я его себе даже представляю — этакий умильный старичок, с незапамятных времен работающий, скажем, гардеробщиком или буфетчиком, хоть в Кремле, хоть в Охотном Ряду. Всё знает и всем ворочает, а министры и вице-премьеры ни сном ни духом не ведают, чьи они команды выполняют. И при Хрущёве он там работал, и при Брежневе, при всех прочих тоже. Этих тоже переживёт…
— Фантастика, — быстро ответил генерал, но именно, что слишком быстро ответил.
— Не ручаюсь, что так оно и есть на самом деле, — согласился Секонд, — только уж никак не фантастика. Чем мы сейчас все занимаемся, с точки зрения здравого смысла? А Сильвия чем занималась полтораста лет? Это очень для нас удачный был бы вариант, если ещё кто-то из аггрианских «потерявшихся агентов», вроде Лихарева, из какой-нибудь межвременной щели вылез и снова принялся «поезда взрывать». Это просто подарок судьбы нам бы был, в сравнении с иными воображаемыми вариантами. Но не стоит обольщаться…
— Давай опять Воронцову доложим, эсхатология[42] — компетенция Совета «Братства», нам не по чину, — предложил Фёст. — Я всё равно с ним связаться хотел, просто сообщить, чтобы в случае чего знал, где нас искать. Ну а раз так…
— Давай. Ты, Леонид, перезвони своим, пусть машина группы поддержки нас где-нибудь за МКАДом на Ленинградке ждёт, а мы туда тишком доберёмся. Или — новое задание поставим. Да, кстати, Люда, ты вашего пленника усыпи примерно на сутки, вернёмся — придумаем, что с ним дальше делать.
Единственная в доступных мирах константа — пароход «Валгалла» — оказалась, как всегда, в зоне уверенного контакта (а если бы вдруг — нет? Страшно представить). И Воронцов в роли бессменного диспетчера и всеобщего начальника тылового, идеологического и всякого прочего обеспечения.
— Чем порадуете, молодые люди? — спросил Дмитрий Сергеевич Секонда, спустившись по приглашению вахтенного в пост связи и увидев Фёста с Секондом в знакомом интерьере. — Заходите. Я тут последнее время несколько заскучал. Может, что-нибудь интересное расскажете?
На отдельном дисплее пульта управления установкой он видел, что «братья» работают из квартиры, со стационарной СПВ, там же обозначалось локальное время как той Москвы, так и всех сопряжённых реальностей.
— Что там у вас на Большой земле делается? Уже решили все проблемы со своей «культурной революцией»[43]?
— Он останется и объяснит, — указал Фёст на аналога, — а у меня здесь дел много.
— Ну, заходи, — сделал Воронцов шаг в сторону, как бы освобождая проход через рамку.
Секонд «переступил черту», и они остались вдвоём (не считая робота — инженера связи). В бронированном отсеке где-то в недрах парохода, заполненного многочисленной, в большинстве незнакомой аппаратурой, в тысячах километров от Москвы и на восемьдесят с лишним лет раньше.
Всех смыслов иронии, содержащейся в предыдущем вопросе Воронцова, Секонд не уловил, но суть понял. Доложил обо всём, что сделано по «Мальтийскому кресту», и о внезапно возникших сегодня затруднениях. Не стал скрывать и предположения, что вся нынешняя деятельность их противников направляется из того же центра, что и прошлогодние акции против Олега Константиновича.
— В общем, прежние события в зеркальном отражении тогда с большой стрельбы начинались, сейчас ею может закончиться, — подвёл итог Секонд.
— А куда денешься — симметрия — она, наверное, в любой галактике необходимый элемент естества… Если та, эта Россия, хоть какая — в природе существует, непременно найдутся те, кому она невыносимо жить мешает. Вся хитрость наша должна заключаться в том, чтобы на любую симметрию асимметричные ответы наготове иметь, — успокоил его командир «Валгаллы». — Я до сих пор удивляюсь, почему вы еще живы с такой-то активностью. Число приключений на душу населения и единицу времени явно превышает среднестатистическое.
— А где вы видели, чтобы героев четырёхактной пьесы убивали в первом? — не остался в долгу Ляхов.
— Можно подумать, ты уже текст видел, знаешь, сколько там актов и картин. В общем, вижу, бодрости ты не утратил, и это весьма хорошо. Для чего-то же ты нам на пути попался, значит, имеется у тебя (у вас) своё предназначение, и в перспективе какая-никакая польза от всех ваших эскапад непременно будет. А сейчас за чем пришёл, чем лично могу поспособствовать утверждению на моей исторической родине конституционного порядка?
— До тех пор пока с Императором все практические вопросы решим, для прикрытия президентской дачи человек бы десять ваших роботов. С полным знанием реалий фёстовского мира и той самой рейнджерской подготовкой.
— Не вопрос. — Воронцов просьбе Секонда нисколько не удивился, похоже, предвидел её гораздо раньше сегодняшнего дня. Да это для любого нормального аналитика лежало на поверхности: давно было очевидно, что своими силами Фёсту с Секондом взваленный на плечи груз не донести. Весь расчёт был на помощь Императора, а раз помощь запаздывала — что ещё оставалось?
— Через двадцать минут будет сделано. У нас программа сохранилась, с того раза, когда Шульгину с Новиковым поддержка морской пехоты против бандитов потребовалась. Мы её активизируем, чуть поднастроим, будто ребята прямо сегодня из Славянки[44] прилетели. Только сначала расскажи, что именно вы затеваете. Вместе помозгуем, как дело провернуть наиболее эффектно и с минимальными потерями…
Этим и был хорош Дмитрий Сергеевич: он умел стать на точку зрения собеседника, даже не будучи с ней согласен, и, если считал нужным, мог не споря, а как бы и соглашаясь, достичь результата, который в итоге оказывался прямо противоположным, но единственно правильным.
Ляхов изложил свой замысел, и Воронцов, то и дело кивая одобрительно, ненавязчиво внёс несколько коррективов, с которыми Вадим немедленно согласился, в душе удивляясь, как он сам не додумался именно до этого.
Правда, обсуждение заняло гораздо больше двадцати минут, но как раз время, проведённое на «Валгалле», могло считаться расходным материалом, который нет нужды экономить.
— Таким образом, десяти человек тебе с запасом хватит, на любой расклад, что мы с тобой способны вообразить, а противник реализовать, — резюмировал Воронцов. — Если хочешь, давай назовём эту нашу операцию «Форос два»…
— Почему? — машинально спросил Ляхов.
— Был бы здесь Фёст, он бы понял. Скажешь ему и посмотришь, что он тебе ответит. А я сейчас курс криптоистории XX века читать не настроен. Ближе к теме — даю тебе десять человек, все прапорщики с «боевым опытом», и Афганистана, и Чечни, и других славных дел, которые до сих пор под грифом «Совсекретно» хранятся. Командир группы — старший лейтенант, он тебе, надеюсь, понравится. Подчинены бойцы будут Фёсту, он лучше местные условия знает, ну и тебе, разумеется, как его заместителю или комиссару[45]. Пойдут в лесном камуфляже, без знаков различия. Впрочем, форменные береты можно оставить, страшнее будет для тех, кого пугать придётся. Ты пока посиди на палубе, а я займусь. Пива хочешь?
— С удовольствием, Дмитрий Сергеевич, пиво у вас несравненное, я такого ни в Мюнхене, ни в Израиле не пил.
— Ещё бы! Рецептуры XIX века, вода, солод — всё дотехнологической эры. Я иногда подумываю — перебраться куда-нибудь в тысяча восемьсот восьмидесятые годы и зажить спокойно. До ближайших войн и революций — четверть века, культурно-психологический уровень жизни вполне приемлемый… Красота!
Вадим только приступил к второй кружке, любуясь облачным небом и неспокойными волнами. Он понятия не имел, где идёт сейчас пароход двадцатиузловым примерно ходом, но догадывался, что, скорее всего, в южных морях, тепло было даже в открытом море. Облака, похожие на бесконечный ряд небрежно скрученных рулонов грязной ваты, проседали до самой воды, физически чувствовалось, что вот-вот они непременно прольются дождём. Четырёхбалльное волнение даже на верхней палубе ощущалось едва-едва, слишком велика была масса «Валгаллы», сохранявшей приличную остойчивость и в настоящий шторм. Ляхову захотелось остаться здесь надолго, на несколько дней, а то и больше. Жаль, что пока это невозможно. То есть возможно, конечно, возвращаясь из прошлого в будущее, гораздо легче попасть в нужное место с точностью до минуты. Друзья не успеют договорить до конца начатые фразы, как он появится с подкреплением, но ему-то придётся все эти дни не отдыхать безмятежно, а всё равно переживать уже случившееся и продолжать планировать свои и чужие действия. Это ничем не лучше, чем со дня на день откладывать предстоящую хирургическую операцию, зная, что она всё равно неизбежна, но не имея сил решиться и покончить всё разом. Или — или! Пожалуй, это даже хуже, чем приходится собаке, которой рубят хвост по частям.
Вот когда всё закончится, с «Мальтийским крестом» для начала, тогда и можно будет позволить себе полноценный заслуженный отпуск с Майей, со всей остальной компанией. Может быть, на самом деле в XIX веке.
— Вот, прошу любить и жаловать, — раздался за спиной голос Воронцова. Ляхов сначала обернулся, потом встал.
Да, команда выглядит внушительно. Бойцы как на подбор, вооружены сверхштатно, как для серьёзного рейда в тыл врага. На девять человек три пулемёта «ПКМ», три тяжелые снайперские винтовки с лазерными прицелами, вдобавок у всех «АК»-«сотки» и «АПС» в кобурах «ковбойского» типа. Судя по размеру и на расстоянии чувствующемуся весу рюкзаков боеприпасов каждый прихватил с собой в расчёте на полевой бой с вражеским батальоном.
— Командир взвода — старший лейтенант Леонов Виктор Николаевич[46], — представил Воронцов командира. В ответ на недоуменно-вопросительный взгляд Вадима пояснил: — Чтобы легче запомнить было. Кроме того, определённые черты личности прототипа я при программировании использовал. Непревзойдённый, в своём роде, психотип.
«Леонов», слегка улыбнувшись неизвестно чему (программа полностью стала на место, и андроид начал вести себя), доложил о готовности группы к выполнению задания. Как ни всматривался в него Ляхов, отличить его от обычного человека не получалось. Непонятно было, почему при наличии столь совершенных механизмов «Братство» вообще в своих делах рисковало жизнями людей, в том числе и своими собственными.
Воронцов понял отразившийся на лице Ляхова вопрос.
— Видишь ли, использование биороботов на планетах с разумной жизнью прямо запрещено межгалактическими конвенциями. Так что вместе с Антоном мы заведомые преступники, и как бы нам ещё не пришлось где-то когда-то за это ответить. А самое существенное — они на самом деле не так человекоподобны, как кажется. Что, в принципе, исключает возможность их полноценного использования. Антон, когда готовил их по моей просьбе, сначала только в качестве экипажа «Валгаллы», встроил в управляющие цепи два предохранителя. Один, который не позволял роботам отдаляться от корабля, мы благополучно отключили, что тоже не весьма законно, вроде переделки газового пистолета под боевой патрон. Одно нас извиняет, Антон не догадался взять с нас слово: не вмешиваться в исходные характеристики конструкции. А вот со вторым ограничением поделать ничего нельзя. Настроенный на какую-то функцию робот — то же высокоспециализированное насекомое. Никакой свободы воли, способности переключиться на иной тип деятельности, осознавать происходящее мозгом, а не нервными ганглиями, под пробку забитыми инстинктами. Хорошо хоть сами программы можно менять, ты это видел. Сегодня он штурман «Валгаллы», завтра — дворецкий английской аристократки, вот сейчас — талантливый и инициативный (в пределах роли) командир морского спецназа. И он им будет, пока действует приказ. Когда непосредственная задача будет выполнена, немедленно потребуется следующая, иначе он перейдёт в «ждущий режим». И теперь самое важное — тебе придётся за этим следить. Не получив новой команды в течение… ну, я поставлю, скажем, три часа (о самом худшем думать не будем, но бывает всякое), «Леонов» с помощью встроенного «тревожного блока» пошлёт сигнал на свой центральный процессор и либо получит следующую команду уже через него от меня, как ты понимаешь, либо по открывшемуся на этот случай каналу СПВ автоматически вернется к месту постоянной дислокации. Таким образом исключается всякая возможность того, что данное устройство попадёт в чужие руки. Общая для любой профессиональной программы функция самозащиты заставит робота делать всё, чтобы в целости и сохранности вернуться домой. Как именно это будет выглядеть — заранее сказать невозможно, это тоже зависит от конкретных обстоятельств. В одном случае робот может затеять с тем, кого он считает противником, переговоры, чтобы потянуть и выиграть время, в другом — убежать и скрыться в подходящем месте или же, как и положено фронтовику-морпеху, сражаться до конца…
При этих словах лицо Воронцова сделалось непривычно серьёзным, даже суровым.
— Советую до этого не доводить, может приключиться такая мясорубка, учитывая, что робота вывести из строя крайне сложно. Разве что близким разрывом тяжёлого снаряда. Попадание из РПГ для них не смертельно, проверено.
Ляхов впервые слышал столь подробное изложение сути и технических возможностей андроидов, с которыми он неоднократно встречался, но всегда занятый другими делами не интересовался, что они собой представляют на самом деле.
— Я дам вам пульты с набором тех программ, что могут пригодиться для намеченного дела. Они же — переговорные устройства. Роботы будут на постоянной связи. Всегда сможете их контролировать и корректировать.
Больше всего отчего-то Вадима поразила способность роботов скрыться с места действия в другое пространство-время.
— Это получается, как с джинном из лампы Аладдина? Выполнив приказ, он исчезает.
— Наверное, та сказка имеет под собой фактические основания. Не мы одни такие умные. Но это уже лирика. Сейчас ты покажешь мне на карте место, куда переправить ребят, они прибудут, замаскируются и станут ждать вас, сколько скажешь, — завершил инструктаж Воронцов. — Не станешь же ты водить их в таком виде по Москве строем…
— Хорошо, меня это устраивает. Выведи на планшет карту окрестностей президентской дачи, и мы вместе с Виктором Николаевичем определимся.
«Леонов», слушавший весь предыдущий разговор с отсутствующим видом, так как он его не касался, получив соответствующий импульс, немедленно превратился в боевого офицера, получающего от старшего начальника приказ и уже начавшего со своей точки зрения осмысливать, как будет действовать в предлагаемых обстоятельствах. Когда Воронцов распечатал на принтере несколько разномасштабных карт предполагаемой зоны действий и всего ближнего Подмосковья, он извлёк из полевой сумки набор карандашей «Тактика» и, «как учили», принялся «поднимать»[47] карту-двухсотметровку и делать на ней нужные пометки.
Усвоив все тонкости обращения с пультом, запомнив на всякий случай имена и позывные каждого робота, уточнив список программ, которые он может вводить и извлекать из роботов самостоятельно, Ляхов вдруг решился на своего рода провокацию.
— А скажите-ка мне, старший лейтенант, — спросил он, — когда вдруг ситуация сложится таким образом, что у вас не будет иного выхода, кроме геройской смерти, перейдете ли вы на сторону врага? Естественно, с надеждой впоследствии бежать или продолжать сопротивление под иной личиной…
Воронцов от неожиданности издал некий звук, похоже — удивлённо-одобрительный.
«Леонов» не растерялся, видимо, в его программе содержалась информация, что сейчас не сорок третий год, вообще «не те времена», и говорить можно свободно, что думаешь.
— Если другого выхода не будет, товарищ полковник, так отчего и нет? Если есть какие-то шансы продолжить борьбу с врагом, не вижу оснований от них отказываться. Просто нужно иметь в виду, что в таких играх легко заиграться… Вы понимаете, о чём я?
— Благодарю, старший лейтенант. Я удовлетворён вашим ответом…
За спиной разведчика Воронцов улыбнулся и показал Ляхову поднятый вверх большой палец.
…Консьерж Борис Иванович был до чрезвычайности удивлён, увидев Вяземскую и Фёста, а с ними Герту, Секонда и Мятлева с Журналистом. Людмила с Анатолием утром мимо него проходила, а откуда взялись остальные? Вадима Петровича с его братом он два дня назад видел, остальных — вообще впервые.
— Я же вас предупреждала, что у нас и другой путь есть, — мило улыбнулась Людмила. — Один вход и один выход — это так неудобно.
Отставной майор молча кивнул, а для себя решил при первой возможности выяснить, какие пути ведут через чердак, неизвестные ему служебные помещения, а то и через квартиры, выходящие в другие подъезды. Что ни говори, а налицо серьёзная дырка в системе охраны и обороны вверенного ему объекта. Если, конечно, и этого тоже нельзя исключать, жильцы не воспользовались гипнозом, или, как это называется, когда человека можно заставить ничего вокруг себя не видеть, или — забыть то, что увидел.
Фёст традиционно протянул ему свой портсигар. Закурили. Остальные, кроме Людмилы, прошли в тамбур, там тоже закурили, глядя на улицу сквозь застеклённое анизотропным[48] витражом парадное.
— Ну что, ваши ребята благополучно выбрались? — спросила Вяземская. — Не попали под горячую руку?
— Нет, они дальше Садовой не пошли, и так всё хорошо было видно и слышно. — Следующие слова — «страшное дело» прозвучали некоторым диссонансом с «хорошо». — Из чего вы их?
— Что-то вроде многозарядной ракетницы с запрещённым к применению ОВ. Но, надеюсь, из мирных жителей никто не пострадал.
— Вроде того, что в «Норд-осте» использовали? — проявил эрудицию майор.
— Да нет, полегче. Все ж живы остались?
— Этого я не знаю. Когда туда ментовских машин и «Скорых» понаехало, ребята решили сматываться. Газом здорово воняло, за сто с лишним метров чувствовалось. А вы куда убежали, в проходной двор?
— Да, есть там подходящая калитка, — явно не желая продолжать тему, свернула разговор Вяземская. — Всё обошлось, и ладно. Следующий раз поостерегутся.
— Или станут стрелять на поражение с предельной дистанции.
— Едва ли. Мы им только живыми нужны, — заметил Фёст.
— Вам виднее. Так что нам теперь делать? — спросил консьерж. — Если такое в центре города начинается?
— В центре — не так страшно, — ответил Фёст. — Хуже — когда непосредственно в коридорах власти. Вам — пока ничего. Если, допустим, сегодня за нами кто-то явится — с расспросами, а то и с ордерами какими-то, — держитесь соответственно должности. За что не платят, то вас не касается. Проживающие в такой-то квартире, вчетвером, ушли перед обедом, точно вы время не засекали. Никаких распоряжений не оставили, о том, что ждут гостей, ничего не говорили. Вдруг захотят дверь вскрывать, обыск производить — личных эмоций не проявляйте, предложите участкового вызвать, пусть он документы проверяет и за соблюдением законности наблюдает. И ещё вот — в понятые позовут — отказывайтесь. Вы, мол, лица заинтересованные, по договору жалованье от хозяев получаете. А то мало ли что они там найдут… — при этих словах Фёст сделал многозначительное лицо.
— Понятно, — ответил майор. — А вообще ваши рекомендации?
— До прояснения обстановки сидеть и не высовываться. И всем, кто вас готов слушать, это же подскажите. Оружие, конечно, лучше иметь наготове. Ничего такого я пока не жду, но если вдруг начнутся уличные беспорядки, нечто похожее на август девяносто первого или октябрь девяносто третьего — сохранять спокойствие и выдержку. Если, конечно, кого-то это лично не коснётся. Пусть даже подобие погромов начнётся, именно подобие, для настоящих почвы нет, — не высовываться, зря на рожон не лезть, ваше время ещё придёт. На митинги выходить — ни боже мой! Да, мы, надеюсь, успеем ещё переговорить. А не доведётся — просто рекомендация: если что серьёзное начнётся, предпочтительнее оставаться на стороне Президента. В любом другом случае можете сильно пролететь.
— А как же эта… «Чёрная метка», вы говорили… — не совсем врубился в хитросплетения текущей политики Борис Иванович.
— Потому и говорил. Та игра, что затевается, — не наша. «Чёрная метка» — за сильную Россию, вплоть до монархии, против измены и коррупции. С либерал-демократами, олигархами и иностранными агентами нам не по пути… С законной властью проще дело иметь, чем неизвестно с кем.
— Ну да, да, я понял!
— Вот возьми ещё, когда теперь встретимся, — Фёст протянул майору очередную пачечку долларов, теперь потолще, чем в прошлый раз. — Переговори с действительно надёжными людьми, готовыми в случае необходимости принять участие в уличных спецоперациях, вроде давешней. На тебя выйдет или кто-то из нас, или незнакомый предъявитель такого же портсигара. Не спутаешь?
— Как можно? Монограмма имеет значение? — Майор указал на фигуру из камней на крышке.
— Для вас — нет. Главное — форма портсигара, размеры, сам факт наличия инкрустации в подобном стиле и из драгоценных камней. В любом случае — если настоящая война в городе не начнётся, от тебя инициативы не потребуется. Будет что сообщить или помощь потребуется — звони по тем номерам, что я дал. Звони, не стесняйся. Мы сейчас через парадное выходить не будем, ты нам чёрный ход открой…
Ничуть не удивившись, Борис Иванович достал из стола ключи, прошёл через вестибюль и отпер дверь.
К его удивлению, Фёст за ним не пошёл, а поманил его рукой. Консьерж, недоумевая, вернулся к стойке.
— Спасибо, брат, — сказал Ляхов. — Теперь мы выйдем, а ты минут через пять снова запри.
Выглядело это предложение до крайности странно, если только не предположить, что во дворе их кто-то ждёт, и они не хотят, чтобы майор это увидел. Ну, даже если… Борис Иванович понимающе кивнул:
— Так и сделаю…
В этом доме имелась ещё одна хитрость, совсем незначительная в сравнении со всем остальным. Из подъезда, кроме парадного на улицу и внутреннего, во двор, имелся и третий выход, никем не используемый с незапамятных времён и большинству нынешних жильцов вообще неизвестный. Те послевоенные мальчишки, что знали все проходные дворы, чердаки и подвалы в округе, или уже ушли из жизни, или разъехались из тогдашних огромных коммуналок во все концы Москвы и бывшего Советского Союза. А у нынешних детей были совсем другие интересы и образ жизни.
По узкой крутой лестнице можно было спуститься в длинный сводчатый подвал, поделённый на индивидуальные чуланы, где прежние жильцы держали дрова, уголь, мешки с картошкой и прочие припасы, а нынешние — старую мебель и другие никчёмные вещи. В дальнем конце коридора имелась ещё одна дверь, выглядевшая заколоченной много лет назад. Шляпки больших, вручную кованных гвоздей покрылись коркой бурой ржавчины, что само по себе было достаточным основанием не задумываться, зачем она здесь и куда ведёт. А выводила она внутрь бывшего каретного сарая, ещё в пятидесятые годы поделённого редкими автовладельцами на гаражные боксы для своих «Побед» и даже одного трофейного «Хорьха». Тогда это ничего не стоило, кроме чисто символических подношений (или просто телефонного звонка «откуда надо») начальнику тогдашнего ЖЭКа, а по нынешним временам превратилось в немыслимую ценность — собственный просторный гараж прямо во дворе, в самом центре Москвы. Неизвестно, приложил ли к этому руку сам Лихарев или кто-то из его преемников, но принадлежащий к квартире бокс был угловым, и дверь открывалась прямо в него. Шульгин с Новиковым узнали о столь удачном стечении обстоятельств, изучая оставленные Валентином материалы по использованию столешниковской базы.
Казалось бы, при наличии технических средств, того же блок-универсала, позволявших непосредственные межпространственные перемещения, такая архаика, как тайные подземные ходы, утратила смысл, но оказалось, что нет, если существует опасность, что твоя аппаратура под контролем аналогичных средств.
Это примерно то же самое, как древнее оружие, вроде арбалета, моментами оказывается удобнее и эффективнее самого современного огнестрела.
Прикрыв за собой первую дверь тамбура, чтобы консьерж не видел, Фёст вывел свою группу внутрь запертого снаружи гаража.
Здесь как раз ждали хозяина приобретённые Шульгиным «на подходящий случай» светло-шоколадный «Лексус», толком ещё и не обкатанный, и «Фольксваген Пассат», на котором Фёст тоже ездил не слишком часто, чтобы зря не засвечиваться.
Эти предосторожности могли бы показаться излишними и даже вообще ненужными, однако Фёст знал, что квалификация разведчика подтверждается именно умением учитывать малозначащие мелочи. Пусть консьерж видит, что его жильцы ушли дворами — и что из этого? Они могли уйти пешком, через многочисленные проходы между внутридворовыми флигелями и беспорядочной, но плотной застройкой обширного параллелограмма площадью больше двадцати гектаров, квартала, простирающегося между Столешниковым, Большой Дмитровкой, Петровкой и Петровским переулком, имеющего около сотни выходов во всех направлениях, через подворотни и прямо сквозь подъезды домов. Какой из них они сочли для себя наиболее подходящим — не угадаешь.
О том, что Ляхов располагает гаражом, а значит, и машинами — тоже известно, но и не более того. Ворота гаража из подъезда не видны, и, к своему стыду, отставной майор не знал, какой у Вадима Петровича автомобиль. Ни цвета, ни марки, ни тем более номера. Не пришлось ни разу увидеть. Так что и здесь, если вдруг допустить, что Борис Иванович решился на двойную игру (или ведёт её изначально), свой след они обрубили радикально.
— Красота! — восхитилась Герта. Ей машины этой реальности нравились гораздо больше «своих» — дизайном и вызывающей, какой-то космической роскошью. Как и, наоборот, — большинство здешних «понимающих» людей те автомобили радовали старомодностью и ностальгическим отсылом к сороковым годам ХХ века.
— Распределяемся, — сказал Фёст, подкидывая на ладони ключи. — Ты давай сюда за руль, — указал он Мятлеву на «Лексус». — Тебе как раз по чину. Доверенности ни к чему, своей ксивой отмажешься. С тобой Секонд, Анатолий, Герта. Езжайте и желательно не напрямик, сначала по Минскому шоссе и со стороны области хоть грунтовками подъедете. Есть там по лесам вполне проходимые дорожки. Километров за пять от дачи с морпехами встреться, — это уже Секонду, — осмотрись, расставь засады, по телефону с «шефом» созвонитесь. Мы — за вами. Можем на час-другой задержаться, так вы не переживайте. Люда с Гертой по своим блокам на связи будут. Двоих морпехов с собой на дачу возьмёте. Остальные нас подождут. Приедете — начинайте Президента в курс дела вводить. Мягко, но максимально доходчиво. Вот вроде и всё. По машинам!
Посмотрел на Вяземскую.
— Так. Стоп! — задержал он её за руку — Сумку с автоматом и прочим Герте отдай. При себе оставь только американский паспорт, деньги, блок-универсал. Камуфляж бы лучше снять. У тебя в багаже что-нибудь попроще есть?
Ему только что пришла в голову яркая идея.
— Шорты, босоножки, купальник. Так, на всякий случай, — ответила Людмила, не понимая, что Вадим вдруг придумал. — Майку эту можно оставить.
— Годится. Возьми.
Людмила порылась в своём рюкзаке и, кроме одежды, не удержавшись, прихватила ещё и пистолет.
— Не бойся, — предупредила она возражение Фёста. — У меня на него американское разрешение есть. Глядишь, и здесь сойдёт. Это как бы травматик, а что бой, как у «ТТ», никто не догадается.
— Смотри сама, — не стал спорить Вадим. — В общем, счастливого пути, — махнул он пассажирам «Лексуса», открывая самые простые двустворчатые железные ворота. Джип мягко выкатился из гаража, оставив лёгкий запах дизельного выхлопа.
Людмила начала переодеваться, а сам он, выйдя на порог, как бы скучающе осматривал заросший кустами сирени и жасмина дворик, каких, наверное, совсем немного осталось в центре. Там, куда никакими силами не воткнёшь «точечную застройку», или владельцы участка в состоянии послать куда подальше самого Лужкова с его благоверной. Здесь жили именно такие люди, и сила их была не только в деньгах. И на всесильного мэра имелась своя управа.
Людмила переоблачилась, стала рядом, положила руку Ляхову на плечо.
— Так что ты задумал?
Фёст со вздохом на неё посмотрел. Опять двадцать пять. Всякие «звёзды» берут за фотосессии сотни тысяч долларов, в остальное время окружают себя и свои виллы бодигардами и электронной защитой от папарацци. А тут такое чудо демонстрирует свои прелести всем подряд, и совершенно бесплатно. Но ничего, сегодня ему как раз это и нужно. «Мисс Вселенная» в нерабочей остановке. И если даже сейчас её утренние фотографии, наверняка отснятые с десятка точек, уже растиражированы, розданы на руки всем ППСникам и иным «заинтересованным лицам», развешаны на стендах, к этой девушке они не имеют никакого отношения.
— Ничего особенно. Сейчас мы навестим одного человека, возможно, возьмём его с собой. Он может здорово пригодиться. Ты продолжаешь играть в русскую американку. Никаких игривых взглядов, казарменных шуточек и прочего. Наоборот, демонстрируй хорошо скрываемую настороженность. Это у тебя в подкорке сидит — здешним русским доверять опасно, они или перекрасившиеся коммунисты, или просто хамы и грубияны. Тяжкое психологическое наследие времён «холодной войны» плюс воспитание дедушки — непримиримого белогвардейца. Сумеешь?
Людмила фыркнула и немедленно сделала такое лицо и даже глаза, что самому Фёсту стало неприятно. Вся красота вроде и при ней, но флиртовать с подобной девицей — увольте.
Нынешняя езда за рулём по Москве раздражала Фёста до крайности. Отчего он её по возможности избегал. На самом деле не то что на метро, а даже пешком по центру перемещаться выходило быстрее и спокойнее, чем на машине. Чтобы слишком не раздражаться, переползая в тесном потоке от светофора до светофора, начал рассказывать Людмиле, что после «воссоединения» специально потребует на какое-то время должность «смотрящего» над московским мэром и за месяц наведёт порядок с уличным движением. Как в Сингапуре или императорской Москве. Возьмёт и вообще запретит использование личных автомобилей внутри Бульварного кольца и по многим улицам в пределах Садового. Пусть москвичи, как все цивилизованные люди, на такси и общественном транспорте ездят. В том числе и ВИП-персоны. Ничего с ними не сделается, вон король Швеции на велосипеде катается, не умаляя собственного величия.
— Народных волнений не боишься?
— Их боится только слабая власть, сильная умеет доходчиво объяснять, что такое хорошо и что такое плохо… А пока бог не дал свинье рог, я, пожалуй, слегка выбьюсь из общего трафика.
И начал вести себя как персонаж шпионского боевика, уходящий от погони. Москву он знал, сворачивал в неизвестные большинству переулки, проезжал по внутриквартальным дорожкам, выискивал такие щели, что моментами казалось, будто они заехали в глухой тупик и обратной дороги нет. Однако проскальзывали на очередную магистраль, как-то её форсировали и снова исчезали во всевозможных Кисельных, Ащеуловых, Уланских, Кривоколенных и Харитоньевских переулках. Был среди них даже носивший название Огородная слобода, наверное, века с XV, если не раньше. Не зря Вадим не один год подряд ежедневно рассматривал и запоминал по квадратам трёхмерную компьютерную схему Москвы в аксонометрической проекции.
Неподалёку от Красных Ворот Фёста в известном месте должен был ждать Миша Волович, звезда московской жёлто-либеральной журналистики, очень грамотно избравший себе эту нишу. За счёт желтизны и демонстративно-ёрнического, под Салтыкова-Щедрина, тона его статей власти Воловича всерьёз не воспринимали, и никаким «цензурным» гонениям он не подвергался, о чём моментами сожалел. От «кровавого режима» хотелось пострадать, но не сильно, в диапазоне между произнесённым на всю страну начальственным «ужо тебе!» и максимум десятью сутками отсидки. Лимоновские два года или, упаси бог, семь, как Синявскому и Даниэлю[49], его категорически не устраивали. Зато либералы европейской и проамериканской ориентации, с советских времён обучившиеся читать любые публикации исключительно между строк (даже вообще не напечатанных), принимали творения Миши с явно преувеличенным восторгом.
Фёст с ним приятельствовал с давних лет, к роду его занятий относился терпимо, хотя и с нескрываемой иронией, переходящей временами в сарказм. Отношений это не портило, наоборот, Волович, чувствуя за Вадимом какую-то непонятную, но серьёзную силу, сносил все издёвки стоически, что даже прибавляло ему азарта за клавиатурой компьютера. Он словно бы непрерывно полемизировал именно с Ляховым, стараясь оттачивать формулировки и выдавать парадоксы, рано или поздно обещавшие доказать именно его правоту.
Некоторое время назад Вадим предупредил Воловича о намеченной им самим (но под маркой «Чёрной метки») акции против предателя-чекиста и его подельников из сферы бизнеса, а также и преступного мира. Предупредил с той целью, чтобы посмотреть, действительно ли репортёр имеет выходы на те и другие сферы. По каким там уж каналам — неизвестно, но информация через Михаила дошла до адресатов и весьма способствовала успеху акции. Свои деньги от Ляхова Волович получил, но сам ничего заслуживающего внимания не сотворил, хотя материала хватало и на противоправительственную громовую статью, и на текст прямо противоположный, пригодный для публикации в «Завтра» или «Голосе русича».
Пока ехали, Людмила связалась с Гертой, узнать, нет ли каких помех и задержек в пути, вообще новостей. Из-за отсутствия спецсигналов их машина, хоть и сидели в ней два весьма высокопоставленных лица, до сих пор не выбралась из города на оперативный простор, стояла в пробке на пересечении с МКАД. Секонда, по словам Герты, так и подмывало применить какой-нибудь нестандартный приём, чтобы оказаться, наконец, на свободной трассе. Например, телепортировать или себя, куда надо, или все чужие машины, сколько их есть в поле зрения, лет на тридцать назад. Вот был бы хроноклазм!
Шутки шутками, но вот слова включившегося в разговор Мятлева Фёста слегка озадачили. Леонид, чтобы не терять зря времени, из машины сделал несколько звонков по зарегистрированной на совершенно постороннего человека сим-карте. И на президентской даче, и в кабинетах МГБ внешне было тихо. Насколько об этом могли судить его личные информаторы. Это было странно. Даже если предположить, что верхушка министерства действительно ни при чём, через полдня после столь громкого эксцесса в самом центре Москвы и сигналы должны были поступить, со многих направлений сразу, и реакция на них обозначиться. Уж как минимум на этаже, занимаемом третьим спецуправлением. Нет, тишь да гладь. И может это означать только одно — Центр всей паутины там и находится. Прав и возможностей у начальника спецуправления, генерала Сулимы, и его замов достаточно, чтобы обрубить все ниточки в самом начале, на уровне непосредственных исполнителей и милицейской префектуры Центрального округа. Представить и оформить всё как банальную хулиганскую разборку, без трупов и тяжких телесных повреждений. Кто-то кинул на улице дымовую шашку, кто-то не слишком адекватно среагировал, вот и всё. Меры приняты на соответствующем уровне.
— Я так понимаю, что в данный момент должны быть надёжно изолированы все участники и свидетели? — спросил Фёст.
— Само собой.
— Так сколько же ещё людей в эту историю втягивается?
— Как круги по воде, — согласился Мятлев, — это и даёт все основания предположить, что «большая игра» начнётся непременно сегодня. Завтра отвечать на множество вопросов кое-кому будет очень трудно. Анатолий-то ушёл, и в любой момент может объявиться в кабинете «первого лица».
Кстати, факт моего внезапного и бесследного исчезновения наверняка дал «ряду товарищей» повод для отдельных и не слишком весёлых размышлений.
— Значит, и ты, и он в общем раскладе уже не имеете никакого значения. Так смотрите не то что в оба, «третий глаз» включайте, Герта вам поможет…
— Да ничего, — понял, о чём речь, Мятлев. — Я говорил минут пять от силы, несколько километров назад, а здесь тысячи движущихся машин, туда и обратно. Если б спутник связи прямо надо мной висел, специально на мой голос и прочие характеристики настроенный…
— Ну, дай бог, дай бог. В общем, поскорее оттуда выбирайтесь, на даче вам будет спокойнее…
— Подожди, ещё не всё. Я сделал то, что ты как-то предлагал. С явным превышением полномочий, сославшись непосредственно на Президента, попросил одного человека, которому пока доверяю (а если зря — так сразу и выяснится), немедленно, в течение ближайшего получаса, запретить выезд двух десятков владельцев заграничных паспортов всех категорий, от общегражданских до дипломатических. На такие-то и такие-то фамилии. И передать списки по электронным сетям во все международные аэропорты Москвы и окрестностей, в радиусе пятисот километров. При обнаружении владельцев деликатно задерживать «до выяснения» в ВИП-залах, но с соблюдением всех мер предосторожности.
— Это ты лихо, не ожидал!
— Мой приятель тоже спросил, не охренел ли я? Я ему ответил, что риска, считай, никакого. Если указанные товарищи имеют соответственно оформленные зарубежные командировки или находятся в законных отпусках с заранее приобретёнными билетами «туда-обратно», я обещаю лично принести извинение каждому. Но вдруг товарищу Н. полагается быть на рабочем месте, а он вместо этого отирается у стойки вылета в Таиланд или Лондон, то не грех и поинтересоваться, чего он там забыл. В любом случае к полуночи обстановка прояснится, и если что случится — не о такой ерунде придётся думать.
Закончив разговор, Фёст, сожалея, что не сделал этого раньше, начал названивать достаточно высокопоставленным членам «Чёрной метки», вводя их в курс, кратко обрисовывая ситуацию и объявляя «готовность номер один». Все они, в случае начала «Фороса», должны были получить какие-то команды от своего непосредственного начальства. Того или иного характера. Самостоятельных действий Фёст им предпринимать не велел, но в случае попыток применения каких угодно «недружественных мер» к членам организации или при получении «противоречащих законам и присяге приказов» поступать адекватно обстановке.
Заместителю министра по чрезвычайным ситуациям, располагавшему огромными связями в самых неожиданных сферах, тоже изложил предысторию и передал разговор Мятлева с чиновником, попросил по своим каналам немедленно продублировать распоряжение о запрете пересечения границы вышеперечисленными лицами. И заблокировать всякую возможность отмены санкции, как минимум до утра. Не на политическом, на чисто техническом уровне. Чтобы и темы для дискуссий не возникало.
Фёст сейчас не вникал, прав или нет в своих подозрениях генерал. Если считает, что именно эти люди вздумают первыми бежать с корабля и не следует им этого позволить, — ему виднее.
Людмила всё дорогу молчала, понимая, что сейчас задавать вопросы неуместно. Только вертела в руках свой портсигар, проигрывая в уме варианты его использования. Решила, что лучшее в их положении — максимальное замедление времени, то есть — десятиминутное «растянутое настоящее». Включать его следует при любом намёке на опасность, даже без согласования с Фёстом. Этого хватит и на отход, и на бой. При условии, конечно, если «противник» не использует упреждающий и превосходящий по силам удар на поражение. Она сможет остановить в полёте противотанковую ракету, но бессильна против подрыва фугаса или выстрела из пушки. Снаряд прилетит быстрее, чем она услышит звук.
Волович ждал их у входа в кафе «Нарцисс», вывеска которого вызвала синхронные усмешки и у Ляхова, и у Людмилы. Зато рядом имелась платная стоянка, и Миша чуть не силой заставил Фёста заехать на неё. Никаких возражений не принимал: «Успеем, везде успеем, но хоть пять минут посидеть просто необходимо, я натощак даже у Президента интервью брать откажусь…»
Теперь Вадим с подругой уже откровенно рассмеялись (уж больно в точку попал Миша, сам того не подозревая), повергнув репортёра в недоумение. Он решил, что это у Ляхова просто очень хорошее настроение, вызванное присутствием рядом красивой девушки. И, значит, скорее всего, неприятного разговора сегодня удастся избежать. Спутницу «парапсихолога» он разглядел, только когда она вышла из машины и сняла большие противосолнечные очки.
Воловича немедленно прострелило чувство острой зависти. Мало, что этот Ляхов занимается, чем хочет, никому ничего не должен и денег у него немерено, так и девицу себе оторвал такую, что подобной в Москве не сыскать. Волович, при своей раблезианской внешности, вкус имел весьма тонкий, связи в любых заслуживающих внимания тусовках обширнейшие и в искренних поклонницах недостатка не испытывал. Но эта барышня, причём, похоже, наскоро одевшаяся во что придётся, совсем без макияжа… Миша мог поручиться, что нигде, ни разу она «в обществе» не появлялась, и даже если ему самому не повезло с ней пересечься, то и разговоров было бы достаточно, и фотографии, если не сразу бы в гламурных журналах появились, то по рукам ходили точно и в Интернете наверняка.
— Михаил, — представился он с милейшей из своих улыбок, которая всё равно выглядела усмешкой сатира[50], и изобразил намерение «приложиться к ручке».
— Мила, — ответила она с едва уловимым акцентом, пряча руку за спину. Харасмент[51] не харасмент, а на людной улице, по понятиям её «прототипа», подобный жест выглядел бы достаточно вызывающе. Мало ли, что здесь не Штаты, а Москва, где вообще представления о допустимом с женщинами обращении совершенно извращённые.
— Вообще-то она Людмила, Люда, но на той стороне шарика люди в детстве к логопеду не обращались, с произношением у них плохо, простое имя выговорить не могут, — уточнил Фёст, под локоток подталкивая Вяземскую в направлении двери, тем самым давая Воловичу понять, что его приглашение принято.
Глава двадцать пятая
Заведение на углу Каланчёвской улицы и одного из впадающих в неё переулков поначалу слегка разочаровало Фёста. На входе всё выглядело вполне культурно и оформлено «в тему». Раз «Нарцисс», так всюду зеркала от потолка до пола, причём некоторые — кривые, столь хитро подобранные, что смотрящийся человек сначала испытывал шок, не понимая, что случилось с ним самим и окружающей действительностью. И лишь потом (да и то не все) догадывались, в чём фокус. И вдруг неожиданно охранник, слишком молодой и несолидный для занимаемого места, перекрыв турникет, отказался впустить Людмилу. На него её шарм не подействовал по причине крайней упрощённости не только мыслительного, а и эмоционального аппарата. Наверное, женщин он распознавал, как муравей, по феромонам, и больше никакими индивидуальными различиями не интересовался. Человекообразная копия демона Максвелла[52], тупо выполняя инструкцию, заявила, что время уже может считаться вечерним, когда кафе работает как ресторан, а в шортах с майкой в рестораны не ходят. При этом он указывал на объявление, где со ссылкой на какую-то статью какого-то закона сообщалось, что «это заведение частное, и вам может быть отказано во входе без объяснения причин».
Охранника слегка смутило то, что никто не пытался «качать права» или предлагать деньги. Ляхов просто посмотрел на него молча, но очень недружелюбно, а Миша, сверкая очами, извлёк из кармана сотовый телефон и начал звонить не то менеджеру зала, не то сразу хозяину, приговаривая: «Ты у меня, придурок, здесь последний час дорабатываешь, выгоним, на хер, без выходного пособия и характеристику напишем, что не во всякую тюрьму возьмут, только в дурдом без очереди…» Парень сообразил, что «напоролся», отомкнул турникет и начал бессвязно извиняться, ссылаясь только что не на трудное детство и медные гроши…
Волович оттолкнул его животом и с трудным полупоклоном пропустил вперёд Вяземскую, на которую он только и смотрел, теперь — «с задней полусферы», как лётчики говорят, справедливо полагая, что Вадим Ляхов и так никуда не денется.
«Зачем он её привёл?» — свободной от грешных мыслей частью сознания пытался просчитать Михаил, потому что мозги всю жизнь использовал по прямому назначению, и обозвать его можно было почти любым полупочтенным словом русского языка, только не «дураком», в том смысле, что он всегда поступал «адекватно складывающейся обстановке», но при условии, если это было выгодно лично ему. В «узком» или «широком» смысле этого слова — неважно.
Вот и сейчас Волович сообразил, что вызывающе «неупакованная» девица сопровождает «паранормального Ляхова» не случайно. Другой человек, из тех, кто заседает на верхних этажах банков и концернов, сверкающих черным и медным стеклом неподалёку отсюда, значащийся в списках Форбса хотя бы и в рубрике «и др.», которому потребовались бы услуги Воловича, для повышения статуса (или чтобы внимание рассеять), притащил бы на встречу некое подобие башенного крана. Завернутое в дорогое и эксклюзивное да ещё и на пятнадцатисантиметровых каблуках, не далее как вчера показанное по телевизору в компании Собчак, Канделаки, Прохорова, а то и самой Пугачёвой.
Вадим же явно не из тех, и девица (тем более — «с другой стороны шарика», американка то есть) ему нужна с какой-то весьма утилитарной целью. Да и об эпатаже, если на то пошло, у Ляхова должно быть своё, тоже нестандартное представление.
Волович отдавал Фёсту должное, без особых комплексов признавая его превосходство в очень многих вопросах.
Они прошли мимо бара, в котором тянули пиво несколько «офисных мальчиков» из ближайших контор, оставили справа гостеприимно распахнутую дверь в двухсветный[53] общий зал, углубились в узкий извилистый коридор с полом, затянутым шинельным сукном. Приученный к современной архитектуре Фёст, оказываясь в старинных зданиях, никак не мог понять идей и принципов тогдашней планировки. Вадим отметил, что и бармен, и двое стоявших у входа в зал официантов поприветствовали Воловича жестами, изобразив на лицах крайнее радушие, но не подошли и ничего не спросили.
Сильнее запахло кухней. Причём — хорошей.
За очередным поворотом Волович толкнул одну из неприметных дверей, и они вошли в небольшой, всего на два четырёхместных столика, кабинет, или «банкетный зал». Один столик уже сервирован, как для светского приёма, «на шесть хрусталей»[54]. Да и в остальном зальчик оформлен весьма недурно, как бы с намёком, что и советские времена кончились, и «лихие девяностые». Пора понемногу к «нормальной жизни» привыкать.
— Молодец, Миша, — сказал Ляхов, не выразив никакого удивления. В телефонном разговоре речь шла насчёт посидеть в пивной или журналистском баре на первом этаже офиса. А тут вдруг такое. Неужто репортёр приличный гонорар получил? Ну-ну. Он уселся в полукресло лицом к двери и предоставил Воловичу поухаживать за дамой. — Угадал моё настроение. Или ровно настолько себя передо мной в долгу чувствуешь?
Волович успел предложить Людмиле место напротив себя, чтобы постоянно видеть её лицо, а также отражение фигуры в сплошном, от потолка до пола, зеркале.
Скрытые за драпировками динамики воспроизводили щемящие и волнующие мелодии шестидесятых годов в исполнении Фаусто Папетти.
— Умели тогда музыку делать, — сказала Вяземская. — У нас немного не такая, но тоже для души, не то что сейчас.
Волович на это «у нас» не обратил внимания, отвлечённый вопросом Фёста:
— С прослушкой тут нормально?
— Чисто, — прижал пухлые руки к груди Михаил. — Здесь такие гости бывают, что за подобные шуточки можно огрести по полной. Да и техника теперь у всех, сканеры, глушилки…
— Вот и хорошо. Теперь выключи свой диктофон и положи на стол. А то у Люды с собой такая «техника», что от аппаратика оплавленный корпус тебе на память останется и ожоги, требующие стационарного лечения.
Волович торопливо вынул из нагрудного кармана диктофон.
— Всё, что нужно и можно записать, я тебе продиктую, а два часа бессвязного разговора всё равно правильно не расшифруешь. Сапёр сколько раз в жизни ошибается? — вдруг спросил Фёст.
— Один, — удивился Михаил.
— Неправильно. Два. Первый раз — когда решает идти в сапёры. Журналист — то же самое.
— Ты меня даме представлять будешь? — ушёл от темы Волович.
— Непременно, хотя в данный момент это не столько дама, как мой куратор, а то и «ревизор с чрезвычайными полномочиями из самого Петербурга», то есть, конечно, из Сан-Франциско…
Людмила сделала протестующий жест.
— Чудно, чудно! Не из Сан-Франциско. Из Моршанска… Впрочем, пожарной охраны, которую я в настоящий момент представляю, это не касается.
Волович вежливо хихикнул, а Людмила не поняла, книгу почти столетней давности, да ещё и из чужой реальности, ей прочесть пока не пришлось, но всё равно решила, что раз это говорит Вадим, значит, особый смысл в его словах есть.
Ляхов тем временем продолжил представлять Вяземскую, может быть, даже чересчур подробно. Словно собирался её Михаилу в секретарши рекомендовать.
«А чёрт его знает, вдруг да именно так? — подумал тот. — С него станется надсмотрщика ко мне приставить. Вот только зачем?»
— Так вы и в Парагвае жили?! И именем вашего прадеда улица названа! Изумительно. Теперь в Россию вернулись, чего ваши предки раньше и предположить не могли. Через Америку! Можно сказать — мистическим путём и с мистическими целями, раз в одной организации с Вадимом работаете. Да об том роман написать можно, я ведь не только журналист, я литератор по преимуществу… Займёмся? Гонорар пополам, а я гонорары выбивать умею. Сразу на русском, английском…
— И парагвайском издадите. Отставить, Миша, — чуть-чуть сыграл голосом Ляхов. — Все вопросы практического характера — только ко мне. Люда пока просто изучает русскую жизнь. И ещё не усвоила, что у нас в некоторых местах снимать «изолирующий противогаз» смертельно опасно.
— Это ты о чём? — насторожился Волович.
— Что у нас атмосфера психологически ядовитая, как ты сам неоднократно писал в своих эссе. Вроде как в Чернобыле. И юная девушка, патриархально воспитанная, пока воспринимает страну предков как некую антитезу возлюбленной тобою Америки. Мой долг — не дать ей разочароваться. Я понятно выразился?
— А то она сама не увидит, что здесь на самом деле творится, — скривил губы журналист.
Они говорили так, словно Людмилы рядом вообще не было, хотя Волович то и дело посматривал на её отражение в зеркале и никак не мог сообразить, зачем она пришла на встречу в коротких, обтрёпанных по низу шортах и то и дело приоткрывающей голое тело майке. Впрочем, о посещении ресторана разговора ведь не было, это Михаил в последний момент решил.
— Если человека целенаправленно не прессовать, то он увидит именно то, что настроен увидеть, а не то, что ему будут навязывать. Но мы отвлеклись. Надеюсь, помнишь наш предыдущий разговор?
Ещё бы Воловичу не помнить. И заработал он тогда сразу с нескольких сторон весьма прилично, в рублях и валюте, но и страхом проникся. Тем самым, о котором ему Ляхов намекал. В чужих играх участвовать можно, если бодр и крепок духом, как герои Джека Лондона, Киплинга и Конан Дойля. Если с духом слабовато… Несколько раз ему снился навеянный словами Вадима кошмар: кто-то (неважно кто, скинхеды, махновцы, восставшие пролетарии) тащит его волоком по праздничной, всей во флагах и лозунгах Тверской. Бьют безжалостно и кричат в лицо матерно: «Слушайте музыку революции!» Всей же музыки — несколько здоровенных черных автомобилей, у которых от бухающих звуков какого-нибудь «Рамштайна» ритмично поднимаются крыши. Потом вдруг возникал из ниоткуда сам Александр Блок и в дополнение к предыдущим словам назидательно поднимал худой палец: «Но вы ведь заметили, любезнейший Михаил Львович, в белом-то венчике из роз всё равно Исус Христос (Христа он отчего-то называл по-старообрядчески)? Гораздо легче умирать, если он лично расстрелом командует, согласны?»
После этих слов Волович всегда просыпался весь в поту, с невероятной тахикардией, жадно, расплёскивая, пил с вечера приготовленную водку, не пьянел, но успокаивался и кое-как засыпал. А с утра шёл заниматься привычной работой. Деньги ведь нужны сегодня, а о Блоке можно и историко-литературное произведение слудить, страниц так на девятьсот. На основе личных, можно сказать, впечатлений.
От денег, щедро «пожертвованных» Ляховым, оставалось ещё довольно много, хотя Михаил вообще не понимал, за что он их получил. Кое-что (но именно кое-что) он использовал в своих публикациях, и здешних, и написанных для зарубежных изданий, и тоже заработал. А ведь обычно фрилансеры сами платят за ценную информацию. Информация, полученная от «парапсихолога», была ценной до чрезвычайности, причём моментами — именно выходящей за пределы возможного. Временами Михаилу вдруг хотелось бросить всё и попроситься на работу к Ляхову.
Чего лучше — гороскопы составлять, футурологией заниматься и не думать о мирских делах.
Но отказаться от привычных полусотни тысяч долларов в месяц, складывавшихся из грантов и всяческих гонораров, а главное — от возможности ощущать себя «властителем дум» и почти ежедневно мелькать по телевизору в самых разных программах — было выше его сил.
— Вам что налить? — спросил Волович у Людмилы, пробегая глазами по бутылкам очень неплохих водок, коньяков и вин на столе.
Она сказала — что.
Шерсть на загривке у Михаила приподнялась. О таких винах он слышал, но заказывать? Это Абрамович, кажется, под стоевровую закуску употребил в Ницце с приятелями коллекционных вин на семьдесят тысяч. Так ему что — исчезающе малая доля от процентов с процентов.
Тут не та сумма, но всё же…
— Закажи, закажи, если есть, — успокоил его Вадим. — Я ведь всё равно плачу, тебе право меня угощать ещё заработать надо. Если у них нет — пусть в ближайший магазин пошлют. Только без туфты. У Люды в Штатах за такие дела срока больше, чем у нас за убийство. А нам коньячку давай, по сто сразу. Разговор тяжёлым будет.
Что тяжёлым — Волович сразу догадался. Ему даже неинтересно стало смотреть на Вяземскую, если б даже она решила станцевать что-то восточное, типа «танца живота». Хотя какой там у неё живот?
— Ты помнишь, Миша, говорил мне недавно, что за миллион долларов способен устроить в Москве «цветную революцию» почище украинской или грузинской?
— Я? — искренне удивился Волович. Ему смутно помнилось, что разговор завёл как раз Ляхов или даже его американский брат, вроде имевший отношение к Госдепартаменту, а то и ЦРУ. Впрочем, они тогда были сильно выпивши. Вот о миллионе долларов, которых хватило бы, чтобы вывести на улицы десяток тысяч бунтарей, речь шла. Но тоже вполне теоретически.
— Не я же, — жёстко ответил Ляхов. — Давай больше не станем валять дурака, по принципу: я знаю, что ты знаешь, что я знаю… Людмила — где-то мой куратор, а где-то и ученик. Кстати, весьма интересуется силами, что всегда переворачивают бутерброды икрой вниз…
— Маслом, — тупо поправил Волович.
— Я уже забыл, когда бутерброды с маслом ел. В далёком детстве, пожалуй. Так вот, сеньорита Вяземская может тебе сейчас представить списки всех людей, с кем ты беседовал после встречи со мной, и распечатки всех разговоров. Заранее предупреждаю — моральная оценка твоих действий меня не интересует. Зато я знаю, кого они, то есть действия, заинтересуют. Одни люди мыслят в рамках кодексов с определёнными статьями, а другие, и ты знаешь, кто именно, решают вопросы «по понятиям». А там «стук» в редких случаях «опусканием» ограничивается.
— Зачем ты мне это говоришь? — из последних сил держа себя в руках, спросил журналист. — Любой подобный разговор, даже если на воровской «стрелке» происходит, должен на какой-нибудь позитив выходить.
— А чтобы ты, если ещё долго и красиво пожить хочешь, продолжил делать то, что тебе так нравится, а меня моментами развлекает.
— Я разве против? Но хотелось бы конкретнее.
Пока Людмиле принесли её вино, они с Фёстом выпили уже по третьей.
— Я тебя видным деятелем антигосударственного подполья не считаю, хотя по твоим статейкам это очень легко вообразить. Не та ипостась, для понимающего человека. Просто болтун, оседлавший хлебную тему…
— Ну, ты уж слишком. Я и обидеться могу.
— Ты? На меня? Да ни за что. Зато я совершенно достоверно знаю, что ты имеешь выходы на массу дураков, и не только дураков, которые твою болтовню воспринимают всерьёз. Просто у них воображения не хватает сообразить, что можно так самозабвенно агитировать, не веря ни в бога, ни в чёрта. Тем более — факты-то у тебя обычно достоверные. Интерпретация — другое дело. Тебя, например, не совсем правильно восприняли те воры, которых ты, словно бы в шутку, под автоматы спецназовцев подвёл. Я должен заметить, они не только тонких интеллектуальных игр не понимают, с чувством юмора у них тоже плохо. Какой, на хрен, юмор, если ты кое-кому сказал, будто в кабаке от одного мужика слышал, что вроде бы на генеральской даче «стрелка» намечается, и хозяин, вопреки договоренности, собирает туда много вооружённых людей… Действительно смешно без проверки это за чистую монету «схавать». Но так и получилось. Но это мне смешно. А «по понятиям», сейчас все те трупы — на тебе. Твоё, Миша, счастье, что ни один из тех, с кем ты говорил лично, не выжил. Но я знаю тех, кто по-прежнему этой историей интересуется. Продолжать?
Волович понял одно — непосредственная опасность именно сейчас ему не угрожает, но на крючке у Ляхова он сидит прочно. Хорошо, крючок этот не воровской и не чекистский. А с других, бывает, отпускают, и даже с хорошими деньгами, если не заигрываться.
— Знаешь, я решил тебе ещё одну шуточку подкинуть. По моим данным, «прямо сегодня, вечером или ночью», как выразился В. И. Ленин двадцать четвёртого октября достопамятного года, должен начаться антиправительственный переворот. Не революция, цветная или ещё какая-нибудь, а простенький верхушечный переворот. Пронунсиаменто. Достоверности в моём ясновидении столько же, сколько в истории с дачей…
Волович напряжённо слушал, пытаясь заранее сообразить, куда гнёт Ляхов и к чему вообще весь этот разговор.
— Я знаю, что ты нынешнюю власть ненавидишь со всей мощью чужого кошелька. Лично тебе на неё наплевать, как и на всякую другую, пока тебе «бабло рубить» не мешают. Причём ты подсознательно знаешь, что при любой другой власти тебе будет гораздо хуже. Даже если представить себе самую раздемократическую, как в Швейцарии, во главе с честнейшим интеллигентом, вроде Каспарова. Тебе не подойдёт — если она в первые недели не развалится, ей всё равно придётся убедить или заставить людей работать, в полную силу и за «зарплату, не превышающую зарплату среднего рабочего»! Иначе никаких заявленных целей «демократическая» власть не выполнит, и её сменит диктатура, при которой вообще не забалуешь…
Людмила сдержанно хихикнула. Она помнила этот тезис из «Государства и революции» Ленина и мысленно приложила его к сидящему напротив неё роскошному мужчине. Бледно по сравнению с ним смотрелся даже пресловутый «красный граф» с картины Кончаловского «Алексей Толстой за обедом». И пересадить его сейчас в общую рабочую столовую, к алюминиевой тарелке с приготовленными по единому для всей России ГОСТу щами. Едва тёплыми.
— Если бы я был не прав, — продолжал витийствовать Фёст, — что бы тебе следовало делать, получив от меня эту информацию? Прыгать от радости, что кроваво-застойный режим (вообще-то оксюморон получается, ты не заметил?) буквально завтра рухнет, и всё случится, как ты проповедовал в одной из последних статеек. «Пусть даже на место нынешнего болота придёт истинно великое зло! Только в борьбе с настоящим злом из нынешней серой обывательщины смогут выковаться настоящие пассионарные бойцы за достойное будущее!» Что-то в этом роде. Тот же пролетарский пафос — «Пусть сильнее грянет буря». Правда, советский агитпроп сумел ловко организовать подмену. Алексей-то Максимович Горький-Пешков не певцом пролетариата был, а как раз босяков и люмпенов, и их философию на щит поднял, ибо во время смуты и бури мародёрам самый сенокос…
— И к чему эта речь Цицерона против Катилины? — блеснул эрудицией Волович. — Давай поконкретнее. Переворот, говоришь? Какой, в чью пользу? Какие там, с точки зрения истмата, движущие силы? Я, убей меня, не представляю, кто бы сейчас мог, да и согласился прийти к власти таким вот образом. Не Тунис у нас, не Пакистан, не Украина даже…
— Насчёт «убей» ты бы словами не бросался. Убить очень даже могут. И в профилактических целях, и просто случайно. Я, скажем, достаточно точно знаю, что примерно час назад прошла команда по аэропортам — воспретить пересечение границы ряду лиц согласно проскрипционным спискам. Есть в них лично ты или нет — мне сие неведомо. Но если сегодня решили задержать лишь кое-кого, завтра границы могут закрыть наглухо. Все и для всех. В банках — как весной девяносто первого года — с книжки снять можно только пятьсот рублей, раз в месяц[55]. И тогда тебе вместе с десятками тысяч «состоятельных людей» только как Остапу — с заветным пудом золота через ближайшую границу. Безопаснее всего в районе Таганрога, там постов мало, по балочкам, по балочкам — и уже в незалежной… Если прямо на погранполосе не разденут до нитки. А если и разденут! Свобода, как известно, приходит нагая…
Волович заметным образом помрачнел. Вся беда в том, что для него, знающего историю и текущую обстановку, слова Ляхова выглядели отвратительно правдоподобно. Хлопнул ещё рюмку, не в очередь, как бы машинально, и тут же налил ещё.
— И с этим ясно, но на главный вопрос ты пока не ответил. Кто и зачем?
— А как в шестьдесят четвёртом с Хрущёвым или в девяносто первом с Михаилом Сергеевичем. «Здоровые силы партии». Больше скажу — нынешний путч может и вообще без замены «первого лица» проскочить. С ныне существующим «работу проведут», и будет он совсем другую программу реализовывать до очередных выборов или дольше. Криптократия — тебе такой термин понятен?
— Ещё бы. Но всё равно — чего ты лично от меня хочешь? Именно сейчас. Тебе что, больше обратиться не к кому?
— Да с этим конкретным вопросом вроде и не к кому. Снова к теме «цветной революции» возвращаемся. Ты говорил вполне определённо, что знаешь людей, которые за приличные деньги готовы вывести на улицы десятки тысяч людей. Как на Манежную, если взять ближайший отечественный пример. Вот на этих карточках, — Фёст полез в карман, достал и показал четыре «платиновых» «Визы», — как раз пресловутый миллион долларов и евро. Отдам и расписки не спрошу. Нам с Людой просто интересно — хватит ли у тебя связей, чтобы за такие деньги вывести на улицы Москвы несколько десятков тысяч человек? Всё равно кого — лимоновцев, скинхедов, футбольных фанатов, пенсионеров, недовольных своими пенсиями. Лучше — всех сразу. Каспаровцы, касьяновцы, «Молодая гвардия», коммунисты — тоже подойдут. На Тверскую, площадь Революции, Красную… Лозунги — любой стилистики, но в том смысле, что в поддержку нынешнего Президента, против хунты и вообще «за свободу». До завтрашнего утра всю работу проведёшь, а я к тому времени надеюсь и списки верхушки мятежников подготовить, и их программу выяснить. Не декларативную, а настоящую…
Мне всё равно, что и кому ты врать будешь, главное, чтобы сам понял — при новой власти лучше не будет. Не Брежнев и не Янаев к власти рвётся. Пиночет — это в самом лучшем для вас случае. Если первые дни упустить — потом ничего не сделаешь. Попервоначалу «мировое общественное мнение» вас ещё поддержать может, а если новая власть консолидируется, с кем нужно договорится, и всем мечтам о «светлом будущем» — крышка. Я, может быть, тоже наивность проявляю, но хочется верить: люди, массы людей, одни за деньги, другие от души, пока способны на историю повлиять. Вспомни, ты же должен помнить август девяносто первого!
Людмила тонко улыбалась, маленькими глотками смаковала вино, поощрительно посматривала на Воловича.
— Есть надежда, что организаторы заговора могут растеряться, потерять темп, если на улицы выйдет «очень много людей», мирно и без оружия. Чем Россия хуже, чем Тунис, Египет, Греция, да и та же супердемократическая и законопослушная Англия? Главное — чтобы демонстранты удержались от немотивированного насилия и погромов. Вот за это и будут деньги уплачены. Сколько ты из них себе возьмёшь — меня не касается. Хоть половину. Главное — чтобы работа была исполнена. Хочешь — для должной солидности с тобой Людмила пойдёт? По всем адресам. Никаких телефонов, только лично. И платить будет она. Кэшем[56]. Кому сколько скажешь.
Волович сначала подумал — какая же при её внешности солидность? Только минутой позже сообразил, что в предлагаемых обстоятельствах — та самая. Красавица, одетая без оглядки на московский стиль, как привыкла ходить по улицам Сан-Франциско, говорящая на понятном, но ломаном русском, с наплечной сумкой, доверху набитой валютой — самое то. На провокацию МГБ, да ещё в его присутствии — никак не потянет.
— Да ты, Миша, не мандражи, — неожиданно сказала Людмила. — Тебе вообще бояться нечего. Я — американка из «паранормального общества», вполне законно зарегистрированного в России. Въехала сюда по визе, подробно изложив цели своего здесь пребывания. Ответственность за меня, в том числе и финансовую, взял на себя Вадим Петрович, и частично — американское посольство. Я буду проводить «полевые эксперименты» — возможно ли только парапсихологическими методами устроить «флэш-моб» с привлечением людей, не только к подобным забавам не склонным, но придерживающимся совершенно противоположных политических взглядов. Твоя, Миша, вина, в самом худшем варианте, будет заключаться в том, что ты познакомил с сумасшедшей американкой еще несколько психов «местного разлива». А деньги? Дурак будет тот, кто в их получении признается.
У Воловича было тяжело на сердце. Слова Ляхова и его подруги не успокаивали, скорее наоборот. От такого не отмажешься ссылками на дурацкие исследования. В случае чего и на «вышку» потянет. И безотчётный миллион долларов смелости не прибавлял. Чёрта с два им успеешь попользоваться.
Надо отыгрывать назад, даже рискуя «потерять лицо». Что с того лица, не в Китае живём, а цивилизованные американцы говорят: «задница дороже».
— Но это ведь только при условии, что нас не возьмут с поличным? — задал он подготовительный вопрос.
— А как ты себе это представляешь? На практике? — удивился Фёст. — Скажем, через полчаса ты встречаешься с человеком, который «смотрит» за всеми футбольными фанатами. Тебя, журналиста, интересуют перспективы сезона, договорные игры, заказные драки… Убедившись, что вокруг чисто, ты делаешь «то самое предложение». Насчёт повода пусть думает товарищ, взявший у тебя деньги. После фанатов — беседа на бульваре хоть даже с самим Лимоновым. Так вот — для Лимонова персонально — сколько у него «активных штыков» есть, пусть все к компьютерам садятся и начинают народ собирать. Если он не врёт и только в Москве у него под сто тысяч сторонников — пусть выведет в пределы Садового хотя бы половину. Лозунг один: «Имперской России русского императора. Президент, мы с тобой!» За один лозунг, написанный любой краской на любом транспаранте, при условии его нахождения в городе до полудня — по сто баксов. Желающие получат рублями. Говорят же, что по Сети можно миллионные толпы на площадях собрать, хоть под пули. У нас пуль не будет, только «флеш-моб». И у ментов с омоновцами тоже «флеш-моб». Опять же как в августе девяносто первого. Если ваши не начнут первыми, их никто не тронет.
— Вадим, — по-прежнему игнорируя Людмилу, видимо надеясь, что с ней успеет пообщаться позже, сказал Волович. — Я успел понять почти всё. Выпьешь ещё?
— Запросто, — согласился Вадим, — вот тебе бы не помешало чуть тормознуть. Пьянка форс-мажором не считается.
— Пустяк. При моём организме… Я за обедом под хорошую закусь пол-литра потребляю и за руль сажусь.
— Дело хозяйское, то-то в Москве ближе ста километров и места на приличном кладбище не найти, а совсем недавно всех желающих на Новодевичьем хоронили…
— Ты всегда как скажешь, — покривился Волович. Опрокинул стопку, принялся разделывать лобстера, каковое искусство Фёст так и не постиг.
— Ну скажи ты мне, наконец, правду. Я же не поп Гапон, меня «втёмную играть не надо». В чём тут фишка? Ты же не «цветную революцию», в натуре, затеваешь? Не выйдет в России. Сутки-двое мордобоя в столице, за это время серьёзные люди, не отвлекаясь, решат свои дела, а потом, как всегда, приедут мрачные ребята на грязных БТРах из Вологды или даже Ростова. Их не сагитируешь, хоть вся демократическая тусовка цепью под колёса станет. Почему я эту страну так ненавижу — ничего в ней невозможно! В Тунисе можно, в Египте, в Пакистане…
Волович выругался. Вадим с Людмилой переглянулись.
— Не нравится он мне, — сказала Вяземская, тоже как бы игнорируя смотрящего ей в глаза Воловича. — Давай ему билет в Исламабад купим, и пусть он там свободу слова среди трудящихся Востока насаждает… Вот уж где никакого застоя и предсказуемых выборов!
— Нет, ну вы, ребята, прямо шуток не понимаете. Вот я — понимаю. Поэтому считаем, что все вволю пошутили и тему пора закрывать. Ни на что подобное я никогда не подпишусь. Вы бы себя со стороны послушали — ну, чистый бред. Даже с позиций элементарной логики, если политику в стороне оставить. Если у вас действительно лишний миллион имеется — потратьте его с большим толком. Можете мне грант выписать, я вашу контору во всех СМИ пропагандировать буду, на высоком художественном уровне…
Видно, что он явно доволен. Нашёл в себе силы сказать всё, что хотел, и даже с юмором, не показав себя банальным трусом. Не сошлись во мнениях насчёт методов политической борьбы — всего лишь!
— Я, собственно, ничего другого и не ждал, — совершенно спокойно сказал Вяземской Фёст. — Это только в статейках легко и приятно писать о неизбежности беспощадной борьбы с прогнившей антинародной властью. Одним словом — очередная нечаевщина, словно даже в средней школе историю не учил. А ещё вернее расчёт, что на его пассионарные призывы никто не откликнется, и можно будет продолжать прежнее уютное существование.
В это время Людмила отошла к окну, позвонить Герте.
— У наших пока всё нормально, доехали, — сообщила она, вернувшись. — «Помощников» по пути подобрали. Нас поторапливают. Мы были правы, что-то готовится. Президент сказал, что телефоны у него звонили раз десять, всякие, и с первой АТС, и со второй. И сотовые разрываются. Хорошо, на этот раз ему характера хватило, ни разу не взял и помощников не принимает.
Фёст представил, каково Президенту было кругами ходить по своим апартаментам и ждать, поглядывая на коллекционные ружья и винтовки в полированных шкафах. Ждать, надеяться, что помощь придёт вовремя и всё разъяснится. Никак он не мог не думать о судьбах Альенде, Хафизуллы Амина, Горбачёва, Наджибуллы, тоже преданных ближайшим окружением, а Михаил Сергеевич — даже и телохранителями.
Но раз сумел до сих пор продержаться, значит, через полчаса и с остальным проблем не будет. Предугадать бы теперь следующий шаг заговорщиков. Приезд на дачу Контрразведчика и Журналиста их едва ли напугает, скорее обрадует. Все птички сами собрались в одной клетке. А Герту вполне могут принять за Вяземскую, вряд ли вообразят, что Журналист, вырвавшись из кольца чекистов с помощью одной женщины, кинется на президентскую дачу уже с другой.
— Значит, и нам пора, — сказал Фёст, вставая. — Ну, стременную… — налил всем «по крайней» рюмке, недопитую бутылку коньяка сунул в карман. — Ты с нами поедешь, Миша, — без вопроса, вполне утвердительно сообщил он Воловичу.
— Куда это? И зачем?
— Не захотел лично в деле поучаствовать, со стороны посмотришь, как теперь делается история, — усмехнулся Ляхов. — Она, между нами говоря, делается непрерывно и ежечасно, но иногда — чрезвычайно наглядно. Гарантирую, что материал у тебя будет настолько эксклюзивный… До конца дней хватит пенки снимать. Начнёшь с очерка, закончишь романом-эпопеей. С Президентом лично познакомишься, а тех, кто оказывается в одном окопе, не забывают. Зря, что ли, все, кто воевал рядом со Сталиным под Царицыном, дожили до глубокой старости и умерли в своей постели… Фотоаппарат есть?
— В редакции есть…
— Заедем — возьмёшь. Чтобы не сбежал, Людмила при тебе будет.
Захваченный водоворотом событий и подавленный напором воли Вадима, Волович не пытался возражать. Да и интересно вдруг стало, способен ли он действительно на что-нибудь, кроме давно приевшейся болтовни в компаниях, где готовы были слушать его, как гуру. И уж тем более надоело выслушивать инструктажи, как и что писать, от грантодателей, обеспечивавших его финансовую независимость и «творческую свободу».
— Да и поехали, — залихватски взмахнул рукой репортёр, — сам посмотрю, о чём ты так вдохновенно врал битый час.
Отходя от стола, рассовал по карманам нераспечатанные бутылки виски и водки. Мало ли что ждёт впереди.
Фёст сидел за рулём, что-то тараторящий от прорывающегося возбуждения, Волович — рядом, Людмила села сзади и возилась с предусмотрительно прихваченным с собой Шаром. Даже Вадим не заметил, как она его с собой взяла, и теперь у неё был инструмент, не всемогущий и не настроенный на работу в этой реальности, но всё равно полезный. Чтобы проявить все свои качества аналитически-прогностического комплекса, «Селесты» и «КРИ»[57], Шар должен быть специально отлажен, сориентирован на работу внутри данной ноосферы, со всеми присущими ей волновыми характеристиками, сильно отличающимися в любых параллельных реальностях, даже таких близких, как эти. Иначе это будет похоже на попытки использовать телевизор системы «Секам» в сфере действия любой другой.
И всё же кое на что он пригодиться может, например на извлечение оперативной информации, содержащейся на стабильных носителях, и для отслеживания действий и намерений людей, на которых есть должный массив «установочных данных».
— Вадим, — сказала Людмила, отрываясь от манипуляций с прибором, — мы не ошиблись. Акция «Форос-2» уже началась и входит в острую фазу. Сейчас мы кое-что увидим…
— О чём речь? Какой «Форос»? — отреагировал на её слова Волович.
— Сказано же — увидим. Ты лучше свой яркий пиджачок сними, а то больно в глаза бросается. Целиться в такой объект — милое дело, — бросил сквозь зубы Фёст, сосредотачиваясь.
Михаил без сопротивления снял фирменный твидовый пиджак в красную и жёлтую клетку, под ним была нормальная светло-бежевая рубашка. Он отцепил бейджик с надписью «Пресса» и начал пристраивать его на нагрудный карман.
— Не стоит, пожалуй, — заметил Фёст. — В таких делах журналистов первых отстреливают, реклама этим ребятам не нужна…
— Хрен знает, в какие дела вы меня втянули!
— Ничего, — успокоил его Ляхов. — Хемингуэй с Симоновым и не в таких переделках бывали, отчего и прославились. Настоящему журналюге без войны нельзя. Такой же нонсенс, как бандерша-девственница. Я тебя в случае чего собственной грудью от пули прикрою, не впервой. Ты лучше скажи — неужели действительно ваша братия ничего не слышала о сегодняшнем инциденте на Каретном? Десять слов дикторша по «НТВ» сказать успела, и как отрезало. А остальные где? Хотя бы «Эхо Москвы», они и в два прошлых путча[58] бесстрашно себя вели…
— То сообщение и я слышал, — будто впервые начиная задумываться о некоторых странностях этого дела, ответил Волович. — Ребята было засуетились, а потом, буквально через пятнадцать минут, бригада и выехать не успела, лично главный вышел и сказал, что ничего не было, какой-то хулиган дымовую шашку на улице бросил, и «нагнетать» по этому поводу «не рекомендовано».
— Ух, как лихо! — восхитился Фёст. — За пятнадцать минут тема с повестки снята. Так вы же вроде — непримиримая оппозиция, вам-то кто мог приказать? Вы же, по вашим собственным декларациям, ни бога, ни чёрта не боитесь, вам и Президента, и всю Российскую державу обгадить — раз плюнуть. Уж как по поводу «войны восемь-восемь» изгалялись! А тут кто-то два десятка гэбэшников и омоновцев посреди Москвы шуганул как следует, а вы — ни гу-гу.
Волович издал губами пренебрежительный, на грани пристойности, звук. В том смысле, как у Салтыкова-Щедрина написано: «Мы люди русские, мы такие вещи сразу должны понимать». А если Ляхов желает придуриваться — вольному воля.
— Вопросов больше не имею, — с готовностью согласился Фёст. — А вот девушка, что позади тебя сидит, как раз в этом деле главную роль сыграла, и попадись она «им» в руки — не знаю, что бы сейчас было…
Михаил непроизвольно обернулся. Вяземская мило улыбнулась и кивнула. При этом взгляд у неё был такой, что Волович поверил сразу и на сто процентов. Ему по-прежнему было страшновато, но одновременно в душе начала подниматься волна весёлого возбуждения пополам с любопытством. Любопытством не к тому, что может вскоре случиться, а к тайнам собственной натуры. Сумеет ли он в действительно серьёзной ситуации держаться с достоинством и даже бравадой. Ведь трусом он никогда не был, и драться в молодости приходилось, и по горам без страховки карабкаться, вспоминая песни Высоцкого из «Вертикали».
— Вот оно, — ровным голосом сказал Фёст, начиная подтормаживать вместе с потоком машин. Они как раз подъехали к развилке Ленинградского, Машкинского и Новосходненского шоссе. Здесь собралось несколько милицейских машин, перегородивших две правые полосы, суетилось много людей в форме и в штатском, а за кюветом догорал большой мини-вэн, почти вывернутый наизнанку.
— РПГ, — бесстрастно оценил Ляхов. — Пожалуй, термобарическая граната…
Волович опустил стекло, его казённый «Никон» с мощным трансфокатором залязгал длинной серией, в темпе самозарядного карабина.
Сразу два сотрудника в камуфляжах, но без погон, увидев совершенно здесь неуместного фотографа, кинулись к машине, размахивая руками и что-то крича. Один, кажется, на ходу расстёгивал пистолетную кобуру. Репортёр втянул голову в плечи, но продолжал снимать, теперь уже бегущих прямо в объектив людей. Снимочки выйдут — закачаешься! Хоть сразу на «Интерпресс-фото». Включился профессиональный азарт пополам с надеждой, что Ляхов его защитит. Как это может выглядеть, он не задумывался. Просто ему так казалось.
— Люда, давай «растянутое»… — крикнул Фёст. Вяземская давно была готова.
Потом Волович никак не мог последовательно восстановить случившееся.
Сначала вроде как удар подушкой по голове. Так они дрались с пацанами ещё в пионерских лагерях, куда родители до самого конца советской власти отправляли Мишу каждый год, бывало, что и на две смены. Не больно, но ориентацию на какой-то миг теряешь. Потом зрение вернулось, но показывало странное. Мир вокруг застыл, словно киноплёнка в проекторе остановилась. Бегущие люди замерли в нелепых позах, автомобили встречного потока, только что мелькавшие довольно быстро, стали все разом.
И ещё — в ушах нарастал не то свист, не то скрипучий шорох, такое с Воловичем было, когда случился гипертонический криз. Одновременно ощущалось нечто вроде невесомости при стремительном падении скоростного лифта.
Фёст спокойно вывел свой «Фольксваген» на двойную сплошную и по пустому коридору между потоками машин придавил как следует. Стрелка сдвинулась за сто сорок.
— Вадим, осторожнее, — сказала Людмила. — Если на дороге что-то подвернётся, резерва у нас больше нет. Заднего хода тоже.
— Да уже и хватит. Подожди, я дырку найду, куда втереться, и выключай.
Через несколько километров, когда скорость по спидометру упала до полусотни, Фёст увидел довольно длинный интервал между чёрным джипом и междугородним автобусом, резко принял вправо, включив, как положено, поворотник. И всё равно, хоть он его и не подреза́л, водитель автобуса возмущённо загудел, видимо, с перепугу. Со стороны их появление выглядело так, будто гоночный болид на трёхсоткилометровой скорости вылетел ниоткуда и мгновенно вклинился в поток, превратившись в неторопливый старенький «Пассат».
Впрочем, такое со всеми случается — отвлекся на секунду и прозевал появившуюся из «мёртвой зоны» зеркала машину.
— Что это было? — переводя дух, спросил Волович, вытащил очень к случаю припасённую бутылку, свернул пробку, несколько раз шумно глотнул.
— Что, на реактивных истребителях летать не приходилось? — сочувственно и, как принято в определённых кругах, вопросом на вопрос ответил Фёст.
— Не держи меня за дурака. Что — это — было?!
— Наш способ отрываться от неприятеля. Ты ведь сам почувствовал, что те ребята бежали именно к тебе с самыми недобрыми намерениями? Потерей фотоаппарата ты едва бы отделался, если здесь только что нескольких сотрудников их же конторы в головешки спалили. Это тебе не Людины упражнения с дымовыми шашками. А она у нас ещё и в телепортации практикуется. Перспективное направление оборонной магии. Сейчас, на наше счастье, у неё хорошо получилось. Не совсем чисто, но приемлемо. На восемь километров, — он бросил взгляд на одометр, — перепрыгнули. Здесь не догонят. А дальше побережёмся. Посмотри на снимки, номер сгоревшей машины где-то в кадр попал?
Волович, продолжая ничего не понимать, подчиняясь совершенно механически, посмотрел.
— Вот здесь, только не весь, — он присмотрелся, прибавил на дисплей увеличение, — «Гэ — четыре — пять…» и всё. Остальное не читается.
— Достаточно. Люда, звони Герте, сообщи. Скажи, мы скоро влево сворачивать будем, пусть укажут, где нас встретят…
Когда Герта передала всем то, что услышала от Вяземской, и назвала часть автомобильного номера, Мятлев посерел лицом, длинно и тоскливо выругался. До сих пор серьёзность положения до него так по-настоящему и не доходила. До генеральских звёзд дожил, а со смертью от выстрела в спину до сих пор не сталкивался, с предательствами соседей по кабинету и, условно говоря, по окопу. Вся кровь и грязь борьбы за власть и лёгкое, с пылу с жару богатство прошли как бы мимо него. Леониду Ефимовичу будто сами собой доставались обычная, по специальности, работа да банальные подковёрные интриги.
А сейчас он почувствовал себя как генерал Павлов[59], лично увидевший заходящие на цель немецкие бомбардировщики.
— Хорошие парни были. Надёжные, а я их, получается, на смерть послал. А вы ведь меня предупреждали, — сказал он Секонду, сдерживая дрожь в голосе. — До конца не верил, мудак старый, контрразведчик долбаный, что они и со своими так могут! Но я, бля, узнаю, кто приказал и кто исполнял! Посчитаемся!
— Чего там узнавать, Людка с Вадимом приедут, тут всё и узнаем. И имена, и адреса с фотографиями иметь будем. А уж час мы продержимся.
Мятлев, продолжая сквозь зубы материться, пошёл по ковровой лестнице на второй этаж, докладывать Президенту. Журналист остался.
— Если машину расстреляли только что, зная, что группа ожидает Мятлева, не подозревая, что мы поехали другой дорогой, логичнее всего предположить, что теперь киллеры выдвинутся ещё ближе к городу, чтобы до места засады перехватить, — начал он свои рассуждения, основываясь на логике «здравого смысла» и прочитанных книжках соответствующей тематики. — Значит, в засаде потеряют полчаса-час, пока не сообразят…
— Не факт, — перебил его Секонд. — С чего ты взял, что работает всего одна группа? Эти спалили охрану и ждут генерала там же. Через милицейские посты он по-любому не проедет, если в багажнике не спрячется, так они рассуждать должны. Значит, и багажники смотреть будут. Цель в любом случае достигнута — Мятлев и десяток бойцов на дачу уже не попали… Они ведь ещё не убедились, а не был ли и ты сам в машине. По первому варианту ребята тебя должны были в центре подобрать!
Поэтому группа захвата или ликвидации «Первого» может работать спокойно. Если даже в охране дачи нет ни одного предателя, что та охрана может? Я бы взял на такой случай две роты омоновцев или собровцев поглупее, чтобы и не догадались, куда приехали и что вокруг происходит. Внешнее кольцо оцепления создать. А десяток снайперов с хорошими винтовками наших охранников в момент перещёлкают. В то время, как основные исполнители в открытую к воротам подъедут, при поддержки «Альфы» и спецназа ГРУ, не знаю, кто сейчас на их стороне…
— Очень возможно, — согласился Анатолий. — В Форосе так и было, генерал — начальник управления лично приехал с переговорщиками и всю охрану с постов снял. И связь отрубил… — Он очень хорошо помнил тот август по личным впечатлениям, а потом, пока тема была актуальной и к ней сохранялся интерес, прочитал массу статей и книг о «путче ГКЧП». — Можно думать, что нынешние те уроки усвоили, ошибок не повторят, манную кашу по столу размазывать не станут.
— Те уроки, может, и усвоили, — усмехнулся Секонд, — только самая распространённая ошибка — готовиться к прошлой войне. Им бы опыт покушения на Олега Константиновича использовать… — В ответ на непонимающий взгляд Журналиста пояснил: — У нас царскую дачу двумя батальонами чеченцев атаковали, при поддержке танков и авиации, предварительно заняв все ключевые точки в городе. Как им показалось…
— И ничего. Императора ты на днях видел живого и здорового, я тоже перед тобой стою отнюдь не в виде призрака, а трофейную технику из твоего мира наши оружейники изучают. И мы отобьёмся.
— Так что же мы теперь должны делать по-твоему? — несколько растерянно спросил Президент, выслушав Мятлева. Он ещё больше, чем генерал, был не готов безоговорочно воспринять грубые реалии жизни. Для него тоже подобные вещи или казались «делами давно минувших дней», или имели право происходить на далёкой периферии — в Ираке, Ливии, Кот-д’Ивуаре, Судане… Никто же не штурмует резиденции президентов и премьер-министров США, Великобритании, даже Италии, не ставит их к стенке. С Чаушеску[60] подобное случилось, так очень давно, почти не в этой жизни. В Латинской Америке и то последние двадцать лет бросили эту привычку.
— Защищаться! Как только (и если — сделал он на всякий случай успокаивающую оговорку), начнётся, мы будем отстреливаться, а ты обратишься к народу и армии. Назовёшь всё своими именами и, как Верховный Главнокомандующий, прикажешь армии, внутренним войскам, всем добровольцам из гражданских занять Москву, блокировать, как учил великий вождь, вокзалы, мосты, почту и телеграф, центры управления мятежников… — Мятлев вдруг почувствовал себя Бонапартом, приводящим к покорности термидорианский Париж.
— И как же я обращусь? — уцепился Президент за частность, уж очень не хотелось целиком и полностью принимать новую реальность, перечёркивающую всю прожитую жизнь и особенно последние годы, не всегда безмятежные, но так или иначе понятные, — по телефону, что ли?
— Ты забыл, что с нами человек оттуда? Как он в твоём телевизоре появился, так и ты сможешь.
— А чем защищаться? Пистолетами и коллекционными ружьями втроём против спецназа? Дворец Амина чуть не гвардейский батальон охранял, а наши его за час взяли…
Воспоминание о мутной истории с устранением куда более легитимного лидера революционного Афганистана, чем Бабрак Кармаль, оптимизма Президенту не прибавило.
— Во-первых, ты что, только меня и Анатолия считаешь? Нас уже не трое, а семеро, «великолепная семёрка», если ещё помнишь. Двое друзей полковника Ляхова — высококлассные профессионалы и прекрасно вооружены. Спустимся — познакомишься. Ну ещё и девушка, тоже не с пустыми руками, подготовленная лучше любого нашего «альфовца». Офицер личной гвардии Императора Олега.
При упоминании этого имени Президент досадливо поморщился.
— Если авиация нас вакуумными бомбами не приласкает, — подвёл итог Мятлев, — до подхода серьёзной помощи продержимся. Гарантирую!
На столе вновь зазвонил телефон прямой кремлёвской связи.
Мятлев взял трубку раньше, чем до неё дотянулся Президент.
— Слушаю! — ответил он, одновременно включая громкоговоритель.
— Это не вы? — назвал имя-отчество Президента незнакомый, резкий и уверенный голос.
— Нет, не он, это генерал Мятлев, начальник временной Ставки главковерха, — на ходу придумал себе должность генерал. Краем сознания подумал, что вот так настоящие дела и делаются. Назвал себя Первым консулом[61], пока другие бессмысленно суетились, как слепые котята, — так им и будешь! И он после победы на меньшую по статусу должность не согласится, как бы она ни называлась «в гражданском варианте». Хватит псевдодемократий, наигрались!
— Ух, как страшно, — донесла мембрана жирноватый, очень неприятный смешок. — А что командовать тебе, «начальник», больше некем — в курсе?
Мятлев зажал микрофон рукой, свистящим шёпотом приказал Президенту:
— Высунься на площадку, крикни Герту! Быстро, быстро, некогда раздумывать…
Снова включился в телефонный разговор:
— В курсе. За это кое-кому гарантированная «вышка», мы с «гуманизмом» с сего момента завязали! — Ему надо было тянуть время, вывести собеседника из себя, а то и запугать, сколь бы слабо ни выглядели со стороны его шансы.
Человек на той стороне снова рассмеялся. Ситуация его явно веселила. И он тоже не прочь был поддержать игру генерала, по другим, естественно, причинам.
— Ну-ну! Грозилась синица море поджечь…
Мятлев прокручивал в голове все голоса, которые когда-либо слышал, словно капитан-смершевец из «Августа сорок четвёртого» приметы немецкого диверсанта, и не мог никого подходящего вспомнить.
— Так что, позовешь «хозяина», или он и дальше голову в песок прятать намерен?
— У него сейчас дела поважнее есть, чем с таким дерьмом разговаривать. Ультиматум предъявлять собрался? Давай! Я уполномочен выслушать и принять решение. Твои условия?
В кабинет влетела Герта, остановилась в двух шагах с горящими от азарта глазами. На плече у неё стволом вниз висел автомат, не здешний «АК», а свой, штатный для спецгрупп «печенегов» «ППСШ», на основе обычного «ППС».
С этими конструкциями получилась крайне интересная история особенно для специалистов по развитию параллельных цивилизаций (если бы такие были). В своё время Шульгин, просто из интереса, глубоко модернизировал отечественный «ППС-43» для использования в реальности Югороссии-20, исходя из того, что патронов «маузер/ТТ» в том мире было сколько угодно в отличие от промежуточных патронов 7,62х39. И вдруг после контакта с Россией Секонда оказалось, что у них тот же Судаев (поскольку родился в 1912 г.) создал свой автомат, один в один по устройству и внешнему виду, только не в сорок третьем, а в пятидесятом году, в ответ на немецкий «МП-49». Правда, как и у нас, в крупную серию он не пошёл, армию вполне устраивали «ППД-45» и «ШКДШ[62] — 49», отдалённо похожий на немецкий же «шмайсер-47» и исполненный под единый патрон ТАОС «ПАР-48 лонг». Однако танкисты, десантники, артиллеристы, внутренние войска и другие спецподразделения с удовольствием использовали «ППС». Оттого, когда Секонд предъявил Чекменёву и Тарханову шульгинскую самоделку, её охотно приняли на вооружение императорской гвардии и прежде всего «печенегов». Запустить этот вариант в мелкую серию на ТОЗе, имея «ноу хау», не составило труда. Экспертами «ППСШ» был признан лучшим пистолетом-пулемётом в мире, идеальным для боя на коротких дистанциях и в закрытых помещениях.
— Я слушаю, Леонид Ефимович! — звонко доложила девушка.
Мятлев пальцем указал на её карман с блок-универсалом, на телефонную трубку, сделал движение, будто прикладывает портсигар к уху. Блок-универсал без наводки Шара не мог определить и показать собеседника с другого конца провода, но сам разговор записать, определить номер телефона и место его установки с точностью до расположения распределительного щита — свободно. Для начала этого достаточно, а выяснив это, тут же можно передать данные Вяземской в машину, она сделает остальное.
Герта понимающе кивнула.
— Кто ещё там у тебя? — подозрительно спросил голос.
— Твоё ли дело? Допустим — секретарша. Или любовница.
— Не из тех, что сегодня утром на Триумфальной гастролировала?
— А если и так?
— Имей в виду, второй раз эти штучки не пройдут. Если не договоримся — будем давить всей огневой мощью. Нам терять нечего, сам понимаешь. Кто начинает задумываться, всегда проигрывает.
Теперь изобразил смешок в трубку Мятлев:
— Я отчего-то привык считать, что не думающие проигрывают куда чаще. Короче — хватит болтать. Говори, чего хотел. Кстати, представиться не желаешь? Кто ты есть — главарь хунты или шестёрка-ретранслятор.
— Придёт время — узнаешь.
— Значит, до сих пор боишься, — удовлетворённо сказал Мятлев, — что ни хера у вас не выйдет и придётся ответ держать. Военно-полевой суд и расстрел с полной конфискацией имущества, вплоть до самых отдалённых родственников. Альтернатива — немедленная и безоговорочная капитуляция. Тогда — всего лишь лишение всех прав состояния и высылка за пределы РФ. Но непосредственные исполнители в любом случае ответят, не по закону, так по справедливости…
— Уж больно ты раздухарился, — ответил голос, и генералу показалось, что уверенности в нём поубавилось. — Помощи ждёте? Не будет вам помощи, никакой и ниоткуда.
Мятлев, наконец, сел в кресло, показал рукой, что Президенту и Герте тоже незачем стоять. Закурил.
— Действительно, заболтались, — сказал он, изо всех сил стараясь не выдать голосом, что он уже знает о судьбе своих людей. На это и намекал «собеседник». — Диктуй свой ультиматум. Решать-то всё равно не мне, я фигура техническая.
Ультиматум ни остроумием, ни оригинальностью не блистал. Президенту примерно через полчаса, от силы через час предлагалось встретить «парламентёров» и с ними согласовать все пункты распределения власти между членами «кабинета народного доверия». Номинально власть сохраняется за Президентом до следующих выборов, все перестановки будут иметь вполне законную форму, не вызывающую ненужных вопросов у «электората». Приблизительно, как это случилось в девяносто восьмом году с назначением вместо Кириенко, «киндер-сюрприза», правительства Примакова — Маслюкова. Тогда многим даже понравилось.
Все подробности будут обсуждены «в рабочем порядке». Проблем с Думой тоже не стоит опасаться. В стране ведь фактически ничего не произойдёт, вот и народные избранники продолжат работу в привычном режиме.
Ничто не ново под луной. Если бы здесь сейчас оказались Новиков, Шульгин, Ростокин, они бы только посмеялись, насколько чётко «предки» решили воспроизвести схему организации власти, реализованную «потомками» в «четвёртой реальности», 2056 года, реальности генерала Суздалёва и Виктора Скуратова. Впрочем, похожая система ещё полувеком раньше описана Лемом в романе «Эдем». Возможно, нынешние заговорщики были более прилежными читателями фантастики, чем Президент.
— Понятно. Мне в вашем раскладе места не находится?
— Не мандражь, что-нибудь найдём. Мы же не изверги какие, с нами по-хорошему, и мы добром ответим. Вон в Штатах так же получилось. Пробовал Обама подёргаться, самостоятельного политика поизображать, «Кеннеди» долбаный, ему быстренько всё объяснили, и теперь шёлковый ходит. «И никто не ушёл обиженный».
Точно, начитанный собеседник попался. А говорят ностальгирующие «шестидесятники»: «среди читателей Стругацких плохих людей быть не может». Ещё как может! Мятлев не считал себя настолько амбивалентным[63], чтобы признать противников хорошими людьми, просто мыслящими не в унисон с ним.
— Как я понимаю, в случае несогласия… Давай, до конца договаривай, чтобы недомолвок между нами не оставалось, — предложил Мятлев, глядя на Президента. Тот согласно кивнул, стараясь выглядеть мужественно-бесстрастным.
— Тебе что, для протокола мои слова нужны? — спросил собеседник, наверняка сейчас нервно поглядывающий на часы. Могла уже дойти до него информация о прорыве неизвестной машины через посты на месте ликвидации опергруппы Мятлева. И, соответственно, осложнялся вопрос с прибытием делегации. Чёрт его знает, кто прорвался, как и зачем. Потянуло запашком с Каретного Ряда, что ничуть не лучше запаха серы для средневекового монаха.
— Для истории, — с насмешкой ответил Мятлев. — Была, мол, в две тысячи таком-то году попытка реакционных сил… И тому подобное. Вот и фактаж…
— Ничего я больше не скажу, — неожиданно резко, почти грубо ответил технический руководитель, если не глава заговора. — Сам всё понимаешь. Сто раз такое случалось, и никаких особых эмоций в народе не вызывало…
— Кто бы спорил. Знаешь известный стишок: «Мятеж не может кончиться удачей…»
Генерал прервал цитату, прислушался. Воздух за стенами дачи был неподвижным, плотным и душным, как часто бывает перед грозой. Сильно пахло сосновым лесом и одновременно какими-то полевыми травами. С востока надвигалась, заслонив большую часть небосклона, сизо-чёрная туча.
«Скорей бы», — вдруг подумалось Мятлеву, будто гроза, ливень, град смогут отменить то, что надвигалось на них не с неба, а по земле.
То, что ему послышалось, не было первым отдалённым раскатом грома.
— Гранатомёт, седьмой эрпэгэ, — тоном стороннего комментатора сказала Герта, — наш. Километрах в трёх отсюда. Как раз на отсечном рубеже.
— Вот и всё, — сказал Мятлев в трубку. — «Алэа якта эст![64]». Пьянка пошла, последний огурец на столе! Счёт уже два-один в нашу пользу. Как говорится — «оставайтесь с нами»…
Генерал не мог знать, что творится на первом рубеже обороны, но просто верил, что если те, кому это поручено, стреляли из гранатомёта, то наверняка попали. Предупредительные выстрелы делают из другого оружия.
Он резко бросил трубку на рычаг. С этим — всё! А в остальном — ему было достаточно смотреть на Герту, чтобы чувствовать уверенность — всё закончится наилучшим образом. Она не играла, она действительно была собранна, но совершенно спокойна. Так, а он чем хуже?
— Извините, Леонид Ефимович, — сказала девушка. — Наши подъезжают, их уже, наверное, в окно видно. Можно, я ещё кое-что этому человеку добавлю?
— Этот номер сразу отключили и стёрли, — ответил Мятлев. — Известные штучки. Никому ты не дозвонишься…
Его слова запрещающими не были, просто выражали сомнение в её способностях. Ничего, переживём.
Герта не стала подходить к стационарному аппарату, просто поднесла к губам раскрытый портсигар.
Сделала пальцами беглое движение над кнопками.
— Алло, это Владислав Борисович? — Голос её стал соблазнительно-эротичным, каким-то даже мурлыкающим. — Прошу прощения, мой командир немного не договорил, разозлился очень. Я уточнить рекомендацию хочу.
— Кто это говорит?
— Герта. Меня зовут Герта Витгефт. Надеюсь на скорую встречу. Поэтому лучше оставайтесь там, где сейчас, на Мясницкой, сорок три, строение три, второй этаж, вторая дверь слева по коридору. Зачем зря бегать? Аэропорты для вас уже закрыты, как и вокзалы, посты ДПС наготове. В подполье уходить… От души не советую. В подполье можно встретить только крыс…
Она закрыла блок-универсал, развела руками разочарованно:
— Кажется, он свой мобильник об стену разбил. Или — об пол…
Глава двадцать шестая
Тела у андроидов, возможно, были другими, ранее не воевавшими, Воронцов взял для программирования первых попавшихся из резерва. Но «личности», то есть память, навыки, «психология», «жизненный опыт», — из общей «копилки». Эти биомеханические парни, по сути, были теми же сержантами, что тренировали первых «белых рейнджеров» на пути из Константинополя в Севастополь, воевали вместе с Басмановым против монстров в Южной Африке, а теперь ко всему предыдущему добавили и «воспоминания» о разведпоисках в Заполярье в сорок третьем и сорок четвёртом годах, десантах на Курильские острова и японские базы в Корее в сорок пятом. Вдобавок они узнали вполне достаточно о времени, в которое их направили сейчас — всё, что нужно знать в пределах компетенции и квалификации тридцатилетних прапорщиков морской пехоты, воевавших везде, куда посылали, начиная со второго года срочной службы.
Имена у них тоже были придуманные ещё капитаном Белли во время подготовки к действиям на англо-бурской войне по названиям кораблей российского флота, походивших на роль «рабочих псевдонимов», положенных в каждом спецподразделении. Для антуража, и чтобы с людьми не путать — там роботы действовали в составе целой офицерской роты.
Начали, как водится, с литеры «А». Оказалось, что даже её достаточно, чтобы обозначить целый взвод, причём не используя названия городов, имена и звания коронованных особ, флотоводцев и полководцев.
Согласно диспозиции отряд «Леонова» был высажен в трёх километрах от «объекта», на поляне в густом еловом лесу, вне дорог и троп труднопроходимом. Отсюда легко было прикрыть парными дозорами не только ведущий от трассы к даче узкий, всего лишь двухрядный «асфальт» с несколькими мостиками через заболоченные поймы незначительных речек, но и рубежи за пределами охраняемого периметра, откуда могли выдвинуться мобильные группы неприятеля.
Сам «старший лейтенант» с радистом и третьим снайпером со «Взломщиком» заняли господствующую высотку в полукилометре от очень удобного, в полных девяносто градусов, поворота дороги. С возвышающейся над холмом отдельно стоящей и потому ветвистой, а не голой, как телеграфный столб, сосны получался круговой обзор на десяток километров. Правда, сама дача и даже её КПП и сверху были не видны, надёжно укрытые лесом. В овражке у подножия высоты разместился пункт боепитания — тяжёлый бронированный вездеход «Тигр», загруженный ящиками патронов, гранатомётами «Шмель» и «Гром» с приличным боезапасом. В Отечественную войну Леонов и его отряд о такой огневой мощи не могли даже мечтать, обходились «ППШ», ножами, гранатами и трофейным оружием. Правда, был случай, захватили даже артиллерийскую батарею на позиции и тогда постреляли вволю. Когда кончились снаряды — отошли, и опять без потерь.
Так тогда сам старший лейтенант и его бойцы были просто людьми. В новых телах — совсем другое дело. Пуля и осколок биомеханическую плоть не брали, а физические возможности андроидов, подтверждённые в боях на африканском фронте, позволяли им в течение максимум десяти минут сосредотачиваться в любой точке обороняемого района, перемещаясь по лесу практически бесшумно со скоростью кроссовых мотоциклов. Устройство глаз и костно-мышечной системы позволяло гарантированно попадать в любую цель на пределе технических возможностей оружия.
По расчётам Секонда, выходило, что шансов у противника, решившегося штурмовать дачу силами в одну-две роты, практически не было, если только не будет массированно использована штурмовая авиация и дальнобойная артиллерия. Но и в этом случае хватит времени вместе с Президентом отступить в леса и продолжить руководство сопротивлением с других позиций и на других условиях.
На повороте с трассы на дорогу к даче «Лексус» остановили перед шлагбаумом два сотрудника, одетые в милицейскую форму, с автоматами «АКСУ» на изготовку. Третий страховал из бетонной будки, и даже Мятлев не знал, чем он вооружён, очень может быть, что несколькими хорошо замаскированными и дистанционно управляемыми пулемётами. Эти явно в заговоре не участвовали, потому что удостоверения генерала оказалось достаточно, «сержанты» отдали честь и подняли балку шлагбаума, на вид довольно хлипкую, но способную выдержать удар грузовика.
— Я давно уже хотел вас спросить, — сказал Журналист, обращаясь сразу к Секонду и Герте, — зачем, или лучше спросить почему, мы занимаемся такими импровизациями? Даже тех из доступных вам возможностей, что я видел сегодня, достаточно, чтобы пресечь всю авантюру в корне, вообще не доводя до фазы «активных» действий. А та система, что позволила принудительно общаться с Президентом! Однако вы…
— Мы, — мягко поправил его Секонд, — разделяться на страты и фракции уже поздно…
— Да, да, конечно. Возможностей и сил у нас достаточно, чтобы покончить дело миром, в худшем случае — так, как сегодня на Каретном. Однако…
— Я всё понял. — Секонд посмотрел на часы, сверился с какими-то цифрами на дисплее пульта управления роботами. — Пять минут. Я успею вам объяснить, чтобы больше к этому не возвращаться. Чтобы было окончательно ясно: мы все — я, Фёст, девушки — даже не «ученики чародеев». Мы так пока, на подхвате. Техника, что доверена во временное пользование, настолько же непонятна нам, как и вам. Просто мы уже умеем нажимать кое-какие кнопки, вы — ещё нет. Как индейцы Фенимора Купера и кремнёвые ружья бледнолицых. Одни умеют стрелять, другие нет, но для всех это изделие — вне бытовой логики и мировоззрения в целом. Но ружье — это только ружьё, а портсигар в кармане Герты — штука, сравнимая с атомной бомбой. Подходить к ней с кувалдой и зубилом крайне нежелательно по многим причинам.
Нам разрешено этими приборами пользоваться, но с соблюдением массы ограничений и, желательно, только в исключительных случаях. Во всех остальных безопаснее обходиться проверенными, «человеческими» инструментами и методами.
— Звучит страшновато, а если поконкретнее — в чём опасность? Люда распугала чекистов, все живы, и ничего не случилось. Несколько раз переходили из мира в мир — тоже ничего…
— В том и беда, — вздохнул Секонд, — что о последствиях мы ничего не знаем. Известно, что действие равно противодействию, и любое сотрясение мирового эфира, вызванное включением приборов, может завершиться чем угодно — природными катаклизмами, политическими, хроносдвигами, наконец… Может быть, то, чем мы занимаемся сейчас, спровоцировано вашей с Президентом прогулкой в Москву, или уик-эндом товарища генерала. Поэтому…
Невысокие, по пояс, кусты, росшие вдоль обочин и вроде бы просматривающиеся насквозь, вдруг шевельнулись, и там, где только что не было ничего, встали два морских пехотинца в странно переливчатых камуфляжах. От неуловимых, на пределе восприятия изменений рисунка и цветов быстро начинало рябить в глазах, и взгляд сам собой смещался на что-нибудь стабильное.
Генерал непроизвольно дёрнулся, явление было слишком неожиданным. «Двое из ларца, одинаковы с лица». У этих, правда, лица были разные, но в пределах общего типажа.
— Спокойно, это свои, — сказал Секонд, открывая дверцу.
У андроидов на нагрудных нашивках значилось: «Артём» и «Аскольд». Погоны с двумя продольными звёздочками помещались у них по-человечески, на плечах, а не на животе, как, явно не от большого ума, придумал нынешний министр обороны. Наверняка ни ему, ни его консультантам и советникам не приходилось видеть, как выглядит военный человек, проползший хотя бы полсотни метров по-пластунски в дождь и грязь. Своего взводного солдаты хоть по голосу узнают, а прочим командирам придётся долго трудиться, чтобы предъявить окружающим знаки различия.
Вооружены прапорщики были серьёзно, обычный боец, если он не аналог Ивана Поддубного, столько бы на себе не унёс. У каждого, кроме штатных автоматов и пистолетов, имелось по снайперскому «Взломщику» калибра 12,7 и пулемёту «ПКМ», в разгрузках и рюкзаках по четыре коробки с лентами и сотне винтовочных патронов. Да по десятку старинных, но по-прежнему надёжных гранат «Ф-1» и «РГД-5». Андроид мог бросить такую гранату на сотню метров, дальше не позволяли пресловутые четыре секунды замедления запала.
Доложили, как положено, что поступают в распоряжение «товарища полковника», уже им лично знакомого.
— Куда же мы вас посадим? — засомневался Мятлев, глядя на массивных парней, сверх всякой меры увешанных оружием.
— Вы только винтовки и пулемёты в багажник возьмите, а мы сами добежим, от вас не отстанем, — сказал «Артём». При равном звании по алфавиту он шёл раньше, вот и числился старшим.
— Главное — не обгоняйте, — предупредил Секонд, — охрана у ворот может не понять…
…Увидев, что в ворота дачи въезжает «Пассат» с остальной частью их команды, Герте и Секонду не то чтобы особенно полегчало, но стало спокойнее оттого, что они снова все вместе, и не нужно беспокоиться ещё и о товарищах, с которыми именно сейчас может происходить неизвестно что.
— Пойдёмте, — сказала Герта. Она не собиралась узурпировать права своих непосредственных начальников и кого-либо из присутствующих, но порученная ей Фёстом работа предполагала полную самостоятельность в рамках задания. Если согласовывать каждый шаг с командирами или охраняемыми лицами, терялся весь смысл.
Вчетвером спустились в холл, впереди Герта с автоматом на изготовку, за ней Президент, Журналист и Мятлев. Здесь, в кресле сбоку от входной двери, они увидели только одного офицера дежурной смены, вооружённого пистолет-пулемётом «Клин-2» и обычным «ПММ». Тот вскочил, услышав шаги и голоса главы государства с сопровождающими лицами. С Витгефт они обменялись мгновенными взглядами специалистов. На её взгляд, выглядел он вроде бы нормально, то есть — по ситуации. Собран, но не растерян, и глаза не бегают. Если он, или кто-нибудь ещё из тех, кого «валькирия» видела в здании и во дворе, связан с заговорщиками, сейчас определить это невозможно. Вот когда появится Вяземская, её Шар можно будет использовать и как «детектор лжи». Нехорошо подозревать в измене не давших к этому никаких оснований людей, но — время такое.
…Получасом раньше, как только они въехали на территорию и к машине подбежал начальник охраны майор Нежданов, генерал без всяких предисловий объявил, что ввиду особых обстоятельств полковник Ляхов временно назначается комендантом объекта с неограниченными полномочиями. И представил ему Секонда, не объясняя, какой именно службы он полковник, но наличие при нём прапорщиков в форме говорило само за себя.
Вадим тут же начал распоряжаться, дело знакомое, повоевать ему пришлось столько, что этому лощёному майору в штатском со всей его командой и не снилось. И о регулярном полевом бое он имел самые общие представления.
По всему чувствовалось, что Нежданов уязвлён, но спорить в его положении не приходилось. Уж больно решительно выглядел полковник и внушительно — его сопровождающие, пусть было их всего лишь двое. Управление охраны МГБ и морская пехота — организации разных весовых категорий. Если каша заваривается крутая, майору с его парнями, вооружёнными почти карманными трещотками под пистолетный патрон, претендовать на роль серьёзной боевой силы не стоит. А что предстоят не детские забавы, стало ясно, когда майор увидел, что сам Мятлев, ещё один друг Президента, Журналист, полковник и даже необыкновенно красивая девушка с недобрыми глазами — все вооружены армейскими автоматами, «чёрными» «АК» «сотой серии» калибром 7,62, а морпехи принялись выгружать из багажника джипа пулемёты и весьма внушительные винтовки, которые никто из службы охраны не то что в руках не держал, а и в глаза не видел.
Майор подумал, как теперь быть со звонком непосредственного начальника, предупредившего, что после обеда может нагрянуть группа из инспекторского отдела? Как раз для проверки несения службы. Такие наезды случались примерно раз в месяц и ничего особенного собой не представляли, но сегодня может получиться интересно. Не сказать ли об этом Мятлеву? Пожалуй, не стоит. Звонок был неофициальный, предупреждать проверяемых категорически не полагалось, а если приедут — пусть сами и разбираются. Генерал с Президентом за спиной — по-любому главнее даже и министра госбезопасности.
Мятлев с сопровождением пошёл в дом, а Ляхов предложил майору заняться делом.
— Тебя, кстати, как зовут? Мы вроде ровесники? Меня — Вадим.
— Георгий, — назвался чекист.
— Вот, Жора, значит, повоюем, если не пронесёт…
— Скажешь, может быть, в чём дело, если ты не из инспекторского?
— Чего нет, того нет, к вашей конторе, слава богу, отношения не имею…
Секонд достаточно давно общался с Фёстом, «старшими братьями», югоросскими офицерами и не чувствовал затруднений, изображая человека этого мира, не отличался ни лексикой, ни манерами. Хотя, как он уже отмечал неоднократно, ему здесь было некомфортно. Чужая реальность давила на психику, иногда — очень сильно.
Тут как раз, просигналив у полураскрытых ворот, на территорию въехал «Пассат» Фёста. Увидев его и Вяземскую, Ляхов приободрился. Все живы, все целы, а значит, и дальше не пропадут. Вслед за Людмилой из машины выбрался ещё один человек, похожий на молодого Александра Дюма-отца. Без оружия, но с фотоаппаратом, которым тут же сделал несколько снимков.
— Эй, стойте, запрещено, — запоздало крикнул майор.
— Ничего, пусть снимает, — сказал приехавший, удивительно похожий на полковника Ляхова. И девушка… Черты лица другие, но в чём-то — копия той, что ушла в дом с Мятлевым и Президентом. Нежданов был профессиональным физиономистом, умел улавливать то, чего не замечали обычные люди. Девушки тоже из конторы, знать бы, какой именно. Спецназ ВМФ, как в сериале по телевизору показывают?
— Пусть снимает, — повторил Фёст, — для истории. Что захотим, потом сотрём. Пётр, — протянул он майору руку, представляясь. — Тоже Ляхов. И тоже полковник. Бывают такие совпадения… Это Людмила, это Михаил. Прошу, как говорится…
На крыльцо вышли Президент и свита. Герта стала несколькими шагами левее, чтобы видеть весь двор и всех, в нём находящихся.
Фёст представился Президенту, остальные в этом не нуждались.
— Давайте отойдём в сторонку, хотя бы вон туда в беседку, — предложил он. — Есть у меня важное сообщение, оно же предложение. Исходя из того, что мы на трассе видели, и ещё кое-какой информации. Я доложу, а потом и примем решение…
Изложение Фёстом своих «мыслей по поводу» заняло минут десять.
А потом вдали хлопнул выстрел гранатомёта.
Все напряглись и обернулись, как будто можно было что-то разглядеть на таком расстоянии и за стеной леса.
— Так, — сказал Фёст, — сомненья прочь, уходит в бой отдельный, десятый наш ударный батальон… Поднимитесь к себе, возьмите то, что считаете нужным и оставлять нельзя ни в коем случае. Остальное сожгите в камине.
— Я секретных документов на даче не держу, — с каким-то даже вызовом ответил Президент.
— Значит, сожгите и несекретные. В текущих обстоятельствах любая бумажка, фотография, компьютерный файл могут быть использованы против вас. Формула Миранды. Леонид, ты специалист, сам и смотри. Мне ведь, по большому счёту… Я пока здесь займусь, — повернулся он к Секонду, охране, морпехам и девочкам. — Теперь, ребята, делаем всё в темпе, — взял Фёст на себя общее командование. Начальник охраны, вообще потеряв ориентировку, кто здесь кто и кем кому приходится, решил подчиняться не задумываясь. Если начали стрелять из гранатомётов…
— Объясняю ситуацию, майор, — понял его затруднения Фёст. — По агентурным данным, ожидается массированное нападение на охраняемый объект. Силы противника пока неизвестны. Но если наш арьергард или, наоборот, головная походная застава, смотря с какой стороны считать, начала сразу с гранатомётов — явно не маленькие. Не иначе как с бронетехникой…
Секонд и Фёст, сориентировавшись на местности, расставили наличные силы: десять офицеров службы охраны, двух роботов, Людмилу с Гертой, ну и себя, разумеется, неожиданным для тех, кто попытается штурмовать объект, образом.
Охранники остаются внутри ограниченного бетонным забором пространства, остальные займут позиции извне. Никакой жёсткой обороны, в том числе и центрального здания, они не планировали, а на это и будет расчёт врага. Если Президент не встретит «делегацию» открытыми воротами — нанесут удар всеми силами по фронту, маневрированием, охватом флангов и прочей тягомотиной едва ли себя затруднят. И, конечно, полное огневое подавление всех очагов сопротивления…
Десяток легко вооружённых людей (а об ином составе защитников заговорщики не догадываются) или сразу сдадутся, или чуть позже, когда начнут бессмысленно гибнуть. При составлении диспозиции Ляховы принимали за очевидность, что мятежники будут исходить из самого примитивного расчёта — Президент сидит на своей даче и ждёт, чем вся заварушка кончится, заведомо смирившись с участью, какой бы она ни была. Кисмет, одним словом!
Обычно ведь именно так и случалось почти весь двадцатый век — свергаемый правитель оставался в заведомо известном, пространственно фиксированном месте: в салон-вагоне на станции Дно, во дворце Ла-Монеда, на даче в Форосе, не проявляя особой активности, ждал, пока ему преподнесут текст акта об отречении или разбомбят с воздуха и застрелят во время штурма. Пускаться в бега, поднимать верные войска на активное подавление заговорщиков или начинать гражданскую войну как-то не было принято в последнее время. Даже Гитлер не захотел улетать из осаждённого Берлина в Альпийский редут и далее на подводной лодке в Аргентину. Отчего же нынешнему повести себя как-то иначе?
На самом же деле Фёст и Секонд, ставя боевую задачу охранникам — вести мобильную оборону внутри периметра в случае прорыва «первой и второй оборонительных полос», только имитировали свою непреклонную решимость «стоять насмерть». На случай, допустим, наличия среди охранников предателя, имеющего связь с «хозяевами», даже не по радио или мобильному телефону, а совершенно экзотическим, не поддающимся перехвату образом. Например, некими условными знаками, различимыми в стереотрубу, а то и со спутников. Чего вы хотите — двадцать первый век на дворе.
На самом же деле, в полном соответствии с практикой своих учителей и «старших братьев», они готовились измотать и уничтожить врага на дальних подступах с нулевыми потерями со своей стороны. Многолетняя история «Братства», вся прошедшая в огне войн и революций, свидетельствовала, что это вполне возможно. Даже колонна вражеской бронетехники едва ли прорвётся через обороняемые морской пехотой «Леонова» рубежи. Трудно представить себе солдат армии или внутренних войск, готовых ни с того ни с сего вести смертельный бой неизвестно с кем среди подмосковных красот природы, будто на улицах гитлеровского Берлина. Не жалея жизней, чтобы «добить фашистского зверя в его берлоге». Ну а если, паче чаяния, один-два БТРа, ведомые зомбированными или оглушёнными наркотиками до полной потери инстинкта самосохранения, сумеют прорваться мимо первого заслона («кукловоды» с ними явно не пойдут), то встретят на ближних подступах вторую линию обороны. Резервных андроидов, «Артёма» и «Аскольда», профессионально, без суеты, занявших позиции по обе стороны дороги. Её последний, шестисотметровый отрезок перед КПП был совершенно прямым, и винтовка калибра 12,7 мм на этом расстоянии легко пробивала любую бронетехнику, кроме танка. Тех минут, на которые роботы задержат противника, хватит остальным, чтобы совершить марш-маневр в тыл врага и довершить разгром. Людям останется только наблюдать за развитием событий, как Пьеру Безухову при Бородино, и стараться не поймать шальную пулю или осколок.
И, наконец, самое главное — штурмовать заговорщикам придётся пустышку. Президент к тому времени окажется совсем в другом месте.
Издалека донеслись ещё гранатомётный выстрел и частая, на расстоянии совсем неубедительная, дробь нескольких пулемётов.
— Поезжайте, — сказал Фёст Мятлеву.
Без споров, поскольку всё уже было обговорено и разъяснено, Президент, генерал, Журналист и Волович разместились в джипе. За руль села Герта. В пяти километрах, в пределах «зоны безопасности» дачи, но отделённый от основного строения речушкой и небольшим озерцом, располагался так называемый охотничий домик со всем необходимым снаряжением на случай, если Президенту с гостями вздумается порыбачить или поискать грибов, не слишком удаляясь от резиденции. За ним присматривали два егеря, живущие в соседней деревне, всегда бывшие на связи с начальником охраны. К домику вел узкий, на вид заброшенный грейдер.
На самый крайний случай, если вдруг окажется, что игра идёт действительно «по крупной» и против них действуют абсолютно подавляющие силы, вплоть до воинства дуггурских монстров, — Фёст мог оттуда перебросить всё своё войско на «Валгаллу». Эфир будет взбудоражен основательно, как то «синее море» в «Сказке о рыбаке и рыбке», потому и рассматривался этот вариант как исключительный.
— А знаешь, — сказал Секонду Фёст, — сразу к Воронцову, пожалуй, лучше всего бы было. И здесь без лишней крови, и «Мальтийский крест» сам бы собой успешно завершился. Торжественным въездом Президента с Ярославского вокзала во главе дивизии Императорской Гвардии и «показательной поркой» всех инсургентов на Красной площади. И непременно с барабанным боем…
— Мечом по гордиеву узлу, — кивнул Секонд. — И у Президента не остаётся никаких больше либеральных вариантов и псевдодемократических заморочек. Он в роли Керенского, а ты при нём, несомненно, — генерала Корнилова. Одна беда — получится тогда из РФ обычный протекторат, в лучшем случае — доминион. Не совсем то. Даже я считаю — слишком сильный удар по национальной гордости великороссов. Основной вариант логичнее выглядит. Особенно если Президент сбежит, а в стране никаких серьёзных беспорядков не случится. Может, люди к нему едут просто кое-какие чисто шкурные дела перетереть. Да и…
— Люда, — обратился он к Вяземской, — ты хоть примерно можешь посчитать, какой риск от очередной активной деформации континуума? Я помню, Шульгин ещё во время нашей московской заварушки очень сильно опасался маневрировать силами и средствами через СПВ. Предпочитал, чтобы мы на своих двоих по городу перемещались, не считаясь с потерями. Сам потом мне говорил, что по самому краешку мы тогда проскочили. «Снежный мост над пропастью» — вот его точные слова. И до сих пор неизвестно, проскочили на самом деле или живём уже в химере, внутри «ловушки», и дуггуры через прорванные нами в «завесе» дырки пролезли, и сами они сейчас неизвестно где застряли… Не зря же и ваши (он подразумевал аггров), и форзейли своими руками почти ничего не делали и даже для предотвращения мировых войн и революций свою технику не использовали.
— Честно сказать — не могу, Вадим Петрович! У Левашова это как-то получалось, но и у него — «плюс-минус лапоть». А я даже пытаться не стану. Чтобы и вас и себя в заблуждение не вводить. Давайте уж по старинке — как получится.
— Ну, смотрите, — Фёст махнул рукой. — Как будто мне больше других надо. Я, между прочим, самый из вас «посторонний». Камю читали?
Он включил пульт связи с «Леоновым».
— Первый, почему не докладываете, что у вас там?
У роботов всё обстояло «штатно». Три патруля из двух андроидов каждый заняли позиции по обе стороны дороги со стометровыми интервалами. Гранатомётчиков прикрывали пулемётчик или снайпер, имеющие возможность простреливать подходы к позициям товарищей. Наблюдатель вовремя заметил сворачивающую с трассы колонну из трёх БТР-80, тентованного «Урала» и нескольких джипов, армейских и пошикарнее.
У шлагбаума они задержались совсем ненадолго, очевидно, документы у них были в порядке или нашлись более веские доводы. Проезд открылся, с «Урала» спрыгнули четверо бойцов, экипированных по-фронтовому. На них были и бронежилеты, и каски-сферы, и масса всякого снаряжения, неизвестно — полезного в реальном деле или призванного просто создавать антураж. Мол, чем мы хуже американцев, болтающихся в таком виде по Ираку и Афганистану, без видимой, впрочем, пользы. Советские солдаты из «ограниченного контингента» налегке воевали намного лучше натовцев. По крайней мере, до самого вывода наших войск жизнь на контролируемых кабульским правительством территориях гораздо больше походила на «настоящую», чем после десяти лет американско-натовской оккупации.
Эти «суперсолдаты» взяли КПП под свой контроль, а колонна двинулась дальше, оставив у поста два зелёных «УАЗа Патриот», из которых наружу никто не появился. Впереди шёл бронетранспортёр, десант не сидел на броне, как это принято в армии, а прятался под нею. Тоже по-американски. За «восьмидесятым» — два чёрных «Навигатора», наверняка бронированных, с номерами неприметных цифр и серий. Позади — «Урал» и два БТРа.
Едва ли это главные силы противника, прикинул «Леонов», логичнее предположить, что имеет место не более чем демонстрация. Сработает — хорошо, нет — не на них главный расчёт. По лесу наверняка должны бы двигаться несколько групп настоящих исполнителей, профессиональных «чистильщиков». Скрытно подойти, снять внешние посты, расположение которых должно быть известно, кому положено, и сделать то, что намечено. Убить — значит убить, или — обеспечить условия для «делового разговора».
Один из «морпехов» встал из-за укрытия, вышел с автоматом за плечом, как бы просто исполняя формальную обязанность, почти на середину дороги, в полусотне метров от первого БТРа, махнул свободной рукой, приказывая остановиться.
Несмотря на вялость в движениях и скучающее выражение лица, было видно, что отступать с пути броневой машины он не намерен.
Водитель явно растерялся (хладнокровно давить людей, тем более — в своей военной форме его наверняка не учили). Он, засигналив громким и хриплым гудком, начал притормаживать.
Тут же вправо-вперёд из-за его кормы рванулся «Навигатор». Этот явно не шутил, собирался своим «кенгурятником» снести дерзкого с асфальта. Прапорщик сделал шаг назад, потянул с плеча автомат. Тут же в ответ на его движение опустилось наглухо затонированное боковое стекло джипа, высунулась рука человека, одетого в штатское, сжимающая массивный иностранный пистолет, вроде «дезерт игла». В предгрозовой давящей тишине театрально-громко хлопнуло подряд несколько выстрелов. С двадцати шагов стрелок не промахнулся ни разу, только впечатления на андроида с нашивкой «Азард» это не произвело. Наверное, тот, кто нажимал на спуск, успел удивиться — бронежилета на его «жертве» точно не было, только тонкий камуфляж поверх тельняшки, и видно было, как крупнокалиберные пули дырявили ткань.
В следующую секунду морпех метнулся через дорогу и залёг в кювете, а с другой стороны, из посадки молодых сосенок, полыхнуло реактивное пламя гранатомёта и обрушился тяжкий грохот выстрела. Сразу за ним, почти без паузы, внутри джипа взбух клубок красно-чёрного огня, в стороны полетели куски лакированного металла, обломки кресел и, похоже, фрагменты нескольких человеческих тел.
И снова тишина.
Второй джип с невероятной прыткостью, с верещанием покрышек рванул с места задним ходом, унёсся в хвост колонны, под прикрытие БТРов.
Прошло несколько секунд, пока с башни головного бронетранспортёра заработал «КПВТ», снося своими могучими пулями кусты и ломая стволы молодых деревьев. Из бортовых амбразур затарахтели автоматы. Разумеется — в пустой след. Гранатомётчика на позиции уже не было.
Из кювета, пользуясь тем, что весь огонь вёлся в правую сторону, появился «Азард», швырнул две большие дымовые шашки и снова исчез. Толстые струи бурого дыма ветер из-под надвигающейся грозовой тучи сразу потянул вдоль дороги, накрыл головную машину, а за ней и другие. Пулемёт по инерции проревел ещё двумя очередями и смолк, не видя цели.
На какое-то время воцарилась тишина, потом сквозь дым в колонне услышали голос, без всякого мегафона достающий до каждой машины, — голосовые связки андроидов сотню децибел выдавали свободно.
— Внимание, всем в колонне! Во избежание ненужного кровопролития предлагаю отодвинуться назад до шлагбаума на въезде, после чего выслать парламентёра с белым флагом. На размышление — пятнадцать минут, после чего будет открыт огонь на уничтожение. Особо обращаюсь к рядовым военнослужащим. Вы участвуете в антиправительственном мятеже. У вас есть возможность, сохраняя верность присяге, арестовать командиров, отдавших вам преступный приказ, или хотя бы отказаться от его выполнения. Время пошло!
Наверняка под броней БТРов и в кузове «Урала» эти слова какое-то впечатление произвели. Ведь действительно не меньше половины привлечённых к операции составляли пусть не срочники, а контрактники, но всё равно — рядовые, и им не слишком весело было смотреть на обломки «Навигатора», представляя, что следующие выстрелы из леса превратят в то же самое только с виду грозные бронемашины, ну и людей внутри них, само собой.
Ехавшие в первом джипе были типичными ландскнехтами, «псами войны», которых во все времена хватало во всех армиях мира. Только в дореволюционной русской да Советской армиях эта «страта» по ряду причин не сложилась, не нашлось для неё подходящей почвы и психологической среды. Зато после девяносто первого года и в новой РФ такие вояки появились в изобилии. Будто просто сидели в людях споры опасной болезни, дожидаясь благоприятного сочетания условий внешней и внутренней среды. Те офицеры одной из частей «постоянной готовности», что должны были обеспечить захват президентской резиденции, а потом выполнять последующие задачи заговора, отнюдь не обещавшего быть бескровным, относились уже ко второму поколению «профессионалов». Первое было совсем другим, в людях сохранялись мысли и идеи, выходящие за пределы голого шкурничества. А эти если и слышали о романтических временах добровольцев, бесплатно сражавшихся за сербов, приднестровцев, абхазов, карабахских армян, то искренне не понимали ни психологии, ни мотивов. Для них события начала девяностых — «преданья старины глубокой», легенды для дураков. Сейчас всё проще, конкретней, понятней и циничней. И читали эти «профессионалы» не книги о Че Геваре, интербригадовцах в Испании и своих отцах и старших братьях, служивших во Вьетнаме, на Ближнем Востоке, в Африке или в Афгане, а капитальную монографию-инструкцию «Третий мир. Армии, войны, перевороты». Оттуда они черпали «идеологическое обеспечение» и практические рекомендации.
В нынешней операции каждый офицер-наёмник имел свои, чётко разграниченные функции, но роднило всех одно и то же. Взвинченные нервы, неадекватность восприятия окружающей действительности плюс выработанная многолетней безнаказанностью наглость. Опасная в серьёзных делах привычка — чуть что «не по ндраву» — демонстративно «срываться с нарезки», бить первым не задумываясь, поскольку возможность адекватного ответа заведомо исключалась. Стереотип (уже почти перешедший в инстинкт), из той же оперы, что и манера «учить» наглецов из «лохов» (отнюдь не себе подобных), посмевших просто обогнать их машину на трассе. Остановить, перегородив дорогу, выволочь на асфальт и как следует отделать ногами или бейсбольными битами. Не Америка у нас, в данном случае — к сожалению, не имеют возможности обычные граждане носить с собой «магнумы», «писмейкеры» и прочие «уравнители шансов», ну и пользоваться ими при необходимости.
Даже форма морской пехоты пятерых сидевших в «Навигаторе» капитанов и майоров не остановила, или впопыхах они приняли её за одежду какого-то ЧОПовца, егеря охотхозяйства, с «Сайгой» вместо боевого оружия. Откуда внутри запретной зоны ЧОП — умения вовремя задуматься покойникам не хватило, слишком всё внутри кипело в предвкушении куда более увлекательного приключения. Приняли простейшее решение — убрать с дороги неожиданную помеху, тут же и получили «асимметричный ответ».
Во втором джипе сидели люди чинами гораздо выше, обладающие зачатками стратегического мышления. Оттого «на автопилоте» стремительно ретировались в самый хвост колонны, что, впрочем, не давало им никакого тактического выигрыша: для работы по замыкающим был выделен гранатомётчик с именной нашивкой «Аякс», и он уже держал «Навигатор» на прицеле. БТР с солдатами интересовал его гораздо меньше.
— Что скажете, товарищ генерал-лейтенант? — с оттенком ядовитости спросил у сидевшего рядом с водителем человека с грубым, не дающим малейших оснований для симпатии лицом седеющий мужчина с заднего сиденья. Его тон и тембр выдавали привычку с почти любым собеседником говорить «сверху вниз», только с кем-то — покровительственно, а с большинством — уничижительно. Даже то, что на его глазах только что сгорели пятеро не посторонних людей, не слишком выбило его из колеи. — «Сопротивляться там некому! Десять человек, которые сразу выполнят приказ сложить оружие, и перепуганный Президент, готовый подписать любую бумажку»? Ваша оценка обстановки? Или чья?
— На въездном КПП так и получилось, — нехотя ответил названный генерал-лейтенантом. — И на самой даче никто бы сопротивляться не стал. Вот это, — он неопределённо махнул рукой вперёд, — пятый туз в колоде.
Ещё один из пассажиров «Навигатора» торопливо набирал номер на своём мобильнике.
— «Директор» не отвечает, — покусывая губу, сообщил он, выслушав целых десять длинных гудков.
— Звони по другим номерам, учить тебя, что ли? — цыкнул «седеющий». — По всем звони! — И снова обратился к генералу: — Так что, за пятого туза обвинение в нечестной игре кому предъявить? Президенту? — Не удержал стиль, сорвался на матерную лексику ведущего разбор «персонального дела» секретаря обкома КПСС «из народа», сквернословящего, чтобы окружающие не забывали о его «пролетарском происхождении». — Какого хрена твои раз…долбаи начали стрелять по морпехоте? Кто их инструктировал? Не могли выйти, пропуск предъявить? Откуда вообще здесь эти «чёрные»? В президентском полку их точно нет! Тебе за что вообще деньги платят? Разведку наладить — и то ни хера не умеешь! Генерал, твою мать! Ты хоть взводом в своей жизни командовал или с детства шестёркой по паркетам скользил?
Генерал густо багровел, но даже огрызнуться толком остерегался. Хотя чего уж теперь — под пулями-то?
— С ТОФа или с Балтики, — пробурчал он строго по сути вопроса. — А может, и из Севастополя. В других местах не базируется. И вообще это вы бы мне сообщить должны были, что там в «его» окружении творится. Кто помимо вас вопросы решать может? Вот такие в частности. Кто догадался и успел сюда вот этих перебросить? А у меня своя сфера ответственности.
— Вот и отвечай, в том числе и за мудаков, что стреляют куда придётся. И решай, готов ты операцию продолжать или предпочтёшь смотаться? И куда?
— Для этого сначала в живых остаться надо, — пришёл к пониманию своего нынешнего положения генерал. — А думать тут особенно нечего. Надо парламентёра высылать и время тянуть. Я зря, что ли, кроме этих, — он презрительно указал подбородком в сторону машин, — настоящих спецов приготовил. Полчаса им хватит, чтобы весь район в кольцо взять и этак вот, — он свирепо сжал большой волосатый кулак, — всех, включая нашего «гаранта», раком поставить! Всё сделаем, и совсем другой разговор пойдёт.
«Седеющий» уловил в голосе генерала совсем не понравившиеся ему нотки. «Вот ведь „сапог армейский“, и не пьяный ещё, а держать себя не умеет, чёрт знает с кем приходится дело иметь», — подумал он, возвращаясь к обычному для себя спокойному равнодушию.
— А если тут этих морпехов рота, что твои «отморозки» делать станут? И вообще, не люблю, когда на всякую сволочь закладываться приходится. Отчего у тебя в активе только мерзавцы да психи?
— Извините, Фёдор Давыдович, идейных «панфиловцев» взять негде. Чем богаты, тем и рады. Надо было ещё десять лет назад что-то вроде своих «эсэс» создавать. Вот те бы за идею работали!
— Хотелось бы представить, что за «идеи» у таких, как ты, водиться могут… Стоп, стоп, ты смотри! Это что же получается? — В словах «седеющего» послышалось не только удивлённое раздражение, но и намёк на страх. Хотя вроде бы он должен был быть смелым человеком, раз лично отправился «на дело», не остался руководить из московского кабинета. Но, с другой стороны, и риска он ведь поначалу не видел. Дел-то всего — приехать под прикрытием бронетехники на дачу к смертельному (но не подозревающему об этом) врагу и, наслаждаясь его унижением, диктовать свои условия. «Кондиции»[65], как это в романе Пикуля «Слово и дело» называлось. Правда, теперь уже едва ли не пришла пора заодно вспомнить, чем та затея закончилась и сколь страшная участь постигла «верховников».
Из кузова «Урала» один за другим спрыгнули на дорогу около десятка солдат. С оружием. Видно было, что они продолжают оживлённый разговор с теми, кто оставался в машине, но слов слышно не было.
— Крысы бегут, — сквозь зубы процедил генерал.
— Агитация защитников Президента оказалась убедительнее твоих приказов, — глухо ответил Фёдор Давыдович. — И что дальше?
Нижняя дверца стоящего впереди джипа БТРа откинулась, и оттуда тоже кто-то полез, но после короткого сопротивления его втянули обратно. Здесь «бунта на корабле» не получилось.
— Что, так и уйдут? — свистяще выдавил «седеющий».
— По ним тоже стрелять? Ну, прикажите…
— Пусть уходят, — вдруг легко согласился, непонятно чему улыбнувшись, Ф.Д. — Нам, по сути, без разницы. Не в них…
Договорить он не успел. Кто-то в бронетранспортёре опять не выдержал. Башенный пулемёт дал предупредительную очередь поверх голов двинувшихся прочь от колонны солдат. И это бы ничего, несколько бойцов непроизвольно присели от свистнувших над головами пуль, другие остались стоять, соображая, как быть дальше. Но вместе с пулемётом из бортовой амбразуры длинно, на полрожка, прострекотал автомат. Двое солдат упали, убитые или раненые, остальные дружно кинулись к близким кустам. А оттуда снова выбросил тонкий жгут дыма с ракетой на конце гранатомёт. Внутренним взрывом оторвало и отбросило крышку десантного отделения БТРа, перекосило на направляющих пулемётную башню. Глухо начали рваться боеприпасы.
— Трандец! — как-то очень равнодушно сказал тот, что пытался связаться по телефону с главарём всей операции. — Сейчас нам залепят…
Услышав доклад «Леонова», Фёст запрыгнул в «Пассат», на ходу крикнув стоящим рядом Секонду с Людмилой:
— Я сейчас! Вы здесь — рассредоточиться. Вон туда, — указал он на подобие рощицы впереди и левее ворот. — И туда — это «Аскольду» — на правый фланг… — Там тоже неглубокая лощинка давала подобие укрытия для одиночного стрелка. — Ждите! Или я раньше вернусь, или к вам гости пожалуют…
Тут же рванул с места, не ожидая возражений. Вообще ответа. Сами сообразят. И тут же «старшему лейтенанту» в переговорник: — Колонну не выпускать. По джипу не стрелять. Обездвижить. Сейчас буду лично… Всех свободных бойцов — бегом к даче. Редкой цепью. По всем неизвестным — огонь на поражение!
Действовал Фёст чисто интуитивно. Ничего не просчитывая, сразу увидел единственно верное решение. Рисковое, но выбирать было не из чего.
Словно устав держать в себе тонны воды, тучи наконец лопнули понизу, хлынул долго собиравшийся дождь. Как будто его спровоцировали выстрелы и взрывы. Серая шуршащая пелена сразу сократила видимость до сотни метров. Прямой отрезок дороги пролетел в несколько секунд. Наверное — хватит. Начал аккуратно тормозить перед поворотом на залитом водой асфальте, тут же и увидел впереди жирный дым горящей бронетехники.
«Леонов» со своего НП успел приказать «Азарду» встретить и, при необходимости, прикрыть полковника, «Аяксу» оставаться на месте, пресекая любое шевеление в колонне, остальным передислоцироваться к даче и поступить в распоряжение «полковника Секонда». И сам тоже поспешил к дороге.
Ляхов с первых же шагов по высокой траве за обочиной промок и снизу и сверху, даже не заметив этого. Главное — успел!
«Азард» одним броском преодолел шоссе и оказался прямо перед Фёстом, в пяти шагах. Жестом велел ему присесть. Тот подчинился, вытер рукавом стекающую с волос и лба воду, только сейчас сообразил снять с предохранителя автомат.
— Тут недалеко солдаты из колонны в лес ломанулись, — сообщил робот, — как бы кто сдуру в нашу сторону не выстрелил.
— Да в нас-то вряд ли, вот чтобы они нашим под огонь не вылезли, — переводя дыхание, ответил Вадим.
— Что прикажете, товарищ полковник?
— Пошли вперёд, за деревьями… Посмотрим, как оно там…
Через минуту встретились с «Леоновым». Тот явно был доволен складывающейся обстановкой. Всё как намечалось — потерь нет, противник частично уничтожен, уцелевшие деморализованы. Осталось поставить точку. Какую — на то и старший начальник здесь, ему решать. На автономном задании во вражеском тылу «старший лейтенант» взял бы одного «языка», со всеми прочими — как в разведке принято.
Внутри «Навигатора» настроение царило предпохоронное. Любой из сидящих там, поменяйся он местами с до сих пор невидимыми в лесу солдатами засады, не колеблясь отдал бы приказ на уничтожение остатков колонны. Единственное, что сдерживало командира морпехов, как понимали и генерал, и седоголовый Фёдор Давыдович, — желание взять кого-нибудь из них живыми. Им, соответственно, этого хотелось меньше всего. За исключением геройской смерти на поле боя. Совсем припрёт — лучше уж сдаться, у живого всегда остаются варианты, мёртвым недоступные.
При этом генерал продолжал надеяться, что пока они здесь стоят, продвигающиеся через лес пешком группы захвата успеют выйти к ограде дачи, и тогда всё волшебным образом переменится. Президент будет стоять с поднятыми руками, морская пехота, под угрозой его расстрела, тоже сложит оружие, и операция завершится, как планировалось.
Фёдор Давыдович тоже на это надеялся, но мыслил, как всегда, на три хода дальше и вдвое быстрее, чем генерал.
Он взял из рук своего помощника телефон, набрал ещё один номер, даже ближайшему окружению неизвестный. Тот ответил сразу.
Называть друг друга и ему, и собеседнику не было необходимости.
— Внимание, — сказал седеющий, — один-четыре-два. Так точно. Сейчас доложу подробнее…
Не отключая связи, бросил генералу и трем своим помощникам и телохранителям: — У меня секретный разговор. Я сейчас…
Никто не успел ничего понять, а Фёдор Давыдович совершенно спокойно, будто машина стояла на обычной пустой дороге, а не между чадящими и источающими очень неприятный запах изувеченными бронекорпусами, под прицелом неизвестного числа стволов открыл дверцу и шагнул наружу.
Поднёс трубку к уху, как бы собираясь продолжить разговор, сделал шаг в сторону заднего колеса, словно собираясь укрыться за ним. И тут же метнулся вбок, плюхнулся в кювет и стремительно, как краб, понёсся вдоль него, то на четвереньках, то на двух ногах, полуприсев и помогая себе руками. Физическая подготовка у него оказалась на уровне. Наверное, в молодости серьёзно занимался спортом да и сейчас регулярно посещал тренажёрный зал.
Всё он рассчитал верно — в густой пелене дождя машины ещё различались с позиций стрелков, а обочина и кустарник за ней — почти нет. Кроме того, занимавшего позицию слева от колонны «Азарда» уже не было на месте, а для «Аякса» сектор левее и позади машины находился в «мёртвой зоне».
Оставшиеся в джипе маневр начальника повторить не рискнули. Во-первых, команды не было, а во-вторых — самое время снайперу, прозевавшему первую цель, положить на месте следующую, стоит ей высунуться.
Генерал, сообразив, что произошло, только и выдохнул:
— Вот сука!
Начал кричать в простенькую полевую рацию, достающую максимум на десять километров, но переговоры по которой, не зная точной настройки, теоретически невозможно перехватить:
— Зубр, ты где, Зубр? Почему не докладываешь? Назови своё место!
В динамике сильно трещало, близкая гроза, озарявшая сполохами нижнюю кромку туч на востоке, создавала мощные помехи. Голос Зубра пробился еле-еле:
— До цели около километра. Если вокруг колючки мин нет, минут через двадцать выйдем на исходные. Вокруг всё тихо, всё тихо.
— Добро. Работайте. Минам там неоткуда взяться. По дороге гасить всех. Выйдете к ограде — по дому не стрелять. Ход исполнения докладывать каждые десять минут. Въезды-выезды на всех дорогах перекрыть. Зря не стрелять, но не пропускать никого…
Передал зелёный брусок рации водителю:
— Сиди и слушай. А я, наверное, пойду. Поговорим о том о сём, — вздохнул шумно. — А белый флаг из чего?
— Перед вами в бардачке полотенце есть. В цветочках, но, в общем, белое.
Генерал вытащил, развернул, посмотрел.
— Сойдёт. А вы тут тихо сидите. Дёрнетесь — меня первого шлёпнут. И по машинам то же самое передайте.
Машин к этому моменту, кроме джипа, оставалось только три — «Урал» с наполовину опустевшим кузовом и «восьмидесятые», в каждом по десять человек, считая водителя и командира, заодно исполнявшего обязанности пулемётчика. Во что превращается бронетранспортёр от разрыва гранаты в боевом отделении, все видели хорошо. На тех, кому не пришлось побывать под таким огнём раньше, зрелище произвело особенно яркое впечатление. И дискуссия о том, стоит ли здесь сидеть дальше или лучше смыться, пока не поздно, велась в открытую:
— Чего нам тут ловить? Сматываться надо…
— Смотаешься! Только тронься с места — и нам залепят.
— Белый флаг в люк, крикнуть, что мы уходим — и давай задним ходом…
Пресечь разговоры решительным окриком командиры машин опасались: как-никак — за спиной у каждого восемь человек с автоматами, и не угадаешь — любой может выстрелить, зарабатывая индульгенцию или просто в ответ на грубое слово.
Офицеры, хоть и сами чувствовали себя не лучшим образом, пытались объяснить «по-доброму»: если начнёшь суетиться и дёргаться — лучше не будет, при любом исходе дела. А если продержаться ещё немного, дело может выгореть, и тогда, как обещано, по миллиону наличкой сразу да и по службе не обидят.
Сумма вознаграждения, конечно, впечатляла, при нынешних тридцати тысячах в месяц, но их могут и заплатить, а могут и …
В этом смысле кто-то и высказался, вызвав новую вспышку доводов «за» и «против».
Вот ещё одна, почти вечная проблема «безыдейных мятежей»: привлечённые к заговору войска надёжны только до тех пор, пока считают это рентабельным. Убивать за деньги соглашаются многие, но вот умирать за деньги желающих почти не бывает.
— Смотрите, — указал на джип «Леонов», первым заметив полотенце, которым несколько раз махнули из полуоткрытой дверцы. — Мне сходить?
— Пусть сам сюда идёт, мы вдвоём встретим.
«Азард» прокричал команду:
— Парламентёру пройти двадцать шагов, остановиться, ждать!
Когда генерал, морщась от дождя, чуть приутихшего, постепенно переходящего из проливного в обложной, прошагал указанное расстояние, навстречу вышли Фёст с андроидом, успевшие промокнуть насквозь.
— Погодка не благоприятствует вашему мероприятию, — вместо приветствия сказал Фёст с насмешкой, поигрывая ремешком подвешенной по-немецки, слева, кобуры. — Назовите себя и цель вашего «визита».
— Дурака валять решили, господа «парламентёры»? — раздражённо ответил генерал. Его бесило сейчас абсолютно всё — погода, неудача, этот не выражающий никаких эмоций старший лейтенант и не по делу весёлый штатский, а особенно — мысль о том, что его «напарник» и «полномочный представитель» сейчас уже добрался до машины на КПП и, включив печку, мчит в сторону Москвы. Или — в противоположную. Так или иначе — ему сейчас гораздо комфортнее. Но не может же быть, чтобы такой человек просто сбежал! Он вложил в «проект» все свои таланты и возможности, ему есть что терять и нечего делать ни в подполье, ни в эмиграции. Так что рано отчаиваться…
— Я без дипломатии скажу, — чуть снизил генерал тональность, — напрасно вы вмешиваетесь не в своё дело. Тут вопросы государственные. Не по вашей компетенции да и не по моей тоже. Я, думаете, что-то решал? Мне, генерал-лейтенанту, высшее командование тоже приказало — доставить конкретного человека в известное место. Обеспечить необходимые условия. Нам, исполнителям, что делить? А вы… господин неизвестный, — обратился он к Фёсту, признав в нём старшего, — стрелять начали…
— Полковник, кстати, — походя заметил Фёст. — Интересное дело, — опять усмехнулся он, — у меня этот эпизод качественно записался, камера хорошая, профессиональная, почти «Три Д». Там отчётливо видно, кто первый, откуда и из чего стрелял. Вместо человеческого разговора. Так что «ваша не катит». Дальше — вы человек, судя по вашим словам, военный, тогда и караульный устав обязаны знать. Часовой есть лицо неприкосновенное, сам же оружие при нападении на охраняемый объект применять обязан, не вникая в обстоятельства. Подчиняется только разводящему и начкару. С нашей стороны всё законно, за начкара — сам Верховный Главнокомандующий! Так что все покойники — на вашей совести. Советую не усугублять. Предлагаю всем выйти из машин без оружия, построиться. Я доложу и будем ждать, как Верховный распорядится. Он ведь в любом случае главнее вашего командира. Или уже нет? — Фёст помолчал немного, изображая сомнение и раздумье. — Если он вас ждал, а нас предупредить забыл — ему претензии выскажете. Других условий у меня для вас нет, а огневой мощи, чтобы остатки вашей «гвардии» добить — достаточно. По три гранатомётчика на каждую машину плюс взвод полного состава с тяжёлым вооружением и, добавлю, — приличным боевым опытом. В нашей решимости применить силу вы убедились. Соображайте. Время пошло! — Фёст посмотрел на часы и решил слегка сблефовать: — Десять минут. То есть мы вас успеем ликвидировать раньше, чем подойдёт помощь, на которую вы рассчитываете. Дальнейшее развитие событий станет вам абсолютно безразлично. Как там у Василя Быкова книга называлась? «Мёртвым не больно»?
Сознавая полную безвыходность своего положения, генерал кипел бессильной злобой, на себя в первую очередь: нет, действительно, за двадцать лет аппаратных игр он совершенно разучился реально на жизнь смотреть. Забыл, можно сказать, что далеко не всё в ней случается, как тебе возжелать благоугодно будет.
Генерал скрипнул зубами так, что Фёст услышал. «Ведь был же девяносто четвёртый год, и Грозный, и гибель Майкопской бригады как раз под гранатомётами из засад», — думал он. Сам, тогда ещё капитан, знал, что говорилось о той войне и писалось, с участниками боёв лично общался, но вот дальнейшая «служба» как смыла всё, что было в нём офицерского, осталось только чиновничье. Вот на этом поприще успехов он достиг выдающихся…
На себя-то генерал злился и на организаторов всей акции, но стоящего перед ним полковника пристрелил бы в первую очередь. Это ведь он осмелился стать ему поперёк дороги. И стоит — не сдвинешь!
— Я должен связаться с руководством. Уточнить обстановку, получить инструкции…
— Ох, я прямо с вас смеюсь, — начал откровенно валять дурака Фёст. — Хотите сказать, что всё это время сидели в машине и задумчиво смотрели на минутную стрелку, ждали, когда истечёт срок ультиматума?
— Рация была в той машине, что вы сожгли…
— Ага. А сотовые телефоны у всей вашей команды отобрали родители за плохое поведение… Даже не остроумно. Принимайте решение, — повторил Фёст. — Генерал вы или в натуре шестёрка с лампасами? На вас мне, честно говоря, наплевать и растереть, а ещё три десятка солдат по вашей милости в упор расстреливать — поперёк горла…
Его слова прервали донёсшиеся из-за леса автоматные очереди, сначала одна, потом ещё несколько. И — взрывы ручных гранат. Похоже — примерно в том направлении, куда Герта повезла Президента с его друзьями.
Генерал начал открывать рот, но сказать ничего не успел.
По едва заметному кивку Фёста «Леонов» сгрёб генерала в охапку, закинул на плечо, как волжский грузчик — шестипудовый куль муки, и со скоростью спринтера рванул в кусты.
Достаточно было взмаха руки, чтобы «Аякс» за полминуты из «вампира» сжёг оба БТРа и «Навигатор», а из «Шмеля»[66] ударил по «Уралу». Четыре передвижных полевых крематория — и больше никаких проблем, хотя бы здесь. Только Фёста с юных лет учили спасать людей, а не убивать, даже когда второе — предпочтительнее.
Под курткой у него висели на ремне, прицепленные прямо рычагами, четыре «РГД-5». Их он и швырнул из кювета одну за другой под колёса ближайшего БТРа раньше, чем экипаж опомнился и начал стрелять.
Получилось, как надо. Все свои живы, даже он, если успеет добежать до укрытия, а бронетранспортёр уже никуда не поедет.
Глава двадцать седьмая
Англичане — великая морская нация. С этим спорить нелепо, достаточно пролистать историю последних веков. По крайней мере, с тысяча пятьсот восемьдесят восьмого года, со дня гибели испанской «Непобедимой армады», первенство Британии на морях никто не оспаривал. Попытались немцы, начав строить свой «Хохзеефлотте»[67], но не успели, Мировая война началась раньше, чем флот был готов. После Ютландского сражения, которое не стало второй Цусимой, а закончилось вничью, что для немцев означало полное поражение, целых тридцать лет никто не пытался бросить новый вызов «владычице морей». Пока наконец гордые британцы не усмотрели для себя смертельную угрозу в двадцатилетней кораблестроительной программе России — своего надёжного союзника по ТАОС.
Следует отметить, что некая паранойя всегда была отличительной чертой английского истеблишмента. Все эти короли, лорды, премьер-министры, генералы и адмиралы жили в постоянном, изматывающем, лишающем здравомыслия страхе перед тем, что кто-то, наконец, стукнет по столу кулаком и спросит: «А вы вообще кто такие? С какой радости над вашей империей не должно заходить солнце? Не хватит ли с вас прекрасных, неприступных с Х века островов, где можно пасти овец и валять шерсть?» Четыреста лет существования в такой утомительной психической атмосфере и выковали знаменитый «британский характер». «Возьми всё, до чего можешь дотянуться, и никому не отдавай! Убей раньше, чем убьют тебя! Предай раньше, чем „другу“ это придёт в голову! И вообще не нужно нам никаких друзей, куда проще жить, считая всех врагами, только и мечтающими, чтобы вырвать у тебя из пасти очередной кусок ростбифа!»
Эта философия получила отличный стимулирующий толчок в середине пятидесятых годов XX века. Англия дождалась того самого «Вызова» — ключевой идеи капитальнейшего двенадцатитомника Тойнби[68].
Российские адмиралы и наиболее дальновидные политики, мыслящие историческими периодами, а не избирательными сроками, сумели мобилизовать общественное мнение и, наконец, пробили через Думу грандиозную программу морских вооружений, масштабами превосходящую давние амбиции Тирпица[69]. Только кайзеровской Германии, по большому счёту, флот особенно был ни к чему, что и подтвердила суровая практика — критерий истины. Ни в океаны он не вышел из своего Вильгельсмгафена, за исключением нескольких рейдеров, ради которых не стоило огород городить, ни даже на Балтике не сумел запереть в Маркизовой луже[70] совсем небольшой, но активный русский флот.
А вот России, с её четырнадцатью морями и тремя океанами, настоящий большой флот был очень нужен. Все морские пути, от Петербурга, Одессы и Севастополя до Владивостока и Порт-Артура, должны быть надёжно обеспечены, все самые отдалённые «задворки Великой империи» — защищены. И вокруг Африки проводить конвои, если вдруг закроется Суэцкий канал, и Персидский залив защищать от вторжения иноземцев[71]. В своё время Аляску с Калифорнией потеряли только потому, что не на чем было туда плавать, обеспечить регулярное круглогодичное сообщение хотя бы с Владивостоком. На Амуре, Уссури и Сунгари нужна военная флотилия в сотню вымпелов, чтобы контролировать две тысячи вёрст беспокойной китайской границы, пресекать налёты хунхузов на прибрежные города, Транссиб и КВЖД…
Поднапряглись, за двадцать лет построили то, что и имели в виду адмиралы и геополитики, — флот необходимый и достаточный, хорошо сбалансированный, отвечающий требованиям задач на каждом из возможных ТВД.
Тут англичане второй раз за столетие занервничали, «сорвались с нарезов», как это иногда случается с артиллерийским снарядом, и вся их политика (подобно тому же снаряду) бессмысленно закувыркалась, теряя направление и смысл. Первый раз это случилось в десятых годах ХХ века, когда они решили в пику каждому построенному немцами линкору строить два своих! И строили, надрываясь, и обогнали всех, врагов и союзников, только две трети дредноутов и сверхдредноутов так никогда и не пригодились, бессмысленно стоя в базах, а экономика трещала от непосильных расходов на их содержание. Одновременно, совершенно необъяснимым образом, за сорок послевоенных лет число адмиралов и приравненных к ним гражданских чинов возросло в шесть с половиной раз в сравнении с временами, когда «Юнион Джек» реял на всех морях и английские стационеры[72] дымили трубами во всех более-менее примечательных портах и на рейдах мира…
И на этот раз Британия, почуяв угрозу, решила тряхнуть стариной — как штангист-пенсионер, вдруг полезший на помост в неожиданном помутнении разума. Лорды Адмиралтейства и послушный Парламент постановили — о раритетах эпохи Доггер-банки и Ютланда, своих и трофейных немецких, что ржавеют на консервации, — забыть. Снова строить, на каждый новый русский крейсер (время линкоров прошло, но штук сорок англичане в разделку не пустили, на всякий случай) немедленно отвечать однотипным, но хоть в чём-то его превосходящим. Ста лет оказалось мало, чтобы адмиралы сообразили — Русско-японская война не повторится никогда. Не будут больше выстраиваться в кильватерные колонны придуманные и построенные именно и только для эскадренного боя броненосцы и броненосные крейсера, сходясь в единственном решающем судьбы империй сражении. Но будущих британских флотоводцев воспитывали в том самом духе: придёт момент, и враг окажется именно там, где нам нужно, и именно в том составе, чтобы наша броня была толще, пушки крупнокалибернее и дальнобойнее, скорость выше. И воевать русские адмиралы будут по кальке с тактики З. П. Рожественского — делать только то, что давным-давно прописано в книгах никогда не воевавших теоретиков, не задумываясь, что неприятель учился по тем же самым книжкам, только прочёл их внимательнее. То, что «заклятый друг» может предпочесть действовать по примеру адмирала Шпее в сражении у Коронеля, во внимание не принималось, об этом неприятном эпизоде предпочли просто забыть.
Ещё один постулат оставался неизменным и в начале ХХI века — Англия сама решает, когда ей начинать войну. Никаких объяснений по этому поводу она никогда и никому не давала, или, если возникал вдруг подобный каприз — причиной и поводом объявлялось всё, что угодно. Так, не имевший никакого отношения к интересам Великобритании спор между Николаем Первым и турецким султаном о статусе Святых мест Иерусалима вполне сгодился для организации нападения на Россию наскоро сколоченной европейской коалиции. С неприкрытыми планами отторжения от неё Крыма, Кавказа, Бессарабии, Финляндии, Польши, всей Прибалтики, Камчатки, устья Амура и прилегающих территорий[73].
Вот и на этот раз Англия втягивалась в первую за столетие войну между европейскими державами с азартом и нетерпением, мечтая на этот раз добиться всего, что не удалось за предыдущие три века.
Никто из охваченных «фебрилис милитарис»[74] государственных и военных деятелей не только Британии, но и остального «цивилизованного мира» не замечал, что вопреки собственным традициям — до последнего уклоняться от перспективы большой войны, старательно и часто во вред себе стремясь к компромиссам, — на этот раз Российская империя с распростёртыми объятиями шла навстречу пожеланиям партнёра.
…Команда — «поддаваться на провокации» флоту очень понравилась. Начиная от главкома и до командира «корабля четвёртого ранга», к коим относились малые миноносцы, сторожевики, прибрежные подводные лодки и прочий расходный материал войны. Ничего нет хуже, если «исторический противник» наглеет день ото дня, а ты связан всякими там дипломатическими условностями. Россия с Англией не воевали в открытую уже полтора века, а после Русско-японской войны, где обе стороны были ярыми противниками, пусть и не «стреляющими» (так зато японцы вволю постреляли по русским с английских кораблей и из английских пушек), странным образом оказались союзниками, сначала в Мировой войне, а потом и в ТАОС. Причём, как говорят в Одессе, — «теми ещё» союзниками.
Весь минувший век среди русской аристократии и просто богатых людей процветала англомания, как бы в виде реакции на прошлые конфликты. Всякое, мол, бывало, зато теперь — тишь, гладь да божья благодать. Покупать квартиры, виллы, замки в Лондоне и окрестностях стало более модно, чем в Париже и на Лазурном Берегу. Но на Российском Императорском флоте к англичанам отношение более тёплым не стало. Эта неприязнь подчёркивалась во всем, начиная от передающихся из поколения в поколение в кают-компаниях историй о британском жлобстве, когда даже во время «дружеских визитов» за счёт короля (или королевы) гостям подносилась одна (!) рюмка виски или три — портвейна. А дальше, если есть желание, — пей своё или за свои. На такую сволочную манеру русские офицеры придумали асимметричный ответ. Если английские офицеры оказывались на русском корабле (или вообще в подходящих обстоятельствах), их усилиями всей команды, от командира до вестового, упаивали до бессознательного состояния, после чего бесчувственные тела либо выкладывали на пирсе (если дело происходило в порту у стенки), либо на катере, со всеми церемониями и сигналом горна, подвозили к парадному трапу. А там пусть хоть на руках уносят, хоть горденями поднимают. Традиция стала вековой, и обе стороны в неё играли охотно. Наши потешались собственным остроумием (напоить человека, знающего, что его собираются напоить, нужно уметь), а англичане радовались, сколько изысканных напитков удалось употребить «на халяву». Отсюда, наверное, и пошло в Великобритании популярное выражение: «Халява, сэр!»
В более серьёзных вопросах взаимоотношений как флотов, так и личного состава, от рядовых до адмиралов, взаимная неприязнь тоже присутствовала постоянно. Вечное соперничество во всём — от скорости постановки на якорь в чужом порту до результатов учебных стрельб в открытом море, специально затевавшихся на виду друг у друга и не всегда с соблюдением положенных правил. Море-то открытое, не лезь, если видишь, что место занято. Однако лезли, чуть не прямо в зону падения снарядов, и опять в основном англичане. А потом, воткнись даже «практический» (т. е. учебный, без начинки) снаряд в борт английского крейсера — год минимум дипломатических разборок обеспечен.
Больше пятидесяти лет прошло с интересного события на Спитхедском рейде, а всё не забывается, хотя много с тех пор случилось всякого, с куда большими жертвами и последствиями. В тысяча девятьсот пятьдесят шестом году пришёл в Англию крейсер «Князь Дмитрий Пожарский», доставил на какое-то мероприятие правительственную делегацию. Стоял крейсер на внешнем рейде, где указано, и ночью вахтенный мичман услышал какое-то шевеление под кормой. Взял и бросил, согласно уставу, в подозрительное место обычную ручную гранату. К всеобщему удивлению, через короткое время из-под кормового подзора всплыл труп в легководолазном снаряжении.
Поднятый на борт, труп оказался коммодором «ХМН»[75] Крэббом, широко известным в узких кругах водолазом-диверсантом, награждённым за разные похожие дела Крестом Виктории. Скандал разгорелся неслабый, англичане отмазывались единственно тем, что капитан за неделю до того взял отпуск и в нерабочее время, для общего развития, решил посмотреть, какие у нового русского крейсера винты. Винтов за двадцать лет службы не видел, так заинтересовался, что на свои деньги частную подводную лодку нанял, поскольку надводных судов в окрестностях крейсера вахта не обнаружила.
Наши утверждали, что англичане банально минировали крейсер, но разрешения на подводно-спусковые работы для проверки, не осталось ли чего интересного на дне, естественно, не получили. Спорили долго, но кое-как спустили дело на тормозах[76]. Российским морякам, естественно, правительство вручило ордена, включая наиболее непричастных, британцам своё — смолёные фитили до самой диафрагмы.
Осадочек, как в известном анекдоте, остался. Симпатии у флотской братии друг к другу не прибавилось, но и столь наглых выходок с тех пор не повторялось. Русские — они же ненормальные, как с ними дело иметь? Кому ещё в голову придёт после отбоя за борт ручные гранаты бросать, которых на флотах вообще на вооружении не имеется?
В силу всего вышесказанного, события, начавшиеся тремя неделями позже дня принятия «окончательного решения», особого удивления вызвать не должны. Слишком долго висело на стене пресловутое «чеховское ружьё».
Как раз посередине треугольника, двумя углами которого являлись Азорские острова и острова Мадейра, а третий находился чуть юго-западнее буквы «А», третьей в надписи на карте — «Атлантический океан», случилась столь желанная всеми «провокация».
С веста, от берегов Америки, из Норфолка шёл двенадцатый оперативный отряд, непостоянная боевая единица, экстренно составленный из четырёх российских лёгких океанских разведчиков (они же — «истребители торговли») типа «Аскольд»[77]. Их сопровождали четыре «Новика»[78] и небольшой эскортный катамаран-гидроавианосец «Гайдамак», несущий до десятка двухместных штурмовиков-разведчиков «КОР-5»[79], летающих лодок катапультного запуска.
Штурмовиками, впрочем, их обозвал сгоряча кто-то из давнишних адмиралов, которому требовалось срочно отчитаться о неуклонном росте морской мощи государства. Что там от штурмовика, кроме возможности летать и стрелять по цели сверху вниз? Бронирования ноль, носовая двадцатимиллиметровая пушка, спаренный пулемёт «ДШК» в кормовой турели и пятьсот килограммов противолодочных бомб или акустических буев на подкрыльевой подвеске. Разве что вражеские пароходы-прорыватели блокады пугать. И скорость смешная — четыреста пятьдесят километров в час. Ни от кого не убежать и никого не догнать, кроме старых поршневых транспортников и морских вертолётов. Но зато, если доведётся вражескую лодку в надводном положении засечь, — верный ей конец! А как разведчик вполне хорош — может забираться на высоту в двенадцать километров и болтаться там до полусуток, неуязвимый для зениток и истребителей противника и видящий всё вокруг на сотни миль.
Отряд под командой контр-адмирала Дукельского возвращался согласно приказу о готовности номер один из Джексонвилла в Хайфу для укрепления боевой устойчивости Средиземноморской эскадры, которая в случае возникновения «конфликта» должна была вести боевые действия от Гибралтара до Суэца, предполагая нейтралитет со стороны французов и итальянцев.
В течение двух с лишним часов отсутствовала связь на средних и коротких волнах, и это тревожило адмирала. Корабли внутри ордера легко могли переговариваться на УКВ, но не бралась ни Хайфа, ни даже гражданские радиостанции Европы. Такое впечатление, что от полярного круга до экватора протянулся сплошной грозовой фронт. Америка ловилась свободно, но для того, чтобы выходить на военно-морского агента[80] в Вашингтоне, адмирал пока оснований не видел.
Корабельные радиолокаторы тоже «ослепли», что было ещё более странно, и Дукельский нервничал. В случае внезапного налёта бомбардировщиков с чужого авианосца отряд мог полагаться только на зоркость сигнальщиков и выучку расчётов зенитной артиллерии.
Поэтому адмирал постоянно держал в воздухе по три «КОРа», способных контролировать море в радиусе двухсот миль, и сменял дозоры каждые четыре часа, чтобы не переутомлять экипажи. Авиационного бензина американцы по дружбе залили полные танки, до Хайфы должно было хватить.
Начальник штаба капитан второго ранга Азарьев ему, кстати, заметил по этому поводу:
— Уж больно янкесы перед выходом любезны были. Выпили с нашими от пуза, горючки дали, в мастерских и на складах, как родных, ублажали, без всяких ведомостей…
— Да такой уж они народ. Я с ними и раньше общался. Примут за своего, даром всё готовы отдать, совершенно по нашему принципу: «Ты меня уважаешь?»
— Не совсем так, Геннадий Аполлонович, — сказал Азарьев, — я в Штатах тоже не первый раз. Год в Филадельфии просидел, когда «Боярин» ремонтировали. Вчера они держались так, будто на войну нас провожали, только не имели права об этом сказать. Как ты знаешь, я людей на рюмку-другую раскручивать умею. Мне один их коммандер, в порыве дружеской откровенности сообщил, что от серьёзного парня из госдепа на днях такую сентенцию слышал: «Наверное, скоро война. Мы будем помогать России, если станет выигрывать Англия, и поддержим Англию, если станет побеждать Россия. И пусть они убивают как можно больше!»
Говоря это, Азарьев выглядел взволнованным и даже расстроенным. Американцы, видно, ему своими человеческими качествами импонировали, и такая степень цинизма его вывела из себя.
Дукельский давно был чужд всяких иллюзий и эмоций, касающихся любой политики, хоть внутренней, хоть внешней. Человек, дослужившийся хотя бы до одного «чёрного орла»[81], смотрит на жизнь иначе, чем обер- и штаб-офицеры.
— Вас это так расстроило, дорогой Коленька?
Он назвал капитана его училищным прозвищем, по срокам выпуска их разделяло всего четыре года, старший гардемарин Дукельский был в роте у кадета Азарьева вице-фельдфебелем, но с чинами по-разному вышло.
— Все они одинаковые сволочи. Немцы — чуть меньше, чем другие, и то потому, что тайных эмоций при себе долго держать не могут, отчего выглядят несколько более порядочными… Стой, стой, — прервал он интересный разговор, раньше сигнальщика увидев «КОР», на полном форсаже (отчего за выхлопными трубами тянулись жгуты синеватого дыма) появившийся из дымки на правом крамболе флагмана. Не отказал себе в удовольствии сообщить вахтенному начальнику, что он думает о его родственниках и родственницах применительно к исполнению лейтенантом своих должностных обязанностей и вообще к организации службы на крейсере.
— Что-то торопится летун, — вернулся адмирал к первопричине своей импровизации. — Не иначе «донос на гетмана-злодея царю Петру от Кочубея». — Дукельский с юных лет любил выражаться витиевато, языком аллюзий и ассоциаций.
Через несколько минут «КОР» виражом зашёл с кормы, строго вдоль диаметральной плоскости крейсера.
Летнаб[82] был опытный, сбросил алюминиевый пенал, приторможенный длинным парашютом-стабилизатором точно на шканцы, едва не попав прямо на ходовой мостик. Значит, и на самолёте рация не работает. Убедившись, что донесение достигло цели, самолёт развернулся в сторону «Гайдамака», догнал катамаран и аккуратно притёрся к палубе, затормозил с пробегом на треть короче штатного. При хорошей подготовке пилота амфибийное шасси позволяло «летающей лодке» такие вещи, хотя посадка на воду в нормальной обстановке считалась предпочтительнее. В бинокль было видно, как пилот что-то докладывает руководителю полётов, потом обменялся несколькими словами с экипажем готовой к взлёту машины. Совершенно как в известном анекдоте про рыбаков и командира подводной лодки указал рукой направление, и второй разведчик, с бортовым номером «Г-217», выброшенный катапультой, ушёл на норд-ост, быстро набирая высоту.
За это время подобравший пенал матрос передал его вахтенному мичману, тот взбежал наверх по шести трапам, вручил футляр с донесением вахтенному начальнику, и, наконец, через флаг-капитана тот попал в адмиральские руки.
— Лётчика и летнаба ко мне, — бросил вахтенному лейтенанту Дукельский, разобрав коряво (на коленке) написанное карандашом на листе непромокаемой бумаги. Тот, всё ещё осмысливая полученное ранее внушение, стремительно кинулся распорядиться насчёт катера.
В ожидании прибытия пилотов адмирал принялся отдавать приказы по отряду.
Крейсера — флагманский «Аскольд» на левом фланге, вправо от него «Фельдмаршал Кутузов», «Адмирал Сенявин», «Князь Дмитрий Донской» — начали развёртывание из кильватера в строй фронта, одновременно прибавляя ход до полного. «Новики» попарно выдвигались на фланги, обозначая охват предполагаемого района боевых действий. «Фидониси» и «Гаджибей» слева, «Калиакрия» и «Корфу» справа. Все четыре — эсминцы последней, «Ушаковской серии», поименованной в честь побед адмирала Ушакова, самые новые и на этот момент — сильнейшие в мире в своём классе. Они, относясь скорее к классу артиллерийских «дестройеров», чем классических торпедных кораблей, несли тем не менее кроме семи (одна лишняя, поставленная вместо кормовой 100-мм спарки) 130-мм пушек ещё и по три новейших пятитрубных торпедных аппарата калибра 610 мм вместо обычных на русском флоте 533-х. Их электроторпеды шестидесятиузловой скорости имели дальность хода 20 миль, при массированной залповой стрельбе могли поразить противника на пределе действительного артиллерийского огня, а ночью, когда комендоры не могут корректировать огонь по всплескам, — гораздо дальше и вернее пушек.
Эсминцы, форсируя ход до максимально допустимых оборотов турбин, похоже, выскочили за проектные сорок четыре узла. Вспоротая форштевнями густо-аквамариновая вода поднялась и словно застыла лишёнными пенных гребней бурунами выше ходовых мостиков. Непривычному человеку стало бы страшно от вида готовых обрушиться на хрупкий корабль двух хрустальных стен. Ощущение — словно на гавайской плавательной доске скользишь вдоль гребня несущей волны.
Тут следует сделать некоторые тактические пояснения и совершить ещё один экскурс в историю последних двух третей ХХ века. Когда в тысяча девятьсот двадцать шестом году принимался Вашингтонский договор по морским вооружениям, Россия отказалась в нём участвовать. Договор, наряду со списанием большей части построенных или заложенных до 1920 года линкоров, требовал также ограничения водоизмещения крейсеров десятью тысячами тонн, а калибров артиллерии — шестью дюймами. Да ещё предлагалось юридически закрепить «обычай» — Британский флот обязательно должен быть мощнее флотов двух следующих за ним держав (хотя бы и за счёт сокращения количества уже имеющихся у них кораблей).
Спорить особенно было некому. САСШ в то время вообще не имели приличного флота, немецкий после капитуляции был захвачен и поделен между Англией и Францией (в соотношении пять к трём, не говоря о реальной боевой ценности назначенных к разделу кораблей). Япония только-только начинала конструировать и строить собственные линкоры и линейные крейсера, всерьёз её пока никто не воспринимал. У России после Мировой и Гражданской войн вообще мало что осталось плавающего — 6 заведомо устаревших и изношенных за войну балтийских и черноморских дредноутов, меньше двух десятков цусимских времён крейсеров и броненосцев, на которых, как выразился Л. Соболев: «Труб было больше, чем пушек». Ещё на всех морях держалось на воде около двадцати тех ещё, первых «Новиков», старшим из которых было уже по десять лет, и это всё. Только-только хватало прибрежные воды охранять да личный состав тренировать.
То ли дело флот британский! К дню начала Вашингтонской конференции он насчитывал 33 дредноута и сверхдредноута, 11 линейных крейсеров, 29 додредноутов, полторы сотни крейсеров всех классов, не говоря об огромном числе эсминцев и подводных лодок, уже находящихся в строю, и более тысячи судов всех классов, заказанных по кораблестроительным программам военного времени.
Именно поэтому тогдашний морской министр адмирал Кедров резонно предложил в подобных дурацких конференциях, профанирующих саму идею нормализации международных отношений и реального сокращения вооружений, не участвовать. И оказался прав. Пока европейцы с американцами и японцами тупо обманывали друг друга, пытаясь загнать в десять тысяч тонн по двенадцать нового образца шестидюймовок (а немцы рискнули вооружить свои «крейсера», оказавшиеся в итоге «карманными линкорами», сразу одиннадцатидюймовками!), Россия не спеша восстановила и модернизировала то, что ещё могло воевать (вроде «Гангутов», «Императриц» и «Николая Первого»), достроила с учётом требований момента свои застрявшие на верфях линейные «Измаилы», легкие «Светланы» и «Лазаревы», два десятка «Новиков» серии «Изяслав». И только тогда приступила к неторопливой (время терпело) проработке идей и конструированию нового, небывалого в истории океанского флота. Именно сразу флота, как единого организма, в котором каждая часть выполняет свою функцию и наилучшим образом сочетается с остальными, а не отдельных, пусть очень хороших, кораблей. Вот тут и пригодилась дальновидно оставленная за собой «свобода рук».
Мало, что ставка была сделана на тоннаж и вооружение, русские конструкторы и адмиралы, учитывая исходное пятикратное превосходство возможного противника в численности, озаботились, вспоминая японскую и Мировую войны, триадой «скорость-броня-огонь». Сформировали работоспособные команды инженеров-двигателистов и корпусников, создали несколько специальных конструкторских бюро прямо при старших курсах. В итоге уже к началу сороковых годов русские крейсера и эсминцы превосходили западных «одноклассников» по скорости на 5–7 узлов, имели более мощную и дальнобойную артиллерию, могли догнать любой иностранный корабль и уйти с большим отрывом от сильнее вооружённого. А главное, адмиралы получили возможность свободно выстраивать конфигурацию любого ожидаемого боя по собственному усмотрению.
Следующие полвека «гонка по расходящимся направлениям» так и продолжалась. ТАОС существовал, и никто из его участников воевать друг с другом как бы не собирался даже теоретически. Но у геополитики и инженерной мысли свои законы. Россия проектировала и строила сбалансированные, ориентированные на достижение конкретной цели эскадры океанских рейдеров со средствами усиления и поддержки. Британия продолжала, как мусульманин в Коран, верить в постулат, утверждающий, что на любом театре, входящем в «сферу её жизненных интересов», она должна в любое время иметь возможность создать двукратное превосходство над каким угодно, даже (и в основном) гипотетическим противником. Обновлённая Адмиралтейством в семидесятые годы военно-морская доктрина вдобавок потребовала иметь минимум 75 крейсеров «свободного резерва» (45 — для охраны коммуникаций, 15 — для Флота Метрополии и столько же для Дальневосточного театра).
Остальные державы (кроме Японии и САСШ) давно плюнули на эти игры и, исходя из теории «минимальной защиты», строили свои флоты, руководствуясь в основном эстетическими предпочтениями, примерно как Италия, Аргентина, Бразилия и Чили. Корабли у них получались донельзя оригинальными, даже экзотическими, но в региональных конфликтах идею «Fleet in being»[83] вполне оправдывали.
Доставленные на мостик «Аскольда» пилот и летнаб доложили в дополнение к своей записке, что на расстоянии около шестидесяти миль к зюйд-зюйд-осту обнаружен идущий полным ходом российский сухогруз тысяч примерно на двадцать тонн, преследуемый двумя большими мореходными катерами неустановленной принадлежности, по всей видимости пиратскими. Эфир был сплошь забит помехами, радиосвязь установить не удалось. Сухогруз передал лётчикам флажный сигнал: «Военной команды и вооружения на борту не имею, прошу помощи». При облёте на бреющем удалось прочитать название — «Капитан Вилькицкий». Пароход отчаянно маневрировал, всё время стараясь сбивать катера с курса своей кильватерной струёй, и сдаваться явно не собирался. При виде разведчика команда, вооружённая противопожарными брандспойтами, баграми, лопатами, ломами и прочим подручным инвентарём, радостно приветствовала самолёт, причём капитан или штурман с мостика указывали руками и выпущенной красной ракетой на норд.
— Вот… — адмирал весьма красочно выразился в адрес собственного руководства и судовладельцев. — Мало им «Анапы», так и не могут о военном конвоировании договориться…
— Так они ж из Южной Америки, похоже, идут, а там наших войск пока нет, — возразил командир крейсера каперанг Залесский.
— Нет, есть, будете мне рассказывать, — не желал успокаиваться адмирал. — Взвод частных охранников самолётом перебросить всё одно дешевле, чем сейчас разбираться или за миллионы из плена выкупать! И хватит на этом, докладывай дальше, — повернулся он к летнабу, флотскому лейтенанту.
— Дальше мы сделали два захода по катерам, вели предупредительный огонь из пушки и пулемётов. Для большего эффекта сбросили по курсу одну глубинную бомбу с установкой на три метра, чтобы плеснуло повыше. Катера ответного огня не открывали, сбросили скорость, но остались в районе…
— Надо было топить к чёртовой матери, а уцелевшие нам бы что хочешь потом рассказали… — адмирал Дукельский славился на флоте склонностью к мгновенным и предельно резким решениям, чего они бы ни касались. У офицеров по рукам много лет ходили тетрадочки с наиболее яркими высказываниями и выходками Геннадия Аполлоновича. Может быть, старшие начальники, которые не только «тетрадочку» читали, именно из этих соображений возвели его намного раньше срока в адмиральский чин. Чтобы было кого в нужный момент «с цепи спустить», а в случае «дипломатических осложнений», как с тем же английским подводным пловцом, сослаться на особенности характера чересчур молодого и безрассудного адмирала.
— Рассказали бы, — не возражая, а будто думая вслух, сказал Азарьев, — что, находясь на морской прогулке с Азорских островов на Канарские, подверглись неспровоцированной агрессии…
Лейтенант-пилот, которому было весьма интересно вблизи послушать командирские пререкания, особенно, если они лично тебя не касаются, всё же гораздо больше был озабочен происходящим в море.
— Дальше ещё интереснее было, — сказал лётчик, — мы пошли, куда ракета указала, и миль через двадцать обнаружили три английских крейсера типа «Тайгер»[84]…
— Барахло, — опять не сдержался адмирал. — Однотипные?
— Так точно.
— Значит, сразу вся шайка — «Тайгер», «Лайон» и «Блейк». Штурманец, глянь в книжечку с дополнениями, когда модернизацию последний раз проходили, что интересного прибавилось или убавилось… Я про них давно уже и думать забыл.
— Так точно, по-нашему — барахло, — согласился лейтенант. — Но вместе с ними находился корабль управления или, скорее, радиоэлектронной борьбы, перестроенный из какого-то лёгкого крейсера, тысяч на десять тонн, тип установить не удалось. Весь утыканный фазовыми антенными решётками и ещё какой-то, прошу прощения, хернёй, похожей на козловые подъёмные краны…
— Вот! — воскликнул адмирал. — То-то у нас связь не работает!
— Так точно, связь, кроме УКВ на прямой видимости, не работает мёртво. Словно в полярном сиянии летишь…
— Вот же суки! — оскорбился адмирал. — Это они на нас испытания проводят да ещё пиратов на «Вилькицкого» навели… Я у них в составе действующего флота такой лайбы не знаю… Ну и вы? Что дальше сделали?
— Мы хотели сбросить вымпел о действиях пиратов. Им до «Вилькицкого» полным ходом меньше часа идти.
— Решение неверное, — отрезал адмирал. — Раз с парохода вам дали целеуказание, значит, наши англичан уже видели, и те им помогать не стали… Только не понимаю, отчего они их сами не утопили. «Вилькицкого», я имею в виду.
— Встретимся — узнаем, — сказал Залесский.
— С расстояния примерно в две мили «Тайгер» открыл по нам плотный зенитный огонь всем левым бортом, — переждав командирский обмен мнениями, продолжил лётчик. — Мы ушли отвесным пикированием, едва крылья не отвалились, вывернулись у самой воды и пошли домой. У меня всё, ваше превосходительство.
— Опять дураки, они, не вы, — сообщил адмирал. — Нужно было подождать, на бреющем по вам стрельбу начинать. Но вы не в обиде, надеюсь? Что сказали экипажу «двести семнадцатого» и руководителю полётов?
— То же, что и вам, только короче. Посоветовали к крейсерам не приближаться, как следует погонять катера, а пароход направить в сторону эскадры.
— Это — правильно. Отдыхайте. А можете тоже слетать, если в силах себя чувствуете…
— Да что тут лететь, ваше превосходительство! Зато мы место знаем.
— Молодцы, одобряю.
— Ваше превосходительство, — вмешался штурманский старший лейтенант, которому адмирал велел уточнить данные «Тайгера» и его «систер-шипов», — согласно справочнику крейсера этого типа в прошлом году в ходе модернизации получили по одному палубному истребителю-перехватчику «Суордфиш». Скорость до тысячи км/час, радиус действия — до трёхсот миль, по маневренности уступает палубным истребителям обычных авианосцев. Вооружение чисто пулемётное, но очень многочисленное. Они до сих пор считают, что плотность огня, скорострельность и боезапас важнее поражающего действия отдельного снаряда. Запуск с катапульты, посадка производится на воду, для чего самолёт имеет запас положительной плавучести и водомётный маневровый двигатель. Для подъёма на борт истребителя крейсера оборудованы…
— Хватит, зачёт, — прервал штурмана Дукельский. — Вы знали, лейтенант? — спросил он лётчика.
— О самолёте вообще слышал, ваше превосходительство, но что они на «Тайгерах» стоят — не приходилось. Мы всё свободное время «силуэты и вид сверху» зубрим. Что другое бывает и упустишь.
Лейтенант был, конечно, прав. Его дело с высоты распознать тип корабля, определить «свой-чужой», курс и желательно скорость, а знать ещё, кто из тысяч единиц существующих в мире плавсредств когда модернизацию проходил и зачем…
Адмирал был с пилотом в принципе согласен, но перемолчать всё равно не мог:
— Придётся вашему непосредственному начальству фитиль вставить. Да и вы сами… ТТХ боевой техники возможного противника необходимо знать… и так далее. Рабочего и свободного времени не хватает — по ночам учите… так, так и ещё вот так! — очередной загиб он составил с привлечением уже авиационной тематики. Дукельский, кроме прочих достоинств, был славен и тем, что никогда не покроет, скажем, штурмана, употребив в загибе химические или механические термины. Нет уж, кесарю — кесарево. Штурману — локсодромии всякие, «лямбды Аш» и «дуги большого круга», соответственно куда нужно намотанные. А химик получит свои ангидриды, перекиси и закиси, подвергнутые процессу возгонки, сублимации и иным извращениям.
Закончив короткое, наскоро и без азарта придуманное внушение, Дукельский протянул руку, Азарьев подал ему микрофон станции УКВ, и адмирал тут же начал руководить.
Командиру «Гайдамака» приказал поднять все наличные самолёты, включая резервный, ведущим группы, помимо штатного комэска, назначил лейтенанта Михайлова-второго, только что ему докладывавшего. Офицер был под рукой, и не требовалось сочинять письменного приказа, перечисляя в обязательных пунктах то, что пилот видел и знает лучше него.
— С пиратами разобраться по обстановке. Гуманизмом я не страдаю и от вас того не требую. Над англичанами организовать постоянный барраж, на огонь отвечать огнём — ваши отличительные знаки достаточно хорошо видны, на ошибку «лаймы» не сошлются. Этот «антенноносец», — на ходу изобрёл адмирал неологизм, — если «владыки морей» хоть раз по вам прицельно выстрелят, — главная цель. Обездвижить и ждать подхода «Новиков». Часа через полтора-два они будут, пусть хоть предохранительные клапаны заклёпывают. Пароход защитить, до отряда довести целым. Всё ясно? Действуйте. И чтобы эти долбаные «Суордфиши» никого не пришлёпнули — смотрите там! Хорошо управитесь — за мной не заржавеет.
Командовавший всем британским соединением коммодор первого класса (нечто вроде контр-адмирала по-нашему) Хиллгарт допустил первую ошибку, повлекшую за собой другие, начавшие нарастать лавинообразно, что подтвердило, но слишком поздно, характеристику его курсового офицера в училище: «При всех превосходных личных качествах этому гардемарину нельзя давать в подчинение ни одного человека, даже для организации драйки судового гальюна. Всё, что может быть сделано неверно, будет сделано именно так, хотя и без злого умысла». К сожалению, к мнению воспитателя не прислушались, очевидно, перевесили «превосходные личные качества», и курсант в положенный срок стал адмиралом.
Был бы на его месте тот же Дукельский, он, не забавляясь «охотой на лис», первым делом утопил бы артиллерийским огнём русский сухогруз, раз уж возникло такое желание, а потом проводил бы свои радиоэксперименты. «Пиратов» привлекать не было никакой необходимости. Настоящих или подставных — не имеет значения. Зачем в важном деле лишнее и весьма слабое звено? А уж упустить русский военный «КОР», фактически застигнувший англичан на месте преступления, — это нужно быть совершенным дураком, о чём курсовой офицер писал, только не сообразил, что через определённый срок судовыми гальюнами дело не ограничится. Но именно по поводу гальюнов английский капитан-лейтенант написал всю правду, жаль что без подробностей.
А дело обстояло так — один из младших гардемаринов, назначенных в наряд, возглавляемый Хиллгартом, перепутал вентили и для промывки главной фановой трубы подключил вместо водяной магистрали воздушную, высокого давления, и, вдобавок, не к тому клапану не с той стороны. Натуральным образом несколько сот килограммов фекальных масс пошли по линии наименьшего сопротивления не за борт, а наоборот, и в итоге оказались на подволоках и переборках всех «мест общего пользования», включая гальюны офицерские и командирский. Веселья было много, разумеется, не у матросов и гардемаринов той вахты, что едва ли не сутки драила означенные помещения техническими жидкостями, хлоркой, а начальству ещё и дорогими, приобретёнными за свой счёт дезодорантами. Сам Хиллгарт тот раз вышел сухим из воды (простите — не воды), а несчастного рационализатора ночью избили «втёмную» до полусмерти.
Сейчас получалось ещё хуже. Как поступил бы нормальный офицер или адмирал?
Понял, что обнаружен, а операцию приказано сохранять в строжайшей тайне — значит, сбивай и быстро сматывайся, пользуясь тем, что тебя больше пока никто не видит и не слышит. Тем более, позволив подлететь вплотную, даже, может быть, приманив чем-то, хотя бы и ратьеровским сигналом[85], поймать в створ зениток трёх крейсеров и расстрелять почти фанерный самолётик — курсанту училища ПВО делать нечего. Так и его упустил господин адмирал, открыв огонь слишком рано, не зная реального уровня боевой подготовки артиллеристов (а он был очень низким, многие расчёты стреляли вообще второй раз в жизни), и всего половиной зенитных установок одного крейсера. Вот русский и ушёл чётким маневром, наверняка разозлённый и жаждущий отмщения.
В ответ на совсем не джентльменские слова командира «Тайгера» кэптэна[86] Харвуда, насчёт того, что обычно умный человек предпочитает не совать палку в осиное гнездо, адмирал ответил почти увещевающе: «Русский наверняка взлетел с какого-то пересекающего Атлантику одинокого крейсера. До него, может быть, сто, двести миль. Радио не работает, к себе он вернётся часа через два, если не имеет другого задания. Заградогнём мы показали ему, не причинив никакого вреда, что в этот район залетать не следует. Он, судя по всему, понял. Командир русского корабля это учтёт и сменит курс. Мы ведь пока не воюем со своими союзниками, черт возьми?» — последнее прозвучало вопросительно, совсем не по-адмиральски.
— Да тридцать два зуба чьей-то матушке в задницу, сэр, — ещё более нарушил субординацию кэптэн, поскольку всем на мостике было ясно, чья матушка имеется в виду. — Посмотрите сюда, — Харвуд размашистыми штрихами воскового мелка нарисовал на планшете, прислонённом к стенке рубки, сосем другую картину, чем представлялась адмиралу.
— Если русские не здесь, а здесь? — он указал место на две сотни миль ближе, и то ошибся. — Если там не одинокий крейсер, а соединение? И что мы будем делать вот с этим? — кэптэн обвёл овалом место «Вилькицкого» и катеров. — Русский пароход нас видел, просил о помощи, мы тоже видели его и катера, но не отреагировали? Мало нам истории с подводной лодкой и базой на Фарерах? Мой совет — сворачивать антенны и немедленно сваливать отсюда полным ходом. Тогда мы хоть сможем в очередной раз как-то откреститься от пособничества пиратам…
— С чего вы взяли, кэптэн, что нам стоит от чего-то «открещиваться»? — внезапно вмешался Эванс, тоже кэптэн, но из береговых, имеющий отношение к электронным делам и флотской разведке, поскольку постоянно располагался на четвёртом корабле отряда, «Гренвилле», том самом «антенноносце», переоборудованном из устаревшего лёгкого крейсера. Но на «Тайгере» появлялся ежедневно, о чём-то подолгу совещаясь с адмиралом.
— Совершенно не от чего, — чуть не плюнул, вопреки всем флотским традициям, под ноги чужому кэптэну Харвуд. — Лорд Дрейк был пусть и вице-адмиралом королевы, но всё-таки пиратом. Но он при этом грабил врагов своей страны, с немалой для неё и для себя выгодой, а мы сегодня сколько рассчитываем получить за помощь против своих союзников с каких-то марокканцев или мавров?
— Пора уже назвать вещи своими именами, никаких марокканцев на катерах нет, а есть такие же офицеры, как вы и я. И они тоже сейчас выполняют свой долг, — выпятил свои лошадиные зубы Эванс, вызвав у Харвуда с огромным трудом подавленное желание врезать по ним кулаком. Он, не испытывая никакой специальной симпатии к русским, ненавидел подонков и циников. Выходит, в Лондоне ничему не научились и опять повторяют прежний трюк. А ведь ещё Конфуций отмечал: «Воистину глуп тот, кто два раза спотыкается на том же месте».
— Ну вот, господин адмирал, — шумно втянув носом воздух, чтобы успокоиться, сменил настроение и тему обладавший изумительным музыкальным слухом Харвуд. Он различил вдали едва слышное гудение авиационных моторов. — К нам гости. А судя по поспешности ответного визита, их база — а авианосцы в одиночку не ходят — совсем недалеко, скоро мы будем иметь сомнительное удовольствие познакомиться с целым ударным отрядом. Количество же самолётов наводит на мысль об их раздражённом настроении…
Одновременно с кэптэном с марсов заорали сигнальщики, услышавшие и почти сразу увидевшие приближающиеся тремя парами «КОРы». Седьмой держался километром выше, осуществляя наведение и общее руководство.
Несмотря на расстояние, в сорокакратные стереотрубы видно их было хорошо. И отчётливо читались андреевские флаги на килях. Ни со шведским, ни с греческим не спутаешь.
Злорадствовать было поздно, следовало выкручиваться. У Хадсона решение созрело мгновенно.
— Господин адмирал, у нас единственный выход — полным ходом отходить на норд, сворачивая, если нужно, сбрасывая в воду антенны с «Гренвилла»…
— Вот этого делать никак нельзя, — снизошёл до объяснений Эванс. — Пока что крейсер перекрывает сплошными радиопомехами половину Атлантики. Русские нас не видят и не слышат, с самолётами связи у них тоже нет. Так что… Для нас главное сейчас — уйти подальше от катеров, поскольку принять их на борт мы уже не успеваем. Будем считать — парням не повезло. И — ни в коем случае не позволить русским фотографировать «Гренвилл», пока он в «рабочем виде». Несколько десятков качественных снимков крупным планом, и все наши тайны — в заднице той же мамаши, которая ещё не успела извлечь из ягодиц тридцать два зуба, — разведчик показал, что и он не чужд флотского юмора.
— Тогда нас рано или поздно догонят, — стоял на своём Хадсон. — «Гренвилл» не выжмет и тридцати узлов, а любой русский крейсер ходит по тридцать пять, эсминцы — по сорок. А если у них на авианосце есть пикирующие бомбардировщики или торпедоносцы… Нам нужно разделиться и разбегаться в разные стороны. «Гренвилл» пусть продолжает маскировать сам себя, а мы пойдём открыто. Русские не рискнут напасть первыми. Выстрелы по разведчику объясним замыканием в цепи централизованного управления огнём. Или ошибкой персонала — вместо учебных снарядов к орудиям подали боевые… Времени у нас будет достаточно, чтобы придумать десять объяснений, и пусть дипломаты обмениваются нотами.
Безусловно, Харвуд был бы куда лучшим адмиралом, чем Хиллгарт, если бы кому-то на этой должности требовался лучший, даже просто хороший. Но обычно от «хороших» — одни неприятности, как почти везде кроме серьёзного бизнеса. Это там дураки бухгалтер или топ-менеджер — катастрофа. А на флоте времена Нельсонов давно прошли. Что было бы с Англией ещё девяносто лет назад, если бы адмирал Трубридж в 1914 году мыслил как настоящий флотоводец, решил исполнить свой воинский долг, а не намёк из Адмиралтейства? Потопил бы, что ему ничего не стоило, «Гебен» и «Бреслау» на подходах к Эгейскому морю, Турция, не получив столь мощное подкрепление и обещание от Германии дальнейшей помощи, не вступила бы в войну. Соответственно, война бы закончилась года на два раньше, в России и Германии не случилось бы революций, сама Турция тоже осталась бы великой державой. Делить было бы нечего, только расходы считать. В таком варианте Великобритания уже вскоре после войны скатилась бы в мире на вторые и третьи роли. Но Трубридж оказался отнюдь не воинственным, зато очень понятливым. И случилось то, что случилось.
Сегодня Хиллгарту тоже предстояло войти в историю. И маршрут этого вхождения был тщательно разрисован на карте «береговым кэптэном» Чарльзом Эвансом, причём — «сэром Чарльзом». Харвуда аж перекосило, когда означенный сэр приказал, вот именно, приказал адмиралу действовать не по обстановке (не совсем правильно оцениваемой кэптэном Харвудом), а по его, Эванса, рекомендациям, которые на самом деле есть воля Первого лорда Адмиралтейства, а значит, и короля, которому принадлежит флот. «Флот Его Величества» — этим всё сказано.
Англичане, когда заведутся должным образом, тоже умеют «становиться в позу». Пусть и не так наглядно, как русские. Командир «Тайгера» сначала сильно покраснел, потом вернулся к нормальной расцветке, выругался почти беззвучно и решил с этого момента командовать крейсером, как штатной единицей флота в пределах своих полномочий «мирного времени». Иных он не получал и мобилизационного пакета[87] не вскрывал. Любые же другие приказы принимать исключительно от адмирала, и только в письменном виде. Что такое военно-морской суд, он знал.
— Ну вот, началось, — сказал лейтенант-артиллерист, державшийся среди допущенных на мостик в задних рядах, дабы не нарваться на никчёмное поручение, и с быстротой обезьяны полез по скоб-трапу на штатное место, передний командно-дальномерный пост. И от начальства подальше, и обзор почти на тридцать миль. Особенно через восьмифутовый горизонтально-базовый дальномер Барра и Струда. Когда старарт запросит — начнёт дистанцию до неприятеля по телефону передавать, поскольку радиолокаторы системы централизованной наводки не работают.
Три русских самолёта продолжали свой курс, ещё немного развернувшись по фронту, а четыре остальных свалились в пологое пикирование и исчезли из виду как раз там, где маневрировали вокруг парохода катера. Вскоре из-за горизонта донеслись глухие, явно подводные взрывы.
— Вот им и конец, — со странным удовлетворением глядя в глаза разведчику Эвансу, сказал Харвуд, хотя что-либо подобное в ближайшее время могло ждать и его. Если русские решат действовать аналогичным образом.
Как командиру, ему на мостике сейчас делать было почти и нечего. Заданный курс и скорость в десять узлов на безопасном расстоянии от сложно маневрирующего радиоэлектронного «Гренвилла» никто не отменял, вахтенный штурман с этой задачей вполне справлялся. Остальные крейсера двигались на удалении двух миль справа и слева. Команды «к бою» тоже не поступало. Вот Харвуд и вслушивался в разговоры «посвящённых», посматривая то на небо, то, краем глаза, на компас и лаг. Больше всего ему хотелось скомандовать всей этой публике, кроме вахтенных офицеров: «Долой с мостика». Формально такое право у него имелось, только не хотелось окончательно портить отношения с адмиралом и всей его братией. Хотелось Харвуду завершить службу с широкой коммодорской нашивкой на рукавах и пенсией на пятьсот фунтов в год больше.
А Хиллгарт, переглянувшись с Эвансом, который только в этом походе носил четыре нашивки кэптэна, а на самом деле был таким же, как командир отряда, контр-адмиралом и реально руководил операцией, наконец отдал решительную команду:
— Подпустить русских на минимальную дистанцию и сбить всех!
Не только у Харвуда при этих словах отвисла челюсть. Это уже не шуточки, не авантюра с прикрытием пиратской атаки на гражданский пароход — это война.
— Перехватчики к взлёту готовы? — вообразив себя Нельсоном, громко и решительно обратился к своему флаг-капитану адмирал.
Тот слегка замялся: у командиров «Лайона» и «Блейка» он мог запросить ответ по радиотелефону, но кэптэн Харвуд стоит рядом, и как отвечать за него на его корабле?
— Что вы молчите, Харвуд, я кого спрашиваю? — нажал на голосовые связки Хиллгарт.
— Не знаю, сэр. Ко мне вы не обращались, — выпятил челюсть кэптэн. Тут уж к нему никто не придерётся, полтора десятков офицеров стоят вокруг, и большинство на стороне своего командира.
— Так вот обращаюсь, КЭПТЭН Харвуд. Ваш «Суордфиш» готов к взлёту и бою?
— Никак нет, сэр, — с удовольствием ответил Харвуд. — Перед выходом с Ямайки я лично доложил ВАМ, что самолёт приготовлен к капитальному ремонту с целью замены двигателя, и то, что мы видим на катапульте, — это фактически макет, оставленный там, чтобы вводить иностранных разведчиков в заблуждение. ВЫ мне ответили, что ничего страшного, не на войну идём, пусть так и стоит до Портсмута…
Сейчас Харвуд приложил адмирала хорошо. Даже на душе веселее стало. Чем это может закончиться впоследствии — отдельный вопрос. Впрочем, Хиллгарт — не сильно большая шишка, у кэптэна тоже есть знакомые «с положением». А вот то, что им больше вместе не плавать — это факт. И очень приятный.
Адмирал отвернулся, бросил флаг-капитану:
— Прикажите «Лайону» и «Блейку» готовить истребители на взлёт — после того, как будет сбито большинство русских разведчиков. Отправить на дно остальные. И у нас появится время решить все свои проблемы. Эскадре перестроиться в кильватер, поворот зюйд-вест, на русский транспорт. Ход — полный. «Тайгер» головной, «Гренвилл» — на месте. Радиозащиту не снимать.
— Кэптэн, прикажите спустить катер, — внезапно повернулся к Харвуду Эванс. — Я вернусь на «Гренвилл». Здесь управитесь сами. Просигнальте, пусть готовится меня принять…
Командир крейсера, продолжая избранную линию поведения, посмотрел на адмирала. Что тот скажет?
— Выполняйте, — раздражённо бросил Хиллгарт, переводя «просьбу» в приказ.
— Есть, сэр! Старший боцман, моторный вельбот — к спуску! Господин кэптэн, сэр, — это уже Эвансу, — займите место в вельботе. Трап лично для вас ставить некогда.
Разведчик злобно пронзил Харвуда взглядом, повернулся на каблуках и загремел подковками по трапу.
«Олух, — подумал командир крейсера, — скупердяй береговой! Моряка из себя корчит, даже того не зная, что никакой идиот с железными подковками по железным трапам бегать не станет. Хоть бы шею себе свернул, прямо сейчас…»
Личный вестовой Эванса скользнул вниз по другому трапу, по поручням, не касаясь ступенек ногами: в каюту начальника понёсся, захватить «тревожный чемодан».
В это время тройка «КОРов» на высоте три с половиной тысячи метров приблизилась к начавшему перестроение крейсерскому отряду. Никаких агрессивных действий они не предпринимали, будто летели по своим делам, да вдруг увидели внизу нечто интересное, решили присмотреться поближе. Зато с командно-дальномерного поста можно было различить в сильную оптику, что отставшая четвёрка почти у черты горизонта строится в круг. Не иначе как для штурмовки цели. Ясно было, что двум катерам, невзирая на почти пятидесятиузловую скорость, жить осталось недолго.
Им бы лучше всего было застопорить двигатели и поднять белые флаги. Как с ними потом поступят русские — отдельный разговор. Выбор у моряков есть. Продолжать изображать пиратов — пожизненная сибирская каторга. Назвать себя и предъявить документы или хотя бы личные жетоны — получат статус военнопленных, если война всё же начнётся (и если русские согласятся закрыть глаза на то, что они действовали не в военной форме с ясно видимыми знаками различия), или освобождение — после неминуемых дипломатических игр. По возвращении домой могут быть крупные неприятности, но всё ж таки не мгновенная смерть от бомб, пуль и акул, которых в этот сезон у берегов Северной Африки развелось, как волков в калмыцких степях.
Матеря не просто молчащий, а дико хрюкающий и завывающий в наушниках эфир, получивший от командира сигнал по древней системе связи условными знаками с помощью рук, флажков и покачиваний крыльями, мичман с 220-го «КОРа» заложил вираж со снижением в сторону «Вилькицкого». Пароход (точнее — турбоэлектроход) разогнался до двадцати пяти узлов, то и дело перекладывая руль, и абордаж пиратам явно не светил. В подобной ситуации оставалось только бросить свою затею и уйти или же атаковать судно торпедами. Но это уже не пиратские забавы, да и пароход был нужен англичанам в полной исправности.
Разведчик, снизившись до полусотни метров и тормозя закрылками почти до посадочной скорости, внятно и доходчиво объяснил взмахами рук высунувшемуся из рубки человеку в синем кителе с какими-то нашивками (с воздуха не разобрать), что ему следует делать.
Капитан «Вилькицкого», отходив только «мастером» десять навигаций, в основном Северным морским путём, не мог понять одного — чего к нему прицепились эти придурки, разительно отличающиеся от «нормальных» пиратов что восточного, что западного побережья. Он шёл в балласте[88], выгрузив в Гаване действительно ценный и ходовой на мировых рынках груз, имея фрахт из Алжира на Пирей и Новороссийск. И о том, что трюмы его пусты, знал последний грузчик Кубы, не говоря о солидных людях, у которых в офисах имелись диспозиции на каждое судно, выходящее в море хоть из Порта-Морсби, хоть с Оркнейских островов[89]. Ума и опыта Петру Лукичу Иваненко хватило сообразить, что супостатам нужно именно его судно, пустое и очень скоростное. В торговом флоте мира таких — раз, два и обчёлся.
Ну, теперь и он малость позабавится. Лишь бы эти орлы-летуны не увлеклись чересчур.
Капитан раз десять показал мичману вполне понятными знаками: «Не топить. Обездвижить, и всё. А дальше моя работа!»
Иваненко, честно сказать, успел сообразить, что призовые деньги за такой трофей к пенсии будут очень не лишними. Раз помирать пока не светит (слава тебе, Господи, и родному ВМФ), поднять на шлюпбалки два таких катерочка и домой отвезти — тысяч по пятьдесят рублей каждому члену команды очистится, а капитану — тройной пай! Так что теперь он за этих пиратов, чтобы раньше времени на дно не пошли, пудовую свечку в Пирейском храме Николая-угодника поставит.
Лётчики сделали именно то, о чём капитан просил. Первая пара прошла над катерами на бреющем, от кормы к носу, дав несколько очередей из ДШК вплотную к бортам, чтобы и головы никто не осмелился поднять, а идущая за ними вторая сбросила по глубинной бомбе теперь уже прицельно, прямо по курсу, не так, чтобы слишком близко, а в самый раз. Это упражнение отрабатывалось летнабами десятки, если не сотни раз. С большими кораблями за время службы воевать никому не приходилось, а с пиратами, контрабандистами, браконьерами и иными нарушителями — сколько угодно.
Правильно положенная по направлению и глубине бомба либо сразу ломает и переворачивает судёнышко малого водоизмещения, либо деформирует рули, винты, водомёты, подводные крылья, вообще любые погружённые в воду детали. Сам же гидравлический удар получается такой силы, что срывает с фундамента двигатели, а людей, сразу не убитых, приводит в полностью небоеспособное состояние.
Сейчас обошлось только тяжёлой контузией катеров и экипажа. Людей, находившихся во внутренних помещениях, оглушило до потери ориентировки, а то и сознания, из носов и ушей пошла кровь. Двигатели дружно заглохли. Когда опали столбы бутылочно-зелёной с белой пеной воды, оба катера без хода болтались на волнах, пулемёты на турелях были задраны стволами вверх и стрелять не собирались. Кто-то из кокпита махал не то тряпкой, не то подобием флага. «Вилькицкий», остановив свой отчаянный бег, «малым задним» начал сдавать к ним поближе, готовясь спускать вельбот с призовой партией.
А десятком миль севернее в это же время начали происходить события гораздо большего (пожалуй, мирового) масштаба, чем славная виктория над «пиратами», обеспечившая свободу, а то и жизнь, а в перспективе сулящая серьёзное повышение благосостояния капитану Иваненко и его команде.
Вельбот с Эвансом достиг борта «Гренвилла», адмирал убедился, что разведчик не разучился цепляться руками и ногами за выбленки[90] штормтрапа. Он поднялся на палубу и скрылся за ближайшей надстройкой. Хиллгарт удовлетворённо кивнул собственным мыслям и приказал Харвуду:
— Корабль к бою изготовить!
Бешено зазвенели «колокола громкого боя» в рубке «Тайгера». Зенитчики и расчёты башен главного калибра кинулись по боевым постам. Угол возвышения шестидюймовок крейсера позволял при определённых условиях вести огонь и по воздушным целям шрапнелью, например — отражая массированные налёты торпедоносцев. Для стрельбы по одиночным маневрирующим самолётам не хватало скорости поворота башен и вертикальной наводки.
Пока палубы крейсера зловеще пустели, захлопывались крышки люков и задраивались двери водонепроницаемых переборок, стволы многочисленных «эрликонов» и «бофорсов» приводились на нужные углы и градусы, сигнальщики набрали и начали поднимать роковой приказ по эскадре. В этот же момент из будочки радиотелеграфиста, расположенной тремя ярусами выше ходового мостика, стремительно, будто за ним гнались сразу все Кентервильские привидения, ссыпался вниз уорент-офицер[91] с розовым бланком в руке. Заметался глазами между адмиралом и собственным командиром, наконец подал телеграмму Харвуду. Командир — первый после Бога, а назначенный на один поход адмирал — кто его знает. В уставах недостаточно ясно изложено.
Харвуд прочёл телеграмму, один раз быстро, потом ещё раз — чуть ли не по буквам.
Эванс, уже не маскируя своего истинного положения, неизвестно отчего изменив собственную точку зрения, приказывал (!) Хиллгарту огня по самолётам ни в коем случае не открывать и следовать строго на норд, доведя ход до полного. На маневры «Гренвилла» внимания не обращать.
Кэптэн хмыкнул, не то чтобы весело, но удовлетворённо. Враг (в данный момент — собственный адмирал) посрамлён, остальное — незначащие подробности. Как написано в одной умной книге: «Все мы умрём. В худшем случае — умрём немножко раньше». Верная мысль, особенно для тех, кто плавает по морям, да ещё и на военных кораблях.
Сейчас его вдохновляла собственная правота, то есть грамотное тактическое мышление, и унижение адмирала, который — Харвуд готов был поклясться всеми силами ада — кинется к нему с просьбой принять на себя командование.
Он протянул бланк адмиралу и тут же понял, что все его планы и надежды пошли прахом. Секундой раньше, чем Хиллгарт начал читать телеграмму, боевой сигнал дошёл до места, сигнальщики прочли его слишком быстро (в другое бы время так!) и почти тут же разом ударили четырёхдюймовые, сорока- и двадцатимиллиметровые зенитные автоматы с «Блейка» и «Лайона». Старший артиллерист «Тайгера», стоя спиной к командиру, не увидел его искажённого лица и отчаянного взмаха руки. Слова ещё не успели вырваться из глотки кэптэна, а лейтенант-коммандер вдавил до упора кнопку общего ревуна — «Залп!». От слитного грохота полусотни стволов у всех на мостике заложило уши. Крейсер окутался облаками зеленоватого дыма «бездымного пороха».
Только «Гренвилл» не стрелял, с его мостика почти истерично полетели серии зелёных ракет:
— «Дробь! Дробь!! Дробь!!!»
Харвуд понял, что это конец. Он не давал команды на открытие огня, а его старарт чересчур чётко отреагировал на приказ адмирала, не продублированный командиром.
— Эванс мне не начальник, — скомкал в руке бланк радиограммы Хиллгарт. — Он только «обеспечивающий»…
Терять адмиралу теперь уже было нечего. Его охватил боевой кураж и — к чёрту последствия. Он наконец-то, впервые в жизни ведёт настоящий бой! Возможно, первый морской бой первой войны двадцать первого века! Нельсон ведь тоже — поднёс подзорную трубу к выбитому глазу, «не увидел» запрещающего сигнала и прославился в веках.
Морские разведчики подобного развития событий не ждали, но, оказавшись в густом окружении желтоватых вспышек бризантных разрывов, взяли ручки на себя, иммельманами[92] вправо и влево с крутым набором высоты выходя из зоны поражения. Единственный зазевавшийся, попавший в перекрестье трасс целой батареи «Бофорсов» «КОР» начал разваливаться на части ещё в воздухе, крылья отдельно, фюзеляж отдельно рухнули в воду, с парашютом никто не выпрыгнул.
Вот и всё! Один русский сбит, но ещё шесть — целёхоньки! И под зенитки больше не полезут.
Адмиралу следовало бы бесноваться, швырять биноклем в палубу или стенку боевой рубки, проклинать зенитчиков, старшего артиллериста, Харвуда, Эванса, судьбу, наконец. А он стоял и тупо смотрел на поднятую с палубы, расправленную и издевательски вежливо вновь протянутую ему кэптэном радиограмму.
— Вы не дочитали до конца, сэр! — столько ненависти и яда в голосе подчинённого адмирал, пожалуй, не слышал никогда в жизни.
С «Гренвилла» передали, что их локаторы засекли на расстоянии в сорок миль восемь больших засветок, обозначающих крупные корабли, очень быстро перемещающиеся строем фронта, курсом как раз на них, и с двух сторон дугообразно загибающие фланги. «Загонщики» держат больше сорока узлов, основной отряд — минимум тридцать шесть.
— Вот нам и кранты пришли, сэр, — продолжил мысль Харвуд. — Это не «Krossing the „T“»[93], это гораздо хуже. Пока мы не сбили русского, шансы были, теперь их нет. Из этих клещей мы не выскочим самым полным ходом. Судя по всему — фланги обеспечивают «Новики». Сорок четыре узла, шестьдесят торпедных аппаратов с дальностью до двадцати миль.
И над нами висят разведчики с полусуточным запасом хода. Мы не уйдём. Нас раздолбают даже русские эсминцы своими «стотридцатками» и торпедами, а строй фронта составляют «Аскольды», «Кронштадты» или большие «Рюрики». Минимум сорок восемь стволов в восемь дюймов и выше.
— Откуда они здесь? — неприлично сорвавшимся голосом вскрикнул адмирал. Вроде как если в квартиру любовницы вдруг завалился муж, только что находившийся в Иокогаме.
— А вот это, господин адмирал, я вам советую спросить у мистера Эванса, — с неприличной ухмылкой ответил Харвуд. Он тоже с трудом держал себя в руках. Ему тоже было страшно, но пока злорадство гасило это чувство. — Вы с ним командуете отрядом, я — всего лишь крейсером. То, что, стреляя внезапно и почти в упор из всех стволов, сбили всего один «союзный» самолёт из семи — вина моя и моих артиллеристов, нам и отвечать. А вот за то, что разведка прозевала выход в море, причём — в район секретного эксперимента, целой эскадры русских, за упущенный русский сухогруз, потерю катеров с морскими диверсантами «Его Величества», за приказ на открытие огня, наконец, расплачиваться буду уже не я!
Глава двадцать восьмая
Тяга к приключениям нередко способна завести очень далеко. Что в прямом, что в переносном смысле. Да и сами приключения можно понимать очень по-разному. Не зря у Даля это слово имеет много значений, многие из которых теперь звучат странно: случай. событие, прилучье, сталое дело, происшествие, нечаянное событие, быль, бывальщина, похождение. И далее: искатель приключений — праздный шатун от нечего делать. Приключенник — похожденник, испытавший много приключений, переворотов, похождений. Приключатель — виновник бед, несчастий.
— Вот, это точно про нас, — сказал Николай Карташов, показывая товарищу статью из словаря Даля, неизвестно какими путями попавшего на лоток букиниста, раскинувшего свои сокровища в тени дубов Риджент-парка. Издание было старое, 1898 года, но в довольно хорошем состоянии.
Юрий, пробежав глазами текст, по привычке библиофила взглянул на форзац. Экслибрис отсутствовал, зато изящным каллиграфическим почерком, ровно, будто в типографии печатали, выведено: «Милой Машеньке от дедушки Семёна Григорьевича в день поступления в гимназию. Учись нам на радость, Отечеству на пользу». Витиеватая подпись, дата — «2/VIII 1902 г. г. Тверь». Фиолетовые чернила выцвели совсем чуть-чуть.
— Ты посмотри, — сказал он, — какими ж это судьбами? Если эмигрировала Машенька году этак в семнадцатом, было ей уже лет не меньше двадцати пяти…
— Вряд ли, те эмигранты с собой библиотек не тащили, — возразил Николай. — Это, скорее, уже в мирные времена. Только непонятно, почему всего один том.
— Зато — на букву «П», — неожиданно ответил по-русски букинист. — Не все знают, что у нас это самая главная буква. Из четырёхтомника ей — целый том, а остальным тридцати шести — на всех три.
— Интересно, — согласился Николай, — никогда об этом не задумывался. — А вы давно из России? Акцента не чувствуется, значит — не местный.
— Лет двадцать уже. Так покупать будете? За фунт отдам, дешевле бутылки виски.
— Куда нам? Мы налегке путешествуем…
— Даже без денег, — добавил Юрий.
— А чего вдруг так?
— Для собственного удовольствия. Без копейки в кармане вокруг света — чем не развлечение? — ответил Николай.
— И много осталось?
— Меньше половины. Мы из Владивостока начали…
— Завидую, — вздохнул букинист, мужчина лет пятидесяти с характерными мешками почечного больного под глазами. — Я вот, кроме России и Лондона, нигде не бывал. Сейчас куда направляетесь?
— Да так. Куда глаза глядят. Тут, говорят, неподалёку музей Шерлока Холмса. Туда заглянем.
— Нет, я в широком смысле…
— Да бог его знает. Как получится. В Австралию хотелось бы, — пожал плечами Николай.
— Или в Южную Африку, — добавил Юрий. Их туда давно тянуло. ЮАС был единственным на континенте членом ТАОС, жили там по преимуществу буры и англичане, но имелась и русская колония в несколько тысяч человек. Неадаптированные кафры, банту, макололо и матабеле[94] давным-давно высланы за северную границу, адаптированные мирно живут в бантустанах[95]. Налоги на добычу полезных ископаемых всего пять процентов от прибыли, равно для граждан и иностранцев. Климат — чудесный. Рай земной, одним словом.
— Насчет Африки, пожалуй, я мог бы помочь, — немного подумав, вдруг сказал букинист. И, наконец, представился: — Меня Вячеслав Васильевич зовут, Колычев.
Друзья назвали свои имена. Без фамилий и отчеств. Привыкли за месяцы скитаний.
— Ничего конкретно не обещаю, но советую заглянуть в таверну «Tommy’s joynt»[96]. Прямо напротив Тауэр-бридж. На левом берегу. Не ошибётесь. Хозяин, этот самый Томми Хэмптон, мой приятель в некотором роде. У него и переночевать недорого можно, кормят хорошо, пиво приличное. Поговорите с ним, может, повезёт…
На том и расстались.
Не в первый раз судьба сама подсказывала следующий шаг. По крайней мере — за последние полгода, с тех пор как друзья почти внезапно обрели свободу. Причём полную. Бекетов отслужил обязательные после училища пять лет в морской пехоте Тихоокеанского флота и решил, что с него хватит. Следующие двадцать лет ничего нового и интересного не сулили, а пожить для себя, пока молодой, очень хотелось. Получил по отставке чин штабс-капитана, положенное выходное пособие, и КПП выпустил его на волю. Навсегда, или до большой войны и всеобщей мобилизации.
Гимназический друг Коля Карташов был человек вольнонаёмный, после института работал инженером на судоремонтном заводе и тоже томился монотонностью существования. Подумывал о том, чтобы наняться на торговый флот механиком, мир посмотреть, денег подзаработать.
Но когда сидели в «Золотом роге», на открытой веранде с видом на море, отмечая обретение Бекетовым независимости, Юрий вдруг сказал после четвёртой или пятой рюмки:
— Ну и на хрена тебе тот пароход? Много ты с него мира увидишь? Ходили, знаем. Два месяца в море, потом неделька на берегу, бывает, что и меньше, и снова… Разве что отпуск длинный, так самый длинный удивительно быстро кончается.
— И что из этого? — меланхолически спросил Николай, не столько слушая слова друга, как разглядывая девушек и женщин подходящего возраста, находившихся в зале или гулявших по набережной. По странному закону природы, все более-менее заслуживающие внимания были с кавалерами, а свободные интереса не вызывали.
— Да я последний год часто задумывался, просто говорить не хотел, пока неясно было, дадут мне отставку или найдут способ притормозить на «энный срок», где N — функция того, как начальству взглянется. А теперь можно. Прочитал я как-то в «Географическом вестнике» статью одного парня наших лет. Кругосветное путешествие совершил…
— Кругосветное нам не по деньгам, я цены знаю.
— Если с билетами первого класса — точно не хватит, — согласился Бекетов. — Но тот отправился «на бога», что называется. Как герои Джека Лондона или Майн Рида. Полсотни рублей в загашнике на самый крайний случай, а остальное — по воле обстоятельств. Через моря и океаны — пароходами. Нанимался юнгой за харчи до нужного порта, на берегу — как придётся. Автостопом, на товарняках, пешком. Подрабатывал, где и как получалось. В итоге за год управился. Получил массу впечатлений, да ещё и заработал намного больше, чем потратил. И за статью гонорар получил. Сейчас вроде бы целую книгу пишет. Как тебе идея? Причём, заметь, он ведь один странствовал, а нас двое. И был до путешествия всего-то репортёришка провинциальной газеты, а мы с тобой ребята посерьёзнее, языки знаем, умеем намного больше, в любой заварушке за себя постоять сумеем…
Друзья были как раз в том эмоциональном состоянии бесшабашной раскованности и энтузиазма, что идея немедленно перешла к стадии практической реализации. Совершенно как в детстве, начали прикидывать маршрут, составлять в блокноте список необходимого снаряжения.
Всё выходило легко и просто. В конце концов, тысячи людей до них странствовали по миру в гораздо менее благоприятных условиях. Сейчас что — сейчас XXI век, цивилизация, правопорядок и тому подобное. Не везде, конечно, так не нужно соваться в места, где фабричные патроны стоят дороже, чем человеческая жизнь. А в пределах Ойкумены европейской цивилизации порядка гораздо больше, чем в Раннее Средневековье и даже Высокое Возрождение. Нет необходимости брести с котомкой и посохом, пешком из Новгорода или Киева на поклон к святым местам, в Афон, Палестину. Афанасию Никитину тоже, говорят, в его «хождении» за три моря и обратно не слишком сладко пришлось. Живой вернулся — и то хорошо.
Реализация сокровенных мечтаний и желаний друзей не разочаровала, как это нередко случается с менее цельными натурами. Всё получалось весьма близко к их представлениям, моментами даже лучше. Главное они действительно ощутили, действительно — свобода. В самом полном смысле этого слова. Как в рассуждениях философа.
Свобода «от» — от повседневных, рутинных, скучных забот, воинских уставов, забот о личном составе, от необходимости соответствовать общественному положению, возрасту, обычаям и традициям, вообще от всего, что успело надоесть за двадцать лет сравнительно сознательной жизни.
Свобода «для» — для постижения ранее неведомого мира, знакомства с людьми, разительно непохожими на тех, что окружали до сих пор, наконец для раскрытия в самих себе новых, подчас совсем неожиданных черт, способностей и свойств. Гораздо понятнее стали многие герои с детства любимых книг. Их авторы — тоже.
Затею облегчало, более того — делало вообще возможным то, что сейчас, как в благословенном ХIХ веке (его друзья считали наилучшим из промелькнувших над Землёй), российских внутренних паспортов было достаточно для пересечения любых границ, даже со строгим визовым режимом, рубли (желательно — золотые) и мелочь (серебряную) принимали в любом уголке мира по хорошему курсу, и действительными оставались отечественные разрешения на ношение огнестрельного оружия. Карабинами и штуцерами в ассортименте, как герои любимых книг, путешественники не отягощались, им хватило обычных, проверенных временем «маузеров», «чудо-пистолетов, незаменимых для охотников, путешественников и всех настоящих любителей оружия», как больше ста лет писалось в рекламных проспектах.
Закончив сборы и подготовку, устроились на первый же пароход (моряки не делали различия между типами двигателей — пусть даже винты крутит дизель-электрическая установка — всё равно пароход), идущий в Новый Свет. Сошли на берег в Кальяо. Через Перу, Эквадор, Колумбию с почти не опасными для жизни, но весьма познавательными приключениями через два месяца добрались до Панамы. Здесь был выбор — на восток, в Дакар или Луанду, откуда можно было рискнуть пересечь Африку (с очень большими шансами не добраться до берега Индийского океана), или маршрут поспокойнее — на Дальний Запад Америки, в Сан-Диего или Сан-Франциско. В Соединённые Штаты их тянуло — экзотика, причём экзотика безвредная: ковбои давно не стреляют в бандитов, в Долине Смерти умирают только от старости или в автомобильных авариях, а чикагские гангстеры хоть и существуют, так их ещё надо суметь разыскать в пресловутых трущобах, предварительно туда доехав по Шестьдесят шестой дороге. Тоже пресловутой, а также знаменитой.
Здравомыслие подсказало американский вариант. Автостопом за три недели проехали весь Перешеек: Коста-Рику, Никарагуа, Гондурас, Гватемалу, пока добрались до Мексики. Ничего с ними не случилось и здесь, даже пистолеты не пришлось ни разу из дорожных сумок доставать. А сколько всяких леденящих душу историй об этих краях довелось дома читать в газетах и журналах, смотреть по дальновизору. Наверное, все местные бандиты, наркоторговцы, кровавые диктаторы и анархиствующие партизаны тщательно попрятались, услышав, что их собрались навестить крутые парни из страны вечных льдов и дрессированных белых медведей. Потомки инков, майя, ацтеков и конкистадоров оказались добродушными, с иностранцами застенчивыми, довольно-таки бедными людьми, но всегда имеющими несколько бальбоа, кетсалей, колонов, гуарани или лемпир, чтобы большую часть времени проводить во всевозможных питейных заведениях и кофейнях. Самое распространённое здесь слово, очень понравившееся друзьям — «маньяна», то есть «завтра». Универсальный ответ на любое предложение, требующее трудовых затрат или вообще какой-либо активности, физической или умственной. Революционная или какая-нибудь другая борьба наверняка происходила в специально отведённых местах, далеко за пределами «полосы отчуждения» Панамериканского шоссе. Примерно на километр по обе стороны восьмиполосной автострады никто никого не убивал и не грабил. Впрочем, Карташова с Бекетовым не трогали и в глухих городишках вдали от трассы, скорее всего, потому, что взять с них было совершенно нечего. Североамериканские Соединённые штаты с непривычки показались тем самым «железным Миргородом», о котором писал Есенин. Жуткое обилие часто совсем ненужной техники и удивительное провинциальное жлобство тамошних «WASPов»[97].
Порадовал только Сан-Франциско, «самый европейский из американских городов», слегка напоминающий общим видом родной Владивосток, до которого отсюда было рукой подать — сразу напротив, на той стороне синего, искрящегося мириадами солнечных искр океана.
На пару месяцев задержались на заброшенных золотых приисках Сакраменто, превращённых в увлекательный аттракцион для туристов. Но кому аттракцион… Туристы за два-три дня получали лишь представление о том, как раньше мыли золото, а если, не пожалев времени, приложить старание, должную сообразительность, да удача поспособствует — вполне можно прилично подзаработать. Долларов пятьсот за неделю — почти наверняка. На сборе апельсинов платят почти столько же, так интерес совсем не тот.
Им и здесь повезло. Кроме трех фунтов песка (а это тысяча триста долларов), в лотках четырежды обнаруживались самородки, самый крупный — в целых пятнадцать унций. Их у друзей администрация выторговала, в рекламных целях, за двойную цену. Загорелые дочерна, небритые физиономии «русских счастливчиков» украсили страницы многих газет, не только местных, но и федеральных, и немедленно выросший в разы поток «искателей счастья» многократно окупил все расходы владельцев золотоносного района.
Юрий с Николаем впервые за полгода странствий сняли номер в приличном отеле с видом на Голден-Гейт и тюрьму Алькатрас, отмылись как следует, приоделись, вспомнили, что значит хорошая еда, вволю подегустировали знаменитые вина из долины Напа. Осмотрели все достопримечательности, совершили литературное паломничество в поместье Джека Лондона, к его могиле.
И снова в путь. Так они и оказались в Англии, где снова встал вопрос — что дальше. С одной стороны, формально кругосветка почти завершена, доплыть или долететь до России — вот и всё. С другой — ни в Азии, ни в Африке и Австралии друзья ещё не побывали, — значит, неполноценное вышло путешествие. Сейчас они втянулись, всё получается как бы само собой, удача на их стороне. А вернёшься домой — неизвестно, как дальше сложится. Вроде бы стоит продолжить, тем более — настоящего риска они так и не попробовали. Не считая десятка кулачных драк с достаточно цивилизованными бродягами и обычной шпаной в припортовых кабаках — ничего интересного. Маршрут пролегал по местам почти спокойным, не то что за Периметром. Да, повидали истоки Амазонки, проплыли с индейцами несколько десятков километров на моторной лодке, но это ведь совсем не то, чтобы все четыре тысячи — от Икитоса до самой дельты. Не каждый выживает на этом пути, хотя индейцы там в основном мирные, а от жёлтой лихорадки помогают прививки. Зато они не помогают от зубов смертельно ядовитых водяных змей, когтей ягуаров и пум и бесчисленных, изученных и не изученных пока наукой насекомых.
— Так что, наведаемся к Томми? — спросил Николай, когда они вышли к остановке даблдеккеров[98].
— Почему бы и нет? Всё равно ночевать где-то надо, а название звучит заманчиво…
Заведение они нашли легко. Старинный краснокирпичный дом постройки XVIII века. Внизу таверна, вверху номера. Таверна — большой полутёмный зал с антресолями, даже днём освещаемый бра, стилизованными под газовые рожки. Слева и справа две стойки — за одной подают пиво и крепкие напитки, за другой отпускают горячие блюда и закуски. Выбор небольшой, зато порции огромные, чтобы любой матрос и портовый грузчик насытился на сутки вперёд. Одним словом — не ресторан, а именно «обжорка». Достаточно чисто и немноголюдно, хотя сильно накурено. Вообще за триста лет каменные стены и дубовые панели пропитались табачным и каминным дымом на фут в глубину.
— А что, вполне экзотично, — оценил Николай, изучая интерьер и одновременно отхлёбывая классический эль из двухпинтовой оловянной кружки[99].
— И главное — дёшево, — поддержал Юрий. — Томми явно изучал политэкономию, понимает, что масса прибыли важнее нормы прибыли. Кстати, где он сам?
Остановленный на бегу бой с четырьмя кружками в руках указал движением головы на невысокого, но плотного мужчину лет пятидесяти, одетого в матросские парусиновые штаны и расстёгнутую кожаную жилетку поверх красной фланелевой рубахи в крупную синюю клетку. Так же, как весь персонал таверны. Мистер Хэмптон стоял возле кабинки кассы, попыхивая длинной прямой трубкой, и что-то втолковывал золотоволосой, удивительно некрасивой девушке. При взгляде на неё русскому человеку хотелось воскликнуть: «Не может быть!»
Бекетов, привстав, помахал ему рукой. Хозяин кивнул и, закончив выговор или инструктаж — издали не разберешь, — степенно подошёл к столику. В данном случае «столик» — чисто условное, традиционное название, на самом же деле они сидели за массивным дубовым сооружением с колонноподобными ножками и столешницей толщиной в три пальца, сплошь изрезанной ножами десяти поколений посетителей. В одиночку и не поднять. Стулья были под стать, так что в драке использовать предметы обстановки было бы затруднительно. Что, очевидно, и подразумевалось.
— Добрый день, господа. Вам у меня понравилось? Чем могу быть полезен?
Юрий предложил ему присесть рядом и, сославшись на букиниста, спросил, может ли он быть полезен именно в их вопросе.
В гимназии, училище и на водолазно-диверсионных курсах Бекетову преподавали отчего-то классический оксфордский английский. Имея лингвистические способности, он научился говорить на нём почти свободно, что теперь доставляло много неудобств не только в Соединённых Штатах, а вообще за пределами аристократической части Лондона и старинных университетов, где он никогда не бывал. Простые американцы, тем более — прочие люди, встречавшиеся им на пути и кое-как владевшие пиджин-инглиш, зачастую его просто не понимали. А перестроиться он уже не мог. Стереотип окостенел. Зато Карташов, практически на слух овладевший диалектом Диксиленда[100], производил комичное впечатление в Лондоне.
Вот и Томми вопросительно приподнял бровь.
— Вы иностранец, сэр?
— Очень заметно?
— Вам бы Шекспира со сцены читать, — уклонился от прямого ответа хозяин. — Здесь это звучит чересчур… возвышенно.
Из этих слов Юрий сделал вывод, что мистер Хэмптон и сам имел образование выше среднего.
— Мы русские. У нас отчего-то все преподаватели — последователи профессора Хиггинса[101]. Считается, что изучать просторечный английский — профанация. Мой, например, говорил: «Я вас учу разговаривать хорошо. Плохо вы и так сумеете».
— Что-то в этом есть. Но обычные люди всё равно будут думать, что у вас не в порядке с головой или вы над ними издеваетесь.
— Это их проблемы, — достаточно резко ответил Бекетов, решив, что хозяин уходит от ответа по существу. — Мы друг друга понимаем, этого пока достаточно.
— Вы очень торопитесь? — спросил Хэмптон, видимо расположенный к разговорам на отвлечённые темы, как многие кабатчики.
— Совсем нет. Можем и подождать, если есть перспективы. Но ждать у моря погоды…
— Простите?
— Это такое русское выражение, возможно, я его не совсем точно перевёл…
— Нет, неплохо. Я вдумался — достаточно образно. Постараюсь вам помочь. Но несколько дней подождать придётся. Надеюсь, погода будет хорошая…
Хэмптон пригласил их к себе в кабинет только на пятый день, после ужина. Американские деньги уже были на исходе, и друзья начали задумываться — искать какой-нибудь заработок или плюнуть на ЮАС и идти наниматься на ближайший пароход до Петрограда или Архангельска.
— Ну вот, джентльмены, — сказал Томми, доставая из секретера литровую бутылку. — По правде говоря, причитается с вас, но я не мелочен. Кое-что я для вас подыскал. Вы за политикой следите?
— Да не так, чтобы очень. Что-нибудь случилось? — осведомился Юрий, вертя в руках стаканчик и пытаясь по запаху угадать, хорошее Хэмптон выставил виски или так себе.
— Давайте выпьем за то, чтобы мое предложение вам понравилось. Вы с водой, со льдом или, как у вас говорят, «напрямую»? — Последнее слово он произнес по-русски, почти без акцента. А чему удивляться — наследственный владелец таверны в портовом городе должен быть знаком, хотя бы поверхностно, с языками большинства «морских» стран.
— Зачем добро портить? — задал риторический вопрос Николай.
— Всегда что-нибудь случается, — философски ответил Хэмптон не ему, а Юрию. — Сейчас, например, дело пахнет крупными конфликтами, если не войной…
— Да что вы говорите, — делано удивился Юрий. Он, конечно, газеты просматривал и у дальновизора в холле второго этажа по вечерам останавливался новости послушать. Как же странствовать по миру, не зная, что в нём творится? И обострение международной обстановки отмечал не по-обывательски, а как специалист. — Кого с кем, если не секрет? У нас в России в прошлом году были кое-какие беспорядки, особенно в Привислянском крае, который здесь у вас до сих пор называют Польшей, но всё давно закончилось. Едва ли кто-нибудь на ТАОС извне напасть осмелится.
— Завидую вашей уверенности и романтической наивности. Это я без всякой задней мысли говорю. Только весьма романтические люди, вроде вас, вашего друга и многих великих путешественников прошлого, их имена вам известны, способны на бескорыстные подвиги и лишения ради возвышенной идеи, сколь бы странной она ни казалась окружающим. Жаль, что приходится вас разочаровывать. На самом деле и внутри ТАОС масса внутренних проблем, чреватых самыми печальными последствиями. Вы и о том не знаете, что российский «император», — этот титул Хэмптон произнес с откровенной иронией, — не так давно денонсировал все договора и соглашения о членстве в Союзе?
— На самом деле? — делано удивился Бекетов. — И зачем ему это потребовалось?
Разумеется, он всё знал давным-давно, но раз уж начал играть в этакого Паганеля, так отступать поздно.
— А вы зайдите в любую библиотеку и почитайте серьёзные газеты за последние полгода. Узнаете много нового и интересного. А мне вас просвещать просто нет времени. Мы ведь о другом собрались говорить?
Друзья согласно кивнули.
— Ну вот. Я могу помочь вам попасть в Южную Африку. Не только совершенно бесплатно, но и с перспективой очень прилично заработать…
— Я весь внимание.
— Вы знаете, что в ЮАС существует русская колония, достаточно процветающая? Она насчитывает несколько тысяч человек, занимающихся сельским хозяйством, добычей золота и алмазов, многими другими выгодными делами. Кое-кто из русских достиг очень больших вершин. За исключением некоторого числа индивидуалистов, тех, что имеют бизнес в крупных городах, остальные достаточно компактно проживают в нескольких поселениях на северо-западе, как раз там, где располагаются залежи известных полезных ископаемых…
— Примерно в районе Кимберли? — проявил эрудицию инженер Карташов. О своей специализации он не распространялся. Инженер — и достаточно. Сама по себе принадлежность к этому сословию ставила человека очень высоко в цивилизованном мире, и уж тем более — на окраинах Ойкумены, как во времена, описанные в романах Жюля Верна.
— Ещё западнее, вплоть до устья Оранжевой реки, пустыни Намиб и Берега Скелетов. Там люди становятся миллионерами за несколько сезонов, не без риска, конечно.
— Это понятно, — согласился Николай. — Приходилось слышать, — и снова замолчал, ожидая, что ещё скажет вербовщик. Именно так он и Юрий тоже начали воспринимать мистера Хэмптона, Томми. Не зря его таверна числится «сомнительным местечком».
Действует хозяин по методике, отработанной ещё в XVII веке, да нет, пожалуй, намного раньше. Наверное, так же, с незначительными нюансами, пополняли ряды авантюристов, наёмных солдат и матросов, а то и рабов ещё древние финикийцы.
— В связи с нынешними осложнениями международной обстановки на границах свободного мира активизировались всевозможные враждебные ему силы…
— «Чёрный интернационал»? — спросил Бекетов.
— Он само собой. Но не только. Всякие любители лёгкой наживы из многих стран мира. Золото и алмазы ведь очень ликвидный товар, особенно в последнее время. Прибрежные пираты со всей Африки, «охотники за головами» с совсем диких территорий севернее двадцатой параллели тоже. Люди в европейских сеттльментах приграничья встревожены. Ваши соотечественники в ЮАС, о чём мы и говорим, тоже. Им нужны не только работники, специалисты, но и бойцы. Ещё точнее — молодые, сильные мужчины, которые могут быть одновременно и тем, и другим, и третьим. Как первопоселенцы или ваши «казаки». И, как вы понимаете, они предпочитают нанимать преимущественно «своих». Это понятно?
— Чего тут не понять? — ответил Юрий.
— Судя по всему, вы идеально удовлетворяете условиям. Не хотите попробовать?
Друзья переглянулись. Почему бы и нет, в конце концов? Именно — попробовать, никакими излишними обязательствами себя не отягощая. Получить ещё кое-какие новые впечатления и удалиться по-английски, когда станет скучно. Приключение как раз в стиле…
— Имейте в виду, само по себе согласие вас ни к чему не обязывает, — словно прочитав их мысли, сказал Томми. — Я и такие, как я, содержатели бордингхаусов[102] по всему миру — вы правильно догадались — занимаемся, кроме всего прочего, и вербовкой людей. Моряков на пароходы, работников в «проблемные места и страны», охранников, «белых наёмников»… Ну, вы понимаете. В вашем случае я имею заказ от рекрутагентства «Данилов и партнёры» в Кейптауне.
— Чего тут не понять? — Николай, постоянно общаясь с моряками, своими и иностранными, знал об этой составной части всемирной морской субкультуры достаточно. Мафия не мафия, но довольно близко.
— И какие предлагаются условия?
— Для вас достаточно выгодные. Доставка на место за счёт заказчиков. Подъёмные — по сто фунтов на человека здесь. На месте оплата в рандах, они вполне конвертируемые. О конкретных должностях и жалованье будете договариваться с работодателями сами. Опасаться вам нечего, если у вас с документами всё в порядке. Сейчас не Средние века, а ЮАС — цивилизованное правовое государство. Посмотрите сами, что вам предложат. Если ничего из предложенного вам не подойдёт, устроитесь на любую работу, вернёте подъёмные — и свободны.
— Действительно, выглядит просто и прозрачно. А в чём подвох? — спросил Бекетов.
— Считаете — обязательно должен быть?
— Иначе я не вижу особого смысла в этом мероприятии для его организаторов. Для вас в том числе.
Хэмптон рассмеялся совершенно натурально.
— Приключенческих романов начитались? Всё очень просто. ЮАС — на краю света. Рынок квалифицированной рабочей силы там очень ограничен. Тем более — с учётом национального признака. По объявлениям в российских газетах мало кто согласится поехать практически в неизвестность. «От добра добра не ищут», так у вас говорят?
Юрий снова подивился эрудированности трактирщика. Впрочем, разве сам знает меньше английских пословиц, поговорок и идиом? Странная черта русского человека — удивляться, если иностранец знает его язык, литературу и, тем более, историю. А ведь вроде бы Россия уже больше двухсот лет равноправный член мирового сообщества.
— Открывать собственные вербовочные пункты по всей вашей стране, — продолжал Хэмптон, — дорого и не гарантирует быстрого результата. А у нас развитые структуры по всему миру, огромный опыт, транспортные возможности. Эмигранты — более сговорчивый народ, чем укоренённые аборигены. Скажу вам честно, только моя контора в этом году уже отправила туда больше ста человек…
— В Лондоне столько русских, которым нечем больше заняться? — удивился Карташов.
— Не только в Лондоне. Королевство достаточно велико, а вы так вообще появились у меня проездом из Америки. Но, по-моему, мы говорим уже слишком много и долго. Посмотрите контракт. Устроит — подписывайте. Нет — «на нет и суда нет», — это опять по-русски.
Бекетов взял протянутую бумагу. Всего две страницы, параллельный перевод, штамп нотариуса, подтверждающий аутентичность[103] текстов на русском и английском. Вместе с Николаем читали внимательно, водя пальцем по строчкам, выискивая скрытый смысл. Но ничего не заметили. Никаких примечаний мелким шрифтом, иногда коренным образом меняющих смысл, и прочих «подводных камней». Всё просто, ясно, прозрачно.
«Настоящий контракт заключен между ______ и Конгрессом русских общин ЮАС, далее именуемым „работодателем“, представляемом в данном случае фирмой „Данилов и партнёры лимитед“[104] о нижеследующем…
В случае отказа от любой предложенной полномочными представителями Конгресса вакансии настоящее соглашение считается расторгнутым после возвращения ______ стоимости проезда и подъемных с неустойкой в десять процентов от общей суммы. Никаких иных взаимных обязательств стороны не несут. Претензии и могущие возникнуть споры подлежат рассмотрению у мирового судьи по месту нахождения центрального офиса Конгресса, в г. Блумфонтейн.
В положенной графе уже стояла подпись представителя фирмы, некоего г-на Малеева, и оттиск солидного вида печати.
— Действительно, придраться не к чему, — согласился Юрий. — Допустим, мы подпишем, что дальше?
— Подождёте неделю или две, пока не соберётся партия волонтёров, и отправитесь. Не по одному же вас возить.
— Велика ли партия?
— Двести человек. Меньше — для меня нерентабельно. Но вы не беспокойтесь, желающих достаточно, почти половину мы уже набрали. Думаю, две недели — крайний срок. Тем более, вы никуда ведь особенно не спешите? Как только подпишете, ваши финансовые затруднения кончатся…
— Не боитесь, что сбежим с авансом? — поинтересовался Николай.
Хэмптон рассмеялся:
— Уж настолько я в людях разбираюсь. Иначе бы давно разорился. Тем более — вы сейчас вот сюда внесёте данные своих паспортов. Они у вас, насколько я разбираюсь, настоящие.
— Ладно, оставьте нам бумаги, — согласился Юрий. — Мы ещё подумаем. Если подпишем — принесём.
…Наконец, когда уже надоело ждать, Хэмптон предупредил, чтобы к вечеру все были готовы. Пароход отходит из Тилбери около полуночи. Самолётом бы, конечно, лучше. Дней пятнадцать минимум болтаться в океане — то ещё удовольствие, причём явно не в каютах первого класса. Но выбирать не из чего.
Таких, как они, в заведении Хэмптона квартировало уже до двадцати человек. Остальные, по его словам, подъедут из других мест прямо в порт. Далеко не все оказались русскими, едва не половина — просто славяне самых разных национальностей, более-менее владеющие русским языком. Это и был, похоже, основной критерий. И ещё возраст — редко старше тридцати. Кроме того, куратор или как бы староста их группы, назвавшийся Славой Сотниковым (именно так), составляя списки и проездные документы, настойчиво интересовался службой в армии. Где, когда, в каких войсках, специальность и прочее. Юрий с Николаем на всякий случай назвались младшими унтер-офицерами срочной службы, один пехотинец, другой — сапёр. В общей массе особо не выделяются, но и не рядовые всё-таки.
Когда стало совсем темно да вдобавок в лучших лондонских традициях опустился почти непроглядный туман, всю их компанию погрузили в не слишком комфортабельный, но просторный автобус. Все поместились с вещами. Это у Юрия с Николаем было с собой по небольшому рюкзаку (чтобы руки всегда оставались свободными), а другие тащили не только сумки, но баулы и чемоданы. Как же — люди намеревались серьёзно обустраиваться на новом месте.
До причалов Тильбери добирались почти два часа из-за того же тумана.
Суда у пирсов стояли плотно, пришвартованные борт к борту, и до своего пришлось идти через огромные, пустые грузовые палубы двух автомобильных паромов, в ближайшее время в море выходить явно не собиравшихся. Стук многих шагов гулко резонировал между подволоком и стальными переборками, тускло светили неравномерно, через две-три, включенные плафоны, сильно пахло мазутом и мокрым железом. Мрачновато, в общем, особенно для тех, кто попал в такую обстановку впервые.
По горизонтальному трапу, переброшенному между лацпортами[105] над широкой щелью, где плескалась невидимая вода, перешли на предназначенное для них судно. Снаружи увидеть его так и не пришлось.
Прибывших встречали два матроса в темно-синих робах, похожих на те, что носят на российском военном флоте. Юрий с Николаем молча переглянулись. Их спутники на эту деталь внимания не обратили. Узкий, сплошь металлический коридор, выкрашенный серым, вывел в просторное межпалубное пространство, расположенное, судя по всему, на уровне ватерлинии, вытянутое вдоль диаметральной плоскости. Иллюминаторов в бортах не имелось. Очень это было похоже на трюмы, в которых перевозят солдат большие десантные корабли и военные транспорты.
Вдоль бортов трехъярусные койки, застеленные пробковыми матрасами, такие же подушки и свернутые одеяла. Никакого белья. К палубе привинчены четыре длинных металлических стола, каждый мест на десять. Спальных мест почти столько же, навскидку — около пятидесяти. Вот и вся обстановка. Освещение хорошее, воздух свежий — под потолком гудят мощные, но не очень шумные вентиляторы. Первой партии, в которой оказались и Бекетов с Карташовым, приказали размещаться здесь, остальных повели дальше, через вторую дверь с высоким комингсом, явно водонепроницаемую. Повезло друзьям с размещением или наоборот, предстояло ещё выяснить.
Будущие колонисты недовольно зашумели, наверняка представляли условия перевозки несколько иначе. На самом же деле — вполне пристойно. В былые времена, даже и в XX уже веке, эмигрантов из Европы в Америку и Австралию возили в совершенно скотских условиях, в наскоро приспособленных трюмах первых попавшихся пароходов или в четвёртом классе пассажирских лайнеров, то есть в тех же плавказармах. Причём без кормёжки, что с собой взяли, тем и питались. Здесь-то кормить наверняка будут, иначе Томми предупредил бы. Бекетову не понравилось совсем другое.
Не успели ещё все прибывшие разобраться по местам, многие растерянно толпились у самого входа, как в дальней (носовой, как сориентировались бывалые моряки) переборке открылась ещё одна стальная дверь. Из неё появился человек в такой же робе, как матросы у трапа.
Этот сразу начал кричать хрипловатым голосом по-английски в висевший на шее электромегафон:
— Эй, парни! Быстро двигайтесь. Сюда, в мою сторону. Тройками, сюда, ко мне, направо-налево. Одна за одной. Быстрее, быстрее, не толпиться, задумываться потом будете, выйдем в море — времени хватит. А сейчас — до отхода два часа, а вас нужно разместить чёртову уйму! Все вопросы потом, проходите и размещаетесь.
Этот человек, больше всего похожий на боцмана, скорее военного, а не гражданского, не произнёс пока ни одного грубого слова, но выражение лица и интонации намекали, что в случае чего за этим дело не станет, и не только за словами.
Николай хотел было двинуться вперёд, но Бекетов придержал его за рукав.
— Обожди. Дальше не пойдём, — он бросил свой рюкзак на третью от входа нижнюю койку, сел, указал товарищу на соседнюю. Возбуждённые всем происходящим, несколько даже напуганные и подавленные несовпадением воображаемого с действительностью (как будто на самом деле ожидали, что их повезут на круизном лайнере), иммигранты потянулись в глубь кубрика.
— К выходу ближе, — он указал Николаю узкий трап на левой торцовой переборке, — всегда спокойнее.
Трап заканчивался не люком, а узким тамбуром с небольшой овальной дверью.
— Что, ребята, — спросил тоже не пошедший дальше, крепко сбитый, непропорционально широкоплечий парень лет двадцати восьми, наверное, с коротким рыжим ежиком волос. В таверне они его за всё время пребывания не видели, — не в первый раз на коробке?
Юрий неопределённо дернул плечом, всматриваясь в желтовато-зелёные глаза. Спокоен, уверен в себе и, пожалуй, добродушен. Как бы тоже не бывший морпех, или просто флотский, не ниже, чем сверхсрочный унтер. Не озирается удивлённо, как другие, всё вокруг знает и понимает, непоколебимо уверен в себе.
— Мы с вами, если не против. — Парень оттолкнул кого-то, нацелившегося занять место возле Карташова, присёл. — Ваня, Саня, сюда, — указал на второй ярус двум очень похожим на него и друг на друга ребятам, года на три-четыре моложе. Те послушно взобрались наверх. — А третий ярус — для салаг и дураков, — философски сообщил он.
— Братья, что ли? — осведомился Юрий.
— Близнецы. Меня Егором зовут. Кузнецовы мы.
Бекетов назвал себя и Николая.
— Будем вместе держаться, не против? — почти утвердительно сказал Егор, отказа его тон как бы не предусматривал. Точно — унтер, боцманмат, а то и боцман[106].
— А чего ж — против? В компании веселее.
— Где б тут покурить? — полез в карман новый знакомец.
— Небось укажут. И где курить, и куда травить, как в море выйдем.
— Точно, братишка, — обрадовался Егор. — Я на ЧФ служил, на крейсере «Адмирал Лазарев», старшиной трюмного дивизиона живучести. Два года, как уволился.
— А Ваня-Саня?
— Территориалы, — пренебрежительно махнул рукой старшина. — Батя у нас сильно болел тогда, а воинский начальник — его кум. Вот и оставили в уезде, в комендантской роте. Вы сами из каких?
— Тихоокеанцы. Я — морпех, ротный фельдфебель, Коля — электрик с БДК.
— Пойдёт дело, — обрадовался Егор, — выпить за знакомство не желаете? У нас есть.
— Да и у нас тоже. Только не спеши, успеется.
В течение следующего часа кубрик набился под завязку. Несмотря на вентиляцию, отчётливо потянуло густым казарменным духом. Во многих местах сразу закурили. А чего бояться? Того боцмана, что ли? Что он сделает полусотне мужиков, ему никак не подчинённых.
Чтобы сразу начать ориентироваться в обстановке, Юрий предложил «пройтись по округе», посмотреть, что здесь как и почём. К друзьям присоединился Егор, а молодых оставили присматривать за вещами.
За левой дверью, ведущей в корму, располагались гальюны на три десятка мест (явно общие на несколько кубриков), разделённые на секции по пять традиционных на всех флотах унитазов типа «Генуя», длинные, сразу на полсотни человек умывальники и всего шесть душевых кабинок. Бойлерная с холодной пресной водой и кипятком (в душе и умывальниках вода пока из опреснителей, мерзкая на вкус, а на походе будет забортная, штатским наверняка не понравится). И еще вдоль переборок несколько задраенных дверей, в палубе четыре окружённых высокими комингсами люка, ведущих в низы, три почти отвесных трапа к большим, снабжённым кремальерами крышкам в подволоке. Такие же люки и трапы наверх имелись и в кубрике.
Через узкий и длинный поперечный коридор, проходящий, скорее всего, над турбинным отделением, исследователи попали во второй кубрик, такой же, как у них. Два трапа на площадке посередине коридора вели в жилые отсеки, переделанные, по словам Николая, из снарядных погребов для казематов противоминной артиллерии. Тем, кого направили сюда, совсем не повезло: через переборки гул машин и вибрация ощущались гораздо сильнее, и воздух казался более спёртым. Но это уже психология — чем отсеки ниже под ватерлинией и теснее, тем отчётливей проявляются симптомы клаустрофобии даже у привычных людей.
— Грамотно место выбрал, — похвалил Егор Бекетова, когда они вернулись к себе. — Если что — выскочить успеем.
— Что — «если что»? — с интересом спросил Николай.
— Торпеда в борт или мина. Не слышал, что ли, про подводные лодки?
— Так те, как у нас писали, вроде английские и были?
— Мало что пишут. Да если и так. Тот раз английские, сейчас чьи-то другие могут объявиться. Кстати, неизвестно, под чьим флагом мы сейчас идём…
Они расположились за столом прямо напротив своих коек. Егор выложил из матросского парусинового чемодана литровую алюминиевую фляжку, кое-какую закуску на расстеленную газету. Все люди опытные, не англичане, чай. У всех привычный русскому человеку дорожный НЗ — копчёная колбаса, сало, сыр, крутые яйца, вместо хлеба — ржаные галеты, у братьев даже куры-гриль, зажаренные на кухне таверны перед самым отправлением. Имелись и консервы, но это уже совсем на крайний случай. Чай, сахар — само собой.
Народ, кто поопытней, привычнее к жизненным коллизиям, кроме самых слабохарактерных, уже разбивался на компании, знакомился, определялся, кто с кем будет дружить и «вместе кушать», — без этого нельзя. Одиночкам везде плохо.
Вдруг объявился неизвестно где пропадавший Слава Сотников, то бывший как бы «организатором» группы, а теперь объявивший, что назначен на весь переход старостой кубрика, и все возникающие вопросы и претензии следует решать только через него. Похоже, он не первый состав завербованных сопровождал — распоряжался умело, конкретно, при этом вежливо, пожалуй, даже уважительно. А попробовал бы иначе…
Сотников если и был русским, то местным уроженцем, акцент характерный ощущался. Он рассказал о распорядке дня, правилах поведения и безопасности, показал, где хранятся спасжилеты, каким образом выбегать на палубу, в какие шлюпки садиться. Всё, как положено.
— Наверх выпускать будете? — выкрикнул кто-то с другого конца стола.
— Обязательно. Завтра с утра. По очереди. На палубе всем сразу места не хватит.
— А какими-нибудь дисциплинарными правами ты располагаешь? — с места выкрикнул Юрий, входя в роль битого жизнью, слегка приблатнённого парня, которую решил исполнять хотя бы до прояснения обстановки.
— Какие права? — заулыбался Слава. — В карцер вас не посадишь, уже сидите. Гальюны драить и так и так придётся. Просто вот тут, — он достал из кармана бумажку, — я её сейчас на переборку наклею, перечислены все действия, которые на переходе не разрешены, и суммы штрафов за каждое. Чем вас ещё проймёшь? А на берегу баланс подведут, и к общей сумме аванса приплюсуют. Кормёжка тоже за плату, под запись, из судового матросского котла. Сытно и недорого. Имеется судовая лавочка — курево, даже выпивка, нитки-иголки и всё такое прочее. Как везде.
За курение вне специально отведённых мест, к примеру, — провел староста пальцем по строчке «прейскуранта», — штраф пять фунтов или двенадцать рандов. За дебош в пьяном виде — двадцать пять фунтов и ещё карцер, если с дракой и телесными повреждениями…
Бекетову показалось, что сказал он это с плохо скрываемым удовольствием.
— А стукачи, бывает, до конца срока не доживают. Закон… — пробасил весьма веско звучащий голос с одной из коек. Откуда — Юрий не заметил, но решил взять на заметку присутствие в команде такого «законника». Глядишь — и пригодится.
— Столкновение двух и более законных интересов, — рассудительно сказал староста, — называется «правовой коллизией». Постараемся находить разумные компромиссы. Зря стучать никто не будет, кому это нужно?
— Чтобы штрафов побольше намотать, — ответил тот же голос.
В положенное время машины загудели по-настоящему, пароход начало покачивать, и довольно ощутимо. Значит, вышли из устья Темзы в Северное море.
«Часов через четыре-пять, — прикинул Бекетов, — должны сворачивать почти на восемь румбов вправо, если правда в Атлантику направляемся…» Куда и зачем их могли повезти ещё, он не представлял, но с момента посадки на судно испытывал непреходящее чувство тревоги, вообще какой-то неправильности происходящего.
Большинство обитателей кубрика уже спали, день выдался длинный и нервный. Гулкий металлический объём заполнил многоголосый храп. Яркий свет погас, остались только синие плафоны у трапов, дверей и люков.
Бекетов с Егором легли головами друг к другу. Так можно перешёптываться, из-за работающих движков, прочих сопровождающих идущее судно звуков с трёх шагов никто ничего не услышит. Да и некому подслушивать, рядом и сверху свои.
— Не нравится мне это дело, — сказал старшина, будто угадав настроение Юрия.
— И мне не особенно. Только паниковать рано.
— А кто паникует? Присмотреться надо. Давай прогуляемся. В гальюн давно пора, покурим, перетрём…
— …Я так соображаю, — говорил Егор, опершись спиной о переборку и посматривая в коридор, — везут нас на военном транспорте. С военной командой. Вопрос — почему и зачем?
— Это как раз не первый вопрос. У англичан с юасовцами тесный комплот, те до сих пор британского короля за главу государства признают, а собственный премьер — только глава правительства. Договора имеют о дружбе и взаимопомощи, вполне могли на попутный транспорт нашу бражку принять. Опять же, откуда мы знаем, чья это коробка? Может, как раз южноафриканская. Мне другое не нравится — обращение. Похоже, будто мы в Иностранный легион записались. Пока начальники ведут себя прилично, а в океан выйдем — объяснят, что почём. И куда денешься?
— Слышал я про такое. В натуре, завербованных переселенцев по-другому возят. Пусть хуже, но посвободнее. Никто бы в низы с палуб не загонял, что я, не знаю, что ли? И двери все задраены. Будто и вправду война.
— Вот-вот. Мне Хэмптон на что-то намекал. А если война — то с кем, кроме как с Россией? То-то и оно. И зачем мы в этом случае англичанам?
— Ладно, хватит самих себя заводить, — бросил окурок в железную коробку с песком Егор. — Давай лучше здесь оглядимся. Ты на подстраховке, а я полезу… — он указал на малоприметную овальную крышку люка между последней кабинкой гальюна и траверсной переборкой. — Как я соображаю, за ней коффердам[107]. Куда-нибудь он выведет, — и вытащил из кармана цилиндрический аккумуляторный фонарь в герметичном корпусе. На память со службы старшина прихватил. Бекетов знал, что светить такой фонарь может часов десять. И от судовой сети с почти любым напряжением подзаряжается.
— Сходи, поаккуратнее только.
Кому же ещё, как не трюмному старшине, разбираться, как и куда можно проникнуть по стальным лабиринтам, неизвестным даже большинству судовой команды.
— Сейчас, — Егор разулся, разделся до трусов.
— Эй, ты чего?
— А ты по трюма́м когда-нибудь лазил? Вернусь — посмотришь. Шмотьё у меня не казённое, другого не выдадут.
Юрий прикрыл за Егором крышку, на всякий случай снял с предохранителя прихваченный из сумки пистолет, сунул сзади под брючный ремень. Присел на край рундука с огнетушителями (кстати, в случае чего и они как оружие могут сгодиться), снова закурил, стал ждать.
Старшины не было долго. Несколько раз заходили в гальюн сонные мужики, не замечая Юрия, скрывающегося, заслышав стук шагов, в ближайшей душевой кабинке. Не выдержав гнёта неизвестности, пришёл и Николай. Стали ждать вместе, от нечего делать перебирая самые разные варианты ближайшего и отдалённого будущего. В том числе — как быть, если старшина не вернётся из разведки?
На этот раз он вернулся. Вылез, действительно перемазанный от рыжей макушки до пальцев на ногах ржавчиной, мазутом, ещё какой-то дрянью, замерзший и злой. Матерясь, направился в душ.
— Давайте, в две мочалки драйте, чтоб до утра управиться…
Управились даже раньше, хотя повозиться пришлось. Николай сбегал за фляжкой, заодно проверил обстановку. В кубрике было, условно говоря, тихо. Не считая храпа, сопения, сонного бормотания и прочих ночных звуков. Люди то и дело вставали, возвращались, отсутствие на месте трёх человек никого не интересовало. Даже близнецы спали, как дома.
— Тёмное дело, братцы, — сообщил Егор, как следует приложившись к горлышку и нашаривая в пачке сигарету. — На крейсере мы, и везут нас действительно хрен знает куда…
— Да брось, — не поверил Николай. — Откуда на крейсере такие кубрики? Свободные, на двести человек. Там людей где придётся рассовывают, штатный экипаж, бывает, по очереди в подвесных койках спит, и в батарейной палубе, и в торпедных отсеках…
— Кого учишь? — возмутился старшина. — Не веришь — сам сходи, — и начал рассказывать.
Через коффердам он добрался до вертикальной шахты и по скобтрапу спустился не в грузовой трюм какой-нибудь, а к поперечному мостику над полуоткрытыми тоннелями дейдвудных валов. Место показалось знакомым.
— Налево — трап, один или два марша до штормового коридора, а он упирается в румпельное отделение, так? — перебил его Николай.
— Точно, — слегка опешил Егор. — А что справа, угадаешь?
— Чего угадывать? Судя по твоей усмешке — подбашенное отделение. Снарядное или перегрузочное, смотря до какой палубы ты добрался. Только оно должно быть задраено…
— Хрена — задраено. Гулял я там, как по Приморскому бульвару. Было подбашенное, точно, а сейчас хрен знает что. Электромоторы какие-то, кабелей чёртова уйма, ящики всякие. Я выше поднялся, до зарядного и второго перегрузочного. Элеваторы демонтированы, везде сплошная электрика и электроника. Тебе бы посмотреть. Людей — никого. Дальше я не пошёл, голоса услышал. Вниз спустился до погребов главного калибра. Туда не полез. Со второй башней — то же самое. Хотел на верхнюю палубу выбраться, поглядеть, как там. Нет, передумал. Времени много прошло, и любая везуха — не бесконечная. Теперь давайте соображать, что к чему. Ты ведь, Николай, темнишь. Не электрик ты рядовой. Каплей, не иначе, по механической части. Только меня это не касается, чего под матроса косишь. Я в чужие дела не лезу.
Егор снова приложился.
— Думать — информации маловато, — ответил Николай, как бы пропустив слова старшины мимо ушей. — Мне бы вправду самому посмотреть. А пока что — ну, бывший крейсер. Имелись две кормовые башни главного калибра. Какого — неизвестно. Валов сколько?
— Половину вариантов долой, но и оставшихся полно. Электроники, говоришь, много. Может, под ПВО перестроили, может — под корабль управления… Пошли спать. Утром наверх выпустят — посмотрим. Времени если хватит, завтра вместе прогуляемся.
Днём ничего интересного узнать не удалось. После завтрака, чисто английского, начали выпускать «на прогулку». По двум трапам сразу. Вышли на подобие не очень широкой, но длинной, почти до мидельшпангоута, лоджии. Военному моряку понятно, что под «прогулочные дворики» использовали казематы нижних плутонгов скорострельной артиллерии. Пушки демонтированы, а рельсы для снарядных беседок от горловины подачи до орудий остались. И, похоже, для чего-то используются и сейчас. Борта от верхней палубы до уровня бывших орудийных портов срезаны, получились просторные, открытые наружу твиндеки[108], тридцать метров в длину, четыре в ширину (Карташов шагами измерил). Если в другое время бывший крейсер десантников перевозит, можно здесь их тяжёлую технику размещать. Удобно, а вон и петли имеются, чтобы борта вровень с палубой наружу откидывать, вместо аппарели.
«Крейсер» шёл на юг, солнце, поднявшееся невысоко, светило слева в просветы туч, и Николай в какой-то момент увидел на почти штилевой воде отчётливую тень корабля. Увидел и протяжно присвистнул.
Различались две прямые трубы, массивная надстройка фок-мачты, две линейно-возвышенных башни на полубаке. Скорее всего — лёгкий крейсер типа «Фиджи». Но вот во что он переделан? Различаются какие-то бесформенные, но явно массивные конструкции на корме, между грот-мачтой и трубами. Если не фермы кранов для подъёма и спуска на воду гидросамолётов или торпедных катеров, тогда — антенны радиолокаторов?
Интересная конструкция. Карташов внимательно следил за всякими новинками в военном кораблестроении, но материалов о перестройке «Фиджи» или близких по типу кораблей в нечто подобное он не встречал.
Их «крейсер» на несколько румбов подвернул влево, и впереди в десятке кабельтовых стал виден кильватерный строй из трёх настоящих, без кавычек, лёгких крейсеров типа «Тайгер». Николай успел их хорошо рассмотреть, пока после очередной смены курса они не исчезли из поля зрения.
Ясности новая информация не прибавила. По-прежнему можно было считать, что организаторы перевозки достаточно влиятельны, чтобы использовать британскую эскадру в качестве попутного транспорта. Возможно, и на трёх остальных крейсерах кубрики и трюмы забиты тем же грузом. Что, англичанам привыкать рабов, переселенцев и солдат по всему миру доставлять, из метрополии в колонии и наоборот? Но всё равно непонятно — отчего именно русские им потребовались? Заявленная цель — усиление русской колонии на юге Африки — в свете надвигающейся войны не выглядит хоть насколько-то убедительной.
— Разве что, как только война начнётся, нас тут же объявят интернированными и заставят либо, как настоящих рабов, пахать бесплатно и бессрочно, либо…
— Что — либо? — спросил Егор, старательно морщивший лоб, пытаясь наглядно представить эту перспективу.
— Либо им мы нужны для другого, но именно в своём русском качестве…
— Что-то слишком сложная схема. Ты ещё скажи, что вся контора Томми, эти контракты и прочее созданы только что и именно на этот случай… — усомнился Карташов.
— Почему бы и нет? Вы вот как на крючок попали? — спросил Юрий братьев.
— Да как? Перебивались в Ипсуиче случайными заработками, ждали оказии в Австралию отправиться…
— Чего вдруг? — удивился Николай. — Дома что, не нравилось?
— Да так, мир посмотреть, деньжат зашибить, там, говорят, вчетверо больше, чем у нас, платят, — несколько уклончиво ответил Егор. — А тут в русской газете объявление прочитали. Ну и подумали — почему нет? Начнём с Африки, дальше видно будет…
— Давно перебивались? — испытывая всё больший интерес, продолжил расспросы, плавно переходящие в допрос, Бекетов.
— Четвёртый месяц уже. Парни говорили, на иностранцев, что не из стран «содружества», квоты раз в полгода выделяют. Вот мы и наведывались каждый месяц в консульство…
— И за четыре месяца первый раз такое объявление попалось?
— Вишь, как интересно? Не звали, не звали, и вдруг… А Хэмптон болтал, что давно с юасовцами работает. Ну ладно, закончили, а то к нам уже прислушиваться начинают…
Следующую ночь на рекогносцировку во внутренности крейсера отправились уже вдвоём, Егор и Николай. Старшина знал только свой крейсер, да и то от киля до ватерлинии, выше — не его заведование. Карташов же в корабельной архитектуре и топографии разбирался досконально и уверенно ориентировался там, где терялся Егор. А растеряться было немудрено, и на своём корабле матрос начинает уверенно ориентироваться в низах только на второй год службы. А это был чужой, совсем другой конструкции и даже технической культуры.
За три часа они облазили кормовую часть до самого верха, Николая очень интересовали непонятные приборы, которыми были забиты оба подбашенных отделения. Исследователи передвигались босиком, по тем проходам и шахтам, где обычные моряки бывают только в случаях острой необходимости, так что неожиданных и безусловно неприятных встреч можно было не опасаться.
В каптёрке между кормовыми машинным и котельным отделениями обнаружилось несколько стопок рабочей робы, и они с удовольствием приоделись. И теплее, и собственная кожа целее будет, а главное — попадись на глаза здешним трюмным, издали за своих примут. Вот голые люди немедленно вызовут сначала удивление, а тут же и тревогу, но никак не моряки в «синем рабочем», пусть и в неположенном месте. Просто, заметив кого-то из экипажа, нужно быстренько, но без паники срываться. Любой матрос, попавшийся на глаза чужому офицеру, прежде всего старается сбежать, и чаще всего ему это удаётся. Гоняться за каждым бездельником по тесным отсекам разве что особо рьяный боцман или старший офицер вздумает. Остальным — наплевать. Так и на русском флоте всегда было. Егор мог бы рассказать, как сам он с дружками в первые годы службы ночами по провизионкам шарили. Так что их поведение в любом случае будет вполне естественным.
Ещё один плюс — на внутрисудовых дверях и люках не бывает замков. Они задраиваются, но не запираются — в бою, при любом аврале и тревоге каждый моряк должен иметь возможность попасть из любого помещения в любое. Для заделки пробоин, тушения пожаров, быстрой эвакуации. Даже двери офицерских и адмиральских кают снабжаются вышибными филёнками, чтобы войти или выйти, если перекосит или заклинит. Там, куда доступ посторонним запрещён, ставится дневальный или вахтенный, в специальных, уставом предусмотренных случаях — вооружённый часовой.
Благодаря этому разведчики обзавелись двумя фонарями, а в угловой, ближайшей к трапу батарейной палубы офицерской каюте им вообще несказанно повезло. Сменившийся с вахты недотёпа оставил на спинке кресла пояс с пистолетом в кобуре и кортиком. Слишком, наверное, торопился в кают-компанию за ужином или просто парой стаканчиков хереса. Правильно знающие люди говорили, что у англичан морская практика хорошо поставлена, а дисциплины и соблюдения внутреннего распорядка — чистый бардак. Сильно много каждый о «правах личности» понимает. Пришлось «пушку» экспроприировать, для собственной пользы и дуракам в назидание. Огневая мощь команды сразу возросла на треть за счёт трофейного «веблея» с запасной обоймой вдобавок.
Итоги второй рекогносцировки подтвердили ещё вчера высказанное Егором умозаключение — если не отходить далеко от заранее намеченных путей эвакуации и проявлять разумную осторожность, то в ночное время можно вытворять на чужом корабле всё, что заблагорассудится. Главное — не оказаться в неподходящем месте во время общесудового аврала.
Уже на обратном пути на площадке возле кочегарки Николаю удалось подслушать разговор вышедших покурить на сквознячке матросов, в корне изменивший и настроение, и дальнейшие намерения. Парни обсуждали предстоящий заход в Фуншал — главный город и порт островов Мадейра. Сам по себе этот момент ничего необычного не представлял. Можно было только порадоваться — глядишь, и их на берег отпустят. Размяться, припасы пополнить, сувениры приобрести, выпить-закусить, стрессы снимая. В нормальных условиях почему бы и нет? Они свободные люди, с контрактами на руках, оплатившие свой проезд. Но как-то в это не верилось. А следующие слова другого машиниста поставили крест на всех оптимистических планах.
— Механик сказал — погреемся напоследок, а то потом долго теплых краёв не увидим. Следующая станция Рейкьявик…
Егор чуть не сел на железный настил. Когда отошли подальше, к своей шахте, начал материться.
— Да брось, мы ж подобной подлянки и ждали, — успокоил его Карташов. — Вопрос в другом — если им в Исландию, за каким нужно эскадру на две тысячи миль к югу гнать?
— Может, они внезапно другой приказ получили? Нас высадят до следующей попутки и — по своим делам, — в голосе старшины прозвучала робкая надежда.
— Оч-чень вряд ли. Что им на островах делать — не знаю, только нас они не высадят. Я вот что придумал… Ладно, наверх вылезем — всем сразу скажу.
Глава двадцать девятая
Пока товарищи странствовали по стальным корабельным лабиринтам, Бекетов тоже времени даром не терял. Жизненный опыт и интуиция подсказывали, что скорее рано, чем поздно их длительные отлучки из кубрика привлекут внимание старосты или кого-то из его осведомителей, которых просто не могло не быть среди такого количества незнакомых людей с сомнительными биографиями. Что в казарме, что в тюрьме на две с лишним сотни человек десяток «добровольных помощников» у начальства всегда найдётся. Реже из идейных соображений — чаще за лишнюю пайку (условно говоря).
И надо было придумать что-нибудь мотивирующее их частые ночные отлучки и чересчур долгое пребывание в гальюне. Хроническая диарея у всех сразу — малоубедительно. Изображать гомосексуальных партнёров, ищущих уединения, тоже не хотелось. Тогда что?
Юрий за полчаса, стараясь действовать бесшумно и вовремя прячась от соседей по кубрикам, то и дело выходящих по нужде и покурить, заглянул за каждую из задраенных дверей, в каждый палубный люк доступных осмотру помещений. Известно, что на боевых кораблях каждый кубометр внутреннего объема используется подчас совершенно неожиданным образом. На одном из десантных транспортов, к примеру, прямо под палубным настилом четырёхместной каюты, где две недели пришлось ночевать Бекетову, размещался погреб сорокамиллиметровых зенитных снарядов, а между койками был установлен цепной элеватор подачи.
Вот и здесь между средними душевыми кабинками и кожухом трюмного вентилятора был втиснут трапециевидный отсек размером в два вагонных купе. Для чего он предназначался конструктивно, Бекетов не знал, но в нём имелись три выступающих над палубой кожуха, боковые пониже, а средний высотой как раз с нормальный стол. Ещё там хранились всякие санитарные принадлежности — швабры, тряпки и голики, банки с порошками для дезинфекции, коробки с мылом, десяток свёрнутых пожарных шлангов, две бухты белого шестипрядного линя. А на подволоке горел довольно яркий матовый плафон в проволочной оплётке, но почему-то без выключателя.
Юрий подготовил всё, что нужно для маскировки, оставалось только ждать.
Разведчики появились, когда терпение и нервы были уже на пределе. Им там хорошо делом заниматься, а каково считать минуты, потом часы и вздрагивать от шагов и голосов снаружи?
— Ну, мать вашу, братцы, нервы ж у меня не железные. Думал, ещё чуток — седеть начну… Ладно, садитесь, докладывайте.
Он выложил на средний кожух колоду карт, лист бумаги, разрисованный под преферансную пулю, карандаши. Пока ждал — заполнил примерно как для середины игры. В отместку Егору и Николаю вывел заоблачные горы, написал на них уйму вистов, а себя вывел под закрытие.
Карташов посмотрел, усмехнулся.
Бутылка «Джонни Уокера» была почти полная, и все как следует приложились. «Для сугреву», нервы успокоить, да и прицепись к ним кто — занятие вполне естественное, снимающее иные подозрения. Егор с Николаем переоделись в своё, умылись, показали товарищу трофеи. Теперь все трое были подходяще вооружены, и для громкого дела, и для тихого. Юрий подкинул кортик на ладони, спрятал в карман. Прорезав ткань, он удобно повис на крестовине, острием касаясь колена. Если придётся работать — кому же, как не ему?
Слушая доклад об итогах очередного поиска, раздал карты. Просто удивительно вовремя, на пятнадцать минут задержись ребята — пришлось бы переходить к острой фазе в одиночку, и вряд ли бы она обошлась без стрельбы.
В каптёрку ввалились сразу трое — их Славик (правильно говорится — не поминай к ночи) и его коллеги из соседних кубриков. Морды… На мордах написан азарт охоты. И сразу — недоумение пополам с разочарованием. А что — люди мирно играют в преферанс и выпивают. Повезло им — нашли хорошее место. Это в очко или буру можно в тюремной камере играть под сотней заинтересованных глаз, а здесь нужны тишина и сосредоточенность. Как в заповедях игроков говорится: «Главные враги преферанса — жена и скатерть». Здесь — ни того, ни другого.
— Чем обязаны, господа начальники? — недружелюбно осведомился Бекетов, бросая карты рубашкой вверх. Мол, говорите, что надо, и отваливайте.
— Да нет, мы так… — Славик торопливо подбирал слова, — играйте, конечно. Мы тоже вот… Зашли, слышим — голоса. Время ночное, третий час уже, нормальным людям давно спать полагается, так мало ли что…
— Раз ничего — ну и бывайте, — вмешался Егор. В игре он ничего не понимал, на лист с записью смотрел, как баран на те самые ворота. А сейчас почувствовал себя в своей стихии.
— Вы только не перебирайте, — заботливо сказал коллега их «старосты». Бекетов опытным взглядом заметил оттопыренный правый карман и сильнее левой свисающую полу расстегнутой ветровки. Да и остальные при оружии. Ладно, это их дело, мы тоже не пустые ходим.
— Кто ж за игрой напивается? Мы по чуть, за сыгранный мизер…
«Кажется, на сей момент отмазались», — успел подумать Юрий и снова будто накликал. Что-то он глазливый стал.
— Стоп, а это что? — вдруг напрягся, будто сеттер, делающий стойку, третий из надзирателей. Именно так, а никакие они не «старосты».
Шагнул вбок и двумя пальцами вытянул из-за шторки, скрывающей полки с коробками и банками, измазанную ржавчиной робу.
— А мы откуда… — начал Егор, кривясь от собственной промашки. Сунул не глядя, не думая.
— Свежая! — мазнул пальцем по полосе ржавчины староста, чересчур глазастый, на свою беду. Повернулся к своим. — Сыроватая. Откуда здесь?
Те заученно потянулись к карманам.
Делать нечего. Опережая движение руки противника, Юрий, рывком привстав, схватил его за плечо и шею, всей силой рук и весом тела впечатал лбом и носом в железо кожуха.
Готов! Видно, насовсем. Отпуская сразу обмякшее тело, Бекетов выдернул из его кармана пистолет.
— Стоять! Руки!
Сотников, демонстрируя великолепную реакцию и профподготовку, попытался спиной вперёд выскочить из каптёрки. Сумел бы — захлопнул дверь, крутнул задрайку — и всё! Что третий его коллега остался бы здесь заложником, наверное, роли не играло.
Только старшина дивизиона живучести Егор имел опыт точной и быстрой работы в тесных отсеках, бывало, и в темноте. Драться, выходит, тоже научился.
Ногой сделал подсечку, добавил тяжёлым, как гиря, кулаком в висок. И с этим всё — после такого удара староста врезался затылком в покрытую крупными головками заклёпок переборку.
Оставшийся в живых, смертельно побледнев, тянул к подволоку руки. Егор охлопал карманы его и Славика. Ещё два пистолета.
Николай, боевого опыта не имевший, так и не успел встать со своего места.
— Вот и всё, братцы, — сказал, кривя в нервной усмешке, рот Бекетов. — Всё за нас решилось. Ты, Коля, тихонько в кубрик, буди ребят, забирайте барахло, харчи, какие есть, одеяла тоже — и сюда. Больше не нарывайтесь. А мы пока приборочку сделаем.
Живого поставили враскорячку к переборке, трупы Егор мигом оттащил к горловине шахты. Юрий вытер тряпкой кровь со стола и палубы, рассовал по карманам бутылку, карты, окурки завернул в лист с записью. На первый взгляд — чисто. Конечно, настоящие эксперты что-нибудь всё равно найдут. Так есть ли здесь они, настоящие? Сгрёб под мышку и робы.
Тела чересчур рьяно исполнявших свои обязанности «старост» отправились в свободное падение до настила междудонного пространства. За ними, гораздо медленнее, по скобам трапа — Егор, пленник, Ваня-Саня, Николай. Замыкающим Юрий. Хорошо, у всех старост, кроме пистолетов, при себе имелись фонари, не хуже, чем у Кузнецова, и по полной пачке сигарет. Но больше ничего. Бекетов надеялся, что документы какие-нибудь обнаружатся. Ну, нет так нет. Язык расскажет всё, что знает.
Размерами и запутанностью планировки подводная часть крейсера значительно превосходила лабиринт Минотавра. Особенно — для людей сухопутных вроде Сани с Ваней.
Все эти помещения не видели дневного света с начала постройки корабля и не увидят до его последнего дня, когда гордого пенителя морей начнут разделывать на металл. А пока здесь царит бесконечная ночь, далеко не везде рассеиваемая аварийными плафонами. При необходимости их легко погасить, перемкнув провода в распределительных щитах.
Даже если бросить на поиски укрывшихся здесь людей всех свободных от вахт матросов, едва ли что-нибудь получится. Но вряд ли командир корабля согласится учинить такой аврал за сутки до прихода в порт. Что ему до тех «дезертиров»? Ошвартуется крейсер — сами попадут в руки военной полиции при попытке перебраться на берег. Да и кто ему вообще расскажет и объяснит, в чём дело? Может быть, «старосты» и поддерживали контакты с кем-то из офицеров крейсера, старпомом даже, так едва ли они обязаны каждое утро на общий развод являться. На камбузе знают, на сколько людей кормёжку выдавать, для её доставки и делёжки уже выделены в каждом кубрике по четыре «бачковых», время раздачи они знают, и время прогулок всем известно. Так что очень возможно — до самой швартовки никто ничего не заподозрит.
Зато со сходом на берег при самом благоприятном развитии событий проблемы возникнут обязательно. Поэтому Бекетов решил покинуть гостеприимный корабль несколько раньше, в подлинно британских традициях — не прощаясь. А сейчас нужно спрятаться получше в безопасном, сухом и тёплом месте, осмотреться, совершить одну или несколько вылазок на верхнюю палубу, запастись спасательными жилетами и надувным плотиком с аварийным запасом. За борт смайнать — не вопрос, три минуты дела, и лучше бы в эти минуты никому из английских морячков не подвернуться под горячую руку.
Подходящее укрытие Николай с Егором отыскали быстро — как раз такое, как нужно, неподалёку от румпельного отделения, в отсеке резервных динамо-машин. Они сейчас отключены, если сюда и забредёт судовой электрик, так не раньше очередного регламентного срока. Пусть этот срок наступит не сегодня и не завтра. Вдруг электрик — хороший человек, и никакого нет желания поступать с ним негуманно.
Устроились со всеми удобствами — светло стало, когда Николай нашёл в коридоре нужный щит, а сухо здесь было по определению.
Первым делом Бекетов, отправив Егора и его братьев дозором в обе стороны низкого и узкого коридора, занялся допросом пленника. Пришлось вспомнить, чему учили: «Убедительная угроза применения „третьей степени“ сама по себе является „четвёртой степенью“».
Язык попался разговорчивый, вернее — стал таким, осмыслив предложенные Юрием варианты.
— Тебе уже повезло, — говорил Бекетов, похлопывая по ладони клинком офицерского кортика. — Его хозяин, — он повертел острием перед глазами пленника, — там. Твои дружки тоже. Ты пока живой. И имеешь шанс продолжить это занятие. Рассказывай всё и в деталях. Начнёшь врать — я сразу увижу и накажу. Мало не покажется, сам знаешь, какими мы, русские, бываем, если нас сильно достать. А у меня, тем более, специальная подготовка. Как раз допросы пленных в тылу врага, в условиях острого дефицита времени. Больно будет очень, причём проблемы твоей дальнейшей транспортабельности в число приоритетных не входят. Уловил? А правильно себя поведешь — свяжем и перед уходом здесь оставим. Найдут раньше, чем помрешь, — твоё счастье. Вот и все условия. Начинай…
От услышанного сидевший рядом Николай, часто и нервно куривший, испытал прежде всего оторопь. Слишком невероятно это выглядело с точки зрения нормального человека. Зато Юрий отнёсся к этому адекватно. По поводу нравственных качеств англичан он никогда не заблуждался. И в диверсионной школе его учили именно этому: «Враг хитёр и коварен, только тем и занимается, как выдумывает самые невероятные сценарии. А мы должны быть всегда начеку и помните поговорку насчёт хитрости и винта». Следовательно — «какою мерою меряете, такою и отмерится вам».
Всех подробностей староста, он же Кирилл Любавин, бывший житель подмосковных Мытищ, завербованный английской разведкой четыре года назад, конечно, не знал. Не того полёта птичка. Но он имел отношение к какому-то секретному институту, где занимались методиками волнового воздействия на человеческую психику. После прошлогодних беспорядков в Москве, для которых как раз и использовалась аппаратура из НИИ, где трудился Любавин, ему удалось не попасть в руки российской контрразведки и через Финляндию бежать в Англию. Там его не оставили вниманием, определили не очень большое, но достаточное жалованье, а недавно даровали и гражданство. Теперь уже с полным основанием его зачислили в штат одного из подразделений британской разведки и недавно это самое задание поручили.
Отставной штабс-капитан морской пехоты ТОФ Бекетов снова ощутил себя на службе.
— Это что же — какого-никакого, а офицера послали надзирателем за полусотней эмигрантов, которым так и так с корабля деваться некуда?
— Нет, конечно. Дело совсем в другом…
Как Юрий и подозревал, никакого Фуншала для них не будет, значит, надежды на скорый побег развеялись, как дым из одноименного популярного танго. Эскадра туда действительно пойдёт (и агент был крайне удивлён, что его «подопечные» об этом знают), но уже без команды волонтёров. Сегодня или завтра назначено рандеву со специальным, теперь уже чисто гражданским судном, куда их и перегрузят. Но уже в таком состоянии, что сопротивляться никому в голову не придёт, все с радостью станут выполнять любые приказы. Для этого, мол, на крейсере есть особые специалисты и аппаратура, превращающая людей в нерассуждающих роботов. О подобных вещах в школе диверсантов Юрию рассказывали, но вскользь и без подробностей.
О масштабах и цели нынешней «подлянки» Любавин не знал. Всей операцией заправляет высокопоставленный чин, имеющий привычку в каждый конкретный момент и каждому исполнителю сообщать только касающуюся лично его часть задания, и в одиночку составить целое из обрывков приказов и инструкций никак невозможно. Известно только, что всем причастным велено провести все подготовительные мероприятия в течение ближайших суток.
— Ну и какими же будут ближайшие?
— Нам выдали спецпрепарат, по особой команде его нужно высыпать в бачки с питьевой водой. Это так называемая «премедикация», приведение организма в состояние наибольшей чувствительности к волновому воздействию…
— А вдруг кто-то пить не захочет? Случайно.
— Все захотят. В пищу будут добавлены специи, вызывающие сильную жажду…
— Все предусмотрели, падлы, — сказал Карташов, испытывая сильное желание заехать пару раз предателю в зубы. Просто так, для разрядки. — И где же ваш препаратик?
— В кубриках. Мой — в боковом кармане сумки. Где у других — не знаю.
— Без него что, внушение совсем не подействует?
— Подействует, только неизвестно, на кого как и в какой степени. Это как с водкой: один песни петь начнёт, второй — драться, третий — в петлю.
— Аппаратура где установлена, кто ею управляет, где старший по операции живёт?
Любавин сообщил всё, что знал. Раздетого, связанного и с кляпом во рту, агента затолкали в пустой железный рундук и начали думать. В его костюм облачился Бекетов. Немного тесноват, но в целом сойдёт. Спрятанная за подкладкой внутреннего кармана картонка, закатанная в целлофан, заверенная печатью и неразборчивой подписью, позволяла предъявителю, мистеру Киру Любину (примитивный народ англосаксы, простейших слов выговаривать не умеют, вот и сокращают всё, даже иностранные имена до одного-двух слогов), пребывание на HMS[109] «Гренфилд» и свободное по нему перемещение, с правами офицера службы «М-6», что было весьма кстати. Диверсанту труднее всего проникнуть на объект операции, а если он уже там — девяносто процентов дела сделано. Отход после акции — отдельный разговор, до него дожить надо.
— И с чего мы начнём? — обратился он к Николаю и Егору, отозванному с поста. Его «пацаны» здесь были без права голоса, исполнят, что старший брат скажет.
— Да с чего угодно, — засмеялся Карташов. — Мы же здесь теперь как зрячие в стране слепых. Особенно в низах. Взорвать крейсер, особенно с твоей бумажкой и нашими пятью стволами, — делать нечего. Только людей жалко. А шантажировать можно. И капитана в плен взять не очень трудно.
— А потом парней из кубрика на палубы выпустить… — продолжил Егор.
— Можно, но не пойдёт, — охладил пыл товарищей Бекетов. — Если б мы одни шли. А тут в ордере ещё три крейсера. Боюсь, что раз такая игра пошла, их шантажом не испугаешь. Потопят, на хрен, коробку вместе с нами и своими. Что им терять? Поэтому давайте перекусим, чем имеем, и вздремнём до утра. Потом дальше думать будем…
Тут Бекетов правильно решил. Ночь выдалась уж больно длинная да нервная. Глаза слипались, и устали все по трапам, коридорам и отсекам лазить, а ели последний раз часов двенадцать назад. Судя по долготе, на которой они находились, до рассвета оставалось чуть больше двух часов. Поели, допили, что оставалось, и устроились спать, подстелив предусмотрительно захваченные из кубрика одеяла. Мешки и сумки — под головы. Хорошо, снаружи почти тропики, и было не холодно. Часовых решили не выставлять. Если кто появится — непременно загремит задрайками, тут его и встретят. Заснули разом и, сами того не ожидая, проспали почти шесть часов.
Операция «Дискрешен»[110] задумана была неплохо и хорошо технически оснащена. Участвовал в её разработке адмирал Гамильтон-Рэй со своим «Комитетом нестандартных операций», а в оснащении и обеспечении — сам господин Боулнойз. Он же и представил адмиралу специалистов по обслуживанию и боевому применению аппаратуры, на которую возлагались главные надежды. Руководитель технической группы, мистер Майкл Френч, человек явно штатский, по предложению Арчибальда получил временное звание коммандера[111] инженерной службы, для маскировки и повышения авторитета среди настоящих моряков. Его инженеры и техники тоже носили нашивки от уорент-офицера до лейтенанта. Полномочия каждого из них были настолько велики, что даже командиру «Гренвилла» они подчинялись только в вопросах внутреннего распорядка. И сам адмирал Хиллгарт вынужден был сначала согласовывать свои решения (связанные с использованием «радиокомплекса Зироу») с Френчем и лишь потом отдавать приказы. Это ощутимо задевало самолюбие адмирала, но он тем не менее понимал, что действительно невозможно вмешиваться в действия старшего артиллериста, к примеру, имея только юридическое образование. И наоборот тоже.
Установленная на бывшем крейсере «Гренвилл» аппаратура могла полностью нарушать радиосвязь на всех волнах и забивать радиолокаторы в радиусе пятисот миль. Действовала как хорошее северное сияние с теми же примерно характеристиками, что не позволяло заподозрить искусственный характер этого явления. В случае начала боевых действий всего один такой корабль мог дезорганизовать обстановку на целом ТВД, ослепив и оглушив противника. Свой флот, авиация и береговые станции, конечно, оказывались в том же положении, но, во-первых, ему достаточно будет руководствоваться заранее составленными диспозициями, как это делалось с времён Троянской войны, а во-вторых, в специально условленное время можно, неожиданно для неприятеля, внезапно открывать на несколько минут «окно» для связи со своими.
Перед началом «Дискрешена» Арчибальд, «агитируя» Гамильтон-Рэя, сообщил адмиралу, что постановка помех — это лишь дополнительная мера, обеспечивающая успех операции. Основная же функция мистера Френча и его техники — превратить навербованный по портовым кабакам славянский сброд в высокоспециализированное воинское подразделение, причём — одномоментно. Гамильтон-Рэю эта идея поначалу показалась абсурдной, но после специально для него устроенного демонстрационного опыта все его сомнения исчезли. Более того, он стал самым горячим адептом «научного направления» мистера Френча. Всего-то и потребовалось на несколько минут самому оказаться в зоне действия излучения, настроенного на характеристики его личности
Первый этап «Дискрешена» вообще не предполагал никаких осложнений. По агентурной наводке отряд вышел к отмеченной на карте точке, где спустили на воду два пятидесятитонных катера, выглядящих как прогулочные яхты уважающих себя миллионеров. Смотрелись они очень красиво, один окрашенный алым, другой — жемчужно-зеленым лаком. Высокие «клиперские» форштевни, обтекаемые многоярусные надстройки, в которых можно было спрятать или многочисленные помещения для отдыха и развлечения пассажиров, или вооружение, пригодное для боя с хорошим сторожевиком. А турбодизели автомобильного типа без шума и вибрации на глиссировании выдавали полных пятьдесят узлов.
В точном соответствии с замыслом и графиком (плюс-минус час) в тщательно вычисленном квадрате океана был обнаружен российский турбоэлектроход «Капитан Вилькицкий», один из самых быстроходных гражданских судов такого класса и вместимости.
Главное, чем прельстил англичан «Вилькицкий», — его просторные трюмы после освобождения от генерального груза[112] были сухи и чисты. Не танкер, не угольщик, без всякой обработки можно в его трюмах и надстройках перевозить живую силу и технику.
Больше двухсот человек русских или просто знающих в приличной степени русский язык бродяг, заключённых, лиц без определённых занятий, навербованных в Англии и сопредельных странах, ждали своего часа в кубриках «Гренвилла». Им предстояло сыграть пусть короткую, но эффектную роль. По необходимости — кровавую, но тут уж ничего не поделаешь.
Идея принадлежала лично Арчибальду, и он ею очень гордился. Участвуя в проработке конкретных деталей, Гамильтон-Рэй удивлялся коварству замысла и ещё тому, что Боулнойз несколько раз с ухмылкой упоминал какой-то Глейвиц: «Это будет поэффектней Глейвица»[113].
Адмирал посмотрел на карте — незначительный городишко в Малопольше, и ничего больше. Уточнять, какое отношение он имеет к их делу, Гамильтон-Рэй не стал.
Ничего не подозревающие «переселенцы» должны были изобразить российских морских пехотинцев. После захвата «Вилькицкого» их прямо в море перегрузили бы на пароход, экипировали и по дороге к цели особым образом обработали. В этой обработке и заключалась главная хитрость Арчибальда.
Целью операции была Мальта. Грамотно выбранной целью. Не считая Гибралтара, этот остров действительно имело смысл захватывать, приди русским в голову идея обзавестись ключевой базой в Средиземноморье. Расположенная между Сицилией, Тунисом и Триполитанией, она наглухо блокировала морские и воздушные пути от Гибралтарского пролива до Суэцкого канала. Ну а раз Россия этого делать пока не собирается, отчего не сыграть за неё? Кэптэн Эванс, другие люди из «комитета» Гамильтон-Рэя и инженеры Френча этим великолепным пропагандистским и военно-историческим шоу должны были показать всему миру коварство, агрессивность и беспринципность русских.
«Десанту» предстояло высадиться как раз на границе торгового и военного порта, где их разделяет всего несколько десятков метров и почти символическое ограждение. Батальон хорошо подготовленных бойцов, пользуясь абсолютной внезапностью, должен был занять порт и часть города за несколько минут. Само собой, наиболее тонкие моменты операции возлагались на настоящих специалистов из состава диверсионных подразделений «Ройял Нэви», а «статистам» отводилась роль массовки, стреляющей во все стороны, кричащей и ругающейся по-русски. По открытым для них проходам «русские морпехи» обязаны были стремительным броском ворваться в Ла-Валетту и укрепить на подходящем для панорамной киносъёмки здании Андреевский флаг. После чего, конечно, героические британские моряки и королевская пехота остановят их атаку на аэродром, затем вертолёты со «случайно оказавшегося поблизости» авианосца откликнутся на призывы о помощи и уничтожат «агрессоров» всех, до единого человека.
После «победы» можно будет демонстрировать залитые кровью улицы, избитые пулями и осколками дома, тела уничтоженных агрессоров и своих «героически павших» бойцов и мирных жителей. Это должно оказать особое эмоциональное воздействие на публику. Кроме привезённых с собой корреспондентов, на острове обязательно окажутся репортёры и просто туристы из нейтральных стран. Их показания и совершенно искренние рассказы придадут инсценировке дополнительную убедительность.
Удары возмездия по нескольким российским военным объектам (к числу приоритетных относились Севастополь, Владивосток, Порт-Артур, Петропавловск, Романов-на-Мурмане) будут нанесены одновременно с вручением ноты об объявлении войны и обращением к Генеральной Ассамблее ТАОС, ООН и всем свободным народам. Уже завтра всему миру станет совсем неинтересно, что там случилось на самом деле. Какие-то трофеи будут предъявлены «независимым экспертам», фотографии и киносюжеты в избытке запущены в эфир и печатные СМИ, ну и достаточно. Дальше пойдут уже сводки с реальных фронтов.
Что такое Нюрнбергский, Токийский и им подобные процессы — в этом мире пока ещё понятия не имели. По итогам «своей» Мировой войны здешние державы-победительницы торопливо поделили германское, австрийское и турецкое «наследство», а выяснять — не «кто первый начал», а истинную предысторию «августовской катастрофы» четырнадцатого года никто не потрудился. Проигравшие назначены виноватыми, сумма репарации утверждена, новые границы торопливо нарисованы — и достаточно.
Арчибальд довольно легко внушил Гамильтон-Рэю, а тот — вышестоящему руководству, вплоть до премьер-министра, что, затевая настоящую, чуть ли не мировую войну, как минимум глупо беспокоиться о судьбе тех, кто намечен послужить «запалом» и в любом случае составит исчезающе малые доли процента от общих «безвозвратных» потерь. Жертвы среди британских войск и населения острова, разумеется, необходимо свести к минимуму, поэтому «русским десантникам» будет выдано всего по одному магазину с боевыми патронами и по несколько светошумовых гранат, замаскированных под боевые, остальной боезапас — имитация.
Особая забота была проявлена о том, чтобы потери «коварных захватчиков» были именно стопроцентно «безвозвратными», живые пленные в сценарий никак не вписывались. Роль нескольких десятков всё-таки захваченных «десантников», нужных для дачи коротких интервью мировым средствам массовой информации (войн совсем без пленных не бывает), сыграют разведчики или актёры из этнических русских.
Ключевой вопрос задал один из молодых офицеров «комитета» Гамильтон-Рэя, когда «проект» был вынесен на общее обсуждение всего оперативного управления Адмиралтейства для «шлифовки деталей»: «Где мы собираемся набрать целый батальон идиотов, сэр, которые поверят, что после такого представления они получат на руки свои денежки и отправятся загорать на Копакабану? Одного, ну двух-трёх я вам, может быть, и предложил бы из числа профессиональных киллеров, да и то без гарантии. Законченные идиоты, причём способные на осмысленные действия, — крайне штучный товар. Могу себе представить реакцию двух сотен людей, когда им раздадут оружие, хотя бы с несколькими боевыми патронами, не говоря о полных магазинах, оденут в форму их собственной страны и предложат штурмом взять чужую военно-морскую базу. Причём, если я не ошибаюсь, речь идёт в основном о русских, сэр?»
Капитан-лейтенант аккуратно пригасил сигарету в пепельнице.
— Я очень опасаюсь, сэр, что в следующие полчаса они перебьют наших «инструкторов» и экипаж судна, рискнувшего их перевозить, и предпочтут, раскрасившись под сомалийцев, заняться морским пиратством. Даже если кто-то им выдаст очень большие деньги авансом. Мы же не собираемся позволить перечислить этот заработок на банковские счета или адреса родственников? Эти «волонтёры» не поверят ни одному вашему слову, сэр. По крайней мере, я бы на такую наживку не клюнул. Если бы мы имели в своём распоряжении аналог французского Иностранного легиона, тогда другое дело…
— Иностранный легион тоже никогда не использовался против соплеменников основной массы наёмников, — раздался голос из задних рядов. — «Лягушатники» здесь правильно соображали…
Гамильтон-Рэй с интересом смотрел на сразу попавшего в точку капитан-лейтенанта. До того как начать работать с мистером Боулнойзом, он сам был такой же горячий и безрассудный, поддающийся первому впечатлению.
— Мне рапорт об отчислении из «комиссии» сейчас написать, сэр? — спросил Остин Строссон, неправильно истолковав сумрачное молчание адмирала и шепотки его окружения. Тот, сделав усилие, наконец вспомнил фамилию офицера. Что она норвежская или исландская, давно крутилось в голове, и только вдруг всплыла.
— Разве я вам предлагал?
— Пока нет, но до вас три раза уже намекали. Хорошо, у меня основная специальность есть, как-нибудь до пенсии дослужу.
— И что за специальность?
— Штурман. Какой-нибудь «трамп»[114], хотя бы и под перуанским флагом, из порта в порт довести сумею.
— Рапорт писать не надо, но вопросы лучше формулировать в более тактичной форме. С вами я работать готов, вы оригинально мыслите. Только не нужно думать, будто вы в свои годы умнее всех. Кое-кого — согласен, но не всех. Вы сейчас сказали вполне очевидные вещи. Но раз план всё-таки существует, значит — есть какой-то фактор, который вы не учли. Подумайте на досуге, для тренировки оперативного мышления.
— Хорошо, сэр, я обязательно постараюсь решить вашу интересную загадку…
На следующий день адмирал вызвал к себе Строссона и между делом поинтересовался, решил ли тот задачку. Предложенные капитан-лейтенантом ответы Гамильтон-Рэя не устроили. Да и не мог молодой офицер угадать, не имея понятия о достижениях волновой техники.
— Знаете что, Остин, я думаю, вам полезно будет проветриться. Когда наступит время, я вас отправлю туда, где всё будет решаться моим личным представителем. Там и узнаете, в чём заключается загадка.
Время в конце концов наступило, и офицер получил предписание явиться на «Гренвилл». Адмирал рекомендовал ему поближе сойтись с коммандером Френчем, который получил указание считать капитан-лейтенанта доверенным лицом Гамильтон-Рэя, с нужным допуском секретности. По принципу разных корзин для разных яиц Строссон не должен был подчиняться Хиллгарту с его штабом, а Эвансу даже служить тайным противовесом, невзирая на его достаточно высокий чин, с правом непосредственного доклада в Лондон, на собственной выделенной частоте. Гамильтон-Рэй небезосновательно считал, что разведчик слишком много о себе вообразил, почти демонстративно узурпировав контроль за деятельностью научно-технической группы.
У Строссона, независимо от сути полученного задания, на чисто эмоционально-личностном уровне сразу возникла стойкая неприязнь к кэптэну. С каждым днём похода и общения это чувство только укреплялось и твердело. Эванс, в свою очередь, просто не считал сотрудника «хитрой комиссии», в силу его возраста и чина, партнёром, заслуживающим серьёзного отношения. Однако внешне они общались со всей положенной любезностью умных людей, представителей одинаково серьёзных и вполне автономных ведомств, делающих общее дело, пусть и на разных направлениях. Поэтому капитан-лейтенант был удивлён, когда Эванс сам появился у него в каюте в начале пятого утра.
— Что вам не спится, сэр? — зевая, спросил Строссон, садясь на койке и подтянув одеяло. Истинный джентльмен сначала позвонил бы по телефону. — Неужели русские напали на нас первые?
— Не время для шуток. Одевайтесь, я подожду в коридоре…
На шканцах, опершись на леерное ограждение, офицеры закурили, и Эванс, явно нервничая, сообщил, что сегодня ночью из кубрика исчезли пятеро русских «волонтёров», два внештатных сотрудника и один настоящий лейтенант его ведомства, тоже русский, недавно натурализовавшийся, поставленные за своими ненадёжными соотечественниками присматривать.
Это было забавно, и капитан-лейтенант испытал естественное злорадство. То разведчик воображал, что он здесь кум королю, а настоящие офицеры ему в подмётки не годятся, и вдруг, не справившись со своими непосредственными обязанностями, прибежал просить совета и помощи у специалиста по совсем другим вопросам.
— Что значит — исчезли? — изобразил недоумение Строссон. — В открытом море? С идущего полным ходом корабля? Разве что решили устроить коллективное самоубийство! А куда смотрели остальные «сотрудники»? Их, по-моему, человек двадцать в вашем распоряжении.
— Да черт их знает, куда и как. Внезапно всё случилось. Впрочем, ещё вчера мне докладывали, что некоторые русские ведут себя подозрительно… Держатся уединённо, к старшинам отделений («надзирателям» — мысленно уточнил капитан-лейтенант) относятся без почтения, грубят… По имеющимся сведениям, до трети перевозимых имели те или иные конфликты с законом у нас или на родине. Вот эта пятёрка, ныне исчезнувшая, но с самого начала обратившая на себя внимание, куда-то надолго исчезала по ночам, регулярно пьянствовала…
Если бы рядом был адмирал, Строссон непременно бы выпалил недопустимую в общении со старшим начальником фразу:
— А я что говорил?! Ну, теперь сами увидят — на какую технику ни рассчитывай, а среди двухсот заведомых «не ангелов» обязательно найдутся особо сообразительные и отчаянные.
— Куда-то… — задумчиво сказал он. — Вы вообще на кораблях служили?
— Эпизодически, — недовольно ответил Эванс, зная, что строевые офицеры «береговых крыс» не любят.
— Заметно, — с усмешкой превосходства констатировал Строссон. — «Исчезали плюс пьянствовали». Раз мы согласились, что в открытом океане за борт прыгать бессмысленно, остаётся одно — эти парни нашли укромное местечко, которых на любом приличном корабле множество, где и пьянствовали. И возможно, продолжают это делать и сейчас. Если среди них есть бывший военный моряк, ему не составит большого труда, перемещаясь по внутренним коммуникациям, отыскать провизионку или буфет кают-компании, а там украсть, купить или выменять у баталеров любое количество выпивки, недостачу которой не установит ни одна ревизия. На стороне персонала продовольственной службы вековой опыт. Так что лично я считаю — скорее всего, ваши «пропавшие» и сейчас занимаются своим увлекательным делом. Советую вам не расстраиваться попусту и идти спать. К завтраку или обеду объявятся…
— Но как же мои люди, специально поставленные следить, чтобы…
— Они у вас не русские, что ли? Им гораздо проще присоединиться к соотечественникам. А вам потом придумают, что доложить.
— Нет, этого не может быть! Мои люди многократно проверены и понимают, что стоит на кону. В том числе и для них лично… Один из них только что получил офицерский чин! Я подозреваю самое худшее.
— Подозревать — это не только ваше право, но скорее всего — прямая обязанность. Но я-то тут при чём? Сбежали или исчезли доверенные вашему попечению люди? Доложите командиру крейсера, организуйте поиски. На корабле очень много укромных помещений, но и у вас — достаточное количество изнывающих от безделья подопечных. Я, со своей стороны, обещаю вам только одно — адмиралу об инциденте докладывать не буду, хотя по должности полагается. Но мы, строевики, не буквоеды и не крючкотворы. Я ничего не слышал и не знаю. Доложите сами, когда и что сочтёте нужным. Пойду досыпать, до подъёма целых два часа.
Строссон ушёл, провожаемый бессильно-злобным взглядом в спину.
…Как правило, допущенная при подготовке операции ошибка никогда не бывает единственной. Если старшие начальники невнимательны или непредусмотрительны, то подчинённые — тем более. Вдобавок каждая исходная, так сказать, «ошибка первого порядка» с железной непреложностью порождает собственные производные.
Гамильтон-Рэй, полностью доверив подготовку «Дискрешена» людям, назначенным Арчибальдом, и не прислушавшись к капитан-лейтенанту Строссону, совершил ошибку не очевидную, но роковую.
Следующая, тоже стратегического масштаба, что выяснилось слишком поздно, была допущена Хиллгартом и вышестоящими штабистами Гарвичского командования лёгких сил, когда они по совершенно непонятной причине отказались от прикрытия отряда в виде двух-трёх дивизионов эсминцев или пары эскортных авианосцев. Затевая акцию едва ли не планетарного значения, глупо экономить несколько тонн мазута. Взамен Хиллгарт получил бы дополнительно трёхсотмильную зону безопасности и стопроцентную гарантию успеха.
Но адмиралам показалось, что и трёх крейсеров достаточно для весьма рутинной операции, а работающие помехогенераторы «Гренвилла» всё равно не позволили бы поддерживать постоянную радиосвязь со всеми кораблями отряда, пиратскими прежде всего. Так что решили попросту, без затей: ограничиться тесным походным ордером с прямой зрительной связью и конкретной, не подразумевающей «превратных толкований» диспозицией.
Как в последний раз было здраво сказано: «Не война ведь!»
А раз не война — о чём беспокоиться? Войны начинаем мы, а все прочие покорно ждут, когда и как это состоится.
Роковая воронка некомпетентности и какой-то совершенно детской безалаберности с каждым следующим шагом (или ходом на поле стратегической игры, не шахмат, а скорее го) продолжала закручиваться всё туже. Очевидно, за девяносто лет мирной жизни британский флот пришёл в ещё большее расстройство, чем русский — за пятьдесят, предшествовавших японской войне.
Идея захвата безоружного сухогруза непременно замаскированными под пиратов катерами, с использованием целых четырёх крейсеров только для прикрытия, выдавала полную шизофрению в головах планировщиков. Отрабатывая прелюдию большой войны, они одновременно панически боялись применить свои океанские рейдеры в открытую, по прямому назначению. Хотя чего проще — заглушив возможные радиопереговоры «Вилькицкого», остановить его предупредительным выстрелом, пришвартоваться борт к борту, переправить на пароход своих коммандос и русских «волонтёров». Заставить капитана и его команду вести судно, куда прикажут. Даже с точки зрения их же собственной логики наличие на русском пароходе русской же команды с широко известным в морских кругах всего мира капитаном сработает на общий замысел. После завершения акции экипаж интернировать или ликвидировать, в зависимости от решения вышестоящих инстанций, пароход, как дополнительное доказательство, захватить целёхоньким. Очень просто и без всякого риска.
Однако, к несчастью «гордого Альбиона», его флотское командование, уже в третьем поколении не решавшее боевых задач сложнее огневой поддержки миротворческих операций «на задворках бывшей великой империи», полностью попало под обаяние хитроумных построений Арчибальда. А того просто несло — обычные лобовые «трёхходовки» казались «мыслящей машине» слишком примитивными для его утончённого интеллекта.
Экипажи «пиратских» катеров были укомплектованы самыми обычными строевыми лейтенантами и старшинами, не имевшими опыта настоящих пиратов, наловчившихся захватывать даже гигантские танкеры в двести и триста тысяч тонн, с десятками успешных абордажей за спиной, в грош не ставящих ни свои, ни чужие жизни. Моряки же «Его Величества» никогда ничем подобным не занимались, свиста пуль над головой не слышали, а уж что такое — поставить ту самую голову «на кон» — и вообразить не могли.
Когда «Вилькицкий», выжимая из своих машин скорость выше проектной, начал метаться по морю всеми видами противолодочных и противосамолётных зигзагов, одновременно демонстрируя готовность к тарану и подставляя под реданы катеров бурлящие кильватерные струи трёх винтов, впервые в немногие умные головы пришли мысли, будто что-то пошло не так.
Мысль первая, не требующая фантазии, особенно в применении к русскому, — капитан сумасшедший, которому проще погибнуть самому и потащить следом свой экипаж, нежели спокойно подождать в относительном комфорте, пока его судовладелец заплатит выкуп.
Мысль вторая — посложнее. Каким-то образом русским стало известно о готовящейся акции, и они подставили британцам корабль-ловушку, очень распространённый приём борьбы с рейдерами в Мировую войну.
Эта идея была полной чушью, такие ловушки имели смысл в расчёте на встречу со вспомогательными крейсерами, переделанными из коммерческих пароходов, никак не против полноценных боевых кораблей. Но она, как писал Маркс, «овладела массами». И все последующие действия сначала капитан-лейтенант, командующий «пиратами», а потом и адмирал Хиллгарт строили, исходя из неё.
На самом же деле штурман «Вилькицкого» раньше служил на военном флоте, следить за морем во время вахты был приучен, оттого чисто автоматически занёс в вахтенный журнал и координаты, и даже тип замеченных, всего на несколько секунд появившихся у горизонта крейсеров. Тут же доложил о зрительном контакте капитану. Ровно через полчаса ракурсом девяносто к последнему месту крейсеров появились и катера.
Флагов они не несли, окраска никоим образом не соответствовала военной, но принять их за прогулочные мешали ясно видимые спаренные пулемёты в кокпитах и, главное, стиль маневрирования.
Не требовалось серьёзной тактической подготовки, чтобы сообразить — даже если это действительно пираты (в данном случае — марокканские, до Марокко отсюда ближе всего), то они работают в контакте с англичанами. Про трагедию «Анапы» знал любой российский моряк. Тот раз была подводная лодка, сейчас — катера. Да и какой пират отважится заняться своим ненадёжным промыслом практически на глазах европейских военных кораблей? Европейцы — они ведь тоже разными бывают. Одни на самом деле настроены соблюдать права убийц и грабителей до последнего, никому не позволяя без специально к этому случаю приуроченного мандата ООН пресекать «право меньшинства на экспроприацию доли общественного богатства, захваченного большинством». А другие, вроде верующих в «добро с кулаками» русских, привычных к суду Линча американцев или немцев, приверженных к «орднунгу», возьмут да и развешают пиратов на реях без всяких юридических процедур, единоличным решением командира.
Времени, потребовавшегося катерам на сближение с «Вилькицким», было достаточно капитану Иваненко, чтобы оценить обстановку и принять решение. На палубе давным-давно, ещё в порту приписки (именно на такой случай), установили на прикрытых броневыми щитами турелях три брандспойта высокого давления, позволявшие подавать чуть не на сотню метров перегретый кипяток из котлов. Ещё четыре пожарных рожка, подключённые к переносным турбонасосам, били на тридцать метров струями холодной воды под давлением десять атмосфер. Вооружение «Вилькицкого» довершали оставшиеся от рейса по Северному морскому пути несколько десятков ящиков сигнальных ракет и фальшфейеров, при беглом огне «прямой наводкой» способных причинить серьёзные неприятности катеру, построенному из лёгких металлов и пластика, с работающими на авиационном бензине моторами.
Конечно, пираты вооружены пулемётами и автоматами — так всё это годится, если нужно «на испуг» стёкла в рубке побить и надстройки слегка подырявить. А что делать, если судно в дрейф не ложится и экипаж сдаваться не собирается? На палубе достаточно стальных и чугунных конструкций, за которыми можно укрываться от заведомо неприцельного огня (нет таких умельцев, чтобы с пляшущего на волнах и маневрирующего катера в соразмерную цель попасть ухитрились бы), зато на дистанции, подходящей для абордажа, шестидюймовая[115], толщиной в швартовочный трос, струя кипятка пострашнее всяких пуль будет.
Сам капитан укрылся где-то внутри надстроек и, наблюдая через одно из многих десятков окон (не угадать, через какое именно), по телефону руководил стармехом и рулевым, запершимися на своих постах ниже ватерлинии. Но больше всего Иваненко уповал на «хорошую морскую практику». Он ещё ни разу в жизни не видел моряка, хоть гражданского, хоть военного, который взялся бы швартоваться к семиметровому борту идущего двадцатипятиузловым ходом и самым неожиданным образом маневрирующего парохода. Заставить его лечь в дрейф они не смогли и, если у них нет торпед, не смогут и впредь. Ходовая рубка пуста, хоть весь боезапас в неё высади, а невидимый капитан по громкой связи направлял действия палубной команды, подсказывал, кому и когда бежать к брандспойтам, когда придёт пора открыть залповый ракетный огонь через иллюминаторы и из-за надстроек. Если попасть в открытый люк машинного отделения или кокпит катера — мало не покажется. Да и десяток фальшфейеров, сброшенных на палубу, отобьют всякое желание и способность к абордажу.
У крейсеров «Вилькицкий» защиты искать не стал, напротив, дал самый полный ход в противоположном направлении, непрерывно передавая «SOS» и «Мейдей»[116] на всех доступных диапазонах. Если у англичан скорость тридцать узлов, а у парохода — двадцать пять, догонять его придётся не меньше пяти часов. Вдали, на норд-весте, у самого горизонта, сгущалась внушающая надежды мгла, барометр с утра падал и сейчас стоял уже ниже семисот двадцати. Час-полтора полный ход удержать, и шквал с дождём укроет надёжно. При одном условии — если крейсера, сблизившись миль на пять (тоже не раньше, чем через два часа), не решатся лично поучаствовать в деле. Под огнём главных калибров крейсеров пароходу и получаса не выжить при самом удачном маневрировании. Если британские комендоры хоть немного стрелять умеют.
Экипаж у Иваненко был не «с бору по сосенке», со многими он ходил уже не первую навигацию, а с «дедом», то есть стармехом, — десятую. Крейсером он свой пароход не считал, «Варяга» запевать и людей гробить не собирался и при первом же близком накрытии тяжёлыми снарядами поднял бы белый флаг, а заодно, скорее всего, и кингстоны открыл. Просто из принципа, потому что то была бы уже натуральная война и место его экипажу, при наилучшем раскладе, — в концлагере.
Когда в воздухе появился разведчик с родным Андреевским флагом на киле, восторгу и облегчению капитана и команды не было предела. Теперь мало, что пароход спасён, так и врагу конкретный амбец! Палубные самолёты над морем просто так не летают.
Но первым делом Пётр Лукич, выскочив на крыло мостика, лично указал пилоту в сторону эскадры: пусть наши и весь мир знают, что «лаймы» на морях творят.
Разведчик отстрелялся и отбомбился по катерам, чем окончательно отбил у них охоту к дальнейшим целенаправленным действиям. Пусть русский самолёт ушёл, так скоро обязательно вернётся, и не один. Ситуация двум командирам, не сильно опытным старшим лейтенантам, согласившимся подзаработать недостойным приличного моряка делом, представлялась безвыходной.
Оставить пароход в покое и бежать, продолжая изображать никакого отношения к Гранд флиту не имеющих пиратов, — а куда? На Азорах и Мадейре португальцы непременно выдадут их русским по первому аргументированному требованию, на Канарах — испанцы. Ни те, ни другие с русскими связываться не станут: себе дороже выйдет, в буквальном смысле слова. До Гибралтара или материкового берега горючего не хватит, да если б и хватило — не дойти всё равно, авиация догонит. Значит — возвращаться на крейсера? Но на глазах русских, вообще кого бы то ни было делать это категорически запрещено, вплоть до трибунала. Если захватят русские — будут судить не как военнопленных, а именно как пиратов. И какой же выход?
Но когда «КОРы» вернулись целой семёркой и четверо из них принялись гонять катера, так и не успевшие смыться, а англичане начали палить по самолётам всей эскадрой, тут уже стало понятно, чем пахнет.
— Если война, Пётр Лукич, — сказал старпом, — давай ворочать на обратный курс. На Кубу или сразу в Панаму. Забункеруемся и через Тихий во Владик пойдём. А в Чёрное море нам не прорваться.
— Лучше подождать в сторонке, пока наши подойдут. Они же совсем близко. Да и трофеи на борт принять надо.
— Дело говоришь. Катера поднимем, до полосы шквала дотянем, тогда и оглядимся… Нет, ты только посмотри, что они, суки, вытворяют…
В бинокли не было видно, как за горизонтом три английских крейсера дали ход, близкий к полному, ведя шквальный огонь из всех стволов, включая пулемёты, по разведчикам. Но то, что творилось в небе, различалось вполне.
— Ах, твою ж мать! — горестно вскрикнул Иваненко, увидев рассыпающийся в воздухе разведчик. При таком попадании спасаться на парашютах обычно некому.
Остальные «КОРы», уйдя из-под удара, благоразумно поднялись на пять тысяч метров и построились в круг на четырёхмильном удалении. Хотя английские 102-миллиметровые зенитные спарки могли теоретически стрелять (вернее — ставить заградогонь) до восьми километров по высоте и десять по горизонту, это реально то же самое, что из трёхлинейной винтовки с прицелом, насечённым на 2 тыс. шагов, пытаться всерьёз попасть в движущуюся цель на этом расстоянии.
Хиллгарт и Эванс теперь имели в запасе один-единственный шанс, да и тот так себе! Зенитной артиллерией сбить шесть разведчиков, избегающих входить в зону сплошного поражения, нереально. До «УРСов» здесь так пока и не додумались за ненадобностью. Значит — оставалось поднять оба «Суордфиша» и уничтожить «КОРы» в воздушном бою. Скоростные перехватчики для того и существуют. Не выйдет всех с одного раза — можно принять «Суордфиши» на борт, перезаправить и снова послать. Одновременно артиллерийским огнём топить «Вилькицкий» и всем отрядом полным ходом отрываться от погони. Единственное спасение в том, что воздушные разведчики так и не имеют связи со своей эскадрой, а гонять туда-сюда самолёт с донесениями и за новыми приказами — полчаса в один конец.
Эванс очень надеялся, что инженеры «Гренвилла» сумеют пустить в ход один из своих тайных козырей — передать на слепые радиолокаторы русских крейсеров картинку-обманку, на которой отряд Хиллгарта будет показан уходящим совсем в другом направлении. Если русские хоть на два часа попадутся на эту уловку, они настолько далеко уклонятся от истинного курса своим сорокаузловым ходом, что до наступления темноты догнать англичан уже не сумеют.
Отряд укроется в Гибралтаре, и пусть в дело вступают дипломаты. Им был нужен повод к войне — пожалуйста, получите. Снимки атакующих штурмовиков — вот они, пожалуйста, с указанием точного времени налёта. Русским ничего доказать и ничем оправдаться не удастся. Они напали первыми на мирно маневрирующий в нейтральных водах отряд — вот и весь разговор. Так что всё может получиться ещё лучше, чем планировалось первоначально. Нагляднее и проще.
Лишь бы сейчас удалось выскочить!
За себя Хиллгарту бояться нечего. Ни одного приказа он не нарушил. Если весь план пошёл наперекосяк — не к нему вопросы. К Эвансу и штабистам на берегу. Могут и наградить, могут наказать «под горячую руку». Так не расстрелом и даже не отставкой, в «старой доброй Англии» разумные нравы.
Теперь бы побыстрее договориться с Эвансом. Списать всё на некомпетентность кэптэна Харвуда, это ведь ему была направлена радиограмма с приказом ни в коем случае огня по русским не открывать, оригинал и квитанции в радиорубке сохранились. А он проигнорировал, его крейсер первым начал стрелять. Хиллгарт просто вмешаться не успел. Да и их взаимоотношения на подобный случай в приказе не прописаны. Адмирал шёл просто «старшим на борту», но не командиром соединения. Пусть наглец получает «по полной», в Адмиралтействе есть кого попросить об одолжении. В отставку наверняка уволят, если без суда — пусть благодарит своего ангела-хранителя.
Адмирал приказал своему флаг-офицеру:
— Быстро в радиорубку, передадите на «Гренвилл»… Нет, подождите, я с вами, буду диктовать. А вы, Харвуд… Командуйте, наконец, своим кораблём. Поднять флажный сигнал: «Эскадре следовать за мной. Курс норд-ост тридцать пять градусов».
Почти бегом поднимаясь по трапам (здоровья пока хватало), адмирал продолжал соображать. Сейчас он потребует от командиров крейсеров поднять в воздух истребители. И — Эвансу:
— «Прикажите Френчу начать постановку активных помех, по варианту „Dark fog“[117]. „Пассажиров“ изолировать до прихода в ближайший порт. Предварительную обработку отменить».
Только бы этот маневр удался! А если… Адмирал, стоя на высоко поднятой над палубой тесной металлической площадке, вдруг вцепился руками в поручни. Ведь можно всё отыграть назад! Жребий брошен, но Рубикон ещё не перейдён! И вот тогда Гамильтон-Рэй действительно может оказаться союзником, если заблаговременно провести нужную работу с его порученцем… Тот всё видел своими глазами, нужно будет только слегка по-другому расставить акценты.
Заградительный огонь, выставленный перед русскими самолётами (только в качестве предупреждения), чтобы не допустить их в зону испытания нового зенитного оружия (а почему и нет?). Один случайно задетый «дружественным огнём» «КОР» поводом к войне (если это потребуется политикам) можно не считать. Всё в пределах тяжёлого для всех недоразумения или, на крайний случай, вооружённого инцидента. Радио ведь не работает до сих пор, это уже всему миру известно — внезапная атмосферная аномалия. Прямо сейчас дать русским сигнал ратьером, флажным семафором. Сбросить ход, дождаться подхода русской эскадры, принести извинения, пообещать компенсации, предложить назначить совместную комиссию, как в тысяча девятьсот четвёртом году, во время «Гулльского инцидента»[118]. И всё останутся живы. Кроме экипажей катеров, их придётся ликвидировать непременно…
Эти мысли пронеслись в голове адмирала за две-три секунды. Он сунул в зубы сигару. Флаг-офицер тут же поднёс зажигалку.
Нет, всё это ерунда. Мгновенная слабость. Как раз её Хиллгарту ни за что не простят.
Радиограммы были переданы. Истребители стартовали под гулкие хлопки катапульт, оставляя за собой дымные следы пороховых ускорителей.
Каждый «Суордфиш» вдвое превосходил «КОР» по скорости и почти вчетверо по стрелковому вооружению, естественно уступая в горизонтальной маневренности. Но русских нужно сбивать на вертикалях. Один заход снизу или сверху — один самолёт. В теории или на тренажёре — неотразимо! Однако ещё девяносто лет назад, во время первых столкновений сухопутных истребителей с гидросамолётами и летающими лодками, была отмечена интересная закономерность: при необходимости драться над морем пилоты сухопутных истребителей думали лишь об одном — как бы поскорее выйти из боя. И уже над сушей снова становились отважными асами. Бесконечная водная гладь внизу (тем более, если не гладь, а приличное волнение) плохо действовала на психику — сама мысль о том, что придётся прыгать с парашютом туда, где никто тебя спасать не станет, хоть сразу тони, хоть замерзай, от жажды помирай, жди появления акул, оптимизму и отваге не способствовала. Зная при этом, что экипаж подбитой «летающей лодки», опустившись на воду, мог в тепле и сухости идти к берегу под двигателем (хоть одним) со скоростью торпедного катера, мог парус поставить или просто в сравнительно комфортных условиях жевать бортпаёк и ждать помощи.
К примеру, в Великую Отечественную советские «МБР-2», постройки 1932 г., изготовленные из фанеры толщиной 3 мм, со скоростью 275 км/час вполне успешно отбивались до самого конца войны от «мессеров» и «Фокке-вульфов», при всей несравнимости их характеристик. Ни один из прославленных немецких Руделей и Баркхорнов[119], хоть и врут они безбожно про сотни воздушных побед на всех фронтах, не решился записать себе в счёт десяток сбитых «МБР» или, тем более, ленд-лизовских «каталин». Максимум, на что решался самый отчаянный пилот люфтваффе при встрече с хорошо вооружёнными гидропланами, — несколько пулемётных очередей с предельной дистанции — и давай бог ноги, пока шальная пулька в радиатор не прилетела. На Тихоокеанском театре японские «Зеро» с американскими «каталинами» тоже не связывались.
Отработав и сбросив стартовые ускорители, оба «Суордфиша» стремительно, меньше чем за минуту, вознеслись на пятикилометровую высоту. Удастся ли им благополучно приводниться — большой вопрос. Истребители это были хорошие, спору нет, но летать на них должны только старые, опытные камикадзе. Или извольте за один вылет очистить небо от врага, или садитесь на воду под огневым воздействием противника. Горючего в баках всего на сорок минут.
Старт с кораблей производится, по сути, аналогично выстрелу из лука или арбалета по стае птиц. Попал — значит, попал. Два-три самолёта сбить можно сразу, на первой вертикали, едва подправляя курс. Проскочил — тогда изволь рассчитывать следующий заход, сверху. И можно считать дело проигранным, если завяжется утомительный и непредсказуемый маневренный бой.
Две зелёно-голубые стрелы истребителей, с четырёхсот метров открывшие шквальный огонь из своих девяти курсовых пулемётов каждый, сразу сбили один «КОР», а второй ощутимо повредили. У первого сразу загорелся центроплан в непосредственной близости к топливным бакам. Лётчикам пришлось прыгать, в расчёте, что высотный ветер поднесёт их поближе к «Вилькицкому». Вражеские крейсера едва виднелись у горизонта, под парашютами болтались пакеты с самонадувающимися плотиками и аварийным запасом, то есть сутки-другие за экипаж можно было не опасаться, даже если их немедленно не подберёт сухогруз. А тот, заканчивая стропить трофейные катера, уже собирался дать ход в сторону снижавшихся с приличной горизонтальной скоростью парашютов.
Второй разведчик получил очередь в мотор и сейчас, с лёгким посвистом встречного потока между подкосами, планировал по пологой дуге над акваторией боя, снимая на фотопулемёт и кинокамеру с мощным трансфокатором панораму, почти не требующую комментариев. Потом специалисты смогут распечатать каждый кадр на любой формат, причём почти без зерна. Хоть в свой штаб представляй, хоть в международный трибунал.
Эта мысль и не понравилась командиру повреждённого «4–218».
— Слушай, а теперь ведь они нам спокойно сесть не дадут, — сказал он летнабу. — Другие бой ведут, им не до снимков, а мы с тобой — в курортных условиях. Если у них командир не совсем на голову утомлённый, должен сообразить, чем мы сейчас занимаемся. Можем ждать, что следующий заход по нам будет…
— Вот уж не обольщайтесь, господин старший лейтенант. На посадке нам подкинуть могут, не спорю, только им сначала с действующим отрядом разделаться надо. А это не есть сильно просто. Как даже и с нами. Хотелось бы посмотреть, что у них раньше получится — заход на бреющем для стрельбы по малоразмерной цели или сваливание в штопор из-за потери скорости…
Самолёт тихо шелестел в воздушных струях, планировать он мог с этой высоты не меньше получаса и пролететь так километров пятьдесят. Считай, до своих эсминцев дотянет, а повезёт — сразу до крейсеров, мчащихся навстречу изо всех машинных сил. «Чтоб два раза не бегать», как в старом анекдоте говорится.
«Да кто ж это ему позволит?» — здесь командир был прав. Ведущие бой штурмовики — это одно. Уцелеют они или нет — вообще дело тёмное, но на их бесконечных курсовых углах, пике и виражах, когда и пилот и штурман заняты боем и собственным выживанием, рассчитывать на качественные снимки наивно. Другое дело — плавное снижение, когда даже вибрация моторов не мешает! Тут такая фотосессия получится, что сразу на ежегодный конкурс в «Ройял Нэви ревью» отправляй.
Дела вообще для англичан складывались довольно паршиво. Есть такие ситуации, когда частный успех никак не желает становиться победой. Сбито три «КОРа» из семи, но это не значит почти ничего. Зенитный огонь с кораблей пришлось прекратить, русские разведчики давно вышли из зоны и так вполне условного поражения. Флоту Его Величества не повезло. Бывают такие исторические моменты, когда высота задач — наивысшая, а руководство совсем никакое. У России аналогичная ситуация сложилась к Русско-японской войне. А обратная — в ушаковские и суворовские войны. Тогда получалось всё и всегда, даже при десятикратном численном превосходстве противника.
Хиллгарт и Эванс были обыкновенными тихими дураками, в чисто житейском смысле. Один по линии флотоводческой, второй — военно-морской разведки и «стратегии непрямых действий». Командиры трёх остальных крейсеров, включая «Гренвилл», — посредственности того уровня, для которых выйти эскадрой из порта приписки в хорошую погоду и, попав в девятибалльный шторм, всё же полным составом прибыть в порт назначения — уже подвиг, достойный креста Виктории.
Если бы при эскадре имелась приличная авиагруппа с десятком «Суордфишей», толковым командиром и пилотами с полусотней боевых вылетов — тогда победа британцам была бы обеспечена. Но истребителей было всего два, и их пилоты друг другу не подчинялись, только командирам своих кораблей. А они картины боя не успевали улавливать по причине скоротечности маневров, да и надёжной связи с воздухом не имели.
Перехватчики развернулись и пошли вторым заходом на успевших сбиться в тесную группу разведчиков.
Скорость атаки — семьсот километров в час, «КОРы» ведут бой на отходе в сторону своих крейсеров и эсминцев, идущих навстречу. Каждый скачок стрелки секундомера — шаг к спасению и победе! Скорость сближения самолётов и эскадры — семь километров в минуту или 120 метров в секунду. Наши это знают, противник — нет, но догадывается о порядке величин. То есть продержаться нужно, с учётом всех маневров, — минут пятнадцать. Для воздушного боя на полное взаимное уничтожение — много.
«КОРы» встретили «Суордфишей» плотным огнём восьми спаренных «ДШК» против восемнадцати «браунингов». С дистанции шестьсот метров не попал никто, но пучки крупнокалиберных трасс прошли очень близко и выглядели весьма убедительно. Истребители дружно, не сговариваясь, свалились в вираж со снижением. Решили походя разделаться с планирующим разведчиком. Какая-никакая, а победа, стоящая ордена, при минимальном риске.
Наши, форсируя моторы, рванули на перехват атакующих истребителей по гипотенузе, на критических углах пикирования, зная, что носовые автоматические «двадцатитрёхмиллиметровки» с хорошей дальнобойностью и приличным боезапасом дают им ощутимое преимущество. Англичанам вообще назад стрелять нечем, а их бронеспинки снаряд пушки МП-23 не удержат с любой дистанции, даже на излёте.
Как известно, стрелять в воздухе без компьютерных систем наведения, одновременно глядя в окуляр прицела и продолжая пилотировать самолёт, — очень трудно. За всю Вторую мировую войну семьдесят процентов лётчиков всех воюющих сторон вообще не сбили ни одного вражеского самолёта, ещё двадцать — по одному-два. И только пять-семь процентов настоящих асов — все остальные. Так что большинство орденов, которыми украшены фронтовики-авиаторы, — это за количество боевых вылетов. Двадцатый раз живой со штурмовки на «Ил-2» вернулся — вот уже и Герой…
На планировании подбитый «двести восемнадцатый» набрал приличную скорость, поэтому рулей слушался и резким нырком с креном ушёл от пулемётных трасс. Тут и товарищи подоспели, под их сосредоточенным огнём теперь уже истребителям пришлось свечками набирать высоту.
Бой явно потерял темп и азарт, горизонтальная маневренность у разведчиков была намного выше, да и боезапас посолиднее, так что они могли сколько угодно виражить, не теряя строя, и выжидать момент, когда противник зазевается на каком-нибудь маневре. В любом случае рано или поздно ему придётся, выработав горючее, садиться на воду, а уж здесь — верняк. Или лётчику бросать исправный самолёт и прыгать с высоты, рискуя навсегда остаться «затерянным в океане», либо ждать очереди в спину на посадочной глиссаде, а если враг заинтересован в трофеях, то попадать в плен вместе с машиной. Для «КОРа» сесть рядом с беспомощным «поплавком», только что бывшим гордым истребителем, — не проблема.
— Чёрт! — бегал по мостику Хиллгарт, с трудом ловя далеко ушедшие самолёты в тяжёлый бинокль. — Ещё два захода, и если они не собьют русских — нам конец!
Дальномерщики с КДП передавали по телефону нерадостные подробности воздушного боя, хорошо различимые с высоты мачты через десятикратно более мощную, чем у адмирала, оптику.
«Примерно так и выходит, — прикидывал по своим часам Харвуд. — Пусть не два, пусть три захода. А потом или патроны кончатся, или топливо. Да были б хоть пилоты настоящие, а то ведь стреляют по живой, активно сопротивляющейся цели первый раз в жизни».
Русские, справедливость требует признать, были не намного лучше, в смысле именно боевого опыта. Им бы сейчас снизиться до бреющего, разойтись широким веером над морем, чиркая днищами лодок за гребни волн, и ничего бы со своей скоростью и высотой истребители им не сделали. Правда, поврежденный «КОР» добили бы, а может, и нет, если б он сразу, заслонившись общей свалкой боя, спикировал до воды и сел под борт «Вилькицкому».
Но пилоты, и те и другие, начитавшись художественных книжек и всяких учебников, считали, что на войне нужно сражаться всегда, а не в случае самой крайней необходимости.
«Суордфиши» нарисовали в верхней точке почти чёткие петли инверсионными следами и снова ринулись парой на оторвавшийся при развороте от четвёрки разведчик, ведя беглый, до конца боезапаса, огонь. Похоже, их пилоты уже навоевались вволю, решили заканчивать, чем получится. Если бы они имели понятие, что это такое — и на тараны бы пошли.
Истребители догоняли «КОР» под острым углом, он не успевал совершить никакой осмысленный маневр, скорости не хватало. Только пикировать, пока крылья не отвалятся. Остальная тройка слишком растянулась по фронту и высоте, снова прийти на помощь не успевала.
Летающая лодка, идя бортом к врагу, получила длинную очередь вдоль всего фюзеляжа, сразу густо задымила. Но и чудом уцелевший летнаб из своих «ДШК» не промахнулся с двухсот метров. От фонаря «Суордфиша» только брызги полетели. Изорванный пулями лётчик навалился на ручку управления, и истребитель, подгоняя себя полной тягой мотора, отвесно пошёл к воде.
Пилот разведчика, не вытирая заливающую глаза кровь, включил огнетушители. Тугие струи пены и встречный поток воздуха сбили пламя. С трудом слушаясь рулей, «КОР» кое-как уменьшил угол падения.
— Митя, ты как, Митя? — кричал мичман-летнаб в переговорное устройство.
— Живой пока, — отозвался пилот. — Подержи штурвал, я голову перевяжу. Ничего не вижу, бля…
Последний уцелевший «Суордфиш» сделал ещё один широкий круг, но патронов у него больше не было, и он решил садиться возле своего носителя «Блейка». Крейсера к этому времени уже набрали более чем двадцатиузловый ход на норд-ост и продолжали разгонять турбины. Значит, и про последний истребитель можно забыть, на этой скорости его обратно на борт не принять, остаётся озаботиться только спасением пилота, если сумеет приводниться впереди прямо по курсу.
Как раз к моменту, когда последний «Суордфиш» достаточно обогнал свой крейсер и начал готовиться к посадке на воду, один из трёх уцелевших разведчиков заметил нечто странное…
Глава тридцатая
Бекетов ещё до начала боя сумел пробраться к основанию грот-мачты, откуда по идущей внутри неё трубе со скоб-трапом можно было подняться на запасной командно-дальномерный пост. Делать там Юрию было совершенно нечего, его больше интересовали погреба минно-торпедного боезапаса. Вот где можно разжиться чем-нибудь очень эффектным, например взрывателями глубинных бомб. Использованию их вне прямого назначения, в качестве мин замедленного действия и даже ручных гранат, диверсантов учили. А как проникнуть в нужное место, Николай ему нарисовал. Сколько у друга в голове хранится корабельных чертежей и схем — уму непостижимо.
В самом неблагоприятном случае на боевом посту в погребах могут оказаться четыре-пять человек, а в идеале — вообще никого. Двух пистолетов ему в любом случае хватит, чтобы очистить помещение. Потом задраить ведущий наверх люк и минимум полчаса спокойно заниматься своим делом.
Но тут вдруг по всем палубам крейсера ударили колокола громкого боя. К чему бы вдруг? Тревога, похоже, не учебная, самая настоящая боевая.
Перед тем как начинать «мятеж на „Потёмкине“», надо бы посмотреть, в чём дело, оценить общую обстановку.
А откуда увидишь всю картину лучше, чем с боевого марса или КДП?
Цепляясь плечами за стенки узкой шахты, Юрий заспешил наверх. Через несколько минут за ним могут последовать те, кому положено находиться там по штатному расписанию во время боя. Надо успеть залезть, осмотреться и встретить. Впрочем, пост на грот-мачте, кажется, запасной, не обязательно, что дальномерщики на нём должны дежурить постоянно.
Крышку люка он приподнял легко. В круглой стальной коробке трёх метров в диаметре — пусто. Окуляры горизонтально-базового дальномера Барра и Струда зачехлены. Тесно, конечно. Если откинуть сиденья — третьему и не поместиться.
Ну, кто первый пришёл…
Бекетов выглянул в прорези грибовидной командирской башенки. С двадцатиметровой высоты хорошо видна палуба и в корму, и вперёд, до самого бака, разбегающиеся по постам зазевавшиеся матросы, разворачивающиеся под разными углами антенные решётки и раструбы то ли приёмников, то ли излучателей, шевелящиеся стволы носовых башен главного калибра и зенитных автоматов. На удалении нескольких десятков кабельтов идут по левой раковине[120] строем пеленга мельком увиденные позавчера три крейсера. Довольно старой постройки, с двумя высокими прямыми трубами. Он сдёрнул чехлы, прижался бровями и носом к губчатой резине видоискателя. Ого-го! Это совсем интересно!
На привинченной рядом с коробкой телефона алюминиевой табличке Юрий нашёл номер румпельного отделения. Снял трубку с широким раструбом амбушюра. Николай ответил сразу.
— Слушай, тут заваруха намечается. «Лаймы»[121] сыграли боевую. Я сейчас на КДП. Обзор отличный. Милях в семи с зюйд-веста вижу несколько наших «КОРов»! Идут на эскадру. Почти у черты горизонта — большой сухогруз, над ним тоже они. Посмотрим, что дальше будет. А вы давайте, готовьте, что задумали. Или по моей команде, или, если не перезвоню, — сами минут через десять. И держитесь, сколько можно. Дальше — по обстановке. Да, слушай, с Егором приготовьте, что нужно, а потом пусть он идёт в кубрики. Раньше времени не показывается, а как почувствует, что ты своё сделал, поднимает ребят. Да, да, бунт, восстание — как угодно. С огнетушителями, баграми, ломами, лопатами — наверх. Отлично бы — хоть одну пулемётную установку на крыле заднего мостика захватить. С неё можно и палубы и ходовой мостик простреливать. Ну, там дальше я команду приму. Ясно?
Карташов всё понял. Они уже прикидывали подобный вариант: в подходящий момент, когда это будет иметь смысл и представится возможность, вывести крейсер из строя и взбунтовать «волонтёров». Боевой корабль так же уязвим против внутренней угрозы, как и средневековый замок. Все защитники заняты каждый своим делом, всё внимание — на внешнего врага. Изолированные по своим постам, башням и отсекам моряки не могут быстро прийти друг к другу на помощь, вообще понятия не имеют об общей обстановке. Не слишком трудно захватить даже ходовую и боевую рубки со всем командованием, и девятьсот человек экипажа не задумываясь начнут исполнять исходящие оттуда приказы. Пока кто-то из офицеров не сообразит, что творится неладное. Но что он сумеет реально предпринять?
В румпельном отделении находится собственно румпель — трёхметровый двуплечий рычаг, с помощью которого рулевая машина через баллер передаёт крутящий момент на перо руля. Команды с основного и запасных штурвалов приходят к машине по электрическим кабелям, а в аварийных случаях перекладка руля осуществляется механически, штуртросами с центрального поста, спрятанного глубоко в недрах корабля.
Из сказанного следует, что, находясь в румпельном отделении, ничего не стоит лишить крейсер управляемости. Все необходимые инструменты находятся здесь же, в железных ящиках ЗИП[122].
Карташов снял крышку рулевой машины. Теперь по звонку от Юрия остаётся напрямую перемкнуть реле, переложить руль в крайне правое или левое положение и отключить питание. Ну и штуртросы перерубить. Саму машинку изуродовать до полной неузнаваемости. Десяток ударов кувалдой по чувствительным местам — и порядок. Потом быстренько сматываться. При аварии штатного и запасного управления аварийная партия прибудет сюда через несколько минут.
Разведчики приблизились, и по ним неожиданно открыли огонь все зенитки эскадры, кроме их «Гренвилла». Он, впрочем, тоже стрелял, но только сигнальными ракетами с ходового мостика, вроде как требуя прекратить огонь. Одновременно «антенноносец» прибавлял обороты и явно выходил из общего строя. Уже градусов на тридцать отклонился на чистый ост. Расстояние между ним и отрядом ощутимо увеличивалось. Забавно!
Бекетов азартно наблюдал за перипетиями воздушного боя, в голос матерился и бил кулаком правой руки по ладони левой, словно болел за свою команду на трибуне стадиона. Восторженно закричал, когда рухнул в воду один английский перехватчик и заскользил к горизонту, теряя высоту, второй. Вот и подходящий момент начинать действовать. Крейсера тоже ускоряли ход, всё дальше оставляя позади и справа «Гренвилл».
Юрий был настолько увлечён, что прозевал появление хозяев поста. Опомнился, когда под ногами задёргалась тонкая, из рифлёного металла, крышка люка. Первый рефлекс — выдернуть из-под ремня пистолет и стрелять в тех, кто появится. После того что он видел, факт англо-русской войны можно считать состоявшимся и моральных препятствий у него нет. Но…
На уровне инстинктов решение пришло быстрее, чем в связную форму успела оформиться мысль. Он отступил в сторону, люк открылся. Зачем-то ведь его учили воевать в любых условиях, порой совсем неожиданных, и учили по-настоящему, не то что персонажей приключенческих фильмов. Там главные герои настолько туповаты и заторможены в критические моменты, что позволяют противнику делать с ними всё, что придёт в голову. И только избитые до полусмерти, связанные или скованные, под прицелом десятка стволов вдруг обретают второе дыхание и начинают творить чудеса. Да оно, с точки зрения зрителей, и правильно. Не за то они деньги платят, чтобы узнать — профессионал в девяноста процентах случаев до махания кулаками и ногами дело вообще не доводит, а уж если выхода нет, решает вопрос одним-двумя почти невидимыми со стороны движениями. Без лишнего шума, без назидательных монологов… Скучно.
Пистолет здесь извлекать эффектным жестом ни к чему. А вот чужое удостоверение — в самый раз.
Совсем юный младший лейтенант высунулся по пояс и замер, глупо таращась на незнакомого штатского.
— Заходите, лейтенант, заходите, — радушно пригласил Юрий, показывая карточку-удостоверение. — Я волею обстоятельств, кажется, занял ваше место? Приношу извинения…
Здесь его изысканная оксфордская речь оказалась в самый раз, показала, что он человек «из общества» и обладает достаточным чувством юмора, чтобы даже в такой, не располагающей обстановке изысканно строить фразы.
— Капитан Норманн Роупер, — назвал он первое пришедшее в голову имя, — военно-морская разведка. Что-то вы задержались, самое интересное пропустили…
Он указал сквозь открытые смотровые щели на торопящиеся к норду свои крейсера, кружащие в отдалении русские разведчики. — Не умеет наш флот ни стрелять, ни летать. Три эти черепахи за два сверхсовременных истребителя — невыгодный размен…
Известный приём — сразу увести разговор настолько далеко в сторону, чтобы собеседник и не вспомнил, с чего он должен был начаться. Так и получилось, лейтенант даже не задумался — а отчего это ни разу за время похода он не видел капитана ни в кают-компании, ни даже мельком, на палубах.
Тем временем в люк протиснулся старшина-дальномерщик. Тоже удивился.
— И что вы теперь собираетесь делать? — осведомился Бекетов. — Впрочем, если эти ребята наведут на нас свои корабли, заняться будет чем. Только недолго…
Имен и фамилий он у моряков не спрашивал, подразумевалось, что разведка знает всё.
— Но выбирать нам, как я понимаю, не из чего, — подвёл итог Юрий. — Ну, к делу. Старшина, вам, кажется, придётся пока выйти наружу, здесь и двоим тесновато.
Молчаливый моряк посмотрел на своего командира, не услышал возражений и полез через узкую дверь между сиденьями на опоясывающий пост кольцевой балкончик с почти символическим леерным ограждением.
— Дайте-ка дистанцию до головного, — сказал Бекетов. Чуть было не вырвалось — «до флагмана», да вовремя удержался. Черт его знает, вдруг флагман как раз на этой лайбе идёт. А Юрию хотелось ещё какое-то время сохранять инкогнито. Вдруг пригодится.
Пока лейтенант крутил верньеры своего дальномера, Бекетов снял трубку.
— Давай, Коля. Клади руль «право на борт» до упора и ломай их машинку на хрен. Потом ждите. Появятся ремонтники — кладите всех. Не жалейте — они только что три наших самолёта сбили. Задраивайте отсек снаружи, маховик кремальеры тоже разбейте, и все вместе ходом в кубрик. Там поднимай, кого получится, — и вперёд! Я вас постараюсь встретить. Главное — без деликатности. Чёрт, не знаю я, где у них оружейка! Ладно, у первого попавшегося моряка спросишь — покажут. Разобрать винтовки и автоматы — вот тогда и наверх.
Лейтенант с удивлением обернулся на русскую речь. Знать язык, может, и не знает, а по звучанию угадал. Провал? А с чего вдруг? Какое лейтенантику дело, на каком языке и с кем разведчик разговаривает? Наверняка ведь знает, что на крейсере русских перевозят. Гораздо больше оснований удивляться, что капитану разведки на КДП делать.
— До «Тайгера» — восемь миль, — начал докладывать лейтенант. — Скорость — двадцать два узла, продолжает увеличиваться. Для подъёма с воды «Суордфиша» адмирал ратьером приказывает «Блейку» сбросить ход и подобрать пилота… По возможности.
При этих словах голос у лейтенанта слегка дрогнул. Наверное, представил себе, каково это — на двадцатиузловой скорости попытаться подхватить с воды человека. Да его, если спасательная сеть хоть на метр промахнётся, в кашу изломает кильватерная струя.
Ничего странного в команде адмирала не было. После одномоментной гибели «Абукира», «Хога» и «Кресси»[123] (причём два последних были торпедированы при попытке спасать экипаж первого) англичане отказались от этой практики. С тех пор в зоне боевых действий тонущих принято предоставлять собственной участи или человеколюбию противника.
Очевидно, командир «Блейка» так и поступит, вообще не станет сближаться с пилотом. Вода тёплая, спасательный плотик в самолёте есть — продержится на воде до подхода русских. Если они пойдут именно этим курсом. Впрочем, его, скорее всего, подберёт экипаж приводнившейся всего в четырёх милях отсюда летающей лодки.
— Адмирал сигналит нам, — продолжил лейтенант, — «Увеличить скорость до тридцати узлов, считать себя в автономном плавании, аппаратуре работать по основной схеме».
Судя по курсу, — в голосе офицера прозвучали мечтательные нотки, — мы всё-таки можем ещё попасть в Фуншал…
— Что, очень хочется? — сочувственно спросил Юрий, с точки зрения старого морского волка понимая желание младшего лейтенанта попасть не на войну и не в Исландию, а на первый, может быть, в жизни тропический остров.
Хотя он был морально готов к тому, что случилось в следующие секунды и минуты, всё же еле-еле успел схватиться за поручень рядом с сиденьем дальномерщика, почти повис на нём — слишком стремительно крейсер покатился вправо. Нарастающий крен на двадцатиметровой высоте производил куда более яркое впечатление, чем на палубе или в низах корабля. «Каково, — мельком подумал Бекетов, — приходилось матросам парусного флота на ноках бом-брам реев[124] тогдашних „выжимателей ветра“ в свежую погоду, тем более — в шторм? И ничего, не срывались, и делали свою работу». Настил КДП уходил из-под ног. Лейтенант, не удержавшись, ударился лицом об окуляры, старшина чудом не улетел за ограждение наружной площадки. Рефлексы спасли, он, как обезьяна, вцепился в леера руками и ногами, наверняка сожалея об отсутствии ещё и хвоста.
— Что он делает? — испуганно пробормотал лейтенант, выглядывая наружу и имея в виду командира, конечно. С высоты грот-мачты происходящее выглядело страшновато, как на аттракционе вроде «американских горок». Внизу была уже не загромождённая надстройками и антеннами палуба, а вспененная индиговая поверхность океана, очень сейчас неромантичная. Крен от грубейшей перекладки руля достиг не меньше чем тридцати градусов. Корабль, продолжая циркуляцию, постепенно выпрямлялся, но медленно, задумчиво. До Юрия начало доходить: ни он, ни Карташов судоводителями не были, и только что чуть не утопили крейсер со всем экипажем.
Казалось бы — что такого? Махина в десять тысяч тонн, длиной почти двести метров — и какая-то металлическая пластина под кормой, своим отклонением меняющая направление судна.
И тем не менее — практические последствия применения законов аэро- и гидродинамики подчас бывают совершенно катастрофическими, далеко выходящими за пределы обывательского воображения.
На двадцатиузловой скорости мгновенная перекладка руля на борт до упора — опасный маневр, отчего ход штурвала обычно принудительно ограничивается двенадцатью-пятнадцатью градусами. При этом угол крена достигает десяти градусов, что довольно много. А Николай, чтобы достичь максимального эффекта, силой загнал перо руля до технического предела. Наверное, ударом водяного потока баллер перекосило, и подшипники посыпались. А сам «Гренвилл» на циркуляции почти ушёл за критический угол крена, да ещё учитывая пониженную за счёт громоздких антенн и надстроек метацентрическую высоту[125].
Бекетов представил, что сейчас творится в рубках и палубах крейсера, какая ругань стоит и что выслушивают от командира штурман, рулевой, старший офицер, механик и все, кто оказался поблизости!
Рулевой отчаянно крутит штурвал в обратную сторону, все остальные таращатся на стрелку указателя положения пера руля, а она прилипла к ограничителю — и ни с места. А корабль продолжает катиться по дуге, какой и на испытаниях не закладывал. Сейчас бы ударило шквалом с хорошей волной в наветренный борт — вот вам и оверкиль!
Командир, оттолкнув вахтенного штурмана, рванул ручки машинного телеграфа на «Стоп», ещё не понимая, что корабль отплавался на ближайшие часы, а то и насовсем. Уж под его командованием — точно!
Эскадра продолжала удаляться, ещё не зная о случившемся на собрате, которого совсем недавно полагалось охранять, как королевскую яхту с державным пассажиром на борту.
Диаметр циркуляции «Гренвилла» на среднем ходу — пять длин корпуса, чуть больше полумили, значит, длина описываемой окружности — около двух миль. Полный оборот, с учётом замедления скорости — 10 минут. Вот примерно через столько времени сигнальщики «Тайгера» заметят (а, возможно, и нет), что с «Гренвиллом» что-то неладно. Даже если заметят непонятный маневр, сочтут нужным доложить адмиралу, пока тот начнёт соображать и закончит этот утомительный процесс, примет решение (а сразу он его ни за что не примет, станет обсуждать со штабными), ещё минут десять-пятнадцать, если не больше, пройдёт. Расстояние между эскадрой и отставшим крейсером составит уже десять миль и будет увеличиваться, принимая во внимание суммарную скорость расхождения и то, что «Тайгер» с мателотами продолжают резво набирать ход.
Если даже Хиллгарт примет самое благородное и самоубийственное решение — возвращаться за терпящим бедствие товарищем (при этом не ускоряясь, а, наоборот, снижая ход перед разворотом на шестнадцать румбов), на всё про всё потребуется гораздо больше часа. Как раз столько, чтобы на расстояние прямой видимости успели добежать «Новики», идущие на сорока узлах и наводимые уцелевшими «КОРами».
А «Аскольды» из своих восьмидюймовок смогут открыть огонь с двухсот кабельтовых (36 километров). Попасть с первых залпов, скорее всего, не сумеют (хотя всякое бывает, вспомнить хотя бы бой у мыса Сарыч[126]), но частые залпы из сорока восьми стволов проводить спасательные работы точно не позволят. В лучшем случае англичане успеют торпедировать свой корабль, чтобы секретная техника и учёные специалисты врагу не достались. Так для этого возвращаться отряду необязательно, утопиться можно и самостоятельно.
Если поручик морской пехоты, имеющий к кораблевождению и военно-морской тактике весьма косвенное отношение (просто на дальних переходах плотно общался со штурманами БДК, ради расширения кругозора, и справочники разные читал), сумел произвести в уме такие вычисления и довольно точно спрогнозировать возможные действия вражеского командования, то командир «Гренвилла» со всеми своими штурманами — тем более. Правда, оптимизма, питаемого незнанием реальной обстановки, у него было чуть побольше. Сгоряча он понадеялся, что устранение поломки руля займёт от силы полчаса. В крайнем случае — разобщить рулевую машину, вручную выставить перо на ноль и уходить, управляясь только машинами.
(Никто здесь не мог представить, что в параллельной реальности в самом начале Второй мировой войны сильнейший линкор германского флота «Бисмарк» тоже, получив с виду несерьёзное повреждение руля, сутки нарезал замкнутые круги по Атлантике, так и не сумел починиться, дождался подхода чуть ли не всего британского флота и геройски-бессмысленно погиб, расстрелянный артиллерией и торпедами, не спустив флага.)
А Бекетов продолжал действовать — уж больно хорошо ему (всем им) карта пошла. Не только на банальное выживание шансы повышаются на глазах, а грандиозная победа отчётливо вырисовывается.
Только отсюда сматываться надо, КДП очень скоро превратится в ловушку, из которой живым можно и не выбраться. Махнув рукой лейтенанту, мол, занимайся своими делами, а у меня поважнее появились, Юрий заспешил вниз, к ближайшему телефону, с какого можно позвонить и тут же исчезнуть.
Оказавшись в центральном штормовом коридоре, он почти столкнулся с группой моряков, бегущих в корму. Пришлось прижаться спиной к переборке, пропуская вразнобой грохочущих каблуками по стальному настилу парней. Никто даже не посмотрел в его сторону, у каждого мысли сосредоточились только на своей задаче.
Палубой выше, на площадке, уже освещённой иллюминатором, Бекетов обнаружил искомый телефон. Вызвал ходовую рубку.
— Мне командира, срочно! — тут главное, говорить уверенно, не давать собеседнику задумываться.
— Командир поднялся на мостик, здесь старший штурман, кто говорит?
Определитель наверняка показал, с какого поста идёт вызов.
— Капитан Роупер, морская разведка, — Юрий говорил торопливо, задыхаясь, будто за ним только что гнались. — Информация особой важности! Доложите командиру — на борту вражеские диверсанты. Румпельное отделение взорвано, погреба главного калибра заминированы, включайте системы затопления, вообще, делайте же что-нибудь! Я… — и бросил трубку. Для паники всё сойдёт. Как-нибудь командиру придётся реагировать, а в условиях полной неясности обстановки и цейтнота — наверняка неправильно. Да и что сейчас вообще может быть правильно?
«Гренвилл», пробежав всё, что позволяла инерция огромной массы, закачался в дрейфе, вдобавок ко всем неприятностям — на самой отдалённой от эскадры точке циркуляции. Командир, коммодор второго класса Клифтон Честер, был одновременно до предела возбуждён и подавлен. Такое психическое состояние редко, но встречается. Эскадра уходила, а он и его корабль, до клотика набитый сверхсекретной аппаратурой, стояли на месте, потому что не было смысла вертеться на месте, подобно собаке, ловящей собственный хвост. Он приказал поднять на стеньгах флажные сигналы, сначала — «Не могу управляться», а потом — «Терплю бедствие», дублируя их ратьером и голосом по УКВ. Только едва ли стоит рассчитывать на помощь отчаянно убегающих крейсеров. Зато русские разведчики, продолжающие кружиться в небе, сообразили, что с таинственным крейсером что-то не то. Двое остались на месте, ожидая, когда «Вилькицкий» подберёт севшие на воду машины, и продолжая наблюдать за противником, а третий, развернувшись, пошёл на вест, навстречу своей эскадре.
Формально коммодор за размещённое на его корабле чужое оборудование не отвечал, есть на то специально поставленные люди, нагло отказывающиеся сообщать Честеру истинные возможности и назначение множества антенных конструкций и сотен серебристых и зелёных ящиков, занявших место во всех кормовых подбашенных помещениях. Против «научного руководителя» Френча коммодор ничего не имел, видел он таких «профессоров», и если бы… Если бы не разведчик Эванс, он добился бы ответа на все интересующие его вопросы. Но Эванс — совсем другое дело. С ним опасается сказать лишнее слово даже Хиллгарт. Но сейчас терять уже нечего. Тем более, только что прибежал рассыльный и передал слова штурмана насчёт взрыва в румпельном и заминированных погребах. Полная ерунда! Грохот взрыва услышали бы сотни людей в корме. И как можно заминировать погреба главного калибра? Разве что ещё на берегу, до выхода в море?
Скорее всего, слова этого Роупера — полная ерунда. Кстати, такого офицера он не помнил и от Эванса не слышал. Разве что из тех, кто занимается этими русскими… В любом случае — немедленно сюда этого «кэптэна», пусть принимает меры. Но первым делом — дождаться ответа командующего. Сам Честер решение уже принял. Но вдруг у начальства другое мнение?
УКВ-связь работала неустойчиво, но говорить кое-как было можно, по пять раз переспрашивая и додумывая непонятое. Коммодор к этому моменту уже получил доклад командира аварийной партии — рулевая машина повреждена серьёзно, диверсанты потрудились как следует. Срастить штуртросы, прикрепив их прямо к румпелю — немногим быстрее, из них варварским образом вырублены зубилом и кувалдой двухметровые куски, вместе с проушинами румпеля. Нужно тащить сварочный аппарат, а пока выяснить, цел ли сам баллер, если погнут — придётся водолазов за борт спускать…
Всё это Честер сообщил адмиралу и выслушал в ответ поток самой отборной брани. Возвращаться к «Гренвиллу» Хиллгарт не видел смысла по очевидным и коммодору причинам — если не удастся решить проблемы своими силами, эскадра ничем не поможет. Буксировка крейсера возможна максимум на десяти узлах, а русские будут здесь раньше, чем её вообще удастся начать.
— Поэтому мы уходим. Сумеете дать ход — действуйте по плану. Нет — уничтожайте оборудование и топите крейсер. Кто попадёт в плен — должен назвать только своё имя и личный номер. Больше ничего…
В эфире повисла тягостная тишина.
Решение очевидное, но до чего же невыносимое! Может быть, всё же удастся договориться с русскими? Война ведь не объявлена…
Так командир и спросил.
— Вы идиот, Клифтон? — взорвался адмирал. — Русские не станут с вами договариваться. У них достаточно оснований, чтобы под угрозой расстрела прямой наводкой взять вас голыми руками. Из плена вы, даст бог, вернётесь, а за сдачу противнику исправного крейсера и совершенно секретной техники вас приговорят к смертной казни. Это вам понятно?
— Так точно, сэр, — едва слышно пробормотал Честер, сунул в руки радисту микрофон и заплетающимися шагами пошёл не на мостик, а в свой салон на втором ярусе носовой надстройки.
Руководить гибелью своего корабля он не хотел. Есть другой выход, простой и очевидный. Вызвал с мостика старшего помощника. Не предлагая сесть, сообщил о приказе адмирала.
— Займитесь этим, Джером. Я не теряю надежды, что этот трижды проклятый руль удастся выправить. Но времени у нас в обрез. Прикажите стармеху и командирам обоих трюмных дивизионов подготовить все кингстоны и клинкеты к затоплению. Дополнительно заложите подрывные заряды в междудонное пространство. Если вскоре появятся русские эсминцы, мы можем не успеть…
— Если они появятся и мы не поднимем белый флаг, нас просто торпедируют. Из всех аппаратов с предельной дистанции. Вообще ничего делать не придётся… — Шутка прозвучала, но командир её не принял.
— Вот именно, а я не хочу жертв среди наших людей. Они совсем ни в чём не виноваты. Одновременно с началом затопления объявите шлюпочную тревогу. Заблаговременно выведите наверх людей из нижних помещений. Если я почему-то не успею отдать команду «Покинуть судно», сделайте это сами, и вовремя. До первого выстрела русских.
— Почему не успеете, сэр? — заподозрил неладное старший помощник.
— У меня есть ещё и другие дела. — Честер показал пальцем наружу, на антенны и прочие устройства, громоздящиеся на палубе, кормовой надстройке и юте. — Это поважнее самого крейсера…
— Не понимаю, сэр. Если что, они уйдут на дно вместе с «Гренвиллом».
— Есть кое-что ещё, чего вам не следует знать даже сейчас, — криво усмехнулся коммодор.
Одновременно с вызовом старпома Честер послал вестового за Френчем и Эвансом, но эти господа уже сами примчались в приёмную его салона.
Терять командиру было уже нечего, и он заговорил с учёным и разведчиком непривычно грубо, как раньше себе не позволял.
— Вы, кэптэн, не разведчик, а дерьмо. Да-да, я сказал именно то, что хотел. Жалею, что не спустил вас с трапа при первом появлении на моём корабле. Не знаю, чем вы занимались раньше, но только идиот мог догадаться разместить на крейсере с секретным оборудованием две сотни русских головорезов. Их надо было перевозить на тюремной лайбе, в кандалах, да-да, в кандалах! Как раньше рабов из Африки! Эти подонки уничтожили мой корабль. Или вы хотите сказать, что это сделали мои матросы?
Эванс вспомнил свой разговор со Строссоном и прикусил губу. Да, чёрт возьми, надо было тогда же объявить общий аврал, вывернуть крейсер наизнанку, но найти сбежавших. Но кто же знал, что в ряды завербованных бродяг затесались диверсанты? Если бы исчезли настоящие британские офицеры, Эванс так не благодушествовал бы, само собой. А ведь и те и те русские. Может, вправду, напились, подрались, порезали друг друга. Конечно, он приказал всем сотрудникам, ответственным за транспортировку русских, выяснить (но не привлекая излишнего внимания) у остальных, через добровольных осведомителей, не видел ли и не слышал хоть кто-то что-нибудь? До «начала беспорядков» никакой ценной информации, кроме уже имевшейся, ему не сообщили.
Приходилось признать, что капитан-лейтенант Строссон был прав. В том, что говорил о возможности «знающих людей» творить внутри крейсера всё, что им заблагорассудится. Но он же и дал понять, что вообще считает проблему с «побегом» не стоящей выеденного яйца. И Эванс согласился именно с этим. Потому что сам думал так же: «куда с крейсера денешься?» Тем более, до захвата «Вилькицкого» оставалось меньше суток, и все проблемы сами собой снимались. Куда больше кэптэна заботило выполнение основной задачи и сохранение тайны от всех, включая этого парвеню Честера.
Впрочем, ответ Эванса командира уже не интересовал. Он обратился к Френчу:
— От вас мне нужно одно — включите свои машинки и доложите, на каком расстоянии русские и каким курсом идут. Сработала ваша дезинформация или нет? Это всё. Пойдёмте, я сам хочу всё увидеть…
Учёный растерянно обернулся на Эванса, не зная, что отвечать.
— Вы на кого смотрите? Кэптэн, выйдите и ждите в приёмной.
Эванс подчинился, спорить с разъярённым Честером не имело смысла. Да и на самом деле — раз уж всё пошло в задницу, какие теперь инструкции? А этот бешеный бык и пристрелить может. Если крейсеру суждено утонуть, никто не будет выяснять судьбу каждого погибшего и пропавшего без вести.
— Вы поняли меня, «кэптэн»? — на этот раз, обращаясь к Френчу, командир произнёс его чин со всей возможной иронией. — На борту я — единственный начальник. Для вас и для всех. Первый после бога. На ваши инструкции я плевал, хотя бы их писали вдвоём король и Первый лорд Адмиралтейства. Отвечайте — есть у вас в запасе что-то такое… Какой-нибудь шанс. Я слышал, вы должны были загипнотизировать (или как это правильней назвать?) перевозимых на борту русских. А если не только их? Вообще все ваши дурацкие секреты как-нибудь можно использовать для спасения крейсера, всех нас? Имейте в виду, у меня есть инструкция — не позволить вам и вашим людям попасть в плен живыми. Ну, думайте, думайте! Время на размышления, пока доберёмся до вашей «норы», — так презрительно назвал коммодор расположенный под броневой палубой центральный пост управления всей «машинерией» Френча.
— Идите вперёд, я за вами…
Честер переложил из ящика стола в карман пистолет, сделал несколько крупных глотков из бутылки с виски, остальное крепкими, совсем не дрожащими руками вылил в узкое горлышко карманной фляжки.
Бекетов, до сих блестяще справлявшийся с поставленными самому себе задачами, в психологии масс оказался полным профаном. Ротой командовать его учили, и подчинённые бойцы выполняли команды безоговорочно и безупречно. Вот Юрию и вообразилось, что две сотни бродяг, авантюристов и неудачников с первых слов поверят ему или Николаю, поймут, о чём речь, дружно и, главное, организованно поднимутся на бунт.
Из истории известно, что даже в разгар восстания Спартака многие освобождаемые из эргастулов гладиаторы не присоединялись к его войску, а предпочитали «свободу в чистом виде», без всяких дополнительных обязательств. Да и в Гражданскую войну часть солдат и офицеров шла к красным, часть к белым, а большинство просто разбегалось по домам.
Точно так и сейчас. Николай с Егором и близнецами вернулись в свой кубрик и в лучших традициях митингового семнадцатого года (многократно описанного в книгах и изображённого на киноэкранах) попытались вдохновить «узников стальных казематов» на мятеж. Разумеется, это было глупо. Прежде всего, никто из них не умел «агитировать», то есть возбуждать людей пламенным словом, в котором, во-первых, не смысл важен, а накал примитивных эмоций. А во-вторых — на призывы к чему угодно реагирует только сообщество (или даже толпа), имеющее пусть не осознанный как следует, но общий интерес: грабить, уходить с фронта в тыл или штурмовать Бастилии. Нужен только толчок, обрушивающий лавину, или запал, взрывающий снаряжённую мину.
А здесь условия были наихудшие, проигрышные для самых записных ораторов времён восстания на «Очакове» или Гельсингфорсской резни. Прежде всего, волонтёры располагались в пяти кубриках, разнесённых по противоположным бортам и двум палубам, а агитаторов было лишь два, близнецы не в счёт, трибуны и горланы-главари из них — как из того самого бронебойные пули. В таких компаниях, как в зоне, на подготовку хоть массовых беспорядков, хоть побега нужно иметь непререкаемый авторитет и несколько дней на «разъяснительную работу». Две трети валявшихся на койках добровольцев вообще не врубались, о чём там базар пошёл, кое-что слышали и понимали только те, кто находился на расстоянии вытянутой руки. Они же — соседи по койкам, за предыдущие дни уже установились в меру доверительные отношения. Среди них и нашлось около десятка человек, поверивших и решивших попытать счастья. Но что сделаешь с десятью людьми, не знающими корабельной топографии, элементарно не понимающими, что им предстоит совершить даже для собственного спасения, не говоря об государственном интересе и «гражданском долге».
Всё это быстро понял и осознал Бекетов, наконец добравшийся до своего кубрика.
— Спокойно, ребята, — успокоил он Карташова и Егора. — Политика — это искусство возможного. На уговоры и агитацию у нас времени нет. Зато я узнал, где оружейка. Не очень далеко. Мы с пистолетами — впереди, остальные следом. Сработаем чисто и быстро, не такое делали. А вы, публика, — с возможной степенью презрения выкрикнул своим командирским голосом Юрий всем прочим, толпящимся на трапах и в проходах между кубриками, — ждите. Или пока мы вас выручим, или пока через вентиляторы газом не траванут. Живые вы никому не нужны…
Толпа загудела, но вразнобой, бессмысленно и бессвязно. Так не об общем интересе сговариваются, а препираются, кто что услышал и как понял. Подобные «толковища» редко к общему мнению приводили, и в любом случае не за несколько минут.
Глава тридцать первая
В Замке в это же условное время дела шли своим чередом.
Кристина закончила выяснять отношения с Ибрагимом и решила немедленно сообщить о загадочном происшествии (и странном эффекте блок-универсала) Сильвии и Удолину.
Удолин, в свою очередь, расставшись с Ибрагимом, уединился в своей комнате, чтобы ещё раз постараться обходным путём установить ментальный контакт со своими приятелями и помощниками-некромантами. Но даже если и не получится, он уже отчётливо представлял, как они с Сильвией одновременно нанесут удар по Арчибальду и управляющей им части необъятной и непостижимой сущности Замка. Именно — по части, потому как целое столь велико, что просто не обратит внимания на это якобы «вмешательство» в его прерогативы, точно так же, как тропический лес останется безразличным к срубленному путешественником где-нибудь в дельте Амазонки дереву. Константин Васильевич поразит Арчибальда магическим, она — техническим оружием. Это, как минимум, лишит возомнившего о себе монстра «самосознания» на достаточный срок или, в идеале, навсегда заставит голем подчиняться императивам Белого Тезиса.
Примерно с такими же мыслями и целью Сильвия с Басмановым возвращались из шульгинского убежища по ставшему вдруг бесконечно длинным коридору. Судя по тому, что здесь уже случалось, например с Новиковым и Шульгиным, заблудившимися в не для них предназначенных уровнях, Сильвия предположила — им приходится идти через какое-то дополнительное измерение, соединяющее очередную «нехорошую квартиру», экстерриториальную даже по отношению к заведомо экстерриториальному и эксвременно́му замку, с отведённой для проживания людей зоной. В ту сторону они попали гораздо быстрее и проще, но сейчас интуиция подсказала аггрианке — возвращаться по своим следам не стоит. Опасно ли это и в какой мере — неважно. Не стоит, и всё.
А у «валькирий» сейчас никакого осмысленного занятия не было. Время до здешней полуночи все они, включая Настю и Кристину, вместе с лётчиками провели в небольшом зале, копировавшем какой-то весьма роскошный французский ресторанчик. За полузашторенными окнами видна была изумительно достоверная голопроекция ночного Монмартра с собором Сакре-Кёр на заднем плане. Жаль только, выйти туда через двери, очень похожие на настоящие, не получилось. Здесь Арчибальд организовал для них и лётчиков «вечеринку при свечах», вдобавок — с варьете. Исполнительницы песен и танцев выглядели настолько естественно, что вогнали простодушных «прадедов» в кратковременный ступор. Сами «валькирии» в двух предыдущих реальностях такого тоже не видели, но им было легче — они хоть представляли, как это сделано.
Честно сказать, мероприятие прошло как-то «не очень». Унтер-офицеры просто стеснялись девушек, старших по чину. Командир, второй пилот и штурман были пораскованнее, но всё равно не очень понимали, как с этими красотками-офицерами из далёкого будущего себя держать. Темы для разговоров находились с трудом, танцев столетней давности «валькирии» не знали, а «нынешние» шокировали бы лётчиков, это было понятно. Они и на сцену, где изощрялись солистки и кордебалет в стиле «Мулен Руж», старались не смотреть. Их всё там изображаемое, конечно, увлекало, даже очень, но, простите, не при девушках же…
Вдобавок имелась и другая причина для общей «зажатости». Анастасия не могла вести себя свободно с чужими мужчинами по известной причине. Марина была поглощена мыслями о Басманове, Кристина тоже выглядела озабоченной, пусть и не матримониальными проблемами. Ничто не ограничивало только Марию и Ингу, однако серьёзного интереса у них ни один из лётчиков не вызвал. Бывает такое. Вроде бы по всем параметрам нормальные парни, видные из себя, а вот — не зацепляют! Те, всё правильно поняв, через подобающее время проводили девушек на жилой этаж, тепло, но чисто по-товарищески попрощались у дверей, поблагодарив за прекрасный вечер, и ушли. Похоже, в тот же самый ресторан, чтобы теперь как следует, от души и с комментариями рассмотреть и послушать актрисочек, добрать, как в авиации положено, то, что выпить при «валькириях» воспитание не позволило.
Мария, оставшись одна, неторопливо разделась перед зеркальной стеной спальни, с удовольствием отметила, что парижские девки ей в подмётки не годятся, несмотря на свои неестественно длинные ноги, прозрачные трусики со стразами и боа из розового пуха, якобы прикрывавшие довольно-таки некондиционные груди. Такие мужчинам демонстрировать — себя и их не уважать. То ли дело — у неё и у подружек! Устроилась в просторном кресле посреди большой гостиной, закурила длинную ментоловую сигарету. Курить их как-то очень быстро приучили «обычные» девушки роты, те, ссылаясь на тяготы службы, дымили все поголовно, ещё и потому, что командиры-мужчины свято соблюдали право на обязательные перекуры: до, между и в конце каждого дела. А некурящие этой льготы были лишены, так уж издавна повелось.
Непривычная роскошь интерьеров слегка подавляла, в отличие от Насти и Людмилы она мало где бывала за пределами казармы, разве что несколько дней на пароходе «Валгалла» в самом начале земной жизни.
Она не то чтобы завидовала подругам, обзаведшимся высокопоставленными женихами, но моментами становилось грустно. Самой близкой и понятной ей стала Маринка — в строю стояли рядом, жили вдвоём в одной комнате, много о чём «перешёптываться» приходилось. Общие интересы сложились. А вот теперь внезапно и у неё появился отдельный «интерес» — белогвардейский полковник Басманов. В том и дело, что не просто белогвардейский, а из руководителей таинственного «Братства», из которых близко знакомы были только адмирал Воронцов и Наталья Андреевна. Кроме… Но это совсем другое, из разряда «тайных воспоминаний», которыми она не делилась даже и с Маринкой.
…Случился однажды в посёлке их курсантской школы на Таорэре странный зимний вечер, сменившийся ночью редкой силы снежным бураном. Тогда начальница, мадам Дайяна, принимала гостей с настоящей Земли, трёх молодых мужчин, только что вышедших из боя с агрессорами-дуггурами, захватившими почти заброшенную Центральную Базу. Впрочем, всё это нынешняя Мария, а тогда не имевшая имени «воспитанница № 289» узнала гораздо позже. Им, как раз всей теперешней «семерке», было поручено исполнять на даваемом Дайяной в честь прибывших ужине роль официанток. Никто из них вообразить не мог, что это не слишком сложное задание изменит не только всю будущую линию жизни девушек, но и представление о ней, спасёт от скорой и неизбежной смерти, сделает, в конце концов, «недооформленных» кандидаток в координаторы офицерами Российской Гвардии.
В доставшемся им «наряде», поскольку работать предстояло в своё свободное от учёбы время, оказалось много интересного и неожиданного. Дайяна приказала им получить на автоматическом складе полные комплекты настоящей земной женской одежды, причём всё очень высокого стиля и качества: туфли, бельё, красивые ярко-оранжевые костюмы с кружевными блузками. За какой-то час они прошли необходимый инструктаж, научились носить новую униформу и действовать так, как требуется от квалифицированных работниц ресторанного зала.
За два с лишним часа, что продолжался ужин, девушки успели присмотреться к первым в их жизни (кроме нескольких инструкторов и специалистов базы вроде Лихарева) настоящим мужчинам. Это и были легендарные (как тоже стало известно гораздо позже) основатели «Братства» — Андрей Новиков, Александр Шульгин и Олег Левашов. Ни с кем из них, кроме Левашова, и то на короткий срок, увидеться им с тех пор не пришлось. Да Мария так и не могла понять, хотела бы она новой встречи.
Когда ночь подошла к половине и девушкам уже надоело бегать на высоченных каблуках из буфета в зал, оттуда на кухню, в раздаточную, непрерывно менять тарелки и приборы, подливать гостям в бокалы и рюмки, ужин неожиданно закончился. Дайяна, почти всё время поглощённая разговорами с одним из гостей, Новиковым, на минуту его оставила, распорядилась убрать на столах, а ей и Кристине сопроводить Шульгина и Левашова до номеров и, как она выразилась, «на практике подтвердить полученные по спецкурсу-шесть высокие оценки». Сюжетная схема — на усмотрение.
— Справитесь — считайте, один госэкзамен сдали, — слегка улыбнувшись, сказала Дайяна. В ходе учебного процесса она любила употреблять лексику, соответствующую времени, в котором её воспитанницам предстоит работать.
«Спецкурс-шесть» — это теория и практика использования своих специфически женских способностей и возможностей в оперативной работе, включающий изучение психологических и физиологических методик всех стран и регионов Земли «от Ромула до наших дней». Вот сегодня Дайяне представилась возможность организовать зачёты «в режиме реального времени» и на неподготовленных объектах.
Отчего начальница выделила именно Машу с Кристиной — неизвестно. Она ещё предложила девушкам самим выбрать — с кем из двоих мужчин, с Шульгиным или с Левашовым, каждая из них предпочла бы «сдавать зачёт».
Тут девушки, не сговариваясь, пожали плечами — им, мол, совершенно безразлично. А в ином случае, не сейчас, так завтра, непременно последует вопрос — почему так, а не иначе, какие у каждой подсознательные комплексы сработали, не было ли здесь постороннего влияния на «свободу выбора» и тому подобное. Дайяна обожала устраивать подобные «микросеминары» по любому поводу и даже без оных.
С некоторым, как показалось тогда ещё «двести восемьдесят девятой», разочарованием «хозяйка» указала Марии на Шульгина, Кристине — на Левашова.
А с Анастасией вообще не советовалась, сразу приказала ей ждать и морально готовиться, пока она не закончит свои дела с Новиковым.
По пути к комнате, отведённой Александру, Маша выбрала схему работы с клиентом. Для начала — «гимназистка» (Дайяна сама давала названия каждой из методик), то есть предполагалось сыграть роль невинной девушки, в силу возраста и под влиянием рассказов более опытных подруг обуреваемой «грешными мыслями». Её готовность уступить притязаниям кавалера должна быть тщательно замаскирована и всё же заметна. Ему останется сделать достаточно решительный шаг, и она позволит. Сначала, страшно смущаясь, — лишь кое-что, а потом, потеряв от собственного возбуждения голову, и всё остальное.
Если же партнёр проявит полную индифферентность к её ментальным и прочим посылам, тогда придётся включать более изощрённые методики. Уйти, не выполнив задание, она в любом случае не имеет права, иначе придётся распроститься с надеждами на достойное будущее. Дайяна подберёт провалившейся курсантке такое место и время для работы и такое амплуа, что жить не захочется.
Но стараться Марии вообще не пришлось. Шульгин сам начал разыгрывать вариант «дама с собачкой» (ужасно остроумное название!), не требующий от девушки вообще никаких усилий. Словно бы встретились случайно (где? Ну, конечно, на курорте) бывшие «хорошие друзья», теперь — каждый со своей личной жизнью, но и с воспоминаниями о давней влюблённости. Встретились и решили реализовать хоть что-то из бывшего и несбывшегося. Без всяких взаимных обязательств.
Девушка даже удивилась поначалу. Как-то не приходило ей в голову (и Дайяна об этом не упоминала), что эти мужчины в той же мере владеют всевозможными технологиями, да вдобавок умеют считывать мысли или хотя бы эмоциональный фон находящихся рядом женщин.
Всё у неё с Александром получилось естественно и спокойно, а от неё и не требовалось чего-то особенного, кроме как провести ночь с «объектом». Правда, сама она не испытала совершенно ничего интересного. Техническая процедура в чистом виде. Изобразила лёгкое подобие страсти, лишь бы мужчина не счёл её совсем уж бесчувственным бревном. Но Шульгину, наверное, сейчас именно этого и хотелось. Большую часть ночи они потом просто разговаривали на самые разные, подчас совсем неожиданные для неё темы. А утром расстались, вот и всё.
Отчего же как раз сейчас та давняя ночь вспомнилась Марии?
Только оттого, что подумала о столь внезапной, «с первого взгляда», что называется, влюблённости Марины? Или вспомнила о «Братстве» её избранника?
Неплохой выбор сделала подруга, если у неё, конечно, что-нибудь сложится. Михаил Фёдорович Маше тоже понравился, но Маринка его первая «застолбила», и, как поётся в песне из кинофильма «второй реальности»: «Уйду с дороги, таков закон…» Правильно, в общем-то. И в той и в другой России они успели посмотреть множество фильмов, прочитать книг и услышать песен, но те, что из реальности Фёста, сильнее за душу цепляют. Психологически ближе, курсанток Дайяна ведь к жизни и работе именно в этой реальности готовила.
Мария вскочила, натянула шорты, набросила на плечи рубашку. Что тут зря мыслями терзаться? Сна ни в одном глазу, так лучше к Маринке пойти, поболтать о том о сём. Если она у себя, конечно. А то мало ли…
Блок-универсал в карман — и вперёд!
Деликатно постучала в дверь условным знаком. И была сильно удивлена, увидев вместо Маринки Ингу Вирен. Весьма легкомысленно одетую, в одном коротком пеньюарчике.
— Я номером не ошиблась? — спросила Маша на всякий случай, хотя совершенно точно знала, кто где разместился.
— Заходи, заходи, легка на помине. Как раз тебя хотели звать…
В гостиной у журнального столика сидела Марина, тоже почти без ничего. На столе неначатая ещё бутылка экзотического ликёра неизвестного происхождения. В мини-барах номеров этого добра имелся огромный ассортимент. Посвистывал закипающий чайник, стояли две чашки и раскрытая коробка конфет.
Инга принесла третью чашку и рюмку.
— По какому поводу сборище? — спросила Мария подсаживаясь, выложила блок-универсал, в данный момент имея в виду его портсигарную функцию.
— Да так, — ответила Марина, не по обстановке сосредоточенная. Её портсигар тоже лежал перед ней, раскрытый, в пепельнице дымилась сигарета. — Поговорить захотелось. Нас тут четверо неприкаянных осталось, отчего бы не обсудить, как дальше быть…
— Что нам обсуждать? Есть кому решения принимать, — не поняла Маша.
Инга снова вышла, слегка скрипнула входная дверь.
— Куда она?
— Кристину позвать. Сильвии у себя нет, смотрели уже. Настька со своим графом милуется, я видела, как он к ней шмыгнул минут двадцать назад. К Басманову и деду-профессору обращаться… Ну, сама понимаешь.
Вернулась Инга.
— Нету красотки. Не иначе «шеф» вызвал, срочную бумагу диктовать… — тон у Вирен был весьма ядовитый. Хоть и принесли «служебные отношения» Кристины с Катранджи каждой из девушек солидное «приданое», между собой они не упускали возможности съязвить по поводу её функции «личной секретарши».
— Так я не понимаю, — вернулась к своему вопросу Мария, вместе с подружками медленно вытянув рюмочку душистого, тягучего и зверски крепкого ликёра. После такого глоток крепкого кофе в самый раз, и сигарету. — Что за нужда подкатила? Как дальше жить — не от нас зависит.
— Кто знает, кто знает, — многозначительно сказала Инга. — Может, всё наоборот. Нас никто в расчёт не принимает, а вдруг мы — те самые джокеры в колоде.
— Три джокера — это круто, — согласилась Марина. Видно было, что она после шампанского, выпитого в приличном количестве и с отключённым гомеостатом (а иначе — какое удовольствие?), пребывает сейчас в самом подходящем для всяких авантюр состоянии. Легко, весело и, как говорится, что в одной, что в другой реальности — «море по колено». Мария с Ингой ощущали примерно то же самое. Для «закрепления эффекта» выпили ещё вкуснейшего ликёра.
— Видишь, какое дело, Маш, — сказала Марина, — Настька со своим б/у сделала такое, что и Сильвию в изумление привело. А мы чем хуже? Давайте вместе разберёмся, а вдруг что-нибудь ещё почище сейчас сообразим…
— Девки, а я, кажется, уже и придумала, — страшным шёпотом неожиданно для себя сказала она.
— Ну-ка, говори! — приказала Марина, а Инга опять налила всем.
Удивительное дело, Мария совсем не представляла, что же именно она придумала, но отступать было поздно.
— Давайте по третьей. Очень уж приятно пьётся, и мысли смотри как проясняет.
Спорить никто не стал. Правда ведь вкусная вещица, трудно удержаться.
По команде Маши выложили рядом все три блок-универсала. Сидели и смотрели на полированные внутренние крышки, в нужный момент становящиеся экранами трёхмерных дисплеев, не понимая, что же делать дальше, но будто загипнотизированные волевым посылом подруги.
А с Марией происходило странное. То ли ликёр подействовал совершенно необычным образом, то ли пребывание в Замке, воздействие неизвестных, пронзающих его полей, но у неё в мозгу будто начали в причудливом порядке открываться многочисленные «заслонки и задвижки», выпуская из тайных убежищ (или — узилищ) давным-давно крепко запертые там мысли. И не только мысли.
Она словно впала в некий транс, для неё длившийся очень долго, а для подруг — всего несколько секунд. Они обратили внимание на слегка затянувшуюся паузу и совсем короткую остановку дыхания.
Вдруг вспомнилось очень отчётливо — она лежит в постели, закинув руки за голову, и слушает его слова. Они снова звучат в ушах, будто произносятся прямо сейчас:
— Восточные и отечественные сказки о неожиданных подарках в ответ на бескорыстную доброту — вовсе не сказки. Я тебе тоже сделаю такой подарок. Ваша Дайяна об этом не узнает, и никто никакими силами не сможет узнать о твоих новых способностях. К утру ты о моих словах забудешь, а время придёт — вспомнишь…
Александр сидел слева от неё, ближе к окну, курил в темноте, пуская в потолок подсвеченные огоньком вспыхивающей сигареты струйки дыма. Снаружи бесновалась пурга, от порывов которой, кажется, вздрагивал весь дом. А в комнате было тихо, тепло, по-особому, на фоне буйства стихий, уютно.
— Что же это за подарок? — спросила Маша, не зная, верить или не верить сказанному в постели. Впрочем, обычно несбыточные обещания мужчины дают девушкам «до того, как», а не после.
— Да уж на колечко с бриллиантами, горностаевую шубу или дорогую машину пока не рассчитывай. Когда-нибудь потом, если встретимся. Такой, как ты, в предстоящей жизни нужнее всего будет что? — подождал секунду, не услышал ответа. Протянул руку, погладил её по щеке, полуприкрытой прядями волос. — Правильно — удача. Будет удача, остальное несущественно. С крыши сорвёшься, так обязательно в кузов проезжающей внизу машины, гружённой сеном, угодишь. И в этом роде. Всего и нужно — несколько формул, или, попросту говоря, заклинаний, в твоё подсознание добавить. Они там будут лежать спокойненько и прорастать незаметно, как упавшее в землю зерно.
Вдруг спросил неожиданно:
— Библию читать не приходилось?
— Нет, — ответила Маша, — знаю, что это за книга и о чём она, но сама не читала, нам всем это не нужно. Может быть, тем дадут, кто с церковью будет связан…
— Ну, не беда. Будут ещё случаи. Просто вспомнилось мне, когда про зерно сказал: «И вышел сеятель сеять, и когда сеял, иное зерно упало у дороги и птицы склевали его, другое — на каменистое место, взошло и быстро засохло, попавшее в тернии увяло и не дало плода, а иное упало на добрую землю и принесло в тридцать раз от посеянного, и шестьдесят, и сто». Вроде бы примерно так. У Марка в Евангелии, или у Иоанна — не помню, а суть верна. Приживётся то, что я тебе подарю — научишься этим пользоваться, и до конца дней всё, что хоть в какой-то мере возможно, будет случаться по желанию твоему… Да-да, именно так: нужно будет только сильно захотеть…
— А как это — сильно? — спросила девушка.
— Трудно объяснить словами. У всех получается по-своему. Ну, приблизительно… Представишь то, что тебе сейчас нужнее всего, очень ярко и наглядно представишь, и тут же — выброс волевой энергии. Не веры, которая якобы горы сдвигает, а воли! Словно как штангист груз выталкивает над собой, заведомо ему непосильный. И становится чемпионом… Не могу лучше объяснить. Когда-нибудь сама поймешь. И хватит разговоров. Спи!
Она очнулась. Встряхнула головой. Неужели наконец пришёл обещанный момент? Так что она хотела, зачем приготовила блок-универсалы? Думай, думай, чего ты сейчас хочешь? Не опозориться перед подругами за сказанную не подумавши глупость? А ещё? Ну!
И вдруг всё случилось само собой. Она вспомнила, просто вспомнила неизвестно когда мельком сказанные Лихаревым слова. О том, что все блок-универсалы одной конструкции, только допуски к ним у всех разные. Но внутри просто должны иметься коды или инструкции, пользуясь которыми специально обученные лица могут настроить приборы соответственно рангу их владельца. И даже резиденты высоких рангов имеют право регулировать блок-универсалы и Шары нижестоящих агентов. Так, Сильвия со своим б/у может совершать куда больше манипуляций, чем он, координатор всего на две ступеньки ниже. Дайяна — больше, чем Сильвия, а кто стоит выше Дайяны, ему неизвестно. И ничего бы он больше не желал в этой жизни, как узнать ключ, раскрывающий коды.
Всего этого Лихарев не имел права говорить курсанткам, не прошедшим посвящения даже в самый низший «офицерский» чин, они в тот момент были не более, чем эстандарт-юнкера[127]. Однако Валентин после бегства со своей должности в сталинском СССР числился у Дайяны «официальным диссидентом», она пользовалась его услугами только за неимением никого лучшего. Вот он и рисовался перед девушками вольномыслием, рассчитывая в будущем перетянуть кого-то из них на свою сторону.
Вот эти коды им сейчас и нужны. Всего лишь! Если бы ещё представить, как это может выглядеть!
За неимением другого способа, она вообразила страстное желание, которое могла бы испытать, влюбившись без памяти и мысленно умоляя своего избранника догадаться об этом, взять её за руку и самому признаться в не менее сильном чувстве. Представила и тут же увидела то, что хотела.
Внутри блок-универсала, под клавиатурой, возле нижнего края — совсем маленькая, в половину почтовой марки молекулярная плата, соединённая тончайшими, почти незримыми нитями с чем-то вроде коммутационного узла для сигналов, исходящих при замыкании кнопок и сенсоров.
Мария всё это видела и понимала, точно так, как опытный инженер с одного взгляда способный назвать предназначение и технические характеристики любой детали на шасси лампового радиоприёмника.
Сейчас её это нисколько не удивляло. Так и должно быть. Она захотела — и поняла устройство созданного, может быть, за десятки, а то и сотни тысяч лет до Рождества Христова прибора глазами его изобретателя или наладчика. Пусть те же сотни тысяч лет в аггрианской империи отсутствовало само понятие технического прогресса, но было ведь время, когда существовали и у них изобретатели и конструкторы!
Теперь нужно нажать вот эту, эту и эту кнопки, именно в таком порядке, дать сигнал отмены и ровно за две секунды повторить комбинацию в обратном… Методом случайного подбора и за тысячу лет не угадать.
На полированном золоте крышки возникла таблица из двадцати с лишним пунктов. Слева значки, справа поясняющий текст. Как, допустим, словесная расшифровка текста на основе азбуки Морзе.
— Вот тот полный код, про который нам Лихарев говорил…
Марина с Ингой дружно ахнули от неожиданности. Будто им предъявили лампу Аладдина или назвали пароль «Сезам, откройся!».
— Как ты это сделала? — спросила Вирен, глядя на Марию недоумённо, пополам с недоверием.
— Не знаю, — честно ответила та.
А Марина вдруг расхохоталась:
— Ну, фокусница! И зачем, интересно, нам это нужно?
Девушки опять посмотрели, и до них дошло! Пояснительный текст был на аггрианском языке! Вот действительно фокус. На самом ведь деле — кто в незапамятном прошлом вообще подозревал, что когда-то на одной из планет Галактики возникнет русский, да какой угодно язык?
— Это называется облом! — удивительно спокойно сказала Мария. — Дайяна аггрианский, конечно, знает. Сильвия с Лихаревым, наверное, тоже. А нас научить не успели…
— Что же теперь — к Сильвии обращаться? — иронически произнесла Инга. — Она нам спасибо скажет и «игрушку» элементарно отнимет!
— Да нет, подождите, — возразила Маша, — не на ней одной свет клином сошёлся. Левашов, например, и Воронцов смогут, наверное, Валентина отыскать и заставить сделать перевод. Да зачем Лихарева искать? — вдруг сообразила она. — Завтра твоему (не смогла она даже в такой момент не «поддеть» Марину) Михаилу Фёдоровичу скажем — он при нас Сильвию попросит, и ничего она у нас в таком случае не отберёт. А от «Братства» нам, глядишь, ещё и благодарность какая-нибудь выйдет. Сколько лет прошло, как Сильвия на их сторону перешла, а дальше её уровня с блоками и шарами не продвинулись. А теперь благодаря нам все до уровня Дайяны и выше подняться смогут…
Инга сидела молча, как бы не слыша, о чём говорят подруги.
«Но это всё хорошо, — продолжала думать Мария, — однако случится только завтра, и не придётся нам самим хоть на время ощутить себя умнее и могущественнее всех».
От разочарования, от глупой шутки судьбы она опять потянулась к бутылке с ликёром. Выпьем ещё, теперь как бы с горя, покурим и спать разойдёмся. Обидно, но что поделаешь? Александр Иванович не всё ей тогда объяснил. Можно силой желания заставить произойти маловероятное, но практически осуществимое событие. Внутри самого блока объективно имелась доступная любому подсказка, вроде загадочной картинки, замаскированной путаницей посторонних линий, она захотела увидеть нужные закономерности — и получилось. Но потребовать, чтобы у тебя в памяти вдруг обнаружился полный русско-аггрианский словарь, которого там никогда не было, — это за пределами любой вероятности.
— Стоп, девки, стоп, — сказала Инга, прикуривая сигарету и не отводя глаз от дисплея, — а я ведь кое-что разбираю! Вот это слово я видела, и это… А вот это, кажется, означает — «сильный, крепкий»… А дальше… — она пожала плечами.
— Я вам не говорила, что Валентин одно время заигрывал… Нет, не в том смысле, он и без заигрываний от любой из нас что угодно мог получить, только его это не интересовало. Он меня вербовал осторожно, в комнату к себе приглашал, разные интересные вещи рассказывал, о своей прежней службе и о том, как и что дальше может получиться у тех, кто ему помогать станет…
— Ну и что? — спросила Марина. — Он не только с тобой эти разговоры вёл…
— А то, что у него как раз был нужный нам словарь! Он нечто вроде дневника вёл или научный труд писал как раз на аггрианском. Я открытую тетрадь с этими закорючками увидела и спросила… Он мне и ответил. Язык Валентин очень нетвёрдо знал, а ему приходилось, когда Главная База без специального персонала осталась, со всеми компьютерами и прочими устройствами самому разбираться. Вот он и сумел в памяти одной из машин словарь найти и распечатать…
— И что? — не выдержала обстоятельности подруги Мария.
— А то, что я этот словарь, просто от любопытства, полистала. Именно полистала, запоминать и заучивать не пыталась…
— Я всё поняла, — воскликнула Маша. — У тебя в памяти… Если бы ты смогла снова увидеть… Давай попробуем, вдруг…
После нескольких мучительных и неумелых попыток пробудить память Инги, та вспомнила не меньше двух, а то и трёх сотен слов, только, к сожалению, среди них оказалось слишком мало нужных. Из всех перечисленных на дисплее функций смогла с подобием уверенности разобрать только две.
— «Сильное подавление осознанного (осмысленного) мыслительного (разумного) состояния (поведения, процесса). Контроль… Власть…»
— Какой контроль, чего? Власть — чья, над чем?
— Откуда я знаю. Не соображу даже, «контроль» и «власть» — к одной функции относятся или к разным. Тут же предлоги всякие, служебные слова, усиливающие или снижающие значение существительных. Язык по типу и конструкции совсем не русский, нельзя вообще поручиться, что и остальное нужно понимать, как нам кажется. Дальше полная абракадабра, — кусая губы, ответила Вирен. — И вот это: «Неограниченное (беспредельное) перемещение (движение, изменение положения)…» Всё, сестрицы, конец на этом. Ничего больше не осталось в голове. Или слишком быстро словарь листала…
— Или Валентин пресёк твою самодеятельность. Представь, что ты в кабинете полковника Ляхова стала бы папки с документами просматривать, а он бы вдруг вошёл…
— Там бы похуже, наверное, было, — согласилась Инга.
— Но всё же кое-что, — подбодрила подруг Марина. — К тому, что мы уже имеем, — неплохо. «Подавление осознанного мыслительного процесса» — я так понимаю, у любых существ? Подавление, а не «стирание», если Инга не напутала. Вот здесь и вот здесь нажимать. Жалко испытать не на ком…
— Сейчас испытаем, — с несколько зловещим видом сказала Мария. — Помните, «дядюшка Арчибальд» предложил к нему обращаться в любой момент. Вот давайте и обратимся. А то все сейчас куда-то разбежались и чем-то занимаются, одни мы скучаем…
— Ну, не так уж и скучаем, — не согласилась Марина. — А сходить можно, почему и нет. Поговорим, спросим кое о чём. Глядишь, внесём свою лепту в прояснение обстановки. А если он вдруг агрессивность проявит, тут мы его и «подавим». Потом и к Сильвии обратиться будет можно…
— Значит, решили. А «неограниченное перемещение» нам пока не нужно, хотя, скорее всего, именно так «старшие» с Таорэры на Землю попадали и обратно. — Мария окончательно приняла на себя руководящую роль, и Марина с Ингой эту «узурпацию» очевидным образом приняли. — Значит, теперь быстренько по комнатам, пистолеты на всякий случай возьмём, оденемся поприличнее, — на самом деле, троица выглядела весьма завлекательно, но не для того, что они задумали. У самой Маши хоть нижняя часть шортами прикрыта, а у подруг и для «Мулен Руж» чересчур откровенное неглиже.
— Только не переборщите, никаких камуфляжей и ботинок. Простая домашняя одежда, сарафанчики или брючки с маечками. Ночь на дворе, и мы никуда специально не собирались…
О пистолетах Мария сказала специально. Всё та же психология, какой их тщательно учили на Таорэре, и в «печенегах», Воронцов с Натальей, Майя и Татьяна, везде — применительно к разным обстоятельствам. Если человек, тем более — «слабая девушка», надеется на огнестрельное оружие, значит, никаких более мощных и эффективных средств нападения и защиты у неё нет. И Арчибальд, более-менее зная о способностях Сильвии, Удолина, Фёста, едва ли в курсе истинной сущности «валькирий».
В сумке у Марии кроме штатного был второй пистолет, почти «дамский» «вальтер ППК», для таких примерно случаев. Она засунула его за пояс, прикрыла рубашкой навыпуск. Застегнула только нижние пуговицы, три верхних не стала, и бюстгальтер не надела — ещё один способ отвлечения внимания «вероятного противника» на второстепенную деталь, вплоть до изменения направления мыслей.
Блок-универсал — в нагрудный карман, раз не прячет что-то, значит — нечего прятать. И достать его небрежно, сделав вид, что закуриваешь, легче отсюда, чем из заднего кармана втугую сидящих шортов.
Марина с Ингой обе оделись в коротенькие, с глубокими вырезами платья, в таких скромным девушкам и садиться и наклоняться нужно с особой осторожностью. Мало кому придёт в голову, что под едва доходящими до середины бедра подолами могут скрываться пистолеты.
— В таком виде, бабоньки, прямиком на панель отправляться, а не на серьёзный «экс»[128], — пошутила Маша, осмотрев подруг.
От лестничной площадки влево и вправо тянулись длинные, сводчатые, полутёмные коридоры, внушающие своей гулкой пустотой неопределённое, но отчётливое беспокойство. Хотя вроде бы трём хорошо подготовленным «специалисткам» опасаться было нечего. Чистый атавизм.
— Все продумали, кроме одного — где «дядюшку» искать, — сказала вполголоса Марина.
— Не проблема, — улыбнулась Мария. — Он ведь сказал, что в Замке, где бы мы ни находились, достаточно отчётливо произнести вслух, что нам нужно, и сенсоры тут же передадут запрос для исполнения. Так что…
Она повернулась почему-то влево. Произнесла несколько капризно, как и положено племяннице, что-то выпрашивающей у мягкосердечного родственника:
— Дядюшка Арчибальд, нам скучно и грустно, спать совсем не хочется, а вы обещали…
— Да-да, покажитесь и придумайте для нас что-нибудь увлекательное, необычное, вы ведь всё можете… — продолжила Инга и даже ножкой притопнула для убедительности.
— Пригласите нас в свои апартаменты, — уточнила Марина. — У вас там наверняка столько удивительного…
Девушкам показалось или на самом деле очень далеко словно лопнула серебряная струна, по коридорам пронёсся мгновенный, удивительно мелодичный звон. И тут же стих.
Прямо напротив места, где стояли, едва не прижимаясь друг к другу, «валькирии», в стене появились и тут же медленно открылись высокие резные двери.
— Входите, — раздался глубокий, проникающий не только в уши, а заставивший резонировать все внутренние органы баритон. Словно голос чудища из сказки «Аленький цветочек».
Они вошли, изображая удивление, робость, подталкивая друг друга вперёд, будто каждая старалась спрятаться за спинами подруг.
— Смелее, мои милые, смелее, — благожелательно пророкотал тот же баритон, слишком громкий и сильный для человека, сидящего в кресле у дальней, метрах в двадцати от входа, стены. Наверное, где-то спрятаны усиливающие не только звук, но и обертоны динамики.
Кабинет был огромен, чрезвычайно богато украшен, что называется — «с варварской пышностью». Яркие, с высоким ворсом ковры на полу, разноцветные драпировки из драгоценных тканей по стенам, резная причудливая мебель, живые растения в кадках, кашпо и просто свисающие вниз с карнизов, мраморные статуи в межоконных нишах, развешанное всюду старинное оружие, даже небольшой фонтан с водопадиком имел место.
— Ух, ты! — не сдержалась Марина. Это был возглас не восхищения, как, наверное, вообразилось Арчибальду, а искреннего удивления превосходящей воображение безвкусицей.
— Только аквариума с бегемотиками в углу не хватает, — добавила Инга.
Зато в высоченные стрельчатые окна был виден сумрачный океан с даже на вид тяжёлыми, словно ртутными волнами. Снаружи была не ночь, а поздний вечер, когда солнце давно зашло, а тьма всё никак не может вступить в свои права. Девушкам показалось, что за окнами совсем не земной пейзаж. Угнетающий.
— Идите, идите сюда… — звал хозяин.
Они шли, шли и никак не могли дойти. Такой эффект, как на площади перед собором Святого Петра в Риме. Арчибальд смотрел на них и улыбался. Он явно был занят работой, но ради вызвавших его «племянниц» решил прерваться на время. Впрочем, оно (время) для него здесь не существовало. Любой миг мог длиться дольше века. И наоборот, естественно.
На гигантском столе Арчибальда помещался пульт с невероятным количеством всяких экранов и экранчиков, сенсорных полей, джойстиков, сигнальных лампочек и бог знает каких ещё приспособлений.
А позади него вся торцовая стена представляла собой ещё один, не меньше чем шесть на десять метров, экран. На нём замер остановленный кадр, скорее всего из исторического или приключенческого фильма.
Не работал, значит, дядюшка, а развлекался?
На экране тоже было море, только ярко-синее, летнее, полуденное, большие военные корабли на нём, маленькие самолётики в небе…
Да какая разница, что он там смотрит.
— Заскучали, говорите, — добродушно улыбаясь, сказал Арчибальд. — Понимаю, понимаю. Старшие занимаются своими делами, лётчики вас развлечь не сумели, да это и естественно. Такие красавицы, с интеллектом, с высокими эстетическими запросами и строгими моральными принципами. Вам нужны совсем другие кавалеры. Несколько позже мы и этим займёмся. А пока…
Он указал рукой на едва заметную между драпировками дверь нормальных, человеческих размеров. За нею оказалась не слишком большая, но столь же перегруженная всякими декоративными «прибамбасами» комната. Посередине стоял круглый стол, уже накрытый, как для ужина у эмира Бухарского или иного восточного, но достаточно европеизированного владыки. За каждым мягким полукреслом, в которые расселись девушки, немедленно возникли лакеи в алых ливреях, с каменными лицами.
— Пожалуйста, девушки, вы ведь так проголодались, — заботливо сказал Арчибальд, и все почувствовали, что на самом деле удивительно голодны. Они уже сталкивались с этим свойством Замка. Кое в чём — забавным. Особенно — для гурманов-любителей.
— Ешьте, пейте — к вашим услугам лучшие вина и прочие напитки этого и параллельных миров. Не сдерживайте себя — ни еда, ни напитки вам не повредят в любом количестве: это всё для наслаждения, а не для обеспечения примитивных физиологических потребностей. И будем вести приятную застольную беседу…
При этом Арчибальд так на них смотрел, что, не знай девушки о его «механической» сущности, могли бы и испугаться. Будто султан, пригласивший для знакомства вновь поступивших в его гарем наложниц и прикидывающий, с кого из трёх и каким способом начать. Впрочем, весьма возможно, что эстетические пристрастия робота предполагают «любование красивыми девушками». Как у суровых самураев — созерцание полной луны или цветущей сакуры.
Он почти заставил их выпить по одному и сразу же по второму (наверняка золотому, усыпанному изумрудами, сапфирами и рубинами) кубку. Вино и вправду было немыслимо вкусным и сразу ударило в голову. Хорошо, что, идя «в гости», они включили гомеостаты, оформленные под наручные офицерские хронометры. Слегка массивные для девичьих рук, но такая уж в «дамской» роте мода. Время «часы» тоже показывали.
С полчаса разглагольствуя на темы, которые он считал подходящими для светского разговора, Арчибальд заставил, точнее — убедил словами и личным примером выпить ещё и ещё. Да и само вино обладало свойством усиливать жажду. Может быть, робота и начала удивлять необычная устойчивость юных существ к алкоголю, но виду он не подавал, а девушки старались вести себя правильно. Ну, пусть не настолько пьяны, чтобы танцевать на столе и совершать иные глупости, но весьма и весьма навеселе. Как раз чтобы громко смеяться и задавать неуместные в нормальном состоянии вопросы.
В какой-то момент, показавшийся Марии подходящим, она спросила Арчибальда, с трудом фокусируя на нём до невозможности наивные глаза:
— Всё-таки скажи, зачем мы тебе здесь потребовались? Забирал бы к себе «старших», они много знают, и вообще… А мы?
Робот давно велел обращаться к нему на «ты», и получалось это у подвыпивших девушек вполне естественно, как же ещё богатого и совсем не старого дядю называть?
— Мы не против, не думай, здесь у тебя классно! Мы готовы целыми днями смотреть и смотреть, что тут у тебя есть, но всё равно интересно — ты, можно сказать, властелин мира, и вдруг нами заинтересовался. Как король пастушкой…
Арчибальд довольно засмеялся — самая грубая лесть ему была приятна и принималась за чистую монету. Нарочитость и фальшь в словах собеседника он не способен был различать, если только не включалась специальная программа, заранее написанная Замком для определённой ситуации. Тогда Арчибальд мог показаться и умным, и тонким, и проницательным, точно так, как актёры, исполняющие, к примеру, в «Семнадцати мгновениях» роли весьма квалифицированных разведчиков и контрразведчиков мирового уровня. А за пределами съёмочной площадки они, весьма вероятно, не способны были разобраться в простейшем бытовом конфликте или спланировать собственное поведение на сутки вперёд.
Вот и Арчибальд, с блеском исполняя перед «хантерами», житейски и политически искушёнными людьми, роль Боулнойза, вынужден был часто исчезать из Лондона для «перезагрузки». Даже вся мощь Замка не могла на протяжении недель поддерживать иллюзию «самостоятельно мыслящей личности». Проще было бы создать настоящее живое существо на базе уже существующего, как Замок это проделал с образом Натальи Андреевны. Но такой «объект» немедленно вышел бы из-под контроля, управлять им было не под силу механизму любой степени сложности.
— Вы очень умные девочки, — сказал Арчибальд, умильно улыбаясь и кладя руку на коленку Инги. Без всякой «задней» мысли, просто как знак непринужденности в отношениях. — Задаёте правильные вопросы, а главное — догадались сами ко мне прийти, не спросив позволения у старших.
Он сделал жест, и слуги вновь наполнили бокалы ему и «валькириям». Мария подумала, что выпила уже не меньше литра, как бы хозяин не заподозрил чего… Впрочем, есть проверенный способ. Она, потупив глаза, осведомилась у Арчибальда, где «дамская комната», и они все трое направились туда, не совсем уверенно шагая, поддерживая друг друга, перешёптываясь, то тихонько хихикая, то в голос хохоча над какими-то, судя по их улыбочкам, непристойностями.
— Надеюсь, здесь он видеокамер не поставил, — сказала Маша, заходя в кабинку. — Минут пятнадцать заставим его подождать. Пусть считает, что мы освобождаемся, по-древнеримски, от угощений, чтобы с новыми силами продолжить банкет…
Подкрасились, покурили, избегая каких-либо неосторожных разговоров. Только восторженные, по тональности и содержанию не слишком трезвые и не вполне прилично выраженные впечатления от хозяина, устроенного им приёма и вообще Замка.
Вернулись с таким видом, что любому стало бы ясно, для чего они удалялись.
Арчибальд, как и положено воспитанному человеку, сделал вид, что ничего не заметил. Продолжил с того же места, на котором его прервали.
— …Очень правильно, что догадались обратиться ко мне. В той жизни вас не ждало ничего хорошего. Вы сейчас кто? Секретарши, охранницы и одновременно девушки для развлечений. Не надо смущаться, я знаю, как в вашем «сообществе» с этим обстоит. И выше никому из вас не подняться, разве что повезёт «удачно» выйти замуж. Так это всё равно разновидность рабства, только в чуть более пристойной оболочке. Как писал ваш знаменитый философ Энгельс: «Брак — это узаконенная проституция».
Девушки дружно возмущённо фыркнули, но видно было, что слова «дядюшки» затронули в них нужные струны. К своему несчастью, Арчибальд в этом теле не обладал способностью Замка сканировать человеческий мозг, извлекая из него и мысли, и ощущения. Приходилось прибегать к самым обычным методикам вербального внушения, потому что нервно-лингвистическое программирование он тоже не мог применить. Ему нужны были «чистые», свободные от насильственно внедрённых эмоций и идей мозги, «зомбированные» исполнители не годились ни на что.
— Не подумайте, что я хочу заставить вас плохо думать о ваших «старших товарищах». Они не враги ни вам, ни мне. У нас есть кое-какие взаимные претензии, но не «антагонистические», как называл их всё тот же Энгельс. Это, знаете ли, как бы «конфликт хорошего с ещё лучшим». Вот вам и предлагается то самое «ещё лучшее». А вы — это чистые листы, «на которых можно написать самые новые, самые красивые иероглифы»[129]. Вам понравился мой Замок? Каждая из вас получит в личное распоряжение ничуть не худший, в любом месте Земли по вашему усмотрению. Любые ваши желания будут удовлетворяться мгновенно… Даже самые сокровенные, — при этих словах Арчибальд улыбнулся несколько скабрёзно, в том смысле, что все тут взрослые, всё понимают правильно.
— Заманчиво, — мечтательно сказала Инга, подняв глаза к лепному, с позолотой потолку, где в овальных голубых плафонах летали полнотелые амурчики. Чистый Версаль.
— Конечно, заманчиво, — согласился Арчибальд. — «И будешь ты царицей мира…» — весьма профессионально пропел он. — А почему же вы только втроем пришли? — словно сейчас спохватился робот. — Завтра и Настю с Кристиной приводите, они, я думаю, тоже всё правильно поймут…
— Обязательно приведём. — Маша, освежившись, с новыми силами приложилась к кубку. Подруги её поддержали. Хозяин весь расцвёл, так ему нравилось, что девушки ведут себя непринуждённо и в глупые споры не вступают. Споров он не терпел, потому что помнил — связываясь с Шульгиным или Новиковым, он всегда проигрывал, точнее, попадал в логический тупик, из которого самостоятельно выбраться не мог.
— Нам одно непонятно, дядюшка, — как можно очаровательнее улыбнулась Марина и накрыла своей ладонью сильную, как у моряка или лесоруба, кисть Арчибальда. Обычный мужик после такого «знака внимания» сразу бы поплыл. — Непонятно, а хотелось бы знать, в чём же ошибаются наши старшие? Они нас тоже только хорошему учили, и жили мы под их руководством и попечением очень неплохо…
— Неплохо, — громко рассмеялся Арчибальд. — Вот это неплохо? — Он, словно в раздражении, потрепал край Марининой юбки, да так энергично, что стали видны и узенькие сиреневые трусики, и кобура пристёгнутого рядом с ними к бедру маленького пистолета. Но он того как бы не заметил, не о том шла речь: — Дешёвка такая. Полтора рубля аршин!
Неизвестно, ценовыми соотношениями какого времени он оперировал.
— А всё остальное, что на вас надето?! И вообще — что у вас есть? — Он протянул руку и прямо из пространства взял пачку глянцевых каталогов. — Под руководством и попечением они жили! — Слова Арчибальда сочились иронией и ядом. — В вашем возрасте, с вашими… — он как бы для наглядности, едва ли для собственного удовольствия провёл ладонью по бедру Марины от пистолета до колена, — с вашими данными вам царить и повелевать надо, а не… Вот здесь изображено, как такие, как вы, должны одеваться, какие драгоценности носить, на каких машинах ездить, каких мужчин до своего тела допускать… А не понравится, ещё лучше придумаем!
Марина, неизвестно чего больше смутившись, своего неглиже или обнаружившегося пистолета, одёрнула, насколько возможно, юбку. И она, и подруги из вежливости принялись небрежно пролистывать доставшиеся им журналы. Ну, что сказать? Очень эффектные дамочки демонстрируют бельё, шубки и бриллианты, но весь их эффект в основном за счёт причёсок, макияжа, платьев и драгоценностей. Раздень догола да умой — совсем другая картинка получится: и морщины, и ноги кривые и тонкие, и груди кошельком висят, практически у всех. Что они с ними для этого делают?
— Красота, — сказала Марина, уронив журнал на ковёр. — Так бы всё купила и сразу всё на себя надела… Завтра и займёмся, если ты, дядюшка, отведёшь нас в такой магазин. Настя с Кристиной обязательно прибегут, не удержатся, как только мы им расскажем. Но от нас ведь тоже что-то потребуется? Вот и скажи, намекни хотя бы. А то вдруг не оправдаем надежды? Есть, знаешь ли, вещи, что ни за какие деньги…
Понявший, что рыбки клюнули на приманку, Арчибальд принялся живописно излагать все неправильности в поведении «старших», начиная от войны аггров с форзейлями, где ему, то есть Замку, пришлось выполнять совсем не нравившиеся ему команды Антона. Перешёл к первому бегству людей из Замка на построенном им пароходе, как раз в тот момент, когда он попытался объяснить «команде» их истинное предназначение. И потом много «ошибок» и «опрометчивых шагов» совершали люди, которых он, Арчибальд, любил всей душой и желал им только добра.
Перечислил все затеянные ими на Земле войны, вмешательство в дела никак их не касающихся альтернативных цивилизаций, вооружённое вмешательство в попытку сохранить на Земле вековечный порядок, восстановление монархии, уничтожение верных Арчибальду людей в Москве и других местах той и другой реальности…
Распалившись, робот стал похож на Катона-старшего[130], призывающего к очередной Пунической войне, или Цицерона, клеймящего в сенате Катилину[131]. «Доколе же ты, Катилина, будешь злоупотреблять нашим терпением!» И так далее в том же духе.
Закончил он, впрочем, достаточно мирно:
— Все эти ошибки моих друзей и ваших наставников, разумеется, не могут нас поссорить и угасить мои самые к ним тёплые и добрые чувства. Мой долг просто их предостеречь, помочь сойти с неверного пути. Здесь и потребуется ваша помощь…
— Конечно же, дядюшка, мы поняли! Мы сделаем всё, что от нас требуется, — «нетрезвым» хором ответили «валькирии», якобы начавшие пьянеть по второму кругу не только от очередных порций вина, но и непредставимых ранее жизненных перспектив.
— Если только это действительно не причинит никому вреда, — звонко добавила Марина.
— Ни в коем случае, мои дорогие, — растроганно ответил Арчибальд. — Прямо сегодня вам нужно будет встретиться со старшими. Для первого этапа вас как раз достаточно. Ты, Марина, пойдёшь к своему жениху и наконец-то уступишь его желаниям…
На возмущённое восклицание девушки он ответил увещевающе, с мягкой улыбкой, как семейный доктор:
— Ты ведь хочешь выйти замуж за полковника? Вот сразу после этого и сыграем свадьбу. В ближайшие дни, когда назначишь. Роскошное белое платье, фата, венчание, если вы веруете, великолепные сюрпризы, подарки-сюрпризы от меня. Уверяю тебя, Михаил Басманов ни о чём так не мечтает, как о тебе…
И вдруг Марине показалось, что Арчибальд говорит правду, достаточно его послушаться, и счастье на всю жизнь обеспечено. А ничего больше ей не нужно.
— Ты, Инга, под любым предлогом обратишься к Удолину. Даже если придётся его разбудить. Я научу тебя нескольким эзотерическим идеям, непременно его заинтересующим. Тебе ведь известна его слабость? Ты сама навеселе, собственным примером легко будет убедить пожилого человека составить тебе компанию, выпить несколько глотков того напитка, что я приготовил. А Маше остаётся Сильвия. Это самая трудная задача, но мы справимся и с ней. Я тебя проинструктирую отдельно. Вот и всё, девочки. Уваров сейчас очень и очень занят своей невестой, Кристина интересно проводит время с Ибрагимом. Как видите, я предусмотрел каждую мелочь…
Мария видела, что подруги не играют, они явно попали под воздействие чар Арчибальда. Согласны прямо сейчас вскочить и бежать… Неужели он включил какую-то подавляющую волю и психику систему. Если это случится и с нею…
— А что, собственно, произойдёт после этого, дядя Арчибальд? — спросила она, демонстрируя не только покорность, но и желание исполнить свою миссию со знанием дела, наилучшим образом. — Как должны повести себя наши «объекты влияния», и какая реакция требуется от нас, чтобы это выглядело…
Маша несколькими глотками допила вино из своего кубка, попыталась сосредоточить взгляд на переносице Арчибальда, — выглядело у-бе-ди-тель-но…
— Это тебя, в общем, и не касается, — отмахнулся тот. Состояние Марии и остальных девушек его не интересовало. Видимо, считал, что свою функцию они смогут исполнить, даже едва держась на ногах. Или — именно в таком виде они и должны появиться перед «старшими».
— Лишние знания умелый ментаскопист сможет извлечь из вашей памяти в самый неподходящий момент, а это всё испортит. Мне только нужно, чтобы в определённый момент каждый из ваших собеседников был настолько отвлечён мыслями, появившимися у него в голове при разговоре с каждой, чтобы не успел среагировать на некое внешнее воздействие. Всего пять минут все должны быть настолько заняты другим, что моё к ним обращение не встретит даже инстинктивного противодействия…
Девушки дружно кивнули, и Мария с ними.
— Хорошо, мы так и сделаем, — она, отвернув голову от Арчибальда, подмигнула подругам, вдруг не до конца зачарованы, поймут…
— У Марины задание самое приятное, — она усмехнулась весьма двусмысленно, — зато у меня — самое лёгкое. Я и так собиралась обратиться к Сильвии, давно хотела кое-что выяснить.
Мария действовала как будто не сама, казалось, ею тоже руководит чужая воля, но не злая и коварная, как у Арчибальда, а совсем наоборот — добрая и справедливая.
Она, неизвестно почему, вдруг спросила — очевидно, эта мысль сидела у неё в голове с самого начала, — что это за фильм смотрел дядюшка, когда они вошли. Неужели ему до сих пор интересны человеческие фильмы? Такому великому, всезнающему и всемогущему.
Лесть опять попала в точку. Да и время, наверное, у Арчибальда ещё было.
— Ну, пойдёмте со мной…
Они вернулись в кабинет, робот нажал и подвигал что-то на пульте. Застывший кадр пришёл в движение. Девушки увидели узкие коридоры без окон, похожие на нижние этажи «Валгаллы», где им приходилось бывать, только не такие чистые, без деревянных полов и линкруста на стенах. Только голый металл и ряды крупных заклёпок вдоль и поперёк.
По этому коридору пробирались какие-то мужчины. Двое из них показались Марии вполне симпатичными, вообще — положительными персонажами. Они держали в руках длинные, музейного вида пистолеты, «маузеры», вспомнила девушка, приходилось видеть в фильмах из прошлых времён.
— И что это значит? — спросила она.
Арчибальд снова остановил картинку и начал рассказывать, явно упиваясь сюжетом, как драматург, зачитывающий новую пьесу благодарным слушателям.
Он говорил о том, что на Земле, и той, и другой, и третьей, накопилось столько противоречий, что неизбежна война, мировая, где Вторая, а где и Третья. Люди из «Братства» очень сильно возбудили мировой континуум, разрушили равновесие между силами, поддерживавшими установленный порядок, даже Замку чуть не нанесли непоправимый ущерб. Поэтому теперь только он, взявший на себя функции Верховного арбитра и Вселенского координатора, в силах восстановить «связь времён» и направить Хаос в созидательное русло!
Те, кто оказался в Замке, уже нейтрализованы, деликатно, но решительно. Остальные пребывают в мирах, настолько не связанных с этим, что смогут вернуться в заблокированные Замком реальности, лишь когда он сочтёт это желательным и допустимым…
Он сейчас производил впечатление провинциального актёра, экзальтированно произносящего финальный монолог довольно бездарной пьесы.
— А эти, — указал он на людей в корабельных коридорах, — едва-едва не разрушили мой замысел, но я вовремя успел… Они надеются, что сейчас захватят склад с оружием и разрушат мой замысел. Ха-ха-ха!
Сейчас Арчибальд вдруг очень стал похож на Фантомаса из старого французского фильм, но предыдущий образ это не разрушило — Фантомас тоже ведь был ничтожеством, возомнившим о своём всемогуществе, то есть — шизофреником.
— Оставшиеся в тех реальностях двое мужчин (или на самом деле есть только один — я никак не могу разобраться), — Маша поняла, что он имеет в виду Фёста и Секонда, — считающиеся вашими друзьями, и девушки одной с вами породы — с ними ничего не случится. Я не могу допустить, чтобы вокруг меня и по моей вине гибли люди. Несмотря на то что они делают всё, чтобы навредить мне, а, значит, и себе. Как только вы сделаете то, о чём мы договорились, они просто будут нейтрализованы, я заберу их сюда, к вам, и все получат возможность наблюдать за происходящим, как и вы, из «ложи бенуара». Но воображать себя «спасителями человечества» я не позволю никому! «Спаситель» уже есть, и это, безусловно, я!
Он опять что-то переключил, изображение на экране сменилось, девушки увидели типичный подмосковный пейзаж, вроде того, что окружал дачу, которую они атаковали под руководством Фёста. И здесь опять шёл бой. Мелькнул сам Фёст, бросающий ручные гранаты под колёса пятнистого бронетранспортёра. Людмила Вяземская с автоматом, прилёгшая за холмиком и готовая куда-то стрелять. Вот на какое спокойное, «интимное», как острили остальные «валькирии», задание выдернул её жених! Мчавшаяся по лесной дороге машина, в ней четверо незнакомых мужчин и их Герта, с закушенной губой ведущая незнакомой марки большой вездеход с кузовом дорогого лимузина по узкой, с неожиданными поворотами лесной дороге.
Впрочем, эти картинки сразу исчезли, Арчибальд наверняка спохватился, что показал не то, что нужно. Снова мужчины в синих рабочих робах, с пистолетами в руках, пробирались по стальным коридорам.
Мария, не глядя на подруг (видели они то же, что и она, или совсем им «застило» глаза?), достала из кармана портсигар, щёлкнула крышкой. Арчибальд обернулся.
Война, значит? Так в этой войне «их сторона» давно известна, и присягу никто не отменял.
— Остаётся единственный шанс, — сбившись с тона и как бы сразу утратив запал, неуверенным голосом, словно начал догадываться, что он крупно, едва ли не фатально ошибся, только не успевал сообразить пока, в чём именно, почти промямлил, обращаясь только к ней, Арчибальд. Это так разительно контрастировало с его сиюминутным агрессивно-лихорадочным энтузиазмом. — Я сейчас остановлю и там, и там время. До тех пор, пока вы не сделаете то, что я вам предлагаю. Сразу же все поймут — в чём настоящая правда, и вопрос разрешится сам собой, за несколько минут, без лишних трудностей и даже тени насилия. Только для этого я собрал всех вас здесь… Каков перед вами выбор! — робот сделал попытку изобразить нечто вроде восхищённого удивления (или — наоборот!). — Несколько лично вас ни к чему не обязывающих слов, и — немедленное всеобщее благоденствие. Альтернатива — мировая война…
— Конечно, дядюшка, разве ты можешь сомневаться в нашем выборе? — Мария с улыбкой, давшейся ей очень нелегко, — кажется, в комнате вдруг начала нарастать гравитация, взяла сигарету, уже ставшую тяжёлой, как снаряжённый автоматный магазин. Если б не их модифицированные мышцы — не удержала бы в пальцах. Глазами, что ли, выдала она себя? Да, скорее всего. У подруг они которую уже минуту рассеянно-пустые, а у неё? Страшно боясь не успеть, просто промахнуться, нажала мизинцем три кнопки.
Ничего не щёлкнуло и не блеснуло, просто Арчибальд остановился в своём движении в направлении Марии, замер, обратившись в подобие статуи Командора, только вернувшейся в своё исходное состояние. И сразу исчезла тяжесть. Да и была ли она? Может быть, просто психическая иллюзия?
— Вот и всё, — сказала Маша начавшим приходить в чувство подругам. — Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Теперь можно и Сильвию вызывать, зададим ей наши вопросики, а «дядюшка», так и быть, перебьётся.
Глава тридцать вторая
Машина с Президентом, его друзьями, Воловичем и Гертой за рулём мигом проскочила несколько километров узкой и извилистой, будто специально имеющей вид непроезжей лесной дороги. «Валькирия» вела «Лексус», не жалея краски на бортах, обдираемых ветками вплотную подступавших к обочине деревьев. С такой скоростью не всякий раллист на «Кэмел трофи» ездит, причём те — со штурманом на соседнем сиденье. А у подпоручика Витгефт рядом находился Президент этой страны и в управление машиной не вмешивался.
Мужчины только охали моментами, у несдержанного Воловича при особо эффектных прыжках джипа с губ срывались первые звуки удивлённо-матерных слов, но он тут же гасил порыв, вспоминая, КТО сидит в машине. Герты бы он не стал стесняться.
— Стоп, приехали, — сказал Президент, когда впереди открылась поляна с бревенчатой двухэтажной избой, самого обычного вида для богатых подмосковных сёл начала двадцатого века. Поляна гектара в два, приусадебный участок, отгороженный забором из слег, — соток восемь. Вокруг дома никого, да и в доме, кажется, тоже.
Герта распахнула дверцу со своей стороны, крикнула: «Всем оставаться на местах!» — с автоматом наперевес метнулась к дому стремительными, скользяще-текучими движениями, каких никто из мужчин раньше не видел, даже генерал госбезопасности, имевший возможность неоднократно бывать на учениях всевозможных спецназов, да и сам в молодости послуживший.
— Словно кобра какая-то, хоть и на двух ногах, — сказал, дёрнув головой, Журналист и на всякий случай снял с предохранителя полученный совсем недавно из рук Фёста «АКМС». У Мятлева такой же с самого начала был на боевом взводе. Но больше всех поразил спутников Президент. С хитроватой, несколько мальчишеской усмешкой он извлёк из подмышечной кобуры настоящий «парабеллум», причём первых моделей, со светлыми, мелко насеченными буковыми щёчками изящно изогнутой рукоятки.
— Ого! — не удержался от удивления Мятлев. Сколько лет знакомы, а видеть этот пистолет не приходилось и даже слышать хоть намёком. — Откуда сей антиквариат?
— Отец с фронта привёз, всю жизнь прятал, только незадолго до смерти показал… — Президент умело вздёрнул коленчатые рычаги затвора и вернул в прежнее положение, дослав в ствол патрон. Один Волович был совсем без оружия, о чём и сказал с обидой.
— Подожди… — оборвал его Мятлев.
Вернулась Герта, вихрем облетев оба этажа избы, заглянув в амбары и погреб.
— Никого. И не заперто…
— Здесь запирать не от кого. Кроме егеря и охраны никого в ближних окрестностях не бывает, — ответил генерал.
— Тогда можно выходить, располагаться. — «Валькирия» забросила ремень автомата за плечо, всем видом показывая, что военная власть на прилегающей территории принадлежит именно ей, а с гражданской можете сами разбираться.
— Хорошо здесь у вас, — сказал, выбираясь из машины на травку, Волович. Он вдруг и вправду ощутил себя настоящим корреспондентом на войне, вроде уже упоминавшихся Симонова или Хемингуэя — именно такого ранга фигурой, что позволяло держать себя независимо с каким угодно начальством любого ранга. Двадцативосьмилетнему Константину сам Жуков грубить остерегался, зная об отношении к журналисту, поэту и драматургу Хозяина. А он, Михаил Волович, чем хуже? Не драматург, так прозаик не из последних, неоднократно премированный, пусть и не Сталинскими премиями, на Западе авторитет имеет. Отошёл от машины, сделал несколько снимков и общего плана, и групповой, с Президентом в центре.
Мятлев было дёрнулся, чтобы немедленно пресечь, и тут же раздумал. Пусть снимает. Отнять камеру всегда можно, а снимки-то сами по себе бесценные выйдут!
— На самом деле, пойдёмте, — сказал Президент, — не пенье птичек слушать приехали. Связь с Москвой установить сможешь? — спросил на ходу Мятлева.
— Только по одной линии. Здесь проводная защищённая, но, сам понимаешь, кто там теперь на том конце сидит? Сотовые… Не советовал бы.
Не только он, но и все остальные, кроме Герты, вспомнили, как к Дудаеву на звонок ракета прилетела.
Подпоручик Витгефт держалась строго в соответствии со своим чином и исполняемой должностью. С Мятлевым будто едва-едва знакома, остальные вообще никто, просто объекты, порученные командиром её наблюдению и охране. Даже не из того мира, которому она служит, не говоря о прочем!
Скользнула взглядом по генералу, обратилась прямо к Президенту. Всё же — Верховный Главнокомандующий, пусть и чужой армии.
— Разрешите доложить. Я могу связь обеспечить. Любую.
— То есть как? — не понял Президент.
— Неужели я неясно выразилась? Прошу прощения. Любую — значит, я могу подключиться к какому угодно принимающему устройству на Земле, номера, позывные, коды доступа к которым вам известны… Радиостанция, телефон, телевизор, компьютер.
— Ах, да, конечно, — словно бы вспомнил Президент. — Тогда давайте прямо сейчас попробуем. Идите за мной. И ты тоже, — поманил он рукой Мятлева.
Герта с сомнением посмотрела на Журналиста и Воловича. Как таким внешнюю охрану объекта доверить? Но выбирать не из чего.
— А вы что стоите? Машину отгоните за тот сарай, под навес, чтобы в глаза не бросалась, ни с земли, ни с воздуха. Сами… Вы с автоматом в тамбур — непрерывно, не отвлекаясь, наблюдайте за передней полусферой, — приказала девушка Журналисту. — Вы… — Волович вообще никакого доверия у неё не вызывал. Но ничего, если жить хочет — тоже на что-то сгодится. — У вас и оружия нет? — вспомнила она.
Репортёр развёл руками и сделал комическую мину.
— Возьмите. — Герта вынула из кобуры и с шести шагов бросила ему «стечкин». — Пользоваться умеете?
Волович поймал пистолет за рукоятку, презрительно пхекнул, выключил предохранитель, оттянул затвор, проверяя, заряжен ли пистолет.
— Вторую обойму дайте, — протянул к девушке свободную руку.
«Ты и этой половину расстрелять не успеешь, если что», — подумала она, но запасной магазин ему отдала.
— Будете наблюдать из окошка сеней за лесом позади дома. Наблюдать скрытно, голову не высовывать. — Это уже обоим. — Обнаружите незнакомых, тем более — вооружённых людей, сообщите мне свистом. Можно тихим, я услышу. Стрелять только в крайнем случае, если появится вооружённый противник с отчётливо-агрессивными намерениями. Из-за укрытия не высовываться, в разговоры не вступать, хоть с соседом по койке, если он не в одном с вами боевом расчёте. Брёвна в стенах толстые, пуля не пробьёт. Я услышу, подойду — разберусь, что дальше делать…
Негромкий, но жёсткий командный голос девушки, её безапелляционный тон, а более всего — взгляд, холодный и бескомпромиссный, произвели впечатление на всех, но особенно на Мятлева. Неужели совсем недавно он хватал её руками, пытался поймать губами розовый сосок обнажённой груди? С такой бы ему подобное и в голову не пришло. Да и дальше, если в живых останутся — как с ней обращаться, хоть он целый генерал, а она — только подпоручик…
Вовремя успели спрятаться — внезапно всё-таки хлынул весь день собиравшийся дождь, закрыв от взоров даже не очень далёкий край поляны и выезд на неё с дороги.
Дождь как природное явление Герту не заинтересовал, но как дополнительный фактор на ТВД — весьма.
— Внимательнее наблюдайте, — бросила она часовым. — Если ещё туман упадёт — самая погода посты по-тихому снимать…
…Секонд, Людмила и четверо морпехов во главе с «Леоновым» заняли самые выгодные позиции по периметру дачи — среди сосен и вечнозелёных кустарников, напротив углов высокого забора, чтобы с каждой огневой точки простреливать подходы к двум стенам сразу. Предусмотрена была и возможность свободного маневра вдоль фронта и в глубину.
Ещё один прапорщик засел со «Взломщиком» на чердаке. Оттуда он, в случае чего, мог остановить бронебойно-зажигательной пулей калибра 12,7 мм любую бронетехнику, кроме танка. Трассирующая позволяла на полуторакилометровой дистанции поразить какую угодно, лишь бы зрительно различимую цель — вражеского командира, снайпера, гранатомётчика или корректировщика артиллерийского огня. Ещё четверо бойцов составляли подвижный резерв, замаскировавшись на запасном рубеже обороны — полукилометром позади колючего «предзонника» дачи, между дорогой, по которой уехал Президент, и специально проложенной пешеходной тропинкой для прогулок, аналогом кисловодского терренкура, причудливо петляющей по живописным окрестностям.
Никто не сомневался в том, что основную атаку на дачу произведёт специально выделенное подразделение куда более квалифицированных бойцов, чем те, которые сгорели в своих машинах или ждали того или иного исхода под прицелом «Аякса». И будут сидеть, пока не придёт время выходить с поднятыми руками, как немцам из сталинградских подвалов.
Фёст приказал майору Нежданову указать подходящий подвал, куда можно запереть пленного генерала. Отвечать на вопросы тот категорически отказался, явно надеясь на скорый приход «своих». Для начальника охраны генерал являлся прямым и безусловным начальством, и замысел заговорщиков, не вмешайся Ляховы, безусловно удался бы. Ворота перед кортежем майор открыл бы беспрепятственно, сам провёл генерала к президентскому кабинету и дверь предупредительно перед ним распахнул. Сейчас обстановка поменялась, Президент своей верховной властью переподчинил чекиста полковнику неизвестно какой службы Ляхову Вадиму Петровичу. И сила, и власть были сейчас очевидно на этой стороне, независимо от того, что происходит за пределами вверенного попечению майора периметра. Он, не поморщившись, расстрелял бы бывшего генерал-лейтенанта, поступи такая команда. Суровые законы аппаратных игр, перешедших в вооружённое противостояние.
Фёсту с Секондом «настоящим» допросом пленного заниматься не было ни времени, ни настроения. Можно было поручить Людмиле — она бы справилась, но… Какой в этом смысл? Сначала отбиться надо, а потом пусть Президент с Мятлевым ликвидируют их же собственным попустительством сплетённую сеть.
Роботов в человеческие дела вмешивать тем более не хотелось. Ограничились тем, что генерала посадили в тесную бетонную каморку, где хранился всякий электротехнический инвентарь. Майор выдал три пары наручников, входивших в экипировку охраны, бывшего (в любом случае) генерала пристегнули за обе руки и за ногу к проходящему от пола до потолка кабелю высокого напряжения за неимением труб отопления.
— Ты бы сказал всё-таки, — миролюбиво предложил Фёст, пряча ключи в карман, — много ещё твоих «преторианцев» к нам нагрянуть может? Просто интересно — успеем всех перебить к ужину или на вторую смену оставаться придётся?
Генерал злобно выругался в ответ.
— Дело хозяйское, — пожал плечами Фёст, — дергаться будешь — изоляцию с кабеля можешь содрать, тогда поджаришься до хрустящей корочки. А чтобы на помощь со стороны не надеялся — вот гарантия…
Он положил посередине подвала две гранаты «Ф-1», к ним изолентой была примотана коробочка размером с мобильный телефон. Вверх торчала двадцатисантиметровая антенна, на торце с длинными интервалами мигала красная лампочка.
— Схема понятна? Образования, по-моему, должно хватить. В случае неблагоприятного для нас развития событий я, или специально на то поставленный человек, нажму кнопочку. Ну, а если всех убьют, через три часа таймер сработает. Об эффективности этих древних, но надёжных штучек, особенно — в закрытом помещении, распространяться не буду. Так что советую непрерывно молиться за успех именно нашего оружия, и чтобы я в суматохе не забыл взрыватель отключить. Ты бы лучше сказал — за три часа управимся?
Генерал снова выругался.
— Уважаю, — бросил на середину камеры до половины докуренную сигарету Фёст, — нет, не тебя, того, кто такого дуболома сумел отыскать и к делу пристроить. — Вздохнул, уже выходя: — Смертная казнь в России, к сожалению, так и не восстановлена, значит, даже военно-полевой суд больше пожизненного не даст. Мы на данный случай, к сожалению, не в Америке. Там бы тебе припаяли электрический стул плюс три пожизненных и штраф десять миллионов баксов.
Себе Фёст выбрал достаточно опасный НП — на двадцатиметровой высоте, в развилке ветвей отдельно стоящего трёхсотлетнего дуба. Отсюда он мог координировать действия своего небольшого гарнизона, оставался абсолютно невидимым. И стрелять, в случае необходимости, по особо важным целям. Но и уйти с него, будучи обнаруженным, уже не смог бы. Надеяться можно было лишь на то, что у противника просто не окажется времени, чтобы, даже обнаружив наблюдательный пункт, снять «кукушку» с её гнезда. Финским снайперам в «зимнюю войну» тридцать девятого года приходилось хуже — их уничтожали сосредоточенным огнём с земли почти в ста процентах случаев.
Вяземская с автоматом, шестью запасными магазинами и четырьмя ручными гранатами залегла в ложбинке между двумя невысокими, по плечо человеку, холмиками. На вершине одного торчал выветренный временем остроконечный камень, похожий на обломок скифского надмогильника, на втором рос пышный куст боярышника, усыпанный плодами и непроницаемый для глаза, даже вооружённого сильной оптикой.
Фёст её видел и переговаривался с девушкой через блок-универсал, в очередной раз радуясь их с Секондом сообразительности. Не обзаведись они вовремя аггрианскими комплектами, дела обстояли бы гораздо хуже. Мало, что они с Гертой, Людмилой и Секондом имели постоянную связь и успешно координировали свои действия, так могли в критический момент использовать портсигары как оружие массового поражения, наплевав на собственные рыцарские принципы и инопланетные законы. Но это действительно в самом крайнем случае. Уничтожать даже очень нехороших людей всякими пакостями (вроде газа «Циклон Б» или молекулярных деструкторов) врачу и честному солдату Ляхову претило до отвращения. Не зря его до сих пор возмущала манера американцев и англичан бомбить с десятикилометровой высоты древние исторические города Германии (а за последующие шестьдесят лет и многие другие), населённые по преимуществу женщинами и детьми. Все мужчины с шестнадцати до шестидесяти пяти лет уже были призваны в армию и фольксштурм. С точки зрения протестантского прагматизма (не подходящего, на взгляд Ляхова, в качестве религии для приличного человека), оно, может, и правильно, но русские солдаты уже «после всего», в сорок четвёртом и сорок пятом годах, относились к немецким солдатам с большим уважением, чем к чересчур «застенчивым» на поле реального боя союзникам.
— Ты смотри там, — говорил Фёст подруге, — не высовывайся до последнего. Позиция у тебя хорошая, но одноразовая. Если на тебя специальное внимание обратят, долго не продержишься. Лучше при близком попадании убитой прикинься…
— Учить меня будешь, — с гонором ответила Людмила, — я в сто раз больше тебя такие упражнения отрабатывала. Лучше о себе подумай, как обратно слезать будешь…
О том, что в настоящем бою она пока не бывала, а вот Вадим и подружки успели, Вяземская предпочла умолчать.
— Смотрите, товарищ полковник, — шепнул в этот же момент «Леонов» Секонду. Они с пулемётом тоже пристроились удачно в наскоро расширенной и замаскированной ветками прошлогодней медвежьей берлоге под корнями доживавшей свой век древней ели. Секторы обстрела отсюда были великолепные, и укрытие надёжное — только прямым попаданием из пушки стрелков подавить можно. — Вот и пришли по нашу душу.
Андроид с многолетними навыками фронтового разведчика заметил в подлеске едва уловимое колебание ветвей раньше, чем человек, последнее время занимавшийся в основном кабинетной работой.
— Что ж это за публика пожаловала? — риторически удивился Вадим, очень медленно разворачивая ствол пулемёта в нужном направлении.
Три, а, может быть, и больше фигуры в камуфляжах незнакомого ни Секонду, ни роботу рисунка бесшумно возникли не далее чем в двадцати метрах от позиции. Подползли тихо и лежали тихо, вглядываясь и вслушиваясь в обстановку.
Секонд не знал, что пленный генерал успел сообщить этой группе с позывными «Зубр» своё собственное положение и передать команду на самостоятельные действия по цели. Теперь без всякой дипломатии, с единственным приказом: «Президента взять живым, любые другие ограничения снимаются». Но он видел и понимал, что имеет дело с классными специалистами, от которых не стоит ждать опрометчивых действий. Эти не будут спешить, постараются предварительно вскрыть систему обороны объекта (если она есть) и только потом пойдут на штурм. С боем или без шума — как получится.
Секонд остерегался выходить сейчас на связь с Фёстом, слишком близко враг, может услышать даже самый тихий шёпот.
«Леонов» расстегнул кобуру «АПС», извлёк из ножен длинную и даже на вид очень острую финку с покрашенным в зелёный цвет клинком. Показал жестом, чтобы напарник смотрел по другим азимутам, а туда, где обнаружились чужие разведчики, уже не обязательно.
Скользнул в щель между двумя толстыми, в руку, корнями и тут же растворился в невысокой, едва по колено, траве. Ни один стебелёк, показалось Секонду, не шелохнулся, что, в принципе, было невозможно.
Те, с кем решил познакомиться поближе андроид, явно были группой командирской рекогносцировки. Очень может быть, что, понаблюдав немного и убедившись, что штатная охрана разместилась внутри ограды, а никого из тех, кто связал боем колонну генерала, здесь нет, кто-нибудь демонстративно нарушит маскировку и направится к воротам для предъявления очередного ультиматума. Всерьез, или чтобы отвлечь внимание от штурмовой группы (или групп), заходящих с тыла.
«Как они не понимают, — думал Секонд с позиции своего времени и своего жизненного опыта, — что их дело провалилось с момента, когда прозвучал первый выстрел? Если здесь, кроме полуштатской охраны, обнаружились и действуют свойственными им методами армейские подразделения, хоть рота, значит, найдутся верные Президенту и батальон, и полк. Генерал со своими подручными так долго провозился на ближних подступах, что уже через полчаса-час могут прямо с воздуха начать десантироваться бойцы Псковской дивизии или морской пехоты Северного флота. Этих ребят под огнём не сагитируешь, значит, игра пойдёт совсем по другому сценарию — армия против мятежа столичных чиновников и жандармско-полицейской „элиты“…»
О способах организации всякого рода бунтов и мятежей полковник Ляхов, генштабист, «пересветовец», участник подавления польских и московских «событий», знал достаточно. Как и то, что «верхушечный переворот» и полноценная Гражданская война — совершенно разные вещи, со своими собственными законами. Что далеко ходить — Фёст знакомил его с документами здешних «чеченских войн», и первой, и второй. И заговорщики должны о них помнить не хуже. Если в дело вступает армия — результат предрешён независимо от всякого рода политических факторов.
Здесь боевики, сколько бы их ни пряталось по лесу, реально могут сделать только одно: если у них есть десяток «Шмелей» или ротных миномётов — уничтожить дачу вместе с Президентом, к чёртовой матери, просто со зла и отчаяния, а потом разбегаться и прятаться или вернуться в Москву, чтобы «геройски погибнуть на баррикадах», под огнём танковых пушек.
Но Секонд не предполагал, что цель заговорщиков именно такова. Ликвидировать главу государства можно было проще и без шума. А сейчас кто-то лихорадочно думает — решиться на последний отчаянный бросок или по-тихому сматывать удочки?
…Герта, подчиняясь указаниям Президента и Мятлева, соединила их уже с шестью или семью абонентами. После каждого разговора Президент всё больше мрачнел. Ни одного из тех, с кем он хотел бы поговорить, на месте не оказывалось. И невозможно было угадать — арестованы те люди, на которых Президент рассчитывал, перешли на сторону заговорщиков или ушли в подполье, спасая собственные шкуры или готовясь к «партизанской борьбе». Только вторые-третьи лица, то растерянные, то успевшие набраться наглости со слегка истерическим оттенком, отвечали примерно одно и то же: «Шеф буквально только что выехал в Кремль, в Дом Правительства, в Думу (в любое место, максимально удалённое от того, где должен был находиться сейчас), по мобильному телефону „временно недоступен“».
И это было единственной правдой, которую говорили Президенту — все сотовые операторы в Москве прекратили обслуживание клиентов. Ситуация для нынешнего времени сложилась почти апокалиптическая — прервалась мобильная связь. Лет пятнадцать, даже десять назад в этом не было бы ничего экстраординарного, а теперь миллионы людей впали в панику — будто бы жители Нью-Йорка, когда там отключилось электричество. Правда, проводная связь работала пока исправно, но подавляющее большинство населения просто разучилось ею пользоваться.
— Хреново дело, — сказал Мятлев после того, как его личный друг, начальник областного ОМОНа, ответил, что он бы и рад немедленно послать на помощь все наличные силы, и сам возглавить экспедицию, но сидит вместе со штабом фактически под арестом, здание оцеплено, и коридорах бродят чужие автоматчики с изображением зубров на нарукавных эмблемах. Вот ничего не остаётся, как материться да с горя «водку пьянствовать».
— Ты чё, напьянствовался уже? — прибавив к этим словам ещё десяток непечатных, возмутился генерал. — Какой, на хер, арест, если ты со мной говоришь и никто тебе не мешает?
— Так они прошли по кабинетам, оружие отобрали и телефонные провода порезали… Снаружи блокируют, и всё. Наверное, обострять не хотят…
— Ты, бля, точно до белой горячки допился! Я с тобой что, через унитаз разговариваю?
— Слушай, Лёня, а правда. Вот же провод срезанный висит, а я тебя слышу…
Мятлев махнул Герте рукой, чтобы отключилась.
— И как же это получается?
— А я вам разве говорила, что мне провода нужны? Лишь бы аппарат был, и номер известен…
— Полный дурдом, — безразличным голосом сказал Президент и невольно процитировал Николая Второго, уж больно обстановка соответствовала: «Всюду предательство, подлость и обман!»
— Никак нет, — бодро возразила Витгефт, — всё идёт очень даже нормально. Враг полностью раскрылся, все свои резервы в дело ввёл, а про наши как не знал ничего, так и не знает… Если как следует заняться, к утру полный порядок навести можно.
Президент пожал плечами и снова потянулся к пачке сигарет. Последний час, забыв об имидже, он курил почти непрерывно.
— Слушай, может, действительно приказать командующим Северным и Балтийским флотами направить к нам самолётами все наличные силы? — предложил Мятлев, от возбуждения бегающий по кабинету то кругами, то по диагоналям. — И устроим зачистку, как в старые добрые времена. Тысяча девятьсот пятый год, Семёновский полк…
— Ты бы сел, — устало сказал Президент, — голова от твоих зигзагов кругом идёт.
Снизу сначала раздался пронзительный свист Журналиста, сразу за ним несколько коротких очередей из его автомата и частый перестук выстрелов снаружи. Пока не очень близких, метров с пятидесяти.
— Всем лечь! — крикнула Герта Президенту и Мятлеву, сама метнулась к окну, присела сбоку, осторожно, буквально одним глазом выглянула поверх края подоконника. На пулю снайпера ей нарываться не хотелось. Если в лоб — и гомеостат не поможет, никто ей не даст спокойных суток на регенерацию.
По поляне от леса змейкой, непрерывно меняя направление, то приседая, то несинхронно, в противофазе, отпрыгивая вправо и влево, бежали четыре человека в меняющих рисунок и цвет камуфляжах. Чем-то они напоминали ораву выбегающих на арену полупьяных клоунов. Короткими очередями стреляли на бегу, не очень стараясь попасть, просто «на подавление».
«Вокруг бедного Анатолия сейчас щепки и осколки стекла летают, кисло ему, — подумала „валькирия“. — И прицелиться некогда, да и бесполезно… Не с его способностями».
Девушка оглянулась. Президент и Мятлев послушно растянулись на полу. Хоть тут выпендриваться, самостоятельность изображать не стали.
Герта не знала, как называется тактика поведения под огнём неизвестных спецназовцев, но что она эффективна самой своей нестандартностью — очевидно. Удастся кого-нибудь в плен взять — узнает. А ведь возьмёт, очень они её заинтриговали, в «печенегах» так не умеют. Да и многое другое знать должны, вот и поделятся…
Все эти фокусы с ужимками и прыжками в расчёте на обычных строевых солдат должны действовать ошеломляюще — никто не станет спорить, а вот для «валькирии» слишком всё предсказуемо и примитивно, особенно с учётом её впятеро быстрейшей реакции. Она перешла в режим ускоренного восприятия, и эти парни с нерусскими автоматами в руках сразу словно оказались в куда более густой и плотной среде, чем воздух.
Герта выпрямилась, выбила окно стволом и вскинула к плечу свой «АКМ». Могла бы и от пояса, одной очередью всех положить, но сейчас не это нужно. Четыре одиночных выстрела, прозвучавших едва ли не быстрее, чем автоматическая очередь, и все лежат, не добежав до крыльца двадцати шагов. Да не лежат, а корчатся, ещё не совсем понимая, что отвоевались. Один, похоже, тянется к карману за аптечкой, думает, что укол промедола его на ноги поставит. Едва ли, даже после госпиталя. Кому в коленный сустав утяжелённая пуля попала, кому в тазобедренный. «Огнестрельное, первично-инфицированное разрушение костной ткани с одновременным поражением связок, нервов и сосудов», — сказал бы любой из Ляховых, взглянув на результат «зачётной серии» Герты. «Травматический шок, естественно, эректильная пока что фаза[132]».
Заметив едва видное шевеление кустов на краю поляны, у самой земли, девушка послала туда три очереди по четыре-пять патронов, в качестве предостережения. Скорее всего, убила и того (или тех), кто неосторожно демаскировался.
Вернулась в нормальный ритм, сменила магазин в автомате. Приказала Мятлеву:
— Леонид, к другому окну! Наблюдай из-за шторы! Здесь вряд ли кто теперь пойдёт.
Генерал послушно переполз к межоконному простенку, за ним дёрнулся было и Президент.
— А вы сидите, где сидели, ваше превосходительство. С этим антиквариатом нечего тут…
Президент не казался ей стрелком такого класса, чтобы из музейного (на её взгляд) «ноль восьмого» навскидку попадать в активно противодействующую цель.
Сама кинулась к окну на противоположной стене, выходившему на почти вплотную подступавший к избушке лес. Не успела она, надо было на опушке пару растяжек поставить, а ведь и гранаты имелись, и особая, абсолютно прозрачная и не бликующая леска.
Герта поняла это, когда внизу часто захлопал «стечкин» Воловича. Судя по темпу огня, репортёр не паниковал, хотя бы пытался куда-то целиться. Пока двумя прыжками преодолела крутую лестницу, услышала вскрик и одновременно взрыв. Да, именно в этом порядке. Вскрик — раньше.
Увидела, как рассыпается на обломки дощатая дверь. В совсем недавно полутёмных сенях стало совсем светло, в косом солнечном луче клубился тротиловый дым и пролетело спиной вперёд, глухо обрушилось на пол у противоположной стены семипудовое тело Воловича. Герта, спиной прижимаясь к едва ошкуренным брёвнам, скользнула к двери, выглянула, не показываясь наружу.
Ничего себе — репортёр называется! В десяти шагах от крыльца лежал навзничь, раскинув руки, человек в том же камуфляже, что четверо на поляне. На груди отчётливо видны были четыре дырки от пуль, слегка окантованные по краям выступившей кровью.
Лихо, можно сказать! Чужой диверсант, конечно, собирался проникнуть в дом без шума, да Волович как-то его спугнул. Вот тот на бегу и замахнулся гранатой. Репортёр, отдать ему должное, не растерялся (профессиональное, наверное, — лови момент, лови редкий кадр), как в тире, вогнал в него четыре пули, только броска остановить уже не смог.
Герта сдёрнула с пояса свою «Ф-1», швырнула её в лес, просто на всякий случай, едва ли там остался ещё кто-нибудь. Похоже, их и было всего пятеро, случайно наткнувшихся на избушку или шедших к ней специально. Пять классных рейнджеров, или как их ещё назвать? Разве что матерно! Будь с Гертой все четыре подружки, они бы Большой Кремлёвский дворец без потерь захватили!
Девушка, подождав, пока громыхнёт в зарослях разрыв, простучат по стенам осколки, нагнулась наконец к Воловичу. Он лежал на полу лицом вниз и судорожно вздыхал, постанывая. В вытянутой к дверному проёму руке — пистолет.
Живой, ничего с ним не сделалось, даже сознание от контузии не потерял. Оглушён слегка, и только. Но ранение вот… Не из самых почётных, с обывательской точки зрения. Как это так получилось, что граната взорвалась перед дверью, а Воловичу осколком располосовало спину и пресловутый «мускулюс глютеус»?
Глубоко распороло, хорошо, сосудов там немного, кровит вполне умеренно. Но шить хирургам придётся много. Гомеостат сейчас не поможет — из шока раненого выводить не нужно, а на полное заживление потребуется не меньше суток.
У Герты в аптечке (не для себя носила — для подобных случаев) имелся, кроме шприц-тюбиков с анальгетиками/антидепрессантами, кровоостанавливающий гель, в достаточном, чтобы залить двадцатисантиметровую рану, количестве.
Она позвала из переднего тамбура Журналиста.
— Стяните с него штаны, Анатолий. Надеюсь, в обморок падать не будете?
— Да чего уж, — тот посмотрел на рану и присвистнул. — Случай, как говорится, ненадёжен, но щедр…
Вдалеке, в районе «главного объекта», разом застучали десятки автоматов и несколько гораздо более убедительно звучащих пулемётов.
— Ну, всё, с меня хватит! — сказала Герта, выпрямляясь. — Зовите сюда своих приятелей, — приказала она Журналисту. Командовать гораздо старшими по возрасту и куда выше стоящими по положению людьми получалось у неё весьма естественно. — Плевала я на инструкции. Будем сматываться. Некогда мне с вами возиться, когда там…
Она махнула рукой в сторону звуков боя.
Собираясь подняться по лестнице, Анатолий задержался на секунду. Сказал с сарказмом, обращаясь к окончательно пришедшему в себя Воловичу:
— Так я не договорил. Повезти тебе повезло, но — сомнительно! Вот если б ты геройски пал, защищая до последнего патрона ненавистный и кровавый режим! Это была бы тема! Правда, на Западе твою кончину всё равно бы на нас свалили. А так — ни то ни сё. Даже девушкам не покажешь, и рейтузы в баню и на пляж надевать придётся. Впрочем, шрам можно будет татуировкой закрыть, вроде как у короля Швеции Карла Четырнадцатого[133]: «Смерть тиранам!»
И захохотал. У Журналиста не было никаких оснований относиться к репортёру сочувственно или просто снисходительно. Слишком Волович много крови ему попортил в последние годы.
Репортёра, похоже, эти слова взбодрили. Полулёжа он сверкнул в сторону остряка своими выразительными выпуклыми глазами, но ничего не сказал. Просто запомнил до подходящего случая.
…Юрий, Николай и братья Кузнецовы во главе кое-как собранного отряда добровольцев, сориентировавшись и определив, как ближе всего пройти к оружейной комнате, приостановились у ведущего в нужную палубу трапа.
На кораблях Его Величества, ещё со времён адмирала-пирата Дрейка, командование не доверяло своим матросам, набираемым из всякого сброда. Им не только огнестрельного оружия не полагалось, иные майоры даже у карманных ножей приказывали срубать острия. Во избежание!
Поддержанием порядка занималась корабельная морская пехота, исполняющая вместе с основными функциями роль военной полиции, к флоту как бы не относящаяся и пребывающая с ним в перманентной вражде. Кубрики рядовых морпехов и каюты их офицеров располагались между помещениями матросов и офицеров плавсостава. На случай возможного бунта.
Этого и не учли Бекетов с Карташовым. Общесудовая боевая тревога морской пехоты не касалась, пока не начиналась десантная операция, и все ребята с красными погонами и в беретах вместо бескозырок находились на своих штатных местах. В частности, внутри и снаружи оружейки несли службу два полных отделения, да и остальные размещались поблизости, готовые в случае боя исполнять обязанности санитаров-носильщиков и прочих «подай-принеси».
То есть Юрий вёл свою команду, как выражаются американцы, «прямо в открытый гроб». И шансов на успех у них не было абсолютно никаких.
Ни о чём таком не подозревая, Юрий шагнул на первую ступеньку трапа, держа пистолет в правой руке слегка на отлёте. В случае чего и выстрелить — секундное дело, и просто ударить рукояткой, если потребуется.
В следующую секунду случилось совершенно непонятное.
Вся правая сторона крейсера исчезла, словно её отсекло взмахом гигантского ножа. Будто бы не из броневой стали был склёпан двухсотметровой длины корабль, а слеплен из мягкого пластилина.
Там, где должна была оказаться (и хлынуть внутрь «Гренвилла» всё сметающим цунами) океанская вода, Юрий с Николаем и их спутники увидели огромное, как актовый зал Морского собрания, помещение. И в нескольких шагах, возле глубокого кожаного кресла и письменного стола, трех очень красивых и чрезвычайно легко одетых девушек, каждая ненамного старше двадцати лет.
— Шагайте, шагайте сюда, — мелодичным голосом предложила стоявшая чуть впереди других светлая шатенка с распущенными по плечам густыми прямыми волосами. Прежде всего Бекетов обратил внимание на её глаза, потом на длинные ноги, только в самом-самом верху прикрытые короткими голубыми шортами, и уже потом на её руку, что лежала на кнопках наклонного, непонятного назначения пульта.
— Да быстро, быстро, — почти выкрикнула другая, платиновая блондинка, — сейчас всё закрыться может к … — она отчётливо и довольно затейливо разъяснила, к какой именно матери, словно для неё (да и подруг) это было вполне привычное словосочетание, потом негромко ойкнула, осознав свою оплошность, но отнюдь не смутилась. Будто всю свою жизнь на флоте или в армейских казармах провела.
Девушка всё сделала правильно: от бодрящих слов первоначальный ступор прошёл, и сначала первые пять «моряков», а потом и толпящиеся за ними «волонтёры» торопливо, будто проём в странное место уже начал закрываться, перебежали из коридора в зал.
Здесь Юрий заметил ещё одну фигуру — представительного мужчину в чрезвычайно дорогом костюме цвета ружейной стали, похожего на отнюдь не бедствующего короля в изгнании. Этот стоял двумя метрами правее первой девушки, неподвижный, как манекен из витрины.
Красавица перехватила его взгляд.
— А! Сейчас. Дядюшка, ты можешь сесть вон там и больше ни во что не вмешивайся…
Мужчина послушно повернулся, дошагал до кресла, опустился в него и снова замер.
— Он что у вас, лунатик? — изумлённо спросил Бекетов, будто больше ничего удивительно вокруг не было.
— Вроде того… — будто с сомнением ответила девушка.
— Нет, вы объясните, что происходит, куда мы попали и что это значит? — внезапно загорячился стоявший на шаг позади Юрия Николай. У каждого встреча с невероятным вызывает разные эмоции. Егор вот и его братья предпочитали молчать, не особенно стараясь вникать в суть дела, зато без помех рефлектирующего разума любуясь беззастенчивой полунагой красотой. У самой первой, например, не только все ноги на виду, у неё и голая грудь сквозь рубашку просвечивает.
— Кто мы — скоро узнаете, а что это значит — извольте заглянуть в собственное недалёкое будущее…
Девушка что-то сделала ладонью над пультом, изображение внутренностей крейсера начало смещаться вверх и вправо. Бекетов и все остальные увидели просторный отсек батарейной палубы перед броневой дверью, за которой помещалась оружейная комната. Там разместились вдоль переборок два десятка морских пехотинцев с автоматическими карабинами и тяжёлыми флотскими револьверами на изготовку.
Их поднял по тревоге и только что, на глазах «валькирий», привёл в полную боеготовность Арчибальд.
Теперь флотскую несдержанность проявил уже Егор, выдохнув не очень длинный «загиб» из своего старшинского лексикона.
— Стоило вам, мальчики, подняться по трапу… — Зеленоглазая красавица кивнула старшине: — И — оно самое!
Тему не стала развивать, просто улыбнулась так, что у Юрия вдруг сжалось сердце. И едва ли от мысли о только что просвистевшей над головами косе судьбы.
— Проходите вон в ту дверь, присаживайтесь к столу. Марина, скажи слугам, чтобы всем приборы и прочее подавали. И выпить побольше и покрепче. Господа офицеры и сопровождающие их лица устали и перенервничали…
«Надо же, — подумал Бекетов, — сразу в нас с Николаем офицеров различила». Хоть и был Карташов всего лишь «поручиком запаса по механической части», а право на серебряные погоны с тремя звёздочками имел.
— Да я сейчас… — Маша начала набирать код вызова Сильвии. Они своё дело сделали, теперь пусть специалистка и с Арчибальдом, и со всеми остальными разбирается.
Она посмотрела вслед потянувшимся в столовую гостям. И шедший впереди парень, очевидный предводитель, тоже обернулся. Совсем как в песне, что Мария слышала в Москве от Фёста: «Я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она, чтоб посмотреть, не оглянулся ли я». Остроумная стилевая конструкция ей сразу понравилась.
Глаза их встретились и оставались «в огневом контакте» целую секунду, если не две.
Герта держала в руке свой очень дорогой по меркам даже самых гламурных тусовщиков портсигар, смотрела на спускавшихся по лестнице Президента, Мятлева и Журналиста. Вдали по-прежнему продолжалась частая, локализованная по нескольким секторам стрельба.
Чтобы выглядеть естественнее, взяла сигарету, выразительно посмотрела на Мятлева. Тот чисто машинально, не думая, что на него смотрит «шеф» (да какой он сейчас шеф?), выхватил из кармана зажигалку, поднёс девушке огонька.
После глубокой затяжки подпоручик Витгефт сказала веско и непререкаемо:
— Я приняла решение. Раз наше убежище раскрыто, оставаться в нем бессмысленно. Один выстрел из гранатомёта — и всем конец. Бегать по лесу с нетранспортабельным раненым — бессмысленно тем более. На машине прорываться… Я бы попробовала, так местности не знаю, и некуда уже, возможно, весь район оцеплен, и вертолёты скоро появятся…
— И что вы предлагаете? — спросил Президент, сохраняя положенную по рангу выдержку, хотя давалось это ему с видимым трудом. Не Сталин он, и даже не Черчилль. Ему до этого не приходилось под пулями бывать, в тюрьмах сидеть, из плена и из ссылки бегать.
— Я не предлагаю, я довожу до вас своё решение, — прибавила в голос жёсткости Герта. — Сейчас мы все эвакуируемся. Туда, где, за исключением господина Воловича, все уже бывали. Кое-какой риск имеется, но он меньше, чем в любом другом варианте…
— Но, простите… — начал фразу Президент. Пребывающая при исполнении обязанностей «валькирия» не обратила на его слова никакого внимания. Сейчас ей придётся переправлять героев, пока ещё не павших, в место, значительно превосходящее комфортом скандинавский рай.
— Анатолий, Леонид, поднимите под руки раненого, станьте плотно, плечом к плечу…
Изумрудная вспышка кнопки под пальцем девушки, мгновенная и едва заметная дезориентация в пространстве (будто крутнулся вокруг оси проваливающийся скоростной лифт) у всех, кроме Воловича. Ему после инъекции двойной дозы морфиноподобного препарата (Витгефт посчитала, что при его живом весе одной может не хватить) подобные мелочи были безразличны. Он в мягкой эйфории прикрыл глаза, мысленно поставил рядом грубую, агрессивную Герту и нежную Людмилу, без труда раздел обеих (картинка получилась до чрезвычайности реалистичная) и теперь обстоятельно прикидывал, кто из них больше заслуживает его благосклонного внимания.
Команда спасаемых прибыла на место, только очутились не в прихожей, куда целилась Герта, а посередине кабинета Новикова (можно сказать — почти мемориального), где хозяин бывал последнее время крайне редко, но все, даже Фёст избегали туда без нужды заходить. Так повелось.
Видимо, «валькирия» подсознательно держала в уме именно это место. Ну как вышло, так вышло!
— Кладите раненого на диван. Да бог с ним, с пледом, другой найдём. Кто из вас больше в медицине наслышан? Вы, Леонид Ефимович?
— Первую помощь переднего края приходилось оказывать…
— Вот и занимайтесь. Вы здесь достаточно ориентируетесь, будете за старшего. Эта половина квартиры к вашим услугам. На другую не ходите. На лестничную площадку и дальше — тем более. Я не Синяя Борода, вы — не его жёны, а вполне разумные, взрослые люди… Так что обойдёмся без угроз с последующими репрессиями.
Это она первый раз за всё время позволила себе пошутить, весьма своеобразно, впрочем.
— Где мы всё-таки, объясните, пожалуйста, — опять перебил Герту Президент. Отвык он выслушивать не просьбы, не подобострастные вопросы министров и «допущенных» журналистов, а офицерские команды.
«Хорошо хоть офицерские, а не унтерские», — иронически подумал Журналист, привычно, по мимике, уловив эмоцию своего друга.
— Вы сейчас находитесь в квартире одного из сотрудников Государя Императора и с ним знакомы, хотя не слишком близко. Квартира находится в Столешниковом переулке, в нашей, а не в вашей Москве. Можете полюбоваться в окна, сравнить. Здесь есть всё необходимое, чтобы провести некоторое время. Леонид Ефимович в курсе, будет меня временно замещать… Пытаться выйти на улицу не надо, я уже сказала.
— А вы сами? — хором спросили Мятлев и Президент.
— Я скоро вернусь. Не могу оставить друзей, обороняющих вашу, господин Президент, резиденцию.
Герта открыла старинный дубовый книжный шкаф. Две его боковые секции имели застеклённые дверцы, а средняя — глухие. За ними на второй полке помещался богатый, крайне эстетский по подбору бутылок бар. Отражающий не столько подлинные вкусы, как фантазии человека, не забывшего пристрастия юноши шестидесятых годов и его литературных героев.
— Налейте всем вот этого, — указала на темную бутылку «валькирия». Судя по этикетке, в ней содержался выдержаннейший, в реальной жизни, возможно, и не существовавший коньяк, навеянный не то книгами Ремарка, не то «Капитальным ремонтом» (глава четырнадцатая) Леонида Соболева. — Мне лично нужно взбодриться, да и вам… А я сейчас!
Герта вышла из кабинета, а Мятлев, разливая выразительно пахнущий напиток по рюмкам, подумал, что сейчас все они выглядят крайне жалко и даже подловато: они остаются здесь, могут пить и веселиться в уюте и безопасности, а девчонка, в которую он якобы влюблён, снова уходит на войну.
Понятно, что это — её работа, да, пожалуй, и призвание, но всё же, всё же… И что делать? Не пустить? Сил удержать не хватит. Увязаться за ней? Ещё более глупо выйдет, она его просто пошлёт далеко и глубоко…
— Эй, и мне налейте, вы что, забыли? — раздался с дивана голос Воловича, пытающегося полулечь на диване, подобно римлянину на пиршественном ложе в триклинии у Лукулла.
— Нальём, куда ты денешься… — отозвался Журналист. В отличие от Мятлева он не терзался муками совести и заметно подобрел, оказавшись в столь интересном месте.
— И не жадничай, мне сейчас надо — для дезинфекции…
Герта вернулась. На плече у неё висела большая туристская сумка, полурасстёгнутая, видно было, что она доверху полна автоматными магазинами и гранатами.
Весу в ней килограммов тридцать, а девушка держит её не кособочась и не подгибаясь в коленях. На другом плече автомат, не «АК», а давно снятый с вооружения «ППС», только выглядящий как-то не так. Да и то лишь для Мятлева, в оружии понимавшего, остальные, наверное, вообще видели это изделие только в кинохрониках, мельком.
— Ладно, господа, давайте стременную! — «Валькирия», ни с кем не чокаясь, лихо опрокинула большую рюмку, улыбнулась лучезарно. — Не нервничайте так, господа. Мы все вернёмся, и очень скоро. Соскучиться не успеете… И здесь станет шумно и весело.
Герта обращалась вроде бы к Президенту, но в последний момент хитро подмигнула всё-таки Мятлеву.
Не дав больше никому ничего сказать, крутнулась на каблуках и исчезла за дверью.
Мятлев шагнул было следом и тут же повернул назад.
— Всё! Ушла! — теперь уже совсем никого не стесняясь, выругался коротко и неостроумно, дрожащей рукой снова налил всем.
— Доигрались, допрыгались! Демократия, вашу мать, законность и правопорядок! Стабильность и согласие! На земле мир и в человецех благоволение! — Мятлев смотрел на Президента в упор, говорил зло и хлёстко. Здесь и теперь ему терять было совершенно нечего. А если, упаси бог, Герта не вернётся…
Генерал выпил, развернулся на каблуках, подошёл к окну, принялся закуривать вздрагивающими руками.
Президент подошёл, молча стал рядом, неподвижным взглядом упёрся в совершенно чужую панораму за окном.
— Это ты очень правильно сказал, — заплетающимся языком произнёс Волович с дивана. Коньяк поверх наркотика сразу ударил ему по мозгам. — Не умеем, чтобы демократия, значит — даёшь порядок! Железной, это самое, рукой! Вперёд, вперёд, стальные батальоны! Дойче зольдатен дурьх дер штадт марширен, офнен ди мёдхен фенстер унд ди тюрен… — точно попав в ритм, пропел он и упал лицом вниз на подушку.
«Леонов» прополз две сотни метров по траве, между кустарником и деревьями, забирая по широкой дуге, чтобы выйти в тыл вражеским наблюдателям. Ни один сучок не хрустнул, ни одна ветка не качнулась, хотя два раза он оказывался буквально в нескольких шагах от групп солдат, ожидающих приказа. Увиденное «старшему лейтенанту» очень не понравилось. Атаковать их собирались серьёзными силами и весьма профессионально. Их хлипкой обороны не хватит и на полчаса. Роботам-то без разницы, они прорвутся и уйдут на свою базу в любом случае, буквально через горы трупов, но людям может достаться «по полной». Андроид, как и любая машина, не мог мыслить творчески, но опыта сотен и тысяч всякого рода боестолкновений, накопленных в его памяти, и алгоритма поведения именно данного конкретного прототипа ему хватало, чтобы искать оптимальное решение.
Было, конечно, надёжное и крайне простое, но имелось и ограничение — без специальной команды не демонстрировать способностей, сильно превосходящих обычные человеческие. Иначе десять роботов могли просто подняться во весь рост и начать расстреливать всех подряд из автоматов и пулемётов, пока останутся цели или патроны, не обращая внимания на ответный огонь, вплоть до артиллерийского.
Но раз демаскировка недопустима, пришлось бы сделать ещё одно, не сочетающееся с заложенной в андроидов моралью, дело. Уничтожить всех свидетелей, в том числе раненых и сдающихся в плен, а за случайно сумевшими скрыться — организовать охоту, пусть и по всей Земле, ликвидируя каждого, кто получит секретную информацию даже из вторых и третьих рук.
Кстати, под программу попали бы и те, кто сейчас сражается на их стороне, за исключением непосредственных командиров, получивших свои права из рук «хозяина», то есть Воронцова.
Три азимовских «Закона роботехники» на эти «изделия», само собой, не распространялись, слишком они выглядели глупо и ханжески (типично по-американски, особенно — после бомбёжки Хиросимы), с точки зрения нормального человека, но и в тупые машины для убийства роботы превратиться не могли. Как, к слову сказать, подавляющее большинство нормальных солдат регулярной русской армии. Эксцессы исполнителей и действия некоторых спецподразделений в особых условиях к рассматриваемой теме не относятся.
«Леонов» беспрепятственно добрался до естественного углубления в почве (окопов тут, понятное дело, никто не рыл), где разместились наблюдатели с биноклями и устройством типа ноутбука, работавшим как средство связи и тактический симулятор в режиме реального времени. Он определил, что самый здесь интересный кандидат в языки — именно оператор ноутбука, независимо от его реального звания и должности.
Остальное было вопросом техники. Бросок вперёд, два удара финкой в обтянутые камуфляжами спины, третий — тыльной стороной рукоятки с математически рассчитанной силой в затылок оператора. Минут на двадцать вырублен точно.
Привстав на одно колено, андроид швырнул в лес все шесть своих «Ф-1», в места, где заметил скопления людей, и просто так в расчёте сбить азарт у ещё не обнаруженных.
Переждал свист осколков над головой и по сторонам, подхватил под мышку ноутбук, закинул на плечо пленного и рванул изо всех сил напрямик через поле, туда, где ждал его Секонд.
Ляхов тут же, помня бой на перевале, открыл отсечный огонь по лесу из «ПКМ» длинными очередями, никуда специально не целясь, но стараясь, чтобы строчки пуль шли над самой землёй, сантиметрах в двадцати-тридцати. Тогда всем хватит, и лежащим, и стоящим.
«Леонов» добежал без помех, вслед ему даже никто не выстрелил. Что и неудивительно. Жаль, что поблизости не было спортивного комиссара. Из десяти секунд на «сотке» робот явно вышел, невзирая на пересечённую местность, неподходящие для спринта обувь и снаряжение и семидесятикилограммовый груз, крайне неудобный для переноски.
— Живой? — довольно глупо спросил Секонд у старшего лейтенанта, отождествившегося в его восприятии с обычным, вполне смертным боевым товарищем. И тут же исправил свою оплошность: — Вот этот — живой?
— Чего с ним сделается? Поживёт пока, — андроид сбросил свой трофей в угол окопчика, поднёс фляжку к губам языка, по всему судя — офицера, возрастом поменьше тридцати. Вылил ему в рот глоток чистого спирта, носимого для случаев взаимодействия с людьми. Одновременно пару раз хлестнул парня по щекам. Тот мгновенно пришёл в себя, начал отплёвываться.
— Сейчас я с ним наскоро побеседую, — сказал «Леонов».
Секонд услышал за спиной приглушённый звук, будто взрослый человек спрыгнул на плотный дёрн с метровой примерно высоты. Резко обернулся, успев схватить лежавший на бруствере автомат.
Перед ним сидела на корточках Герта, тоже вооружённая, с шульгинским «ППСШ», взведённым, между прочим. Взведённые автоматы, стреляющие «с открытого затвора», вообще опасная штука, непредсказуемая. Он пальцем отодвинул ствол в сторону от своего живота.
— Извините, — смутилась «валькирия». — Чуть промахнулась, здесь уровень грунта ниже, чем пол в квартире.
— А что ты там вообще делала? За автоматом заскочила? Свой куда дела?
Секонд понимал, что начал разговор не в той тональности, но — нервы, никуда не денешься. И девица то стволом в живот тычет, то незнамо где бегает, тогда как ей поручено…
— Разрешите доложить, господин полковник! Точка, куда я доставила «охраняемый объект», оказалась засвечена. Пришлось принять бой. Вот с такими же, — она указала на допрашиваемого «Леоновым» языка. — Пятеро уничтожено, у нас один раненый…
— Надеюсь, не Президент?
— Никак нет, корреспондент приблудный. Кстати, проявил мужество и героизм…
— Об этом потом. — Секонд представил себе Воловича, «проявляющего мужество и героизм». Не стыковалось. — Дальше что было?
— Ввиду невозможности дальнейшего сопротивления превосходящим силам противника, то есть патронов осталось всего два магазина, а вверенный мне контингент использовать в качестве рядовых бойцов не имела права, приняла решение на эвакуацию. Доставила всех по известному адресу, взяла автомат и сумку патронов и вот… вернулась.
Доклад Герта закончила совсем не на той ноте, что начала. Завод кончился, что ли?
— Ох и тараторишь ты, Витгефт! Кто тебя учил так докладывать, Уваров? Поточнее надо. Что значит — превосходящие?
— На тот домик первую атаку предприняли пять человек, с двух направлений. Крутые профи. Я одна — разве не превосходящие? Скажите спасибо, что мы их всех завалили. Во вторую могли пятнадцать пойти, после артподготовки… Жалко вот — я тоже языка взять собиралась, так по ногам стреляла. Теперь, наверное, выживут зазря…
«Интересная формулировка, — мельком подумал Секонд. — Обычно зазря помирают…»
— С этим ясно. Решение правильное. Дальше…
Секонда перебил «Леонов»:
— Господин полковник, девушка права, силы противника действительно весьма превосходящие. Язык признался, что их здесь не меньше батальона, во внешнем кольце окружения. Непосредственно к штурму объекта готовится рота. Спецназ «Зубр». Вам лучше знать, что это такое. На вооружении имеют, кроме всего прочего, «Пламя» и «Василёк».
— А мне откуда знать? — удивился Ляхов. — Мы не местные. Твои предложения, командир?
— Если есть возможность — немедленная эвакуация. Вам не устоять и не выжить. По-хорошему — на всё пятнадцать минут. Прикажите — огонь по лесу из всех стволов и отход перекатами за периметр забора.
— Понял, старшой (Секонд уже научился легко произносить вместо «поручик» — здешнее звание). Сам и командуй. Ты со своими веди бой, пока все боеприпасы не расстреляешь, и сваливайте к месту постоянной дислокации…
Внутри дачной ограды, у закрытых внутренних ворот, из-за которых гремела бешеная стрельба из всех стволов отряда «Леонова», Фёст инструктировал майора, начальника охраны.
— Мы все сейчас уйдём. Есть отсюда ход, даже тебе неизвестный. Через пять минут после того, как за нами закроется дверь подвала, ну, где пленный генерал сидит, выбрасывай белый флаг. Сдадитесь, предъявите оружие, вы ведь из него даже не стреляли… Будут допрашивать — говорите всё, что было на самом деле. Мятлев нас с собой привёз, с нами и ушёл, прихватив Президента. Куда, зачем — вам не сказали. Как ушли — вам не сказали. Пусть гадают, ищут и нас, и своего генерала. Найдут — их счастье и не твоя забота. Всё понял?
— Так точно, товарищ…
— Вот и хорошо. Мы пошли.
…Встреча получилась как бы для всех неожиданной. Каждый её предполагал, даже планировал, но не в этот именно момент и несколько иначе. А тут все сразу сошлись на перекрёстке сумрачно и негостеприимно выглядевших коридоров. Тоже интересный момент — бывало, Замок в любой своей точке выглядел ярко и празднично, а иногда как сейчас — будто на утро после Варфоломеевской ночи. Трупы убраны и кровь смыта, но аура осталась. И все, пусть в разной степени, её ощущали. Сильвия с Басмановым и торопливо идущие им навстречу, явно взволнованные Катранджи с Кристиной. Потом на звук голосов вышли успевшие наскоро привести себя в порядок Уваров с Анастасией. Последним появился, словно ниоткуда, Константин Васильевич, расточающий запахи разных употреблённых в течение дня и половины ночи напитков, дымящий крепкой папиросой и в отличие от остальных весёлый. Не по пьяному делу, а нормально.
— Что-то мне кажется, — задумчиво сказала Сильвия, — события вышли из-под контроля и пошли вразнос. Иначе к чему бы такое вече? И без всякого колокола. Кто начнёт докладывать первым?
— Прямо здесь? — возмутился Удолин. — Есть места и поудобнее…
— А как же девчата? — спросила Кристина. — Их тоже нужно позвать…
Вельяминова, как командир, открыла одну дверь, вторую, третью. Во всех комнатах было пусто, остались только следы поспешных сборов, на креслах и постелях небрежно брошенные валялись ночные туалеты девушек.
— Интересно, более чем интересно, — помрачнела Сильвия и достала свой блок-универсал. — Сейчас поищем…
Но портсигар сам несколько раз тихонько пискнул сигналом вызова в её руке.
— Вот и нашлись красавицы. — Интонации аггрианки не предвещали девушкам ничего хорошего. Слишком много, по её мнению, распоряжений и инструкций они нарушили.
Однако, когда вся компания, готовая к любым неожиданностям, вошла в кабинет Арчибальда, настроение резко изменилось. В основном в сторону глубокого удивления у Сильвии и просто облегчения у остальных.
Мария за те несколько часов, что её не видели «старшие товарищи» и подруги, ощутимо поменялась. Будто не половина ночи прошла, а месяц, причём — не простой. И докладывала, неизвестно к кому обращаясь, глядя между аггрианкой и Басмановым, уверенно и чётко. Едва ли не как старшая по званию. Удолин, наблюдая за девушкой и сканируя её ментальный фон, откровенно хихикал.
— Таким образом, дядюшка Арчибальд полностью дезактивирован и готов исполнять именно те функции, для которых предназначен. А мы можем возвращаться домой или продолжить исследования здесь. Это вам решать. Как и то, что дальше делать с нашими неожиданными гостями и той войной, что вот-вот может начаться у нас дома, — закончила доклад подпоручик Варламова.
— Да, подумать придётся, — кивнул Басманов. — А вам, господа офицеры, — обратился он не то к троим «валькириям», не то ко всем пятерым сразу, — я что могу сказать, как старший воинский начальник? Спасибо за службу!
…Через пятнадцать минут три цепи «зубров», потерявших под шквальным огнём роботов не меньше двух десятков бойцов (все офицеры), увидели белый флаг, выброшенный из чердачного окна дачи. Выждали ещё не меньше десяти минут, потом осторожно, опасаясь подвоха, медленно вышли из леса и двинулись к даче.
В это время Фёст с Секондом, Герта и Людмила уже складывали в прихожей оружие, подсумки с магазинами и прочую амуницию.
«Леонов» со своими «морпехами» докладывал об итогах операции Воронцову на шканцах «Валгаллы». Дмитрий усмехался чему-то, крутя в пальцах горячую трубку.
— Молодцы, ребята. Всё правильно. Можете отдыхать. Ваши программы пока аннулировать не будем. Очень возможно, придётся вас совсем скоро использовать в том же качестве…
…Картина, конечно, получилась впечатляющая, «в лучших традициях серых казарм», как выразился Фёст, твёрдым шагом проходя к столу и беря за горлышко почти пустую бутылку. Посмотрел на Герту, потом на Людмилу. Девушки сразу вспомнили вроде бы совсем недавно полученные от него выволочки и, соответственно, забыли о только что закончившемся сражении. Одна, гремя ботинками по паркету, побежала на кухню за закусками, вторая начала расставлять дополнительные бутылки, рюмки и бокалы. Фёст ещё на той стороне пообещал девушкам, что, ежели все вернутся живыми, надерётся сегодня «как встарь, по-настоящему».
— Рад снова вас видеть, господин Президент, — сообщил Фёст, убедившись, что «валькирии» работают, «как учили». — Невзирая на некоторые прискорбные обстоятельства, мы все в добром здравии, и это радует. Остальное приложится. Честь имею представиться — полковник Ляхов-первый.
Не обращая внимания на свои испачканные землёй, травяной зеленью и оружейной смазкой руки, протянул правую для рукопожатия. Секонд, стоя рядом, просто кивнул.
— Вы, господин Мятлев, — продолжил Фёст официально, будто и не веселились они вполне по-дружески совсем недавно, — имеете возможность пространно побеседовать вот с этим господином, — указал он на стоящего со скованными руками лицом к стене пленного генерала. — И у всех нас будет достаточно времени на любые занятия, приятные и не очень. Вы должны понимать, господин Президент, дела во вверенном вам государстве зашли слишком далеко, и несмотря на проявленные всеми нами мужество и героизм, возвращаться в ту Москву несколько… было бы несколько неосторожно.
— Это что же, эмиграция? — вскинул голову Президент. Ну, прямо тебе Сальвадор Альенде, гордо отказывающийся улететь из охваченного мятежом Сантьяго в гости к Фиделю Кастро.
— Не совсем так. Скорее — оперативная пауза. Тут вам господин полковник Ляхов-второй, флигель-адъютант Его Величества, хочет кое-что сказать. Да что это мы стоим, будто на дурацком безалкогольном фуршете? Присаживайтесь и продолжим. Выпивайте, господин Президент, и закусывайте. И пусть вас не беспокоят этих глупостей.
Наверное, от перевозбуждения Фёста прямо прорвало на цитаты. Они выскакивали одна за другой, и все, что удивительно, к месту.
Кое-кого это коробило, но Вадиму было совершенно наплевать. Главное, Людмила смотрела на него невыносимо влюблёнными глазами.
«А что, — подумал он, — круто будет устроить свадьбу в Георгиевском зале Кремля с Президентом в роли свадебного генерала!» Эта идея ему понравилась. «Правда, нужно ещё победить, но это такой пустяк. Гораздо важнее, чтобы невеста была довольна»[134]. Тьфу, чёрт, едва не выругался он. Опять цитата.
— Да, это правильно, — сказал Секонд, выпил и подождал, пока то же сделают остальные, за исключением крепко спящего Воловича, пропускающего, возможно, самые звёздные мгновения своей карьеры.
— Теперь я, если позволите, скажу, — в отличие от своего брата-аналога он не был настроен столь игриво. Всё-таки «высокие гости» находились сейчас на его территории, и он, таким образом, выступал во вполне официальной роли флигель-адъютанта Государя, до резиденции которого отсюда, кстати, всего пятнадцать минут неспешного пешего хода.
«Если Ихнее Величество и после этого не произведёт нас с Вадимом в генерал-адъютанты, так я и не знаю, какого ещё ему рожна надо!» — подумал Фёст, но на этот раз промолчал, только опять подмигнул Людмиле.
А на Секонда, ей-богу, ему забавно было смотреть. Насупился от важности момента, плечи развернул, жаль, что на нём всего лишь майка цвета хаки с короткими рукавами, а не парадный мундир с вензелями на погонах и висюльками аксельбантов.
— Их Императорским Величеством мне поручено передать Вам следующее…
«И когда успел доложиться? — подумал Фёст. — Не иначе когда в гальюн выходил».
— Если будет на то ваше согласие, господин Президент, первые отряды «печенегов» могут быть в Москве, в вашей Москве, — уточнил он, — уже завтра утром. И поступят в ваше полное оперативное подчинение. Для неотложных мероприятий по изъятию наиболее важных организаторов заговора двухсот специально подготовленных офицеров хватит. С двумя из них вы уже знакомы, — он показал на Герту и Людмилу. — Они у нас, правда, почти ещё стажёры, хотя и награждённые орденами. Остальные поопытнее будут. — Выдержал паузу, снова потянулся к рюмке. Ему хотелось напиться не меньше, чем Фёсту. — А в течение недели мы имеем возможности перебросить вам на помощь две гвардейские дивизии…
— После чего заговор, или вооружённый мятеж, как вам приятнее это действо назвать, будет прекращён у нас на родине самым гуманным и эффективным образом. Опыт у Вадима Петровича в подобных делах есть… — добавил Фёст.
— Если Государю не будет благоугодно возложить эту миссию на кого-либо другого. Так что решение только за вами, господин Президент. Аркольский мост, или Рубикон, я не знаю, но оставлять свою страну в нынешнем состоянии…
Секонд молча развёл руками.
«Ревизор» там или не «Ревизор», может быть, сцена из совсем другой пьесы, но получилась она «немая» в высшей степени.
Торжественность момента испортил Волович, громко всхрапнув и что-то быстро и бессвязно забормотав.
— Да, господин Президент, — выждав, не захочет ли кто-нибудь из гостей произнести нечто подобающее случаю раньше него, — сказал Фёст. — Слегка переиначив всем с детства известную фразу, можно так выразиться: «Не бойтесь друзей! Особенно, если они не собираются вас предавать…»
Василий Звягинцев Большие батальоны. Том 1. Спор славян между собою
Большие батальоны всегда правы.
Бог на стороне больших батальонов.
Глава первая
Как написал бы автор XIX века, и начала XX тоже: «В городе федерального значения М. в последних числах августа 20… года стояла чудесная погода. Только что прошёл бурный, тёплый, по-весеннему радостный ливень».
В таком приблизительно роде.
За окнами вечерело. Наступил как раз тот час, когда электричество (или любой другой источник искусственного света) зажигать ещё рано, но очертания предметов уже начали утрачивать чёткость, в дальних от окон углах комнат стали сгущаться тени. В этот переходный час иногда само собой меняется настроение, вдруг появляется немотивированная грусть и вспоминаются безвозвратно ушедшие мгновения жизни, не всегда значительные, но волнующие. Словно бы между страницами старой книги вдруг попался трамвайный билет тридцать лет назад отменённого маршрута или химическим карандашом написанный счёт на четыре рубля с копейками из кафе на ВДНХ. Да хотя бы и просто засохший ломкий цветок, оставленный здесь ещё до тебя на память неизвестно о каком событии давно покинувшим наш мир человеком…
Место действия – богато, демонстративно старомодно обставленная квартира. Чересчур богато и чересчур демонстративно, на взгляд впервые оказавшихся здесь людей, потому что мало кому из нынешних даже и олигархов придёт в голову столь резко выбиваться из господствующего в их кругах гламурно-постмодернистского стиля. Да и современные дизайнеры не станут заморачиваться, разыскивая подлинные мебельные гарнитуры безвозвратно ушедшего позапрошлого века и все им соответствующие аксессуары – тысячи томов раритетных книг в тиснёных золотом кожаных, муаровых, пикейных переплётах, всяческие антикварные штучки из бронзы, мрамора, нефрита, прочих ювелирно-поделочных материалов. Ну и картины по стенам развешаны достойные долгого и внимательного рассмотрения, примечательные не только сюжетами, но и техникой исполнения. Совсем не те, что ныне оцениваются в десятки миллионов долларов, но у человека наедине с собой, не обязанного «террором среды» изъявлять статусные восторги, вызывают либо смех, либо тягостное недоумение.
Видно, что кто-то старательно воспроизвёл в нескольких комнатах этой обширной квартиры известные сейчас только по фотографиям интерьеры дворцов Юсупова, Рябушинского, Щукина и прочих некогда славившихся одновременно тонким вкусом и любовью к роскоши ныне исторических личностей.
Большинству присутствующих всё окружающее было давно и хорошо известно, но двое – Президент и Журналист – всё не могли освоиться, принять обстановку (в обоих смыслах этого слова) как должное. На только что пережитые, ещё вчера казавшиеся немыслимыми события накладывался и этот интерьер, усиливая ощущение нереальности происходящего.
– Да что это мы всё стоим, господа? – совершенно искренним тоном удивился Фёст, только в глубине его глаз мелькало нечто похожее на насмешку. Людмила, по крайней мере, её улавливала. – Не пора ли?..
Кажется, Вадим сейчас забавлялся не только тем, что принимает у себя приватным образом взаправдашнего Президента, а и наблюдая за Секондом, слишком серьёзно вдруг отнёсшимся к своей флигель-адъютантской должности. Лично ему сейчас, наоборот, хотелось валять дурака. Все пули в очередной раз пролетели мимо, вокруг – прелестные девушки, долженствующие своим видом и щебетанием радовать глаз и душу (то, что они только что своими нежными пальчиками отправили к праотцам энное количество людей, не имеет никакого значения, как и то, что не бальные платья на них, а суровые воинские доспехи), погреба ломятся от запаса продовольствия и напитков – чего ещё желать?
Гусар, партизан и поэт Денис Давыдов как раз по такому случаю писал:
Фёсту что, он человек совершенно свободный, свободный «от» и свободный «для», ему можно в каждый данный момент времени оставаться самим собой, не заботясь об условностях и необходимости «соответствовать» и «производить впечатление». При том что здесь и сейчас именно на нём лежит настоящая ответственность.
То ли дело все остальные присутствующие здесь мужчины (за исключением Воловича, конечно). Они угнетены грузом текущих и предстоящих забот, а двое вдобавок потрясены тяжестью не только фактически проигранного сражения, но и крахом дела едва ли не всей сознательной жизни!
Да-да, проигранного, что уж тут лицемерить? Если они ещё живы и на свободе, так «по независящим от них обстоятельствам». А – «по зависящим»?
Результатом «гуманного и демократического», как им казалось, правления, стал банальный верхушечный заговор с попыткой вооружённого свержения власти. По большому счёту – удавшегося, ибо вмешательство иновременных сил никоим образом не являлось заслугой первого лица государства и его окружения. За одной крошечной оговоркой – это вмешательство стало возможным только потому, что потусторонним силам нынешние персоналии показались более симпатичными, чем любые другие. Каприз, если угодно, но никак не результат осмысленной политики Президента и возглавляемой им власти.
А тут ещё Фёст, условный полковник другого государства и всего лишь капитан медслужбы нынешнего, изрёк свою фразу, достойную войти в анналы с ничуть не меньшим основанием, чем многие другие, от цезаревского: «Жребий брошен» до хрущёвского: «За работу, товарищи!»
– Да, господин Президент, не бойтесь друзей! Особенно если они не собираются вас предавать…
– Как это? – приподнял бровь Президент. – Не бойтесь друзей? Оригинально…
– Можно подумать, вы Бруно Ясенского не читали или хотя бы Эренбурга, тоже приводящего эту цитату, – не совсем вежливо ответил Фёст.
– А вот знаете – нет, – развёл руками Президент. – Не пришлось как-то. Очевидно, у нас с вами были несколько разные вкусы и интересы.
Журналист знал, о чём идёт речь, но промолчал. Сам не зная почему. Он вообще чувствовал себя странно. То ли межвременной переход на нём так сказался, то ли затянувшийся на весь невероятно длинный день стресс, да ещё и какое-то странное влияние на его психику присутствия рядом Людмилы Вяземской. Она действовала на него совершенно непонятным образом – не влекла своей необычной красотой, не пугала холодным профессионализмом «солдата удачи», но поселила в душе тревожное беспокойство, никак не относящееся ко всем перипетиям последних дней, вообще к государственной политике. Что-то такое, в духе «Мастера и Маргариты», пусть и с другим знаком.
– Ну, это сейчас совершенно несущественно, – усмехнулся Вадим, вполне довольный и вчистую выигранной им партией, начатой не так давно скорее от нечего делать, нежели от надежды что-то в этой стране реально изменить, и, главное, тем, как он сейчас выглядит в глазах Людмилы. Смешно, но мнение двадцатилетней девчонки, да ещё и из другого мира, казалось ему чрезвычайно важным. Странным образом сейчас мысли его и Журналиста пересеклись в одной точке, хотя и исходили из совершенно разных предпосылок.
Кроме него на удивление великолепно чувствовал себя Мятлев. Для Контрразведчика всё стало простым и понятным, и в личном плане, и в государственном. Наконец-то, после неудавшегося покушения, чудом (и с его, Леонида, помощью тоже) выживший Президент позволит ему развернуться в полную силу, разрешит (если не попросит!) принять на себя всю полноту власти в его специфической сфере деятельности. А сейчас тот самый момент, когда она, эта деятельность, становится единственным источником власти в стране, и выпускать ли её из рук после «наведения порядка» – только ему решать. Ни Дзержинский, ни Троцкий, ни даже Берия не сумели конвертировать полный контроль над спецслужбами и армией в нечто осмысленное, однозначно целенаправленное. Вышеназванные персонажи, имея собственное представление о текущей обстановке и системе государственного управления в стране, не сумели в нужный момент заявить: «Командовать парадом буду я!» – и проиграли всё, включая и собственные жизни. А ведь тот же Дзержинский (да и Троцкий тоже) прекрасно понимали пагубность сталинского курса, достаточно разумно рассуждали о необходимости «внутрипартийной демократии» (прежде всего – для себя), боялись «термидорианского переворота» и даже вслух о его, пока ещё теоретической, возможности предупреждали верхушку партии. Только желающих услышать оказалось слишком мало, а использовать нужным образом и в нужное время имеющиеся возможности эти товарищи не решились. Особенно удивлял Леонида в этой ситуации Берия. И дамоклов меч над своей головой видел вполне отчётливо, и о механизме его использования понятие имел, а вот поди ж ты, сидел и ждал целых четыре месяца, пока Хрущёв с силами соберётся и свои козыри на стол бросит.
Пусть сейчас у Леонида Ефимовича с Президентом положение выглядит намного «хуже губернаторского», полностью проигранной партия выглядит, чего тут деликатничать? Упавшую с неба власть удержать не сумели, на чужой территории сейчас бегством спасаются. Так зато и путь к победе ясно виден, и когда наступит эта самая победа, он шанс не упустит. Сосредоточит в своих руках руководство абсолютно всеми силовыми структурами государства и «демократию» будет регулировать лично. В строгом соответствии с потребностями общества. В песочнице детского сада тоже ведь «свобода, равенство, братство», однако воспитательница постоянно рядом присутствует и бдит! Знает, что если один из «равных» другому лопаткой по маковке стукнет, не с него спрос будет. Так и в государственных делах: если «народные избранники» по глупости или из корысти неправильный закон вознамерятся принять, «всенародно избранные» губернаторы злоупотреблять положением начнут – что же, ждать, пока «их жизнь сама накажет строго», а «естественный ход событий» к очередной катастрофе приведёт?
Это – первое.
Второе – обозначилась ясность и в его отношениях с Гертой. Что всё теперь будет в порядке, Мятлев уже понял. После того как они вместе повоевали, и неплохо, он в её глазах проявил себя достойно – обратной дороги нет. Всё у них получится в наилучшем виде, может быть, уже сегодня. А завтра он сделает её своим первым заместителем и консультантом по нереальным вопросам. И таким же ответам. Жить они с ней будут здесь, а работать там…
Генералу как-то совершенно не пришло в голову, что если задуманный им план реализуется в полной мере – всё выйдет совершенно наоборот, это он окажется у Герты заместителем и «зиц-председателем». Исключительно в силу различия типов личностей. Если ей, конечно, вообще покажутся интересными игры в большую политику на уровне Екатерины Великой, тоже начинавшей карьеру в качестве жены племянника императрицы Петра Фёдоровича.
Мятлев, стараясь не привлекать внимания друзей и хозяев, вдоль стеночки выскользнул из кабинета, направился по длинному полутёмному коридору в сторону кухни. Там Герта гремела посудой, собирая ужин, хоть в какой-то мере соответствующий важности гостей. И Людмилы здесь не было, к его удаче. Возможно – и сомнительной.
Генерал подошёл к девушке сзади, положил руки на плечи, повернул к себе лицом. Совсем рядом глаза и губы. Прижать к себе «хрупкое» (если смотреть, не прикасаясь руками) тело, начать целовать куда придётся. Ему этого просто неудержимо захотелось. Но «распалившийся воздыхатель» наткнулся на спокойный, не располагающий к сумасбродствам взгляд не соблазнительной девушки, а недавно вышедшего из боя офицера.
– Ты, Леонид Ефимович, держи себя в руках. Не люблю я таких вот истерических порывов. Возьми вон лучше консервы пооткрывай, раз пришёл… Дожили, представь себе – президента великой державы банальными консервами угощать будем…
Ну, консервы были не совсем уж банальные, не «Частик мелкий нерядовой укладки»[1]. Крабы нашлись, и шпроты, и мидии со специями, даже «угорь копчёный в кисло-сладком соусе», не считая всяческих колбас и сыров. Нередко здесь по десятку человек без подготовки случалось кормить, на подобный случай и припасы. Но всё равно…
Можно бы, конечно, проявив инициативу, заказать в расположенном напротив ресторане «У дяди Гиляя» полноценный ужин с парой официантов для оформления и подачи блюд, но это не Герте решать.
Самое странное, Мятлев не чувствовал себя задетым или обиженным холодностью девушки. Главное, она говорила с ним как с по-настоящему «своим человеком». Ну не сейчас, значит, подождём другого раза, сама по себе идея не отметена в принципе, и это хорошо. Пожалуй, даже интереснее – дождаться и посмотреть, как она сама инициативу проявлять будет. Но это вряд ли. Придётся самому в подходящий момент снова инициативу проявить.
Секонд, Фёст, Президент и Журналист остались вдруг одни, Людмила тоже незаметно растаяла в глубине смежных комнат. Волович, судя по дыханию и мимике, видел сладкие наркополитические сны и субъектом действия сейчас не являлся. То есть получилось – два на два, идеальная схема для переговоров, ну, не переговоров в полном смысле слова, но обмена мнениями, предполагающего согласование хотя бы «протокола о намерениях».
– Знаете, Георгий Адрианович, – Фёст впервые назвал Президента по имени-отчеству, причём панибратским тоном, и это ему понравилось, как в своё время нравилось утончённо издеваться (не выходя за пределы статей всевозможных уставов и приказов) над своим полковым и дивизионным начальством. – Вы сейчас находитесь в удивительно выигрышном положении…
– Не совсем понял…
– Да как же? Цитата из Ясенского открывает вам широчайшее «окно возможностей». Стоит объяснять дальше?
– Не стоит, – несколько раздражённо ответил Президент. Ему манера поведения более агрессивного (наверное, потому что «соотечественник» и «современник») из близнецов совсем не нравилась. Но, как писал то ли Эсхил, то ли Софокл, «даже бессмертные боги не могут бывшее сделать не́бывшим». Эти парни вели себя выше всяческих похвал и в бою, и, той сфере «высокой политики», в которой им пришлось поучаствовать. По крайней мере, Президент признавал – что и с гораздо большей раскованностью и степенью компетентности, чем он сам в своей должности. Не только сегодня, но и всегда.
– Вот это я и хотел от вас услышать, – удовлетворённо сказал Фёст, беря из коробки сигару. Он тщательно её раскурил, посматривая сквозь дым на своих визави. – Иногда очень полезно человеку взглянуть на окружающее с несколько иной точки зрения. Марк Твена помните?
– Что именно? – нервно спросил Президент.
– Как что? Я думал, вы сразу догадаетесь. «Принца и нищего», конечно. Не находите определённого сходства ситуаций? И послушайте меня, – Фёст попытался применить на практике один из многочисленных усвоенных от Александра Ивановича психологических приёмов, – прекратите вы терзаться всякими глупыми мыслями и мировую скорбь изображать. Здесь не детский сад, никто вас жалеть и успокаивающих слов говорить не будет. Примите одну из двух схем поведения. «Хэмп Ван-Вейден» или «Смок Белью»[2]. В первом случае примите случившееся как жестокую данность свыше и начинайте из неё выбираться, перестраивая себя и набираясь сил, которые в вас есть, но о которых вы в силу особенностей вашей биографии не подозревали. Во втором – всё происходящее – просто интересная, добровольно вами выбранная игра.
Вы проверяете свои возможности добывать и есть медвежье мясо, но всегда вольны отказаться от испытания и тут же вернуться в свой прежний мирок, кажущийся вам уютным. Терцио нон датур. При любом вашем выборе мы готовы вам помочь, но не в большей степени, чем вы готовы помочь себе сами. И ещё запомните – о других говорить не буду, но для меня вы сейчас никакой не Президент. Просто человек, с которым я готов делать общее дело. Если вы сами этого хотите. Одно ваше слово – и я верну вас туда, откуда так опрометчиво выдернула вас девушка не нашего мира. Там всё ещё длится ситуация, которую вы сами создали и которую имеете возможность исчерпать до конца. В меру собственных способностей.
Речь получилась слишком длинная, и Фёст сознавал, что после неё может приобрести себе в лице этого человека пожизненного врага. Но и на это ему было наплевать. Он ведь не политик, он сейчас снова просто врач, и то, что происходит – обыкновенная шоковая терапия. Он действительно думал именно так, как говорил, и это чувствовали все присутствующие. Только – все по-разному.
Пауза несколько затянулась. В это время предпочитавший без нужды не вмешиваться «в спор славян между собою» Секонд разлил всем по чаркам.
«Или во здравие, или за упокой», – подумал он. Он понимал запал своего брата-аналога и всей душой желал, чтобы Президент понял то, что до него пытается донести Вадим, однако сам воспринимал мизансцену лишь с собственной точки зрения. Если Президента удастся склонить к сотрудничеству на условиях Олега – чего ещё желать флигель-адъютанту? А Фёсту требовалось совсем другое. Он хотел, чтобы Президент ЕГО страны взял себя в руки и стал тем человеком, который сможет и дальше управлять государством, в совершенно новых условиях. Причём так, чтобы не выглядеть на фоне Императора марионеткой или младшим партнёром. Зачем этому Ляхову превратившаяся в протекторат Россия с декоративным лидером во главе?
Самое интересное – Фёст очевидно верил в то, что этот человек способен на преображение в нужную сторону. В конце-то концов – разве все рыцари Братства не прошли, пусть по-своему, подобный же путь?
Похоже, это уловил и Журналист. Уловил и явно стал на сторону Фёста, хотя и не сказал пока ни слова.
Президент разжал зубы, отпустив невольно прикушенную губу. И вдруг улыбнулся.
– А знаете, хорошо это у вас получилось. И «Принц и нищий» к месту, и остальное. Судьба пытается заставить стать Хэмпом, а я ей назло выберу Смока. Идёт?
И протянул Фёсту руку.
– Идёт. Теперь осталось только добраться до ручья Индианок, и всё у нас будет в порядке…
– За это и выпьем, – продолжил Секонд, которому уже надоело смотреть на полные чарки и слушать чересчур многословные периоды[3] Фёста, пусть и сам он был склонен к риторике не в меньшей степени.
Ещё не зная, что обсуждается сейчас высокими договаривающимися сторонами, Герта вдруг решила тоже внести свой вклад в большую политику. Исходя из своего понимания проблемы. Её ведь не на подпоручика роты спецназа учили. В ранге координатора ей полагалось бы, пусть и не слишком часто, принимать самостоятельные решения государственного уровня, используя в качестве инструмента любых подходящих людей, вплоть до коронованных особ. Как, например, работала в викторианской Англии Сильвия, леди Спенсер.
– Слушай сюда, Лёня, – Герта вспомнила свою командировку в Одессу, и ей показалось подходящим такое обращение к генералу, – я тут немножко подумала… Если вашему Президенту так не хочется «засвечиваться» перед Олегом и как бы признавать своё поражение, на поклон идти – можно попробовать провернуть акцию своими силами. Только нужно вызвать остальных девчат с Уваровым оттуда, где они находятся, подключить ещё хотя бы взвод, а лучше всю роту «печенегов». Если Фёст и Секонд с Тархановым договорятся, я надеюсь, и за сегодняшнюю ночь мы легко можем вернуть Президенту престол с полностью зачищенными окрестностями. У нас почти все данные по руководству заговора есть, чего не хватает – за час по «Шару» выясним. И вперёд, попросту, в жанре нормальной фронтовой операции. Мы, «печенеги», «правовые предрассудки» и собственного государства не слишком почитали, пока Олег к власти не пришёл, а что говорить о чужом? Ну, ладно, – поправилась она, заметив непроизвольную гримасу на лице Мятлева, – пусть не «чужом», а «другом».
Леонид Ефимович поначалу несколько оторопел от простоты и даже примитивности высказанной валькирией идеи. То есть действительно, без всяких, даст бог, осложнений в течение ночи произвести самое широкое изъятие и ликвидацию всех, на кого укажет пленный генерал, его бывший коллега Стацюк, кого сам Мятлев подозревает, кто вообще вёл себя «нелояльно», ворует не по чину, по западным посольствам бегает… Даже и ликвидация ни к чему, если все хотят чистые руки и белые ризы сохранить. Пусть «печенеги» забирают их к себе и используют, допустим, на сельхозработах где-нибудь в сибирской или даже уссурийской глуши. На перевоспитание к староверам и казакам отдать… Забавно может получиться. «Декабристов» всех мастей – в одну кучу, без различия партийной принадлежности. Кружки дискуссионные будут устраивать, как эсеры, эсдеки, анархисты на царской каторге. То есть в ссылке, конечно.
Мятлев давно был готов «перестроиться» как раз в духе принципов имперской России, только смысла это не имело в прежних условиях. Генерал очень хорошо помнил девяносто первый год, в самом подходящем возрасте был, двадцать лет – и ума уже хватало, и эмоционально всё очень ярко воспринималось. И случившийся тогда «демократический шабаш» с известными последствиями относил как раз на счёт того, что не нашлось в стране по-настоящему подготовленных к катаклизму таких масштабов и, главное, в нужном направлении здравомыслящих людей. Ничего ведь не стоило бы толковому лидеру (существуй тогда такой вообще на российских политических подмостках) вроде Наполеона и, чёрт с ним, даже Сталина вовремя оценить суть происходящего, возглавить движение и направить ситуацию в нужное русло.
Тогда после нескольких месяцев, ну – года некоторой турбулентности – вполне можно было вывести государственный корабль с минного поля на безопасный и ведущий в сторону благоденствия и процветания фарватер. С огромной выгодой для всех, а не катастрофическими потерями.
Сейчас будет, с одной стороны, потруднее, ибо слом намечается не слабее того, двадцать лет назад случившегося, но и легче тоже – страну придётся подгонять под уже существующий и эффективно действующий шаблон с помощью умелых и знающих людей. И подушек безопасности теперь больше, чем в люксовом «Майбахе».
Но, кажется, чем чёрт не шутит, наклёвывается вариант не хуже.
Судя по словам Герты, нужно совсем мало – заставить Фёста убедить Секонда, потом вдвоём – неизвестного пока Леониду, но, видимо, весьма серьёзного человека Тарханова. Тут, конечно, им все карты в руки. Сумеют – и реформы можно будет начать проводить в самых благоприятных условиях, не спеша, просчитывая каждый следующий шаг и не опасаясь больше никакой оппозиции. Хотя при чём тут оппозиция?
Непонимание, чудовищная умственная ограниченность собственной президентской якобы команды, помноженные на шляхетский гонор и неспособность «верхов» прийти к согласию по любому мало-мальски серьёзному вопросу, если при этом задеваются местнические и финансовые интересы каждого из «кланов» и «центров силы», – вот в чём беда. Ей-богу, Леонид Ефимович никогда не был упёртым коммунистом, сталинистом тем более, но моментами накатывала такая ярость, причём – бессильная, что сталинская кадровая политика казалась единственным выходом.
Расстрелы и гулаговская каторга – это в большинстве случаев, конечно, лишнее, но тотальная чистка, с полным отстранением вороватых, не умеющих и не желающих работать чиновников любого ранга от всех видов государственной деятельности, а при необходимости и конфискация «до нитки», до шести квадратных метров жилья на человека, одного комплекта зимней и двух – летней одежды, и зарплата на уровне прожиточного минимума – это как раз то, что нужно!
«Стоп, стоп, парень, – тут же сказал сам себе генерал, – это тебя понесло! Сначала хотя бы первый шаг сделать надо. Ликвидировать мятеж, организаторов, исполнителей, пособников, и закрепить своё положение, используя в качестве надёжного и беспристрастного инструментов этих самых «печенегов». Это только вообразить – тысяча человек «личной гвардии», и все – такие как Герта с Людмилой…»
Тут, очень вовремя, на кухне появилась Вяземская, сообщить, что стол для ужина она уже сервировала и можно начинать носить закуски и прочее. Отмахнувшись, Герта торопливо изложила подруге свой план. Мятлев, незаметно для девушек опрокинувший большую рюмку коньяка, закурил, отойдя к окну. Теперь какое-то время от него ничего не зависит. Можно спокойно полюбоваться панорамой «другой Москвы». Солнце уже село, от западного горизонта почти до зенита по тускнеющей голубизне разлилось алое, через ряд оттенков переходящее в малиновое, сияние. Разбросанные по небу отдельные кучевые облака, тоже изощрённо подкрашенные и подсвеченные разными оттенками фиолетового, синего и серого, придавали картине совершенно сюрреалистический вид. Наверняка вся эта давяще-тревожная красота намекала на предстоящие события, судьбоносные и кровавые. Так как там у Салтыкова-Щедрина? «Дорога из Глупова в Умнов лежит через Буянов, а не через манную кашу».
«Хотя, – подумал Мятлев, – происходить-то события будут совсем не здесь, а там, у нас, так к чему же эта иллюминация?»
И тут же сам себе ответил: «Но происходить-то они будут именно с тобой, вот тебе знак и подаётся…»
Чёрт знает, какие глупости лезут в голову по причине сильного душевного волнения.
– А что, – ответила, выслушав самый приблизительный абрис[4] плана Вяземская своим мелодично-обволакивающим (вне строя) голосом, – мне нравится. Особенно после всего, что сегодня было. Фёст стопроцентно на нашей стороне (попробовал бы возразить! Сейчас у девушки имелось против него неотразимое оружие, которым из двух влюблённых успешно может пользоваться тот, у кого нервы крепче и выдержки больше), Секонда мы тоже уломаем, ничего сложного. (Людмила воспринимала аналога своего Фёста как человека хотя и героического, увенчанного всеми возможными наградами, кроме того, своего прямого начальника, но при этом гораздо более слабохарактерного, чем «брат», ведомого в этой странной паре.) А вот с Тархановым им самим придётся работать, нам такая фигура не по зубам. Надо бы, конечно, ещё вызвать оттуда, где они сейчас находятся, остальных девчонок во главе с «дядькой Черномором» (Уваровым), ну и Сильвию, конечно. Без неё – никуда.
– А что Сильвия? Ей как раз сейчас здесь делать нечего. С автоматом бегать – не её уровень. Сами справимся. А аналитиков и без неё достаточно, – возразила Герта.
– Да как сказать, – Людмила смотрела на вещи глубже, – не те из нас аналитики. Сегодня мы одно дело сделаем, а что вследствие этого завтра начнётся?
– Что завтра начнётся – завтра и решим, – сказал, отворачиваясь от окна, Мятлев. Ему хотелось немедленных действий, и не только мести (хотя и её тоже), а созидательной деятельности по наведению в стране настоящего порядка. Важнее же всего – возможность в последний момент перехватить инициативу, удержать власть и впредь выступать на переговорах с Императором, как самостоятельная, независимая сила. Не изучал Леонид Ефимович как следует историю Варшавского восстания, иначе не повторял бы ошибку Бура-Комаровского[5].
– Нет, так не положено, – уже более жёстким тоном возразила Вяземская. – Одно дело, когда мы там у вас импровизировали, действовали в условиях крайней необходимости. А самостоятельно в другой стране смену государственного строя всемером устраивать… Нет, так не пойдёт. На то верховное главнокомандование имеется.
– Вдевятером, – машинально поправила Герта, – если Уварова и Фёста считать. А так ты права, пожалуй. Это я погорячилась… – Она выразительно посмотрела на Мятлева. Мол, и ты в моей горячности виноват.
– Давай сначала то, что нам непосредственно приказано, исполним. Дипломатический ужин в честь главы сопредельного государства – это тебе не офицерские посиделки. Потом отзовём Фёста и предложим. Как он скажет, так и будет.
Поужинали наскоро, аппетита не было почти ни у кого, адреналин в крови ещё присутствовал в достаточных количествах.
– Я бы предложил прогуляться по вечерней Москве, – сказал Фёст, – ничего более осмысленного мы сейчас предпринять не можем. Времени у нас неограниченно. Можем хоть месяц отдыхать, а там стрелки остановлены, как на шахматных часах. Попросим местных товарищей принять бразды правления и окружить нас заботой «согласно законов гостеприимства».
Насколько мне известно, да вот и Леонид Ефимович подтвердит – этот город, ваше высокопревосходительство, во множество раз безопаснее нашего с вами. Самодеятельной преступности здесь, считайте, нет, только профессиональная, которая уличным хулиганством не занимается, наоборот, сама бдительно следит, чтобы всякие отморозки ей лишних проблем с властями не создавали. Наркомании и наркоманов тоже нет, кокаином, гашишем и опиумом больше в великосветских салонах и на богемных сборищах балуются, как у нас до Первой мировой. Ну и постовые городовые на каждом перекрёстке стоят, в пределах зрительной и звуковой (свистком) связи…
– Прямо рай земной у них здесь, получается, – недоверчиво хмыкнул президент. – Отчего же у нас, что в России, что в США, преступность непрерывно растёт, причём становится всё более агрессивной и немотивированной?
– Ну, Георгий Адрианович, – не выдержал уже Секонд. – Вы же юрист всё-таки, неужели нужно столь очевидные вещи растолковывать? Видно, на вашем факультете чему-то не тому учили. И Маркса с Энгельсом, наверное, на семинарах игнорировали. Вы же успели эпоху тотального марксистско-ленинского образования застать?
– Да практически уже и нет. Во время перестройки, когда я только поступил, на эти науки уже внимания почти не обращали. Другие имена в моде были. Но вы откуда про всё это знаете? Здесь тем более «исторический материализм» и «научный коммунизм» ни к чему.
– Исключительно из чистого любопытства почитывал. Хотелось понять, как такие заумные теории к государственному перевороту и Гражданской войне привели. А когда с братцем, – он кивнул в сторону Фёста, – познакомились, пришлось всерьёз заняться. Семьдесят лет вашей советской истории – весьма увлекательный феномен…
– Так не совсем понятно, как вы Маркса с Энгельсом и проблему преступности у нас и у вас увязываете, – задал вопрос до того молчавший Журналист.
– Ничего нет проще, Анатолий. Бытие всё-таки определяет сознание, хотя последнее время политологи утверждают, что наоборот, – ответил Фёст. – Если вы помните, царская Россия по уровню уголовной преступности занимала одно из последних мест в цивилизованном мире, и число заключённых на душу населения было ровно в пятнадцать раз ниже, чем сегодня у нас в РФ. Для примера ещё напомню, что при Муссолини мафия в Италии была практически сведена к нулю и на двадцать лет «залегла на дно». А как только американцы Италию освободили, первым из демократических институтов возродилась именно мафия. Интересный факт, да? Так вот в здешней России с самой Гражданской войны шла целенаправленная борьба не только с «причинами преступности», как это декларировали большевики, а прежде всего с её носителями, поскольку победившая «белая» власть хорошо усвоила, что уголовники для коммунистов – «классово близкие» и являются своеобразной «питательной средой» для советской власти. Так называемые «честные люди» ей невыгодны и политически и экономически. Как, впрочем, и нынешней эрфэшной. Вот мелочь вроде бы, а меня наповал сразила – с появления первых личных автомобилей и по сей момент в СССР, теперь РФ, существует норма – «угон без целей хищения». Кража костюма из магазина – всегда кража, поносить ты его взял или насовсем. А машину, оказывается, можно как бы и не украсть… Всё вокруг народное, всё вокруг моё!
– Хватит, хватит, друзья, – вмешался Мятлев. – Уж это – совсем не тема для текущего момента. Собрались идти гулять – так пойдёмте. Тем более – наши дамы уже переоделись и ждут, нервничая.
Действительно, пока мужчины вели застольную беседу в сократо-платоновском духе, валькирии привели себя в вид, подходящий для намеченной цели.
…Перед выходом Мятлев с Фёстом проверили, в каком состоянии находятся оба пленника, по старой методике приковали обоих в разных ванных комнатах наручниками к трубам. От жажды не помрут и гадить под себя не будут, остальное несущественно. Пусть думают, тем более что Мятлев, не скрывая злорадства, сообщил своему бывшему коллеге Стацюку, что они все, сам Леонид Ефимович в том числе, находятся в руках людей, для которых понятия прав человека, уголовно-процессуальный кодекс и даже конвенция по обращению с военнопленными (если бы они под таковую попадали) – пустой, неосязаемый чувствами звук.
Эти слова вызвали у генерала очередную презрительную усмешку и короткий нецензурный ответ. Или он словчился перед выходом на переговоры каким-то долгоиграющим наркотиком заправиться, или от природы обладает таким идиотским упрямством, издалека похожим на настоящее мужество.
– Давай-давай, выпускай пар, – поощрил его Фёст. – Часиков через двенадцать весь гонор с тебя сойдёт, тогда и побеседуем. Строго исходя из тех же жизненных установок, которыми ты руководствовался. Так что сиди на цепи и воображай, как бы ты со мной поступил, попади я в твои руки, а потом помножь всё это на два, а то и на три. Просто потому, что я умнее и фантазия у меня богаче… Так что приятной медитации.
Выйдя из ванной, он погасил в ней свет. В темноте обычно лучше думается.
Для начала Секонд решил устроить ознакомительную поездку по Москве на открытых автомобилях. Таксомотры прибыли по вызову минут через десять, до «биржи извозопромышленников» тут совсем недалеко. При размещении возникло краткое препирательство. Секонд предложил в первую машину сесть Президенту, Журналисту, Мятлеву. И он с ними в качестве принимающей стороны и экскурсовода. Во вторую – Фёсту, Людмиле, Герте. Они составят группу сопровождения и прикрытия, на случай если и сюда проникнет какой-нибудь враг. Прецеденты случались.
Мятлев возразил, желая, чтобы с ним ехала и Герта. Вроде логично – эскорт-леди вместе с подконвойным, как сострил Фёст, лицом. Журналист хотел, чтобы с ними сел и Фёст, в паре с Секондом они интереснее и полнее вели бы «экскурсию». Используя очередной урок Шульгина (говорить открыто и прямо то, что обычно принято маскировать дежурными словами, правилами этикета, «политкорректности» и т. п.), Ляхов сказал спокойно и с подходящей случаю улыбкой: «Не стоит мне с вами сейчас ехать. Атмосфера и так перегрета. Нам эмоциональный срыв сейчас ни к чему. Лучше катайтесь и Вадима слушайте. Он человек воспитанный, опять же – особа, приближённая к Императору (при всём комизме этой как бы цитаты, она сейчас была истинной правдой, что само собой несколько снизило взаимное напряжение). Через час-полтора настроение у всех нас будет совсем другое…»
Мятлеву даже без слов, одним взглядом было указано, что он сейчас – член высокой делегации, а не Казанова в увольнении. Ну а насчёт схемы прикрытия он и сам всё понял.
Водителю второго наёмного «Ландо-кабриолета»[6] Секонд приказал держаться на расстоянии 20–30 метров от передней, повторяя все её маневры. Для начала выехали на Тверскую, свернули на Садовое кольцо. Вполне походящий маршрут для первой обзорной экскурсии по новому миру. Президента поразило не столько само Кольцо, такое же широкое, как и в его Москве, но с четырьмя рядами мощных лип вдоль тротуаров и по сторонам идущего посередине бульвара, как весьма разреженное движение и полное отсутствие даже отдалённого намёка на пробки. Бывало, перед красным светофором на перекрёстках сосредотачивалось несколько машин, но и только. Об этом он и спросил Секонда, предварительно уточнив, какое в этой Москве население.
– Миллионов шесть было по последней переписи. А точнее никто не считал, здесь ведь прописки, как у вас, нет, – сказал тот, – кто-то приехал, кто-то уехал. А что касается «пробок» – ничего сложного. Прежде всего – частных авто у нас крайне мало, в сравнении с вашими масштабами, конечно. Во-первых, цены на автомобиле почти запретительные, как в Европе на курево. Человеку со средним жалованьем нужно лет десять не пить, не есть, чтобы приличную для столиц машину приобрести. Такую вот, – он похлопал ладонью по полированной деревянной окантовке верхнего края автомобильной дверцы. – В провинциях, там наоборот – транспорт для езды в сельской местности крайне дёшев, но ни один уважающий себя москвич «Иртыш» или «Амур» (это такие аналоги ваших джипов-пикапов, только на техническом уровне начала пятидесятых годов), в качестве городского транспорта использовать не станет. Да и полиция не допустит. Ну представьте себе, как в то ещё царское время надворный советник или артист императорских театров на телеге ломового извозчика по Камергерскому переулку на премьеру в Художественный театр едет…
Президент с друзьями представили. Заодно сообразили, что до пресловутого тысяча девятьсот семнадцатого года собственные выезды имелись у крайне узкого слоя населения, прочие довольствовались, в зависимости от общественного статуса, конками, трамваями, извозчиками-ваньками и, наконец, лихачами.
Секонд кивнул, в подтверждение их мыслей, которые разгадал без труда.
– Сейчас то же самое. Наёмные автомобили, такси по-вашему, по-нашему – «моторы», крайне дёшевы и имеются в изобилии. Плюс все прочие виды «общественного транспорта», их больше, чем у вас, и работают лучше. Ну и метро, само собой. Здесь его построили без всякого Кагановича, без «трудового героизма» комсомольцев-добровольцев, но гораздо раньше. Уже к тридцать второму году в Москве имелась Кольцевая линия, в Петрограде – одна прямая, от Финляндского вокзала до Лавры. А у вас в «Ленинграде» только в пятьдесят пятом, кажется, появилось? Причём станции у нас как в Париже, через каждый километр, а то и ближе. Без сталинского шика, конечно, но целям своим вполне отвечают…
– Ну и информированность у вас, – с недоумением и даже некоторой тревогой сказал Президент. – Это у вас что – специальное направление в разведке, за нашим миром наблюдать?
– Нет, не волнуйтесь, пожалуйста. Такой подкованный, пожалуй, только я. По известной причине. Ещё два десятка человек бывали на вашей стороне эпизодически. Всего о существовании «другой России» осведомлено человек двести, наверное, причём интерес у них либо весьма научный, историко-политический, либо крайне прагматический насчёт военной техники. Так что в случае расширения контактов и моя и ваша сторона находятся примерно в равном положении. Нужное количество ваших дипломатов и разведчиков смогут на нашей учебно-тренировочной базе буквально за две недели пройти ускоренный курс истории, географии и политического устройства Империи. Ну и все открытые документы, библиотеки, дальновидение – к вашим услугам. Нам скрывать нечего… от лояльной к нам элиты Российской Федерации. А опасности распространения «секретной информации» в массах теперь практически не существует. Разве какие-то крайне продвинутые иностранные специалисты могут заинтересоваться, так на то имеется Леонид Ефимович. Как врагу стратегическую дезинформацию впаривать, вас, надеюсь, учить не нужно?
Президент с Мятлевым ещё ничего не успели ответить, как свой вопрос задал Журналист, привыкший к блиц-пресс-конференциям:
– Почему – теперь?
Секонд хитро усмехнулся.
– Вы, Анатолий, в книжные магазины часто ходите?
– Ну, довольно регулярно. Обычно в «Библио-Глобус».
– Обратили внимание, какое буквально за последние год-два появилось количество фантастических романов о параллельных мирах и так называемых «попаданцах»? В смысле – из нашей реальности в вашу и наоборот.
– Видел кое-что, но особого внимания не обращал. Это вам нужно с Писателем обсуждать…
– Обсудим, будет время. Так вот я скажу – за два года у вас опубликовано более пятисот книг на эту именно тему. Все остальные – «космические оперы», «твёрдая НФ», как у вас говорят – почти забыты. Даже фэнтэзи несколько сдало свои позиции. У нас – примерно та же картина, только пишут поменьше, здесь вообще фантастика особого развития не получила. Кто его знает, почему. Возможно, именно ввиду отсутствия семидесяти лет советской власти стремления к эскапизму не развилось. Так что пришлось, секрет открою, многих ваших авторов привлекать. «Втёмную», конечно. Просто предлагают господину-товарищу «Эн» или «Эм» роман, а то и сериал изваять на заданную тему. И гонорарчик вполне себе ничего предлагают. Потом данное творение, если более-менее прилично получилось, и там и тут продают, соответственно адаптировав. Часто – с успехом.
– А какое это вообще имеет отношение?.. – спросил, наконец, Президент.
Секонд рассмеялся.
– Да самое прямое. Классическая операция прикрытия. Это вы Фёсту спасибо скажите. Ему после попадания в имеющуюся бифуркацию особенно делать нечего было, кроме как о дальнейших судьбах Отечества размышлять и доступные изучению реальности сравнивать. Две наших, и ещё две с половиной сильнее отличающиеся. Вот и пришла в голову идея радикального решения вопроса. А всякое дело требует идеологической подготовки, о чём у вас последние двадцать лет как-то подзабыли. Хотя исторический опыт вроде имеется. Им мой аналог и воспользовался. Совсем немного целенаправленной работы с писателями и издателями, не слишком большие финансовые вложения – и пожалуйста. Из того, что ваш друг Генрих двадцать лет назад начинал на отечественную почву прививать, причём не слишком успешно (кстати, и Вадим, и я все его книги прочли), такие вдруг плоды выросли… Теперь любое мало-мальски приличное издательство если десяток книг об альтернативных Россиях не напечатает, так вроде и зря существует…
– Понятно, – сказал Журналист. – Я ведь не договорил. Я действительно специального внимания на этот момент не обращал, а вот Генрих, помнится, ругался последними словами как раз по поводу такой, можно сказать, эпидемии. Мало что саму идею до предела опошлили, так теперь и он, получается, всего лишь один из многих «райтеров» этого типа. Обидно. Думаю, ему будет приятно теснее пообщаться с автором и исполнителем этой подлянки. Одним словом, получается, это вы с вашим братом такую дымовую завесу и психологический фон создали. И теперь, начни кто о параллельных мирах всерьёз говорить, сразу диагноз поставят…
– Именно так. Это одна сторона. А вторая…
– Тоже понятно. Оспенная вакцинация…
– Сообразительный вы человек, Анатолий. Думаю, вам не только у себя, у нас тоже работа найдётся. Именно прививка. Поэтому мы своими делами ещё очень долго можем спокойно заниматься, а когда время придёт – у широкой публики никакого шока не будет. Параллельный мир? Ну и что тут такого? Про это все давно знают… Мне Фёст рассказывал, как наш общий отец в его мире отреагировал на сообщение о высадке Армстронга на Луну. Да и большинство окружающих – тоже. Вот полёт Гагарина – это была сенсация, а Луна всего через восемь лет – уже рутина.
Пассажирам второй машины любоваться красотами вечерней столицы было некогда. Девушки наперебой изложили старшему товарищу свою идею, присовокупив, что Мятлеву она очень даже понравилась.
– Чего ж не понравиться, – усмехнулся Фёст, вольготно раскинувшись в одиночку на широком сиденье, расположенном в передней части салона, спиной по ходу движения. Не совсем удобно, но такие уж здесь вкусы – планировка современного автомобиля повторяет схему старых экипажей. Зато девушки устроились просторно, с полным комфортом – ноги вытянуть можно, от встречного ветра спереди защищает водительская кабина, с боков и сзади – сложенный тент. Между сиденьями – откидной столик с пепельницей, мини-баром, холодильником для воды и соков. Недешёвое удовольствие – нанимать такие таксомоторы, не по километражу, а «на время», но уж чего-чего, а денег Фёст с Секондом не считали, в их распоряжении имелись суммы, ради которых целая толпа олигархов «пошла бы на любое преступление даже под страхом виселицы», как написано у Маркса.
– Ему, конечно, понравилось. Нашими руками завтра власть себе вернёт, с врагами и соперниками рассчитается, после чего тепло поблагодарит за помощь и пошлёт на… Тебя, может, и не пошлёт, – издевательски поклонился Герте, прижав ладонь к сердцу, – а нас – очень даже. Чтобы «начать отношения с чистого листа». Как считаешь? – обратился он к Людмиле. – Или ты тоже обеими руками – «за»?
– Ну, я не знаю, – смутилась Вяземская, – поначалу мне показалось – правильно Герта предлагает. Мы же ведь за них воевать согласились? И я с Журналистом, и вы все потом на даче у Президента… – Она как-то растерянно посмотрела сначала на подругу, потом на Фёста. – А сейчас ты сказал, и я по-другому посмотрела…
– Неужели до вас сразу не дошло, в чём смысл всех наших «подвигов»? – тоном учителя, уставшего вколачивать в головы туповатых школьников какую-нибудь математическую теорему. – А Секонд должен был просветить…
– Это он Уварова с его Настей, может, и просвещал, – резковато ответила Герта, поняв, что не просто так Фёст говорит, знает, о чём и почему. А ему после боя на истринской даче она инстинктивно доверяла больше, чем своему непосредственному начальству. Уварова же с Анастасией она приплела просто так, от досады, невзначай проявив скрытый комплекс. Сама она на Уварова никаких видов не имела, но ощущала какое-то раздражение оттого, что Вельяминова, во всём остальном весьма резкая девушка, слишком часто смотрит на подполковника взглядом… В общем, слишком уж откровенно смотрит, добро бы – только за пределами части и служебного времени. Людмила на Фёста, впрочем, тоже. Но здесь всё совсем иначе. После того, как Герта спасла командира, она испытывала к Ляхову-первому несколько своеобразное чувство и, в общем-то, радовалась, что отдала человека, получившего от неё «вторую жизнь», в хорошие руки[7].
– Значит, не счёл важным с вами эту тему поднимать. Да и с Уваровым, скорее всего, тоже не беседовал. Придётся мне. Вы девушки служивые, вам нравственных категорий касаться не по чину, и волновать они вас не должны, тем более, если совсем не вашего мира касаются. Это мне рефлектировать полагалось бы, с общеморальной точки зрения глядя…
Фёст закурил, что всегда делал, когда принимался философствовать или кого-то в чём-то убеждать. Наверное, у Удолина научился, тот даже лекции в университете читал с зажатой в пальцах дымящейся папиросой.
– Державе, которой вы служите, совершенно не интересно, чтобы вы своими силами или с дополнительной помощью помогли властям РФ самостоятельно справиться с мятежом. И мне, хотя и тамошнему уроженцу, это тоже не нужно. Подумайте сами – зачем нам восстановление и консервация имеющегося государственного устройства? Оно хоть и лучше всего, что предыдущие несколько столетий существовало, но уж если начало сыпаться – и бог с ним. Мертвецов обратно с кладбища не носят. Если появился шанс – так надо его использовать с максимальной пользой. Для того и придуман «Мальтийский крест», который ваш господин полковник курирует. Сами подумайте – ну, искореним мы завтра верхушечный заговор, виновников к стенке поставим, всю полноту власти милейшему нашему Президенту и заодно господину Мятлеву на блюдечке с голубой каёмочкой вернём. И что? Думаете, они хоть какие-то уроки извлекут? Крайне сомневаюсь. Даже такой перекладки руля, как после ГКЧП в девяносто первом, не произойдёт. А зачем? И так всё снова хорошо. Крупный бизнес – при своих, чиновники – тем более. Для тех, кто выживет, – даже лучше, вакансий много откроется. А я, можете смеяться, но – идеалист. И хочу, чтобы Россия раз и навсегда таким государством стала, чтобы я им непрерывно и круглосуточно гордился. Вот как вы своим. А для этого нужно, чтобы нынешний господин президент (поскольку лучшего сейчас на примете не имеется), из последних сил, кровью, пардон, харкая, из этой заварушки выбрался, как ваша Россия в девятнадцатом году из Гражданской войны. Тогда, глядишь, поймёт кое-что…
– А не поймёт? – с острым любопытством спросила Герта.
– Тогда пожалеем его и перейдём к следующему пункту нашего плана. Второй Керенский и второй Горбачёв России ни к чему. И тех выше крыши хватило. Уж лучше Корнилов Лавр Георгиевич.
Глава вторая
То ли волею неких высших по отношению к человечеству и всему историческому процессу сил, то ли из-за сцепления обыкновенных случайностей (которые, по Энгельсу, есть всего лишь «непознанные закономерности») в Замке, в кабинете Арчибальда и прилегающих помещениях, этой ночью собралось множество очень разных людей. Занимавшиеся своими делами и потому не слишком ориентирующиеся во вновь переменившейся обстановке Басманов и Сильвия, Уваров и Анастасия, Катранджи и Кристина, Удолин. Вторую группу образовывали обретшие новый опыт и даже новое самоощущение Мария, Марина, Инга, сумевшие самостоятельно или с чьей-то благожелательной (или просто весьма прагматичной) помощью обуздать ставшего вдруг совершенно зомбиобразным Арчибальда. И третья компания – не имеющие никакого отношения к эзотерике, межвременным перемещениям и играм реальностями, отчего и совсем ничего не понимающие Юрий Бекетов, Николай Карташов, три брата Кузнецовых – Егор, Ваня и Саня, да ещё восемь человек вообще статистов – пошедшие с отставным штабс-капитаном на штурм крюйт-камеры крейсера «Гренвилл» безымянные волонтёры. Подобие футурошока они, безусловно испытали, но шок этот был скорее приятный. Любой почти вариант гарантированной жизни заведомо лучше перспективы близкой смерти. Так что едва ли права Долорес Ибаррури со своим: «Лучше умереть стоя, чем жить на коленях». С колен так или иначе можно подняться, а из могилы – едва ли.
Вот и здесь – из душных, пахнущих краской, ржавчиной, затхлой трюмной водой отсеков, где вот-вот предстояло принять неравный бой с экипажем целого крейсера, поставившие жизнь на последнюю карту люди каким-то пока необъяснённым образом перенеслись в просторное, светлое, наполненное заманчивыми запахами помещение сказочной красоты.
Скандинавской мифологией никто из спасённых не увлекался, поэтому нескольких, разных, но одинаково прекрасных, явно дружелюбно настроенных девушек вызвали ассоциацию скорее с гуриями из мусульманского рая, нежели с теми, кем они были на самом деле – валькириями. Правильность последнего тезиса подтверждал и огромный круглый стол, накрытый, как, наверное, в царском дворце для пасхального разговения[8], и за спинками стульев стояли готовые к услугам самые настоящие лакеи.
«Своим» объяснять суть происшедшего пришлось Маше Варламовой, вдруг ставшей моральной предводительницей их независимой троицы, а за счёт успешного освоения пока недоступных другим тайн блок-универсала получившей преимущество и над всеми остальными. В некотором смысле над Сильвией тоже. Если и не за счёт информированности (пределы её знаний оставались девушкам неизвестны), так хотя бы решительности и готовности к неожиданным и «статусом не предусмотренным» действиям.
Они все отошли в дальний угол обеденного зала, так, чтобы их не могли слышать «гости», с которыми теперь неизвестно, что и делать.
– Ну-ка, подожди, Мария, – прервала её Сильвия, выслушав больше половины рассказа-доклада. – Хочешь сказать, что просто так взяла и догадалась, как использовать кодовые клавиши? Непонятно. Какие-то вы слишком умные стали. Сначала Анастасия со своим блоком чудеса начала вытворять, теперь ты… А ведь я уже говорила – система управления блок-универсалом активируется только в пределах уровня компетенции владельца. Мало того, что тыкай ты наугад пальцами в кнопки хоть тысячу лет – случайно необходимую именно в данный момент команду не наберёшь. Так даже и случись такая немыслимая флюктуация – блокировка сработает. Не положено – значит, не положено.
– Это мы всё знаем, Сильвия Артуровна, – дерзко ответила Мария, – только вот какая штука, я от нечего делать придумала, как полную таблицу кодов управления блоком открыть…
– Что-о??? – Сильвия была поражена не меньше, чем какой-нибудь Парацельс, на глазах которого нерадивый ученик вдруг взял да и синтезировал из подручных реактивов философский камень.
– Полную таблицу? Её даже я ни разу не видела…
– Места знать надо, – с усмешкой лёгкого превосходства вставила Марина и при этом из-под ресниц просила хитрый взгляд не на Сильвию, а на Басманова.
– Беда в том, – продолжала Маша как ни в чём не бывало, – я аггрианского языка почти не знаю. Так что расшифровала кое-что и кое-как… Правда, и этого хватило.
– Да откуда ты хоть что-то знаешь, такая умная… – снова удивилась-возмутилась Сильвия. Она себя сейчас чувствовала крайне дискомфортно. Сколько служит, а за полтораста лет не узнала того, что эти девчонки за какие-то полгода-год «человеческого» существования. Да и с Арчибальдом! Разыскивала ноутбук с записями Скуратова, сидела, формулы перехвата каналов управления от Замка к роботу выводила, все силы собрала для решающего боя, а тут – на тебе! Враг повержен без твоего участия, причём примитивнейшим образом – нажатием пары кнопок на таком же «портсигаре», что сама она с девятнадцатого века при себе носит… Ощущение куда хуже того, что испытывает человек, с разбега ударивший плечом в отпертую дверь!
– Я не умная, Сильвия Артуровна, я сообразительная. Вспомнила всё, что при мне Лихарев говорил и делал, не считая нужным скрывать свои упражнения и прятать рабочий дневник от «дурочки недоделанной», а оно вдруг и пригодилось.
– И Лихарев многое из того, до чего ты «додумалась», знать не мог. Не должен был. Он на целых два ранга ниже меня…
Сильвия оборвала фразу, нахмурилась, тяжело вздохнула.
– Что-то не то последние годы у нас на Таорэре творилось. Отстала я за сотню лет. И Дайяна мне ничего не сообщала о «новых веяниях». Или это опять последствия «несоблюдения ритуала похорон»?[9] Ну, ладно, хрен с ним, как говорится. Значит, сейчас ты на уровне как минимум Дайяны с блоком работать можешь. Не знаю, чем это всё закончится, но пока спасибо тебе. В ближайшее время нам всем очень кисло бы пришлось. Моя бывшая система была, конечно, совсем не идеальная, но всё же сумасшедшие железки властелинами мира себя не объявляли…
– Это вы, Сильвия, правильно сказали, – поддержал её Удолин. – Самая лучшая магия иногда бессильна против обыкновенной ручной гранаты.
– Значит, нечего где попало гранаты разбрасывать, – жёстко сказал Басманов. – С этим делом у Андрея Дмитриевича и Александра Ивановича куда больше порядка было, а без них подраспустились…
Возразить полковнику никто не взялся, да и что возразишь? Только Марина в очередной раз подумала, что не ошиблась, обратив внимание на Михаила Фёдоровича. Вот таким и должен быть настоящий мужчина, боевой офицер. В сравнении с ним и Уваров, и даже Ляхов выглядят не так, чтобы очень…
– Это замечание меня касается? – с ангельской улыбочкой осведомилась аггрианка.
– Нет, это я порядке напоминания об основных принципах техники безопасности, – ответил ей Басманов.
– Может быть, оставим эту тему до следующего раза, – спросил Уваров, вообще ничего не понявший в предмете разговора ещё более высокопоставленной, чем он понял вчера, дамы с его подчинёнными. При этом он смотрел на возбуждённо о чём-то дискутирующих «гостей», так и не решающихся без команды сесть за стол, несмотря на страстное желание добраться наконец до крайне заманчивых бутылок и иных сосудов. – Меня куда больше интересует, что нам делать с этой публикой…
– Что делать? Для начала побеседуй с их старшими, по отдельности. Их, как я понимаю, двое, вон тот и тот, – указала Сильвия рукой. – Намного образованнее других выглядят, да и держатся с достоинством, почти совсем не растерялись. Вон тот, древнеславянский типаж, наверняка офицер. С одним ты, с другим пусть Анастасия с Марией. Их же учили экспресс-допросам в полевых условиях. А мы пока тоже посоветуемся, подумаем, – сказала она, имея в виду себя, Басманова и Удолина. Остальные оказывались как бы вообще ни при чём. Хотя впрямую этого сказано не было, Ибрагим догадался (прирождённый лидер мирового уровня всё же), и почувствовал себя задетым.
– Что тут советоваться, я уже знаю, как быть, – деловым тоном сообщил он, с какой-то восточной насмешкой глядя на леди Спенсер.
«Интересное дело, у них тут с этим турком какие-то свои счёты, – подумал полковник Басманов. – Но меня они не касаются. Для меня сейчас Катранджи – официальное лицо, а Си – просто заехавшая в гости знакомая. Пусть меня в свои разборки не втягивают».
– Я тоже с гостями побеседую. Интересно, что там и как у них случилось… – сказал он.
– Хорошо, – не стала спорить Сильвия. – Занимайтесь. Тогда мы с Константином Васильевичем и Ибрагимом Рифатовичем сосредоточимся на нашем милом хозяине. Вся сложность в том, чтобы лишить его всяческих намёков на «свободу воли» и желания реванша, но сохранить в целости структуру личности, оперативную память и, так сказать, интеллект.
Совершенно случайно получилось так, что один из двух «предводителей», именно тот, кого Сильвия назвала «древнеславянским» и с которым Маша переглянулась, ощутив памятный по первой и последней встрече с Александром Ивановичем укол в сердце (наверное, тоже одна из составляющих его «подарка»), достался для допроса ей и Уварову, а второй – Анастасии и Басманову. Прочим Михаил Фёдорович, в котором все «гости» мгновенно почувствовали «настоящего» начальника, предложил рассаживаться, наконец, выпивать, закусывать, вообще чувствовать себя «в увольнении».
– Но чтоб не упиваться, а то сразу вернётесь, откуда пришли, – завершил свои слова Михаил ровным, даже несколько рассеянным тоном, но каждый сразу понял, что так и будет. Сделает и не поморщится.
– Ты – за старшего будешь, – указал он пальцем на Егора Кузнецова, привычно угадав в нём и неформального лидера, и бывшего унтера. Послужив с его, ещё в «старой армии», любой толковый офицер этому бы научился.
На флоте нынешней Российской Державы, как и в армии, офицеры обязаны были обращаться к нижним чинам на «вы», но «у себя» Басманов с младшей роты кадетского корпуса привык к другому, оттого это «ты» прозвучало для Егора вполне естественно и протеста не вызвало.
– Есть, господин…?
– Полковник. Вольно. Отдыхайте…
Юрий Бекетов, когда к нему подошла давешняя девушка в коротких шортах, на всю длину открывающих до чрезвычайности изящные ноги, и в желтовато-зелёной рубашке навыпуск, непроизвольно сглотнул слюну. Одно дело – таких красавиц и в обычной жизни не каждому за всю жизнь удаётся встретить, а другое – обстоятельства, при которых эта встреча произошла. Лежать бы ему сейчас под куском брезента с простреленной головой. А он в дворцовом банкетном зале с ноги на ногу переминается, испытывая непреодолимое желание как следует угоститься, да вдобавок и на натянутую на высокой девичьей груди рубашку пялится. А девушка такая, что прямо вот сейчас пошёл бы за ней, как бычок на верёвочке, не спрашивая, куда и зачем.
– Назовите себя, – мягким, деликатным, но исключающим всякие сомнения в её полном праве задавать любые вопросы голосом сказала красавица. – Имя, фамилию, воинское звание, если есть…
Юрий назвал свой подлинный чин штабс-капитана морской пехоты ТФ, хотя все, кроме Карташова, знали его как бывшего фельдфебеля. Нестыковка может выйти. Да вон, у Егора уже лицо вытянулось и глаза округлились. Но сказать неправду этой девушке не получилось, да и незачем.
Правда, подумал при этом: «Как военнопленного спрашивает. Ещё номер части потребует назвать и личный номер…»
– Ну, пойдёмте, поговорим…
Высокий загорелый парень, года на два постарше Бекетова, представился подполковником Уваровым, а девица – подпоручиком Варламовой, чем немало Бекетова удивила. Менее всего эта красотка, которой бы на дальновидении дикторшей работать или в театре-варьете выступать, походила на строевого офицера. Хотя – почему строевого? Такая «нимфа» (явно ошибся Юрий с определением) и непыльную штабную работу себе найдёт, благоволение начальства любого уровня ей обеспечено. Ещё и передерутся господа штаб-офицеры и генералы.
Коротко, но чётко Бекетов изложил свою историю, от момента увольнения с флота и вплоть до последних секунд пребывания на крейсере.
Похоже, подполковника его рассказ не столько удивил, как расстроил.
– Надо же, стоило на три дня отлучиться, а там опять большой войной запахло. Везёт нам, Маша…
– Да что вы, войной уже целый год пахнет, как будто сами не знаете, – вроде бы искренне удивилась Варламова.
– Запахи, моя дорогая, разные бывают. Иногда «Шанелью», тоненько так, а иногда дерьмом, прошу прощения, во всю силу потянет…
Юрий до сих пор не понимал, где они находятся, кто эти люди и каким образом он сам с товарищами перенёсся неведомо куда из корабельного отсека. Но приобретённая за время службы привычка не задумываться о посторонних вопросах, пока не выполнена ближайшая задача, помогала сохранять душевное равновесие и даже некоторый кураж. Уваров это заметил и оценил.
– Отвага морпехов всем давно известна, – сказал он с необидной усмешкой, – только ведь у вас думать не принято. Начальство указало, где высаживаться, начальство и заберёт, если будет кого. А вам главное – ура, вперёд, за берег зацепиться…
– А вы-то сами из каких будете? – напрягся Юрий, готовясь дать отпор. Будет ещё неизвестно кто морпехам отметки выставлять.
– Мы, братец, из таких, что ты, может, и не слышал. Спецназ разведуправления гвардии «Печенег». Не в обиду будь сказано, мы бы вот с Машей да с Настей втроём весь комсостав крейсера повязали, и ни одна сволочь вякнуть бы не успела…
– Про вашу службу я кое-что слышал, – осторожно сказал Юрий. – Может, и сказки, поскольку вас официально как бы вообще не существует. Ну, вот взяли бы и показали, как у вас дела делаются… Кстати, мы вообще где и что в натуре приключилось? Знаешь, больше всего это на съёмки кино похоже, только артистам об этом сказать забыли. А так всё один в один: декорации, злодеи, немыслимые красотки и всё такое…
– Так это ещё Шекспир сказал: «Мир театр, и люди в нём актёры». Или не Шекспир? Не суть важно. Объяснения, где мы, отчего и для чего, займут гораздо больше времени, чем практическое решение наших проблем, – сообщил, усмехаясь, Уваров. – А вот насчёт показать… Идея не лишена, как думаешь, Маша?
Маша в это время была занята не только непосредственным делом, то есть фиксацией мимической и прочей моторики «объекта» на предмет определения степени его откровенности и наблюдением за наличием или отсутствием в словах Бекетова явных и скрытых противоречий. С этим пока всё было в порядке. Но она ещё и пыталась сообразить, что есть в этом парне такого, что сразу привлекло её внимание, выделило из группы достаточно разгорячённых и возбуждённых людей. Это всегда необъяснимо, но обычно и мужчины, и женщины в течение нескольких секунд если не определяют, то ощущают, имеет ли предстоящее знакомство перспективы. Именно определённые, потому что в девяносто девяти с десятыми долями процентах люди, начиная и поддерживая деловые, дружеские или какие-то ещё отношения, заведомо знают, что с этим партнёром того самого не будет. Возможна связь, даже длительная, возможен «брак по расчёту», нередко – удачный, но всё это – совершенно не то. Только в тех самых десятых долях процента случаев получается, и двое догадываются, что могут быть вместе не для каких-то банальных, отчего-то считающихся важными и необходимыми дел, а просто так. Потому что больше никто другой не скажет: «Мы – вдвоём, спина к спине против всего мира», и «До тех пор, пока смерть не разлучит нас».
Мария пока не поняла, относится ли отставной штабс-капитан к категории «её» мужчин, но то, что никто из тех, с кем сводила валькирию здешняя жизнь, не вызывал само́й необходимости подобных размышлений, – это факт. «Медицинский факт», как говорил главный герой недавно прочитанной ею книги.
…Обстановка складывалась так, что вполне можно было бы завершить незаконченную Бекетовым и его командой акцию. Причём Басманов исходил из того, что если помочь людям можно, то и нужно, вполне резонно заметив, что никаких нежелательных последствий их вмешательство иметь не будет. Они просто помогут ребятам справиться с сопротивлением команды крейсера, после чего уйдут, позволив событиям развиваться естественным образом.
Уваров, полностью принадлежа только собственному миру, считал, что они просто обязаны сделать всё возможное для захвата крейсера и передачи его в руки Российского флота. Исходя из политических, военных и научных соображений. Одно только изучение установленного на нём неизвестного оборудования может серьёзно изменить общее соотношение сил в нашу пользу.
Тут же было решено, что всю честь захвата крейсера нужно предоставить Бекетову и его команде. Тут и ордена воспоследствуют, и всякие другие блага (пленение корабля такого класса, со всем экипажем – крайне редкое событие в морской истории и, несомненно, будет отмечено достойным образом). А факт вмешательства со стороны, напротив, нужно тщательно замаскировать. Не столько от своих, как от вероятного противника и его союзников. Так что Юрию следует доходчиво объяснить свои компаньонам, что первая же попытка рассказать командованию эскадры, вообще кому бы то ни было, «как всё происходило на самом деле», не приведёт ни к чему, кроме как к длительному разбирательству и, возможно, закончится для «героев» не триумфом, а психиатрической клиникой.
Был ещё один вопрос, чисто практический, обращённый Басмановым к Сильвии: «Вы сумеете, не выпуская это чучело из-под контроля, заставить его всех нас переместить на крейсер и после завершения операции беспрепятственно вернуть обратно?» Под «вы» он имел в виду её саму и Марию, девушку, в одиночку победившую Арчибальда.
– Надеюсь, что смогу, – без иронии в голосе ответила леди Спенсер. – Мы с ним уже практически обо всём договорились. Он, как мне кажется, в обмен на сохранение за ним большей части «человеческих качеств, возможностей и способностей» в сферах, не соприкасающихся с нашими интересами, готов продолжить службу в прежней роли «материализованного духа Замка». Обеспечивать его функционирование, исполнять наши желания, вообще делать всё, что при Антоне входило в обязанности нематериальной субстанции, лишённой физического облика.
– Неужели ты готова так просто поверить? – почти ужаснулся Басманов. Ему, человеку, рождённому в позапрошлом веке, удалось, почти без потерь нравственного характера и сохранив душевное здоровье, вписаться в реалии века двадцать первого, он, пожалуй, и в 2056 году, в реальности Ростокина, сумел бы адаптироваться, но признать «договороспособность» механического устройства, только что чуть не уничтожившего их всех и, вдобавок, едва не ввергшего мир в очередную глобальную войну… Это было чересчур! Он и «перевоспитавшемуся» вдруг врагу-человеку поостерёгся бы верить, а тут…
Сильвия поняла его настроение.
– Не бойся, Михаил. В том и дело, что Арчибальд – не человек. Просто Антон не предусмотрел возможности такой вот персонификации управляющих структур Замка. Он в своё время дал ему понять, что готов выполнить приказ своего «центра» о ликвидации земной базы и тем самым прекратить функционирования этого псевдомыслящего артефакта. Замку, «привыкшему» существовать на Земле именно в данном качестве и заниматься тем, чем он занимался тысячу лет, а, возможно, и гораздо больше, эта перспектива не понравилась. И он начал меняться так, чтобы своей ликвидации не допустить. Тут вдруг случилась история с отстранением и арестом Антона. Наверняка были предприняты силовые попытки извне разделаться и с Замком. Ну, тому не осталось ничего другого, как с нашей помощью вообще прервать связь со своими «Ста мирами». Благо у него уже имелся опыт, так сказать, экстирпации[10] целой галактической цивилизации «аггров» из подконтрольной ему реальности. Сделать-то он сделал, что намеревался, но без Антона его функционирование пошло как-то не так. Вот Замок и создал из самого себя собственное воплощение, нераздельное, но неслиянное, вроде как Бог-отец взял, да и придумал себе воплощение в Боге-сыне, заодно предусмотрев и вариант автономного существования «Святого Духа». Смысла вроде никакого, но новые ипостаси расширяют горизонт возможностей для якобы и без того всемогущего существа, повышают его боевую устойчивость. Доходчиво?
Сильвия обращалась непосредственно к Басманову, Удолин стоял рядом и посмеивался, прикрывая рот согнутой ладонью. У него, кажется, были какие-то собственные соображения на эту тему.
– Вполне доходчиво, – вежливо кивнул полковник, не став обращать внимание дамы на элементы кощунства в её рассуждении.
– Теперь я поняла и знаю, как позволить Арчибальду существовать почти в прежнем качестве и исключить с его стороны всякую самодеятельность. Не зря мы с тобой потрудились…
Басманову, воспитанному в строгих правилах и до сих пор не избавившемуся от некоторых архетипических стереотипов, показалось, что фраза прозвучала несколько двусмысленно. Он машинально поморщился. Сильвия это заметила и в ответ улыбнулась самым невинным образом. Впрочем, кроме них двоих, никто на зацепившую полковника фразу внимания не обратил. Разве что Удолин ощутил небольшое возмущение в контролируемых им сферах.
– Великий теоретик, знаток нечеловеческих логик Скуратов не успел догадаться, как с Замком и его «эффектором» бороться, – продолжила как ни в чём не бывало Сильвия, – а я – придумала. И никакого насилия не требуется, как мы раньше планировали, всё будет тихо и вежливо…
Судя по голосу и мимике леди Си, она сейчас была собой чрезвычайно довольна.
– Да тут, собственно, ничего странного и нет, – подумав, сказал Басманов, – профессора педагогики сотни томов написали насчёт воспитания «гармонической личности», а иной сверхсрочный унтер один раз новобранцу по зубам засветит, в нужный, разумеется, момент, и такой потом солдат получается – любо-дорого смотреть.
– Умеешь ты, Михаил Федорович, комплименты говорить, – она с ещё более милой улыбкой похлопала полковника ладонью по плечу, – а по сути ты прав, конечно. В конце концов, большинство великих открытий сделаны чисто эмпирическим путём, а не по утверждённым планам ТРИЗа[11].
– Причём, что очень интересно, догадались о том, как применить против Арчибальда свой блок-универсал, отчего-то не вы, а эти девушки. Не первый за истекшие сутки раз, прошу отметить, – вмешался Удолин, – из чего следует, что не в вашей вообще технике дело. Просто кому-то потребовалось, чтобы в нашей истории именно эти прелестные создания сыграли главную роль, для чего он и наделил их соответствующими дарованиями. В противном случае…
– Не хочу с вами спорить, Константин, только скажу – у меня на генетическом уровне существуют крайне мощные предохранители – то-то и то-то я не имею права делать ни при каких обстоятельствах, а девчонки этих предохранителей не получили. Дайяна ли тут виновата или Лихарев – не знаю, и разбираться сейчас не имею никакого желания. У нас есть дела практические и неотложные… – ответила Сильвия резче, чем имела обыкновение говорить со старшими рыцарями Братства.
– Не имею никаких возражений, только не упускайте из внимания, что ваши «предохранители» один может поставить, а другой – снять. Вот в чём все дело, а «техника» сама по себе – тьфу! – по привычке оставил за собой последнее слово некромант.
И Сильвии вдруг всё стало понятно. Профессор будто убрал пелену, не с глаз, а с мыслей. «Один – поставить, другой – снять!» Вот в чём дело. Она как-то в своё время совершенно не придала значения словам Наталии Воронцовой о том, что три девушки из семи успели близко пообщаться с Шульгиным, Новиковым и Левашовым. А уж те, точнее – Александр с Андреем, вполне могли наградить «недоделок» подобными способностями. В собственных целях, естественно, и только при условии, что почувствовали в случайных партнёршах эти самые, латентные тогда способности. Крайне опрометчивый, на её взгляд, шаг, но разве можно противиться воле «кандидатов в Держатели Мира»? Она лично один раз попробовала – того урока до сих пор хватило[12].
– Ну а как всё же работать будем? – спросил Басманов, чтобы прекратить не совсем ему понятный и явно неуместный спор между представителями двух противоположных «философских систем».
– Можно, конечно, прямо отсюда нейтрализовать, парализовать и вообще сделать что угодно с экипажем крейсера. Русская эскадра подойдёт и захватит корабль, с командой в семьсот идиотов и двести неизвестно как оказавшихся на нём русскоязычных штатских (тоже в состоянии острой инфекционной деменции[13]). Но выглядеть это будет крайне… неубедительно, – Сильвия вопросительно посмотрела на Михаила, словно действительно была обычной женщиной, ждущей ответа и решения от куда больше понимающего в таких делах военного мужчины.
Басманов принял игру. Он окончательно решил напрочь забыть то, что на шестой год знакомства спонтанно случилось между ним и аггрианкой (пусть и оставило самые яркие и глубокие впечатления) и отныне держать себя с ней не иначе как с женой хорошего друга и старшего товарища.
– Совершенно верно, миледи. Поэтому, если Арчибальд или ты организуешь нам возвращение туда, – он махнул рукой в сторону кабинета с «разрезным макетом крейсера в натуральную величину», – в тот самый момент и тот отсек, где находились наши гости, мы сумеем несколько удивить гордых бриттов…
– Конечно, сделаем. Дальше?
– Дальше я, Уваров, девушки и гости немного там побезобразничаем. Чтобы бритты не вздумали в приступе исторического героизма взорвать крейсер, к примеру, или избавиться от аппаратуры и лишних свидетелей…
– А зачем тебе «гостей» с собой брать?
– В качестве проводников, консультантов и для убедительности, само собой. Пусть как следует постреляют, пропахнут порохом, в нужное боевое настроение придут. Тогда им и врать не придётся, что это они всё сами учинили. Через неделю так в свои подвиги уверуют – хоть на детекторе лжи проверяй. А мы вроде как на подхвате побудем. Опять же – отработка легенды на местности. Когда за них дознаватели возьмутся – не растеряются, сумеют рассказать и показать, где кто стоял и что делал…
– Неплохо бы, для той же убедительности, чтобы у них хоть какие потери были, а то уж слишком театрально выйдет… – вполне серьёзно сказала Сильвия и на негодующий взгляд Басманова, едва не успевшего достойно ответить, что он по поводу таких идей думает, спокойно продолжила: – Ты, может, не в курсе, но в самом начале Второй мировой, когда немцы уже доколачивали французов, маршал Петэн приказал бросить во встречный бой совершенно неподготовленную танковую бригаду. На недоумённый, как у тебя сейчас, вопрос де Голля, тогда комдива, ответил: «Не может же Франция всю войну нести потери только пленными!» Вот и в нашем случае подобная ситуация, хотя и с обратным знаком. Ну кто поверит, что десяток, даже сотня, штатских захватили боевой корабль без единой потери…
– Можешь сама этим и заняться, – скривил губы полковник. – Прикинь, сколько покойников создадут достаточную убедительность – и действуй…
– Не передёргивай, Миша, – жёстко ответила Сильвия, – а то я подумаю, что у тебя нервы не в порядке. Главное, ты сам с девочками под пули не подставляйся, а остальное пусть будет, как будет. Или вообще бросаем эту затею… Тогда уж точно всё будет исключительно по высшей справедливости.
– Ладно, оставим, – махнул рукой Басманов, подумав, что действительно нахватался последнее время всяких либеральных идей вроде тех, что всё чаще звучат в Югоросской прессе: «Права личности выше интересов государства» и в том же духе. А ведь сам шесть лет подряд не стеснялся людей и в разведку боем посылать, и в прикрытиях на верную смерть оставлять, вообще убивал без счёта, и немцев, и австрийцев, и своих, русских, – всё равно ему было, кто «в то время» в поле зрения бинокля попадался, когда он батарею на огневые позиции выводил. И после той войны – тоже. Чего уж теперь? Правда, на настоящей войне всё звучит и выглядит не столь цинично.
– Ладно. Действительно, кому что на роду написано… А ты отсюда наблюдай и в соответствии убедительную для флотских командиров и тамошних контрразведчиков легенду конструируй. Чтобы все подозрительные прорехи в легенде, какие в ответах наших подопечных на допросах непременно выплывут, превентивно заткнуть. Тут всё учесть придётся – кто за кем бежал, кто куда стрелял и из чего. Ладно, я уже кое-что придумал, потом помогу…
Он махнул рукой Уварову, приглашая его к себе, вместе с Марией и допрашиваемым.
– Ну, как у вас отношения складываются? – спросил Басманов Валерия.
– Да нормально складываются, обстановка в общем и целом понятна, рассказанное штабс-капитаном Бекетовым вопросов не вызывает.
– Это хорошо. Но слова словами… Как вы, господин капитан, к делу относитесь? Начатое обычно следует доводить до конца… – обратился он к Бекетову, излишне напряжённому, на его взгляд.
– То есть вы хотите сказать – обратно туда? – не дрогнув лицом, спросил Юрий. – Оружие приличное дадите – пойдём.
– С оружием проблем никаких. Только ведь из ваших, кроме унтера Кузнецова, военных людей нет? Как же вы их на убой вести собираетесь? Я вам предоставлю что угодно, вплоть до ручных огнемётов, а кто ими пользоваться будет? Вы чем последнее время командовали?
– Ну, значит, должны понимать. На такие дела и из кадровой роты не каждого возьмёшь, так?
– Правильно говорите, а что делать? Если суметь дверь без шума открыть, штук пять гранат в отсек закинуть, так дальше справимся…
– Ну-ну, – с сомнением сказал Уваров. У него тоже имелся весьма солидный опыт, в том числе и с бросанием гранат куда придётся. Эти гранаты ему надолго запомнятся[14]. – Я бы не проявлял такой самонадеянности. Тебе-то воевать приходилось?
– Да нет, бог миловал. Я только на своём театре служил. У нас японцы после восемнадцатого года ни разу не высаживались и с китайцами без моего участия в «Харбинском инциденте» управились.
– Тысяча девятьсот? – счёл нужным уточнить Басманов. В его реальности японцы тоже заняли российский Дальний Восток в апреле этого года. Значит, до этого момента реальность и с этими парнями у них точно общая, не какая-нибудь четвёртая или пятая.
– А какого же ещё?
– Да много в истории восемнадцатых годов было, – с неопределённой усмешкой сказал Басманов.
Бекетов не понял командирской иронии, не до тонкостей сейчас было. Но вообще, нутром и костным мозгом Юрий ощущал, что этот полковник – какой-то не такой. Вроде всё на месте, и по-русски говорит правильно, видно, что офицер, причём боевой, с огромным опытом, а в то же время странная от него исходила аура. В этом смысле подполковник Уваров был чист и прозрачен до донышка. Спецназ – он и есть спецназ, но – свой, и обращаться Бекетову было куда проще и удобнее к нему, чем к Басманову.
– Ну, когда-то начинать всё равно придётся, – с оптимизмом сказал Уваров. Оружие мы вам попробуем найти. Стрелять и гранаты бросать будете не когда захочется, а когда прикажу. Девушки, имей в виду, тоже все офицеры, и их команды столь же обязательны, как мои. Всё правильно сделаете – ещё поживёте и дырки для орденов вертеть будете. В случае самодеятельности – не гарантирую. Доходчиво?
– Так точно, господин полковник, – щёлкнул каблуками и вытянулся Юрий.
– Тогда построй свою братию, инструктаж проведу. Ты, Варламова, забирай весь личный состав, бегом переодеться, и в полной боевой – сюда. Господину капитану и его гвардии тоже чего-нибудь подберите…
– Так я не знаю, господин полковник. У нас лишнего ничего нет, разве свои пистолеты можем отдать, и гранат штуки по три. Остальное – наше штатное. Разве у лётчиков забрать?
Уваров впал в задумчивость, о том, что оружия может не хватить, совсем не подумал. Да и у него самого, кроме служебного «Воеводина», ничего. Положился на слова Ляхова, что всю охрану возьмут на себя люди Басманова. Девушек по привычке заставил прихватить с собой полный полевой комплект снаряжения, а сам отправился налегке, в летней полевой форме да с «тревожным чемоданчиком». А теперь вот – проблема.
– Вот это как раз не вопрос, – вмешался Басманов. – С оружием в Замке полный порядок. Вы что из стрелкового предпочитаете, капитан? – обратился он к Бекетову.
– Честно говоря – пулемёт РПД…[15] Но в отсеках с ним поворачиваться сложно. Так что устроит хоть ППД, хоть ППС. В наших условиях лучше ППД с круглым диском. Если возможно, конечно. Гранаты любые, но побольше. Предпочитаю ФК[16]. Ну, а пистолеты у нас есть свои. В предстоящем бою вряд ли пригодятся. Так, на крайний случай…
– Молодцом, капитан, чувствую профессионала. Сильвия Артуровна, прикажите нашему «домоправителю», пусть найдёт и принесёт три ППД, шесть полных дисков и полсотни гранат указанной системы. Ещё – одиннадцать ППС и по четыре магазина, – попросил Басманов аггрианку.
– А почему не всем ППД? – спросил Бекетов.
– Вы со своими орлами хоть одно занятие проводили? Уверены, что хоть кто-то знает, что делать, если в диске утыкание патрона произойдёт? А с ППС любой справится, только покажите, где нажимать спуск и когда отпускать…
– Извините, не подумал, господин полковник.
Сам Басманов тоже собирался «сходить на дело». Повоевать как следует, в роли рядового бойца, а не старшего командира, ему давно хотелось – вспоминалась Гражданская и занятия с инструкторами в школе рейнджеров «имени А. И. Шульгина», да всё никак не получалось. Приходилось больше планировать и осуществлять операции масштаба полк – дивизия, как на недавней англо-бурской войне. А лет-то полковнику всего тридцать три, самый возраст для таких развлечений. Когда-то давным-давно, в двадцать семь, Михаил считал, что четырёх лет Мировой и двух – Гражданской ему хватит на всю оставшуюся жизнь, а вот, оказывается, не хватило. Так, недавно родившие женщины горячо всем доказывают, что никогда больше таких мучений переживать не собираются, и, главное, сами в это свято верят, а проходит некоторое время – и снова испытывают к этому делу непреодолимую тягу.
Тем более сейчас у полковника появился ещё один важный стимулирующий фактор – Марина. Где и «проявить себя» перед нравящейся девушкой, как не на «короткой, победоносной войне»? Какими они все – подпоручики, корнеты и мичмана «царского выпуска» четырнадцатого года[17] – были бы молодыми героями и завидными женихами, закончись та война «до осеннего листопада», как и планировалось что в Русском, что в Германском Генштабах![18]
Сейчас Михаил, выбросив из памяти образ «Сильвии в постели», как и раньше умел забывать свои ничего не значащие короткие, часто одноразовые «связи», смотрел на девушку ясным и честным взором, предполагавшим самые серьёзные намерения.
Он решил в предстоящей схватке всемерно прикрывать Марину, не допуская ни малейшего риска для её драгоценной жизни, и не подозревал, что именно ту же задачу поставила себе валькирия, преклоняющаяся перед боевым опытом и героизмом полковника, но считая, что её подготовка в предстоящем деле больше соответствует обстоятельствам, нежели его фронтовые навыки.
Арчибальда, уже приведённого к нужному знаменателю, поручение нисколько не затруднило, он вышел из зала и вернулся буквально через пять минут в сопровождении трёх слуг, несших автоматы, сумки с дисками и рожковыми магазинами, ящики с гранатами и запалами. А также необходимое количество поясных и плечевых ремней. Жаль, что в мире Уварова ещё не додумались до жилетов-разгрузок и всю амуницию, включающую штыки или ножи, патронташи, лопатки, фляги и пистолетные кобуры носили на «адриановском снаряжении»[19].
Пока мужчины разбирались со своим вооружением и амуницией, девушки бесшумно исчезли и вернулись уже «по полной боевой». Вызвав восхищённое удивление (или удивлённое восхищение) даже у Бекетова, который в принципе имел представление о существовании где-то в столице подобного спецназа. Что уж говорить об остальных! Валькирии и раньше, полуодетые в штатское, выглядели привлекательно, но всё же не очень, не принципиально отличались от прочих симпатичных девиц с хорошими фигурами. Сейчас же перед ними предстали именно девы-воительницы, чем-то даже страшные в своей грозной боевой красоте. Не должно быть в природе такого сочетания. Разве что в животном мире, точнее – в мире насекомых, такое встречается – красота форм и раскраски в сочетании с приспособлениями для быстрого и эффективного убийства. Причём беспощадного и одновременно равнодушного. Волк или леопард терзает свою добычу с очевидной яростью, рычанием, азартом, а какая-нибудь ярко раскрашенная паучиха перекусывает жука, муравья, а то и своего недавнего партнёра – паука мужского пола – чисто по Маяковскому, «чувств никаких не изведав».
По крайней мере, что-то подобное подумал Бекетов, когда увидел привлекшую его внимание девушку в изящно подогнанном по фигуре камуфляже, с перетянутой ремнём тонкой талией, при автомате и прочих аксессуарах, рационально пристёгнутых и прицепленных именно там, где нужно и наиболее удобно. И всё это смертоубийственное снаряжение сочеталось с прекрасными волосами и большими бирюзовыми глазами, в которых нельзя было прочесть и намёка, что их владелица через несколько минут будет смотреть через прицел или поверх, стрелять и гарантированно попадать.
Юрий ещё отметил, что у всех пяти девушек глаза были похожи. Величиной, живостью, яркостью и, главное, цветом. У всех – необычным: бирюзовые в голубизну у Марины, сапфирововые у Маши, насыщенно изумрудные у старшей, Анастасии. Так ведь не бывает! А где нормальные – голубые, серые, карие?
Унтер Кузнецов подобными мыслями не заморачивался. Женщины, с его точки зрения, имели одно, всеобъемлющее и конкретное предназначение, а если им ещё и воевать вздумалось – пусть. Посмотрим, что получится. Больше его волновало другое. Он негромко сказал Юрию, которого сейчас стало как-то неудобно называть на «ты», раз они вроде бы возвращаются на службу, а тот – в офицерских чинах:
– Слышь, командир, я-то в автомате не очень. За всю службу три раза в руках держал. Может, пистолетом и гранатами обойдусь?
– Ни хрена, справишься, – легкомысленно махнул рукой Бекетов. – Тут всех делов – стреляй в сторону противника, очередями патронов по пять, не больше, но часто. Счёт выстрелам простой – спуск нажал, быстро про себя «раз» сказал – и отпустил. Как раз те самые пять-шесть и выйдут. Осечку даст – затвор передёрни, и дальше… Да ты не переживай, судя по всему, вся наша забава от силы пару минут займёт, и «мама» сказать не успеешь, то ли мы их, то ли они нас…
Николай Карташов слегка обиделся, что его в штурмовую группу не взяли. Вроде всё вместе делали и всё нормально получалось. Но подумал и решил, что если за дело берутся специалисты – нечего дилетантам соваться. На верфи или в конструкторском бюро его тоже никто из присутствующих заменить не сможет. Он во вторую очередь пойдёт, когда профессиональные знания потребуются. А вот девицы его в отличие от друга Юрия почти не впечатлили. Что в штатских нарядах, что в военных. Приходилось читать и слышать и о красотках-телохранительницах, и о снайпершах – наёмных убийцах, а также и о китайских женских бандах, превосходящих своей жестокостью любого закоренелого садиста из бандитов-рецидивистов.
Что же до их физических статей… Николай относился к тому довольно распространённому (только не все об этом догадываются) типу мужчин, что абсолютно безразличны к так называемой «красоте» или «модельной внешности». Все женщины для них, кроме законченных уродок, примерно одинаковы, как цвета на палитре для дальтоника. Некоторые чем-то выделяются – та борщ вкуснее варит, та в постели изобретательнее, у той выраженные способности к черчению, но и не более. С «красотками» просто мороки больше. А общий набор определяющих признаков и функций у всех примерно одинаковый. «Базовая комплектация». Не зря французы поговорку придумали: «Даже самая красивая девушка не может дать больше того, что она имеет». Оттого, что существуют такие, как Николай, большинство совсем не примечательных девиц и ухитряется не только замуж выходить, но потом и по несколько любовников иметь, а казалось бы…
– Ну, что, готовы? – спросил Басманов. Он, как и Уваров, и Бекетов с Егором, был в нейтрально-штатской одежде походного стиля, то есть при необходимости могли сойти за тех самых «героических волонтёров», даже предстать перед флотским командованием при передаче трофея морякам. Вот валькириям, тем придётся исчезнуть сразу же после завершения «горячей фазы» операции. Видеть их не следует не только англичанам, но и своим тоже. А если кто из британцев невзначай увидит «прекрасное видение», так оно станет воистину последним в его жизни приятным впечатлением.
Четверо мужчин и пять девушек ударной группы были готовы, стояли на краю неразличимо узкой щели между паркетом кабинета Арчибальда и палубой крейсера. Ширина щели – несколько квантов и одновременно неизвестно сколько тысяч километров и, возможно, десятки, а то и сотни веков. Никто из здесь присутствующих, кроме Сильвии, не выходил за пределы замковых стен хотя бы на те несколько километров, что аггрианка проезжала с Антоном и Шульгиным верхом или на «Виллисе». А там, в окружающих Замок лесах и прериях, был какой угодно год кайнозойской эры, скорее всего – эпохи голоцена[20]. Возможно, вообще до заселения Америки прямоходящими гоминоидами. Очень удобное, кстати, место и время для размещения форзейлианской базы. Никто опаснее гризли к стенам Замка не подойдёт. Правда, нашлись в последнее годы мыслящие существа, наловчившиеся, вроде блох, запрыгивать и туда, где их присутствие совершенно неуместно.
По кивку Уварова, стоявшего в короткой цепочке десантников первым, Сильвия что-то, по подсказке Арчибальда, переключила на большом настольном пульте.
Шаг – словно из-за кулис на сцену, в окружение фанерных декораций, под влиянием «волшебной силы искусства» преображающихся в реальность подлиннее настоящей. И вокруг уже только стальные переборки, рифлёный пол под ногами вместо ковров и навощённого паркета, спёртая сырая духота и вибрация корпуса от работающих турбин.
Глава третья
Уваров на секунду приостановился перед стальным трапом, крутым, почти отвесным, упирающимся в площадку с водонепроницаемой дверью. С левого края – крестообразная задрайка, выкрашенная суриком. Пол-оборота – и откроется.
А там – два десятка британских морпехов, специально сюда присланных, предупреждённых о возможности внезапного штурма оружейной комнаты, а точнее выражаясь – корабельного арсенала, крюйт-камеры в терминологии парусного ещё флота. В ней хранится личное оружие всего экипажа крейсера, положенное по штату, плюс средства огневой поддержки для высадки десантов, и масса самых разнообразных боеприпасов. Крейсер ведь автономная боевая машина, предназначенная решать самые разные задачи в любом конце света, от захвата чужих баз и обороны собственных до подавления мятежей туземного населения и организации таковых, если потребуется. И всё – в условиях полной невозможности пополнить запасы или затребовать средства усиления до возвращения в собственный порт.
Но пока «Гренвилл» не подвергся абордажу превосходящими силами с вражеского судна, попытаться захватить арсенал могут лишь несколько внезапно исчезнувших человек из числа завербованных бродяг. Их всего пятеро, если даже вообразить, что к ним присоединились недавние охранники, – максимум восемь. Ничего, кроме пистолетов, они на борт пронести не могли. И, значит, двадцать человек, хорошо вооружённых и подготовленных, в том числе и к бою внутри корабельных отсеков, справятся с террористами без малейших усилий. Пусть только осмелятся и попробуют появиться поблизости…
Очень хорошая (для его противников) мысль пришла в голову кэптэну Эвансу – не заморачиваться, разыскивая беглецов по всему кораблю, а поставить ловушку там, куда они непременно придут, если захотят учинить на борту серьёзные беспорядки. Если не захотят, предпочтут прятаться до берега по «крысиным норам», тем лучше. А морской пехоте всё равно где службу нести.
Но с точки зрения серьёзного специалиста решение предельно глупое, самоубийственное, пожалуй. Собрать в одном изолированном помещении, легко блокируемом извне и исключающем какую-либо возможность манёвра, практически всех боеспособных солдат, предоставив противнику инициативу и полную свободу маневра! Да, конечно, огневой перевес на стороне морпехов, но отчего бы не подумать, что в таких именно условиях может предпринять неприятель, какое нестандартное решение принять?
Остальные члены экипажа заняты своими, весьма конкретными и сложными матросскими и офицерскими делами, отвлечься от которых после сигнала боевой тревоги практически невозможно: ведут корабль, стоят у орудий, котлов и турбин, обеспечивают живучесть и непотопляемость, наблюдают за далёким горизонтом, а не за тем, что творится у них за спиной и под ногами. На это поставлены совсем другие люди.
А этих «других» – всего полсотни. Тридцать распределены по прочим предписанным уставом и приказом местам, от бака до юта и от киля до клотика, причём – всего по два-три человека, зато два полных отделения полного штата, во главе со своими сержантами. Да ещё и ротный командир вдруг решил, что должен находиться в самом угрожаемом и важном пункте, то есть здесь. Не там, откуда удобнее принимать решения и руководить, а там, где с врагом можно встретиться лицом к лицу. Как говаривал Козьма Прутков: «Усердие всё превозмогает. Порою и рассудок».
Каждый боец штурмовой группы держал перед внутренним взором картинку – план батарейной палубы, как и где расположился в её выгородках каждый из вражеских морпехов. Точнее – где кто находился минуту назад. Вряд ли за истекшее время дислокация могла сильно поменяться.
Уваров покачал руками с четырьмя гранатами, по две в каждой, поставленными «на удар», как бы примериваясь перед броском. Снова вдруг вспомнилась Варшава, дворец Бельведер, такие же гранаты… И что было потом[21]. За ним стал унтер Кузнецов, тоже с четырьмя «ФК». Басманов удовлетворил его просьбу. Остальные взяли на изготовку взведённые автоматы.
– Давай! – выдохнул Уваров.
Бекетов, имеющий привычку обращаться с судовыми дверями и запорами, изо всех сил толкнул запорный рычаг, потянул на себя дюймовое броневое полотнище. Дверь раскрылась на половину своего распаха, и в метровый просвет полетели все восемь гранат. Кидали не просто так, куда придётся – Уваров швырнул свои на всю глубину отсека, до самого заднего траверса палубы, с расчётом на рикошеты, а Егор – аккуратно, как сеятель зерно из лукошка, чтобы все легли веером, от борта к борту, но не дальше десятка метров от входа.
Бекетов, только мелькнули мимо него сероватые рубчатые яйца, навалился на дверь, чтобы успеть захлопнуть, пока и им не досталось.
Восемь взрывов громыхнули вроде бы разом, но на самом деле вразнобой, с полусекундными интервалами, гранаты рвались «по готовности», в зависимости какая раньше долетала до переборок и палубного настила.
По Варшаве Уваров помнил, как выглядит эффект гранатного залпа в замкнутом помещении. Так в Бельведере хоть огромные, от пола до потолка окна были, и двери деревянные, взрывной волне было, куда уходить. А здесь – со всех сторон глухой металл, даже иллюминаторы, небольшие, человеку не пролезть, задраены. Вся энергия почти килограмма флегматизированного гексогена в доли секунды несколько раз отразилась от переборок, да и сотни осколков, рикошетя, несколько раз перекрестили внутренний объем палубы во всех направлениях. Да ещё существует такое понятие, как «кумуляция взрыва», когда ударные волны, догоняя и перекрывая друг друга, значительно усиливают собственную мощность.
Боеспособных солдат после этих мгновений грохота, пламени, визга осколков по стали, мгновенного, неосознанного ужаса и инстинктивных вскриков в палубе не осталось. Десяток был сразу убит наповал, остальных разбросало по сторонам, посекло неровными, острыми на изломе осколками некоего подобия фарфора, того, что идёт на изоляторы линий электропередач. Гораздо более противная вещь, чем старый добрый чугун, да вдобавок рентген этот материал показывает очень плохо.
– Всем стоять! – скомандовал Уваров своим бойцам. Сам шагнул через комингс во вновь открытую Юрием дверь, за ним – Кузнецов, имевший привычку к работе в таких вот закрытых, тёмных, задымлённых, поражённых вражескими снарядами или торпедами внутренних помещениях корабля.
Здесь действительно было темно, все плафоны и распределительные щиты разбило, открытую проводку порвало, нестерпимо воняло сгоревшей взрывчаткой, и очень пригодились бы изолирующие противогазы. Но – чего не было, того не было.
– Фонари сюда! – крикнул Уваров, высунувшись наружу и глотая сравнительно свежий воздух.
В комплектах снаряжения валькирий компактные и мощные фонари имелись, хотя здесь больше пригодились бы ноктовизоры с подсветкой.
Марина и Инга проскользнули мимо командира, их организмы легче переносили ядовитый дым, начали шарить фонарями вокруг. С затянутыми втугую задрайками иллюминаторов возиться было некогда.
– Живых вытаскиваем!
К двум девушкам присоединились остальные.
Басманов с Уваровым и Бекетов открыли тамбур трапа, ведущего с батарейной палубы на спардек. Сразу стало светлее, сквозняк потянул дым в подпалубные помещения.
– Слава богу, пока без стрельбы обошлись. Теперь лучше всего – рывком на мостик. Оттуда и отстреливаться удобнее, и командира заставим по громкой связи приказать команде сдаваться.
– А не захочет? – спросил Юрий.
– Захочет, – коротко бросил Басманов, и, глянув ему в лицо, любой бы понял, что сомнения здесь неуместны.
Он предполагал, что, как и в истории с «другим» английским флотом, случившейся для него пять лет назад, по другому счёту – девяносто, а на самом деле, может быть и миллион лет вперёд[22], всё командование окажется, как ему и положено, в боевой рубке или на ходовом мостике, и взять их всех можно будет разом, быстро и без проблем.
На самом деле всё обстояло гораздо сложнее, и, если так можно выразиться в данном случае – дискретнее[23]. В том смысле, что сейчас теоретически единоличная власть командира оказалась рассредоточена между несколькими «центрами силы», каждый из которых имел свои цели и свой интерес. И все находились в разных, достаточно удалённых местах.
Коммодор Честер, командир крейсера, имел приказ адмирала – в случае невозможности отремонтироваться своими силами и очевидной угрозе захвата русскими, уничтожить корабль со всем сверхсекретным оборудованием. В идеале он должен был уничтожить и обслуживающих технику специалистов, поскольку любому ясно – попав в плен, они непременно станут давать показания. Если о принципах устройств они, эксплуатационники, и не имеют представления, то уж всё касающееся тактико-технических данных и методик применения аппаратуры выложат дочиста. А русским учёным, да и разведчикам с дипломатами, этого будет совершенно достаточно. И в практических целях, и для развязывания «разнузданной пропагандистской кампании». Сам коммодор после завершения этого плана намеревался застрелиться, поскольку русский плен с последующим возвращением на родину, судом и смертной казнью, что пообещал адмирал Хиллгарт, его совершенно не устраивал. Умирать всё равно когда-нибудь нужно, так отчего не сейчас? По крайней мере, он будет лишён сомнительного удовольствия читать и выслушивать то, что напишут о нём газетчики и изложит в своём приговоре военно-морской суд. Да и совестью всю оставшуюся жизнь мучиться не придётся, за погибших по его вине и убитых по его приказу.
В данный момент коммодор Честер шёл по кормовому коридору вслед за начальником «научной группы» кэптэном Френчем, надевшим флотский мундир только по случаю именно этого похода, и, чуть успокоив вдрызг раздёрганные нервы полупинтой[24] хорошего виски, прикидывал, удастся ли «профессору» придумать что-нибудь стоящее для их общего спасения или всё же придётся ставить его со всей компанией к стенке? На этот случай командир отряда судовой военной полиции – самый подходящий человек. Приведёт приговор в исполнение, не задумываясь.
Профессор Френч думал о вещах прямо противоположных. Он со слов самого командира знал, что живым ему в плен попасть не позволят. И хотя Честер признался в этом только для того, чтобы заставить «научника» старательнее думать о способе их общего спасения, цели он достиг прямо противоположной. Теперь доктор философии, физики и математики Гилберт Клеменс Френч стремительно перебирал в голове варианты – как наиболее эффективно нейтрализовать капитана, после чего сдать его русским и сдаться самому. Хорошие учёные везде нужны, сибирская каторга ему не грозит, а лаборатории Москвы или Петербурга ничем не хуже кембриджских.
Контр-адмирала военно-морской разведки Эванса, личного представителя одного из лордов Адмиралтейства, а через него и самого мистера Боулнойза, для маскировки носившего в этом походе такой же, как у Френча, мундир фальшивого кэптэна, тоже занимали жизненно важные проблемы. Уничтожение секретной аппаратуры вместе с персоналом и у него стояло на повестке дня, но не главным пунктом. Оно должно было произойти почти автоматически. В каюте у Эванса имелся некий тумблер, подключенный к отдельной от общесудовой электрической цепи. Один щелчок – и вся аппаратура сразу превращается в пыль. Персонал, соответственно, тоже, поскольку должен по боевому расписанию находиться на местах. Гораздо важнее было сообразить, как спастись самому. Вариантов, в принципе, всего два. Первый – сдаться в своём залегендированном качестве, то есть – прикомандированного к отряду для получения морской практики сотрудника совсем незначительного гидрографо-метеорологического отдела штаба флота. Здесь можно рассчитывать на кратковременное интернирование и спокойное возвращение на родину, поскольку войны всё-таки не объявлялось.
Второй – присоединиться к толпе русских «волонтёров». Их язык он знает вполне прилично, небольшой акцент легко можно отнести на счёт длительной разлуки с родиной и «языковой заражаемостью», завербованные, размещавшиеся в разных кубриках, в массе своей друг с другом не знакомы. Документы исчезнувших «надзирателей» лежат у него в сейфе, а фотографии… По личному опыту он знал, что на них пристально смотрят лишь в особых случаях. В этом варианте его, скорее всего, отпустят на все четыре стороны при заходе в первый же нейтральный порт.
О том, что и в первом и во втором случае русская контрразведка может оправдать свой пугающе высокий авторитет, то есть разоблачить его, Эванса, думать не хотелось. Но надо. Значит, необходимо поискать третий вариант – безопасный и безусловно выигрышный. Могут ему каким-то образом помочь «гипногенераторы» Френча? Интересно… Всех их возможностей Эванс не знал, джентльмену не по чину вникать в технические подробности, но если с помощью своей аппаратуры Френч собирался «загипнотизировать» и послать на смерть две сотни человек, то возможно ведь сделать и ещё что-то?
И, наконец, капитан-лейтенант (лейтенант-коммандер) Строссон. Он, доверенное лицо адмирала Гамильтона-Рэя, назначен в поход присматривать за деятельностью Эванса и реализацией плана с русскими «волонтёрами». Сам он имеет особое мнение по этому вопросу, но подчиняется своему начальнику. Сейчас внезапное изменение ситуации полностью подтвердило его правоту. Русские (хотя бы несколько человек) повели себя именно так, как он предвидел. Догадались ли о сути происходящего самостоятельно или кто-то подсказал – неважно. А вот то, что они мгновенно перешли к «партизанской войне» на вражеской территории – факт безусловный. Похоже, свой выбор Строссон сделал ещё в тот момент, когда Эванс сообщил ему об исчезновении нескольких «волонтёров» и охранников-коллаборационистов. Нетрудно было предсказать, что столь решительные люди (да вдруг – ещё и специально подготовленные?) способны наделать на крейсере очень много всяких неприятностей. Так оно и случилось. Сначала – сообщение Эванса об исчезновении нескольких русских и приставленных к ним надсмотрщиков, его попытка сделать капитан-лейтенанта своим помощником, а точнее – пособником. Потом – непосредственно диверсия, простая в исполнении и весьма эффективная. Только хороший морской инженер мог догадаться, что уничтожение рулевой машины – самый простой и надёжный способ превратить великолепный боевой крейсер в несамоходную баржу.
Строссон оказался совершенно прав, хотя и не знал о подобном прецеденте, когда сильнейший и новейший линкор «Бисмарк» бесславно погиб из-за всего лишь заклиненного в положении «на борт» руля. Вот и «Гренвилл», лишённый хода и управляемости, бессмысленно болтается на волнах, а неустановленное число русских террористов наверняка приступило к выполнению следующего номера своей программы.
Остин Строссон не то чтобы заслужил какое-то особое доверие Гамильтона-Рэя, но был им использован именно за умение не поддаваться господствующему мнению, «террору среды» и доводам каких бы то ни было авторитетов, собственного начальства в том числе. Даже демонстративно пренебрегая карьерой. Гамильтон-Рэй сам был человек подобного типа, только поумнее (то есть не готовым рисковать положением и жизненными благами ради абстракций вроде «собственного мнения). Оттого он понимал и пользу таких, как Строссон, и их потенциальный вред. Поэтому в перспективе капитан-лейтенанту светила ещё одна (максимум – две) нарукавные нашивки[25] и должность вечного консультанта «по общим вопросам» или вообще архивариуса. Адмиралами такие, как он, не становятся по определению.
По тем же самым причинам Строссон, оказавшись «на воле», очень легко выпал из-под влияния своеобразного обаяния «своего» адмирала и особого рода внушения, под которым находились все, входившие в круг интересов Арчибальда. Более того – он начал догадываться о некоторых вещах, как бы и невозможных, но, тем не менее, имеющих место. Поэтому сейчас капитан-лейтенант всерьёз задумался о том, как бы ему не оказаться случайной жертвой происходящего (что очень и очень не исключено), по возможности вступить в контакт с кем-то из руководителей «русских партизан», а через них – с командованием Российского флота. Честный офицер и далеко не глупый человек отлично понимал – интересы всего человечества явно преобладают над интересами некоей группки заговорщиков, пытающихся захватить власть в Великобритании и втянуть мир в новую тотальную бойню.
Цель была крайне трудная, её достижение связано с огромным риском, а в итоге зависело прежде всего от удачи. Но смысл попробовать был. Капитан-лейтенант сейчас как раз пытался смоделировать действия «террористов» или, лучше сказать, диверсантов, так, чтобы пересечься с ними в достаточно удобном месте, избежать почти гарантированной пули и, главное, успеть быстрее, чем Эванс, Френч или сам коммодор Честер совершат непоправимое. О приказе на самоликвидацию в случае угрозы захвата оборудования он тоже знал.
Такой вот психологический расклад образовался на текущий момент, а географически персонажи этого трёхмерного пасьянса перемещались в пределах двухсот метров по горизонтали и пятнадцати – по вертикали, непрерывно при этом принимая и либо реализовывая, либо тут же отметая некие микрорешения, которые должны были сложиться в единое судьбоносное МНВ[26].
Юрий Бекетов и Егор Кузнецов достаточно хорошо ориентировались в общей планировке палуб и надстроек кораблей подобного класса. Но именно на этом крейсере найти оптимальный маршрут к ходовому мостику и боевой рубке и тому и другому было затруднительно. Особенно в боевой обстановке и условиях острого дефицита времени. Тут пришла пора военному кораблестроителю Николаю Карташову в дело вступать. Пока он стоял рядом с Сильвией у стола Арчибальда и жадно наблюдал за разворачивающим действием. Точно как из первого ряда партера за пьесой из морской жизни, вроде «Разлома» или «Оптимистической трагедии»[27].
Вот до верхней палубы добрался авангард абордажной партии, пятеро – Анастасии Уваров велел оставаться в тамбуре, между стальной дверью, выходящей на правые шканцы[28], и трапом в батарейную, наблюдать за подходами с кормы, осуществлять непосредственную связь между группами, руководить действиями остальных валькирий и команды «волонтёров». Закончить разбираться с ранеными, оказать помощь, кому требуется, проследить, чтобы сохраняющие боеспособность пленные не смогли ею (боеспособностью) воспользоваться. Вскрыть оружейную комнату и приготовиться вооружать добровольцев из остающихся в кубриках соотечественников, за которыми уже послали Саню и Ваню, братьев Егора Кузнецова. Автоматы у них в руках должны прибавить убедительности их словам и доверия к ним. Распределить прибывших по группам сообразно их знаниям и способностям. Подходящая работа для взводной командирши.
Никто не заметил, каким образом Марина, ещё до того, как прозвучал касающийся валькирий приказ, успела очутиться рядом и даже несколько впереди мужчин. Она вообще обнаружилась, только когда короткой автоматной очередью положила показавшегося на сходном трапе кормового мостика британского офицера с пистолетом в руке.
– Верещагина, мать твою… Куда лезешь?! А ну, вниз! – запоздало выкрикнул Уваров, но Марина уже взлетела вверх по трапу, ударом ноги отправила за борт упавший рядом с простреленной головой офицера пистолет.
Но это было уже в пустой след. Девушка, убедившись, что больше на мостике, окружающем основание грот-мачты, нет никого, приоткрыла неизвестно куда ведущую дверь, на всякий случай бросила туда гранату.
– Давайте сюда, у меня чисто! – крикнула она. Когда к ней первым поднялся Уваров (сухопутный подполковник отнюдь не владел привычкой бегать по трапам вверх как обезьяна, а вниз слетать по поручням, не касаясь ступеней), она встретила его едва заметной иронической усмешкой в углах губ и довольно вызывающим взглядом.
– Куда тебя чёрт понёс? Ты что, команды не слышала?
– Не слышала, – честно ответила валькирия. – Нечего было слышать, вы с Настей очень тихо говорили! – И усмехнулась несколько вызывающе. Мол, я уже здесь, и ничего ты мне, граф, не сделаешь!
Она видела, как командир что-то приказывает Вельяминовой, даже примерно догадалась, что именно, и сработала на опережение. Как и планировала с самого начала.
– А! – обречённо махнул рукой Валерий. Девица формально права, а начинать с ней спорить совсем не время. – Потом поговорим. Держи правый сектор. От трапа и докуда видишь. При любом шевелении стреляй. А мы ещё выше попробуем…
Эта диспозиция тоже не устраивала Марину, она ведь собиралась идти впереди, в случае чего грудью прикрывая Басманова, и если её вдруг убьют, пусть он видит… В общем, несмотря на чин и кое-какой боевой опыт, мысли у неё в голове бродили подходящие какой-нибудь штатской шестнадцатилетней девице. Но тут уж ничего не поделаешь, сейчас-то приказ отдан ей лично. Придётся выполнять, защищая товарищей с тыла.
Наградой ей был одобрительный взгляд полковника, взбежавшего мимо неё на следующую кольцевую площадку, окружающую двухметровый в диаметре ствол мачты. По крайней мере, Марине показалась, что одобрительный. Но и этого достаточно.
– Теперь я пойду, – бросил Сильвии Карташов. – Они там сейчас запутаются, незачем вверх лезть, по шканцам надо! – и тоже шагнул как бы из-за кулис на окружённую броневыми декорациями сцену.
Из двадцати британских морпехов и троих артиллеристов, дежуривших при судовом арсенале, убитых, при тщательном осмотре, оказалось одиннадцать. Ещё четверо ранены так, что без экстренных операций в береговом госпитале вряд ли выкарабкаются. Значит, для них вся надежда, что русские корабли подойдут вовремя и их после квалифицированной врачебной помощи[29] эвакуируют вертолётом. А может, и на одном из тяжёлых крейсеров есть умеющие делать полостные операции врачи и должным образом оборудованный лазарет.
Восемь человек, в том числе и ротный командир, отделались контузиями и непроникающими ранениями. Этих наскоро перевязали, вкололи шприц-тюбиками что положено и сковали всех вместе их же собственными, положенными по должности наручниками.
У убитого британского главстаршины с широкими шевронами за пятнадцать лет службы Инга обнаружила связку ключей на специальной кожаной петельке у пояса. Хорошо смазанные замки броневой двери открылись легко и бесшумно, несмотря на свою внешнюю массивность и грубость. За дверью – ряды пирамид с винтовками, автоматами и ручными пулемётами, стеллажи с разнообразными боеприпасами. Где-то дальше должны быть и десантные скорострельные пушки, которые берут с собой при высадке на вражеский берег. Богатство, одним словом, приятное глазу военного человека.
– Ну вы, гвардия, – обратилась девушка к отозвавшимся на призыв братьев Кузнецовых полутора десяткам мужиков, успевших слегка пораскинуть мозгами и сообразить, что, получив настоящее оружие и под командой доказавших своё право руководить специалистов, бунтовать сподручнее, чем с противопожарным инвентарём. – Вооружайтесь, чем бог послал и кто в чём разбирается. Кто совсем ни черта не знает, я объясню.
Таких, чтобы «совсем», не оказалось, народ в большинстве своём подобрался бывалый. Каждый по-своему, но человек, не имеющий понятия, добровольно на подобное дело не вызовется.
Хватило десяти минут, чтобы восемь «бойцов первого призыва» и четырнадцать «новых», даже имён которых ни Карташов, ни Инга не спросили, превратились в несколько даже избыточно вооружённое подразделение.
– Молодцы, – продолжала Вирен исполнять самостоятельно принятую на себя должность, – теперь я – ваш командир. Следовать за мной, и всё исполнять мгновенно и беспрекословно. Тогда мы им покажем…
Анастасия не возражала против такой инициативы подруги, до этого, в силу характера и темперамента, предпочитавшей оставаться в звании рядового, хоть и при офицерских погонах. Ей же проще, не нужно самой об этой сомнительной публике заботиться.
– А вам, господин инженер, – обратилась она к Николаю, – приказано вслед за вашими товарищами выдвигаться. Они боевую рубку брать решили. Я с вами подпоручика Варламову пошлю, она за вами присмотрит.
Карташов не возражал. Хоть и вооружился он штурмовым автоматом «Стерлинг», похожим на короткую дырчатую трубу с пистолетной рукояткой и торчащим вбок магазином, а явно опытная девица, обвешанная оружием, прикроет его куда надёжнее, чем он сделал бы это сам. Да и помощник в том деле, что он задумал, лишним не будет.
– Как они пошли?
– А вот прямо по этому мостику, потом вниз по трапу и снова вверх, позади трубы. Дальше я их из виду потеряла. Но ваш товарищ сказал, что дорогу вы найдёте, а путь они вам расчистят…
У Николая тут же нарисовался в голове собственный план действий. Чего ради поверху бегать, где тебя со всех сторон видно и ничего не стоит пулю получить хоть снизу, хоть сверху? Можно и не просто на пулю нарваться, а на очередь из зенитной пулемётной спарки, если найдётся при них сообразительный сержант или лейтенант. Он, например, прямо отсюда видел целых восемь огневых точек пулемётов и сорокамиллиметровых «Бофорсов» на четырёх ярусах носовой надстройки. Другое дело, что едва ли сейчас расчёты интересуют какие бы то ни было люди, бегающие по палубам. У зенитчиков всё внимание на небо и горизонт, согласно боевому расписанию.
– Нормально. Тебя, подпоручик Варламова, как зовут?
Карташов был старше девушки лет на десять и имел звание «старший помощник судостроителя», равное классному чину коллежского асессора, а также, по знакам различия, положенным к парадной тужурке – армейскому капитану или старшему лейтенанту флота. По-любому она на три чина ниже, и разговаривать с ней можно исходя из этого.
– Маша, одним словом. Хороша Маша, да не наша, – решил сразу установить со своей напарницей непринуждённые отношения инженер. – Значит, так, госпожа подпоручик, – тут же переключился он, заметив в её глазах намёк на протест против панибратства, – идёшь за мной в трёх шагах. Бдительно смотришь по сторонам и назад. Желательно – одновременно. При любом подозрительном шевелении – огонь на поражение, своих у нас на пути по определению быть не может. Вперёд смотреть и путь выбирать я сам буду. Не отставать, по трапам – только бегом, и вообще темп нам потребуется, чтобы всё как надо сделать и друга моего удивить. Пошли!
Марии этот мужчина тоже понравился. Весёлый, отчаянный, похоже, никаких признаков страха или растерянности не проявляет. Опять же – близкий друг Юрия. Если все живыми до места дойдут, через него, как через боевого товарища, легко будет и со штабс-капитаном поближе познакомиться. Непростой человек, понятное дело. Но на неё обычными глазами смотрит, а Бекетов сразу – по-особому!
Карташов знал что делал. По той части крейсера, что он успел изучить, сложилось отчётливое представление и об остальной его архитектуре.
– У тебя фонарь есть, Варламова? Это хорошо. Приготовь. Возможно, кое-где не слишком светло будет. Имей в виду, кстати – на кораблях чёртова уйма всяких торчащих железок, высоких порогов, низких потолков и так далее. Наблюдай за мной, ворон не лови. Лбом приложишься – кричать и ругаться не надо. Терпи. Особо внимательна будь, спускаясь по трапам – коварная штука. Сколько на них рук и ног сломано – ужас.
– Всё поняла, – без иронии кивнула головой Мария. – По-моему – стоит поторопиться…
– Поторопимся. Но без инструктажа по технике безопасности – никак.
Николай повёл девушку вниз, вниз и вниз, почти до самого второго дна. Там они попали в длинный узкий коридор, где было ужас как жарко. И гудело через металл сильно, и пол под ногами мерно вибрировал.
– Это у нас тут котельные и машинные отделения, – пояснил инженер. – Потерпи, мы быстро. Дальше легче будет.
Действительно, через полсотни шагов они оказались в узком цилиндрическом помещении метров трёх в диаметре. Вверх уходил вытертый сотнями рук и ног до блеска скобтрап. Здесь было уже не жарко, а весьма прохладно, и переборки на ощупь холодные и влажные. Николай предостерегающе поднял руку:
– Здесь – тихо. Слева и справа посты энергетики, живучести и центральный артиллерийский. Человек двадцать в них обычно отирается. Но мы их обойдём, и очень надеюсь, что никто оттуда случайно не высунется…
За очередной, вопреки уставу не задраенной водонепроницаемой дверью от борта к борту шёл поперечный коридор, имеющий, в свою очередь, «Т-образные» ответвления справа и слева. На «перекрёстках» – ведущие вверх нормальные трапы. Их обилие и кажущаяся беспорядочность расположения уже начали Марию утомлять. Хорошо, что сама она не на флоте служит.
– Сейчас будет самое интересное, – сказал Карташов спутнице. – Если ни с кем не столкнёмся – по этой вот шахте поднимемся прямо в главный командный пункт, по традиции именуемый боевой рубкой. И имеем приличный шанс обогнать наших друзей и встретить их там с распростёртыми объятиями.
Мария понимающе кивнула, приподняла на уровень груди ствол автомата, пошевелила пальцем на спусковом крючке.
– А вот ты это, по возможности воздержись стрелять, без самой крайней необходимости. Труба – она и есть труба. Звук хорошо передаёт. Если в рубке услышат – люк прикроют, и всё! Нам с тобой всё, – счёл он нужным пояснить, хотя подпоручику смысл его слов был и так вполне понятен. – Лучше кинжалом твоим, – он указал на пристёгнутый у девушки вдоль бедра штурмовой нож.
– Можно и без, – согласилась Варламова. Поставила автомат на предохранитель, отстегнула страховочную петлю на ножнах. Карташов этого делать не стал, здраво рассудив, что если вдруг возникнет критическая и, естественно, мгновенная ситуация, снять оружие с предохранителя лично он может и не успеть, а рукопашному бою не обучен вообще.
В следующий момент так оно и случилось. Слева послышались близкие голоса, и из-за угла коридора появился коренастый мужчина в синем кителе с четырьмя золотыми нашивками на рукавах. Английских знаков различия Николай не знал, но по аналогии сообразил, что этот тип никак не меньше чином, чем российский кап-два. Офицер как раз сейчас, обернувшись, говорил что-то идущим за ним.
«Живым бы взять, – мелькнуло у Карташова, – важный дяденька, не ниже стармеха или старарта». Мария поняла его без слов. Дальнейшее произошло мгновенно. Николай, собственно, ничего больше и сообразить не успел, не то чтобы сделать. Был бы один, мог, наверное, крикнуть «Хэндз ап!», а при попытке сопротивления наверняка бы выстрелил, чисто машинально.
Варламова же, перейдя, как показалось инженеру, в какой-то иной темп (тем более что так оно и было), левой рукой отстранила его с дороги, метнулась вперёд, правой схватила англичанина за толстую красную шею, дёрнула на себя, навстречу выброшенному вперёд и вверх колену. Удар получился впечатляющий и если бы пришёлся в переносицу или ниже – несколько недель лечения в госпитали были бы моряку обеспечены, и это – в лучшем случае. Но Маша ударила в лоб, в самую крепкую кость черепа, за которой, к тому же, никаких жизненно важных центров не размещалось. Лобные доли за другие функции отвечают. Зато сознание «объект воздействия» потерял сразу, но, что важно, ненадолго и без вредных последствий. Нечто вроде обычного нокаута.
За углом коридора, в двух шагах позади офицера, шли ещё двое, с нашивками поу́же и числом поменьше. С этими церемониться ни команды, ни оснований не было. Одного подпоручик ударила, сменив ногу, носком ботинка в район печени, второго, почти одновременно, затыльником автомата снизу вверх, под угол правой челюсти.
«Этим, пожалуй, помощь уже не потребуется», – краем сознания подумал Николай, сам придя в некоторое остолбенение от только что увиденного. Да, какие уж тут кинофильмы, где персонажи обмениваются десятками подобных ударов, в самые чувствительные места, никоим образом от них не страдая, а лишь приходя в необходимый для окончательной победы кураж. Здесь мгновенное, почти не воспринимаемое глазом движение, негромкий звук – и нет человека, явно не успевшего додумать свою последнюю мысль.
Карташов, с автоматом на изготовку, сделал пару шагов. Нет, всё тихо. Дверь поста энергетики закрыта, оставшиеся там занимаются своими делами, никто ничего не услышал.
Он оттащил обоих не то старших лейтенантов, не то лейтенант-коммандеров за поворот. Посмотрел на девушку с уважением пополам с недоумением.
– Как ты их лихо приложила…
Мария ничего не ответила, только чуть дёрнула щекой.
– А этот как? – он кивнул на первого офицера.
– Скоро очухается…
Валькирия присела рядом с оглушённым, сноровисто охлопала его от щиколоток до плеч, рывком оторвав одну пуговицу, расстегнула китель, запустила рукав во внутренний карман. Вытащила офицерскую книжку, открыла, взглянула, присвистнула. Протянула Карташову.
Тот прочитал: «Джером Лесли Макдоннел. Кэптэн. Старший помощник командира корабля Его Величества «Гренвилл».
Да уж. Везёт так везёт. Лишь бы сэр Джером Лесли дуба не врезал раньше времени. Очень интересно, что он именно на этом посту именно сейчас делал? Корабль не в бою, повреждений не имеет, борьбу за живучесть вести пока рано. И есть люди, непосредственно за это отвечающие. У старпома сейчас куда больше неотложных дел имеется, он всегда там, где нужнее всего. Например – в румпельном отделении ремонтную бригаду подгонять и понукать. Уж не крейсер ли свой топить собрался кэптэн Макдоннел? По согласованию с командиром или по собственной инициативе. Если да, то начинать нужно именно отсюда. Автоматические приводы кингстонов и клинкетов на этот пост выведены, перепускные клапаны цистерн и отсеков и многое другое, что можно использовать для экстренного затопления корабля. Самый быстрый способ, конечно, это взрыв артиллерийских и минных погребов, но тогда жизни и комсостава и команды отнюдь не гарантированы. На этот случай экипаж сначала или в шлюпки садится, или в одних спасжилетах за борт прыгает.
– Как скоро?
– Не знаю, минут через десять-пятнадцать обычно. Но вдруг какие осложнения, гипертонией страдает, например, тогда вообще может не очнуться, – ответила Мария, щупая пульс «пациента». Лучше всего ему бы хоть ненадолго гомеостат надеть, но при постороннем человеке делать это вряд ли стоит. Можно пока ограничиться уколом из стандартного шприц-тюбика.
– Ты это брось, он нам живой нужен. Одним словом, наблюдай за ним и по сторонам смотри, я на минутку отлучусь, дело есть…
Едва ли Мария нуждалась в его советах, но – мужчина есть мужчина, да ещё старший по званию, что-то руководящее изречь должен.
Для непосвящённого человека любой отсек боевого корабля представляет собой непостижимое нагромождение труб всевозможного диаметра и цветов, кранов, клапанов, силовых щитов, распределительных коробок и прочего, и прочего и прочего. Причём конструкторы, создавая рабочий проект корабля, совершенно не заботятся о комфорте людей, которым предстоит на нём служить и с техникой работать. Всё подчинено исключительно своеобразно понимаемой рациональности, зачастую несовместимой не только с эргономикой, но и с житейской логикой. Оттого в офицерской кают-компании среди кожаных кресел и мебели красного дерева спокойно размещают торпедные аппараты и скорострельные пушки, в салоне адмирала устраивают горловину элеватора из погреба снарядов зенитной артиллерии и даже в госпитальный отсек могут воткнуть пару совсем неуместных там приводов водоотливных насосов.
Вот и пост энергетики и живучести представлял собой обширное помещение с низким, чуть больше двух метров подволоком, сплошь загромождённое устройствами, даже названия которых не сразу выговоришь, не то чтобы назначение понять. Глухие, без иллюминаторов переборки завешаны стрелочными циферблатами, манометрическими трубками, телефонными аппаратами, стальными и громоздкими, как небольшие сейфы, квадратными и продолговатыми коробками, от которых отходят пучки проводов и гнутые медные трубки, кнопками всех размеров и цветов, целыми блоками блестящих тумблеров и пакетных выключателей. Всё это лишено видимой системы, и как со всем этим разбираются полтора десятка матросов, уорент-офицеров и три техник-лейтенанта – абсолютно непонятно было бы очень многим, девушкам-валькириям в том числе. Но для Карташова этот пост, как и любой другой на любом корабле, был как открытая книга, выражаясь в стиле XIX века. Правда, чтобы запомнить устройство и назначение всех систем, приборов и приспособлений, научиться пользоваться ими при любых обстоятельствах, в том числе в темноте, дыму́ и под шум льющейся в пробоины забортной воды офицеру-выпускнику училища требуется примерно полгода, матросу-новобранцу – полтора.
Несмотря на гудящие вентиляторы, в посту было довольно жарко, сильно пахло нагретой краской, машинным маслом и озоном.
«Какой-то щит сильно искрит», – привычно определил Николай, но его английское разгильдяйство сейчас не интересовало. Чтобы привлечь внимание занятых своим делом моряков, он дал короткую очередь в дальний верхний угол, чтобы избежать рикошетов и раньше времени никого не задеть.
Все взгляды, естественно, повернулись в его сторону.
– Всем сохранять спокойствие, вы не сопротивляетесь – я не стреляю. And on the contrary[30]. Если поняли, отойти к правой переборке, – указал стволом место, где весь личный состав был бы на виду и лишён какой-либо свободы маневра, – руки выше плеч. За пистолеты и иные подручные предметы не хвататься. Командир поста – ко мне!
Всё случилось так быстро, вид незнакомца, а главное – его автомата были так убедительны, что ни у кого не мелькнуло и мысли о сопротивлении. Да и вообще в подобных обстоятельствах сопротивляться как-то странно даже. В чистом поле, с оружием в руках – есть шансы и стимул, а если так, как сейчас – принято не дёргаться и ждать дальнейшего развития событий. Моряки послушно отошли в указанное место, вперёд выдвинулся лейтенант-коммандер в расстёгнутой рабочей тужурке поверх белой майки.
– Можете не представляться, – усмехнулся Карташов, – я тоже не собираюсь. Отвечайте быстро, зачем старпом приходил? Приказал топить крейсер? Не врать, – не люблю. Быстро, я сказал!
Отличное, в том смысле что очень близкое к врождённому, диксилендовское[31], гнусавое и с множеством почти до неузнаваемости искажённых английских слов, произношение Николая направило мысли офицера на противоположный от истинного направления курс.
– Разве мы воюем и с вашей страной? – спросил лейтенант-коммандер.
– Мне кажется, что вы уже ни с кем не воюете. Но и это меня не интересует. Ваш нынешний статус определят другие. Я задал вопрос – приказал Макдоннел готовиться к затоплению корабля?
Сообразить, что всё это чистый блеф, лейтенант-коммандер не успевал. Чисто физически. Незнакомец назвал фамилию старпома и цель его прихода. Кэптэн с сопровождающими покинул пост две минуты назад. Захватить его и ещё двух офицеров без всякого шума, при этом успеть допросить – за это время нереально. Значит, человек с автоматом и алабамским акцентом всё знал заранее. Подождал, пока старпом уйдёт, и вошёл после него. Кто этот человек – думать тоже некогда. Слишком нервно пошевеливается его палец на блестящем спусковом крючке английского автомата. Дёрнет чуть сильнее – и всё. Своей цели налётчик добьётся в любом случае, а лейтенант и его люди просто перестанут жить. Причём – навсегда. В загробную жизнь офицер не очень верил, да и в любом случае там существовать будет уже не это тело, не эти мысли и не эти желания. А прожить ещё хотя бы лет сорок, а лучше – пятьдесят офицер очень рассчитывал. У него в роду никто из мужчин раньше восьмидесяти не умирал, даже когда не было никакой современной медицины, гигиены и прочего…
– Да, приказал… – ответил офицер.
– Могли бы и «сэр» добавить, я старше вас по званию.
– Мне это неизвестно.
– Да и мне честно говоря, наплевать. Это я просто к тому, чтоб вы знали – не с сомалийским пиратом дело имеете. А с человеком, наверняка превосходящим вас в квалификации. У ваших людей нет оружия?
Николай вёл этот, как со стороны могло показаться, чересчур длинный и якобы никчёмный разговор отнюдь не из склонности к пустой болтовне. Постоянное общение с самыми разными людьми, от флотского и собственного заводского начальства до последнего разметчика или сварщика научили его многим психологическим приёмам. Сейчас, например, он заставлял собеседника рассеять внимание между несколькими, как бы не слишком связанными, но кажущимися одинаково важными темами, не позволял ему сосредоточиться на какой-то одной. Этим он как бы интеллектуально обезоруживал партнёра, заставлял исполнять приказы и отвечать на вопросы быстрее, чем тот мог их отрефлектировать.
– Откуда у нас оружие? Матросам оно вообще не положено, кроме как в карауле, а у офицеров пистолеты в ящиках столов ржавеют, – позволил себе криво улыбнуться офицер.
– Знакомо. Что ж, тем лучше для вас и спокойнее мне. Руки можно опустить. Кто здесь электрик?
Мужчина средних лет в куртке без знаков различия обозначился шагом вперёд и наклоном головы.
– Уорент-офицер Томлинсон, сэр.
– Очень хорошо, Томлинсон. У вас есть приличный аккумуляторный фонарь?
– Так точно, сэр.
– Подайте мне его.
Уорент-офицер скомандовал ближайшему матросу, и тот мгновенно принёс требуемое.
Николай проверил. Нормально светит, ярко.
– А теперь, Томлинсон, возьмите какую-нибудь приличную железку с изолированной рукояткой подойдите к главному распределительному щиту, откройте и закоротите подводящую шину.
Электрик растерянно посмотрел на своего командира.
– Я неясно выразился? Может быть, вон те две штуки, где «саплей»[32] написано, у вас называются как-то иначе? Это неважно. Действуйте.
Голос и облик Карташова, никак не согласующиеся с представлением о жестоком и грубом террористе, пирате, или как там ещё можно назвать, плюс взведённый автомат, направленный прямо в грудь лейтенант-коммандеру и на группу моряков позади него, производили требуемое гипнотическое впечатление.
Уорент-офицер взял из ящика большой, сантиметров в сорок напильник, как-то механически подошёл к шкафу и сделал то, что требовал Николай. Полыхнуло настолько здорово, что в мгновенно наступившей темноте перед глазами запульсировали алые, голубые и зелёные пятна. Ещё более остро запахло озоном и горелой изоляцией.
Карташов включил фонарь. Электрик выглядел контуженным и тупо смотрел на свои руки. Напильник вырвало из них и отбросило далеко в сторону.
«Наверное, и прожгло насквозь», – подумал инженер. Когда-то, в студенческие ещё годы, с ним самим случилась подобная штука, только он закоротил шины высокого напряжения и с очень приличной силой тока случайно.
– Вот наверное и всё пока, – спокойно сказал он в пространство. Теперь сидите здесь и ждите дальнейшего развития событий. Никаких попыток выполнять предыдущий приказ не предпринимать. Я его отменяю. А на всякий случай повешу на дверь снаружи пару гранат, так что и выбираться самостоятельно не советую…
Пост был выведен из строя основательно, поскольку блоки предохранителей, из соображений большей надёжности, находились совсем в другом месте, а выйти из отсека эти «лаймы»[33] едва ли рискнут.
В коридоре Мария так и сидела рядом со старпомом. Тот, похоже, начал постепенно приходить в себя. Довольно быстро, если учесть, что посещение поста и все действия там заняли меньше пяти минут.
– Способен этот просвещённый мореплаватель подняться на десять метров по трапу? – спросил Карташов, ожидая, пока сердце перестанет колотиться и отпустят напряжённые нервы. Ему это представление далось нелегко. Одно дело – проигрывать такие сюжеты в голове, совсем другое – держаться и говорить, как супермен, отнюдь не будучи им на самом деле. Хорошо хоть, во время путешествия с Юрием вокруг половины «шарика» кое-какие навыки появились и характер окреп, а то бы ничего у него не вышло. Устроил бы никчёмную мясорубку с перепугу, а так чисто получилось, вроде как «детский мат» невзначай опытному игроку поставил.
– Попросим – пойдёт, – коротко ответила Мария и чувствительно толкнула кэптэна стволом под лопатку. – Поднимайся. Дойдём живыми – отлежишься.
Удивительно, но моряк, выглядевший не совсем вменяемым, с кровоподтёком, быстро разливавшимся на лбу и вокруг глаз, слова девушки понял, не совсем уверенно встал и, как сомнамбула, начал карабкаться по скобтрапу, ведущему по узкой, чуть шире плеч крупного мужчины, шахте, ведущей прямо в главный командный пункт. Впереди поднимался Карташов, за ним англичанин, замыкающей – Мария. Подстраховывала, хотя сорваться здесь было практически невозможно – чуть отклонился назад – и упёрся спиной в сталь трубы.
В боевой рубке, люк в которую по боевому расписанию был открыт, не оказалось никого, кроме сигнальщика, дежурившего у телефонов. Да и правильно – зачем тесниться в глухой коробке с узкими прорезями-бойницами, через которые почти ни черта не видно, если этажом выше, в так называемой «оперативной рубке» куда просторнее, с четырёх сторон большие остеклённые окна со сдвижными створками и целых три выхода на обширный мостик. На его крыльях – два четырёхствольных «Эрликона» в полусферических вращающихся башенках.
Сначала Николай направил на сигнальщика автомат, а потом Мария одним движением выключила парня, недоумённо таращившегося и на неприятное, когда смотрит тебе в грудь, дульное отверстие, и на недавнего «царя и бога» – старпома, выглядящего как после драки в портсмутском борделе, и на молодую ведьму, тоже с автоматом и очень неприятно прищуренными глазами. Этот взгляд и вспомнится ему первым, когда он придёт в себя после долгого беспамятства.
– Не сильно ты его? – спросил Карташов, когда матрос сполз по переборке на рифлёный настил рубки.
– Раз не убила – значит, не сильно. Очнётся, только шеей долго будет больно двигать.
Тут наверху послышался шум, крики, даже выстрел громыхнул, пистолетный, вообще как-то неуместный на столь грозном корабле, где положено грохотать только пушкам главного калибра и зенитным скорострелкам.
Николай рванулся к трапу, но Мария его опередила, оттолкнула довольно невежливо.
– За этим смотрите!
Взлетела вверх, будто пантера какая-то, или – строевой матрос по пятому году службы, почти не коснувшись ни поручней, ни ступенек.
И лоб в лоб столкнулась с Мариной, так же как она решившей проверить – нет ли её подопечным какой-нибудь угрозы снизу.
Девушки остановились и в один голос рассмеялись. Ситуация и вправду получилась несколько комичная.
– Что у тебя, Верещагина? – крикнул Уваров, наклоняясь к люку, и тут же сам увидел ещё одну свою подчинённую.
– О! А ты откуда взялась?
– Стреляли! – не отказала себе в удовольствии процитировать всем им очень понравившийся фильм Маша. И только потом ответила по сути: – Командирша послала. Вы все целы?
– Да, слава богу, на британском флоте офицеров из пистолетов стрелять не учат. Нашёлся один дурак, даже в воздух не попал из своего браунинга…
Он указал на распластавшегося ничком человека в синем кителе. Из-под головы расплывалась алая, быстро густеющая лужица.
– Прикладом схлопотал. Хорошая реакция у нашего унтера, – счёл нужным пояснить подполковник, кивая на Кузнецова, как ни в чём не бывало сгоняющего в один угол всех находившихся в рубке англичан.
Басманов с Бекетовым, очутившись на мостике, одновременно, не сговариваясь бросились к зенитно-артиллерийским точкам. Происходило всё гораздо быстрее, чем здесь описывается, и расчёты «Эрликонов», по пять человек в каждом, вообще ничего не видели и не слышали, пока в задних проёмах полубашен не появились неизвестные, но весьма решительно настроенные, хорошо вооружённые люди – в одной руке незнакомой конструкции, но явно автомат, в другой – граната.
– Или я сейчас эту штуку брошу, или – выходите по одному, не делая резких движений, – на хорошем оксфордском предложил артиллеристам выбор Юрий, а полковник вообще не стал ничего говорить, просто сделал стволом недвусмысленный жест. «To escape»[34], мол.
Эффект был совершенно однозначен.
– И куда их? – спросил Уваров у Юрия, самого авторитетного для него во флотских делах человека.
Действительно, число пленных, считая комендоров и доставленного снизу старпома, составило уже семнадцать человек. На мостике становилось тесновато.
«Кинутся кучей – и перестрелять не успеем», – подумал Егор Кузнецов, сделав три шага назад и уперевшись спиной в леерное ограждение.
– Да ничего хитрого, – ответил Юрий. – Пусть все лишние по одному лезут вверх по мачте, на пеленгаторные площадки, и сидят там, как обезьяны. Кто первый увидит, что наши крейсера появились, пусть крикнет. Тогда ему – банан.
Это было сказано специально по-английски, чтобы два раза не повторять. Слова отставной штабс-капитан подтвердил ставшим уже универсальным знаком на все случаи – движением автоматного ствола.
В рубке Бекетов оставил только действительно нужных людей – старших судовых специалистов. На вопрос, где командир, старпом, вахтенный начальник, очередной лейтенант-коммандер с типично британским (то есть, на русский взгляд слегка лошадиным и порядочно глуповатым лицом), ответил, что, очевидно, занимаются теми делами, которые считают важными. А ему они не докладывали.
– Хорошо. Будем вместе разбираться. Уже по-нашему…
Мария крикнула вниз:
– Можно выводить.
Через несколько секунд собравшемуся в рубке и на мостике довольно пёстрому обществу явился так до сих пор окончательно не пришедший в себя кэптэн Макдоннел.
– С этим разобрались. Повторяю вопрос – где ваш командир? – спросил, обращаясь ко всем сразу, Юрий. Сейчас некогда было считаться чинами, кто был уверен, что в данный момент справится лучше, тот и брал на себя инициативу. В том, как разговаривать с вражескими моряками, Бекетов разбирался, и ему легче было уловить ложь или умолчания. – Ему бы следовало сейчас находиться здесь, отважно руководя своим крейсером в его последние минуты службы под британским флагом. А он вместо этого… Старпома мы поймали в низах, где он собирался, не выслушав мнения офицерского совета, потопить корабль, командир, боюсь, тоже какую-нибудь гадость затеял. Кто сейчас ответит на мой вопрос…
– Получит самое тёплое место в Сибири? – попытался сострить на порядочно избитую тему старший артиллерист, судя по фиолетовым просветам между нашивками.
– Я всегда считал английский юмор несколько туповатым, – не остался в долгу Юрий. – А имел в виду – снимет с души грех за гибель сотен ни в чём не повинных людей. Если один ваш начальник втихаря собрался вас топить, отчего бы вышестоящему не попытаться заодно и взорвать крейсер? Вы же тут всякую ерунду с собой возите, – он указал на загромождающие всю корму, задний мостик и боевые марсы решётчатые конструкции.
– Кроме командира есть и ещё более вышестоящие, – мрачно сообщил вахтенный начальник, которому слова Бекетова весьма не понравились. Действительно, войны пока нет, а на эскадре творится чёрт знает что. Сначала грузят на крейсер две сотни подозрительных штатских, говорящих исключительно по-русски, потом ни с того ни с сего затевают бой с не проявлявшими никаких агрессивных намерений русскими же гидропланами, да ещё история с этими, якобы пиратскими катерами… Нормальному, аполитичному моряку такие игры элементарно противны. А теперь, значит, ещё до появления русской эскадры, без всяких переговоров (войны-то по-прежнему не объявлялось) – крейсер топить! Шлюпок, как обычно, и на половину экипажа не хватит, а уж на пассажиров тем более… Одним словом, честному офицеру в этом лучше не участвовать.
За этими мыслями офицер как-то не нашёл времени задуматься – а откуда вдруг появились на крейсере эти люди, а особенно – вооружённые и весьма недурно владеющие ухватками настоящих рейнджеров «мисс».
– Всем тут заправляют представитель адмиралтейства и его научный помощник. По чину оба кэптэны, только видно, что это так, для маскировки. Офицерские мундиры словно вчера надели. Самых элементарных понятий не знают. Тот, что «учёный» – по трапу задом наперёд спускается! – в глазах офицера это было крайней степенью непрофессионализма и обыкновенной трусостью. – Я, в конце концов, никакой подписки никому не давал, – лейтенант-коммандер с некоторым вызовом посмотрел на окружающих.
Возражать никто не стал, хотя и были на мостике три офицера старше него чином и должностями. На необъявленной войне умирать и среди них желающих не нашлось, тем более – настоящей войны уже почти сто лет не было. И только прадеды этих офицеров имели настоящее представление, каково это – когда в эскадренном бою один за одним взрываются от вражеских снарядов могучие линкоры, а крейсера и эсминцы с всеми экипажами – просто расходный материал. С тех пор ощущение ценности собственной жизни выросло обратно пропорционально степени готовности к геройской смерти «За короля». Этого в своих расчётах Арчибальд как-то не учёл, находясь под впечатлением информации о битвах Нельсона и сражениях Мировой войны. Как и того, что гипнотическое обаяние его личности распространяется только на членов «Хантер-клуба» и тех сухопутных и флотских начальников, с кем он контактировал непосредственно, да и то на расстоянии и со временем угасая. Прочие просто подчинялись воинской дисциплине, сохраняя собственную индивидуальность.
– Насколько я знаю, командир в сопровождении вестового отправился как раз к этим так называемым «учёным». Кэптэн Френч со своей компанией располагается в запасном командном пункте под кормовым мостиком и в адмиральских помещениях, это палубой ниже, на самом юте. Когда он туда направлялся, вид у него был… так себе. И виски от него сильно попахивало.
– Очень нехорошее сочетание, – как бы только стоящему рядом Уварову, но довольно громко сказал Басманов, так что услышали все. – В таком состоянии глупости как бы сами собой делаются.
– Вас понял, – тут же среагировал подполковник. – Варламова, и вы, пожалуй – повернулся он к Карташову и унтеру Егору, – быстренько туда. Действовать по обстановке, но названных персонажей задержать и изолировать до выяснения. Втроём справитесь?
– По обстановке, – ответил Уварову его же словами Николай. – Если никто сильно сопротивляться не будет.
– Об этом мы позаботимся, – ответил вместо Валерия Бекетов. – Господин старший помощник, возьмите микрофон и по громкой связи скомандуйте отбой боевой тревоги. Офицерам прикажите в полном составе немедленно собраться в кают-компании. Никаких активных действий без специальной команды с мостика не предпринимать. Ничьих команд, кроме ваших, не выполнять. Командир тяжело заболел и госпитализирован…
Старпом смотрел на него бессмысленным взглядом и едва ли был способен всё это связно, да ещё и с нужным металлом в голосе пересказать. Или действительно Мария повредила ему лобные доли мозга, заведующие как раз ориентацией и творческим мышлением, или он мастерски симулировал, уходя от всякой ответственности. Он перевёл глаза на вахтенного начальника, который фактически, по причине отсутствия командира и явной недееспособности его заместителя, до конца своей вахты оставался высшей властью на корабле.
– Придётся вам отрепетовать[35] мои слова, раз господин Макдоннел в отключке. Не нужно пояснять, что невыполнение этого приказа будет иметь самые тяжёлые последствия, ибо нам и всей нашей десантной группе придётся действовать по законам военного времени и в условиях крайней необходимости? Вся ответственность за возможные жертвы ложится на командование корабля, на здесь присутствующих. Вы поняли?
Лейтенант-коммандер, да и все прочие англичане, после всего уже случившегося предпочли вести себя «по факту», отлично уловив содержащийся в словах русского офицера месседж[36]. Что интересно, присутствие на мостике двух красивых, как морские ведьмы, тяжеловооружённых девиц способствовало ещё лучшему усвоению ситуации, поскольку до сего момента никаких женщин на корабле не было, это раз, и автоматы у них были явно не английские, это два.
Глава четвёртая
Командир крейсера коммодор Честер в этот момент вошёл вслед за учёным в его рабочий кабинет, под который тот самым бесстыдным образом использовал запасной адмиральский салон. Большую часть службы почти любого корабля эти роскошные апартаменты пустуют, поскольку адмиралы довольно редко переходят с привычного флагмана на корабли второго и третьего ранга, но даже командиры не осмеливаются его занимать, поскольку идеи (а точнее – капризы) у носителей широких нашивок возникают спонтанно и воплощаются в жизнь мгновенно. Да и вообще традиция. Но для этого «яйцеголового» сделали исключение. Вроде бы пустяк, но и он на фоне водопада неприятностей, обрушившихся на коммодора, усиливал общее раздражение.
– Скажите, – требовал Честер, стоявший, широко расставив ноги, на тёмно-бордовом ковре, притом, что сам Френч, несмотря на знаки различия младшего по чину, плюхнулся в обширное кресло перед заваленным бумагами, рулонами магнитофонных плёнок и перфокартами столом, – есть какой-то способ обратить возможности вашего устройства для спасения крейсера и победы над врагом?
Он уже объяснил профессору суть полученных им от Хилгарта распоряжений и инструкций Адмиралтейства.
– Выбор у нас с вами крайне невелик, хотя мне отвратительно вам это говорить. Или мы как-то сумеем выпутаться, или… Ни один носитель сверхсекретной информации, ни один ваш прибор не должны попасть в руки противника. Меня это тоже касается, следовательно, мы с вами в равном положении, я могу не чувствовать себя виноватым…
– Было бы неплохо, если бы вы смогли несколько чётче изложить ваши представления о том, чего вы ждёте от меня, – осторожно ответил Френч. Он видел, в каком состоянии капитан, и опасался, что его нервы могут не выдержать раньше, чем профессор найдёт выход, устраивающий всех или в крайнем случае хотя бы его лично.
– Я знаю, что вы можете своими машинами не только помехи ставить, вы загипнотизировать любого способны, как этих русских собирались. Думаете, если с Эвансом от меня таились, то я на своём корабле не знаю всё, каждый шаг, слово и поступок любого? Большая ошибка. Сделайте так – прямо сейчас – усыпите или иным способом обезвредьте всех русских, что здесь находятся. Второе – внушите командованию русской эскадры, что нас здесь просто нет. Что мы идём, как и положено, четвёртыми в кильватере «Тайгера». Разве это так сложно?
Голос капитана прозвучал почти жалобно и с последней надеждой. Действительно, что стоит профессору устроить такой пустяк? Он, в той мере, что ему сочли нужным сообщить, знал и о миссии отряда, и о назначении изуродовавших его корабль антенн и прочих устройств. А остальное выяснил сам, распорядившись установить скрытые микрофоны в жилых и рабочих помещениях незваных гостей, в том числе и Строссона, личного порученца Гамильтона-Рэя, приставленного им наблюдать за этой компанией.
Они воображали, что простодушные моряки понятия не имеют о подобных штучках. Доверенный шифровальщик, уорент-офицер, с которым Честер отплавал вместе больше десяти лет, круглосуточно писал на магнитофон все разговоры и выкладывал на стол командира краткие, но информативные сводки.
Выслушав коммодора, профессор решил, что просто словами доказать ему что-то едва ли удастся.
– Пойдёмте со мной, – предложил Френч наиболее убедительным и внушающим расположение тоном, на какой был способен. За многие годы преподавания в лучших университетах «старой доброй Англии» кому только не приходилось внушать не только знания, но и стиль мышления. От особ королевской крови до полусумасшедших вундеркиндов «из низов общества». – Вы всё увидите и поймёте сами. Тогда и будем решать…
Почти все отсеки кормовой части крейсера, от ЗКП[37] до подбашенного колодца башни «D»[38], на три палубы, включая верхнюю, были заняты техникой, безраздельным хозяином которой был профессор, сменивший университетскую кафедру на ненадёжную зыбкость корабля.
Невероятные возможности этих устройств, полученных, нужно сказать, при странных обстоятельствах, нельзя было познать в полном объёме, экспериментируя «на белых мышах», условно выражаясь. Хорошо, что нашлись люди, богатые и могущественные, давшие возможность проводить «полевые испытания» в практически неограниченных масштабах.
Первый раз Френч под руководством и покровительством очень серьёзного, но и благожелательного джентльмена достаточно успешно применил свою аппаратуру в миллионном мегаполисе год назад. Или – полтора, воспоминания о прошлом странным образом плыли, их не удавалось привязать к конкретной дате, а документальных подтверждений, увы, не осталось. Френч несколько позже понял, почему так случилось, но предпочёл оставить эту догадку при себе. То казалось, что работать пришлось в Москве ранней осенью, то – вьюжной зимой. И в какой-то странной Москве, не той, где он много раз бывал на симпозиумах и конференциях. Что особенно интересно – в прессу о тех событиях ничего не попало. Совсем ничего. О причинах такой информационной блокады у него тоже имелись соображения. Не вина Френча и его помощников, что всё предприятие (какую бы цель оно ни преследовало) закончилось полной неудачей. Нет, не его, организаторов. Сам профессор получил совершенно сказочный гонорар, а теоретические расчёты и техническое воплощение замысла продемонстрировали высочайшую согласованность[39].
Сейчас – вторая попытка. С учётом всех предыдущих ошибок. Правда – ошибки учитывали те, кто затеял очередную операцию. Самому профессору нужно было только подготовить новых людей взамен потерянных прошлый раз и перестроить алгоритмы под новые планы. И вот сейчас – не хочется об этом думать – эксперимент грозит закончиться значительно хуже первого. Тогда Френч был именно исследователем, сидящем в тепле и уюте и отдающим распоряжения лаборантам и аспирантам.
Профессору только сейчас начало казаться, что дело в неудачном выборе темы и материала. Если бы сначала потренироваться на какой-нибудь Колумбии или Сомали – результаты могли бы получиться куда более впечатляющими. А тут чёрт дёрнул согласиться с условиями, выдвинутыми всё тем же сэром Арчибальдом и адмиралом Гамильтоном-Рэем. И как бы ни пришлось расплачиваться головой за научное любопытство и желание хоть на шестом десятке забыть о столь низменной, но, увы, необходимой субстанции, как деньги. Пожить, как подобает джентльмену, избавленному от материальных забот.
Они шли по казавшимся бесконечными отсекам, забитыми снизу доверху лабораторным оборудованием в зелёных и серых металлических ящиках. Мимо людей в белых и синих халатах, трудящихся за письменными столами, пультами вычислительных устройств, у круглых экранов осциллографов и радиолокаторов, по которым бежали колонки цифр и переплетение разноцветных кривых совершенно непонятных графиков.
Сейчас эта спокойная, несмотря на то что происходило на крейсере и за бортом, академическая обстановка вызывала у коммодора крайнее раздражение. Сначала ради этой ерунды испоганили его честный боевой корабль, а теперь из-за неё скорее всего придётся умирать. Один повод для горького удовлетворения – не одному ему умирать, всем этим – тоже. Даже стрелять не придётся, хотя Френча он с удовольствием пристрелил бы своей рукой. Достаточно по любому телефону передать условную команду на минно-торпедный пост, и полтонны эластита сделают своё дело, превратят в огонь и пепел все эти «творения высокого разума». Вместе с его, «разума», носителями.
Иногда коммодор Честер умел подниматься до истинно высокой поэзии, почти не уступая своим японским коллегам, успевавшим на гибнущих кораблях сочинять изысканные прощальные хокку, не заботясь, увидит ли кто-нибудь не всегда каллиграфически выписанные иероглифы.
– Уилки! – позвал Френч сорокалетнего мужчину с внешностью боксёра-средневеса, лишь золотые очки и глаза за их стёклами опровергали первое впечатление.
– Мистер Сэм Уилки, – представил его профессор коммодору, – заведующий лабораторией, доктор философии и физики. – Сэм, командир крейсера хочет знать, в состоянии ли вы ввести двести человек из девятисот присутствующих на этом корабле в полную прострацию, мышечную и умственную? Никаких более сложных эмоций, на которые настроены излучатели, не требуется.
– Легко, шеф. Соберите их в подходящее помещение, где мы развернём рефлекторы, желательно так, чтобы они стояли плечом к плечу и не двигались, и всё займёт у меня от силы минуту, – ровный тон Уилки показался Честеру издевательским.
– Как я это сделаю, пусть вы подохнете вместе со всеми своими родственниками?! – взорвался командир. – Они расползлись, как тараканы, по всему крейсеру, взорвали рулевую машину! Откуда мне знать, где они? Их что, пригласить по громкой связи на чашку чая в подходящий трюм?
– А мне? – резонно спросил учёный. – Включив генераторы пси-энергии на полную мощность, я легко могу превратить в пускающих слюну идиотов всех находящихся на борту, включая себя и вас. А выборочно… Вы способны из своего пистолета одним выстрелом убить всю свору атакующих вас с разных сторон бультерьеров?
Переждал исполненный бессильного бешенства взгляд коммодора.
– Вот и я тоже. У нас нет возможности воздействовать на людей избирательно. За исключением тех, кто уже прошёл предварительную обработку, чьи характеристики внесены в нужные ячейки памяти, и сами они собраны в нужном месте, оснащённом правильно расположенными волноводами и излучателями…
– А сбить с нашего следа русскую эскадру вы можете? Поставить какую-то завесу… Да, дьявол забери, сделать хоть что-нибудь?!
– Завесу мы уже поставили. На всех экранах русских кораблей именно то, о чём вы просите. Радиосвязь по-прежнему не работает, радиолокаторы принимают только то, что мы на них транслируем. Они видят – «Гренвилл» вслед за «Тайгером», «Лайоном» и «Блейком», полным ходом идущий на северо-восток тридцатиузловым ходом, успешно увеличивая отрыв, а не болтается, как, извините…
Честер несколько воспрянул духом. Какая-то польза от этих учёных всё же есть. За час-полтора руль как-нибудь приведут в порядок, и тогда полными ходами – пусть трубки в котлах горят – на юг, на юг. До ближайшего нейтрального порта, и катись оно всё… Жить намного лучше, чем не жить, какими бы словами подобная ерунда не облекалась. «Дульце эт декорум э про патриа море»?[40] Сейчас, ждите…
– Только, сэр, одна маленькая загвоздка. На антенны русских мы сигнал посылаем, а вот как быть с глазами пилотов русских разведчиков? В оптическом диапазоне мы – как на ладони, прошу прощения, сэр. А ещё есть моряки русского парохода, что болтается у горизонта. Они тоже нас видят. То есть на повестке один вопрос: кому поверит русский адмирал – донесениям своих радиометристов или непосредственным наблюдателям?
Вот чему коммодор за свою сравнительно долгую жизнь не научился – так это нормальному русскому мату – командному языку вероятного противника. Отчего выругался совсем не остроумно, пусть и экспрессивно. Состояние его для людей, профессионально занимающихся в том числе и психологией, было вполне очевидно. Таким людям, как Честер, да и всем другим коммодорам и адмиралам, правильнее всего – стоять на мостиках и вести куда-нибудь свои железные коробки, зная лишь пункт назначения. Думать при этом о чём-то отвлечённом – явно непосильный труд. От перенапряжения у них может «выбить предохранители» и тогда…
Френч почти незаметно кивнул доктору Уилки, тот – кому-то ещё. И коммодор с мгновенно остекленевшими глазами сначала пошатнулся, попытался что-то сказать коснеющим языком, потом, медленно подогнув ноги, опустился на палубу отсека, превращённого в лабораторию. Пару секунду посидел в позе Будды и повалился вперёд, ткнувшись лбом в палубу.
Учёные умирать не хотели, ни за «старую добрую Англию», ни за деньги. Куда проще нейтрализовать одного коммодора, накрыв его лучом из параболической антенны. Этот портативный излучатель, с дальностью всего двадцать метров и углом раствора всего в десять градусов был установлен одновременно с монтажом всего оборудования, и на такой, в частности, случай. Любого человека или сколь угодно большую группу, оказавшуюся в пределах расположенных в ключевых точках, чётко очерченных прямо на палубах рабочих помещений и приборных отсеков зон, можно было парализовать, стереть память или заставить делать то, что потребуется специалистам. Сейчас времени программировать объект не было, и его просто отключили.
– Ну и что теперь, мистер Френч? – спросил Уилки, – строго по букве закона мы с вами заслуживаем суда и приличного тюремного срока.
– Сомневаюсь, что в ближайшее время этот факт станет предметом расследования. Назревают куда более масштабные события.
– События меня занимают гораздо меньше. Меньше, чем возможность взлететь на воздух или быть банально расстрелянными. Капитан выразился вполне недвусмысленно – попасть живыми в руки русских нам никто не позволит…
– И что теперь? Вы в состоянии прямо сейчас написать программу, способную заставить капитана отменить все свои планы и инструкции относительно нас?
– Конечно, нет, и вы это знаете, – пожал плечами Уилки. – Зато мы можем немедленно привести его в чувство и очень убедительно попросить сделать то же самое без помощи техники…
– Если вы в состоянии сделать это – так не теряйте времени. Таймер уже, возможно, отсчитывает последние минуты…
– Кстати, о таймере, сэр, – вмешался инженер не слишком высокого статуса, работавший за одним из ближайших столов, – вам не кажется, что не только капитан, кое-кто ещё мог озаботиться сохранением «тайны государственного значения»?
– Чёрт возьми, Френч, – сказал Уилки, больше не считающий нужным употреблять в отношении руководителя, ставшего подельником, вежливые приставки, – а парень прав, тот же проклятый Эванс вполне может нажать какую-нибудь хитрую кнопочку.
– Ну и ваши действия в таком случае?
– Очень просто, – снова ответил инженер. – Я сейчас же могу запустить один генератор, блокирующий, грубо говоря, движение и взаимодействие заряженных частиц в проводниках и диэлектриках. В нашем случае – ни одна управляющая команда ни от какого прибора никуда не дойдёт. От карманного пульта до взрывателя мины – в том числе. Едва ли мистер Эванс, подобно Гаю Фоксу[41], побежит с факелом в пороховой погреб…
– А вы представляете, что в этом случае произойдёт со всей остальной электрикой и электроникой крейсера? – спросил Френч.
– А нам какое дело? Я так понял, речь идёт о спасении собственных задниц в первую очередь…
Эффект от срабатывания программы был действительно впечатляющий. Выглядело это, как если бы разомкнуть все синапсы[42] нервной системы человека. Впрочем, нет, не все, а только те, что связывают головной и спинной мозг с двигательными центрами. Мыслить человек по-прежнему может, а вот произвольно двинуть хоть одним пальцем, хоть веком дрогнуть – увы! То же и крейсер. Зря старался Карташов, грубо и нецивилизованно обесточивая пост живучести. Обычный штатский инженер одним щелчком тумблера превратил современный, напичканный электропотребляющими приборами корабль в подобие флагманского корабля Нельсона или даже древнегреческой триремы. Общим для этих плавсредств было то, что единственными источниками энергии остались мускульная сила да огонь в камбузной печке и на кончике фитиля масляной лампы или сальной свечки. Даже батарейки и аккумуляторы карманных фонариков разрядились в ноль.
Правда, нужной команде Френча аппаратуры этот «блэк-аут» не коснулся, она по-прежнему работала, должным образом экранированная и имеющая автономное питание. Иначе что бы значили эти гражданские люди со своими, ставшими никчёмными приборами на охваченном паникой и смутой судне? А так они могли сохранять суверенитет, ощущая себя высокоучёными монахами хорошо укреплённого монастыря в охваченной феодальными смутами средневековой Европе.
Находившиеся рядом инженеры вмиг оттащили коммодора в свободный от приборных шкафов угол, да там и оставили лежать прямо на линолеуме. Некому было сейчас о нём заботиться, и незачем тоже. Френч с помощником соображали, как действовать дальше, остальные, бросив работу, демонстративно закуривали там, где это раньше категорически запрещалось, и горячо обсуждали случившееся и ближайшие перспективы.
В принципе, неплохим был только что предложенный вариант – парализовать вообще всех людей, находящихся на корабле, кроме учёных, поставить вокруг него мощную гипнотическую завесу, чтобы несколько часов, пока протянут аккумуляторы, русские не могли его увидеть, а тем более – захватить. Самим уничтожить оборудование и документы, спустить на воду мореходный катер и направиться в сторону ближайших островов. Причалить к берегу в небольшом туристском городке, выдать себя за обычных путешественников или, вообще не привлекая ничьего внимания, взять такси до аэропорта – и на этом всё.
Схема до крайности простая, но на практике трудноисполнимая. Прежде всего потому, что ни один из людей Френча понятия не имел о том, как это сделать практически. Как говорил один доморощенный мыслитель: «Легче нести ахинею, чем бревно». Легче разработать программу одновременного перепрограммирования тысяч людей, чем вручную наладить тали и спустить на воду, при неработающих электромоторах шлюпбалок, двадцатитонный катер. Остальное – из той же оперы. Как, например, пройти несколько сотен океанских миль и попасть в крошечные, как мушиный след на глобусе, острова, не умея пользоваться навигационными приборами?
Значит, нужно придумать что-то другое. Например, опять-таки парализовать весь экипаж крейсера, потом десяток наиболее подходящих тел перетащить в одну из лабораторий, вновь вернуть к жизни, наложив при этом на сознание нужную поведенческую программу: «Беспрекословно повиноваться, доставить господ учёных до ближайшего безопасного населённого пункта, после чего всё забыть. Навсегда». Технически возможно, но займёт минимум четыре-пять часов, это не считая времени, нужного, чтобы удалиться за пределы видимости русских кораблей, которые уже будут в рядом с крейсером, пусть и невидимым. А как быть с барражирующими в небе самолётами?
Неизвестно, существуют ли в английском языке поговорки, аналогичные русским про гору и Магомеда, про волка и ловца, на которого ему следует бежать, но сработать она сработала. Распахнулась наружу выходящая на левый борт кормовой надстройки дверь, прямо под крылом мостика, и в просторное помещение салона нельзя сказать, что ворвалась, скорее – проникла, а ещё лучше – перетекла с палубы совершенно бесшумно стройная девушка.
Камуфляжный костюм неизвестной английским учёным расцветки безупречно, как туалет от Харрордса, сидел на её высокой тонкой фигуре. Изяществу фигуры и движений, подходящих арабской танцовщице, не мешало даже огромное для нормального человека количество оружия и боеприпасов, распределённых на ремнях и в многочисленных карманах брюк и куртки. Ещё учёным мужам бросились в глаза прекрасные волосы, большие, будто светящиеся глаза и лицо, своими чертами свидетельствующее о безусловно славянской принадлежности этой дивы.
Остановившись в четырёх шагах от Френча, она немедленно направила свой автомат на ошеломлённых её появлением «специалистов».
– Все поднимают руки и не двигаются с тех мест, где сейчас находятся, – сказала девушка на безупречном английском, но с совершенно не свойственными этому языку мягкими мелодичными интонациями и обертонами. Половина находящихся в «лаборатории» Френча людей не столь уж давно работала несколько месяцев в Москве, близко общались с русскими девушками и дамами, оттого не могли спутать этот, если так можно выразиться, «акцент» ни с каким другим.
Мистер Чарльз Доджсон, более математик, чем писатель Льюис Кэрролл, о подобных ситуациях выразился метко: «Становилось всё страньше и страньше». Вот и мистеру Френчу стало совсем уже странно. Русская эскадра ещё достаточно далеко, в полусотне миль примерно, а откуда тогда «это»? Тяжеловооружённая мисс, судя по всему, не могла скрываться среди подготовленных к «спецобработке» русских волонтёров, никакой грим не помог бы прятаться девушке со столь выраженными формами в тесных кубриках среди сотен мужчин, при отсутствии индивидуальных гальюнов, душевых и умывальников. Разве только… – мелькнула у профессора интересная мысль.
При всеобщей растерянности, не исключившей, впрочем, вполне естественного, инстинктивного, без участия мыслительного аппарата интереса полутора десятков молодых мужчин, вторую неделю обходившихся «без берега», к прелестной, слишком уж отличающейся от дубоватых соотечественниц особе, появление двух её коллег, тоже с автоматами, дополнительного ажиотажа не вызвало. Они как раз выглядели именно теми самыми волонтёрами, кандидатами в зомби и ещё раз на тот свет. От них даже пахло так, как и должно – по́том, не только своим, табачным перегаром, впитавшемся в одежду, многими другими ароматами, свойственными обитателям казарм, тюрем и корабельных кубриков.
И никаких специальных пояснений их появление не требовало – людям, привыкшим мыслить аналитически, всё стало понятно. Русскими проведена вполне успешная контракция, задуманная, как только им стал известен план «Дискрешен»[43]. Откуда известен и как – не суть важно. Важно, что русские морские диверсанты захватили корабль, любезно приглашённые на борт британской разведкой. Тем самым не только выполнили свою задачу, но и дали ответ на так мучившую Френча и его людей проблему.
– О…! А кто это тут у них…? – нецензурно, не стесняясь присутствия Марии, удивился Кузнецов, увидев распростёртое на линолеуме массивное тело командира, явно не подающего признаков жизни.
– Если я правильно понимаю, – ответила Варламова, наизусть знавшая знаки различия всех армий и флотов мира, как «цивилизованных», так и «независимых» республик, империй, султанатов, герцогств и прочих образований, доросших до формирования регулярных вооружённых сил, – перед нами как раз командир данного крейсера. Едва ли на нём служат сразу два коммодора. Да вон и серебряный значок на кителе… И что же мы видим на этой интересной картинке? – спросила она тоном учительницы, преподающей французский язык в детском саду по методике мадемуазель Марго.
Сама же и ответила:
– Мы видим либо приключившийся с господином коммодором совершенно неожиданный инсульт. Либо – банальный бунт на корабле, начинающийся, как водится, с убийства капитана. Только вот состав заговорщиков… кажется… мне… – Мария говорила всё медленнее, язык совершенно не слушался, и в глазах плыло. Ещё секунда, и с ней случится то, что уже произошло с командиром. Инсульт не инсульт, но тотальное поражение речевых и двигательных центров. А вот сознание пока сохранялось. Такая специфика испытанной на Честере программы – новая задача накладывалась на мыслящий, но отключённый от своих эффекторов мозг.
Егор уже лежал на полу, сражённый мгновенным параличом. Карташов отстал на два-три метра, его достало не так тотально, но и он сползал на палубу, выронив ППД и бессильно цепляясь скрюченными пальцами за броневую дверь. Маша это видела и, успев понять, что происходит, словно зависла между стремлениями нажать спусковой крючок или выхватить блок-универсал из нагрудного кармана.
Слишком неожиданно всё случилось. Именно к такому повороту событий никто не был готов. Мистер Уилки оказался сообразительнее всех. Только валькирия появилась и заговорила, он быстрым движением, пока никто не помешал, повернул верньер одного из своих устройств. На его метнувшуюся к пульту руку никто не обратил внимания – все смотрели совсем не туда, куда стоило бы, да и Мария неизвестно с чего разболталась сверх меры. Видимо, на неё так своеобразно подействовало плавно наращивавшее свою напряжённость психополе.
Только Френч и его сотрудники не учли того факта, что Варламова, пусть и была анатомически и физиологически совершенно нормальным человеком, но мозг её и психика функционировали несколько в другом режиме, «на другой волне», не на той, под которую был подстроен оптимум генератора. Да кроме этого, включённый гомеостат хотя и не нейтрализовал внешнее психополе, но значительно повышал общую резистентность организма валькирии. Проще говоря, до последней возможности не позволял ей потерять сознание и контроль над своим телом. Точно так же она держалась бы на ногах и сохраняла сознание даже с простреленным сердцем, пока организм затягивал рану и подключал резервные источники жизненных сил.
Маша совершенно инстинктивно, не зная об ориентации психополя, просто чтобы расширить сектор обстрела и получить большую свободу действий, попыталась отскочить назад, к комингсу двери.
Отскочить – слишком сильно сказано, она качнулась назад и сделала два шага, еле-еле сохраняя равновесие и напоминая сильно пьяного, из последних сил держащегося на ногах человека. Ноги подгибались, и глаза, словно дымом, затягивало серой мутью. Очень трудно стало вдыхать густой и липкий воздух.
Целую секунду учёная братия напряжённо ждала – когда же упадёт, наконец, эта девчонка без чувств, как её напарники, и не успеет ли сначала перекрестить салон длинной автоматной очередью. Ствол она так и не опустила, значит – несколько пуль наверняка кому-то достанутся. Вопрос – кому конкретно.
Девушка, выйдя из фокуса магического эллипса, пришла в себя так же быстро, как и начала впадать в транс. И злость её охватила нешуточная. Всё же совсем обычной девушкой она до сих пор не стала. Когда начали действовать глубинные стереотипы, наносная культура, приобретённая за последний год, ещё удерживалась, но уже еле-еле. Реакция разъярённой пантеры была бы более естественной, чем старательно удерживаемая личина девицы Варламовой, якобы внучки-правнучки знаменитых композиторов, актёров и многих поколений военнослужащих дворян.
Пули короткой, в три патрона, очереди разметали седеющие волосы и оставили глубокую царапину на куполообразном черепе доктора физики и философии, оправдавшего-таки свою полубандитскую внешность. Мария подсознательно зафиксировала его движение к пульту, и теперь, когда возникла необходимость, могла бы с точностью указать, какой именно тумблер включил учёный. Просто в тот момент она ожидала от противника более агрессивных поступков, вот и просмотрела этот, мелкий.
– То, что голова ещё цела, это не ваша удача, а мой каприз, – сообщила девушка, окончательно приходя в обычную психологическую и физическую форму. – Пока я не устроила принудительную вентиляцию в каждом из находящихся в пределах прямого выстрела организмов – немедленно привести моих друзей в исходное состояние, – подпоручик мельком взглянула на магазин своего автомата, как бы прикидывая, не раздаёт ли несбыточных обещаний, то есть – хватит ли патронов на каждого из присутствующих. Кивнула успокоенно-удовлетворённо. – Минуты вам достаточно на обратную операцию или требуется дополнительная стимуляция?
Снова взгляд на «ППС» с открытым затвором на боевом взводе, теперь чуть более задумчивый. И совсем лёгкая мечтательная улыбка, скользнувшая по губам.
Речь красавицы, столь виртуозно владеющей своим огнестрельным оружием, сама по себе оказала на присутствующих воспитательное воздействие. Они просто не знали, что валькирии были с детства приучены формулировать свои мысли ясно, доходчиво, в наиболее подходящей к обстоятельствам стилистике и тональности. Разумеется, окажись Маша в положении Кристины, на одесской Молдаванке с её специфическими аборигенами, она легко сумела бы использовать лексикон, экспрессию и неповторимый акцент торговки с Привоза или «воровки на доверии», но здесь избранный ею стиль был более уместен.
– Время пошло…
Одной левой рукой, не опуская автомата, она извлекла из нагрудного кармана портсигар, прихватила губами фильтр сигареты, заодно выставила на клавиатуре команду «Переход». Предварительную. Вдруг ситуация потребует экстренной эвакуации. Тогда стандартного резерва «растянутого настоящего» хватит ей, чтобы выскочить с корабля в Замок, даже если неприятный тип в белом халате нажмёт сейчас, к примеру, невидимой отсюда ногой кнопку самоликвидации.
Однако на такую героическую глупость мистер Уилки и все его коллеги отнюдь не ориентировались.
Прикурив, Маша выпустила дым и на всякий случай сообщила в пространство между собой и учёными:
– Такая сигарета горит в среднем две минуты, а я до фильтра докуривать привычки не имею…
– Не беспокойтесь, мисс, всё будет в полном порядке. Я уже снял поле. Ваши друзья как раз через минуту-другую начнут приходить в себя. Только, прошу вас, больше не делайте опрометчивых движений… Мы, честное слово, не хотели вам ничего дурного, мы, напротив, второпях приняли вас за пособников командира и, так сказать…
Варламова присела на край лабораторного стола, сбила о какой-то прибор удлиняющийся столбик пепла.
– Хватит трепаться. Все мои движения исключительно целенаправленные. От опрометчивых следует воздерживаться вам. Сегодня в особенности. Это явно не ваш день. Но если его переживёте, в дальнейшем такая привычка лишней тоже не будет…
Видно было, что прелестная русская спецназовка не прочь поболтать на общефилософские темы даже в такой обстановке. Это сразу успокоило сотрудников, не имеющих непосредственного отношения к руководству «проектом», а один программист в дальнем углу с радостью и некоторым стыдом за неподвластную разуму физическую реакцию организма вдруг понял, что влюбился в эту славянскую Лорелею раз и навсегда. И, прикажи она, без колебаний воткнул бы кинжал (будь он у него) в спину самого профессора Френча, а пуще того – мерзавца Уилки, дерзнувшего посягнуть на жизнь этого ангела, пусть и вооружённого в данный момент. Но ведь мир так груб и несовершенен, как ещё слабой девушке защитить свою жизнь и честь?
Это может показаться невозможным, но Маша сейчас волевым посылом, брошенным в пространство и нашедшим самую расположенную к восприятию жертву, в течение нескольких минут достигла того же результата, что Миледи, в течение пяти дней нейролингвистически охмурявшая пуританина Фельтона, чтобы убедить его убить герцога Бэкингэма[44].
На третьей минуте Егор Кузнецов, поднявшийся как после нокаута, но не ощущая сопутствующих последствий, почувствовал себя достаточно пришедшим в себя, чтобы от всей души, как иногда позволял себе «поучить» матроса, совершившего нечто такое, за что грозил беспристрастный и не нарушающий «прав человека» трибунал, врезал по зубам столь много сегодня претерпевшему Уилки.
Вслед за этим, хотя и не поэтому, полностью вернулся в окружающую реальность и Карташов.
– Давайте, господин инженер, начинайте разбираться, какая от нас с вами польза здесь, и нам – от этих высокоучёных придурков, – сказала Варламова Николаю, увидев, что он «вполне в меридиане».
Читая очень много книг и смотря фильмы, а также часто последнее время общаясь с Фёстом, валькирии обогатили свой лексикон огромным количеством слов и фразеологизмов, позволявшим легко поддерживать желаемый имидж в любой компании.
– Я ведь совсем по другим вопросам спец, – сообщил Николай, жадно при этом рассматривая стенды и пульты, богато орнаментированные циферблатами, всякого рода экранами и экранчиками (от спичечной коробки размером и до полуметра в диагонали), а также кнопками и тумблерами. – Вы ведь, мадемуазель подпоручик, что в итоге хотите узнать и чего добиться?
– Знаете, вы меня лучше Машей называйте, – сказала валькирия, которую издевательски-вежливые обращения Карташова уже достали. – Нас зачем послали? Вас – обеспечить сохранность корабля и аппаратуры, меня – вас защищать. Я со своим делом вроде справляюсь, а вы?
Николай демонстративно тяжело вздохнул, забросил автомат за спину и подвинул к себе кресло перед пультом, пальцем указав, где должен стоять Уилки. Отчего-то все посчитали его главным, как-то упустив из внимания Френча, чему тот был чрезвычайно рад и сейчас прикидывал, не удастся ли как-нибудь подобраться к ведущему «в низы» люку. Там – три метра скобтрапа, не очень длинный коридор и спуск в подбашенные отделения, где расположено «сердце» всей конструкции, центральный процессор, переданный ему сэром Арчибальдом Боулнойзом ещё два года назад, когда затевалась операция в Москве. Без этого процессора все остальные двенадцать тонн оборудования не имеют никакого смысла, их можно спокойно передать русским. Они до пришествия Машиаха[45] будут пытаться разгадать, для чего всё это сделано каким-то сумасшедшим любителем микро– и макроэлектроники. А вот если суметь его унести и спрятать – тогда, считай, ничего ещё не потеряно, и попытку «Дискрешена» можно повторить снова и снова. Или, если так сложится, продать тем же русским, за очень хорошие деньги. Мистер Френч был человек весьма злопамятный и «истинный патриот», только свой «британский патриотизм» толковал очень и очень расширительно.
Мария между тем, отдав необходимые распоряжения Карташову и вполне положившись на Егора в смысле обороны занятой территории, решила обратить внимание на молодого человека в углу. Наблюдательность у валькирий была, можно сказать, генетическим качеством, и в «Печенегах» её старательно культивировали. Любой офицер этого подразделения должен был уметь и за уличного филёра[46] работать, и снайпером в засаде сутки пролежать, фиксируя каждое шевеление в полукилометровом радиусе, и проявляющего к тебе излишний интерес человека на балу в тысячу гостей распознать.
Вот и она узнала обращённый на себя взгляд попавшего на крючок. Довольно, в общем-то, симпатичного парня лет около двадцати пяти, хотя и не лишённого типичной «островной» дебильноватости. У каждой нации есть свои характерные черты, по которым их представителей можно различить в разноплеменной толпе. У англичан примерно с середины прошлого века ускоренными темпами начал формироваться такой странноватый фенотип – взрослые, вполне образованные и «состоявшиеся» мужчины через одного стали выглядеть выпускниками хотя и престижной, но «коррекционной» школы. Немотивированные улыбки, натужная моторика лицевых мышц, предельно упрощённые речевые конструкции с обилием бессмысленных междометий. В России школы для детей с задержками умственного развития неполиткорректно продолжают называть «вспомогательными», если не хуже. Что особенно интересно – британцы, вплоть до начала второй половины ХХ века такого впечатления не производили, совсем напротив. А потом вдруг «процесс пошёл».
Этот инженер тоже, хотя и совсем чуть-чуть, смахивал на дауна. И смотрел он на девушку с тем самым выражением восторженного обожания, когда вот-вот – и слюна изо рта закапает.
Причина Марии была вполне понятна, она знала, как пойманные могут себя вести. Но обычно для нужного эффекта требовалось больше времени и усилий. Впрочем, Юрий сегодня тоже в несколько секунд, без специального позыва выделил её среди ничуть не менее привлекательных подруг. Правда, в Замке она была одета чуть откровеннее остальных.
– День добрый, мистер…? – сказала она, подойдя к парню, не слишком выразительно, но всё же благожелательно ему улыбнувшись.
– Майкельсон, мэм, Томас Майкельсон, – сглотнув, ответил он, не заметив, что употребил по отношению к девушке не слишком распространённое теперь обращение, которым принято было именовать женщину старше себя возрастом и особенно положением. Вот если бы к Сильвии он так обратился, было бы понятно…
– Очень приятно, Том, а меня зовут Мэри, – сказала валькирия, перекладывая автомат из правой руки в левую и протягивая узкую, слегка грязноватую, в полосках копоти и масла ладонь (всё же никогда на британских кораблях не добивались той чистоты, что на русских).
Майкельсон схватил эту совсем не подходящую для такого использования ручку и приложился к ней губами, словно какой-нибудь польский шляхтич ягеллонских времён.
В другой ситуации можно было подумать, что парень так изощрённо дурака валяет с некоей тайной целью, но от этого истекал эмоциональный фон такой напряжённости, что Маше стало даже немножко не по себе.
То она привлекла внимание отставного штабс-капитана Бекетова (но тот хоть вёл себя до предела сдержанно), то этот… вуайерист[47] слюни распустил. Какой-то сегодня день… особенный. Точнее, начался он с особенной ночи. И она, и большинство подруг уже не те, что были лишь вчера. Но что же так разительно изменилось? Они изменились оттого, что резко изменились обстоятельства, или совсем наоборот?
Но Майкельсону она ответила предельно мягко, убрав руку за спину:
– Не следует этого делать, я совсем не та, за кого вы меня приняли. Проводите меня в ближайшее свободное помещение, я хочу кое о чём поговорить с вами наедине…
И опять этот наверняка не совсем вменяемый молодой человек (среди талантливых физиков таких едва ли не половина) понял её совершенно неверно.
«Какое счастье, богиня заметила его, простого смертного, и снизошла до личной беседы!» Будто какая-нибудь Афродита или Артемида обратила внимание на попавшегося на глаза обычного грека.
Сопровождаемый недоумённо-опасливыми взглядами прочих сотрудников лаборатории, а прежде всего доктора Френча, Майкельсон через примыкающий к отсеку тамбур провёл Марию в комнату отдыха для персонала, где инженеры устраивали перекуры, пили кофе и обсуждали всякие не имеющие отношения к работе темы во время долгих, двенадцатичасовых дежурств. Отчего-то Френч категорически не желал ввести для своих сотрудников нормальный судовой график вахт, «четыре часа через восемь».
Подпоручик села в полукресло из негорючего пластика, положила на стол со следами кофейных чашек и подпалинами от сигарет автомат. Указала инженеру место напротив.
Мария сразу перешла к делу, мельком посетовав, что нет у них времени поболтать подробнее и спокойнее, выпить по чашечке кофе, а то и ещё чего-нибудь. Она, мол, всегда испытывала уважение к образованным молодым людям, да ещё и занимающихся такими интересными проблемами…
– Вы хотите кофе? Я сейчас сделаю, – дёрнулся парень в сторону большой стационарной кофеварки, более подходящей приличному бару.
– Сиди, я сказала! Потом – значит, потом. А сейчас быстро, очень подробно и на доступном мне языке – у меня высшее образование, но не по физике, к сожалению – ты рассказываешь мне, чем вы тут занимаетесь, и показываешь, как вашей техникой управлять. Чисто на пользовательском уровне, без всяких теорий. На всё десять минут. Хватит?
Чтобы просто смотреть на предмет своего обожания, Майкельсону не хватило бы и суток, но если она требует уложиться в десять минут – как возразить? Можно постараться сообщить всё, что ей нужно, ещё быстрее, а оставшееся время… Нет, тогда она может встать и уйти по своим делам. Нужно говорить с ней как можно дольше, делая вид, что короче изложить не получается.
Томас говорил, а Мария включила блок-универсал на аудио– и видеозапись, потому что инженер по привычке специалиста не мог не иллюстрировать свои слова формулами и рисунками на висевшей позади него грифельной доске. Иначе эти ребята, наверное, мыслями и идеями обмениваться не умели.
Сама девушка в суть его слов не вдумывалась, есть люди, которые разберутся во всём и решат, как нужно действовать. Она же просто собирает информацию, как обычный войсковой разведчик.
Пока всё идёт, как намечено, в смысле сейчас выполняемого задания. Дай бог и дальше так. Но она никак не могла успокоиться от всего, случившегося раньше. А ведь с ней, и не только с ней, со всеми остальными подружками, кроме, может быть, Людмилы и Герты, что-то этой ночью произошло. Вот хотя бы взять внезапно открывшуюся способность работать с блок-универсалом так, что и Сильвия «в изумление пришла», и аггрианские буквы понимать.
Снова всплыла в памяти вьюжная ночь на Таорэре, проведённая в спокойных, можно сказать – дружеских, если бы не разница в возрасте, разговорах с Александром Ивановичем Шульгиным. Его слова о подарке, да таком, что она вспомнит только тогда, когда станет очень, очень нужно. А вспомнит – и всё потом будет получаться так, как сама захочет.
– Правда, хотеть придётся очень ярко и убедительно, со всем напряжением внутренних сил… – сказал этот необыкновенный мужчина, пуская дым сигареты в чуть приоткрытое окно лоджии, за которой свирепствовала прямо-таки антарктическая снежная буря.
Тогда она восприняла его слова с известной долей скептицизма, так как недавно прочла одну интересную книгу, где ей понравилась афористичная мысль: «Слова, сказанные ночью, разве могут они быть правдой?»
А вот прошло не так уж много времени, и те слова правдой всё же оказались, она явно научилась создавать и удерживать пресловутые «мыслеформы». Впрочем, сейчас это несущественно.
– Вы, Том, упомянули про некий процессор, управляющий всем нестандартным оборудованием крейсера? Это очень интересно. Знаете, я вообще с удовольствием пообщалась бы с вами в другой, более приятной обстановке, не отказалась, если бы вы пригласили меня поужинать вместе. Не здесь, конечно, на берегу. Мы ведь скоро окажемся в Лас-Пальмасе или Фуншале. Вот там…
Удар, конечно, был явно ниже пояса. Впрочем, ничего невозможного или неприличного «Мэри» не обещала. Но ради того, чтобы получить в целости и сохранности этот загадочный «процессор», очень возможно – продукт иных миров и цивилизаций, если вспомнить всё то, что она слышала о событиях московской операции «Мрак и туман»[48], она без всяких сомнений легко пообещала бы британцу гораздо большее.
На инженера тяжело было смотреть. Не нормальный взрослый человек двадцать первого века, а какой-то персонаж века четырнадцатого, которому «дама сердца» пообещала за победу в турнире подвязку «своих цветов».
– Так покажи мне этот «процессор». Я вообще любопытная девушка, интересуюсь техникой. А тебе ведь ничего не стоит такая мелочь… – Она постаралась ещё совсем чуть-чуть усилить нажим на его психику. Именно так – только словами и взглядом. Нельзя пережимать.
– Конечно, конечно, Мэри, я немедленно вам покажу эту штуку. Вообще-то с ним работает только мистер Френч, иногда – Уилки, но сейчас, я думаю, они нам не помешают… Но, – лицо инженера выразило некое сомнение, – разве мы отсюда пойдём в Фуншал? Я слышал нечто другое…
– Кроме как туда, нам теперь некуда идти. Очень скоро ваш корабль будет интернирован, на основании морского призового права, но тебя это не коснётся, обещаю. И мы сможем продолжить наше знакомство. Пойдём, где там этот ваш… процессор?
Майкельсон с готовностью поднялся.
– Идёмте, здесь недалеко.
– Минуточку, я только предупрежу своих товарищей…
Мария подошла к двери в салон, собираясь отдать Карташову распоряжения на время её отсутствия, но совсем немного не успела.
Она была в шаге от комингса, как из распахнутой стальной двери напротив, ведущей на мостик, ударил плотный автоматный огонь. Первые очереди прицельные, по стоявшим слишком близко и открыто Николаю с Егором, остальные – «по площадям», как это называется в артиллерии. Стреляли из пяти или шести стволов, не жалея патронов. Очевидно – выживание «технического персонала» для нападающих значения не имело.
Хорошо, что двери салона и «комнаты отдыха» находились не на одной оси, первая была прямо посередине, а вторая – метра на четыре левее, почти в самом углу. Поэтому все пули хлестнули по десятимиллиметровой переборке, не пробив её, и устроили пляску рикошетов, пронзая пространство во всех направлениях и под самыми невероятными углами. Варламовой хватило секунды, чтобы понять – и Карташов, и Кузнецов убиты наповал, никакой гомеостат им уже не поможет, если бы и была возможность его использовать. Жаль, но что поделаешь? Нужно продолжать выполнение боевой задачи, пока сама имеешь эту возможность.
За долю секунды девушка сообразила, что стрелять в ответ бессмысленно, перед дверным проёмом никого не видно, и пули уйдут «в голубую даль», а время будет потеряно. Вместо этого Мария выхватила из гнезда на поясе осколочную гранату и, сдёрнув кольцо, без замаха, от груди выбросила её наружу, на палубу, так, чтобы она откатилась вправо. Не слишком подготовленному человеку удобнее стрелять, поворачивая ствол справа налево, поэтому и входы в помещения атакуют обычно, исходя из этого стереотипа. Следом полетела вторая, на этот раз в расчёте на нестандартно мыслящего противника. Времени, пока гранаты летели и взрывались, ей хватило, чтобы захлопнуть стальное полотнище и повернуть головку внутреннего замка. Настоящие задрайки в жилых помещениях выше ватерлинии не ставились.
– А вот теперь начинаем двигаться очень быстро, – сейчас её голос не нёс в себе тех обволакивающих обертонов, делавших его так похожим по воздействию на песни гомеровских сирен. Майкельсон выглядел совершенно обалдевшим от очередной смены сюжета, но, по счастью, в ступор не впал и сохранил способность выполнять адресованные ему команды.
Мария понятия не имела, сколько человек напали на лабораторию и скольких вывел из строя взрыв её гранат. Но времени у неё нет совсем, услышав взрыв и стрельбу, друзья со своей позиции её поддержат, хотя бы и неприцельным огнём, могут и из зенитных автоматов ударить. И, значит, нападающим нет другого пути, как пробиваться внутрь корабля, вслед за ней, тем более что и другой цели у них наверняка нет. Едва ли какие-то случайные моряки просто так, спонтанно, решили вдруг напасть не на передний мостик и ходовую рубку, а именно на это средоточие корабельных, и не только, тайн.
– Нам куда?
Инженер махнул рукой в сторону сходного трапа из разделявшего помещения салона тамбура.
– Вперёд! – она подтолкнула Майкельсона стволом в поясницу. Сама задержалась всего на несколько секунд – пристроить к двери мину-ловушку из двух гранат. Если враги начнут ломиться, рассчитывая на заведомую хлипкость защёлки, едва ли пригодной на большее, чем противодействие корабельным сквознякам, некоторые из них даже не узнают о своей оплошности, а остальные наверняка задержатся на какое-то время.
Три метра вниз по трапу, метров пятнадцать пробежки по коридору, ещё одна дверь, уже посолиднее, но тоже незапертая, а за ней – просторный отсек, от палубы до подволока по всем четырём переборкам уставленный металлическими приборными шкафами. Иллюминаторов нет, но Мария заблаговременно включила свой фонарь, весьма компактный, но с яркостью посильнее, чем у иного стационарного светильника.
У трёх переборок рабочие столы, напоминающие диспетчерские пульты, почти с тем же количеством контрольно-измерительных приборов и управляющих кнопок, клавиш, тумблеров и верньеров, что и наверху. Не зная, что здесь к чему, и за день не разберёшься.
– Ну, где твоё железо?
– Вот он, здесь, сейчас…
Инженера запоздало начала бить крупная дрожь, Варламова даже испугалась, что он не сможет отвернуть крепящие блок барашки.
Но ничего, справился. И отвернул, что нужно, и извлёк зеленовато-серебристый металлический ящик, на вид – килограммов в десять весом.
– Это всё? – с сомнением и долей угрозы спросила Мария. – Смотри, если что не так, возвращаться не стану. А ты за саботаж ответишь…
– Всё, абсолютно всё, – если бы не процессор, инженер непременно клятвенно прижал бы руки к сердцу, – прочие составляющие в любой приличной лаборатории подмонтировать можно.
– Тогда побежали. По низам дорогу найдёшь, чтобы сразу на ходовой мостик выйти? Я на вашем корабле не очень ориентируюсь…
– Конечно, конечно. Выведу. Только вдруг…
Она поняла, о чём он.
– Насчёт «вдруг» – я первая пойду. Ты – вплотную сзади и командуй: вправо-влево-вверх-вниз. И не трясись, как банный лист.
Ничего более аналогичного русскому термину «не мандражируй» она в английском не нашла. Да и насчёт листа, похоже, не совсем то сказала. Просто вспомнилась недавно прочитанная фантастическая повесть из другого мира[49]. Впрочем, англичанину было всё равно, основной смысл он по интонации угадал.
– А если меня вдруг убьют, что вряд ли, тогда действуй по обстановке. Но всё же хотелось, чтобы ящик моим друзьям достался. Они тебя хорошо вознаградят, а от своих ты кроме пули ничего не дождёшься… Вперёд!
В общечеловеческом смысле подпоручику Варламовой страшно не было. Работа и работа, сопряжённая с известным риском. Понятие «смерть» как-то не входило в курс изучаемых в школе координаторов дисциплин. Ей было известно, что людям свойственно «умирать», даже естественным образом через крайне малый срок, а уж насильственным – постоянно и непрерывно. Как только что умерли вполне живые и даже весёлые Карташов с Кузнецовым. Но, во-первых, координаторы живут очень долго, пример – Сильвия, во-вторых, у них есть гомеостаты, способные вытянуть человека из почти любой «несовместимой с жизнью» ситуации, а в-третьих, и она и её подруги считали свою боевую подготовку достаточной, чтобы переиграть и опередить в темпе любого (почти) возможного на Земле противника. Не очень же боится мастер спорта по борьбе без правил прогуливаться вечером в своём не самом спокойном в городе квартале. Хотя и для него «возможны варианты».
Но сейчас Мария испытывала непривычное чувство. Используя предыдущее сравнение – как тот же мастер спорта, но не в тёмном московском переулке, а очутившись «во плоти» внутри какой-нибудь страшненькой компьютерной игры, вроде «Silent hill».
Отчего так – она не понимала. Неужели кроме тех полей, которые использовали специалисты «Гренвилла» и которые сейчас явно отключены, здесь присутствует что-то ещё?
Но эти мысли и эмоции действовать Варламовой не мешали. С выставленным вперёд автоматом она быстро шла, почти бежала, по коридорам и переходам крейсера, подчиняясь указаниям запыхавшегося Майкельсона. С тихим инженером тоже что-то происходило. Он чувствовал прилив незнакомых и непривычных сил – обстоятельства, в которых он оказался, не пугали, а взбадривали его. Возможно, сказывалась близость прекрасной Мэри. Всего в трёх шагах перед собой он видел её упругую, как тело пантеры, фигуру, чувствовал запах и, кажется, даже слышал шелест её соломенных волос с платиновым отливом. В этом мире отчего-то были не в ходу анекдоты «про блондинок», поэтому никаких посторонних ассоциаций у Тома не возникало. Он просто обожал её и восхищался ею, с каждой минутой всё сильнее. Как стремительно и бесшумно ступают по решётчатому настилу её длинные и сильные ноги, как непринуждённо она держит свой автомат, а её улыбка!
Варламова действительно поминутно оборачивалась, чтобы убедиться, что её спутник-пленник следует за ней и ещё не опомнился достаточно, чтобы воткнуть ей нож между лопаток (если где-то припрятал) или просто опустить на затылок угол своего дурацкого ящика. При этом она улыбалась совершенно машинально, мол, всё у нас пока идёт хорошо, и совершенно не оценивала, как эту «мимическую фигуру» воспринимает с неба свалившийся паладин.
Вообще-то крейсер типа «Гренвилла» – не такое уж большое судно: около двухсот метров в длину, двадцать пять в ширину и с высотой борта в миделе пятнадцать метров. Всего три пятиэтажки состыкованные, проще говоря. Вся сложность восприятия и ориентировки для постороннего человека заключалась в том, что весь свободный объём корпуса делился на 23 автономных водонепроницаемых отсека, каждый из которых разделялся продольными и поперечными переборками, палубами и платформами на несколько сотен более мелких, вдобавок до предела загромождённых средствами жизне– и боеобеспечения. В абсолютно избыточном на взгляд сухопутного человека количестве.
К этому добавить семь ярусов надстроек, тоже не пустых внутри, четыре (на «Гренвилле» – две башни) главного калибра со всеми подбашенными отделениями, погребами, перегрузочными площадками, два десятка зенитных и противоминных башен и полубашен, и получится… Получится обычный военный корабль, на котором живут и служат около тысячи человек, начинающих прилично ориентироваться в этом «лабиринте Минотавра» примерно через год службы, да и то не все и не всегда.
Маше с Майкельсоном нужно было, не попавшись на глаза никому, способному поднять тревогу или сразу начать стрелять (кто-то ведь сумел за совсем короткий промежуток времени организовать вооружённый налёт именно на лабораторию, единственное кроме ходового мостика судьбоносное место крейсера).
Валькирия, не прибегая пока к техническим приёмам, способным нарушить и без того до предела расшатанное мироздание вокруг, просто ввела себя в состояние крайней алертности, готовности к немедленному бою, причём на скоростях и с силой, недоступной не только молодой изящной девушке с параметрами 92–58—90 при росте 176 см, но и олимпийскому чемпиону-десятиборцу на пике своего мастерства. Минут на 20–30 без всяких препаратов вроде бензедрина и не включая блок-универсал, она сможет повысить свою реакцию раз в пять и настолько же – эффективность мышц (как раз до уровня гепарда в момент рывка), и это предел – дальше просто кости и связки не выдержат.
Потому Мария не слишком опасалась внезапного нападения, разве только мину в тесном отсеке взорвут или смертельный газ мгновенного действия пустят. Но это всё маловероятно, противник точно так же, как она, если не в большей степени, испытывает дефицит и времени, и информации.
Со слов Майкельсона, да и вспоминая, о чём говорили между собой Карташов с Егором, она примерно представляла свой оптимальный маршрут, практически исключающий встречу с неприятелем. Четыре палубы вниз, потом около сотни метров вперёд, через два турбинных и четыре котельных отделения и – вверх, желательно – минуя шахту из центрального артиллерийского поста прямо в боевую рубку. Там их могут элементарно задраить крышками сверху и снизу, и больше уже ничего делать не надо. Так что пойдём «окольными тропами», через командные кубрики, офицерскую кают-компанию и всякие служебно-хозяйственные помещения. Хорошо, что буквально через пять первых шагов она увидела на стене схему расположения помещений в этой части корабля и отмеченное звёздочкой «место стояния». Остальное – вопрос техники и некоторого везения.
Глава пятая
Какое-то время пассажиры первой машины ехали молча. Секонду больше того, что он уже сказал, пока говорить было просто незачем, Президент и Журналист каждый по своей причине тоже погрузились в собственные, рваные и путаные мысли. Но при этом жадно смотрели на скорее проплывавшие, чем мелькавшие за окном виды. Машины шли не быстро, километров сорок в час, на этой скорости можно и вывески прочитать, и архитектуру рассмотреть, а главное – людей. Едущих в попутных и встречных машинах и идущих пешком. Было их не много и не мало, так – в самый раз в будний день для города, населением раза в три, а то и в четыре меньше другой Москвы, и распределялись они более равномерно. Не замечалось какого-то особого скопления в центре и разрежения в более отдалённых от него частях города. И люди! Впервые (первое шокирующее посещение не считается) они видели так близко и так подробно обитателей своего собственного, можно сказать, мира, каким он должен был бы стать, не случись в нем семнадцатого года и всего вытекающего…
Люди как люди, можно было повторить вслед за Воландом, но – если не присматриваться. А присмотреться – совсем другие. Одежда – не главное. Последние лет сто мода не особенно меняется, что там, что там, выйдя году этак в двадцатом на некий усреднённый оптимум. А вот лица, фигуры, стать, можно сказать, очень отличаются.
«А что удивляться, – думал журналист Анатолий, – здесь почти всё дворянство сохранилось, аристократия – золотой фонд нации. Даже национальный и генетический состав населения совершенно другой, раз не было красного и белого терроров, миллионов пятнадцать молодых и здоровых мужчин не погибли от репрессий, голода, в Отечественную и прочие войны, не эмигрировали, дожили до старости, родив детей и дождавшись внуков. И крестьяне, если в города переселились, так не бедняки, силой превращённые в пролетариев, а люди вольные, инициативные, пробивные. Примерно та же разница, да нет, всё равно большая, чем у нас между жителями Костромской, Ивановской областей и Кубани со Ставропольем, допустим.
Не было и бесконечного семидесятилетнего перемешивания отдельных людей, наций и народностей многочисленными ссылками, высылками, раскулачиванием, индустриализацией, эвакуацией, оргнаборами[50], подъёмом целины и тому подобным. В результате этого встречались люди, которые ни при каких иных условиях ни в коем случае не могли встретиться, а под влиянием совершенно экстраординарных факторов возникали брачные союзы, породившие немыслимые и неслыханные ранее генетические линии…
Вывесок и реклам, пожалуй, не меньше, но выглядят все немного по-другому, смысла в них больше и спокойной информативности. Это особенно бросалось в глаза Журналисту, давно коллекционирующему особо бессмысленные и смешные названия торговых и развлекательных заведений. Ничего подобного парикмахерской «Далила», магазину детской одежды «Медея» или бюро ритуальных услуг «Хорон» (именно так, через «О») ему не встретилось. Люди, наверное, здесь в среднем умнее. Претенциозные, «идейные» дураки отсеялись на ранних стадиях эволюции, в общем-то не прерывавшейся здесь со времён отмены крепостного права. Полтора года куда менее кровопролитной и беспощадной Гражданской войны, закончившейся девяносто лет назад, в общем, и не в счёт. Пугачёвское, к примеру, восстание или даже Кавказские войны XIX века не слишком ведь отразились на общей структуре и течении повседневной жизни.
Президент с удивлением отметил, что уже примеряет, каким образом могла бы осуществляться конвергенция этой и его Россий.
«Получается, я внутренне уже принял предложенный вариант?» – опасливо удивился он.
Его настроение уловил и друг.
– Знаешь, а я действительно хотел бы здесь пожить. Ну хотя бы пару недель. Как следует вникнуть, глядишь, какие-то рациональные мысли сами собой в голову придут…
– Толя, не говори ерунды, – с внезапной усталостью в голосе сказал Президент. В отличие от Секонда, отстранённо курившего, положив локоть на бортик машины, как бы вообще не вслушиваясь в разговоры спутников, он не имел привычки к жизни такой интенсивности. Для него событий сегодня, причём событий на грани жизни и смерти, да вдобавок за гранью реальности, произошло слишком много. Все аппаратные игры, в которых приходилось участвовать уже шесть лет подряд, никак не могут сравниться с адреналиновой бурей, что вызывает в организме близкая стрельба, не салютная, а боевая, направленная в твою сторону и подразумевающая именно тебя своей целью. Плюс к этому неожиданно пришедшее осознание, что ты, столь громко звучащий и представительно выглядящий «президент», являешься им только волею крайне случайного стечения обстоятельств, и не только твоя легислатура[51], но и сама жизнь может быть прекращена без всяких приличествующих столь важному историческому событию процедур. Любым возомнившим о себе хамом, с генеральскими погонами или в пиджаке от Версаче.
Наверное, нечто подобное доходило до каждого из длинной череды «солдатских императоров» Рима, но, увы, только в последние минуты жизни, а не до того, как они уверенной кавалерийской походкой поднимались на очищенный от прежнего владельца престол.
Осознание этого факта наступило как-то сразу, именно когда он сел в эту машину и всего на несколько минут замолчал, наблюдая и ощущая то, чего на самом деле быть не может. При этом здравомыслия и общих познаний, в том числе и психологии, было у него достаточно, чтобы понимать – никакая вокруг не галлюцинация и не бред, а самая что ни на есть реальность, просто – другая. Примерно так, наверное, чувствовали себя умные люди, услышав о начале Первой мировой войны или состоявшемся сегодня Октябрьском перевороте. Жизнь идёт, как и шла всего полчаса назад, птички поют, солнышко светит, и почти все вокруг ещё беспечны, но на самом деле жизнь уже рухнула, и мир вот-вот накроет, накрывает нечто вроде горного селя или морского цунами. И ничего, ничего нельзя уже изменить… Что-то объяснить и кого-то предостеречь – тоже.
– Не говори ерунды, – повторил Президент и жестом попросил у Секонда папиросу, местную, ароматом и крепостью весьма отличающуюся от привычных виргинских сигарет. – Неужели даже тебе нужно это объяснять? Если ещё и можно остановиться, то вот прямо сейчас. Пока не сделан последний шаг…
– Смотри ты, как возвышенно! Шекспиром отчётливо потянуло, – неожиданно резко возразил до сих пор молчавший Мятлев. Может быть, задетый как раз словами Президента «даже тебе», обращёнными к Журналисту, как бы подразумевающими – «Мятлев-то дурак, что с него взять – но ты!».
– Или – «Операцией «Ы», – попробовал слегка разрядить обстановку Журналист. – Ещё пока не поздно нам сделать остановку…
Чекист, как иногда называли Мятлева друзья, умиротворяющую тональность друга не принял.
– Как нам останавливаться, где, зачем и для чего? На одной ножке постоять, пока всё само собой не рассосётся? Хорошо. Вадим, разворачивай машину, – повернулся он к Секонду. – Поехали обратно, ты нас вернёшь домой, и мы там… Это… Героически сделаем всё, как было. Выйдем, это, на Лобное место, или куда там, перед бунтующей толпой, и ты, товарищ Президент, как Николай Первый, громовым голосом возгласишь: «На колени, так вашу мать!» И сразу все устыдятся и падут ниц… Или сразу указы начнём подписывать, чтобы, значит, всем возвратиться в исходное состояние и впредь супротив властей не бунтовать, а ежели кто чего…
– Большая Круглая Печать[52] потребуется, – как бы про себя добавил Анатолий, но его иронии никто не понял.
«Однако, – подумал Секонд. – Наш генерал точно решил или жечь мосты, или просто заявляет себя доминантным самцом в стае. На случай если стая вообще останется…»
– Ты меня не понял насчёт последнего шага, – почти незаметно пошёл на попятную Президент. – Пожить мы здесь можем какое-то время, но никак себя в этом мире не заявляя, при этом разработать план решительных действий на ближайшую перспективу. Вернуться домой практически в момент отправления, насколько я испытал на собственном опыте, вполне возможно… Это так?
Секонд протянул ему портсигар и одновременно кивнул.
– Совершенно верно. При условии, что никто другой при этом не переместится из нашей реальности в вашу, и наоборот. А если барьер будет снят – тогда время, прожитое здесь, будет достаточно строго равно прошедшему там. И вы рискуете сильно опоздать…
Эти последние слова Секонд произнёс скорее из вредности, просто ему надоело толочь воду в ступе, и он «намекнул горячим утюгом в грудь», что без здешней помощи гостям своих проблем не решить.
– Не совсем понял, – осторожно сказал Президент, прикуривая и сразу глубоко затягиваясь.
«Так он действительно всерьёз курить начнёт», – не совсем к моменту подумал Журналист.
– Да я и сам не слишком понимаю. – Секонд предпочёл говорить только о физическом смысле явления, не касаясь политических последствий, которые, как он понял, уже давно ясны Мятлеву, да и журналисту Анатолию тоже. – Образование у меня не то или вообще – способ восприятия действительности. Попросту говоря, дело обстоит так. Мы здесь живём, вы там. Время в обеих реальностях с самой бифуркации текло примерно с одной скоростью. Поэтому культурно-политический уровень у нас довольно близко совпадает, во многом – как раз за счёт того, что и там и там очень долго жили, да и сейчас ещё остались люди, родившиеся до разделения реальностей… Что это означает, сами понимаете.
О том, что с самого начала между мирами имелся довольно порядочный календарный сдвиг, причём постоянно увеличивающийся, Секонд говорить не стал. Без всякой цели, просто так, не упомянул и всё.
– А с техникой, да, отстали, конечно, так ещё Энгельс писал, что войны – двигатель прогресса. И «соревнования двух систем» здесь не было, а значит, и стимулов для «опережающего развития». Реактивная авиация появилась, причём сначала гражданская, а уже потом военная, только когда сформировался целый класс людей, которым пять дней из Америки в Европу и обратно на пароходе плыть долго и дорого, а на поршневых самолётах, как Чкалов, сутки через Северный полюс – страшно…
– Вы таким образом эту сторону прогресса рассматриваете? – с явным недоверием произнёс Журналист.
– А с какой ещё? Я две истории изучил, вы – одну. Примерно к тридцатому году военная авиация и у вас, и у нас достигла естественного, так сказать, предела развития. Но потом у вас началось… Нацизм, японо-китайская война, итало-эфиопская, испанская, так что к сорок первому году вы обогнали нас лет на двадцать. А там – сами понимаете, ФАУ, атомная бомба, нужда в средствах доставки, потом Спутник, Гагарин, Луна… А у нас то, что имелось, в рамках существующих доктрин всех вполне устраивало. Воевать ни одна из великих держав не собиралась, не за что стало воевать. Европейские границы удалось провести грамотнее, чем по Версальскому миру, с колониями тоже договорились полюбовно, все нужные соглашения о недопущении гонки вооружений подписали. И ещё – экономика другими путями пошла, поскольку мы сохранили «золотой стандарт»…[53]
– Мне вообще кажется, хотя я ещё очень малым количеством фактов располагаю, – включился разговор Президент, – в вашем мире не просто история поменялась, у вас где-то в семнадцатом-восемнадцатом годах будто бы психологию подменили. Одни ведь фактически люди стали вдруг принимать гораздо более осознанные, осмысленные, рациональные решения… Да что говорить, вот у нас в восемнадцатом и в Германии революция произошла, но в отличие от российской тут же и выдохлась, через полгода. В вашем случае и Гражданская до вселенских масштабов не раскрутилась. Повоевали, конечно, но больше в пределах европейской части, потом Корнилов Москву взял, большевики из Питера морем сбежали, кто в Аргентину, кто опять в Швейцарию, и всё на этом. Я правильно рассуждаю?
– Более чем, – поразился Секонд. – Не думал, что вы с нашей историей столь глубоко познакомиться успели. Из случайного набора десятка ежедневных газет столько не узнаешь…
– Два раза ошибаетесь. Как раз в одном еженедельнике оказалась целая подборка дискуссионных статей к девяностолетию окончания Гражданской войны. Вполне популярно изложено. А Леонид во время разговора со своими коллегами из аналогичного ведомства получил от них довольно детальный компаративный[54] реферат. Так что кое-какое представление мы тоже имеем.
– Ничего, ещё дня три-четыре серьёзных историков книжки полистаете, фильмы посмотрите – совсем свободно ориентироваться будете, – только и нашёл, что сказать, Секонд, неприятно удивлённый тем, что Президент как бы слегка его «присадил в лужу». – Но я ведь о другом начал говорить. Если захотите, вы сможете вернуться домой теоретически уже через секунду после «ухода», но с учётом принципа неопределённости на практике допуск составляет от десяти минут до часа. Но, повторяю – только в том случае, если ни одного персонажа из нашего времени, проникшего после нашего ухода, у вас там нет. Если есть – время и там и там синхронизируется. То есть существует риск оказаться у себя месяцем или годом спустя. По тамошнему календарю. У нас такое случалось. На той стороне люди провели неделю, здесь прошёл именно год. А одна экспедиция до сих пор неизвестно где. Или – когда.
Лица всех троих гостей выразили озабоченность.
– Почему? – достаточно глупо, в свете уже разъяснённого, спросил Журналист. Секонд уже отметил, как в президентской команде поставлено распределение ролей. Телепатия или нет, бог знает, но неудобные вопросы, грозящие «потерей лица», всегда успевает задать то Анатолий, то Мятлев.
– Я окончил медицинский факультет и Академию Генштаба, – назидательно сказал Секонд, – по физике и математике мне в гимназии едва-едва «хорошо» натянули, просто аттестат не захотели портить. Поэтому в хронофизике вполне заслуживаю оценки, поставленной одному моему приятелю за сочинение по литературе: «Очень плохо с двумя минусами». Тот долго удивлялся, что это такое. Хорошо, если просто ноль, а если ещё меньше? Поэтому скажу одно – таким образом мироздание защищает себя от сто раз обсосанного писателями и философами «парадокса дедушки».
– То есть? – спросил теперь уже Президент и подставился. В отличие от Мятлева и Журналиста продемонстрировал, что фантастику в детстве и юности действительно не читал. Или читал, но не ту. Своего друга-писателя, выходит, тоже.
– А это всего лишь означает, что никакими ухищрениями человек не может попасть в собственное прошлое и убить там своего дедушку, чтобы не родиться на свет, и так далее. То есть время «в норме» у вас и у нас «неподвижно» относительно друг друга, поэтому и можно вернуться туда, откуда переместились. А когда перемещается другой человек и устанавливается этакий «мостик», они, времена, снова начинают двигаться, а поскольку движутся с разными относительными скоростями, то при попытке перехода в «точку отправления» вы должны бы попасть в собственное прошлое. Ну и так далее… Нас с вами всё время «подтягивает» вперёд, чтобы этого самого парадокса не случилось…
Но вы не расстраивайтесь, всё не так мрачно. Это ведь возможность чисто теоретическая. Едва ли кто-то, не принадлежащий к нашему «сообществу посвящённых», способен свободно ходить между мирами, причём именно по нашей методике…
– Простите, а как же… – попробовал вставить слово Мятлев, кое-что слышавший о перемещениях «андреевских братьев» и в двадцать пятый год, и даже в девятнадцатый век.
– Я вас понял, – было такое у обоих Ляховых неприятное окружающим свойство – они соображали очень быстро, к тому же умели думать и за себя, и за собеседника, поэтому часто перебивали и отвечали на вопрос, который ещё не задан, а то и не сформулирован. Многих это очень раздражало, и во время своих инструктажей А. И. Шульгин требовал от аналогов «фильтровать базар» и курить лучше трубку или, на крайний случай, папиросы, чтобы покрепче прикусывать мундштук, когда лишние слова наружу рвутся. Увы, до конца Фёст с Секондом от своей порочной привычки так и не избавились.
– Мы с вами тоже можем хоть сейчас прогуляться и в тридцать восьмой, и в двадцать пятый. И в восемьсот девяносто девятый, но это будут уже не те годы. Из другой ветки, сформированной предыдущими визитёрами. Неразличимо похожей большинством реалий, но – другой. Дело в том, что, ухитрившись попасть в своё прошлое, человек обратно уже не вернётся. Так и останется жить в свежевозникшей альтернативе. Если обладает необходимой аппаратурой или мистическими, так сказать, способностями, сможет прыгать из мира в мир, как конь по шахматной доске. Но всегда, повторяю – по мирам, мгновенно становящимися другими, и поперёк потока времени…
Секонд вздохнул, закурил очередную папиросу и сказал уже другим тоном:
– По крайней мере, мне так объяснили. Извините, если неубедительно изложил.
– Да отчего же? – возразил Президент. – Для практических целей вполне достаточно. Мы тоже не собираемся хронофизикой профессионально заниматься. Пока что нам ваших слов хватит. Значит, к моменту ухода с моей дачи вы нас вернуть можете? Но не на неё, конечно, а в какое-то другое место по нашему выбору.
– Пожалуй, так, – подтвердил Секонд. – Мы вас можем вывести на улицу из подъезда того дома, куда вас доставила Герта. Это совсем в центре, два шага и до Тверской, и до Петровки. Охрану обеспечим, на такси отвезём, куда скажете. Наши машины, увы, остались на захваченной противником территории. Ну а дальше – вам решать. Сумеете, как Наполеон после Эльбы, возглавить верные вам войска, ликвидировать узурпаторов – гордиться вами будем… А нет, – Секонд развёл руками, – это, увы, останется эпизодом только вашей истории. Меня лично она интересует больше как теоретика. Здесь только мой брат Фёст испытывает к судьбе своей родины настоящие чувства. А Император и все мы то, что нам нужно, сможем и в иных исторических реалиях найти. Так что решайте.
Опять та же методика «школы Шульгина» – ставить противника (ну, союзника в данном случае, это не принципиально) в ситуацию острого цейтнота и предлагать ему немедленно делать ход. Так, чтобы решение, за отсутствием времени на тщательный анализ, принималось исключительно интуитивно, на голых эмоциях. Очень действенный способ, особенно если сам ты давно разобрал партию и имеешь наготове десяток на несколько ходов вперёд просчитанных вариантов.
Президент попался, что называется, по полной.
Ранее он категорически утверждал, что в ближайшее время не желает никаких официальных контактов ни с самим Императором, ни с уполномоченными им лицами.
Несколько минут назад нехотя и не впрямую согласился, что можно задержаться в этом мире на какой-то срок, чтобы привести мысли и нервы в порядок, наметить сколь-нибудь реалистический план дальнейших действий.
Тут, кстати, понять Президента можно. Человек на уровне подсознания склонен до последнего отметать чересчур уж трагическую информацию. Например, засыпает в ночь перед казнью, лелея абсурдную надежду, что проснётся, и ничего этого просто не будет. Сновидение вытеснит реальность.
Абсолютно неприемлемой он также счёл идею о вводе в свою Москву элитного спецназа «Печенег» и тем более гвардейских дивизий полного штата со средствами усиления. Он ещё не знал, что в аналогичной ситуации свежепомазанный Император Олег не погнушался принять помощь от «Братства» и Врангелевской Югороссии. Отчего остался и жив, и при власти.
Но психологический капкан, в который попал по собственной вине, Президент осознал очень быстро, хотя и позже, чем Мятлев с Журналистом.
Перспектива прямо сейчас вновь оказаться в своей столице, где неизвестно, что происходит – это, простите, не вариант. Там абсолютно не на кого положиться – большинство руководителей спецслужб явно не на его стороне. Не убили на даче – убьют в любом другом месте.
Другой бы напрямую обратился к Армии, как её Верховный Главнокомандующий. Так на это и Николай Второй на краю могилы не решился. Почему – бог весть.
Президент, прежде всего, очень плохо представлял, как это вообще может выглядеть. Армию он не знал, не то что никогда не командовал хотя бы батальоном (ниже этого уровня вообще не о чём говорить), а вообще не служил. Министром обороны назначил гражданского человека, не слишком доверяя лояльности и управляемости генералов, а ещё и потому, что «так принято в цивилизованных странах». В деспотиях – там пусть командуют пиночеты, а у нас как у «приличных людей», даже и женщину на седьмом месяце беременности можем назначить. Не хуже чем в Голландии. То есть рассчитывать фактически не на кого и не на что. Керенскому и то легче пришлось, после октябрьского переворота было достаточно ясно, где сторонники большевиков, а где их непримиримые противники. А у него? Туман, туман… «Туман войны», как назвал этот влияющий на решения полководца фактор Клаузевиц.
Кортеж из двух машин тем временем выехал к смотровой площадке Воробьёвых гор, откуда и Президент, и его друзья многократно, с самых юных лет любовались и дневной и ночной панорамой Москвы. Только совершенно дикое, странное, а то и мистическое ощущение вызывало отсутствие за спиной сталинской высотки МГУ. Как если вдруг на своём месте не оказалось бы Кремля с его стенами, башнями, соборами, колокольней Ивана Великого…
Вместо Университета – дремучий лес, прорезанный многочисленными тропинками и аллеями – пешеходными, велосипедными, для верховой езды.
– Здесь – это вам не тут, – вроде бы в шутку произнёс Мятлев избитую армейскую присказку, но прозвучала она как-то уж очень серьёзно.
К парапету подошли и чуть приотставшие Фёст с девушками.
Президент совершенно невольно вдруг посмотрел на Людмилу и Герту – впервые – не как на суровых воительниц, умеющих без промаха стрелять и едва ли не в матерной форме командовать первым лицом государства, пусть и чужого, а просто как на очень красивых девушек. Испытал ту же мгновенную, совершенно неконтролируемую положением и воспитанием реакцию, что и любой нормальный мужчина. На мгновение представил себя в окружении взвода личной гвардии, составленного из таких вот «барышень».
И сразу же, параллельно, подумал и ощутил совсем другое: он сейчас, грубо говоря, «никто и звать его никак». Ладно, в сегодняшний вечер просто гость этих вот людей – полковника «Ляхова-Секонда», «флигель-адъютанта Его Величества» (тоже ведь весьма дико звучит, если всерьёз вдуматься), и двух его… спутниц, соотечественниц, соратниц, современниц, не поймёшь, как и назвать. Будь он сейчас при полноте своей власти, непременно наградил бы обеих орденами Мужества (смешно – имея в виду, что они девушки), или лучше Александра Невского. Этот орден ему, кстати, ни разу ещё не довелось вручать. А красиво могло бы выглядеть, в Георгиевском зале, и он лично прикалывает орденские знаки на… офицерские мундиры или, лучше, на бальные платья с подходящим декольте.
Тьфу, чёрт, какая ерунда вдруг в голову лезет.
Так вот, сейчас он просто гость, частное лицо, но как только флигель-адъютант доложит о его визите и о всём предшествовавшем своему «самодержцу», придётся принимать определённый статус, и определять его, как ни крути, будет не он.
А Леонид-то на эту грубиянку Герту то и дело посматривает невольно. Хоть и чекист, а подкорку свою плохо контролирует. Можно считать, на его объективность рассчитывать уже не стоит. При решении судьбоносных государственных вопросов будет – «три пишем, два в уме». А «в уме» – собственный амурный интерес.
С Анатолием ещё хуже. Если у Мятлева на первом месте всё-таки нормальное сексуальное влечение, то Журналист, пообщавшись с Людмилой наедине, побывав ещё до боя на даче в крутой переделке на улицах города, попал в какую-то другую зависимость. И очень вероятно, что тоже будет принимать решения с оглядкой на эту девицу, хотя поверить в такое как бы и абсурдно, и никакого эротического подтекста здесь не просматривается. Ясно, что у валькирии из древнего княжеского рода вполне серьёзные отношения с полковником Фёстом, собственно, и затеявшим всю эту кутерьму, приведшую Президента к сегодняшнему вечеру и к этому парапету. Не появись он тогда на экране телевизора в своём дурацком гриме, так бы и катилась жизнь по накатанной колее.
– Вот только – куда? – словно бы услышал он в голове свой второй, внутренний голос. Как обычно – ехидный и скептический.
И ответить, по сути, было нечего. Получалось, что прикатились бы туда же, но уже без всяких надежд на постороннюю (потустороннюю) помощь. Даже если бы жив остался – что, в Лондон эмигрировать, пирожки с ливером рекламировать, как Горбачёв – пиццу?
Так, значит, что же – капитулировать? Сдаваться на милость победителя? Тогда – какого из двух?
Тут словно звук в телевизоре включился. Президент снова не только видел картинку, но и слышал всё вокруг. И шорох ветра в кронах окружавших площадку деревьев, и общий, обычно не замечаемый звуковой фон обширного пространства, заполненного гуляющими людьми, и, конечно, голоса своих спутников. Они как раз оживлённо обсуждали, местные с гостями, отчего именно здесь был построен Университет в одной реальности и никому не пришло в голову громоздить титаническое сооружение – в другой. Обошлись созданием обширного студенческого городка не только МГУ, но и других ВУЗов рядом с Петровско-Разумовской сельхозакадемией.
Вполне подходящая тема, чтобы отвлечься от мыслей, которые, похоже, всерьёз мучили только Президента. Остальные, достигнув главной на сегодня цели – выжить, в полной мере радовались этому факту, оставив прочие заботы дню грядущему.
Домой вернулись только к полуночи, посетив практически все достопримечательности в центре и окрестностях, куда можно было проехать на автомобилях.
На крыльце дома Секонд откланялся, сказав, что у него есть неотложные дела, но он, как только с ними разделается, тут же и подъедет. Примерно так завтра к обеду. А если задержится – связь, слава богу, работает нормально.
– Только уж ты, пожалуйста, – попросил его Мятлев, – ни на каком уровне о нашем здесь присутствии информацией не делись. Сам понимаешь…
– Разве что с Тархановым, – ответил Вадим, – такие уж у нас отношения. Служебно-приятельские…
Сказал он это таким, вроде бы и шутливым, но по смыслу категорическим тоном, что генерал понял – спорить с флигель-адъютантом бесполезно. Здесь другая страна, с собственными правилами и принципами.
– А у нас ведь ещё работёнка есть, – сказал Фёст Мятлеву, когда они вошли в квартиру, и почти незаметно увлёк его за поворот коридора. – С нашими пленниками пора бы уже подзаняться или на утро оставим?
– Да чего оставлять? – удивился генерал. – Взбодрился он достаточно, спать совершенно не хотелось, а беседа с бывшим коллегой может добавить адреналинчика, раз на благосклонность Герты сегодня рассчитывать никак не стоит. Обстановка неподходящая. Никакой приватности.
– Ну, быть по сему. Сейчас наших гостей на ночлег разместим, девчата освободятся – и вперёд.
– А девчата при чём? – удивился Мятлев.
– А они, Лёня, техническое сопровождение нам обеспечат. Мне отчего-то кажется, наш будущий пациент – натура до предела упёртая. Немного с ним пообщался, но, так сказать, вник. Я же совсем никаким краем не заплечных дел мастер. Не сумею быть достаточно убедительным в роли сотрудника «пытошного приказа». Вот девушки нам и помогут…
– Как? – поразился генерал. – Они с ним работать будут?
Голос Мятлева прозвучал так, что Вадим невольно рассмеялся.
– Увы, разочарую. Они тоже ни с дыбой, ни с «испанскими сапогами» близко не знакомы, зато иногда умеют быть чертовски убедительны…
Из глубин квартиры послышался трубный голос Воловича. Он, похоже, пришёл в себя от комбинированной алкогольно-морфиновой анестезии и теперь не то что-то вещал, не то чего-то требовал.
– Я сейчас схожу, своего приятеля до завтра успокою, – тонко улыбнулся Фёст, – он меня в основном раздражает, даже самим фактом своего существования, но иногда оказывается полезен. Я тут завтра-послезавтра хочу на нём несколько опытов поставить. Заодно и девчат предупрежу, пусть лабораторию для допроса с пристрастием готовят, а сначала «высоких гостей» на ночлег устроят.
Фёст за время своего достаточно монотонного двухлетнего «резидентства» на Столешниковом прилично разобрался в оставленном Лихаревым техническом наследии. Надо отметить, что из всех коллег, предшественников и преемников только этот «условный аггрианин» проявлял вкус и способности к изобретательству и рационализаторству, совершенствуя и приспосабливая к местным условиям свою «штатную» аппаратуру и её отдельные элементы. Наверное, представлял собой особую, предназначенную для функционирования в эпоху бурного технического прогресса, модификацию стандартного координатора.
Вадим вместе с Людмилой быстренько наладили необходимое для содержательной беседы с генералом оборудование, благо имелось его у них в распоряжении гораздо больше, чем у Валентина в скудные предвоенные годы. Да и подключать всё, что имелось у них в распоряжении, было совсем необязательно. Двух Шаров и одного блок-универсала вполне хватило, плюс ещё большой монитор с неким подобием принтера, но устроенного совсем по другим принципам. С настоящим принтером этот плоский, формата чуть больше, чем А-4 ящичек, покрытый мягким, шелковистым на ощупь пластиком глубоко-чёрного (может быть, если знатоки физики будут снисходительны – «абсолютно чёрного») цвета, роднило только то, что он мог печатать на бумаге, или любом другом материале сравнимой толщины какие угодно тексты, стилистически оформленные в зависимости от желания оператора. Хоть под современный «вордовский» документ, хоть под записку, исполненную химическим карандашом на обороте затёртой транспортной накладной от 1918 года. Собственноручный автограф Людовика XIV или, допустим, Атиллы (если он, конечно, был грамотный) – тоже можно, причём продукция получалась аутентичная на каком угодно уровне, вплоть до субмолекулярного. Никакая из имеющихся в любой из реальностей криминалистическая лаборатория разоблачить подделку была не в состоянии.
Для Фёста, почти в одиночку исполнявшего добровольно принятые на себя функции Лихарева, Ирины и Сильвии вместе взятых, это устройство было одним из главных. В стране, где почти любое телодвижение необходимо сопровождать предъявлением целого вороха казённых бумаг, подчас простенькая, но грамотно сделанная справка оказывалась полезнее, чем пачка русских или иностранных денег. А какие возможности для шантажа представляются – не передать!
– Теперь, дорогая, – сказал он девушке, когда всё, что нужно, было сделано, – забирай Герту, переоденьтесь поубедительнее и ведите пациента.
– Поубедительнее – это как?
– Ну уж не в бикини, разумеется. Это, конечно, тоже произвело бы психологический эффект, но… Не то, одним словом. Лучше всего военная форма, китель под ремень, короткая юбка, сапоги, а поверх – белый халат. Чтоб было видно, что под ним – погоны. Простенько, со вкусом и создаёт нужное настроение.
Людмила посмотрела на него с сомнением.
– Отчего вдруг?
– Ах, да! Ты же по простоте душевной ничего не слыхала про «убийц в белых халатах», доктора Менгеле и всякое такое прочее. А у здешних людей на эти дела стойкий рефлекс. Если в мундире и халате, да ещё и красавица – считай, полный абзац… Не то НКВД, не то гестапо.
Вяземская покачала головой, по-прежнему поняв далеко не всё, но решила, что расспросит подробнее позже. Выполнить же рекомендацию-пожелание Фёста ей труда не составило. Как и в случае с секретером, всегда набитым имеющей хождение здесь и сейчас валютой, в большой гардеробной комнате можно было при должном старании найти почти всё, по росту, сезону и потребности. Не Замок, конечно, эта операционная база интеллекта полностью лишена (скорее всего), но что-то этакое в ней есть.
Шульгин, к примеру, довольно страшной ночью двадцатого года, в состоянии стрессовом, почти критическом, сумел единственно усилием воли вызвать квартиру, наподобие кабинки лифта, совсем из другого пространства-времени, из шестьдесят шестого года Главной исторической последовательности. Как после оказалось – Лихарев оборудовал здесь своё пристанище семью годами позже, тоже в иной реальности, за какой-то незначительной, чисто индивидуальной развилкой. Так что это по-прежнему остаётся загадкой – как такое могло случиться.
Людмиле достаточно было представить, что они с Гертой просто пришли сюда однажды в парадно-выходной, переоделись для штатского времяпрепровождения, а форму повесили в шкаф на плечики. Там всё и обнаружилось, стоило ей открыть дверцу. Такие вещи пытаться понять и рационально объяснить не следует, а то потом начнёшь задумываться, почему камни с неба падают, если никаких камней на небе нет и быть не может.
Наличие в гардеробной отглаженных и накрахмаленных докторских халатов, даже с вышитыми над нагрудными кармашками инициалами, тем более подразумевалось.
– Слушай, Людк, – сказала Герта, переодеваясь перед зеркалом от пола до потолка, – а на кой мы здесь по магазинам бегаем, время и деньги тратим? Приходи сюда, заказывай и бери. Натуральный индпошив, ты глянь, сидит, как влитая, – она повертела бёдрами, поворачиваясь к венецианскому (наверняка!) стеклу то боком, то задним фасадом. Людмиле вдруг показалось, что отражение в своих движениях чуть запаздывает по сравнению с оригиналом и даже вообще повторяет их не совсем точно.
Нет, это уж полная ерунда. Она скорчила сама себе издевательскую гримасу и – опять та же иллюзия! Чисто шизофрения какая-то.
– Да, наверное, – ответила она, стараясь забыть о случившемся наваждении, – гардероб всё-таки для служебных целей предназначен, вот и реагирует на действительную потребность, а не на бабские капризы. То же, что и с деньгами в кабинете, появляются только те, что сейчас нужны. Какой-то домовой за этим делом присматривает, не иначе.
– Ладно, выйдешь за Фёста замуж, станешь здесь хозяйкой, тогда во всём разберешься, а сейчас побыстрее давай, начальник ждёт…
От слов Герты о возможном замужестве сердце у Людмилы слегка ёкнуло. Понимала, что к этому дело, в общем, и идёт, но всё равно не верилось, что ли. Она до сих пор не представляла, как вообще случится в первый раз «это самое». У Вельяминовой, по её словам, вышло очень легко, просто и естественно, но примерить такую ситуацию на себя не получалось. То, чему учила Дайяна, вообще всё, что она знала об этой стороне жизни, как будто совсем другого касалось, а что вдруг самой придётся каким-то образом дать понять Вадиму, что она, наконец, согласна, представлялось неотчётливо. Вот он вдруг скажет: «Так выйдешь за меня?», или, несколько возвышеннее: «Я прошу тебя стать моей женой», и что дальше? Покраснеть, смущённо кивнуть и полностью отдаться естественному течению дальнейших событий, или всё должно быть как-то по-другому? А если выйдет совсем не так и «любимый мужчина» вообще не сделает ей этого самого «предложения»? Предпочтёт не связываться, точнее – не связывать себя…
Вон у Герты с Мятлевым всё просто и заранее понятно: дела отдельно, эмоции отдельно, и никаких душевных терзаний подруга не испытывает. А она – не может, ей сначала обязательно, чтобы любовь…
Она бросила ещё взгляд на отражения в зеркале, своё и Герты, состроила гримасу, показала себе язык, резко развернулась на каблуках и отправилась за пленником.
Продолжая мысленно накручивать себя, она вошла в ванную, где на коротком поводке сидел бывший генерал. Наручники местного образца гуманнее, чем в мире Фёста, цепочка у них длиннее, они сохраняют больше «свободы личности». И воды из крана попить можно, и по нужде сходить, и поспать на дне ванны, если сидеть надоест.
Видимо, Вадим был прав – форма, начищенные, не по-здешнему поскрипывающие сапоги (секрет сапожника), крахмальный халат в сочетании с чуть взъерошенными платиновыми волосами, ангельским личиком, на котором сверкали раздражением глаза, предназначенные для совсем другого выражения, нервно вздрагивали губы, от которых ждёшь только располагающей улыбки – произвели на задержанного запланированное впечатление. Не зря он после пережитого азарта и куража уже видимой, рукой подать (как Кремлёвские башни или Ленинградские окраины в немецкий полевой бинокль), победы, внезапного, катастрофического проигрыша, плена, восемь часов просидел на цепи, подобно шелудивому псу, да ещё и в темноте, и со всеми физиологическими унижениями. Было время подумать, перебрать все варианты, сто раз вспомнить слова суки Мятлева, опять удержавшегося в стане победителей, насчёт людей, для которых любые УПК, правила и конвенции – не осязаемый чувствами звук.
Судя по тому, как они разделались с отборными бойцами генеральской команды, ехавшими всего лишь, чтобы доходчиво объяснить Президенту нынешний политический расклад – так оно и есть. Погибшие сотрудники для собственного удовольствия убивать никого не собирались, они лишь исполняли приказ: «возможное сопротивление решительно пресечь». А вот их именно убили, быстро, чётко и хладнокровно, не оставив взамен ни одного своего трупа.
А теперь, значит, пришла и его очередь…
– Да вы не нервничайте так, Николай Фёдорович, – удивительно мелодичным голосом, но совершенно циничным тоном сказала красавица в медицинском халате (докторшей она не выглядела совершенно), – если у вас мочевой пузырь полон – опорожнитесь, я даже отвернусь. А то очень неудобно – для вас, конечно, – будет, если за разговором непроизвольно сфинктеры откроются…
Генерал хотел гордо промолчать, но как-то само собой вырвалось жалкое:
– Не надо, обойдусь…
– Смотрите, я предупредила. У меня для вас запасных кальсон нет. Тогда – вперёд и не дёргаться!
Девушка, больше похожая на злую волшебницу из какого-то в детстве виденного мультфильма, отстегнула браслет с запястья. Он ждал, что сделает наоборот – отцепит от трубы и наденет на его или свою руку. Совсем не боится, значит. Наверное, правильно не боится. Боец из него сейчас никакой. Да и бессмысленно всё. Он даже не знает, где находится, а ручка у этой красотки… Генерал лишь на какое-то мгновение ощутил прикосновение тонких девичьих пальцев, совсем чуть-чуть она их сжала, разворачивая лицом к двери, и сразу стало понятно – ничего ей не стоит, усилив нажим, раздавить обе кости, и лучевую, и локтевую.
Но так же не бывает!
«А всё остальное – бывает?» – словно спросил некто со стороны. По-нормальному поехал бы он лучше вчера с утра на свою дачу, не президентскую, вмазал как следует, заставил секретаршу в бассейне и около русалку изображать. Она у него попроще этой девки, конечно, и за тридцатник уже, так зато такое умеет…
И вдруг словно сдвинулось что-то в голове, показалось – ещё одно микроскопическое усилие, и так оно и станет. Будто перед марлевой завесой вместо каменной стены оказался. Шаг один – и всё!
Но тут же каменными глыбами, или даже – могильными плитами навалилось ощущение безальтернативности всего случившегося. Безальтернативности и окончательности. Так иногда случается с попавшими в тюрьму. Вроде до конца готов был человек противостоять року и врагам, умереть даже настроен, но своё доказать, а раз – и нету больше стержня, на котором характер держался. И уже безразлично – понт в камере держать или у параши покорно устроиться. Главное – поскорее бы всё кончилось.
Удивительно, не намёком на предстоящие пытки, а своими дурманящими глазами и коленками, прикрытыми краем синей форменной юбки, проклятая девка чётко обозначила, что для него нормальная жизнь кончилась. «Слезайте, граждане, приехали, конец, Охотный Ряд, Охотный Ряд…»
Когда Вяземская ввела своего подконвойного в комнату рядом с мастерской, раньше наверняка предназначенную для прислуги, потому что окно выходило на задний двор, на крыши флигелей-гаражей, и солнце её никогда не посещало, Мятлев сразу увидел, что с клиентом что-то не то. Он ведь приготовился к поединку характеров и воль с человеком, которого не уважал, но отдавал должное его нахрапистости, бульдожьей цепкости и своеобразному (как покойный генерал Лебедь выражался), но всё же уму.
Сейчас же он видел перед собой жалкого, на глазах впадающего в прострацию очень немолодого человека.
Мятлев с подозрением посмотрел на Вяземскую.
– Ты его никаким зельем не угощала?
Девушка не успела ответить, за неё сказал всё правильно понявший Фёст.
– Она – нет, а я сейчас угощу, – и нагнулся, открывая тумбу старинного письменного стола, ещё в нэповские годы приспособленного Лихаревым под верстак.
Все на мгновение замерли, ожидая, какой страшный пыточный инструмент извлечёт оттуда Вадим. Выражение лица у него было слишком многообещающее. Даже Людмила на секунду поверила во что-то подобное. Однако на свет появилась обычная (ну, не совсем обычная, довольно причудливой формы) бутылка чёрного стекла.
– Смеяться будете, – сказал Фёст с лицом человека, сумевшего хорошо всю компанию разыграть, – а я тут у вашего друга Валентина Валентиновича, – подчеркнул он голосом специально для Герты с Людой, – в похоронках этот сосуд обнаружил. Подумал было, а вдруг там не выпивка, джин какой заточён, Абдурахман ибн Хоттаб к примеру, но – рискнул, откупорил. Знаете, товарищ Лихарев ещё с времён до исторического материализма бутылку заначил.
Не иначе, в Торгсине[55] приобрел, ещё «до угара НЭПа». Изумительный напиток. «Бисквит» называется. Мне кажется, в этом помещении время вообще не движется, ни взад, ни вперёд, вот коньячишко и не выдохся совсем за девяносто лет. Продегустируем?
Мятлев слегка смешался. Что-то не по сценарию повёл себя Вадим Петрович. Коньяк какой-то приплёл. К чему?
– Ты, Людочек, это, насчёт рюмок распорядись. Да чего там рюмки, сразу стопки давай, ну те, серебряные, на кухне…
Вяземская убежала, Герта села в сторонке, на древний, тяжёлый, будто из чугуна табурет, оперлась спиной о стену, закинула весьма раскрепощённо ногу за ногу, совершенно как знаменитая в советские годы актриса Людмила Целиковская в роли лётчицы из кинофильма «Небесный тихоход» (1945 г. выпуска). Там фронтовые девушки-красавицы тоже носили хромовые сапожки на заказ, синие юбочки на ладонь выше колен, гимнастёрки затягивали «в рюмочку» офицерскими ремнями. Валькирии-«печенежки» такие фильмы смотрели с особым удовольствием, кое в чём пример брали. Сейчас подпоручик Витгефт неизвестно для кого свои форменные прелести демонстрировала, то ли для Мятлева, то ли для генерала пленного. Игру Фёста она пока не раскусила, но что-то интересное в ближайшее время ожидала. Поскольку старший товарищ ничего просто так не делает, можно будет кое-чему поучиться.
– Да вы, госпожа Витгефт, пардон – баронесса, подвигайтесь поближе, вам туда никто специально подавать не будет…
Герта хмыкнула, придвинула табурет, чтобы как-то обозначить своё участие в игре, закурила, манерно отставляя руку с зажатой между указательным и средним пальцами сигаретой.
Вяземская вернулась, держа в обеих руках шесть массивных серебряных чарок. Одна лишняя или две, неизвестно, будет ли Фёст и подследственного угощать.
– Ну что ж, присаживайтесь, господин Стацюк, – сказал Вадим, и Людмила ногой подвинула к нему свободную табуретку. – В ногах правды нет…
– Но правды нет и выше, – непонятно к чему, довольно загробным голосом процитировал заговорщик.
– Это в смысле чего? – коротко хохотнул Мятлев. – Выше ног? Не понял…
Девушки тоже заулыбались генеральской двусмысленности.
– Не существенно, – пресёк веселье Фёст. – Тут у нас серьёзный разговор намечается.
Он неторопливо, держа паузу, наполнил четыре чарки, над пятой слегка придержал руку.
– Тебе – наливать? Выпьем, тогда один разговор пойдёт, возможно, и взаимополезный. Нет – в одни ворота играть будем. Я доходчиво выразился?
То ли военнопленный, то ли просто схваченный на месте преступления бандит Стацюк не раздумывал.
– Наливай, чего уж. Я не Космодемьянская, мне геройски молчать под пытками и в одиночку помирать «в борьбе за это» никакого резона нет. Уж лучше старого коньяку выпить, чем демократизатором по почкам. Или что вы тут применяете…
– Мы много чего применяем. Есть вещи покультурнее «изделия ПР-73». Мне с юных лет нравится магнето от старого доброго полевого телефона…
Фёст не поленился, снял с полки над столом названное устройство, продемонстрировал. Для чего-то Лихарев его там держал. Простенькая вещь, железная, размером в кулак, ручка как у кофемолки, зубчатое колесо, два провода на выходе. Примитив, а такую искру даёт, что не только мотор самолётный без аккумулятора завести можно, но и человек от непереносимой боли не хуже мухи способность по стенкам лазать приобретает.
– Но если ты очевидную готовность к сотрудничеству проявляешь, зачем же… Выпьем, закусишь, давно небось маешься, ну и поговорим ладком. Предупреждаю, Коля, чтобы потом недомолвок и предъяв не было – я тебе ничего не обещаю, поскольку не правомочен. Президент у вас ведь жив пока, по странной случайности, и от должности не отстранён. Я только гуманное обращение могу обещать и эту… Судебную сделку, как нонче становится принято. Ты колешься со всеми потрохами, а тебе за это – срок ниже нижнего предела…
Всё вместе – девушки, коньяк, перенос в пространстве-времени, суржик взявшего его в плен полковника неизвестно какой службы, смешавший в себе вполне интеллигентную речь с блатной музыкой окончательно доконали Стацюка, вторые сутки не спавшего и не евшего, зато на самом деле тщательно перебравшего по минутам всё происшедшее.
– Сказал же – буду говорить, и хватит «му-му» гонять, – сохраняя подобие достоинства, скривился генерал и залпом выпил вежливо поданный ему Людмилой коньяк.
Два соединённых параллельно Шара, по схеме, наскоро придуманной Людмилой и Гертой на базе собственных знаний и весьма подробных записей Лихарева, в техническом журнале давали Фёсту широчайший спектр возможностей, тайной которых он не собирался делиться и с Мятлевым. Во избежание, как говорится.
Один Шар записывал все произносимые в этой комнате слова, и допрашиваемого, и остальных присутствующих, анализировал по фактологическим, интонационным, эмоциональным, семантическим и семиотическим характеристикам, выделял в отдельную графу, как говорилось раньше, или «файл», по-нынешнему, всё, что относилось к интересующей допрашивающего теме. Второй, внепространственно связанный с носителями «фиксированной информации» (хотя и находились те сейчас в параллельном мире), выбирал в базах данных и систематизировал всё, касающееся упоминаемых Стацюком личностей и фактов.
Принцип, совершенно противоположный верископу Бубнова – Ляхова, но получить почти исчерпывающую оперативную и личную информацию на любого человека, хоть мельком упомянутого Стацюком, эта конструкция могла без проблем. И одновременно поразить, деморализовать его знанием таких подробностей служебной и личной жизни, которые на самом деле никому не могли быть известны, если только не вело человека опытное, весьма квалифицированное подразделение с самых ранних лет его жизни и постоянно. Ничего не стоило, например, предъявить тому же генералу Стацюку только что изготовленную, но выглядящую соответственно реальному возрасту фотографию фривольного содержания с подружкой ещё студенческих лет. Его жены с любовником где-нибудь в Гаграх или, если ближе к теме – конспиративного собрания заговорщиков в весьма уединённом и абсолютно никому из непосвящённых неизвестном месте.
Несколько больше труда составило подключение системы ко всем действующим в Москве компьютерным сетям, как локальным, так и общего доступа. При Лихареве и даже во времена работы координатором Ирины такого чуда техники, как «Всемирная паутина», ещё не существовало, но в принципе невелика разница, что к старинным ручным телефонным коммутаторам подключаться, что к современным серверам. Каждый Шар сам себе модем, а также что угодно другое.
Может показаться, что при наличии таких возможностей нет никакой необходимости в личном допросе. Увы, не так. Машина и есть машина, очень многие тонкие связи, аналогии, аллюзии она отследить не в состоянии. Намёки, внутренние ассоциации, размытые впечатления – всё это нуждается в уточнениях и устных подтверждениях. Кроме того – оперативная информация обычно достаточна для бессудного решения вопроса, а Фёст предполагал, что открытый судебный процесс в перспективе может оказаться полезным. И для отечественных граждан, и для мировой правозащитной общественности, радостно оправдывающей даже убийц с руками по локти в крови, если они успеют заявить, что просто борются с тоталитарным российским режимом. И наоборот, та же общественность с воем и свистом требует пожизненных сроков для обычных лейтенантов и майоров, сражающихся за «конституционный порядок», против мирового терроризма.
Всего за час доверительного разговора под видеозапись (чтобы видно было, что он не в пыточной камере разговорился, а на частной квартире, с бутылочкой дорогущего коньяка и хорошими сигаретами), Стацюк сдал людей и выдал информации в сто раз больше, чем мог вообразить в своём самом страшном кошмаре. Убедившись в этом, Фёст исключительно ради забавы вывел на принтер и отпечатал одну бумажку, подписанную Николаем Фёдоровичем лет десять назад, долженствующую, по всем договорённостям, сгинуть в самых тайных архивах некогда «дружественной», а теперь снова враждебной державы. А она вот не сгинула, и вполне по тем временам, когда смертная казнь ещё была в моде, стоила бы ему головы. Впрочем, говорят, нынешнее «пожизненное» намного хуже простого и, главное, быстрого расстрела.
Протянул, несколько даже печально усмехаясь (тоже школа Шульгина – создавать «пациенту» психологическую атмосферу, наиболее соответствующую его глубинным настроениям), сказал:
– Неосторожно такими вот раритетами разбрасываться, коллега. Хорошо – мне попалась, а если бы… – и значительно посмотрел в потолок.
Стацюк совершенным образом обалдел. Не могло же ему прийти в голову, что этот, написанный на случайно подвернувшейся, не слишком свежей, помятой по углам бумажке документ не переправлен «откуда следует» кем-то, затеявшим уж слишком сложную для мозгов простого генерал-лейтенанта игру, а изготовлен только что, практически на глазах «подследственного», мгновенно превратившегося в «обвиняемого», а то и «подсудимого».
– Я думаю, милейший Николай Фёдорович, этого достаточно, чтобы вы стали с этого момента нашим преданнейшим союзником, а с теми, кто такую вот вам подлянку устроил, при удобном случае расправились собственными руками, не отягощая нашу совесть столь неприятными по былой истории нарушениями социалистической законности.
Выслушав все возможные со стороны Стацюка заверения, Фёст благосклонно кивнул, налил ему третью чарку и ласково сказал:
– Ну а чтобы никакой спонтанной дури тебе в голову не пришло, вот мадемуазель подпоручик Витгефт за тобой присматривать будет, и если что – для начала весь прибор тебе голой рукой оторвёт, ей не впервой, а уже потом передаст тебя в руки правосудия. Вот это прошу как следует запомнить.
Он посмотрел на Герту, и Стацюк автоматически сделал то же. Девушка крайне мило улыбнулась генералу, кивнула и непременно сделала бы книксен, если бы ей не было лень вставать.
Глава шестая
Двадцатью минутами раньше кэптэн Эванс, имевший совсем другие планы, целиком ориентированные на личное спасение, внезапно изменил своё предыдущее решение, довольно немотивированным образом, спонтанно, как говорится. Странным было то, что подобные люди чаще выбирают личное благо вместо так или иначе понятого «долга», а у разведчика получилось наоборот. В центральном штормовом коридоре он наткнулся на трёх своих непосредственных подчинённых, из тех русских, специально завербованных, чтобы присматривать за «живым грузом» соотечественников. Не имея точных сведений о реальной обстановке, они были несколько растеряны, но в целом настроены решительно.
Выжить им хотелось, причём не как-нибудь, а с выигрышем. Узнав, что с надсмотрщиками из соседних кубриков случилась беда, на корабле объявились, по всему судя, русские морские диверсанты, намеревающиеся взбунтовать завербованных и захватить корабль, они тоже задумались, как им оказаться в числе победителей, а не предателей.
Роль старшего взял на себя из них некий Евгений (Юджин) Шурлапов, фамилию которого Эванс мог произносить правильно и без акцента, к удивлению всех, даже более-менее знавших русский язык сотрудников.
Кэптэн был в курсе основного рода занятий этого сорокалетнего типа с очень далёким от законопослушности прошлым и предположил, что он вполне мог до подхода «своих» вспомнить прежнюю профессию. Чего проще – под шумок навестить, к примеру, каюту старшего ревизора и освободить от содержимого его сейф, по традиции называемый «денежным ящиком». Что другое можно украсть на военном корабле? Уж в чём, в чём, а в психологии такого рода людей разведчик разбирался великолепно и умел предугадывать их примитивные побуждения на пять ходов вперёд.
Вначале Эванс подумал, что вот и выход – присоединиться сейчас к бандитам, поучаствовать в грабеже и делёжке, чем гарантировать себе подтверждение своей «русской легенды» со стороны этих и других «пассажиров». Он мог существенно облегчить им задачу, и они несомненно пошли бы на его условия, под угрозой выдачи их русской контрразведке, и тогда его положение стало бы гораздо выигрышнее – он-то по-любому настоящий офицер, да ещё и обладатель сверхсекретной информации. Ничего, кроме интернирования, ему не грозило, а вот они, поскольку являются российскоподданными – обычные предатели, да ещё и с криминальными «хвостами». Кэптэн знал, что славяне к таким людям относятся гораздо жёстче и бескомпромисснее, чем англосаксы и другие цивилизованные народы, и сейчас это было ему на руку.
– Далеко ли собрались, Юджин? – по-русски спросил Эванс главаря.
– Да вот, господин капитан, собрались наверх выбраться, в укромном месте подождать, чем это дело кончится, сообразить, как выкрутиться сподручнее будет… – Шурлапов смотрел на кэптэна спокойно, с нагловатой усмешкой. Говорил правду, поскольку в подобных обстоятельствах ни бояться, ни «усложнять партию» ему оснований не было. О грядущей судьбе всех двухсот русских Шурлапов не знал, просто догадывался, что не охранниками на плантации их везут, задумана явно какая-то пакость, но таких, как он, это не касалось. У них совсем другие контракты. В то же время и ни на что другое, кроме как поддержание порядка среди завербованных он и его компания не подписывались. Сейчас, очевидно, срок договора истёк по причине непредвиденных обстоятельств.
Но с точки зрения Эванса – пока ещё нет. Русские сами подсказали кэптэну, что делать дальше. На пояс он успел прицепить тяжёлый штатный «Веблей», в подмышечной кобуре – очень компактный, но с магазином на целых 16 патронов австрийский «Фроммер», так что разговаривать он с ними мог с позиции силы. Плюс бесспорное превосходство «неукротимого и неотвратимого белого человека»[56]. Эванс на самом деле считал себя воплощением того самого «белого», о котором писал Джек Лондон, а русских, естественно, неграми, по недоразумению окрашенными не в тот цвет. И всегда держался соответственно. В обычной жизни, конечно, старался сдерживаться, поскольку считал нужным поддерживать образ современно мыслящего джентльмена и офицера, но сейчас играть было не перед кем.
– Успеете. И посмотреть, и всё остальное… Я с вами. За русского как-нибудь сойду, одним из двух сотен, если никто не выдаст, – сказал он со значением, глядя русскому прямо в глаза.
– А смысл? Мы вас даже изо всех сил прикроем, поддержим. Нам в Англию так и так возвращаться, домой дороги нет, а такого приятеля, как вы, всегда в высоких инстанциях иметь полезно. Так что договоримся. Лишь бы вы нас не кинули…
– Правильно решили, Юджин. И мне такие всегда нужны будут. Только для этого сейчас немного поработать придётся. На моё и ваше будущее. Вы как к тому, чтобы в людей стрелять, относитесь?
– Вообще-то легко. Конечно, имеет значение в кого. В своих моряков, когда они крейсер брать будут, точно не станем. А в ваших – для большей достоверности «легенды» – свободно.
Для себя такие взгляды и такой стиль поведения Эванс вполне допускал, но в устах русского это звучало вызывающе и даже с издёвкой.
«Ничего, будет время – ты за свои слова ответишь», – подумал разведчик, но виду не подал, даже кивнул одобрительно.
– В своих – правда нехорошо, – тоже съязвил Эванс. – Есть тут несколько человек, которым в руки ваших соотечественников попадать никак не стоит. Лишнего наболтать могут, да и в плену им ничего хорошего не светит. Лучше быстрая смерть, чем сибирская каторга, вы согласны?
О каторге Шурлапов и его приятели, очевидно, имели собственное мнение, несколько расходящееся с точкой зрения кэптэна, поэтому только неопределённо пожали плечами, а один даже сплюнул на палубу, что на военном корабле ни в коем случае не допускалось.
– Короче, что делать надо?
Эванс объяснил. Он и ещё два человека сейчас пойдут в крюйт-камеру, там вооружатся и возьмут с собой несколько морских пехотинцев, а дальнейшее он разъяснит по ходу дела.
– Ещё один – ну, хотя бы, ты, – указал он пальцем на молодого, на вид сообразительного парня, отвечавшего за порядок в четвёртом кубрике «волонтёров», – сбегаешь на верхнюю палубу, в отсек, примыкающий к барбету башни «В». От моего имени прикажешь размещённому там отделению корабельной полиции идти с тобой. Тоже к крюйт-камере. Вот, предъявишь старшине мою визитку. Всё понятно? Дорогу найдёшь?
– Так точно, кэптэн, – ответил русский, демонстрируя некоторые навыки службы.
– Тогда бегом!
– Попутно и остальное, – бросил сквозь зубы Шурлапов.
Эванс сделал вид, что не услышал. Действительно русский намерен навестить каюту ревизора – его дело. Нарвётся на пулю, если у денежного ящика выставлена охрана – значит, судьба. Управится и с тем и с другим занятием – потом добычу поровну поделят. Ещё надо к себе в каюту заскочить, переодеться, чтобы за русского сойти, и документы взять, само собой…
Анастасия с Кристиной до последнего момента оставались на палубе рядом с оружейной, и, если бы Уваров не отменил свой первый приказ, всё могло бы случиться совсем иначе. Непредсказуемо в любую сторону, но вышло так, как вышло. Валерий, оценив сложившуюся обстановку, решил, что Вельяминовой с Волынской больше внизу делать нечего. Раненые и контуженые англичане его не очень интересовали, первая помощь им была оказана, для чего-то большего не имелось возможности, все ещё способные передвигаться и держать в руках оружие надёжно обездвижены. А вот двух девушек оставлять на простреливаемой с любой стороны и доступной атаке с разных направлений палубе – тактически неграмотно, попросту говоря – опасно. По всему выходило, что продержаться нужно час, от силы полтора, и нет лучшего места на крейсере, чтобы скоротать это время, чем уже занятый мостик. Штурмовать его практически невозможно при подавляющем огневом превосходстве обороняющихся, а с него легко держать под контролем практически весь корабль, точнее – ту его часть, где могут произойти какие-нибудь значимые события.
Осмотревшись, валькирии прямо по шканцам стремительным рывком добежали до фок-мачты, взлетели вверх по трапам. Вот и слава богу, одной заботой меньше.
По совету Бекетова Валерий послал всех волонтёров под командой Инги в штурманскую рубку и на мостик сигнальщиков, кольцом окружавший переднюю трубу. Теперь круговая оборона была обеспечена, оставалось ждать, чем закончится «рейд» Варламовой и Карташова с унтером. Он запоздало пожалел, что послал всего троих, но Басманов его успокоил довольно своеобразно.
– Этот как раз тот случай, когда, пытаясь усилить позицию, ты только увеличиваешь риск собственных потерь. Если трое в состоянии с этим делом справиться – значит, справятся. Если нет – шесть или семь покойников всегда хуже, чем три…
Слова полковника как-то плохо сочетались с абсолютно идиллической картиной, окружавшей группу захвата. Тихо, тепло, почти индиговой густоты тонов море поблёскивает миллионами искр. Пленные англичане, оставленные в рубке, о чём-то тихо перешёптываются, опасливо посматривая на совершенно им непонятных вооружённых девиц, вокруг которых и вертелись, вопреки серьёзности положения, отрывочные, нервные разговоры. Способ их появления на крейсере оставался совершенно непонятным, если только не предположить, что они высадились ночью с подводной лодки, при пособничестве кого-то из уже находящихся здесь русских. Тогда следовало считать, что операция флота была давно раскрыта русскими, и они, так сказать, встроили свой план в сверхсекретные разработки командования. Офицеры, конечно, не представляли «Дискрешен» в полном объёме, но более-менее правдоподобно увязать наличие на борту русских, попытку захвата парохода, антенны на палубе, налёт русских разведчиков были в состоянии.
Четыре валькирии, усевшись на тёплый тиковый настил палубы, без особого интереса, но крайне бдительно наблюдали и за каждым жестом пленных моряков, и за обстановкой на палубах, от носа и до кормы. Им казалась странной и подозрительной пассивность англичан. Забились в свои башни и отсеки, как тараканы, сидят и ждут, когда придёт время сдаваться. Уж они бы на их месте…
Басманов с Уваровым и ставший за полчаса своим Юрий курили под прикрытием зенитной полубашни, время от времени посматривая в сторону горизонта, откуда вот-вот должны были показаться русские корабли. Связи по-прежнему не было, два самолёта разведчика кружили очень далеко, милях в десяти, не меньше, только в бинокль можно рассмотреть, оставаясь в безопасности и спокойно наблюдая за дрейфующим посреди океана крейсером, и, конечно, не могли оттуда разглядеть поднятый Бекетовым к ноку фор-марса-рея трёхфлажный сигнал по международному своду: «Сдался, сдаюсь». Подойдут или подлетят соотечественники поближе, тогда и разберут.
В голове у Бекетова крутились фразы из статута Ордена Святого Георгия Победоносца: «Награждается… кто с боем захватил вражеский корабль или принудил его к сдаче…» Ну и так далее, пунктов там много, и почти каждый к их случаю подходит. Так что, пожалуй, имеет смысл возвратиться на службу, ибо очередной чин ему, как приложение к ордену, тоже светит. А «на воле» он уже погулял достаточно. Если б ещё добиться расположения Маши, мгновенно его очаровавшей, даже без слов, только, вот беда – служит она где-то в Москве, а морскому пехотинцу, пусть даже капитану в перспективе, в тех краях делать совершенно нечего. Если только попросить у господина полковника о переводе в их специальные части…
Слитный залп нескольких автоматных стволов в районе кормового мостика прервал и романтическое течение мыслей Юрия, и молчаливый перекур Басманова с Уваровым.
«Вот, твою мать, накликал!» – подумал Валерий не то о себе, не то о Басманове. Эта стрельба, причём – не из русских автоматов, не могла означать ничего другого, кроме того, что их разведгруппа нарвалась на организованное сопротивление. Стреляют ведь именно там, куда пошли Варламова, Кузнецов и Карташов.
«Чёрт, что же теперь делать? Высылать поддержку, так врагов, может, полсотни человек, а нас на всё про всё семеро… Не добежим даже, если они перебили наших и заняли оборону вокруг кормового мостика. Патовая ситуация…
Взрывы двух «наших» гранат и новая вспышка автоматной стрельбы из «Стенов» и «Стерлингов» (их звук и темп стрельбы с ППД и ППС не спутаешь), слегка привели Уварова в норму. Похоже, внезапности у англичан не получилось, а раз там Варламова, то всё может сложиться совсем не в их пользу.
«Там же Маша!» – синхронно с подполковником подумал Бекетов, на мгновение совсем забыв, что и Николай вместе с девушкой попал в ту же ловушку, и Егор… Вот вам и психология, а ведь объективно как раз за подпоручика следовало опасаться меньше всего. Во всяком случае, меньше, чем за штатского по всем параметрам друга…
– Спокойно, – негромко, но с напором сказал Басманов, и Валерий только секундой спустя понял, что слова белогвардейского полковника относятся не к нему, а к английским офицерам, слишком нервно отреагировавшим на выстрелы.
– Вы, – указал рукой на старпома, – звоните своим учёным. Что там у них в расположении за беспорядки? Да построже!
Тут же граф узнал, что внутрисудовая связь тоже прекратилась, как и внешняя, и вообще все сети обесточены. Как это могло случиться, корабельные офицеры не понимали, на крейсере совершенная система электропитания, многократно дублированная, рассчитанная на самые тяжёлые боевые повреждения, и резервные аккумуляторы имеются, отдельные для машинной, артиллерийской и трюмной связи. Однако не работает ничего, в том числе и зенитные установки на мостике превратились в подобие плохо действующего макета. Стрелять можно, но переключив на механический ударно-спусковой механизм и ворочая механизмы поворота вручную.
– Точно наши учёные что-то сотворили, – сказал лейтенант-коммандер, мгновенно сообразив, что не существует в природе разумного, соотносящегося с повседневной реальностью объяснения одновременного выхода из строя всего, имеющего отношение к электричеству, ибо и гидравлика и пневматика тоже в конечном счёте замкнута на него же. Не девятнадцатый век, когда могучие броненосцы функционировали исключительно силой пара и механических приводов.
– По крайней мере, крейсер теперь утопить практически невозможно, – согласно кивнул старпом, наконец пришедший в себя и осознавший, что ничего особо трагического в жизни не произошло, даже напротив. В меру своей информированности он догадывался, что как никогда близкая война вполне может отодвинуться в разряд недостоверных вариантов. А то, что ценой мира является национальное унижение – так при здравом размышлении это, пожалуй, и неплохо. Если бы в далёком тысяча девятьсот четырнадцатом году кто-то из коронованных особ или демократически избранных президентов и премьеров «великих держав», хоть Пуанкаре, хоть русский царь вдруг отважился, «теряя лицо», бросить на стол карты рубашкой вверх – «Я пас, господа!», мир, пожалуй, выглядел бы сейчас совсем иначе.
Но это капитулировавшие англичане могли позволить себе такие размышления, а победителям нужно было действовать, стремительно и безошибочно.
Раньше, чем Уваров сообразил, как поступить, Анастасия уже щёлкнула крышкой своего портсигара. Слава богу, блок-универсалы питаются энергией неизвестного типа и происхождения, к «направленному движению электронов» отношения не имеющей. Снова валькирии получили над противником многократное качественное преимущество.
– Маша, ты меня слышишь?
– Слышу, – ответ пришёл с таким запозданием, что у Вельяминовой нехорошим предчувствием сжало глотку. – Только нам пришлось на две палубы вниз сбежать и люки за собой задраить, вот и молчала…
«Нам» – это хорошо, это значит, всё в порядке, но следующие же слова Марии разрушили впечатление мнимого благополучия.
– Нас внезапно атаковали, парни почти наверняка убиты. Я с пленным и важным трофеем иду в вашу сторону.
– Где идёшь, объясни, – Анастасия сунула блок-универсал Бекетову: – Слушай, что она говорить будет, я на корабле плохо ориентируюсь…
Юрий сначала не понял, для чего слушать и отвечать ему, если с девушкой Николай и Егор, умеющие ходить по трюмам и отсекам даже в полной темноте, но с первых слов Марии до него дошло. Накрыло отчаяние, и безнадёжность, и злость… Люди попроще в таких случаях начинают бессмысленно твердить: «Нет, этого не может быть, ведь только что…» Бекетов только дёрнул щекой.
– У вас там тоже свет вырубился?
– Да, сразу стало темно, как… И фонарь сдох. Почему это? Но я уже подсветку блока включила, прилично видно…
– Где вы шли, как? И кто с тобой?
– Мой пленный, инженер из научной группы. Говорит, что мы несём с собой главное, ради чего крейсер перестроен и вся операция затеяна…
Примерно сообразив, где находится девушка, Юрий велел ей оставаться на месте, «осмотреться в отсеках», задраить все входы и выходы, какие увидит, и ждать. Открывать только по сигналу. Штабс-капитан понятия не имел, что за штуку он держит в руках и как она устроена. Достаточно, что обеспечивает устойчивую связь без электричества через все стальные экраны.
– Я пошёл, – сказал он Уварову тоном, не предполагающим возражений. – Кто со мной?
Валерию страшно не хотелось принимать именно такое решение, но выхода не было и исходя из целесообразности, и по понятиям чести.
– Вот Настя и пойдёт. С ней Кристина…
Эти две валькирии ничем были не лучше и не хуже Марины с Ингой, но те уже выполняли каждая свою задачу, а эти – рядом и свободны. Кроме того, он просто не мог оставить любимую девушку в сравнительной безопасности, послав на явный риск другую. На фронте так не делается, тем более мудрая заповедь незримо вырублена на виртуальном граните скрижалей: «Ни на что не напрашивайся, и ни от чего не отказывайся». Никто не может угадать, что, где и с кем может случиться в любую секунду. Было как-то, сам видел – свист падающей бомбы, вспышка, грохот, и от бетонного бункера с сидящим в нём взводом осталась только гигантская воняющая тротилом воронка, а солдату в окопе, в нескольких шагах, ничем не прикрытому, только барабанные перепонки порвало и об стенку приложило…
Единственное, что он шепнул Насте:
– Ты там поосторожнее давай.
А вслух скомандовал, как и положено:
– Поручик Вельяминова. Доставить сюда пленного и трофей. С вами подпоручик Вирен и штабс-капитан Бекетов. Вы старшая. В бой без крайней необходимости не вступать. Задание понятно?
Картина, увиденная Эвансом в батарейной палубе перед крюйт-камерой, произвела на него достаточно сильное впечатление. Слишком она выходила за пределы опыта кабинетного чиновника, хоть и в адмиральском чине. Лужи густеющей крови, буро-серые потёки на переборках, разорванные человеческие тела и, главное, запахи. Убитые с помощью малокалиберного автоматического оружия выглядят гораздо эстетичнее. Но воля и выдержка у разведчика были, не откажешь. Несколько раз сглотнув, он подавил спазмы пищевода, остался только отвратительный медный вкус во рту.
– Да, гранатами поработали, – констатировал Шурлапов, подбирая с палубы автомат «Стерлинг» и нацепляя поверх куртки снятый с лежащего ничком сержанта без головы брезентовый пояс с запасными магазинами.
– Да тут и живые есть, – наконец заметил среди трупов уцелевших матросов и пехотинцев напарник Юджина, тоже вооружаясь. Испачкался в крови и стал, матерясь, вытирать руки о штаны соседнего трупа. Третий волонтёр, из слабонервных или никогда не воевавший и не занимавшийся «мокрыми» делами, кое-как добрался до фальшборта и громко, давясь и отплёвываясь, травил за борт.
Эванс тоже достал пистолет. Случившееся никак не входило в его расчёты. Если целый взвод уничтожен здесь, то сколько шансов у него против чересчур умелого врага? Никак не похожего на тех «волонтёров», что вербовались «для работы на плантациях и приисках». Он просмотрел личные дела каждого, работа такая. Бывших военнослужащих среди них хватало, но далеко не такого уровня подготовки. Так то ведь только по их словам.
Он тоже всё больше склонялся к мысли, что операция оказалась жертвой давно и тщательно спланированной контригры русских. Полсотни внедрённых в ряды волонтёров спецназовцев, эскадра или две крейсеров, высланная на перехват отряда, слишком своевременное появление воздушных разведчиков, этот якобы гражданский пароход, не позволивший себя захватить специально подготовленной штурмовой группе на катерах.
Эванс не замечал, что уже потерял нить рассуждений и контроль за логикой происходящего, путает причины и следствия, собственные действия и намерения приписывает противнику и наоборот. В таком состоянии разведчик уже не в состоянии рассчитывать на успех.
Русский нагнулся к лейтенанту морской пехоты, пристёгнутому браслетом наручников к стальной скобе борта. У него были перевязаны голова и рука до локтя, и, похоже, офицер был контужен, судя по тому, что молча смотрел чересчур пристальным взглядом на своих вроде бы спасителей. А ему бы полагалось вести себя совсем иначе.
С остальными ранеными заниматься было просто некому. Шурлапов демонстративно закурил, с крайне неприятной интонацией и гримасой принялся напевать блатное: «Воровка никогда не станет прачкой, и урку не заставишь спину гнуть. Грязной тачкой руки пачкать…», явно давая Эвансу понять, что и в санитары он тоже не подписывался.
– Эй, парень, ты соображаешь чего или как? – второй русский извлёк из кармана своей куртки плоскую, но довольно вместительную фляжку, явно не с водой, сунул горлышко раненому в рот, и тот автоматически сделал несколько больших глотков. – Давай, говори, что тут было, сколько их, куда пошли дальше?
Кэптэн сообразил, что гуманизмом тут и не пахло, этому русскому так же наплевать на раненых, как и ему самому, а вот выяснить, с кем придётся иметь дело, жизненно важно.
Лейтенант несколько раз судорожно вздохнул, потом потряс головой и начал говорить, достаточно связно.
Впрочем, значащей информации в его словах содержалось немного. Ретроградная амнезия – он смог вспомнить только то, что случилось гораздо позже нападения на пост. Самыми существенными были слова о бинтовавшей его женщине. По крайней мере, грудь под одеждой отчётливо выделялась, и голос… Но вооружена она была не как человек, случайно схвативший попавший под руку автомат. По военному вооружена, камуфляжная форма, ремни, подсумки, полное снаряжение, как подобает солдатам регулярных частей… Она переговаривалась по-русски с теми, кто оказывал помощь остальным выжившим. Штатские мужчины появились уже потом, ради них и затевалось нападение, вот они обращались с оружием как придётся, будто видели эти системы впервые в жизни. Девушки им объясняли и показывали. Потом все ушли. Куда? А ему откуда знать? Он русского не знает, просто по звучанию догадался. Офицер помнил, что был сюда прислан как раз для охраны арсенала, но нападение представлял себе как-то иначе.
– Освободите меня, – наконец попросил капитан, сообщив всё, что был в состоянии. – Мне в госпиталь надо…
Видать, в голове у него путалось, какой госпиталь, на крейсере был всего один врач и два фельдшера. Или лейтенант думал, что его тут же примутся эвакуировать силами всего Королевского флота?
– А чем? – спросил русский. – Ключи есть?
Ни у самого офицера, ни у остальных находящихся в сознании морпехов ключей от наручников не оказалось. Неизвестные диверсантки учли возможность попытки освобождения, собственными силами или с посторонней помощью, все прилагаемые к наручникам ключи забрали с собой или просто выбросили за борт.
– Ну, тогда подождите ещё немного, лейтенант, – сказал Эванс, – я очень сожалею…
– Можно выстрелом разомкнуть, – предложил сердобольный русский, но его грубо прервал сам Шурлапов:
– Шум нам совсем ни к чему. А этому всё равно, он, гляди, снова отрубается…
Потом Юджин обернулся к Эвансу:
– Так что делать будем, ваше превосходительство. Мотать отсюда подальше, или?..
– Ваш приятель пришёл в себя? – спросил разведчик, имея в виду того, что опозорился при виде и запахе крови и содержимого вспоротых животов. – Тогда пусть тоже возьмёт оружие и – за мной.
Не успели они подойти к трапу, появился посланный за подкреплением. Он с видом доверенного лица большого начальника возглавлял отделение «эспишников»[57], семь человек. Неизвестно, что он им наговорил, но чувствовали себя эти бравые парни не слишком уверенно, а увиденное на месте привело их в полный шок. Кое-кто тоже кинулся к борту «отдавать дань Нептуну», остальные столбились у переборки, перебегая глазами с трупов на Эванса и обратно.
– Так что разрешите доложить, кэптэн, привёл. Слабаки они у вас. Может, мы сами обойдёмся, а они пусть здесь порядок наводят?
Говорил русский свободно и нагло, при этом почти демонстративно подмигнул своему «старшему товарищу». Мол, наше-то дело сделано. Верность предположения Эванса подтверждала висевшая у него на плече чёрная спортивная сумка, туго набитая. За клуб игроков в крикет, чья эмблема красовалась на клапане, болел как раз хранитель судовой кассы.
«Быстро этого у него получилось, – отстранённо удивился разведчик. – А они ведь свободно могут и меня пристрелить и добавить к уже имеющимся здесь трупам», – с внезапной тошнотой и противным спазмом внизу живота подумал контр-адмирал. Хотя как? Не при полиции же?
Потом посмотрел в спокойные, безусловно негодяйские глаза главаря русских и решил, что нет. Убивать его им нет совершенно никакого смысла, он куда нужнее им хоть в своём истинном качестве, хоть даже и заложником. Это люди циничные, безжалостные, но рассудительные. Вроде него самого. Значит, договорятся.
– Старшина, – обратился он к командиру отделения, державшегося нормально, без дамских эмоций, однако под смуглой кожей слишком резко двигались жевательные мышцы. Только скрипа зубов не хватало. – Возьмите трёх человек – и со мной. Остальные пусть наводят здесь порядок, охраняют оружейную комнату и оказывают помощь раненым. Судового врача вызовут, чёрт возьми, если сумеют найти! В чём я сильно сомневаюсь, при этом bardake… – русское слово он использовал не только потому, что в английском подходящего не нашёл. Начинал постепенно перестраиваться для новой роли. «Волонтёры», перешёптывавшиеся о своём, одобрительно хохотнули и добавили ещё несколько слов, уточняющих обстановку на крейсере, которая лично им, похоже, вполне нравилась.
– Сейчас мы все должны внезапно появиться там, где, по моим расчётам, сосредоточен основной интерес террористов. Нас они не ждут, и мы легко с ними справимся. Главное – все чётко и точно выполняют мои приказания. Никаких лишних вопросов. Ближайшая задача – резервные адмиральские апартаменты.
Эванс тоже вооружился автоматом, выбрав его из ближайших, валявшихся на полу и не испачканных кровью. В глубину отсеков, к самой оружейке он идти просто не решился, там было темно и слишком плохо пахло. Разведчик никогда не думал, что сочетание запахов взрывчатки, крови, вывернутых человеческих внутренностей и маслянистого горячего воздуха из машинных вентиляторов способно создавать столь нестерпимый букет.
До салона добрались быстро и без помех. Эванс ухитрялся держаться в общем строю так, что вроде как и возглавлял отряд, и в то же время со всех потенциально опасных направлений был прикрыт одним или двумя людьми, которые совсем не замечали его маневров. Такой опыт тоже приходит с годами специфической службы.
Контр-адмирал, как ему казалось, придумал совершенно выигрышный ход, выражаясь по-шахматному – тройную вилку, когда под боем оказываются одновременно две вражеские фигуры, да ещё и королю объявляется шах (в реальности такие позиции практически не встречаются, но кто же мешает человеку пофантазировать?).
И совершенно неожиданным оказался момент, когда шедший впереди предводитель русских предостерегающе поднял руку. Оказывается, он умел и двигаться совершенно бесшумно, и решения принимать мгновенно, и со своими приятелями имел разработанную систему сигнальных жестов. Полицейские просто повторили его с напарниками действия. На это у них ума и дисциплинированности хватило.
Шурлапов остановил группу в паре метров от места, где неприятель мог хотя бы случайно обнаружить их появление. Указал Эвансу на угол надстройки и рубящим движением ладони сверху вниз показал, что дальше – ни шагу. Указал места своим напарникам, начал поднимать ствол. Только сейчас разведчик понял, в чём дело…
Из открытой двери адмиральского салона доносились голоса, а когда он выглянул из-за плеча Юджина, то увидел большую половину помещения, рабочие столы, самого Френча и его помощников, а главное – двоих явно русских, из числа волонтёров. Он даже готов был вспомнить их имена, если бы имел ещё немного времени на размышления. Одеты они были так же, как в момент посадки на корабль, но в руках держали пехотные автоматы «ППД» с тяжёлыми круглыми дисками, которых гарантированно не имелось в арсенале крейсера. Загипнотизированных «русских десантников» для штурма Мальты предполагалось вооружить портативными «ППС». Те хранились под замком в отдельном отсеке, вместе с русской военной формой и прочими доказательными атрибутами.
Но ведь и пронести с собой в личном багаже эти длинные и тяжёлые автоматы они явно не могли. Все волонтёры отправлялись налегке, с сумками или рюкзаками, пистолеты ещё мог бы кто-то пронести, но не железяки почти метровой длины[58], с деревянными прикладами, практически неразборные, да ещё с запасом очень неудобных в обращении дисковых магазинов. Притом что в мире существует масса пистолет-пулемётов, пригодных для переноски в багаже, под одеждой, даже просто в карманах, тащить с собой таких монстров? Но тем не менее – факт налицо!
Эванс не успел додумать, как всегда, обстоятельную мысль, а Шурлапов уже начал стрелять, и к нему тут же присоединились все остальные, кроме самого разведчика.
Полицейские стреляли с нервным азартом, будто сбрасывая груз непосильных эмоций, а русские, наоборот, делали своё дело спокойно и расчётливо, не переставая контролировать себя и окружающую обстановку.
Оттого и успел Юджин мгновенно увидеть летящую из глубины салона гранату, коротко что-то крикнул, оба его приятеля метнулись в стороны, а сам он сбил с ног и прижал к палубе Эванса.
Уж слишком быстро и чётко действовал этот человек. Впрочем, теннисный мяч летит во много раз быстрее, а разведчик умел перехватить его ракеткой раньше, чем тот коснётся площадки.
Один взрыв, и сразу за ним второй. Гранаты были поставлены «на удар», поэтому шансов у тех, кто остался на ногах, было исчезающе мало. Правда, этот день был совсем несчастливым для королевской морской пехоты!
Досталось каждому, и от взрывной волны, и от осколков.
Эванс хотел было наклониться над рухнувшим прямо ему под ноги старшиной, грудь которого стремительно заливала бьющая толчками из сонной артерии кровь, но русский крикнул зло и пронзительно:
– К чёрту! За мной, и беглый огонь…
Трое русских, Эванс и последний полицейский, которому повезло, непрерывно стреляя в проём двери, броском преодолели метры, отделявшие их от салона, ворвались внутрь.
– Накрошили мы, – сказал Шурлапов, осматривая обширное помещение. Два длинных залпа из многих стволов положили почти всех, кто находился в салоне. Двух русских с автоматами и с десяток учёных, лишь двое из которых подавали признаки жизни, а один, сам Френч, оказался почти что невредим. А самое интересное, на полу обнаружился вполне живой, но бесчувственный командир «Гренвилла».
Именно это Эванс и планировал – ликвидировать всех учёных, оставив на время в живых только научного руководителя, добиться от него раскрытия «самой главной тайны», а потом избавиться и от него. Хорошо, что всю грязную работу сделали русские, и с той, и с другой стороны. А как быть с капитаном, разберёмся позже. Сам по себе он какого-то специального интереса не представляет.
– Этих я знаю, обоих, – продолжил Юджин, имея в виду убитых соотечественников. – Но с ним был кто-то ещё. Эти стояли к нам спиной, а гранаты полетели уже после наших первых выстрелов…
Он с усилием выдернул из цепко державших шейку приклада и цевьё пальцев Егора Кузнецова «ППД», с интересом его осмотрел. Явно с теми же мыслями, что посетили Эванса, только он оставил их при себе. И заодно перевооружился, сменил «Стерлинг» на более подходящее отечественное оружие, прихватил и запасные диски у унтера и Карташова. Как будто собирался вести долгую войну. Только с кем? А если не войну и автомат ему нужен совсем для другого?
Мысль показалась разведчику очень неприятной.
Тем более, и один из напарников Шурлапова тоже небрежно бросил английский автомат на соседний стол и взял себе второй русский.
– Кто здесь был? – спросил Юджин у Френча, пребывавшего в едва-едва вменяемом состоянии.
– Женщина. Красивая женщина с автоматом. Не таким, как этот, другой формы. Она ушла, увела с собой Майкельсона. А Майкельсон лучше всех, кроме меня, конечно, разбирается в нашей аппаратуре…
– Женщина? Опять женщина? Вы не бредите?
Учёный помотал головой так, что она могла бы невзначай и оторваться.
– Ладно, пусть женщина. Куда ушла?
Френч показал рукой. Стальная дверь выглядела слишком прочной, чтобы надеяться взломать её за разумное время.
– Он что-нибудь успеет ей рассказать за несколько минут?
– Рассказать – конечно, нет. И за неделю не успеет. А вот передать – может. Я в последний момент услышал его слова. Он сказал – процессор.
– И что это значит?
– Если он заберёт и отдаст ей процессор, то для нас всё кончится. Тогда русские станут делать всё, что им захочется, а мы – ничего. Повторить эту конструкцию невозможно. Чужие идеи, чужие принципы…
– В каком смысле?
– В самом прямом. Этот прибор сделан не людьми. Или – не в наше время…
– В прошлом веке? – скорее издевательски, чем удивлённо, спросил Шурлапов.
– Нет, скорее в будущем…
– Полная ерунда, – скривил губы странный русский. Именно, что странный. Он всё больше не походил на того человека, которого люди Эванса завербовали два выполнения одного-единственного задания. Тоже разведчик? Но – чей? Или действительно уголовник, но – высокого полёта и очень быстро соображающий?
Эвансу некогда было поразмышлять ещё и об этом. Слишком высокий темп смены мизансцен, смысл спектакля почти потерян…
– Впрочем, неважно, – вопреки всем морским законам сплюнул на палубу русский. – Оставайтесь здесь. Если будет возможность, я за вами вернусь. Нет – выбирайтесь сами, в любом случае встретимся…
Похоже, он уже просчитал, куда могли направиться гипотетическая женщина и инженер. Кивнул своим приятелям, и вся четвёрка исчезла за дверью, оставив контр-адмирала и профессора в виде, как говорится, полуразобранном. Теперь им можно было немного расслабиться, постараться привести в чувство командира и вместе решать, как быть. А чего тут, собственно, решать? Не больше часа осталось, и не так уж важно, кто явится раньше – русская эскадра или совершенно непонятный, неизвестно на чьей стороне играющий Шурлапов.
…Бекетову с девушками, чтобы добраться до отсека, где их ждали Мария и Майкельсон, требовались примерно те же десять-пятнадцать минут, что и Шурлапову, намеревавшемуся перехватить и девицу, и ценный груз на подходах к фок-мачте, где укрепились её соратники. Юджину, работавшему на одно из подразделений «Чёрного интернационала» (мало связанному с подконтрольными Катранджи структурами), был достаточно понятен расклад сил на борту и цели, преследуемые обеими сторонами.
Не понимал он только одного – откуда кроме компании Бекетова и примкнувших к ним, находящихся совсем «не в теме» волонтёров на крейсере появилось пусть и маленькое, но явно высокопрофессиональное подразделение, по какой-то причине составленное исключительно из молодых и красивых (это все утверждали, кто с ними столкнулся) девушек.
Единственное, что можно без особой натяжки допустить, – эта группа проникла на «Гренвилл» минимум сутками раньше посадки «волонтёров». А Слава Сотников с товарищами потому и исчезли, что стали свидетелями встречи двух диверсионных групп, здешней и прибывшей. Ну, двое из пятерых за гибель тех парней уже ответили. Посмотрим, кто будет следующий.
То, что секрет операции стал известен соотечественникам, Шурлапова не удивляло. Если о нём сумели узнать его руководители из лондонского отделения «интернационала», то чем российская военно-морская или дипломатическая разведки хуже. И что англичане прохлопали посадку диверсантов на крейсер, тоже не слишком странно. При наличии хоть двух-трёх сообщников в порту и в экипаже «Гренвилла» десятку человек пройти на борт нетрудно. Другое непонятно – причём тут девицы? Насколько Юджин знал, женских подразделений в спецназе русского флота нет, а привлекать специалисток со стороны, незнакомых со спецификой действий на море – непрофессионально. Кроме всего, женщины просто анатомически хуже приспособлены к такой деятельности, если только не делать расчёт именно на это качество. Но ведь одно дело – внедриться для оперативной работы в матросский бордель или офицерское собрание на берегу, совсем другое – брать на абордаж военный корабль с экипажем в семьсот человек. Вряд ли у самых раскрасавиц хватило бы времени соблазнить такую уйму «лаймов» стриптизом.
На крейсере много путей, ведущих к одной и той же цели (обратная теорема тоже верна), и Шурлапов со своей тройкой боевиков «интернационала», поддерживаемой не слишком браво выглядевшим полицейским, довольно точно определил, в каком коридоре и на каком трапе у них есть шанс перехватить «девицу» и англичанина с «процессором». Что такое этот процессор, Юджин понятия не имел, но если Френч сказал, что он – самая важная деталь во всей машинерии крейсера, значит, так оно и есть. Будем считать, это нечто вроде «кварца» радиостанции или взрывателя хитрого фугаса. Само по себе мелочь, а без неё не только прибор не сработает, вся стратегической важности операция пойдёт прахом.
Лондонская секция одной из европейских «дивизий» «интернационала» представляла крайне левое крыло группировки, в которую входили самые разнородные организации, от агрессивных исламистов до тихих поклонников Адама Смита, Прудона и Маркса, считавших, что современное капиталистическое общество может и должно быть уничтожено чисто экономическими методами, внедряясь в самую сердцевину банковских систем. А грязную работу, которая всё равно непременно станет в повестку дня, сделают такие, как Евгений Шурлапов и его боевики, именовавшие свою секцию «Народной расправой», в память об аналогичной организации Нечаева, и исповедовавшие анархизм самого экстремистского толка. Для них не только анархо-синдикалисты[59] казались слишком «буржуазными», временными попутчиками, с которыми попозже тоже придётся разобраться, но даже Бакунин, Нестор Махно и Дурутти[60].
Большинство членов секции по понятной причине были русскими (уж слишком большим вызовом для всех «борцов за свободу и права личности» оказалась демонстративная, словно для них лично организованная реставрация самодержавия, с которым боролись ещё их прапрадеды во времена Александров Второго и Третьего).
Но хватало там и англичан, больше недовольных как раз «конституционностью» своей монархии, выходцев из высших слоёв индийской, бирманской, малайской и многочисленных африканских «аристократий», старательно выращенных Соединённым королевством как раз для защиты интересов Империи в её прежних колониях. В общем, состав этой, как и всех других «секций», представлял интерес для любого исследователя этногеополитики.
Информацию о готовящейся на Мальте кровавой провокации организация получила непосредственно из британского адмиралтейства. Среди джентльменов, обожающих беседы в клубах, во время игры в гольф и бридж, за пинтой виски или квартой эля, безответственных болтунов гораздо больше, чем в том же российском флоте, спаянном жёсткой военно-феодальной дисциплиной, подкреплённой весьма серьёзными статьями «Уложения о наказаниях». Тем более что операция по вербовке «волонтёров» заняла несколько недель, а за это время анархисты не только внедрили нужное количество своих людей, отвечающих требованиям, но и подобрали ключи к несколько непосредственно занятым в «Дискрешене» офицерам разведки и флота.
Трудно даже передать, насколько к началу XXI века за полтораста лет насыщенной политической жизни переплелись сюжетные линии «Хантер клуба», «Системы» как таковой, «Чёрного интернационала», правительства, нескольких действующих разведок и имеющих хоть какие-то политические амбиции парламентских фракций. Почище, чем в честертоновском романе «Человек, который был четвергом»[61]. Впрочем, как известно, любой вымысел на самом деле есть лишь бледное отражение реальности, ибо вымысел обязан быть правдоподобным, реальность же такова, какова есть и больше никакова. Сама по себе идея главарей «Хантер клуба» и лично Гамильтон-Рея анархистам понравилась, но нуждалась в небольших коррективах. Позволить ситуации развиваться своим чередом до тех пор, пока все, кому положено, сделают всё, что от них требуется, и вмешаться только на самом последнем этапе, когда потребуется лишь минимальное усилие, чтобы колесо покатилось в нужную сторону.
Юджин Шурлапов контролировал обстановку на крейсере до самого последнего момента, и через надзирателей, поставленных людьми из военно-морской разведки, и через членов экипажа и научной группы. Условия создались просто идеальные, таких никогда не случилось бы на земле. На самом деле противник сделает всё сам – вооружит две сотни человек, подготовит программу идеальной мотивации для этих людей, настроит аппаратуру. Останется мелочь – в нужный момент перехватить управление аппаратурой НЛП и получить в своё распоряжение почти батальон готовых абсолютно на всё солдат. Планы, как именно их использовать, у Юджина имелись. Только эти русские спецназовцы, неизвестно откуда взявшиеся, всё испортили.
Теперь приходилось всё исправлять на ходу. Русская эскадра через два часа максимум захватит беспомощный крейсер. Вот в этот временной зазор и нужно уложиться. Разыскать чёртов процессор, отнять его у инженера (как его – Майкельсон?) и таинственной бабы, после чего устранить всех возможных свидетелей и найти способ смыться вместе с устройством. Задача сложной не выглядела, и не такие проворачивали, но загадочные девки Шурлапова немного тревожили. Должен же в них быть какой-то особый смысл? Почему именно они и сколько их здесь всего? Пока он этого не узнает и не поймёт, на стопроцентный успех рассчитывать не стоит.
Очередной расклад выброшенных судьбой карт выглядел так: Мария и Майкельсон, согласившись с распоряжением Бекетова, ждали поддержки в просторном, но довольно жарком и душном отсеке между дымоходами второй трубы. Инженер присел на слегка подрагивающую стальную палубу в пятнах машинного масла и наконец позволил себе закурить, привести мысли в относительный порядок, для чего повернулся спиной к своей «пленительнице» (в обоих смыслах этого слова). Впрочем, в этом не было особой нужды, Мария не могла возбуждать его зрительные рецепторы, потому что выключила подсветку блок-универсала.
Анастасия, Кристина и Юрий двигались в их направлении палубой выше, по коридору офицерских кают левого борта.
Шурлапов с помощниками шёл по такому же коридору, но правого борта.
А лейтенант-коммандер Остин Строссон в своей каюте, первой перед соединяющим коридоры поперечным проходом пытался по рации выйти на связь с Лондоном, лично с Гамильтоном-Рэем. По особому графику каждый час всего на одну минуту в «куполе непроходимости волн» открывалось «окно», и через него можно было послать предельно сжатый и особым образом модулированный сигнал, практически недоступный пеленгации и перехвату.
До сих пор у Строссона не было необходимости что-то сообщать своему начальнику, а тем более – просить у него совета, но сейчас особый момент и крайний случай настали. Офицер с удивлением увидел, что сигнальные лампочки рации вдруг потухли. Выругался, недобрым словом помянув батарею, разрядившуюся так не вовремя, и вдруг услышал через тонкую переборку каюты сначала осторожные шаги, а затем и приглушённые голоса.
Глава седьмая
Когда Фёст с Мятлевым и девушками закончили допрос Стацюка, Президент и Журналист уже давно спали, перегруженные впечатлениями уж слишком длинного дня, вместившего событий больше, чем у иного законопослушного обывателя случается за год, а то и за всю жизнь.
– Наверное, и нам пора, – сказал Фёст, с удовольствием вдыхая свежий воздух из открытого окна кухни. В предутренней Москве было совсем тихо, образ жизни здесь куда более патриархальный, чем в параллельной столице. – Все «протоколы» завтра сам шефу передашь, – обратился он к Мятлеву. – Ваши это дела, семейные, – он чуть скривил губы, то ли в усмешке, то ли просто так. Эту привычку, или стиль, он тоже унаследовал у Шульгина. Слишком много времени они проводили с Александром Ивановичем в первые месяцы «вербовки» Фёста и слишком большое впечатление на Вадима тогда произвели не только практические способности, но и бытовые манеры «наставника».
– Я в них сейчас мешаться не хочу…
– Отчего так? – с подковыркой спросил генерал.
– Надоело, честно сказать. Не только твой шеф, вся ваша команда меня, как бы это деликатнее сказать, разочаровала. Нет, в чисто человеческом плане ни к тебе, ни к прочим у меня претензий нет. Умеете себя вести как люди, когда припрёт. А с политической смелостью – слабовато. Я же для общей пользы говорю, – счёл нужным ещё раз оговориться Фёст. – Бывают моменты, когда от так называемого здравого смысла нужно отказываться. Один мой знакомый философ для военной истории разработал концепцию так называемой «стратегии чуда». Это значит – никакие рациональные расчёты победы не сулят, но достаточная степень готовности рискнуть всем переламывает запланированную реальность, создаёт альтернативу не «после», а «до»! Улавливаешь, о чём я?
– В общих чертах, – осторожно ответил Мятлев. – Бывали, конечно, случаи…
– Мне на ум хороший пример пришёл. Война – ладно, война – бог с ней, там «чудо» случается гораздо чаще, чем принято думать, только очень редко специалисты догадываются, что история, особенно военная, таки имеет сослагательное наклонение. Для них всё ясно – наши раздолбали немцев – значит, политически, экономически и психологически иначе и быть не могло. Преимущество социалистической экономики и сплочённости «новой исторической общности». А если царская Россия проиграла Русско-японскую – это и есть доказательство «полной гнилости» старого режима. Лучше приведу из области шахмат, из нашего со здешним общего времени. Тысяча восемьсот девяносто девятый год. Шахматный турнир, не помню, мировой или так себе, но там имела место так называемая «Бессмертная» партия. Андерсен – Кудерницкий. Кто это такие – тоже не помню, а, скорее, не знаю. Но в той партии с примерно равным по классу противником Андерсен пожертвовал ферзя и две ладьи и в итоге выиграл! Вот тебе и «стратегия чуда».
– И что из этого? – осторожно спросил Мятлев.
– Только то, что вам сейчас нужно играть, как тот Андерсен. Прямо завтра и начинать. Помнишь «Манифест коммунистической партии»?
– Я-то помню, – сказал Мятлев так, что напрашивалось естественное продолжение: «А тебе откуда знать?»
– Вот и вам с шефом терять совершенно нечего, кроме своих цепей. Должен был из разговора со Стацюком понять, что в стандартном раскладе вам ловить нечего. Как у Высоцкого – «Расклад перед боем не ваш». Будь у вас хоть одна-единственная на всю страну, но полностью верная дивизия по штатам военного времени – имелись бы шансы, а по-нынешнему – ноль. Вы столько темпов уже проиграли…
– Слушай, Вадим, – с тоской в голосе сказал Леонид, – хватит мне мозги долбать. От меня всё равно ничего не зависит. Если что – я могу к вам на службу перейти, а пока я при нынешней должности… – он развёл руками. – Давай лучше по сто, и тоже спать ляжем…
– Это я завсегда. Девчат звать не будем, они не хуже нашего вымотались.
Двое мужчин, оба не совсем по своей воле занесённые в чужой, хотя и похожий на их собственный мир, сидели при свете настольной лампы в дальнем углу кухни возле раскрытого окна, большого, как амбарные ворота. Низкие тучи над недалёкой Красной площадью отсвечивали снизу мутновато-розовым, моментами принимался и тут же переставал идти мелкий дождь. Выпили, покурили, почти не разговаривая, минут через пятнадцать повторили.
– Ну, хватит, – сказал, вставая, Фёст. – А то действительно – «человек, желающий трапезовать слишком поздно, рискует трапезовать рано поутру».
– Давай ещё по чашечке кофе… – было видно, что Мятлеву просто не хочется уходить, оставаться наедине со своими мыслями.
– Нет, с меня хватит. А ты как знаешь, конечно…
В бутылке на столе оставалось ещё порядочно, и Вадим подумал, что с таким настроением генерал не успокоится, пока её не прикончит.
Тоже его дело, не мальчик. В крайнем случае поспит лишних несколько часов.
Войдя в свою комнату, Ляхов привычным движением повернул головку выключателя с реостатом справа от двери. Загорелся торшер в углу и в его свете он увидел сидевшую в кресле рядом с журнальным столиком Людмилу. Она уже переоделась в домашний халат типа короткого, выше колен ало-золотистого пеньюара.
В руках девушка вертела незажжённую длинную сигарету.
«Не хотела, чтобы я раньше времени догадался о её присутствии, – привычно определил Фёст, хотя ему не совсем было ясно, для чего ей такая конспирация. Вроде как не требовала ситуация этой относительной неожиданности. Но зачем-то ей это потребовалось. Вадим настолько вымотался за эти сутки, что решать очередные психологические задачи ему совершенно не хотелось. Он выбрал простейшее решение. Всё равно ведь к этому шло».
– Ты давай это – если всё решила, оставайся, да и всё. Будь как дома, – сказал он. – Свадьбу справим, когда дела сделаем. Или у нас, или здесь, как карта ляжет…
Людмила с досадой сломала в пальцах сигарету и тут же взяла из брошенного на стол раскрытого блок-универсала следующую.
– Ничего лучше ты, конечно, придумать не мог? Всё, значит, в одном флаконе – и признание, и предложение, и что там ещё у вас полагается. Я себе это как-то по-другому представляла…
Голос у девушки едва заметно дрогнул, а в остальном держалась она хорошо, без слёз и надрыва.
– Нет, ты меня прости, конечно, я и слов разных в другом случае наговорил бы, и розовых роз сто штук притащил, но сейчас у меня совершенно ничего не получится.
Он подошёл к Людмиле, обнял её за плечи, поцеловал несколько раз, то в глаза, то в губы.
– Ты ведь и сама… Я ж всё понимаю, ты совсем другого отношения и ритуала ждала. А вот не выдержала… Понятное дело. Мы тут вроде как развлекаемся, сами себе трудности создаем и героически их преодолеваем, а поубивать нас сегодня могли вполне по-настоящему. Неприятно бы было. Особенно, если бы кто-то из нас один остался… Я после своего первого боя очень хорошо это представляю.
Внезапно валькирия буквальным образом разрыдалась. Это настолько не соответствовало её истинному психотипу, но одновременно прекрасно сочеталось с нынешней внешностью, что Фёст растерялся. Мало с него проблем с раздвоением собственной личности, так теперь ещё и с невестой разбирайся. Глобальная шизофрения в квадрате.
– Я… Я тоже весь день о том же самом думала. Вида не показывала, а сама только и думала… мы же в конце концов по-обыкновенному смертны. Гомеостат ещё неизвестно, поможет или нет. Особенно здесь. Сначала просто пуля, потом контрольная в голову, и карманы вывернут, и интересный браслетик с руки снимут… – она прижималась к Вадиму всем телом, всхлипывала, слёзы текли по щекам, моментами она замолкала и подставляла губы для поцелуя. В общем, стандартная девица в почти стандартной ситуации… Что дальше – ясно и понятно.
Проблема в том, что Вадим сейчас совершенно не хотел пользоваться её нынешним состоянием, не до того ему, честно говоря, было, и не двадцать лет давно, чтобы приходить в неконтролируемое возбуждение от близости доступного девичьего тела. Но и показать каким-то образом, что ему безразличен её порыв – значит, нанести смертельную обиду. С таким характером, как у этой валькирии, легко можно потерять её навсегда. Перемкнутся какие-нибудь специально добавленные в мозг аксоны, и сотрётся из личности Людмилы обычная способность и желание любить по-человечески. Конкретно его или любого вообще нормального человека.
Получится какая-нибудь новая Сильвия или вообще незнамо что… У неё это в первый раз появилось такое чувство, очень может быть, что и в последний…
Ляхов не задумывался именно таким образом и в такой терминологии, он просто знал, что его любимая – не обычная земная девушка, и чувствовал, что с ней можно себе позволить, а что нельзя. Надо как-то выходить из положения.
Он присел рядом, начал её обнимать, гладить по голове, шептать на ухо успокаивающие нежные слова, и всё это так, чтобы успокоить Людмилу, а не возбудить ещё больше. Кое-какие навыки практической психологии и неврологии у него остались, хоть он и не совершенствовался в них уже давно. Целовать – но «по-братски», без намёка на страсть, не касаться частей тела, которые могут оказаться эрогенными, говорить слова, способные перенаправить её чувства в безопасном направлении.
Он не видел печальной усмешки, что появилась на губах Людмилы. Ей-то его тактика была совершенно понятна и прозрачна, курсанток в школе Дайяны учили не просто соблазнять мужчин в оперативных целях, но и легко распознавать самые изощрённые и профессионально замаскированные попытки воздействовать на них самих в этом направлении. Вяземской и любой из её «однокурсниц» ничего не стоило разоблачить самого умелого «Дон Жуана» или «Казанову», сколь бы сложную, многоходовую методику те не применяли, рассчитанную на наивных школьниц или многое повидавших тридцати-сорокалетних женщин. Валькирии могли просчитать каждый приёмчик на десяток ходов вперёд и разработать соответствующую случаю контригру, если это требовалось.
Сейчас Людмила понимала, что Вадим при всей сложности своего характера, избыточной для аборигенов соседней реальности, любит её по-настоящему, потому и не спешит ответить на её чувства естественным для более простых натур образом. Кажется, только сейчас между ними установился подлинный контакт, и буквально несколько минут назад она тоже поняла, что физическое взаимообладание было бы сейчас совершенно лишним, способным что-то необъяснимое словами безнадёжно испортить.
Так что же ей теперь, мило улыбнуться, поблагодарить за приятно проведённый вечер и удалиться в свою девичью спаленку? Как это уже несколько раз подряд безжалостно проделывала Герта со своим Мятлевым?
– Ты как хочешь, – решительно сказала она, вставая, – а я всё равно останусь. Не могу уйти, не могу одна смотреть в потолок и не знаю в который раз представлять, что сейчас всё могло быть совсем иначе. Я живая, а тебя больше нет! И что и как жить? Мне одной утренней прогулки с вашим Анатолием хватило, чтобы тягу к сильным ощущениям удовлетворить…
Людмила сбросила с плеч пеньюар, под которым на ней были только белые трусики, без всяких гипюровых вставок, кружев и прочих возбуждающих мужское естество красивостей.
Откинула одеяло, легла, закинув руки за голову.
– И ты ложись, туши свет. Не бойся, я не сексуальная маньячка, приставать к тебе не буду. Не прогнал – мне и этого достаточно. Расскажи лучше что-нибудь интересное, о том, чего я никогда не видела… Как ты жил в своей стране, когда тебе было, сколько мне сейчас… Было ведь, наверное, и что-то хорошее, несмотря на весь ваш тоталитаризм?
Вадим выключил торшер, присел на кресло у столика, не удержался, снова закурил.
– Я сейчас. Просто надо с мыслями собраться. Вот беда, тоталитаризма я не застал, родился как раз на двадцать лет позже его кончины. А когда то, что по инерции Советской властью называлось, тоже накрылось, мне всего семнадцать было. А как тебе сейчас… Ей-богу, вспоминать не очень хочется. В этом смысле моим наставникам больше повезло. Могу из их воспоминаний кое-что воспроизвести. Александр Иванович очень впечатляюще умел рассказывать…
– Как он умеет, я от Маши знаю. Бросай свою сигарету, – сказала Людмила из темноты выходящей окнами во двор комнаты, не освещаемой даже уличными фонарями и огнями реклам. – Иди сюда. Я уже замёрзла…
Из окна вправду тянуло пронзительным предутренним холодком. Осень уже на пороге, скоро и заморозки начнутся.
– На «Валгалле» нам Дмитрий Сергеевич и Наталья Андреевна про своё прошлое тоже много рассказывали. Но, как бы это сказать – в познавательно-назидательном духе. Всё больше про историю «Братства» и всякие с этим связанные события. А мне интересно просто про жизнь. Вот в Кисловодске Лариса иногда кое-что выдавала…
Девушка хихикнула, вспомнив какую-то элегантную скабрёзность, до которых мадам Левашова была большая любительница и мастерица. Битого жизнью мужика умела в краску вогнать, не меняя тональности голоса и надменно-аристократического выражения лица. Людмила очень любила наблюдать за их с Майей Ляховой пикировками и до сих пор не знала, на какую из дам хотела бы походить.
Вадим лёг, Людмила тут же накрыла их обоих лёгким одеялом до самых плеч. Он чуть подвинулся, ощутил её вправду холодную ногу.
– А ещё к теплокровным принадлежишь, – попрекнул он, – никакой саморегуляции. Так и до комнатной температуры дойти можно…
– Зато ты горячий. И здесь у нас несовпадение…
– Или – взаимодополнение. Зимой я тебя греть буду, летом ты меня охлаждать…
– Далеко заглядываешь, командир, – со странной интонацией сказала Вяземская.
– Правда, что бы тебе такое рассказать? – как бы пропустил мимо ушей её слова Фёст, поглощённый сейчас борьбой с самим собой. Ему, впервые оказавшемуся с ней рядом, с обнажённой, под одним одеялом, вдруг очень захотелось обнять подругу, «всю», как сказано в одном известном романе, но это означало бы непоследовательность и уступку низменным инстинктам. До этого всю свою жизнь он умел властвовать над ними и ни разу не совершил опрометчивого шага, поставившего бы его в безвыходное (с точки зрения Ляхова) положение. У Секонда, обладавшего аналогичным характером и принципами, всё случилось раньше, но только потому, что ему в его мире встретилась Майя. С такой девушкой он тоже без колебаний связал бы свою судьбу, отказавшись от уже несколько опостылевшей свободы. Что ж, ему своей Майи не попалось, зато нашлась подпоручик Вяземская. Вновь обращаясь к одесскому языку: «Это две большие разницы».
Фёст отчётливо понимал, что с Людмилой его выбор будет окончательный. Никаких либерально понимаемых свобод, «прав личности» и вариантов развода «под настроение». Отчего так – он не вдавался в онтологические дебри, просто знал и всё. А в этом случае действительно никак нельзя поддаваться инстинктам и эмоциям.
Вадим чувствовал, что сейчас от него не потребуется ни просьб, ни обещаний, протяни руку – и всё случится само собой, но ещё отчётливее представлял, что совершенно не знает, как будет утром. В любом варианте – ощущение чего-то неестественного. Трудно принимать решение, зная, что оно может связать тебя с этой достаточно малознакомой ещё девушкой на сотню, а то и больше, лет. Впрочем, почему малознакомой? Чем и хороши валькирии, что характер, принципы, эмоциональный и интеллектуальный уровень каждой ясны сразу. По крайней мере – нескольких недель общения хватает, чтобы больше не опасаться неприятных неожиданностей. Прямо как евангельскими принципами каждая руководствуется: «И пусть слова ваши будут да – да, нет – нет, а остальное от лукавого». То есть риск нулевой – через энный отрезок времени осознать, что женился на глупой, жадной и стервозной бабе, гулящей вдобавок.
Это Фёсту ещё при одной из первых длительных стажировок в новозеландском Форте Росс объяснила Сильвия, на своём и Ирины Владимировны примерах. Что вот, мол, какими они от природы получились, такими и будут до неблизкого конца своих дней. Одна – почти патологическая однолюбка, вторая – «казанова в юбке», условно говоря. И ничего в этом изменить нельзя, либо смириться с тем, что досталось, или искать себе женщину за пределами их «серий». Тогда Сильвия вроде бы совсем не догадывалась о возможности появления в этом мире своих «младших сестёр», рассказывала просто так, чтобы новый кандидат в члены Братства полностью ориентировался в окружающем, чётко усвоил границы позволенного и возможного, в том числе и в отношении женщин, которые его окружают.
Вадим понимал, что теперешние его мысли и рефлексии совсем неуместны, всё давным-давно определено естественным ходом событий, и после той ночи на подмосковной даче Шульгина им с Вяземской предстоит быть вместе, но упрямо продолжал считать, что время не пришло. Как будто действительно должно случиться нечто особенное…
– Да не терзайся ты так, – прошептала Людмила, слегка отодвигаясь. – Будь самим собой, и ничего больше. Я тебя выбрала, и никакие твои поступки уже ничего изменить не могут…
Парадоксально, но сейчас Вадим удивился и даже слегка расстроился, если это определение подходит к данному случаю: все внешние данные Вяземской говорили о том, что она должна отличаться пусть и не взрывным, но вполне развитым темпераментом. Ему казалось, что девушка более холодного типа едва ли сумела бы так убедительно и непринуждённо разыграть экспромтом перед милицией и чекистами роль лишённой предрассудков красавицы весьма облегчённого поведения. Не только он, но и посторонние, озабоченные совсем другими проблемами «правоохранители» мгновенно ощутили исходящую от неё мощную эротическую ауру, и психологическую, и гормональную. Это ведь не сымитируешь, как нельзя произвольно (без специальных средств), изменить собственный запах.
А сейчас мало, что сама она была абсолютно асексуальна в словах и движениях, так и на него действовала как ингибитор. Учиться ему ещё и учиться понимать свою возлюбленную. Если этому вообще возможно научиться. Насколько легче и проще с этим делом у брата-аналога Секонда. Уж его жена понятна насквозь, хотя и изображает из себя то девочку-простушку, то роковую женщину-вамп. Жаль, что он не встретил Майю раньше Секонда. И ничего ведь в таком парадоксе странного нет – лежит в постели с любимой девушкой и жалеет, что не полюбил другую. Это как раз подтверждение того, что он и Секонд – одно и то же. Это сейчас они расходятся всё дальше (бытие определяет сознание), а два года назад они могли навещать Майю через день, и она бы не заметила разницы.
Усмехнулся про себя, вспомнив вполне дурацкие слова некогда весьма популярного хита «Ах, какая женщина, мне б такую!».
Но Люде он сказал другое, более соответствующее теме:
– Ага. Как одна наша певица в своё время обещала: «И совсем твоею стану, только без тебя…»
Вяземская негромко хмыкнула и демонстративно отвернулась лицом к стене.
– Всё. Спи. Завтра тоже будет день, а могло и не быть…
Утром Президент проснулся довольно рано и сначала даже не понял, где он находится, потом сразу вспомнил и удивился, что чувствует себя более чем нормально. Не столько даже физически, как эмоционально.
Только что вставшее над крышами невысоких домов напротив солнце своими ещё почти горизонтальными лучами попало на скошенные у кромок грани толстого, «под хрусталь» оконного стекла. Словно в призме свет рассыпался на все тона спектра, на потолок упала алая полоска, а прямо в глаза вонзилась изумрудно-зелёная искра.
И отчего-то вспомнилось очень раннее детство и почти такое же солнечное утро, и даже будто зазвучала где-то далеко песня из старого репродуктора: «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля, просыпается с рассветом вся советская земля…» Эта мелодия тогда наполняла его какой-то бодростью, оптимизмом, высокопарно выражаясь – верой в будущее.
Вот и сейчас такое ощущение, словно вчера не случилось ничего экстраординарного, а сам он никакой не президент, хоть страны, хоть корпорации, а самый обычный человек, каким был всего лет десять назад и не помышлял ни о какой карьере, кроме научной. Жаль, что нет под рукой толстого зелёного двухтомника Платона, чтобы открыть на любом месте и прочесть определяющий настроение и направление сегодняшнего дня отрывок вечной истины, как он давно уже привык делать, начиная новый день. А вот сейчас этого не хватало…
Впрочем, отчего не посмотреть? В кабинете по соседству с комнатой, где он проснулся, библиотека в три, а то и четыре тысячи томов, две стены от пола до почти пятиметрового потолка заняты стеллажами, да ещё два больших дубовых шкафа позади письменного стола, тоже полные книг, и явно не массового чтива. Видимо, собиралась книжная коллекция много десятков лет, людьми не только богатыми, но и весьма умными. Скорее всего, есть на полках не только Платон, но и прочие мыслители древности и нового времени.
Вдруг ему стало грустно от мысли, что не ту он жизнь для себя выбрал… Чем просиживать на заседаниях, совещаниях и «работать с бумагами», куда как приятнее было бы бродить по Москве и Питеру, ежедневно навещая знакомых букинистов. Ну и ещё часа три-четыре в день читать лекции, по вечерам выступать в дискуссионных клубах или просто посиживать в хорошей компании на верандах кафе, как это было принято среди парижских, скажем, интеллектуалов всего век и даже полвека назад…
Он оделся; отчего-то перед тем, как выйти, приоткрыл дверь и выглянул в коридор. Никого.
«А если бы даже кто и был – какая разница? – подумал он. – Вообще ерунда какая-то! Паранойя?»
В кабинете он взглядом опытного книголюба обежал полки, читать названия на корешках не было необходимости, все они были для него своеобразными пиктограммами, вроде дорожных знаков, воспринимались целиком и сразу.
Ну да, вот же и он, старина Платон, только издание незнакомое – ржаво-коричневый кожаный корешок, потускневшее, местами осыпавшееся сусальное золото глубоко вдавленных литер. Интересно. А вот и выходные данные: – «С.-Петербургъ. Типография Товарищества «Просвещение», 7 рота, соб. д. № 20. 1903 г. Четвёртое издание со стереотипа».
Сто с лишним лет книге, а как новенькая, и желтоватая веленевая бумага чистая, без плесневых пятен и затхлого запаха.
И вдруг пронзила мысль – да ведь за окном почти это же самое время! Не абсолютно, конечно, но неизмеримо ближе к «старому», чем его родное. Без войн, без революций (то, что здесь случилось, ни в какое сравнение с нашими делами не идёт. Как «путч Рема», то есть ликвидация штурмовиков в Германии 1934 года относительно сталинских мероприятий 1937–1938 гг.), без целенаправленного и кардинального слома всего психотипа нации. Об этом он раньше как-то не задумывался.
Тряхнул головой, наугад раскрыл первый том «Диалогов». В самом начале правой страницы под номером 351 прочёл:
«Сократ. Но вот что я уже не от других слышу, а знаю точно, и ты тоже знаешь – что сперва Перикл пользовался доброю славой и афиняне не присуждали его ни к какому позорному наказанию, пока сами были хуже, когда же заслугами Перикла сделались честными и благородными, то осудили его за воровство и чуть было смертного приговора не вынесли.
Калликл. Ну и что же? Признать по этой причине Перикла дурным?
Сократ. Ну, во всяком случае скотник, присматривающий за ослами, лошадьми или быками оказался бы дурным при таких обстоятельствах – если бы он принял животных смирными, и они не лягали бы его, и не бодались, и не кусались, а потом, под его присмотром, вдруг одичали. Или же тебе не кажется дурным скотник, – кто бы он ни был, – у которого смирные животные дичают? Да или нет?»[62].
«Однако», – подумал Президент, слегка даже обескураженный. Редко ему выпадали столь чётко подходящие к текущему моменту цитаты. То есть, он хотел узнать, что сулит ему столь ненадёжное теперь и неопределённое будущее. А получил ответ, касающийся настоящего. Хуже Перикла ты оказался, господин Президент. Тот хоть успел сделать своих подданных честными и благородными, а твоими трудами даже ближайшее окружение начало кусаться и лягаться, минуя предыдущую стадию. Просто до поры старались вроде бы «соблюдать правила игры», а потом сообразили, что решительных воспитательных, тем более – карательных действий от главы государства ждать не следует, но некоторые его манеры и идеи всё же препятствуют полной «вольности дворянства», вот и решили… Непонятно только, отчего не обошлись с ним сразу как с Павлом первым. Видимо, кое-какое смягчение нравов всё же имеет место. Или просто расчётливее люди стали…
Он захлопнул книгу, и тут вдруг из-за спины послышался голос. Президент даже вздрогнул слегка от неожиданности.
– И что же вы почерпнули, Георгий Адрианович, из сего кладезя мудрости?
Он обернулся. На диване полусидел, касаясь опоры только одной стороной обширного тела, скандальный журналист Волович, о существовании которого Президент совсем забыл – других забот хватало. Да и находился тот вчера в мало вменяемом состоянии. Но сейчас он был на удивление свеж несмотря на встрёпанность причёски и быстро проступившую небритость. Да и не похоже, чтобы похмельем маялся или от раны чересчур страдал.
– Вчера нам поговорить, да и познакомиться толком не было времени, – с несколько двусмысленной улыбкой продолжил раненый. – На всякий случай напомню – Волович моя фамилия, Михаил, если угодно. Писал много, преимущественно публицистику и стихотворные памфлеты. В том числе и лично в ваш адрес.
Сказал и упёрся в Президента сильно выпуклыми карими глазами, умными на удивление. Обычно глаза навыкате воспринимаются с заведомым предубеждением.
– Ну, писали и писали, – как можно безразличнее ответил Президент. – Чем же вам ещё деньги зарабатывать? По нынешнему времени получать гонорары, как Горький в разгар своей дореволюционной славы, на голом литературном мастерстве не выйдет. Ниспровергателям куда лучше платят… заинтересованные лица.
– Горький тоже антиправительственных вещей много написал, – слабо возразил Волович, слегка раздосадованный слишком толерантной позицией собеседника.
– Было такое, – пожал плечами Президент. – Сначала к низвержению самодержавия призывал, потом «Несвоевременные мысли» против большевиков издал. Но знаменит всё же не этим. Вы бы сами попробовали что-то вроде «Жизни Клима Самгина» изваять, с тем же литературным и финансовым успехом…
– А вы неплохо разбираетесь в истории литературы, – сменил явно невыигрышную для него тему Волович.
– Ну, как же, – широко улыбнулся Президент, ставя книгу на полку. – Вот даже Платона на досуге полистываю. Не только фельетоны Жванецкого да ваши…
– Извините меня, конечно, Георгий Адрианович, – словно бы засмущался Волович, – но не могли бы вы мне стопарик коньячку вчерашнего коллекционного нацедить. Страх как укрепить слабеющие силы требуется, а вставать мне очень трудно пока. До туалета ещё доползаю кое-как, за стулья цепляясь да по стеночке, да и то исключительно из самолюбия. Никакими усилиями не могу заставить себя у столь прелестных существ, как наши героини, «утку» попросить…
– Отчего же, – Президент открыл среднюю дверцу шкафа, откуда вчера Фёст доставал бутылки. – Судя по господствующим в этом доме нравам, наш с вами поступок не выходит за пределы хорошего тона…
– Да уж! – поддержал его Волович, на самом деле понятия не имевший, что за нравы на самом деле царят в доме Фёста и его невыносимо очаровательной заокеанской подруги. Как и многие другие, Волович автоматически запал на Людмилу, с первой секунды, как увидел её на тротуаре перед редакцией. Ничего подобного её загорелым ногам, издевательски-демонстративно прикрытым сверху сантиметров на тридцать коротенькими потёртыми шортами, он в жизни не видел, хотя побывал на доброй сотне самых престижных пляжей мира. На рекламах чулок или колготок, вовсю использующих фотошоп, подобное может быть, но не в реальной жизни. Кстати, грудь Вяземской под обтягивающей майкой впечатлила его гораздо меньше: тут у него были другие эстетические критерии.
– Если здесь Мила хозяйка, то так и есть… – лёгкая тень гримасы, пробежавшая по его лицу, позабавила Президента.
– А что, вам Герта не понравилась? – деланно удивился он. – Тоже весьма красивая девушка, вдобавок – спасительница, моя, а главное – ваша.
– Нет уж, вы меня извините. Ничего личного, как говорится, но меня Афродита гораздо больше возбуждает, чем Афина Паллада. Хотя по дошедшим до нас скульптурным изображениям своими женскими статями и прелестями они не сильно отличаются… Мне просто не очень нравятся, даже настораживают девицы, бегающие с автоматами, палящие во все стороны, способные материться, как сверхсрочник-боцман и умеющие одним ударом нежной ручки перешибить человеку хребет…
– Но столь очаровавшая вас мисс Вяземская тоже… – Тень усмешки не сходила с лица Президента. Светский разговор, что лучше для укрепления хорошего утреннего настроения?
– У неё это только непринципиальный эпизод, – упёрто возразил Волович, а про себя задумался: как же оно на самом деле? Девушка-консультантка то ли из Парагвая, то ли из Сан-Франциско, но ведёт себя здесь ничуть не скованнее и не политкорректнее, чем дева-воительница баронесса фон Витгефт. Юной иностранке переодеваться в военную форму чужого государства, брать в руки оружие и в открытую воевать с вооружёнными силами и правоохранителями… У них в Штатах такие шалости на пожизненное тянут. Впрочем, это только если иностранка на их территории чем-то подобным займётся. А наоборот – пожалуйста, никаких ограничений.
– Вы удивительно много помните из случившегося вчера, – сказал Президент, когда журналист упомянул фамилию и титул Герты. – А выглядели…
– Так в этом и суть моей профессии, Георгий Адрианович, – весело провозгласил Волович, принимая из рук Президента тяжёлую серебряную чарку дореволюционной работы, стандартного для такой посудины объёма[63].
– Никто не поверит, что лично вы мне спасительную дозу живительной влаги поднесли! – провозгласил он и немедленно выпил. Ему нравился свой стиль, избранный для общения с Президентом, лишённый подобострастия, почти панибратский. А он ведь впервые встретился с этим человеком с глазу на глаз. До этого Михаил писал все свои памфлеты и инвективы, глядя только на его портрет или телевизионное изображение. И в прозаических или рифмованных периодах, казавшихся ему весьма изысканными, непременно изображал главу государства жестоким, злобным и одновременно мелким автократором, если до сих пор не пролившего реки народной крови, то только из прагматического расчёта и генетического страха перед Великим Демократическим Западом. Этот самый Запад и оплачивал труды Воловича по десятикратной, если не больше, ставке в сравнении с гонорарами авторов проправительственной или объективно-нейтральной прессы.
То, что «кровавый тиран» не только не велел до сих пор отправить Воловича «на дыбу и правёж» в подвалы своего Тайного приказа, но даже ни одного номера газет, где Волович печатался, не запретил, Михаила даже задевало. Прекрасно зная истинную позицию власти в отношении таких, как он, «золотое перо либеральной журналистики» считал, что той следовало бы быть пожёстче. Как в восхитительные времена «Серебряного века», судя по фельетонам из пожелтевших подшивок «Нового Сатирикона». Там полиция за печатные выпады против особы Государя обычно штрафовала издателя на смешную сумму в пару тысчонок, а уж чересчур распоясавшегося «обличителя», вроде Дорошевича или Аверченко могла и засадить (исключительно по суду) на месяц-другой «в холодную».
Если б ему, Михаилу Воловичу, «сатрапы оккупационного режима» организовали аналогичный срок в приличном ИВС[64], с вежливым персоналом и сервисом хотя бы трёхзвёздочной гостиницы (но уж не ниже, иначе весь Запад всколыхнётся гневом и возмущением), он бы автоматом получил какую-нибудь Пулитцеровскую премию, минимум грин-карту США, удостоверение политического беженца и билет, с открытой датой вылета в любую страну ЕС и всего НАТО в целом.
Но такого подарка власть, олицетворяемая этим вот радушно-ироничным человеком, ему так до сих пор и не сделала. А на более «острую» акцию, вроде той, что вчера предлагал Ляхов, Волович благоразумно не отваживался. Месяц ИВС или хотя бы «трояк» Зоны – принципиально разные вещи. Однако всё равно схлопотал осколок в задницу и чудом избежал пули. Между глаз или в затылок, смотря по обстоятельствам. Заодно и понял, как-то сразу, что власть такого Президента – далеко не худший вариант в этой стране.
– Теперь буду всем рассказывать, да только не поверят ведь, – сокрушённо вздохнул Волович, занюхивая коньяк рукавом пёстрой рубашки, в которой и спал. – Если вообще представится впредь такая возможность…
И взглянул на Президента неожиданно остро, пронзительно, со вторым или третьим смыслом, кроющимся за самыми обычными словами.
– Какие-то сомнения испытываете? – Президент, только что отнюдь не собираясь этого делать, присел за стол напротив Воловича, рассеянно взял со стола полупустую сигаретную пачку, почти машинально закурил. Кажется, давно оставленная привычка вернулась к нему всерьёз и надолго. Да почему бы и нет? На так называемый «имидж» теперь наплевать, а без хорошего табака ему все пять лет, что он не курил, постоянно чего-то не хватало. Только уж если начинать, то надо переходить на трубку. Трубка придаёт многозначительность и особый мужской шарм, как, например, артисту Янковскому…
– Вы шутите или что? – окончательно перешёл на равную ногу журналист. – Я, клянусь вам, Вадима Ляхова давно знаю, и с «братцем» его встречался как-то, и разговоры мы очень… неординарные вели. И за вчерашний день и половину ночи я, считай, ни одного слова не пропустил, что при мне, пусть и не для меня, произносились. Диктофона нет, так и без него здесь, – он постучал себя пальцем по лбу, – всё как надо зафиксировано. Если не всегда дословно, то по смыслу – тик в тик. А выводы я делать умею. Никто нас с вами отсюда не выпустит.
– Да неужели?
– В нынешнем качестве – ни за что! – Голос и выражение лица Воловича свидетельствовали о его глубочайшей убеждённости в своих словах. – Кому и зачем это нужно? Вы разве не поняли до сих пор – мы имеем дело со всемирным заговором…
– Надеюсь – не сионистским?
– Да оставьте вы своё благодушие! Они же все инопланетяне, как вы ещё не догадались? И то, что вчера устроено было – классная инсценировка, только чтобы нас с вами в безвыходное положение поставить и перевербовать, заставить под свою дудку плясать.
– Ну, вам не привыкать, не понимаю, почему эта тема вообще вас волнует, – глаза Президента сузились, тон стал жёстким да ещё и слегка презрительным. – А за себя я как-нибудь сам отвечу. Боюсь, что та часть тела, куда вас ранили, играет непропорционально большую роль в ваших мыслительных процессах…
– Вот! – с горечью провозгласил Волович. – Даже здесь вы не желаете прислушаться к голосу разума. Никогда не хотели, а если бы с самого начала следовали моим советам и рекомендациям! Я сколько тонн бумаги извёл, чтобы донести до вас простейшие, самоочевидные истины… Вы же как упёрлись в свою «суверенную демократию»… Вот теперь получите настоящую самодержавную диктатуру, в свою очередь пляшущую под чужую дудку.
Президент подумал, что память у журналиста, возможно, действительно диктофонного типа, но вот остальные составляющие личности вызывают сомнение. Если его от ста грамм так ведёт… Впрочем, это может быть и игрой с пока неясной целью.
– Я думаю, для начала знакомства мы обменялись достаточным количеством взаимополезных мыслей, – несколько чопорно, при этом глядя не на Воловича, а в окно, где блёклые утренние тона небосвода наливались полноценной синевой, сказал Президент. При этом он вдумчиво, со вкусом затягивался чуть кружащим голову дымом и с сожалением посматривал краем глаза, как быстро растёт столбик пепла, а огонёк приближается к фильтру.
– Не хотите слушать голос истины и разума, – с надрывом в голосе произнёс Волович.
– Вы знаете – действительно не хочу, – радуясь, что не нужно сейчас играть словами, произнося то, что требуется моментом и маскируя истинные мысли, ответил Президент. – За время своей нынешней службы я выслушал столько всяких глупостей, сколько не слышал от студентов на зачётах и экзаменах за десять лет преподавания. Так что можете считать – лимит исчерпан. Ложитесь лучше отдыхать. Думаю, скоро вам предстоит перевязка и какие-то ещё малоприятные процедуры. Продолжим как-нибудь позже…
Он вышел из кабинета и направился в кухню, откуда слышались соответствующие времени и месту звуки. Там он увидел Герту, одетую весьма по-домашнему и выглядящую совсем не воинственно. Она не рассчитывала встретить так рано кого-нибудь из своих высокопоставленных гостей и подопечных, оттого не стала наряжаться и, тем более, краситься. Умылась, причесалась, накинула лёгкий халатик неброской расцветки, именно чтобы только не совсем уже голой по дому расхаживать. Очень даже просто и располагающе. Он даже удивился слегка.
– Завтракать будете? – спросила девушка. – Что-то ты вы рановато поднялись. Народ точно до обеда спать собрался.
– Не имею привычки. По мне – с шести до девяти утра самое лучшее время. Особенно – на природе.
– А мне – всё равно, – баронесса поджаривала гренки и одновременно следила, чтобы кофе не убежал. – У нас ещё с училища (так она для простоты и понятности назвала свой интернат на Таорэре-Валгалле) у всех часы на двадцать четыре деления.
– Как у подводников?
– Правильно. И у полярников тоже. Вам что ещё приготовить, вы как вообще завтракаете? Могу яичницу с беконом, если по-американски, или…
– Предпочитаю по-французски. Чашку кофе, круассан или вашу гренку – и хватит. Нагуляю аппетит, где-нибудь в городе перекушу…
Сказал – и насторожился. Что ответит грозная воительница, прикинувшаяся феей домашнего очага?
– Вы в город собрались? – без особого интереса спросила Герта, лёгким движением руки убирая упавшую на глаза прядь волос. – Один?
– Именно что один. Обожаю рано утром выйти в незнакомый город и без всякой цели бродить по улицам, смотреть, слушать…
– Разве для вас Москва – незнакомый?
– Более чем какой-то другой. Топография центра почти та же, а в остальном… Вчера я в этом убедился, жаль, что вы меня слишком плотно опекали. Сейчас хочу побродить сам по себе, осмыслить впечатления…
Закончив кормить гостя, Герта профессионально, как официантка со стажем, убрала со стола, и пока Президент закуривал теперь уже законную, после завтрака, сигарету, выскользнула за дверь. Он с интересом и некоторым внутренним напряжением ждал, кто появится вместе с ней или вместо неё, какими доводами станет убеждать отказаться от своего замысла. Однако девушка вернулась одна, но не с пустыми руками, а с небольшой кожаной сумкой. Здесь такие многие мужчины носят на плече.
– Вот, возьмите, – протянула девушка предмет, внешне не отличающийся от пачки довольно крепких, без фильтра, сигарет «Друг». Красный твёрдый картон, тиснёное золотом изображение головы немецкой овчарки. – Это переговорное устройство. Сотовых телефонов здесь пока не существует, может, вскоре с вашей помощью появятся. Но это километров на сто уверенно работает. Если слой Хэвисайда[65] в порядке. Нажимаете вот здесь и говорите. Либо я, либо полковник Ляхов сразу ответим. Желательно это делать не на глазах местного населения, здесь говорящий в пространство человек вызывает недоумение. Кроме того – изделие секретное. И вот ещё ваш парабеллум, – она вынула из сумки президентский «08». – Возьмёте? У нас уважающие себя мужчины без оружия не ходят.
– Ляхов говорил, что здесь совершенно безопасно…
– Потому и безопасно. Д`Артаньян, к примеру, где-нибудь без шпаги появлялся? Без штанов, кажется, было, но без шпаги? И не потому, что уличных хулиганов или ночных грабителей боялся. Личное оружие – определяющий атрибут свободного человека и степени свободы общества.
– Интересная у вас точка зрения. И как же я, допустим, свой пистолет носить должен?
– Да как хотите. Можно в наплечной кобуре, можно в поясной или просто в кармане. Конечно, если «ноль восьмой» для вас тяжёл, могу маленький «Вальтер» или отечественный «Стрелец» принести.
– Нет уж, спасибо, Герта. На первый случай я в новый для себя город лучше так, налегке прогуляюсь. Тем более – звание «свободного человека» ещё ведь заслужить надо…
– Ну, воля ваша. Надеюсь, вы в городе не заблудитесь. Если что потребуется – к любому городовому обращайтесь. Или сам поможет, или подскажет. А вообще лучше сразу нам звоните. Вас к обеду ждать?
– Это когда примерно?
– Наверное, около четырнадцати…
– Постараюсь быть.
Он направился в прихожую, но Герта его окликнула.
– Подождите, отвлекли вы меня. Куда собрались, без денег? Я же специально за ними ходила…
Она вручила Президенту полный комплект здешних казначейских и банковских билетов – от рубля до пятисот, и ещё приличную горку серебряных и медных монет. Тут же объяснила, сколько что стоит – проезд в трамвае, на метро, извозчике, завтраки и обеды в трактирах и ресторанах, порядок цен на наиболее ходовые товары первой необходимости. И, наверняка в виде казарменного юмора – расценки на высококачественных девушек лёгкого поведения. Отдельно на уличных и в «домах свиданий». Заодно и проинструктировала, как разведчика, отправляющегося на задание, как именно здесь принято расплачиваться, где торговаться можно, а где – ни в коем случае, и как в просторечии и на разных жаргонах называют денежные единицы.
Кроме общеизвестных пятака, гривенника, полтинника, оказывается, здесь по-прежнему в ходу, как в словаре Даля, всякие просторечные «семишники», «алтыны», «пятиалтынные», «двугривенные», «целковые», а из монет «высокого разбора», вроде английских гиней – «империалы» и «полуимпериалы». Бумажки тоже именовались разнообразно и изобретательно – «канарейка» (рубль, за цвет, видимо) «синенькая» – пять, «красненькая» – десятка, «угол» или «четвертная» – двадцать пять. Те, что крупнее, назывались по портретам императоров, то пренебрежительно: «сашка» (Александр III), «колька» (Николай I), то уважительно-фамильярно – «катенька» (Екатерина Великая), то строго официально – «Пётр». Ну и в этом же духе, тут нужно целый справочник по жаргонной нумизматике и бонистике писать.
– Если сразу не запомнили – неважно, – подвела итог Герта. – Главное – просто не теряйтесь, держитесь как ни в чём ни бывало. Никто вас за ошибку в жандармерию, как японского шпиона не потянет. Как хотите, так и выражаетесь. Только матерно на улицах категорически не допускается. Вплоть до ареста и приличного штрафа. Желаю приятных впечатлений.
Президент вышел из подъезда на гладкую брусчатку переулка до глубины души удивлённый и даже поколебленный в своих самых основательных страхах и предубеждениях. Он, затевая свою игру, был совершенно уверен, что девица под любым предлогом не выпустит его из квартиры, в крайнем случае позовёт на помощь Вадима (Фёста), как вариант – предложит себя или подругу в сопровождающие. А тут всё просто – решил погулять, ну и иди. Как бы с намёком – хоть так, хоть так, а деваться тебе некуда.
А когда он, поколебавшись немного, повернул от парадной налево, в сторону Петровки, Герта, проводив Президента взглядом, сняла трубку телефона. Набрала прямой номер Секонда.
– Вадим Петрович, объект первый решил утренним московским воздухом подышать. И осмыслить вчерашние впечатления. Я ему, как и договаривались, отдала переговорник «сто тридцать третий». Да, включён, конечно. Еще шестьсот девяносто четыре рублями бумажными и три рубля мелочью. Так точно – полный комплект. Оружие не взял. То ли толстовец, то ли провокаций опасается. Остальные отдыхают, работали допоздна. Хорошо, всё понятно. Тогда я тоже часика три вздремну – «не раздеваясь, расстегнув верхние пуговицы и ослабив поясной ремень…»[66].
– Вас понял, баронесса, – усмехнулся на той стороне провода Ляхов, уловив второй смысл шутки. – Можете и подольше, и совсем раздевшись. Я с караула снимаю, остальные и так никуда не денутся. Журналист наш не помер, случаем?
– Никак нет, господин полковник. С Президентом немного попрепирался, две чарки выпил и снова спать завалился. Живее всех живых…
Глава восьмая
Приподнятое, даже слегка эйфорическое, настроение не проходило. Слишком вокруг всё было хорошо – ярко-синее, праздничное какое-то небо, свежий, но не холодный утренний воздух, чуть влажная от росы брусчатка под ногами. Воздух ощутимо более чистый, чем в «другой Москве», почти такой же, как на загородной даче. Вообще ощущение, будто в первый день отпуска или даже – студенческих каникул.
И ещё одно – почти забытое чувство – одиночества в чужом городе. Ты никого не знаешь и никто – тебя, нет ожидания или опасения, что на любом углу можно встретить приятеля или совсем наоборот, каким-то образом учитывать в своих действиях то, что вскоре они могут послужить предметом обсуждения и осуждения в дружеских и не очень кругах. В качестве же президента он вообще забыл о том, как это бывает – превращаться, по сути, в человека-невидимку после того, как несколько лет состоял под плотным ежеминутным, фактически, контролем, прежде всего, собственной охраны и по восходящей, чуть ли ни каждого из сотни миллионов собственных граждан дееспособного возраста. Оттого и забыл почти, что это значит – бесцельно и невозбранно бродить по улицам.
А здесь он никто и звать его никак – старая присказка теряла свой уничижительный смысл, приобретая совсем противоположный.
Забавно, но даже наличие приличной суммы «карманных денег» его радовало. Большую часть жизни их у него просто не бывало, а потом вдруг это понятие при его должности потеряло смысл. Исчезла прежде всего возможность самостоятельно и бесконтрольно потратить какую-то часть своих доходов на собственные удовольствия. Нынешние крупные, отпечатанные на приятной на ощупь шелковистой бумаге купюры внушали уважение своим элегантно-архаичным дизайном начала прошлого века, а главное, тем, что здесь имели хождение все денежные знаки этого образца, хоть первых серий, ещё тысяча девятьсот пятого-девятого годов, каллиграфически подписанные от руки никому уже неизвестными Управляющим и Кассиром, хоть отпечатанные только вчера. Невзирая на большевицкий[67] переворот и Гражданскую войну (правда, очень короткую), денежных реформ на территории Империи не было ни одной за сто с лишним лет. Сегодняшнему человеку это дико даже вообразить – нашёл в прабабушкином сундуке бережно сложенную вчетверо бумажку, спрятанную под покрывающими дно газетами тех же примерно лет, порадовался, да и пошёл в магазин, чтоб помянуть старушку, полвека назад ушедшую, но сделавшую правнучку, никогда ей не виденному, подарок оттуда…
На перекрёстке Петровки Президент поколебался секунду и свернул вправо, предполагая затем выйти на Кузнецкий Мост.
Вчерашняя автомобильная поездка по городу не доставила нужного впечатления, зато сейчас он постигал эту Москву изнутри, как бы сливаясь с ней, из созерцающего субъекта превратившись в её миллионную, но неотъемлемую частицу.
Странно и радостно было увидеть ЦУМ, не испохабленный реконструкцией, а таким, как он запомнился самой ранней детской памятью. Всплыло его старое название «Универсальный магазин Мюра и Мерилиза». И здания – вокруг него и в перспективе расходящихся улиц. Вроде бы те же самые, но отчего-то выглядят они словно где-нибудь в Париже или Вене – на свой возраст, но не запущенными, грязноватыми, а то и откровенной облупленными и грязными, а, так сказать, «подёрнутыми благородной патиной времени». Видно, что домам по полтораста, двести и более лет, но явственно ощущается, что ухаживают и следят за ними каждодневно, а не по случаю «великих праздников» (да и то, если «в план» попадут). Совсем другое ощущение на этих улицах и переулках. А если добавить ещё, что в поле зрения, куда ни кинь взгляд, ни одного новодела – так действительно воображается, что совсем в другую страну попал. Ему вдруг стало будто бы стыдно – отчего раньше на такие вещи внимания не обращал, проносясь по столице в бронированном «Мерседесе» с задёрнутыми шторками? А ходил бы по городу пешком, как любил Император Николай Павлович Первый (и без охраны, ибо, как сказал граф Бенкендорф[68] – «любой русский человек своему Императору лучшая защита!), так, небось, побольше бы всего увидел, возможно, и лично распоряжался – в каком году в какой цвет «присутственные здания» красить и какого архитектора уже пора «лишить всех прав состояния» и направить в арестантские роты бессрочно.
Людей попадалось навстречу совсем мало, что понятно – рано ещё. Президенту вчера объяснили – здесь, как и до семнадцатого года, «присутственное время» с десяти утра до четырёх пополудни. Вполне хватает шести рабочих часов чиновникам для своих бумажных дел, благо повседневная жизнь катится, налаженная, сама собой, с деятельностью государственной власти почти не пересекаясь. А прочий трудовой люд работает по графикам, соответствующим их роду занятий, но, как правило, не в культурно-деловом центре города. Вот магазины всякие здесь с восьми открываются, но наплыва покупателей в них не видно, они в Старом городе совсем не для того, чтобы делать необходимые повседневные покупки. Так, отметиться, перед знакомыми при случае похвалиться вещичкой с этикеткой одного из лучших торговых домов, «Поставщиков Двора Его Величества».
Нет, хорошо всё-таки, чёрт возьми, почувствовать себя совершенно свободным человеком! Это может показаться странным, невероятным, несовместимым с так называемым здравым смыслом и его логикой. Президент великой державы, только вчера переживший самое страшное, что может случиться с политиком: крушение тех идеалов, которыми он руководствовался, попытку государственного переворота, откровенно говоря, на данный момент там – удавшуюся. А как же иначе – Президент исчез (бежал, убит – не суть важно), заговорщики получили полную свободу рук. А он вдруг свободен и почти счастлив!
Абсурд вроде бы, но вчерашний, невероятно долгий день, вместивший в себя сюжеты и политического триллера, и шекспировской трагедии, и иронического фарса оказал на него парадоксальное воздействие: будто безусловно смертельный яд, обернувшийся на деле чудодейственным лекарством. Президент ещё не проанализировал, что же именно так на него повлияло, да и не очень ему сейчас хотелось это делать. Всё равно ведь, как ему сказано, проведённое здесь время – не в зачёт. Можно сколько угодно (в буквальном смысле) сибаритствовать, развлекаться, думать, строить наполеоновские планы возвращения в Париж с острова Эльба – там, в настоящей Москве, время будет стоять, зафиксировав кадр и ожидая, когда неизвестный киномеханик вновь запустит плёнку с того самого места.
Как это может быть и может ли быть вообще, он не понимал, а главное, не хотел об этом задумываться. Было бы невозможно – он сейчас здесь не гулял бы, а… Об ином, «реалистичном» варианте сюжета он тоже сумел заставить себя не думать. Причём – удивительно легко.
Нашёл гораздо более интересную тему для анализа. Вот, например, почему воинственная, отважная, грубая и одновременно заботливая девица Герта позволила себе более чем бестактность в разговоре с Президентом? Пусть и в изгнании, но всё же! Назвать цены на девочек в борделе – это надо же! Оскорбление в чистом виде. А цель?
Ладно, он сразу заметил вчера, несмотря на отнюдь не располагающую обстановку, что Мятлев сражён баронессой наповал. Да и Анатолий поплыл от общения с Людмилой Вяземской. В принципе, неудивительно – перешагнув рубеж сорокалетия, мужчины в массе теряют иммунитет перед чарами юных прелестниц «с ногами и формами», но уж так сразу… Вот на него, например, ни та ни другая гипнотического воздействия не оказали. Да и смешно было бы – не в том состоянии он вчера находился. Хотя вечером, когда всё кончилось и коньячком стресс сняли, настроение у Президента было уже другое. И тем не менее…
Однако же! Вот в чём дело! Да, был сегодня момент, на котором Герта его и подловила. Она возилась у плиты, готовя завтрак, уронила на пол ложечку. Присела, чтобы её поднять. Да так присела! Очень удачно… Кадр получился достойный «Эммануэль» или «Основного инстинкта» (а что, в свои студенческие годы Президент эти фильмы смотрел, как и все тогда, на первых появившихся в СССР видеомагнитофонах, рискуя очень многим[69]). Но ведь продолжалось это всего секунду, от силы две. Потом девушка встала, и ведь, кажется, даже головы в его сторону не поворачивала, но, значит, боковым зрением или вообще сверхчувственным восприятием уловила то ли взгляд его, то ли всплеск эмоций в чистом виде, вроде как скачок напряжения в электросети. Не мужик он, что ли, без эмоций такую, прямо на подсознание действующую картинку пропустить? И тут же не преминула отомстить? А за что тут мстить? «Радоваться надо», – если слегка Сталина перефразировать. Нет, безусловно, это просто у неё юмор такой.
Но девица с характером и наблюдательная. Вот из такого типа людей нужно было с первого дня президентства окружение своё формировать, никакими другими критериями не руководствуясь.
Так о чём он только что думал, о серьёзном, а не о нахальной девчонке в подпоручичьем (лейтенантском, то есть) чине? Ах, да!
Отчего он не страдает, не рвёт на себе волосы, не бьётся головой о стенку? Гуляет вот, по сторонам смотрит, о молодых девочках думает. Неужели он настолько надорвался, так смертельно устал, что даже нынешнее положение кажется ему избавлением? И даже не от непосильной ноши, как принято выражаться. Глупое, кстати, выражение применительно к политику. Господь Бог посылает каждому ношу по силам, и никак иначе, а если ты не справился – твоя вина и твоя беда. Георгий Адрианович надорвался, не каменные блоки на стройке таская, а в болотной трясине барахтаясь. Бессмысленное, нужно сказать, занятие. Заниматься им можно разве что из отчаяния или полной неспособности понять, что не выберешься, если немедленно кто-нибудь с берега не протянет подходящую жердину или конец верёвки.
Общаясь со своими новыми знакомыми, к исходу вчерашнего, едва ли не ставшего роковым для всей России дня, Президент понял, только не подал вида окружающим, что Фёст был прав. Прав ещё во время их первой встречи, через телевизор, хотя и выглядел нелепо в своём дешёвом гриме. Он тогда ещё процитировал слова Андропова, последний раз подарившего народу надежду, что из тогдашнего «социализма» ещё может выйти что-нибудь путное. И что сказал Юрий Владимирович, Генсек № 4? «Мы не знаем страны, в которой живём». Так тому, «наследнику Сталина», вроде и естественно не понимать страны, граждане которой хотят совсем не того, что им внушает и навязывает КПСС «во главе с её ленинским Центральным Комитетом».
Но уж он-то, современный, молодой ещё человек, начавший реально взрослеть вместе с «перестройкой», видевший своими глазами всё, что ежедневно происходило в России за эти четверть века. Европейски образованный, с вполне демократическими и умеренно-либеральными убеждениями, собственным умом и способностями пробившийся из обычных университетских ассистентов в Президенты! Как же он не смог понять сути, архетипа той страны, которой взялся руководить?
И вот всё пошло прахом, потому что просто не оказалось в России людей, способных и оценить, и поддержать, и защищать его идеи. Но именно в этот момент (как нередко уже случалось в истории) нашёлся отставной капитан медицинской службы, «полковник» несуществующей в реальности Российской Императорской Гвардии, на пальцах объяснил ему то, чего не могли понять и осмыслить сотни, да что там, тысячи и десятки тысяч политиков, экспертов, учёных, журналистов: и привластных, и якобы «оппозиционных». Отечественных и зарубежных. Объяснил простейшую, в сущности, вещь – настоящей России, попросту говоря, наплевать на все предлагаемые ей начальством или «властителями дум» варианты. Поскольку нет среди них того самого главного, единственного.
А раз нет, так живите вы сами, господа-товарищи, по своим законам и идеям. А мы тоже как-нибудь, по-своему. И татаро-монголов, слава богу, пережили, и нашествия «двунадесяти языков», и большевиков с коммунистами… Ну и вас, само-собой, переживём и забудем, включив некоторые поучительные моменты (должным образом их переосмыслив) в свою национальную мифологию.
По скользкой, абсолютно ровной, будто вчера только положили, брусчатке Кузнецкого Моста Президент поднимался в направлении Большой Лубянки. Вдруг слева с огромным удивлением увидел магазинчик «Карты и атласы», точно такой же, как в его Москве, и на том же самом месте! Удивительнейшее дело – что в этой России, что в другой оказался некий инвариант, за сто лет не сменивший своего профиля и назначения, не взирая на все пронёсшиеся над страной революции, войны, поочерёдно сменявшие друг друга экономические системы, отношения к собственности и самих собственников. А эта «торговая точка» намертво укрепилась на своём месте, не хуже шляпки самокованного гвоздя, вбитого в дубовую балку. Торгует нужным всем, но едва ли приносящим сверхприбыли товаром, и никто на эти полсотни квадратных метров в самом-самом историческом, безумно дорогом месте Москвы не посягает, даже некогда всесильный Лужков не замахнулся…
Не только из сентиментальных, но и практических соображений Президент вошёл, поздоровался с пожилой, за шестьдесят, и очень старомосковской на вид продавщицей, или – приказчицей, если по-здешнему. Долго рассматривал ассортимент, выбрал и купил большую складную карту-схему Москвы, откорректированную и изданную уже в текущем году, и карманный атлас мира, снабжённый плоской пластиковой лупой, размером как раз в страницу, позволявшей разбирать высококачественные, но крайне миниатюризированные карты. Заплатил целых три рубля с копейками, что по здешним меркам достаточно дорого. Так на то и Кузнецкий. Дама-приказчица сама сказала, что то же самое, но, разумеется, попроще и похуже качеством на Сухаревке можно купить раз в пять дешевле.
Президент сам догадался, что она имеет в виду не описанную Гиляровским и другими бытописателями толкучку на означенной площади, имевшую быть в конце XIX века, да и вплоть до тридцатых годов века ХХ тоже, а «общедоступный» книжный магазин, вроде теперешнего «Библио-Глобуса», на углу Первой Мещанской (пр. Мира). Они вчера проезжали на машине мимо его ярко освещённых витрин и заметной рекламы.
Раз мысль повернула в эту сторону, президент, выйдя на улицу, пересёк наискось тротуар и мостовую, где вместо «потусторонней» «Книжной лавки писателей» помещался обычный букинистический магазин. Нет, какая-то магия места сохраняется, невзирая на гримасы истории. Не пивом навынос торгуют, не тростями и шляпами, как в следующей лавке, а именно книгами…
Уйти оттуда удалось только часа через полтора. На первом этаже продавались только что (или в ближайшие годы) вышедшие книги, а вот на втором – истинное раздолье библиофила, к которым Президент себя относил (только читать последние десять лет по-настоящему, для удовольствия, имел возможность от случая к случаю, и всё реже).
Поразительное чувство испытывал Георгий Адрианович, беря в руки произведения авторов, в его мире не успевших дожить до написания именно этих книг, а тем более – тома писателей, не уехавших после Революции в эмиграцию, а продолживших жить и творить на Родине. Что-то почти мистическое было в том, чтобы держать в руках книги, например, Булгакова, Мережковского, Аверченко, Цветаевой, Северянина, ну и Гумилёва, конечно же, изданные при жизни авторов в тридцатые-сороковые-пятидесятые годы, с совершенно ничего не говорящими человеку «из другой жизни» названиями.
Да только ради того, чтобы скупить и запоем прочитать все эти сотни вызывающих какой-то особого рода трепет книги, стоило бы задержаться здесь на месяц-другой…
«А зачем задерживаться? – вдруг мелькнула впервые не столь оригинальная уже, но очищенная от «идеологических составляющих» мысль. – Это ведь можно сделать, чтобы – для всех и навсегда. И далеко не только это!» Подумал так – и словно сторожевая программа в мозгу сработала, отсекла крамольную мысль.
Чисто автоматически, чтобы не уходить без покупки из этого «эльдорадо», приобрел две книги из сотни тех, что хотелось – том Гумилёва «Выжженная земля» (здешний Николай Степанович провоевал в Белой Армии с первого до последнего дня, закончил её капитаном и между боями ещё успел написать (как Лермонтов на Кавказе) пять новых (хорошо звучит, если вдуматься) сборников стихов и три сотни страниц продолжения «Записок кавалериста».
Вторая книга, от которой не нашлось сил отказаться – «Повести» Алексея Толстого: «Аэлита», «Гиперболоид», «Союз пяти». Названия с малых лет знакомые, но, во-первых, каждое из этих произведений минимум вдвое больше по объёму, а вовторых – стоило лишь бегло просмотреть – написаны совершенно не про то, в смысле – с совсем других идеологических и эстетических позиций. Но при этом – и названия остались прежние, и общее направление замысла. Интересно…
Увлекательные, будто у Ливингстона[70], вдруг увидевшего водопад Виктория, открытия продолжались и дальше.
Президент оказался на углу Кузнецкого и Большой Лубянки. Знаменитое, вошедшее в фольклор здание выглядело совсем не так. То есть именно так, как с самого начала, когда было построено страховым обществом[71] «Россия». В два раза меньше и без облицованного гранитом цоколя. Напротив тоже не оказалось громадной многоэтажки того же ведомства. С Кузнецкого моста и до того места, где должен бы стоять «Детский мир», протянулось несколько вплотную стоящих трёхэтажных домов в стиле «николаевского» ампира первой половины XIX века. Во дворы вели несколько глубоких тёмных подворотен. Совершенно другой антураж. И вместо самого «Детского мира» – тоже что-то совсем другое, под стиль окружающей архитектуры. На вывеске указано – «Филиал государственного музея Изящных искусств им. И. В. Цветаева. Живопись второй половины ХХ века».
И сюда бы хорошо зайти, посмотреть. Что же там наизображали художники, без руководства партийного агитпропа, понятия не имевшие о «социалистическом реализме»? Но не сейчас, не сейчас…
Выход с улицы Никольской замыкала полностью сохранившаяся стена Китай-города. И Политехнический музей выглядел немного не так, и вообще весь примыкающий район. Пожалуй, что намного лучше, гармоничнее. Москва похожа именно на Москву, а не на винегрет из бессмысленно перемешанных элементов современной застройки десятка европейских и азиатских столиц, причём – в самом безвкусном варианте. Выходит, частные застройщики и здешняя городская Дума лучше понимали в архитектуре, чем все идеологические отделы ЦК ВКП (б) – КПСС за семьдесят лет. Ну да, здесь же никто не озабочивался целью «превратить Москву в образцовый коммунистический город»! А потом в столь же «образцовый капиталистический».
Что ещё заставило задуматься Президента – удивительная сохранность и даже щеголеватость любого, какое ни взять, здания. Такое впечатление, будто их ежегодно штукатурят, красят, какие нужно – очищают пескоструйными аппаратами. И тротуары, и мостовые тоже – ровные, гладкие, чистые, без единой выбоины и следов «латочного и ямочного ремонта». Как же это городская Дума и градоначальник ухитряются изыскивать средства на всю эту бессмысленную с «креативной» точки зрения косметику? Сколько же казённых и иных денег спокойно проплывает мимо карманов чиновничьей рати, «жадною толпой стоящей у трона», подрядчиков и посредников?
Невероятно! Президент, при всём его врождённом идеализме с первых дней вступления в должность (и даже ранее того), отчётливо понял, что хоть как-то руководить страной возможно в одном единственном случае – если вести себя со всеми более-менее влиятельными стратами точно так же, как с вождями национальных республик. Позволять им практически всё – любые нарушения якобы действующих в стране законов, любой произвол в отношении подчинённых и подконтрольных им людей в обмен на хотя бы видимость лояльности. Да и то до определённого предела такая система срабатывает, и, видимо, не у всех. В его случае этот предел достигнут. Политика «умиротворения элит» провалилась, рухнула так же, как предвоенная англо-французская политика умиротворения Гитлера.
Он не сумел больше удовлетворять всех. Реально нарушил финансовые и политические интересы одних группировок, создал ощущение опасности и нестабильности для других, не доказал способность и готовность наказывать за невыполнение своих же распоряжений и указов. И вдобавок не оправдал надежд на обещания «твёрдой рукой обуздать преступность и коррупцию» у большинства народа. Вот и получил. Не захотел послушаться Ляхова и его… руководителей, вдохновителей, покровителей? Побалансировал ещё немножко на катящемся в пропасть колесе, ну и!..
Лежать бы ему сейчас на цинковом столе морга с простреленной головой, в окружении стилистов, готовящих «скоропостижно скончавшегося Президента» к пышным государственным похоронам. Или – просто в овражке позади «Охотничьего домика», с вывернутыми карманами, вздумай заговорщики не заморачиваться с обоснованием легитимности своего переворота. Пиночет вон ликвидировал Альенде без всяких «легенд» и правил потом двадцать лет при полном одобрении «мирового сообщества».
От этих мыслей, от ярко представленной зрительно картинки вдруг стало ему сильно не по себе.
Он шёл уже по Никольской, приближаясь к ресторану «Славянский базар», чья вывеска была видна издалека. Сюда он, только что поступив в аспирантуру, привёл девушку, отчего-то не ставшую его женой, и они долго вспоминали, кто из великих здесь бывал до них, как Станиславский с Немировичем-Данченко придумали здесь свой МХТ, и дружно удивлялись, отчего нынешний МХАТ носит имя Чехова, а имена его основателей отданы почему-то театру музкомедии… Как говорится, и к стене не приставишь.
И ему вдруг захотелось вновь зайти туда, заказать что-нибудь вкусное и необычное на второй завтрак – время как раз подошло, да и нагулялся он порядочно. И непременно – маленький графинчик, прогнать дурные мысли, отпраздновать новый день рождения. Погода вокруг как раз та, по поговорке: «Кто вчера умер, сегодня жалеет!» А он вот не умер, пусть его личная заслуга в этом минимальна. Значит, за спасителей рюмку поднять. И это он тоже почти забыл – как можно посреди рабочего дня зайти в первое попавшееся заведение, сделать заказ и сидеть потом, покуривая и выпивая, совершенно не заботясь ни о служебных обязанностях, ни о «моральном облике».
Так он и сделал. И вошёл, и столик выбрал в полупустом зале у окна, где тот раз сидел с подругой. А с тех пор больше и не бывал… Сейчас всё вокруг было совсем другое, кроме планировки зала и зданий на другой стороне улицы. Заказ продиктовал исполненному самоуважения официанту. Да, пора извлечь из запасников памяти – в ресторанах, здесь, как и «дома», официанты, но в трактирах – половые, у стоек – не бармены, а «целовальники»[72].
Президент успел дождаться своего графинчика и положенной закуски, официант налил «первую» на две трети, и тут в зал вошёл новый посетитель. Мужчина слегка за сорок, высокий, подтянутый, с хорошим, настоящим, не курортным загаром. Что-то в нём было от англичанина позапрошлого века или от царского гвардейского офицера, даже точнее – генерала графа Игнатьева, автора знаменитой книги «50 лет в строю». Коротко подстриженные светло-русые усы, правильные, можно сказать – мужественные черты лица, причёска, говорящая о высшем разряде занимавшегося ей парикмахера. Что ещё? Отлично сшитый костюм цвета светлого хаки с красноватой искрой, подходящего качества светло-коричневые туфли. И – лёгкая хромота.
Всё это Президент успел рассмотреть и оценить за то время, пока мужчина снимал шляпу «Стетсон», стягивал с рук тонкие перчатки, ставил в специальную стойку красивую трость с изогнутым, по всему судя – серебряным набалдашником. Весьма элегантный господин, «с положением», сделал вывод Президент, заодно отметив, что консерватизм здешнего общества проявляется не только в дизайне автомобилей, но и в моде, мужской и женской, стилистически колеблющейся вокруг базовых моделей 20-х-30-х годов, как в его мире та же мода почти сорок лет так или иначе подражает стилю 60-х-70-х.
Вроде бы не было ещё никаких оснований, но Георгий Адрианович явственно ощутил, что данный персонаж явился сюда не просто так, и непременно какой-то контакт между ними должен произойти. Отчего он так решил – неизвестно, но интуиция у политиков обычно развита сильнее, чем у среднестатистических людей, им ведь часто приходится принимать решения по вопросам, в которых они профессионально не разбираются и не имеют времени осмысленно взвесить все «за» и «против».
Президент не ошибся. Хотя большинство столиков в зале были свободны, но новый посетитель принадлежал, очевидно, к тому типу людей, что не могут существовать вне общества (вроде муравья, который в одиночном заключении немедленно погибает, даже будучи снабжён всеми видами довольствия), и непременно подсаживаются к кому-либо. А на железной дороге терпеть не могут спальных вагонов с одноместными купе и всегда берут билеты в двух– или даже четырёхместные.
Вошедший, не колеблясь, твёрдым гвардейским шагом направился к столику Президента, резким движением наклонил голову, обозначив приветствие, и мягким баритоном осведомился, не занято ли место напротив.
Тот неопределённо пожал плечами, давая понять, что место, конечно, не занято, но ведь и вокруг полно совсем свободных столов и стульев.
– Понимаю-понимаю, – сказал незваный гость, тем не менее присаживаясь и делая знак официанту – мол, мне прямо сейчас «того же самого». – Оторвал от размышлений или вообще не любите, когда вам во время еды в рот заглядывают? Однако древние греки и те же римляне считали, что настоящая беседа бывает только застольная и никакая иная…
Президент не согласился и не возразил, промолчал, но из вежливости дождался, когда его визави тоже принесут графинчик, только тогда поднял свою рюмку.
– Позвольте представиться – Игорь Викторович Чекменёв, генерал от кавалерии, – мужчина изобразил своей рюмкой встречное движение, но чокаться не стал.
«Тоже своеобразная форма вежливости, у нас не принятая», – подумал Президент и выпил. Водка оказалась чрезвычайно хороша, то ли своими органолептическими качествами, то ли потому, что он давно не выпивал вот так, неофициально, по движению души.
– Генерал? А выглядите слишком молодо для вашего чина, – счёл он нужным ответить теперь уже сотрапезнику. – Я думал – подполковник примерно…
О том, при чём в XXI веке кавалерия, он спрашивать не стал, стараясь сохранить личину местного жителя, но понимая, что слишком долго делать это не удастся: его выдавало произношение, здешние москвичи говорили неуловимо, но иначе. И словоупотребление подчас сильно отличалось. Разве что за хорошо владеющего языком иностранца с той стороны земного шара, не слишком осведомлённого в текущих реалиях, удастся себя выдать, особенно имея в виду, что и одет он «не по-здешнему».
Ага, за Воланда, консультанта…
– Если служишь с младых ногтей, да в действующих частях, для моих лет чин в самый раз. И в тридцать, случается, в генералы выходят. Вот ваш знакомый полковник Ляхов наверняка скоро новые погоны примерит…
– Вы, значит, из той же компании? – почти не удивившись, спросил Президент. – То-то я и думал – как легко меня баронесса Герта отпустила «на воле» погулять. Только верёвочку прицепила длинную и практически невидимую. Вы что, всё время за мной шли, чтобы здесь встретиться?
– Зачем бы я сам, как филёр, за вами болтался? Я всё же целый начальник всех разведслужб Империи и заодно управляющий Собственной Его Величества канцелярии… Вроде как Бенкендорф и ваш Берия в одном лице. У меня контора тут неподалёку, вот я быстро и появился, когда доложили, что вы здесь обосновались. Удивительно, что вас ноги как раз сюда привели, а не в противоположную сторону, а остальное что ж? Тому, что вас сопровождали, зачем же удивляться? Мы не настолько безответственны, чтобы допустить хоть малейший риск для своего Высокого гостя…
– Так я же тут инкогнито, и день, и центр города, а уголовной преступности у вас практически нет, и городовые, куда ни глянь, в поле прямой видимости…
– Я не имею права допустить даже теоретически маловероятной случайности. Даже из зоны отрицательных вероятностей…
– Что значит «отрицательных»? – удивился Президент. Он рад был сейчас говорить на отвлечённые темы, чтобы успеть собраться с мыслями и выстроить линию поведения. Не зря же к нему подослали столь значительную персону. Сочли флигель-адъютанта Ляхова недостаточно авторитетным?
– А это, знаете, из трудов одного нашего весьма авторитетного философа почёрпнуто. Весьма учёный человек, чтобы его понимать, лично мне напряжение всех умственных и даже физических сил требуется. Однако эта философема довольно простая. Вероятность выпадения любого сочетания точек при бросании игральной кости равна 1/6. Согласны? Вероятность того, что кость станет на ребро или развалится при ударе, стремится к нулю. Что одновременно выпадут две разные цифры, строго равна нулю, так как не соответствует априори информации о поведении системы. А вот вероятность выпадения семёрки отрицательна: она противоречит самому определению системы «игральная кость». То есть выходит за пределы пространства допустимых решений[73]. А мы с вами сейчас находимся в ситуации, когда пространство этих самых решений… – Он дёрнул щекой и не стал развивать тему. – Вы же не можете пожаловаться, что вам досаждало сопровождение? Ваши охранные структуры, насколько мне известно, работают куда грубее и непрофессиональнее… Я делаю вывод из того, что мне нынешней ночью доложил полковник Ляхов о событиях на вашей даче и вокруг. А мои люди вас вели настолько плотно, что любая случайность действительно исключалась. Даже если бы вам на голову начал случайно падать кирпич, нашлось бы кому разнести его вдребезги выстрелом. То же касается и внезапно вывернувшегося из-за угла автомобиля…
– Что ж, благодарю за заботу, – кивнул Президент. – Ну и к чему это всё? Не могли просто зайти туда, где я ночевал под присмотром ваших красных девиц?
– Мог бы, – легко согласился очередной за истекшие сутки генерал, вмешивающийся в дотоле размеренную президентскую жизнь. – Только не захотел. Здесь, по-моему, куда приятнее обстановка, – он обвёл рукой зал со всем его золотом, лепниной, роскошными шторами и мягким непрямым предполуденным светом.
Действительно, получше, чем в квартире, которая из-за своих магических свойств заставляла всё время непроизвольно держаться настороже. Вроде как под стрелой работающего крана.
– И к себе в Кремль приглашать тоже счёл неуместным, – продолжал «Бенкендорф». – Нет, на нейтральной территории самое то для первого знакомства. И за хорошим столом ведь лучше, чем за канцелярским? Лично я чувствую себя более свободным.
– Пожалуй. И о чём же мы говорить будем?
– О чём же ещё, как не о делах ваших скорбных? Всё я знаю, полный расклад ситуаций и на той стороне и на этой мне известен. Даже результаты допроса вашего пленника мне успел доложить ваш Ляхов, именуемый также Фёстом.
– Уж не вы ли к случившемуся руку приложили? – осенённый не такой уж невероятной мыслью, спросил Президент.
– Не мы, уважаемый Георгий Адрианович, – с полной искренностью ответил генерал. – А те, кто прошлым разом вздумал путём устройства тоже весьма масштабного путча тогда ещё претендента на престол, Олега Константиновича, ликвидировать и весьма своеобразный политический строй у нас внедрить. Они ведь, те люди, вместе с тяжёлыми танками и очень хитрой аппаратурой с вашей стороны тот раз к нам пришли. Отпор получили, скажу не стесняясь, сокрушительный. Почти безоружные офицеры на улицах танки жгли, такие, что нашим конструкторам и в страшном сне не могли присниться. Сейчас разобрались, клепают понемножку собственные аналоги… Так вот, исконные враги любой, я подчёркиваю – любой дееспособной российской государственности сейчас отсиделись, зализали раны, решили вторую попытку предпринять, с другого конца…
Генерал закурил папиросу, посмотрел на Президента с отчётливо читаемой насмешкой.
– Нет, Георгий Адрианович, мыслите вы в общем широко, масштабно и с воображением. Вполне логичное предположение, что и в прошлый, и в нынешний раз решили мы сначала своего Великого князя, теперь вас припугнуть и заставить подчиняться своим правилам, принятым в любых спецслужбах, начиная с Тайного приказа Алексея Михайловича. Могли бы, конечно, опыт есть, но вы и сами всё наилучшим образом устроили. За пять лет восстановить против себя большинство элит, и даже вечно нейтральных обывателей, у вас отчего-то называемых «средним классом», – это уметь надо. На мировой арене не обзавестись ни одним мало-мальски боеспособным и авторитетным союзником! И одновременно не суметь создать хоть что-то похожее на приличную, лично вам преданную спецслужбу. Я, не хочу хвалиться, когда Великий князь приказал, вот этими руками и этой головой гвардейскую контрразведку переформировал, тайные оперативные отряды «Печенег» создал, с подготовкой выше мирового уровня. И военно-политическую организацию «Пересвет» с функциями тайного Генштаба, замаскированную под «Общество ревнителей российской истории».
Девушки наши, столь ваших приятелей впечатлившие, да и вас лично, если не ошибаюсь, от смерти или плена спасшие, – из этих самых, «печенегов». Всего в три года уложился, хотя трудностей поначалу было побольше, чем у вас. Вы ж в любом случае – законная государственная власть, а мы тогда тоже, считай, заговорщиками были, пусть и в рамках Конституции. Тогдашнее «демократическое, парламентское» правительство нас почти официально к антигосударственным преступным группировкам приравняло. Ловило и сажало наших людей за пределами Московского военного округа беспощадно, с неестественной даже для «мягкотелых либералов» свирепостью. И ничего, справились. А вы… Не знаю. Старательно повторили все ошибки Николая Второго, имея перед глазами опыт Сталина, о котором я, к слову, тогда понятия не имел…
– Ну и примеры вы привели, – поморщился Президент. Официант, наконец, подал расстегай, кулебяку и «поросёнка жареного, в винном соусе с трюфелями, фаршированного каштанами». Захотелось Президенту попробовать одно из имевшихся в меню экзотических блюд, в его предыдущей жизни не встречавшегося. Игорь Викторович ограничил свой заказ холодным мясным ассорти да набором розеток с разнообразными соленьями «под водку».
– Примеры как примеры. – Генерал, хоть и от кавалерии, но, очевидно, занимавшийся людьми гораздо основательнее, чем лошадьми, приглашающе поднял очередную рюмку. – Я ведь совершенно не имею в виду всякие там идеологии и даже мораль. Тем более – чужого мира. Но с первых офицерских звёздочек усвоил – спецслужбы – это инструмент. Хорошим топором можно дом, церковь построить и даже карандаши точить, только вот часы чинить не получается, вещица больно мала. Можно и головы рубить. Смотря в чьих руках сей инструмент окажется. То же самое и о Гитлере вашем можно сказать – РСХА[74] по его поручению не имеющие никой специальной подготовки люди выстроили образцово, и тоже за три-четыре года. Правда, в итоге русский НКВД всё равно лучше оказался. А вы вот не сумели. Демократические убеждения помешали?
– Да, если хотите, – вскинул подбородок Президент. – Мы слишком хорошо помним, к чему приводило всевластие спецслужб. И я никогда не допускал мысли, что Россия опять может стать полицейским государством.
– Ну-ну, – усмехнулся Чекменёв. Он почти не курил, поджигал папиросу, делал одну-две затяжки, дожидался, пока она сгорит до картона, и тут же брал из коробки новую. Процесс ему нравился, что ли? Вот и сейчас он повторил свою операцию, медленно выпустил дым поверх головы собеседника. – Вы не обижайтесь, мне просто крайне забавно вас слушать. Хоть одна страна в мире после крушения вашего социализма распустила свои спецслужбы? Или хотя бы подвергла их публичному поруганию и оплёвыванию? А в них что, ангелы работали и работают?
Видите – приходится с прискорбием признать, что ваша страна – уникум! В лес на медведя собрались, а патроны с пулями и картечью повыбрасывали. Тогда и армию следовало бы распустить, как ваш Ленин писал – «заменить всеобщим вооружением народа». Где-то он и прав по-своему – армия ведь ещё более мощный инструмент насилия и подавления личности, чем полиция. Вам что, неизвестны диктатуры, опиравшиеся именно на армию? А создатель свои собственные «органы» всегда в узде держать способен, если не дурак, конечно, и в людях разбирается…
Про «дурака» было сказано походя, Игорь Викторович, похоже, и не задумался, как его слова воспримет собеседник.
– Но подождите, – обещающе улыбнулся генерал, – ваши оппоненты, если сумеют власть захватить, быстренько объяснят всем, вам в том числе, что «демократия» – продукт исключительно пропагандистский, экспортный. Расстреливать и вешать они будут всерьёз, о «справедливых независимых судах» даже не вспомнят. О подобных вещах вообще вспоминают только в период предвыборной борьбы, если правитель настолько недальновиден, чтобы подобную ерунду вообще допустить.
– Вы что же, демократию и всё ей сопутствующее в корне отрицаете? – не донёс вилку до рта Президент.
– Конечно. За пределами уездного самоуправления и казачьих Кругов. В любом другом случае ваша демократия – то же самое, что гильотина как лекарство от перхоти.
– Нет, я никак не могу с вами согласиться. Пусть у нас в России общество ещё не дозрело в силу известных причин, но ведь пример развитых демократий Запада…
– Не собираюсь втягиваться с вами в политическую дискуссию. У меня для этого нет ни времени, ни желания…
– Тогда зачем…
– Сейчас объясню, – генерал снова наполнил свою рюмку, задержал в воздухе графинчик в наклонённом состоянии. – Вам – плеснуть? Нет? Ну, дело хозяйское. Да вы ешьте, ешьте, одно другому не мешает. Знаете ли, я не дипломат, предпочитаю с людьми говорить прямо и откровенно. Если кому-то, например, высшая мера отчётливо светит, я никогда не стану врать, что «всё будет зависеть от вашего поведения, следствие и суд учтут чистосердечное раскаяние» и прочую ерунду. Вот и мой сюзерен, и сотрудники среднего звена как-то неотчётливо с вами разговаривали. Постараюсь исправить их недоработки. Расставим все точки, и всё станет ясно и прозрачно…
Президент вдруг почувствовал себя очень неуютно. На самом деле оно, может, и порядочно – сразу и прямо заявить человеку, что он непременно будет повешен в самом недалёком будущем и любые надежды – тщетны, но уж как-то слишком жестоко. И почувствовать себя в роли такого приговорённого без права апелляции и помилования было весьма муторно. Он ведь Президент великой державы, в конце концов, с ним нельзя так!
А внутренний голос вдруг как-то мерзко хихикнул, а потом отчётливо произнёс: «Да какой ты, на хрен, сейчас Президент? Сам ведь всё понимаешь. Скажи спасибо добрым людям, что спасли, обогрели, денег вон дали… Девушка, между прочим…» И ничего нет правильнее сейчас, чем выпивать и закусывать, выслушивая, что ему намеревается сообщить этот здешний кардинал Ришелье. Не покуражиться же он сюда заявился? Тут же вспомнилась и подруга, с которой они сидели здесь вечность назад, и она (тоже неправильный вариант, должно бы наоборот), читала ему стихи Гумилёва. Он, наверное, потому и купил сегодня его сборник, что подсознательно вспомнил Селену (да, вот такое у неё было необычное имя) на час раньше, чем увидел вывеску ресторана.
И голос Селены вспомнился, и глаза её, и лежащая на столе рука, то сжимающая, то отпускающая массивную серебряную спираль для салфеток… А правда, отчего у них так ничего потом и не получилось? Могла ведь случиться совсем другая жизнь…
«…Да, о чём там говорит этот мужчина, так похожий на графа Игнатьева?»
– Я хочу, чтобы вы поняли, Георгий Адрианович, вы сейчас располагаете полным веером степеней свободы. Ещё вчера утром у вас их не было, точнее – вам не позволяла их видеть ваша должность… Давайте попробуем бегло пройтись по вариантам. Самое простое, и для большинства персон, оказавшихся в вашем положении, самое приемлемое – остаться у нас, совсем. Со всеми подобающими вашему предыдущему рангу правами, привилегиями, пожизненным цивильным листом[75]. Так сказать – личный гость Императора. Семью можете сюда забрать или новую завести, как ваш друг Мятлев вознамерился…
– Что? Леонид? Да как же? – поразился Президент, эта совершенно незначительная новость потрясла его едва ли не больше, чем предыдущие слова начальника царской канцелярии.
– А что такого? Сжигать мосты так сжигать. А баронесса Витгефт наверняка его предыдущей жене сто очков вперёд даст. Не говорю о внешности, но и все прочие качества… Но вас это пока должно волновать гораздо меньше, чем мои следующие слова. Итак – вы можете остаться здесь и просто забыть о всех и всяческих проблемах…
– Подождите, а Россия?!
– В данном случае это вас заботить не должно, по условию задачи. Что-нибудь там наверняка произойдёт, конечно, но уже без вас.
Второе – вы соглашаетесь принять нашу помощь, скорее военную, чем политическую, вы понимаете. О политической имело смысл говорить две недели назад. Все стратегические и тактические варианты предстоящих действий будут рассмотрены с вашим участием и ваших друзей, естественно. Как находящихся здесь, так и остающихся там. Помощь мы вам окажем, в том смысле что все организаторы, исполнители и соучастники имеющего место быть путча… Да-да, именно путча, будем называть вещи своими именами… Так вот означенные лица будут разоружены, ликвидированы или существенно ограничены в так называемых «правах человека». Да и в элементарной свободе передвижения тоже. Лет на двадцать ближайших. А вместо оказавшихся недееспособными оргструктур – сформированы новые, при нашей помощи и под вашим контролем.
Президент обратил внимание, что его визави весьма свободно ориентируется в реалиях «параллельной жизни» и при каждой возможности не скрывает своего к ним пренебрежения, если не сказать больше. И с таким человеком он должен заключать какие-то соглашения? Это же царский сатрап эпохи военного феодализма, боярин Ромодановский какой-то…[76]
Генерал явно прочёл мысли Президента на его лице, но только слегка усмехнулся в ответ, опять выпил рюмку.
«Четвёртая», – отметил про себя Георгий Адрианович. Здесь, очевидно, как в прежней царской России, употребление спиртного в служебное время административным правонарушением не считалось.
– Далее. В случае категорического расхождения наших с вами точек зрения – ну, допустим, вы отвергнете один вариант, а второй назовёте «интервенцией», «оккупацией», еще каким-нибудь неприятно звучащим словом – мы сделаем то, за что никто не сможет нас упрекнуть. Даже Высший судия. Ведь это он впервые сформулировал понятие свободы воли? Вот, на основании совпадения вашей и наших воль вы будете возвращены в исходное состояние по месту и времени, либо вам будет предоставлено, согласно Женевским и Гаагским конвенциям, право выехать в любую страну вашего же мира, причём – за наш счёт и с нашей охраной. Вы не можете не оценить справедливости и гуманности сделанных вам предложений…
Да, вот сейчас его прижали по-настоящему. Всё предыдущее было деликатным, так сказать, зондированием почвы, а сейчас этот «генерал от кавалерии» отбросил все приличия и грубо взял за горло. Но Президент ещё пытался сохранять лицо.
– В исходное состояние? На мою дачу, под пули заговорщиков? Не то ли это самое, что бросить замерзающего путника в зимней степи, в окружении голодных волков…
– О, какой превосходный, наглядный образ. Только – не по месту и не по делу. Вам как раз предлагают и место в тёплом бронированном автомобиле, и ружьё, даже пулемёт, чтобы от названных волков отстреливаться. Но самое-то главное – что вы должны понимать без специального разъяснения – к моменту, о котором мы говорим, вы подошли самостоятельно, без всякого с нашей стороны вмешательства. Хотите, я поясню? Не люблю, знаете ли, недоговоренностей. За время вашего правления вы успели: первое – разочаровать «демократически настроенную» публику своим нежеланием сразу и в полном объёме внедрить в стране стопроцентно «европейский образ жизни». Как это у них? «Независимый суд, свобода прессы, отставка Президента и роспуск Государственной думы, новые честные выборы под международным контролем, свободу всем политическим и вообще неправосудно осуждённым узникам, абсолютный приоритет прав меньшинств над большинством, иностранных законов над внутренними…» Так, кажется?
– Вы что, ежедневно наши оппозиционные СМИ изучаете?
– Служба такая. Вы ведь, наверное, хоть краткие экспозе по вопросам международной политики ежедневно просматриваете? Ну и я, соответственно. Оно бы мне сто лет не нужно, так обстоятельства вынудили. Государь поручил мне личное кураторство над операцией, а я спустя рукава работать не привык. И, простите, – это Россия ведь рядом, «за забором», униженная, искромсанная, погибающая, не какая-нибудь там Швеция или Персия…
Но продолжим. Итак, вы пожеланий «демократически ориентированной» части общества не выполнили, и теперь все ценители «прав и свобод» с восторгом поддержат ваше свержение и даже механическую ликвидацию. Не задумываясь при этом, что аналогичный период и в вашей и в нашей истории уже был. Февраль семнадцатого и так далее.
Так называемый «консервативный» политический фланг вас ненавидит по строго противоположной причине. Растолковывать не буду, сами всё понимаете. Но он тоже принял активное участие в подготовке вчера случившегося.
Так называемые «силовые структуры» недовольны, что им не предоставлена вся политическая и экономическая власть в стране. «Бизнес-класс», капиталисты и буржуазия по-нашему, возмущены как раз тем, что «правоохранительные органы» вообще до сих пор существуют и мешают «конкретным пацанам» хоть в Думе, хоть в Правительстве всё решать «по понятиям», до сих пор, хоть иногда, пользуются каким-то там «уголовным кодексом». Их устраивает только раннее средневековье с собой в качестве баронов и баронскими дружинами в виде личных «ЧОПов», так эти банды у вас называются?
И куда вам бежать при таком раскладе, ваше высокопревосходительство? Я вам так скажу – нельзя пытаться сидеть сразу на четырёх стульях с подпиленными ножками и при этом жонглировать взведёнными гранатами. Определяться надо с приоритетами и потом уже идти до конца.
Президент был поражён даже не темой и тональностью разговора, а тем, насколько этот генерал владеет не только обстановкой, но и терминологией, принятой в совсем другой стране. Но надо держать себя в руках, продолжать делать вид, что их беседа имеет исключительно академический характер. Беседа, так сказать, в кулуарах двух участников научно-политического симпозиума.
– И какой же приоритет в моём положении избрали бы вы?
– А что тут избирать? Всё уже, путём длительных экспериментов, с привлечением исторических аналогий, изучено и приведено в соответствие с нашим, российским «модус вивенди»[77]. Самодержавная власть при полном комплекте общедемократических свобод в жёстко обрисованных и всенародно одобренных рамках. Мощный полицейский аппарат и армия, способные решать любые задачи в любом уголке Земного шара, если потребуется, без оглядки на «привходящие обстоятельства». Вся суровость законов для тех, кто не желает жить по правде и справедливости, и полная преференция благонамеренному обывателю. Вы, наверное, не знаете, что у нас для лиц, занимающихся любыми разрешёнными промыслами и не использующими наёмный труд, вообще никаких налогов не предусмотрено? Ни с прибыли, ни с оборота, ни подушного даже. Такого, кстати, нигде в мире не практикуется. А если ещё законопослушный гражданин знает, что власть всегда будет на его стороне в конфликте с «сильными мира сего», чего же ради ему против такой власти бунтовать в голову придёт? А в вашем случае я вот что ещё скажу – если бы за три дня до отречения Николая Второго комендант Петрограда прекратил начинающуюся смуту любыми средствами, так не было бы ни в моей, ни в вашей истории всем известных и крайне трагических моментов. Всё та же непосильная для интеллигента дилемма – сейчас своими руками несколько сот человек устранить или потом десятилетиями по миллионам невинно погибших и об упущенном историческом шансе слёзы лить…
Игорь Викторович откинулся на спинку стула, выпил пятую рюмку и принялся задумчиво жевать солёный груздь.
Он явно давал возможность Президенту обдумать озвученный ультиматум (чего уж тут деликатничать) и принять решение здраво, не теряя при этом лица.
Вот в чём сейчас главное – не потерять лицо. Георгий Адрианович всё уже решил. Вариантов ведь действительно не было – сдать страну подонкам общества, ничуть не лучшим, чем большевики в семнадцатом, а самому «из уютного далёка» наблюдать, что там происходит – это кем же надо быть? У врангелевцев хоть одно оправдание было – они покинули Родину, исчерпав все силы и средства для сопротивления, а у него? А самое-то главное, судя по решительности этого Чекменёва, и Фёста, Секонда, каждой из девушек-«печенегов», наконец, они не отступятся. Сами с мятежом покончат и уже собственную власть установят, без оглядок на него или «общественное мнение», которого в России как не было, так и нет. Чем этот самый Фёст-Ляхов не кандидат в президенты? Мало ли, что всего капитан, или даже полковник. Наполеон тоже ни в МГИМО, ни в Госакадемии управления не обучался, без революции так бы и остался в капитанах до пенсии.
Так что жить и работать вместе, хочешь не хочешь, придётся, и не один, будем надеяться, год. А пока придётся соглашаться на предложенные условия. Но так, чтобы стыдно потом не было.
Глава девятая
Если утром, вернее, ближе к обеду, Фёст с Людмилой встали, так и не прикоснувшись друг к другу (что не помешало им чувствовать гораздо большую близость, чем накануне), то Мятлеву на этот раз повезло.
После того как они с Гертой оказались связаны общей, так сказать, судьбой и вместе побывали на краю смерти, не уронив в глазах друг друга собственного достоинства, Леонид Ефимович осмелел. Вернее, решил, что прежние условности можно забыть. Они теперь настолько нечужие люди, что стесняться уже незачем, можно называть вещи своими именами. Тем более из самых первых своих контактов с женским полом он вынес чёткое убеждение, что девушки в большинстве своём хотят того же самого, просто у них сильнее развиты кое-какие предрассудки, ну и осторожности больше в силу известных причин. И, значит, чтобы добиться желанной цели, не нужно обращать внимания на ритуальные заклинания: «Не надо», «не смей», «не хочу», «что ты себе…»…
Как-то по молодости он поверил, что подобное говорится взаправду, и был крайне удивлён, разочарован и расстроен, когда через некоторое время девушка, которую он «не тронул», досталась приятелю, с которым Лёня соперничал за её внимание. Вот тогда знакомая постарше и поопытнее объяснила, что в большинстве случаев «синдром недотроги» – разновидность церемониала, ибо, как учил Конфуций: «Искренность без церемониала – просто хамство». Девушки сами во время такой игры боятся перестараться и потерять поклонника.
Мятлеву очень ярко вспоминался момент, когда Герта позволила ему почти всё и оттолкнула в самый последний момент. Правда, оттолкнула очень убедительно. Ну, так то были совсем другие обстоятельства.
После вечерней прогулки, когда в квартире стихли голоса и прекратилось хождение, он очутился возле комнаты Герты и бесшумно приоткрыл дверь, проскользнул внутрь и материализовался возле валькирии, как раз начавшей раздеваться перед раскрытыми, зеркальными изнутри дверцами платяного шкафа. Оттого и не сразу заметила (или – сделала вид) появление поклонника. Обернувшись, изобразила полное недоумение и даже смущение, попыталась прикрыться платьем, только что стянутым через голову.
– О! Ты откуда взялся? Тебя в школе не учили, что нехорошо за девочками подглядывать? Давай, иди отсюда. Правда-правда, я спать хочу. Набегалась за весь день с вами…
Мятлев же уходить категорически не пожелал. Невзирая на слабое сопротивление, отнял у Герты и отбросил в сторону платье, сжал девушку в объятиях и принялся её целовать, бормоча бессвязные слова любви. Убеждал, что пережитое сегодня заставило его пересмотреть всю предыдущую жизнь. Побывав на грани смерти, он стал другим человеком и теперь полностью принадлежит Герте, а она, соответственно, ему. Прямо сейчас и навсегда. Разумеется, высказывались эти истины не сразу, а частями, без логического и стилистического порядка…
Какое-то время Герта стояла, опиралась спиной о зеркало, запрокинув голову, прикрыв глаза ресницами, со смутной полуулыбкой на губах. Буря мятлевской страсти словно не имела к ней никакого отношения. Она никак на неё не отвечала, но и не препятствовала ласкам, моментами переходящими всякие приличия. Потом они каким-то образом очутились уже сидящими на кровати валькирии, и Мятлев снова рискнул, как три дня назад, достичь окончательной цели, тем более она была близко, как никогда. Девушка всё ещё не позволяла опрокинуть себя на пёстрый плед и сдёрнуть последний предмет туалета, но делала это как-то не всерьёз. Леонид знал, что при желании она могла бы отшвырнуть его до самой входной двери, размазать по стенке, вообще нанести любые несовместимые с жизнью повреждения.
Понимание этого факта особенно заводило Мятлева. Не то чтобы он принадлежал к подвиду мазохистов, скорее наоборот, но гладить плечи, спину, ноги Герты, только что, на его глазах убивавшей людей, было невероятно приятно. Возбуждало совершенно особым образом, а при мысли, чем это, наконец, может закончиться, он терял остатки здравомыслия. И даже приличий.
Герта вела свою партию безупречно. Сейчас, пожалуй, самый подходящий момент, чтобы уступить притязаниям до потери самоуважения влюблённого в неё сорокалетнего мужчины. Он не был ей неприятен, и этого достаточно, не всем же так везёт, как Насте и Людке – (с первого раза найти своего единственного, полюбить их именно как полностью подходящих тебе мужчин). Кроме того, ей было просто интересно – так ли увлекателен предстоящий процесс, как утверждали теоретические труды и рассказы наиболее искушённых сослуживец вроде Полинки Глазуновой, которая могла рассуждать на эту тему часами, причём без всякой скабрезности, просто как об одном из приятнейших времяпрепровождений. И ещё Герту крайне занимал вопрос – что и как получится дальше. После того, как… И в личном, и в чисто служебном плане.
Похоже, пылкость и немалый опыт Леонида начали и на неё оказывать нужное действие. Девушке не потребовалось играть, она просто отпустила тормоза, позволила телу вести себя, как ему хочется. Дыхание у неё зачастило и стало неровным, по телу разлилось странное, неиспытанное ранее ощущение, ей хотелось, чтобы он продолжал делать то, что делает, и сама начала ловить губами его губы, больше не протестуя против того, что его ладони скользнули, наконец, под широкую кружевную резинку и потянули тугие панталончики к коленям и ниже. Тут помешали перламутровые открытые туфли на высоченных шпильках, пристёгнутые к щиколоткам ремешками. Герте пришлось движением ног помочь Мятлеву. Тут же она откинулась на подушки, прикрыв глаза и целомудренно сжав колени.
– И на сегодня всё, – почти прошептала она. – Побаловались и хватит. Я никому ещё такого не позволяла… Уходи…
Леонид, конечно, не послушался, слишком долго он ждал этого момента и воображал его во множестве вариантов. Целуя снизу вверх загорелые бёдра девушки, он попытался их раздвинуть, и тут с ним случилось то, что бывает с каким-нибудь девятиклассником, вдруг попавшим в подобную ситуацию с девушкой постарше, вдруг предложившей «взять у неё самое дорогое»…
Но ведь взрослый мужчина, соблазнивший, по его собственным словам, не меньше сотни женщин, из них чуть ли не треть – девственниц, на самом пороге сорокалетия должен получше владеть собой?
Однако случилось то, что случилось. Мятлев был раздавлен, опозорен, и Герта, как опытный психотерапевт-сексопатолог, утешала впавшего в отчаяние, бормочущего какие-то оправдания генерала.
Раскрыла постель, дала выпить большую стопку коньяка, сама легла рядом и довольно долго шептала ему какие-то пустяки, пока Леонид вновь ощутил в себе желание и силы. Но за время её осторожных ласк и ободряющих намёков он сам наделал ей столько обещаний, что обратно пути теперь, пожалуй, и не было.
Наконец она, убедившись, что с приятелем всё в порядке, позволила ему вторую попытку. И всё получилось у них совсем не так, как совсем недавно воображалось Леониду, а спокойно и нежно, по-семейному, можно сказать.
Только в самом конце оказалось, что Герта отнюдь не «снежная королева». Вспышка получилась совсем короткой, но яркой. Вовремя сообразив, к чему идёт, она закусила нижнюю губу, чтобы не переполошить криком, который, оказывается, сдержать невозможно, весь дом.
Придя в себя, Герта подумала, что не обманывали Дайяна и старшие подруги – это стоит того, чтобы им заниматься, не по работе, конечно, а для души, как, например, Сильвия. Впрочем, та, кажется, разницы между этими понятиями не делает.
Мятлев с удивлением заметил, что в отличие от многих подобных случаев, у него не возникло чувство безразличия к соблазнённой им девушке. Скорее наоборот. Ему почти сразу же захотелось повторить то же самое, но он понимал, что для первого раза она и так слишком уж выложилась. Стоит дать ей день-другой, чтобы прийти в порядок и осмыслить новый жизненный опыт. Тогда всё будет совсем хорошо. Леонид собрался вернуться восвояси, дать возлюбленной отдохнуть, ведь вторые сутки на ногах, да ещё и на войне.
Его остановил удивлённый и снова чуть насмешливый голос валькирии:
– Куда же ты? У нас ведь, кажется, уже решено? Значит, имеем полное право спать в одной постели и ничего от людей не скрывать…
– Конечно-конечно, я просто тебя не хотел компрометировать, а так, конечно…
– Вот и прекрасно. У нас здесь ханжей нет, все всё понимают, так сказать, по факту. Ложись и спи. Для «первого знакомства» мы даже перешли некоторые границы…
«Уж ты-то – безусловно», – подумал Мятлев, но сказал другое:
– Что ты, родная? Я никогда не испытывал ничего подобного! Дай бог нам прожить вместе много-много лет и каждый день так наслаждаться друг другом…
– Кажется, ты уже заговорил слащавым языком бульварных романов. Я такого не люблю. Как будет, так и будет. Спи.
Он заснул почти мгновенно, а сама Герта пролежала целый час, а то и больше, глядя в потолок и перебирая в памяти подробности своего первого любовного эксперимента. Нет, на самом деле получилось очень и очень неплохо, только вот она отнюдь не предполагала, а тем более не собиралась сколько-нибудь надолго становиться женой или даже постоянной любовницей Мятлева. Гомеостат гомеостатом, но всё равно ему через двадцать лет будет шестьдесят – немыслимый для короткоживущего земного человека возраст! А там и восемьдесят. Не в том смысле, что она (они, валькирии) не сможет поддерживать жизнь и здоровье своих друзей и старших товарищей на должном уровне, а в том, что двадцатипяти-, ну, пусть двадцативосьмилетней (это максимум возраста, переступать который баронесса Витгефт не собиралась, Сильвия уже казалась ей пожилой), светской (а то и свитской) даме жить со стариком… Нонсенс! Анна Каренина, как известно (и Толстой вместе с ней), тоже называла Каренина стариком, а он ведь был всего на два года старше нынешнего Мятлева!
Так что у неё ещё все впереди, но год-другой она согласна исполнять роль верной жены и подруги. Нет, жены – нет! Это нужно специально оговорить.
Она встала, покурила у окна, глядя на едва забрезживший рассвет, и направилась в туалет. Вовремя придержала шаг и увидела, как из комнаты Людмилы выскользнул полуодетый Фёст. Хорошо, коридоров и комнат в квартире было много, они разминулись, Вадим не услышал её босых шагов по ковровой дорожке, и она успела отступить за угол.
Герта порадовалась за подругу, та относилась к своей влюблённости гораздо серьёзнее, чем следовало, и раз пустила к себе мужчину, значит, определилась окончательно. В то же время ей стало немного грустно. Как ни крути, а теперь уже точно не узнать, каков в постели её крестник (т. е. спасённый ею командир), а каков он в бою – она хорошо узнала и запомнила. Целых два раза. Как ни сложись, у Людки-то он точно на всю жизнь, и варианта, в котором они с Вадимом Петровичем могли бы пересечься, Герта не видела. За пределами это её нравственных установок. Тут ей даже Сильвия не пример и не образец для подражания.
Подремать удалось чуть больше часа. Потом она услышала, как вышел из комнаты проснувшийся Президент, и снова подскочила. Накинула прямо на голое тело халат и отправилась на кухню. Пора было приступать к исполнению своих обязанностей – сегодня она дневальная, а Людка пусть поспит, у неё день ещё напряжённее выдался, да и «ночь любви», наверное, тоже.
Проводив Президента, Герта вернулась к себе и увидела, что Мятлев всё же сбежал. Не набрался духа, когда все проснутся, гордо выйти из её комнаты с победительным видом. Ну и хорошо. Теперь Герта сразу провалилась в сон. Разбудила её тихая музыка, доносившаяся из гостиной. На днях Людмила накупила в той Москве невиданных здесь лазерных дисков по 10–12 часов звучания и к ним хороший проигрыватель с большими стереоколонками. Фёст ей всё это установил, и сейчас она наслаждалась мелодиями, которые, несомненно, произвели бы фурор в их музыкальном мире. Сейчас, например, исполнялся фокстрот «Дым в глаза», от звуков которого у девушки сладко засосало под сердцем, и не только…
Подруга сидела на глубоком кожаном диване, положив ноги на соседнее кресло, неторопливо пускала в потолок дым длинной ментоловой сигареты, слушала музыку и чему-то улыбалась. Можно было бы подумать, что заново переживает случившийся ночью «фазовый переход» – от безродной девчонки-подпоручика без особых карьерных перспектив, начавшей перезревать девственницы – к настоящей женщине и в недалёком будущем – жены одного из самых могущественных людей на целой планете. Если захочет, конечно, жить там, а нет – и на этой неплохо устроится. В Кисловодске, скажем по соседку со свояченицей Майей, тоже Ляховой.
Герта подсела на подлокотник дивана, внимательно посмотрела на подругу. А ведь непохоже, чтобы у ней сегодня это самое случилось. В глазах нет этакой счастливой сумасшедшинки, почти обязательной для женщины, всего час-другой назад задыхавшейся от восторга в объятиях любимого. И губы – ну совершенно не те. Герте достаточно было мельком взглянуть в зеркало, чтобы увидеть, как это должно выглядеть. Они обе подумали об одном и том же, Людмила первая сжала левую руку подруги выше локтя и шепнула, лучась улыбкой:
– Поздравляю!
– И я тебя, – не осталось ничего другого сказать Герте. И еле-еле пробилась через наслоения куда более дежурных чувств мысль – а она ведь как-то по-особенному рада, что её крестник всё же не «соблазнил» её же лучшую подружку. Ну, неприятно ей было, при всём отсутствии сексуального влечения к Фёсту, представить, как они с Людмилой сегодня ночью… И одновременно радовало, что здесь она Людку обогнала.
Вместо того чтобы обсудить куда как животрепещущую тему, дневальная баронесса Витгефт сообщила, что объект номер раз с утра пораньше отправился прогуляться. И для сублимации, так сказать (об этом говорить можно, не задевая ничьих чувств), Герта рассказала, как она на рассвете выскочила на кухню без ничего, только в халате, заметила, что Президент как-то слишком пристально к ней приглядывается. Решила позабавиться, присела у печки, ну, как учили, и вроде бы солидный человек, Президент великой державы, потащился… Было бы отчего!
Похихикали, слегка развив эту тему в разных направлениях…
Тут и Фёст объявился, по-свойски приобнял за плечи обеих девушек сразу, без всякого патологического любопытства заглянул в вырезы халатиков каждой, то ли сравнивая, то ли просто проводя инвентаризацию – не исчез ли за ночь вверенный его попечению ценный продукт. Это, кстати, и Люда, и Герта, да и вся рота целиком, на девяносто три процента составленная из местных девушек, понимали. Если командиру уже за тридцать, а им и двадцати пяти никому нет, и врач он по образованию – так стесняться нечего. Тем более Ляхов никогда себе ничего такого не позволял, ни с кем, о чём, кстати, многие девушки очень жалели. Отдаваться или нет – каждая сама решит (если вдруг попросит), но мужское внимание каждой приятно.
– Так что наш Президент? – спросил Фёст, а Герту уже поднесла ему чашку кофе, а Люда прикурила и подала тонкую сигару.
– Ох, если б был я султан, я б имел трёх жён…
Этот фильм девушки тоже видели. Людмила исподтишка показала вроде бы мужу кулак, а Герта очень живо заинтересовалась:
– И что бы ты с ними делал? Когда двести – ясно, сачковать запросто, а трёх?
– Вам кто-нибудь разрешал обсуждать эту проблему старшего комсостава, подпоручик? – добавив в голос нужных обертонов, спросил Фёст. – На непосредственный вопрос ответьте.
– Доложила, как положено, своему прямому начальнику, за отсутствием непосредственного, и Вадим Петрович мне сказали, что всё правильно сделала, и остальное – его дело, он распорядится.
– Ну, если его, так и пусть, – с видимым облегчением ответил Фёст. – Тогда давайте завтракать. Голоден, и выпить хочется. Если б не наш инвалид детства (это он Воловича имел в виду), поехали бы в приличную точку общепита, именуемую, например, «Артистический трактир», а так – здесь придётся.
На его слова внезапно приковылял и обозначился в дверях, как чёрт из табакерки, означенный господин, выглядящий довольно прилично. Умытый и причёсанный даже.
– Во-первых, я тоже хочу в «точку общепита», а во-вторых – полученное в бою лёгкое ранение никак не повод называть меня так, как только что прозвучало.
– Это я твою политическую позицию имел в виду, – достаточно грубо, хотя и с добродушной улыбкой, сказал Фёст. – Таких, как ты, добросердечные родители в роддоме оставляют, чтоб всю жизнь не мучиться…
Волович ещё больше обиделся и начал многословно объяснять суть своей позиции, время от времени перебиваемый репликами со стороны Фёста, причём такими, что на сей момент штатские девицы жеманно опускали глазки и смущённо хихикали. Не в казарме они сейчас, чай, не при исполнении…
Господин отставной капитан не страдал даже самым отдалённым намёком на политкорректность, охотно согласился даже на титул «латентного фашиста», немедленно пояснив, что случилось бы с «господином либералом», будь Ляхов на самом деле хотя бы отдалённо близок к таким взглядам. Например, вчера. Относительный мир навела Людмила, подав всем по чарочке и кое-что закусить.
– Вот видишь, – не преминул уязвить оппонента Фёст, – вы, либералы, националисту, монархисту, фашисту и антисемиту не только бы стопарь не налили, вы меня письменно и устно изваляли бы в смоле и перьях с последующим сожжением на костре у позорного столба.
По счастью, тут появились проснувшиеся, приодевшиеся и даже побрившиеся (дамы ж вокруг!), Мятлев с журналистом Анатолием. И тоже немедленно спросили про своего Президента.
– Да если я правильно понял – он сейчас окончательные переговоры заканчивает.
– Что значит – окончательные? – не понял Журналист.
– То и значит. Либо договорится, либо вернётесь с ним туда, где были за минуту до нашего приезда, и станете ждать, чем для вас этот эксиденс закончится. Вариантов – масса!
– Жестоко, – сказал Анатолий, но с таким видом, что ясно было – ни на грамм он не верит словам Вадима. Мятлев вообще промолчал. Просто смотрел на Герту. Мол, как она скажет, так и будет. Фёст про себя усмехнулся. Перестаралась баронесса. Им всё же авторитетный, с высоким положением сотрудник нужен, которого и Министром Госбезопасности поставить можно, а то и повыше. Никак не телок, самостоятельные решения принимать не способный. Он сделал Герте незаметный со стороны жест, и она встала, направилась к выходу в коридор, попутно указав Мятлеву глазами, чтобы шёл следом. Ну, даст бог, сделает приятелю краткое внушение, как себя в офицерском обществе вести положено.
– Отчего жестоко? – удивился Фёст. – Готов принять любой упрёк, кроме того, что мы вас в эту заваруху втравили. Да, вмешались, но не согласитесь ли, что ситуацию вы сами сумели довести до такого градуса, что без нашего появления от любого из вас только малоароматный дым бы пошёл? Начинайте загибать пальцы, что случилось бы вчера с каждым, хоть по очереди, хоть кучей…
В кухне Мятлев, невзирая на своё генеральство, получил от подпоручицы, как Фёст и рассчитывал, хорошо замаскированное внушение с объяснением, что «до особого распоряжения» должен играть в своей команде, причём оставаясь «Самым большим роялистом»:
– Можешь не скрывать, что ты меня уболтал, или я снизошла, но в любом случае это только чистая физиология. А ты сейчас прокололся, хорошо, Волович с Анатолием на тебя не смотрели. Ты пока – высокая договаривающаяся сторона, а не «чего изволите»…
Журналист не успел ответить Фёсту, как Волович радостно захохотал:
– Вот вам ещё одно подтверждение бессмертности великой прозы! Что ты ещё, друг Толя, можешь ответить, кроме как насчёт «великой сермяжной правды»!?
– Она же домотканая, посконная и кондовая, – добавил Вадим, знающий названную книгу практически наизусть.
– Нет, господа, так ставить вопрос просто некорректно, – собрался с мыслями журналист.
– Некорректно или «неполиткорректно?» – иезуитски осведомился Фёст. – Как раз с точки зрения «политкорректности» всё нормально. Меньшинство решило доступными ему средствами избавиться от гнёта большинства… Что вы имеете возразить? Помнится, года два назад некоторые ревнители «прав и свобод» решили устроить в здешней, где ты сейчас находишься, Москве маленькую заварушку с целью недопущения к власти самодержца и узурпатора и, напротив, внедрения самой что ни на есть либеральной демократии высшего британского розлива. Правда, демократия подразумевалась чуть-чуть другая, чем коренные обитатели Островов пользуются. А та, что в Индии для сипаев предназначалась…
И ты бы видел, друг Анатолий, какой искренний протест и возмущение среди выживших вызвал малозначительный, в рамках мировой истории факт – поголовное уничтожение всех, выступивших против законной (в нашем понимании) власти с оружием в руках. То есть мы, слуги деспотии и реакции, против двух батальонов чеченских террористов (тогда у них ещё батальоны были, а не отделения), батальона УНА-УНСО и подготовленного немцами в ливийской пустыне танкового батальона «Леопардов», мечтавших всего лишь с применением всей огневой мощи другого двадцать первого века избавить просвещённый мир от узурпатора, выставили сводную пехотную дивизию из трёх полков – Корниловского, Дроздовского и Алексеевского. Прямо оттуда, с мест постоянной дислокации, и со штатным для конца Гражданской войны оружием… Ты бы видел результат!
– Какие ещё корниловцы и дроздовцы? – окончательно потерял нить рассуждений Журналист.
– Да самые нормальные. Оттуда, оттуда, с само́й Гражданской. Ты думаешь, лишь тебе жить хочется, а остальные так… Покурить выходили? Им тоже интересно, как через сто лет потомки живут. Тебе ведь наверняка захочется узнать, что будет твориться в две тысячи сто каком-то… Ну вот… А будешь сильно принципиальничать, всяко может случится. Учти, мы не всех воскрешаем, а только за специальные заслуги…
Излишняя резкость слов была вызвана исключительно тем, что Фёсту не понравилось, как Анатолий смотрел на его невесту. Мало ли, что они вдвоём на опасное дело ходили и сейчас Журналист никак не может привыкнуть к её естественному облику. Вообще, чертовщина какая-то творится – любая из валькирий отчего-то оказывает на мужиков нашего мира гораздо более убойное действие, чем в своём. Неужели действительно всё дело в том, что в Императорской России у людей иные взаимоотношения генотипов с фенотипами, и нету сложного коктейля шизофрении, паранойи и маниакально-депрессивных психозов, присущего почти каждому россиянину сформированному почти вековым воздействием советской власти? От этого и не вызывает вид красивой женщины «бунт гормонов», не провоцирует вспышку низменных инстинктов и неконтролируемых эмоций.
– Ребята, ребята, не спорьте. Давайте, действительно, соберёмся, и тяжелораненого с собой возьмём, и поедем знаете куда, – вмешалась Вяземская, – в тот самый «Яр», про который вы только в песнях слышали да у Гиляровского читали.
– Не имеющий никакого отношения к гостинице «Советская»[78], – веско добавил Волович. – Интересно бы увидеть в натуре. Будем считать, что у меня просто воспаление седалищного нерва… Кто из здесь присутствующих наименее брезглив, чтобы мне повязку на надёжный пластырь сменить?
– Герта вам первую помощь оказывала, вот пусть и продолжает, – отмахнулась Вяземская. Её данное занятие совсем не привлекало, и вообще она с момента первого знакомства испытывала к репортёру отчётливую антипатию, не идейного, а физиологического происхождения.
– Да ладно, я сам посмотрю. Может, там уже гангрена началась, – сказал Фёст, – а Герта со своим неполным средним медицинским и не сообразит… Ни за грош потеряем ценного кадра.
У Витгефт, как и у остальных валькирий, медицинских познаний (теоретических), было не меньше, чем у выпускника Первого медицинского, но возражать она не стала. Командир знает, что говорит.
…– Нет, всё нормально, – успокоил Вадим Воловича, – заживает, как на собаке. Ты только всей задницей на кресло не плюхайся, аккуратно садись, на краешек…
Он не стал говорить, что всё же надевал после полуночи крепко спавшему репортёру гомеостат на руку. Не хотелось ему неделю, а то и больше, возиться с пострадавшим. Но и нескольких часов работы аппарата хватило, чтобы края открытой раны сошлись и заживление пошло стремительно, первичным натяжением, без всяких швов и скобок. Ещё день-другой, и останется просто свежий шрам. И некому будет удивляться столь бурной регенерации. Исходной-то раны кроме Герты и Фёста никто не видел, даже и сам Волович, вот пусть и думают, что была просто глубокая царапина.
– Жить будешь, обормот, – грубо, как и положено военно-полевому хирургу, сказал Фёст. – Натягивай штаны. С девочками две недели забавляться не получится – шов разойдётся, и даму кровью измажешь. В остальном – противопоказаний нет.
Ляхов закурил, по извечной привычке отойдя к окну, за которым теснились крыши и внутренние дворики квартала между Дмитровкой и Петровкой.
– А как теперь жить? – неожиданно тихим и несколько даже робким голосом спросил Волович.
– Вот ты сам и подошёл к нужному вопросу, – усмехнулся Фёст. – Спрашиваешь, будто ничего не читал, «от Ромула до наших дней»[79]. В твоём возрасте пора бы достаточно устоявшуюся точку зрения на эту тему иметь. Но если не обзавёлся – скажу. Выбора у тебя ровно столько, сколько у Президента с его друзьями. Даже меньше, пожалуй. Они всё же личности самостоятельные, а ты…
– Зачем ты меня всё время стараешься оскорбить? – жалким, будто Акакия Акакиевича взялся играть в клубной самодеятельности, голосом спросил Волович. Неужто и ему не чужды движения души и понятие «совести»?
– Я – тебя – оскорбить? – вразбивку произнёс Фёст, искренне удивившись. – Не делайте мне смешно, как говорят в той Одесе[80], куда я иногда собираюсь перебраться на полупостоянное жительство. Куплю «дачу Ковалевского» над морем и буду проводить там осенние и зимние дни. Удивительно хорошо на мою психику влияют одесский ледяной ветер и зимние туманы… Впрочем, тебя это никаким краем не касается. Согласно избранному тобой амплуа оскорбить тебя так же невозможно, как девушку из борделя народным обозначением её профессии. Это, дорогой мой Миша, просто констатация факта, не более. Упомянутые девушки могут быть вполне милыми существами со своей нелёгкой биографией, заслуживающей сочувствия, но не презрения. Всё это относится и к тебе, ибо ты – живая аллегория, олицетворение прямой связи между двумя древнейшими… Разве та же Герта или моя Людмила становятся хоть чуточку хуже оттого, что их нынешняя служебная обязанность – убивать? Причём делать это они должны предельно эффективно и безэмоционально. Не забывая об общепринятых в цивилизованных странах нормах гуманизма.
– Да уж, насмотрелся я на их гуманизм, – лишённым всякого энтузиазма голосом ответил Волович.
– Вот это ты зря. Зря столь пессимистично смотришь на вещи. Будь Герта хоть немножко менее профессиональная в своём нелёгком ремесле, где бы ты сейчас был? Правильно, как говорил Рощин в бессмертном романе А. Эн. Толстого, валялся бы сейчас на навозной куче без сапог и в одних подштанниках… Поэтому нехрен обижаться. Выбор у тебя, как и у всех присутствующих – грандиозный. Получив ложку, кружку и сухой паёк на три дня возвращаетесь домой, где пользуетесь всеми плодами вновь обретённой свободы. Причём можете посмотреть на то, что там делается и будет делаться хоть со стороны «узурпатора и тирана» (так он, повторяя газетные штампы Воловича и его единомышленников, назвал Президента), но не возбраняется и с противоположной стороны баррикады… На этот случай могу выдать справку, что свою рану ты получил от рук кровавого ОМОНа…
Тон у Фёста был одновременно и весёлый, и крайне многозначительный, такой, что изощрённое политическое и чисто шкурное чутьё «звезды демократической прессы» не могло не сработать.
– Я ж тебя знаю, Вадим, – сказал он как бы на равных, – ты не на ту карту не поставишь. А если я захочу с тобой и Милой паранормальными явлениями заниматься…
– Понимаю, – кивнул Фёст. – «В случае чего – моё дело шестнадцатое. Помогал детям. И дело с концом»[81]. Не смею запретить. Такой человек, как ты, нам сгодится, ибо сам ты представляешь собой одно сплошное паранормальное явление. Только одно условие. Ну, помнишь, такое Бендер Балаганову поставил?
– Это насчёт каждой скормленной калории и массы мелких услуг?
– Конгениально, Миша! Сегодня лишь один человек из ста уловил бы и продолжил мою мысль. Именно это я и имел в виду. Если ты останешься со мной, у тебя больше не будет «левых» источников доходов. Всё, что ты получишь, ты получишь только от меня. Но зато часто и много. При одном условии – писать будешь только то, что я скажу, и печататься только в указанных мною изданиях. Если зачастую это будут взаимоисключающие вещи – тебя заботить не должно. Каждый человек имеет право на плюрализм, хотя если он гнездится в одной голове, его чаще называют шизофренией. Ничего, – успокоил он бывшего властителя дум, – псевдонимами обзаведёшься. Станет у нас много «прогрессивных»… Один дарю прямо сразу – «Старик Саббакин»[82].
– А чего? Мне нравится. Спасибо. Если интелю попадётся – усмехнётся лишний раз. Одним словом – я теперь с вами…
Фёст улыбнулся смутно, взял из коробки новую папиросу, прикурил, пыхнул большим клубом душистого дыма.
– С нами – это хорошо. Станешь работать, и никто из нашей компании тебя не попрекнёт ни словом, ни взглядом. А на остальную часть населения тебе так и так глубоко плевать было. Нет? Только вот, Миша, одну вещичку прямо сейчас сделать придётся – присядешь на целую половинку своей задницы и напишешь справочку – кто в вашей кодле непосредственно отвечал за распределение грантов, отечественных и зарубежных, какие суммы проходили, и от кого конкретно, кому сколько и за какие именно материалы полагалось, кто в правительстве и «неправительственных организациях» вас курировал, госпремии оформлял, на зарубежные конгрессы и выставки именно из вашей стаи гениев, а не, упаси бог, каких-нибудь «деревенщиков» и «патриотов» посылал. Это, конечно, на тот случай, если мы сумеем поразить врага и займёмся настоящей чисткой авгиевых конюшен… Часика за два, думаю, управишься, вон ноутбук лежит, можешь пользоваться. К Интернету не подключён, не надейся, нет в этой стране пока ещё Интернета.
О, что это ты побледнел вдруг. Тебе нехорошо? Кровяное давление враз упало? Ну, ничего, оклемаешься. Это у тебя просто нервное. Ты же, Миша, думал – об этом не спросят? Правильно – власти не спросят, им не до того. А я уже спросил. Врать не советую, выгораживать кого-то. Другие всё равно стуканут, а тебе обидно будет. Как опоздавшему… И суммы гонораров не занижай – это лично в твоих интересах, я жалованье твоё к этим исходным суммам привязывать буду. Грантик или «барашка в бумажке» от американского посла скроешь – на столько же и пролетишь. А ты ведь деньги любишь? Так что работай творчески и с огоньком. Вот сигареты, вот бутылка коньяка, шоколадка – все условия. А хоть в слове слукавишь – повторяю, вон бог, а вон порог. Едва ли тебе в посольстве, хоть США, хоть Буркина-Фасо, убежище предоставлять станут, или спецрейсом переправлять на солнечные пляжи Майями. Останешься ты наедине с суровой действительностью российского бунта… Дальше сам продолжи… В «Яр» мы тебя возьмём в следующий раз, если правильно себя вести будешь.
Вызванное Людмилой такси уже стояло у подъезда, девушки были одеты по-дневному, но почти празднично. Мятлев и журналист Анатолий тоже не выглядели особенно озабоченными случившимся вчера. Такова, к сожалению, или к счастью, человеческая натура. Сиюминутные радости ей намного дороже вчерашних забот, если, конечно, они не относятся к вещам по-настоящему трагическим, вроде скоропостижной смерти очень близкого человека.
Президентским же приятелям вообще горевать было не о чем. Леонид наконец-то достиг вершины своих притязаний и, не взирая на недавний выговор, не сводил глаз с Герты, что бы она ни делала в данный момент, Анатолию, пожалуй, тоже интересней был мир за окнами, нежели судьбы того, что остался, как выражаются американцы «по ту сторону радуги».
Несколько волновал их вопрос – где сейчас находится и что делает Президент, но тут очень кстати позвонил Секонд, сообщил, где, и добавил, что занят «высокий гость» будет до вечера. Сейчас с ним общается лично Чекменёв, а на четырнадцать ноль-ноль назначена встреча в Управлении с Тархановым и с ним тоже, очевидно, в качестве консультанта. Потому что весь проект «Мальтийский крест» генерал взял в свои крепкие руки и более выпускать не намерен, да ещё с флота интересная информация пришла, пока на уровне слухов, но касающаяся каких-то непонятных военных девушек.
– Что они там ещё натворили? – удивился Фёст. – Их вроде совсем в другие края послали…
– И тем не менее… Слухи – они и есть слухи, но когда достаточно серьёзный человек из «мокрого» разведуправления спрашивает, не задействовали ли мы своих «печенегов» женского пола в операциях против британского флота, причём на другой стороне шарика, как-то странно себя чувствуешь…
– Твои кадры, вот ты за ними и присматривай. А то непорядок – в белый Крым послал, а они где-то не там оказались… Выясняй срочно. А мои, за кого я отвечать взялся – вот, прямо передо мной навытяжку стоят, тебе воздушные поцелуи шлют и готовы выполнить любое новое задание партии и правительства. В моём, подразумевается, лице…
– Трепло ты, и ничего больше. Тут ведь правда что-то совсем непонятное. Хоть к Воронцову обращайся. Или опять Сильвию искать?
– Можно и проще. Выходи по блок-универсалу на Вельяминову, да и всё. Если они в этом мире проявились – ответит. И доложит. Дальше сам решение принимай, а меня хоть часика четыре не дёргай больше, а? Я, может, с Людмилой обручиться собрался. Прямо сейчас и при свидетелях…
– И меня не позовёшь?
– Как можно? Если имеешь возможность – по машинам! «Эй, ямщик, гони-ка к «Яру»! Лошадей, брат, не жалей!»…
Глава десятая
На ходовом мостике всё тоже шло своим чередом, то есть никак. После срабатывания генератора Френча все приборы, кроме традиционного устанавливаемого на самых современных кораблях магнитного компаса (как бы запасное колесо на автомобиле), прекратили свою деятельность, в том числе и телефоны, так что приказ, отданный вахтенным начальником, был последним, который экипаж услышал с мостика. И теперь каждый человек на крейсере был предоставлен самому себе. Или – сохранял связь с товарищами только внутри своего маленького коллектива, в пределах отсека, каземата или артиллерийской башни. Хорошо было там, где имелось естественное освещение, а ведь большинство оказалось в полной темноте, под многими этажами палуб, в глубине лабиринтов отсеков, переборок и трапов.
Когда погас свет и одновременно прервалась связь, множество групп и группок, от двух-трёх до полусотни человек, оказались в критическом положении. Оставаться там, где требовало боевое расписание и устав, или выбираться наверх? Что, если приказ «покинуть судно» уже поступил, а они его просто не услышали, и через несколько минут крейсер начнёт тонуть, унося с собой сотни задраенных в артиллерийских погребах, машинных и котельных отделениях, трюмах людей? Умирать придётся долго и мучительно, особенно в водонепроницаемых отсеках.
И наоборот – как можно покинуть свой пост без приказа? Может быть, в следующую минуту от каждого потребуется исполнить свой долг на том месте, куда он поставлен. И свет сейчас загорится, и связь восстановится – а ты уже сбежал! Трагическая дилемма.
Кое-кто естественным образом поддался панике (что интересно – паника вообще гораздо более заразительна для армий наёмных, нежели призывных, а английские и армия, и флот последние девяносто лет были исключительно наёмными) и начал пробираться наверх, в большинстве случаев на ощупь, поскольку ещё с семнадцатого века на флоте Его Величества матросам и офицерам категорически запрещено иметь при себе спички или зажигалки, вообще любые устройства для добывания открытого огня. Деревянные парусники и откупоренные бочки с чёрным порохом на батарейных палубах давным-давно исчезли, а традиция осталась.
Курить матросам разрешалось только на баке, у тоже традиционного «фитиля», теперь, правда, электрического, а офицерам – в кают-компании и нигде больше. Впрочем, можно ещё и с матросами, в общей курилке, но какой же джентльмен позволит себе такое? Это вам не российский императорский флот, где межкастовое общение, напротив, всемерно поощрялось и нередки были даже и адмиралы, мастерски «травившие» солёные байки под одобрительный хохот матросов. Разумеется, только после особой боцманской дудки (в новые времена дублируемой по общесудовой трансляции): «Команде песни петь и веселиться». В России до сих пор были сильные пережитки военно-феодального строя, и матросы и офицеры одинаково считались «слугами царя и Отечества», служащими общему долгу, а европейцы уже «цивилизовались», у них не служба, а оплачиваемая работа. Какое уж тут чувство боевого братства.
Многие, конечно, сохраняли дисциплину и верность уставам, но всё же минут через пятнадцать на открытых палубах и платформах появилось больше сотни по преимуществу «нижних чинов», быстро понявших, что крейсер фактически никем не управляется и наступило нечто вроде безвластия или, точнее, междувластия. А что ещё можно подумать и сказать, если корабль стоит без хода, никаких осмысленных команд с мостика и центрального поста не слышно, да и любой моряк прекрасно видит, что крейсер, а точнее его командование, охвачено параличом. Ощущение для военных людей несколько странное, поскольку совершенно непонятное. Большинство ситуаций представимо и подразумевает набор стандартных действий. Поход, бой, шторм, столкновение с айсбергом и тому подобное. Здесь же ничего похожего.
Все видели быстротечный бой с русскими воздушными разведчиками, но «Гренвилл» в нём не участвовал. Потом эскадра полными ходами ушла, крейсер остался на месте. Почему без хода и нет никаких общесудовых команд, кроме отмены «боевой тревоги»? Так на то начальство имеется. Можно бы на всё наплевать и заняться своими делами, пока никто не мешает, однако большинство моряков не оставляла смутная тревога. Она началась с самого выхода в море. И две сотни штатских русских, погружённых на крейсер неизвестно зачем, как-то не прибавляли здорового оптимизма.
Но безвластие есть безвластие. И среди моряков, и среди «волонтёров» нашлось достаточно людей, сообразивших, где и чем на корабле можно поживиться. А поскольку в английском флоте нет запрета на призыв ранее имевших судимости, да и вообще, почти как во французском Иностранном легионе, предъявить вербовщику можно почти любой документ, даже без фотографии, достаточное количество моряков вспомнило о своих прежних склонностях. Кому-то подумалось об офицерских каютах, где многие джентльмены хранят и деньги и часы, кому-то – о серебряных вещицах в застеклённых витринах кают-компании, а многим – просто об уставленных самыми соблазнительными бутылками стойках офицерского бара.
На крейсере было и ещё много разных мест, где кое-что можно прихватить на память. Возникали даже стычки между моряками и «пассажирами», не поделившими добычу. В них русские обычно выходили победителями. Ничего странного – на их стороне моральное преимущество, способность к стихийной самоорганизации для таких именно дел, причём в большинстве они были вооружены хотя бы ножами, а «лаймы» могли полагаться только на кулаки и подручные предметы.
Потом, наконец, началась стрельба. Из автоматов и пистолетов преимущественно, чего в нормальном морском бою просто не бывает. Кто услышал – предпочли переместиться подальше от источника потенциальной опасности. Беспорядки по уставу должна устранять судовая полиция, а вот её как раз и не осталось в дее– и боеспособном состоянии.
Часть моряков предпочли попрятаться в достаточно надёжных местах, но нашлись и такие, у которых пробудилась боевая и двигательная активность. Не меньше полусотни человек рванулись к мостику, рассчитывая, что там они получат более осмысленные команды, чем от старшин своих постов или плутонговых мичманов, в текущей обстановке совсем ничего не понимающих. А на мостике есть и командир, и старпом – уж что-то они прикажут.
Анастасия подняла руку. Её тонкий слух раньше, чем у Кристины, не говоря о Бекетове, уловил всё, что сопровождает передвижения группы людей – нездоровое и шумное от непрерывного курения дыхание, шаги, пусть и мягких резиновых подошв по бамбуковым циновкам, непроизвольное побрякивание деталей оружия о металлические и даже пластмассовые детали одежды. В общем, как написано в одной интересной книге: «Бесшумных засад не бывает». А Шурлапов организовал именно засаду – он очень точно рассчитал, что захватчики крейсера, тем более – соотечественники, пойдут именно этим путём. Национальная психология, можно сказать, грязными вонючими отсеками придонных помещений они пробираться не станут, пусть это почти безопасно, и верхом тоже не попрут – если разведчики, десантники, то осторожность проявят. А этот коридор в самый раз. И для них, и для него.
Так бы и случилось, командуй группой Юрий, а не Вельяминова.
И слух у неё был лучше, и все остальные, необходимые для такой работы качества, – тоже. Противник находился в параллельном коридоре, метрах в двадцати от неё, но это не имело значения. Они с Кристиной преодолеют это расстояние и захватят неприятеля врасплох раньше, чем он успеет об этом догадаться. Ну а если немного позже – возможно, умирать ему придётся не так спокойно и безмятежно. Одно дело – пуля в затылок или нож под лопатку, так что и почувствовать этого не успеешь, другое – во встречном бою. Тут и страха полно, и разящее оружие врага может оказаться не таким быстрым и гуманным… Экспансивная пуля в кишечник, допустим, а потом помирай так долго, на сколько жизненных сил организма хватит. Ни добивать, ни лечить не станут, вот что главное!
Валькирии, двигаясь по-настоящему бесшумно, вышли в поперечный, идущий строго по мидель-шпангоуту[83] коридор, с выступающим посередине каким-то коробом или кожухом. Справа двери офицерских кают, слева – переборка, вся покрытая разветвлениями разноцветных трубопроводов.
Анастасия проскользнула до этого кожуха, используя его как прикрытие, изготовив автомат не для стрельбы, а для рукопашной, затыльником вперёд. За ней Кристина, вообще с голыми руками, автомат на ремне наискось груди, слева на бедре открытая пистолетная кобура, справа – штурмовой нож, чуть короче плоского австрийского штыка к винтовке «Манлихер» 1888 года. Пожалуй, и Юлу Бриннеру[84] с его двумя «Писмейкерами» с такой мисс связываться не стоило бы. Не успеет и руки до кобуры донести, хотя в кино делал это быстро и красиво.
Вяземская вдруг снова замерла. Будто кошка, услышавшая шорох мыши в глубине норки. Пальцем указала на дверь, которую только что миновала.
Бекетов, шедший последним, кивнул, сместился вправо и начал медленно опускать дверную ручку.
Опустил и резко дёрнул на себя. В шаге перед ними стоял весьма представительный молодой человек в отлично сшитом синем мундире, хорошо причёсанный и побритый, несмотря на творящийся на крейсере с утра бардак. Можно подумать – он собирался нанести визит адмиралу, как минимум. Слегка портил образ пистолет, который офицер держал в руках. С пистолетом на визиты не ходят. И держал он его не совсем ловко, вроде и за рукоятку, стволом вперёд, но с таким видом, словно не очень понимал, зачем его достал, да и мысль о том, что придётся стрелять, казалась ему как минимум нелепой.
Подготовка у обычного морского пехотинца не отличалась тонкостью и изысканностью «печенеговской». Увидев перед собой вооружённого человека, Бекетов сделал то, что представлялось наиболее быстрым и рациональным: сначала ударил автоматом сверху вниз по запястьям офицера, и тут же – в солнечное сплетение, так что и вскрикнуть у Строссона – а это был именно он – никак не получилось. Ещё секунда – лейтенант-коммандер уже лежал на боку, в позе эмбриона. Ему было очень больно, но сознания он пока не потерял.
Анастасия одобрительно кивнула, жестом показала, что надо пленному ещё по затылку добавить, чтобы выключился, а то связывать и кляп в рот вставлять некогда. Бекетов замахнулся, но тут офицер, кое-как вдохнув, прошептал, но вполне разборчиво, на приличном русском языке:
– Не надо. Я сам собрался сдаться. Я имею очень важные сведения для вашего командования. Я тот, кто знает больше всех о том, что вас интересует. И я буду молчать, пока вы делаете своё дело…
– Юра, стоп! – Вельяминова стала между Юрием и англичанином, так быстро, что Бекетов и не заметил, как она переместилась почти на три метра вбок от того места, где только что стояла. – Если не врёт – это то, что нужно.
Штабс-капитан сдержал замах. Она командует, ей и виднее.
– Ты, – это уже Строссону, – ляг на койку лицом вниз, руки за голову. Шевельнёшься или вякнешь – конец!
Бекетов пожал плечами, поднял с палубы пистолет англичанина. Симпатичная игрушка, испанская «Астра 600/45», девятимиллиметровая, в подарочном исполнении, с гравировками, золотыми насечками и щёчками резной слоновой кости. В самый раз будет сувенирчик для Маши, как он уже называл для себя и про себя Варламову. Выйдет у них что-нибудь или нет, но память о нём останется.
Теперь оставались вооружённые люди в коридоре. С очень малой долей вероятности можно допустить, что это – кто-то из самостоятельно включившихся в игру волонтёров. Но нет – те бы вели себя гораздо шумнее, а эти передвигаются там, где им почти ничего не грозит, весьма профессионально. Значит, или из корабельной полиции, или бери повыше – какой-нибудь спецназ военно-морской разведки. Для той операции, что планировалась, без подобных специалистов не обходится.
– Стрелять нельзя, – вообще без голоса, одними губами изобразила Анастасия. – Нам сейчас толковые «языки» – как воздух. Чем больше, тем лучше…
– Сделаем, – кивнула Кристина. Чего проще – включить блок-универсал на режим парализатора, и «языки», сколько бы их там ни было – вот они, готовенькие. Но, увы – та же проблема! У флотских контрразведчиков, что совсем скоро займутся трофейным крейсером, возникнет слишком много вопросов. «Что это за устройства такие, способные мгновенно обездвиживать любое количество вооружённых людей, да откуда они у сотрудниц «Печенега», и как эти сотрудницы вообще появились на крейсере?» А это плохо – когда возникают вопросы у десятков, вскоре – и сотен людей, поставленных на то, чтобы как раз ответы на подобные вопросы и искать. Пусть все эти вопросы рано или поздно стекутся в ведомство Чекменёва, где и погаснут, как «не имеющие отношения к делу», но, сами понимаете, «осадочек останется». Не зря К. Прутков писал: «Бросая камешки в воду, смотри за кругами, ими образуемыми, иначе такое бросание будет пустой забавою». А желающих посмотреть на «круги» всегда будет предостаточно.
Вельяминова и так уже всерьёз задумалась – «как хвосты зачищать»? Её научили в Управлении – не оставлять никаких следов, способных даже своих, но не имеющих «допусков», наводить на ненужные мысли. На крейсере, после их ухода, останется лишь Юрий, знающий какой-то кусочек «правды». Карташов и Егор Кузнецов, увы, погибли. Значит, братьев унтера придётся забрать с собой и пристроить в такое место, где их рассказы о странном «Замке» и прочем будут никому не интересны, или – восприниматься лишь пьяной болтовнёй. В родной деревне, к примеру. То же и с захваченным Марией инженером (если его вообще удастся довести живым хотя бы до мостика, что пока не факт).
Все остальные, и волонтёры, и офицеры крейсера, в крайнем случае смогут упомянуть о неких лицах, участвовавших в захвате корабля, «предположительно женского пола». Но это уже, как говорится «ля-ля», «неосязаемый чувствами звук». Ты их голыми видел? Руками трогал? Хоть имя назвать можешь? Мало кому что могло примерещиться, вплоть до явления Христа народу, призраков замка Морисвилл и привидений замка Шпессарт[85].
Как говорил один вор из старого советского фильма: «Вещей нет – кражи не совершал».
Но сейчас у Анастасии оставалось всего несколько секунд, чтобы принять решение. Главный вопрос – сколько людей в засаде? Если меньше пяти – говорить не о чем. Если больше, и значительно – будет много покойников и получится ли взять «языков» – неизвестно. Ни резиновых пуль, ни светошумовых гранат при себе нет, не рассчитывали на их необходимость.
Идея пришла внезапно. Им ведь нужна всего секунда, от силы две, чтобы оценить силы врага и начать действовать.
А вот такое никому в голову не придёт, или она совсем не знает мужскую психологию. Вроде бы в школе у Дайяны девушка, тогда ещё просто «двести восемьдесят седьмая», ходила в отличницах, да и постоянное общение со старшими подругами из роты тоже снабдило кое-какими полезными сведениями.
Он сунула Бекетову в руки автомат, рывком сбросила жилет-разгрузку, за ним плотную зеленовато-песочную рубашку, осталась в одном форменном, с кевларовыми чашками и титановыми вставками бюстгальтере. На то и рассчитан, чтобы сотрудница без последствий перенесла удар почти любой силы в уязвимую и чересчур выступающую за контур фигуры часть организма.
Не расстёгивая, стянула его через голову. На вытаращенные глаза Юрия внимания не обратила. Вернее, обратила в том смысле, что и от неприятеля должна последовать та же реакция, только посильнее.
Кристина без команды повторила действия командирши. Поясной ремень, пистолет и прочее снаряжение снимать не было необходимости – на них просто никто не обратит внимания. Мужики ведь вторую неделю в море, у них реакция на такую картинку поострее будет, чем на сухопутном фронте!
– А этот? – едва шевеля губами, спросил Юрий, тоже попавшийся на психологический крючок.
– Поставь ему гранату в стакане на спину. Шевельнётся – сам будет виноват. Да не пялься ты так, Юра, мы на работе, – прошипела Анастасия. – Идёшь следом за нами, в трёх шагах. До поворота. Без команды не высовываешься. Как только мы обнаружим засаду, тут же, пользуясь их обалдением, оцениваем обстановку, принимаем решение. Когда я крикну – «вперёд» – исполняешь. И, как учили, приводишь тех, кто тебе достанется, в нерабочее состояние. Нам с Ингой не мешаешь. По возможности – без стрельбы. Пошли!
Бекетов тоже больше двух недель не видел вблизи себя ни одной женщины. Никакой. И тут вдруг сразу… Просто удивительно, как независимо от смертельной опасности бурно среагировал организм. А может быть, именно поэтому.
Отогнал наваждение и тут же начал действовать уже как специалист, офицер, а не оголодавший мужик.
– Ты куда!? – дёрнул он Вельяминову за руку. – С какого голым девкам по кораблю разгуливать? Соображай!
Сунул ей и Кристине в руки полотенца, больше не фиксируя внимания на анатомических подробностях. Солдаты получили задание, солдаты его выполняют. И точка!
– Головы хоть чуть намочите, – указал на раковину умывальника в выгородке возле двери.
– А ведь и точно, – сообразила Анастасия. Так они не две, не меньше десяти секунд выиграют, другие импровизации, глядишь, не потребуются.
Девушки сначала осторожно выглянули в коридор, потом шагнули смело и сразу заговорили громко, только на всякий случай по-французски. Ещё запас времени, если противники кроме русского и английского другими языками не владеют. В руках они несли банные полотенца, Настя через плечо, Кристина просто в руках перед собой, но пониже, чтобы грудь не заслонять.
Шурлапов был очень доволен собой. Рассчитал он необыкновенно точно. Сейчас поперечным коридором выйдут в тыл продвигающейся по правому борту разведгруппе, перестреляют их в спину, одного оставив живым, чтобы успел сказать, где у них точка рандеву с «девицей» и пленным инженером. А что потом… Потом и станет ясно. Какой-то там страшно важный «процессор» – найдутся люди, чтобы за него хорошо заплатить. И полсотни тысяч фунтов наличными, прихваченных в каюте ревизора. На первое время хватит, особенно если ни с кем не делиться. Приятели приятелями, но война – это такое дело! От шальной пули никто не застрахован.
Внезапно он насторожился. Чутьё у него было, как у таёжного следопыта, от природы, скорее всего, да ещё развитое обстоятельствами жизни. Звуки голосов и шагов вдруг куда-то делись. Не удалились, как положено, а исчезли вообще. Будто люди остановились в своём коридоре и прислушиваются. Или – если у них там, к примеру, оказался сходной трап, то спустились палубой ниже. Чёрт, он совсем не помнит, есть там трапы или нет. На этом грёбаном корабле можно проплавать целый год и не запомнить, где что находится.
Выждав секунду, анархист собрался осторожно выглянуть за угол, и, если всё чисто, быстро перебежать на ту сторону. Терять «объект» ему совершенно не хотелось, как и разминуться с первой парочкой – девкой и инженером с процессором. В итоге можно не поймать ни одного зайца, мать-перемать… И взятый им для огневой поддержки морской пехотинец выглядит совершенным тупарём, от него бессмысленно ждать помощи. Он и сейчас пялится в бортовой иллюминатор, будто его происходящее совершенно не касается.
И вдруг Юджин услышал хлопок закрываемой двери и звонкие женские голоса, громкие, совсем рядом. Будто они взялись в полном смысле ниоткуда. Только что тревожная тишина, а сейчас – будто на прогулочном лайнере. Говорили явно по-французски. Языка он действительно не знал, просто догадался – эти интонации и фонетику ни с чем не спутаешь. И бабы (что-то здесь неправильно, кольнула интуиция, слишком много то там, то тут возникает баб!) ведь явно приближаются. Что за чёрт?
Шурлапов выглянул за угол и увидел то, чего уж никак не предполагал. Точно – круизный лайнер, и не иначе. Высокие, загорелые девахи, наверняка спортсменки или как их там, бодибилдерши, вышли из душа, не дав себе труда даже приодеться, прикрыть свои нагло торчащие сиськи, и направляются в его сторону, оживлённо щебеча чёрт знает о чём! В прошлом году Юджину довелось прокатиться на прогулочном теплоходе от Чивиттавекьи до Гавра, и там с утра до вечера сотни полторы похожих девиц загорали вокруг бассейна именно топлесс. Это у них мода такая последнее время появилась, но самое паскудное то, что они богатствами своими перед массой мужиков трясли, ничуть не значило, что на всё согласные. Скорее наоборот: потеряешь самообладание – и огребёшь по полной. В Британии таких свободных нравов ещё не было, вот он и балдел целых два дня, пока слегка не привык.
И вот сейчас снова. И куда же красотки направляются, приняв душ и не удосужившись должным образом прикрыться? Всё же на военном корабле, а не…
«Не в ту ли каюту нацелились? – осенило Шурлапова, заметившего не только то, на что, по мнению Анастасии, должно было сосредоточиться всё его внимание, но и приоткрытую дверь Строссона. – Ещё интереснее, там ведь, кажись, тот хмырь из Адмиралтейства обретается, про которого Эванс с большой злостью отзывался. Он что же, двух сразу шлюшек с собой везёт? Забавляется? Да не может быть! И чтобы никто, даже главный разведчик, об этом не догадывался? Другое тут…»
За какие-то секунды всё это проскочило в голове Юджина, причём мысли неслись параллельно, обгоняя друг друга, словно рысаки на ипподроме. Он успел даже сообразить, что как раз ничего не стоило провести на корабль этих самых девиц из какого-нибудь сверхсекретного подразделения… Слышал он о таких. Там и телохранительниц для высших лиц готовили, и киллерш из девок такого положения в обществе, что с винтовкой в руках на деле возьмут и тут же с извинениями выпустят…
Глядя на этих – можно поверить. Шурлапов не успел додумать до конца и побочную мысль – о том, что когда всё закончится, можно потратить несколько минут и как следует попользовать хотя бы вот эту, светленькую, что идёт первой. Эта приятная картинка возникла перед его внутренним взором – и погасла. Волей судьбы отпущенное ему время (а мог бы успеть спусковой крючок ППД нажать) утекло между пальцев без пользы. Вколачиваемая с первых дней службы в каждого «разведчика переднего края» истина – и мига нельзя уступать врагу в разгар «острой акции» – осталась и Юджином и его командой так и не понятой, потому что разведчиками они не были. Высококвалифицированными террористами, уголовниками по совместительству, специалистами по «мокрым делам» и «эксам» – но не более.
Анастасия метнулась вперёд чуть быстрее стартующего на перехват антилопы гепарда. Связки и мышцы девушки выдержали, но уже на пределе. Почти десять метров между собой и Шурлаповым она преодолела быстрее, чем за полсекунды. Если бы так «сотку» бежать, чемпион мира ещё бы только разгоняться начал. Бить его было просто некогда, да и рискованно, для себя в том числе, и Вельяминова только слегка задела его плечом. Восьмидесятикилограммовый мужик впечатался в переборку, мгновенно потеряв сознание от удара затылком о сталь. Второго валькирия, уже погасив инерцию броска, свалила толчком локтя под сердце.
Кристина так же быстро привела в длительно-неподвижное состояние двух других соратников Шурлапова, использовав, как говорят японцы, «совсем другую школу». Этой самой «школы», да и вообще взмахов рук девушки почти не было видно со стороны. Только туманный след мелькнул по сетчатке «стороннего наблюдателя».
На что Бекетов изучал всякие виды «рукопашек», учился сам и учил матросов, но не доводилось ему видеть, даже в клубах Владивостока, где много всяких азиатов любит похвастаться своими способностями, чтобы девушка, в которой едва шестьдесят килограммов наберётся, уложила без звука двух парней, на голову её выше и вдвое шире в плечах.
Будь он знаком с валькириями поближе – сообразил бы, что все существующие, а также и «несуществующие» виды боевых искусств вроде придуманных лично Шульгиным и разработанных далее роботами – инструкторами рейнджерского дела нужны им просто для антуража. Как всякие там пудреницы, тюбики с губной помадой и прочая ерунда, регулярно покупаемая в самых дорогих парфюмерных магазинах Москвы и почти ежедневно демонстрируемая подругам по роте.
Главное в боевой работе девушек были скорость и четырёхкратная (примерно) в сравнении с человеческой эффективность мышц, сравнимая с таковой у лучших представителей одного из четырёх родов семейства кошачьих. Всё остальное использовалось в основном для маскировки. Почти любой человек готов поверить, что «вся такая воздушная, к поцелуям зовущая»[86] девушка способна сокрушить гору мяса, типа Шварценеггера, каким-нибудь таинственным приёмом «кунг-фу» или экзотического, в природе не существующего «древнеславянского спаса», но будет крайне шокирован, увидев, как она, без всяких ухищрений, небрежным ударом руки, типа подзатыльника или пощёчины, способна переломить такому бугаю позвоночник или вообще снести голову с плеч. (Для таких упражнений, правда, лучше специальные перчатки надевать.)
На исходе третьей секунды девушки уже стояли в расслабленных позах, приводя в нормальное состояние перенапряжённые мышцы, нервы и запредельно колотящийся пульс, а Юрию осталось только, беззвучно про себя матерящемуся, направить ствол автомата на совершенно по-библейски обратившегося в соляной столп морского полицая.
Анастасия посмотрела на Бекетова, поняла по его виду, что ближайшие полчаса их с Кристиной груди будут интересовать его меньше всего, вроде как поручика Полусаблина, но всё же прикрылась полотенцем и взглядом велела подруге сделать то же самое.
– Поработай, Юра, – сказала Кристина, – перетащи эту публику в каюту. Если кто способен шевелиться – сделай так, чтобы они не шевелились слишком активно, и до нашего возвращения можешь поговорить с искалеченным тобой каплейтом и этим беднягой… Слушай, Настька, я в натуре первый раз вижу, чтобы мужик от страха… это самое…
Действительно, вокруг мягких корабельных ботинок «шипполиса» растеклось порядочное мокрое пятно. И синие с красными лампасами штаны от промежности и до колен сухими не выглядели.
– Я, подруга, тоже. У моих предыдущих клиентов сфинктеры потуже были… Давай, неси бегом рубашки, а то и вправду не совсем удобно так вот… Ты, капитан-лейтенант, действительно допроси своего коллегу, а мы скоро вернёмся, – сказала Вельяминова.
До отсека, где ждали помощи Маша с Майкельсоном, они добежали мигом. Что такое сотня метров туда-сюда и вверх-вниз по трапам? Через десять минут вернулись уже вчетвером – три подруги-валькирии и вообще переставший что-либо понимать Майкельсон. Одно дело – если ты встретил первую и, возможно, последнюю в своей жизни красавицу, достойную резца Фидия. Тут можно немедленно превратиться в Пигмалиона, тоже раз и навсегда. А если за полчаса таких девушек уже трое… То, что в России иносказательно называется крышей, начинает многозначительно и зловеще потрескивать, собираясь в путь.
Басманов с Уваровым на занятой ими фок-мачте, с её комплексом боевой, ходовой и штурманской рубок, с тремя ярусами соединённых трапами мостиков и мощным зенитно-артиллерийским прикрытием, чувствовали себя достаточно уверенно, хотя им хотелось, чтобы военно-морская часть сюжета побыстрее закончилась. Особой угрозы своей позиции они не чувствовали – отсюда почти полностью наблюдалась и перекрывалась огнём большая часть верхней палубы, а Бекетов с Карташовым (пока он был ещё жив), понимающие в морском деле, сразу объяснили, с каких «неявных» направлений можно ждать вражеской атаки.
Пятнадцать освоившихся с ролью морского спецназа волонтёров и Марина с Ингой легко перекрывали огнём любое открытое пространство, откуда могла бы начаться атака, а внутренние люки и двери со всех направлений были наглухо задраены. У Михаила Фёдоровича и молодого графа был очень разный жизненный опыт и уровень тактической подготовки, но здесь у них разногласий не возникало. Ни тот, ни другой вполне обоснованно не верили, что противник способен собрать минимум роту, поддержанную снайперами, которым требовалось бы занять господствующие высоты, то есть грот-мачту, и суметь замаскироваться так, чтобы хоть до первых выстрелов оставаться для противника ненаблюдаемыми. Только такими силами имело смысл отважиться штурмовать нечто, напоминающее донжон[87] средневекового замка. А корабельная фок-мачта с двухсотмиллиметровым бронированием рубки куда прочнее и удобнее для обороны, чем каменная башня.
Проще говоря, у той части экипажа, которая собралась бы силой вернуть себе власть над кораблём, шансов на успех было очень и очень мало. С парусных времён абордажные бои на палубах не практиковались, причём по чисто техническим причинам – гладкие палубы в сочетании с тогдашним рангоутом, стоячим и бегучим такелажем[88] давали возможность сражаться, имея достаточный манёвр по вертикали и горизонтали, с появлением же паровых судов их архитектура сделала прежние тактические приёмы абсолютно бессмысленными. Примерно так же, как стипль-чез[89] в заводском цеху.
Однако нашёлся некий бравый офицер, наверняка мечтавший о лаврах лорда Кардигана[90], полтораста лет спустя и в совсем других условиях. Около полусотни матросов и офицеров, возглавляемых решительным, но крайне глупым в такого рода делах квартирмейстером[91] Стрэтфордом-Радклифом, лордом, кстати, выбрав удачный, по их мнению момент, скопились у основания мачты, в «мёртвом пространстве». Атаковали оба трапа, ведущие на нижний ярус штурманского мостика и к площадкам двух зенитных батарей. Вооружены они были преимущественно пистолетами и лёгким автоматическим оружием, всё из той же брошенной без присмотра и охраны крюйт-камеры. Единственно, что было соображено действительно грамотно (но не Стрэтфордом-Радклифом, а обычным артиллерийским старшиной), – это огневая поддержка 37-мм спарки с кормовой площадки КДП главного калибра. Самое интересное, что штурм в принципе мог бы и удаться, будь в распоряжении англичан не малокалиберный автомат, а универсальная стодвадцатисемимиллиметровка, стреляющая шрапнелью и осколочно-фугасными снарядами. Несколько выстрелов почти в упор, со стометровой дистанции, и сразу, пока дым от разрывов не рассеялся – рывок. Пан или пропал.
Беда моряков заключалась и в том, что подобные авантюры требуют чёткого плана, предварительной подготовки и боевой слаженности личного состава. Тогда «стратегия чуда» бывает и срабатывает. Ничего этого в реальности не было и быть не могло.
Поэтому, когда по надстройкам фок-мачты замолотили два зенитных автомата, дырявя навылет тонкие листы обвесов мостика, разрываясь о недоступную этому калибру сталь рубок, рикошетя от скошенных и наклонных поверхностей, Басманову с Уваровым и задумываться особенно не пришлось. Враг сделал то, что от него следовало ждать, и схема действий на этот случай имелась у каждого в голове, а также и в подсознании. Вот только личный состав подвёл. Командиры и Инга с Мариной физически не могли непрерывно наблюдать по всем азимутам горизонтали и вертикали, а волонтёры элементарно прозевали момент, когда начали двигаться стволы автоматов. За что и поплатились – двое или трое из них были убиты сразу, несколько человек ранены.
По счастью, из «британских королевских комендоров» стрелки тоже были те ещё, на ежегодный приз имени ЕГО Величества, разыгрываемый на Спитхедском рейде, явно не претендовали. Да и торопились очень. Человеку часто кажется, что чем быстрее он начнёт стрелять, тем всё будет проще и понятнее. А ведь даже вдоль ствола охотничьей шомполки целиться надо уметь, а уж посмотреть, в каком положении находятся прицельные и наводящие приспособления целой спаренной зенитки сам бог велел. Иначе снаряд чёрт знает почему летит совсем не туда, куда хочется стреляющему, а чуть ли не в противоположном направлении. А в принципе полусотни правильно попавших снарядов хватило бы, чтоб на фок-мачте через минуту живых и боеспособных людей не осталось.
Впрочем, впоследствии выяснилось, что среди англичан настоящих зенитчиков вообще не оказалось. Старшина, вообще не фейерверкер, а по хозяйственной части, ухитрился выдернуть из толпы матросов хоть и с артиллерийскими нашивками, но специалистов совсем по другим калибрам. О «бофорсах» знали только то, что в учебке в плане «общеартиллерийской подготовки» разъясняли, то есть куда кассету со снарядами совать и где нажать, чтоб выстрелило.
Зато Михаил Фёдорович впервые за бог знает сколько лет всерьёз вспомнил свою сто лет назад минувшую юность, Михайловское артиллерийское училище, конную Гвардию и бескрайние поля Первой Мировой! Жестом приказав Уварову действовать по обстановке и руководить уцелевшим личным составом, сам он заскочил в левую орудийную полубашню, где тоскливо ждали решения своей участи четверо комендоров, которых Басманов дальновидно не отправил вместе со всеми изображать бабуинов на прожекторных площадках и салингах. Была у полковника выработанная ещё сражением под Каховкой мысль, а можно сказать, и привычка – нельзя оставлять трофейные пушки без расчётов[92]. Это только дедовской берданке одного «номера» для обслуживания хватит, а даже самой простенькой «трёхдюймовке» образца 1902/30 хоть из трёх человек расчёт необходим. Это только в кино один человек сам себе снаряды подаёт, маховики крутит, в прицел смотрит и шнур дёргает. Вот и пригодились «коллеги».
Сейчас Басманову не пришлось прибегать к сильнодействующим средствам, чтобы заставить пушкарей исполнять свою работу. Ему, наоборот, сделалось весьма неприятно на душе, когда, повинуясь его подкреплённому многозначительным покачиванием пистолета в руке, англичане кинулись по уставным местам. Времени было очень мало. Сейчас англичане перезарядят свой «Бофорс», поправят прицел, и… Ну, понятно, что может сделать ещё одна серия хорошо направленных. Командовал он по-английски, но, ему казалось, русские команды англичане поняли бы так же отчётливо. «Уж ежели дело до петли-то доходит…»
Комендорам помирать не хотелось, что от «дружественного огня», что от пули русского офицера. Прицелились они как следует. Левая сторона заднего мостика от прямого попадания фугасного снаряда сразу окуталась огнём и дымом, а всё, что осталось от орудийной площадки, повисло, перекошенное, на уцелевших балках. С основной угрозой было покончено.
Басманов приказал опустить стволы до крайнего предела (-15 градусов от горизонта) и дал серию – по пять выстрелов из каждого ствола вдоль шканцев. Как именно легли эти снаряды, роли уже не играло. На корабле выше ватерлинии достаточно металлических и деревянных предметов, плюс двадцатисантиметровый тиковый настил палубы. И всё это от взрыва фугасно-осколочного, вполне крупнокалиберного снаряда превратилось в жуткую тучу убойных элементов. Да ещё ударная волна. После такого и подметать не надо.
Басманова по-настоящему удивило только одно – с каким абсолютным равнодушием английские матросы стреляли по соотечественникам. Именно что в упор – на пять вёрст не разберёшь, куда попал и что на месте разрыва образовалось А на полста метров – отлично видно, и кровь, и мозги, и руки-ноги оторванные.
Полковник несколько раз сглотнул, вполне бесполезно, после близкого артиллерийского огня по-любому до завтра в голове звенеть будет и чужую речь в основном по губам разбирать придётся.
Ладонью убрал из пышного чуба несколько щепок, перешагнул через высокий комингс полубашни. Осмотрелся. Уваров опустил автомат, которым целился на площадку ближайшего трапа, махнул рукой. Всё, мол.
Валькирии, слава богу, живые, но тоже оглушённые, поднялись из-за барбета. Успели залечь, кажется, быстрее, чем вражеские снаряды до них долетели.
– Посмотрите, что там наши гвардейцы, – крикнул полковник, едва услышав сам себя, махнул рукой в сторону позиции волонтёров. Похоже, большинство шевелятся. Только потом сунул папиросу в зубы, закурил, протянул портсигар (обычный), довольно растрёпанному Уварову. Считай, ему тоже повезло, могло бы так об железо припечатать или вообще за борт сбросить. Некогда было графа предупредить.
Подполковник взял папиросу, потом показал рукой на южную часть горизонта.
При зрении Басманова, иногда позволявшем корректировать артогонь без бинокля, он отчётливо увидел несколько целлулоидных, голубых на голубом силуэтов военных кораблей.
Глава одиннадцатая
Собственно, «сохранить лицо» Президенту можно было одним-единственным и давно известным способом – сделав вид, что сам исходно не хотел ничего другого, а если и возражал по ряду частностей, так только из желания поглубже разобраться в проблеме.
Совершенно очевидно, что вариант «короля в изгнании» Георгия Адриановича совершенно не устраивал, возможность возвратиться к началу вчерашней истории – ещё меньше. Он в развитие темы, спросил у Чекменёва: а что произойдёт, если сам он действительно решит, устранившись от дел, вдруг остаться здесь? Каким образом господин генерал представляет себе развитие событий там?
– Проще всего, как вы понимаете, предоставить всё свободному течению обстоятельств… – Закончив, наконец, свой графинчик, Игорь Викторович достал из нагрудного кармана приличной длины алюминиевый пенал. Спешить вроде как некуда, а удовольствие от хорошей сигары можно получить именно не торопясь.
– Каким-нибудь способом всё образуется. Претенденты на власть в процессе соперничества перебьют друг друга, из всей их толпы выделится так называемый «крысиный волк», который и наведёт свой порядок. И едва ли он будет лучше прежнего. В то, что, избавившись от вас, конфликтующие стороны мирно, по-джентльменски договорятся и проведут честные и независимые выборы по лучшим европейским стандартам, я, признаюсь, вот ни на столько не верю, – Чекменёв показал треть фаланги указательного пальца. – Очень может быть, что удивительное российское везенье наконец закончится, и мы получим некую дикую помесь махновского Гуляй-поля с Афганистаном. И очень надолго… Причём никакая гуманитарная западная интервенция не поможет. Станет только ещё хуже. Россия, милейший Георгий Адрианович, это вам не Латвия и даже не Хорватия. Скорее можно представить нечто вроде вашего нынешнего Сомали.
Президента передёрнуло. Да, перспективка! В то же время он внутренне соглашался с генералом – сколько же может везти? Сорвётся наконец страна в пучину бессмысленно-кровавого хаоса, и кто её сможет от этого удержать? Один из тех, кто претендует сейчас на его место? Вряд ли. Критическая масса деструкции почти достигнута, и явится на смену какой-никакой цивилизации нечто такое, что и вообразить трудно… Сомали? Афганистан? Судан? Почему бы и нет? Три раза на протяжении века катастрофу кое-как удавалось отодвинуть, но сейчас из хаоса грядущей гражданской войны страну вытаскивать просто некому. Ни Корнилов, ни большевики с Лениным – Сталиным, даже Ельцин в очереди за званием спасителя России больше не стоят. Их время кончилось…
– Но мы, как вам очевидно, на произвол судьбы события не пустим, – продолжил Чекменёв. – И жизни соотечественников нам дороги, и российскую территорию, российские богатства мы на разграбление не отдадим. Не по-людски это будет… Предки полторы тысячи лет собирали, строили, и всё на ветер?
– Значит, так или иначе – интервенция?
– Любите вы, интеллигенты образованные, словами бросаться, – скривился, как от приступа зубной боли, Чекменёв. – Интервенция, как мне из курса Академии Генерального штаба помнится, есть «насильственное вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела другого. Интервенция может быть военной, экономической, дипломатической. Все виды интервенции несовместимы с уставом ООН и международным правом…». Я, кажется, достаточно точно пункт из учебника процитировал…
– Куда уж точнее. Оказывается, в вашем мире такой же взгляд на эту проблему, как и в нашем. Следовательно…
– Абсолютно ничего не «следовательно», – генерал прямо-таки засветился радостью, как студент, взявший билет с вопросом, о котором он знает всё и многое сверх того. – Мне удивительно интересно будет услышать из ваших уст, или от самого председателя Высшего Совета Объединённых наций разъяснение, каким образом вы готовы доказать, что ваша и моя России являются по отношению друг к другу «иностранными государствами». И каким образом одно совершило агрессию против другого, не пересекая его внешних, общепризнанных мировым сообществом границ? Да-да, – остановил он пытавшегося что-то сказать Президента движением руки, – я знаю ваши обстоятельства… Что ж, в этом случае мы до поры до времени постараемся не нарушать границ так называемых «постсоветских государств». Но на коренной-то русской территории мы в полном своём праве…
Попытки спора и кое-какие доводы, говорящие о том, что здешняя Россия и та, руководить которой был избран самым демократическим путём Георгий Адрианович, всё-таки разные, самостоятельные государства, Чекменёв отмёл сразу, использовав вполне сократовский приём.
– Никаким путём мы с вами, да и целый синклит знатоков международного права, не сможет доказать недоказуемое. Моя-то страна не является «правопреемницей» вашей, как вы объявили себя «правопреемниками СССР», и даже подтвердили это выплатой внешних долгов. Глупейшая, кстати, идея, не знаю уж, чью светлую голову она посетила. Надо было сразу признавать себя правопреемниками Российской Империи, признав нелегитимными решения так называемого Второго Всероссийского съезда советов и роспуск Учредительного собрания. Вот тут у ваших дипломатов и юристов хватило бы увлекательной работёнки не на одно десятилетие. Попробуй-ка привести хоть в какую-то систему накопившийся за восемьдесят лет ворох внутренних и международных нормативных актов, ни один из которых не правомочен по определению… Даже ни одно ново-европейское государство фактически не существует, ибо настоящая Россия ни Брестского мира не заключала, ни в Версальской конференции не участвовала…
Генерал представил себе эту картину и даже прижмурился от удовольствия.
– Особенно забавным мне кажется момент, когда все ваши союзники и противники начали бы доказывать легитимность именно Октябрьского переворота, законность террористической большевицкой власти и правомерность в нынешнем мире именно такого решения вопросов смены общественного устройства…
Президент тоже представил, и ему тут же захотелось обрушить на собеседника массу, даже лавину доводов «против».
– Нет, ну вы точно «Историю КПСС» вместе с «Кратким курсом»[93] проштудировали. Так вот я вам отвечу…
Только не так прост был Чекменёв. Он ловко совершил следующий финт, словно слаломист на спуске, а то и сёрфингист на склоне волны.
– Не надо мне отвечать, я, собственно, не об этом речь веду. Ваших «Курсов» я, естественно, не читал, знающие люди составили мне выжимку всей вашей истории, политики и философии в сотню страниц, с картами, схемами и иллюстрациями. Вот историю Второй мировой войны – да, изучил очень внимательно, точки зрения всех противоборствующих сторон рассмотрел помимо всякой идеологической и националистической окраски. Стратегию, тактику и геополитику – соответственно. И сейчас продолжаю заниматься близкими мне проблемами, так что здесь говорить мы легко можем на равных. В этом как раз случае – как соотечественники.
Вы, ваше высокопревосходительство, никак одной простейшей вещи не уловите, на чём вся моя стратегия и тактика строится. Ваша и моя России – это не разные страны, не близнецы даже однояйцевые, как можно было бы применительно к людям сказать в подобном юридическом казусе. Нет, это просто один и тот же человек, просто в разном возрасте. И именно поэтому никакие правовые подходы здесь невозможны. Вы же не возьмётесь в суде опротестовывать сделку, заключённую вами же хоть десять, хоть сорок лет назад? Или судиться с самим собой за десятину земли, некогда использованную не на те цели, что вам сейчас в голову пришли…
– Неожиданный поворот, – выразил не столько недоумение, как определённое даже пренебрежение к столь одновременно и дилетантскому, и демагогическому подходу. – С такой идеей выходить на суд мирового сообщества…
– Да кто же на какой-то там суд собирается, Георгий Адрианович! – едва не всплеснул руками Чекменёв. – Не вижу я в пределах планеты Земля органа, чью юрисдикцию согласился бы принять даже ваш покорнейший слуга, не говоря о Высочайшей особе!
При этих словах генерал весьма многозначительно воздел к потолку указательный палец, и Президенту стало совсем непонятно, дурака ли он сейчас валяет, или действительно демонстрирует особое почтение к своему сюзерену.
– То есть, о чём вы? Мы же ведь состоим в Совете Европы, в ОБСЕ, во всех организациях ООН и её Совете Безопасности… С 1991 года мы полностью признали приоритет всех подписанных международных соглашений над национальными. Как вы себе можете представить такую, как вы обозначили, коллизию? Особенно в ситуации, когда Соединённые Штаты…
Чекменёв, вообще человек крайне владеющий собой, даже с Катранджи, Ибрагим-беком и Уваровым с его девицами умевший говорить столь же вежливо и деликатно, как Воланд с клиентурой, не выдержал. Очевидно, упоминания о международных организациях ему и в этой реальности надоели до крайнего предела. Уж лучше, правда, с графом Уваровым разбираться…
– А вы не пробовали – наплевать? – с крайним трудом сдерживаясь и напоминая уже не автора книги «50 лет в строю», а подполковника Рощина из трёхсерийной версии фильма (1957 г.) в момент его застольного разговора с Лёвой Задовым в поезде, едва сдерживая раздражение, спросил Игорь Викторович.
– Как – наплевать?
– Да очень просто – слюнями. Вам продемонстрировать?
Он даже сделал намекающее движение щеками и губами.
– Вот представьте – кого вы там для себя самым главным считаете – Генсека ООН или Президента США – вдруг этот заявляет вам (именно с такой форсировкой интонации генерал выделил это слово), что вы не вправе использовать на своей территории с этой же территории пришедшие войска, не можете обменивать свои русские рубли на русские же, но золотой чеканки, выпущенные в том же самом от Рождества Христова году, из золота, добытого на тех же самых, русских месторождениях… Не дозволено вам (он снова подчеркнул) торговать своей собственной нефтью и газом с теми, кому вам хочется и по назначенным вами ценам. Нет уж, простите, – Чекменёв из графинчика Президента налил себе и ему, дождался, когда визави опрокинет рюмку, после чего медленно, с явным удовольствием выцедил свою.
– Нет, это вы меня простите! – с неожиданной, возможно, подогретой прогулкой и полутора сотнями граммов «Особой очищенной» ажитацией вскинулся Президент. – Да вы себе представляете, что после этого начнётся в мире?
– Мне кажется, ничего особенного, – неожиданно мягким голосом ответил генерал, снова беря с края пепельницы свою сигару. – Это вы всё сами себе придумали. Вроде того чудовища, что обязательно приходит по ночам в палатки младшей группы кадетского корпуса и непременно съедает, с особым цинизмом тех, кто не укрылся с головой одеялом. А ведь на самом-то деле… Милейший Георгий Адрианович, ни хрена они вам сделать не могут, даже пальчиком погрозить осмелятся только в том случае, если не заметят в ваших глазах того блеска, что присутствовал в глазах Никиты Сергеевича накануне Кубинского кризиса…[94]
– Вы и о Хрущёве знаете? – совсем уже нелепо удивился Президент.
– А вы о Катоне Старшем, Аларихе, Карле Великом, Наполеоне, Бисмарке, Соломоне Рубашевиче и генерале Поволоцком знаете? Откуда?
– Последние два – кто?
– Ну вот, – облегчённо вздохнул генерал, – кое-чего и вы не знаете. Это слегка утешает. Первый – первый Президент Израиля, подписавший с Россией договор о дружбе, сотрудничестве и взаимном гражданстве. Второй – израильский Главком, бывший генерал-лейтенант Российской армии, Герой России, жесточайшим образом в Шестидневной войне разгромивший коалицию арабских государств в тысяча девятьсот сорок седьмом году. Куда там Наполеону при Аустерлице…
– Вот странно. И у нас была Шестидневная война. Только на двадцать лет позже, командовал войсками Моше Дайян, и евреи были геостратегическими противниками СССР…
– Как интересно, – деланно удивился Чекменёв. – Значит, вы с ними с самого начала не так обращались. Это, знаете, как с девушкой. Она, может, в душе уже была согласна, а вы слишком рано её руками хватать начали. Или похвастались раньше времени тем, что ещё не случилось…
Разговор Президент с Чекменёвым продолжили уже в машине, доставившей их в Кремль, в помещения генерала, которые он занимал, исполняя обязанности по линии государственной безопасности. Для других должностей имелись другие резиденции, с иным штатом и иным, само собой, статусом.
Президенту стало не по себе, когда простенький, отнюдь не представительского класса «Руссо-Балт» «Двина» на секунду всего притормозил перед Спасскими воротами. Ворота выглядели несколько иначе, чем в его время. Они оставались такими же массивными и способными выдержать удары не только средневековых таранов, но и техники посовременнее, однако при этом выглядели, ну, более рабочими, что ли. Видно было, что открывались они по многу раз в день и, так сказать, без церемониала. Игорь Викторович, подъезжая, коротко нажал кнопку сигнала, часовой за окном караульного помещения его узнал, и полотнища мягко начали распахиваться, не вызвав этим ни малейшего любопытства у многочисленной публики, прогуливавшейся или просто спешащей по своим делам через площадь. Редкие парадные выезды автомобильных кортежей через эти же ворота в другой Москве вызывали гораздо больший интерес.
– А что, если бы за рулём сидели не вы, а хорошо загримированный под вас человек? – спросил Президент, не в силах подавить профессиональной заинтересованности.
– Не считайте нас такими уж профанами в охранном деле, – усмехнулся Чекменёв. – Эта машина с другим человеком просто вообще никуда бы не поехала, а попытка занять моё место окончилась бы для экспериментатора весьма печально. Меня вот гораздо больше забавляет ваша страсть кататься на автомобилях размером с товарный вагон, причём в сопровождении двух десятков таких же. А рискнули бы проехаться отсюда до своей загородной дачи верхом, в сопровождении лишь ординарца?
Уловил краем глаза гримасу на лице Президента, снова слегка хмыкнул.
– А Государь проделывает это довольно часто. И по вечерам иногда любит пешком по Бульварному кольцу пройтись… Возвращаясь из театра, например. И это при полном отсутствии в стране демократии…
Президент решил не поддаваться на провокации, то есть просто промолчал, про себя подумав, однако, что эта Россия – действительно совсем другая страна, если Первое лицо совсем не озабочено поддержанием той своеобразной формы авторитета, сложившейся, кажется, где-то в двадцатые годы. Ленин, по слухам, тоже среди народных масс не брезговал появляться, пока с пулями Каплан не встретился…
О том, что способность гулять по Бульварам или ездить верхом, без охраны, сквозь подмосковные леса, требует, скорее всего, каких-то особых черт характера и личности, он задумываться не стал.
По совершенно не похожим на те, что у него, площадям и аллеям Кремля Президент прошёл, всё время вертя головой по сторонам, словно экскурсант, впервые приехавший в столицу из пресловутого Урюпинска. Не так, всё не так, не считая нескольких центральных корпусов. Не хуже, не лучше – просто иначе. Теснее, пожалуй, из-за многих лишних церквей и зданий. Вот то, что не громоздится здесь стеклянная коробка Дворца съездов, – это, конечно, правильно.
Встретив на пути всего несколько офицеров в незнакомой форме, подчёркнуто чётко отдавших честь генералу, хоть и был он в штатском, Президент с Чекменёвым с бокового крыльца вошли в окружённый вековыми елями приземистый двухэтажный корпус наискось от Арсенала. По широкой чугунной лестнице, слабо освещённой через наглухо затенённые мохнатыми лапами окна поднялись на второй этаж.
– Прошу, располагайтесь, – провёл генерал Президента в свой огромный кабинет, отделённый от приёмной дверью, замаскированной шкафами с пачками «дел». Кабинет тоже выглядел невероятно старомодно, как на дореволюционных фотографиях. Но внушал ощутимое уважение к месту и его хозяину. Нечто подобное Президент ощущал и в квартире на Столешниковом. Самовнушение или действительно магия места и времени?
– Сейчас подойдут несколько моих офицеров, – сказал Чекменёв, указывая на массивное, почти неподъёмное полукресло у стола, – специалисты в своих вопросах, обсудим кое-что.
Он снял с рычагов тоже раритетную, такие Президент видел только в Политехническом музее, телефонную трубку.
– Но это при условии, что мы в принципе договорились. Если продолжаете испытывать сомнения – позову только одного…
Что означают последние слова, объяснять Чекменёву не потребовалось. Президент даже догадался, кем окажется этот «один». Уже хорошо знакомым Вадимом Ляховым-местным. Появится сейчас в кабинете флигель-адъютант Императора, и обсуждать придётся только одно – место, куда Президент хотел бы отправиться со своей семьёй, чтобы в покое и безопасности провести оставшиеся годы. А где найдёшь сейчас на той Земле такое место, если не менять имя и внешность? На Кубе, разве что, или в Северной Корее, там журналисты, да и более серьёзные люди, вроде Романа Меркадёра[95], хоть первое время надоедать не будут…
Президент вздохнул и взял из коробки на столе папиросу. Надо же попробовать, что царские генералы курят.
– Зовите всех…
Оказалось, что не знаком был Президент только с одним из трёх прибывших буквально через пять минут после звонка полковников. Тот, высокий, с загорелым, слегка мрачноватым и замкнутым лицом, с Георгиевским крестом на кителе цвета «морской волны», назвался Тархановым Сергеем Васильевичем и добавил, что в ряде случаев может называться и Арсением Неверовым.
– Но это если нам с вами и дальше плотно работать придётся, документами за личной подписью обмениваться. А пока – Тарханов. В настоящее время числюсь начальником Управления спецопераций. Так что все основные вопросы со мной будете решать.
Второй полковник действительно, как и ожидал Президент, оказался Ляховым, а третий – тем самым Фёдором Фёдоровичем фон Ферзеном, круглощёким немцем с улыбчивым лицом, отнюдь не похожим на потомка суровых рыцарей Ливонского ордена, что докладывал на первом совещании на даче Президента, в присутствии Императора. Он по должности оказался начальником Оперативного отдела Штаба Гвардии.
Отчего все эти люди оставались полковниками, Президент не понял. У него каждый наверняка носил бы к основному званию приставку «генерал». Видимо, принципы здесь такие, не любит Император чинами разбрасываться.
«А у нас наоборот, – с грустью подумал Президент, – не станешь каждый год генералам очередную звёздочку подписывать, так разобидятся, что вообще на службу ходить перестанут. Однако, выходит, и щедрость не помогла, всё равно взбунтовались при первом удобном случае…»
Он обратил внимание, что все три офицера держатся с ним абсолютно ровно. До неестественности. Всё ж таки не просто кто-нибудь, а глава параллельного государства прибыл с визитом. Или, наоборот, для них – проигравший полководец явился для подписания капитуляции. Вроде как Кейтель в Карлсхорст. А этим – без разницы. Пришёл и пришёл, гостем будешь. Ещё, глядишь, как равного и к буфетной стойке пригласят.
Он не мог как следует понять – задевает его такое отношение или, наоборот, успокаивает.
– Так, Сергей Васильевич, – сказал Тарханову, устраиваясь за огромным письменным столом Чекменёв, – все вводные вам, надеюсь, от Вадима Петровича и иных источников известны. Откройте карту и доложите свои предварительные соображения…
Все остальные, включая Президента, разместились по правой стороне длинного стола для совещаний, напротив стены с традиционно, как в любом приличном генеральском кабинете, задёрнутой шторкой картой. Здесь план-карта Москвы, хоть и огромная, почти от пола до потолка, была обычной, бумажной или пластиковой, до всяких интерактивных штучек в этом мире не додумались. Хотя, с другой стороны, техника, что использовал Фёст и его напарница Сильвия, далеко превосходила какой-то там компьютерный монитор или самый совершенный ноутбук.
– То, что сейчас доложит нам господин полковник, вы, Георгий Адрианович, можете воспринимать просто как часть командно-штабных учений. Никакого окончательного решения пока не принято, вы в полном праве согласиться с разработкой Управления, внести необходимые на ваш взгляд изменения и дополнения или даже наложить своё «вето». Всё же вы лучше нас в некоторых моментах разбираетесь, – счёл нужным подчеркнуть Чекменёв.
– В последнем случае события будут развиваться без моего участия? – стараясь быть твёрдым, спросил Президент.
– Вам бы не стоило сразу на пессимистический лад настраиваться, – ответил генерал. – Мы же здесь действительно собрались проблему решать, а не глупыми конфронтациями заниматься. Вот и давайте работать дружно и продуктивно. То, что порядок в Москве и стране мы намерены навести быстро и эффективно – это, как говорится, однозначно. Никаких колебаний и надежд, что «само рассосётся», никто испытывать не собирается. Другое дело, что мы ждём от вас плодотворного сотрудничества и надеемся услышать нечто полезное и конструктивное. Вы там у себя Верховный Главнокомандующий и вообще…
Чекменёв вдруг потерял нить слишком длинного периода.
– И вообще – местный уроженец, – без тени иронии в голосе продолжил фон Ферзен. – Способ ориентирования «путём опроса местных жителей» – самый надёжный.
– Можно и так сказать, – кивнул Чекменёв. – Итак, приступим?
– Раз будет решаться столь важный вопрос, я бы хотел, чтобы на совещании присутствовали мои коллеги. Те, что остались… – с вымученной улыбкой сказал Президент. – Их ведь не долго будет сюда доставить?
– Пятнадцать минут максимум, – ответил на вопросительный взгляд Чекменёва Ляхов. – Могу распорядиться.
– Да уж распорядитесь. А вы пока начинайте, Сергей Васильевич, – сделал жест в сторону Тарханова генерал.
Президент слушал доклад о пока ещё гипотетической обстановке в его столице. Если верить вчерашним словам Ляхова-Фёста и теперешним – полковника Тарханова, в той России длилось «время ноль». То есть та самая секунда, в которую последний боец, защищавший дачу Президента, покинул тот мир, поставив заговорщиков в тупик как фактом своей крайне успешной обороны, так и бесследным исчезновением. Впрочем, продолжая ту же логику, там ещё никто ничему не удивляется, и удивляться начнёт только в тот момент, когда кто-то вновь запустит плёнку, перейдя из одного мира в другой.
Как при этом осуществлялась возможность якобы параллельного существования миров, каким-то же образом сумевших раздельно развиться до нынешнего состояния, Президент не понимал и старался в этом направлении вообще не думать. В конце концов свет – это одновременно волна и частица, так в школе учили, и все относились к этому странному утверждению предельно равнодушно.
Тарханов, видимо не спавший всю ночь, как только получил информацию от Ляхова и «исполнительную» команду от Чекменёва, успел проделать колоссальную аналитическую работу. Дело не в том, что он сличил и сопоставил всю информацию, полученную при допросах пленных и подобранную «Шарами», это, как говорится, дело техники. Главное, он сумел с помощью куда лучше знакомого с некоторыми реалиями Вадима создать целостную, хотя тоже пока виртуальную, модель заговора. Здесь ему пригодились многие тщательно зафиксированные, но до конца не расшифрованные «непонятности» прошлогодней операции «Мрак и туман». Той самой, завершившей подавление «антиолеговского» заговора, направляемого и снабжаемого из России Президента.
Тогда удалось сделать очень много[96], но так и не был выявлен и обезврежен, по-медицински выражаясь, «возбудитель», а на юридическом языке – «заказчик преступления». Такое, кстати, часто случалось до открытия, к примеру, «фильтрующихся вирусов», случается и до сих пор. Поскольку удалось отследить все цепочки, все контакты и связи «исполнителей высшего уровня», но никакими имевшимися в распоряжении Братства методиками не получилось выявить организаторов и даже саму технологию организации этой масштабной и многоплановой акции, совет магистров и гроссмейстеров (он же называемый иногда Комитетом по защите реальности) решил, что замешаны здесь либо Игроки, либо Держатели, и задача не имеет решения по определению.
То есть можно достаточно успешно бороться с видимыми результатами делаемых «противником» ходов, причём с крайне серьёзными последствиями вроде мировых войн и социальных революций, но абсолютно невозможно понять как цели происходящих событий, так и предугадать хотя бы следующий ход партнёра. Особенно принимая во внимание (хотя это тоже гипотеза), что «правила Игры» (ещё одна абстракция) могут меняться произвольно после каждого хода. Или же – изменяться эволюционно, подчиняясь какому-то недоступному осмыслению даже на уровне кандидатов в Держатели алгоритму.
Собственно, по этой самой причине бо́льшая часть Братства и решила на какое-то время отстраниться от текущих проблем, ибо нет ничего глупее и скучнее, чем тупо реагировать на действия противника (если он вообще существует), без надежды перехватить инициативу поскольку элементарно непонятно, как это может выглядеть. Перехват инициативы, то есть. Если у Новикова, Шульгина, Сильвии, Ирины, Воронцова хватало совокупных сил создавать и удерживать мыслеформы, парирующие ходы противника в пределах одной реальности, то на то, чтобы осознавать, осмысливать и удерживать в равновесии все бесчисленные связи, причины и следствия, пронизывающие многомерную конструкцию данной ячейки Гиперсети, уже нет.
По выражению одного из них: «Я ещё могу отслеживать аналогии между разнопричинными явлениями, но аналогии между аналогиями – уже нет». Оттого «старшие братья» и решили в полном соответствии с то ли бывшей, то ли пригрезившейся договорённостью с Игроками оставить текущую реальность в покое и заняться исследованиями в куда более интересной, сулящей очередные нетривиальные открытия области. Предоставив всем желающим право вести себя в оставшемся на их попечении мире (тем более якобы полностью отключённом от Гиперсети) как им заблагорассудится. Тоже исходя из просочившейся от кого-то из Игроков информации: «Реальность, данная вам в ощущениях, никаким образом не зависит от вашего к ней отношения, и если вы не захотите «играть» дальше, Игра всё равно продолжится, но вы в ней будете уже не субъектами, а объектами».
О том, что всё происходящее в текущей и параллельных реальностях есть только результат срабатывания Ловушки Сознания и к действительности никакого отношения не имеет, предпочитали вообще не говорить. Как известно, избежать создаваемых Ловушкой угроз можно единственным способом – до последнего в неё не верить.
Вот так и получилось, что роль «игроков районного масштаба» взяли на себя Фёст и Секонд в компании с как бы не имеющим заметных трансцендентных способностей Тархановым. И при нерегулярной, но существенной технической поддержке Сильвии, Воронцова и Левашова. Ну и профессор Удолин продолжал интересоваться происходящим, выстраивая одну за другой увлекательные и временами жутковатые гипотезы, исходя из собственных, некромантских представлений о действительности. Вполне материалистических, к слову сказать, поскольку даже самые чудовищные порождения фантазии, вроде гоголевского «Вия», например, способны физически взаимодействовать с иными обитателями Земли, людьми в том числе, и, следовательно, к объектам идеальным причислены быть не могут. Но это тоже лирическое отступление, пока что не имеющее отношения к докладу Тарханова.
Не касаясь моментов и ситуаций, чуждых ему в силу образования (Ставропольское горно-егерское военное училище) и нынешнего рода занятий (политическая разведка, контрразведка, силовые акции и тому подобное), полковник излагал выстроенную за ночь реконструкцию имевших место в соседнем мире событий.
– В данном случае мы сталкиваемся с довольно интересно продуманным заговором, принципиально непохожим на обычно устраиваемые в той России. Я подразумеваю тщательно изученный мною промежуток между тысяча девятьсот семнадцатым и текущим годами. До этого, как вы понимаете, никаких отличий в теории и практике нет и быть не может. Но то, с чем мы столкнулись сейчас, отличается от большинства реально осуществлённых акций, чисто военных, военно-политических и, так сказать, гражданских, своей, я бы сказал, комплексностью и многоуровневостью. Что и позволяет мне провести отчётливую параллель между позапрошлогодними событиями у нас и там.
Если угодно, обе эти операции можно рассматривать в рамках единого стратегического проекта, как его последовательные фазы. Вторая, то есть теперешняя, можно условно обозначить её как «Кремль-два», очень похожа на доигрывание отложенной партии. Игроки отдохнули, провели подробный домашний анализ с помощью всего синклита своих тренеров, помощников и консультантов, и с новыми силами приступили…
Здесь Тарханов упомянул термин «игроки» в самом расхожем смысле, но только для Секонда он прозвучал знаково.
– Использованная нами аппаратура, – Тарханов не сказал, какая именно, но по интонации Чекменёв понял, что речь идёт о той, что Сергея с Вадимом могли снабдить только друзья, об обычных электронно-вычислительных машинах не стоило бы упоминать, – позволила определить более десятка точек, которые на графиках «Кремля-один» и «Кремля-два» полностью совпадают, что говорит о едином использованном алгоритме планирования…
«Надо же, какой терминологии Сергей набрался, общаясь с этими самыми «друзьями», – с некоторой, смешанной с удивлением ревностью подумал генерал. – Талант всё-таки. За два года от командира батальона до начальника управления, и постоянно продолжает «расти над собой». Ясно же, что мог всё поручить Ляхову, и они с Бубновым и Ферзеном разрисовали бы эту историю не хуже. Нет, на себя предпочитает брать, хотя славы в этом деле можно заработать куда меньше, чем шишек набить…»
Тарханов в отличие от всех прочих сотрудников сопоставимого уровня с первого дня знакомства пользовался у Чекменёва полным доверием и обычной человеческой симпатией. Всё в нём совпадало с представлениями Игоря Викторовича об идеальном офицере – и храбрость, и ум, и дисциплинированность. Принципиальность в отстаивании своего мнения, не переходящая, однако, в страсть к препирательству с начальством просто ради самоутверждения. Да вдобавок и скромность – фактически ведь все его подвиги числятся за неким Арсением Неверовым, сам же Сергей Васильевич Тарханов – чуть ли не канцелярская крыса, извлечённая Чекменёвым неизвестно откуда и пристроенная к делу в основном для того, чтобы исполнять скучные для самого генерала бюрократические процедуры.
Ну и, конечно, «по-настоящему информированные люди» относят причину стремительного карьерного роста полковника на счёт его красавицы жены. О том, что она вызвала искренний интерес и симпатию Государя (с последствиями или без – это уже другой вопрос), известно всем, знающим привычки Олега. Вот о том, дошла ли эта информация до самого Тарханова, Чекменёв не знал. Впрямую ведь не спросишь ни у него, ни у Вадима. Единственное, за что можно зацепиться, – за то, что слишком много времени его супруга, кавалерственная дама Татьяна, проводит вдали от мужа, на кисловодской вилле. Так ведь не одна проводит, в компании безупречной во всех отношениях Майи Ляховой, и замотивирована у друзей-полковников такая полухолостяцкая жизнь очень даже убедительно, очень грамотно, не подкопаешься. Только браться за подобные «раскопки» генерал не имел никакого желания. Если кого это дело и касается, так только самой Татьяны, Государя, ну и Тарханова в какой-то степени.
«Так что он там говорит?» – спохватился Чекменёв, заметив, что мысли его незаметно соскользнули совсем не в ту сторону.
– То есть мы в данном случае можем предположить наличие координирующего центра, некоего подобия «военно-революционного комитета», осуществляющего общее руководство, имеющего, так сказать, гражданское и военное крыло, внешнеполитический отдел и подразделения массовой пропаганды, дезинформации и противодействия организационно-пропагандистским действиям власти. Кроме этого, предполагается существование финансового центра и подразделения по связям с любыми иностранными представительствами и агентствами…
– И – «научный центр», – добавил с места Ляхов, – аналогичный тому, что мы разгромили и захватили в ходе «Мрака и тумана». Достоверно установлено, что определённое количество «фигурантов» операции было явно запрограммировано…
– На эту тему я как раз и хотел попросить высказаться тебя, сам я недостаточно в таких вещах разбираюсь, – кивнул Тарханов. – Но это уже не так существенно. Интересна сама применённая здесь схема. Попросту говоря, какая-либо возможность неудачи исключалась даже теоретически. Вы, господин Президент, при всех ваших возможностях и решимости пресечь начинающуюся смуту, если бы она и присутствовала, не имели никаких шансов…
– Поподробнее, пожалуйста, – привстал с места Георгий Адрианович, – тут моё мнение кардинально расходится с вашим… докладом.
– Нет ничего проще… – начал говорить Тарханов, но в этот момент в кабинет вошли, сопровождаемые адъютантом, Фёст, Мятлев и Журналист. И, что весьма удивило даже Секонда, господин Волович. Уж ему, казалось бы, здесь делать было совершенно нечего, с какой стороны ни взгляни.
Но Фёст сделал Вадиму успокаивающий знак, мол, всё идёт по плану, всё под контролем.
Новые участники заняли предложенные места, причём адъютант, видимо, выполняя указание Фёста, посадил Воловича поблизости от стола заседаний, но и чуть в стороне, за отдельный журнальный столик у окна, даже сам подвинул ему просторное кресло, якобы заботясь о его раненой филейной части.
Чекменёв распорядился доставить из буфета бутербродов, включить большую кофеварку и разрешил присутствующим курить без особых приглашений. Разговор начинался уж слишком серьёзный и интересный.
Адъютант распахнул в дальнем углу створки одного из окон более чем трёхметровой высоты, снабжённые для открывания шпингалетов начищенной медной арматурой довольно сложной конструкции.
И снова Президенту подумалось, совсем вроде бы не по теме, что странно современному человеку представить вполне благополучно функционирующую цивилизацию, в которой не то чтобы отключён, а вообще не существует «двигатель прогресса» в виде неостановимой и как бы совершенно необходимой в современном мире «индустрии потребления». Чем же тут заняты промышленность, торговля, миллионы людей и тысячи всевозможных торгующих, распределяющих, изобретающих и продвигающих всяческое барахло организаций, если большинство вещей специально задумано и сделаны так, чтобы служить десятилетия, а то и столетия? Как вот эти стулья, например, и оконные рамы, продающиеся в ювелирных магазинах золотые часы девятнадцатого века с безупречным и сейчас ходом. Вообще всё, что он видит вокруг себя. Тогда ведь, получается, и реклама на девяносто процентов не нужна? А за счёт чего существуют средства массовой информации и тьма-тьмущая людей при них? Надо бы спросить у господина Ляхова-Секонда.
Каким-то образом, то ли потому, что довелось повоевать вместе, или после вчерашней экскурсии по Москве Президент испытывал к этому полковнику наибольшее доверие и искреннюю симпатию. А вот его «близнец» вызывал скорее негативные, пусть и не прорывающиеся наружу, эмоции. Наверное, потому, что они с ним из одного мира, но тот одинаково легко и свободно чувствует себя и в этом. А ещё, тут уже почти по Фрейду – ощущает этого самого Фёста как психологического антипода и человека (как это ни глупо звучит), лично виновного во всём случившимся. Совершенно чингисхановская логика: «Гонец, принесший дурную весть, должен быть казнён».
Вот и сейчас он выглядит, даже здесь, слишком уверенным в себе. Президенту ещё неизвестна была ситуация с взаимоотношениями между мирами через Братство, и истинные роли каждого из присутствующих именно в таком преломлении. А так он всё понимал (ощущал) правильно – именно Фёст был здесь и сейчас самым свободным и могущественным человеком. Хотя бы только потому, что из двух аналогов Шульгин, а за ним и другие (Сильвия, кстати!), признали именно эту реинкарнацию Ляховых Фёстом (то есть – Первым!), а Секонда, пусть и весьма приближённого к Императору, – Вторым. По гамбургскому, что называется, счёту.
– Я пока что не сказал ничего такого, что требовало бы повторения для вновь прибывших, – отметил Тарханов, когда суета и шевеление были закончены. – Имела место только затянувшаяся сверх меры преамбула…
– А вот теперь начнётся «амбула» – неожиданно подал голос Волович, и только Фёст и Журналист посмотрели на него одобрительно-понимающе, остальные – с недоумением[97].
– Если угодно – да, – вдруг ставшим достаточно жёстким голосом сказал Тарханов, и под его взглядом, очень похожим на тот, каким он смотрел в прорезь пулемётного прицела перед началом первой очереди из последней ленты в отеле «Бристоль», репортёр непроизвольно съёжился. Этого человека он видел впервые, но предпочёл бы не видеть вообще. Уж они-то с полковником точно были из разных серий.
Из дальнейшего доклада Тарханова следовало, что главная особенность мероприятия, условно именуемого мятежом или путчем, заключалась в том, что обычными способами полицейского или жандармского (тут он машинально употребил привычные термины) сыска даже и сам факт его подготовки было невозможно обнаружить и тем более доказать. Соответственно, к господину Президенту и его сотрудникам (лёгкий поклон в сторону Мятлева), никаких претензий предъявить нельзя…
– А почему это вообще вы, полковник, заговорили о «претензиях?» – спросил Мятлев с излишним душевным подъёмом, проще говоря – с вызовом, свидетельствующем о том, что Герта недосмотрела и пару чарочек генерал изловчился пропустить лишних.
– Только потому, генерал-лейтенант, – очень резко ответил Тарханов, – что вы сейчас сидите у нас в Управлении, а не мы у вас, и помощи понятно кто у кого ждёт. Так что я попросил бы…
«Молодец, Сергей, научился кое-чему. С этими, бывшими советскими, так и надо…» – злорадно подумал Фёст. Тут вообще интересная мозаика начала складываться не только из событий, но и из людей, в них участвующих.
Президент тоже не совсем дипломатично взглянул в сторону Мятлева, даже губами пошевелил беззвучно, но понятно. Тот покаянно кивнул головой и замолчал, нервно сминая мундштук длинной «корниловской» папиросы.
– …Нельзя, – как ни в чём не бывало, продолжил Тарханов, – поскольку вот что у нас получается. Имеется ядро заговора, состоящее из людей, которые всё это просчитали, организовали, привлекли необходимые силы и распределили между собой высшие государственные посты. Самое интересное – все фактические материалы существования и деятельности этого ядра у нас есть, а персоналий – нет. Точно как и в прошлый раз.
Далее идут исполнители, из числа высших руководителей МГБ, армии, милиции и тому подобных военизированных ведомств. По большей части все они получали приказы, не очень понимая от кого, и исполняли, не слишком соображая зачем. Никто полностью общей картины не представлял, более того, приказы поступали зачастую намеренно противоречивые, словно бы в целях помешать, а не облегчить достижение общей цели.
– Управляемый хаос, – снова вставил с места Фёст, – достаточно известный, но отнюдь не бесспорный приём, вроде жертвы тяжёлой фигуры в обмен на темп…
– Похоже, – согласился Тарханов. – Это укладывается в нашу картинку. Третий слой – силы, оппозиционные власти. Независимо от их политической направленности и программных целей. Все они обработаны, профинансированы и мотивированы на саботаж любых провластных мероприятий. Здесь предусмотрены и спланированы уличные выступления, провокационные или сеющие разброд и смуту дестабилизирующие вбросы информации по Интернету, телевидению, любыми другими способами. Без всякой, казалось бы, осмысленной цели. Разнонаправленные, противоречивые, откровенно глупые, на первый взгляд, но в любом случае – деструктивные.
Четвёртое – привлекаются и даже стимулируются организации и движения, которые вроде бы ориентированы на поддержку режима, но самыми внеправовыми методами. Цель та же – дезорганизация, провокации, устрашение. При этом план предусматривает также вовлечение в беспорядки широких масс обывателей. Среди них распространяются слухи о грядущей «революции», негативные и позитивные в равной мере, организуется точечный, но тщательно спланированный дефицит наиболее популярных среди населения «в эпоху войн и революций» товаров, от табачных изделий и спиртного до круп и даже хлеба. Вплоть до кровавых, не преследующих никаких рациональных целей терактов. Рассчитанных на усиление хаоса, но уже в головах.
Ну и, наконец, широкое привлечение к информационной войне иностранцев всех мастей, национальностей и статусов. Дипломатов, журналистов, туристов, всяческих «наблюдателей», которых уже завезли в Москву как бы не несколько тысяч. Кто-то будет убит, в достаточном для «взрыва всемирного протеста» количестве, кто-то, наоборот, получит возможность вести прямой репортаж с самых психологически выигрышных точек…
Фёсту было жалко смотреть на Президента и Мятлева. Гораздо более тяжёлое зрелище, чем даже сюжет с мужем, внезапно узнавшим, что его любимая жена, мать троих общих детей – одновременно популярная звезда столичного дома свиданий, где пользуется вниманием в том числе и его лучших друзей. Поскольку Тарханов в ходе своего доклада называл множество имён, цитировал выписки из документов тайных и не очень совещаний, где и сам Президент, и каждый из его друзей и соратников получал самые нелестные, моментами прямо оскорбительные характеристики.
– Именно потому, что существует эта самая «демократия без границ», «гражданское общество», свобода слова и прочее, заблаговременно разоблачить такую схему практически невозможно. Пока всё в стадии разговоров – привлекать некого, когда началось – поздно. Особенно если в заговор практически или латентно вовлечена большая часть структур, поставленных действующую власть защищать…
Один Журналист сохранял видимость спокойствия:
– Ну, а что? В общем, ничего особенного. Достаточно мастерски сконструированная реплика февральского переворота семнадцатого года, будапештского пятьдесят шестого, пражских событий, ГКЧП и московского путча девяносто третьего. Вы бы распорядились, Вадим Петрович, такой доклад без рюмки коньяка позитивно воспринимать невозможно…
– Распоряжусь, – ответил Фёст, посмотрев на Чекменёва, – он тут хозяин. Просимое немедленно появилось прямо из тумбы письменного стола.
– Хорошо, – кивнул Анатолий. – Под наркомовские и на фронте воевать веселее было. Сообщение господина полковника, безусловно, произвело на нас ожидаемое впечатление. Он совершенно прав – своими силами с подобным проектом нам никак было бы не справиться.
– Как и мадьярам в том же Будапеште, – согласился Фёст. – Там ведь до сих пор не соглашаются признать, что никакая не «народная революция», жестоко подавленная советским режимом, случилась, а имел место почти аналогичный, правда, фашистский, при поддержке «антифашистских США и Европы» мятеж, также замаскированный «студенческими демонстрациями» и лозунгами о борьбе за «демократию», против «коммунистической оккупации»[98]. Ну, здесь на два уровня сложнее, так и мы чуток не те, что Хрущёв в пятьдесят шестом. Мы и поаккуратнее умеем, без ввода в город двух танковых армий. Тут вон у нас сидит-скучает твой коллега, господин Волович, сейчас ему слово дадим…
Глава двенадцатая
Все взгляды обратились к Воловичу. Он с растерянным видом вертел в пальцах только что полученную рюмку.
– Ну, а что я? Я что знал, рассказал, а так… – словно ища помощи, посмотрел на Фёста.
– Да не тушуйся ты, золотое перо демократии, – ободряюще сказал Фёст. – Чего тебе бояться? Ты теперь по моему ведомству проходишь, даже господин Президент и товарищ генерал Мятлев не станут твоей крови требовать. Тем более как всякий порядочный штрафник, ты её уже пролил и посему – чист. Просто людям, которым предстоит вскоре заниматься сложным и не всегда весёлым делом, хотелось бы из первых рук (или уст, черт его знает, как правильнее), получить живую, так сказать, даже – животрепещущую информацию…
Фёст опять начал валять дурака, всё по той же методике учителя и наставника Александра Ивановича. Вроде как типичное словоблудие, а там, глядишь, любая следующая фраза может выстрелить так, что мало не покажется.
– Знаешь, оперативная информация, собранная инструментальным способом, это одно, а живое, понимаешь ли, слово – совсем даже другое. Фактами мы располагаем, и здесь прозвучала только сотая доля того, что мы успели накопать, но кое-какие моменты чересчур наивным товарищам лучше вживую услышать…
При этих словах и Президента, и Мятлева опять передёрнуло, но Фёст не обратил на это никакого внимания. При всей врождённой лёгкости характера он за последние пару лет приобрел ранее несвойственные ему черты, в том числе и злопамятность. Не захотел Президент в то время, когда всё обстояло гораздо проще, можно было обойтись без серьёзного хирургического вмешательства, принять здравые советы и предложения – пусть теперь не обижается. Тогда захотел ручки чистенькими сохранить, а другим теперь пачкаться? Как говорил один из приятелей Ильфа и Петрова, прототип О. Бендера: «Ну, я не Христос».
– Скажи товарищам, Миша, отчего ты не захотел наше с Людмилой предложение принять, от целого миллиона евриков отказался?
– Да что тут говорить? Ну, действительно, все люди, которые могли бы поучаствовать в намеченном тобой мероприятии, уже были кем-то задействованы как раз для организации тех беспорядков, о которых здесь было сказано. И деньги были получены и розданы. Не мог же я на ходу всё переигрывать? Даже несколько тысяч плакатов с лозунгами на противоположные поменять… Тем более я ведь не организатор…
– Ты – вторая половинка тезиса, только «вдохновитель», – усмехнулся Журналист.
– И это неправильно. Я, в общем-то, над схваткой. И то, что я брал деньги и там, и там, и там, ничего особенного не значит. Зарабатывать никому не запрещено, и все мои действия, по сути, столь же правомерны, как и ваши. Я на самом деле считал, что вы со своими обязанностями не справляетесь, даже авторитаризм ваш – беззубый, а России нужна настоящая демократия… И ничего больше. Оппонируя вам, я действующих законов не нарушал. Более того – в какой-то мере исполнял свой гражданский долг.
– Как генерал Власов, – негромко сказал Журналист.
– В том и беда, что слишком часто законотворчество опаздывает, – заметил вроде бы рассеянно слушавший спор людей из постороннего ему мира Чекменёв. – Если бы у нас до семнадцатого года было чёткое, юридически оформленное понимание разницы между «демократическими взглядами» и «антигосударственной деятельностью», всё могло бы сложиться совсем иначе. И особенно – у вас. Соответственно – во всём остальном мире. К примеру, получи Гитлер и его подельники за свой «Пивной путч» не по году тюрьмы, а по бессрочной каторге, а прочие «штурмовики» – хоть по десять… Но это дело прошлое. Я думаю, нет нам особой необходимости развивать дискуссию. Давайте лучше Фёдора Фёдоровича послушаем, он военной составляющей нашей проблемы занимался, как генштабисту и положено.
Фон Ферзен вышел на место Тарханова, похлопывая по ладони складной лазерной указкой, что однажды привёз ему в подарок из другого мира Ляхов-Секонд. Она барону чрезвычайно нравилась и очень помогала на лекциях. И к картам и схемам, развешанным по стенам, не нужно слишком близко подходить, и цвет луча можно менять, и диаметр – то в точку его сводить, то расширять, показывая не отдельные объекты, а целые районы и абзацы текста.
Вот и сейчас он немедленно её включил и обратился к плану Москвы.
Суть его доклада сводилась к расчёту сил и средств, необходимых для наведения порядка в городе, при тех-то и тех-то условиях. Исходя из признаний, сделанных бывшим начальником одного из главных управлений МГБ Стацюка, реально мятежники опирались только на одно специально подготовленное к вооружённому захвату власти подразделение «Зубр», устроенное по типу детской игрушки «Лего». То есть оно существовало как бы только в сфере представлений его анонимного главкома, в реальности воинского формирования с таким названием, местом постоянной дислокации, определённым числом личного состава, штатным вооружением и средствами усиления вовсе и не было. Было ядро кристаллизации, учебный батальон вроде бы вполне аполитичного ведомства.
Не зря даже Мятлев, по идее осуществлявший контроль и надзор за всем силовым блоком государства, ничего о нём не слышал. Это, конечно, вчера инициировало у Леонида Ефимовича вспышку комплекса неполноценности, от которого его очень удачно и вовремя отвлекла Герта. Но, с другой стороны, он не мог не восхититься красотой замысла, как при разборе хитроумной шахматной задачи, что в своё время регулярно публиковались в журнале «Наука и жизнь». Такого, конечно, не мог придумать ни сам Стацюк, ни кто-либо из его подчинённых. Не знал Мятлев в министерстве таких офицеров – гениев комбинации и одновременно убеждённых врагов существующей власти.
На самом деле в распоряжении мятежников была целая разобранная армия, обитающая в компьютерных файлах, но состоящая из вполне конкретных взводов и рот. Батальонных структур, усложняющих механизм на порядок и расширяющих круг посвящённых, у «Зубра» не предусматривалось. Все его мнимые подразделения реально имели место, входили в состав самых разных частей и подразделений армейских спецназов, в том числе и ГРУ, ВДВ, особо подготовленных ОМОНов и СОБРов. Плюс к этому – разнообразные ЧОПы, которые при наличии подходящей «крыши» (а куда уж лучше – целый Главк министерства), вполне могли содержать внутри себя особого рода боевые единицы. И – разного рода клубы, пейнтбольные, охотничьи, военных реконструкторов и тому подобные.
Много чего интересного можно найти или создать в пятнадцатимиллионном городе, даже не привлекая подкреплений со стороны. Вышеупомянутая Венгрия, к примеру, во время Второй мировой войны насчитывала меньше десяти миллионов населения, а имела армию, достаточно успешно воевавшую против СССР на стороне Германии до последнего дня. И сохранила достаточно кадров, чтобы через десять лет, стремительно мобилизовавшись, больше двух недель вести в Будапеште уличные бои против регулярных дивизий Советской Армии. С этим «подпольным войском» не справились ни собственная армия, ни МВД и АВХ[99].
Штаб, имея полный комплект комсостава, мог объявить «всеобщую мобилизацию», и по условным сигналам боевые группы, не вступая в непосредственный контакт, в течение полусуток могли занять определённые дислокацией и текущими приказами места и тут же приступить к выполнению элементов единого плана. До последнего момента рядовые бойцы и младшие офицеры понятия не имели, что служат в части «двойного назначения», а потом получали подкреплённый волновым импульсом приказ, не выполнить который не могли физически. Не требовалось ни «боевого сколачивания», ни совместных манёвров – каждый исполнитель получал расписанный по минутам график действий, а старшие командиры лишь занимались корректировкой взаимодействия, исходя из требований могущей непредсказуемо меняться обстановки.
Фон Ферзен отметил, что в данном случае методика должна была применяться такая же, как и во время антикняжеского путча, только с гораздо более высокой степенью мотивации, если можно так выразиться. Но этими делами занимались люди повыше и посерьёзнее, чем какой-то генерал МГБ. Один из них – тот, что приезжал вместе со Стацюком на дачу Президента. Ещё одного, по имени Вячеслав Борисович, форбсовского уровня бизнесмена и одновременно председателя одного из думских комитетов, координировавшего этот этап акции из своего секретного офиса на Мясницкой, вычислила и изрядно напугала Герта.
С помощью всё тех же пресловутых Шаров всю эту работу по выявлению аналогий и сопоставлению однотипных элементов плана «Форос», как назвал его Фёст, проделал он с валькириями, а результаты для обработки передал Секонду с Тархановым. Точнее сказать, то был не план, а как бы вирусная программа, запустившая будто бы очередной уровень компьютерной игры. Тем более что у них уже имелись предварительные материалы, собранные Вяземской по собственной инициативе, и все разработки по результатам «Мрака и тумана».
– Таким образом мы на сегодняшний день можем предполагать наличие в Москве около двух – двух с половиной тысяч полностью замотивированных и готовых исполнить любой, я подчёркиваю – любой приказ бойцов. Судя по тому, что нам известно – какие бы то ни было переговоры с ними бессмысленны, они подлежат поголовному уничтожению или… В общем, это уже не моё дело. После завершения операции пусть законная власть решает, исходя из целесообразности и реальных возможностей, – лицо у полковника Ферзена стало жёстким, несмотря на природную округлость, и стало понятно, что он на самом деле из тех средневековых рыцарей ливонского ордена, сначала полтысячи лет яростно воевавших с восточными славянами, а потом более трёх сотен – верой и правдой служащих Российской Империи. Очень хорошо служащих, надо сказать. В отличие от немцев из Германии их давно уже не волновал вопрос «крови»: в Империи нет национальностей, есть только подданные, служащие общему делу и, разумеется, имеющие полное право в «нерабочее время» разговаривать на каком угодно языке, соблюдать близкие им обряды и исповедовать практически любую религию. Но именно – тогда и в тех объёмах, пока это не препятствует общему делу.
– Значит, для этого мы должны задействовать, по моим расчётам, двукратно превосходящие силы частей Отдельного корпуса, штурмгвардии и «печенегов», разумеется. Мы не имеем возможности, к счастью, гипнотизировать своих солдат, поэтому нам потребуется сотня, а то и две ваших людей, – сделал Фёдор Фёдорович лёгкий поклон в сторону Президента. – На должности советников и дублёров командиров подразделений от взвода и выше. Наши бойцы, как вы понимаете, не владеют обстановкой, не знают местных особенностей, обычаев и обстоятельств. А им предстоит деликатная работа, не просто захват вражеского населённого пункта и нейтрализация гарнизона…
– Найдём людей? – спросил Фёст прямо у Мятлева. – Требования тебе понятны, так что вопрос чисто технический.
– Должны найти. Если бы только получить возможность гарантированно определять, зомбирован человек или нет…
– Думаю, такая возможность есть? – повернулся Фёст к Секонду.
Он имел в виду не только Людмилу и Герту с Шарами, вдвоём бы они и за неделю не справились, а и Максима Бубнова с его отделом и верископами, усовершенствованными, в том числе и с использованием аппаратуры НЛП, захваченной во время операции «Мрак и туман». Но вслух об этом говорить не хотел даже и в этой аудитории.
– Немедленно проверим. Прямо сейчас позвоню Вяземской, пусть они на Стацюке и том капитане попробуют.
– Подполковника Бубнова привлечь? – вопросительно приподнял бровь Чекменёв, догадавшийся, о чём говорил Фёст. – Вы же там чего-то такого экспериментировали?
– Обязательно, – ответил Ляхов. – Я хотел сразу после совещания его пригласить. Потребуется с полсотни его полевых аппаратов, но для начала – хоть десяток, с операторами, естественно. А стационар – это уже на следующих этапах. Там о сотнях весьма важных персон речь пойдёт и крайне глубоком зондировании[100].
Президент с Мятлевым и Журналист переглядывались, потеряв нить разговора, но вопросов не задавали, просто не понимая, о чём следует спрашивать.
– Да вот мы сразу, как закончим, с господином Воловичем в отдел к Максиму и съездим. На нём и потренируемся…
– А может, лучше на кошках? – с улыбочкой, долженствующей означать, что он здесь вполне освоился и претендует на равные хотя бы со своими соотечественниками права, спросил репортёр.
– Так ты как раз кошкой и будешь, – без тени иронии ответил Фёст. – Волки, барсы и шакалы потом пойдут, а в ходе беседы с тобой доктор Максим просто подрегулирует настройки, приведёт в соответствие с особенностями психики наших совремё́нников. Наверняка ведь имеются различия. Это, знаешь, как разница в проценте алкогольдегидрогеназы у европейцев и азиатов.
– А что же на тебе не проверили? Время было…
– Наглеешь, Миша, а я этого не люблю. – Ляхов-первый встал и очень многозначительно пошевелил пальцами правой руки, словно прикидывая, сжимать её в кулак или не стоит. – Очень свободно могу засветить сейчас в зубы, чтобы сначала думал, а потом говорил. Раз тебя в приличное общество начали пускать, так вообразил, что и двухпросветные погоны на золочёном подносе вручат? Всё наоборот. Считай, что если у тебя какие лычки и были, их уже сорвали. Ты теперь, друг мой, по ту сторону добра и зла. Ни один излюбленный тобой принцип, либерте там всякое, эгалите и прочая галиматья, отныне не применяются. Просите, и воздастся вам… по шее. Так что при каждом удобном случае будешь щёлкать каблуками, есть меня глазами и делать, что скажу. На известных тебе условиях.
И снова гости с удивлением смотрели на своего земляка. Очень естественно и убедительно выглядел он сейчас, чувствовалось, что ни капельки не играет. Было это как-то очень непривычно даже военнослужащему Мятлеву. Та самая разница в психологии проявилась, которую до поры было почти незаметно. Некая конкретность и окончательность, от которой совершенно отвыкли и Президент, и его друзья за много-много последних лет. В их кругах слова сами по себе давно уже ничего не значили, и дураком считался тот, кто пытался воспринимать речи, обещания, даже угрозы собеседников в буквальном смысле. Обязательно нужно было искать подтекст, второй или третий смысл, аллегорию какую-нибудь, а сам по себе текст, не подтверждённый иными, невербальными доводами, не значил почти ничего.
Не могли же они знать, что после случившегося с ним на Перевале духовного перерождения Вадим Ляхов почти год проходил специальную подготовку кандидата в рыцари Братства, да и потом повидал столько всякого, что и слова для него теперь значили очень много, и часто – совсем не то, что для людей постмодерна.
Остальные сделали вид, что этот краткий урок, явно предназначенный не одному Воловичу, их не касается. Только Секонд подумал, что Фёст на своём посту чрезмерно ожесточился, не слишком много в нём осталось от того аналога, брата-близнеца, что было при первых встречах.
«То есть и я здесь смог бы стать таким же, если б иначе всё сложилось? Если бы мне вместо Академии, чина, флигель-адъютантства, Майи – то, что досталось ему…».
Секонд невольно передёрнул плечами. Ну, даст бог, всё у брата ещё наладится. И с Людмилой, и с общественным положением…
Барон Ферзен терпеливо дождался, пока стихийные прения прекратятся.
– Значит, для непосредственной работы в городе и ближних окрестностях нам потребуется пять-семь тысяч человек. Часть из них, пожалуй, нужно будет переодеть в аутентичную времени военную форму и вооружить так же. Остальные своим обойдутся. Решаемо?
– Так точно, – ответил Мятлев. – Я знаю, где находятся «базы хранения» с достаточным количеством обмундирования, оружия и техники, включая артиллерию и танки. Это у нас так называются места расквартирования бывших полков и дивизий, ныне сокращённых, – пояснил он для Чекменёва и Ферзена. – Их имущество должно быть использовано в случае объявления общей мобилизации. – И обслуги с охраной при них кот наплакал. Берусь организовать всё без бюрократии и прочих неприятностей.
– Очень хорошо, – кивнул Чекменёв. – Дальше…
– Дальше нам потребуется ввести в дело ещё одну или две вполне боеготовые, обстрелянные дивизии, на случай, если к мятежникам присоединятся регулярные воинские части или значительные массы вооружённого населения. Для них тоже – минимум по два-три консультанта на роту и советники командира и начштаба от батальона и выше. Чтобы вовремя подсказали, когда нужно использовать силу по максимуму, а когда – ограничиться переговорами или точечным воздействием.
– Найдём, – снова сказал Мятлев, а Фёст только кивнул, но чувствовалось, что на слова генерала он полагается меньше, чем на собственные возможности.
Президент подумал, что сейчас запускается машина, результаты работы которой так же непредсказуемы и непредставимы, как решение Николая Второго поддержать Сербию в августе четырнадцатого или осенившая Горбачёва идея затеять «перестройку», не представляя реально даже ближайшей, не говоря о последующих, задачи. И точно так же, как в указанных случаях, нет никакой приличной альтернативы. «Дебют» его, как главы государства, всё равно проигран вчистую, а вот попытка «пересдать карты» сулит хотя бы некоторый шанс на успех, и в любом случае новый проигрыш не будет похож на предыдущий, зато выигрыш легко перекроет все издержки, моральные в том числе… Самое же главное – от него лично сейчас абсолютно ничего не зависит. Он, Верховный главнокомандующий, даже не знает, где найти несколько сот надёжных офицеров на должности военсоветников. Свадебный генерал, не более, или – Киса Воробьянинов на заседании «Союза меча и орала»: «Вы должны молчать, – сказал Остап. – Иногда, для важности, надувайте щёки».
– Последний вопрос – как быть, если в ответ на наши, вполне законные с любой точки зрения, действия, последует внешняя интервенция? С любого азимута? – этот вопрос фон Ферзен задал уже прямо Президенту. – Можете вы обеспечить лояльность и готовность выполнять приказы своего Верховного главнокомандующего войск Стратегической обороны?
Оказывается, этот полковник и о Ракетно-космической обороне осведомлён? Впрочем, чему же удивляться?
– Если вы доставите меня в расположение одной из таких частей, с достаточной группой поддержки – смогу. – Президент постарался ответить твёрдо. – Только неужели вы и такой вариант предусматриваете? Не слишком ли?
Вместо Ферзена снова ответил Фёст:
– Вам не кажется, что в любом ином варианте Россию ждёт судьба Ирака, а вас – Хусейна? Вообразите, что уже утром объявится какой-нибудь «Демократический комитет общественного согласия» или любая другая хрень? Провозгласит себя законной властью и немедленно обратится к НАТО, США и «всему мировому сообществу» с просьбой о немедленной помощи вооружённой силой? В обмен на то-то и то-то. Думаете, откажут? Друзья господина Воловича, – он ленинским жестом указал на Михаила – пообещают концессии сроком на 99 лет, совместное управление нефтегазовым комплексом, да вообще что угодно. В этом случае нам и придётся отчётливо и на весь мир заявить, что любая попытка вмешательства в наши внутренние дела получит именно такой ответ. «Неприемлемый ущерб» – это ведь не мы придумали. А возможность для вас выступить на всех мировых телерадиоканалах мы обеспечим, помимо любой Генеральной Ассамблеи. Впечатление будет очень яркое, и нужное нам время мы в любом случае выиграем…
Остальные разговоры носили уже чисто технический характер, и по завершении «Совета в Филях», как выразился всё тот же Фёст, Чекменёв сказал, что отправляется на доклад к Императору, а все остальные немедленно должны приступать к работе в рамках намеченных планов.
– Только прошу иметь в виду, – добавил Фёст, – как только я перейду на ту сторону, время и там и здесь снова синхронизируется. И каждый час снова станет полноценным и невозвратным часом. Как ты считаешь, сколько времени потребуется на переброску из Москвы в Москву через Екатеринбург намеченных двух дивизий? – повернулся он к Секонду.
– Если приказ отдать немедленно – до начала ввода войск в тоннель – часов шесть. Если побатальонно, по готовности – чуть быстрее можно управиться. А вот потом… Свои самолёты на ту сторону не протащить, – развёл он руками. – Придётся что-то решать с транспортом. Это полностью на вас. Если не справитесь – нам что? Захватывать поезда или машины, автобусы… Тогда суток через трое передовые отряды, может, и доберутся, да и то могут сложности возникнуть…
Фёст и стоящий рядом Мятлев поняли смысл его эвфемизма. Секонд подразумевал, что по нынешнему времени попытка неизвестной принадлежности вооружённых формирований захватить транспорт для проезда в Москву может обернуться чем-то вроде Будённовска девяносто пятого года.
– Хорошо, – ответил Мятлев, – сделаю всё возможное и невозможное, но с утра с транспортом решим. Пошлю в Екатеринбург спецгруппу на самолёте МЧС и несколько человек с неограниченными полномочиями от лица Президента. Отменим все гражданские авиарейсы хотя бы на сутки. Думаю, с МПС тоже разберёмся.
– В общем, из этого и исходим, – подвёл итог Фёст. – Я имею ещё кое-какие соображения, к утру увидим, верные или не очень.
…Фёст уточнил текущее время за дверьми квартиры, выходящими в «первую реальность». Пока всё сходилось, почти сутки они «отыграли» – специальный хронометр в нише на стенке прихожей показывал, что там по-прежнему девятнадцать часов с минутами вчерашнего дня. Значит, никто из врагов, имеющих доступ к межвременным переходам, ими не воспользовался, туда и обратно переходов не совершал. В какой-то мере это было странно – самые чуткие, вроде одного из организаторов этой заварушки, вычисленного Гертой Вячеслава Борисовича, могли бы уже начать «эвакуацию». Ещё два года назад, в ходе «Мрака и тумана», Александр Иванович Шульгин по своим каналам выяснил, что не меньше сотни человек в Москве знали о существовании «прекрасного нового мира». Была даже организована торговля среди людей «своего круга», «визами» и «путёвками» на ПМЖ в Российскую Империю. Нашлось немало людей, не желавших жить здесь, но и не хотевших превратиться в «лондонских сидельцев», вроде Березовского, людей второго и третьего сорта, несмотря на свои миллионы и миллиарды.
А сейчас движения «через границу» не замечено. Возможно, просто не собрали ещё барахло в дорогу, туда ведь нужно являться с реальными ценностями, а не с платиновой «Визой». Или, что тоже возможно, пользуются какой-то другой методикой, на текущую хронологию влияния не оказывающей.
Вадиму захотелось, перед началом дела, посоветоваться хотя бы с Воронцовым, раз уж Сильвия со всей командой временно недоступна. Но он решил этого не делать. Может быть, просто поостерёгся. Он так ничего толком и не понял ни в хронофизике как науке, ни в мистике, с помощью которой Удолин добивался почти аналогичных результатов. Но с первых дней занятий в Форте Росс урок усвоил, сначала от Шульгина, потом от Левашова, да и Сильвия несколько раз говорила, что все эти «прыжки между уровнями Гиперсети» настолько же рискованы, как и любительские упражнения членов кружка «юных сапёров» с настоящими взрывными устройствами, и вполне подобны мотокроссам по минным полям.
Есть некоторое количество приёмов «техники безопасности», но и только. То, что никто ещё как следует не подорвался – дело случая. Да и что значит – «не подорвался»? Мало того, что в самом начале истории Шульгин, Новиков и прочие пусть и добрались до далёкой планеты, и сумели заглянуть в будущее и прошлое, так зато потеряли ориентиры «обратной дороги» и навсегда остались в этих, настоящих ли, «химерических» ли мирах. Да и у него самого, на пару с Секондом, очень всё интересно сложилось. И продолжается, кстати. Так что говорить – «ничего не случилось» – довольно опрометчиво.
Кроме того, каждый переход через пространство-время является ещё и демаскирующим фактором. Вроде кильватерного следа корабля в ночном фосфоресцирующем океане, хруста валежника и огонька сигареты в лесу, где тебя наверняка ждёт засада.
То есть пользоваться и СПВ и блок-универсалами всё равно пользовались, куда денешься, но всё время предостерегали друг друга и особенно неофитов об опасности и нежелательности такого занятия.
Выбор ведь невелик. Лететь, как Линдберг, через Атлантику на ненадёжном поршневом самолёте или месяц добираться на паруснике, смиренно снося и штили и шквалы? Тогда проще всего сидеть у себя под кроватью и не высовываться, в рассуждении «как бы чего не вышло?».
Фёст почти год вёл себя подобным образом, и что? Стало только хуже. Занялся бы он «домашними делами» вплотную с момента, когда получил на это права и возможности – совсем по-иному всё могло бы выглядеть… Да что теперь…
Герту он пока оставил «на хозяйстве», присматривать за уже обжившимися гостями и ждать новых, долженствующих вскоре появиться. Секонд сейчас готовил первую «десантную партию». А с собой велел собираться Людмиле.
Сейчас ей нужно было снова переодеться и нарисовать себе чуть-чуть другое лицо. Так, чтобы получилось нечто среднее между той бабой, что ходила на встречу с Журналистом, и собой в том виде, что вчера был предъявлен Воловичу. Проще говоря, стать максимально похожей на обладательницу американского паспорта, залетевшую в Москву по делам этой самой «Комиссии паранормальных явлений». Повзрослеть лет на пять, потерять процентов сорок своей бьющей в глаза привлекательности – не Фай Родис всё-таки, прибывшая на планету Торманс[101] с дружественным визитом. Ну и одеться универсально, как сравнительно состоятельная американка, знакомая со стилем нарядов туземных женщин и пытающаяся ему соответствовать, но при этом не отказавшаяся от намертво вколоченных в голову на той стороне Атлантики стереотипов. И одновременно чтобы наряд не мешал ей тут же вступить в бой, если придётся.
Ей потребовалось полчаса, чтобы Фёст, осмотрев плоды Людмилиных трудов, кивнул удовлетворённо. Да уж, получилось нечто. Довольно-таки глупо выглядевший микст из бежевого платья типа «сафари», растоптанных и уже не очень белых кроссовок, не то индейских, не то папуасских браслетов и ожерелья. Правда, надетый под платье кевларо-керамический корсет чересчур подчёркивал выразительную грудь. Американки в обычной жизни не любят себя стеснять, да и по их политкорректным убеждениям бюст должен выглядеть как можно непривлекательнее, такой, как у Вяземской, там носить неприлично. Могут счесть за вызов и упрёк всем прочим особям этого пола. Ещё на ней была совершенно никчёмная, если не сказать – дурацкая, леопардовой расцветки бандана, стягивающая желтовато-рыжие, прямые, похоже, неудачно покрашенные волосы. И – сумка через плечо из бизоньей кожи, украшенная кожаной бахромой и бусами. Чучело получилось, честно говоря, но для аборигенки Нью-Йорка или Сан-Франциско – всё равно чересчур симпатичное – ни ног ведь, ни гибкости фигуры, ни плавности движений не скроешь надолго.
– В общем, пойдёт, – оценил Фёст. – Особенно по вечернему времени. Кто-то вообще внимания не обратит, кто-то про себя дурой обзовёт или догадается, что ты – не отсюда. «Понаехавшая». Главное – никакого связного впечатления у обычного человека о тебе не останется. Как говорил товарищ Сталин: «Сумбур вместо музыки». Нам того и нужно. Ну, значит, пойдём…
Фёст прикрыл за собой дверь, отделявшую основную квартиру от соседней, формально (в той РФ) принадлежащей гражданке Сильвии Берестиной – даме без определённых занятий, жене проживающего в Лондоне и весьма богатого русского художника. В отличие от «базовой» эта квартира, хотя и являлась её зеркальным отражением по планировке, обставлена и оформлена была совсем иначе. Леди Спенсер хоть и наезжала сюда эпизодически, то одна, то с Алексеем, желала, чтобы любой случайный (и не очень) посетитель сразу понял, насколько рафинированная, с особо тонким вкусом особа тут проживает. Только кабинет почти один в один повторял тот, что за капитальной, в аршин тёсаного камня, стеной. Это уже Берестин так распорядился, ему нравилось, бывая здесь, проводить выпадающие иногда часы уединения именно здесь, вспоминая свою словно бы уже и нереальную, так давно это было, прогулку в далёкий-далёкий, а всё же существующий по-прежнему на своём месте шестьдесят шестой год. Он даже поставил на стол изготовленную с помощью Шара фотореконструкцию той девушки, в которую он был влюблён тогда, за восемнадцать лет до появления в его жизни Ирины. Ради того, чтобы ещё раз увидеть её молодой, он, пожалуй, и согласился на ту авантюру. Так ему, по крайней мере, теперь казалось.
Фотографию было не отличить от подлинника, если бы он был, ну и то, что снимок цветной, – тоже редкость для середины шестидесятых. На листе несуществующего здесь формата 18х24 был восстановлен момент, когда Она появилась в своём дворе, а он, вернувшийся из будущего дядька почти вдвое старше, сидел на скамейке под липами и с замиранием сердца слушал звон её каблучков по асфальту и смотрел на вьющуюся вокруг загорелых ног клетчатую юбку[102].
В том, что Берестин держал на столе именно эту фотографию, был некий вызов и намёк. И Ирине, и Сильвии.
Но ни Фёст, ни тем более Людмила обо всём этом понятия не имели. Эти две вышеназванные дамы могли оценить изысканность ситуации, а Вяземская, мельком взглянув, отметила, что девушка хороша собой, но одета и обута, на её взгляд, совершенно ужасно. Однако занимало валькирию сейчас совсем другое.
Убедившись, что замок щёлкнул и они остались совершенно одни, она вдруг шагнула к Вадиму, сжала пальцами его плечи, запрокинув голову и зажмурив глаза, подставила губы. Ляхов, тоже изо всех сил обняв девушку, начал её отчаянно целовать. Вчерашняя ночь оказалась для обоих слишком серьёзным испытанием. Может быть, и полезным, но уж чересчур мучительным. Вадим-то вида не подавал, но чувствовал себя не слишком хорошо, пролежав полночи без сна рядом с обнажённой любимой девушкой, тем более – уже не только согласившейся идти замуж, но прямо сейчас готовой… Подобные упражнения в его жизни случались, но там было проще – он отказывался от девушек и женщин, которым по тем или иным причинам не хотел давать ни поводов, ни надежды… И не хотел связывать себя, разумеется, пусть в тот момент от него и не требовали признаний и обещаний.
Сколько-то времени они жадно, как в юности (впрочем, для Людмилы это как раз и была та самая, ещё невинная, юность), целовались, вжимаясь друг в друга телами. Потом она вдруг схватила его за руку выше локтя и потянула за собой, в глубь квартиры. Почти наугад толкнула дверь и попала куда нужно – в большой и вызывающе роскошный будуар Сильвии, скопированный с такого же в её лондонском фамильном доме, лучше сказать – городском замке.
У широкой, застеленной причудливо раскрашенным индийским пледом XIX века кровати она подтолкнула Вадима, он присел на её край, а сама, стоя перед ним, покраснев и прикусив губу, торопливо снимала платье, говорила сбивчиво:
– Знаешь, я так не могу, не хочу… Мы снова идём на войну, и остаться… – Она чуть не сказала «вдовой нетронутой», но вовремя сдержалась. – Пусть будет как надо, как у всех… Можешь после этого считать меня по-настоящему женой или вообще никем не считать, а сейчас сделаем, как я хочу… Тебе же это не трудно? Ты ведь тоже этого хочешь? А я люблю тебя, люблю, пойми же…
На глазах у неё выступили слёзы, и в голосе они звучали.
Тут вышла заминка. Людмила и так была на пределе, а ведь она словно забыла, что не бальный или настоящий свадебный наряд на ней. И сам этот отчаянный порыв случился совсем неожиданно, иначе не стала бы она перед этим тщательно экипироваться для боя. И сейчас девушка нервно, зло дёргала застёжки широкого кожаного пояса, к которому с двух сторон были подвешены пистолеты с запасными магазинами. Что-то, едва ли пристойное, шипя сквозь зубы, отцепляла нижние ремешки, фиксирующие кобуры вокруг бёдер чуть выше колен.
Само собой, снаряжение для «быстрой любви», когда достаточно просто упасть в объятия милого, а он сам сделает, что нужно, не очень подходящее.
В платье, что надела Людмила, с расклешённой юбкой, её арсенал был совсем незаметен, только нельзя позволять посторонним к тебе вплотную прижиматься и за ноги и грудь хватать.
Закончив с пятикилограммовой «упряжью», Вяземская чуть было не швырнула раздражённо всю эту сбрую прямо на пол, да вовремя опомнилась. Прежние уроки подействовали. Обошла кровать с торца, положила аккуратно на тумбочку, в пределах досягаемости. Потом, уже поспокойнее (методические, уставами предписанные действия весьма способствуют поддержанию душевного равновесия), сняла тугой бронекорсет и единственную чисто штатскую и эротичное вещичку.
– У нас сколько угодно времени, – шептала Людмила, вытягиваясь на постели, оплетая его шею и плечи руками, снова подставляя губы. – Нам совсем некуда торопиться, милый. Я тебя очень-очень люблю, ты же видишь. Я хочу, чтобы ты был совсем мой, а я твоя… Навсегда, да?
Потом она сидела поджав колени к подбородку и обхватив их руками.
– Видишь, я ждала только тебя. У меня ещё никогда ни с кем ничего не было… Меня учили ты даже не представляешь чему: как это делали в Индии тантристы и как «любили» ацтеки или майя, ещё до испанцев. И даже таким вещам, что люди на Земле вообще не представляют. Это… знаешь… Ну, вроде как умение ходить босиком по горячим углям или с завязанными глазами по канату… Или гипнотизировать настоящих ядовитых змей. Мы всё это должны были знать и использовать в работе. А я – хочешь верь, хочешь нет, когда это слушала и смотрела – ну до того противно было! Я ведь и книги читала, нам полагалось всеобщее высшее образование… Знаешь, у меня не накладывалось – про настоящую любовь читать, и – о том… Я с самого начала зареклась, ну, как только нас Левашов на Землю вернул и мы с Майей, Татьяной, Натальей Андреевной познакомились, – если сумею, любовь у меня будет только с настоящим мужем. Не знала, найдётся ли такой, но верила, ждала… И придумывала, как это сделаю… Вот видишь, повезло. Познакомились, на даче… Хорошее место и время, чтобы влюбиться, правда? А я вот влюбилась… – Она усмехнулась какой-то неожиданно растерянной, жалкой улыбкой. – Сколько раз воображала, как у нас получится, если… Ты не думай, мне с тобой сейчас очень хорошо было, а первый раз так не всегда случается… Мне только очень жаль, что у меня сейчас… не то лицо. Лучше бы настоящее… Чтобы ты на меня всё время смотрел, как первый раз на даче… Сейчас не то… Я помню, ты ведь играл тогда, для ментов. А вдруг взглянул – я и поняла, сейчас не играешь. Словно впервые увидел…
– Да какая разница, – сказал Фёст. – Ты лучше меня прости за вчерашнее. Понимаю – обидел… – Ему отчего-то было слегка не по себе. Как он сможет всё время быть достойным таких чувств и таких слов? Нет, он тоже её любил, как понимал это чувство, но сейчас Вадиму казалось, что он слишком стар для неё, с не очень подходящим для «чистой любви» жизненным опытом, не способен отвечать представлениям и чувствам двадцатилетней девочки. Хотя никто из валькирий не знал своих дат рождения, и Майя с Татьяной придумывали им дни и месяцы из двух соседних лет, тоже исходя из собственных нумерологических пристрастий и чтобы знаки Зодиака как-то соответствовали внешности и характерам. Так что через месяц (кстати!) Люде будет уже двадцать два!
Она заметила на его лице отражение этих мыслей, потянулась к нему, снова обняла, прижалась всем вытянутым в струнку телом.
– Ты ни о чём не думай, всё будет хорошо, я ведь с тобой, я тебя никогда не оставлю, всё буду делать, чтобы нам… Чтобы мы… На этом свете – точно…
– А на том? – усмехнулся Фёст, гладя её по спине ладонью, слишком шершавой для её атласной (или – шелковистой?), кожи. Лицо-то она себе подправила, а тело осталось прежним.
– А того – просто нет! Мы всегда будем только на этом. Лет сто или двести. Как Сильвия. Не успеем друг другу надоесть?
– Как пойдёт, – снова улыбнулся он, повернувшись на спину, а Людмила, привстав на колени, погрузила пальцы в его волосы и подставила для поцелуев грудь.
Только часа через полтора они, наконец, вышли на лестничную площадку. Вяземская сверкала глазами, её прямо переполняли эмоции и избыток физической и нервной энергии.
Но сейчас двумя этажами ниже сидел весьма проницательный человек, с которым предстоял весьма серьёзный разговор, и Вадим строгим шёпотом, показывая, что романтика кончилась и начинается служба, велел ей собраться.
– Не то у нас сейчас положение, поручик Вяземская, чтобы светиться и порхать, понимать надо. Перенастройтесь. Вы иностранка, напуганы происходящим, в то же время вам очень интересно, заодно соображаете, можно ли на данных обстоятельствах подзаработать. Уловили вводную?
– Поняла, будет сделано, – заученно ответила Людмила, но не удержалась, ещё раз на мгновение коснулась губами его губ, провела ладонью по щеке и только после этого сосредоточилась. А уж играть она умела что угодно и в любых предложенных обстоятельствах. В Вахтанговском театре сразу бы на первые роли взяли, наверное.
И Вадим вдруг подумал, что где бы ещё он нашёл такую жену (впервые назвав Людмилу этим термином)? Слава богу, что военнослужащая. Попробовал бы он штатской жене сказать нечто подобное, да в таком тоне! Понеслись бы, как в сказке, клочки по закоулочкам…
Консьерж Борис Иванович был на месте, на что Вадим и рассчитывал. Увидев его, ушедшего всего несколько часов назад в приличной компании чёрным ходом через гаражи и неведомо как вновь оказавшегося дома, не проходя мимо вахты, отставной майор больше не стал удивляться. Надоело.
И баба с ним опять новая. Правда, всего через минуту намётанный взгляд офицера-разведчика засёк, а тренированный ум разложил по местам все приметы, признаки, неуловимые для непосвящённого детали. Снова Людочка, школьница-выпускница. Ну, бля, артистка! Сейчас таких ни в кино, ни по телику не увидишь, если не старые фильмы, конечно. То лет восемнадцать, то тридцать пять, то двадцать пять – двадцать семь, как сейчас. И лицо ведь меняет, и выражение глаз… А вот с фигурой, походкой, всеми прочими движениями – хуже. Не получается совсем избавиться от настоящего стиля. Он-то знает, видел таких ребят, из самого-самого спецназа ГРУ. Правда, в том и дело, что ребят, как правило – капитанов, лет под тридцать. Те тоже умели так вот двигаться, даже в нерабочее время.
Он не совсем поверил тому, что наскоро, заскочив на минутку, рассказали Эдуард с Григорием. Подробнее обещали позже, когда он с дежурства сменится. Может, по фактам и верно, но вот детали… Уж больно круто, и в американском кино такого не увидишь. А сейчас вдруг поверил. Наступает, так сказать, момент кристаллизации. В настоящий момент – психической.
– Опять у вас что-то приключилось? – стараясь, чтобы звучало понебрежнее, спросил майор.
– Да я даже и не знаю, дядя Боря, – прежней улыбкой сверкнула Вяземская. – У нас или у вас. С тех пор как мы последний раз виделись, что-то интересное произошло?
А виделись они, «по прямой хронологии», ровно шесть часов назад.
– Я вот, честно сказать, после нашего разговора очень насторожился, – сказал майор, обращаясь уже к Фёсту. – Понял так, что вы очень надолго исчезаете и все ожидаемые события могут случиться без вашего участия. А сами – тут же…
– Обстоятельства, друг, обстоятельства, – как бы чуть ёрничая, ответил Вадим. – Думаешь одно, выходит по-другому. Значит, про нападение на дачу Президента и прочие события ещё не слышал?
– Какое нападение? И откуда бы я слышал? У меня весь доступ, – он кивнул на маленький приёмник, гонявший «Радио-шансон». – А остальное – по телику, когда сменюсь…
– Сменщика позови, – сказал Фёст. – Минут на двадцать разговор есть.
– Вон сменщик, в подсобке. И что? – спросил майор, выходя из-за своего бронированного стекла, привычным жестом чуть сдвинул назад по ремню кобуру с «ПМ-ом».
– Да вон там, наискосок, трактирчик есть. Его как, сильно смотрят?
– Не думаю. Некому и незачем. Здесь с самого девяносто пятого года, если не ошибаюсь, никаких сходок не бывало, ни «голубые» не собираются, ни либералы. Иногда удивляюсь, с чего они до сих пор существуют.
Фёст знал – с чего, только не время сейчас ещё и эту тему поднимать.
– Ну давай и зайдём, накатим по-офицерски, есть за что, поверь. Там и поясню моменты.
Трактир имени Гиляровского и вправду был неплох. Малолюден и уютен. Тонкостями кулинарии ни один из трёх офицеров не озабочивался, а диапазон выпивки был как везде.
Только Люда вдруг блеснула эрудицией, наверное, обстановка подействовала.
– Я вот читала, что Владимир Алексеевич, «дядя Гиляй» то есть, если не в хорошем ресторане, рюмку водки закусывал печёным яйцом, и ничем больше.
– Ну, девушка, с тех пор кое-что изменилось, – философски заметил майор.
– Никогда в жизни не ела печёных яиц, – сообщила якобы американка.
– Здесь тоже едва ли подадут. А вообще можно посоветовать, чтобы внесли в меню, – усмехнулся Фёст. И сразу перешёл к важному.
Не вдаваясь в звучащие слишком фантастически детали, он рассказал Борису Ивановичу всё, что случилось за минувшие несколько часов и на самом высоком уровне, и пониже.
– Да? Если так, то совсем интересно, – сказал майор, сохраняя невозмутимость. – А на земле тихо пока.
– А ты спрашивал? – спросил Фёст. – Позвони, если есть куда, я как раз покурю…
Им с Людой хватило времени на то, чтобы недолго подержаться за руки. Он перебирал её пальцы, а она вздрагивала, стараясь, чтобы чувства не отражались на лице.
– Да-а, товарищ командир, – с помрачневшим лицом протянул майор, засовывая в нагрудный карман телефон. – Интересные дела…
– Я другого и не обещал. Но выбор у вас остаётся. Можно и пересидеть. Только во что упрёмся, а, Борис Иванович? Мне отчего-то до сих пор вспоминается «Хождение по мукам». Если бы тогда все на Дон, к Корнилову пошли – как мой тёзка, Рощин, Вадим Петрович, – одно бы вышло. А нам всё вкручивали, что «Тихий Дон» гениальное произведение. Болтайся, мол, как Гришка Мелехов дерьмом в проруби, вот и будешь выражением народной души. И – Нобелевскую премию…
– Ты к чему это, Петрович? – насупился майор, успевший выпить свои «два по сто в одну посуду».
– Да к тому же. Ты, кажись, днём про «Чёрную метку» спрашивал. Так я как раз начинаю мобилизацию. Одни люди своё дело делать на казённых постах будут, другим – конкретная работёнка найдётся. Проще говоря – через день-два в Москве настоящая заваруха начнётся. За это время мы успеем подтянуть кое-какие части издалека, с ТОФ и КДВО[103] в том числе. А там очень много ребят, ни города не знающих, ни во многих других спецпроблемах не разбирающихся…
– Вот конкретно мне сегодня нужно начать, а завтра закончить подбор хоть сотни, для начала, настоящих офицеров, подходящих на роль военсоветников, проводников по городу, дублёров командиров. С настоящими навыками. Уловил?
– Чего тут улавливать. Займусь. Деваться и так и так некуда. Давай подробности, как Высоцкий пел.
– Сейчас. Чтобы стимул был, скажу – когда у нас получится, всех желающих снова на службу возьмём, по специальности или по желанию, на чин-два выше. И всё остальное, вытекающее. Вот, опять же, пойми правильно…
Он кивнул Люде, она открыла сумку на коленях.
Фёст достал оттуда три заклеенных пачки пятитысячных и пачку стодолларовых банкнот.
– Это чисто на оргвопросы. Может, кому машину арендовать надо, кому из Рязани или Владимира доехать, семье на первый случай оставить. Насчёт оружия не беспокойтесь. Этого добра на любой вкус завтра, а то и сегодня к утру, будет – завались. Договорились, Борис Иванович?
– Куда ж от тебя денешься? Других вариантов – ноль. Правильно?
– Так кому как, я же сказал.
– Ладно, договорились. Сотня толковых будет. К утру, как ты и сказал. Мы насчёт быстроты и натиска кое-что понимаем. Потом – по закону домино… Только наоборот.
Василий Звягинцев Большие батальоны. Том 2. От финских хладных скал…
Глава первая
– Я думаю, уже пора сматываться, – сказал Басманов, когда на горизонте появились отчётливо видимые силуэты российских эсминцев, а справа и слева от крейсера, уже ничего не опасаясь, на бреющем прошли две пары «КОРов».
– До наших километров тридцать, если я не ошибаюсь…
– Да, может быть, чуть больше, пятнадцать миль примерно. Полчаса хода, если даже не сильно спешить. И с гидропланов должны были рассмотреть наш флажный сигнал, – согласился Бекетов.
Обстановка прояснилась – как только отключились системы глушения и наведения ложных импульсов на экраны русских радиолокаторов, англичане оказались в чистом проигрыше. Один крейсер без хода и уже в поле оптической видимости всей российской эскадры, остальные три при желании догнать можно, но только эсминцами, крейсера не успеют, а дивизион «Новиков» против трёх «Тайгеров» – бабушка надвое сказала, что получится[1]. Как говорил пушкинский Германн: «Я не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобрести излишнее».
Молодому, амбициозному и агрессивному, но не очень верящему в прочность своего нынешнего положения адмиралу Дукельскому захвата исправного крейсера, в ходе безупречно проведённой оборонительной (а кто посмеет возразить?) операции, со всеми сопутствующими успехами достаточно. Тогда и на приличный орден рассчитывать можно, «Георгия» скорее всего, и вторые чёрные орлы могут спорхнуть с «горних высот» и усесться на погонах рядом с не так давно обмытыми первыми. Известно, что новый Государь предпочитает раздавать чины гораздо щедрее, чем ордена.
Команда Уварова – Басманова целиком собралась в боевой рубке. Отсюда видно всё вокруг очень далеко, и исчезнуть нетрудно. Через трубы спуститься в расположенный ниже ватерлинии Центральный пост – и для всех окружающих исчезнуть, как и не было. Ушли и ушли. Куда и зачем – англичанам на эту тему очень долго задумываться настроения не будет, своих забот хватит. А если свои флотские вдруг докапываться вздумают – кто именно тут стрелял да командовал, по радио из самой Москвы проинструктированный адмирал им быстро объяснит – «не ваше дело», и все немедленно согласятся. Что касается непременных пересудов в кают-компаниях и среди матросов на баке – кто на них когда внимание обращал?
Из всех участников захвата крейсера по-настоящему безутешны были Юрий Бекетов да младшие братья Кузнецовы. Судьбы остальных волонтёров, и живых, и убитых, мало кого интересовали, посторонние, в принципе, люди, с которыми свела на краткий миг судьба. Большинство и по именам неизвестны… Ими займутся люди из штаба адмирала.
Мария погладила Бекетова по рукаву куртки.
– Я всё понимаю, вам сейчас тяжело, несмотря на победу. Знаете, через несколько дней, когда относительно вас примут какое-то решение и предоставят свободу, – она чувствовала, что слова звучат невероятно казённо, но другие не выговаривались, – мы ещё увидимся.
Она не очень представляла, как будет выглядеть эта встреча, где и в чём её смысл, но понравившегося и очень себя хорошо показавшего в бою парня было сейчас просто очень жалко. Маша никогда не теряла, на войне или иным образом, друзей, подруг, родственников (которых, правда, и не было, не считая приёмных тётушек и дядюшек), но догадывалась, что люди при этом чувствуют. И обещание скорой встречи, с намёком, что она будет «не просто так», Юрия должно поддержать в тот момент, когда все уходят, а он остаётся с телами убитых друзей на руках и полностью неясными перспективами.
В это же время Уваров, единственный здесь профессионал-разведчик этого мира, а также и «старший по команде», чуть ли не по слогам вколачивал в головы участвовавших в восстании и бою волонтёров всё, что, а главное – как они должны говорить на допросах, которые непременно скоро начнутся. (А вы как думали? Придётся разбираться, кому награды, а кому и тюрьма.) И будут они весьма въедливые, пока в самой Москве решение по представлению эскадренного начальства примут. Но в любом случае – чем меньше у людей будет заранее заготовленных ответов и чересчур детальных совпадений в показаниях на очных ставках – тем лучше. Бунт, он и есть бунт, стихийный, не поддающийся ни логике, ни стройным воспоминаниям. Основное, что должны запомнить все, – началось со стрельбы зениток и налёта русских самолётов. Тут геройски павшие в бою Николай с Егором и призвали всех к сопротивлению. А бывший офицер Юрий восстание возглавил и руководил до последнего момента. Дальше пусть каждый несёт всё, что в голову придёт. Какие-то парни оружейку вскрыли, а дальше – само пошло. Все были в разных местах и друг друга почти не видели, так что никто ни за кого, кроме двух-трёх ближайших товарищей, отвечать не может. Каждый в полном праве расписывать, как сам из пушек и пулемётов стрелял, или признать, что просто бегал без особой цели, подчинялся тем, кто громче кричал. Кто сколько англичан убил – врите, как после вчерашней рыбалки.
А вот чего нельзя говорить ни в коем случае – будто кто-нибудь хоть мельком видел на крейсере каких-то женщин, тем более – вооружённых. На обложках журналов, наклеенных на переборки в кубриках, – видели, а больше никак. О мужчинах – можно, хоть о двухметровых мордоворотах, ломом подпоясанных, всё равно никто не успел запомнить хотя бы в лицо, не говоря об именах и фамилиях двух сотен человек, раскиданных по пяти кубрикам.
– Учтите, ребята, – наставлял Уваров, – «лаймы» будут дружно утверждать, что женщины были, даже те, кто их сам не видел. А вы говорите, что ничего подобного. Мол, галлюцинации это, от спермотоксикоза. Всего и делов. Кто нормально пройдёт «собеседования», получит не только государственные награды, но и приличные деньги. Нет – значит, нет. Меня все поняли? Тогда до встречи. Я сам вас найду, слово офицера…
Вооружённые волонтёры согнали всех англичан, выживших в короткой, но жестокой мясорубке на верхней палубе, на самый бак, за волнолом, к брашпилям. Там они стояли толпой под прицелом пулемётов с мостика и могли развлекаться только тем, что считать количество вымпелов в смыкающих кольцо вокруг «Гренвилла» дивизионах крейсеров и эсминцев и предполагать, сразу ли их повезут в Сибирь или предварительно будут какие-то следственные мероприятия и подобие суда.
Трупы погибших снесли на шканцы, англичан на левый борт, наших на правый. Раненым, без различия подданства, оказывали помощь судовые врачи и фельдшера. Остальной экипаж крейсера предпочёл остаться на своих боевых постах, не предпринимая никаких активных действий. А предоставленные сами себе волонтёры устраивались в зависимости от личных вкусов и сообразительности. Многие, теперь совсем ничем не рискуя, избавленные от конкуренции матросов противника, продолжили грабёж крейсера. Если денежный ящик ревизора очистили люди Шурлапова, то в каютах офицеров, кают-компании и иных помещениях нашлось достаточно подлежащих экспроприации вещей. Другие по-быстрому вооружились, чтобы обозначиться в числе героев – участников восстания, и теперь сочиняли себе подходящие легенды. Большинство же и здесь предпочло «плыть по течению», проще говоря, прихлёбывать добытую выпивку и, теснясь у лееров, наблюдать за приближающимися русскими кораблями. Это зрелище, как и всё случившееся раньше, у многих оживило чувство патриотизма, почти растерянное за годы скитания по заграницам.
– Смотри, капитан, – наставлял Бекетова Валерий. – Когда наши подойдут – представишься, сдашь корабль и пленный комсостав, что на мостике. Про остальных ты ни сном ни духом… Что есть какой-то Эванс, профессор Френч и прочие. Пусть устраиваются, как хотят, для тебя их просто не существует, неоткуда было о них узнать, и некогда. Вся твоя информация – что вы лично слышали от надзирателей и… Ну, от кого ты мог ещё что-то узнать? – Уваров на ходу выстраивал самую простенькую легенду, буквально на несколько часов действия, да и то не для того, чтобы Бекетову «положительный и героический образ» создать, а чтобы для рядовых офицеров флота лишняя информация не дошла. Кто знает, как ею Чекменёв и Ляхов решат распорядиться. – Некогда тебе было. Разве последний час кое с кем из соотечественников поговорил. Сопоставил, обмыслил… Но это всё так, экспромт, наброски углём. Через несколько часов после доклада в центр командующий русской эскадрой получит приказ срочно доставить тебя в Москву. Там мы с тобой и встретимся…
Валькирии, пленный инженер и добровольно сдавшийся Остин Строссон, Уваров и Басманов (Михаил – последним) спустились по скобтрапу до первого же подходящего отсека.
– Мы готовы, – сказал Басманов, и тут же Сильвия открыла правую переборку в кабинет Арчибальда.
Здесь почти ничего не изменилось за несколько прошедших в Замке минут. Сильвия, сидевшая в кресле и наблюдавшая за происходившим на крейсере, даже позы, кажется, не поменяла, только окурков в пепельнице прибавилось.
Арчибальду было велено найти подходящее помещение и изолировать пленных, по одному.
– Картину героического пленения русскими моряками вражеского «фрегата» досматривать будете? – осведомилась Сильвия. Такого желания ни у кого не оказалось. Впечатлений было достаточно и без этого.
– Пусть этот господин сделает полную видеохронику, мы потом как-нибудь взглянем, – сказал Басманов, а Уваров добавил, что такая запись в любом случае понадобится руководству его Управления.
– Тогда приведите себя в порядок и возвращайтесь, – продолжила распоряжаться Сильвия, по-прежнему считая себя здесь самой старшей, и ей никто не возразил, даже любящий попрепираться со всеми, кроме Новикова и Шульгина, Константин Васильевич.
– Прошу прощения, конечно, мадам, – кривя губы, обратился к ней полковник, когда они остались втроём, считая профессора, который суетился у стола, наполняя бокалы «за одоление супостата». – Но сегодня ты накаркала! Нужны были трупы для убедительности – извольте. Извольте, целых девять, ещё столько же вряд ли выживут. Об англичанах не говорю. Достаточно, нет?
– Возьмите себя в руки, Михаил Фёдорович. Я что-то не помню за последние сто лет вашей службы таких эмоциональных срывов. Неужто в боях под Гумбиненом, Екатеринодаром, Абинской, Каховкой вас так уж волновали потери? И ведь не я в ваших «неожиданных союзников» стреляла. Дело сделано, это главное. А хотите погрустить – можем попозже организовать подобие тризны… Прошу прощения, конечно, это на вас не новое ли увлечение так подействовало?
Говоря всё это, Сильвия тонко усмехнулась и посмотрела на дверь, через которую минутой раньше вышла Марина с остальными валькириями.
Натура Сильвии не позволяла ей «просто так» отпустить человека, который чересчур демонстративно предпочёл ей обычную девчонку. Не имело никакого значения, что сама она, возможно, никогда больше не пригласила бы полковника в свою постель. Это – совсем другое дело. Басманов чересчур демонстративно дал понять, что Марина ему действительно интересна, а с нею он просто исполнил некую обязанность. Не смог отказать старшей по положению «сестре».
Зла она не затаивала, и впредь как-то «мстить» Басманову, оказавшемуся неплохим любовником, Сильвия не собиралась, а вот уязвить, поставить на место – с огромным удовольствием.
Заход Сильвии сразу понял и оценил только старый и повидавший жизнь и смерть во всех проявлениях профессор Удолин. Даже деликатно ухмыльнулся в сложенный кулак и подмигнул Михаилу. Терпи, мол, братец, знай, как с «панночками» связываться, «Вия» перечти на досуге…
А Басманова, знавшего Сильвию ещё с тех времён, когда она была почти чистопородной «леди», пусть и бойко говорящей по-русски, сказанное ею почти не задело. Он другому удивился – насколько русской она выглядела сейчас. И выражением лица, и интонациями. Прежний, и так малозаметный акцент пропал совершенно, зато появились манеры, подходящие не даме из британского герцогского рода, а эмансипированной, не считающейся ни с какими условностями дворянки. Графини или, скорее, княгини, умеющей при необходимости произносить фразы, не каждому боцману доступные. То есть всё той же нормальной русской бабе, даже, скорее, казачки кубанской. Два года Гражданской он провёл на Юге и сейчас уже шестой год жил там же, так что этот типаж изучил прекрасно. А то, что подобные манеры появились у Сильвии… Ну, видимо, это она так перестроилась, собираясь занять подходящее место при дворе Императора Олега. А почему бы и нет? Надо же готовить себе тихую пристань, раз надоело наконец болтаться между временами и мирами.
Он ещё подумал, что её ответная резкость, в общем, справедлива. Не стоило ему сразу же акцентировать внимание на тех её словах. Будто бы зло за свои промахи на посторонней сорвал. Не из-за её ведь слов погибли инженер и унтер. От собственной невнимательности, прежде всего. Тут скорее и он сам, и Мария в некоторой степени виноваты. Опять же – нельзя за полчаса научить правильно воевать неподготовленных людей. Автомат в руки дать можно, как и в какую сторону стрелять – объяснить, а вот научить думать, как положено кадровому «человеку с ружьём», – не одного месяца дело…
– Вы правы, миледи, а я нет. Вы тут, конечно, ни при чём. Просто не нужно было этих парней брать с собой, вот и всё. Сейчас сидели бы здесь с нами и даже не представляли, что могло быть иначе…
– Ладно, Миша, забудем. Я всё понимаю… – и даже сделала движение, словно собралась погладить полковника по щеке. Но вовремя спохватилась…
Из них троих только Константин Васильевич знал истину и пребывал в полной удовлетворённости, относя успешное завершение крайне неприятно складывавшейся поначалу, с момента их захвата Замком (или Арчибальдом, Ваал разберёт), ситуации в основном на свой счёт. Это его заклинания и формулы, составленные с привлечением сокровенных тантрических методик и не имеющих вербального воплощения объективных идей[2], организовали текущую микрореальность, в которой удалось изящно и без потерь справиться с Арчибальдом да вдобавок гармонизировать «гендерные», как сейчас принято выражаться, отношения внутри филиала Братства. Попросту говоря, перевести излишнее напряжение эротического поля, возникшего между разнозаряженными членами стихийно сложившейся группы в полезную работу. В данном случае – бой и все сопутствующие моменты.
В это же время разместивший в однокомнатном, полутюремном, полугостиничном номере инженера Майкельсона Арчибальд открыл соседнюю дверь такой же камеры перед Строссоном.
– Прошу вас, сэр.
Услышав обращённый к нему голос, слишком знакомый, офицер наконец не выдержал. Он и так чувствовал себя до крайности странно. Мало всего случившегося на крейсере за последние полсуток, а особенно – два часа, так теперь вдруг – это!
Увидев старейшего члена клуба, мистера Боулнойза, один раз уже восставшего из могилы или куда там ещё попадают такие энергичные джентльмены, а теперь вот явившегося в облике дворецкого старого закала, Строссон буквальным образом офонарел, как выражаются русские на своём чрезвычайно перегруженном идиомами[3] и жаргонизмами языке. Оттого и внезапный переход из отсека крейсера чёрт знает куда и ему же известным способом уже как-то не слишком удивил.
Дополнительным, смягчающим шок фактором оказалась внешность окружающих лейтенант-коммандера женщин. От младших до самой старшей. Строссон имел случаи убедиться, что практически любая русская несравнимо симпатичнее, красивее, и уж тем более эффектнее взятой хоть наугад, хоть путём специального отбора островитянки. Но здесь их было шесть, и от концентрации физического совершенства и красоты, помноженных на шарм, становилось даже не по себе. Это как если бы войти в Гайд-парк и вместо опавших осенних листьев увидеть покрывающие газоны серебряные шиллинги и золотые гинеи.
На крейсере девушки не успели произвести на Остина должного впечатления в силу специфических обстоятельств их знакомства. И момента полуобнажения Анастасии и Кристины он не видел, лёжа лицом в подушку, с готовой в каждую секунду взорваться гранатой на спине.
Но если молодые леди с автоматами просто восхищали, то одетая строго и вместе с тем с тщательно выверенным намёком на фривольность дама лет тридцати пяти, то есть ровесница Строссона, очаровывала каким-то не совсем человеческим образом. Будто бы встретившаяся на пути Афродита или даже Афина Паллада, принявшая из божественного каприза облик земной женщины.
Остин решил махнуть рукой на эти и другие странности, пока не достигнута главная цель (этим, кстати, англичане отличаются от русских в лучшую сторону). Цель же была столь значительна, что иные мысли имели право только на вспомогательное существование.
Удолин ещё в первые минуты появления в Замке англичанина заметил не только вполне естественный интерес британского офицера к девушкам и несколько аффектированный – к Сильвии, но и взгляд, брошенный им на Арчибальда. Взгляд несколько смятенный, англичанин явно раньше уже видел робота и сейчас не мог сообразить, как поступить – каким-то образом обозначить это знакомство или до подходящего случая сохранить его в тайне.
Профессор решил поступить нестандартно. С пульта он приказал роботу привести второго пленника обратно. Когда они вошли, Удолин с усмешкой посмотрел на Строссона, жестом указал сесть в кресло и произнёс велеречиво:
– Поведай нам, Арчибальд, откуда ты знаешь этого молодого человека и откуда он знает тебя?
– Да вы тоже присаживайтесь, – предложил он Басманову с Сильвией. – Рассказ будет, может быть, долгим, но весьма познавательным…
Рассказ, впрочем, оказался не особенно длинным, минут на пятнадцать. Работая сейчас как коммутатор между Замком во всей его непостижимой целостности и людьми с их ограниченными возможностями восприятия, Арчибальд излагал наиболее существенные моменты своей деятельности в роли Боулнойза удивительно сжато и в то же время с предельной информативностью. Как хороший лектор-популяризатор, с приёмами мелодекламации доводящий до слушателей конспект, к примеру, «Истории Французской революции» Карлейля.
Сам Строссон был упомянут лишь однажды, как доверенное лицо адмирала Гамильтона-Рэя, переформатированного Арчибальдом для непосредственного воплощения стратегического замысла русско-британской войны.
– Пока достаточно, – сказала уже Сильвия, и робот послушно замолчал.
– И с какой же целью, сэр, – перейдя на английский, спросила леди Спенсер у лейтенант-коммандера, – вы решили капитулировать перед рядовыми разведчиками, выполнявшими вполне локальную собственную задачу, а не дождались встречи с гораздо более значительными лицами из командования русской эскадры?
Строссон в очередной раз был удивлён происшедшим с дамой превращением. Теперь с ним говорила настоящая британская аристократка из самых-самых высоких кругов. Он, хоть и не был профессором Хиггинсом[4], отлично умел определять социальный статус человека по его речи.
– Боюсь показаться вам трусом, но отвечу честно – я сразу сообразил, не сдайся я немедленно вот этой мисс, – он слегка поклонился Анастасии, – господин офицер, бывший с нею (а я не сомневаюсь, что он был именно хорошо подготовленный офицер-диверсант, а не безродный бродяга), вполне мог не рассчитать силы удара. Когда под горячую руку бьешь автоматом по голове, очень легко не сдержаться… Тем более, я подозреваю, у него были для этого основания…
– Что да, то да, – кивнула Сильвия. – Несколькими минутами раньше ваши сотрудники убили его лучшего друга. Едва ли господин капитан непричастен ко всему с нами случившемуся.
– Крайне сожалею и выражаю вам своё сочувствие. Лично я к происходившему на корабле непричастен абсолютно, – поспешил заверить Строссон. – Я исполнял совсем другие функции и, как только понял, что адмиралтейские лорды заигрались и ведут дело прямым путём к войне с Россией, самостоятельно принял решение любым способом это предотвратить. Прошу заметить, это именно я воспрепятствовал Эвансу немедленно начать поиски скрывшихся ваших людей… Вы выиграли много нужного времени.
– Хорошо, это сейчас не имеет значения, – прекратила его излияния Сильвия. – Есть люди, которые вас выслушают с интересом. А у нас есть темы более насущные. Ты, Арчибальд, можешь нам открыть выход из Замка в нашу реальность?
– Естественно. В любую из теоретически доступных. Более того, теперь я снова готов исполнять при вас те же обязанности, что раньше при Антоне. Мои самостоятельные действия признаны чрезмерными, волюнтаристскими и неадекватными…
При этих словах рассмеялась только Сильвия. Был бы здесь Фёст или Берестин, они бы её поддержали. Остальные, не знавшие эпохи Хрущёва, юмор ситуации не оценили. Интересно, кто принимал решение и диктовал роботу «формулу покаяния»? Включилась новая специализированная ячейка в структуре, предназначенной осуществлять связь Замка с данным сектором Гиперсети, или его всеобъемлющая сущность решила использовать ту же форму (Арчибальда), лишив его самостоятельности и переключив на функцию просто понижающего трансформатора, переводчика с металанга десятого, скажем, уровня на доступный этим людям третий, иногда четвёртый.
Влил, так сказать, новое вино в старые мехи.
– Мы согласны, – кивнула Сильвия, обращаясь явно не к роботу.
– Вы не хотите, чтобы я изменил внешность? Возможно, нынешняя будет вызывать у вас неприятные ассоциации? – Арчибальд даже приосанился, расправил плечи, демонстрируя, что готов к любому решению.
– Нет, зачем же, – опередил Сильвию с ответом Удолин. – В этом виде вы нас, любезнейший, вполне устраиваете…
– Другие мнения будут? – демонстрируя аристократическую демократичность, посмотрела на Басманова аггрианка. Полковник молча пожал плечами. Строссон вообще перестал что-то понимать в происходящем.
– Тогда, Арчибальд, организуйте нам для начала возможность контактов с внешним миром.
– С каким именно? Или со всеми одновременно?
Сильвия пожала плечами, давая понять, что считает вопрос не слишком умным.
– Со всеми, но последовательно… Сейчас – с первой реальностью.
Под «первой» Сильвия подразумевала ГИП.
И тут же в её кармане прозвучала негромкая, почти не привлекающая внимания посторонних, настроенная на восприятие только тех, кому она предназначена, трель вызова.
Был бы здесь Фёст, он непременно бы прокомментировал: «Абонент вновь доступен для связи».
Интересно так совпало – Арчибальд снял накрывающий Замок колпак одновременно с посланным антенной СПВ «Валгаллы» сигналом. Или – именно поэтому.
Переключив блок в режим обычной телефонии, Сильвия поднесла портсигар к уху. Пока она не выяснила, зачем ей звонит Дмитрий, остальным слышать его не нужно. Чувствуя, что разговор может быть долгим и сложным, она взяла со стола бокал явно в расчёте на неё и приготовленного Арчибальдом розового джина (по рецепту ещё той (1819–1901 гг.) королевы Виктории, перешла в кабинет, устроилась в кресле, сделала глоток, закурила и только потом ответила самым милым и волнующим из своих голосов:
– Утро доброе, Митенька! Да-да, у нас здесь утро. Надеюсь, ты хочешь сказать мне что-то приятное? Комплименты тебе очень удаются…
Примерно на втором году знакомства, освоившись в Братстве и как следует разобравшись в системе отношений и психологических характеристиках каждого, она избрала для общения с Воронцовым именно этот стиль и тон. Прекрасно понимая, что с ним, как и с Новиковым, ей на интим рассчитывать нечего (а моментами очень даже хотелось), она сублимировала[5] свои эмоции таким образом, особенно – в присутствии Ирины и Натальи.
– Спасибо, у меня тоже всё в порядке. Совершенно как в песне про прекрасную маркизу – «всё хорошо, всё хорошо». Правда, так уж получилось, что мне пришлось сначала навестить Белый Крым. Да, конечно, по Мишеньке Басманову соскучилась. Потом мы неожиданным образом опять попали в твой Замок, немного повоевали, но теперь уже всё в порядке. Все, особенно девушки, живы и здоровы. Вовсю женихаются. Скоро свадьбы будем справлять, так что готовьтесь с Наташей. Нет, нет – всё абсолютно пристойно, всё под моим контролем… Ох, ну ты и скажешь! – в ответ на довольно скабрёзный комплимент Воронцова (тот тоже позволял себе шутить с аггрианкой непринуждённо) серебристо рассмеялась.
– А если серьёзно – всё по обычной схеме. Преодолеваем возникающие трудности, отчего ситуация всё больше осложняется. Да, я понимаю, что так и должно быть, но моментами надоедает. Встретимся, расскажу в деталях. Сейчас ты что-то конкретное хотел сказать или просто соскучился? Так, так… Ну, давай на связь нашего… юнкера (это она так называла полковника Ляхова-второго, имея в виду его иерархическое положение в Братстве со своей точки зрения). Только покрути там у себя настройки, дай изображение, терпеть не могу говорить, не глядя человеку глаза. Нет, с тобой могу, потому что под твоим взглядом я прямо таю…
Управляющий СПВ робот-связист не стал открывать полноценный канал, включил только рамку двустороннего, но физически непроходимого «окна», не создающего «эффекта пробоя».
– Я тебя слушаю, Вадим. – С ним, после одного из слегка поцарапавших самолюбие аггрианки инцидентов личного плана, она предпочитала разговаривать хотя и по-прежнему благожелательно, но только по делу. Не любила, когда мужчины ей отказывали демонстративно.
Секонд сначала доложил, зачем ему потребовался совет и помощь «старшей сестры», которой он парадоксальным образом, в практических, особенно – авантюрных делах, доверял больше, чем Дмитрию Сергеевичу. Да ведь она уже гораздо больше, чем Воронцов, втянулась в обычную жизнь его реальности. С Императором вон на короткой ноге, как Хлестаков выражался…
И только потом спросил (уже по другой должности), как там себя чувствует «купец Катранов» и что говорит Басманов насчёт перспектив его миссии?
Сильвия ответила в обратном порядке. Сначала по поводу последнего вопроса спросила, будет ли ей позволено принять самостоятельное решение «в свете вновь вскрывшихся обстоятельств» и её собственного видения проблемы. А потом сообщила, что информация Секонда её весьма взбодрила и она, пожалуй, прямо сейчас, в пределах двух-трёх часов, прибудет и вплотную займётся этим интересным делом.
– Любое мероприятие, тобою начатое, следует доводить до конца, иначе тебя посчитают пустым человеком…
– Ну вы, миледи, самого Пруткова переплюнули. А, кстати, почему у вас в Англии все афористы такие скучные и ничего подобного там не услышишь?
– Вернусь – объясню, – тоном, очень близким к манере Чекменёва, ответила миледи. – Пока можешь просмотреть афоризмы Уайльда. По-моему – не хуже ваших. Значит, фиксируем позицию. Я так понимаю, скоро мне придётся и с Олегом, и с тем Президентом говорить?
Тут Сильвия позволила себе слегка улыбнуться, Секонд, как никто другой, понимал, что она имеет в виду.
– Считаем, что от тебя, как непосредственного куратора всего проекта…
Секонд попытался возразить, что как раз этот вопрос вне его непосредственной компетенции, здесь в основном Тарханов и Чекменёв заправляют, но аггрианка слушать не стала.
– Решаем так – от тебя, по причине невозможности экстренно связаться с кем-нибудь другим, я санкцию на срочное завершение миссии Катранджи получила. Не бойся, всё будет оформлено в наилучшем виде, и наш Ибрагим успеет поучаствовать в делёжке британского наследства. Тем более тут ещё одна интересная штука выяснилась. Оказывается, половина «Интернационала» Ибрагима давно против него работает. Тоже объясню. Думаю, на этот раз достаточно будет отправить с Михаилом Фёдоровичем обратно в двадцать пятый только его и… с ним одну Кристину. Факты показали, что от вмешательства «третьей силы» ни отделение, ни взвод не помогут защититься. А теперь им едва ли что-то угрожает, весь удар мы уже приняли. И отразили – дай бог каждому. Михаилу я скажу – пусть соглашаются на все условия турка, не торгуясь. Сейчас на кону совсем другие ставки. И Уваров, и остальные девочки нам здесь весьма пригодятся. Проблему транспортировки оружия я возьму на себя. В моем нынешнем положении куда разумнее будет воспользоваться методиками Замка. Они с нашими не пересекаются и общую обстановку не осложнят. У вас и без этого скоро станет действительно весело.
– Я вас не совсем понимаю, но верю безусловно. Не думаю, что будут возражения, но минут на двадцать я отключусь. Мне нужно всё же согласовать.
– Давай-давай. Заодно скажи, что мы такой гостинец приготовили, что хоть Чекменёву, хоть самому Императору с ним и на трибуну ООН выйти не стыдно будет, и для закулисного торга сойдёт…
– Будет сделано. Связь не отключаем…
Сильвия вернулась в зал в приподнятом настроении. Несмотря на солидный по человеческим меркам возраст, она совершенно не утратила любви к интригам. Большим и маленьким. Сейчас она сообщила «всем заинтересованным лицам», что миссия Катранджи будет продолжена. Басманов в ближайший час, если у него нет каких-то возражений, может забирать клиента, его эскорт-леди и вылетать домой. Арчибальд обеспечит «экономичный маршрут». Не более получаса лёта до Мармора.
– Вы, Константин Васильевич, конечно, с ними? Там ведь ваши коллеги до сих пор безуспешно пытаются нас разыскать за «завесой Майи»[6]. Встретитесь, пообщаетесь и дальше – как знаете. Хотите – там оставайтесь, а можете – к нам в Москву. Там скоро очень интересно будет. Некромантам – тоже. Ты, Валерий, тоже возвращаешься, Ляхов решил – вы там нужнее будете. Людмила с Гертой уже вдвоем навоевались, а это ведь только начало. Помощь им требуется.
Заметила откровенно расстроенное лицо Марины и короткий, отнюдь не христианский взгляд Басманова. Да ради бога, ей ведь ничего не стоит и переиграть, так, чтобы ничего не было сказано вслух, но заинтересованным лицам понятно.
– Конечно, Валерий, – улыбнулась она Уварову, – здесь ты командир, я только передала, что полковник Ляхов сказал. Он ещё добавил: «А впрочем, пусть делает, как хочет. Его задание, ему и решать».
Уварову показались не совсем убедительными слова дамы, которая по многим позициям явно была главнее не только Ляхова, но и самого Чекменёва, уж слишком уверенно она держалась.
– Я бы хотел переговорить с полковником лично. Это возможно?
– Почему бы нет? Через десять минут…
Уваров никогда бы не пошёл против прямого приказа командира, но у него уже был – отданный Тархановым. А сейчас Сильвия как бы отменяла его «в вольном пересказе» и от лица человека, формально ему начальником не являвшегося. Ни прямым, ни непосредственным. Так что вполне можно проигнорировать. Не впервой. Хотя, конечно, осложнять отношения с Вадимом Петровичем ему очень не хотелось по многим обстоятельствам.
Он ничего не имел против того, чтобы немедленно вернуться домой всем составом, но отправлять Волынскую одну в чужой мир не хотел категорически. Его бойцы приучены действовать как минимум двойками, причём – сработавшимися. И пусть постоянной напарницей Кристины чаще всего была Герта, любая другая из пятёрки тоже сойдёт. Значит, он будет добиваться у Ляхова, чтобы позволил дать в поддержку Волынской… Кого?
Он посмотрел на Анастасию. Та сразу поняла и показала глазами на Верещагину. Значит, так тому и быть. Взводный всегда лучше комбата знает, кого к какому делу приставить. А дела амурные – кому о них ведомо? Если Вельяминова решила поручить поддержку Кристины подпоручику Верещагиной – так тому и быть. А уж он, если придётся, будет до упора настаивать на полной рациональности своего решения. Тарханов ведь согласился выполнить просьбу Фёста о выведении из операции и передаче в его подчинение Вяземской? И Секонд не возражал…
На самом деле ничего доказывать и настаивать на своём не пришлось. Не совсем даже вслушиваясь в заготовленные Валерием доводы, полковник Ляхов, явно озабоченный другим, просто пожал плечами:
– Да мне какая разница? Мне, главное, ты срочно нужен. Прямо сейчас…
И вдруг, уловив хвостик мелькнувшей по краю сознания фразы, насторожился.
– Постой, постой… Это тебе что же, Сильвия Артуровна такого рода приказы начала отдавать? Мол, именно одну Волынскую отправь… Так?
Валерий подтвердил, что так и есть.
– Забавно…
Ляхов побарабанил пальцами по столу. Была у него такая привычка, отчасти заменяющая другую – при каждом умственном затруднении закуривать.
– Вот тебе и домашнее задание, господин начальник штаба. Чтобы не забывал, что тебе не только девок по плацу гонять положено, а и стратегически мыслить моментами. Что на самом деле подразумевала и на что рассчитывала наша миледи, влезая вдруг в совсем её не касающуюся тему? Догадайся и при встрече доложи…
Вследствие этого обмена мнениями почти счастливая Марина и осталась помогать подруге «обеспечивать безопасность Ибрагима». Впереди её ждала очередная незнакомая Россия и романтические перспективы. Не то чтобы она имела на будущее сколько-нибудь серьёзные виды, но всё равно интересно. Двадцатилетней девушке намёк на ту самую, пресловутую «любовь» (в самом чистом значении) – всегда повод для водопада воображений.
Анастасия, в какой-то мере определяя грядущую судьбу подруги, задумалась – а ведь только у неё с Уваровым получилась любовь светлая, беспроблемная и, как бы поточнее выразиться, – закономерная, «правильная». Встретились, посмотрели друг на друга, что-то такое почувствовали. И спокойно, шажок по шажку начали сближаться… Она очень нервничала и, как бы ни смешно это звучало, – «стеснялась». Себя, его, своих чувств. У всех остальных, кроме Инги, до сих пор вообще обделённой мужским вниманием, выходило что-то странное. Их «объектами» стали мужчины, что называется, «с трудной судьбой». Хотя и достойные во всех отношениях.
Теперь, похоже, у Марины тоже что-то может случиться…
…Дальше всё пошло неожиданно быстро, почти как в режиме «перемотка» видеомагнитофона. Подняли благополучно проспавших главные события ночи лётчиков и Ибрагима. Позавтракали (а кто-то и поужинал), за столом обсудили предстоящие действия. Пилоты с «Буревестника» так по-настоящему и не поняли, куда, как и зачем они прилетели. Много интересного увидели, неожиданные подарки от странных хозяев получили. Подошёл к ним тот капитан, что встречал их вчера на пирсе, и каждому вручил часы «от главноначальствующего», вроде бы обычные «Штурманские», но в золотом корпусе и с дополнительными циферблатами, показывающими почти всё, что угодно. Особенно лётчикам понравилось, что при нажатии третьей сверху кнопки высвечивались координаты «точки стояния» до долей секунд широты и долготы.
Затем Джинджер сказал, что автомобиль у крыльца и готов отвезти экипаж к гидроплану для предполётной подготовки. Вторым рейсом заберёт остальных.
Сегодня этот парень выглядел точно так, как и там, на пирсе. «Смена власти» никак на «офицере» не отразилась. Команды он получал напрямую от «управляющего процессора», определявшего, кому «эффектор» должен безоговорочно подчиняться. Сейчас список имён и образов несколько изменился, тот, кто недавно был для него «царём и богом», получил лишь третий приоритет. Вполне естественная «придворная ситуация». В человеческой истории, которую Джинджер знал (точнее, мог знать в нужных случаях во всей условной полноте), случались и более суровые рокировки. Но межличностные взаимоотношения повелителей никаким образом не касались оставленных «при исполнении» функционеров. Бывших гвардейцев бывшего «кардинала», ассоциативно выражаясь.
За ними начали подходить и главные действующие лица. Девушки, вновь принявшие милый и домашний облик, в платьях, приготовленных для светской жизни в Царьграде, Севастополе и Харькове. Сильвия начала «предполётный инструктаж». Не ставя в известность Катранджи, она уже предварительно предложила Басманову без всяких проволочек, отменив все прежние схемы дипломатической игры с «восточным клиентом», но и не давая турку повода своей сговорчивостью что-то лишнее о себе вообразить, подписать все необходимые бумаги, гарантирующие «ленд-лизовские поставки» по всему списку.
– Повода не будет, – скупо усмехнулся Михаил. – Мы против него двух евреев и одного армянина выставили. Сидят в Ливадии и ждут. Каперанг Исаков, он же Тер-Исакян, хоть сызмальства в Морском корпусе лоску набирался, а нашёл себя на административном поприще. Национальный характер никуда не денешь. Из пушек стрелять и эсминцами командовать каждый может. А вот ты попробуй добиться, чтобы все армейские интенданты и вольные купцы от Одессы до Батума от одного имени твоего трепетали и еженедельно свечки ставили за упокой души…
Жаль, что сейчас никого рядом не было, Фёста того же, чтобы удивиться несовпадению настоящего и здешнего Исаковых[7].
– Вашего ассортимента не хватит – мы от себя подкинем, – пообещала Сильвия, быстро прикинув, что, если после завершения «Креста» начнутся массированные поставки современного оружия из нынешней РФ Олегу, много всякого добра высвободится в Российской императорской армии. – Но выглядеть будет, что всё равно от вас. В уплату требуйте абсолютные ликвиды – золото, алмазы, другие камни. Большинство африканских, индийских и цейлонских месторождений под контролем «Интернационала». А вашим зарубежным партнёрам – лишняя головная боль, пусть гадают, что за особые каналы поставок возникли. Особенно англичане всполошатся, начнут у себя «протечки» искать. Нам это только на руку. Ты же слышал, что кое-какие негативные эмоции и тенденции способны через межвременные границы просачиваться?
Это Басманов знал, убеждался, и не раз, на личном примере. Да и как же иначе? «Советская» Гражданская война, где он сражался, потом альтернативная, потом мятеж в России Олега, англо-бурская, «новая и старая», наконец! Везде имели место отчётливые взаимопроникновения.
Пока слуги Арчибальда накрывали фуршет «на посошок», для «стременной» и «закурганной», валькирии, уезжающие и остающиеся, устроившись в стороне от «старших», болтали и болтали. Когда опять встретятся? Марина с Кристиной мыслями были уже не здесь, а в загадочном и почти сказочном Белом Крыму. Остальным девушкам предстояло что-то не столь экзотическое.
Арчибальд, кое в каких вопросах сохранивший свободу воли, решил хоть частично выполнить свои обещания, данные им (а им ли?) ещё в другом качестве и с другими целями.
Каждой из девушек он преподнёс довольно большие и тяжёлые (как средневековая рукописная Библия примерно) сафьяновые, с золотыми (лучшей в мире 96-й пробы) углами, ручками и замками ларцы. А внутри, на мягком разноцветном бархате – комплекты ювелирных украшений немыслимой красоты, ценности и древности. Кольца, перстни, браслеты, серьги, колье и диадемы.
Причём – вот что значит аристократизм (пусть и искусственный) и неограниченные возможности – гарнитуры своим дизайном, фактурой, цветом и сортами камней точно соответствовали знаку Зодиака, внешности, цвету глаз и, главное, ещё не совсем раскрывшимся вкусам и характерам каждой из девушек.
Замку, сумевшему воссоздать до мельчайших деталей, со всеми необходимыми корректировками личность Натальи Воронцовой, а потом переместившему её в исходное тело, это не составило труда. Нет необходимости уточнять, что изделия были несомненными подлинниками и их цену на каком-нибудь «Сотбисе» трудно представить. Нигде на одной и второй Земле ничего подобного не найти и не заказать. Одно слово – неземная работа.
– Это мои вам свадебные подарки и будущие фамильные драгоценности, – сказал он засмущавшимся и впавшим одновременно в полный восторг девушкам. Они ведь стали настолько простыми и земными девчонками, что Анастасия не так давно задохнулась от внезапного счастья, получив от Уварова флакон обычных парижских духов… А это! При всех своих полученных от Катранджи капиталах они не могли купить, а главное – вообразить ничего подобного.
– Будете надевать – вспоминайте своего нового дядюшку, – сказал удивительно человеческим и даже растроганным голосом Арчибальд. Ещё чуть-чуть – и слезу пустит. – Впрочем, не горюйте, мы обязательно встретимся. И даже не раз.
Вельяминова вдруг пожалела, что с ними нет Людмилы и Герты, и теперь им наверняка будет очень обидно оказаться обделёнными. Но её опередила Инга и сказала об этом вслух.
Вместо Арчибальда ответила Сильвия:
– Вы заслужили, вам и подарки. А те барышни кое-чем другим вознаграждены…
– Нет, так не пойдёт, – если нужно было отстаивать не свои, а близких ей людей интересы, самая из всех скромная девица Вире́н могла быть несгибаемо-упорной. – Кристина свой гонорар за Одессу на всех поделила, а мы?
«Вот и делитесь, если вам вожжа под хвост попала», – чуть не ответила Сильвия, но вовремя сообразила, что такая позиция ей авторитета не прибавит. Мнение девчонок бывшей координаторше первого класса было сравнительно безразлично, но вот в глазах Басманова, Уварова да и Удолина ей совершенно не хотелось выглядеть бесчувственной, а то и просто завистливой (да, да – завистливой!) стареющей матроной.
Она едва заметным движением лица отдала Арчибальду команду. Её приоритет, как абсолютной госпожи, наряду с Антоном, Воронцовым и другими «первопоселенцами» Замка в его иерархии был первый. У Басманова, Удолина, а теперь и пятерых валькирий – только второй.
Арчибальд вышел и ровно через минуту возвратился с ещё двумя ларцами. Что показалось валькириям в очередной раз странным – он ничего не спросил о личных качествах и даже именах тех, кому подарок предназначался. Но на их крышках, как и в элементах оформления самих украшений, присутствовали монограммы владелиц, иногда весьма причудливым образом стилизованные. Откуда бы сотворившей подарки силе было знать, что в Москве остались именно «Л.В» и «G.W»? Очевидно, мыслеформа Вельяминовой (или Вирен) была достаточно яркой, чтобы Замок её уловил и материализовал.
«Так девушки скоро и саму миледи обгонят, – подумал прежде всех обративший внимание на эту тонкость Константин Васильевич. – Да, пожалуй, уже обгоняют. Особенно если я с ними ещё поработаю».
– Вот уж приданое так приданое! – от всей души воскликнул Удолин. – И мне кажется, это не только побрякушки, есть в них ещё какие-то тайны. Правда, Арчибальд?
Робот развёл руками с таким видом, будто просто не понял вопроса. Что приказали свыше, то и подарил. Не сам же он отливал, чеканил, гранил и паял. И тайны – не по его части.
Сильвия, единственная, кто мог наблюдать за происходящим отстранённо, заметила взгляды, которыми обменялись Уваров с невестой, порозовевшие щёки Марины, тонкую, едва заметную усмешку, на секунду скользнувшую по губам Кристины.
– Одним словом – счастливого пути и нам, и вам! – провозгласил Удолин, несколько даже торопливо поднимая бокал.
Остающиеся Сильвия, Уваров и три валькирии распрощались на пирсе с друзьями и подругами, проводили глазами взлетевший и почти тут же исчезнувший из глаз гидроплан. Впятером они уместились в один «Виллис». Валерий за рулём, Сильвия рядом, Настя, Мария, Инга устроились сзади. Так на этих, единственно подлинных «Джипах»[8] лихие бойцы ездили в войну – кто-то на узком сиденье посередине, а остальные на обитых дерматином подушках поверх колёсных ниш, свесив ноги наружу через борт. Очень даже весело, и в случае необходимости, особенно если в машину набьётся человек семь-восемь, да все с «ППШ» или «Томсонами» – обеспечен мощный круговой огонь при внезапном нападении. На заявленных спидометром шестидесяти милях в час так, конечно, не поездишь, но на обычных фронтовых двадцати – вполне.
Теперь им спешить было некуда, и в ту и в другую Москву они смогут перейти в любой нужный им день и час. Как в далёкие уже времена, когда всем здесь распоряжался Антон и Сильвия попала сюда в качестве пленницы, довольно быстро ставшей одной из равных, каждая дверь в отведённом людям крыле Замка могла открыться в любое освоенное пространство-время. В неосвоенное, впрочем, тоже, только с «непредсказуемыми», как любят последнее время выражаться политики и «эксперты», последствиями. В этом некогда лично убедились Новиков с Шульгиным[9]. Для управления возможностями Замка достаточно было простого желания, высказанного хоть словами, хоть мысленно.
Сильвии нужно было всё же отлучиться в Лондон, где до сих пор ждал её Берестин. Завершить кое-какие неоконченные дела и забрать оттуда Алексея. Начавшиеся в Москве события наверняка придутся ему по вкусу, он ведь уже начал забывать свою основную, военную профессию. Пост министра обороны в обновлённом российском правительстве ему предлагать, конечно, не стоит, не то время.
Это после Октябрьского переворота, возникнув словно ниоткуда, наркомвоенморами и командармами становились такие яркие революционные таланты, как Троцкий или Фрунзе, никогда вообще не служившие в армии, или мичманы и прапорщики военного времени.
Сейчас незачем давать народу неудобоваримую пищу для размышлений, да и излишнюю вдобавок. Всё же нужно стараться «не умножать сущностей сверх необходимости». А вот главным военным советником при командующем «ограниченным контингентом», вводимым из императорской России в РФ, он вполне сможет послужить в первый, самый сложный и турбулентный период.
Уварову и оставшимся при нём девушкам миледи подробно разъяснила, каким образом они смогут провести время до её возвращения, не прибегая к помощи Арчибальда. Слишком много неожиданных тайн хранил Замок, и пытаться постигнуть их «с налёту» действительно не стоило. Если с блок-универсалом обошлось, не значит, что и следующий раз повезёт.
– Вам здесь наверняка понравится. Ещё и уходить не захочется. Теперь бояться нечего, а узнать, увидеть и попробовать можно многое, – сказала Сильвия. – Здесь не столько коммунистический принцип «каждому по потребностям» действует, сколько библейский: «Стучите – и откроется, ищите – и обрящете, просите – и дастся вам»…
Глава вторая
– Для начала нам с вами проехать кое-куда придётся, – сосредоточенно глядя между Фёстом и Людмилой, сказал майор, вернувшись за столик после очередного телефонного вызова. – Часика через полтора-два примерно. Там с людьми, кто под руками окажется, встретимся, поговорим. Ты им политинформацию прочитаешь, заодно и сам сообразишь, чем народ дышит.
До какого-то его старшего товарища информация дошла, подумал Фёст. И что этот или эти товарищи хотят? Убедиться в его серьёзности, поставить свои условия, что же ещё? Уж с заговорщиками у них никаких общих дел быть не может, если, конечно, эти люди не на том уровне, о котором и Стацюк не знает. Ну, посмотрим.
– Далеко ехать?
– Да не слишком. В район «Автозаводской», а там совсем рядом. Поедете?
– Почему бы не поехать?
– Только тогда так – никуда больше не уходите, возле меня держаться будете. Понятно? И телефоны не включаете.
Фёст усмехнулся, как и полагалось хорошо воспитанному полковнику, услышавшему бестактную глупость от майора.
– Понятно, да не совсем. Это ведь мы тебя хотим в дело взять, нет? Со всеми моральными и материальными стимулами. Деньги брал и опять не отказался. А нужно бы было, если «по понятиям». Ну и? Что дело опасное – никто не спорит, поэтому идею посоветоваться с друзьями вполне приветствую. Но вот чтобы ты мне свои правила диктовал – это уволь, Борис Иванович. Не говоря обо всём прочем, я и званием тебя постарше, и по другим параметрам. Это так, к слову, чтобы недоразумений впредь не возникало. Надо будет мне отсюда выйти – выйду. Позвонить – позвоню. Насчёт мер безопасности сам думай. Вот как раз сейчас и выйдем с Людой, тоже позвонить. У меня секретов куда больше. А ты пока перекусывай и в окно поглядывай, мы вон там, под навесиком устроимся. В поле зрения…
– Да, кстати, Борис Иванович, а мои напарники, Эдик с Гришей, на встрече будут? – с подкупающей наивностью спросила Вяземская. – Они-то меня в общем деле видели, неужто вы и им не доверяете?
– Может, и будут… Там уже не я решаю, – постарался не уступить консьерж. – Кстати, Петрович, ты, помнится, майором назывался, а сейчас… Случайно сорвалось или как?
– Случайно только школьницы залетают, – при этих словах Вяземская демонстративно поморщилась, но промолчала. – А мне чего ради было откровенничать? Теперь – другое дело. На, смотри…
Он протянул майору удостоверение полковника ГРУ и заодно ещё одну книжечку. Борис Иванович заглянул, присвистнул тихонько.
Неслабо, конечно – Герой России Ляхов Вадим Петрович, все печати и подписи на месте. Фёст не считал, что уподобляется тем, кто купленные в известных местах чины и ордена носит. Он сделал ровно то же, что Секонд, и с Александром Ивановичем, куратором, условлено было, что они, аналоги, в одной пропорции беды и заслуги делят. А если нынешняя власть не в курсе, так не её, этой власти, забота. Как тогда на перевале другой, в этом мире не выживший Тарханов пел: «Россия нас не балует ни славой, ни рублём, но мы – её последние солдаты…»
– Совсем здорово. Уважаю, – сказал консьерж. – И за что?
– По совокупности, – не стал распространяться Фёст, хотя майор, по идее, мог и даже должен был бы слышать про их не такой давний бой в ливанских горах. Но раз не вспомнил, и фамилия ему ничего не сказала – так тому и быть.
– Сейчас по-прежнему на службе?
– Нет, я же сказал. Действующий резерв. На такой вот, как сегодня, случай.
– Хорошо, хорошо, – повторил майор, и видно было, что мысли его приобрели несколько другое направление. – Но съездить всё равно придётся…
– Так мы разве против?
Во внутреннем дворике, откуда были видны окна квартиры, Вадим с Людой присели за столик под черепичным навесом, закурили.
– Ты чего-то опасаешься? – спросила Вяземская. – Чего?
– Не так, чтобы очень, но всё равно. «Время вывихнуло сустав». Кто сказал? Гамлет. У нас – аналогично. Вполне может просто для убедительности какая-нибудь демонстрация силы понадобиться. Никто никого пугать не собирается, я так думаю, но очень Борис Иванович (или кто постарше) беспокоится, не развожу ли я его. Вполне естественное чувство. В таких-то обстоятельствах. Я не знаю, кто и что ему по телефону сказал, но кто-то у них уже в курсе происходящего. Теперь его друзьям нужно понять, как всё обстоит на самом деле, вмешиваться или нет, стоит ли игра свеч, а выигрыш – голов. И – за кого меня держать. Это тоже существенный момент. За чужой стол со своими раскладами не садятся… Вон официант в углу скучает, пива ему закажи, чего зря сидим, спросит скоро.
Вадим достал обычный сотовый телефон, к блок-универсалу прибегать пока необходимости не было. Набрал городской номер, но с совсем не московским количеством и сочетанием цифр. Из одной реальности в другую через внутриквартирный межвременной коммутатор. Такую связь здесь ещё Лихарев в двадцатые годы наладил. На третьем звонке трубку взяла Герта.
– Как там у вас? Гости не скучают?
– Ничуть. Сидят в гостиной, очень много курят, спорят… Журналист с Воловичем чуть не подрались. А у вас что-то случилось?
– Ничего экстраординарного. Тоже сидим, пиво пьём. Набери по городскому Секонда, скажи – «Форос пошёл». Пусть срочно, буквально «аллюр три креста»[10], поднимает в ружьё два отделения из вашего взвода, он знает какие. Может и сам их привести, если развеяться есть настроение и обстановка позволяет. Я бы одобрил. Форма одежды девчат – штатская, разнообразная, прогулочно-походная. Снаряжение – для скрытных боевых действий в городе этой ночью. Большой войны не предполагается, но так, патронов по триста на ствол, по несколько гранат и спецсредства пусть прихватят. На всё – полчаса, край – сорок минут. Когда придут, пойдёшь с ними, если хочешь. Я ж без тебя никуда, сама знаешь, – вроде как пошутил Фёст, но на самом деле Герта ему здесь была гораздо нужнее, чем для присмотра за Мятлевым.
– Мы вас «У Гиляя» ждём, можешь в окно выглянуть. Для присмотра за гостем… оставь кого-нибудь подипломатичнее…
Эти слова баронесса приняла скорее за похвалу, чем за упрёк.
– Ясно кого. Скажу Секонду, пусть Яланскую из второго взвода возьмёт. В рядовые ей уже не по чину, а «старшей по гарнизону» – как раз. При таких гостях! Да ты и сам бы её назначил, я помню, очень ты её хвалил после очередных «зачётов», – не задумываясь, ответила Герта, давно уже говорившая Вадиму с глазу на глаз на «ты». Ляховы вообще не любили чопорности и официальщины, употребляли это самое простонародное «ты» при каждом допускаемом широко толкуемыми правилами этикета случае.
– Это правильно, молодец. И местная, и в таких сферах вращалась… – Он действительно помнил названную барышню. Ничего удивительного, одна из самых симпатичных в роте, не считая валькирий, естественно. У неё кто-то из близких родственников в высоких чинах состоял, и сама она, высокая, темноволосая, с подчёркнуто стройной фигурой, Галиной её зовут, до поступления на нынешнюю службу весьма на балах блистала, а одновременно на всевозможных соревнованиях по «офицерскому пятиборью»[11] первые призы брала. И до поры две эти её жизни почти не пересекались. Пока Секонд не начал девичью роту «печенегов» формировать.
– А ты, командир, не боишься, что Яланская под шумок Президента вашего соблазнит? Она, кстати, легко сможет. И что тогда?
От того, что предстояло очередное дело, настроение у валькирии поднялось, она даже принялась язвить и острить.
– Это будет их совершенно личное дело. Лишь бы в рамках устава караульной и гарнизонной службы. Проинструктируй от моего имени. И Леонида своего не вздумай сюда брать, как бы не нарывался. Он хоть и местный, но сейчас ему тут совершенно нечего делать.
– Слушаюсь, господин полковник. Мне бы больше понравилось, если б Волович за ней приударил, – вдруг хихикнула Витгефт.
– Жестоко. С её открытой натурой Галина может не просечь, что в нашем мире он просто хам разъевшийся, а не звезда… Ладно, хватит шуточек. А то много себе начала позволять, спасительница…
Это у них тоже была как бы игра для двоих. Взаимной любви на почве этого самого спасения не вышло, но взамен Герта завоевала права как бы младшей сестрёнки, которой многое позволяется, несмотря на её моментами очень откровенное ехидство. И у баронессы хватало ума никому, за исключением Вяземской, такой тип отношений не демонстрировать. Людка не ревнивая, точнее, настолько уверена в себе, что соперниц не боится. Мол, или он её выберет в жены, или так до смерти в холостяках проходит. Знает она, видишь ли! Эти слова Вяземской Герта, между прочим, Вадиму дословно пересказала, да ещё и со своими комментариями. В силу тех же отношений.
– Не беспокойтесь, господин полковник. Ни за Воловича, ни за остальных. Как примет, так и сдаст, по описи. Остальное тоже будет исполнено в точности. Через вахту как прикажете проходить?
– Обычным образом. Впрочем, я встречу. Будешь готова – одним импульсом просигналь Людмиле на блок. Без звука. А я с улицы световым сигналом отвечу. Тогда стойте у двери и ждите.
Сразу после Московского путча, имевшего целью не допустить воцарение Олега и подавленного только с помощью белых офицеров Югороссии, Фёст с Секондом, да и Тарханов, впечатлённый агрессией чеченских и бандеровских боевиков из параллели, согласились, что им крайне необходимы собственные подразделения, способные работать в другой России, Москве прежде всего. Что-то вроде «городских партизан», в стиле шестидесятых годов, группы Баадера – Майнгоф[12] с их «Красной Армией». Там, кстати, процент женщин-террористок был весьма высок, как и во многих других радикальных движениях. А в Россиях, что одной, что другой, таких экстравагантных «любительниц странного» не счесть. От изысканных Засулич и Перовской до отвратительных Каплан и Землячки. А всякие атаманши Маруськи? И так далее.
Тогда и родилась идея укомплектовать хотя бы одно подразделение по «половому признаку». Ведь для подавляющего большинства населения женщины по-прежнему не выглядят источником опасности, кроме разве мусульманских шахидок. А раз так, то и на государственной службе, по другую сторону баррикады, «дамский спецназ» имеет целый букет технических и психологических преимуществ. Некоторое количество девушек и молодых женщин окажутся куда эффективнее мужских групп. На них если и будут смотреть, то с понятными мыслями и чувствами, почти любые их ошибки поведения, вызванные недостаточным знанием местной специфики, проскочат куда легче, чем у крепких парней «призывного возраста». А каковы они в бою – на собственном опыте знает почти каждый женатый мужик, имевший несчастье навлечь серьёзный гнев своей «благоверной».
Чекменёв, а за ним и Император согласились с этим предложением и первое же боевое использование валькирий, как девушек сразу же начали называть с лёгкой руки Фёста, доказало их высокую эффективность. Достаточно сказать, что им обязаны жизнью и сам Чекменёв, и Ибрагим Катранджи, лидер «Чёрного интернационала». После этого первый взвод был развёрнут в полноценную роту численностью сто двадцать человек, и Секонд с Тархановым подумывали о создании ещё трёх. Претенденток хватало, хотя требования к ним превышали таковые в самых элитных подразделениях любого спецназа мира.
За истекший год семёрка валькирий и ещё три отделения их подруг, всего сорок человек, прошли дополнительную, весьма солидную и крайне секретную подготовку для зафронтовой разведки, проще говоря – работы в параллельной реальности. Девушки наизусть запоминали все отличия в политическом устройстве, перемены в городской и подмосковной топографии и топонимике, номера практически всех автобусных, троллейбусных и трамвайных маршрутов. Практиковались в вождении машин по московским улицам, метро знали так, словно по нескольку лет проработали в тамошней службе безопасности движения. Знали, что почём в магазинах, как разговаривать с обычными гражданами, представителями органов власти и криминалитетом. Научились не ошибаться в границах приемлемого насилия при самозащите, умели прикинуться хоть девушками из консерватории, хоть «ночными бабочками», интуристовскими и даже «плечевыми».
Впрочем, по мере того, как события путча отодвигались в прошлое, подёргивались, так сказать, патиной прошлого, руководство к «девичьему межвременному спецназу» охладело, и все заботы и прелести командования этим «патрулем времени», как назвал спецвзвод Фёст, легли на его и на Валерия Уварова плечи. И дело не только в личной заинтересованности. Отважный граф, сам проявивший героизм при спасении Императора, а потом и руководивший одесской операцией, верил в своих «девочек» безоговорочно и не сомневался – придёт время, и они себя так покажут…
Зачёты по «спецподготовке» принимал сам Фёст, и ни одна курсантка не провалила главного испытания – прожить в Москве РФ неделю без денег и документов и вернуться на базу целой и невредимой. «Разборы полётов» потом, конечно, были, но в основном для корректировки допущенных ошибок «нефатального» характера и «обмена передовым опытом».
Особо эта работа активизировалась, когда пошёл в разработку «Мальтийский крест». Тут каждый из причастных сообразил, что кадров сначала нелегальной, а дальше видно будет, работы потребуется много. И соответствующие службы над этим работали.
Вот сейчас и пришло время. Фёст решил для прикрытия своих контактов с новыми союзниками (если они, конечно, пойдут на союз) использовать только два отделения, как бы «головной дозор». А остальная рота вместе со всей бригадой «печенегов» пойдут следом.
Фёст с Людмилой вернулись в зал. Майор безмятежно ужинал, довольный, что ещё пару тысяч рублей может сэкономить. Даже с учётом чаевых не сильно пошикуешь на зарплату охранника и офицерскую пенсию. После знакомства с Фёстом полегче стало, но всё равно. Вот он и заказывал от души, и выпивал не абы что, а «премиумную» водку.
Снова увидев «жильца с племянницей», вскинулся, но Фёст его успокоил:
– Не спеши, не спеши, Иваныч. Я так понимаю, неплохо бы темноты подождать, а то по свету я не очень люблю. Хрен знает, может мы тут с десяти точек обложены, и как поедем – нас двадцать машин поведут…
– Сомнительно, но, в общем, верно. По сумеркам лучше начинать. Тогда давай, присоединяйся. Я давно хочу с Людочкой выпить. Очень мне интересно, сколько ей, в натуре, лет и где служила…
– Девятнадцать, дядя Боря, девятнадцать, всё остальное макияж. И кроме средней школы ничего не заканчивала…
– Ну да, средней спецшколы для детей с задержками развития…
Вяземская вежливо улыбнулась. Не поняла юмора, наверное. Кое-какие моменты в русском языке сами по себе, без контекста, звучат непонятно, тем более иностранцам или русским, но с другим жизненным опытом.
– А выпить мы в любом случае можем, дядя не запрещает, я уже взрослая, даже замуж собралась, – и короткий выстрел взглядом в сторону «жениха» из-под взмаха ресниц: среагирует, или как?
– Не рановато ли? – приподнял бровь консьерж, и не совсем понятно было, что он имеет в виду, выпивку или замужество. – Но – дяде виднее…
Час пролетел незаметно в разговорах как бы нейтральных, в том смысле, что касались они общей обстановки в стране, а не конкретно предстоящей встречи.
Потом наконец Вяземская толкнула Ляхова ногой под столом. Он кивнул.
– Ладно, Людок, ты здесь ещё посиди. Чужие парни приставать начнут – вежливо отшивай, «без шума и пыли», как Папанов в кино говорил. А мы с Борисом Ивановичем отлучимся на короткое время, – сказал Фёст, вставая. Майор пошёл за ним к выходу из дворика.
– Что у тебя?
– Так, дельце одно, вспомнил вдруг, – ответил Вадим, закуривая и одновременно условными тремя вспышками зажигалки подтверждая Герте или кто там сейчас смотрит в окно, что всё идёт по плану и что он начинает действовать.
– У тебя на вахте один помощник сейчас? – спросил он майора.
– Один, а зачем больше?
– Да вроде и незачем. Ты вот что, дай ему сейчас денежку, – Фёст протянул стодолларовую бумажку, – пусть до обменника с хорошим курсом пробежится. Ну и прикупит чего-нибудь вам перекусить для пересменки. Ты ж его обедать-ужинать в кабак не отпускаешь?
– Точно, – консьерж всё больше напрягался, не в состоянии уловить ход мысли собеседника.
– Вот пусть не стесняется, возьмёт, что нравится. И не торопится особенно, минут тридцать у него есть. А сам давай, занимай его место, отключай видеорегистраторы и выходи ко мне снова. Минут на пять хотя бы…
– Зачем это вдруг?
– Квартиры я соседние собрался грабить, неясно, что ли? Удивляешь ты меня, командир. Ладно, скажу доступнее – в течение этих пяти минут в подъезд войдут или из него выйдут несколько человек. Мне сейчас не нужно, чтобы их видел даже ты, не говоря о тех, кому записи на проверку сдаёшь…
– Слушай, как-то не по делу всё это. Темнишь?
– Как раз сейчас истинную правду говорю. Мы ж на войне, и неизвестно, доживём до утра или… Чего тут неясного – я не хочу, чтобы именно сейчас кто-то видел моих гостей и смог их пересчитать, – почти по слогам ответил Фёст. – Теперь доходчиво? У тебя свои секреты, у меня свои. Вот, даст бог, разберёмся сегодня окончательно – на что я надеюсь, – тогда и взаимных тайн поменьше станет. А то ведь не ты один головой рискуешь, я – в гораздо большей степени…
– Пусть так. Но как же я регистратор выключу, сразу же на записи дырка по времени выйдет…
– Если у вас так всё сурово, сделаем по-другому. Иди с племянницей ещё по одной выпей, а я просто предохранители в коробке на лестнице перемкну. Ты прибежишь не раньше, чем через десять минут, как свет в окнах погаснет, и вызовешь аварийку электросетей. Приедут, починят, вызов в журнал запишут, и ты тоже, в свой. Вот тебе и алиби. Годится? А если жильцы нервные раньше начнут тебе на вахту звонить, я отвечу.
– Ну, если так надо… – с сомнением протянул майор. А куда деваться. Что там за разговор будет, в том месте, куда он беспокойного жильца везти собрался, время покажет, а деньги-то он уже взял. Хотя бы в этих пределах нужно пожелания клиента, а то и будущего начальника, исполнять. Тем более продумано всё отчётливо. Другое дело, что страшно хотелось ему посмотреть, что ж там за гости такие? Раньше, за весь прошлый год и почти весь этот, сколько раз Вадим Петрович людей к себе водил, и обычных девок, без всякой маскировки под школьниц-племянниц, и мужиков серьёзных. Сейчас что-то изменилось? Стоит подумать. Да, к чёрту, о чём тут думать? Что нужно – скажут, чего не положено – всё равно не узнаешь, а неприятностей огрести можно…
– Так я пошёл?
– Само собой. Парня отошли и – к «Дяде Гиляю». Через три минуты после твоего ухода я вырубаю свет, значит, через двенадцать будь на месте. Как раз то время, чтобы опытный привратник убедился, что самому не справиться, и вызвал аварийку. И всех делов…
Фёст сделал, что планировал, и бегом взлетел на свой этаж, подсвечивая под ноги фонариком из блок-универсала. Сумерки были уже очень густыми, да и сколько там остаточного света проходило через темноватые даже в солнечный день витражи? Герта ждала на пороге.
– Быстренько выводи людей, пять минут у вас, рассредоточьтесь вдоль переулка и ждите. А мне ещё инструктаж провести…
Впрочем, с этим можно и не торопиться, в положенное время майор заступит на пост и станет ждать электриков, потом разбираться с ними. В лучшем случае в полчаса едва уложатся.
Первым из двери вышел Секонд, за ним, цепочкой, тринадцать девиц из взвода Вельяминовой. Плохо, самой командирши нет, ну ничего – полковник Ляхов её как-нибудь заменит, авторитета у него хватит, чтобы этих опасно-безобидных на вид пантер в руках держать. Фёст бы с ними точно справился, он для барышень авторитет непререкаемый, только сегодня ему некогда. Секонд – старший воинский начальник, а Герта – за взводную.
Кстати сказать, если б её вместо Анастасии на этот пост назначить – барышни бы взвыли. Та ещё штучка. Не зря в министерши госбезопасности всей РФ метит. На равных с самим Чекменёвым желает стать. А что, у неё получится. Екатерина Вторая тоже совсем сопливой девчонкой из своих Ангальт-Цербстов в Россию приехала, в пятнадцать лет, в цесаревны наниматься, а потом быстренько в обстановке разобралась и всех «буквой Зю» поставила. Генералов, царедворцев, князей-Рюриковичей, русаков исконных, а муженька вообще того… В пресс-релизе написали – «Государь Пётр Фёдорович июля шестого дня сего тысяча семьсот шестьдесят второго года скончался в Ропше от геморроидальной колики, усугубленной употреблением алкоголя…». Просто и мило. Могли бы завтра и про Президента нашего что-то в этом роде написать.
Герта вышла последней, одетая подходяще почти на любой случай. Джинсы, такая же курточка, обтягивающая тёмная водолазка. И не заметишь, что под ней бронекорсет. На ногах лёгкие кеды, рюкзачок за плечами, волосы в «конский хвост» собраны. Сейчас две трети её ровесниц из самых разных социальных групп так ходят, если не в ночной клуб, конечно. С ней – поручик Яланская, действительно видная, словно с парадных портретов начала XIX века, девушка лет двадцати пяти. Эта, предупреждённая, что работа ей предстоит «гарнизонная», да ещё и по «присмотру» за гражданскими мужчинами, оделась, что называется, «на грани» – вроде всё пристойно, но всё слегка «чуть-чуть». Юбка совсем немного, но покороче общепринятой длины, ткань типа «мокрый шёлк» облегает рельеф крайне выразительно, вырез на груди совсем немного поглубже. Золотистые чулки со швом тоже кое-что подчёркивают. В Москве Фёста она бы особого внимания не привлекла, здесь и не такое видали, свобода нравов, что вы хотите, а у себя барышня смотрелась этакой суфражисткой, что в XIX веке в обществе в брюках появлялись. В её России правила приличия были примерно как для голливудских фильмов конца сороковых годов: платье ветер не имеет права поднять выше, чем на ладонь от колен, если случайно мелькнёт застёжка чулка – уже почти фурор, никаких купальников-бикини, только глухие, поцелуй в кадре максимум две секунды. Зато в таком наряде никто не подумает, что девушка почти три года откомандовала взводом «очень специального назначения» и ждёт назначения на роту или, в крайнем случае, очень удачного замужества.
Вообще, подумал Фёст, девушки «местных» взводов и отделений, хотя и отличались от валькирий (если тех и других рядом поставить), были тоже весьма своеобразны. Сильно сексапильных красавиц, как бы случайно затесавшихся в их ряды, вроде, допустим, Глазуновой или Темниковой, среди них было немного, но зато все в пределах среднестатистической симпатичности и миловидности. Если б не служба, в девках бы не засиделись. Но всё же, даже компанией появляясь на улицах, особенно в штатском, приступов оторопи у прохожих мужиков и парней не вызывали. Фёсту они напоминали девчат, которые в его молодые годы серьёзно занимались спортом, ходили в турпоходы, гоняли на мотоциклах. Типаж «свой парень», одним словом.
Вадим быстренько изложил поручице индивидуальный боевой приказ: тщательно оберегать «квартирантов». На улицу не выпускать, на эту половину квартиры доступ воспретить, кормить и поить неограниченно, скандалов и членовредительства между представителями разных политических взглядов не допускать. На все вопросы, кроме личных и общеобразовательного характера, отвечать: «Не могу знать, вот скоро господин полковник вернётся, он всё скажет». В случае необходимости разрешается обращаться напрямую, не по команде, лично к полковнику Неверову. Прямой телефон такой-то.
Яланская подтвердила, что приказ поняла, улыбнулась на прощание, одновременно «сделав глазки». Девушки-«печенежки» отчего-то все при встречах улыбались Фёсту, умело отличая его от Секонда. С разной степенью радости и даже обожания в глазах улыбались, но – все. Наверное, рассказы валькирий о совместной битве на генеральской даче их очень впечатлили, или так выражали своё одобрение тому, что выбрал в невесты одну из них, а не совсем постороннюю даму, как их, настоящий Ляхов.
Дверь закрылась, снова отсекая от Вадима мир спокойной, почти нормальной жизни. Стало темно, только фонарик в руке освещал площадку и полмарша лестницы впереди.
По секундомеру у майора оставалось ещё двадцать секунд, и Фёст, отойдя чуть в сторонку, понаблюдал, как появился Борис Иванович, настороженно озираясь, будто надеялся всё же увидеть то, что от него хотел скрыть «жилец».
Ну, пусть теперь ждёт электриков, это ещё минут на сорок, в лучшем случае. Сам починил бы свет гораздо быстрее, но нужно документальное подтверждение причины отключения видеокамер. Фёст понимал, что такая перестраховка едва ли имеет смысл, но кто его знает? Сорвётся что-нибудь, и «новая власть» первым делом займётся политическим сыском. А эта квартира давно на примете, и у самых разных категорий граждан – от блатных авторитетов до МГБ, сталинского НКВД, милиции и иностранных разведок минимум трёх реальностей.
Вадим повернулся и фланирующей походкой двинулся в сторону Петровки. Первый подошёл к Герте, под ручку с Секондом рассматривающую выставленные в витрине меховые изделия.
– Значит, так, баронесса, идите вон в то заведение, садитесь с кавалером на веранде и ждите. А, чёрт, не выходит, – вдруг чуть было не хлопнул он себя ладонью по лбу. – Придётся мне подзадержаться, ещё кое-куда наведаться. А вы, главное, перед майором не светитесь. Пока его нет, подойдите к Людмиле, скажите – не замечай. Держись с этими девчатами, причём – вторым планом. Временно поступаешь под команду своего полковника Ляхова. Когда этот приказ будет отменён – сама поймёшь. Тест на сообразительность. Людмиле по блоку, текстом передай – если майор про меня спросит, пусть ответит, что сигарет пошёл в магазин на Дмитровке купить. Здесь в баре по вкусу не нашёл. И точка.
– А что это ты Герте поручения раздаёшь, а меня как и не видишь? – удивился Секонд.
– На реверансы времени нет. Ей сказал, сейчас с тобой определяться будем…
– Что ты ещё придумал? – осведомился он, когда Герта скрылась в калитке ресторана. – Вроде не так планировали…
– Обстоятельства имеют свойство меняться. Нас на какую-то довольно странную встречу пригласили. Похоже, там и решится, будет у нас квалифицированная помощь или, наоборот, где-нибудь в брошенном котловане и прикопают.
– Прямо так? И кто?
– Да консьерж мой, майор Борис. Сперва помогать согласился, а потом, похоже, начал просекать масштабы – и забеспокоился. Я его понимаю.
– Что и входит в твои прямые обязанности. От нас сейчас чего хочешь?
– Сейчас изложу. Пошли, чего стоять, посмотрю, кого ты привёл…
Полувзвод Секонда, как и было приказано, рассредоточился по обеим сторонам переулка от церквушки на пересечении с Петровкой до угла Дмитровки. Кто из девиц по одной – по двое просто прогуливались, кто у магазинных витрин о чём-то спорил. Ранее упоминавшиеся поручицы Глазунова и Темникова, которых он в роте выделял не только по внешности, но и по боевому опыту, как бы прикрывали фланги, контролируя противоположные входы в переулок.
Сейчас Фёста разобрал смех. Прямо сцена из итальянского кино эпохи неореализма – близнецы-сутенёры своих курочек вывели по рабочим местам распределять. Он сам ещё ничего, а вот Секонд с усиками шнурочком и небольшой бородкой-буланже – вылитый Педро Зурита в исполнении Михаила Козакова[13].
Заложив руки за спину, они пошли вдоль нечётной стороны переулка. Нет, сказать нечего, за отведённое время девчата сумели вполне попасть в тему. Одни нарядились «под Герту», другие «под Яланскую», но с достаточными, вполне существенными отличиями. Внимания не привлекут, как кагэбэшники 70-х годов, которым штатские костюмы шил один и тот же мастер в служебном ателье, причём всем из одной и той же «штуки» в принципе стильной «шерсти с лавсаном». Ну а чего ж? Модные журналы отсюда кому положено получают, учебные и художественные фильмы смотрят. Если уж консультант, отставной капитан, а ныне резидент-инструктор Ляхов-Фёст за что берётся, так делает это основательно, так как смысл и пользу дела понимает. Без оглядки на начальственное мнение. Отчего вряд ли он в своей эрэфии, оставшись служить, даже через майорский рубеж перебрался бы. А вот на той стороне его охотно признают полковником и в вопросах подготовки личного состава для работы в своей реальности дан ему чистый карт-бланш.
У тех девчат, кто по-походному одет, оружие или под куртками, или в модных здесь рюкзачках. А точнее – и там, и там. Те, кто в платьях, плащах – у тех понятно, где, и ещё в хозяйственных и дамских сумочках. Он прикинул их вес. Надо девочкам тесных контактов с прохожими избегать, а то вид – видом, а инерция у этих сумочек соответствует реальной массе. Вполне может с ног хилого «менагера» или старушку снести при неловком соприкосновении в уличном потоке или на эскалаторе метро.
Одна – совсем молодец, этакая из себя вся богемная девица, в очках даже, с футляром от скрипки-альта явилась, а в него свободно «ПКМ» помещается с боекомплектом и кое-что ещё сверх того.
Да, всё хорошо, только в зонах спецконтроля девушкам нельзя появляться, а по теперешней ситуации любое место такой зоной оказаться может. Хоть прямо у выхода из переулка на Тверскую.
Он дошёл до обеспечивающей левый фланг (у Дмитровки) поручика Темниковой.
– Привет, Ариша, – улыбнулся он ей, будто случайно хорошую знакомую встретил. – Меня Вадик зовут, не забыла? – Это он, поскольку давно с девушками её взвода не встречался, напомнил, как их «в миру» называть следует. – А брата моего – Петя. Не перепутай. Документы хорошие у всех есть?
– Ну, я не знаю, все, что вы сделали для таких выходов. Паспорт здешний, в Бирюлёво прописанный, бумага с ИНН, страховая карточка, удостоверение водителя, права в смысле, – поправилась она. – Что ещё нужно? Санитарной книжки нет, в ресторан или магазин устраиваться пока не собираюсь. «Визы» Сбербанковские, по двести тысяч на каждой… Наличность рублями, долларами и евро…
– Молодец, нормально. Только – на будущее, нельзя, чтобы на карточках у всех одинаковые суммы были. Сколько людей на такой мелочовке сгорело. Но именно сегодня – несущественно. Давай пройдись до того угла и веди девчат, по одной, по двое, в этот вот трактир. Там уже Вяземская и Герта. Вы с ними незнакомы. Рассаживай своих за столики во дворе, будто вы на экскурсию в Москву приехали, из Костромы, допустим, и здесь у вас очередной объект осмотра и заодно питательный пункт. Доведёшь и вернёшься. Попутно Полину к нам направь. Мы с полковником на той стороне, возле пивного бара будем.
Подошла Глазунова, для забавы одетая чересчур вызывающе – высокие, по последней моде, сапоги на низких каблуках, под вид офицерских, чёрные чулки-сетки, чёрное обтягивающее платье а-ля Коко Шанель, сильно выше колен. Сверху расстёгнутый белый плащ с поднятым воротником, распущенные тёмные волосы. Только лицо и глаза выбивались из стиля. Развратности совсем не чувствуется, одна сплошная ирония, и взгляд слишком умный и внимательный. Ну да не беда. Может, она «в нерабочее время» в МГУ философию преподаёт.
– У тебя, Полина, права тоже с собой? – спросил он Глазунову, одобрительно ей подмигнув.
– У всех полные комплекты, я проверила, «регистрация» в порядке, московская, то есть прямо так сразу не загребут. И денег достаточно, чтобы скромным блядюшкам от ментов отмазаться… Чтоб под юбку не лезли и «субботник» не устраивали…
– Ну, молодец, в стилистику вписалась. Хотя не пойму, в чём сверхзадача и зерно образа[14].
– Всё вы понимаете, Вадим Петрович. У вас у самого, когда на меня посмотрели, где-то там ёкнуло. Физиология, ничего личного. Вот пока «ёкает», я с клиентом что захочу, то и сделаю… Проверено.
– Тогда пошли…
Всего одним кварталом выше, не доходя до Страстного бульвара, в старинном многоэтажном доме с обширным внутренним двором (тут, кстати, совсем рядом помещалась старая квартира с мастерской, принадлежавшая Берестину, где, собственно, и начался непосредственно данный виток истории[15]) находилась фирма по прокату автомобилей, обслуживавшая только солидных клиентов.
Фёст перекинулся несколькими словами с знакомым помощником управляющего и попросил подобрать немедленно четыре машины, не очень броские, но проходимые, чтобы хорошей компанией отправиться в дикие места, вёрст за сто-двести от Москвы.
– Сам понимаешь, в мой «Пассат» всех не помещу, а гости издалека нагрянули, без колёс…
– Сможем и водителей квалифицированных предложить, есть такая услуга.
– Водителей своих хватит. Квалифицированных и непьющих, – он указал рукой на Глазунову. У менеджера глаза на лоб не полезли, но удивление на лице отразилось.
– Ты ещё поудивляйся, а Полина, кстати, мастер спорта по ралли. И в «Кэмел-трофи» участвовала… Просто у неё манеры экстравагантные. Так что давай, пойдём технику выбирать…
Для пятнадцати человек подобрали четыре почти одинаковых, совсем новых пикапа «Тойота Самшит», пятиместная кабина плюс довольно ёмкий кузов. Не совсем вездеход, но близко к этому. Движок 380 лошадей, а расход солярки куда меньше, чем у БТРа.
– Смотрите, Вадим Петрович, машины в каком состоянии. Только получили. Вы первые клиенты. Придётся залог внести, не считая арендной платы. На сутки, на трое?
– Давай на трое, – сказал Фёст, а сам подумал: «Знал бы ты, парень, что тут завтра может начаться… Бизнесу вашему точно кранты, а мы с машинами будем, по всем правилам оформленными и, наверное, незасвеченными».
– Полина, позвони кому-нибудь, пусть подбежит, четвёртый водитель нужен, – распорядился Секонд.
Посмотрев прайс-лист, Фёст тяжело вздохнул, скорее «для порядка», ведь известно, что «если вы спрашиваете, сколько это стоит, значит, оно вам не по карману».
– Рубли, баксы, еврики? – осведомился он.
– За прокат рублями, сейчас иначе нельзя, а залог лучше бы баксами…
– Как скажешь. Пиши акт…
Обошёл машины, заглянул под капоты, словно бы контролируя, не собираются ли ему потом счётик за прежние дефекты подкинуть. Да вроде порядок, ничего в глаза бросающегося. Впрочем, на фирме господина Ляхова знали, едва ли рискнули бы связываться, «куклу» подсовывать.
Как раз не подбежала, конечно, но подошла быстрым шагом подпоручик Амелина, девушка из второго взвода, в противовес хулиганке Глазуновой, вся из себя абсолютно положительная, на первый взгляд, конечно.
Выехали, почти тут же и припарковались, рядом с пивной «Ладья». Отчего-то сегодня движение по городу чуть не вдвое поредело против обычного. Неужто народ спинным мозгом чувствует предгрозовую атмосферу? Хорошо, если так.
Вышли на тротуар, Глазунова тронула Фёста за рукав.
– А правда хороши машинки? Я там рот не разевала, чтобы деревенщиной не выглядеть, а сейчас смотрю и радуюсь. У нас таких нет. Вот бы не возвращать. Как?
Она коснулась крыла той, на которой выехала. А и вправду хороша, цвета тёмно-зелёного, как раз к названию, да ещё и с перламутром. Гробина, конечно, здоровая, зачем такая симпатичной девушке? Ну, просто девушке, может, и не очень, а поручику спецназа пойдёт. Только с кабиной конструкторы чего-то перемудрили, задние дверцы открываются только при открытых передних. Не здорово. Правда, на «Тундрах» это азиатское недомыслие исправили, но тех в наличии не оказалось.
– Бандитская у тебя натура, Полинька. Точнее, мародёрская…
Девица довольно хихикнула. Вот, удостоилась личной оценки, явно её из других выделяет таинственный полковник. Жаль, в постель он её точно не пригласит, тут картина ясная. Людка в него – мёртвой хваткой, но в других-то случаях быть на примете у такого начальника не помешает. Очень умные девушки собрались в отряде усилиями Фёста и Секонда, при помощи Максима Бубнова, и за полтора года службы стали ещё умнее. Ляховы, как могли, передавали им уроки Шульгина. Любую можно без защиты в доктора психологии выдвигать.
– Да ты не расстраивайся, – Вадим как-то интимнее, чем обычно, коснулся её плеча. – Посмотрим, куда кривая повернёт. Может, и оставишь себе на память. А если всё как надо пройдёт, всем желающим такие купим…
– Ну-у, всем, – разочарованно протянула барышня, изобразив обиженное лицо. А сама подумала: «Что-то разнежничался Вадим Петрович, видно, снова лихое дело предстоит».
– Ладно, не всем. Тебе эту, другим – другие. Вроде такой. – Он указал на прошмыгнувшую мимо сиреневого цвета «Микру».
– О, им – в самый раз! – засмеялась Глазунова, с лёгким презрением проводив взглядом подобие «божьей коровки».
И ведь не шутил полковник, получится с «Крестом» – каждая сможет жить в этой Москве и кататься, на чём заблагорассудится. Хоть на пикапе, хоть на «Бентли». Тогда у «причастных» возможности будут, как у елизаветинских «лейб-кампанцев».
Не слишком спеша, две, на неискушённый взгляд, семейные или просто пары свернули в Столешников.
– Задача у вас простая, – говорил Фёст на ходу Секонду и обеим девушкам, самоопределившимся в роли водительниц, настраивая, в случае чего, командовать своими пассажирками в автономном режиме. У них для мгновенной связи «портсигаров» не было, только обычные здесь мобильники. – Нас с Вяземской хозяин куда-то повезёт, предположительно – в сторону здешнего завода «ЗИЛ». Вы за нами. С тобой, шеф, – сказал он Секонду, – мы по блоку контачить будем, но, на всякий случай, и ты слушай, – он вкратце объяснил, как проехать к Автозаводской с трёх наиболее вероятных направлений.
– Очень может быть, что нас с Людой майор вздумает на метро повезти. В оперативном смысле очень неглупо. Значит, тогда на выходе встретимся. Работать вам на пределе возможностей. И чтобы скрытно и как можно ближе к нам. Не стрелять ни в коем случае… Ну, почти ни в коем, если уж совсем кранты. Снайпера, скажем, заметите или целую толпу с автоматами. Да и то лучше б не до смерти. Люди сейчас нервные, что-то не так поймут, руки распустят, а вы им – пулю в лоб. Нехорошо. Я вообще так планирую – доводите нас до места встречи, плотно его блокируете и ждёте сигнала. В идеале, я вас просто предъявлю самым эффектным образом, и дальше пойдёт деловой разговор…
А сейчас в кабак заходим поврозь, я к своим, вы со своими, ужинайте и развлекайтесь. К такой компании провинциальных девиц одиночки приставать не будут. А если больше четырёх – тогда думайте. Смотрите, когда мы уходить соберёмся. Людмила в любом случае мимо вас в туалет заскочит, окончательные данные о маршруте передаст. Тогда отпускаете нас на полста шагов – и по машинам. За четвёртый руль Герта сядет. Чёрт, я не спросил, она с правами или без. Да ни хрена, менты тормознут – отмажешь, – это он уже лично Секонду сказал.
Да, у того эта возможность была. Документы – МГБ, службы собственной безопасности МВД, МЧС даже, а ещё прокурорские и мидовские. Даже второго секретаря американского посольства. Смотря с кем судьба сведёт.
А если совсем ничего из средств морального убеждения не поможет, изготовили, допустим, мятежники для своих какие-то спецпропуска или пароли, тогда – силовой вариант. Наверняка есть у них такие отморозки, что и маму родную пинком в автозак отправят. Что ж, если «настырных не по разуму» окажется меньше роты, шансы у них слабые.
Условленное время истекло, Борис Иванович допил и доел всё заказанное. Очевидно, текущие обстоятельства употребить примерно двести граммов ему не препятствовали. Но выглядел он вполне свежо. Ляховы в армии на такие «ресурсы человеческого организма» насмотрелись. Да что говорить, если у Фёста первый командир полка, тридцатипятилетний красавец мужчина, подполковник Гальцев, племянник, между прочим, начальника Управления кадров МО РФ, перед утренним разводом принимал «сто неразведённого» (а доктору три литра в месяц казённого спирта куда хочешь, туда и списывай) и совал за щёку две таблетки валидола, якобы запах отбить. И поговорка такая в войсках ходила: «Пить на службе можно, попадаться нельзя».
Вадиму сейчас в этом смысле было проще. Он выставил нужную функцию гомеостата на максимум, и теперь у него срок разложения спиртов и альдегидов до воды и углекислого газа составлял всего пятнадцать минут. Выпил стопарь, закусил помидором солёным, покурил – и снова чист, как младенец. Майор смотрел на него с уважением. Да и Вяземская почти не отставала, ей нынешний образ позволял. Отчего тридцатилетней женщине за компанию с мужчинами коньячку не выпить, за руль ведь не садиться. Главное – Бориса Ивановича это должно дополнительно успокоить: если люди спокойно отдыхают – значит, опасаться их не надо. Никакой серьёзный спецслужбист перед настоящей работой такого себе не позволит.
– Ну, пошли, что ли? – сказал наконец Борис Иванович.
– Пошли, – согласился Фёст. – У тебя машина далеко?
– Я без машины. На метро поедем.
– А смысл? – удивился Вадим. Пусть до любой из восьми ближайших станций десять-пятнадцать минут хода, но если вспомнить один старый фильм – «Улица полна неожиданностей», так задумаешься. И тут же его осенила совсем хорошая идея:
– Сейчас такси возьмём, докуда скажешь, или, ещё лучше – приличного бомбилу. На твоё усмотрение. Пробежимся с комфортом и без лишнего риска…
Людмила поняла.
– Идите, я загляну кой-куда. – И направилась к видимой с их места двери туалета. Опять же, лишний успокаивающий фактор, всё на глазах.
– Ну, давай перекурим напоследок. Люда твоя правильно сообразила – перед нервным делом очень невредно куда нужно сбегать, а то потом девушке с этим делом сложнее…
Фёст удивился, что майор затронул эту деликатную и в приличном обществе необсуждаемую тему. Сначала подумал, что так примитивно намекает на серьёзность происходящего, потом сообразил – это он так, на своём уровне, дал понять, что их игру просчитал. Не только по обычной необходимости племянница пошла, а звонить кому-то. Скорее всего – насчёт транспорта. Именно подставу обеспечивая.
Людмила вышла через точно рассчитанное время, машинально потряхивая недовысушенными электрополотенцем руками. Очень «по Станиславскому» жест.
Вышли в переулок, не сговариваясь, повернули влево, к Дмитровке. Майор, не искушённый в тонкостях спецпсихологии, не заметил, что шедшая правофланговой Вяземская точно выверенным микродвижением обозначила нужное ей направление, а дальше он уже сам уверенно пошёл, как туда и собирался. В принципе, это не играло никакой роли. Вздумай Борис Иванович поступить по-своему, с другой стороны, на Петровке, их тоже ждали.
Считая, что разбирается в подобных делах (на самом деле – в основном из книжек и фильмов), консьерж остановился на бордюре Дмитровки.
– Куда ещё идти, давай здесь ловить…
Майор демонстративно пропустил три или четыре пустые машины с шашечками и опять легко повёлся на уловку Вяземской. Она как бы невзначай, почти случайно, но выразительно (для чужой подкорки) взглянула на только что отъехавший от прокатного салона большой тёмно-серебристый пикап.
– О! Давай этот тормознём, – вдруг предложил майор, почти правильно предположив, что уж эта машина, только что из салона, подставой быть не может.
– Да брось. Такие, с понтами, пассажиров не берут, – отмахнулся Фёст.
– А спорим?! Он машину только взял, ему сейчас тест-драйв сделать охота, выпендриться, какая тачка, перед людьми нарисоваться. Да и денег, что заплатил, жалко. Я такую публику знаю. Хоть что отбить. Заломит, конечно, – выразительно посмотрел на Фёста. Заплатишь, мол?
– Тонко соображаешь, – хмыкнул Вадим. – Он, может, вообще на своей, а здесь стоял только…
Но майор подтолкнул локтем Людмилу, и она замахала рукой, когда Секонд, ехавший на этом «Самшите», был уже в нескольких метрах.
Неожиданно, подтверждая правоту майора (тот победно взглянул на скептика), «Тойота» притормозила.
Дальше пошла чисто Людмилина игра. С отчётливым западноевропейским акцентом сообщила водителю, куда ей надо, и как она боится ночами передвигаться по этому большому и непонятному городу, и что, разумеется, джентльмен на такой солидной и красивой машине никак не может оказаться «не джентльменом».
Она тараторила так убедительно, что Фёст с Борисом как бы вообще выпали из сюжета, их почти видно не стало. Хотя любой нормальный московский (то есть пуганый) человек сильно подумал бы, брать ночью девицу и двух крепких мужиков. Да ещё в довольно сомнительный район. Вот этого Борис Иванович, считающий себя специалистом, только вот беда – в другой области, не просёк. В морской пехоте, даже в бригадном разведбате, учат несколько другому.
Обладатель эффектного пикапа сразу согласился, тем более, как оказалось, ему почти по пути. Но запросил, для проверки, очевидно, внаглую – сто долларов. Майор хотел возмутиться, но Людмила молча кивнула и тут же достала из сумочки требуемую сумму, одной бумажкой. Сразу полезла на переднее сиденье, предоставив мужчинам размещаться сзади.
Доехали быстро, Секонд здесь прилично ориентировался и погнал по набережным, где движение было достаточно разреженным. Только один раз их притормозили дэпээсники, на Котельнической, передвижной пост на двух машинах, причём во второй сидели явно не милиционеры. Тут Секонд быстро сообразил, протянул лейтенанту через приспущенное стекло удостоверение как раз службы собственной безопасности городского Главного управления и не стал ничего говорить, объяснять или убеждать, просто смотрел на него очень внимательно и выразительно, как бы запоминая номер на нагрудной бляхе и лицо тоже.
Лейтенант тоже не из простаков оказался, молча кивнул, вернул документ, о правах и прочем не заикнулся. Наверное, на сегодня имел какие-то инструкции.
Три остальные машины (раз конечная точка маршрута известна и связь постоянная) шли параллельными улицами, не столько опасаясь того, что майор слежку заметит, как излишнего впечатления, которое могли произвести на гаишников идущие подряд четыре новых и довольно редких здесь «Самшита».
Не доезжая метров сто до ограды бывшего завода «ЗИЛ», майор велел остановиться. Людмила ещё раз поблагодарила любезного джентльмена, по-русски, но прибавив ещё и «сэр».
– Хорошо это у тебя получается, – похвалил консьерж, когда задние огни пикапа исчезли за поворотом. – Я б тебя тоже за американку принял. Случись что, этот парень никакой толковой информации никому дать не сумеет.
– Школа, – с усмешкой ответил Фёст. – Теперь куда? – И довольно демонстративно извлёк из-под ремня «беретту», снял с предохранителя и засунул на место. О том, что у девушки (сильны в людях, даже опытных, стереотипы) под платьем к симпатичным ножкам пристёгнуты ещё две такие же, он и вообразить не мог.
– Это я ни на что не намекаю, камрад, – сказал Вадим майору, – но стреляю быстрее, чем большинство подумать успевает. Смотри, чтобы кто-нибудь из ваших не переоценил личных способностей. Роковая может выйти ошибка. Глаза завязывать тоже не дам, не в кино. Пошли, порешаем ваши дела побыстрее, а там и нашими займёмся. «Время не ждёт», как писал Джек Лондон.
– Я бы предпочла, чтобы нас знакомые мне товарищи-разведчики встретили, если есть такая возможность, – очень мягким, волнующим, как иногда выражаются, голосом добавила Вяземская.
При этом она через большие накладные карманы платья, снабжённые прорезями, тоже привела в боеготовность свой арсенал.
– Слушай, Петрович, ты правда не обижайся. Я не знаю, как и куда ты смоешься, если что не так пойдёт, а нам ошибаться нельзя, – успокаивающим тоном сказал майор. – У нас только один ход – первый и последний… За стукача я тебя не держу, но вдруг у нас взгляды настолько разные…
– Не продолжай. Мы здесь, начинай второе действие нашей интересной пьесы…
– «Я стою у ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано», – продолжила театральную тему Людмила. Это она сегодня, полчаса назад афишу какого-то театра (название слишком мелко написано было) увидела. Ей понравилось.
Майор только головой покрутил.
Они пролезли сквозь прикрытую изнутри листом ржавого железа дырку в заборе и оказались словно в декорациях американского боевика. У них там, в Голливуде, половина фильмов снимается на территориях и в цехах заброшенных заводов. Покрутились, следуя за уверенно шагающим майором между корпусами цехов и просто двух-, трёхэтажными зданиями старинного красного и сравнительно современного силикатного кирпича. Кое в каких ещё светились окна, то ли склады какие, то ли офисы фирм-однодневок, а может – общежития гастарбайтеров. Людмила всё время давала пеленг с блок-универсала Герте и Секонду. Обстановка вокруг была более чем спокойная. Блок-универсал Вяземской отметил несколько скрытых парных постов на их пути, но никакой поблизости работающей аппаратуры слежения, включая ночные прицелы и лазерные целеуказатели. Так что «печенежки» смогут держаться на минимальной дистанции. Снаружи, конечно, внутрь зданий им лезть пока не стоит, да и незачем. Свою роль «туза в рукаве» они сыграют и так.
Наконец через вестибюль очередного «строения» спустились в подвал, на целых два марша, майор с фонарём впереди. Прошли с полсотни шагов по сухому и чистому коридору.
– Ну прямо ставка Гитлера «Вольфшанце», – единственное, чем нарушил Фёст тишину, когда Борис Иванович открыл толстую, как в бомбоубежище, дверь. Похоже, именно в нём они и оказались, построенном во времена «холодной войны» или ещё раньше, в тридцатые годы.
– Очень правильно выразились, коллега, – вдруг послышался спокойный мужской голос слева и сзади. Вадим с Людмилой остановились. Оборачиваться не стали.
– Молодцы, выдержка на уровне, – продолжил тот же голос, – даже и не вздрогнули…
– Надрожались уже, во времена лейтенантской юности, – в тон, не повышая голоса, ответил Фёст. – Теперь у нас нервы как стальные канаты…
– Ещё и острите. Ну, заходите. Дешёвых эффектов больше не будет.
Вдруг стало светло. За приоткрытой дверью в углу горела нормальная лампочка, ватт на триста. Действительно, бомбоубежище. Комната большая, даже скорее – зал. На стенах учебные плакаты и схемы противоатомной тематики, два стола, скамейки вдоль стен, несколько нормальных стульев у столов. В меру тепло, совсем не сыро, но пахнет всё равно как в подземелье, специфический такой запах.
Во главе стола мужчина в армейском камуфляже старого образца, возрастом прилично за пятьдесят, но крепкий, подтянутый, сухощавый. Лицо, как сразу определил Фёст, соответствует строевому полковнику с богатым жизненным опытом, не карьеристу и не сволочи, такие вещи Ляхов сразу просекал. Ещё на собственной службе научился, а потом в школе Александра Ивановича значительно усовершенствовался.
Кроме «полковника» в комнате было ещё шесть человек, среди них, к радости Людмилы, её вчерашние сопровождающие, Григорий и Эдуард.
Мизансцена закончилась, все как-то сразу облегчённо задвигались, начали доставать сигареты. До этого не курили, чтобы гости раньше времени не забеспокоились, издалека учуяв табачный дым.
Фёст с Вяземской сели напротив «полковника», Борис Иванович отошёл в сторонку. Его задача, похоже, на сегодня выполнена.
– Теперь будем знакомиться, Вадим Петрович. Полковник, вы, значит, «Герой России». С этого места – поподробнее, пожалуйста.
– С кем имею честь? Или – удовольствие беседовать? – осведомился Ляхов, тоже доставая сигарету из портсигара. Достал, прикурил, положил блок рядом, под левую руку.
– Резонно. Сергей Саввич, Хворостов, тоже полковник. В отставке. В былое время – начальник разведотдела штаба КДВО. Сейчас – директор ЧОП «Хайратон»[16].
– На Серышева[17], на третьем этаже сидели? – спросил Ляхов.
– Грамотный вопрос. Нет, не на Серышева, на Уссурийском бульваре. Так?
– Очень может быть, я не в курсе, просто пару раз бывал в тех местах, вот и спросил. А «Хайратон» – вы сами придумали?
– Уточните смысл вопроса…
– Да тоже из чистого любопытства. Слышал от старших товарищей такую песню: «Как хочется скорей дойти до Хайратона, где сразу за рекой закончится война…» Выходит, ваша контора – рубеж между войной и миром? Между победой и поражением. Рубикон – Хайратон. Созвучно даже. Вы это подразумевали?
– Вадим Петрович, вы умнее даже, чем я со слов Бориса Ивановича представлял. Ну и зачем же мы потребовались «Чёрной метке»? Поделитесь?
Глава третья
– Насчёт «умнее» вы, пожалуй, слегка преувеличиваете, – с усмешкой ответил Фёст. Вопрос о своём «геройстве» он деликатно обошёл. – Не из того смыслового ряда термин. Сообразительнее – это пожалуй. Не ожидали вы от такого, по вашим воззрениям, «салаги» знания реалий, имевших место чуть ли не до его рождения, умения соотносить факты и делать из них нестандартные, по меркам даже и образованных людей, выводы. Так правильнее будет.
– Ну, и избытком скромности вы тоже не страдаете.
– Сам себя не похвалишь, и сидишь, как оплёванный… Так вы не ответили на мой основной вопрос. Про Хайратон…
– А вам зачем? – удивился Хворостов.
– Хочу отчётливее представлять, с кем дело имею…
– Я, вы знаете, тоже.
Фёст замолчал, затянулся «Кэмелом», внимательно глядя, как быстро укорачивается сигарета. Словно бикфордов шнур. Отчего он и полюбил имперские папиросы. Те – как «наган». Нажмёшь – выстрелит, не нажмёшь – не выстрелит. То есть сгорают они только по воле курильщика, а если тот не затягивается, переходят в «стендбай». Ждут спокойно и не гаснут при этом. Надо не забыть в следующий раз достать из кармана коробку «Корниловских», ещё немного развлечь полковника.
– Я думал, приглашая меня сюда, заведомо предполагая, что я приду, и я пришёл – без прикрытия, только с девушкой-подружкой – вы уже имели обо мне более-менее отчётливое представление… Разве нет?
– Сложный вы человек, Вадим Петрович. Ну вот и Хайратон… Дела настолько давних дней. Вы какого года рождения?
«Молодец, что не спросил «с какого года?», – отметил Фёст.
– Семьдесят шестого.
– Значит, вам тогда тринадцать было. Что-то помните, но явно смутно. А я выводил через этот самый мост последний батальон «поддержки погранвойск». Уже и Громова показали по телевизору под развевающимся знаменем, «капитана, последним сходящего с корабля», уже и Героя ему, кажется, дали, а мы ещё там оставались. Вышли, когда все дела закончили, как бы и не существующие солдаты ушедшей армии. Потом двум десяткам бойцов по «Отваге» и ЗБЗ[18] дали, пяти офицерам – Красную Звезду, мне – не поверите – орден Александра Невского. Им за всю войну человек десять наградили, наверное. Но о том, что мы Громова прикрывали, чтобы он красиво выглядел, – нигде ни слова. Впрочем, не имеет значения. А вы когда и где «Героя» получили, тридцатилетний полковник?
– Ну, к слову, мне уже тридцать два, ещё немного – с генералом армии Черняховским[19] сравняюсь.
– Всё вас на сравнения тянет. Ну так как же?
– Полковник я совсем не по вашему ведомству, Героя получил за боевые действия за границей, конкретнее – Ближний Восток, три года назад. Может, слышали – миротворческие силы ООН, перевал в горах Маалум. Получал тоже втихаря, из рук в руки, без опубликования. Этого пока хватит?
– Бывает, и не такое бывает. А – «Чёрная метка»?
– Что – «метка»? – сделал вид, что удивлён, Ляхов. – Вас она каким краем интересует? Вы же не из тех структур. Она больше, помимо армии, в «правоохранительной сфере» работает. Это уж я Бориса Ивановича решил привлечь как боевой резерв. До него всё больше с начальством выше нас с вами званием общался…
Хворостов неопределённо покрутил головой.
– Слышал, слышал. Но всё равно неубедительно. Вы, предполагаю, специалист по понятной линии, а я – армеец. Мне кое-какие явные ляпы в глаза лезут, а ваши коллеги иногда настолько по-другому думают, что по пустякам привлекают сотню человек и сотни тысяч дензнаков. Не знаю, наши или те «дело Литвиненко» организовывали, но по-любому глупо. Я бы за двести долларов нанял негра, чтоб его в лондонской подземке ножом под рёбра ликвидировал. И никто б никогда концов не нашёл.
– Полностью с вами согласен. Только те люди другие задачи решают. Почему и не позволили Грачёву за час одним десантным полком чеченскую проблему закрыть. А он бы смог. Но это лирика. Ко мне какие вопросы? Только поконкретнее. Мне кажется, что у вас… Не знаю точно – или страх, или ревность. Если ревность – не надо. Вы своё гарантированно получите, если захотите, и мы с вами нигде не пересечёмся. А от страха лекарство – могу, как врач по образованию, кое-что прописать…
Хворостов стукнул ладонью по столу.
– Да что вы за человек? Мы всё могли за три минуты решить, а вы так поворачиваете, что полчаса говорим, и только вязнем…
– Не я первый начал, коллега. Всё решить можно было и из дома не выходя. Давайте, я вам просто картинку текущего состояния дел нарисую, и будем обсуждать… «Чёрная метка». Правда, красиво? Детство, «Остров сокровищ», пират Билли Бонс и так далее. Да ещё Борис вам напел про десятикомнатную квартиру, про деньги, что я ему давал, про разные чудеса в стиле театра «Варьете». Эдуард и Григорий с моей сотрудницей вчера по Москве погуляли, тоже порассказали… Вот вам и захотелось познакомиться, когда от верных друзей узнали, что Президента больше нет и сейчас самая гульба пойдёт… Сейчас, я думаю, – Фёст посмотрел на часы, обычные «Командирские», не «Бреге», не «Роллекс», – где-то в их штабе, на Мясницкой, скорее всего, идут лихорадочные совещания, как в Петроградском ВРК[20] 24 октября… Интересно, кто раньше успеет, мы или они?
– Снова уходите в сторону, – одёрнул его Хворостов. – «Чёрная метка»?
– А, – небрежно махнул рукой Ляхов. – Это, по сути, этакий «пазл», знаете такую игрушку? Нет никакой организации. Есть коробка с детальками, есть я и ещё несколько человек, знающие, как они друг с другом соединяются, и держащие в памяти картинку, которую нужно сложить. Сами же «детальки» понятия не имеют, что являются составной частью некоей сущности высшего порядка.
Вот, возьмём ваш ЧОП. Считай, штыков двести вы имеете, хороших, опытных. А что с ними сейчас делать, знаете? Допустим, второй «Форос» его организаторам удастся. Вы не боитесь, что завтра вас разоружат, а послезавтра – к стенке или по этапу?
Тут он как бы невзначай достал из кармана коробку белогвардейских папирос, подвинул полковнику.
Хворостов сначала долго смотрел на картинку с портретом Лавра Георгиевича и прочими деталями оформления. Как-то очень осторожно открыл, взял папиросу, понюхал, помял, закурил, наконец.
– Вы в том, что происходило в Москве в позапрошлом году, участвовали? – спросил, не глядя в глаза.
– Было дело. Только недоработали, о чём сейчас жалею…
– И всё равно, мне трудно вам поверить. Есть гораздо более простые объяснения, и они мне не нравятся…
– Очень жаль. Я думал, без демонстраций обойдёмся. Да вы курите, курите, это немного времени займёт…
Посмотрел на Вяземскую.
Та сидела, совершенно безразличная ко всему окружающему, будто просто ждала, когда командир что-то прикажет. Дождалась. Достала из кармана свой портсигар, под настороженными взглядами всех присутствующих вынула сигарету, щёлкнула зажигалкой. Одновременно пошёл сигнал Секонду.
– А я могу и ваш отряд вставить в свой «пазл», и послезавтра вы наденете давно заслуженные генеральские погоны, примете под команду дивизию «особого назначения» или – сами придумаете, что захочется. Вам ведь сколько? Пятьдесят три, пять?
– Всего пятьдесят один. Это я выгляжу старше…
– Ну, тем более. Служить и служить ещё можно. Помните, сколько Брусилову[21] в шестнадцатом году было? А ведь до этого никто о нём почти и не слышал. В шестьдесят три Галицийскую битву выиграл, на весь мир прославился, в шестьдесят четыре Главковерхом стал…
– Вашими бы устами… Но не уходите в сторону, сколько можно просить. Конкретно – кто вы на самом деле, что такое «Чёрная метка», какая ваша роль в творящемся бардаке и что вы хотите от нас?
Никуда не деться от литературных ассоциаций и даже аллюзий. Но что поделаешь, если происходило всё, как в известной книге, правда, с некоторыми коррективами: «За выкрашенной казарменной синей краской дверью послышался шум, полковник Хворостов недовольно оглянулся. А его собеседник, зловеще усмехаясь, медленно поднялся…»[22].
Пока Сергей Саввич и его вернейшие, судя по всему, паладины только тянули руки к пистолетам, у кого в традиционных кобурах на поясе, у кого в других местах, Ляхов и его нежная возлюбленная уже держали в руках свои. Просто на всякий случай. Как в «Великолепной семёрке»: «Хлопай руками, быстрее хлопай!»
Дверь открылась. Сначала в неё цепочкой вошли пятеро солидных мужчин в камуфляжах. Руки у всех за спиной зафиксированы, и рты толстым специальным пластырем заклеены. За ними – четыре пёстро, совсем не по-военному одетые девушки с автоматами через плечо. Замыкающей – вездесущая Глазунова. Она с грохотом свалила на ближайший стол груду оружия и патронных подсумков. Выпрямилась и замерла, как бы охраняя свои трофеи. Глазами при этом постреливала по сторонам вполне дружелюбно. А присутствующие сотрудники Хворостова пока что только ошарашенно вертели головами. Молча.
– А где вторая половина отделения? – спросил Фёст у Полины.
– На постах. Этих ребят подменили. Система охраны и обороны не нарушена, – поручица опять улыбалась Ляхову так, что Людмилу передёрнуло. Нет, ну нельзя же так наглеть! Только Герте она готова что-то простить, но никому больше.
– Молодец, Полина. Завтра же здесь четвёртую звёздочку получишь, обещаю, а с остальным – твоё начальство разберётся. Ну и господин полковник пусть делает выводы, как у него караульная служба поставлена.
Повернулся к Хворостову.
– Вы садитесь, садитесь, Сергей Саввич. Где вы там служили, до штабов? Спецбатальон поддержки погранвойск? А до этого наверняка ведь рассказы про штурм дворца Амина слышали. Моим бы девчатам поручили – без стрельбы и ненужного кровопролития справились. Как оцените – ваши бойцы ведь далеко не мальчики. И кто их без шума снял и обезоружил? Вы, Глазунова, никого не покалечили?
– Обижаете, господин полковник. Пареньки и не рыпнулись… За что их бить?
Ляхов сел, совершенно машинально взял очередную папиросу. Ну не выходил без этого разговор.
– Так что, товарищ Хворостов, фронткамерад, про «Чёрную метку» вы можете предполагать, что вам угодно, а вот что вы думаете про моих девочек?
Вся прибывшая команда уже рассредоточилась по помещению, без нервного напряжения, но чётко контролируя весь его объём по многократно пересекающимся директрисам. И глазами, и стволами.
Главе принимающей стороны было крайне тяжело сохранить подобие самообладания.
Ещё и Людмила не выдержала, добавила «свои пять копеек».
Спросила, обращаясь к своим вчерашним спутникам, Эдуарду и Григорию, достаточно вроде бы опытным фронтовым разведчикам:
– Ну, что же вы своему командиру сразу всё не объяснили?
– Мы объясняли, он не поверил, – не то удручённо, не то со скрытым торжеством человека, чья правота подтвердилась самым наглядным образом, ответил Эдуард.
– Приношу свои извинения, – выдавил Хворостов. – Не скрою, не поверил, думал, чего-то вы недопоняли в происходившем. И сейчас не могу поверить. Как вы… ваши сотрудницы всё это провернули? Я ведь своих людей знаю…
– Своих знаете, моих – нет. А если разведке не удалось установить силы и средства противника, уровень его подготовки – нужно быть трижды осторожным. Да что я вам прописные истины объсняю? Вы обратили внимание, в каком чине госпожа Глазунова?
– Вы сказали – поручик. Я решил, что позывной такой…
– Отнюдь, это её подлинный чин, или, по-нашему, воинское звание. Дело, видите ли, вот в чём, – Ляхов щёлкнул пальцами, подбирая походящие слова. – В той армии, где служат эти прелестные существа, уровень военно-технической оснащённости значительно ниже, чем в нашей российской или, не к ночи будь помянута, американской. Приходится компенсировать. Про японских ниндзя слышали, конечно, или, если поближе взять – вьетнамцы в известной войне. Да, кстати, ваших ребят нужно освободить. Пусть не обижаются, что так с ними поступили, наглядный урок, ничего личного.
По его кивку девушки, сохраняя бдительность и осторожность, развязали охранникам руки, убрали пластыри.
– Скажите, – обратился Фёст к ближайшему из них, – вы что-нибудь вообще успели заметить, услышать, почувствовать?
Чоповец был в таком состоянии и настроении, что говорить не стал, просто отрицательно мотнул головой.
– Поподробнее, пожалуйста, – попросил Хворостов, – что это за армия такая, с дореволюционными чинами, плохим оснащением и высочайшим уровнем индивидуальной подготовки? Не израильская ведь?
– Упаси бог. Я как раз с самого начала хотел вам всё рассказать, да вы меня всё время отвлекали. Теперь слушайте. Удивляться не обязательно, просто так уж мир устроен…
Он буквально за десять минут, умалчивая лишь о том, что сейчас не имело непосредственного отношения к делу, рассказал и про другую Россию, и про «Мальтийский крест». Не стесняясь присутствия полутора десятка бойцов Хворостова. Таиться теперь незачем, если завтра всем этим людям придётся работать в связке с «печенегами» или любой пришедшей с той стороны воинской частью. На весьма ответственных должностях. Наверняка все присутствующие – офицеры, от капитана, как минимум, и выше. Каких служб – несущественно.
– Поразительно. Действительно, поверить почти невозможно, – сказал Хворостов, машинально жуя мундштук уже третьей «корниловской» папиросы. Теперь смысл коробки и картинки на ней приобрёл другое значение. А поначалу он просто за этакий прикол принял.
– Этим девушкам наша действительность тоже при первом знакомстве казалась абсурдом. Ничего, свыклись. Так что, будем вместе работать, или как?
У Хворостова и его окружения тотчас возникли примерно те же вопросы, что мучили и самого Президента. Насчёт аннексии, оккупации и прочего.
– Вы иначе на это дело взгляните, – предложил Вадим. – Вот абхазы, например, не обижаются, что мы к ним на помощь пришли. Живут, как жили, даже лучше, и имеют за спиной сто сорок миллионов друзей и семнадцать миллионов квадратных км надёжного тыла. А не пять миллионов врагов, мечтающих этих самых абхазов ассимилировать, в самом лучшем случае, и крайне сомнительное в роли гарантов «мировое сообщество». Так мы с ними всё же разного этнического происхождения, а в нынешнем случае вам готовы помочь четыреста пятьдесят миллионов единокровных братьев и сестёр, проживающих на двадцати пяти миллионах квадратов территории. При этом Император абсолютно не заинтересован как-то нас притеснять и ущемлять. Скорее – всё наоборот.
В ином случае – я, честно, устал уже повторять очень многим людям один и тот же довод – всё здесь пойдёт так, как уже началось. И чем оно закончится? Девяносто первый год рождественской сказкой покажется. Вас, как русских офицеров, этот вариант устраивает?
Фёст вдруг широко улыбнулся, будто ему надоело быть серьёзным и жёстким.
– Да вы на моих девчат посмотрите – все из другого мира, а сильно от наших отличаются? На оккупанток похожи? Если кого слегка ушибли невзначай, так они извиняются, правда, Полина? И все, к слову, незамужние. Имейте в виду, мужики.
Обстановка сама собой разрядилась. И девушки в ответ на слова Ляхова заулыбались, бессовестная Глазунова подмигнула самому Хворостову. Его «снятые с постов» офицеры тоже начали отходить от стресса. В общем, этакая «встреча на Эльбе». Только Людмила оставалась в фазе натянутой струны. Что-то ей всё же не совсем нравилось в обстановке, или приказ Тарханова, возложивший на неё ответственность за безопасность операции и лично Фёста в том числе (невзирая на его формально неизмеримо более высокое должностное положение), оставался доминирующим, не позволял расслабиться, как бы ни складывалась обстановка.
– Разрешите вас на минутку, господин полковник, – обратилась она к Ляхову.
Они вдвоём вышли за дверь.
– Что у тебя?
– Во-первых – как-то мне не по себе. Интуиция… Словно по спине оптическим прицелом шарят…
– Принимается. Во-вторых?
– Надо бы тебе с Президентом, а лучше, с Мятлевым связаться. Сказать, чтобы остальных своих друзей, если они ещё живы и на свободе, срочно к нам на квартиру вызвал…
– То есть?
– На этой стороне, конечно. Прикажи, чтобы всё бросили и туда мчались. Поднимутся на этаж, позвонят в дверь. Яланская, её предупредить тоже надо, объяснит, как впустить. Президенту их показывать пока не надо. Я правильно рассуждаю? Вернёмся, сам и решишь, показывать им наш терминал или как-то иначе… Те люди нам наверняка понадобятся, а их сегодня ночью вполне изъять могут, если не уже.
– Молодец! Талейран в юбке, – он не удержался, коротко поцеловал девушку. – А я и не удосужился. Хуже того, и Президент с Мятлевым про них не вспомнили… Сейчас сделаю. – Фёст начал набирать номер телефона. Действительно, как же это Людмила быстрее него сообразила то, о чём в суматохе даже сам Президент не подумал. Или подумал, но не видел реального способа забрать друзей туда, где сам оказался. Возможно, говорил об этом с Мятлевым и Журналистом, но и только. К нему не обратился.
Яланская сняла трубку. Вадим объяснил «коменданту гарнизона» то, что требовалось от неё, специально подчёркнув, что дверь между смежными квартирами должна быть обязательно закрыта на защёлку, когда (и если) очередные гости прибудут, не позволять им даже подходить к ней.
– Контакт между теми и этими до нашего возвращения исключить. Новоприбывшим накрой стол с закусками в кухне, напитки в баре. Ничего объяснять не надо. Не твоя, мол, компетенция. Теперь позови мне Президента.
Георгию Адриановичу он сообщил, как по этому же телефону дозвониться в другую Москву, выразил надежду, что с Писателем, Юристом и Философом пока что всё в порядке.
– Ну, если нет – примем меры. Лишь бы живы были, выручим из любого узилища. Не буду вдаваться в подробности, но такая тут технология – до моего прихода вы с ними увидеться не сможете. Галина (это так Яланскую звали) вам доложит, что прибыли, ну и радуйтесь. Договорились?
Президент предпочёл не задавать лишних вопросов. До самого дошло, что забыл о друзьях, слишком поглощённый и домашними, и здешними впечатлениями. С другой стороны – по тому же принципу «разновременности» с ними ничего такого просто не успело бы случиться. Зачистки, скорее всего, начнутся завтра и позже, при условии, что всё остальное пойдёт по устраивающему мятежников варианту.
И тут же, едва Фёст отключился от собеседника, на связь вышел Секонд, контролировавший периметр завода снаружи.
– У нас, похоже, тревога, – как-то очень буднично сказал он. – Территория, скорее всего, окружена. Герта говорит, что отслеживает не меньше полусотни человек в непосредственной близости, до десятка единиц техники. Кольцо пока очень редкое. Мы, – он имел в виду себя с Витгефт и оставшихся при нём троих «печенежек», – пока можем пройти к вам. Минут через десять они подходы верняком заблокируют. Решайте там, что в вашей ситуации выгоднее – жёсткая оборона, прорыв с боем или «выход малозаметными группами».
– Понял. Наблюдай, я сейчас.
Счёт шёл на минуты, и основное решение принимать не ему.
– Это вас, полковник, кто-то или выследил, или заложил. Прошу прощения за самоуверенность, но за нами хвостов не было. Эта ваша база, думаю, давно на примете, а сегодня пришло время, как в том анекдоте. Тут не спорю, наше прибытие на четырёх машинах могло спусковым крючком послужить…
– Плохо дело, Вадим Петрович, честно скажу. У меня здесь всего тридцать человек, включая… – Хворостов обвёл рукой комнату. – По тревоге, общему авралу, могу поднять ещё полтораста. Но собираться и добираться сюда им долго. Не меньше часа-двух. Это те, кто не дальше МКАДа живёт. И подходить-то будут, вот беда, поодиночке! Сами понимаете, мы к такому варианту не готовились, чтобы в каком-то специальном месте сначала собрались, потом единым кулаком и со специально к этому случаю назначенным командиром нам на выручку двинулись. С оружием тоже плохо. Пистолеты, дробовики. Настоящих автоматов едва десяток наберётся… Плохо, одним словом. У вас людей сколько?
– Со мной – пятнадцать. Оружия и боеприпасов – на двадцать минут серьёзного боя.
– Боеприпасами помочь можем.
– Едва ли, – мотнул головой Фёст. – У нас, увы, полный разнобой по системам. Если «восьмого года» есть – пулемёт наш постреляет, а так – всего две ленты. И «тэтэшные» пригодятся, почти у каждой девочки – «ППС». У прочих – «беретты» да «вальтеры».
– Для «ТТ» есть, но немного, меньше цинка. В большинстве «ПМ», «АК-7,62» да охотничьи для «Сайги» и помпового «ИЖа». Уходить надо, не отобьёмся…
– С таким боезапасом – точно. Но главное – смысла нет. А куда уходить?
– Да хоть в леса. И будем твоих друзей ждать. По первому сигналу выйдем и встретим. Есть хорошие места, с полсотни кэмэ отсюда, хрен нас там найдёшь и выковырнешь, а у нас – полная свобода манёвра.
– Толково. Но чтобы всех твоих ребят обзвонить – не меньше часа уйдёт. Потом вызовешь, когда прорвётесь. Ну, не мне тебя учить. Потом мы вам поддержку окажем, даже и бронетехникой. Связь со мной, Сергей Саввич, вот по этому телефону держать будешь. – Фёст протянул полковнику дешёвенький «Сименс». – Здесь «симка» совсем новая, с ходу не перехватят. Только сначала план подконтрольной вам местности покажи, будь добр, – попросил Фёст, уже составивший в голове план собственных действий.
– Эдик, быстро, – распорядился Хворостов, отходя с телефоном в дальний угол. Бывший командир разведбата отпер сейф, положил на стол ксерокопии плана заводских корпусов и прилегающей территории.
– Глазунова, с отделением бегом на позицию, в распоряжение командира. Вяземская – при мне. – И перешёл на немецкий.
Среди окружающих если кто и знал языки, так скорее английский. В школах и военных училищах немецкий, кажется, давно не учат.
– Лови идею. И передай Герте и Секонду. Блоки к бою. В подходящий момент обозначить себя и начать как бы отход… – он взглянул на план, отыскал устраивающее его место, – сюда, скажем. Через пять минут ты перемещаешься даже. Блоки – на парализатор. Как только в нужном пространстве соберётся подходящая масса – работать. Под пули подставляться запрещаю. Лично тебе приказываю – вернуться живой и целой. Ферштеен зи?
– Ага! – нагловато ответила Вяземская. – Вообще-то мне при тебе приказано неотлучно находиться. Герте приказывай…
– Одна не справится, – стараясь оставаться в рамках должности и возраста, ответил Фёст. – А я твои зихера терпеть не намерен, особенно – в боевой обстановке. Исполнять!
– Мы с Эдиком можем по старой памяти девушку сопроводить, – сказал Григорий, вынимая из шкафа два массивных помповых ружья, похожие на «ремингтон» или «мосберг», но с вдвое укороченным стволом. Двенадцатый калибр. Если заряжен картечью или полукартечью, в коридорах и подвалах ему цены нет. Классическая «окопная метла». В руках мощных разведчиков тяжёлые «дробомёты» выглядели как детская «воздушка».
– Нам не привыкать. А что такое «парализатор»? Как на Каретном?
Фёст с удивлением сообразил, что Григорий говорит на прекрасном «хохдойче». Тот улыбнулся и ответил на незаданный вопрос:
– Видите, и вы проколы допускаете. А я с десяти лет и до призыва в армию жил с отцом-офицером в Эберсвальде. У Люды немецкий лучше, чем у Шиллера и Гейне, вместе взятых, а вы, простите… Любому ясно, что если не из самой Рязани, так из окрестностей.
Это он намекнул на фильм «Парень из нашего города» и разговор пленного героя в исполнении Крючкова с немецким офицером.
– Да, это ты прав. Не подумал. Однажды ещё хуже было, в Намибии обругал таксиста матом, а этот «дядя Том» в канотье ответил мне очень адекватно. Оказывается, академию Фрунзе заканчивал.
Ещё посмеялись.
– В общем, иди, поручик, и ни о чём не тревожься. Главное, момент не упустите.
– Это уж вы с Секондом согласуйте, – буркнула Людмила, крайне недовольная, выдернула из-под юбки «беретту», не стесняясь чужих людей, выжидательно посмотрела на Григория.
– Подожди, – сказал Григорий. – Покурим напоследок. Дальше нельзя будет, а у меня через полчаса без курева руки трястись начнут. Сам знаю, что патология, а ничего поделать не могу.
И курил он обычную «Приму», затягиваясь так, что за один раз сгорала чуть не четверть сигареты.
– Если живы останемся, могу помочь вылечиться, – неизвестно зачем сказала Вяземская. Что ей до этого человека и его привычек? А вот сказалось, и всё.
Он, похоже, оценил.
– Что, с командиром отношения хреновые? – сочувственно спросил он, когда за ними закрылась тяжёлая дверь. – Сильно достаёт?
– Ещё как! Особенно не по делу…
– Так он же вроде наш, а ты – оттуда?
– Это без разницы. Нас ему подчинили, вот и служим…
– Эх, посмотреть бы, как там у вас, – мечтательно сказал Григорий, гася окурок о стену. – Небось штатские девчата ещё интереснее военных?
– С чего бы вдруг? – не поняла хода его мысли Вяземская.
– А как же? У нас на контракт те идут, кому сильно замуж хочется, а на гражданке шансов не очень…
– Психолог ты, – уважительно протянула Вяземская. – Прямо Спиноза, который Барух. А что нахамил мне между прочим, так даже и не заметил. Докурили? Тогда пошли. Ты дорогу показываешь, я на пять шагов сзади, Эдик замыкающий.
– Договорились. А что такое «парализатор»?
Людмила прикусила губу. Секретничают, секретничают, а зачем? Всё ведь очень просто. Тайну имеет смысл сохранять лишь в том случае, если она слишком близка к правде. В противном случае… Только для очень подготовленного человека будет иметь смысл информация, что некая Вяземская умеет мгновенно повергать человека в состояние комы и каталепсии. Причём – голыми руками. Всем остальным с тем же успехом можно рассказать, что она по ночам летает над Москвой на метле. Силы ПВО по такому случаю в боевую готовность приводить не станут.
– Это просто медицинский термин. Если кто-то мне очень не нравится, я могу сделать так, что он потеряет способность двигаться, если нужно – заодно видеть и слышать. На минуту, на час, на год – как пожелаю…
Разведчики поверили. Сразу. Не тот случай был, чтобы сомневаться. Тем более они видели, что эта же некрасивая (днём, кстати, она была куда страшнее, чем сейчас), но чем-то неуловимо привлекательная, даже влекущая (а так нередко бывает), женщина сотворила с целой группой чекистов. Он находился не дальше тридцати метров от центра событий и отчётливо помнил, что сначала нападавшие повалились на дорогу, а только потом появился автобус ОМОНа и в дело пошёл газ.
Вот, значит, в чём дело.
– Так какие у нас проблемы в таком случае? – спросил он.
– Такие, что они по нас будут стрелять из настоящего оружия со всех направлений. Наверху ночь. У них, скорее всего, есть инфракрасные прицелы и тепловизоры, у нас – нет. Плюс – подавляющий численный перевес. Потому выигрышная тактика – наносить удары по отдельным компактным группам, не имеющим зрительной связи с другими, и мгновенно исчезать. Работать буду я, вы – прикрывать тыл и фланги. Главное – не шуметь. Стрелять в крайнем случае и наверняка. Уловили?
– Так точно.
– Вот, значит, так и будем соображать. Наших наверху тринадцать человек, здесь мы с вами, полковник семнадцатый. Парализаторов у нас четыре. Думаю, справимся. Общая цель, если я правильно поняла, – обеспечить отход всех ваших. Когда последний уйдёт с завода – вы следом. А дальше мы сами.
– Не вижу смысла, – возразил Григорий. Если можем тихо уйти все – всем и уходить. Вам – чего зря рисковать? Это ж мы вас сюда вытащили, получается…
Всё правильно, он ведь бывший замначштаба бригады по разведке, мыслит тактическими категориями.
– Знаешь, друг, надо мной – сразу два полковника, наш и здешний. Они так решили – живым, из тех, кто пришёл, отсюда никто не должен уйти. Тут вам и политика, и психология, и боевая необходимость. Так что обсуждать мы ничего не будем. Замётано?
– Ну вам виднее, конечно, – согласился офицер. Тоже майор, наверное, судя по последней должности. Как и их консьерж. И Эдуард должен майором быть, раз комбат. Так она и спросила. Они подтвердили.
– Ну вот, а я подпоручик всего, но подчиняться всё равно придётся, вы уж извините. Вперёд!
Секонду в эти минуты было не слишком весело. Будто мало вчерашнего. Вернулся живым домой, собрался отдохнуть. Нет, пожалте бриться!
Высадив из машины Фёста со здешним майором и Людмилой, он сопроводил их до первого поста за оградой завода. Ничего подозрительного не заметил. Машины поставили на приличном удалении от объекта, по одной, на обычных стихийных парковках в междомовых проездах.
Герта разделила вверенный ей полувзвод на боевые тройки и приступила к тщательному изучению территории. Задача простейшая в небоевых условиях, когда «условный противник» несёт караульную службу чисто формально, настроенный максимум на то, что придётся крикнуть постороннему: «Стой, проход запрещён. Закрытая территория». Даже «Стой, стрелять буду!» или предупредительный в воздух – за пределами условий задачи. В серьёзность начинающегося никто не верил, а то и вообще о «событиях» пока ничего не знал, как большинство военнослужащих людей 24 октября семнадцатого или двадцать третьего октября же пятьдесят шестого[23]. Роковой какой-то месяц октябрь в истории ХХ века, если вспомнить, что «парламентское противостояние» девяносто третьего и стрельба по «Белому дому» случились третьего-четвёртого, да и «Карибский кризис» шестьдесят второго тоже в конце пресловутого «десятого месяца».
Хворостов просто собрал некоторое число своих людей по особому сигналу и велел обеспечивать безопасность какой-то важной «деловой встречи». Ничего больше.
Девушкам пришлось снять туфельки, на ком они были, и переобуться в кроссовки и кеды. Проникнув на территорию через ту же дырку в заборе, они оказались фактически внутри «боевых порядков» заводчан. Сам этот лаз по непонятной причине не контролировался. Очень может быть, что Борис Иванович повёл Фёста с Людмилой так, чтобы и те из «своих», кому не положено, не видели участников этой «тайной вечери».
«Диверсантки» без труда вскрыли систему охраны бывшего завода или не завода как такового, а места дислокации той организации, которая пригласила Фёста для знакомства и переговоров. Парные посты людей в черной форме охранников с крупными эмблемами на рукавах располагались наподобие КПП у входа в административное здание, на переходе из него в бывший сборочный цех и перед вестибюлем, из которого начиналась лестница в подвальные помещения. Тот корпус, что им был нужен, и прилегающие подъездные пути снаружи контролировали всего восемь одиночных патрулей. Причём вполне условно. Более-менее «охранялись» только двое ворот, одни для узкоколейки, вторые автомобильные, пространство между соседними зданиями и сквер с клумбами, скамейками, местами для курения и остатками давней «Доски почёта». Наверное, люди знали, что делали. К зданию, где помещался «штаб», случайный человек не подойдёт, а расширять «зону особого внимания» до нескольких сотен плотно застроенных гектаров не было никакого смысла.
Единственное, что стоило бы поставить на вид «принимающей стороне», – отсутствие в составе патрулей нескольких хороших собак. На это, очевидно, имелись какие-то свои причины. Но без четвероногих друзей шансов у охранников не было.
Когда поступил приказ Фёста «организовать демонстрацию», Герта велела Глазуновой взять четырёх девочек и «сделать красиво». За несколько минут пятеро парней, нёсших службу у входа в контору одного из цехов и внутри неё, перешли в горизонтальное положение, с защёлкнутыми за спиной пластиковыми наручниками и заклеенными ртами. «Печенегов» так и учили – чтоб никто крикнуть не успел и ничего из железного, вроде оружия, с шумом не падало. И всё.
С внешних постов охрану сопроводили внутрь и разместили поблизости от спуска в подвалы. Допрашивать кого-то из них самостоятельно Секонд не видел смысла и отправил большую часть пленных к Фёсту, на его усмотрение и для подкрепления «дипломатического статуса».
Темникову и шестерых оставшихся с ним девушек Секонд распределил по постам внешнего оцепления, только наметил позиции пограмотнее, чем здешний карнач.
Сам с Гертой устроился у окна подъезда на втором этаже. Хорошая видимость, слышимость, тыл, прикрытый растяжкой, остроумно пристроенной на единственной двери, ведущей с лестницы в глубь здания, к переходу в слишком большой, чтобы взять его под надёжный контроль, цех.
Для них с валькирией, на случай чего, имелись три выхода в разные стороны, которые незаметно не перекроешь. Нормальная, в общем, позиция. В отличие от чоповцев, он очень даже хорошо представлял, что самое худшее может произойти в любой момент. Не произойдёт – значит, это нежданный бонус. Ему было даже интересно – сумели их выследить те ребята, что чуть не прихватили Вяземскую с Журналистом, а потом устроили чересчур шумный перформанс[24] перед президентской дачей, или же нет?
По всему выходит, что должны бы, если аппаратура у них сейчас не уступает той, что использовалась два года назад. Ну и мы за это время кое-чему научились.
Он вполне самостоятельно принял то же решение, что и Фёст с Вяземской. Действовать без шума, не оставить ни одного живого свидетеля и «организованно отойти на заранее подготовленные позиции». Проще говоря, как выражался вор в одном старом фильме[25]: «В нашей профессии главное – вовремя смыться».
Так что он испытал даже облегчение, когда Герта, вернувшись с обхода постов, сообщила, что обнаружено несколько групп, каждая минимум по десять человек, с разных направлений подтягивающихся к периметру. Не слишком мощные и избирательные детекторы, имевшиеся в блок-универсалах, всё же выявили и несколько автомобилей, двигающихся и остановившихся «нестандартно». По всему, на них и прибыли группы захвата. А то и уничтожения.
– Уважают, значит, – не пожалел Секонд нескольких лишних секунд, чтобы сообщить свой вывод валькирии.
– Так точно, шеф, – коротко ответила та. Это Герта только что придумала такое обращение, чтобы не путаться в титуловании аналогов. Но, однако, отметил Ляхов, для Витгефт именно Фёст – «командир», а он – всего лишь «шеф».
– Пусть делают, что наметили, – сказал он. – Я оттягиваю девчат в здание, ты оставайся снаружи, придётся тебе одной «внешнее кольцо сталинградского окружения» изображать.
– Постараюсь справиться, шеф.
«Как-то подраспустил их Уваров, – подумал Секонд, – а точнее – все мы. Одни любовь крутят, другие из чужих амуров дивиденды извлекают. Ну ничего, как любил пугать бойцов один его сослуживец, ротный командир: «Вот подождите, подлецы, брошу пить, я вами займусь!» Но та угроза имела хотя бы теоретические перспективы. А как ты этими займёшься? Две на выданье, третья около того, за остальными, судя по всему, тоже не заржавеет. Отправить их в Кисловодск, всех, под присмотр Майи с Татьяной – и с плеч долой. Не ровен час, воспользуется какая-нибудь ситуацией, подстережёт в тёмном уголке – и что тогда делать?»
Полушутливая, а на самом деле вполне серьёзная, только не ко времени, мысль ушла, нужно было сиюминутные заботы разгребать.
– Тебе задача – найти их передвижной центр управления. Всех, кого случайно по пути встретишь – вырубай парализатором, полным импульсом, и прячь, чтоб до завтра не нашли. А хоть и никогда. Доберёшься до начальства – то же самое, но помягче. Языки будут нужны. Действуй, баронесса, и из связи вообще не выходи, ты мой главный резерв и заодно крылатое воплощение надежды.
– На банкет в Валгалле, что ли? Вы думайте, что говорите, шеф. Так я пошла?
Да, действительно. Сказанул, не подумав. Валькирия – надежда на что? На геройскую гибель? Увольте. Это всё равно как предстоящий авиавылет «последним» назвать.
– Прости, дорогая. Работай, сама не подставься. И не вздумай меня с поля боя уносить с торжествующим криком. Сам выберусь…
Герте, пожалуй, досталось самое лёгкое задание. Она его ещё больше упростила, зная, что нарушает приказ, но ведь для общей пользы! Кроме того – «базовая подготовка» не запрещала координаторам при необходимости пользоваться блок-универсалом для перемещения в пределах Земли по установкам «общего уровня». Выбравшись на улицу, застроенную довольно старыми, тридцатых, наверное, годов жилыми домами, Герта нашла подходящую, с трёх сторон закрытую щель между торцами краснокирпичных пятиэтажек. Всего на пару минут открыла проход в квартиру, прямо в свою комнату. Да, непорядок, комната ведь «на той стороне», а это уже не пространственный, а межвременной скачок, что усугубляло нарушение. Правильно думал Секонд, «особые отношения» с Фёстом девчонку подраспустили. Недельки две гауптвахты ей очень бы не помешали. Ну, не хотела она, чтобы её Яланская или кто-то другой сейчас увидели. Да ведь и не узнает никто, не Ляхову же её перемещения отслеживать? Герта схватила из шкафа роликовые коньки и сразу обратно, на место отправления. Как раз в две минуты и уложилась, как рассчитывала. Теперь кеды – в рюкзачок, ботинки с коньками застегнула – порядок.
Нет, опять непорядок. И уже непонятно, случайность или последствие очередного возмущения межвременной ткани. У выхода из щели ей преградили путь два неизвестно откуда взявшихся парня. Не бомжи, самый обычный типаж нагатинско-коломенской шпаны, с Нижних Котлов, к примеру.
– О, ты глянь, Вить, тёлка в натуре. И прямо на месте преступления. Думала, спряталась, – с наглым, типично наигранным удивлением воскликнул первый. – Пардон, девушка, справление нужды в общественном месте карается…
– От нас не спрячешься, – гоготнул первый. – Штаны застегнуть успела?
– Да хоть и успела, сейчас снова расстегнёт. Сама. Слышь, Таня, или как тебя там, не тяни. Здесь место хорошее, кричи – не кричи, не услышат. Так ты поняла? Давай, снимай. Совсем не надо, до колен – и хватит. Мы быстренько…
Герта не колебалась, да и причин не было. Блок, только что спрятанный, снова будто сам выскочил в ладонь из нагрудного кармана.
Теперь и пошутить слегка можно, а то эти подонки её чуть не напугали.
– Закурить не хотите, ребята? Заодно и познакомимся. А то нехорошо как-то – прямо так сразу штаны снимать с приличной девушки…
– Ты слышь, Витёк, она, бля, ещё и подъё…
– Толян, а у неё ведь штучка-то – зае… Может, заберём да и отпустим?
– И то, и то…
– Ну, как хотите, – широко улыбнулась Герта.
Щелчок – и умельцы подлавливать неосторожных девиц, не нашедших поблизости общественного туалета (а они явно её засекли на улице и решили, что она именно для того укромное местечко ищет), повалились на совсем нестерильный асфальт, засыпанный разнообразным мусором. Валькирия «под настроение» включила парализатор почти на полную мощность. Так что неизвестно, восстановятся ли двигательные функции к завтрашнему дню. А с сексуальными – вообще вопрос. А поскольку она готовилась брать языков, сознание «объектов воздействия» волновой удар не нарушил. Будут здесь лежать, как колоды, вдыхать не слишком приятные запахи, наблюдать то, что доступно лежащему ничком человеку, и думать. Ох и много же можно успеть передумать за 12 часов. Если раньше шок с комой от страха не наступят.
Герта, держась за стены, перепрыгнула через тела и легко покатилась через двор. Действительно, ни души вокруг и половина плафонов не горит. Плохо бы пришлось оказавшейся в её положении нормальной девушке.
Выехала на улицу, пеленгуя блоком все подозрительные излучения. Это заняло всего двенадцать минут, но теперь она знала всю вражескую дислокацию, обнаружила и стоявший в переулке, триста метров от бокового проезда на территорию завода, синий мини-вэн с зашторенными окнами. В нём и работала многоканальная радиостанция, экипаж – человек пять, примерно. Люди в машине сидели тесно, масс-детектор смог выдать только приблизительную оценку.
О результате первичного осмотра ТВД она сообщила Секонду.
– Хорошо. Наши объекты чего-то не очень торопятся – сжимают кольцо, но пока вне зоны действительного огня. Подойдут поближе, мы стрельнём по паре раз, чтоб шороху навести, и начнём отход внутрь здания. О! Вот и подкрепление прибыло, – это он имел в виду Людмилу и двоих разведчиков.
– Слушай, баронесса. Как только услышишь первые выстрелы – мы из дробовиков начнём, приложим двух-трёх самых прытких. Они задумаются, а в это время все лишние с территории уйдут. Тогда и позабавимся. Твоя цель – вэн. Всех вырубай и угоняй машину. Не сильно далеко, в подходящий проходной двор. Можно – поблизости от моего «Самшита». Там и стой. Если у них рация на приём работает – слушай. Сама в связь не входи. Без связи и координации наши клиенты не шибко много наработают.
Фёст приказал Григорию с Эдуардом занять позицию у перехода из здания в цех. Людмилу и весь девичий полувзвод рассредоточил по периметру примыкающей к конторе площади. Им задача – сидеть тихо до последнего, как засадному полку Боброка Волынского. В случае необходимости удар в тыл или фланг всей огневой мощью десятка стволов надолго нападавшим «памороки отобьёт»[26], как дед выражался.
Ещё не ушедшим людям Хворостова Фёст поручил устроить яркую демонстрацию. С дистанции прямой видимости произвести по каждой из разведгрупп противника максимально возможное за минуту число выстрелов и сразу отходить. Но при этом отчётливо обозначив, что «шверпункт» позиции как раз в конторе и её подвалах. Да это атакующие и сами знают, сюда и шли. Ну, лишний раз убедить противника в его правоте – святое дело.
Главное, о чём он предупредил «ополченцев», возможно, подзабывших настоящую войну (если кто в ней вообще участвовал) – отступать организованно, не отвлекаться на ложные цели и вражеские провокации, а главное – не высовываться выше верхних кромок естественных и искусственных укрытий. Снайперу много времени не надо, чтобы неосторожную голову продырявить, даже и в, условно говоря, «темноте». Для нокто– и тепловизоров темноты не бывает.
– Командир, – спросила Темникова шёпотом, – а их не удивит, что картинка боя слишком срежиссированно выглядит? Если подумать, так очень понятно, как их в огневой мешок затягивают…
– С чего? – ответила вместо Фёста Людмила. – С чего им сейчас думать? Они всё заранее знают. Они нашу квартиру отслеживали, разговоры «дяди Бори» слушали. Знают, сколько здесь примерно людей должно быть, чем вооружены. Я бы на их месте решила, что вся «верхушка» так и сидит в подвале, разговоры разговаривает. Ну и с ходу вперёд. Хватай мешки, вокзал отходит. А когда нарвутся на огонь, окончательно убедятся…
– Тоже мне стратег, – недовольно бросила Арина. То, что Вяземская так быстро начинает «борзеть», взводную совсем не радовало. Вельяминова, вон, с Уваровым уже сколько времени как с мужем живёт, и тоже взводная, а своего положения не выпячивает. А эта с первых дней вообразила, что ей теперь и чёрт не брат…
– Верно, – поддержал Людмилу Фёст. – Так что приготовились…
Момент и вправду наступил. У кого-то из продвигавшихся широкой дугой, в две шеренги с пятиметровыми интервалами, «контртеррористов» (так они числились в официальных отчётах) под ногой провалилась проржавевшая водосточная решётка. Ходить-то что по лесу, что по замусоренному заводскому двору эти спецы умели, но – «неизбежная на море случайность». Наступил, железка громко хрустнула, ещё что-то загремело. И началось!
Командовавший отрядом чоповцев Григорий демонстративно неуверенно выкрикнул: «Стой, кто идёт?», луч не очень сильного фонарика зашарил по двору, зацепил одного или двух крайних в шеренге. Тут же громыхнул одиночный ружейный выстрел в воздух, клок оранжевого пламени выметнулся на полметра. Следом за ним (известный приём – формально требование закона исполнено, а там иди разбирайся, кто ответил огнём на предупредительный и чьи были первые пули на поражение), подряд, вперебивку гулко захлопали до десятка «Сайг». Ребята стреляли в основном полукартечью. Не так, чтобы совсем смертельно, но если кто без бронежилета, в ближайшее время бегать вряд ли будет.
Ну и ещё насколько-то убедит, что никто опаснее сторожей с дробовиками и нескольких пистолетов у руководства им не угрожает.
Расчёт был верный. И слишком внезапная демаскировка, и стрельба своё дело сделали. Те, в кого попало, начали нажимать спуски вполне машинально. Не дальняя ведь разведка эти «зубры», не спецназ ГРУ. Так, чуть лучше обученный ОМОН фактически. И неважно, зомбированы они или просто хорошо финансово простимулированы.
Через полминуты пистолетные выстрелы и короткие очереди из «Кедров» и «Кипарисов» гремели уже вдоль всей цепи. То есть операция мятежников автоматически потеряла рисунок и смысл. Полноценный огневой бой с подготовленным противником – совсем другая стратегическая концепция. Приказ ведь был – взять живыми таких и таких-то персонажей. И фотографии имелись, словесные портреты, номера и волновые характеристики телефонов и других средств связи. Теперь эта задача представлялась уже невыполнимой. Требовалась срочная корректировка плана, и не на уровне командиров отделений, хоть и в офицерских званиях. Но с этим тоже возникли трудности из разряда непреодолимых.
Глава четвёртая
То, что в этом не центральном и отнюдь не фешенебельном районе вдруг вспыхнула перестрелка – едва ли должно было взволновать руководителей операции. Даже и в спокойные времена то, что происходило на гигантской, неизвестно кому принадлежащей территории, не слишком волновало окружающих. Ну, могло бы сейчас несколько особо бдительных граждан позвонить в отделение милиции или «Службу спасения», мол, стреляют тут где-то за заборами. Так сначала нужно ещё разобраться, не кавказскую ли свадьбу справляют поблизости или просто мальчишки петарды раздобыли и развлекаются. А если даже какой-то бдительный дежурный вдруг и вышлет наряд, посмотреть, разобраться, так его остановят на дальних подступах вежливые мужчины с серьёзными документами. Объяснят, что операция проводится «на другом, чем окружное отделение милиции, уровне», и всё на этом.
Кстати, руководство пока и не вмешивалось, а вот сразу три командира «среднего звена», руководящие тремя группами – «зубров» для силового обеспечения, специалистов «интеллектуального профиля» для захвата основных фигурантов и немедленной с ними работы и того самого «взвода прикрытия», что должен был исключить любое вмешательство извне, причём не только патрулей ППС, – оказались поставлены в тупик.
Двое «силовиков» должны были при возникновении нештатной ситуации доложить по команде, получить необходимые указания и продолжить выполнение задачи, что они сейчас и пытались сделать, а вот третий, «аналитик», сразу понял, что операция уже сорвана. Раз началась стрельба, вместо необходимых «на самом верху» пленных им достанутся только трупы, причём – исключительно бойцов прикрытия. Главари непременно уйдут, есть у них такая мерзкая способность, что сегодня уже дважды подтверждалась. Значит, операцию надо сворачивать, пока не поздно, и возвращаться «к месту постоянной дислокации».
Беда в том, что этому «третьему» первые два не подчинялись. У них были свои командиры и свои инструкции, а для «согласования разногласий» как раз и был развёрнут ППУ[27] в мини-вэне. Решение могли принять только там. Значит – приостановка движения, закрепление на достигнутых рубежах, доклад, ожидание новых инструкций, перегруппировка. Вот, считай, и всё, нечего было и затеваться. В таких делах потеря темпа равнозначна проигрышу партии.
И с самим докладом тоже не заладилось. «Зубры» и взаимодействующие с ними формирования даже в условиях почти уже достигнутой победы всё же не расслаблялись, не позволяли себе пользоваться для оперативной связи мобильными телефонами, как армейские офицеры противостоящих сторон в постоянно полыхающих на территории бывшего СССР локальных войнах. У них имелись специальные, отнюдь не российского производства, полевые рации со скользящей волной, согласуемой между приёмниками компьютерно, по отдельной программе, то есть пеленгация и перехват разговора «в режиме реального времени» исключался. Если только на противника не станет работать сам «начальник службы связи», знающий все характеристики радиостанций, частоту и амплитуду модуляций, саму программу и всю линейку кодов доступа.
В этом смысле «переговорники», которыми пользовались «печенеги», были гораздо удобнее. У себя они представляли последнее, секретнейшее достижение технической мысли, а с точки зрения здешнего XXI века были настолько примитивны и работали в таких диапазонах, что для их перехвата подходящей аппаратуры просто не имелось «в широком доступе». Это примерно как американские методики «Стелс» – прекрасно защищали самолёты от современных радаров, но оказались совершенно бессильны против стоявших на вооружении у сербов древних советских РЛС, работавших в метровом диапазоне.
Герта подкатилась на своих роликах к спокойно стоящему мини-вэну, заведомо поставленному так, что и свобода маневра обеспечивалась, и никакие пункты ПДД не нарушались. Машина выглядела пустой, ни лучика света из-под шторок, ни шевеления внутри. По крайней мере, так должно было показаться случайному прохожему или совершающему свой ежевечерний круг по вверенной территории экипажу ДПС.
Валькирия на своих роликах выглядела совершенно естественно, даже когда чуть не наткнулась на инвалида в кресле на колёсах, совершавшего вечерний моцион; рванулась в сторону, кое-как объехала старика со старушкой, зацепилась за электрический столб и с маху ударилась прямо о широкую сдвижную дверь микроавтобуса, обращённую к тротуару. И тут же тренированно отметила недостаточную подготовленность своих «клиентов». Гулкий удар семидесятикилограммовой (со всем снаряжением) девицы, помноженный на квадрат её же скорости в тонкий, срезонировавший лист автомобильной двери, заставил кого-то, сидящего к ней вплотную, чисто автоматически отодвинуть край оконной шторки, взглянуть, что случилось.
Особого значения для планов Герты это не имело, она и так успевала, но всё же внимание противника было дополнительно отвлечено. Никогда ведь не знаешь, не столкнёшься ли вдруг с мастером, за три секунды выпускающим весь барабан «кольта» одинарного действия[28] в подброшенный двадцатипятицентовик. Маловероятно, но раз такие люди достоверно существуют, отчего бы вашим путям однажды не пересечься?
Она рывком распахнула дверь, незапертую (а ведь специалисты советуют, во избежание нападения уличных грабителей, всегда фиксировать замок изнутри), увидела пятерых мужчин, в разных позах сидящих в салоне, кто с ноутбуком, кто перед светящимся стационарным монитором. И затылок шестого, на водительском месте, вопреки всем правилам курящего, пусть и аккуратно, выпуская дым поверх чуть приспущенного стекла в сторону проезжей части. Оттуда заметить эти дискретные струйки мгновенно рассеивающегося дыма было практически невозможно, но тем не менее…
Герта нажала кнопку уже готового к действию блок-универсала, и «экипаж машины боевой» дружно повалился на пол, друг на друга, на пульт чего-то радиоэлектронного и на рулевую баранку.
Здесь дело сделано. Валькирия, оглянувшись и не заметив, чтобы кто-то заинтересовался её задержкой возле мини-вэна, скользнула внутрь и задвинула за собой дверь. Подождала минуту-другую, наблюдая через лобовое стекло и из-за шторок – всё вокруг снаружи тихо, спокойно. Внутри тоже – клиенты в той самой кондиции, что и гарантировалась инструкцией к «портсигару».
Она сбросила с ног неуклюжие ботинки с роликами, раздвинула створки стеклянной перегородки, отделяющей салон от водительского отсека. Подхватила отнюдь не хрупкой комплекции мужика под мышки и выдернула его, как морковку из грядки. Помогло ей то, что у парализованных блок-универсалом поперечно-полосатые мышцы значительно расслабляются, а гладкие остаются в тонусе. И они не становятся такими свинцово-тяжёлыми, как покойники. Приложился водитель головой об угол приборного столика основательно, но это девушке было совсем безразлично. Он явно не относился к объектам, заслуживающим аккуратного обращения.
Доставать из рюкзака кеды, переобуваться было некогда. Герта, подобно профессиональной «женщине-змее» из цирка, по сложной траектории изящно скользнула к рулю ногами вперед, в одних носках. Даже удобнее, педали лучше чувствуешь. Завела мотор, включила скорость и поворотник, начала отпускать сцепление. И на тебе! Не было печали!
Слева, прямо к дверце, прижался патрульный «Форд Фокус». Через опущенное стекло на валькирию весьма нелюбезно смотрел старший лейтенант, возрастом под сорок, «мордой же огряден», как писали во времена Ломоносова и Тредиаковского.
– Заглушите мотор, девушка…
Как-то эта «девушка» некрасиво прозвучало. Будто гаишник собирался произнести совсем другое слово, но в последний момент сдержался.
– А в чём дело? Я ничего не нарушала…
– Повторить? Глуши мотор и давай документы. – Разговор начал приобретать совсем нехорошую окраску, если на «ты» патрульный заговорил. Разве что «мент» (Герта легко научилась здешнему диалекту) стоял где-то в укрытии и пронаблюдал всю сценку, действительно со стороны очень некрасиво выглядевшую.
Вон и короткий «АКСУ» у него на коленях лежит, гаишник явно готов применить его в следующей мизансцене.
«И как же ты это собираешься делать? – насмешливо подумала Герта. – Палец на спусковом крючке, а ствол направлен в бок напарнику. Развернуться в тесной машине на сто восемьдесят градусов по горизонтали и одновременно ухитриться поднять автомат на девяносто по вертикали, чтобы весьма относительно прийти в подходящую для стрельбы позицию. Ну-ну…»
– Сейчас, гражданин начальник, уже начинаю искать права, они у меня в каком-то кармане, а джинсы узкие. Может, я лучше из машины выйду?
– Выходи, выходи, – гаишник чуть успокоился. Людей в салоне он явно не видел, решил, что просто хипповая девица решила на чужой машине прокатиться. Причём девица очень ничего из себя. Глядишь, ещё и под кайфом. Наверное, стоит изъять документы, посадить в машину, а потом в подходящем месте договориться на заднем сиденье «по-хорошему».
«Нет уж, извини, коллега, но мне с тобой сейчас вступать в обсуждение разницы наших взглядов на одно и то же событие недосуг», – подумала Герта.
– Сейчас, протрону чуток, а то мы с вами движение загораживаем, – очаровательно-смущённо улыбаясь, «нарушительница», не ожидая реакции собеседников, немного отпустила сцепление, мини-вэн продвинулся вперёд метра на три, скрежетнув краем порога о высокий бордюр. «Менты» совершенно машинально повторили её маневр. Вот и хорошо, не будут теперь загораживать полосу, привлекать ненужное внимание.
Герта спрыгнула на ещё тёплый асфальт, в долю секунды оказалась рядом с «Фокусом», держа блок-универсал на уровне пояса, нажала кнопку. Режим парализатора был выставлен на минимум. Полчасика отдохнут «утомлённые службой», потом долго будут соображать, что и почём… Вреда им не случится, и никто, по ночному времени, стоящей у обочины машиной, кроме другого экипажа, проезжай он вдруг мимо, не заинтересуется. Люди приучены – внимание этих ребят без повода привлекать не стоит. Если вдруг захотелось им вздремнуть на рабочем месте, ну и пожалуйста, всем окружающим от этого только лучше.
Герта сильно надавила на верхний край бокового водительского стекла, перегнулась внутрь салона. Схватила оба «АКСУ», тот, что на коленях старшего лейтенанта, и второй, на заднем сиденье. Очень ей эти изящные игрушки понравились. Вернётся домой, оформит разрешение и будет ходить с ним на службу, на зависть прочим девицам. Она даже забыла в азарте, что имеет на ближайшее будущее несколько другие планы, на фоне которых эти два автомата – как утащенные в детском саду у соседа по песочнице лопатка и ведёрко.
Так ей ведь, биологически, ненамного и больше, лет девятнадцать примерно. В эти годы кому бриллианты в полкарата весь свет застят, кому прозрачные гарнитурчики из «Галери Лафайет», а баронессе автоматы, совсем новенькие, кстати.
Девушка аккуратно, чтобы не зацепить бампером грустную, забытую хозяином «Приору», на палец покрытую пылью, вырулила на полосу и влилась в удивительно свободный поток движения. Держа руль одной рукой, другой включила вызов Секонда.
– Порядок. Машина у меня, клиенты в машине. Прошло без осложнений.
О двух мелких эпизодах она распространяться не стала.
– Есть. Поняла. Мои предложения – через полкилометра, по ту сторону моста останавливаюсь, привожу одного в чувство и начинаю слушать эфир. А может, господин полковник, приказать, чтобы он своей банде общий отход скомандовал? Типа «Нас предали! Спасайся кто может!»? Пусть бегут, ищут свою машину, а вы аккуратненько…
Герте такой выход из боя казался оптимальным. Ей очень не хотелось, чтобы шальная пуля задела кого-то из своих. Гомеостат гомеостатом, но если экспансивная пуля в голову – потребуется не один месяц стационарного лечения, и без гарантии, что сложные интеллектуальные функции восстановятся. Очень вероятно, что человек, хоть и со стопроцентно регенерированным мозгом, превратится в дауна, если не хуже…
Секонд мыслил иначе. Отпускать на волю полсотни вооружённых боевиков, ориентированных именно на тотальную зачистку Москвы от перспективных борцов с новым режимом и их вдохновителей – ничуть не разумная идея. Это весной сорок пятого можно было пацанов из «Гитлерюгенда» просто выпороть, отняв «панцерфауст» и «98 К»[29], после чего отправить к маме (поскольку папа, скорее всего, сам уже гниёт под Москвой, Сталинградом или Минском). А сейчас всё только начинается, и гуманизм в данном случае – прямая помощь врагу.
– Принимается ровно наполовину. Займи неуязвимую позицию, одного активизируй, кто там самый главный – сама разберёшься, и пусть он передаст всем группам: «Выполнение задачи продолжать. Сопротивление подавить. Захват всех намеченных личностей живыми и здоровыми обеспечить любой ценой». В этом духе, а как это должно звучать в их системе координат – выясни в процессе… Работай, баронесса – сорок веков смотрят на тебя с вершины этих пирамид[30].
Герта вдруг опять с острым сожалением подумала, что, наверное, зря она не сумела добиться настоящего внимания со стороны этих странных, но крайне привлекательных близнецов. Лучше бы, конечно, если бы это был Фёст… А Мятлев – это совсем, совсем не то. После сегодняшней ночи это стало ей отчётливо ясно. Да, не противен, влюблён, умеет сделать девушке приятно, но – никак не герой её романа. Как инструмент достижения определённых целей, конечно, сгодится на определённое время, а потом она сообразит, как устроить свою жизнь. Этому её специально учили.
Может показаться странным, что такие мысли пришли Герте в голову в совсем неподходящее время, и они противоречили тому, что она же думала всего вчера, но не нужно забывать о её биологическом и эмоциональном возрасте, и что она, как и вся их «великолепная семёрка», – девушка весьма романтического склада личности. И вот выдалась в череде боёв короткая передышка – мысли сразу же потекли по совсем другому руслу. Да и пережитая ночью гормональная буря так до конца не утихла ещё. А во всём этом «виноваты» не только неизвестно от каких «родителей» доставшиеся ей гены, но и воспитательное воздействие на незафиксированные матрицы валькирий Лихарева, Сильвии, а в особенности – Натальи Андреевны Воронцовой, да и Майи Ляховой, жены Секонда и свояченицы Фёста, о которых Герта сейчас подумала.
Впрочем, в следующие секунды баронесса забыла обо всех этих глупостях и полностью переключилась на непосредственную задачу.
Несколько поворотов по внутридворовым проездам, две поперёк пересечённые магистрали, мост – и мини-вэн остановился у глухого кирпичного забора старинной церкви. С другой стороны переулка – обширный сквер, полого спускающийся к Москве-реке. Едва ли кто-то в ближайшее время ей здесь помешает. А попробует – ему же хуже.
Герта проверила, нет ли в машине действующих противоугонных маячков, связанных с GPS или «Глонассом». Вроде бы нет. Можно продолжать.
Она решила начать с человека, кулём застывшего между спинкой сиденья, бортом машины и поперечным столиком с агрегатом, похожим одновременно на стационарный компьютер, армейскую радиостанцию и пульт диджея на дискотеке. Он здесь если и не начальник, то наверняка наиболее информированный сотрудник, раз работает с такой аппаратурой.
Через несколько минут тот очнулся, то есть пришёл в сознание, не до конца восстановив двигательные функции. Едва ли переход к реальности доставил ему удовольствие. Напротив сидела девушка, чьё изображение и ориентировочные данные имелись в памяти и человека, и его электронной машины.
Прелестное лицо и очень жёсткий взгляд. В руках у неё поблёскивал жирным золотым оттенком массивный мужской портсигар. Она взяла из него сигарету двумя пальцами и, элегантно отставляя руку, закурила.
– Ты меня слышишь? Понимаешь?
Мужчина, как бы заново учась пользоваться голосовыми связками, просипел, что да, слышит.
– Что вы со мной сделали? Я тела не чувствую? Что-то с позвоночником?
– Как вы все начинаете вдруг о своём здоровье заботиться, когда припрёт. Сегодня два десятка вполне здоровых мужиков полдня в меня из автоматов палили, и ни одна сволочь не подумала, что мне своего тела тоже, может быть, жалко…
Мужик отчаянно замотал головой, пытаясь довести до сведения этой девицы, что он к покушениям на её жизнь совершенно не причастен.
– Так я и думала. Убивает и отдаёт команды убивать всегда кто-то другой…
Времени у Герты было много, и она решила немного поупражняться в том искусстве, которым виртуозно владел Фёст.
– Очень хорошо. Сейчас тебе станет гораздо лучше. Или – даже не представляешь, насколько хуже. В зависимости, как ты себя поведёшь. У тебя зубы когда-нибудь болели?
Пленник утвердительно кивнул. Не хотел с мучительными усилиями ворочать языком, словно бы обколотым новокаином.
– Имеешь шанс почувствовать, как бывает, когда человек целиком превращается в насквозь больной зуб. Быстро – фамилия, имя, должность, звание, задача…
Человек, очевидно, руководствуясь той методикой, что предусматривает полный отказ от сотрудничества со следствием и ответов на самые невинные вопросы, мотнул головой и замычал.
– Что, говорить трудно? Или не хочешь? Или требуешь встречи с адвокатом? Извини, я по другому ведомству… И не таких гордых видала.
Нажатие кнопки, и мужчину скрутило пронзительной болью во всех нервных узлах сразу. Для здоровья почти безвредно, но неприятно до невозможности. Герта решила, что и секунда для него сейчас – невыносимо долгий отрезок времени. Отпустила кнопку.
– Я могу это делать ещё и ещё. Причём сознания ты не потеряешь. Это предусмотрено. Будем дальше героя изображать или перейдём к прозе жизни?
Герта не была садисткой, то, что пришлось делать, ей, скорее, не нравилось. Но ведь она честно предложила выбор. Если здесь такие люди… Только что, на протяжении меньше чем получаса, её дважды собирались изнасиловать, совершенно без всякого повода, не думая, понравится ей это или совсем наоборот. В случае излишне активного сопротивления могли и убить. Не её, конечно, с ней бы не вышло, а ту, какой она казалась.
И вот эти, в машине, сделали бы с ней и её подругами то же самое. Дай им волю.
Капли холодного пота, покрывшие лоб и всё лицо этого, в общем, приличного на вид человека, не успели высохнуть. Он отпустил закушенную губу и кивнул.
Герта сняла с его мышц паралич. Всё равно ближайшие несколько минут ему придётся заново учиться ими пользоваться.
– Буду говорить…
– А я читала, что бывают люди, молчащие под пытками до смерти. Наверное, у них другая мотивация… – как бы сама себе сказала девушка с долей презрения. – Тогда начинаем сначала. Я слушаю…
Атакующие оказались в очень неудобном положении. У них были снайперы, были автоматчики, большинство бойцов умело штурмовать здания. Но – немножко в других условиях. Рвануть сейчас вперёд, зная, что обороняющиеся успеют из крупнокалиберных дробовиков и пистолетов первым залпом положить минимум десяток человек… Самое существенное – никто не может угадать, окажется ли он в числе «двухсотых» и «трёхсотых». «Русская рулетка» с полным барабаном патронов.
А обороняющиеся отстреляются из темноты и сразу отойдут в глубину комнат, коридоров, подвалов, прикрываясь огнём, ставя растяжки и используя чёрт знает какие ещё способы борьбы, до следующего рубежа. Слепая отвага здесь просто нерациональна. Это понимали даже те, кому в атаку идти было необязательно. Если бы ещё в итоге была гарантия, что бой закончится победой, будет достигнута цель операции. Так ведь нет! Потери будут три, пять, а то и десять к одному, причём те, ради кого всё затевалось, определённо уйдут. Или – уже ушли.
Поэтому стрельба прекратилась за полной бессмысленностью продолжения штурма. Пат! На стороне атакующих было достаточно укрытий, чтобы не опасаться ответного огневого налёта или атаки, если, конечно, в дело не пойдут гранатомёты, миномёты и прочая пакость, несовместимая с понятиями «бойцов невидимого фронта».
Фёст именно так оценил обстановку. Тем более Ляхов-второй передал ему информацию, полученную от Герты.
– Тогда пора заканчивать. Девчата пусть расстреливают все боеприпасы, попарно отходя к дырке в заборе. А мы втроём (он имел в виду их двоих и Людмилу, вооружённых блок-универсалами) совершаем марш-маневр по тылам. Глушим всё, что шевелится, – и к машинам. Идёт?
– Нормально, – согласился Секонд. – Только подождём немного. Гертин пациент передаст свою команду, а мы посмотрим – станут ли эти её выполнять… Оп!
Не зря он считался великолепным стрелком ещё в своей прошлой жизни. Уловил нечто вроде человеческой тени, мелькнувшей между грудой старых бордюрных блоков и углом одноэтажного строения метрах в тридцати левее его окна.
Навскидку выпустил по ней четыре дуплета из «беретты», слившиеся в короткую очередь. По две пули на метр вправо и влево от исходного положения цели, ещё пару метром выше, последнюю снова в центр условной мишени. Надёжная методика, если патронов хватает. Хоть один раз он попал наверняка. В тишине отчётливо прозвучал вскрик, какой бывает, когда человеку уже глубоко до фонаря правило спецназа – молчать, даже умирая. Вслед за криком – звук падения тела на какой-то строительный мусор. Не повезло «товарищу», забыл, что перебежек в зоне действительного огня следует избегать. Темнота и скорость далеко не всегда спасают.
В ответ замолотил сразу десяток автоматных стволов. Зазвенели вылетающие стёкла, заныли рикошеты от кирпича и бетона. Но впустую. Хоть и демаскировал себя Фёст, так успел убраться из оконного проёма раньше, чем долетела до цели его последняя пуля. Зато по вражеским дульным вспышкам врезала очередью из «ПКМ» на пол-ленты «девушка-скрипачка». Зубченко её фамилия, Татьяна, вспомнил Фёст.
– Сейчас они рванут в последнюю атаку, – сказал Секонд, сосредоточенно подбирая нужную комбинацию на панели блок-универсала. – Просто для самоутверждения…
– Первую и последнюю, – уточнил внезапно появившийся у него за спиной Хворостов. С ним были неизменные Григорий с Эдуардом, а ещё и консьерж. – Мы не устоим. Ребята немножко разведали. У них ещё одна резервная группа, больше взвода. Все с автоматами. И три пулемёта точно. У многих подствольники. Замкнут кольцо, и нам… Ну, может, кого-то из девушек в плен возьмут…
Пессимизм полковника Фёста удивил. Или не пессимизм это был, а что-то другое.
– Не понимаю, Сергей Саввич, зачем вы сюда вообще пришли, – сказал он крайне резко и раздражённо. – Вам было сказано – пострелять и сматываться. Кстати, до своих людей вы дозвонились?
– Дозвонился. Точка сбора – двадцатый километр за МКАД по Киевскому шоссе. Контрольное время с ноля часов и до подхода всех, кто сможет. А пришёл я, чтобы вас увести. Азартные вы больно. Не по делу…
– Кто б говорил. Последнее слово – ноги в руки и уё… по-быстрому. Здесь вам делать уже нечего. За нас не переживайте. Догоним. Только как вы через всю Москву – с оружием?
– А нас возле Тульской должны надёжные ребята встретить и с мигалками проводить, так что за нас не беспокойтесь…
– Значит, главная проблема вам мост проскочить, а это не всегда легко.
– Ничего, у нас как раз по таким делам специалистов хватит.
– Тогда – не смею задерживать. Какой-нибудь номер машины назовите, желательно – замыкающей, чтобы я ваш кортеж с чужим не путал.
– Это пожалуйста. «УАЗ-Патриот», «С 593 ЕУ». Сам в нём ехать буду.
– Тогда всё, а то заболтались мы.
– Григорий и Эдуард с вами останутся. Помогут сориентироваться… Пустыми цехами проведут…
Хворостов растворился в темноте.
Под командой Фёста остались Секонд, Людмила, двенадцать «печенежек» и эти… В принципе, вроде неплохие ребята, но Вадима всё мучило смутное ощущение какой-то неправильности. Не совсем ему были понятны их роли. Днём с Людмилой ходили, слежку якобы заметили, но сами под неё не попали. Неизвестно, что с ними было после того, как Вяземская с Журналистом прорвались с боем. И здесь оказались, как на заказ. Борис Иванович тоже… Смутно ведёт себя. Он тоже мог привести «хвост» – случайно или намеренно.
Главной загадкой оставалось – почему сразу не атакована база на Столешниковом. С помощью консьержа или без – разведка мятежников не могла о ней не знать. Значит, что? «А то, – ответил сам себе Фёст, – им до сих пор не всё ясно, они не определились, главные ли персонажи господин Ляхов и его племянницы или по данному адресу могут (скорее всего – должны!) появиться более серьёзные люди».
Подозрительность, считается, нехорошая черта. Но ещё в войсках Ляхов-первый слышал от начальника разведки своей бригады, того майора Трайчука, что в их профессии паранойя – достаточно полезная болезнь. Это он с Вадимом как с врачом разговаривал, под казённый спирт и принесённую с собой закуску.
Слово «того» Фёст мысленно подчеркнул, потому что давно уже не был уверен, что мир, где он находится сейчас, – истинно его. Прямых доказательств не было, только ощущение. Как там у Шекли: «Кроме того, можно было предположить, что даже если Земля изменилась, то изменились также его органы чувств и память, так что всё равно ничего не выяснишь. Он лежал под привычным зелёным небом и обдумывал это предположение. Оно казалось маловероятным. Разве дубы-гиганты не перекочёвывали по-прежнему каждый год на юг? Разве исполинское красное солнце не плыло по небу в сопровождении тёмного спутника? Всё оказалось на своих местах. Отец пас крысиные стада, мать, как всегда, безмятежно несла яйца…»[31]
Но это уже чистая схоластика[32]. И Хворостов, и эти парни имели куда больше оснований с подозрением относиться к нему и его «девочкам». То есть непреложным, самоочевидным фактам и даже их объяснениям они, скорее всего, верили, а вот конечным целям – большой вопрос.
Но это тоже будем обсуждать не здесь и не сейчас. Время поджимает, его остаётся буквально секунды. Если противник «упредит в развёртывании», то план посыплется со свистом и грохотом.
– Темникова! Пулемёт на правый фланг. Четыре-пять самых длинных очередей с рассеиванием в глубину. Если с той стороны выстрелят – сделай вид, что пулемётчик убит. Если не успеют – просто заглохни на половине очереди. Перекос или лента кончилась. И все, кроме меня, Вяземской и полковника Ляхова, – бегом к задним воротам. С боем или без, что предпочтительнее, выходите к машинам, отъезжайте на несколько кварталов, в сторону Тульской, как Хворостов сказал. Ты, Гриша, – головой ответишь, извини за грубость. Глазунова, Шацкая – глаз с проводников не спускать. Шаг вправо, шаг влево – сами знаете… Исполнять!
– Что, до сих пор не верите? – с обидой спросил Эдуард. – Зря…
– Вы нам сильно верите, – вдруг огрызнулась Глазунова. – Вперёд!
Основные силы отступили в порядке, теперь предстояло поработать арьергарду.
После того как замолчал пулемёт, наступающие выжидали не менее десяти минут. Что от них и требовалось. Всё это время командир группы захвата безуспешно вызывал свой ППУ, и настроение у него портилось всё больше и больше. Голос, а главное – манера говорить старшего по операции ему сразу не понравились. И интонации звучали не совсем привычно, и на вполне соответствующие обстановке вопросы толковых ответов не было. «Выполнять, что я приказал!» – причём с заметным надрывом, и больше ничего, по сути. Потом связь совсем прервалась. Это Герта, тоже сообразив, что пленник свою роль играет плохо, сначала хлопнула ладонью по заметной кнопке «Power» на пульте, а потом, не выдержав, хлестнула его обратной стороной кисти по губам. Почти не больно, но весьма обидно, если человек был в состоянии сейчас это понять.
– Я предупреждала, – прошипела валькирия и снова превратила не оправдавшего надежд «языка» в парализованный полутруп. Только зрение и слух остались при нём. Исключительно в воспитательных целях. В следующий раз, вернувшись в норму, будет сговорчивее.
А командир «зубров», помучившись немного умственными усилиями, решил всё же выполнение задачи продолжить. Как ни крути – команду он получил. В нюансах начальственного тона разбираться не обязан. Мало ли там что – может, «первый» сам капитальную выволочку сверху только что получил. Случится «разборка на ковре» – их переговоры записаны, придраться будет не к чему. Главное – дойти до намеченной точки с минимальными потерями и предъявить потом энное количество трупов и пленных. Начальство «на сто тысяч рублей» умнее его – пусть потом разбирается.
Положив руки на руль, Герта слышала отдалённую стрельбу, пыталась по звукам представить картину происходящего на заводе. Удивлялась, что редкие прохожие, появлявшиеся в поле её зрения, как бы не слышали ничего особенного. А возможно, так оно и было. Петарды, решили, где-то рвутся, скоро ракеты начнут взлетать.
Интересная здесь жизнь. В её Москве на такую канонаду сбежались бы все городовые полицейской части, во главе с приставом.
Когда после пулемётных очередей огонь всех видов внезапно стих, она опять вызвала Фёста. Не стала спрашивать, что там и как, попросила инструкций для себя.
– Если вокруг спокойно, сиди и жди нас. Лучше выйди из машины, займи позицию поблизости, с хорошими путями отхода. Изображай местную жительницу, вышедшую воздухом подышать.
– Так точно, в полдвенадцатого ночи, в бандитском районе. Меня, к вашему сведению, несколько раньше здесь уже чуть не изнасиловали. Цивилизованная столица, называется.
– Но ведь обошлось? – участливо спросил Фёст.
Герта в ответ только фыркнула.
– Я так и думал. Подожди, одним словом. Минут через пятнадцать-двадцать, думаю, закончим. Темникова своих уже увела к машинам. Мы втроём к тебе подойдём.
– Вы там тоже… Остерегайтесь.
Боевики мятежников решили, что выждали достаточно. Тоже не сильно умно. Если опасались засады, так приличные снайперы могут и сутки цель караулить. В ином случае за это время противник может оторваться «с концами». Если только весь район не блокирован наглухо хотя бы батальоном. При меньшей численности в кольце такой длины неизбежны прорехи, через которые опытные разведчики уйдут без проблем.
С мотивацией у тех, кто не был зомбирован, тоже явно не очень. При классических военных переворотах в их успехе по-настоящему заинтересованы только организаторы и командиры выше среднего звена. Рядовые просто выполняют приказы, боятся попасть под случайную пулю или снаряд, боятся военного суда или бессудного расстрела в случае поражения. Желающих бросаться с гранатой под танки или грудью на пулемёт среди них обычно не находится. У защитников существующей власти оснований сражаться до конца обычно больше. Конечно, если речь не идёт о действительно народном восстании против всех доставшей тирании.
С помощью блок-универсалов за отпущенное время Ляховы и Вяземская с трёх точек успели запеленговать и позиции неприятеля, и направления передвижения за пределами простреливаемой из здания зоны.
– Всё так и есть, классика, – сообщил свой вывод Фёст. – Наши приятели собираются демонстрировать атаку с фронта и одновременно большей частью сил проникают в цех через ворота для узкоколейки и автомобильную аппарель. Прячась за фундаментами станков и прочим оборудованием, окружают наше заводоуправление. Минимум сорок человек. И всё. Тех из нас, кто окажется вне здания, рассчитывают перестрелять без проблем, у них подавляющий огневой перевес. Зачистив цех, окружат контору и – как пожелается. Могут предложить сдаться, могут сразу дом газовыми и боевыми гранатами закидать…
– Что, думаешь, они про подвалы не знают? – спросил Секонд.
– Могут и не знать, если среди наших чоповцев «кротов» не было.
– А если у них просто есть хорошие инженерные чертежи?
– Сильно сомневаюсь. Это ж не классическая спецоперация, это скорее – «побег на рывок»[33], как блатные выражаются. Но нас это сейчас не волнует. Мы их развлекать «бегалками и стрелялками» не подряжались. Пошли по коридору до конца, через окна во двор и прямо в сторону ворот. Там нас меньше всего ждут. Выходим в тыл и фланг основной ударной группе, работаем парализаторами на полный радиус – и смываемся. Главное – нигде не высунуться зря. И уточните пеленги на Герту, если вдруг оторвёмся друг от друга…
Примерно так и получилось. Перебегая от угла к углу беспорядочно разбросанных корпусов, вполне бесшумно вышли на цель. Маленький, как у сотового телефона, экранчик на внутренней крышке портсигара сейчас работал вроде тепловизора, обозначая людей розоватыми точками на серо-зелёном фоне. Что значит инопланетная техника, даже сочетание цветов нечеловеческое. По-нашему, куда проще – белыми на чёрном, красными на белом или дымчатом.
Фёст пересчитал всех, кто попадал в сектор захвата. Тридцать три. Остальные не высвечиваются, далеко. Значит, и нам не опасны.
«Конечно, с таким оружием воевать куда приятнее, – подумал Вадим, вспоминая, как он подавлял внутреннюю дрожь нетерпения и, честно признаться, некоторого страха, ожидая, когда авангард моджахедской колонны дойдёт до намеченного ими с Тархановым рубежа. – Можно чувствовать себя Львом Толстым, доктором Швейцером и матерью Терезой в одном лице. Лишнего греха на душу не возьмём. Беда только, что у нас дальнобойность полсотни метров максимум, а противостоящие «толстовцы» все сплошь со стволами, что и на километр наповал кладут».
Секонда и Людмилу он не видел, но примерно представлял, где они могут находиться. Главное, чтобы никто не оказался в границах зоны поражения. Так на это и придумана автопеленгация в блок-универсалах. Он её включил. Картинка на экранчике сменилась. Вот засветка, обозначающая Людмилу, вот Секонда, а у самой рамки – и Герта виднеется.
Из-за облаков вышла луна. Теперь на открытое место соваться нельзя. Да это уже и неважно. Он изо всех сил размахнулся и швырнул гранату в сторону входа в контору. Метров на пятьдесят у него обычно получалось. Вот и сейчас примерно так же. Вспышка оранжево полыхнула в темноте. Задеть он никого не собирался, но внимание отвлёк всех «зубров» без исключения, а Вяземской и Секонду – сигнал.
Убивать ему никого не хотелось. Скорее всего, это ведь такие же, как он, солдаты. Приказали – пошёл. Куда и зачем – командир знает.
А насчёт политических убеждений – едва ли они вообще здесь у кого-то есть. Слава богу, не настоящая Гражданская, не «та, единственная», на которой мечтали умереть (и чтобы обязательно над ними склонились «комиссары в пыльных шлемах») старшие из поколения нынешних либералов и их отцы, биологические и духовные. Сейчас и у сторонников нынешнего Президента, и рядовых будущей армии «будущего» главы неизвестно какого государства нет личных поводов рвать друг другу глотки насмерть. Не считаясь ни с чем. Пока так, попытка банального южноамериканского «гольпе милитар» с последующим «пронунсиаменто»[34]. По десятку жертв с каждой стороны, и очередная страница истории перевёрнута.
Это только через месяц-два маховик взаимной ненависти и реального противоборства начнёт раскручиваться всерьёз. Если мы позволим…
После взрыва включились все три парализатора, на полную мощь и на весь раствор луча.
Зрелище не слишком эффектное. Под пулемётами люди падают гораздо картиннее, само действо имеет вид эпический и трагический. А тут – словно все разом заснули, кто стоя, кто лёжа. Повалились на асфальт неэстетичными грудами. Только каски да автоматы загремели коротко. И всё.
– Внимание! – громко, так, что голос его донёсся без мегафона дальних стен цеха и внешней ограды, закричал Фёст. – Всем живым вооружённым людям предлагаю сдаться. Единственный выстрел – все будут уничтожены огнемётами. «Шмелей» на всех хватит.
Угроза была серьёзная. Тротиловый эквивалент выстрела у этой «шайтан-трубы» равнялся 122-миллиметровому артиллерийскому снаряду, объём разрушаемых объектов – до 80 куб. метров, если стрелять термобарической гранатой. Поэтому Вадим надеялся, что уцелевшие и сейчас затаившиеся боевики предпочтут не высовываться. Искать их поодиночке за многочисленными, часто хорошо экранирующими от луча тепловизора укрытиями не имело смысла.
Он побежал под прикрытием стены к воротам, уверенный, что друзья правильно поняли его экспромт и уже достигли выхода. Им до него было почти на сотню метров ближе.
Перебежал на другую сторону улицы, остановился под деревом, приводя в порядок дыхание. Возраст есть возраст, и рывок он сделал неслабый. Бывало, «восьмистоку» за две минуты ровно бегал, так то на стадионе, в трусах и шиповках, и в двадцать лет. Сейчас тяжело!
Из-за соседнего дерева появились Людмила с Секондом. Ну да, никак не привыкнет, локаторы же у всех.
Фёст вытер пот со лба рукавом.
– Видите – я же говорил. Все живы, и дело сделано…
– Ещё не совсем, – возразил Секонд. Он по-прежнему ощущал себя за линией фронта, на чужой территории, окончательно успокоится, когда домой вернётся. А Людмиле было всё равно где, если любимый рядом.
– Пошли дальше, Герта тоже волнуется, – сказал Фёст, заодно посетовав, что столько хорошего оружия бросить пришлось. – Если местные жители вовремя сориентируются и подсуетятся, добыча хорошая будет… «АК – сотки» в большой цене, а там и другого добра навалом.
– Главное – ко времени, – согласился Секонд.
Герта, увидев своих, тоже не скрыла облегчения.
– Едем, что ли? Куда?
Она уже окончательно освоилась в своей роли и в этом городе. Со шпаной справилась, с дэпээсниками без шороха справилась, вообразила, что и впредь не растеряется. В принципе, она была права, в этой России милиция подсознательно относится к женщинам за рулём не вполне всерьёз и почти всегда ведётся на всякие приёмчики из репертуара анекдотических блондинок. Герта была как раз в стиле. Чуть посерьёзнее на вид, чем Вяземская «во всей красе», но она же видела, как глазки замаслились и губы раскатались при виде неё у «мента» с напарником.
– А чего это ты, госпожа подпоручик, босиком? – поинтересовался Фёст, садясь в мини-вэне на переднее сиденье, будто обрадовавшись возможности рассчитаться за недавнее панибратство баронессы. – Неужто ножки натёрла? Надо лучше обувь готовить перед выходом на задание. В былое время могли бы и за сознательное членовредительство наказать. Вроде как за самострел…
– Осмелюсь доложить, господин полковник, разулась исключительно в стремлении образцово выполнить задание. Вон там, извольте убедиться – ролики. Использовала для повышения скорости и маневра на улицах. Однако нажимать элементы управления автомобилем, именуемые в просторечии педалями, в них невозможно. Пришлось снять. В любую секунду готова надеть обувь, наилучшим образом обеспечивающую оптимальное выполнение очередного приказа…
– Вот, – грустно вздохнул Вадим. – Швейка в юбке нам только не хватало. Теперь имеем. Ох, доведёшь ты меня когда-нибудь. Боюсь, очень скоро. Ладно, заводи, поехали. Подвези к нашим машинам, а там поедем «союзников» искать. Увидишь «Патриот» № 593, мигни фарами и следуй за ним. Мы втроём, и Глазунова за нами пристроится.
Нашли машины, рассадили девушек по три в каждый «Самшит», оружие спрятали под сиденья. Все были веселы, возбуждены, делились впечатлениями. Темникова, пока они перекуривали перед тем, как ехать, – уж очень больно все истомились воздержанием, и нервов ушло немерено, – спросила в своём обычном стиле:
– Что, господа полковники, заработали скромные девушки по крестику в петлицу? Пока мы с вами запанибрата, ответьте уж. Страх как хочется на балу с «Георгием» покрасоваться. А?
Склонила головку к плечу, глазки в землю и носочком кроссовки асфальт ковыряет.
Секонд хотел поставить её на место, чтоб потом хуже не было, но Фёст был настроен благодушно.
– Что от меня зависит – сделаю. Здесь для всех по ордену у Президента выбью, а у себя – к Вадиму Петровичу обращайтесь.
По городу, слава богу, проехали спокойно. Гаишникам и вообще городской милиции было не до проблем уличного движения, у них сейчас в верхах начинались тектонические толчки, отчётливо ощущаемые «на земле». Так кошки и прочая специализированная живность реагирует на приближающееся землетрясение. Более серьёзные силовые структуры, наверное, пока не имели достаточно сил (простите за каламбур), чтобы перекрывать городские магистрали патрулями или вводить комендантский час. Армия пока в игру не вводилась (или не вступала) вообще. Одним словом – нормальная ретроспектива – «ночь накануне введения ГКЧП». Все к чему-то готовятся, и никто не предпринимает действительно необходимых и неотложных действий. Согласно поговорке, все пока ещё «запрягали», а «быстро ехать» собирались несколько позже.
Секонд поехал на своём «Самшите» с Темниковой и ещё двумя «печенежками», довольный, что те – девушки достаточно скромные и Арина при них воздержится от заигрываний. Фёст с Людмилой остались вдвоём.
– Теперь, значит, вот что у нас выходит, – говорил Вадим. – Доберёмся до места, чтоб не сглазить, камрад Хворостов подтянет туда свою армию, если сумеет, и будет у нас, допустим, полторы сотни штыков, из них наших – шестнадцать. Предстоит прояснить обстановку окончательно, устранить все неясности и шероховатости, и если сложится – начинать действовать. Я свяжусь со всеми, на кого могу рассчитывать, станет ясно – что имеем в натуре. Но пока мы в меньшинстве, а это всегда нехорошо. Помнишь, что Наполеон говорил? «Большие батальоны всегда правы». Сейчас батальон полковника намного побольше нашего. Что из этого следует?
– Это ты у меня спрашиваешь? – удивилась Вяземская. Ей сейчас выше своего уровня размышлять не хотелось.
– Да нет, скорее, вслух рассуждаю. Мы «Леонова» с морпехами на «Валгаллу» отпустили. Не поторопились, как думаешь?
– Хочешь вернуть?
– Да я бы вернул. Только ну вот совершенно поперёк горла снова блоком переход открывать. Мне Левашов говорил – от него континуум трясёт куда резче, чем если СПВ пользоваться… Каждый раз – как на снежный мост над пропастью выходить. Раз прошёл, два прошёл, а там раз – и аут!
В эти дебри Людмила предпочитала не забираться. Она знала, что, стань она после школы координатором, ей долго-долго вообще не разрешалось бы использовать эту функцию блок-универсала. А если старшие решили, что им можно, так пусть сами и думают.
– Но выбора у нас всё равно нет, как у Корнилова под Екатеринодаром, – продолжил Фёст. – Так что предлагаю рискнуть. Хотя самому страшно, честно признаюсь. Провалимся к чёртовой матери в мезозой какой-нибудь… Правда, девчата с нами, так что скучно не будет…
– Я тебе покажу веселье, – безэмоционально, просто к сведению, сказала девушка.
– А что, думаешь, удастся моногамию сохранить при раскладе четырнадцать – два? Тут ведь даже не во мне вопрос? – продолжил поддразнивать невесту Фёст.
– Замолчи, мне эта тема неприятна…
– Всё-всё, молчу. А вообще, рискнуть согласна?
– Если считаешь, что другого варианта нет…
– Я – не вижу.
– Тогда селекторное совещание устроим.
Он включил блок, вызвал Секонда и Герту, сообщил о своей идее.
– А нам, ваше высокоблагородие, что водка, что пулемёт, лишь бы с ног валило… – ляпнула Герта.
– Слушай, ты где этой ерунды набралась, причём – последнее время? – удивился Секонд. – Раньше себя приличнее вела…
– Мятлев! – сказал Фёст и поднял указательный палец. – Гулял с девушкой по Москве и учил всяким генеральским глупостям.
– Это точно, – поддакнул Секонд. – Я вообще давно не встречал умных генералов. Это как при эпидемии, только наоборот. Из всей исходной массы подпоручиков и корнетов до «беспросветности» доживают только самые стойкие особи…
– Интеллект и личная порядочность условием выживания не являются.
– Скорее наоборот…
Герте пришлось всё это выслушать молча. Веселится начальство после пережитого, ну и пусть его.
Фёсту снова захотелось курить. У него от стрессов какие-то эндорфины в организме выгорали, и только никотин их быстро восстанавливал.
Одной рукой придерживая руль, достал сигарету, щёлкнул зажигалкой. Затянулся два раза подряд. Не закрывая портсигара, сказал:
– Ну, держитесь, славяне, у кого за что есть. Вызываю Воронцова…
Глава пятая
Как показалось Фёсту, Воронцов был почти не удивлён, когда получил пробивший три (или несколько больше) слоя реальностей вызов по блок-универсалу. Ему пришлось, оторвавшись от ужина с Натальей, поспешить в рубку и включить стационарную СПВ, с большим трудом адаптированную Левашовым и Лихаревым для синхронной и синфазной работы с аггрианскими приборами. Теперь считалось, что канал, открытый с помощью тщательно отлаженной и постоянно контролируемой всей мощью Главного судового компьютера установки СПВ обеспечивает более чем восьмидесятипроцентную надёжность и безопасность. А с автономно используемыми блоками – одни неприятности. Минимум два раза – у Ирины с Берестиным и у Сильвии с Новиковым «хроноперелёты» закончились чуть-чуть удачнее, чем последний полёт Валерия Чкалова[35]. Едва не потерялись друзья «в дали времён, в пыли веков»[36].
Сам Дмитрий приводил такую аналогию: «Морю, естественно, всё равно, на чём ты там плаваешь. Есть даже мнение, что чем теоретически непотопляемей суда, тем чаще они гибнут от штормов и гораздо менее предсказуемых обстоятельств. Пример – «Титаник». Как известно, в процентном отношении число гибнущих в море кораблей за последнюю тысячу лет не уменьшилось ни на йоту. И всё же я предпочту выйти в штормовое море на толковом, оснащённом всем необходимым спасательном буксире, нежели на средневековом драккаре. При всей его романтичности и реальной мореходности».
– И что там у вас опять случилось? – осведомился Воронцов, мгновенно заметив, что попросивший о встрече Фёст сидит не в своём кабинете, а в движущемся с приличной скоростью автомобиле. С ним рядом – Люда Вяземская, любимая питомица Натальи. С ней он вежливейшим образом раскланялся, обменялся улыбками. – Катаетесь где-то по ночам, вместо того чтобы предаваться честно заслуженному отдыху. И с автоматами. Тебе, Люда, совсем не идёт. Излагай, Вадим…
Вадим изложил.
– Ну и что? Пока всё нормально. Ваше счастье, что они сразу в квартиру не ломанулись. Интересно, кстати, а как бы это в натуре выглядело – попытка взлома межвременного барьера штатным оснащением типового пожарного щита? Утёрлись бы и ушли или решились весь подъезд разнести, долбая стены, полы и потолки направленными кумулятивными взрывами?
– Не могу знать, Дмитрий Сергеевич, – ответил Фёст. Ему и самому затронутая тема была интересна, но отчего-то не сейчас. Но, бывало, он, коротая частые и долгие одинокие вечера и ночи в многочисленных комнатах жутковатой, если не кривить душой, квартиры, ничуть не лучшей, чем булгаковская на Большой Садовой, и сам не раз задумывался: имеет ли данное пристанище свойства того созданного Богом камня, который он сам не может поднять? Как, к примеру, квартира будет выглядеть, если рванёт над Москвой мегатонная бомба? Останется ли висеть над радиоактивной пустыней странное кирпичное сооружение с человеком внутри или всё же превратится в пыль и пар, а квартира продолжит существование в любой из остальных бесчисленных реальностей?
– Вы бы поручили, господин адмирал, роботу, обученному хронофизике, рассмотреть этот вопрос как в научном, так и в теологическом аксепте. Нас же сейчас интересует только сугубая эмпирика. Дело вот в чём…
Он, как Шура Балаганов, «монотонно, но довольно толково» изложил события целых суток в одной реальности и нескольких часов в другой. И доложил, что сам по поводу всего этого думает.
– Знаешь, по-моему – ничего странного, – беспечно ответил Воронцов. – И твой майор, и этот Хворостов – они на самом деле растерялись, как плохой штурман в тумане. И на вас ставку готовы сделать, и остерегаются всего на свете: подставы, провокации, прямой измены любого из своих людей. Ты ж такие вещи должен понимать. Люди создали что-то вроде подпольной организации, исходя из общности биографий и принципиального неприятия текущего положения дел. Создали, не совсем понимая зачем.
Профессионально, да и на генетическом уровне, они таким, как ты, всем, разбогатевшим и поднявшимся в девяностые, доверять не могут и не хотят. Для них, строго говоря, вообще нет сейчас подходящей экологической ниши. Как у Махно в Гражданскую. Выбирая из двух зол, на этот раз «белые» им вроде бы предпочтительнее. Но если и вы подведёте, то выжившим одна дорога – к уголовникам. Ты правильно просчитал – такие, как твой Борис Иванович, за тридцать тысяч рублей зарплаты всю оставшуюся жизнь новым «хозяевам жизни» кланяться не станут. Так и вас он пока согласен воспринимать только в силу общности прошлых биографий. Ваша сегодняшняя «совместная победа» ничего принципиально не изменила. Поэтому не нервничай, если в ближайшее время случится очередное выяснение отношений, и очень может быть, что разговор выйдет на повышенных тонах…
– Спасибо, Дмитрий Сергеевич, – вмешалась Людмила, – мы это тоже понимаем. Но что реально делать?
Людмилу с первых дней «реабилитации» на «Валгалле» всегда удивляла способность адмирала, при полном вроде бы отсутствии всяких экстрасенсорных талантов, очень чётко воспринимать окружающую обстановку, делать далеко идущие выводы и принимать единственно верные решения. Без всяких искусственно создаваемых мыслеформ. Левашов то ли в шутку, то ли всерьёз сказал, что Дмитрий – их последняя надежда. Когда вдруг откажут все, условно говоря, компьютеры и калькуляторы, он окажется единственным человеком, умеющим перемножать в уме трёхзначные числа, извлекать кубические корни и помнящим наизусть таблицу логарифмов.
– Очень может быть, – смеялся Воронцов. – Какой же из меня штурман, если навигационные таблицы помнить не буду и девиацию компа́са не смогу голыми руками уничтожить? Но я ещё и артиллерийские таблицы стрельбы от 76-мм и до 203-х тоже помню. И гадать на них умею. Девушкам – на женихов, мужикам – на шанс выскочить из классической «вилки».
Сейчас он спросил:
– Тебе от меня что нужно – благословение или «Леонов» с разведчиками?
– Догадливый вы, Дмитрий Сергеевич…
– А то! Я этой команде ни программу снимать, ни разоружаться и переодеваться не велел. Прямо сейчас и десантируются. Только не перестреляйте там друг друга под горячую руку. Координаты называй…
– Да вот прямо на сигнал одного из блоков. Людмилы, пожалуй. Но тут, думаю, всё получится и обойдётся. Я вас ещё об одной вещи спросить хотел.
– Какие проблемы?
– Знаете, лучше я сначала с первой разберусь, тогда к основной вернёмся. Часа через два, если уложимся.
– Договорились. Буду ждать. Я бы вас подстраховал, но, сам понимаешь, чем дольше канал открыт, тем больше неконтролируемых нарушений причинности. Вам же Левашов толковал…
– Да знаем, знаем. Отключайтесь, и сами управимся.
– Ты что ещё придумал? – спросила Вяземская, когда рамка «двустороннего окна» погасла. Вообще, «окна» в рассуждении потрясения основ мироздания были намного безопаснее полноценных дверей.
– Я же сказал – потом. Так, мысль мелькнула, нужно ещё обмозговать, прежде чем зря трепаться…
Кавалькада из «Патриота», мини-вэна и четырёх «Самшитов» в сопровождении двух милицейских «Ниссанов» с мигалками, словно кортеж Президента (теперь уже почти бывшего), проскочила тоже удивительно просторный без машин Ленинский проспект. Стационарный пост ГАИ на пересечении с МКАД не обратил на них внимания, занятый тщательной проверкой въезжающих в город машин. Вот на этих полосах вытянулась почти километровая пробка. Кроме штатных машин ГАИ и ДПС Фёст заметил несколько БТР-80, в шахматном порядке расставленных по обочине.
– Интересно, они опасаются, что из области двинутся верные властям войска? – слегка удивилась Людмила. – Так даже обычная стрелковая рота такой заслон опрокинет не глядя.
– Да как сказать. Через наш заслон господа заговорщики к президентской даче так и не прорвались. Тем более я уже разъяснял – пока что не война. Вполне возможно, на посту присутствуют некие эмиссары или комиссары с серьёзной бумагой от министра обороны или командующего округом. Запрещён, мол, въезд в Москву вооружённым силам до особого распоряжения, и точка. Не каждый лейтенант или капитан решится вот так сразу настоящие боевые действия против своих открывать…
– Здесь-то не война, – вдруг опять включился Секонд в селекторную связь. Ему вдруг захотелось, и возможность по пути появилась поговорить на темы большой, причём не здешней политики. – А у нас – на пороге. Англичане прямо на рожон лезут. Государь объявил «угрожаемый период», на флотах – «готовность номер один». Я с деталями не успел ознакомиться. В Атлантике их крейсерский отряд с нашими сцепился. Вроде бы эскадра адмирала Дукельского сумела захватить один крейсер англичан…
– Редкий случай, – прищёлкнул языком Фёст, – кроме сражения у мыса Сарыч в Басмановской реальности, я и не припомню, чтобы «лаймы» сдавались.
– Да просто некому было, – ответил Секонд. – В нашей реальности они вообще сто лет не воевали, в вашей японцы их долбали авиацией, топили и как зовут не спрашивали. А здесь вот случилось. Чекменёв мне успел сообщить, что Император очень интересуется, что у нас прямо сейчас с «Крестом». И я его понимаю – если появится возможность на нашу сторону доставить хоть сотню авиационных противокорабельных ракет – он такую уверенность почувствует…
– Ещё бы! Я бы тоже почувствовал… – согласился Фёст.
– Но весь фокус вот в чём. Тоже от Чекменёва информация – в том «деле при Мадейре» наша милая компания засветилась!
– То есть как? Вельяминова с девчонками? – поразилась Людмила.
– Якобы адмирал Дукельский или его флаг-капитан по разведке сообщил – пленные в один голос утверждают, что вывели из строя крейсер и устранили его комсостав вполне посторонние нашему флоту люди, и в их числе – несколько девушек или женщин, причём особо подчёркнуто – «крайне, даже чрезмерно привлекательной наружности». Вопросы есть?
– У меня один – кой чёрт их туда занёс? Белый Крым и английский крейсер в Атлантике веком позже – довольно далеко отстоящие «шверпункты», – спросил Фёст.
– И я о том же. Значит, что-то у них пошло совсем не так. И не туда. Могу предположить – вот одно из следствий наших забав с вечностью. Совершенно тот вариант, о котором Ницше писал: «Если ты слишком пристально всматриваешься в бездну, бездна начинает всматриваться в тебя…»
– А что с нашими? Все целы? – Людмилу судьбы подруг интересовали куда больше «вельтполити́к»[37].
– Вот этой информацией со мной никто не поделился. Но поскольку их самих никто не видел, а источник – только слухи, могу предположить, что после своего очередного безбашенного подвига (у Императора на них скоро крестов не хватит) они опять куда-то делись. Меня весьма утешает тот факт, что кроме Уварова и Басманова при девушках находится профессор Удолин со своей бригадой некромантов. Возможно, это они там чего-то переколдовали, и дела пошли наперекосяк. Надеюсь, скоро узнаем. Возможно, в ближайшие часы.
О том, что к группе Уварова присоединилась экстренно вызванная по предложению Басманова Сильвия, Секонд не знал. А если бы знал, то трудно сказать, прибавило бы это им с Фёстом спокойствия или наоборот.
На Киевском шоссе головная машина резко прибавила скорость до сотни, и за ней вся колонна, растягивая интервалы.
При таком режиме движения квалифицированная слежка маловероятна, разве что беспилотниками. Да и в случае с заводом Фёст склонялся к мысли, что их вообще не выслеживали и не преследовали, сразу ждали на месте, заранее зная, когда и в каком составе его группа там появится. Сколько-то боевиков могло подъехать и позже, для усиления. Но засада там сидела с того самого момента, когда у Хворостова возникла идея лично пообщаться с представителем «Чёрной метки». А она могла возникнуть сразу после «представления», что устроила Людмила на Триумфальной и в Каретном Ряду, под непосредственным наблюдением, из первого ряда партера, Эдуарда и Григория – мужиков, похоже, стоящих в иерархии «тесного кружка друзей» полковника Хворостова повыше простодушного Бориса Ивановича.
Так всё постепенно выстраивалось. Если б побольше времени заняла дорога, пазл в голове Фёста успел бы сложиться целиком. А то и ехали недолго, и девушки с Секондом отвлекали своими разговорами на близкую им тему участия Уварова с пятёркой валькирий в какой-то совсем новой операции. Они вплотную приблизились к мысли, что смысл задания был как раз в этой антианглийской акции, а остальное – Крым, Катранджи – только прикрытие. Почему и Людмилу с Гертой из неё вывели в самый последний момент. А что сам Секонд в эти «тайны мадридского двора» оказался не посвящён, так на то, наверное, прошла команда с самого верха. Ляхов-второй даже вспомнил, что Тарханов показался ему… Ну, не совсем в своей тарелке.
К облегчению Фёста, которому абстрактные гипотезы, высказываемые с азартом и напором, мешали думать, магистральная дорога наконец закончилась. Для них. Само-то Киевское шоссе продолжало разматываться, вперёд и вперёд, до того самого, ныне иностранного города, куда язык доводит в тех случаях, когда не успел довести до Шлиссельбурга или Магадана.
Машины с мигалками развернулись и ещё быстрее, чем ехали сюда, рванули обратно в столицу. Там у всех этой ночью дела найдутся.
В известном месте «Патриот» Хворостова свернул на узкую асфальтовую дорогу, ведущую в весьма обширный и запущенный Ульяновский лесопарк, вполне достаточный по площади, чтобы там надёжно затерялся целый мотострелковый полк. Несколько человек из его чоповцев высадились перед длинным и еле-еле выдерживающим вес машин мостиком через сильно заболоченный, трудно проходимый даже вброд ручей. Застава на всякий случай, совсем «на всякий», потому что милицейские передали по рации, что и на обратном пути до самой Москвы ничего подозрительного, особенно грузовиков, способных доставить значительное количество боеспособных преследователей, замечено не было.
Да Фёст с Секондом и не думали, что прямо сейчас за ними будет отряжена погоня. Некому её организовывать, все, кто мог что-то решать и связно доложить о последних событиях «наверх», – лежат кучей на полу своего мини-вэна. То, что имеется ещё одна группа специалистов, дублирующая работу именно этих, – маловероятно. При всём их интересе к Ляхову и его друзьям – не до того сейчас в штабе мятежников. И без этого они должны пребывать в состоянии, близком к истерическому. Слишком уж сразу всё пошло наперекосяк: как только не удалось захватить Людмилу с Журналистом. Дальше – по нарастающей. Приличные потери при безрезультатном штурме президентской дачи, попавший в плен генерал Стацюк, разгром на заводе…
Очень всё у них плохо. А если вообразить, что каким-то образом они в курсе «Мальтийского креста» – сейчас настроение в руководстве «Фороса» весьма сравнимо с тем, что творилось в Москве 16 октября трижды пресловутого сорок первого года. Кто-то собирается воевать до последнего, кто-то начинает задумываться об эвакуации, переходящей в паническое бегство, причём вместе с нажитым непосильным трудом имуществом, а кто-то наверняка надеется только на подход «дальневосточных и сибирских дивизий». Гитлер в похожей ситуации ждал прорыва к Берлину армии генерала Венка.
И в то же время, если руководствоваться беспристрастным анализом и сохранять ледяное спокойствие полководца, безусловно верящего в свой талант и умение управлять «стратегией чуда», – с мятежом ещё ничего фатального не случилось. Да, несколько темпов проиграно, но «большие батальоны» на нашей стороне. Пусть у Президента суетятся и изображают эффектные выпады несколько десятков непревзойдённых специалистов. «Три мамелюка смогут победить десяток призывников-драгун. Тысяча драгун всегда изрубит сотню мамелюков»[38]. Все ставки уже выиграны. На руках – каре тузов с джокером. Соответственно, флешь-рояля у противника не может быть по определению…
Вообще-то может, конечно, если туза заменить вторым джокером. Но и в этом случае «покер»[39] выигрывает. А если у партнёра всё же флешь-рояль, но с тузом и двумя джокерами? Здесь уже возникает коллизия, аналогичная «большим батальонам». У кого шандал[40] тяжелее. Иным способом доказать, чьи здесь настоящие пятый туз и третий джокер – крайне сложно.
С асфальта съехали на грейдер, покрутились так, что любой потеряет ориентировку, а на экран «джипиэс» просто противно смотреть. В.И. Ленин советовал захватывать почту и телеграф, но веком спустя – удобнее базы сотовых операторов и ретрансляторы спутниковой связи. Простой рационалист их отключит, а умный человек перенастроит так, что на любой запрос будет выдаваться день рождения двоюродной бабушки и цены на дрова в Якутске при царе Алексее Михайловиче.
Остановились на поляне, вполне сказочной, окружённой елями в два обхвата. И избушка присутствовала, правда, без куриных ног и двухэтажная. От обилия людей и машин перед домом сразу стало тесно.
Сначала из «Патриота» высыпали бойцы, приехавшие с Хворостовым, затем девушки вперемешку с чоповцами из четырёх «Самшитов», их туда набилось столько, что впору было вспомнить знакомые только людям старшего поколения консервы «Частик мелкий нерядовой укладки в томатном соусе». Ценителям «Сёмги по-византийски» и лобстеров такой продукт на своём столе представить трудно. Пока! А дальше по-всякому может повернуться.
Да по опушкам поляны успело обозначиться не меньше трёх десятков человек с оружием. Определить, сколько на самом деле, – света фар не хватало.
Фёст с Людмилой из своего пикапа сошли на густую траву последними. Демонстративно оставив в мини-вэне оружие. Впрочем, все, кому нужно, знали, что и без стволов напоказ «гости», до сих проявившие себя верными союзниками, способны на очень многое.
– Прорвались вроде бы, Сергей Саввич, – дружелюбно сказал Фёст, как бы намекая, что стоит оставить взаимные подозрения и заняться настоящим делом.
– Прорвались. И делом займёмся. Только у меня к вам так много вопросов, – с видимой грустью, не сулившей, впрочем, никаких послаблений и попущений, ответил полковник. – Пойдёмте в дом. Вы четверо. Остальные пока здесь подождут. Без обиды. Сами ведь понимаете – мне ошибиться нельзя… Вы пришли и уйдёте, если вздумаете, а нам и жить здесь, и помирать. Пойдёмте. Пистолеты тоже отдайте… – Он кивком указал на неожиданно оказавшихся за спиной Григория, Эдуарда и ещё двух парней, совсем молодых, но явно не «зелёных».
– Может, нам вообще до исподнего раздеться? – нагловато спросила Герта, всем видом показывая, что только дай ей команду – и мало никому не покажется. В Одессе тоже всё выглядело очень серьёзно, пока она не взяла молдаванского налётчика за известное место и вывела на середину двора. Кто смеялся, кто плакал, но тогда обстановка разрядилась.
– Баронесса, вы не на Привозе, – с абсолютно серьёзным лицом сказал Фёст. – Пойдёмте, куда зовут.
– Простите, а можно я – за кустик? – по-пионерски подняла руку Людмила. – Я просто не могу уже. На, подержи… – Она чуть замедленно, как Шэрон Стоун в «Основном инстинкте», приподняла юбку, на несколько секунд блеснув незагорелыми бёдрами. Выдернула из кобур обе «беретты» и протянула их чуть напрягшемуся было Эдуарду.
– Я быстренько. И подсматривать не нужно…
Не дав никому опомниться от аудиовизуальных впечатлений, озадачив человека, назначенного блокировать именно её (она сразу поняла роль своего бывшего сопровождающего – чего тут не понять?), жутко эффектной походкой Вяземская удалилась за освещённые фарами многих машин пределы.
– Ладно, ладно, все на позиции, – повышенным голосом начал отвлекать от впечатлений и сопутствующих мыслей своих солдат Хворостов. – По схеме…
– А мы с вами здесь и подождём, – это уже Ляховым и Герте он сказал. – Вернётся девушка…
– Вернётся, куда денется, – перебил его Фёст, отщёлкнул крышку портсигара, взял сигарету, протянул полковнику. За ним и Секонд начал прикуривать. Ничего нет удобнее, чтобы отвлечь внимание даже весьма бдительного человека. Руки у всех на виду, и настроение само собой меняется. Мирное занятие, объединяющее, можно сказать. Тем более ведь не враги они друг другу. Есть некоторые сомнения и взаимные вопросы, но не такие уж антагонистичные…
– И сколько же вы там положили? – спросил Хворостов. – Что это вообще за войска за нами пришли? Уж больно квалифицированные. Мы сами с ними точно не справились бы…
– А вот прикажите забрать тех, кто в автобусе, я почти и забыл про них. Поспрашиваем – яснее станет…
Ему пришлось прервать свою фразу на полуслове. Людмила появилась из почти непроницаемой темноты (и как там ухитрилась ни на какой торчащий сук не наткнуться и даже веткой не захрустеть), а за ней, к всеобщему (за небольшим исключением) изумлению, – едва различимая фигура не слишком крупного человека. Через секунды стало видно, что на нём камуфляжная форма непонятной, плывущей в свете луны расцветки, сдвинутый на ухо берет. В правой руке – положенный на плечо стволом вверх «ПКМ». Люди все здесь были опытные, сразу опознали знакомую систему.
– Это что? – только и успел спросить Хворостов, совершенно не понимая, откуда здесь это явление природы. В машинах он точно не ехал, а пешком, через лес (поскольку единственная дорога надёжно перекрыта) сюда выйти наобум сложновато. Местность вокруг сильно пересечённая.
– Да вот познакомьтесь, – предложил Фёст. Людмила с незнакомцем (теперь всем стало видно, что на чёрном берете эмблема морской пехоты, на погонах – три звёздочки) подошли вплотную.
– Честь имею. Старший лейтенант Леонов, – он отдал честь, но так небрежно, будто муху от виска отогнал. Ничего больше. Подождал немного, не скажет ли кто чего, потом спросил у одного из Ляховых: – Курить разрешите, товарищ полковник?
И тут же полез в карман, достал пачку дешёвейшей «Примы» с фильтром.
– Поясняю, Сергей Саввич. Это мои друзья, нет, не те, о ком вы подумали, местные. Просто хорошие друзья прислали мне в подкрепление Виктора Николаевича с вверенным ему взводом. Так что за оборону прилегающей территории можете не опасаться. Комар не пролетит.
– Морская пехота, значит? – вдруг шагнул вперёд Борис Иванович. – Из каких краёв будете, старлей?
– С ТОФа, если вам интересно. – «Леонов» переводил взгляд с бывшего майора на своих полковников, ожидая, что ему пояснят, стоит ли вообще разговаривать с этим штатским.
– Вы позволите задать коллеге несколько вопросов, Вадим Петрович? – спросил нынешний консьерж.
– А чего ж? Можете отвечать, старший лейтенант.
Майор в быстром темпе начал спрашивать всё, что в подобных случаях положено. С какого года на службе, где дислоцируется часть, сколько метров от КПП до остановки городского автобуса, закончили ли наконец строить начатую ещё десять лет сауну для комсостава, кого из старослужащих прапорщиков и офицеров он может назвать, как называются приписанные к батальону БДК, и ещё в этом духе. Никто другой, кроме настоящего, в Славянке дислоцирующегося офицера на эти вопросы ответить бы не смог.
Оттого очень мало доверия внушают фильмы и книги про советских разведчиков, переодевающихся в немецкую офицерскую форму. Это такие, как условный Штирлиц, начавший работать задолго до прихода Гитлера к власти, могут выдержать не какой-то жуткий допрос в гестапо, а такой вот, обычный разговор. На десятиминутный подготовки ещё может хватить, а уже на полчаса – вряд ли. Самозванец в ста процентах случаев проколется, если спросить его, каким образом офицер может пройти к своему кадровику-направленцу в штабе того же Дальневосточного Краснознамённого округа[41]. В Хабаровске, на улице Серышева.
Но Воронцов в таких делах соображал и абсолютно всему, что положено знать такому вот старшему лейтенанту, проходящему службу в в/ч № такой-то, биороботов обучил. Фёст снабдил Дмитрия весьма подробной вводной, учёл даже дату, когда ведущий сейчас беглый допрос майор навсегда покинул свой гарнизон, потому «Леонов» для полноты картины смог сообщить ему кое-что интересное о случившемся после этого. В том числе и о неких особах, по сей день продолжающих службу секретчицами и телефонистками.
Майор перевёл дух, хлопнул «Леонова» по погону, крепко пожал руку.
– Всё точно, браток! Поговорил с тобой – и аж сердце защемило. Так, говоришь, в чёрный цвет ворота перекрасили? Надо же… Как же ты сюда попал, скажешь?
– Это я скажу, Борис Иванович. Я ведь предупреждал – у нас друзей много. Попросил кое-кого, ребята получили командировочные и проездные, час на сборы, и спецбортом сюда. Слышите? – он поднял палец. Над головами как раз прогудел взлетевший из Внукова самолёт.
– Сколько летели, Виктор Николаевич?
– Девять часов.
– Благодарю за службу. Выдвиньте отделение на километр в сторону Киевского шоссе, остальными прикройте поляну с севера и востока. Задерживать абсолютно всех, обнаруженных в зоне контроля. Стрелять только в ответ на очевидное нападение. Ясно?
– Так точно.
– Подождите, Вадим Петрович. Наши люди будут прибывать до самого утра. Как бы не…
– Ну вот и выделите старшему лейтенанту знающих, ответственных людей. Все возможные недоразумения – за вами.
С прибытием подкрепления положение и авторитет Фёста и компании существенно укрепились. Тринадцать вооружённых девиц неизвестного происхождения, пусть и отличнейшим образом подготовленных, – это одно. Впечатляет, конечно, но не в достаточной мере. У офицеров запаса самых разных родов войск – собственная гордость, которую они готовы отстаивать, пусть и в ущерб общему делу. Сегодня неизвестно какой службы девушки сумели тебя обезоружить, связать и в таком виде предъявить начальству. Это скорее вызывает злость, раздражение и стремление при первом удобном случае отомстить.
Другое дело – настоящий, штатный взвод кадровой армии. Да ещё элитный, с полным вооружением, защищённый авторитетом всех вооружённых сил, которые при таком бардаке, как сейчас, могут на кого хочешь положить с прибором и с высокой колокольни. Тут разговоры уже в другой тональности начинаются. А вдобавок свой человек Борис Иванович засвидетельствовал подлинность этих морпехов. Однополчанина, практически, встретил. Здесь уж никаких сомнений.
В итоге у полковника Хворостова с миру по нитке вооружённые полторы сотни, почти что незаконное бандформирование, а у полковника неизвестно каких структур Ляхова пока что человек пятьдесят, но реально служащая элита. Штатно вооружённая. И в запасе у него, у Ляхова, ещё и моральный авторитет плюс неизвестное количество резервов. Все видели, как эти люди воюют. Упаси бог оказаться на противоположной стороне мушки.
Так Сергей Саввич и сказал Фёсту – все предыдущие вопросы автоматически снимаются, он и его люди готовы «стать под руку» Вадима Петровича и тех, кто за ним, желательно в качестве самостоятельного подразделения. Но вначале неплохо бы обсудить конкретные вопросы денежного и вещевого довольствия, ну и как со всем остальным тоже…
– Помню, помню, был разговор насчёт возвращения в строй и внеочередного производства. Вы фантастику читаете? – неожиданно спросил Фёст.
– Да как-то обходился, знаете ли… Мемуары читаю, Суворова и «антисуворовых» тоже… Пикуля ещё. Мне хватает. А вы к чему?
– Да был такой писатель, Роберт Шекли. У него один персонаж, вербуясь в инопланетную армию, рассуждал о предложенном ему чине подобным образом: «Дайте сообразить. Манатей второго класса соответствует циклопскому полудолу, а это чуть выше, чем король знамени на Анакзорее и почти на ползвания ниже дорианского Старика. Значит… Э, да если я завербуюсь, то это для меня сильное понижение в чине!
– Зато, кроме того, – добавил вербовщик, – неограниченное право мародёрства и грабежа.
– Ну, это хоть на что-то похоже…»[42]
– Не совсем понял, – осторожно сказал Хворостов.
– Это непринципиально. Я, знаете, тоже нервничаю, оттого и шучу неадекватно. Если по делу, то в случае успеха звание генерал-майора вы получите через несколько дней, это я твёрдо гарантирую. Даже, может быть, с выплатой разницы в окладе с момента увольнения в запас. Вот о должностях уже не со мной разговаривать будете. Возможно, Пётр Петрович поспособствует – вы ему в качестве военного советника или инструктора вполне можете пригодиться. Как, господин Ляхов?
– Дело сделаем, послужной формуляр изучим – тогда и поговорим, – не желая разбрасываться обещаниями, ответил Секонд. Хворостову, очевидно, этого было достаточно.
– Хорошо, пойдёмте в дом. Перекусим, чем бог послал, стресс снимем, потом можно и с пленными разбираться, и о дальнейших задачах говорить. Всё равно люди ещё долго подходить и подъезжать будут.
– Тогда я отлучусь на короткое время. Мне нужно со старшим лейтенантом поговорить, в Москве кое с кем связаться. Вадим, отойдём на минутку…
Отошли, присели на изображающее лавку затёсанное поверху толстое бревно. Вся их девичья гвардия, успокоенная появлением дружественных морпехов и не получившая очередных приказов, уселась за стол под навесом, устроенным рядом со стационарным мангалом, решётками для барбекю. Принялись вполголоса болтать о своём. Здешние мужчины держались поодаль, вместо того чтобы начать напропалую знакомиться с новыми «товарищами по оружию». Нестарые ведь все мужики, половина даже вполне молодые. Очевидно, дошедшие слухи сдерживали. А девушки как раз очень не против были пообщаться…
– Наверное, мне стоит прямо сейчас вернуться на квартиру и уже оттуда снова к Воронцову, – сказал Секонд. – Я тебя правильно понял – ты хотел с ним говорить о переброске всех «печенегов» через СПВ? Как прошлый раз дивизию Берестина?
– Об этом, об этом. Мы ведь с тобой правильно настроить терминал в квартире не сумеем, нужна помощь Дмитрия… Ну и перед началом работы тебе и с Тархановым переговорить надо, и с Чекменёвым. Президента опять же проинформировать. Некорректно ведь без согласия…
– Ну и иди. Только рассчитайте там, чтобы переход уже сегодня утром по здешнему времени начать…
Ни Фёст, ни Секонд точного представления о синхронности и синфазности течения времени в параллелях рассогласованных и соединённых не имели. И приборов таких у них не существовало. Можно было только с достаточной долей вероятности предполагать, как если бы в уме переводить градусы Фаренгейта в Цельсия и обратно не по таблицам, а просто по аналогии. Сейчас Секонд с Фёстом думали, что разница во времени значительно подсократилась и на той стороне после их ухода прошло всего час-полтора. Впрочем, принципиального значения относительная скорость течения времени не имела, если только не пытаться попасть в собственное прошлое, уже однажды прожитое. То есть всегда будешь попадать хоть на минуту, да позже того момента, когда уходил из одной реальности в другую и возвращался. Зато всегда имелся риск того, что имеющаяся временна́я разница непредсказуемым образом удлинится и Секонд может объявиться на Столешниковом неделей или месяцем позже, чем ушёл. Тогда «гости» могут и не выдержать нервного напряжения. Но и на этот случай Яланская имела инструкции и передала бы Президента с друзьями и Воловичем под надзор и попечение Чекменёва. А тот при любом варианте не растеряется.
– Тогда я тоже за кустик – и привет. Хворостову соврёшь что-нибудь. Герту я с собой возьму? – Вопрос Секонда Вадима несколько удивил и прозвучал не очень уверенно.
– Это ты у меня спрашиваешь? Вроде командир у неё ты, а я так…
– Ну вдруг она возражать начнёт? У вас же с ней…
– Браток, ты ничего не путаешь? Я двоежёнцем становиться не планирую. Мне Людмила и в одиночку плешь проесть и спину погрызть управится… На тебя пребывание в нашем времени действительно вредно влияет.
– Да я не в том смысле. У вас с ней команда спаянная, боевое братство и взаимная мужская дружба. Вот я и подумал… Если ты или она против, я Темникову возьму.
– Нет уж, эту красотку ты как раз оставь, я дюжиной баб в одиночку командовать не собираюсь, а Людмиле поручить – в кумовстве и семейственности обвинят. Забирай баронессу с глаз долой и двигай!
Фёст ёрничал, но понимал, что Секонд в принципе прав. Да и как он мог быть не правым? Если бы на самом деле возможны были чистые дружеские отношения между сравнительно молодым мужиком и до невероятности очаровательной девушкой с особого рода хулиганистым шармом – лучшего друга и соратника в грядущих боях он бы не желал. Но увы – так не бывает. При наличии Людмилы он будет обязан держаться в очень жёстких рамках, а если бы Людмилы не было, Герта просто заняла бы её место. Независимо от чувств и желаний каждого. Автоматически. Какая уж тут «солдатская дружба»…
С хронологическим параллаксом[43] всё получилось даже лучше, чем Секонд рассчитывал, то есть на этот раз время текло в реальности Фёста, а в этой – почти стояло. С момента их ухода прошло не больше часа.
Из коридора они с Гертой увидели, через полуоткрытую дверь кабинета, что Президент с Журналистом и Мятлевым смотрят новости по здешнему дальновизору, внешне очень напоминающему «Рубин» шестидесятых годов с электронно-лучевой трубкой, диагональю всего в семьдесят сантиметров, тоже цветной, но с «плазмой» не идущий ни в какое сравнение. Секонд не стал их отвлекать, ему прежде всего нужна была «старшая по гарнизону» Яланская.
– А ты пока иди в мастерскую, – предложил он Герте. – Настрой шар, попробуй выяснить, что сейчас наши главные оппоненты делают. Какая-нибудь новая информация наверняка появилась, они ведь не чаи гоняли после исчезновения Президента. Может быть, и по поводу акции на заводе что-то узнаем…
Галина нашлась неподалёку. Волович предпочёл занятие поинтереснее, чем просмотр местных новостей, его пока совершенно не касавшихся. Он изучал соседнюю реальность практически, словно бы в шутку флиртуя на кухне с новой надзирательницей. Яланская показалась ему более сговорчивым объектом, чем высокомерно-неприступные (для него) Людмила и Герта. Она была «стилистически ближе», достаточно симпатична, хотя и вписывалась в пресловутые 90–60—90, но ноги у неё выглядели, и явно умна, значит, позаигрывать с ней стоило.
Михаил, несмотря на свои массогабаритные характеристики, непонятным образом слыл в Москве донжуаном не из последних. По крайней мере, в тех тусовках, где Волович вращался, даже признанные светские львицы редко ему отказывали. Иногда, случалось, он получал по морде, но чаще не от женщин, а от их мужей или кавалеров. Но ничьей репутации такие эксцессы обычно не портили.
Поручик Галина, успевшая поучаствовать в позапрошлогодних московских событиях, видевшая вблизи не только боевиков из соседней реальности, но и настоящих белых офицеров, Мишину суть просекла сразу, но старалась этого забавного, хамоватого, притом весьма неглупого, с хорошо подвешенным языком толстяка не разочаровывать. Глядишь, пригодится, когда России начнут объединяться. Связей у него масса, судя по болтовне. Тем более что на него не распространялась обязанность «вести себя предельно корректно!», чего потребовал Секонд в отношении «чужого» Президента.
Она, пожалуй, если «Миша» здесь задержится, была бы не прочь сводить его на вечеринку в офицерский клуб. Будет чем позабавить приятелей и подруг. Словно экзотической обезьянкой, вчера доставленной с Борнео.
– Ну и как вы тут без меня? – спросил Секонд, неожиданно входя. Волович попытался отодвинуть локтем в сторону недопитый фужер. Он предпочёл общаться с девушкой на кухне, подальше от остальных, потому что «Галочка» не возражала, когда репортёр по-хозяйски потащил из буфета недопитую за завтраком бутылку. Чем быстрее надерётся, тем лучше – и лишнего наболтает, и приставать сильно не будет. Такой тип мужиков во всех мирах одинаков…
– Да чего ты маскируешься? Я тебе не жена и не начальник. Гуляй, если душа просит. И мне плесни, неизвестно, когда ещё доведётся. Это Галине Александровне нельзя, а нам с тобой – запросто.
Волович с напряжением всех мозговых извилин пытался угадать, какой из Ляховых сейчас перед ним. Судя по тому, что Яланская не вскочила при его появлении – первый, свой, который Вадим. Да и по манере разговора – тоже он. Второй, «Пётр Петрович», помягче будет, избалованнее спокойной и сытой жизнью при Дворе. Однако – боевой офицер, полковник, награждённый многими орденами, значит, мягкость его скорее напускная.
«Ладно, – решил репортёр, – само собой видно будет». И немедленно выпил. Секонд не спешил, пригубил, отставил, начал отдавать девушке непонятные Воловичу распоряжения. Потом двусмысленно улыбнулся, неизвестно кому или чему, вышел.
– Это – кто? – спросил Михаил.
– С глазами плохо? – заботливо осведомилась «печенежка». – Или сразу с головой? Полковник наш, кто же ещё?
– Нет, я имел в виду – какой из двух?
– О, это интересный вопрос, – засмеялась Яланская. – Когда они не в форме, мы сами путаемся. Самый надёжный показатель – на кого Вяземская чаще смотрит, тот и Первый.
– А ты на кого чаще смотришь? – сразу перескочил в накатанную колею Волович.
– На того, кто в данный момент мне приказы отдаёт…
– Ну вот, опять казарму вспомнила, – расстроился Михаил. – Всё-таки не стоило бы женщин в армию брать. У вас другое предназначение…
– А как же в обожаемых тобою Штатах и Израиле? Там бабы даже крейсерами командуют…
– Это, так сказать, издержки демократии, мы до них ещё не доросли.
– В нашей России мы тоже не доросли, самодержавие и всё такое. Зато женщины только у нас служат, а больше ни в одной стране. Кое-где у них даже избирательных прав нет и частной собственности. А у нас всё есть. И где, по-твоему, лучше?
Секонд, на короткое время задержавшийся по ту сторону двери, не стал дальше слушать «политинформацию» (в их армии это называлось «развивающие беседы», на которых допускалось обсуждение самых острых политических и иных проблем), до которых Яланская была большая охотница. И не случайно – отец у неё был крупный промышленник, да вдобавок руководитель фракции «октябристов» Государственной Думы, дядя – правящий архиерей, архиепископ Крутицкий и Коломенский, а старший брат – доцент на кафедре философии МГУ.
И никого не удивляло, что девушка с таким общественным положением предпочла военную карьеру в разведывательно-диверсионном подразделении чему-нибудь более гламурному, например – профессии ведущей программы для сексуально озабоченных феминисток по Центральному дальновидению. С её внешностью, знанием светской жизни и хорошо подвешенным язычком вышло бы «самое то», как Фёст выражается.
Но очень возможно, что и на военной службе она многого достигнет.
Ляхов отошёл к дверям гостиной, оттуда громко, будто с полдороги возвращаться не хотел, позвал Галину.
– Слушай, у меня действительно с головой что-то не то. Тамошний климат на меня влияет хуже, чем хотелось бы. Скоро, наверное, совсем развоплощусь. Те люди, о которых говорилось, прибыли?
– Так точно, господин полковник. В течение примерно двух часов по тому времени. Все четверо. Были серьёзно взволнованы. Я, как могла, их успокоила, пообещала, что к утру они встретятся со своими, предоставила в их распоряжение кабинет, гостиную и кухню. Там, где вы сказали. Накрыла стол, чем было. Они сразу поняли, что в этой квартире живёт богатая и непростая женщина, поэтому за пределы отведённой территории не выходят. Стесняются, – при последнем слове Яланская со значением улыбнулась, чуть было не подмигнула Ляхову.
Ему это было понятно. Сильвия ушла из своей половины совсем недавно, и повсюду оставались следы её пребывания – запахи духов, в ванной сотни пузырьков и флаконов косметических средств, нужных ей не для того, чтобы маскировать возраст (она без всякого макияжа выглядела не больше, чем на отличные тридцать пять), а для создания имиджа. Там, где она бывает, в том числе и в викторианском Лондоне, не поймут, если леди Спенсер, госпожа Берестина и так далее (имён у неё легион) станет игнорировать самые модные и дорогие в этом месте и этом сезоне кремы, помады, пудры, краски, туши и притирания.
Интимные детали туалета, брошенные куда придётся, а потом забытые, тоже попадались на глаза.
– Слушай, а они ведь могли подумать, что именно ты и есть хозяйка. На служанку мало похожа…
– На вашу знакомую (и эта язвит беззастенчиво, совсем распустились девки) я ещё меньше похожа. Забыли, что ли?
Да, действительно, Секонд, замотавшись, упустил из виду, что в квартире, в спальне Сильвии и её кабинете на стенах висело несколько цветных фотопанно в натуральную величину, где хозяйка (двадцати пяти-, тридцатилетняя) была изображена в виде главной героини всемирно известных картин. «Завтрак на траве», «Купанье Фрины» и тому подобное. Все – «ню», разумеется. Нравилось ей на саму себя любоваться не только в зеркале. Не на редких же мужчин из соседней квартиры, вроде Новикова, Шульгина да Фёста с Секондом, этот вернисаж был рассчитан.
Так что президентским друзьям было на что посмотреть и заодно задуматься, при чём тут их Президент? В остальном они были довольны – сама квартира, внешность и манеры встретившей их девушки вселяли чувство надёжности и безопасности. В том числе и подсознательно.
Юрист, Писатель, Философ и Финансист проводили время нескучно, в лучших традициях русской интеллигенции выясняя под водочку, красное вино, кофе и холодные закуски – «что делать», «кто виноват» и «доколе».
Знакомая картина, ничуть не отличающаяся от того, что Ляхов наблюдал в Москве, поступив в Академию и посещая с Майей тамошние богемные кружки, «среды», «пятницы» и «субботы», как назывались еженедельные застолья в «открытых домах».
– Надо годить, господа[44], – сказал он входя и сразу попадая в тон.
Трое из гостей, правда, несколько удивились, но Писатель, уже несколько знакомый с «братьями Ляховыми», ответил не задумываясь:
– Помилуйте, Вадим Петрович! Ведь это, право, уже начинает походить на мистификацию!
– Там мистификация или не мистификация, как хотите рассуждайте, а мой совет – погодить! – одобрительно кивнул ему Секонд.
– Да что же наконец вы хотите этим сказать?
– Русские вы, а по-русски не понимаете! Чудны́е вы, господа!
После чего сел в кресло, вытянув ноги, раскрыл портсигар.
– Молодец вы, Генрих, хорошо тексты помните, и ориентируетесь быстро. Идите ко мне в аналитический отдел, в самый раз пригодитесь. Но вы же сначала, думаю, захотите написать нечто вроде «Несколько дней, которые потрясли мир»[45].
– Может, и напишу. Знакомьтесь, друзья, это один из соратников Императора Олега, флигель-адъютант, полковник Ляхов. Вы его должны помнить, он присутствовал на первой нашей встрече с Его Величеством.
Все подтвердили, что да, конечно, помнят, просто не ожидали здесь увидеть, да и выглядел господин Ляхов несколько иначе.
– Это такая аберрация, у меня есть брат-близнец, и, мельком увидев нас вдвоём, люди в итоге не запоминают ни одного. Надеюсь, Галина вас хорошо встретила?
– Более чем. Но вы лучше скажите, что с нашим Президентом и как понимать всё происходящее…
– Непременно. Прямо сейчас. Пойдёмте…
Появление Ляхова, пропустившего перед собой в дверь вторую половину президентской команды, отвлекло первую от весьма заинтересовавшей их передачи об исторических предпосылках назревающего русско-британского «конфликта».
– Ну, всё как у нас, – как раз говорил Журналист Президенту. – Только здесь Англия исполняет роль и себя самой и Штатов одновременно.
– Оно, наверное, и лучше, – вставил Мятлев. – Не приходится на несколько целей внимание рассеивать, и вообще конфигурация интересная…
И осёкся, увидев, кто пришёл.
– Мы решили, что вашим товарищам здесь будет спокойнее, чем дома, – сказал Секонд. – Вы тут пока пообщайтесь, обменяйтесь мнениями и впечатлениями, а я примерно через полчаса вернусь и сообщу вам кое-какие интересные новости, если они будут…
Из мастерской Лихарева, где Герта усердно работала над своим заданием, Секонд легко восстановил канал на «Валгаллу». Эта функция была фиксированной и никакой специальной подготовки не требовала. Не сложнее, чем нужную станцию по радио поймать.
Довольный случаем хоть на короткое время выйти из горизонта громоздящихся друг на друга событий, он вместе с Воронцовым уселся за столик на левом балконе «Солнечной» палубы. Вестовой матрос-буфетчик принёс им фирменного пива в тяжёлых фарфоровых кружках с откидными крышками.
Пароход шёл по почти штилевому океану восемнадцатиузловым ходом примерно на норд-вест, судя по звёздам.
– Хорошо тут у вас как, – от всей души, с лёгкой завистью сказал Вадим, стараясь хоть десять-пятнадцать минут не думать о делах. А можно и все полчаса, чтобы как следует посмаковать высококачественный напиток. Тех примерно кондиций, когда, сев на пролитое пиво в кожаных штанах, встаёшь вместе с прилипшим дубовым табуретом.
– А вы заканчивайте свой проект, и добро пожаловать на отдых, хоть на две недели, хоть на месяц. Я тоже буду рад такой компании. С жёнами, с подругами и, как говорил Козьма Прутков, «самыми отдалёнными единомышленниками».
– Вполне свободно. Нельзя же всю жизнь только воевать. У меня к вам сейчас вопрос чисто технический. Как нам организовать переход отсюда на Столешников, причём в моё время, и уже оттуда – к Фёсту.
– А я вам зачем? Всё одной установкой сделать можно.
– Я думаю – у меня не получается. Мы ведь собираемся довольно приличный контингент в ту Москву переправить, так нельзя же несколько сотен вооружённых людей сначала в одну квартиру завести, а из другой выпустить в самом центре города. Мне представляется только так – вашей машиной создать входной портал в известном месте у нас, к примеру, в спортзале УТЦ[46], а уже из него пробить выходной в той России, тоже за городом… Вообще, практически это возможно? Мы ведь настолько с Фёстом запуганные, что уже не понимаем, чем такие дела закончиться могут.
– Ты прав, думать надо. Есть у меня спец, и.о. Левашова, робот, разумеется, но весьма и весьма квалифицированный. Сейчас его вызову.
– И ещё, Дмитрий Сергеевич, нам срочно, просто позарез нужно увидеться с Сильвией Артуровной…
Глава шестая
Отпущенные Уварову и оставшимися трем валькириям сутки отдыха в Замке по вине Сильвии, задержавшейся в Лондоне, растянулись до четырёх, но никто по этому поводу не расстраивался. Анастасия не возражала бы пожить здесь и месяц. «Медовый» ведь ей по-любому полагался, да только Уваров никак не мог добиться у начальства полноценного отпуска. Все вроде свои, прямо-таки друзья, а позволить человеку забросить дела, которые по-любому до смерти не переделаешь, и съездить с молодой женой, например, за границу, где Настя никогда не была – никак, видите ли, не получается. Дошло до того, что Вельяминова поставила своему графу условие – никакого венчания не будет, пока он не решит этот вопрос. Ну и с «личной жизнью» соответственно, переезжать к нему она категорически отказалась до замужества. Вдруг у него планы изменятся внезапно – что, снова в казарму возвращаться? Вот уж девки, особенно Темникова с Глазуновой, повеселятся!
Зато здесь они с Валерием могли всё время проводить вдвоём, даже и на глаза подружкам не показываясь, наслаждаться тем, что не нужно на службу каждый день подскакивать к семи, а зачастую и к шести утра. Какая при таком графике любовь?
Девчонки тоже нашли для себя массу развлечений – изучали Замок, соревнуясь, кто больше неожиданностей в нём откроет или придумает, бегали купаться в доисторическом океане, в котором Арчибальд разогнал акул, а может быть, и плезиозавров на сто миль в округе, учились ездить верхом под руководством специально приставленных тренеров. Уже к концу второго дня валькирии лихо скакали по окрестной прерии, радуясь тому, что гомеостаты избавляют их от главной беды начинающих кавалеристов. Ездить «по-дамски», хотя им и было предложено, девушки категорически отказались, а в мужском седле, как ни старайся, без до крови стёртых бёдер и шенкелей первую неделю-две не обойтись, не говоря об до синевы отбитых ягодицах. У них все эти места заживали, что называется, «в процессе», хотя сами ощущения никуда не девались.
Арчибальд, то ли замаливая грехи, то ли естественным образом избавленный от комплексов, окончательно и успешно превратился в того доброго дядюшку, роль которого ему не слишком удалась во время предыдущего «охмурения».
Он выполнял любые пожелания, отвечал на любые вопросы, деликатно держась вне поле зрения, но мгновенно оказываясь рядом, как только его звали, даже и мысленно. Вообще, старался изобразить из себя этакого рафинированного, два факультета окончившего, наряду с Удолиным кафедрой в Университете заведующего «старика Хоттабыча».
На второй вечер, например, он устроил Валерию с Настей вечернюю прогулку по майскому Парижу (мог бы и по сентябрьскому, если бы попросили). Просто указал на дверь, они её открыли и, словно из подъезда одного из старинных домиков, шагнули на брусчатку крутой монмартрской улицы, ведущей к собору «Сакре кёр». Вдобавок, для пущей романтичности, год здесь оказался тысяча девятьсот первый, самое, может быть, безмятежное и весёлое время за полтора века вокруг этой даты. В кармане у Уварова лежало несколько сотен франков, бумажками и золотом, Настя свободно владела французским, и вечер получился незабываемо прекрасным.
Там же, кстати, в ювелирной лавке на Елисейских Полях Валерий купил золотые, с алмазной осыпью обручальные кольца и наконец-то убедил невесту «обменяться».
Посмотрел на её пальчик, сказал удовлетворённо:
– Ну вот, теперь уж точно никуда не денешься…
Анастасия счастливо рассмеялась.
– Хочешь верь, хочешь нет – я сейчас точно теми же словами про это подумала…
Вернувшаяся в Замок, по общему мнению – слишком быстро – Сильвия привела с собой мужчину, увидев которого Уваров даже несколько растерялся. Это был собственной персоной генерал-лейтенант ВСЮР Берестин Алексей Михайлович. В той же полевой форме образца тысяча девятьсот четырнадцатого года, с шейным крестом ордена Святителя Николая, как он появился во главе корниловских и марковских легионов в Берендеевке, где и устроил перед Олегом Константиновичем впечатляющий парад пришедших ему на выручку войск.
Видно, что и сейчас генерал-лейтенант собрался прямо на войну: китель был перетянут полевыми ремнями адриановского снаряжения, пояс оттягивала тёмно-бежевая кобура пистолета.
Валерий инстинктивно вытянулся, чуть было не начал рапортовать, как в стихотворном переложении устава сказано: «Лишь появится начальник, он орёт во весь… что в отсутствие его не случилось ничего». Вовремя сообразил, что, во-первых, в штатском, а во-вторых – на нейтральной территории, и вообще, Берестин хоть и генерал, но совсем другой армии. Уважение оказывать положено, но и не более.
То ли Алексея Михайловича отличала такая же, как у самого Императора, фотографическая память (художник всё же по гражданской профессии), то ли Сильвия заранее проинформировала, но он протянул Уварову руку со словами:
– Здравствуйте, Валерий Павлович. Рад видеть вновь и в добром здравии. Мы, к сожалению, прошлый раз очень мало пообщались…
Мало! Просто во время представления после боя наиболее отличившихся офицеров Уваров сделал шаг вперёд, назвал фамилию и чин, а генерал так же, как сейчас, пожал руку. И всё знакомство. Потом генерал сидел за столом рядом с Олегом, а он – на самом дальнем краю, среди «геройских поручиков и штабс-капитанов».
– Надеюсь, в этот раз плотнее будем взаимодействовать, – сказал муж Сильвии, так отчего-то подумал Валерий. Вроде как принц-консорт.
Так же любезно Берестин поздоровался с валькириями и, как Валерию показалось, чересчур пристально смотрел на Анастасию, и руку её в своей руке задержал чуть дольше, чем требовала ситуация.
«Чёрт знает что начинает мерещиться. Я думал, что так называемая ревность – это не про меня».
– Ну как, получили от Замка удовольствие? – спросила Сильвия. И с понимающей улыбкой посмотрела на обручальное кольцо Вельяминовой. Когда прощались, его точно не было. Настя отчего-то страшно смутилась (такого свойства за ней, кроме Уварова, никто раньше не замечал) и спрятала руку за спину. Этого секундного эпизода никто не заметил.
– Огромнейшее. Только жаль, мы и сотой доли здешних чудес не успели осмотреть, – ответила почему-то Инга Вирен, раньше предпочитавшая, как казалось, держаться несколько на заднем плане, пропуская вперёд подруг, хотя ни внешностью, ни личной смелостью им ни в чём не уступала.
– Ещё успеете. Судя по отношению к вам сэра Арчибальда – сможете сюда ходить, как на собственную дачу, – без всякой улыбки или иного намёка на шутливость своих слов ответила аггрианка. Она моментами сама себе удивлялась. Вроде бы окончательно ассимилировалась, избавилась от прежних привычек, стала нормальной «сестрой», а вот появились эти девчонки, и сразу всплыли из-под сознания аггрианские архетипы и предрассудки. В советско-российской армии это называлось «дедовщиной», в военно-учебных заведениях царской России – «цуканьем», и в английских вооружённых силах имелся подходящий термин. Нельзя же сказать, что она завидовала их молодости, красоте и успеху у мужчин. У неё всё это тоже было, и в превосходной степени, но желание одёргивать, ставить на место, язвить при этом оставалось почти непреодолимым. Надо за собой следить, смогли ведь Наталья, Майя, Татьяна поставить себя доброжелательными «старшими подругами» или, как сами девицы их называют, «тётушками». А у тех ведь гораздо больше оснований считать себя обделёнными в сравнении с «племянницами», а Майе так вообще – «до скрежета зубовного» ревновать мужа, почти круглосуточно вращающегося среди этих «бутончиков». Или самой пуститься «во все тяжкие».
– Но всё это – потом, – сменив тон и выражение лица, продолжила Сильвия. – Пока – в Москву. Переоденьтесь в форму, парадно-выходную, без наград. Возможна Высочайшая аудиенция. Ты тоже, Валерий…
– Но у нас с собой нет, – удивлённо приподняла бровь Анастасия. – Тогда сначала в расположение надо, и хоть полчаса времени.
И она, и Инга с Марией в отсутствие аггрианки совсем расслабились. Настя на самом деле себя нормальной молодожёнкой чувствовала, ну и остальные, не стесняясь начальника, если не в костюмах для верховой езды, то в легчайших, действительно как на курорте, где-нибудь на Лазурном Берегу, платьицах щеголяли. Не всё же по двадцать килограммов железа на себе таскать и камуфляжи с ботинками-вездеходами. Жалели девушки только о том, что здесь на них и полюбоваться некому. Арчибальд – железка, хоть и кремнийорганическая, а графу всё равно, зачарованный молодой женой, он не сообразит, в чём дело, если даже они к завтраку вообще без всего выходить станут.
– Чем вы тут занимались? – не менее удивлённо спросила Сильвия. – Нетрудно сообразить: представьте, что за любой дверью – ваша ротная каптёрка. Или лучшее в Москве военное ателье. Там и обряжайтесь, во времени не ограничиваю. Ты тоже, Валерий, аналогичным образом.
В ожидании, пока Уваров с валькириями приведут себя в подходящий для аудиенции вид, Сильвия с Алексеем расположились в том самом, знаменитом, почти культовом для первых членов Братства баре с подсвеченными изнутри фотопанно в простенках. С некоторой печалью Берестин, позванивая кубиками льда по стенкам массивного стакана, смотрел на эффектную всадницу, воображённую и воплощённую Шульгиным в самом начале их эпопеи.
Снова всплыла у него в памяти фраза-вздох Карабанова: «Как хорошо было в Баязете».
– Может быть, правда, переселимся сюда окончательно, как и предлагал Арчибальд? – сказала Сильвия, поняв настроение мужа. – Велика ли разница – выходить на улицу из своего дома или вон в ту дверь, – указала она на прикрытую драпировками нишу в стене, позади и правее стойки. – Зато больше не нужно будет опасаться, что через неё войдёт кто-нибудь посторонний…
– А смысл? Помнишь, как лорд Джон Рокстон спрашивает у Челленджера: «Неужели вы собираетесь отгородиться от мирового эфира лакированной бумагой?»[47] Если кто-то захочет нас достать, достанет и здесь. Как Арчибальд выхватил вас вместе с самолётом из весьма отдалённой реальности… И, кажется, сказал, что просто спас от куда большей опасности…
– Для Замка не бывает отдалённых реальностей. Все равноценны. И, как видишь, мы сидим сейчас здесь, живые, здоровые, готовые к новым приключениям. Значит, Замок всё же понадёжнее будет укрытие, чем любое другое. Вот тебе пример на твоём, фронтовом уровне – любой ДОТ можно блокировать и уничтожить, но внутри него солдат до последнего чувствует себя намного более защищённым, чем в наскоро вырытом окопчике… И Воронцов с Натальей, видишь же, предпочитают на «Валгалле» жить, хотя тоже в любой момент могут на твёрдую землю сойти.
Берестин развёл руками, признавая, что в споре он уступает и готов согласиться с любым мнением жены. Да, он считал Сильвию своей настоящей женой, невзирая на то, что вполне был в курсе её некоторых, не слишком совместимых с «обывательской моралью» привычек.
«Ну и что? – вполне спокойно думал он. – Она прожила сто лет до меня и без меня, как умела и хотела. Не мне её перевоспитывать. Ревновать Сильвию – то же, что обычной женщине ставить в вину её эротические фантазии и сны. Это только в романе Белова муж бросил жену, когда узнал, что в заграничной турпоездке она с интересом посмотрела «Эммануэль».
Правда, ему не приходило в голову взглянуть на это глазами Константина Симонова, написавшего не вошедшие в сборники и собрания сочинений строчки:
Если бы он думал так, по-прежнему держа в памяти неслучившееся с Ириной, как бы он вообще жил? Что ни говори, Сильвия Спенсер-Берестина его не предавала и всегда готова была сделать ради него всё, что от неё зависело. Чего ещё можно требовать от жены? Вдобавок она была крайне умна и невероятно красива. Если не представлять на её месте Ирину, того ещё, восемьдесят четвёртого года…
– Ну, давай поживём. Оно, конечно, во многом удобнее.
– Вот и хорошо. Можно сюда только по ночам возвращаться. А утром – обратно. Никто ничего и не поймёт… Антон всегда так жил – пришёл, ушёл.
Берестин опять кивнул. Спросил только, почему же этот способ перемещения не вызывает тех потрясений мирового эфира, что все остальные?
– Потому что у форзейлей всё другое. Ты бы ещё спросил, почему современный автомобиль удобнее и безопаснее древней колесницы.
Ответ не показался Алексею исчерпывающим, а сравнение корректным. Никто не знает истинных данных по тогдашней аварийности. Он где-то читал про сыновей некоего древнего царя, которые как раз и разбились насмерть во время гонки на колесницах. Скорее всего, простые пользователи бились и калечились гораздо чаще коронованных особ.
Интересную тему прервало появление сначала Уварова, а потом и девушек. Действительно, приоделись они как следует. Мастерские (или синтезаторы) Замка умели работать. И ткани, и приклад, и лекала – высшего качества. И швы, само собой, идеальные. Едва ли какой-нибудь Кристиан Диор лучше обслуживал своих постоянных клиенток.
– Пожалуй… – признал Берестин, придирчиво, словно бы даже с завистью, осмотрев их форму и то, как она сидит. – Мой Иосиф Моисеевич Шнейдерман, закройщик из Севастополя, так не умеет, хотя сорок лет шьёт исключительно для штаб-офицеров и генералов. Что ли, и себе здесь заказать? Нет, не буду, не люблю появляться перед знающими людьми в необношенных вещах.
– Представьте, как на вас в положенное время будут сидеть здесь же сделанные свадебные платья! Лихие джигиты прямо из-под венца выхватят, – исполняя своё решение стать доброй и терпимой, польстила девушкам Сильвия, повергнув их в смущение не столько смыслом своих слов, как их неожиданно ласковой тональностью.
– Ну, если готовы – пошли. Вещи можете не брать, потом вернёмся… Оружие тоже, с автоматами в Кремль не пустят.
– С пистолетами можно, – уточнил Уваров.
– Ну вот их и оставьте…
Через ту самую дверь позади барной стойки, что имела в виду Сильвия, они вышли прямо в приёмную Тарханова. Постороннему наблюдателю, в данный момент – дежурному адъютанту, показалось, что просто из коридора появились визитёры, обычным образом. Поручик слегка удивился другому – он ведь не заказывал пропуск на шестерых. Правда, Уварова он знал хорошо, трёх девушек из «Печенега» видел здесь же несколько дней назад. Очевидно, начальник Управления распорядился сам, минуя обычный порядок. Гораздо больше адъютанта поразило появление генерал-лейтенанта в непривычной, но знакомой форме. Будто с киноэкрана, из фильма про Первую мировую войну сошёл.
Нет, а вдруг?! Поручик хоть сам не видел, но, как и все близкие к высшим сферам офицеры, много слышал о дивизии белых офицеров, появившихся в Берендеевке для спасения Императора. Этот генерал вполне подходил под описания. И главное – воронёного металла шейный крест, напоминающий размером и формой Георгиевский второй степени. Поручик на всякий случай вскочил, вытянулся «во фронт»[48].
– Доложи, – распорядился Уваров.
Поручик поднял трубку селектора.
Когда прибывшие направились в кабинет Тарханова, адъютант смотрел уже не на генерала, а на «печенежек» в задней проекции. Даже сухо сглотнул, слюна куда-то пропала. Лучше бы им всегда в камуфляжах на размер больше ходить, эти кителя и юбочки в обтяжку, ножки, сапожки – чересчур травмируют психику холостых офицеров. Ни за что бы не пошёл с ними служить – смотреть на эти прелести каждый день без взаимности – в уме повредиться можно. Или – наоборот, подыскать там жену, такую вот, как подполковник Уваров нашёл.
Сначала Валерий доложил о прибытии непосредственному начальнику, потом Тарханов и Секонд обменивались рукопожатиями и подобающими случаю словами с Берестиным; суровый полковник даже приложился к ручке Сильвии, удостоив валькирий всего лишь благосклонным взглядом. Чему девушки были только рады. Что значит психология – и Тарханов, и Ляхов в одном чине, в одном почти возрасте, одними делами занимаются, оба Герои, друзья-приятели к тому же, но с Вадимом Петровичем можно было и шутить, и заигрывать временами, а то и опасно приближаться к грани, за которой непосредственность переходит в простое хамство. Вести себя подобным образом с Сергеем Васильевичем никому из подчинённых в голову бы не пришло, несмотря на то, что он ни разу никому даже обычных трёх суток «губы» не объявил, что моментами считалось не столько наказанием, как знаком того, что тебя заметили. А вот так как-то получалось…
– От себя – всем благодарность выношу, – сразу перешёл к делу начальник Управления, – и сейчас все идём к генералу Чекменёву, потом все вместе – к Императору. Он ждёт.
– Поручикам тоже? – на всякий случай спросил Уваров.
– Вот именно. Государь особо подчеркнул, что желает лицезреть героических защитниц Престола и Отечества. Пожалуй, чем-нибудь и наградит. Настройтесь и проникнетесь.
Анастасия и тут чуть не задала свой коронный вопрос об остальных «участницах дела», как выражались в позапрошлом веке, но наткнулась на предостерегающий взгляд Ляхова. Действительно, частенько она стала забывать, что в армии каждый говорит только за себя, а в присутствии старших по званию и должности открывает рот только в исключительных случаях. Если, конечно, прямо о чём-то не спросят.
– Я смотрю, вы и приоделись к случаю. Ты, что ли, Вадим, предупредил? – Тарханов одобрительно прошёлся глазами по предметам обмундирования. В отличие от адъютанта в приёмной, то, на что надеты «артикулом предусмотренные» кителя и юбки, его совсем не заинтересовало. Нет, внимание он обратил, но в своём обычном стиле.
– Никак нет, Валерий Павлович подобающим видом озаботился, – с мефистофельской улыбкой ответил Ляхов.
– Давно знаю, что он молодец. Соображает обстановку. Вас, барышни, предупреждаю – если Государь соблаговолит самолично ордена прикалывать, знаете, куда – упаси бог вздрагивать, краснеть или иным способом неподходящие офицерскому званию эмоции проявлять. Вообразите себя на приёме у гинеколога. Нет-нет, я не шучу бестактно, поручик, – заметил он возмущённо сверкнувшие глаза Вельяминовой, – я вам доступным языком излагаю один из пунктов неопубликованных, но всеми понимающими людьми соблюдаемых «Правил безопасности при общении с Державными особами». Если оные соблюдать – возможно и штабсами[49] из державных покоев выйдете, и со всеми вытекающими…
Теперь уже Сильвия усмехнулась так, чтобы все девушки увидели подаваемый уже ею сигнал и осознали…
– Если всем всё понятно – начинаем движение, – распорядился Тарханов, уверенный, что дальнейшие пояснения будут избыточны.
Чекменёв, на взгляд Уварова, необычно нервничая, выслушал его рапорт словно бы без особого интереса. Явно другие заботы его сейчас обуревали. Не сказав ничего по сути, без всякого выражения скользнув глазами по валькириям, он снял трубку отдельно стоящего на специальном столике телефона с золотым двуглавым орлом на месте наборного диска. Выждал не меньше шести гудков, пока абонент соизволил ответить.
И говорил Игорь Викторович не совсем обычно, то, случалось, и на «ты» к Императору мог обращаться, а сейчас отчего-то не «Олег Константинович» даже, а – «Ваше Величество». Или порядки при дворе начали меняться, подумал граф Уваров, или снова какая-то игра на публику. Всего можно ждать.
Он вообще сильно напрягся. Слишком чётко понял, что подразумевал Тарханов, инструктируя девушек. Стиль Императора, а раньше просто «Великого князя без удела», в светских кругах был известен с давних времён. Любвеобильностью он отличался не меньшей, чем его державный прапрадед, Александр Второй. В отличие от Третьего, стопроцентно моногамного. Но, честно сказать, и деликатностью тоже: всегда давал понять очаровавшей его даме, что выбор за нею. Никогда не приставал и не мстил за невнимание, был намного выше этого. Но и дамы чётко знали, что фаворитки могут рассчитывать не только на сиюминутное удовольствие, но и на гарантированную карьеру, свою, а если есть муж, то и его тоже.
– Да, Ваше Величество. Немедленно идём. В том самом составе. Да, я так понимаю, что вопрос решён. И ещё новые обстоятельства. Есть, идём…
Хорошо, что Сильвия, великолепно поняв чувства Уварова, чуть придержала его за рукав.
– Не беспокойся. Не наделай глупостей. Веди себя нормально. Я гарантирую, обойдётся без эксцессов…
Олег Константинович ожидал «Посольство» (если считать Берестина и его жену представителями суверенного дружественного государства, то иначе и не скажешь) в гостиной для «малых приёмов», с примыкающей к ней буфетной. Задёрнутые белыми шёлковыми шторами окна выходили в Александровский сад, откуда доносились звуки развлекающего публику духового оркестра.
Император был настроен приподнято. Полученные с флота сообщения об очередной почти бескровной победе над британским флотом радовали и сулили увлекательную дипломатическую игру, ничуть не менее азартную, чем преферанс или покер.
Не вдаваясь в подробности, Император удовлетворился словами Чекменёва о том, что представляющиеся по этому случаю поручик Вельяминова и подпоручики Вирен и Варламова (на алфавитную монотонность их фамилий он внимания не обратил), а также подполковник Уваров сыграли в посрамлении «просвещённых мореплавателей» выдающуюся, если не сказать – решающую роль.
– Хорошо, потом в деталях расскажете, – демонстрируя «высочайшее благоволение», Олег Константинович рассматривал валькирий с поощряющей, можно сказать, что и радостной улыбкой. Девушки отвечали самым высоким стандартам, да вдобавок и форма на них сидела великолепно. А все Романовы очень любили форму и благоволили к умеющим её правильно носить.
Император тут же вспомнил, что уже слышал фамилию Вельяминова в связи с одесскими делами Чекменёва. Тогда ещё Чекменёв не захотел награждать Уварова, в воспитательных якобы целях, а он, Император, пообещал, что сам решит этот вопрос, да ежедневные и обязательно неотложные дела отвлекли. Теперь случай представился.
Сильвия изо всех сил концентрировала на самодержце свою ментальную силу, мизерную, конечно, в сравнении с тем же Удолиным, но на близком расстоянии, притом что ей уже доводилось входить с Олегом в психический резонанс, – вполне достаточную. И о тантрических практиках она тоже была осведомлена. Ещё в молодости, при жизни королевы Виктории, в бытность молодой вдовой, миледи специально посещала Индию, храмы Каджурахо, беседовала со жрецами, а особенно жрицами этого непонятного и даже отвратительного простым европейцам культа (всё ж таки на дворе был ещё пуританский, ханжеский, лицемерный девятнадцатый век). Кое-чему научилась, и для личного пользования, и для служебного тоже.
Сейчас она использовала тантрические формулы «с обратным знаком», гася и нейтрализуя у Императора его неуёмную сексуальную энергию и почти детское любопытство почти к каждой симпатичной особе. Прошло не более трёх минут и – подействовало. На лицо Олега Константиновича набежала тень, потом отразилось недоумение. Он ещё раз пристально всмотрелся в прикрытые выше колен узкими синими юбками ноги девушек, перетянутые ремнями талии, и выше тоже, вплоть до направленных ему прямо в переносицу, согласно уставу, трёх пар глаз.
Рассеянно пожал плечами и как-то торопливо, скомканно завершил процедуру награждения. Уваров удостоился наконец «Георгия» третьей степени и, соответственно, полковничьих погон. Девушки получили по четвёртой, но и то это было очень и очень много. В отряде ещё никто не заслужил заветный беленький крест. Анастасия выросла до штабс-капитана, её подруги стали поручиками.
Процесс собственно награждения тоже прошёл спокойно, у Императора не дрогнула ни чёрточка на лице, и девушки ухитрились не покраснеть, хотя на идеально облегающих кителях застёгивание тугих булавок орденских колодок заняло некоторое время.
«Вот что значит оказаться в нужное время в нужном месте», – к месту вспомнила Вельяминова довольно затёртое присловье. Надо же, не прошло и двух лет, а аггрианская курсантка без реальных жизненных перспектив (которой вообще-то полагалось бы давно лежать в торопливо засыпанной и кое-как обозначенной могиле) честно дослужилась до четырёх звёздочек, высшего ордена Империи, а скоро вдобавок станет (в юридическом смысле) графиней и женой лучшего на свете человека и офицера…
Вот так Империя умеет превращать людей самых разных национальностей и «прав состояния» в своих «без лести преданных слуг».
По предложению Олега Константиновича выпили по бокалу голицынского шампанского за «свежих кавалеров», в большинстве своём – дам.
– Подожди, Игорь, я помню, ты говорил, что девушек в группе работало семь, – сказал самодержец, вертя в пальцах бокал. – Где остальные?
– С ними всё в порядке. Продолжают выполнение задания.
– Этого же?
– Так точно.
– Пиши указ о награждении. Аналогично. Когда закончат, пришлёшь ко мне.
Секонд за спиной Императора сделал Анастасии жест, означающий: «Видишь, а ты боялась…»
Олег указал вестовому, чтобы снова наполнил бокалы.
В это время Чекменёв уже начал докладывать, что формальное согласие российского Президента на использование дружественных войск для ликвидации мятежа и заговора получено. Теперь требуется высочайшее разрешение на использование отрядов «Печенег» и штурмгвардии за пределами государственных границ.
– Неточно выражаешься, – походя упрекнул своего верного паладина Олег. Государь Пётр Алексеевич говорил: «Не держись Устава, яко слепой стенки». К формулировкам самого Императора это тоже относится. Мы ведь за границы не собираемся! Пиши – «на территории сопредельного дружественного государства». Так будет в полном соответствии… А когда с непосредственной задачей справимся, тогда я уже настоящий Манифест о воссоединении братских народов сам сочиню…
– Как бы новая Переяславская Рада, – понимающе кивнул Чекменёв.
– А то и посерьёзнее, – подтвердил Олег. – Только смотрите там, постарайтесь обойтись без жертв среди мирного населения…
– Все предусмотрено, Ваше Величество.
– Вот и хорошо. Слушай, вот ещё что…
Император скользил глазами по валькириям и прочим приглашённым, и видно было, что его беспокоит некая заноза, не то в душе, не то в сердце. Как бывает, когда говоришь с хорошо знакомым человеком и не можешь вспомнить, как его зовут. Вот и сейчас он точно знал, что, когда награждаемые офицеры ему представлялись, им владела какая-то весьма важная мысль. Ещё раз вгляделся в лица Уварова и его подчинённых, будто надеясь найти ответ у них. Нет, ничего, никакой зацепки. Разве, может быть, вот это?..
– Знаешь, Игорь, не совсем хорошо получается. Без меня меня женили называется. Это я о наших будущих «товарищах по оружию». Давай так – доставь сюда прямо сейчас этого Президента, я ему по-хорошему, по-братски скажу, что мы начинаем…
– Есть, Ваше Величество, немедленно доставлю…
– Вот и езжай, вези.
– Прошу прощения, пусть это сделает полковник Ляхов. У него лучше получится, не так официально. Зачем лишний раз человека нервировать?
– Тебе виднее. Тогда езжай ты, полковник. Одна нога здесь, другая там, – он посмотрел на часы. – Отнюдь не поздно, одиннадцатый час всего. Самое время для дипломатии. Вы, господа офицеры, свободны. Ах да, подождите. Вам ведь опять на задание отправляться? Их отряд участвует? – спросил он у Тарханова. Видно было по глазам и выражению лица, что забытая мысль продолжает его терзать.
– Так точно, Ваше Императорское Величество, в полном составе.
– Что ж. Будьте осторожны и разумно смелы. Надеюсь вскоре увидеть вас снова. Уверен, со следующим столь же приятным поводом для встречи вы не заставите себя ждать. Ляхов, проводи. Всем – три дня отпуска. Так, полковник? – это уже к Тарханову.
– Так точно, трое суток с выездом за пределы города, если потребуется. Но – после завершения операции. Сейчас никак невозможно.
– После завершения они, может, сразу по десять заработают, не считая дороги, – пошутил Олег.
Новопроизведённые офицеры вышли в сопровождении Ляхова, и Императору вдруг стало легче. Заноза исчезла. Он никак не связал это с тем, что из его поля зрения исчезли девушки со всеми своими факторами. Просто вздохнул, прогоняя наваждение, и отнюдь не заметил скользнувшей по губам Сильвии мгновенной усмешки.
Всё отлично получилось, подумала миледи, и с девчонок, и с самого Уварова очень даже причитается. И одновременно её осенила очередная гениальная идея. В конце-то концов хоть одну «валькирию» (она всегда произносила термин в отчётливо слышимых кавычках, то с юмором, то с иронией или сарказмом – зависимо от настроения) можно попробовать использовать «по назначению», то есть в той роли, которая для каждой из них подразумевалась. Остальных девочек, успевших завести себе женихов или хотя бы ощутивших желание реализовать свои романтические чувства (неизвестно, каким образом у всех семерых оказавшиеся превалирующими над разумным практицизмом), от внимания Олега Константиновича она избавила, пусть сами разбираются, как жить. А вот над тем, чтобы попробовать сделать фавориткой (причём постоянной, не говоря о большем) Ингу Вирен, стоит подумать.
Сама Сильвия, естественно, в обозримый период времени внимания Императору уделять не сможет. А вот из нордической красавицы, самой из всех спокойной и на вид даже флегматичной (но если очень внимательно присмотреться – можно обнаружить черты и ухватки, напоминающие пантеру Багиру из мультфильма «Маугли»), сотворить новую «принцессу Фике»[50] – задача очень увлекательная. Давненько леди Спенсер такими делами не занималась. Любопытно, не утратилась ли хватка, тут ведь интрига намечается – высший пилотаж!
– Ну что, остались только свои? – спросил Император, не подозревающий пока, какая судьба ему уготована. – Тогда пройдёмте, поговорим о деталях, – движением головы он указал на неприметную дверь за портьерой.
Да, все свои, хотя и немного по-разному: Чекменёв, Тарханов, Берестин, Сильвия. Двух последних можно воспринимать сразу в нескольких качествах, беря за главное то одно, то другое, по обстоятельствам и настроению.
Из доклада Чекменёва, прямо в буфетной наладившего заранее доставленный сюда проектор с микрофильмами карт, схем и таблиц, следовало, что обстановка и в той и в другой России за последние сутки кардинальным образом изменилась и все концы, получается, завязаны на «Мальтийский крест». Эта, поначалу довольно локальная по замыслу операция вдруг стала таким же геополитическим узлом планетарного значения, как Верден в Первую и Сталинград во Вторую мировую войны.
Тот не слишком частый случай, когда буквально несколько лишних дивизий или даже только нетривиальное полководческое решение могли создать ещё одну чёткую историческую развилку. Так, решись Николай Второй в разгар наступления Юго-Западного фронта летом шестнадцатого года передать Брусилову командование остальными двумя Западными фронтами, исход всей войны мог бы решиться до нового, семнадцатого года, со всеми вытекающими последствиями. Царская подпись на таком приказе сыграла бы роль пресловутого минимально необходимого воздействия.
– В чём аналогия? – спросил Олег, любивший предельную чёткость и конкретность.
– В том, что от вашего решения сегодня зависит так же много, если не больше. Превращение победоносной операции в Галиции в общее наступление трёх фронтов, поддержанное даже только сковывающими действиями союзников по Антанте, могло бы привести к завершению войны ещё до конца шестнадцатого года. Это сопровождалось бы оккупацией большей части азиатской Турции, аннексией Царьграда и Проливов. В нашем случае успех даже первого этапа «Креста» будет означать кардинальную смену геополитической обстановки сразу в двух мирах. После завершения второго мы сможем перейти к проведению совершенно независимой внешней политики и у нас, и там, у них.
Чекменёв неопределённо махнул рукой, поскольку не знал, какое направление указать. Та Россия была вокруг и внутри этой, равно как и наоборот. Даже в этом самом помещении сейчас кто-то находился или мог находиться, и люди проходили друг сквозь друга, не создавая никаких неудобств, никаких позитивных или негативных ощущений. Впрочем, это как раз и неизвестно. Очень может быть, что взаимовлияние миров очень велико, только незаметно и непонятно.
– Сейчас вы поставите Президента в известность о том, что наши спецподразделения в сопровождении и при помощи его людей войдут в Москву и в течение суток, я полагаю, наведение порядка будет закончено…
– Чьего порядка? – с интересом спросил Олег.
– Я так полагаю – общепринятого, – вдруг вмешался Берестин. – Когда будут устранены и изъяты (по законам военного времени, прошу заметить, и неважно, будет на это согласие ныне бездействующей власти) все причастные к попытке переворота персонажи, мы можем вернуть Президенту, Правительству, Думе теоретически принадлежащие им прерогативы. Судебные процессы и реорганизацию властных структур они смогут проводить по своему усмотрению, но под нашим контролем.
– Это, по-вашему, Алексей Михайлович, не называется именно оккупацией?
– Назвать можно как угодно, Олег Константинович. Когда в сорок пятом году союзники, после подписания немцами и японцами безоговорочных капитуляций, проводили там денацификацию и иные демократизирующие процедуры, это оккупацией называлось. Поскольку армии воевавшего противника капитулировали, а государственность распалась. Когда мы в семьдесят девятом году вводили войска в Афганистан по просьбе тамошнего законного правительства, это называлось «интернациональной помощью». Давайте назовём наше мероприятие «национальной» или просто «братской помощью», а оценивать справедливость такого термина и вообще правомерность наших действий предоставим историкам будущего.
– Очень хорошо сказано. Полностью с вами согласен, – хлопнул сильной и одновременно изящной ладонью по столу Олег. В смысле физической силы он не уступал предкам Александрам, Второму и Третьему.
– А ваша Югороссия не собирается к ним тоже свои овеянные славой дивизии вводить?
– Пока речи об этом не было. Едва ли целесообразно. Я не только введение войск, я и логически вытекающую конвергенцию имею в виду. Всё же почти столетняя разница в культуре и психологии. Хотя что-то вроде шенгенских виз и для наших граждан можно придумать. Но это вопрос не сегодняшнего дня. Лучше определиться, какие контингенты будут направлены от вас.
Перед тем как определяться, Император предложил перекусить, что означало всё то же «Белое хлебное вино» с чёрными сухариками и солёными огурчиками для мужчин и коньяк с шоколадом, за неимением в буфете джина, для Сильвии.
А тут вскоре и Секонд обернулся, доставив Президента в сопровождении Мятлева, поскольку вопрос касался непосредственно его сферы.
После нескольких протокольно-дежурных фраз, какими положено обмениваться главам союзных государств (хотя никаких договоров ещё не было заключено), Император и перешёл именно к этому вопросу. О необходимости составить, заключить и подписать хоть какую-то предварительную бумагу, которую можно будет предъявить общественности обеих стран, ну и мировым сообществам, если вдруг потребуется.
Президент после событий на даче и суток, проведённых в этой Москве, выглядел совсем не так самоуверенно, как при первой встрече. Зато гораздо спокойнее. Не только решил всё для себя и страны, но и смирился с этой перспективой.
– Что вы подразумеваете? – спросил он.
– Ну, что-то в этом роде: «Мы, высокие договаривающиеся стороны в лице «имярек»[51] заключили настоящее соглашение тогда-то и там-то. Движимые тем-то и тем-то Стороны обязываются оказывать друг другу немедленную и безвозмездную помощь в случае, если каждая из них явится жертвой внешней агрессии или внутренних беспорядков, справиться с которыми своими силами не в состоянии…» Пусть Ляхов, он у нас академик, и ваш представитель сядут и изложат, как положено. А мы посмотрим, да и подпишем. Времени очень мало. Мои бойцы готовы выступить к вам…
Олег вопросительно посмотрел на Тарханова.
– Шесть отрядов «Печенег» с полным снаряжением смогут выступить через два часа. Два батальона штурмгвардии – через три. Места переправы подготовлены. На месте их уже ждут. Что касается армейских частей – не моя компетенция.
– Кто будет командовать сводной бригадой?
– Предлагаю поручить полковнику Уварову. У него достаточный опыт, а теперь и чин. Труднее, чем в Варшаве и под Берендеевкой, в Москве не будет. Тем более – планируем придать ему несколько военных советников из местных, тоже вполне подготовленных.
– Отставить. Командовать будешь ты. Ляхов – начальник штаба. Уварова используйте по своему усмотрению. Он хорош в роли начальника «пожарной команды». Генерал Чекменёв считает, что самостоятельные роли такого уровня ему поручать рано…
– Ваше Величество, я… – попытался возразить Игорь Викторович.
Он как раз планировал противоположное – Уварова командиром, а Тарханова или Ляхова приставить к нему в роли представителей Ставки Главного командования.
– Поздно спорить. Я твоё мнение о графе учёл и принял решение. Посмотрим, что получится.
Что подтолкнуло Олега к такому варианту, было никому не понятно. Совсем ведь недавно он спорил с Чекменёвым с противоположной позиции, защищая право графа на самостоятельность и инициативу. Кроме, может быть, Сильвии. Император – любитель импровизаций, возможно, имеет на Уварова и его подразделение собственные, до поры не разглашаемые планы. Никак он не мог забыть Берендеевку и роль Валерия в её защите. Берестин со своей дивизией позже подошёл, а то ведь только рота отчаянного капитана держала фронт…
Президент и Мятлев сидели с растерянными и расстроенными лицами. Действительно, получается, что их здесь в грош не ставят, как в своё время американский посол диктаторов банановых республик, вроде Гватемалы или Гондураса. Хорошо же начинается «сотрудничество».
Но не таков был Олег, чтобы допускать подобные бестактные проколы. Он действительно собирался соблюдать в отношении «коллеги» принцип полного равноправия. Тот ведь ещё не догадывается, что имеет на руках весьма сильные козыри и самому Императору в скором времени предстоит идти к нему на поклон.
– Все эти силы и моих лучших солдат я передаю в ваше оперативное подчинение, дорогой Георгий. Своего генерала, – он указал на Мятлева, – можете назначить верховным координатором операции. Ему с удовольствием поможет как бы нейтральное лицо: генерал-лейтенант Берестин является начальником полевого штаба Верховного правителя суверенной республики Югороссия, он сейчас к нам прямо из тысяча девятьсот двадцать пятого года. Но, несмотря на возраст, – позволил себе элегантно пошутить Его Величество, – Алексей Михайлович выдающийся стратег и, насколько мне известно, ваш соотечественник и в какой-то мере современник. Прошу любить и жаловать.
У Президента голова окончательно пошла кругом, и Олег Константинович, сам переживший некогда определённое потрясение от знакомства с новой картиной мироустройства, снова кивнул Чекменёву. Давай, мол, «гвардейский тычок»[52].
– В какой мере? – спросил Президент, прожевав почти силой предложенный Мятлевым огурчик, вообще-то удивительно вкусный. Секрет специально на то поставленного засольщика.
– Да родился я в Москве, ещё при жизни Сталина. И дожил там почти до Горбачёва. Потом – обстоятельства… Пришлось постранствовать. Но за обстановкой дома слежу. Ваших, как, впрочем, и горбачёвских ошибок точно не сделал бы, – абсолютно неполиткорректно ответил Берестин.
– Отчего вы так уверены? – заступился за друга и начальника Мятлев. – Всякий мнит себя стратегом…
– Алексей Михайлович, прошу заметить, всё ж таки выиграл в той ветке, что образовалась после гибели генерала Корнилова, Гражданскую войну, – как бы вскользь вставил Секонд.
– Всё, господа, некогда нам в историю углубляться, – пресёк Чекменёв готовую начаться очередную дискуссию об альтернативной истории. – Времени нет. Ляхов, вы проект договора что, ещё и писать не начали?
– Так точно, то есть никак нет, начал. И даже закончил…
Вадим вынул из планшета заранее отпечатанный и оформленный с соблюдением всех бюрократических и дипломатических тонкостей документ. В двух экземплярах, на гербовой бумаге и, как выражаются писаря, с «заделанными подписями».
– Извольте ознакомиться…
Сначала бумагу просмотрел Чекменёв, потом Мятлев, Император сделал отстраняющий жест, я, мол, и так всё знаю, мне читать незачем. Укажите, как нормальному генералу, пальцем, где подписывать – и достаточно.
Зато Президент читал внимательно, будто мелкий шрифт условий кредита без поручителей изучал.
В целом, кажется, возражений не имел, только, дойдя до пункта седьмого, приподнял бровь, потом задал вопрос:
– А вот это – как понимать?
Прочитал вслух:
– «Вооружённые силы осуществляющей помощь стороны должны быть выведены с территории союзника немедленно (в случае получения такого предложения) или по завершении заранее обусловленной задачи (или оговоренных сроков), с учётом реально складывающейся обстановки, технических условий и практических возможностей».
– То есть всё-таки оккупация на зависящий только от «оказывающей помощь стороны» срок? Всегда можно сослаться на «складывающуюся обстановку».
– Вы в армии служили? – спросил Император, положив на край пепельницы сигару, только что увлечённо раскуриваемую.
– Не пришлось, – развёл руками Президент.
– Жаль. Ну вот вам вводная. Наш, допустим, корпус ведёт войсковую операцию по защите ваших интересов на Кавказе, в Закавказье или на Памире. Предположим, зимой. Вдруг вы сепаратно, за нашей спиной договариваетесь с инсургентами или внешним агрессором и требуете, чтобы в недельный срок мои войска покинули район боевых действий. А Сурамский перевал, Рокский тоннель, Военно-Грузинская дорога завалены снегом и непроходимы. Большая часть корпуса связана операциями батальонного и полкового масштаба на двухсоткилометровом фронте. Часть войск отрезана или блокирована в местах расквартирования, часть находится в постоянном огневом контакте. Я вам даю ознакомиться с рапортом комкора, что до мая вывести войска организованно и без потерь невозможно. Сейчас ноябрь. Солдаты просто вынуждены будут ещё полгода сражаться в полную силу, просто в целях собственного выживания. Ваши действия?
Президент опустил глаза. На таком уровне он разговаривать не привык со своих студенческих времён. После этого научился все вопросы решать политкорректно, нередко – «по понятиям», но ни местные, ни зарубежные партнёры, не говоря о подчинённых, не ставили его перед необходимостью отвечать быстро, прямо и однозначно, заведомо отметая всякую амбивалентность[53]. Нормальный кантовский принцип «исключённого третьего», как и слова Христа: «И пусть слова ваши будут да – да, нет – нет. А остальное от лукавого», – Президент давно забыл.
– На войне «но» не бывает. Я спросил – согласны ли вы с тем, что реальные обстоятельства, технические возможности да и вопрос простого выживания личного состава могут войти в противоречия с вашим сиюминутным желанием или капризом?
– Конечно, спорить трудно. При такой постановке…
– Другой и не будет. Я мыслю конкретными категориями. И вам советую делать также. Жизнь стремительно меняется, и прежней никогда уже не будет. Большинство людей до августа четырнадцатого года этого не понимали, за что и поплатились. Продолжим. Я так понял, что вы пришли ко мне, морально готовые к тому, что до наведения порядка боевыми действиями руководить будут всё-таки мои люди, а ваши – им всемерно содействовать. Надеюсь, ненужных разногласий до тех пор, пока к вам вернётся вся полнота власти, мы постараемся избегать. Итак, Сергей Васильевич, доложите предварительные соображения по выдвижению и развёртыванию…
Секонд и Мятлев вдвоём вышли в небольшой коридорчик, откуда винтовая чугунная лестница вела вниз, к центральному вестибюлю, мимо него и ещё ниже, к тамбуру, выводящему на неприметное боковое крыльцо. Леонид Ефимович настоял на том, что он должен лично увидеть встречу «переходящих границу» передовых отрядов с теми, кого Фёст по спецсвязи, явно развлекаясь даже в таких обстоятельствах, назвал ядром своей личной Армии Крайовой[54]. Мятлев понял, в чём соль, а Секонд – не совсем.
Стали на ступеньках, в освещённом одиноким фонарём пространстве между дверью и высоким каменным парапетом. Опять, по инерции, одновременно достали сигареты, закурили, вдыхая дым пополам со свежим, пахнущим близким дождём и палыми листьями воздухом.
– Ничему не удивляйся, интересного, равно как и непонятного, впереди много. Сейчас мы вместе с Тархановым едем на базу «печенегов». Президент пока остаётся в Кремле. Они с Чекменёвым будут отслеживать текущую обстановку. На базе переодеваемся, вооружаемся и вместе с войском переправляемся к Фёсту, Герте и Людмиле. На месте посмотрим, есть там хоть какой собственный резерв сопротивления. Мы-то в любом случае справимся, но лучше б вы сами… – сказал Секонд.
– Фёст это раньше тебя понял.
– В смысле?
– Когда про АК сказал. Надо бы тебе «Пепел и алмаз» посмотреть, для расширения кругозора. – Сам Мятлев начиная с детских лет смотрел этот фильм раз десять, наверное. И другие подобные тоже, так что польские расклады тех времён знал хорошо. – Суть в чём – когда эти самые аковцы поняли, что сами страну и даже Варшаву освободить от немцев не сумели, они начали мстить не оккупантам, а освободителям. Такой вот психологический парадокс, «стокгольмский синдром» наоборот. Поэтому очень я надеюсь достаточно собственных сил на борьбу мобилизовать. Лучше всего, если до победы о вашем существовании широкие массы вообще не узнают. Вот после…
По ступенькам почти бегом спустился Тарханов. И одновременно из темноты за углом выехал его персональный полуброневик-полулимузин высокой проходимости со сдвинутой к корме невысокой рубкой пулемётной спарки.
– Ого! Солидно. Вы что, на нашу сторону на этом ехать собираетесь? Впрочем, почему и нет? Сойдёт за какую-нибудь очередную экзотическую покупку нашего министра обороны.
– Садитесь, поехали, быстренько, – сразу заторопил их Тарханов. Ему в кои веки довелось лично возглавить военную операцию глобального, без шуток, масштаба (в перспективе, конечно), и он был по-хорошему возбуждён.
– Давай, гони по осевой и сирену включай. Уваров позвонил только что, через десять минут назначил построение. Скоро, наверное, и штурмгвардия доложится…
Глава седьмая
Хворостов и его люди были окончательно сражены, не только утратили остатки скепсиса, но и преисполнились энтузиазма, когда на поляну и на ведущие к ней и от неё просеки начали повзводно выходить сначала «печенеги», а за ними и выглядящие гораздо грознее штурмгвардейцы. Сразу, как писали Ильф с Петровым, «стало шумно и весело».
Девушки, при всех их способностях – штучный товар, что ни говори, и морпехи дело хорошее, но ведь взвод всего. С такими силами перехватить выпавшую из рук, но ещё не долетевшую до земли власть не слишком реально, даже учитывая две-три сотни своих надёжных людей, которых ещё нужно собрать и чем-то вооружить.
А тут весь лесопарк чрезвычайно быстро наполнился очень убедительными парнями в незнакомой форме и с напоминающим о годах Отечественной войны оружием.
В избе лесничего собралось много начальников самого разного рода и «хронологической принадлежности». Сразу пять полковников, считая Фёста и Хворостова, два подполковника, Закревский и Эргарт – комбаты штурмгвардии, шесть капитанов, возглавлявшие роты «печенегов». Прямо хоть ремейк картины «Военный совет в Филях» пиши.
Остальные офицеры двух Россий, ротные и взводные, которым полагалось бы здесь присутствовать, просто не поместились в небольшом помещении. Расположились на крыльце, на лавках у стены, под широким навесом у обращённого к лесу торца дома.
Некоторая путаница в головах у не слишком хорошо разбирающихся в исторических тонкостях офицеров и с той, и с другой стороны возникла лишь оттого, что одинаковые знаки различия в двух армиях обозначали несколько другие чины, в остальном же взаимопонимание и в избе, и на поляне наметилось полное.
Как водится, первым делом обменивались куревом, немедленно вынося оценки качеству табачных изделий. Добровольцы Хворостова, не побывавшие на заводе, с крайним вниманием отнеслись к присутствию в рядах «братьев по оружию» целой сотни хоть и суровых на первый взгляд, но весьма милых при ближайшем знакомстве девушек, которых тоже весьма заинтересовали коллеги-мужчины из чужого мира.
Фёст, отвыкший от армейского многолюдья, сразу почувствовал себя как дома, в родной семье. Если с тобой около тысячи хорошо вооружённых, надёжных ребят, совсем иначе себя ощущаешь, чем одинокий разведчик в Диком поле.
Попытка Уварова как-то уберечь девичью роту от излишнего, неуместного сейчас внимания закончилась безуспешно, притом что формально он был прав: сто девушек в окружении тысячи мужиков, собравшихся на войну, – сильно дестабилизирующий фактор. Хотя бы в том смысле, что заболтаются на не имеющие отношения к службе темы так, что и команд не услышат. А то и военные тайны начнут выдавать.
На не менее важный момент обратила внимание всё та же вездесущая Темникова, здорово раздосадованная, что Вельяминову и двух её «сестричек» принимал Государь, «из собственных ручек» прицепил «Георгиев» и дал по очередной звёздочке. Она твёрдо решила, что в предстоящем деле непременно догонит Настьку, ставшую уже штабс-капитаншей, и хоть через влиятельных родственников, но добьётся, чтобы её, а не будущую «графинюшку» поставили ротной вместо Полусаблина, уже, по достоверной информации, подавшего рапорт.
– Прошу, господин полковник (новый, настоящий чин графа она произносила совсем с другой интонацией, чем вежливое титулование обычного подполковника), распорядиться выставить вокруг нашего расположения патрули в радиусе ста метров.
– Зачем? – не понял Уваров.
– Затем, что девушкам, прошу прощения, в кустики желательно отлучаться без ненужных свидетелей, – дерзко глядя командиру в глаза и несколько вызывающе улыбаясь, ответила Темникова.
«Ах ты, зараза, – подумал Валерий. – Но я тебе не бедняга Полусаблин, которого вы своими подъё… довели до импотенции». Эту печальную новость Уварову военврач Терёшин (по довольно категоричной просьбе Валерия всё же переведённый из ТуркВО и назначенный начмедом бригады) сообщил, и не было в этом никакого нарушения «врачебной тайны», так как врач обязан докладывать по команде обо всех случаях заболеваний и ранений личного состава, даже самых деликатных, независимо от звания, должности и пола.
– Так точно – разрешаю. При этом возлагаю на вас личную ответственность на поддержание прилегающей территории в должном санитарном и эстетическом состоянии. Никаких «кустиков».
Проще говоря, теперь Арине в награду за инициативу предстояло приказать энному количеству девиц из своего взвода вооружиться саперными лопатками, отрыть, согласно уставу, положенное количество ровиков и следить, чтобы в их использовании соблюдался положенный порядок.
Получив уставной же ответ слегка разочарованной и прилично разозлённой дамы, Уваров поднёс ладонь к козырьку со словами:
– Не смею более задерживать, – и отправился по более важным делам.
На ступеньках временного штаба он столкнулся с бывшим поручиком, теперь штабс-капитаном Щитниковым: с ним они вместе воевали в Польше, участвовали в рейде на Радом, встречались с некробионтами из «бокового времени». Обрадовались встрече, приобнялись, отошли в сторонку.
– Далеко ты меня обогнал, – сказал Щитников, подразумевая две золотистые полоски без звёздочек между ними на камуфляжных погонах Валерия.
– Только час назад Государь лично удостоил, – не стал скромничать Уваров, – ещё и приказа нету.
– А мне никак не доведётся с ним лично встретиться, парой слов перекинуться… – с театральным вздохом развёл руками товарищ.
Да, Уварову везло, тут не поспоришь. Дважды лично с Олегом встречался, и каждый раз тот ему «снимал звёздочки», сначала штабс-капитанские, теперь подполковничьи. И вручал очередной крест. Конечно, всем давно известно, что процентов восемьдесят фронтовиков заслуженных наград не получают: то свидетелей подвига не оказалось, то наградной лист в канцеляриях затерялся случайно, то вполне намеренно старший начальник его перечеркнул и в корзину выбросил. С самим графом так пять лет подряд было. Вдруг чёрная полоса на белую сменилась – раньше, чем убили или с горя запил по-чёрному.
– Ничего, Володя, в этот раз имеешь шанс не только от нашего императора что-то поиметь, но и от чужого тоже. Ты кем сейчас?
– Начштаба батальона.
– Значит, в списки точно попадёшь…
– А ну, давай, изложи поподробнее, мы ж ничего, кроме команд «В ружьё» и «По машинам», пока не слышали.
– Минут через пятнадцать-двадцать расскажут. Сейчас прости, тороплюсь. Обещаю – жив буду, лично прослежу, чтобы тебя на первой странице Наградного листа напечатали[55].
– Вот спасибо, ваше высокоблагородие. За мной тоже не заржавеет, в штурмгвардии проставляться умеют.
В комнате как раз шёл спор насчёт экипировки. Мятлев утверждал, что гораздо лучше переодеть всех участников операции в единообразную форму местного образца, во избежание ненужных эмоций и ассоциаций. Фёст, в свою очередь, доказывал, что при том разнобое в обмундировании многочисленных российских силовых ведомств и организаций, когда даже ветеринарный надзор имеет собственные мундиры и знаки различия, обычным гражданам совершенно наплевать, в чём именно будут одеты бойцы, проводящие быстротечные точечные мероприятия в разных концах города.
– Погоны у нас одинаковые, трёхцветные шевроны тоже, говорим на одном языке. Другое дело – перевооружиться как раз стоит. «ППС» и «ППД» вызовут гораздо больше недоумения, и как раз у знающих людей. А у нас две трети населения – знающие. Это вам не цвет и рисунок пятен на камуфляже. Тем более нужно, на всякий случай, иметь при себе что-то посолиднее автоматов и ручных пулемётов. Хотя бы для психологического воздействия.
– Вот именно, психологического! Я помню, как Ненадо с фон Мекком из гранатомёта по танкам в упор стреляли. Чистая психология, – усмехнулся Секонд.
– Точно знаю, недалеко от Наро-Фоминска есть дивизионные базы хранения, – не ответив аналогу, продолжил Фёст. – Обслуги там от силы две-три роты технарей и интендантов. За десять минут разберёмся. Но лучше бы вообще по-хорошему договориться. У кого на окружное или какое-то ещё командование выходы есть?
При этом он посмотрел на Хворостова. Но отозвался Мятлев:
– Я попробую. Есть у меня знакомый генерал в министерстве. Как раз артвооружением ведает. Вроде нормальный парень.
– Выйдем, – сказал Фёст.
Звонить при всех с помощью «портсигара» ему не хотелось, а по другой связи – едва ли получится найти нужного человека в полвторого ночи, тем более что сотовая связь постоянно то появляется, то исчезает, скорее всего, исходя из нужд и целей мятежников. А по проводам даже совсем дурак на такие темы говорить не станет.
Зато блок-универсал, как это уже вчера подтвердилось, пробивает и на выключенный мобильник, и на аппарат с обрезанными проводами. А несколько нужных номеров этого человека у контрразведчика были.
Они перешли через заполненную «печенегами» поляну, сели на заднее сиденье одного из «Самшитов», полускрытых кустами лесной опушки.
– Давай, диктуй, – предложил Ляхов, откидывая крышку блока.
По четвёртому из набранных номеров наконец удалось дозвониться. Так и есть – телефон был выключен, а сам генерал проводил время в баньке за преферансом. Можно было бы даже посмотреть, с девочками или нет, но Вадима это сейчас не интересовало. Главное, что человек был практически трезв, судя по голосу.
– Оставайтесь на линии, с вами будут говорить, – деревянным голосом сказал Фёст и передал прибор Мятлеву.
– Привет, Саша, это Леонид. Извини, если отвлёк.
– Какого чёрта? Как ты соединился? Я специально выключился, чтобы отдыхать не мешали. Тьфу, бля, совсем забыл, где ты работаешь. Что случилось?
– Как вокруг тебя обстановка?
– Хреново, можно сказать. На мизере две взятки схватил.
– Это ещё не хреново. Вот если бы штук семь. Но я в несколько другом смысле. О дневных событиях что-нибудь знаешь?
– Каких событиях? Мы с утра отдыхаем компанией. Не поверишь – лично замминистра три отгула разрешил. А у меня их, наверное, с полсотни…
– Только тебе разрешил?
– А в чём вопрос? Нет, не только мне. Вот из моего управления двое, а ещё двое – из внутренней контрразведки…
– Везёт же, – сказал Мятлев, а сам подумал, что замминистра неглуп, хотя и сволочь. Хороший способ придумал неудобных генералов из игры вывести. И сажать не надо, в предвидении будущего – мало ли, кто пригодится, и под ногами путаться не будут с ненужными эмоциями.
– И где ты сейчас?
– Есть тут хорошие заводи на Протве, не доезжая Обнинска. Рыбки половили, попарились, теперь «сотку» расписываем. Телик, радио и не включали, у нас на плеерах музыки навалом.
Мятлев вздохнул облегчённо. Ну, повезло, кажись! Куда больше повезло, чем он рассчитывал. От названного товарищем места до интересующей их базы примерно одинаковое расстояние, причём – по одной директрисе.
– Ты стоишь, Саша?
– Ну! И даже без штанов. А что?
– Сядь сначала…
После чего сообщил о попытке государственного переворота, так и сказал – «Форос-два». Генерал Теряев парень сообразительный, ему долго объяснять не надо. И август девяносто первого хорошо помнит. А также знает, что Мятлев с Президентом на «ты», однокорытники[56], можно сказать.
– Ну с Форосом не вышло, Президента мы эвакуировали в надёжное место, сейчас собираем верные нам силы, завтра думаем зайти «под длинную масть без хозяйки»…[57] Доходчиво?
Слышно было, как на той стороне «провода» собеседник, прикрыв трубку рукой, что-то кому-то говорит.
– Потом советоваться будешь, – прибавил громкости и металла в голосе Мятлев. – Ты с нами или как?
К чести генерала, он ответил, не задумываясь:
– С вами, конечно. Других вариантов не вижу. Что нужно делать?
– Второй вопрос – база возле Бекасово тебе подчиняется?
– Само собой. Что надо?
– Десятка три «Уралов» или в этом роде, полторы тысячи «калашей» и сопутствующие товары. Бойцов у меня примерно столько же на данный момент. К утру будет больше.
– И все без оружия? – удивился Теряев. Странным ему это показалось.
– С оружием у меня другие, а это я «действующий резерв» поднял. У нас, сам понимаешь, не Швейцария и не Абхазия, арсеналы под кроватью не держим.
– А, понял. Танки не нужны? – Это могло бы прозвучать и шуткой, но сейчас не тот момент.
– Не пойдёт, ездят медленно и громко, в городе неэффективны.
– Давай конкретику. Что, как, когда? Эй, тише вы там! Это не тебе…
– А вот прямо сейчас. Я еду до Нары, ты на машине туда же, возле платформы встречаемся – и вперёд.
– Ну, мать твою и так далее – жди. Эх, такую игру испортили!
Мятлев кивнул Фёсту:
– Отключайся.
Нет, всё-таки Теряев прилично выпивши (но, как на Руси говорят: «Кто пьян да умён, два угодья в нём»), и женские голоса поблизости от телефона пересмеиваются. Два или три. Интересная у них там рыбалка. В голове Фёста, например, не совсем укладывалось, как можно одновременно пить водку, играть в преферанс и развлекаться с дамами. Если только они и в преферанс тоже. А что, красиво – дамы неглиже, мастерски мечут карты, курят сигары и дружно выпивают, как положено протоколом, по рюмке за каждый сыгранный мизер!
Надо будет как-нибудь Людмилу и Секонда с Майей на такую пульку подбить, мелькнула несвоевременная мысль.
– Что ж, одно дело вытанцовывается. Даст бог, и дальше так пойдёт, – сказал Мятлев.
– На чём ты нашу толпу собираешься за час к этой базе перекинуть? – осведомился Фёст. – Машин, считай, нет, марш-бросок на двадцать километров – дело долгое, а твой генерал, если подсуетится, через полчаса на месте будет.
– Эх, молодёжь, – покровительственно хохотнул Мятлев, явно довольный собой. – Понятное дело, ты – человек при всех достоинствах, не сильно военный, а уж теорию и практику партизанской войны только по фильму «Фронт без флангов» представляешь. А в такой войне транспортные вопросы для обеих сторон – как бы не главнейший фактор. Так что учись пока.
Контрразведчик явно брал реванш за те унижения и бестактности, что вольно или невольно все минувшие сутки допускали в его адрес и Фёст, и Секонд, не говоря о девчонках.
Пока они быстро шли к дому, Мятлев продолжал:
– Сейчас ваш Тарханов пусть командует – «К маршу и бою изготовиться» и «Общее построение». А я сразу до всех замысел доведу. Только всё быстро, очень быстро надо, есть один, почти природный фактор, что нас здорово поджимает…
На столе в большей из комнат «кордона» (назовём эту избу так) была расстелена содранная со стены крупномасштабная карта сектора Подмосковья от МКАД до границы с Калужской областью, между Рижской и Курской железными дорогами. Со множеством только лесникам и землеустроителям понятных пометок.
– …Таким образом, господа, – докладывал Мятлев, – вопрос мною решён положительно. Всё, что нужно, нам дадут. Но предварительно нужно совершить ночной марш-бросок по лесной дороге вот сюда. Железнодорожная платформа «Мичуринец». Это чуть больше пяти километров. Времени у нас ровно час, – он постучал пальцем по стеклу самых обычных «Командирских». На «Бреге» и прочие модные «в узких кругах ограниченных людей» «бимберы», как некогда назывались дорогие золотые часы на «блатной музыке», не счёл нужным разоряться. Или – унижаться.
– Машин у нас сколько?
– Пять ваших, три моих, – ответил Хворостов. – И ещё не меньше полутора десятков, на каких ребята подъезжали. Я не считал.
– У нас один броневик, – добавил Тарханов.
– На броневике ты сам поедешь, изобразишь службу замыкания[58], – сказал опытный в таких делах Фёст.
Честно сказать, Воронцов с «аналогами» не рискнули проталкивать через терминал почти сотню многотонных грузовиков и бронетранспортёров. Подобная попытка с яхтой «Призрак» примерно такой же массы, как батальонная колонна, закинула её вместе с экипажем из тысяча девятьсот двадцать пятого аж в две тысячи пятьдесят шестой. При этом, стоить признать, тот «хроноклазм» имел в основном положительные для большинства участников последствия. Но сейчас экспериментировать не было времени. Проще рассчитывать на «подножный корм».
– Значит, сажаем на технику всех, кто поместится. Поровну, наших и ваших… – Мятлев после первых, может быть самых важных, успехов в организации «реконкисты»[59], снова ощутил себя генералом, на своей земле принимающим иностранные войска, поступившие к нему в оперативное подчинение. – Я с передовым отрядом до самой базы. Теряев только лично со мной будет дело иметь. Кто-нибудь, хоть ты, Фёст, бери свой броневик и ещё одну машину – и полным ходом до названной мною платформы. Занять её и ждать последнего поезда электрички, в час сорок семь. Следующая – только в пять двадцать. Пассажиров вежливо высадить по причине проведения спецоперации. Прошу господ офицеров как следует запомнить – продержать состав сверх расписания мы можем максимум десять минут. Иначе, сами понимаете, – график движения на дистанции полетит к чёрту и мы легко можем встретиться с чем-нибудь большим и тяжёлым дальнего следования. Пояснения требуются?
Пропустим – «бегом по шпалам» выйдет далёконько. Разве что такси вызывать, – напоследок Мятлев пошутил, заодно ввернув скрытую цитату из давнишней, семидесятых годов романтической песенки «Последняя электричка».
– Всем всё ясно? – продублировал контрразведчика командирским голосом Тарханов. – Тогда вперёд. Уваров, сажай на технику всех своих девиц, нечего им ножки по лесным буеракам ломать. Вы, полковник, – это уже Хворостову, – выделите своих самых подходящих бойцов. На оставшиеся места. Вперёд, время пошло!
Незначительная ж/д платформа между Переделкино и Внуково, на которой далеко не каждая электричка останавливается, с военных (Великой Отечественной, естественно) времён не знала такого оживления и внезапного наплыва крайне пёстро одетых и вооружённых людей.
Первым к платформе побежал Уваров в камуфляже раскраски «Осенний лес», с «ППС» поперёк груди, двумя пистолетами «по-ковбойски» на бёдрах, нагруженный боеприпасами на час боя. При нём пять валькирий, одетые и вооружённые так же, но способные не только бегать и стрелять, но и вполне заменить полноценный штаб бригады, как один самый простенький компьютер – целый сонм бухгалтеров Государственного банка. И своим быстродействием и сообразительностью.
За ним из второй машины, пикапа «Самшит», выгрузилось ещё человек двадцать бойцов. Каким образом столько влезло в полугрузовичок с довольно маленьким кузовом – можно представить, вспомнив кинохроники времён Кубинской революции, когда «барбудос» новогодним утром пятьдесят девятого года въезжают в освобождённую от «американской марионетки» Батисты[60] Гавану, набившись по 15–20 человек в обычные «виллисы» и «доджи».
Так они и двинулись – Уваров в окружении своих «паладинок» впереди, за ними «партизаны» Хворостова под командой опять же консьержа Бориса Ивановича, успевшего пристегнуть на свою полувоенную куртку охранника майорские, чёрные с красными просветами погоны.
Дежурная по платформе, даже на вид стервозная тётка лет под пятьдесят, буквальным образом остолбенела не пойми от чего – от давно невиданных здесь вооружённых мужиков, если б не славянская внешность, здорово напоминающих чеченских или дагестанских бандитов, или от взгляда на Анастасию с Гертой, один в один похожих на девок из компьютерной стрелялки, от которой внука приходилось отгонять подзатыльниками. «Лара Крофт» их звали, что ли?
– Извините, сударыня, – обратился к дежурной Уваров со своей неизбывной по отношению к даже таким дамам вежливостью, – у нас спецоперация. Так что простите за беспокойство…
Тётка чуть не фыркнула от возмущения. Ещё и придуривается офицер не то ОМОНа, не то какого другого спецназа.
Вовремя отодвинул плечом деликатного графа Борис Иванович.
– Исламских террористов ловим, – пояснил он на более понятном языке. – Сейчас электричку займём и поедем. А ты стой спокойно, не дёргайся по пустякам. Делай, что тебе положено, и только. На вот, «за беспокойство», – передразнил он Уварова и протянул тётке пятитысячную бумажку. – И за билеты на всех тоже…
Тем более что майор нутром чуял – скоро настоящую цену будут представлять совсем другие деньги. Вроде как «баксы» в начале девяностых.
Дежурная деньги взяла и спрятала неуловимым жестом неизвестно куда. От этого благодеяния её подозрения только усилились. Когда это родные «менты» деньги раздавали, а не вымогали? Но, с другой стороны, погоны у всех знакомые, девки без хиджабов, да и личностью никак на мусульманок не тянут. На обложку глянцевого журнала, каких полно в вокзальном ларьке, – да, а на другое – никак. И все прочие тоже явно свои, пусть и непонятные. Только матерятся вполне разборчиво.
– Ну, делайте, что нужно, а я что? – пожала тётка плечами и намерилась шмыгнуть в свою загородку рядом с кассой.
– Нет, ты уж с нами побудь, – слегка изменил интонацию майор, а Вельяминова потянула Уварова за рукав.
– Давай в сторонку отойдём, тут без нас разберутся.
Осталось согласиться и разрешить желающим перекур, не отходя от края платформы.
В это же время целый, считай, полк (два полных батальона, пять рот и под две сотни добровольцев), на удивление тихо, но с понятным топотом, погромыхиванием оружия и слитным шумным дыханием мчался по нескольким параллельным просекам и тропам к той же цели. В ночном лесу марш-бросок – совсем не простое дело даже для опытных бойцов, именно в плотной массе ротных колонн, когда отдельный солдат не может заранее видеть и выбирать свой путь, маневрировать по обстановке. Растянутых связок голеностопов и коленных тоже, не говоря о возможных травмах глаз торчащими ветками, могло быть совсем немало. Или – темп движения снизился бы до недопустимого. Но тут уж Фёст с Секондом сообразили (никому другому это просто в голову бы не пришло) поставить впереди каждой построенной в колонну по два роты морпехов-роботов. Никто ведь другой понятия не имел, что ночное зрение у каждого «Аскольда», «Артёма» и далее по алфавиту ничуть не хуже дневного, а реакция вдесятеро лучше, чем у пресловутых «ниндзя» и даже валькирий…
Поэтому, лидируя, наблюдая рельеф местности и предупреждая голосом о каждой кочке и торчащем выше колен препятствии, роботы вели свои команды безукоризненно. Без травм и потери темпа.
Очень интересным поворотом политического сюжета происходящего было появление на платформе господина Воловича во всей красе: полупьяного, что придавало ему ещё больше шарма и «интеллектуальной независимости». Он прибыл, по команде Фёста, в сопровождении Яланской, для которой Борис Иванович приказал одному из своих подчинённых по охране дома «подать к подъезду» очень не новый, но в приличном состоянии «Ниссан-Патруль» и доставить даму с кавалером туда-то. Со всей возможной скоростью и в полной сохранности. Пацан их и привёз, в рассуждении обернуться по ночным пустым дорогам за час «туда-сюда».
Галину Фёст счёл возможным ненадолго снять с поста, предполагая, что её интеллигентные подопечные и так никуда не денутся в чужой реальности. Тем более Яланская их со всей свойственной ей строгостью предупредила, что и звонить из квартиры им незачем и некуда, а входную дверь изнутри открыть невозможно.
По дороге Волович снова принялся объяснять очаровавшей его (по пьяному делу) «надзирательнице», как она восхитительно-сексуальна, «вся такая воздушная, к поцелуям зовущая» и как ей будет хорошо, если она поймёт своё счастье и согласится стать его «дамой сердца» со всеми вытекающими последствиями и преференциями.
То есть ума (который, по почти всеобщему мнению его тусовки, стоял на уровне минимум Шекспира, Лермонтова и Белинского одновременно) любимцу потасканных либеральных пифий[61] всё же не хватило, чтобы понять, с кем имеет дело. Он как-то не сообразил, по принципу импринтинга, что Яланская, которую он впервые увидел в довольно миленьком штатском наряде, – девушка из той же команды, что грозные воительницы Людмила и Герта.
А ведь массу премированных из известных источников и претендующих на тонкий психологизм книг написал господин Волович, и в сотни раз больше тоже вроде бы «умных» статей.
Когда машина тронулась, Михаил сделал ещё приличный глоток из небрежно прихваченной со стола в кухне и спрятанной в карман пиджака бутылки и принялся выяснять, куда и зачем они едут. Потрепался немного в своём обычном стиле, а когда решил, что впечатление произведено и девушка достаточно уболтана, он начал хватать её за коленки и выше. Не так, чтобы совсем грубо, но слегка за пределами допустимого там, откуда прибыла Яланская. Да, впрочем, и в редакции «Голоса совести» молодые сотрудницы не давали ему по морде за его «свободу рук» только потому, что боялись лишиться весьма и весьма выгодной работы. Хотя в их проамериканской газетке следовало бы придерживаться американских стандартов насчёт «харрасмента» и прочих достижений демократии.
Когда определённая Галиною граница допустимого флирта была перейдена, репортёр мгновенно схлопотал заслуженное. Открытой ладонью, но крайне болезненно. Пощёчина была тут же дополнена советом трогать за означенные места свою двоюродную бабушку (отчего-то весьма популярный в роте «печенежек» персонаж), причём на том самом языке, что она советовала младшим подругам использовать только в самом крайнем случае. Для самой Яланской, при её жизненном опыте, вербальные и мануальные заигрывания Воловича особого значения не имели, тут важен принцип.
Репортёр даже не возмутился, но немедленно впал в задумчивость, из которой не выходил до момента прибытия в место назначения.
Яланская без церемоний вытолкнула его из машины прямо в объятия Фёста, как могла, очаровательно улыбнулась обожаемому её полковнику (не сразу поняв, что Фёст – не Секонд), спросила, может ли она ещё чем-то помочь, получила ответ, что больше всего она поможет, контролируя порученный ей объект, не менее важный, чем даже и Кремль. И вознаграждена Галина будет в той же мере, как непосредственные участницы боевых действий.
Это поручицу не слишком вдохновило, она поджала губы и скомандовала водителю, будто извозчику-лихачу:
Осадок у неё в душе остался неприятный. Подруги, значит, себе в ярком деле кресты зарабатывают, а она со штатскими придурками в безопасном месте возиться должна. При всей её родственной причастности к «высшим кругам» Галина ещё не сообразила, что тёплое и почти интимное (не в том смысле!) общение с будущими соратниками будущего правителя России может принести намного больше «бонусов», чем беготня с автоматом по подмосковным лесам.
Фёст радостно сообщил Воловичу, что если мозги у него ещё чуток работают, то сегодня он может войти в анналы мировой журналистики наряду…
– Да неважно с кем, сам придумаешь. Самый цимес будет вот в чём. Я тебе сейчас правду скажу, чтобы заранее знал, как настраиваться. После того, что ты видел вчера, мы наносим ответный удар. Думаю, в течение ближайших суток власть будет возвращена законному Президенту. Всяческая незаконная оппозиция, хоть правая, хоть левая, хоть радужная, будет, как бы поизящнее выразиться, – искоренена. Наиболее радикальные её элементы – физически. А ты всё это дело опишешь в восторженных тонах. Материал немедленно пойдёт как в наши, так и западные издания. Фотографии тоже будут. Самые что ни на есть…
– Извини, Вадим, – осторожно начал Волович, потирая всё ещё зудящую щёку. Теперь пощёчина от Яланской (кстати, репортёр за последние три часа пребывания в Столешниковом, где она ему наливала «по потребности» и шутила, что называется, напропалую, «влюбился» в неё настолько, что теперь даже несравненные глаза и формы Людмилы подзабылись) казалась ему завуалированным поцелуем. Вот так, кстати, некоторые люди становятся мазохистами. Воловичу такое превращение, несомненно, пошло бы на пользу. Зато Ляхова (то ли американца-экстрасенса, то ли отечественного «альфовца» или «каскадовца») он опасался всё больше и больше. Этому рафинированно-интеллигентному парню пристрелить ближнего – как нечего делать. Видели, знаем.
– Извинить не могу, – твёрдо сказал Фёст, припомнив Булгакова, – поскольку не знаю, за что. Излагай.
– Ну как тебе сказать… Ты представь – такой мой текст просто не поймут. Скажут, что это под давлением или вообще не мной написано. Мы ведь давно внушили мировому сообществу…
– Ты знаешь, милый, мне ведь абсолютно по… все ваши обычаи, правила и эмоции. И твои лично. Дала тебе барышня по морде, и правильно сделала…
– Откуда, откуда ты знаешь? – оторопело спросил Волович. Свидетелей, кроме водителя, не было, а что почти неуловимого взгляда и жеста Яланской Ляхову оказалось достаточно, он не сообразил.
– Ты, блин, всё время забываешь мою официальную должность и звание. Я, может, не только видел «третьим глазом», что ты в машине с моей сотрудницей сделать пытался, но сам это дело инициировал. В смысле – по морде. Остальное – твоя личная инициатива. Продолжаем по сути: ты пишешь репортаж о сегодняшней ночи, как Джон Рид, Михаил Кольцов и Хемингуэй в одном лице, я его публикую, где найду нужным, то есть – везде. А ты попутно, для усиления эффекта, выступишь с кратким экспозе по телевизору. С радостной рожей и бьющим через край энтузиазмом. Заодно и уцелевшим к моменту передачи дружкам и «спонсорам» передашь привет и добрый совет. В смысле – увидел ты реальное воплощение возвышенных идей «борцов с кровавым режимом» и преисполнился… Как там у Радищева: «Душа моя их гнусным поведением уязвлена стала». Одновременно чисто практический вывод – из старого корыта, братва, кормить больше не будут, пора перестраиваться или подыхать. Насчёт подыхать – поубедительней, ибо этот термин употребляется в самом буквальном смысле. А тебе я заплачу по высшей ставке Госдепа. Плюс все гонорары, что сумеешь выбить, – твои. Договорились?
Хотел ещё припугнуть отважного борца, но вовремя сообразил, что не только ведь кнутом следует действовать, и сказал с усмешкой, очень точно имитирующей ту, с которой Волович любил позировать на фотографиях и телеэкранах:
– Кроме того, получишь эксклюзивное право брать интервью у моих красавиц, – Вадим обвёл рукой девичье отделение, оживлённо болтающее, пока командир отвлёкся. – И даже перед Галиной за тебя слово замолвлю, чтобы не обижалась на дурака. А дальше как сумеешь. Да-алеко ведь пойти можешь, особенно если Президент оценит твой героизм. Вместе ведь с ним вы стояли под вражеским огнём. Министром печати и массовых коммуникаций пойдёшь, если позовут? Волович давно, ещё минуты три назад для себя всё решил. Не Джордано ведь Бруно он, не Галилей, не Муций Сцевола даже.
– А Яланская тебя не сильно ударила? – вдруг спросил Фёст.
– Да ну, пустяки, так, махнула ладонью перед носом…
– Тогда ты, брат, почти что на коне. Если б ей твоё поведение на самом деле не понравилось, плевался бы ты сейчас кровью и осколками зубов. Она девушка суровая…
Дежурная по станции, показывая на сигнал семафора и одновременно на висящие над перроном часы, сказала майору:
– Всё, электричка на наш блок-участок вошла. Через минуту прибывает.
Фёст услышал и выругался сквозь зубы. Пролетаем, похоже. Запаздывает войско. Да и ладно, тех, что есть, хватит, чтобы начать склады потрошить. А эти как-нибудь доберутся, или – тоже вариант – если транспортом разжиться, можно на обратном пути подхватить…
В конце выводящего к платформе закругления дороги вспыхнул прожектор подходящего электровоза, и одновременно пространство перед станцией начало заполняться выбегающими из леса «печенегами» и штурмгвардейцами.
Успели всё-таки. И показали рекордное для ночного марш-броска время.
Немногочисленных пассажиров вежливо попросили пройти в последний вагон и извинить за беспокойство, машинисту с помощником тоже более-менее близко к истине объяснили суть происходящего. Набитый под пробку, под завязку или как бочка сельдями поезд тронулся почти по расписанию. За небольшой сбой графика машиниста, пожалуй, не станут наказывать завтра и в последующие, едва ли обещающие быть спокойными дни.
В условленном месте Мятлева уже ждал его товарищ. Не подвёл, чего Леонид Ефимович опасался до последнего момента.
Прямо в караульном помещении артиллерийский генерал написал распоряжение о вскрытии склада и даже приложил личную печать.
– У нас всё отработано, главное – никакой завязки на бюрократов, – хвастался Александр Кириллович, как он представился Фёсту, не назвав фамилии. – Помните, в девяносто третьем Гайдар ночью обратился к Шойгу за автоматами? – спросил он окружающих, ничуть не заботясь о том, что кроме него самого и Мятлева большинство просто в силу возраста едва ли могли помнить тот незначительный по прошествии двадцати лет эпизод. – Мы тоже рассчитываем на любые непредвиденные случайности. Примерно десять человек могут самостоятельно принимать решение о выдаче мобзапасов. С последующим докладом, разумеется…
– Если ещё останется, кому докладывать, – мрачно добавил Мятлев.
– И это возможно. Фильмы про сорок первый смотрели? Ну, вот… Я распорядился, чтобы весь проживающий поблизости и отдыхающий в казармах личный состав подняли по тревоге. На случай чего, будут у меня свидетели. И ты, Леня, чуть не забыл, мне какую угодно бумагу напиши. Сам придумай.
– «По распоряжению Президента Российской Федерации, Верховного главнокомандующего…» – тебя устроит?
– Меня всё устроит. Пошли…
Своих специалистов по автобронетехнике в распоряжении ответственного дежурного оказалось всего три, вот-вот прибегут ещё с десяток прапорщиков и полсотни срочников, но это не особенно существенно. Практически все офицеры Хворостова кое-что и в «Уралах», и БТР с БРДМами понимали, да и понимать в них особенно нечего. Вот для штурмгвардейцев, большинства «печенегов» и даже Тарханова с Уваровым – все эти, по евроамериканским понятиям, «примитивные» машины – если не китайская азбука Морзе, то китайская грамота – точно. Часа два-три теоретических занятий и не меньше практических потратить пришлось бы, чтобы даже умелых водителей на незнакомую технику пересадить и в самостоятельный рейс выпустить. В Отечественную войну у русских солдат, умевших американские же по происхождению полуторки и «эмки» водить, при встрече с «виллисами», «доджами» и «студебеккерами», всего десятью годами «технического прогресса» от наших разделёнными, уже возникали проблемы, а здесь всё-таки почти девяносто лет «апартеида», то есть «раздельного развития».
Два десятка «учебно-транспортных» машин стояли заправленными, даже аккумуляторы были на месте и в порядке. Ключи – на доске в ружкомнате. Редкая по нынешним временам организованность в поддержании боеготовности. Да и «боевые» нужно было только залить горючим и завести от внешних генераторов. Дальше сами начнут заряжаться.
– Пойдёмте, я вам кое-что интересное покажу, – предложил друг Мятлева стоящим вокруг него офицерам, то есть Фёсту, Секонду, неотвязно их сопровождавшей пятёрке валькирий и ещё нескольким ротным и взводным штурмгвардейцам, временно свободным.
– «НЗ» первой очереди у нас там, – махнул рукой генерал в сторону расположенного чуть в стороне от центральной линейки пакгауза из бутового камня. – Как раз на приписной полк полного штата.
Над шестью двустворчатыми воротами пакгауза и погрузочной аппарелью вспыхнули яркие фонари, донёсся стук и лязг торопливо отпираемых замков и отодвигаемых засовов.
Артвооруженец, от которого ощутимо попахивало, подозвал спешащего от проходной высокого усатого прапорщика, которому бы Гришку Мелехова в кино играть, так он был похож на артиста Петра Глебова. Пока тот подходил и уставно рапортовал, генерал успел ещё приложиться к фляжке (нервы-то не у всех железные, и всё, что он сейчас делал, легко тянуло на расстрел по законам военного времени, если победит противоположная сторона). Потянул её, не глядя, вбок, мол, угощайтесь, кто желает. Солидный титановый сосуд, не меньше, чем на пол-литра, перехватил Мятлев. У него тоже непонятным образом усилился мандраж.
«Ну, понятно, – подумал Фёст, – пока всё в «сфере чистого разума» – одно дело, а сейчас сплошная практика пошла. Гудериан, кажется, писал, что у него на советской границе за пять минут до начала артподготовки тоже неудержимо зубы застучали, хотя сам расписывал план разгрома Красной Армии за две недели».
– Вот-с, прошу полюбоваться, старший прапорщик Мигель, Владимир, внук тех самых испанских детей, которые…[62] Давай, отпирай закрома. Тут у него целый музей, считай, оружейная палата. Возьми фляжку, Володя, приложись, разрешаю. Тут всё равно неслабая, по всему видать, заваруха начинается…
– Что, татары с мордвой восстали? – задал сержант по-своему логичный вопрос. Если бы на Кавказе что-то опять началось, так людей на складах СКВО вооружали бы, а не здесь. Да и зачем их вооружать, этих людей, кстати? Пробегая через КПП, он намётанным глазом оружейника видел рядом со своими знакомыми срочниками чужих «спецназов», увешанных чёрт знает какими «стволами». В основном – «ППС», чуть переделанными. С «Мосфильма», что ли?
– Кто и что – нам завтра по телевизору расскажут. Или сразу военный прокурор, – успокоил генерал сержанта. – Веди…
Действительно, полюбоваться здесь было на что, особенно Секонду с девочками и штурмгвардии. Фёст-то подобные склады видел ещё на своей службе. Советские руководители, помнившие проблемы с оружием в Первую мировую и в начале Отечественной, да озабоченные вдобавок поддержкой «мирового революционного процесса» и его «передовых отрядов», стаскивали, откуда можно, и закладывали на «ответственное хранение» всё, что более-менее стреляло имеющимися в ассортименте отечественных заводов патронами.
Первый пакгауз, в добрую сотню метров длиной, был заполнен винтовками. И в ящиках, и стоящими в пирамидах, с открытыми затворами и густо смазанными стволами. Были здесь не только «мосинки», ещё «СВТ» и «АВС»[63] всех модификаций, благо под один и тот же патрон образца 1908 года 7,62х54.
– Пятьдесят тысяч. И патронов достаточно. Воюй – не хочу… – гордо сообщил Мигель.
– Упаси бог! – даже перекрестился Мятлев. – В Афгане у моджахедов «Ли Энфильдов» вдесятеро меньше было, а доставалось нам от них.
– Ну вот, а в России на консервации, по моим данным, четыре с половиной миллиона трёхлинеек хранится… На всю американскую армию по пуле хватит и на китайцев останется, – гордо сообщил Александр Кириллович. – Пошли дальше, – и орлиным взором посмотрел на жадно внимавших ему валькирий. Девушек масштабы (и психологическая подоплёка) российской военной мощи начали впечатлять. Действительно, если раздать всё это оружие населению да снабдить патронами – что толку от сверхсложных и очень современных конструкций возможного агрессора, включая компьютеризированные? Из такой архаичной винтовки умелый стрелок может попасть в цель с километра. А если этих стрелков хотя бы два-три миллиона, не так давно прошедших срочную – один процент от населения? Пусть из них в цель только по разу попадёт каждый десятый? Вот и двадцать пехотных дивизий, накрытых каким угодно флагом, вернутся домой в гробах. Китайцам – тем такие потери без разницы (впрочем – как сказать, у них тоже хоть кое-как обученных войск даже на Вьетнам не хватило), но китайцы как раз воевать никогда не умели, не умеют и едва ли научатся, всем же остальным никакие беспилотники и «Томагавки» не помогут.
В соседних пакгаузах были продемонстрированы очередные «копи царя Соломона»: автоматы и пистолет-пулемёты «всех веков и стран», но в основном, конечно, «ППШ», вызвавшие весёлое оживление у офицеров из батальона штабс-капитана Щитникова. Тот же «ППД», по сути, а насколько проще и одновременно внушительней. Странное дело, в том мире Шпагину не пришло в голову учителю[64] дорогу перебегать…
– Вот эта штука нам в самый раз, закупить бы все да перевооружиться…
– Обождите ребята, вы другого не видели, – охладил их пыл Фёст, подразумевая «АК» всех модификаций.
Ещё у Мигеля имелись ручные пулемёты, начиная с отечественных «ДП-27»[65] и РПД, а также «МГ-34», «МГ-42»[66] и другая экзотика.
Пистолеты и револьверы смотреть уже не пошли. Утомило, как долгое хождение по любым музеям.
– Если всю Московскую область в партизаны записать, одного этого склада хватит, – продолжал хвастаться генерал. – А у нас он далеко не один!
– Извините, – прервала его Вельяминова. – Можно вопрос?
– Как же вы такое опасное богатство держите практически без охраны? Роты хватит, чтобы…
– Милая девочка… – начал Александр Кириллович.
– Капитан Вельяминова, – перебила его адаптировавшаяся к местным званиям Анастасия, впервые вслух произнеся свой новый чин. С немалой гордостью.
– Простите, простите, товарищ капитан, – генерал прижал руку к сердцу и поклонился. – Чтобы ты не переживала за сохранность вверенного нам оружия, поделюсь страшной государственной тайной. Всё это добро можно превратить в металлолом и пепел одним нажатием кнопки. И никто не знает, где эта кнопка и кто к ней приставлен… А можно уничтожить только нападающих, оставив матценности в полной сохранности. И довольно об этом. Нас, кажется, уже ждут. Хотите что-нибудь в подарок? – изъявил галантность генерал.
«Что ж, лови момент, Настя, – сказала она сама себе. – Только что бы такое попросить, чего ни у кого нет?» И придумала.
– «Маузер», девяносто шестой – можно?
Генерал расплылся в улыбке, как фокусник на детском утреннике.
– Володя – изобрази!
И тут вмешалась Инга, снова показав, что скромность её и как бы застенчивость – напускные.
– Каждой! – шагнула она вперёд, очевидно вспомнив недавно виденный фильм «Операция «Ы».
Генерал уже в голос захохотал. Девушки ему понравились.
– Неси, Володя, неси, чего жалеть-то? Только смотри, новые, и «семь шестьдесят три»[67]. Патронов не нужно, у девушек этого добра…
Намётанным взглядом генерал сразу сообразил, что в магазинах девчачьих «ППС» те же самые, только на одну сотую миллиметра меньше калибром патроны «ТТ». Вполне взаимозаменяемые.
Вдоль ограды складов Тарханов, вспомнив свои навыки простого строевого комбата, уже выстроил колонну. Пять БТР-80 впереди, пять БРДМ-2 с пулемётами КПВТ[68] замыкающими, между ними «Уралы» и «ЗИЛы-131», вперемешку гружённые людьми, ящиками с патронами и гранатами, выстрелами к РПГ. На сутки самых напряжённых уличных боёв хватит, хотя Тарханов с Фёстом рассчитывали обойтись вообще без серьёзных боестолкновений.
– Ты, Саша, лучше всего езжай не домой, а туда, откуда приехал. Я отчего-то догадываюсь, что там тебя не только жена, весь горотдел МГБ не найдёт.
– Правильно догадываешься, точка сверхсекретная. Там и буду постоянно на связи. Сейчас солдатиков с собой прихвачу, на роль дальнего прикрытия. Как в каком-то старом фильме басмач говорил: «С нами аллах и десять пулемётов…» А может, мне с тобой поехать?
– Вот чего не надо! Ты, может быть, наша последняя надежда. Если вдруг что, на твои склады отступим и здесь формирование Добровольческой армии начнём.
– А ты – за генерала Алексеева?[69]
– У нас уже есть, покруче меня и с аналогичным опытом.
Генерал явно не понял смысла слова «аналогичный» в данном контексте. А Мятлев имел в виду Берестина и его крымские подвиги.
В разговор друзей бесцеремонно вмешался Фёст:
– Мы вот что сделаем, Александр Кириллович! Я оставляю здесь лично мне подчинённый взвод тихоокеанских морпехов. На него возлагаем охрану и оборону складов. Прошу любить и жаловать – старший лейтенант Леонов. Он запомнил в лицо вас. Вы его. Скажите персоналу базы – морпехи не подчиняются даже вам, только своему командиру, мне и Верховному, по предъявлении документов и в присутствии разводящего, то есть этого же старлея…
Артиллерист вдруг захохотал.
– Ты чего, Саша?
– Ох, да я вспомнил, как по телевизору Президенту вручали удостоверение и корреспондент с подъё… спрашивал, где же оно ему может пригодиться? Вот тебе и случай, кто бы мог представить – старший лейтенант Леонов проверит! Захочет – пустит, захочет – нет. Только не маловато ли взвода?
– А сюда, думаешь, полком приедут базу брать? Поставят ребята в ключевых точках за бетонными блоками легендарные «Максимы», по сто лент и пожарной бочке воды для каждого – будет кинофильм «Тринадцать» и Дом сержанта Павлова в одном лице…
– И всё же не понимаю я, как на выключенный телефон дозвониться можно, – сказал генерал генералу, когда прощались у машины.
– А ты в нём что именно выключаешь, когда кнопку нажал?
– Не знаю, – удивлённо сказал артиллерист.
– И я не знаю, но точно не рубильником ток. А что там внутри этой херовинки, кроме сим-карты и батарейки – у китайцев в Шанхае нужно спросить. Или вот у этой мадам поручика, – он указал на Герту, с гордостью повесившую через плечо деревянную колодку «маузера». Ну, бывай, друг, спасибо. Родина тебя точно не забудет! Новые звёзды на погоны прямо сейчас цеплять можешь, это я тебе от имени Верховного говорю…
Колонна начала выдвижение. Нормальной езды, на скорости «артикулом предусмотренной», тут два часа до МКАД, даже с перекуром.
Комбаты, командиры рот «печенегов» и Хворостов со своим штабом получали от Тарханова и Фёста последний общий инструктаж, разместившись в большом, как международный автобус, кунге ПКП[70] на базе шестиосного ракетного тягача. На нём в сопровождении БТРов Тарханов с Секондом, Мятлевым и Хворостовым собирались до конца операции крутиться по кольцевой, контролируя обстановку. Уваров ехал в машине с передовым отрядом штурмгвардейцев, Фёст в авангарде, тоже на БТР, с Глазуновой, Темниковой и теми «печенежками», что ходили на завод.
Секонду да и Уварову очень не хотелось этого делать, но – «надо, Федя, надо» – Фёст убедил Тарханова распределить валькирий поодиночке, по подразделениям, выполняющим главные, ударные задачи. Только они, с помощью блоков, смогут поддерживать постоянную связь друг с другом, Фёстом и Секондом, в случае чего обеспечивая экстренный маневр силами и средствами по ТВД.
Перед Секондом лежала разрисованная чёрными, красными, зелёными и синими стрелками, кругами и квадратами схема на листе формата А-3, перед Тархановым – какая-то своя, тоже непонятная посторонним. На большой, почти во всю торцовую стенку кунга, экран выведена схема Москвы, масштаба 1:5000, то есть пятьдесят метров в сантиметре. Все дома обозначены, с номерами, все проезды и проходные дворы. Где нужно – можно укрупнять до 1:100, жаль только, не в прямой трансляции с персонального спутника.
– Теперь, товарищи офицеры, я могу наконец перейти к постановке непосредственных задач, раньше нельзя было, уж извиняйте, – сказал Секонд. Тарханов доверил ему инструктаж, понимая, что сам не столь компетентен, чтобы в этой Москве принимать экстренные, скорее всего – нестандартные решения.
Эти слова относились как раз к Хворостову и его людям, от своих скрывать было нечего и незачем.
– Мы с вами имеем дело с очень интересной идеей государственного переворота и весьма изящным исполнением всех подготовительных работ. Прямо даже хочется увидеть главного разработчика и, глядя в глаза, крепко пожать ему руку…
– После чего повесить с соблюдением всех воинских почестей, – мечтательно поддержал его Мятлев.
Тарханов вмешался:
– Прошу не отвлекаться!
– Конечно, конечно, извините…
Когда Тарханов включался по-настоящему, противоречить, а тем более противодействовать ему было неблагоразумно. Это чувствовалось на расстоянии, как сильное электромагнитное поле.
– В реконструированной нами схеме использованы все самые передовые достижения сетевой мысли.
Секонд произнёс подхваченный у Фёста термин, не сильно понимая, что это значит на самом деле.
– Так что с имеющимся в их распоряжении аппаратом ни Президент, ни уважаемый генерал Мятлев никакого противодействия заговору оказать бы не смогли. Тут нужно было начинать готовиться лет пять назад и опираясь совсем на другой тип людей, чем у них сейчас служат…
– А вы, значит, можете? Отчего же вдруг? – вновь перебил Вадима теперь уже Хворостов. Обидно ему стало, что ли, или слишком много непосильных для одномоментного усвоения уроков сегодня получил? Ощутил, возможно, что слова насчёт «другого типа» и к нему относятся.
– Оттого, что мы начали готовиться не пять лет назад, а намного раньше, – удивительно спокойно ответил Секонд. – Вот вы полковник, как и я. Позволяли вы за время службы хоть лейтенанту, хоть сержанту подсказывать вам решения, до которых сами не додумались, соглашаться, поразмыслив, благодарить перед строем за смекалку и инициативу, а потом впереди себя в наградные листы вписывать? Только честно!
– Что ж это за армия была бы? – искренне возмутился Хворостов.
– Садитесь, неуд. Не была бы, а есть, та самая, в какой мы с полковником Тархановым и присутствующими здесь господами, – он указал на комбатов штурмгвардии, – имеем честь служить. Полковник Уваров, который вчера только в этот чин произведён, три года назад был поручиком в захолустном гарнизоне недалеко от Мерва, с начальством собачился бессчётно, но всё же теперь полковник и кавалер Георгиев четвёртой и третьей степени. Дважды Герой минимум, по-вашему. В этом же возрасте Алексей Петрович Ермолов от достаточно разумного императора уже генерала получил[71]. Итак, продолжим.
Глава восьмая
На учебно-тренировочной базе Главного управления исправительно-трудовых учреждений (ГУИТУ МВД РФ), удобно и скрытно разместившейся в лесу юго-восточнее Зеленограда, обстановка этой ночью царила достаточно нервная. Из опыта известно, что даже в самых налаженных и боеготовых частях, если что-то у командования начинает идти наперекосяк, импульс раздражения, неуверенности и инстинктивная потребность делать хоть что-нибудь, когда неизвестно, что именно, передаются сверху вниз, вплоть до командиров отделений.
Очень похожая картинка бывает, если на муравейник бросить окурок или сунуть в него палку. В подобных случаях раздолье только самым умным и нерадивым солдатам. Пользуясь всеобщим замешательством и раздраем, можно забиться в «заранее подготовленное место» и сделать что-то полезное лично для себя или просто покемарить, из опыта зная, что сейчас всем не до тебя.
По документам на базе «Щепкино» должны были проходить регулярные сборы бойцы-контрактники, занимающиеся охраной мест лишения свободы, сопровождением этапов осу́жденных, а также действовали постоянные курсы младшего комсостава УИТУ.
На самом же деле здесь в глубокой тайне расквартировался местный аналог «Печенега» – спецподразделение «Зубр». Кому-то, знакомому с опытом сталинских времён, в своё время пришла в голову такая идея – создать собственную «гвардию», «эскадроны смерти», если воспользоваться латиноамериканской терминологией. Эта часть должна была стать подготовленной и натренированной не хуже спецназа ГРУ и даже израильской группы «Кесария», в которую якобы принимают после особого отбора лишь одного из 10 тысяч претендентов[72]. Это, конечно, вряд ли. По такой схеме из всего населения Израиля, включая стариков и младенцев, удалось бы набрать чуть больше взвода суперменов. Но в том, что служат в таких частях профессионалы высшего класса, сомнений нет. Всякого рода конфликты последних сорока лет неоднократно это подтверждали.
«Зубры», по замыслу инициаторов, должны были оставаться как бы невидимками не только для руководителей государства, но даже и для часто сменяемых, не всегда профессиональных «первых лиц» всех силовых министерств и ведомств. Как в Британии, например, постоянные и несменяемые заместители министров не посвящают в «серьёзные» тайны своих шефов, партийных выдвиженцев, демократически тасуемых, как карты в колоде. Власть поменяется, а этакий своеобразный «Бог из машины» был и будет. Сможет в любой момент появиться ниоткуда и исчезнуть туда же, сделав своё дело. А чтобы заметать следы и перекидывать стрелки, имелись другие, тоже специально подготовленные специалисты.
Создавать отряд начинали такие же романтики «государевой службы», какими, по замысла Фёста, могли бы быть сотрудники придуманной им «Чёрной метки». Какое-то время они такими и оставались, организуя «окончательное решение вопросов» там, где начальство не давало «добро» или прокуроры с судьями за хорошие «отпускные» ограничивались «десятью годами условно» или «отсрочкой исполнения на пятнадцать лет».
Потом цели и идеалы мало-помалу менялись и вырождались, а инструмент остался. Вроде медицинского скальпеля, которым и людей от смерти можно спасать, и в подворотне глотки резать.
УИТУ было хорошей крышей: мало кому в голову могло прийти, что под маской туповатых и одномерных вертухаев скрываются не подчинённые властям и ими не контролируемые профессионалы высшего класса. Вполне способные, при возникновении «ненужных вопросов», «зачистить местность» так, что их просто некому будет задавать. В смысле – не станет тех, кто способен и имеет право спрашивать, а не тех, кому положено отвечать.
Случилось так, что за три дня до начала операции командир этого спецполка, человек опытный, проверенный, с молодости руководствовавшийся девизом Троцкого: «На всякую принципиальность нужно отвечать полной беспринципностью», попал в ДТП. Банальное, без всякой бытовой и политической подоплёки, и теперь боролся за жизнь в реанимации. Это для руководителей заговора было почти катастрофой, слишком много на том полковнике было завязано, а поставленный исполнять его обязанности подполковник Батарчук не только звёзд с неба не хватал, но и мышей не ловил. Естественное свойство любой вырождающейся системы – негативный отбор в ней крепчает не по дням, а по часам.
И вот, в момент «Ч+12» означенный «вице-зубр» и прибывшие на базу целых два члена Центрального штаба, один генерал-лейтенант в полевой форме внутренних войск и даже в «краповом берете»[73], другой – штатский, закончив эмоциональное выяснение отношений, пребывали в тягостном раздумье.
Очень не так всё пошло. Никто не мог предположить, что найдётся некая, не «третья» даже, а пятая или шестая сила, официально не подконтрольная никому, способная два раза за сутки ткнуть мордой в дерьмо хвалёных спецназовцев, как «деды» из ВДВ – срочников-«духов» былых стройбатов. Да если б только в дерьмо! При захвате дачи Президента, оказавшейся вдобавок пустой, безвозвратные потери «зубров» составили восемнадцать человек плюс почти полсотни раненых разной степени тяжести. Кое-кто из отборных офицеров если в будущем и сможет ходить, то, как в медицинском анекдоте, «только под себя».
Вторая операция закончилась несколько лучше, если можно так выразиться. То есть убитых меньше, всего шестеро, зато около трёх десятков полностью парализованных бойцов и «гражданских специалистов». Единственный «посвящённый» врач, хорошо разбирающийся только в травматологии и чуть-чуть в патанатомии, не смог сказать ничего. Вообще ничего – ни о причинах, ни о прогнозах. Не его профиль. Рекомендовал везти пострадавших в Центральный госпиталь, а если это нежелательно – предоставить пациентов собственной участи. Страдания облегчать не нужно, они их не испытывают.
Впрочем, судьба этой «пехоты» участников совещания не волновала. Гораздо поганее было то, что неприятель снова ушёл, не оставив ни одного трупа и прихватив с собой пятерых пленных и машину со спецаппаратурой. Если добавить, что бесследно исчез генерал Стацюк, лично отвечавший за арест Президента, получается совсем плохо.
– И что же мы теперь будем делать? – спросил седоголовый штатский, бывший здесь как бы самым главным, представлявшим тот самый «международный финансовый капитал», ради и в интересах которого происходят почти все перевороты в мире.
Подполковник, уже вовсю раздумывавший, как бы из этого незадавшегося дела выскочить с наименьшими потерями, предпочёл промолчать, когда «серьёзные дядьки» совещаются.
– Да я теперь как-то и не знаю, Фёдор Давыдович, – уклончиво ответил седоголовому генерал-лейтенант Гнедин, вопреки берету носивший эмблемы пограничной службы. После пропажи Стацюка руководство военной частью операции перешло к нему. Впрочем, зачем этот эвфемизм – «пропажа»? В плен он попал, стопроцентно, когда Фёдор Давыдович, сообразив, что пахнет жареным, элегантно сбежал, показав, что не зря до пятидесяти с лишним лет занимается не только гольфом, но и более подвижными видами спорта.
Труп убитого генерала никто увозить или прикапывать на обочине не стал бы. Незачем это неизвестно откуда взявшимся защитникам дачи Президента, «в списках не значившимся». Всего один «зубр» из отделения, сумевшего выследить и почти захватить главу государства в его запасном убежище, уцелел и смог дать показания. Доложил, что они скрытно подошли к «охотничьему домику», в бинокль сосчитали и рассмотрели всех, там находившихся, но при последнем броске были расстреляны оказавшимся там снайпером. Даже не снайпером в полном смысле (у тех своя методика и свой стиль работы), просто невероятно метким стрелком. Использовавшаяся «зубрами» тактика в принципе исключала возможность поймать хоть одну пулю, причём шальную, при шквальном заградогне. А тут четыре дуплета, не из снайперской винтовки, из пистолет-пулемёта, и за десять секунд группы больше нет. А они ведь умели на бегу «качать маятник» так, что никакому смершевцу из «Момента истины» не снилось. Причём какая подлость – стрелок явно не хотел никого убивать, мастерски целил только ниже пояса – все попадания экспансивными пулями в тазобедренные или коленные суставы с полным их разрушением. Так и по неподвижной мишени не всякий навскидку попадёт.
Этот эпизод крепко деморализовал ребят – они вдруг поняли, что против них работают спецы куда выше классом, а это считалось в принципе невозможным. Даже выезжая на стажировку за рубеж, «зубры» приводили в восхищение самых строгих инструкторов весьма знаменитых подразделений. Единственный плюс – кто сумеет, в случае поражения, перебраться через какую-нибудь границу, без высокооплачиваемой работы не останется. Так думал Батарчук, а «господа организаторы» всё ещё искали блестящий, «гроссмейстерский» ход, что приведёт к победе.
– Я вот что думаю, – продолжил Гнедин, не замечая, что нервно грызёт дорогой янтарный мундштук (давняя привычка курить сигареты без фильтра) так, что крошки приходится сплёвывать. – Нужно послать на хер все наши построения и немедленно, в семь, допустим, утра объявить по всем каналам радио и ТВ, что в результате межклановой разборки или покушения террористов, сами думайте, Президент или убит, или, ещё лучше, – сбежал в неизвестном направлении. Хоть под дулом автомата заставить спикера Думы заявить, что «народные избранники», не доверяя насквозь коррумпированному правительству, принимают на себя бремя власти и формируют хоть новый ГКЧП, хоть «антикризисный штаб»… У вас наверняка есть кому написать что-то убедительное. После этого блокировать все СМИ, отключить Интернет и сформировать нормальную военную хунту…
Генерал распалился, с бухты-барахты, прямо вот только что придуманный план казался ему действительно выходом из довольно дурацкого (и одновременно – страшного) положения, в котором все они оказались. Ведь если объявится настоящий Президент с верными войсками…
А что? В Латинской Америке и на Ближнем Востоке такие лихие авантюры нередко удавались.
– И сразу же напрямую обратиться в Вашингтон, в Брюссель! Пусть немедленно признают, на любых условиях, а там посмотрим…
– Хорош! Прямо молодец, ничего не могу сказать. Стецюк, конечно, поумнее был, но за неимением гербовой пишем на клозетной… Может и такая бредятина сработать. Именно по причине крайней глупости и полной неожиданности для всех. Только ведь не я один решаю. Поэтому договоримся так. У тебя здесь сколько войска? – спросил Фёдор Давыдович Батарчука.
– Четыреста человек.
– А ты сколько можешь прямо сейчас вывести на улицы? – это уже к генерал-лейтенанту.
– Тысячу курсантов погранучилища и Академии, МВД обещали тысяч пять вполне надёжных омоновцев, ментов ППС и ГАИ, солдат и курсантов ВВ, две-три тысячи вооружённых боевым оружием чоповцев. Единиц сто бронетехники. Это те, с которыми можно работать в открытую. И массовку штатских тысяч в двадцать поднимем. Ещё сто тысяч сами выйдут. Дураков хватит.
– Дело даже не в том, сколько выведем мы. Главное, сколько смогут они!
– Я думаю – нисколько, – ответил Гнедин. – Сами посудите – в Москве верных Президенту, боеготовых частей нет. Всякие «друзья-приятели», вроде Мятлева и некоторых замов министров, курируют «интеллигентные» структуры. А десятки, даже сотни отдельных сторонников, пусть и с пистолетами, ничего не решают…
– Армия? Он же – Верховный!
– Армия не успеет. У меня есть чем блокировать несколько гарнизонов в радиусе сотни километров, если шевелиться начнут. Остальным разобраться в обстановке, принять решение, поднять войска и двинуть на Москву очень непросто, скорее даже невозможно. Что, Псковская дивизия по собственной инициативе вздумает десант на Красной площади высаживать? Кадрированные части воевать не могут в принципе. В самом худшем случае «непримиримые» в леса уйдут. До первых морозов…
– Да, что-то в этом есть, что-то есть…
– Я бы на вашем месте на гражданских сосредоточился, – решил внести свою лепту в мозговой штурм подполковник. – Нужно много, очень много людей на улицы вывести – студентов, шелупонь офисную, да хоть и пенсионеров. Демонстрации, митинги, броские лозунги, раздача денег и товаров прямо с машин – такой бардак получится, что самой смены власти никто и не заметит. Кое-кому и оружие раздать, опять же для усиления хаоса. Ну, как в Петрограде в семнадцатом… Или в Югославии.
– Но ведь есть у Президента какая-то сила, что его спасла и нам палки в колёса ставит, – задумчиво сказал Фёдор Давыдович. Как-то не по себе ему делалось, когда он вспоминал вчерашнее «личное участие»… Самому захотелось кремлёвского выскочку на колени поставить. Да и «фишек» на следующую игру заработать. Вот и рискнул. Чудом ведь спасся.
– Сотни две, как минимум, у него есть парней очень подготовленных, – согласился Батарчук, – и это не есть кто-то, нам известный. Какая-то совсем «левая» контора. Что, если вроде нашей? Мог Мятлев припасти на подобный случай?
– Я бы знал, – ответил Гнедин, но не совсем уверенно.
– Ну и эти, «хайратонцы», – продолжил Батарчук. Старпёров там половина, дробовиками вооружённых, одна слава, что «афганцы»… А вот и они нам не по зубам оказались… Я бы поостерёгся. Да ещё и парализаторы какие-то…
При слове «парализаторы» он непроизвольно передёрнулся. Страшное, между прочим, зрелище – ребята, попавшие под удар!
– А я вот что соображаю, – сказал генерал-пограничник, кое-что знающий об оперативной работе на сопредельной территории. – Вдруг это действительно «левые ребята»? Не президентские, сами по себе. Может быть, даже иностранцы. Это ведь многое объясняет…
– Всё, стоп! Мы зачем собрались? – вдруг спохватился Фёдор Давыдович. – Расфилософствовались! Дело делать надо!
Совсем ведь не для праздной болтовни с ничего не решающими людьми он сюда приехал вместе с Гнединым. Хотел получить у Батарчука из первых рук информацию о случившемся на «ЗИЛе», мнение профессионалов о перспективах узнать и забрать с собой половину батальона, чтобы надёжно прикрыть район расположения истинного Центра всей акции. Есть там своя охрана, но в том и беда, что у каждого из членов «Совета директоров», на привычном языке выражаясь, – своя. А общей нет, и единого командира тоже нет. До сих пор. Вот Фёдор Давыдович и прикинул, что, имея под рукой сколоченное и только ему (ну, и Гнедину тоже) подчиняющееся подразделение, на любой поворот событий можно будет реагировать с «правильной» точки зрения. То есть – его собственной.
Только он собрался отдать Батарчуку соответствующий приказ, как сначала в отдалении коротко треснули несколько одиночных выстрелов и автоматных очередей, а потом сразу загремело по всему периметру. Будто началась та самая войсковая операция, о невозможности которой они только что говорили. Частые и многочисленные выстрелы «РПГ-7», «Громов», «Вампиров» и прочего создавали у не слишком компетентного человека впечатление нормальной артиллерийской подготовки.
– …мать! – только и успел выдохнуть Батарчук, хватая прислонённый к тумбе стола «никонов» с подствольником. Одновременно пронзительно зазвонил полевой телефон на тумбочке.
Подполковник схватил трубку, послушал, бурея лицом. Потом швырнул её мимо аппарата, сам так ничего и не сказав. А что говорить? Что надо стоять насмерть, все и так знают, а руководить боем, не представляя его общей картины, – он не ясновидец!
– Вот и пипец нам, – сказал, как выплюнул, кривя рот. – База атакована по всему периметру, огневое и численное превосходство противника подавляющее…
– Уё… надо, вот что! Получится, нет – увидим. У меня здесь три БТРа за углом, пятнадцать человек охраны. Запрыгиваем – и на прорыв полным ходом. Если в огневой мешок не влетим, вырвемся. Нет – туда нам и дорога…
– А оборону наладить? – дёрнулся было генерал, последние пятнадцать лет просидевший по кабинетам с коврами, плазменными панелями и как надо отдрессированными секретаршами. Воровать и интриговать наловчился виртуозно (одни погранзаставы в Москве и Питере – золотое дно, на три жизни султану Брунея хватит), а как воевать в чистом поле – забыл напрочь. В Чечню и вообще на Кавказ ни разу не выезжал, даже за орденами и «боевыми». И так всё, что хотелось, в кабинет приносили – два ордена Мужества, к примеру, пять наградных пистолетов, вагон и маленькую тележку кубачинского, грузинского, турецкого, персидского холодного оружия…
А сейчас вспоминать надо, экстренно, как под огнём бегают и ползают…
На базе было не меньше десятка трёхэтажных казарм, складских и иных хозяйственных помещений, боксы для автобронетехники, две капитальные каменные будки, узел связи, столовая и культурно-развлекательный центр. Если в них грамотно занять оборону, да ещё ходы сообщения между корпусами проложить – обороняться можно, как в Бресте: месяц не месяц, но неделю точно.
Но на такую оборону, во-первых, железная мотивация нужна – «Погибаю, но не сдаюсь! Прощай, Родина!», а во-вторых – полная отмобилизованность, внутренняя и внешняя. Четыре сотни «контртеррористов», не полевых солдат, и мысли не допускали, что воевать придётся здесь, в своих казармах и на своих аллейках и лужайках. Их несколько лет подряд учили атаковать, выбивать противника из жилых домов и специально укреплённых пунктов, добивать пленных контрольным выстрелом или, нацепив наручники, тащить в автозаки. Для полноты образования и соответствия «бренду» – спецназ УИТУ всё-таки – подавлять бунты в местах лишения свободы тоже учили.
Но вышло несколько иначе, чем ещё вчерашним утром планировалось, отчего и настроение царило в лагере достаточно нервное. За две скоротечные операции – взвод «двухсотых». Такое никакая теория не предусматривала. И какая теперь, к чёрту, дисциплина? Все тут офицеры, все злые, каждый на себя прикидывает судьбу тех, кто в чёрных пластиковых мешках ночь коротает. Кто-то к слову вспомнил злую и меткую ма́ксиму: «За деньги легко убивать, но мало кто согласен за деньги умирать» – и немедленно схлопотал по морде. Еле растащили оппонентов, и не гарантия, что «инцидент исперчен», как Маяковский острил.
Под такие настроения особо не раскомандуешься. Командиры и не пытались. С самого вечера тут и там возникали торопливые поминки по «предательски убитым» товарищам, спиртного хватало, не в клубном буфете, так по окрестным магазинам, пять минут езды на «бэхе». И личный транспорт имелся, вся парковка иномарками заставлена.
На пьянки сегодня категорический запрет был явочным порядком снят. Невелика беда, рассудил Батарчук и прочий «профессорско-преподавательский состав», утром на улицах с похмелья злее будут. Среди героев «штурма Зимнего», как известно, вообще ни одного трезвого не было, да ещё кокаином сверху заполировывали. И всё нормально – семьдесят три года «власть рабочих и крестьян» после того простояла. Если бы гэкачеписты двадцать первого августа распорядились солдат, выведенных на улицы Москвы, тем же самым снабдить, ещё неизвестно, как бы оно повернулось!
Поэтому немногочисленные караулы «печенегами» были сняты легко, почти без шума. Сбой вышел, как обычно, из-за пустяка. Возвращавшаяся из похода за «добавкой» через лес «особой тропой» четвёрка «зубров» заметила на подъездных путях, в стопроцентно запретной зоне чужую технику и сразу, как учили, открыла огонь. Конечно, и по магазину не успели расстрелять, как с ними разобрались снайперы-ночники. Но внезапность была утеряна, и Тарханов приказал не стесняться. В конце концов, это акция не только на подавление, но и на устрашение.
База была заблаговременно окружена плотным кольцом на безопасном удалении, все дороги и тропы перехвачены секретами и вдобавок заминированы. Когда поднялась стрельба, блокирующие группы двинулись вперёд, сжимая и уплотняя фронт.
Тарханов с Фёстом и Секондом приняли верное решение – первый удар, по самому опасному противнику, нанести всеми имеющимися силами, даже избыточными. Разгромить врага и уничтожить в скоротечном беспощадном бою, и только после этого переходить ко второму этапу, не опасаясь более внезапного удара в спину, в самый неподходящий момент.
В их распоряжении было около тысячи бойцов, из них больше сотни досконально знали и местность, и тактику противника – двукратное превосходство в живой силе и подавляющее в вооружении и технике. «Броня», выдвинувшаяся на четырёхсотметровый рубеж, открыла шквальный огонь из «КПВТ» и «ПКТ» с шести направлений, не особенно целясь, зато едва успевая менять ленты и стволы. Бронебойно-зажигательные и разрывные пули калибра 14,5 крестили своими трассерами всю территорию базы вдоль и поперёк, большинство сборно-щитовых и даже кирпичных зданий пробивали свободно, некоторые даже навылет. Через несколько минут в ход пошли гранатомёты всех типов – по окнам, по стенам, по машинам под навесами и в боксах.
Ну и обычные, «трёхлинейные» и девятимиллиметровые калибры создавали смертельную плотность поражения на открытых пространствах плюс бесчисленные рикошеты от каких угодно «твёрдых тупых предметов», имевшихся на базе в изобилии. Стены домов, например, бетонные дорожки, стальные опоры линий электропередач и фонарей освещения, чугунные крышки канализационных люков.
Команда и «печенегам», и штурмгвардейцам была категорическая – ближе ста метров к периметру не приближаться, с земли и из-за укрытий не вставать и не высовываться, патронов не жалеть. Прицельно работают только снайперы с толстых, не пробиваемых обычной пулей деревьев.
– А ведь страшное дело, – сказал Секонд, нервно затягиваясь у открытой дверцы броневика Тарханова. – Что там сейчас творится! Не хотел бы я поменяться…
– Тебе и не предлагают, – хладнокровно ответил Сергей, покусывая веточку.
Он мог бы напомнить чересчур чувствительному аналогу, каково каждому из них троих было на Перевале (они так его и произносили, если вдруг разговор заходил – как бы с большой буквы). А что – стоило того. Всё ж таки историю сразу двух, а то и четырёх реальностей тот бой изменил! В основном, конечно, благодаря как раз Сергею.
Сам Тарханов вспомнил засыпанные гильзами и залитые кровью вестибюли и коридоры отеля «Бристоль»[74]. Тоже не слабое МНВ.
«Нас никто не жалел, так и мы никого не жалели, мы пред нашим комбатом, как пред Господом Богом, чисты!» – пришли на память строчки кого-то из советских поэтов-фронтовиков.
Фёст поднёс к губам свой блок-универсал, связывавший его с пятерыми валькириями, работавшими сейчас его офицерами связи в ротах «печенегов».
– Через пять минут всем прекратить огонь, по мегафонам предложить сдаться, с обещанием отпустить рядовой состав по домам без всяких условий.
– Но в одних трусах и без оружия, – подсказал Сергей.
То же самое Секонд продублировал по обычной полевой рации комбатам штурмгвардейцев.
– Заодно стволы остынут, – усмехнулся Тарханов и потянул из портсигара Фёста сигарету, чуть не задев, по небрежности, краем ладони открытую клавиатуру.
– Аккуратнее, – отдёрнул тот блок-универсал. – Атомного взрыва нам тут только не хватало.
…По дороге от Наро-Фоминска до Москвы Тарханов с Фёстом успели познакомить старший комсостав с основной схемой заговора. На самом деле, сконструирован он был весьма остроумно и нестандартно, явно людьми, занимающими «возвышенное» и отстранённое от любых государственных структур и, главное, государственных интересов положение. Будем по-прежнему именовать эту группу «центром». Центром филигранно сплетённой и смертельно опасной паутины, из которой «обычная» жертва, как и муха, вырваться шансов не имеет.
Очень краткий, но ёмкий доклад, «озвученный», как, демонстрируя свою малограмотность, выражаются даже люди с научными степенями, Фёстом, имел целью сориентировать всех присутствующих командиров, и российских, и имперских, в основной сути происходящего, чтобы люди знали, с кем воюют, каковы, так сказать, «движущие силы» мятежа и какова «ближайшая задача». Над «последующей» другие сейчас думают.
Замысел организаторов, по какую бы сторону глобуса они сейчас ни находились, в самом доступном изложении сводится к тому, о чём писал Теодор Герцль в книге «Еврейское государство» сто двадцать лет назад: «В своей стране они наконец смогут открыто радоваться жизни, а не пировать втайне, прячась за опущенными шторами». Пировать не только за шторами, но и в Куршевелях, и на Елисейских Полях означенной публике, впрочем, никто не мешал и сейчас, как и постепенно приближать свои яхты к габаритами авианосцев типа «Нимиц» или хотя бы, на бедность, «Энтерпрайз»[75].
Но этого ведь уважающему себя человеку мало. Один было попробовал испытать себя в большой политике, но закончилось это не слишком обнадёживающе. А хочется ведь править открыто, входить в состав «членов Политбюро» (или совета директоров) Евросоюза, НАТО, Бильдербергского, Римского, Хантер и тому подобных клубов, открывать ногой двери Кремля, Букингемского дворца, Белого дома. Вот это – настоящая власть и слава. И, главное, есть к этому все основания в смысле капиталов и предпосылки в виде предельной слабости нынешней российской власти.
Вообще, затеваясь идти в главы государства, крайне невредно начать с чтения Макиавелли «Государь». Там очень понятно сказано, что властитель должен быть беспощаден к врагам и в то же время иметь абсолютно надёжную опору, политическую и военную.
Сталин, не сильно образованный по нынешним мерками человек, прекрасно эту истину понимал. Гораздо лучше Ленина и прочих. Возможно – сам додумался, творчески осмысливая опыт врагов и друзей. А вот люди с учёными степенями и богатым интеллектуальным ресурсом вроде как не врубаются.
– Господа-товарищи, о которых здесь идёт речь, великолепно учли все просчёты, ошибки, недомыслие и беспечность Президента и его окружения. Те словно бы специально трудились, чтобы их возненавидели или, по крайней мере, отказали в поддержке почти все страны и классы населения.
Начнём по порядку.
МВД. Те, кто хотел всерьёз, как Жеглов в вашем фильме, бороться с преступностью, задавлены не Шараповым, а взяточниками и беспредельщиками. Ходу им нет, и выгоняют при каждом удобном случае.
Армия – унижена не мизерным жалованьем: в царской и нашей тоже, бывало, платили меньше, чем швейцару в кабаке, – унижена демонстративным отрицанием даже права на честь и порядочность.
В МГБ аналогичная картина. Бороться велено не с тем, кто враг державы, а враг непосредственного начальника именно сегодня… Зато кое-кому позволено делать всё, что заблагорассудится, лишь бы не давали воли своим «аномально честным» подчинённым…
– Господин полковник, а может, хватит лекций? Мне замполиты и в советское время надоели, – вдруг перебил Вадима Хворостов. – Мы ведь делом заниматься едем, а не…
– Сергей Саввич, – удивительно мягким, как бархатная перчатка, голосом ответил Фёст, – вы в каком звании последнего замполита видели?
– Да вам-то… – напрягся Хворостов, все же разница в возрасте почти двойная.
– Я спросил! – прибавил Фёст металла. – Можете отвечать, можете…
– Ну, старшим лейтенантом был…
– И с тех пор предоставлены исключительно себе. – В голосе Фёста прозвучала отчётливая ирония. – Некому было смысл происходящего в стране разъяснять, вот и подрастерялись донести до вас не голую информацию и приказ типа всё тех же «Ди эрсте марширт, ди цвайте марширт…», а хоть самое приблизительное представление, с каким врагом воевать предстоит и для чего. Может, проще оставить как есть? Велика ли вам лично разница, как звать будут того, кто в Кремль сядет? Грубо говоря, я надеюсь за полчаса, что у нас пока имеются, сформировать у товарищей командиров какую-никакую мотивацию. Так вы позволите? – И продолжил с прерванного места, будто и не было этой перепалки: – Точно так же за последние два-три года оказались разочарованы в своих надеждах, ожиданиях, планах и проектах абсолютно все – от «уличных протестантов» до «Союза православных хоругвеносцев». Роковая ошибка Президента или – его окружения. Надо было бы предложить хоть кому-то что-то конкретное, основательное, пусть в ущерб остальным. Хоть национальную идею и имперскую мощь, хоть незыблемость частной собственности и право защищать её с оружием в руках, как в Средневековье. А здесь – помазали по губам всем и облизнуть не дали. В итоге – имеете то, что имеете. Вот, посмотрите, здесь всё нарисовано.
Действительно, на схеме Секонда было изображено всё. Разноцветные стрелки довольно причудливо соединялись, пересекались и переплетались вокруг и между кружков и квадратиков. На самом верху был зловеще-фиолетовый «Центр». Ниже него «Власть исполнительная», «Власть законодательная», «Судебная» – и тоже ряд ответвлений. Справа – все «институции» и организации «силовиков». Слева – «Креативный класс» в радужной рамочке, и по сторонам все структуры, им организуемые и организующие его. Совсем внизу, соединённый несколькими стрелками с «ведущими узлами» – подчёркнутый красным, коричневым и зелёным фломастерами «Абстрактно-протестный электорат».
Вадим дал всем присутствующим минуту-другую полюбоваться плодами трудов своих друзей-аналитиков, потом свернул лист и спрятал в карман.
Вместо него «слово взял» Тарханов.
– Это к тому вам показано, господин полковник, – теперь он обращался лично к Хворостову, поскольку прочие присутствующие уже успели проникнуться, – что каждый солдат должен знать свой маневр, а, до тех пор пока я руковожу нашей операцией, обожаемое у вас право на «свободу совести, печати и собраний» сводится к абсолютному минимуму. И ещё прошу учесть, пусть вас это не обижает, ваш возраст и чин в армии, к которой я не принадлежу, а вы из неё уволены, сейчас для меня имеет чисто этическое значение… Но в перспективе – всё зависит от вас. Знаете поговорку: «За Богом молитва, за царём служба не пропадёт»?
«Молодец, Сергей, круто завернул, – подумал Фёст, – не зря я ему книжки давал читать и фильмы показывал».
– Приходилось, – буркнул Хворостов. С одной стороны, чужой полковник на генеральской должности ему попросту нагрубил, а с другой – привыкать ли? И в армии начальники хоть на ступеньку выше хамили без стеснения, а сейчас любая сволочь с деньгами, нанимая, считает себя вправе на «ты» и матерно разговаривать, годясь в сыновья по возрасту. А куда деваться? На полковничью пенсию не сильно разгуляешься. Отчего так странно всё складывается? В Афгане не боялся, просыпаясь, в каждый из начинающихся дней помереть, со славой или как придётся, а потом…
Уж правда, лучше вторую жизнь начать по принципам тридцатипятилетнего «царского полковника». У них там, по слухам, даже дуэли разрешены и платят офицеру больше, чем адвокату!
– Таким образом, довожу до вас своё решение, – Тарханов выглянул в окно кунга. Впереди, слева и справа сияли цепочки огней МКАДа. Как шутил Фёст – «фронтир», граница цивилизованного мира. Время ещё было. Минут десять. – Воевать со «всей Москвой» (тут Тарханов слегка усмехнулся, и в его мире, и в этом данная формулировка воспринималась не иначе, как с иронией) и руководящими органами государства мы, естественно, не можем. Бессмысленно и опасно устраивать силовой разгон стотысячной демонстрации или шествия. Многие пробовали, до сих пор выходило только хуже. Примерно с дня Кровавого воскресенья.
Но тут у нас присутствуют два доктора медицины, они подтвердят – не нужно убивать всего мамонта или бронтозавра, достаточно пулей или ядом поразить его мозжечок. Поэтому мы сегодня оставшиеся до рассвета… – он посмотрел на часы, – двести пять минут, а до начала общего рабочего дня – целых четыреста пятьдесят, посвятим именно рассечению только что увиденных вами «нервных связей». Сначала пополам, потом под корень.
– Простите, господин полковник, – произнёс Фёст, один из тех «двух докторов», на которых ссылался Сергей, – кое-кто даже с поражённым мозжечком умеет очень сильно хлестать лишённым центрального управления хвостом…
– К этому я и подвожу, – ответил Тарханов. – Поэтому мы вначале всей своей ударной силой атакуем единственно известный нам вражеский «тет-де-пон». Уничтожаем его в дым, как клопиное гнездо паяльной лампой, а потом начнём по Москве до утра гулять повзводно. Эти самые нервные связи резать в прямом и переносном смысле. Обезвреживать связных, координаторов, интернет-провайдеров и всяких там блогеров…
Эти слова он произнёс, как заученные на чужом языке без перевода.
– Задержанных свозить или отводить в ближайшие полицейские участки и оставлять там, без объяснения, под личную ответственность дежурных. Буйных на словах, но безвредных на вид штатских можно вообще не арестовывать. Просто изымать средства связи и под честное слово обязать не выходить на улицу в течение суток…
При словах про «честное слово» Фёст тихонько хмыкнул. Рассказ Леонида Пантелеева под таким названием уже три поколения нынешних «свободных граждан» не читало.
– …Это всё – на усмотрение местных товарищей, – слегка поправился Тарханов. – А вот с выявленными руководящими и направляющими центрами, «ответственными связниками» между правительственными учреждениями, воинскими частями, банками, предприятиями транспорта и связи – не церемониться. Сегодня к вечеру вся эта хитроумная конструкция (он имел в виду аппарат и механизм заговора) должна представлять собой груду не подлежащих восстановлению развалин. Грубо говоря, мы должны за полсуток сделать то, на что в норме уходят годы. Господ командиров батальонов, советников и консультантов прошу открыть свои планшеты и взять в руки карандаши. То, что я скажу – это окончательно. Изменять диспозицию или командовать «по обстоятельствам» у меня возможности не будет. Каждый сам себе обеспечивает нужную обстановку…
Головной БТР начал притормаживать. Фёст показал Тарханову жестом: «Всё, приехали». Сергей кивнул.
– …Записали, господа офицеры? Тогда – до следующей встречи в этом же составе. Надеюсь – полном. Господин Хворостов, задержитесь на минутку, имею личный вопрос…
Генерал Гнедин с Фёдором Давыдовичем лежали носом в пол, радуясь, что пули кладку в три кирпича не пробивают. Окна давно вылетели, засыпав всё вокруг осколками, и теперь одно из двух – либо появятся на пороге неизвестные солдаты с автоматами, либо в проём влетит термобарическая граната, а то и артиллерийский снаряд. Тогда, как в жалостной песне: «и никто не узнает, где могилка моя». Разве по остаткам обгоревшего погона Гнедина опознают, если найдётся тот, кого это заинтересует.
Батарчук, единственный здесь боевой офицер, пытался сориентироваться в происходящем, время от времени выглядывая из-за оконного откоса. По звукам выстрелов, своих и чужих, направлениям трасс, вспышкам разрывов кое о чём можно было судить. Что бой проигран вчистую, сомнений не оставалось. После внезапного огневого налёта такой силы собрать воедино рассредоточенную на десятке гектаров, в изолированных помещениях часть, восстановить единое, тем более осмысленное командование даже теоретически невозможно. Для этого нужно было специально разработать многоуровневую схему переподчинения и до автоматизма отрабатывать поведение каждого бойца и командира в каждом из предполагаемых вариантов. И особая система сигналов нужна, ракетами, сиренами, по защищённой связи. Одними свистками при таком звуковом фоне не обойтись.
На флотах подобная практика применяется повсеместно, особенно у подводников, но в военно-полицейских частях даже при намёке на необходимость подобных тренировок на любого, предложившего такое, посмотрят, как на опасного идиота.
Сейчас для каждого бойца и младшего командира возможна только спонтанная очаговая оборона с надеждой на прорыв из окружения, причём тоже «на бога» или – «на шару», как говорят блатные. Боеприпасов много, в развалинах старых, в два шлакоблока или три кирпича сложенных зданий, с глубокими подвалами, держаться можно не одни сутки. Вот только вспомнился подполковнику старый еврейский анекдот: «Кому это надо и главное – кто это видит?»
Впрочем, пусть отстреливаются до последнего. Сам Батарчук давно (уже минут двадцать назад) поставил крест и на своей уникальной, лучшей в России части (не зря придумана присказка насчёт «хрена с винтом), и на собственной военной карьере.
Вопрос только в одном – сдаться сейчас, предъявив в качестве «выкупного платежа» этих двух идиотов, и до конца косить под честного служаку, выполнявшего приказы людей, облечённых доверием «верхней власти», или всё же попробовать бежать вместе с ними? То, что его поставили на должность три дня назад, фактически снимало все вопросы будущих следователей.
«Ничего не знал, ничего не видел, приехавших «эмиссаров» сначала пытался вразумить, а потом «перешёл на сторону законной власти».
Приличная отмазка, а на что дальше жить? Вот поэтому (пока) лучше играть второй вариант – вывести господ начальников в безопасное место за очень приличный куш, а уж потом…
И за тот и за другой варианты доводов имелось примерно поровну. Да, при прорыве выше шанс погибнуть, но зато можно прямо сейчас, никуда не заезжая, гнать и гнать, не останавливаясь, хотя бы до Адлера. А там Гнедин через Псоу переведёт, под стволом у затылка назовёт номера счетов или карточки банковские отдаст. Не все и не всё, зачем наживать врагов? Батарчук на самом деле был скромным, незлым человеком, почти лишённым «фантазии». Миллион, нет – два миллиона «евриков» наличкой, и всё, и исчез навсегда неудачливый полководец и политик Батарчук с его мечтой о генеральских погонах. Зато хоть поживёт следующие двадцать-тридцать лет как белый человек. Тем более в командирском сейфе штаба хранился ещё миллион, для расплаты с личным составом. Это уж точно законный куш подполковника.
Над головой грохнула, воткнувшись в бетонный блок междуэтажного перекрытия, кумулятивная граната. Посыпалась штукатурка с потолка, свистнули над головой осколки. Чуть бы ниже – и «нет ни слёз, ни воздыханий, но жизнь вечная».
Подполковник ощутил тычок в бок. Повернулся. Фёдор Давыдович держал в руке нормальный такой пистолет, крупнокалиберный и многозарядный, не дамскую хлопушку.
– Смотри, если мысли дурацкие появились – быстренько забудь. Я сдаваться не собираюсь и тебе потроха вышибу. Меня совсем близко охрана ждёт, я её с собой не потащил, и правильно сделал. Думай, как выбираться будем. Тогда заплачу…
Организатор с самого начала правильно решил – что толку от четырёх личных «бодигардов» в расположении хорошо вооружённого батальона? Помочь не помогут, а если что – без толку пропадут, лишив хозяина последнего шанса. Он и оставил их в маленькой частной придорожной гостинице, в полукилометре от съезда с межрайонной асфальтовой двухполоски на ведущую к базе, перекрытую шлагбаумом бетонку.
Телохранителей он подобрал с умом – двое мужчин и две женщины, изображающие пары, но едва ли семейные. Просто выбрали люди для любовных утех захолустный тихий уголок, где даже случайно невозможно попасть на глаза знакомым, и радуются жизни. Вот они, в случае если удастся до них добраться, вывезут грамотно, защитят от дорожных патрулей и примитивных инстинктов соратников.
– Думать тут нечего, – ответил подполковник, пальцем отодвигая ствол от своего «солнечного сплетения». – Я же сказал – броском до бэтээров, и по газам напрямик. Есть у меня подобие тропы. Кто не знает – не найдёт и днём. Единственный шанс. Ну а напоремся – тут…
Уточнять Батарчук не стал, чтоб не накликивать.
– Ну так и пошли, раз без вариантов.
Нужно сказать, что Фёдор Давыдович отнюдь не походил на мягкотелого, мгновенно расклеивающегося при серьёзной угрозе бухгалтера, пусть и крайне высокопоставленного. Его поведение и днём, и сейчас, говорило о противоположном. На ниве финансов и конспирологии он подвизался оттого, что так карта легла в далёкие уже девяностые годы. Но с тем же успехом этот человек мог и смотрящим за всем столичным регионом стать, а веков пять-шесть назад экспедицию на поиски Эльдорадо возглавить вместо Кортеса. Ещё вчера утром он видел себя не ниже чем премьером или председателем Госдумы, в зависимости, какой тип правления в России покажется предпочтительнее. И на каком посту интереснее и выгоднее будет потрудиться.
А вот теперь придётся бежать, рискуя головой, почти что как персонажу какого-то старого фильма – по неограждённым крышам восьмиэтажных домов, отстреливаясь из «маузера». Ах да, «Тарантул» тот фильм назывался…
Все трое, выждав паузу в сплошном огне, выбрались из дома, залегли за крыльцом.
Стрельба несколько стихла, велась теперь нападающими не на сплошное подавление, а на выборочное уничтожение – по опорным пунктам, пулемётным гнёздам, по перебегающим людям. Но, судя по всему, до рассекающих очаг обороны и блокирующих отдельные узлы сопротивления ударов дело пока не дошло. Командующий операцией явно не хотел жертвовать своими людьми, а подхода к «зубрам» подкреплений он справедливо не опасался. Неоткуда было этому подкреплению взяться. Не Зеленоградская же милиция кинется на звуки серьёзного, минимум полкового масштаба боя и не МЧС.
Сотрудники во взводе управления штаба «зубров» подобрались дисциплинированные и с выдержкой. Вся эта «историческая реконструкция штурма Рейхстага» не заставила их поддаться эмоциям, вмешаться в бой, кинуться, в конце концов, на выручку своего командира в накрытом зверским огнём здании. Был приказ сидеть и ждать приказа – вот и сидели, правда сняв оружие с предохранителей и заведя моторы. Когда станет понятно, что командира нет и другого приказа не будет, – тогда своей судьбой и озаботятся.
На четвереньках, вслед за подполковником, «кандидаты в Наполеоны», уподобившись «живым псам», несравненно лучшим, чем «мёртвые львы», добежали до первой машины. Батарчук рукояткой пистолета постучал в нижнюю бортовую дверцу. Та с лязгом откинулась.
– В какую садиться будем? – вдруг спросил Фёдор Давыдович, пришедший в себя и вновь начавший мыслить стремительно и остро. Существенный, кстати, задал он вопрос. Потом очень обидно будет, если сейчас не угадаешь. Правда, если «тандемная» граната хорошо попадёт, и узнать не успеешь, что проиграл в «русскую рулетку».
– В эту и сядем, – ответил Батарчук. – Вторая и третья дадут огоньку по курсу и флангам, а мы на полном ходу, тишком, и фар включать не будем, джипиэс проведёт…
– Есть смысл, – согласился Гнедин. Этим маневром экипажи машин прикрытия вроде как выставлялись на убой, а на самом деле – кто его знает? Если противник логически мыслит – может и по первой машине ударить. Но всё же нормальные солдаты, скорее всего, мысля правильно, но стандартно, откроют огонь по средней машине ордера.
– Ну, вперёд, с Богом! – со всей истовостью перекрестился Фёдор Давыдович.
Правильно сказано: «На войне атеистов нет».
– Смотри, смотри, – толкнула локтем Фёста Вяземская. – Триста метров на одиннадцать часов. Бронетехника…
Они с этой именно целью устроились в развилке ветвей старого корявого дуба. Весь лесной массив состоял из елей и сосен, а на самом его краю ещё во времена Венецианова и Шишкина образовался этот лиственный островок, возможно, кем-то специально посаженный «ещё до исторического материализма». С пятнадцатиметровой высоты и видно всё было хорошо, а заметить их ночью, в густой кроне, с освещённых позиций невозможно, даже если про бой забыть и кого-то специально искать.
Вадим наблюдал за местностью в сильный ноктовизор, а Людмила со спортивной модификацией австрийской снайперки «ССГ-69», оснащённой восьмикратным ночным прицелом, ждала его целеуказаний, контролируя центральную часть городка и главный КПП. Она же отвечала за связь со всеми владельцами и владелицами блок-универсалов.
Зрение у неё оказалось лучше или интуиция, но она заметила выдвигающийся из-за штабного корпуса скошенный лобовик БТРа раньше, чем Фёст.
– Есть, вижу. Интересный вариант. Раз до сих пор тихо сидели – явно не огневой резерв. Штаб опять же… Докладывай Секонду.
Через десять секунд пришёл ответ. Они там с Тархановым рядом, быстро обменялись мнениями. Первый бронетранспортёр успел вылезти полностью, за ним показался второй. Аккуратно движутся, можно сказать – на цыпочках.
– Будем пропускать, – сказал Секонд. – Они нас могут в интересное место привести…
– Все три? – удивился Фёст. – Одного хватит…
– А как угадаешь?
В это время первая машина резко увеличила скорость, по пологой дуге сворачивая в зазор между краем спортплощадки и чем-то вроде бани или крематория, с дымящей высокой кирпичной трубой. Две другие под острыми углами пошли вправо и влево, одновременно открыв огонь и из башенных «КПВТ», и из бортовых амбразур.
– Уже угадал. По всем каналам связи – группе «Север». Прямо на центр вашей позиции – попытка прорыва на броне. Категорически – по первому бэтээру стрелять только из автоматов! Остальные – жечь!
«Девичья рота» находилась в резерве, но при её командире в качестве «радистки» и офицера наведения состояла Инга Вирен с включённым на приём блок-универсалом. От неё команду продублировали обычные офицерские «переговорники». Уже через полминуты фланговые гранатомётчики начали разворачиваться к центру боевого порядка.
Вовремя. Через три минуты головной «БТР-98» проломился через кусты между двумя отделениями «печенегов», сквозь шквальный огонь в упор. Трассеры и высекаемые утяжелёнными пулями искры окутали машину сплошной разноцветной паутиной. Проломился и пошёл, всё набирая скорость, вдоль действительно не замеченной разведкой тайной тропы. Ночь всё-таки, и спутниковые карты подробно изучать некогда. А тропа, замаскированная кустарником и тщательно спрофилированная, позволяла, не опасаясь неожиданного препятствия в виде поваленной сосны или глубокой водомоины, разгоняться до шестидесяти километров и больше.
Зато бронемашины прикрытия, поражённые добрым десятком кумулятивных гранат, заполыхали до неба.
– Вот и пробились, – вытер лоб дрожащей рукой Гнедин, когда БТР вырвался из огневого мешка. У всех троих и у водителя с пулемётчиком щёки были искровянены мелкой дробью отлетавшей изнутри бортов окалины. – Остальным – вечная память!
– Если бы ребята не стреляли, и они бы проскочили, – вдруг подал голос сидевший у «КПВТ» лейтенант.
– Скорее, мы бы все вместе сгорели, – не одёрнул подчинённого, а вступил в объяснения Батарчук. – Всегда стремятся выбивать тех, кто высовывается.
– Это по-вашему так, а я считаю – нас нарочно пропустили, сейчас начнут скрытое преследование, – покусывая губы, сообщил Фёдор Давыдович. – Поэтому – стоп. Машину зажечь, и разбегаемся кто куда…
Сказал это совершенно спокойно и очень убедительно, после чего выстрелил снизу вверх и сразу наповал сначала в пулемётчика, а потом и в водителя.
– Гранаты есть? – повернулся он к раскрывшему рот подполковнику.
Тот сглотнул и молча кивнул.
– Брось две в десантное отделение, и за нами… Да не мандражь, в тебя стрелять не стану, ты мне нужен…
Глава девятая
До нижней горизонтальной ветви дуба, толщиной с телеграфный столб, Фёст с Людмилой спустились почти мгновенно, потом просто спрыгнули с четырёхметровой высоты.
Вяземская вызвала к себе тех, кто был ближе – Ингу и Марию. И не только потому, что ближе. По молчаливому соглашению между Секондом, Фёстом и валькириями, если не поступало прямого приказа от вышестоящего начальства, то есть Тарханова или самого Чекменёва, или не было какой-то специальной необходимости, определяемой одним из Ляховых, девушки сами договаривались, кому где находиться и какую ответственность на себя брать. Для службы в целом это не имело никакого значения, все они были равно талантливы и взаимозаменяемы, поэтому ротный командир поручик Полусаблин был только рад, что одной головной болью «от этих баб» меньше. Фактически командовавший бригадой, в которую наконец официально были сведены уже семь отрядов «Печенег», Уваров тоже не вмешивался в сложные родственные отношения между «старшими братьями», их жёнами (Майей, Натальей Андреевной и Татьяной) и самими валькириями, если только это не касалось его Настасьи. Или, разумеется, интересов службы.
Сейчас только Вирен и Варламова были свободны от конкретных заданий. Анастасии и Герте следовало находиться вблизи своих «подопечных», да Вельяминова вдобавок командовала взводом, и ей никак нельзя было его оставлять.
Фёст сообщил Секонду, что начинает преследование сбежавшего бэтээра и забирает с собой троих девиц.
– Так что остальное берите на себя.
С Тархановым он это не счёл нужным обсуждать. Тот ему не начальник, пусть старые приятели сами договариваются.
– Постараемся всё время быть на связи, но если что – ты за нас не слишком переживай. Я здесь дома, выкручусь по-любому и тебя найду.
– Зачем? – только и спросил Секонд, искренне не понимая, для чего преследовать ушедший в прорыв броневик. Подумаешь, какой-то начальник базы, комбат попросту, шкуру свою спасти решил. У них на всю верхушку заговора подробные ориентировки есть, полученные через «Шары», и завтра большинство организаторов будет так и так арестовано или уничтожено «при попытке к бегству». Кстати, эта формулировка давно приобрела нехороший оттенок, синоним бессудной расправы, а ведь на самом деле попытки происходят сплошь и рядом, и все, кому положено, имеют однозначные инструкции. Даже по нарушителю правил дорожного движения можно стрелять на поражение, если он не желает остановиться по требованию инспектора. Другое дело, само понятие «попытка» можно трактовать очень широко, что открывает простор для воображения людям, не очень склонным верить в надёжность и беспристрастность следственно-судебного аппарата.
– Как раз и за тем, – Фёст легко понял смысл вопроса, рождённого аналогичным мозгом, но с совсем разным жизненным опытом. – «В уставе только примеры описаны, а не случаи»[76]. Мы с тобой вчерашнюю статику имеем, а мне интереснее сегодняшняя динамика. Кто сбежал, почему, к кому поедет, что за новые решения будут приняты… Вот так, примерно. Всё, девчата подошли, мы двинулись. Передай команду – по нашему сектору огонь прекратить. Терпеть не могу шальных пуль, как и ты, впрочем…
Фёст подразумевал больше, чем сейчас сказал Секонду. То, что они не обнаружили на стоянке перед КПП или штабом ни одной приличной автомашины, ещё ничего не значило. Вполне мог находиться здесь кто-то из высшего руководства мятежа.
Командир такого подразделения, как «Зубр», не мог быть банальным шкурником и трусом, чтобы бежать в разгар боя, бросив своих бойцов, которых учил и воспитывал не один год. Не был этот рывок трёх бэтээров и панической инициативой перепуганного сержанта или лейтенанта. Другие здесь люди умирали сейчас под беспощадным огнём. Вадим не видел ничего аморального в том, чтобы уничтожать тех, кого он признаёт хорошими солдатами и, возможно, весьма приличными в частной жизни людьми. Главное – они позиционируют себя его врагами. Вдобавок – они «первыми начали». На даче и вокруг «зубры» убивали охранников Президента, сожгли машину с ничего не подозревавшими сотрудниками Мятлева, стреляли в спину обычных солдат-срочников. Даже репортёра Воловича, своего фактического союзника, уважили гранатой. Ну, тот-то со своим обидчиком рассчитался сполна – четыре пули из «АПС» в грудь.
Всё как положено, без лишнего морализаторства:
Интуиция и вчерашний допрос Стацюка подтверждали – вполне мог навестить эту базу один из самых главных организаторов мятежа, тот, кто приезжал вместе с генералом арестовывать Президента и очень профессионально сбежал, почувствовав, что «запахло жареным». Притом что боевой генерал и три десятка подчинённых ему офицеров не успели, не сумели…
Потом сообразил, что напарник его наверняка сдал и остаётся последний шанс – подчинить себе основную силу боевиков и действовать по собственному, ни с кем не согласованному, а потому и стопроцентно неуязвимому плану. Говорят ведь на Востоке, что у бегущего – тысяча дорог, а у преследователя – только одна. На то и расчёт…
То, что рассказал об этом Фёдоре Давыдовиче генерал Стацюк, вполне подтверждало предположение Фёста. Агрессивен, крайне жесток, при этом умён, смел, обожает всё экстремальное, имеет связи практически на всех уровнях нарисованной им с Секондом схемы. И в вооружённый мятеж решил поиграть, когда горные лыжи и пейнтбол надоели. А почему бы и нет, в конце концов? У людей такого типа позитивных намерений и чего-то вроде совести не может быть по определению. Иначе всем бы им давно пора уподобиться легендарному старцу Фёдору Кузьмичу[78].
До брошенного бронетранспортёра по колее добрались быстро, он едва километр успел проехать, вырвавшись за кольцо окружения. Трасса проходила километра на три южнее, но большого смысла в текущих обстоятельствах у беглецов выезжать на неё не было. Машина приметная.
Сначала Фёст подумал, что транспортёр подожгли и бросили просто так, свистом приказал валькириям залечь – вполне могли «зубры» оставить поблизости засаду на такой именно случай. Но тут же, как только ветерком накинуло с той стороны, сообразил, что ошибся.
Солярка из разорванных взрывом баков догорала медленно и дымно, но пахло не только её жирной копотью и порохом. Дыхание перехватило совсем от другого. Экипаж явно остался внутри. Братская могила десятерых.
– Кто же их так? – скорее риторически, чем обращаясь к кому-то из девушек, спросил Вадим. – Дырок в броне не видно, наши здесь точно не стреляли, в самовозгорание я вообще не верю…
Варламова в это время возилась со своим блок-универсалом.
– Вадим Петрович, люди отсюда ушли, – сообщила она. – Есть след. Не знаю, сколько, явно больше одного, но один в памяти числится. «Шар» его данные зафиксировал…
– Кто? – спросил Фёст, почти гарантированно зная ответ. Слишком всё сходилось, а через «Шар» девушки «прокачивали» вчера как раз показания пленного генерала. Тот много о ком говорил, но Вадим был уверен, что здесь отметился именно тот…
– Значится как Фёдор Давыдович Ашинбергас, под этой фамилией – лицо без определённых занятий, по словам «источника» – очень крупный бизнесмен международного уровня, владелец сотен офшорных фирм, не исключено, что одновременно и весьма авторитетный «вор в законе».
– Ну, прямо тебе полный набор на любой случай жизни, – не сдержал сарказма Фёст. – Как раз для крутого боевика в стиле Жапризо. Он заодно не начальник нашего Генерального штаба и Митрополит Калифорнийский и обеих Америк?
– Таких данных не имеется, – ответила Мария. С юмором у неё моментами было не очень. Или, что точнее, не позволяла себе Варламова в боевой обстановке трактовать вопросы командира расширительно. – Фотографий тоже нет, только словесный портрет…
Ещё по «курсу молодого бойца», что он проходил в Форте Росс под руководством Шульгина, Фёст знал, что в комплекте с «Шаром» блок-универсал может надёжно работать как «селектор стабильной информации», но вот «коллектор рассеянной» из него слабенький. Сейчас он сработал как хорошая служебно-розыскная собака, уловил «запах» известного ему объекта, но и только.
– Отследить направление движения можешь?
– Пока след держится, – осторожно ответила Варламова. – Тут ведь как – чем больше информации, тем конкретнее. На вас бы я и видеообзор имела, и звуковой канал…
– И зачем я с вами связался? – тоскливо спросил Фёст. – Не хватало мне видеообзоров…
А про себя подумал, что, когда женится на Людмиле, поломает ей портсигар, к чёртовой матери! Или в Торгсин[79] сдаст, на вес. Золото отдельно, сапфиры отдельно, остальное в мусоропровод.
– Тогда, пока хоть чего-то видно – ты и Инга за ними. Преследовать, сколько возможно, на глаза не попадаться, никаких действий не предпринимать. Вирен – держишь постоянную связь с Людмилой. Буквально комментируешь каждый свой шаг. Мы вдвоём – бегом за нашими машинами. Насчёт рандеву уточним по ходу дела. Всё. Вперёд.
На предельно возможной в ночном лесу скорости обогнули по широкой дуге продолжающую сопротивляться базу. Она явно агонизировала – перестрелка носила отчётливо очаговый характер.
В полчаса уложились, хотя Фёст выложился до предела. А валькирии хоть бы что. Истинная пантера. Хотя пантеры, кажется, не особенные бегуны, на дальних дистанциях волки им сто очков форы дадут. Но на волчицу Вяземская ну совершенно не походила.
«Самшиты» стояли там, где их оставили, целые и невредимые. Вадим отдышался, доложил ситуацию Секонду.
– Ты, главное, остальные не забудь в порядке на место доставить, за них деньги плочены…
– Глазунова не забудет, она уже железно решила свою не возвращать. Считает, с таким приданым её замуж со свистом возьмут.
– У тебя не девки, а сплошь Соньки – Золотые Ручки. Сначала живые вернитесь, потом поторгуемся.
Инга сообщила, что они вышли к дороге, дала координаты.
– Здесь метров через триста стоянка и вроде как мотель с кабаком. Музыка слышна. Объект где-то там, след держится…
– Ну, ждите, мы сейчас…
Фёст осмотрел себя – вроде нормально, ну, в камуфляже мужик – сейчас больше половины грибников, рыбаков и охотников так ходят. И машина к прикиду подходящая.
– А тебе, дорогая, опять переодеваться, – сказал он Людмиле.
– Ерунда, минутное дело.
У неё в машине на заднем сиденье были брошены вещмешки со штатскими костюмами всей команды валькирий. Группа Темниковой свою амуницию сложила в двух остальных «Самшитах».
Вяземская, как по боевой тревоге, но в обратном порядке, сбросила ботинки и камуфляж, снова пристегнула свои пистолеты, повернулась к Вадиму спиной, чтобы он помог втугую зафиксировать бронекорсет. Мало ли что предстоит, а от плеч до низа живота это изделие выстрел в упор держит, нож – само собой. И под платьем-сафари совсем не видно. Ну а танцевать в обнимку с посторонними Люда пока не собиралась. Всё равно неудобно, конечно, но Фёст настаивал, а она его расстраивать лишний раз не хотела.
Просунула руки в рукава платья, переложила в нагрудный карман документы, в боковой – блок-универсал. Застёгиваться не стала, на ходу успеет, а то всё же шесть тугих пуговиц, лишнее время.
– Погнали…
Ехать было не так уж далеко, если по линейке и компасу, но, несмотря на близость Москвы и Зеленограда, внутрирайонные дороги между федеральными М-9 и М-10 были немногим лучше, чем где-нибудь за Уралом. И вели они отчего-то совсем не в тех направлениях, что им сейчас были нужны.
Однако где по грунтовкам, где по просекам добрались до выезда на вполне приличную трассу, не автобан, но всё же, раз на ней и мотели с ресторанами не разоряются. Заодно Фёст и поговорить успел с девушками и с Секондом, уточняя «последние штрихи», и покурил не спеша, с удовольствием, а то за войной и прочими заботами редко получалось.
– …Мотель, вон стоянка, девять машин, в зале одиннадцать человек, из них, думаю, шестеро наши, – доложила Инга, когда Фёст с Людмилой поставили машины на удобном съезде с дороги, прикрытом несколькими буйно разросшимися кустами можжевельника. Даже днём с двадцати метров не заметишь. Кстати, за всей боевой и сопутствующей суматохой и не заметили, как небо на востоке понемногу начало светлеть.
– Что за люди? – искренне удивился Фёст. – Пятый час утра, а они пьянствовать продолжают. И официантам с мэтром спать не хочется?
Он на самом деле этого не понимал, хотя и знал, зачем да отчего. Просто сам привык просиживать ночи напролёт только на Новый год да за преферансом. Если не по работе, конечно.
– А в той России это вполне норма, – ответила Людмила. – Офицеры, аристократы, просто богатые люди часов в десять-одиннадцать только ужинать собираются, раньше шести не расходятся…
– Если кому не на службу, – уточнила Варламова.
– Как определила, кто наши? – спросил Фёст Ингу. – В окно заглядывала?
– Заглянула. Блок показал, что объект в пределах здания, а всего здания – восемь двухместных номеров, зал и кухня. Машины, я так поняла, три персоналу принадлежат. Давно не отъезжали, со вчерашнего дня минимум. И марки так себе – один «Лансер», два «Хёндая» (готовясь к работе в параллели, девушки марки машин не хуже дилеров изучили. С их памятью – полдня проспекты и справочники полистать). Остальные – гостей. Две – «Ниссан» и «Ауди» – с петербургскими номерами. Думаю, на них одна компания приехала, три женщины в пределах тридцати лет, двое мужчин чуть постарше. Все за одним столиком сидят, выпивают прилично…
– Опять неясность, – теперь уже впрямую проверяя аналитические способности девушки в новом мире, сказал Фёст. – Зачем устраивать плотную пьянку, час до города не доехав?
– Чего же неясного? Едут из Питера, спешить им, очевидно, некуда, а может, и вообще в Москве встречаться им нельзя… Есть между ними какие-то непростые отношения, мне показалось. А здесь посидят как следует, день проспать можно, а там уж не знаю. Зато остальные… Один чётко под словесный портрет Ашинбергаса попадает, и блок изо всех сил мигает. Второй в полевой форме с генеральскими погонами на базе «зубров» был и в бэтээре ехал. При них два парня, у нас не зафиксированные – явно охрана. Две женщины с ними, хоть и под посторонних шлюх маскируются. Не дешёвых, понятно, но всем видом для «опытного глаза» прямо подчёркивают, что не жёны, не постоянные любовницы, не коллеги по работе…
– Ну вот для нас с вами, – удивляясь, что надо растолковывать такие вещи, пожала плечами валькирия. – Телохранители выполняют свою работу. Им не нужно, чтобы об этом кто-то догадывался. Чем лучше всего отвлечь внимание? Именно такой маскировкой. Если у меня, простите, отстегнётся чулок, вы будете не столько смотреть мне на лицо, сколько ждать, когда я спохвачусь и стану его пристёгивать. Так и тут, сообразив, что перед вами проститутки «высокого разбора», ловящие клиентов, вы станете заинтересованно наблюдать, как этот процесс у них происходит. Почти любой мужчина будет ставить себя на место «заманиваемых», поскольку в обычной жизни такое далеко не всем выпадает.
– Молодец, поручик, – впервые назвал Фёст девушку её недавно полученным чином, – только не нужно всё время меня в пример приводить. Я – типаж нестандартный. И наблюдать за ними может человек, которого твои чулки и чужие шлюхи интересуют меньше, чем непосредственная работа.
– Ой, простите, Вадим Петрович. Это я… Ну, просто фигура речи… Я вас правда в виду не имела.
– Ещё бы, – хмыкнул Фёст. Между делом провёл с девчонками ещё один урок. – А в целом молодец. Четыре с плюсом. Предложения есть?
– Какие тут особые предложения? Подождать, когда к машинам пойдут, и брать. Основных клиентов, конечно. Охрану просто обездвижить…
– Вот здесь – тройка с минусом. Нам ждать некогда – это раз. С кем и о чём они успеют наговориться и договориться – два. Где гарантии, что через час, например, за ними не приедут сразу пять БТРов и рота охраны? Какие, кстати, эмблемы у генерала?
– Пограничные.
– Вот именно. А тут два аэропорта рядом, значит…
– В ресторан пойдём мы вдвоём, прямо сейчас, – сказала, как о деле решённом, до того молчавшая Вяземская. Она уже научилась, у Анастасии, кстати: – Если твой мужчина разговаривает с кем-то из подчинённых, ни в коем случае не вмешивайся, ни советами, ни замечаниями. Лучше всего делай вид, что ты вообще предмет неодушевлённый.
Но сейчас вопрос был задан чисто служебный, всем троим адресованный, кто первый сообразил, тот и отвечает. Тем более вид у Марии и Инги был не для ресторана, не только одежду имея в виду, но и выражения лиц. Только Людмила, что проверено на практике, могла без специальных усилий выглядеть натуральной Барби, увеличенной до человеческих размеров. И платье у неё было чистое и вполне элегантное (для путешествий), и пока ехала, одной рукой руль держала, другой причёску привела в относительный порядок.
– Верно, поручик Вяземская (Фёст при каждом удобном случае обращался к Людмиле как можно официальнее, но это вызывало только понимающие улыбки у него за спиной, а девушку, от которой улыбок не скрывали, сильно раздражало), пойдём мы с вами. Вы, Вирен и Варламова, скрытно прикрываете подходы к мотелю со всех направлений, не только трассу контролируете. Силу применяете в случае непосредственной угрозы или, мало как бывает, прорвётся кто-то, нас с Людой нейтрализовав… Стрелять в крайнем случае, если парализаторы не достанут.
Фёст подъехал прямо к ступенькам мотеля с громыхающей в салоне музыкой, посигналил, спросил у выскочившего охранника, работает ли ресторан, где поставить машину и охраняется ли стоянка. Получив удовлетворяющие ответы, почти бросил ключи парню, полностью подходящему под определение: «Не так умён, как широкоплеч».
– Поставь там…
И в зал вошёл, как хозяин, привыкший, что метрдотель встречает у дверей с поклоном и официанты бегут скопом, кто меню подаёт, кто стулья отодвигает…
Здесь этого не было, и Вадим недовольно поморщился.
– Столовая «Военторга», – брюзгливо сообщил он следующей на полшага позади, как и положено секретарше, Людмиле. Разница в возрасте и манерах не позволяла принять её за жену.
Он играл, заведомо переигрывая, исходя из того, что зрители у него – не искушённая мхатовская публика. Ему сейчас хотелось просто немного повалять дурака, снимая нервное напряжение и физическую усталость. Именно такого персонажа изобразить, заведомого дурака и хама, естественного в своей карикатурности. Вообще, везёт ему на театральщину: жизнь сама, словно Иван Васильевич у Булгакова в «Театральном романе», заставляет абсолютно бессмысленные на первый взгляд этюды разыгрывать. На второй, впрочем, тоже. Тем интереснее будет переход от фарса с буффонадой к суровой прозе жизни.
Они прошли к зеркальной (прямо как в старой «Праге») стене, к двухместному столику, прямо напротив тех, где сидел Ашинбергас с компанией. Два мужика и одна вульгарная баба за столиком почти у двери контролируют и вход и окно, сам «объект», генерал и вторая девица, поприличнее – под окном, отслеживают дверь, барную стойку и вторую дверь, в глубине подсобки. Все сильно напряжены, не глазами только, всей психикой сразу Вадим почувствовал, как только вошёл.
Впрочем, дислокация «клиентов» не имела никакого значения. Что его узнают, Фёст не боялся. До вчерашнего дня их пути с персоной такого уровня никак не пересекались. Да и вчера Вадим его в бинокль видел, а тот – нет. То есть риска в дерзкой, по меркам спецслужб, выходке Ляхова не было почти никакого. Зато со своего места он мог наблюдать за объектом, не поворачивая головы, точнее – при любых её поворотах.
Кроме того, он сейчас использовал тот же самый приём, что и телохранители Фёдора Давыдовича. Несмотря на бессонную ночь и походный наряд, его спутница была ослепительно хороша. Остальные пять не самых страшных на этом свете женщин, присутствующие в зале, сразу превратились в невыразительных статисток из чёрно-белого фильма, снятого любительской восьмимиллиметровой кинокамерой.
Глаза абсолютно всех присутствующих в зале мужчин, включая бармена и официанта, зафиксировались на прекрасной незнакомке. Да и не только мужикам – женщинам было на что посмотреть и чему поучиться. Как носить платье, как двигаться, как смотреть по сторонам – на посторонних и своего кавалера. Ногу за ногу Людмила только что закинула отработанным движением – обязательно его надо перенять. Такие вот «штрихи» и позволяют классному разведчику отвлекать внимание наблюдателей от одних вещей и привлекать к другим, второстепенным. Например, к мысли – ну что в этой девке такого особенного, что глаз не оторвать? Было б на ней написано, что она очередная «Мисс Вселенная» или новая фаворитка Прохорова – понятно. А без такого лейбла? По отдельности – всё то же самое, что у любой здесь присутствующей.
Только Ашинбергаса «предутренняя дива» не отвлекла. Странный каприз генетики – он не выносил красивых женщин. Абсолютно. Всеми своими частями тела и манерами они оскорбляли его изысканный вкус. Не только живьём, даже на картинках. Но и геем при этом Фёдор Давыдович не был. Так, нечто среднее…
Зато спутник светловолосой девицы, чересчур вызывающе, как Мэрилин Монро, вихлявшей на ходу даже под широкой юбкой заметным задом, его сразу напряг.
Память у седоголового была под стать прочим личным качествам, и он сразу почувствовал, что знает спутника красотки. Ещё через несколько секунд сообразил, откуда именно. Ну, конечно, его портрет имелся в материалах, относящихся к позапрошлогодней акции «Хлопок одной ладонью». Нашёлся же дурак, придумавший подобную кодировку. Буддист трахнутый. Тем самым она и закончилась. Нет, чтобы назвать по-человечески: «Несокрушимая свобода» или «Ловите конский топот». Может, и закончилось бы всё совсем иначе.
А этот тип значился как один из командиров спецподразделений, прибывших для ликвидации опорных пунктов предыдущего заговора, направленного против параллельной реальности.
Да, Фёдор Давыдович был вполне осведомлён о существовании другой России, даже входил в ближний круг тех, кто планировал захватить власть там и использовать неизвестный, недоступный, неуязвимый и неисчерпаемо богатый мир в собственных интересах. Что ж, в тот раз не срослось, более того – помешали люди именно оттуда. И этот (фамилию установить не удалось), но на нескольких фотографиях и видеозаписях его внешность компьютерно выявлена, идентифицирована и внесена в реестр. Командир не очень высокого ранга, но в кадр ухитрился попасть неоднократно, всё время – с оружием.
О том поражении не забыли, просто на некоторое время переключились на другие цели. Поразительно – всё опять сразу пошло кривовато. Возможно, оттого, что и тут появилась эта вот личность.
Если мыслить строго аналитически, игнорируя так называемый обыденный здравый смысл, – можно предположить, что он сотрудник некоей организации, работающей и там, и там. Нечто вроде межвременной полиции? Тогда и девица становится понятнее. Сам Ашинбергас не удосужился посетить тот мир, сначала думал, что успеет, а потом уже ничего не думал по причине отвращения к праздным мыслям и напрасным сожалениям. Но те, кто там побывал, в один голос утверждали, что в наличии реконструкция всех сразу вариантов рая. На любой вкус. И словно в мусульманском – на каждом шагу гурии. В смысле – весьма красивые, генетически намного более совершенные (ибо не было там ни войн, не революций и наличествует почти полмиллиарда здорового и всем довольного русского населения) женщины. Впрочем, как уже было сказано – Фёдору Давыдовичу это было бы интересно, имей он возможность любую не спеша, с оттяжкой, отхлестать солдатским ремнём по обнажённым частям. Но предположить, что девица именно оттуда, такая акцентуация воображения не помешала.
Зато в остальном крышу у него всё-таки сорвало. Два крупнейших политических и военных провала за сутки, и оба – с непосредственным, почти запредельным риском для его не то чтобы драгоценной, но крайне важной для судеб мира жизни. Третий раз – уже многовато. Хотя он, в крайней нервности, успел за полчаса выхлестать четыре больших рюмки водки, оттого началась некоторая неадекватность восприятия.
Вообразить, забыв о теории вероятности и просто азах оперативной работы, что этот человек, позапрошлым летом захвативший важнейший пункт управления возле Красных Ворот, сейчас явился именно за ним, в его состоянии было проще простого.
А вот допустить, что он пришёл сюда один, без прикрытия и сопровождения, кроме своей девицы, – это можно было только в начальной фазе острого реактивного психоза, подкравшегося совсем незаметно.
Однако у Ашинбергаса сработал именно такой рефлекс – стрелять немедленно, пока этот человек ещё не осмотрелся, причём не в него, а в девицу. Людмилу он, тоже ассоциативно, счёл обычной «бодигардшей», как и самого. Полетят клочья из её спины – на какую-то секунду это «пришельца» ошеломит, свой пистолет достать не успеет. Расстояние тут плёвое, секунда дела – и четверо специалистов одного не слишком могучего парня скрутят. Вязать его, в машину – и ходу! Есть где спрятаться, а завтра по всей Москве такая буча начнётся – не до отдельных людей будет.
Дурацкий, откровенно говоря, план, – любой бы ему сказал, тот же и Гнедин, если б Ашинбергас с ним поделился.
Самым умным человеком среди заговорщиков оказался подполковник Батарчук. Тот, стоило им отойти на сотню метров от горящего и встряхиваемого взрывами боекомплекта БТРа, решил, что с него по-любому хватит. Мгновенное и бессмысленное убийство Ашинбергасом двенадцати верных солдат сильно на него подействовало. Командир «зубров» внезапно молча шагнул в сторону – и всё на этом. В лесу вокруг базы он хозяин и вообще специалист по партизанским и контрпартизанским действиям, такого даже в Парке имени Горького днём с собаками не сыщешь.
Хорошо (а теперь хорошо ли?), что Ашинбергас с генералом не заплутались, верно к дороге вышли. Ну и решили, на свою беду, перевести дух, закусить-выпить час-другой, а уже потом ехать. Известно, что рядом с фонарём всего темнее – если кто и заметил прорыв одинокой бронемашины, так едва ли вздумаёт её искать, и уж никак не в двух шагах от места боя. По любой логике беглецам полагалось бы с полсотни километров отмахать, а всего вернее – укрыться в одной из сотен наверняка имеющихся в центре и на окраинах Москвы конспиративных квартир. Самое логичное, если завтра (то есть уже сегодня) власть брать предстоит.
Фёст, в свою очередь, не ожидал столь бурной реакции со стороны «пациента». Он тоже думал, что игра пойдёт «в одни ворота». Посидят они с Людмилой, осмотрятся, выберут подходящий момент и сделают, что задумали.
Вместо этого вальяжный седоголовый мужчина, которому бы пристойнее было заседание совета каких-нибудь директоров открывать или бюро обкома партии, вдруг вскочил, заорал своим охранникам: «Взять его! Живьём!», указывая левой рукой на Ляхова, а правой довольно сноровисто выхватил из-за отворота синей, на вид шерстяной, а может быть, и кевларовой, куртки пистолет, марку которого опознавать было некогда.
Ресторанный зальчик был очень небольшой, метров десять на двенадцать от силы, и размещалось в нём, кроме барной стойки, всего дюжина столиков с соответствующим количеством стульев. Так что пространства для маневра у противоборствующих сторон было совсем мало.
Реакция у Людмилы была, безусловно, значительно быстрее, чем у кого бы то ни было, но ей в первую же секунду пришлось рассредоточить внимание – между самим Ашинбергасом, его бодигардами и якобы посторонней, а там кто их знает, компанией. Как лётчику-истребителю в круговерти воздушного боя с численно превосходящим противником.
Главной целью она выбрала седоголового и его сотрапезников. С трёх сторон численность врагов одинаковая, гендерный состав тоже – по два мужика и одной бабе. Но охранники ломанули вперёд, опрокидывая стулья, мешая друг другу и пока не обнажая стволов, а у Ашинбергаса пистолет уже был на виду. Опытному стрелку довернуть его на тридцать-сорок градусов полсекунды хватит. И одновременно спуском самовзвод можно вытянуть.
Тем более до его столика было почти вдвое дальше, чем до других. Если начнёт стрелять – его уже не остановишь, кроме как огнём на поражение, что было ей категорически запрещено Фёстом.
Заодно Люда понадеялась, что первый натиск агрессивной, но пока безоружной тройки Ляхов как-нибудь выдержит. Его ведь тоже намереваются «взять тёпленьким», «просто так» убивать не станут. Вяземская рассчитывала, что успеет обернуться в оба конца.
К сожалению, на то, чтобы достать и включить блок-универсал, девушке требовалось втрое больше времени, чем выдернуть из-под вздёрнувшегося до самого края кобуры подола платья пистолет. Пришлось действовать в стиле и духе текущего времени. Что бы ей, садясь за столик, сразу достать портсигар, намереваясь закурить?
Фёст стрелять умел и вообще был неплохим фронтовым офицером, но и не более того. Даже на Юла Бриннера не тянул, не говоря о прочих киногероях следующих пятидесяти лет. Как Остапа можно было напугать простым финским ножом, так и его вырубить одним ударом лома или кардана от «ГАЗ-51». Пока Вадим входил в ситуацию, Людмила приняла единственно верное, но почти самоубийственное решение. Гомеостат гомеостатом, но совсем не факт, что, получив экспансивную пулю сорок пятого калибра в лоб, удастся выжить и с его помощью.
Она из положения «сидя» метнулась в сторону Ашинбергаса, одновременно сильным рывком сдёрнула Вадима со стула на пол, выхватила из-под платья «беретту» и, летя во флешь-атаке, открыла беглый огонь под прямым углом к направлению своего броска. Это уже просто на испуг, сбить нападающим кураж. Попадёт – не попадет – уже не суть важно.
Всё это заняло от силы две секунды, но всё ж таки валькирия не успела, совсем чуть-чуть. Главный противник каким-то чудом выиграл четверть секунды времени и метр расстояния. Он нажал на спуск, одновременно зажмурив глаза – слишком страшна была летящая прямо в него живая торпеда или та же пресловутая пантера. Пистолет у Ашинбергаса успел на пределе возможностей автоматики выплюнуть три пули. Первая с метрового расстояния ударила валькирию в грудь, наискось вдоль тела ушла в подмышку, где брони не было, ещё две – прямо в живот, когда дульный срез уже упёрся в тело, а потом Людмила своей массой, помноженной на квадрат скорости, опрокинула Ашинбергаса на генерала. Уже теряя сознание, сама выстрелила в лицо вскинувшей двумя руками «глок» телохранительницы, и все четверо с грохотом обрушились на пол.
За это время Фёст успел включиться в процесс. Заранее снятый с предохранителя «Хай пауэр», выдернутый из плечевой кобуры, плотно лег в руку, и Вадим открыл беглый огонь, как учили инструкторы-рейнджеры на «Валгалле» – прямо от груди, не пытаясь выпрямить руку и тем более целиться. Бой шёл на оптимальной пистолетной дистанции – до десяти метров. Стрелял Вадим лёжа, снизу вверх, во всё, что мелькало в доступном ему секторе. Направленных в него выстрелов и грохота сыплющейся зеркальной стены, похоже, и не слышал. Жал и жал на спуск, думая о том, что не видит Людмилу, не слышит её голоса и это очень плохо…
Он ещё успел перекатиться вбок, лежа на спине дважды выстрелил во вторую бодигардшу, поднявшуюся на колени и тянущую руку с пистолетом в сторону вцепившейся в горло Ашинбергаса валькирии. Увидел, как из сквозных пулевых пробоин в груди лошадеобразной бабы брызнула кровь на светлое дерево стены. Тут патроны кончились, и браунинг стал на затворную задержку. Сразу стало тихо. Оказывается, последние секунды, кроме него, уже никто не стрелял. Некому было.
Что совершенно удивительно – «гостей из Питера» не задела ни одна из пуль, пронзавших стены, окна, двери и воздух между ними. Сейчас они, хоть и профилактированные от чрезмерного нервного перенапряжения выпитым алкоголем и вообще настроенностью на всякого рода дорожные приключения, в ступоре прижались к стене и спинкам стульев. Даже на то, чтобы упасть на пол, тем самым «сжав мишень», ни у кого из них не хватило времени и реакции. Да и почти весь огонь, на их счастье, велся в противоположном направлении. Бодигарды, получив команду «взять живым», кинулись исполнять её буквально. А если втроём бросаешься на противника, сидящего прямо напротив в расслабленной позе, оружие ни к чему. И так всё заранее ясно.
Фёст мельком удивился, как это у него ловко получилось – считай, палил в белый свет, а ни разу не промазал. Квалификации хватало, чтобы просто по позам разбросанных по полу тел понять, что в «контрольном выстреле» никто не нуждается. Кого и сколько успела положить Людмила, пока он не начал стрелять, Ляхов не представлял.
Как будто кто-то успел включить режим растянутого времени, так медленно, словно проталкиваясь сквозь вязкую преграду, ползли секунды. Вот, кажется, совсем остановились. Взгляд упёрся в лежащую на спине, раскинув руки и ноги, телохранительницу с двумя едва кровоточащими ранками, симметрично над каждой грудью в глубоком вырезе платья.
«Чётко попал!» – подумал Фёст отстранённо.
И только потом кинулся к Людмиле, навалившейся на врага, сжавшей руки у него на горле, и – неподвижной. Из всех четверых, лежащих на полу, признаки жизни подавал только пограничный генерал, пытающийся освободить придавленные столом и Ашинбергасом ноги. У женщины с чёрным пистолетом между чёлкой и густо накрашенными губами смотреть было не на что.
Вадим, не задумываясь и не раздумывая, пнул пограничного генерала в бок рубчатой подошвой ботинка, не соразмеряя силы удара. Лишь бы не помешал…
Упал на колени, одним движением повернул невесту лицом к себе.
В этот же момент по ушам ударил пронзительный визг одной из пришедших в себя «туристок». Кто-то из спутников громко цыкнул, и женщина замолчала.
Корсет Людмилы удержал только первую пулю (что не очень помогло, срикошетившая пуля ушла куда-то к лопатке, хорошо, не задев лёгочных сосудов). Две другие, снабжённые стальными сердечниками, пробили кевлар с карбоном по центру живота и остались внутри, потому что на спине выходных отверстий не было.
– Ничего, это ничего, – бормотал Вадим. – Даже на фронте не смертельно, лишь бы в первые три часа на стол…
Потом до него с задержкой, как до гранаты с выдернутой чекой, дошло, что никакого стола, никакого ПМП или медсанбата поблизости нет, есть большой город Москва, институт Склифосовского… Потом, наконец, мозги прояснились. Да гомеостат же! Наверняка уже начал действовать…
Людмила открыла глаза. Попыталась улыбнуться.
– Ты в порядке? – прошептала с усилием. О нём, значит, всё время думала, даже на пули бросаясь…
– Да господи, я-то при чём? Как ты себя чувствуешь?
– Болит, там, под горлом, не сильно… дышать трудно… Не беспокой… ся…
Но видно было, что болит очень сильно, а кровь она теряет стремительно. Губы синеют, и глаза закатываются… Сколько же минут нужно, чтобы эта чёртова машинка, гомеостат, начала действовать?!
Капитан медслужбы Ляхов прекрасно понимал, что там у девушки сейчас внутри творится. Две тяжёлые пули, при ударе о титаново-кевларовое препятствие деформированные, пробили брюшной пресс и начали совершенно произвольно метаться между петлями кишечника, желудком, печенью. А там ведь и аорта рядом. Начни автор сейчас в подробности топографической анатомии и оперативной хирургии входить – не всем читателям понравится.
Но раз жива – обязательно выкарабкается. Фёст прижался губами к щеке любимой.
– Ты держись, держись, сейчас всё пройдёт… Сейчас, сейчас…
Никогда до этого момента Вадим не испытывал такой смеси щемящей жалости, стремления помочь и собственного бессилия. Даже будь они сейчас в его армейских времён «автоперевязочной»[80], что бы он смог сделать? У Люды внутренняя кровопотеря под два литра…
Но, слава богу, гомеостат наконец начал действовать. На самом ведь деле прошло не больше пяти минут. Нужно же было «машинке» хоть как-то разобраться, что случилось с вверенным организмом.
Похоже, разобрался. Блокировал все разбитые и разорванные сосуды, в несколько раз повысил выброс тромбоцитов в кровь и эндорфинов в нужные области мозга. Глюкозы, сколько есть – в сердечную мышцу… Это для начала. Дальше пойдёт кропотливый и тонкий, на уровне почти каждой молекулы, процесс.
С лица девушки на глазах начала уходить предсмертная землистость, губы чуть порозовели.
– Я тебя люблю, – прошептала Людмила, взмахнув своими несравненными ресницами. Догадалась, что всего шаг отделял её от окончательного расставания с первым и единственным мужчиной. – Люблю. Не ругай меня. Я всё правильно сделала?
– Да правильно, правильно, родная. Сейчас вернёмся домой, я тебе объясню, как на самом деле надо было… – это он опять говорил, чтобы у неё стимулов прибавилось. Как перед командиром отчитываться, если выжить не сумеешь? Не поймёт командир. А любимый как же без неё?
Ох и возбудилась Инга Вирен, пока не зная, отчего конкретно, но услышав дробь двух десятков перекрывающих друг друга пистолетных выстрелов. Куда быстрее, чем Мария (ещё одно подтверждение, что валькирии были не тупыми клонами, а вполне самостоятельными личностями с индивидуальными умом, силами, темпераментом), она метнулась через дорожное полотно, из глубокого кювета возле автостоянки, взлетела по ступенькам крыльца, почти не заметив, что её кинетическая энергия снесла на жёсткий бетон зазевавшегося охранника.
Вышибла ногой дверь против её обычного распаха (кто не знает – двери общественных помещений всегда открываются наружу), а тут створки с хрустом вывернулись внутрь. «ППС» у бедра, ещё чуть-чуть, и начала бы крестить зал вдоль и поперёк, сверху вниз. Дошёл до неё «некробиотический эмоциональный взрыв» от подруги, почувствовавшей, что умирает.
Остановилась, наткнувшись не на стену, сначала на ментальный посыл Фёста, чуть позже – на безмолвный призыв увидевшей её «двести девяностой», почти что самой младшей из всех сестрёнки.
– Инга, сюда…
Искажённый горловым спазмом голос полковника Ляхова сразу привёл валькирию с тевтонской фамилией в безукоризненно спокойное состояние. Как майора Мак-Набса из «Детей капитана Гранта», никогда не терявшего абсолютного хладнокровия на протяжении романа.
– Слушаюсь, Вадим Петрович. Что с Людмилой?
– Нормально, – дёрнул он окровавленной щекой. – Мария где?
– На улице, держит окрестности.
– Слушай меня. Настрой блок и перекинь нас на Столешников в этой Москве. Напрямик. Сама знаешь как… И вот этого с нами, – он ещё раз сильно пнул Ашинбергаса. – Генерала забирайте с собой и на машинах гоните туда же. Здесь – оставьте как есть. Поняла?
– Поняла, Вадим Петрович!
– Включай своим, у меня видишь, руки заняты…
Инга, совсем немного помешкав, нашла нужную комбинацию на клавиатуре, потянула Фёста за рукав.
– Давайте наружу и два шага за угол. Зачем это им видеть? – Она указала на пятерых зелёных от страха и густого запаха крови «туристов» и высунувшихся, когда смолкли выстрелы, официанта с барменом, судя по возрасту, ещё помнящих бандитские «стрелки» начала девяностых.
Инга с не девичьей силой выволокла Ашинбергаса на крыльцо, ухватив за дорогой, возможно и крокодиловый, поясной ремень, и дальше, по ступенькам, не заботясь о целости его лица и прочих выступающих частей тела.
Она совсем не интересовалась, почему Фёст принял именно такое решение. С точки зрения логики войны не самое очевидное. Нужно – значит нужно.
Проход открылся, Вадим с Людмилой на руках перешагнул в прихожую здешней квартиры, чтобы не тревожить межвременную ткань. Принято считать, что чисто пространственные переходы почти безопасны. Следом Вирен перекинула до сих пор бесчувственное тело живого «лидера народного восстания».
– Так мы поехали, Вадим Петрович?
– Езжайте, только оч-чень аккуратно. – Фёст только сейчас подумал, что две девчонки в чужом мире, с безжалостно скованным жёсткими наручниками генералом погранслужбы в машине прилично рискуют.
Валькирия его поняла.
– Проскочим, господин полковник. Если в вашем мире городовым не хватит располагающих улыбок красивых девушек, могут нарваться на кое-что другое… Вы же нас за это не накажете?
И глядя в красивое, но с недобро сощуренными глазами лицо Инги, не могущей оторвать взгляда от еле-еле улыбнувшейся и ей тоже Вяземской, он подумал, что совсем не завидует менту, вздумавшему валькирий остановить.
Размеры квартиры были достаточны для того, чтобы десять, а то и больше человек могли находиться в ней не пересекаясь, а иногда и не подозревая о присутствии друг друга. Особенно если знать особенности её планировки. Построенная в архитектурной стилистике конца девятнадцатого века, она так и задумывалась – хозяева и обслуживающий персонал должны существовать в пространствах, взаимодействующих достаточно условно. Апартеид[81] своего рода. Этому способствовала система коридоров, по-особому связывающих господские комнаты и прихожую с парадным входом, а кухню, помещения горничной, кухарки, приходящей прислуги – с чёрным. Вдобавок жилые комнаты имели по две, а то и по три двери, позволяющие использовать их как изолированные или смежно-проходные. А если учесть, что несколькими дополнительными переходами три зеркально-подобных, но существующих в двух пространствах и неизвестно скольких временах квартиры были связаны воедино… Получалась очень интересная не только в инженерном, но и философском плане конструкция. Хайнлайна бы сюда пригласить…[82]
Поэтому Фёст, не попавшись никому на глаза, прошёл в комнату Людмилы, уложил девушку на кровать, раздел, теперь уже спокойно и тщательно осмотрел раны и повреждения. Входные отверстия на самом деле выглядели совсем нехорошо. Трудно сказать, помогли бы Вяземской самые квалифицированные хирурги с наилучшим оборудованием. Скорее всего, его ненаглядная была бы уже в той самой Валгалле, куда «по должности» ей полагалось доставлять павших в бою воинов.
Но сейчас-то всё будет нормально. Уже становится… Пока валькирия чувствовала себя так, будто получила три сквозных ранения из обычной трёхлинейной винтовки. Необходимая помощь уже оказана, сделана перевязка и укол промедола. Не слишком приятно, конечно, но прогноз благоприятный.
– Эх ты, героиня… – Вадим присел на край постели, положил ладонь девушке на щёку. – Кто ж тебя учил Матросова из себя изображать? Спокойно бы, прямо из-под платья, из двух стволов… И порядок.
– Он же пистолет поднимал, а ты сказал – живьём брать… – Людмила виновато улыбнулась.
– Ну и влепила бы ему в коленку или просто промеж ног. Лучше б его сейчас лечили, а не тебя. А потом бы мы остальных в три ствола покрошили…
– Ну, прости. Я просто очень за тебя испугалась, и вот первое, что в голову пришло…
– Дурочка ты у меня. «Испугалась»! Это я за тебя пугаться должен, когда ты вечером домой вовремя не приходишь или как сейчас вот… Я теперь вообще в долгах, как в шелках… Герта меня своим телом сзади прикрыла, ты – спереди. Чем рассчитываться буду?
– Не надо рассчитываться. Поцелуй меня…
Вадим коснулся губами её сухих и, слава богу, горячих губ. И с только что накатившимся ужасом подумал: «А ведь могло случиться, что не в губы, а в лоб целовать бы пришлось. Последний раз…»
– Пить хочешь? – спросил он. По всем канонам, она бы сейчас должна испытывать мучительную жажду. Разрывы кишечника, желудка, огромная потеря крови…
– Нет. Да не бойся ты за меня. Все же в порядке, гомеостат работает, а он сам всё регулирует. Вот смотри… – она говорила тихим, но ровным, не внушающим опасений голосом. Фёст всё время ловил себя на том, что реагирует на всё, как обычный неграмотный мужик у постели жены в реанимации. Нервничает, дёргается. Забыл и о том, что сам врач, и о свойствах гомеостата. Тут ведь совсем по-другому. Если даже после обычной операции по поводу аппендицита больной имеет точно определённый статистикой, так сказать, законный шанс умереть (до трёх процентов, между прочим!), то здесь исключается даже миллионная доля. Если только гомеостат вдруг сломается, что лежит уже в зоне отрицательных реальностей… Так есть ещё девять запасных…
Людмила протянула Ляхову руку. Он только сейчас удосужился посмотреть на экранчик прибора. До этого всё своим умом соображать пытался.
Зелёная засветка, обозначавшая остаток жизненного ресурса пациента, занимала сейчас процентов двадцать окружности. Но, как ему было известно из инструкции, с самым узким зелёным лучиком потерпевший приходил в норму за сутки-двое. Можно было бы сейчас же получить точный список имеющихся нарушений «постоянства внутренней среды организма» и прогноз по каждому, но Вадиму этого совершенно не хотелось. Сейчас он не врач, просто встревоженный муж. А кому приятно прочитать в «анамнезе морби» своей любимой: «Многочисленные рвано-ушибленные раны внутренних органов. Огнестрельное разрушение печени. Массированная кровопотеря…» и в этом же роде.
– Ты давай, поспи, – сказал он вставая. – Я сейчас Яланскую пришлю, она с тобой посидит…
– А ты куда? – Глаза Людмилы широко раскрылись, девушка даже попыталась привстать с постели.
– Я совсем никуда. Выскочу на полчаса, нужно девчонок встретить, мало ли… По городу сейчас едут, с оружием и пленным. Милиция остановить может или патруль. Встречу, доведу и сразу обратно сюда. Не бойся ты, ради бога, что ещё может случиться? Со мной две такие же самоотверженные защитницы будут…
Разбуженной Яланской, придремнувшей на диване, согласно Уставу, не раздеваясь, он не стал говорить всего. Хоть и почти своя она, но с гомеостатом и блок-универсалом пока не сталкивалась. Хватит и того, что увидела, как через обычную квартиру в другой мир попасть можно.
Отчего и не удивилась поручик, увидев, что Ляхов вошёл беззвучно, да ещё и раненую Вяземскую привёл. Что он её мог пронести на руках, по хоть и предутренней, но всё же никогда не бывающей пустой Москве – в голове не укладывалось.
– Вышла у нас там небольшая перестрелочка. Корсет помог, но не совсем. Под кожей две пули застряли, мышцы не пробили. Я всё, что нужно, сделал, но сама понимаешь – шок. Побудь с ней. Вставать ей пока не надо, есть, пить, курить – тоже. И разговаривать не позволяй. Пусть поспит, сколько получится. А я ещё кое-куда сбегаю… ночь сегодня беспокойная вышла, ты уж извини.
– Да о чём вы, Вадим Петрович? Тут у вас в сто раз лучше, чем в гарнизонном карауле…
– Что да, то да, Галя. Не столько, пожалуй, лучше, сколько веселей…
Но глаза у него, наверное, были слишком выразительные, так что Яланская не сдержалась. Погладила ладонью по рукаву.
– Не переживайте вы так. Жива ведь, и в сознании. С каждым может случиться. Если б плохо было, вы её в госпиталь бы отвезли. А раз домой…
– Да всё так, Галя, всё так, но сама ж понимаешь. Спасибо за сочувствие. Побежал я…
Глава десятая
С утра, часов около семи, пока в Москве не началось интенсивное уличное движение, по всем привлечённым к акции подразделениям прошла команда о начале широкомасштабной, но предельно «деликатной» зачистке города. Было приказано не церемониться в случае попыток вооружённого сопротивления и вести себя «словно на пасхальной неделе» во всех остальных случаях. С гражданами в споры и конфликты не ввязываться, в случае необходимости давать тактичные разъяснения. Местные органы правопорядка, не вовлечённые в заговор, использовать по назначению, для чего у всех советников и консультантов имелись распечатанные копии собственноручно подписанного Президентом «Указа № 1»: о создании «Объединённого МВД», назначении министром генерал-лейтенанта Мятлева Л.Е. и о прямом подчинении ему всех организаций и ведомств, ранее входивших в такие-то и такие-то министерства, службы, федеральные агентства и т. п. Указом оговаривалась также «временная» замена для всех сотрудников нового министерства гражданского судопроизводства исключительно «законами военного времени». Проще говоря, каждый из назначенных министром начальников, от командира взвода и выше, получал право единоличного разрешения всех возникающих в зоне его ответственности проблем, вплоть до применения в ряде случаев «высшей меры», в том числе и собственноручно.
Дом на Столешниковом превратился в аналог Смольного в семнадцатом году. Теперь маскироваться больше не было смысла. В «реальности-2» или, для простоты, «у Секонда» никаких специальных мер предосторожности или сохранения секретности не требовалось, там, как в любом «устоявшемся государстве», девяносто лет не знавшем войн и революций, люди не особенно интересовались вещами, их непосредственно не касавшимися. Что из того, что чуть ли не каждый час в переулок въезжают и выезжают автомобили, гражданские и принадлежащие к военному ведомству, на крыльцо взбегают и с него спускаются необычно одетые мужчины и женщины. Постоянных жителей в переулке мало, большая часть первых и вторых этажей занята магазинами, кондитерскими заведениями, кафе, ювелирными салонами, портновскими ателье, и, за исключением какого-то количества скучающих приказчиков или модисток, просто некому считать и запоминать эти перемещения. Городовые, специально проинструктированные, в случае необходимости предлагали чересчур любопытным, праздношатающимся обывателям «проходить и не скапливаться».
Не то в Москве-первой. Здесь, по обычной манере, каждое мероприятие, значимое и не очень, сопровождалось «усилением», введением планов «Фильтр», «Перехват», «Паутина», «Кольцо» и им подобных. Важные магистрали непременно блокировались, станции метро закрывались для входа или выхода, на перекрёстках появлялись автозаки, патрули милиции, ОМОНа, а то и армии, тяжёлая дорожная техника.
Так и сейчас. Подходы и подъезды к нужному кварталу были перекрыты со стороны Тверской, Большой Дмитровки, Петровки и примыкающих переулков военными «Уралами» и патрулями автоматчиков, словно при проведении «контртеррористической операции» в большом городе. Здесь импровизированным «укрепрайоном» командовал бывший консьерж, Борис Иванович, снова надевший форму с уже подполковничьими погонами, так ему велел сделать Фёст со ссылкой на пресловутый «Указ», и отставной морпех не стал возражать, что «права полного единоначальника» распространяются и на подобный случай. Он теперь с помощью нескольких десятков своих людей, тоже обозначивших свои прежние воинские звания, обеспечивал приём и дальнейшее сопровождение по маршрутам прибывающих группами от отделения до взвода потусторонних штурмгвардейцев.
К каждой группе приставлялся проводник. Боевые приказы и обычные туристические карты-схемы Москвы масштаба 1:10000 межвременные десантники получали от Секонда, развернувшего в прихожей и кухне работающей на «вход» квартиры свой «полевой штаб».
Люди подвозились машинами или подходили пешим порядком к самому обычному дому, поднимались на третий этаж по широкой чугунной лестнице, входили в дверь с приставленным часовым. Командир представлялся полковнику с флигель-адъютантскими погонами, окружённому несколькими офицерами чинами пониже, получал пакет с приказом, инструкцией о правилах поведения и устную информацию о том, что работать придётся хотя и в Москве, но не совсем той, что пока ещё видна за окном.
«Мальтийский крест» вступил в открытую фазу, тайна больше не нуждалась в сохранении, через несколько суток, максимум через неделю полмиллиарда жителей той и другой России узнают о существовании друг друга и уже состоявшемся «воссоединении разделённого народа». Как это воспримут, что станут думать и делать за пределами российских границ, пока никого из «причастных» не интересовало. За исключением небольшой группы аналитиков-«конструкторов будущего».
Затем проводник вёл бойцов по длинному коридору с навощенным паркетным полом и наглухо закрытыми многочисленными дверьми по сторонам. Через минуту они оказывались в точно такой же прихожей, как с той стороны, где тоже работали офицеры в похожей, но всё же другой форме. И погоны вроде одинаковые, но что бросается в глаза – у этих звёздочки у штаб-офицеров крупнее, после штабс-капитана располагаются по-другому и обозначают другие чины. К примеру, вместо одного капитанского просвета – два, с большой звёздочкой между ними. Называется такой чин – «майор», как до турецкой войны тысяча восемьсот семьдесят седьмого года. И дальше тоже – подполковник носит две звезды, полковник – три. Всё остальное – почти неотличимо, включая манеру держаться и внелитературный лексикон.
Открывается выходная дверь, и словно внутрь зеркала шагнул: та же самая лестница с мозаичными витражами, вымощенный синей и белой метлахской плиткой вестибюль, за ним улица. Вот она – совсем другая, только отдалённо похожая, и запахи в воздухе совсем не те, и вывески над входами в магазины, и ползущие в немыслимых количествах незнакомые автомобили.
Потом взвод или отделение опять грузится в кузов автомобиля – и поехали. Присягу исполнять. А её уже приходилось исполнять и в Маньчжурии, и на Турецком фронте, и в Польше. Так какая разница? Тут даже лучше – почти дома, считай.
Очень удачно подобрался руководящий состав этой, по своему грандиозной операции – если учитывать её пространственно-временную протяжённость, а главное, исторические и геополитические результаты. Уж ничуть не меньшие, чем, скажем, у Босфоро-Царьградской, Каховско-Екатеринославской или Висло-Одерской[83]. Разница только в количестве используемых сил и средств, человеческих жертвах и расходе боеприпасов. Что касается отдалённых последствий, так ещё и неизвестно.
Берестин имел опыт руководства, а главное – победоносного завершения первых двух из вышеназванных кампаний, плюс сыграл роль «общего резерва»[84] в обороне Берендеевки, то есть фактически в спасении самого возрождающегося самодержавия.
Фёст с юных лет вообще интересовался историей всевозможных переворотов и заговоров, «от Ромула до наших дней», в том числе (или – в особенности) московских событий 1991, 1993 и 2005 годов, и имел в голове задолго до наступления нынешнего момента собственные теории действия обеих противостоящих сторон. Сейчас их оставалось только разыграть на местности, а не на картах.
Тарханов, Секонд, Уваров, фон Ферзен и большая группа офицеров Генштаба и строевиков из бывших «Пересветов» знали и умели всё, что нужно, исходя из реалий своего мира и только что завершившегося «Пятого польского восстания».
И, что самое главное, – все они обладали той убеждённостью и силой характера, что не позволили бы им бросить дело, не доведя его до полной, абсолютной, с любой точки зрения безусловной победы.
…Двумя часами раньше, оставив взвод штурмгвардии и полсотни ребят помоложе из волонтёров Хворостова для завершения ликвидации базы «зубров», изъятия и подготовки к использованию трофейного оружия и техники, Тарханов, Секонд и сам Хворостов со своим войском совершили стремительный марш-маневр к центру столицы. Самое удивительное, что мятежники повторили двадцатилетней давности ошибку ГКЧП.
«Зубров» следовало бы не держать на своей базе в состоянии «полуготовности», ожидая специальной команды, а одновременно с нападением на дачу Президента, придав им все имеющиеся в наличии силы, вплоть до милицейских нарядов ППС, бросить на захват Кремля, Останкинского телеузла, типографий и редакций влиятельных газет, мест расквартирования потенциально верных Президенту войск.
В таких авантюрах не столько реальная боевая мощь мятежников важна, а быстрота и решительность, переходящая в наглость. К примеру, ставший впоследствии диктатором Сирии капитан Хафез Асад взял власть, имея в распоряжении всего лишь одну артиллерийскую зенитную батарею против всей президентской гвардии, при настороженном нейтралитете армии. Да и Красная гвардия большевиков по сравнению с десятком дивизий, близких к Петрограду и готовых выполнять приказы Керенского (будь они, правда, согласованы с Корниловым и другими генералами), выглядела смешно.
После взятия Кремля заговорщикам следовало бы немедленно начать по всем каналам информационную атаку, совершенно не заботясь даже о правдоподобии своих заявлений. Поднять и вывести на улицы все вооружённые формирования, хоть в какой-то мере готовые выполнять команды того, кто изображает решительность. Точно, как большевики в ночь с двадцать четвёртого на двадцать пятое октября. Нет, мол, больше Временного правительства, а есть теперь мы! И Керенский куда-то сбежал в платье сестры милосердия. А в Зимнем, между прочим, ребята посообразительнее уже до винных погребов добрались… Ну и так далее.
Всё это, кстати, при подготовке переворота подразумевалось. Как и его вторая фаза, скопированная с цеэрушной операции «Фокус» пятьдесят шестого года, сиречь «венгерского мятежа», переименованного с момента сошествия «демократии» в Восточную Европу в «национально-освободительную революцию венгерского народа»[85]. Главари заговора имели твёрдое обещание «определённых сил» обеспечить немедленное признание нового правительства всеми «демократическими» странами, НАТО, ЕС и даже Грузией (после возврата Абхазии, Южной, а заодно и Северной Осетий, а заодно и Карачаевска (Клухори), естественно). Введение «международных сил поддержания порядка» тоже предусматривалось, поэтапно: для усиления охраны западных посольств, для обеспечения безопасности в зонах всех существующих и предполагаемых «межнациональных конфликтов», а уже потом просто для защиты «жизненных интересов», «восстановления исторической справедливости» и «защиты свободы бизнеса» в любой географической точке, от Карелии до Астрахани и от Курил до Калининграда.
Были уже распределены посты в «правительстве народного доверия и единства», разными способами нейтрализованы руководители и старший комсостав расквартированных в Москве и области подразделений «силовых ведомств». Как, например, был обезоружен и заблокирован в своём расположении друг Мятлева, начальник областного ОМОНа. А очень многим достаточно было устных указаний вышестоящих лиц делать «то-то и то-то» или же просто «не лезть не в свои дела». Очень действенная, между прочим, в наших условиях методика саботажа деятельности государственной власти. В некоторых случаях указания подкреплялись какими-то реальными материальными стимулами, но гораздо чаще достаточно было обещания не изымать «в пользу народа и государства» уже добытое «непосильным трудом».
Но как-то вдруг в последние, самые решающие, «судьбоносные» часы всё забуксовало. Разладилось. Будто из руководителей операции выдернули стержень. Неизвестно почему Ашинбергас, вместо того чтобы вызвать по тревоге весь батальон «зубров» в своё распоряжение, поехал туда сам. Как будто подсознательно выбрал из нескольких вроде бы равноценных тропинок ту, что вела в болотную трясину или на минное поле.
Номинальный глава, «организатор и вдохновитель» заговора, известный под кличкой Директор, а самым близким соратникам – как Владислав Борисович, после бегства Фёдора Давыдовича из окрестностей президентской дачи перестал отвечать на телефонные звонки. Даже по самым конфиденциальным, для ближайших соратников, номерам. Без всяких там компьютерных штампов: «Абонент временно недоступен. Перезвоните позже». Просто никто не брал трубки.
Многие другие руководители «отраслей», «тем» и «направлений» просто сидели и тупо ждали, когда наконец «всерьёз начнётся». Готовые «активно поддержать», но вот высовываться первыми – увольте. Точно как на фронте, когда готовая к атаке цепь лежит и ждёт, чтобы или командир первым рванулся через бруствер, или заградотрядники начали сзади стрелять.
Как раз в секретную резиденцию Директора на Мясницкой и поехал Фёст, встретив «Самшиты» с валькириями и пленными на Волоколамском шоссе, не доезжая Тушино. Опасался он за девчонок, у них, в отличие от Людмилы и Герты, здешний московский опыт – никакой. Теория теорией, а даже ему сейчас было бы очень не по себе (как когда-то Тарханову)[86], окажись он на улицах Нью-Йорка с двумя явно похищенными людьми в машине, с незарегистрированным и совсем недавно стрелявшим оружием. Зато в Москве он ничего не боялся, тем более рядом сидела Инга с готовым к действию блок-универсалом. Следом, в двадцати метрах позади, едет Варламова. Её и его блоки – в режиме прямой голосовой связи.
Но обошлось, доехали спокойно, не встретив по пути ни одного патруля. Вообще. Это было странно и наводило на некоторые мысли. Сейчас бы, наоборот, должна царить суматоха, непонятное непосвящённым перемещение людей и машин, свет должен гореть в окнах, за которыми «начинала твориться новая история». Снова тот же, изображённый в сотнях фильмов и тысячах книг, октябрь семнадцатого. Да хоть Маяковского почитать!
А здесь всё неправильно, здесь будто заснули все. И те, кому положено воплощать в жизнь «планов громадьё», затаились, словно прячась от самих себя.
За полквартала от вычисленного Гертой дома на Мясницкой остановились, свернув в переулок.
– Ну, вылезай, покатались, – предложил Фёст Ашинбергасу, вытаскивая его за цепочку наручников на тротуар. Тот уже достаточно пришёл в себя, чтобы держаться вертикально и самостоятельно переставлять ноги.
– Заглянем к вашему Директору, если он ещё не сбежал. Впрочем, сравнительно легально ему теперь сбежать вряд ли удастся, разве что в «известном месте» его ждёт подводная лодка капитана фон Цвишена…[87] И чтоб без шуток, сволочь. Я с тобой ещё за свою жену не рассчитался…
Фёсту и валькириям не составляло никакого труда держать главаря мятежников под прицелом блок-универсалов и при необходимости парализовать его или испепелить. Но Вадим хотел, чтобы седоголового проняло по-настоящему. Он взял из ранца Инги самую обыкновенную, древнюю, как «трёхлинейка», и такую же надёжную «РГД-5». Предохранительным рычагом прицепил гранату к поясу Ашинбергаса, в кольцо продел тонкий нейлоновый шнур. Всё это неторопливо, сопровождая каждое действие пояснением.
– Вот теперь пойдём, – сказал Фёст, расстёгивая наручники. – Нам четырёх секунд хватит, чтобы спрятаться, а тебе деваться некуда. Не убежишь и штаны сбросить не успеешь. Хорошо, если сразу убьёт, а то просто ноги оторвёт по самые яйца. Успеешь со вкусом подохнуть. Так что без дураков. Спокойствие, любезность, выдержка. Марш!
Мимо четырёх охранников в вестибюле изысканно-старого дома прошли спокойно. «Старшего» они знали в лицо, по Ляхову просто скользнули полусонными глазами, слегка оживились, только рассмотрев лица и стати валькирий.
– Директор на месте? – спросил Ашинбергас.
– Нам не докладывали. При нас не уезжал.
– А кто ещё на месте?
– Да человек десять сидят по кабинетам. Я фамилий не спрашивал… – старший охраны не стал даже отклеивать задницу от стула. Для него седоголовый не был ни генералом, ни «вождём». Так, топ-менеджер, и «на чай» никогда не дававший.
Коридор второго этажа производил впечатление солидности и устойчивости фирмы. Весьма недешёвое ковровое покрытие на полу, резные двери, стенные ореховые панели, изящные бра и люстры. Никакого якобы долженствующего символизировать продвинутость хай-тека.
Вторая слева от лестницы двустворчатая дверь, без какой-либо таблички. Фёст отодвинул в сторону Ашинбергаса, толкнул её ногой.
Нормальная приёмная. Два полудремлющих парня, один за столом секретарши, другой на диване в углу.
– Встать! – команда прозвучала негромко (чтобы хозяина не потревожить), но, подкреплённая движением автоматного ствола, весьма убедительно. – Оружие на стол.
Парни, так и не придя в себя, выложили самые банальные «ПМ». Несерьёзно.
– Директор у себя?
– С вечера не выходил, – пожал плечами тот, что замещал секретаршу.
– И с такими мудаками госперевороты устраивать! – искренне возмутился Фёст. – Маша, присмотри за этими. Ты, – ткнул стволом между лопаток Фёдора Давыдовича, – открывай.
Разумеется, в кабинете никого не было.
– Ну?! – повелительно сказал Вадим. У него в части одно время среди солдат была мода – заменять этим междометием большую часть русского лексикона, за исключением матерного, естественно.
Ашинбергас, хоть и не служил, понял смысл вопроса-команды. Открыл дверь в правом заднем углу кабинета. Всё верно. Комната отдыха, из неё ещё одна дверь, на чёрную лестницу и во двор.
– Здорово, видать, Герта его напугала, – сказал он Инге, садясь в директорское кресло и закуривая сигару из палисандрового «хьюмидора».
– Напугаешься, если тебя неизвестно кто по имени называет, с указанием точного адреса, – пожала плечами девушка. – Что дальше делать будем?
– А ничего особенного. Этот хрен пусть так и сидит, гранату греет. Удивительно иные простейшие вещи иногда способствуют улучшению нравов. Мы с ним беседовать будем… О королях, капусте и многих других интересных вещах. Вы с Машей пройдите по зданию, всех разоружите, пусть они друг друга свяжут, чем есть, ремнями, колготками и прочими подручными… Найдите, где запереть, соорудите растяжку и возвращайтесь. Работать надо.
Сам, не стесняясь присутствия пленника, вызвал Секонда, доложил ему о предпринятых мерах и согласовал дальнейшие. С явным удовольствием, зная, как её использовать, вытребовал в своё полное распоряжение девичью роту целиком, милостиво разрешив близнецу оставить при себе Вельяминову, Герту и ещё кого-нибудь, на усмотрение.
Слушая его весёлый голос, Ашинбергас сообразил, что девушка, которую Вадим Петрович назвал своей женой, жива и, очевидно, в удовлетворительном состоянии. И, значит, есть шанс как-то договориться. В конце концов, если подходить строго формально, он ведь только оборонялся. Мало ли, что он достал пистолет. Может быть, перед товарищем похвастаться, а она и стрелять начала, и задушить хотела…
Но разговор на эту тему он решил оставить на потом, а пока выполнять, что прикажут. Добросовестно, с готовностью, но без подобострастия.
За следующие полчаса Фёдор Давыдович, вернувшись к исполнению своих прямых обязанностей по руководству мятежом, связался с полутора десятком человек, отвечающих за многие ключевые моменты. Зная практически все концы, Ашинбергас раздавал взаимоисключающие распоряжения, направлял эмиссаров и какие-то вооружённые группы туда, где их готовились встретить «печенеги», штурмгвардейцы и волонтёры Хворостова.
Пожилой полковник, увидев, что дело делается квалифицированно и всерьёз, принялся обзванивать всех известных ему людей, как одиночек, так и подобных ему руководителей всякого рода охранных и прочих, хотя бы слегка военизированных предприятий, а также действующих строевых и штабных офицеров Московского и «Арбатского» военных округов, с кем сохранились сколько-нибудь приличные отношения. Сообщал вроде бы всё, как оно есть, но от себя добавлял столько живописных подробностей и рисовал такие радужные служебные и личные перспективы, что число желающих выступить «на защиту Конституции и законной власти» росло в геометрической прогрессии. У каждого «приглашённого в долю» тоже ведь были свои знакомые, друзья, сыновья, зятья и племянники. А умные люди понимают, что в такие, раз в жизни выпадающие моменты можно подняться очень серьёзно. В любом смысле.
Полевой штаб Тарханова – Секонда незаметно, но в полном соответствии с законами Паркинсона разросся уже до трёх десятков человек, всего за несколько часов! А что вы хотите – непрерывно возникали новые, ранее не предусмотренные проблемы, вопросы и затруднения, вот и приходилось назначать для их скорейшего разрешения всё новых и новых людей.
Были намечены места сбора личного состава вновь формируемых подразделений, пункты выдачи оружия и боепитания.
Мятлев отдал команду собрать по тревоге всех сотрудников курируемых им управлений, не задумываясь, кто каких придерживается политических или эмоциональных взглядов. Главное, чтобы люди явились по месту службы или в указанные места, а там уже всё становится просто и понятно. Если не дезертировал, прибыл по команде и очутился в «общей шеренге», дальше никуда не денешься, будешь служить, как миленький. Такое вот интересное свойство этого философского понятия – «строй».
Не было больше необходимости ехать за оружием на дальние базы хранения. В самом городе нашлось достаточно арсеналов на любой вкус. Например, прекрасно можно было снабжать добровольцев, да и кадровых сотрудников, со складов оружейных магазинов «Кольчуга» и им подобных. Импортные нарезные винтовки с шикарной оптикой, к примеру, ничем были не хуже штатных «СВД». А для правильных стрелков – намного лучше. То же касается крупнокалиберных гладкостволов. Выглядит солидно, и в ближнем бою незаменимо. Особенно учитывая, что широкомасштабные боевые действия с применением чего-то мощнее ручных пулемётов в городе вести не планировалось.
Это стало ясно после разгрома «Зубра» – единственной высокопрофессиональной силы, с помощью которой можно было бы ещё вчера к концу дня «вопрос о власти» считать решённым. Не то время на дворе, не семнадцатый год. Москва с Московской областью – не Ливия, не Сирия, не Ливан. И темперамент у народа не тот, и боевого оружия на руках практически ноль. Хорошо, если найдётся один дробовик на сотню взрослых мужиков. Приличной гражданской войны в таком варианте не развернуть. Если б вчера нашёлся кто-то решительный и авторитетный, заявивший, что власть уже взял, а честные и открытые выборы нового главы государства проведёт где-нибудь следующей весной или вообще после Всенародного Земского собора пополам с Учредительным собранием – так бы оно и вышло. Особенно если всем одномоментно вдвое-втрое зарплату и пенсии поднять, а все нераспроданные квартиры в новостройках бесплатно раздать очередникам. В обмен на все золотовалютные резервы государства плюс печатные станки Гознака – весьма выгодная и политически безупречная сделка.
Но отваги, воли и решимости не хватило ни у кого. Их не было и у Президента тоже. То есть образовалась классическая, хрестоматийная историческая развилка. Вроде как сама собой, в чистом поле, что называется. И чтобы миновать её, рвануть напрямик, сминая гусеницами камень с пресловутым предложением-предупреждением: «Направо пойдёшь, налево пойдёшь…», достаточно оказалось просто немного выйти из плоскости стереотипов и предрассудков. С силами ненамного больше тех, что уже были введены в бой мятежниками, и неизмеримо меньшими, чем те могли мобилизовать в течение бездарно потерянной ночи. Но – иначе ориентированными и мотивированными.
Пока не прибыли и не разместились в отведённых им кремлёвских помещениях Тарханов, Секонд, ещё несколько императорских генштабистов во главе с фон Ферзеном, Фёст самостоятельно направлял своих девушек в сопровождении «проводников» по указанным Ашинбергасом адресам для изъятия ключевых фигур того или иного «веса» и значения.
До сих пор не только обыватели, но и очень серьёзные, «деловые» люди считают, что система всяких там «пятёрок», «десяток» или «отраслевых референтур» способствует конспирации и оберегает от одномоментного тотального разгрома организации. Во времена народовольцев или подпольной борьбы с фашистскими оккупантами такая схема, случалось, срабатывала. Но только в случае, если враг случайно, именно случайно, выдёргивал одну из средних или низовых фигур. Те действительно могли не знать никого, кроме ближайших соратников, и на них цепочка обрывалась. Но если удавалось прихватить кого-то из руководства, система срабатывала против себя. Если спокойный, рассудительный контрразведчик имел возможность изымать ключевые фигуры, не озабочиваясь «пехотой» и не стараясь, чтобы угодить начальству «дать немедленный результат» – машина переставала работать сама собой, как радиоприёмник без батареек.
А ещё Вадим послал группы, составленные поровну из людей Хворостова и «печенегов» или штурмгвардейцев к зданиям посольств более-менее значимых государств, имевших неосторожность в предыдущую историческую эпоху выражать сочувствие, моральную или материальную поддержку «борцам с кровавым авторитарным режимом». С простой инструкцией – «всех выпускать, никого из посторонних не подпускать». На всякий случай.
Вновь, только теперь уже «нашей стороной» были заблокированы операторы сотовой связи. По обычной проводной и по радио Мятлев уже вполне официально, от имени Верховного главнокомандующего и себя лично, как министра «сразу всего», подтвердил и значительно устрожил ранее объявленный им запрет на пересечение воздушных, сухопутных и морских границ «нижеперечисленным лицам»… Теперь для скорости и упрощения процедуры «от ворот поворот до особого распоряжения» получали вообще все обладатели дипломатических и служебных паспортов. А общегражданских – выборочно.
Нигде ничего не горит, кому положено, и через два-три дня выедут, прочим придётся или задержаться на неопределённый срок, или пешком и вплавь, контрабандистскими тропами пробираться через украинские, прибалтийские, грузинские границы. Дело муторное и крайне опасное, что известно хотя бы по судьбе О.И. Бендера.
В чём заключается разница между классическими революциями, происходящими по законам исторического материализма, ведущими к сменам экономических формаций, и верхушечными переворотами? Именно в том, что вовлечён в них крайне узкий круг людей, каждый из которых является не «миллионных масс частицей», как писал пролетарский поэт, а непосредственно и активно действующим субъектом, «вершителем истории», неважно, с каким знаком, и с реально занимаемой должностью. Поэтому обычно перевороты, мятежи и тому подобные эксцессы либо удаются сразу, либо так же сразу терпят поражение. Не может быть и речи о каких-то «этапах», «фазах», «приливах и откатах», какими характеризовалась, например, классическая Великая Французская революция.
К десяти часам утра основная часть работы была сделана. Что толку от наличия тысяч людей, готовых и способных демонтировать прежнюю систему власти и начинать создавать новую, сотен имеющих право и возможность вывести на улицы целые подразделения «людей с ружьём» – райотделы милиции, отряды ОМОНа и СОБРа, роты охраны зон и следственных изоляторов? Они не получали никаких команд, не имели связи и запасных каналов управления, вообще не представляли общей картины происходящего. Многие даже не имели понятия, что проходят по секретным планам как структурные боевые единицы антиправительственного заговора.
Кремль был занят за несколько минут. К Боровицким воротам подъехали три БТРа, БМП-3 и незнакомой модели бронеавтомобиль с пулемётной спаркой, за ними несколько грузовиков с солдатами в чёрно-зелёно-жёлтых камуфляжах и голубых беретах (на складах их нашлось достаточно, чтобы заменить не совсем здесь уместные своим видом каски штурмгвардейцев). Из броневика вышел Президент в военной форме с нашивкой «Верховный главнокомандующий», в нескольких словах объяснил построенному гарнизону смысл текущего момента и ближайшие перспективы, после чего проследовал в свои апартаменты. Дальше распоряжаться Президентским полком и отдавать приказы от имени Главковерха командирам дислоцированных в Москве частей, училищ и академий начал Мятлев, назначенный, в добавление к министерскому посту, ещё и секретарём Совета безопасности.
Рядом с ним постоянно находился Берестин с собственным, выделенным Тархановым комендантским взводом, и Герта, видимо, в роли личной телохранительницы. Узнав о назначении Мятлева на высокие посты, Инга ей хитро подмигнула. «Высоко, мол, залетела, мать! Теперь главное – не сдавать захваченных высот!» При этом девушка ощутила лёгкий укол зависти. Так отчего-то вышло, что теперь только она одна осталась обделённой. И сама ни в кого не влюбилась, и на неё никто внимания не обратил. Что делать – все достойные мужчины увлеклись другими, а ей как быть? Штатские за пределами гарнизонной ограды для неё не существовали, других серьёзных кандидатур просто не было в поле зрения. Не с поручиками же из соседних рот любовь крутить?
Самая спокойная и неамбициозная из всех, валькирия ещё не подозревала об уготованной для неё Сильвией судьбе.
Леонид Ефимович направил несколько десятков офицеров нужных специальностей, лично вызванных им с Лубянской площади, по адресам лидеров думских фракций и вожаков «несистемной оппозиции». Первых – пригласить и сопроводить в Кремль на экстренную встречу с Президентом, прочих – в деликатной форме предупредить о крайней нежелательности в ближайшие сутки любых массовых мероприятий и уж, тем более, беспорядков. Отныне и до их гласной отмены в Москве явочным порядком действуют законы военного времени.
Тезисы «профилактических бесед» выглядели примерно следующим образом:
«Домашнему аресту, господа, вас никто не подвергает. Можете мирно, без оружия собираться хоть на квартирах, хоть в ресторанах, внимательно смотреть телевизор и обсуждать увиденное и услышанное в своём кругу. Причём такое обсуждение не должно проводиться в общественных местах с какого-либо подобия трибун. В ближайшее время Президент собирается выступить с обращением к народу. Рассчитываем, что вы примете посильное участие в претворении в жизнь его предложений. Оппонировать разрешено в письменной форме, когда будет возобновлён выпуск газет. Однако по улицам передвигайтесь с крайней осторожностью, не исключаются всякого рода эксцессы. А нам не нужны ни невинные жертвы, ни «герои сопротивления».
Указанные мысли сотрудники могли оформлять какими угодно словесными кружевами, но без угроз и личных оскорблений.
Стрельбы на улицах и на некоторых «объектах» случилось поразительно мало. Не больше, чем в Петрограде в феврале семнадцатого. Как правило, инциденты случались там, где вооружённые сторонники мятежников уже начали выдвигаться «на исходные», по приказу чересчур самостоятельных или, наоборот, догматически мыслящих командиров.
Решено, допустим, что сегодня в восемь ноль-ноль должны быть захвачены Монетный двор и Гознак, ну и двинулись к цели полторы сотни вооружённых энтузиастов, уверенных, что и все остальные по всей огромной Москве и даже необъятной Родине сработают так же дружно и слаженно. А на подходах наткнулись на мобильный патруль «печенегов» с «хворостовцами». На подтверждённое ссылками на Указ Президента предложение сложить оружие и всем, кроме руководителей, мирно разойтись по домам кто-то ответил огнём. Такое бывает, если люди подогреты не спиртным даже, а собственным адреналином, энтузиазмом пополам со страхом. Какие-то футбольные фанаты бесстрашно в вооружённых омоновцев камни, бутылки и файеры швыряют, абсолютно о последствиях не задумываясь. А если здесь такие же безбашенные парни, но с автоматами и пулемётами, и «верные люди» сказали, что нет уже ни Президента, ни власти и менты на нашей стороне, а за забором, рукой подать, склады, набитые штабелями денег, а в цехах прямо с печатных машин разматываются бесконечными лентами миллионы пятитысячных бумажек… Только хватай! А тут десяток козлов дорогу перегораживают. Ну и получайте!
В подобных случаях военнослужащие «крайне ограниченного контингента миротворцев» действовали без злобы и жестокости, просто очень чётко и профессионально. Не то что здешние «контртеррористы», ухитряющиеся терять «двухсотыми» по нескольку человек при «обезвреживании» одного «шахида» или «моджахеда».
Вообще, москвичи, что из законопослушных граждан, что из активистов «протестного движения», вышедших пошуметь, ещё не совсем представляя, по какому поводу, дружно отметили интересный факт: в центре города поддержанием порядка вместо привычных омоновцев или пацанов-срочников внутренних войск занялись какие-то непонятные службы. Одетые почти так же (мало кто способен был разобраться в тонкостях цветовых и конструктивных различия камуфляжей), их сотрудники вместо привычных щитов и резиновых палок сплошь были вооружены автоматическим оружием, увешаны магазинами, ножами, гранатными сумками и прочим снаряжением. Будто американские солдаты в телевизионных репортажах из Ирака и Афганистана. И сразу в них ощущалось что-то необычное. Трудно сразу сказать, что именно, но – незнакомое и непонятное. Выражения лиц, может быть, манера говорить, непременное обращение «господин» вместо нормального «гражданин», «граждане». И ещё – отчётливо ощущаемая готовность после (спокойным голосом) сделанного предупреждения немедленно перейти к решительным действиям в случае неповиновения. Будто бы эти люди искренне убеждены в том, что с ними спорить просто не принято, а собеседники настолько разумны, что понимают каждое негромко сказанное слово так же хорошо, как предупредительный выстрел в воздух.
Говорят, подобный парадокс наблюдался в Чехословакии в шестьдесят восьмом году. Туда, как известно, оказывать «братскую помощь» прибыли войска пяти стран Варшавского договора. Но если со всеми остальными, включая и советских солдат, чехи вели себя весьма вольно – ругались, оскорбляли, плевались, швыряли бутылки с краской, а то и бензином в боевую технику, – с немцами из ГДР никто себе подобных вольностей не позволял. Генетическая память срабатывала, наверное. Да и язык – не то что славянское амбивалентное многословие. Там «цурюк», «хенде хох», «врид гешоссен» – и всем всё понятно, без переводчика даже. По-русски так не выходит, даже если матерным гарниром значащие слова обложить.
А вот у «этих» – получалось. В смешанных патрулях каждый легко отличал «своих» от «не своих», пусть шутили, смеялись, матерились те и другие совершенно одинаково. Не оккупанты какие-нибудь, не «латышские стрелки» или чехи с мадьярами, как в Гражданскую войну.
Сразу пошли разговоры, догадки, гипотезы и версии – делать-то всё равно нечего, а людей на улицы вышло достаточно много, и с целью лично поучаствовать в истории, и просто так. Совершенно так же, как в девяносто третьем люди целыми семьями, с детскими колясками и с детьми, уже умеющими ходить, валом валили на набережную и мост, полюбоваться, как танки по Белому дому стреляют.
Самой убедительной показалась идея, что вот это и есть тот самый «российский иностранный легион». Было ведь давно уже опубликовано постановление, чтобы набирать в российскую армию бывших соотечественников с автоматическим предоставлением гражданства и всяких прочих благ. Так вот это и есть те ребята, из внуков и правнуков русских белоэмигрантов, решивших вернуться на Родину через такую службу.
Другая версия была ещё интереснее – это, мол, прибыл на помощь Президенту по тайному договору о дружбе и взаимной помощи израильский спецназ, тоже сплошь из русских парней, детей тех, кто уехал, выправив себе фальшивые родословные.
«Да нет, ну ты погляди! Видишь – на бронике девахи с автоматами едут? Где ты такие автоматы видел? В кино? В кино я тоже видел. Вот это самые еврейки и есть. Ты где у нас таких красоток-срочниц видел? На срочную баб только у них призывают. Евреи ведь, всё у них рассчитано – чтобы пацаны в казармах не тосковали – каждому по бабе в любое время дня и ночи, хоть в карауле, хоть где! И никакой дедовщины! Наши тётки-контрактницы против них – тьфу! Ну, они им покажут!» Довод признавался вполне убедительным, и с тем, что «покажут», никто не спорил, возможно, вкладывая в эту сентенцию весьма противоречивые и даже взаимоисключающие смыслы. Кому «им», тоже особенно не уточнялось. Чтобы потом лишних проблем не возникло.
Кто и зачем распространял такие слухи – не так уж важно, но эффект от них был тот, что и требовался – заморочить обывателям мозги, кого развеселить, а кого и напугать. Было однажды, ещё в первую чеченскую, прибыл, допустим, в Ачхой-Мартан по замене вместо ставропольского ОМОНа элистинский СОБР, и отъезжающие ребята для смеху запустили «дезу» – это, типа, китайцы приехали, наведут порядок и получат здесь в награду лучшие земли в «бандитских» районах. Кто рядом был – сразу разобрался, но подобная информация распространяется ведь быстрее света. Возникла даже некоторая паника среди местного населения.
Вскоре после того, как Президент вновь обосновался в Кремле, Волович, Журналист Анатолий и Писатель Генрих вместе с Уваровым и Анастасией выехали на бронетранспортёре в город.
«На командирскую рекогносцировку», как выразился Валерий. Прямо на броне, для пущего эффекта, и чтобы всё вокруг рассмотреть наконец при свете дня, разместилось второе отделение первого взвода под командой Полины Глазуновой. И она сама, и её девушки пребывали в полном восторге от выпавшего на их долю приключения. Кому ещё доводилось очутиться в роли освободительниц в столице другой России.
Причём ехать по ней на мощном восьмиколёсном броневике несуществующей в их мире модели, свесив ножки наружу вдоль покатых бортов, жадно рассматривая улицы, дома, людей на тротуарах, широко улыбаясь в ответ на заинтересованные взгляды, приветственные взмахи рук и выкрики, подчас двусмысленные. Прохожим, прежде всего молодым парням, тоже ведь было интересно такое, достаточно непривычное, зрелище.
Очень многие из «печенежек» уже прикидывали, как бы устроиться здесь в составе «постоянных оккупационных войск», очень рассчитывая при этом на Вяземскую, Вельяминову и Витгефт – особ, весьма приближённых к верховным властям и в том, и в этом мире. Уж очень здесь всё необычно, интересно и «современно», как выражались у нас в далёкие шестидесятые годы. А сколько всяких в жизни невиданных вещей в здешних магазинах! Даже через витрины с улицы видно. Так примерно могла бы чувствовать себя молодая девушка-москвичка, чудом оказавшаяся году этак в шестидесятом на Елисейских Полях Парижа или, упаси бог, в Нью-Йорке. До́ма-то, само собой, всё равно всё лучше, но как глянешь на прилавки, на машины, да на то, как парни с девушками одеты!
Погода с утра начала несколько портиться, опустился туман, моментами срывался мелкий, как пыль, дождик. Но от этого осенняя Москва становилась даже краше и как бы загадочнее, перспективы проспектов и улиц потеряли чёткость, как на картинах импрессионистов, громадные высотные здания, каких не было у них дома, теперь походили на замки великанов сказочной страны.
БТР сделал полный круг по Садовому кольцу, удивительно свободному в этот час от машин.
– Вот так бы всегда, – мечтательно сказал Анатолий, уже не один год безуспешно требовавший от Президента решительных мер по приведению дорожной обстановки в Москве в разумное состояние.
– Теперь есть образец, – ответил Генрих, – та Москва. После сегодняшнего политического катаклизма можно вводить любые правила, всё проскочит.
– А чего же, – включился в тему Уваров, – мы вам в обмен на современное оружие сколько угодно автобусов и трамваев завезём. У нас заводы давно в четверть силы работают.
– Вполне, – кивнул Анатолий. – А представьте, как можно людей занять на прокладке новых трамвайных линий, вагоновожатыми, кондукторами. И никаких гастарбайтеров! У вас сколько километров путей сейчас? – спросил он Валерия.
– Откуда мне знать? Много. Наверное, раз в сто больше, чем здесь, – ответил Уваров, который за время поездки увидел всего одну движущуюся трамвайную сцепку. – По обоим кольцам, по всем радиусам и бог знает, сколько по хордам, в смысле переулкам…
– Не с той стороны рассуждаете, господа, – вмешался Волович, до сего момента удивительно молчаливый и задумчивый. Наверное, наскоро перепланировывал и конструировал в уме свою будущую биографию. – Если сейчас начать ещё и с автовладельцами бороться, ничего, кроме нового очага возмущения, не получите…
– Это ты не соображаешь, – резко возразил Генрих. – Сколько у нас в Москве автомобилей? Миллиона три, наверное. А жителей – почти пятнадцать. Значит, считая тех, кто выезжает только по выходным, весной на дачу, а осенью с дачи, восемьдесят процентов населения имеют большие претензии к пробкам, загазованности, парковкам на тротуарах, невозможность за двадцать минут на троллейбусе от Рижской до Манежа, как мы в детстве, доехать. Вдобавок – фактор классовой ненависти! Ты ж, Миша, хоть и оппозиционер непримиримый…
– Был, – значительно поднял палец Журналист.
– Это ещё доказать надо, что – был. Так вот, оппозиционер ты прозападный и буржуазный, певец гламура и ананасов в шампанском для своей тусовки, преимущественно. А простой народ – он с огромным, генетическим почтением к идее всяческого раскулачивания относится. Конфискуй сейчас все неправедно нажитые «мерседесы», «порше» и «бентли», преврати их в такси, а прочим разреши ездить только по большим праздникам и, условно говоря, – «по карточкам», не более ста километров в неделю, скажем…
– Плюс льготы для каких-то политически важных групп населения – и всё! Народная любовь Президенту на этом фланге обеспечена, – подвёл итог Журналист.
– Ну, господа, вы прямо какие-то сингапурские порядки ввести собираетесь, – сделал кислую мину, но на дальнейший спор не решился Волович.
– Весь юмор в том, Миша, что именно тебе и мне, вообще журналистам придётся все эти «сингапурские порядки» оправдывать и разъяснять широким массам в нашей самой свободной в мире прессе, – откровенно усмехнулся Анатолий, испытывая прямо-таки физическое удовольствие от мыслей о предстоящей «пламенному борцу с режимом» творческой судьбе.
– Кстати, смотри, Миша, а то мы как-то на совсем постороннюю тему заболтались – всю Москву, считай, объехали, окраины не в счёт, и – что? Тишь да гладь, по большому счёту. Постреливают, конечно, кое-где, не без этого, но ведь не сравнить с Грозным, например? Лично мне это напоминает как раз первый день ГКЧП…
– Он же и последний, – добавил Писатель. – Третьего октября девяносто третьего куда хреновее обстановка выглядела…
– Да, господа, прошу прощения, я ведь вам ещё не сказал, – вступил в разговор пока что с интересом прислушивавшийся к не совсем понятным разговорам Уваров, – полковник Тарханов распорядился, чтобы я вас не больше часа по городу катал. Вам ещё «Обращение к народу» написать надо и «Бюллетень номер один».
…На самом деле это была идея Берестина, которую он и изложил утром Президенту – послать «пишущих людей» лично изучить положение в Москве, после чего подготовить материал для выступления по радио и всем каналам телевидения. В одиннадцать часов утра, предположим, к этому времени всё уже определится.
– А вот господин Ляхов под псевдонимом Фёст пусть пока сделает справочку по сути коварных планов заговорщиков, – продолжил Алексей, – с фактами, цифрами, именами и фамилиями… и фотографии с мест событий непременно. Ваша дача, база «зубров» и тому подобное. Так, чтобы никто ничего опровергнуть не смог.
– Кому же теперь опровергать? На скамье подсудимых разве? – удивился Мятлев.
– Найдётся кому, – успокоил его присутствовавший здесь же Фёст. – Я имею весьма показательные факты участия в этом деле целого ряда ваших зарубежных друзей и коллег. Вот и вставлю в текст цитаты со ссылками на распоряжения, директивы, «закрытые» решения всяких там конгрессов, сенатов, парламентов, советов европ и прочих учреждений, которых наши внутренние дела интересуют куда больше собственных…
– Стоит ли так сразу? – осторожно спросил Президент. – Может быть, изложить всё крайне обтекаемо и посмотреть на реакцию…
– Простите, ваше высокопревосходительство, – с не совсем приятной улыбкой ответил Берестин. – Времена манной каши и чистого стола, надеюсь, прошли. Никаких компромиссов и двойных стандартов – «с одной стороны, с другой стороны»… Вы должны сказать всё сразу и максимально прямо. Так, чтобы весь мир услышал и задумался…
– Но ведь это – почти объявление войны, – кусая губы, тихо сказал Президент. В Кремле он чувствовал себя куда безопаснее, чем на даче, и верх снова начала брать оппортунистская составляющая его личности.
– Не знаю, Георгий Адрианович, – вздохнул Берестин. – Мне всю жизнь кажется, что назвать вора – вором, шулера – шулером, открыто и в лицо – единственно достойный приличного человека поступок. Там, откуда я к вам сейчас пришёл, так и делают, а потом смотрят – рискнёт ли данный субъект вызвать вас на дуэль или утрётся.
– А если рискнёт? – спросил с любопытством Мятлев. Берестин ему нравился.
– Вызванный выбирает оружие, – пожал плечами Алексей.
…Работа вчетвером над «Обращением» пошла быстро и весело. Самое главное, троим из «спичрайтеров» показалась очень привлекательной сама возможность говорить, что хочется и что думаешь, не на кухне и не на страницах оппозиционного листка, а от имени главы государства – на весь мир. Правда, резоны у всех троих были разные. Воловичу доставляло непривычное и как бы не совсем приличное (вроде как подглядывание в двенадцать лет за старшеклассницами в раздевалке спортзала) удовольствие то, что он сейчас писал вещи, ниспровергающие то, что он много лет демонстративно и за хорошую плату пропагандировал. И самое интересное – ему нравилось то, что у него выходило! Ведь наибольшее наслаждение доставляют занятия, способствующие выживанию и процветанию индивида, а через него и рода – пища, секс, уважение соплеменников…
То, что этот документ станет историческим, не хуже, чем речь Сталина по поводу начала Отечественной войны или доклад Хрущёва на ХХ съезде КПСС, не сомневался никто из пишущих и проговаривающих вслух самые изящные его обороты и периоды.
Шокировать население и дистанционно включать неработающие телевизоры Фёст не стал. И так несколько сделанных в лучших советских традициях предупреждений: «Внимание! В одиннадцать часов по московскому времени по первым трём каналам телевидения и радио «Маяк» будет передано важное сообщение!» заставили почти всё население России от Владивостока до Калининграда как следует напрячься. Последний час никто уже ничем не занимался, кроме как обменивался самыми невероятными и дикими гипотезами, от объявления войны Америке до официального подтверждения приближения к Земле астероида Апофис или как его там. Кое-кто из губернаторов и прочих высокопоставленных лиц за пределами Дальнего Подмосковья имели основания приблизительно догадываться, о чём может пойти речь, но, как правило, с обратным знаком, то есть – наоборот.
Слухи о том, что пора избавляться от «нынешнего Первого», ходили довольно давно, как и соответствующие настроения перед снятием Хрущёва в шестьдесят четвёртом. Но точной информации получить было почти невозможно (хотя кое-кто её всё-таки получил и сделал немалый гешефт), поэтому гадали, нервничали или веселились почти все.
Само выступление, предварённое исполненным на фанфарах кавалерийским сигналом «Слушайте все», явным и очевидным образом Президенту удалось. Скорее всего, ему тоже надоело последние десять лет (ещё на дальних подступах к Кремлю) думать одно, говорить другое, а делать третье, и сейчас он испытывал своеобразный катарсис. Не Цицерон в Римском сенате, но около этого.
Ясно и доходчиво Георгий Адрианович перечислил имевшие место в течение последних суток и своевременно пресечённые эпизоды вооружённой попытки захвата государственной власти. Без обычной для эпохи его правления уклончивости и фигур умолчания пофамильно назвал более десятка хорошо известных стране лиц, непосредственно входивших в верхушку заговора. А также те структуры и ведомства, благодаря попустительству или преступной бездеятельности которых всё это безобразие стало возможно. Тут же и сообщил, что отныне такого не будет и все «слишком о себе возомнившие» ведомства отныне будут только более или менее крупными подразделениями единого МВД. Поскольку, кроме иностранных, у нас все дела – «внутренние». Не обошёл он вниманием роль целого ряда иностранных государств и международных организаций и сделал это с неприличной в дипломатии прямотой. Значительную часть выступления посвятил собственным недостаткам, ошибкам и недоработкам, причём в таком объёме и с такой откровенностью, что оппозиции, если бы она вздумала это сделать, добавить было нечего.
Иные фразы чуть ли не впрямую были заимствованы из всем образованным людям известных источников: «За совершённые нами ошибки мы вполне достойны того, чтобы народ указал нам на дверь!», «Отныне каждая авария, каждое невыполнение заданий и поручений правительства, каждое нецелевое использование средств будут иметь фамилию, имя и отчество!», и так далее в этом же духе.
Завершалась речь заверениями в том, что никакого «нового тридцать седьмого года» не будет, законность и правоприменительная практика поднимутся на недосягаемую ранее высоту. Что будет обеспечено, в том числе, и самым широким участием граждан и их объединений в отправлении правосудия. И как бы между прочим было сказано, что по примеру некогда братской Польши[88] все в той или иной мере причастные к попытке мятежа лица будут подвергнуты вполне гуманному интернированию на сроки, необходимые для тщательной проверки имеющихся компрометирующих материалов.
– А очень неплохо получилось, – первым заявил Волович, когда передача закончилась. Ещё немного времени пройдёт, и он начнёт всюду распространяться, что именно ему, как талантливейшему журналисту и писателю нашего времени, тем более – уже пролившему кровь при обороне президентской резиденции, было доверено написание этой речи. Тут же Михаил подумал, что любым образом надо выбить себе за эту «пролитую кровь» какую-нибудь специальную награду. «За отвагу» – как минимум!
– Да уж! – развёл руками Фёст, сразу просчитавший ход мыслей старого знакомца. – Ты себя нормально чувствуешь?
– А? В смысле?.. Ах да, вспомнил! Совершенно нормально. Заживает, как на собаке…
– Вот интересно, – задумчиво сказал Писатель, – отчего у нас так: собака лучший друг человека, но и сравнение с этим милым животным – грубое оскорбление? Особенно если лицо противоположного пола назовёт собеседника или собеседницу по аналогичной им гендерной характеристике…
Волович дёрнулся, но сделал вид, что не понял намёка.
– Ну, раз здоровье в порядке, сейчас бери машину, охрану, собирай группу коллег и давайте срочно серию репортажей с улиц Москвы. Первый эфир часа через три, так? – повернулся Ляхов к Анатолию.
– Постараюсь обеспечить…
Глава одиннадцатая
Мировая пресса и «демократическая общественность», которая умеет очень избирательно относиться к происходящим в разных регионах планеты событиям, в этот раз странным образом зазевались, что ли.
Случился достаточно редкий в наше время сбой – люди, ответственные за получение, осмысление, передачу и правильное использование политически значимой информации, значительно отстали от естественного хода событий. Да что там пресса и Интернет – смысл и даже внешний рисунок ситуации в России со свистом пролетел мимо тех, кто с юных лет в поте лица трудился на ниве «плаща и кинжала».
Президент и его «команда», которой ещё вчера не существовало в представлении самых изощрённых «русоведов» и «кремленологов», блестяще сыграли на опережение. Заговор был раскрыт, и при этом ни бита информации не просочилось наружу, молниеносно разгромлен, тоже в полной политической тишине, и, наконец, абсолютной неожиданностью стало выступление Президента, до боли откровенное, вроде знаменитого сталинского приказа № 227 «Ни шагу назад», и столь же бескомпромиссное.
Второй секретарь посольства США в Москве Лерой Лютенс, кроме своей непосредственной должности исполнявший обязанности спецпредставителя ЦРУ, не то чтобы ворвался, но вошёл в кабинет посла очень быстро, едва не сбив с ног пытавшуюся что-то возразить секретаршу. И дверь за ним закрылась так, будто он специально, почти демонстративно постарался преодолеть тормозящее усилие пневматического демпфера.
Посол Алисон Крейг, аристократического вида мужчина, был, как и Карлсон, живший на крыше, «в самом расцвете сил», что означало нечто среднее между пятьюдесятью и шестьюдесятью пятью, удивлённо вскинул голову. Он не любил, когда его отвлекали, да ещё так бесцеремонно. Посол играл в новомодную компьютерную игру и был целиком поглощён отбором на невольничьем рынке рабынь для султанского гарема. Если не угадаешь сегодняшних вкусов «повелителя» – сразу провалишься на несколько уровней вниз – из визирей в младшие евнухи.
– Что у вас, Лерой? Вы не забыли, как называется ваша нынешняя должность?
Мистер Крейг имел очень хорошие связи, и не только в Госдепе, навязанного ему сотрудника не стеснялся ставить на место при каждом удобном случае. Послу было совершенно наплевать, на каком тот счету у собственного руководства. Главное – он с первого взгляда не понравился лично ему, и точка. Да и кому может понравиться рыжий веснушчатый немец (пусть и натурализованный в третьем поколении), в двести пятьдесят фунтов весом и с манерами розничного торговца колбасами, какими были и дед его, и прадед. Генеральский чин отца и университетский диплом самого Лероя ничего не меняли. Посол свободно владел русским, знал литературу и поэзию «страны аккредитации», поэтому при виде разведчика каждый раз вспоминал бессмертные строки Державина: «Осёл останется ослом, хоть ты осыпь его звездами…»
– Не забыл, сэр. Но боюсь, что очень скоро это не будет иметь никакого значения ни для вас, ни для меня. Вы включали сегодня телевизор?
– А надо? – Посол с сожалением «сохранился» и вышел из игры.
– А вы попробуйте. Хоть первый канал, хоть другой. Везде одно и то же.
Крейг потянулся за пультом, а Лютенс подошёл к выходящему в небольшой внутренний дворик окну, приоткрыл створку и закурил, не спросив разрешения. Какая теперь, к чёрту, субординация? У него ещё раз смотреть то, что сейчас появится на экране, не было ни желания, ни необходимости. И так всё запомнил почти дословно. Русский язык Лерой знал наверняка лучше напыщенного бостонца, легко управлялся со всеми его современными нюансами и неологизмами и говорил без малейшего намёка на акцент. Не зря говорят, что из всех европейцев по-настоящему овладеть русским могут только немцы. И в дикторах центрального ТВ Лютенс был бы на месте, и где-нибудь на лесоповале. А то, что безбожно коверкал язык «на людях», так не зря в его родном Техасе говорят: «Умеешь считать до десяти – остановись на семи».
Пока посол смотрел и слушал непрерывно повторяемое на всех каналах «Обращение» российского Президента, сопровождаемое теперь ещё и хроникальными съёмками на улицах Москвы, Лютенс докурил одну сигарету и тут же сунул в рот следующую. Карьера, будем считать, кончена. Нормальная, плавно восходящая, без сверхусилий и нервотрёпки карьера. Чем придётся заниматься теперь – не скажет и китайский гадальщик по рисункам на панцире черепахи. Скучно не будет, здесь можно поручиться, но в транду, как говорят эти проклятые русские, такое веселье!
– Если я правильно понял, вы проиграли по-крупному, – выключив полутораметровый плазменный экран и откинувшись в кресле, почти без интонаций сказал посол.
– Не я – мы! Мы все проиграли! И Америка, и весь «свободный мир»! И вы не представляете, насколько крупно на самом деле!
– Ну отчего же? Воображением меня Бог не обделил. Да вы присаживайтесь, Лерой. Кофе, чай?
– А водка у вас есть?
– Водка? Ах да. Всё правильно, мы же пока в России. Здесь по такому поводу – только водка…
Посол достал из симметрично сейфу встроенного в шкаф-купе холодильника бутылку обычной кристалловской за триста рублей (не́ к чему шиковать без реального смысла).
– Вам гранёный стакан или всё же рюмки?
– Гранёного у вас всё равно нет…
– Отчего же? – С видом фокусника посол извлёк вслед за бутылкой два самых натуральных, нигде в мире больше не встречающихся стакана. – Форма должна соответствовать содержанию, здесь с диалектическим материализмом не поспоришь. По сто? Увы, огурца или сала с чёрным хлебом нет. Вы явились слишком внезапно. Вот крекеры, плавленый сыр…
Лютенс махнул рукой. Мол, не имеет никакого значения.
Дипломаты выпили.
– А теперь скажите, Лерой, что, собственно, произошло? Меня, как посла, ваши игры формально не касаются, внутренние коллизии в стране пребывания – тоже. Я, разумеется, должен их отслеживать, выявлять тенденции… Как гражданин и патриот США, я, не извольте сомневаться, озабочен: происшедшее никаким образом не улучшает нашего международного геостратегического положения. Америка может жить спокойно только в случае, если она сильнее трёх следующих за ней держав в любой их коалиции. Так вы считаете, что вследствие случившегося Россия получит… Что? Силы и право оспаривать наше место и нашу роль в мире? Очень в этом сомневаюсь. Или вас волнует проигрыш всего лишь очередного, вашего личного гейма?
Вопреки обычаям своего круга, Крейг почти вызывающе предпочитал теннис гольфу.
– Придётся вам кое-что объяснить, Алисон…
Окончательно отринув субординацию, разведчик стал обращаться к послу по имени. Звучало это почти так же, как если бы здесь, в России, майор самовольно перешёл на «ты» с генералом.
– Я знаю, что вы полностью в курсе готовившейся при нашем самом активном участии смены правящего режима в этой стране. Вы работали по своим каналам, я по своим. Вам выделялись средства по линии Госдепартамента на «продвижение демократии» в России. Вы их успешно осваивали, как здесь говорят. Вы регулярно встречались с представителями «несистемной оппозиции», платили наличными, когда считали это нужным, делали соответствующие представления российскому МИДу по всем значимым фактам нарушений «прав человека», вообще действий, идущих вразрез с нашими желаниями и предпочтениями… «Жизненными интересами США».
– Допустим, и что из того?
– Вы при этом категорически не хотели сотрудничать со мной и с моим предшественником, заявляя, что не во всём разделяете наши методы и подходы…
– Я их и сейчас не разделяю. И в какой-то мере даже рад столь наглядному подтверждению моей правоты. Думаете, я не знаю, какие доносы вы слали за моей спиной в Госдеп и своему директору? Что́, почти не стесняясь, говорили тем, кого считали своими единомышленниками. Поэтому на сочувствие не рассчитывайте, Лерой.
Я, видите ли, на самом деле признаю принцип невмешательства, по крайней мере – если вмешательство осуществляется в грубой форме. Я помню о том, что Россия, нравится нам это или нет, принадлежит к нашей команде, к иудеохристианской цивилизации, если угодно. И, за исключением периода «холодной войны» (в которой мы тоже старались играть корректно), эта страна всегда была нашим союзником. Лично я никогда не имел ничего против, если бы она после крушения коммунизма полностью вошла в число наших ближайших друзей. Я все двадцать лет отстаивал свою позицию – организовать для России новый «план Маршалла», помочь ей «подняться с колен», как здесь любят говорить, с учётом наших интересов, конечно, и руководить миром совместно с ней. Не особенно считаясь, кто старший партнёр, кто младший.
Неужели вы не знаете, что есть вещи, которые чертовски здорово получаются у русских и которых совершенно не умеем делать мы? Вот я бы и хотел, чтобы мы дружили с Россией, отнюдь не делая ставку на никчёмные, подчас весьма сомнительные «новые демократии» на постсоветском пространстве и во всём остальном мире. Вы ведь разведчик, вы должны бы знать, что Россия, как бы нелепо это ни выглядело со стороны, скрупулёзно, моментами почти мазохистски исполняет свои обязательства и до сих пор руководствуется почти бессмысленным для нас правилом: «Сам погибай, а товарища выручай». Представьте, сколь выгодно иметь такого союзника…
Поэтому я никак не мог сочувствовать идее организации в России новой революции. Не знаю, как вы, а я хорошо знаю историю двадцатого века. Подобные действия ничего, кроме десятка локальных войн и Второй мировой, не принесли в прошлом, и не думаю, что принесут что-то хорошее в будущем…
– Вы, случайно, не на содержании у вон того парня? – Лютенс указал пальцем на экран выключенного телевизора. – Ему бы понравились ваши слова…
– Не сомневаюсь. А вы всё-таки скверно знаете историю. Не понимаю, как можно, свободно владея языком и кое-что, наверное, на нём читая, кроме сегодняшних газет, настолько не понимать феномена, с которым имеете дело.
– Это опять о России?
– Не только. Единственный великий наш президент, ФДР[89], придерживался аналогичных с моими взглядов. Он тоже считал, что для Америки союз с Россией гораздо важнее, чем даже с Великобританией, и делал всё, чтобы послевоенный мир был русско-американским, и всячески «nagibal» Черчилля, очень многое решая «bash na bash» со Сталиным. Ныне его взгляды непопулярны, что крайне печально. Я поддерживал в пределах служебной дисциплины и корпоративной этики теперешний курс своего правительства, но я всегда был против вооружённого свержения действующей здесь власти, что неминуемо означало неизбежность гражданской войны. Здесь не Киргизия и не Грузия. У нас достаточно проблем с куда более одиозными режимами. Как вы думаете, почему мы (и вы, и вы, Лерой) не боремся с нарушениями прав человека в Китае, не требуем введения светского режима и полной толерантности в Саудовской Аравии, денацификации Прибалтики, почему нам наплевать на десятки настоящих геноцидов в Африке, зачем мы платим сотни миллиардов одновременно Израилю и арабам? А если бы мы тратили деньги только на поддержку каких-то русских проектов, наплевав на всех остальных? Клянусь вам, Лерой, мы имели бы гешефт в тысячу процентов…
Увидев, что собеседник несколько растерялся, Крейг довольно рассмеялся.
– Паранойя, обыкновенная паранойя, Лерой, доставшаяся нам по наследству от Черчилля и Трумэна. Мы бьёмся в истерике, предварительно внушив себе, что Россия только и мечтает о мировом господстве, не понимая, что хочет она только одного – чтобы её оставили в покое. Желательно – навсегда. Очень серьёзное заболевание, как видите. С регулярными осложнениями, нервными припадками и нарастающей деменцией…[90]
– Послушайте, вы сейчас рассуждаете, как самый отпетый русский националист. Вам «otkazali bi ot doma»[91] в любой приличной московской «tusovke», которые вы так любите посещать, – не то съязвил, не то искренне раскрылся Лютенс.
– Вот эту тему мы обсуждать не будем. Я и так не знаю, отчего вдруг заговорил с вами, будто с членом своего клуба. Оставили и забыли! Пока вас не отозвали в Лэнгли и вы остаётесь моим подчинённым, извольте понятно изложить, что вас на самом деле беспокоит? Где вы «promasali»? Русский Президент явно «на коне» и ведёт себя как римский триумфатор, но почему? Он ведь всегда был крайне осторожным, моментами просто «miagkotelim» господином. А сейчас он говорит почти как Хрущёв в ООН перед Карибским кризисом. Что упустили мы, где «proleteli» вы и ваши друзья?
Лютенс, явно нервничая, попросил налить «esche sto gramm», опять закурил.
– Я сам почти ничего не понимаю. Ту часть плана, которую вы знаете, опускаем. Все те интеллигентские игры с «правозащитниками», оппозицией, дискуссии уровня ПАСЕ, ОБСЕ и т. д. – только прикрытие. Никаких «майданов» никто организовывать не собирался. Историю не вы один знаете. В России такие вещи не проходят. Здесь, если хочешь результата, нужно действовать очень быстро и крайне решительно. «Острую фазу» операции должен был обеспечить я. Вы в любом случае оставались в белых одеждах и могли без насилия над собой утверждать хоть с трибуны Совбеза ООН, что американское правительство и посольство не имеют к самопроизвольным эксцессам никакого отношения. Даже детектор лжи это подтвердил бы…
Крейг слушал, кивал, мелкими глотками смакуя водку, будто лучшее ирландское виски.
– Два дня назад я имел встречу с настоящими инициаторами, спонсорами и топ-менеджерами проекта. Всё было стопроцентно «na mazi». Изъятие и изоляция Президента не составляли никаких проблем. Вооружённых сил у нас хватало, а у Президента – никого!
После этого события, абсолютно секретного, естественно, на следующий день должны были начаться стихийные демонстрации и митинги в поддержку отстранения нынешней власти и с ярко выраженными требованиями к новой. Выступления интеллигенции, студенчества, «креативного класса менеджеров», несколько позже и рабочих московских государственных и частных предприятий. Мы намеревались вывести на улицы действительно миллионы, как это было в конце горбачёвской эпохи. У всех самые обычные в любом демократическом обществе требования, согласно стратам митингующих: «Автономия университетов!», «Справедливая оплата труда!», «Нет реформе ЖКХ!», «Немедленный пересмотр итогов приватизации!», «Коррупционеров – к стенке!». Конечно – «За немедленные честные перевыборы!», «Свободу политзаключённым!», «Долой гомофобию и антисемитизм!»…
– Вот это хорошо придумано, – засмеялся посол. – В одном флаконе. Особенно если поддержать цитатой из Ветхого Завета про иудеев, Содом и Гоморру…
Лютенс предпочёл не отреагировать. Или – не понял юмора.
– Вся митинговая активность, сопровождаемая хорошо организованными нападениями на милицию и ОМОН в самых людных местах, непременно привела бы к массовым беспорядкам в центре Москвы. Специально подготовленные сотрудники тюремного ведомства и милиции должны были открыть ворота всех московских СИЗО и ИВС. Вы представляете, что это значит? Вдобавок – несколько десятков снайперов на крышах и полсотни метателей не петард, а гранат «Ф-1» в непосредственной близости от Кремля довели бы ситуацию до требуемого накала… Вы хотите что-то спросить?
Лютенс прервался, увидев непроизвольное движение посла и его дёрнувшиеся губы.
– Нет, продолжайте. Что вы человек, лишённый человеческих качеств и даже намёков на совесть, я понял при первой же встрече. Сейчас вы это подтвердили. Продолжайте…
– Алисон, вы не боитесь, что я найду способ в дальнейшем сделать вашу жизнь достаточно неприятной?
– Ни в коем случае, мой милый Лерой. Вся проблема в том, что сейчас речь не идёт о степени приятности или неприятности моей жизни. Она идёт о практической возможности продолжения вашей.
– То есть как?
– Неужели вы не обратили внимания на заключительные фразы русского Президента? Неужели вас так увлекла предшествующая словесная шелуха? А ведь там было сказано довольно простыми русскими словами – настолько-то вы язык понимаете: «С этого момента Россия считает себя связанной только теми обязательствами, которые неукоснительно и реально исполняются всеми остальными законно представленными в ООН членами мирового сообщества. Любое действие или бездействие, совершённое любым государством и немедленно не осуждённое (тем более – одобренное) Советом Безопасности или Генеральной Ассамблеей, мы считаем априори приемлемым. При этом мы идём навстречу наиболее влиятельным державам Атлантической цивилизации и, применительно к международным вопросам, вводим у себя для внешней политики понятие приоритета прецедентного права над кодифицированным». Вам понятно, что это означает, мой дорогой друг?
– Всего лишь то, что если хоть раз американский или вообще евроатлантический судебный, законодательный, исполнительный орган допускал привлечение к ответственности каких-либо лиц, обладающих иммунитетом, за совершённые на его территории уголовные или политические преступления, враждебные действия или умысел, или приготовления к таковым, или подстрекательство, или пособничество и укрывательство… А хотя бы один такой прецедент я вам приведу. Тогда мы официально заявили, что интересы и принципы США выше «дипломатических предрассудков»…[92]
– Я понял, сэр. Вы меня сдадите русским.
– Не то чтобы сдам своими руками. Я не стану слишком громко протестовать, когда вас арестуют. И не только вас, мой друг Лерой. Объясню, где надо, что вы и ещё несколько одиозных фигур – не повод для срыва «Большой игры». Вам знаком этот термин? Причём прошу учесть, что в «Обращении» упоминается возможность применения в особый период «законов военного времени». То есть на основании того же тезиса русские могут вновь ввести у себя смертную казнь. У нас и в Китае она ведь существует и активно применяется.
Но, повторяю, подобная неприятность может случиться, если вы станете вести себя неправильно. Я достаточно ясно выразился? Поэтому налейте себе ещё этой «аквавиты» и начинайте говорить со мной, как с неприятным, но богатым дядюшкой, от которого вы можете кое-что унаследовать, а можете и «ostatsia s nosom»…
– Видите ли, сэр, в этом деле очень много непонятного. Не буду скрывать – я в какой-то мере способствовал тому, чтобы ряд лиц, особенно недовольных политикой Президента, приняли радикальное решение. Но именно способствовал – эта готовность у них существовала изначально. Я обещал им поддержку, и не только финансовую…
– Неужели прямую военную интервенцию?
– Я имел такие инструкции. Если бы события начали развиваться в неблагоприятном направлении, не исключался ввод миротворческих контингентов. Для охраны нашего посольства, сэр, атомных электростанций, газа и нефтепроводов…
– Очень, очень смело. Видимо, у вас в Лэнгли никто не вспомнил, что в двадцатом веке мы уже вводили «миротворческие силы» в Россию…[93]
– Тут совсем другой случай, сэр. Сейчас в России нет условий для организации дееспособного сопротивления. Возьмём бывшую Югославию или Грузию… Население должно было согласиться с решениями нового правительства и международной помощью.
– А также возьмите Ирак и Афганистан. Кое в чём у России с ними больше общего, чем даже с православными Сербией и Грузией…
– В чём же, сэр?
– Хотя бы в том, что три названные страны никогда не были полностью оккупированы и не жили сотни лет в качестве чужой колонии. Если вам не трудно, Лерой, выгляните в окно…
Разведчик, недоумённо пожав плечами, выполнил просьбу посла.
– Ну и как? Вы видите толпы русских, радостно приветствующих «новое правительство» и «миротворческие силы»?
– Но простите, сэр, это окно выходит во двор… Ах да! Я понял вашу аллегорию. И тем не менее. Наш план не допускал поражения. Всё было просчитано. Высшие офицеры госбезопасности, батальон готовых на всё солдат русского спецназа – и Президент на своей даче, окружённый группкой почти безоружной охраны. Через час-другой он уже делал бы «Заявление». Совсем другое заявление. Или – случайно застрелился бы из собственного ружья, готовясь к охоте…
– В России сезон охоты ещё не открыт, – сухо заметил посол.
– Да господи! Это такая мелочь! Кто в этой стране соблюдает хоть какие-то законы?
– Очевидно, именно поэтому вы совершили ту же ошибку, что Наполеон, Гитлер и так далее. Вы решили, что противник станет играть по вашему сценарию и произносить реплики в предписанном порядке. Так где ваш спецназ и застрелившийся Президент?
– Об этом я и хотел сказать, сэр. Произошло что-то глубоко неправильное. И дело совсем не в моей самонадеянности или наполеоновских ошибках. Машина завертелась вопреки законам механики и физики…
Посол это понял с самого начала. Несмотря на свою якобы пророссийскую риторику, он делал всё, что было в его силах, чтобы переворот удался. Руки не пачкал прямыми контактами с будущими Пиночетами, но его вклад в подготовку акции, обещавшей стать крупнейшим успехом США в XXI веке, был не меньшим, чем у Лютенса. Пожалуй, гораздо большим. А его теперешняя поза была всего лишь репетицией-экспромтом. Крейг чувствовал, что предназначенная для цэрэушника позиция пригодится и в контактах со старой/новой российской властью, и для отчёта перед своим президентом и Конгрессом. Поэтому весь разговор записывался на видео. Кроме Лютенса, у посла имелась и собственная служба безопасности.
При этом так же, как разведчик, Крейг недоумевал, вводя фактор «загадочной русской души» уже задним числом.
Это, кстати, один из плохо воспринимаемых даже достаточно умными людьми закон психологии (в ней тоже есть законы, не менее точные, чем в физике. Только не все об этом догадываются): «Почти невозможно учитывать в своей практической деятельности свойства (убеждения, способности) объекта, которыми ты сам не располагаешь или их не разделяешь».
Как случилось, что своевременно даже до Лютенса (и ни до одного разведпредставительства дружественных держав) не дошла информация о предпринятой попытке (а главное – о результате этой попытки) ареста Президента на его даче. И о нескольких достаточно масштабных боестолкновениях в течение минувшей ночи. Это особенно интересно в свете того, что в принципе вся схема заговора с последующим переворотом, технология его подготовки, достоверные данные о численном и персональном составе антипрезидентских сил были известны всем, кому положено. И существовала чёткая, выверенная схема непрерывного перекрёстного информирования в режиме реального времени.
Были выплачены сотни миллионов долларов и евро в виде перечислений на личные счета ключевых фигур и выдачи огромных по российским меркам наличных сумм на оперативные и непредвиденные расходы, уже сделанные и ещё только предстоящие. Кураторы «мероприятия» на этот раз решили не жадничать, всё равно ведь любые вложения многократно окупятся уже в ближайший год, а благодаря своевременным поправкам к законодательству США появилась возможность целевым назначением отпечатать «дополнительный тираж» зелёного всеобщего эквивалента, превышающий бюджет не самого маленького европейского государства. Отдельный вопрос – какой процент от этих «с неба упавших» миллиардов дошёл по назначению, а какой был использован «более рационально», с точки зрения распорядителей и получателей этого кредита? Казённые средства в любой стране мира, даже такой «просвещённой», как США, пилят с не меньшим азартом, чем в Зимбабве. И попадаются не слишком часто, рука руку в силу обычной анатомии моет.
Масса специалистов с богатым опытом организации мятежей, революций и «конституционных» смен власти в десятках стран мира с самыми разными историями, культурами и формами правления сделали всё, что умели, и в своих отчётах и докладных гарантировали безусловный успех самого масштабного за последние десятилетия проекта.
Возможно, и сам Лютенс был в курсе лишь небольшой части проделанной работы. Тут (и отнюдь не только в Москве) потрудились очень и очень многие, зачастую не пересекающиеся организации и ведомства десятка с лишним государств.
И вдруг такой катастрофический облом!
– Вы только представьте, сэр, – Лютенс настолько резко сменил алгоритм общения с послом, что это выглядело даже несколько смешно. Крейг подумал, что вот на глазах разоблачён ещё один миф о рабской сущности русских и непередаваемо высоком уровне свободолюбия и самоуважения у американцев. Может быть, так оно и есть на уровне общения фермера из Айовы или техасского рейнджера с губернатором штата. Но степень низкопоклонства офисного клерка перед начальником отдела или такого вот Лютенса перед ним, послом, намного превосходит то, что приходилось наблюдать в среде русских чиновников. Те, по крайней мере, способны вдруг «vzbriknut» так, что мало не покажется, «poslat vse i vseh», не думая о последствиях. А Лютенс сломался сразу, как и любой бы карьерный дипломат на его месте. Прошло время отважных и отчаянных «героев пустынных горизонтов».
– У меня сложилось такое впечатление, будто этих людей мгновенно подменили на кукол-марионеток. Они перестали думать даже о самосохранении. Упали там, где стояли, не желая делать хоть что-то. Информаторы перестали информировать, солдаты и «чекисты» – стрелять и арестовывать, отчаянные «уличные бойцы» раздумали лезть на баррикады, правозащитники «возвышать голос» именно тогда, когда успех от краха и смерти отделяют минуты и дюймы…
– И когда, по вашему мнению, это случилось? – кривая усмешка испортила дотоле благородный лик посла.
– Да вот как раз около вчерашнего полудня. Произошёл довольно странный инцидент. Один из личных друзей Президента, его консультант по средствам массовой информации и связям с общественностью, назначил встречу какой-то непонятной женщине. По некоторым сведениям – представительнице чуть ли не анархистского подполья, связанного со своими западными единомышленниками. Подполья, откровенно враждебного и правым, и левым, сотрудничающим с нами.
К нынешнему Президенту и действующей системе власти они тоже относятся крайне негативно. Поэтому непонятно – о чём бы им говорить с таким «спецпредставителем». Этот контакт был отслежен участвующими в «проекте» сотрудниками МГБ. При попытке задержать эту парочку произошёл «огневой контакт». Женщина и помощник Президента, очевидно, с помощью единомышленников, дали отпор нескольким «чекистам», подкреплённым взводом ОМОНа, и скрылись. Вот с этого момента начали сыпаться все последующие акции. У меня нет точных данных, как именно всё происходило, но Президента захватить не удалось, спецбатальон «Зубр» не выполнил ни одной возложенной на него задачи, многие «лидеры уличного протеста», получив гигантские по здешним меркам деньги, не вывели на улицы не то что сотни тысяч, просто сотни человек…
– А ведь за эти суммы тоже придётся отчитываться, – вздохнул посол. – В случае победы о них никто бы и не вспомнил, а так…
Лютенс вздохнул гораздо громче и выразительнее. У него ведь не было на руках даже расписок.
– Что ж, Лерой, у вас есть ещё возможность без фатальных имиджевых потерь выбраться из той задницы, где вы оказались. Мне почти очевидно – вмешалась никак не учтённая «третья сила». Вопрос – что это за сила. Анархисты или нечто совсем другое. Исходите из отмеченного мною факта – со вчерашнего дня Президент начал вести себя как совершенно другой человек…
Крейг внезапно замолчал, и лицо его странно изменилось.
– Как другой человек… А, может быть, это теперь действительно другой человек? Мне говорили, но я не верил, что в Москве действует какой-то институт «Паранормальных явлений». Ясновидение, телекинез, левитация… Бред, сами понимаете. А если – не бред?
– Таким вот образом, Георгий Адрианович, – Берестин сидел в кресле напротив журнального столика, по другую сторону сам Президент и Мятлев, – свою задачу я считаю выполненной. При поддержке частей полковника Тарханова, – он слегка поклонился в сторону расположившегося рядом Сергея, – Москва взята под полный контроль. Среди войск московского гарнизона и органов внутренних дел отмечены лишь единичные случаи открытого неповиновения. Общие потери с нашей стороны, считая с момента ввода «ограниченного контингента» (Берестин произнёс этот термин с особой интонацией, Тарханову непонятной), – сорок семь человек убитыми, сто семьдесят с чем-то раненых разной степени тяжести. Данные уточняются. Со стороны противника – триста пятнадцать убитых военнослужащих, то есть – подобранных трупов, около семисот раненых, три с половиной тысячи пленных. Случайные потери среди мирного населения пока не подсчитывались. Массовых протестных выступлений не отмечено. Стихийным сборищам граждан для обсуждения вашего «Обращения» мы не препятствуем. Вверенные мне временные формирования и части союзников переходят к несению гарнизонной службы. Я готов передать общее руководство дальнейшими операциями генералу Мятлеву, как специалисту именно в этой области.
– Мы бы попросили вас не слагать с себя слишком поспешно функций, которые вы так успешно выполняете, – сказал Президент. – Хотя бы ещё несколько суток. У нас сейчас в некотором роде управленческий хаос. Как мне стало известно, вам приходилось совмещать и военные, и административные обязанности в гораздо более сложных обстоятельствах…
«Да уж, – подумал Алексей, – подготовить за месяц страну и армию к Отечественной войне или выиграть Гражданскую и с нуля создавать Югороссию посложнее было».
– Я не возражаю. Но при соблюдении ряда условий. Вы уж простите, они могут вам показаться несколько… обременительными. Но тут просто по-другому не получится…
– Я слушаю.
– Нам придётся немедленно, прямо вот сейчас, создать нечто аналогичное Ставке Верховного главнокомандования, как в сорок первом. В неё войдёте вы как Председатель, я и Леонид Ефимович, – он указал на Мятлева, – заместители. Членами Ставки назначаются господин Тарханов, оба полковника Ляхова, моя жена…
Президент приподнял бровь.
– Не как жена, конечно, как вполне самостоятельная фигура. У неё и собственная фамилия есть – Спенсер, Сильвия Спенсер. В некотором смысле – британская герцогиня на русской службе. Профессиональный дипломат. Посильнее Кондолизы Райс и Хилари Клинтон, вместе взятых. Им с нею будет интересно разговаривать. Тем более – на родном языке.
– Вот удивительно. Я и не знал таких подробностей. Конечно, пусть будет по-вашему, если это необходимо.
– Благодарю за понимание. Ещё нескольких членов мы введём «по ходу». Рабочий аппарат уже имеется, все службы обеспечения – тоже. Потребуется отдельное здание, для удобства – здесь же, на территории Кремля.
– Этаж в Арсенальном корпусе нас устроит? – спросил Мятлев.
– Вполне, – Берестин вспомнил вдруг, как он приезжал с фронта сюда, в Кремль, к Новикову/Сталину. И вот теперь снова. Сколько же это лет прошло? По биологическим часам – где-то около восьми всего лишь, по психологическим – почти вечность, по календарю – минус семьдесят. Забавно, одним словом.
– Распорядитесь. Само собой, работать мы пока будем в «закрытом режиме». Юридически, и от прессы в особенности. Дума там пусть заседает хоть круглосуточно, парламентское расследование проводит, дискуссии всякие – не препятствовать. С правительством поручите администрации разобраться, всё равно это дело временное. Сейчас нам нужно решить вопрос с министрами обороны, внутренних дел, госбезопасности, чрезвычайных ситуаций, транспорта, финансов. Пока достаточно. Распорядитесь, часа через два чтоб явились. Они или исполняющие обязанности. Там я поставлю задачу. Тем, кого Леонид Ефимович не сочтёт нужным, немедленно изолировать. В ближайшие двое суток нужно будет обеспечить переброску в Московскую область и окрестности минимум трёх дивизий, причём не нашего штата, тамошнего, по пятнадцать тысяч штыков. Чёрт, как неудобно, – поморщился Берестин. – Надо придумать, как другую Россию называть…
– Ну давайте попросту – это Россия, та – Империя, – предложил Мятлев.
– Ладно, хотя бы так. Конфуций говорил, правильное именование – это самое главное. Значит, договорились: первое заседание Ставки в пятнадцать ноль-ноль. И ещё, это, наверное, к вам, Леонид Ефимович. Прикрепите ко мне, то есть к нам, – он опять движением головы указал на Тарханова, – человек пять именно что флигель-адъютантов. Людей, способных немедленно и без лишних согласований, – он произнёс это слово с явным пренебрежением, – решать все возникающие текущие вопросы, передавать наши указания исполнителям, принимать на себя положенную долю ответственности. Ну, вы понимаете. Не могу же я по каждому вопросу вас разыскивать или лично среди клерков порядок наводить…
– Хорошо, Алексей Михайлович, к началу заседания такие люди будут.
– Тогда сейчас мы вас покинем, съездим к себе, в четырнадцать тридцать вернёмся.
В приёмной Берестина с Тархановым ждали Вирен и Варламова – и охранницы, и адъютантши. Там же и Герта с ними, но уже как бы и «отдельная». Ей при Мятлеве неотлучно теперь поручено находиться и команды только от Фёста получать.
– Вперёд, барышни, на Столешников едем, – бодро сообщил Берестин вскочившим и вытянувшимся при их появлении девушкам. – Фёста с Секондом вызовите, пусть туда же подтягиваются. Уварову собрать до кучи всю «девичью роту» и перебазироваться сюда, в Кремль. В Арсенале его будут ждать и разместят. Пусть приводит подразделение в порядок и отдыхают до пятнадцати. Девушкам переодеться в парадно-выходную. Но при оружии. Воевать сегодня едва ли придётся, а вот имидж! Чтоб Президентский полк плакал от зависти, на них глядя! Не возражаете, Сергей Васильевич? – спросил Алексей Тарханова. – А то раскомандовался я вашими людьми.
– Никак нет, господин генерал-лейтенант, здесь я только «оперативно приданный», а вы – главноначальствующий.
– Не нужно скромничать. Вы – начальник своего Управления и член Ставки. Вроде как в Риме военный трибун[94]. Просто в России я пока лучше вашего ориентируюсь…
– Ну и как тебе? – спросил Президент Мятлева, когда имперский полковник и непонятной принадлежности генерал вышли из кабинета.
– Энергичный мужчина. Если бы у нас процентов двадцать хотя бы так чётко мыслили и действовали. Сталинский стиль. Или грудь в крестах, или голова в кустах. У исполнителей…
– Слава богу, что он согласился взять на себя непосильные, как выяснилось, для нас проблемы. Но тут же и вопрос – не подомнёт он нас окончательно, ещё и с тремя дивизиями (это пять-шесть по-нашему) под рукой?
– Опять ты за старое, – укоризненно, как ребёнку, со вздохом ответил Мятлев. – Всё время представляй, что нас с тобой ещё вчера после обеда могли прикопать в лесочке, там бы и остались, даже без пирамидки со звёздочкой. Легальных путей перехвата у тебя формальной власти милейший Алексей Михайлович не имеет, а что касается нелегальных… Давай не забивать себе голову ерундой, а начинать работать в предложенном режиме и темпе. Я, значит, силовым блоком займусь. На МВД ты меня утверждаешь?
– Договорились же…
– Договорились… Тогда МВД я тоже себе забираю, МЧС не трогаем, кандидатуру министра обороны я ещё провентилирую. Ты садись за телефон, устрой губернаторам видеоконференцию. И пожёстче, в стиле товарища Берестина. Доведи до сведения наших региональных баронов, что теперь они, как в Империи, – по МВД числиться будут, со всеми вытекающими последствиями. То есть их личные дела в моём секторе по учёту кадров храниться будут. Чтоб своё место знали. Ну, хоп, разбежались.
В отличном настроении, даже насвистывая, Мятлев появился в приёмной, где теперь оставалась только баронесса, отпустившая штатную секретаршу чаю в буфете попить.
– Что-то весёлый ты, Лёня, – отметила Герта. – Тарханов с генералом куда озабоченнее выглядели. Я думала, наоборот быть должно…
– Ничего ты не понимаешь, – генерал фривольным жестом попытался обнять валькирию за талию. Та отстранилась матадорской «полувероникой» и ткнула его в бок стволом автомата.
– Холоднокровнее, Лёня, вы на работе. На вопрос ответь.
– Чего ж тут странного. Мужики подрядились выполнить тяжёлую и непростую работу, вот и сосредоточились. А я, наоборот, ощутил, как камень с сердца и с плеч свалился, потому как есть на кого и на что надеяться. И ты рядышком…
– Ты, господин генерал, странный всё-таки. Здесь у тебя жена всё же, дети, а ты… Неужели и домой не зайдёшь? Объяснишься как-то…
– А вот это пусть тебя совсем не беспокоит. Мои дела, мне и решать. Дети, считай, взрослые, я их обижать и обделять не собираюсь. С женой у меня уже лет десять договорённость – я её амуров не касаюсь, она моих. А живём в одной квартире, да и то не слишком часто, обычно она в городе – я на даче, или наоборот, просто в рассуждении приличий. Нельзя было в наше время генералам Центрального аппарата разводиться, да и незачем. А сейчас я в длительной командировке. И всё на этом…
– Как знаешь, друг мой, как знаешь. Распоряжения по службе будут?
– Распоряжение одно – я занимаюсь делами, ты при мне неотлучно.
– Так точно. Насчёт личной жизни, прошу иметь в виду – забыли. Как ничего и не было. Впредь до…
– До чего?
– Пока коммунизм не одержит победу во всемирном масштабе. Если проще – пока я не сочту этот вариант приемлемым. Или ты как-то определишься.
– Да что за ерунда. Мне что, всё-таки развестись? Штамп в паспорте показать? Я готов. Даже в церкви венчаться готов. Чего тебе ещё нужно?
– Не знаю, милый. Когда соображу – тебе первому скажу. Так куда едем?
– Никуда не едем. Идём пешком в мои новые служебные апартаменты. Я теперь трижды министр и ещё зам. председателя Ставки Верховного главнокомандования.
– Здорово! А комната отдыха там есть?
– У меня теперь есть сразу четыре служебные дачи. Тебе хватит?
– Мне и одной много, если ты имеешь в виду то, о чём я уже сказала. Идите вперёд, охраняемое лицо, и не оглядывайтесь.
Сквозь квартиру, как по подземному переходу, на другую сторону улицы Берестин с Тархановым, Фёст, Секонд и неотступно следующие за ними Мария с Ингой перешли в Империю.
Фёст, конечно же, прибыв по вызову первым, сидел в комнате Людмилы. Девушка уже почти совершенно поправилась, жёлтый сектор на экранчике гомеостата сократился до каких-то пятнадцати-двадцати процентов. У любой «нормальной» местной девушки этот прибор нашёл бы в организме больше нарушений и повреждений, чем у Вяземской. И живут же, не обращая внимания. Но Вадим, пусть и врач, и вообще беспечный человек, полюбив всерьёз впервые в жизни только в год своего тридцатилетия, переживал за невесту не меньше, чем молодая мамаша за своего первенца.
– Нет, милая, ты уж долежи хотя бы до завтра. Ничего вокруг не случится, мир не рухнет, и я Галину в соседней комнате соблазнять не собираюсь. Кстати, сейчас я её позову и предупрежу, чтоб следила строго. Советую запомнить, что по науке ты едва бы выжила, и вместо этой роскошной постели, где я тебя в ближайшие дни навещу, могла сейчас лежать на цинковом прозекторском столе. При том, что тебе эта сволочь своими пулями натворил, сплошь и рядом…
– Но не случилось ведь, – улыбнулась Людмила, тающая от его слов, для кого-то, возможно, звучавших бы весьма неприятно и даже цинично. – А почему ты его всё же не убил? Я бы за тебя кого хочешь убила…
– Всё ещё впереди. А вообще, я человек отходчивый. Раз сразу не грохнул… Теперь ему пожизненное организую, да не в санаторной камере, а на натурально сибирской каторге. Мне Секонд обещал поспособствовать. И велю твою фотографию в бараке повесить, чтоб до самой смерти не забывал…
– Ну ты у меня и садист, – обняла его Людмила. – Поцеловать тяжелораненую медицина не запрещает?
– Думаю, если немножко, то ничего…
Немножко затянулось до тех пор, пока Фёста не позвали.
– Ну, я побежал. Мы победили, и враг бежит, бежит, бежит… Поэтому можешь спокойно валяться до завтра и развлекаться эротическими фантазиями. Чтобы ты поверила, как успешно выздоравливаешь, мы с тобой сейчас за счастливое спасение и вообще успех по рюмочке дёрнем. И – увы! Дела набегают, как волны цунами, и рушатся вниз стремительным домкратом…
В коридоре он придержал за руку Галину Яланскую, спешащую на кухню, чтобы приготовить какое-нибудь угощение обещавшему вот-вот прибыть высокому начальству. Она ещё вчера и представить не могла, что будет запросто общаться с настолько стремительно и до таких высот поднявшимися людьми, хоть и сама была «не из простых». Если уж «Валера», как они между собой называли Уварова, которого помнила простым капитаном, стал в одночасье полковником, а зараза Вельяминова «штабса» отхватила…
Яланская до сих пор не могла себе простить, что вовремя не сориентировалась, не перехватила парня под носом этой красотки. Настька тогда, словно из Смольного только что выпущенная, смотрела на мир наивными глазами и ничегошеньки не понимала. Особенно – в мужиках. На первое свидание в её шубке к Уварову бегала, от подаренного флакончика духов млела…
А Ляховы и Тарханов такую карьеру сейчас делали! С Государем Императором и соседским Президентом едва только не на «ты» разговаривают, водку вместе пьют и закуривают в царском присутствии без специального разрешения! В таких вещах Яланская толк понимала.
– Ты, Галя, посмотри за ней ещё, пожалуйста. Чтобы никаких фокусов. А то ведь и сбежать может…
Галина улыбнулась несколько надменно.
– У меня не сбежит, Вадим Петрович, не извольте беспокоиться. Другое дело – обо мне побеспокоиться некому. Остальные девки бегают, стреляют, кресты зарабатывают, а из меня сиделку и хозяйку постоялого двора сделали. Когда история в очередной раз переписывается. Как там у Пастернака? «Впервые за сто лет и на глазах моих меняется твоя таинственная карта…»
– А ты начитанная девушка. – Фёст посмотрел на поручика с истинным интересом. До этого он всё больше общался со своими валькириями, а тут и другие барышни не только весьма симпатичны, но и настолько умны! Кто бы мог подумать, что девица из другого времени и реальности наизусть Пастернака шпарить способна.
– Откуда ты – знаешь? – довольно глупо спросил Вадим.
– Господин полковник, – сощурила глаза девушка, – означенный поэт родился в тысяча восемьсот девяностом году и данный стих написал по поводу начала Первой мировой войны, общей для наших историй. А поэзию как таковую я с шести лет люблю и знаю наизусть очень и очень много. Примерно как средний акын…
Она улыбалась вроде бы простодушно, но и с тонким-тонким намеком, неизвестно только, на что. И ножку этак отставила, и в талии чуть изогнулась.
«Увы, красавица, на меня такие вещи именно в этом смысле не действуют, – тоже усмехнувшись, чтобы Яланская поняла, что её игра для взрослого мужчины чересчур прозрачна, – подумал Фёст. – А вот в другом…»
– Молодец, – совершенно искренне сказал Вадим. – Таких девушек я всегда ценил. Красивых, умных и эрудированных. Только обычно эти качества встречаются по отдельности. Тебе повезло. Можешь не горевать. Умом и обаянием имеешь шанс добиться гораздо большего, чем беготнёй с автоматом под пулями. Пойдёшь работать в мой личный штаб? Я теперь тоже надолго стану кабинетной крысой…
– По вам не скажешь, – снова улыбнулась Галина.
– И тем не менее. Так что работа тебе найдётся. Капитанский чин у вас, майорский у нас – это сразу[95]. И должность что-то типа столоначальника, разведка, контрразведка, аналитика и всё такое. Пойдёшь?
– Я-то хоть сейчас, Вадим Петрович. А глаза никто никому не выцарапает?
– Пору-учик… – укоризненно протянул Фёст. – Это не мой стиль. Я вас именно на штаб-офицерскую должность приглашаю, а не в ППЖ…
– Что такое ППЖ? – Яланская такой аббревиатуры никогда не слышала.
– Походно-полевая жена. Был у нас в ту войну такой термин. Насчёт этого не беспокойтесь. Или – не надейтесь. Зато в новом чине и при власти вы себе жениха поинтереснее меня найдёте…
– Вот не прибедняйтесь, пожалуйста, Вадим Петрович, не кокетничайте. Это я в последний раз с вами в таком тоне говорю, на должности – не буду. Так что я согласна, вы поняли?
– Слава богу, пока поручик Яланская. Думаю, завтра-послезавтра мы с вами решим этот вопрос. Жить и работать придётся то там, то здесь. Но там – по преимуществу. В таком, как говорится, аксепте.
– У нас почти все девушки хотят там поработать…
– Обстоятельства покажут…
Теперь центр событий переместился на «имперскую сторону». Вскоре поданные к крыльцу автомобили везли Фёста с Берестиным и «местных товарищей» по удивительно похожей на свою иномирную копию Петровке в другой, в чём-то ощутимо другой, но в основном по стилю и духу тот же самый Кремль. В совершенно иначе отреставрированном корпусе, по другим лестницам, охраняемым не солдатами Президентского полка, а дворцовыми гренадёрами в форме времён Николая Первого, они поднялись в парадные апартаменты Чекменёва, где через огромные окна был великолепно виден Тайницкий сад. Здесь уже собрались, кроме хозяина необъятного и почти необозримого кабинета, Сильвия, фон Ферзен, еще несколько генштабистов и министр путей сообщения действительный тайный советник граф Клейнмихель с начальником службы военных перевозок генерал-лейтенантом Маклаковым.
– Хочу вам сообщить, господа, – здесь докладывал уже Секонд, как по-прежнему непосредственно ответственный за «Мальтийский крест», – согласие на переброску через Уральский тоннель трёх первоочередных дивизий от российских властей получено. То есть основную задачу мы выполнили. Теперь вопрос к вам, Пётр Андреевич, какую пропускную способность вы готовы обеспечить? В первые сутки, во вторые и так далее.
– Через входной портал мы можем непрерывно подавать эшелоны с интервалом в полкилометра, – доложил министр. – Другое дело – сколько времени займёт разгрузка людей и техники. Грубо считая, один эшелон – один батальон. По нормам выгрузка и освобождение путей для следующего – два часа. То есть на дивизию минимум сутки.
– Долго, граф, есть способ ускорить? – поморщился Чекменёв.
– Мне кажется, господин министр упустил один немаловажный момент, – крутя в пальцах незажжённую папиросу, с места сказал Ферзен. – Я не помню, чтобы перед входным и за выходным порталом были оборудованы разъезды. Как вы думаете организовать освобождение путей для следующего эшелона?
Министр посмотрел на Маклакова, тот, растерянно, на Секонда.
– Да, господа, – встал с места Вадим. – Спасибо Фёдору Фёдоровичу. Тут у нас получается… Да чёрт знает что получается. Это прежде всего мой просчёт. Я не железнодорожник и вообще всё время держал в уме, что первоначальный план предлагает сквозное движение через тоннель до стыковки с тем Транссибом. О том, чтобы подъехать и развернуться, по-моему, и речи не было. Ход событий нас опередил. Сейчас я понял проблему. И как у нас с вариантами, господин генерал-лейтенант? – задал он вопрос начальнику службы перевозок. – Вы в таких делах куда поопытнее нас…
– Вариант всего один, господин полковник, – ответил Маклаков. – За выходным порталом у нас готово всего три километра путей. Но есть приличная шоссированная автодорога. От последней нашей станции, оснащённой достаточным количеством маневровых путей, до входного портала пятнадцать километров. Значит, пехоту нужно выгружать там и – переменным аллюром к тоннелю и на ту сторону. Освобождённый подвижной состав переформировывать, загружать до предела технических возможностей боеприпасами и тяжёлым вооружением, полным ходом гнать вперёд, выгружать на той стороне вручную и снова назад, под погрузку. А на освободившийся «Главный ход» – следующий состав. Так мы сумеем примерно сбалансировать темпы переброски людей и техники. А что вы решите делать на той стороне – уже не моя епархия.
– Спасибо, Николай Валерьевич. С той стороной мы как-нибудь решим, а вы начинайте работу по этой схеме. Может быть, попутно ещё какую рационализацию придумаете.
– Придумывать ничего не надо, – сказал Клейнмихель. – На сооружение приличного разъезда прямо перед порталом потребуются примерно сутки, если, конечно, шпалы и рельсы прямо в грязь не класть. Сделаем – и тоннель заработает в плановом режиме.
Дивизии, предназначенные к переброске, уже неделю ждали приказа в полевых лагерях вдоль железной дороги. Пока что личный состав постигал основы теории параллельных миров, политическое и экономическое устройство сопредельной России, организацию её армии, технику, вооружение, особенности повседневной жизни и многие другие, обычные перед вступлением в иное государство предметы.
Глава двенадцатая
Совещание у Чекменёва продолжалось уже второй час, и повестка неотложных вопросов подходила к концу. Неожиданно для всех, но едва ли для Чекменёва, двери раскрылись и вошёл Император в сопровождении военного министра Воробьёва, морского – Гостева, начальника Генштаба Хлебникова и почему-то министра финансов Сушкевича.
Жестом велев садиться вскочившим по команде Чекменёва «Господа офицеры!» должностным лицам обеих Россий и экспертам (одна только Сильвия осталась на своём месте, просто кивнула Государю с милейшей из своих улыбок), Олег Константинович прошёл во главу длинного стола для заседаний, а Игорь Викторович быстренько устроился у его дальнего конца, рядом с вновь прибывшими генералами и адмиралом.
Император, вертя между пальцами толстый двухцветный карандаш, которым Чекменёв делал пометки в своём бюваре, довольно рассеянно, как всем показалось, выслушал доклад своего «серого кардинала».
– Удовлетворён. Как обещали, так и сделали. Представьте всех причастных к наградам. Без различия подданства. В нынешних условиях не вижу необходимости испрашивать у вашего Президента особого индивидуального разрешения. Он тоже может наградить наших людей по своему усмотрению.
– Уже, – вставил Берестин. – Президент распорядился наградить всех участников операции с вашей стороны медалями «За отвагу» – рядовой состав, орденом Мужества – офицерский. По старшему комсоставу он примет решение в ближайшее время, после консультаций с вами.
– А что со мной консультироваться? Кого сам считает достойным, пусть тех и награждает, хоть собственным бюстом в натуральную величину[96].
По лицу его скользнула тень, означающая сильное желание поймать ускользающую мысль. Тут же он удовлетворённо хмыкнул, значит – вспомнил.
– А тех барышень, ну, «печенегов» ваших – тоже орденом?
– Так точно, – не вставая, ответил Тарханов, Император строго запретил на совещаниях и за парадными обедами поминутно вскакивать, отвечая на вопросы. Если только для пространного доклада у карты. – Всех, непосредственно принимавших участие в боях. Остальных – медалями.
– И моих крестниц – тоже?
Сильвия прикусила губу. Похоже, натура Олега оказалась сильнее поставленного ею блока.
– Так точно.
– Это очень правильно – таких очаровательных барышень – орденом Мужества, хотя больше подошёл бы – «Женственности».
– Если прикажете – представим всех к нашему ордену Екатерины[97], – тут же сориентировался Чекменёв. Тарханову отвечать на подобные императорские идеи было не по чину.
– Так и сделайте. Прямо завтра. Вручим заодно с другими.
Олегу предложение верного паладина понравилось. Он почти забыл о существовании этой награды, не вручавшейся уже почти сто лет. А вот он, получается, её возрождает. Очень недурно. И перспективно, тем более сейчас, когда женщины уже и на передовой воюют.
– Кого конкретно, Ваше Величество?
Сильвия ещё раз сделала ментальный посыл, пристально глядя в глаза Императора, заставляя его снова забыть фамилии и внешность всех валькирий, кроме Инги.
– Да ты это, сам там… Всех, кого я наградил и обещал наградить. Ту немочку-красавицу, конечно, Вире́н её зовут, кажется, и остальных, кто с оружием в руках…
Император помотал головой, словно пытаясь вспомнить, зачем он вообще здесь присутствует. Перед внутренним взором отчётливо стояла, вытянувшись в струнку, эта самая Инга. Хороша, чертовка, очень хороша! Главное, высокая! (Женщин небольшого роста Олег недолюбливал. Помнил, только по книгам и фотографиям, конечно, свою прапрабабку, императрицу Марию Фёдоровну, ростом едва метр шестьдесят. Её муж, Александр Третий, постоянно сетовал, глядя на наследника, будущего Николая Второго: «Вот же датчанка! Всю породу испортила». И оказался прав.) А Инга – не верста коломенская, но очень соразмерная. И взгляд прямой, честный, и в то же время какой-то… Ласковый, что ли? Новый орден рядом с офицерским «Георгием» к бальному платью кавалерши ей очень пойдёт. Не забыть бы послать приглашение на субботу…
– Всё, господа, – словно очнулся он. – О наградах после полной победы разговаривать будем. У нас тут весьма важный вопрос, исключительно важный. Сейчас адмирал Гостев вам доложит…
Сильвия незаметно приложила к вспотевшему от нервного напряжения лбу надушенный кружевной платочек. Почувствовав тонкий волнующий аромат, окружающие мужчины автоматически повернули головы в её сторону. Она улыбнулась всем сразу и глазами показала, куда на самом деле нужно смотреть.
А мимо Секонда снова пролетели генерал-адъютантские погоны, ибо, затевая разговор о наградах, Олег как раз и собирался поздравить его с долгожданным чином. И напрочь забыл. Слишком пристальное внимание леди Спенсер, или же госпожи Берестиной, как кому нравится, имело для мужчин контузящие последствия. За очень редкими исключениями.
Морской министр, машинально разгладив полуседую шкиперскую бороду, начал говорить голосом, мало приспособленным к закрытым помещениям. Если выработался ещё в гардемаринскую пору «командный», позволяющий в шторм на палубе учебного парусника доносить свои мысли и эмоции до работающих на реях матросов, то к салонным интонациям вернуться почти невозможно. Изо всех сил стараешься, и не можешь добиться, чтобы дамы в другом конце актового зала не слышали, как ты в доверительном разговоре с партнёрами по ломберному столу митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского поминаешь, с динамитом его срифмовав и обер-церемониймейстером переложив.
– Должен вам сообщить, господа, что все наши старания по умиротворению бывшего нашего британского союзника и партнёра успехом не увенчались. Мы очень надеялись, как и говорилось на прошлом заседании Главного военного совета, что англичане одумаются, поймут, что война на истощение им ничего хорошего не принесёт. Но кабинет Уоллеса и Виндзорский двор решили иначе. Намеченная ими крупномасштабная провокация с нашим якобы десантом на Мальту нами сорвана…
– И здесь Мальта! Вы что, провидец, что ли? – спросил Чекменёва сидящий рядом министр финансов, уже посвящённый в тайну операции полковника Ляхова.
– Обычное совпадение. Гораздо более частое, чем принято думать, – шёпотом ответил генерал, чтобы не навлечь недовольный взгляд и зловещее покашливание Императора.
– Как выяснено, операция, названная британцами «Дискрешен», предусматривала немедленные «ответные» удары по всем нашим военно-морским базам одновременно и вторжение на нашу территорию крупных масс сухопутных войск с единственно доступных направлений, вы все их знаете – через Турцию, Индию, Афганистан. Захватив крейсер «Тренвилл», оснащённый специальной, сверхсекретной аппаратурой, вместе с несколькими представителями разведки и Адмиралтейства, отвечавшими за операцию, мы рассчитывали подвигнуть англичан к переговорам на разумной, ничьих интересов не ущемляющей основе. Очевидно, мы в чём-то очень существенном ошиблись. Они словно с цепи сорвались, стали вообще на себя не похожи. Не «просвещённые мореплаватели», а какие-то шииты на празднике «Шахсей-вахсей». Короче, три часа назад нам предъявлен ультиматум. С условиями, ничуть не лучше тех, что некогда Австро-Венгрия предъявила Сербии. Мы должны возвратить им трофейный крейсер со всем оборудованием, экипажем и даже находившимися на нём так называемыми русскими добровольцами, которые и должны были изображать полк морской пехоты Черноморского флота. Кроме этого, принести публичные, с трибуны ООН извинения, признав клеветой нашу версию случившегося, а подлинные показания пленных объявить сфальсифицированными. Кроме того – выплатить компенсацию за понесённый флотом Его Величества ущерб, назначить единовременные пособия и пожизненные пенсии членам семей погибших и раненным в ходе инцидента британским военнослужащим. И, представьте себе, господа, они ещё требуют возвращения к положениям Парижского конгресса 1856 года о запрете русским военным кораблям прохода через Проливы. Срок – трое суток. Отсчёт, как говорится, пошёл.
Сказанное адмиралом могло бы вызвать, как принято писать, «взрыв возмущения» у присутствующих, но здесь люди собрались неглупые и с выдержкой. Тем более что большинство знало о возможности пресловутого «несимметричного ответа». Поэтому к сообщению адмирала отнеслись спокойно, только Фёст, как человек формально посторонний, осведомился, располагают ли господин адмирал, господин Чекменёв и разведорганы России в целом информацией, какая именно вожжа попала под хвост «альбионцам» и на что они, собственно, рассчитывают, так сказать, «в реале»? На самом деле надеются выиграть войну, или…?
– Или, – ответил вместо Гостева сам Император. – Сумасшедшие они там все или через одного, я ещё не выяснил, но явно просматривается намерение повторить сценарий Крымской, она же «Восточная», войны. Россия, не выдерживая тягот войны и нарастающего общественного возмущения чередой хотя и локальных, но неудач и поражений, соглашается на невыгодный мир. Особенно если большинство «нейтралов» постоянно оказывают давление, шантажируя готовностью присоединиться к «цивилизационно-близкой» Великобритании.
– И это очень хорошо и правильно, – сказал Берестин. – После учинённого нами разгрома британского флота в двадцать первом году и «возвращения» Югороссии Царьграда и проливов, наши «туманные» коллеги весьма поджали хвост. Последние пять лет ведут себя тише даже, чем поверженная Германия.
– Это – до поры, – ответил на его реплику Олег.
– Безусловно. Поэтому «торжественную порку», как это называется в романе о бравом солдате Швейке, нужно повторять с тщательно просчитанной регулярностью.
– Об этом и речь. То есть первый этап намеченного плана нами выполнен. Уоллес и лично мой «венценосный брат» Георг доведены до нужной степени каления. Теперь нужно дотянуть до истечения срока ультиматума, с негодованием его отклонить – но именно в самый последний момент, громко оповестив об этом всё мировое сообщество, дождаться реакции «кабинета Его Величества», в идеале – первого удара, и нанести ответный. Как видите, господа, – эти слова были обращены, исходя из направления императорского взгляда, конкретно к Берестину и Сильвии, – обратной дороги у нас нет. И без вашей помощи альтернатива у нас невесёлая – затяжная война или позорная уступка наглым требованиям.
– Вопрос понятен, – что-то рисуя в блокноте, ответил Алексей. – Вам нужны наши специалисты, ракеты и РЛС. Не вопрос. Но всю территорию страны мы прикрыть не сумеем, и одновременно все военно-морские базы и прочие объекты возможной агрессии. Вернее, смогли бы, только потребуются не трое суток, а хотя бы две недели. Значит, необходимо точно определить направление и время главного удара.
– Это я беру на себя, – усмехнувшись, сказала Сильвия. – Значит, Алексею Михайловичу, – она указала на Берестина, – и Вадиму Петровичу, – взгляд в сторону Фёста, – следует немедленно вернуться «домой» и принципиально решить вопрос о немедленной, в течение максимум двух суток, передаче вам, по типу ленд-лиза, необходимой техники. Так, чтобы уже завтра начать транспортировку и отгрузку. Двух часов, я думаю, хватит, чтобы согласовать с господами министрами и Генштабом параметры и количество вооружений. А я за это же время постараюсь раздобыть для вас конкретную информацию – направление и сила первого удара, дальнейшие планы кампании, если они вообще существуют.
Представители императорской стороны (кроме самого Олега) были в буквальном смысле поражены энергией и напором, исходящими от этой красивой дамы, отнюдь не производящей впечатления Бисмарка или Жукова в юбке. Равнодушным она не оставила никого – от прямого и грубого вояки, закоренелого холостяка адмирала до виртуоза интриг и комбинаций Чекменёва, уже имевшего удовольствие познакомиться с некоторыми чертами личности леди Спенсер. При первой встрече он оценил её красоту, остроумие и абсолютную в этом мире и в любом другом независимость от всего на свете. Олег Константинович тоже характеризовал её достаточно высоко, отрекомендовал «чрезвычайным и полномочным послом дружественной державы», не уточнив деталей, а также «своим личным другом». Это уже было что-то новенькое. В том, что Император мог с этой дамой переспать (или – она с ним!), Игорь Викторович нисколько не сомневался, но столь естественная для Олега процедура ни в коем случае не превращала его наложниц и даже фавориток в «личных друзей». Это – из другой колоды карта.
Что ж, остаётся, приняв слова Государя к сведению и исполнению, повнимательнее присмотреться к мадам Берестиной. Как-то она уж очень замахнулась, пообещав через два часа представить секретнейший на данный момент документ Британской империи. Мобилизационные планы, а тем более директивы на начальный, самый ответственный период затеваемой войны всегда хранились за семью печатями, и те, до которых удавалось добраться (считаное число раз за всю военную историю), как правило, оказывались тщательно проработанной дезинформацией. Вроде как планы развёртывания австрийской армии к Галицийскому сражению, подсунутые русскому Генштабу через полковника Редля в четырнадцатом году прошлого века.
«Если только…»
Чекменёв пришёл в изумление и одновременно профессиональный восторг от собственной догадки.
«Если только госпожа Берестина Сильвия Артуровна, она же леди Сильвия Спенсер, не является такой же «личной подругой» короля Георга и уже располагает этими документами! Остальное – кружева, эмоциональные и психологические. Ну-ну, посмотрим, что дальше будет».
– Пойдёмте, Ваше Величество, – сказала Сильвия Олегу, когда совещание закончилось. Напоследок был рассмотрен вопрос финансовых взаимоотношений с новыми союзниками, вплоть до немедленной дополнительной эмиссии и выпуска в обращение на территории РФ имперских казначейских и банковских билетов по курсу золотого червонца, для чего и потребовался министр Сушкевич.
– Я должна вам сказать нечто совершенно конфиденциальное. Пока наши военные специалисты обсудят свои вопросы, мы хотя бы сформулируем некоторые другие.
– В мой рабочий кабинет?
– Мне совершенно всё равно. Подождите, я на две минуты вас оставлю, нужно мужа проинструктировать…
Берестину Сильвия сказала, что ей немедленно нужно вернуться в Замок, буквально на полчаса. После этого разговор и со здешними генералами будет предметным, и с Президентом тоже.
– А ты, Вадим, – это уже Фёсту, – свяжись через Воронцова с Кристиной и Басмановым, передай, чтобы миссию Катранджи сворачивали и немедленно возвращались. Изображать сложные финансово-дипломатические па-де-де больше не нужно, пусть подпишут меморандум о сотрудничестве в первоначальной редакции, и достаточно. Своё оружие он получит помимо Югороссии. Сам видишь, куда повернулось – теперь ему без всяких заморочек можно половину здешних арсеналов передать, раз мы Олега всерьёз перевооружать станем. Всё ж затевалось, чтобы Ибрагиму мозги запудрить, так это уже и без нас, само собой случилось. Для нас турок больше не фигура…
– Что, опять прыгать через «три границы»? Доиграемся мы, я с самого первого дня, когда в развилке завис, при этих переходах себя хуже чувствую, чем при ночных парашютных прыжках в тыл врага, – вмешался Берестин.
– Не беспокойся. Когда они будут готовы, дадут мне короткий звоночек, и всё. Я их через Замок заберу и сюда доставлю.
– Ты там сама тоже… Поосторожнее.
– Ещё б ты за меня боялся! Сто лет сама управлялась, и жива, как видишь. Всё будет, как всегда.
Сильвия сейчас была сама мягкость и где-то даже покорность. Истинно любящая жена при суровом муже. Коснулась пальцами его щеки, улыбнулась, кивнула – и достаточно. Целоваться и иным способом выражать свои чувства при встречах и прощаниях у них было не принято.
Не той психологической конституции люди.
– Можно вас на два слова, Сильвия? – вдруг спросил Фёст с удивившей аггрианку интонацией. Да и то, что он впервые назвал её только по имени, было неожиданно. Два года только «Сильвия Артуровна» или «Леди Си», иногда полушутливо – «миледи», но это только в тех случаях, когда хотел поддеть, намекая на её сходство с героиней Дюма.
– Конечно, Вадик… – не удержалась и она от ответной любезности. – Давай к окошку отойдём. Извини, Алексей. – Это Берестину, мельком.
– Я, может, не вовремя, миледи, – сказал Фёст, разминая сигарету. Совещание затянулось и на этот раз, ввиду его официального статуса, присутствующим курить не полагалось. Не испытывая биохимической тяги к никотину, Ляхов раздражался от невозможности использовать табачные изделия разных типов и видов (по обстановке), как элемент психологический. Для стимуляции собственных мыслей и отвлечения внимания собеседников.
– Дай и мне, – попросила Сильвия. – Итак? Я сказала что-нибудь не то? Нарушила твои планы или конструкции? Твой взгляд был очень выразителен…
– Разве от вас что укроешь? Нет, с планами всё в порядке, я только хотел кое-что уточнить и выразить, если позволите, в очередной раз своё восхищение…
– Вадим, Вадим, оставь, льстец из тебя никакой. И я к комплиментам равнодушна. В чём дело?
Фёст в душе порадовался – значит, он уже так усовершенствовался, что легко просекает мысли миледи, а она – тормозит.
– Эта ваша работа – навести Олега на Ингу?
Сильвия хотела изобразить изумление и возразить, а потом подумала, что это ни к чему.
– Моя, – кивнула она, медленно выпуская верх и вбок прямую и длинную струйку дыма. – Как ты догадался?
– Элементарно, как любил говорить ваш соотечественник Шерлок Холмс. Я внимательно наблюдал за ним и за вами. И знаю, так сказать, предысторию вопроса… Идея отличная. Император-нимфоман, красивая девушка, страдающая от того, что у всех подруг – любовь, а на неё никто не смотрит. И добрая тётушка, взявшаяся устроить судьбу сиротки. Да не за принца её отдать, а сразу за готового императора. Чтоб уж наверняка…
Сильвия несколько раз сблизила ладони, изобразив бесшумные аплодисменты.
– Прими мои поздравления, Вадим. Делаешь прямо грандиозные успехи. Шульгин в тебе не ошибся. И к чему ты завёл со мной этот разговор именно сейчас?
– Хочу, чтобы вы взяли меня в долю. Идея ведь и вправду роскошная. Жаль её целиком вам отдавать. Вы ведь знаете, что я пользуюсь некоторым авторитетом у «валькирий»?
Сильвия кивнула:
– Особенно у Вяземской и Витгефт…
– Эта да. Но и не только у них. Короче говоря – я могу очень облегчить вам игру…
– И испортить – тоже, – согласилась Сильвия.
– Зачем так сразу? Я разве похож на человека, способного шантажировать такую даму?
– Ты способен ей отказать в любви, это гораздо труднее…
– Сильвия Артуровна, это уж совсем ни в какие ворота! Не рвите мне сердце. Я и так до конца дней буду горевать о своём опрометчивом шаге…
– Прекрати паясничать. Я совсем другое имела в виду. Так что с Ингой?
– Предлагаю паритет – пятьдесят на пятьдесят. Девушка, выйдя замуж, будет до конца дней ценить мнение не только «тётушки», но и «кузена», так скажем. И прислушиваться к нему, в случае чего, больше даже, чем к мнению мужа…
Сильвия посмотрела на Фёста очень внимательно.
– Вот так, значит? И ты думаешь – это возможно?
– Для вас нет ничего невозможного! Ну и я помогу, и шесть влюблённых в меня девушек…
– Ты не слишком самоуверен?
– Вы же знаете, что это правда. Юные, невинные существа. Имеют свойство влюбляться всей компанией в одного и того же парня. Как-то вышло, что мой психотип и фенотип оказались им ближе, чем у других товарищей. Не моя заслуга. Я их тоже всех люблю, но, увы, по-братски… Мы, к сожалению, не в Эмиратах…
– Ох и тип же ты, Вадик… Хочешь сказать, что и Анастасия? Она ведь без ума от своего графа.
– Так оно и есть. Но моментами что-то её покалывает… Вы ведь в курсе – первым мужчиной, хотя и платонически, был у неё Новиков… А мы с ним тоже похожи кое в чём. Девушка это чувствует. Когда психополя пересекаются…
– Ты явно перенял не самые лучшие черты своего наставника, – намеренно резко сказала Сильвия. Ей стало неприятно, что Фёст не только разгадал её интригу, но и переиграл в два хода. Он ведь совершенно прав – если Ляхов и все валькирии воспротивятся, Инга послушается их, а не её. Она ведь сама ещё не возжелала всем сердцем стать императрицей. Ей объяснят, что это блажь пожилого похотливого мужика-венценосца, а отнюдь не взаимное всепоглощающее чувство. – Хорошо, я согласна. Так, наверное, будет даже лучше. Молодой царице иногда нужны будут советы «любящего брата»…
– Да, вы правы. Кроме того, рассредоточенное воздействие всегда мягче и незаметнее однонаправленного…
– …И о чём же у нас пойдёт речь? – спросил Олег, закрыв за собой дверь кабинета. Указал на два кресла напротив мраморного камина с причудливой бронзовой решёткой и сдвигающимся при необходимости вниз начищенным, бронзовым же колпаком с вензелями и геральдическими знаками. Дрова в топке были уже уложены, и береста для растопки подготовлена.
– Зажжём? Что прикажешь подать? Опять твой джин, а то – шампанского?
– Не нужно, – ответила Сильвия, не подходя к креслам. – Ты мне по-прежнему доверяешь, как союзнику и личному другу?
– О чём ты спрашиваешь? И к чему эта преамбула? Случилось что-то экстраординарное?
– Отнюдь нет. Просто, раз ты уже достаточно втянулся в наши дела и тайны, хочу предложить небольшую прогулку…
– Опять в другую Россию?
– Нет, на этот раз несколько дальше. Но ничего опасного, и разочарован ты не будешь…
– Когда это Романовы опасностей боялись. Пойдём, если так надо. Но тем не менее – куда и как? Нужно переодеться, собраться?
Император был в повседневном мундире и сапогах, очень тонких и лёгких, для хождения по дворцовым коврам и паркетам. Даже пистолета при нём не было.
– Ничего не нужно. Мы совсем ненадолго, даже из помещения выходить не будем.
– Ну, веди меня, Вергилий…
– Не так всё драматично, ни в «сумрачный лес», ни рай, ни в ад мы не пойдём. Кстати, о рае у разных народов и людей очень разные представления. Эта дверь куда ведёт? – спросила аггрианка, указывая на нишу между двумя книжными шкафами.
– На лестницу, а та – вниз, в вестибюль, или вверх, в другое крыло.
– Впрочем, это не имеет никакого значения. Главное – ничему не удивляйся…
Олег Константинович решил так и поступить, но незаметно для Сильвии взял из ящичка под стойкой мини-бара и сунул в карман сделанный на тульском заводе по спецзаказу не пошедший в серию по причине конструктивной сложности и избыточной мощности пистолет Токарева, сам по себе очень красивый и удобный[98]. На всякий случай. Если предлагают ничему не удивляться, значит, ожидается нечто экстравагантное.
Сильвия подошла к двери, повернула ключ, толкнула. Император с удивлением увидел за ней широкий и очень высокий, под шесть метров, сводчатый коридор, уходящий почти в бесконечность. Нечто в этом роде Олег видел в Австрии, в аббатстве Мельк. Через стрельчатые готические окна, прорезанные в левой стене, виден был внутренний двор, тоже очень похожий на монастырский или крепостной. Вдоль правой – несколько дубовых, окованных железными полосами дверей, больше похожих на калитки в крепостной стене.
– Входи, входи, Олег. Ничего страшного. Это одна из моих резиденций, – сделала приглашающий жест Сильвия.
– Ни хрена себе, – матерно и с загибом удивился Император, который позволял себе крепкие выражения и при дамах, будто крупный партийный начальник советских времён среди функционеров ниже рангом. А Сильвия вообще «друг» и женщина, с которой у него «серьёзные отношения», так чего там…
На лице аггрианки даже бровь не дрогнула, хотя внешне она и «такие слова» казались абсолютно несовместимы.
– Не тебе же одному Кремлями и Эрмитажами владеть. Заходи, будь как дома.
«Как дома» у Олега не получалось. Многовато чудес на единицу пространства-времени. Но решительности и внешней невозмутимости хватало. Он оглянулся – позади была глухая стена, без всякого намёка на то, что в ней может таиться какой-то замаскированный проход.
«Чудны дела твои, Господи», – только и произнёс про себя Император.
Аггрианка открыла первую же, расположенную напротив и чуть левее дверь. Вместо того банального двухкомнатного номера отеля средней руки, где ей пришлось жить при первом посещении Замка, фактически на правах привилегированной военнопленной, вроде фельдмаршала Паулюса, на этот раз она заказала Арчибальду кое-что получше. В стиле тех кают, что оборудовали себе члены Братства на «Валгалле».
Огромная гостиная, выходящая тремя окнами на мглистый, неспокойный осенний океан. И множество, не менее шести, дверей по обеим боковым стенам, между кадками с тропическими растениями, оригиналами древнегреческих статуй, нефритовыми полуколоннами и большими картинами в резных золотых рамах. На всех – поясных и ростовых портретах и жанровых сценах – только Сильвия. В самых разных одеждах, от парадных платьев конца XIX века до римских туник и неглиже, а также и полные, весьма изысканные «ню».
Была у неё непреодолимая склонность созерцать самой и демонстрировать другим имеющиеся прелести анатомии и своего художественного вкуса.
Олег обвёл глазами эту выставку, одобрительно хмыкнул, деликатно не задерживая взгляда на тех частях тела, которые большинство женщин инстинктивно предпочитает скрывать. Хотя, казалось бы…
– Художники выдающиеся. Не хуже Рубенса или там Рафаэля Санти…
– Только художники?
– Я думал, ты сама по себе в комплиментах не нуждаешься. Всё равно выйдет банально и плоско…
– Согласна.
В следующей комнате, не очень большой гостиной, обставленной так же, как подлинная гостиная в фамильном лондонском особняке хозяйки, был накрыт стол на две персоны. Накрыт обильно и разнообразно.
– Прошу, Ваше Величество, мы ведь сегодня так и не собрались пообедать. Только извини, горячего не будет, я прислугу отпустила…
– Да тут и без горячего… – Большой любитель застолий, Император архетипичным[99] русским жестом потёр руки.
– Ты пока можешь начинать, а я отлучусь ненадолго…
Вернулась она действительно быстро, минут через двадцать, Олег успел только принять грамм полтораста и закусить валованом с икрой и несколькими ломтиками солёного огурца.
За смешное по обычным женским меркам время она успела изменить макияж и причёску на более подходящие к случаю и переодеться. Теперь вместо строгого, пристойного для делового совещания светло-серого приталенного костюма с юбкой ниже колен на Сильвии было длинное, до пола, вишнёвое платье, переливающееся, будто муаровое, с глубоким, до середины ложбинки между грудями, треугольным вырезом и разрезами, доходящими до верхней трети бёдер по бокам.
Император в восхищении вскочил, едва успев проглотить цельную маслину, хорошо, хоть не очень большую.
– Ну, мадам, ты не устаёшь удивлять. Решила не уступать собственным изображениям?
– А что, изображения интереснее? – надменно вскинула голову Сильвия.
– Моментами…
В следующие полчаса, перекусив и выпив, по потребности, но в меру, они вели вполне светский разговор, не касающийся текущих проблем оставшегося неизвестно за какими перевалами мира. Сильвия изложила Олегу начала хронофизики, теории Гиперсети и сакрально-функциональную суть Замка, в котором они сейчас находились, вызвав у Императора сначала некоторое недоверие. Как у члена французской Академии, не желающего признавать наличие на небе камней, могущих оттуда падать. Но, как настоящий учёный, Олег быстро адаптировал свои стереотипы к новой реальности и стал задавать вполне осмысленные и даже проницательные вопросы.
– Но так что же с обещанными планами британского генштаба? – наконец спросил Император. – Это мы за ними сюда пришли?
– Совершенно верно. Но нужно немного подождать. Когда всё будет готово, мне сообщат. Иди сюда…
За следующей дверью оказалась самая обычная спальня. В том смысле обычная, что предназначалась именного для сна, конкретно. Ничего, кроме роскошной по всем меркам кровати и необходимых сопутствующих предметов меблировки здесь не было. А в остальном интерьер, конечно, соответствовал вкусам и привычкам хозяйки.
Олег посмотрел на Сильвию с определённым интересом. Он помнил их последний разговор и её слова о том, что «случайно произошедшее» между ними не будет иметь продолжения, поскольку было именно эксцессом, не совместимым с её нравственными принципами. Император признал, что действительно оказался в тот момент несколько несдержан и впредь такого себе не позволит.
Сильвия тогда говорила без всякого лицемерия. Она действительно не собиралась затевать с Олегом длительную связь, тем более что планировала возвращение Берестина, а бегать тайком от живого мужа к любовнику было ниже её достоинства. Но сейчас обстоятельства несколько изменились.
Во-первых, в Лондоне 1899 года она узнала, что Алексей имел несколько, пусть и одномоментных, вызванных интересами дела, контактов с дамами из окружения тогдашнего кандидата на престол третьей очереди, которого они решили сделать наследником номер один. Следовательно, теперь, как весьма эмансипированная женщина, она имела право «сравнять счёт».
Во-вторых… Во-вторых начиналась уже политика за гранью общепринятых методов и принципов.
– Не удивляйся, милый. В тот раз я просто немного погорячилась. Сам знаешь, как это бывает. Приличной женщине очень трудно изменить мужу, особенно – первый раз. Это оставляет такой след… Вот и я, полная раскаяния, решила впредь не допускать ничего подобного. Но с течением времени острота вины как-то стирается, а воспоминания о сладостных минутах, наоборот, всплывают из памяти в самые неподходящие моменты…
Говоря это и глядя Императору прямо в глаза, она медленно расстёгивала потайные кнопки спереди платья, пока оно не распахнулось, как обычный халат.
Олег сглотнул слюну.
Женщина стояла от него в пяти шагах. Он видел её с ног до головы. Причудливо-изысканное, цвета надкрылий майского жука бельё, той формы и покроя, до которых не додумались ещё модельеры его мира. И без того прелестная грудь вдобавок особым образом приподнята вставками прозрачного кружевного полукорсета. Длинные, чудных пропорций ноги выглядели ещё изящнее и соблазнительнее из-за пятнадцатисантиметровых тонких каблуков открытых туфель. Да ещё и обтянуты тоже бронзового оттенка чулками с широкими, в ладонь, ажурными полосками поверху. Но самое главное, никогда ещё Императором не виданное эротическое изобретение – бельё было изготовлено из странного материала. По нему сверху вниз словно пробегали косые волны, чередующие почти полную прозрачность с оптической плотностью и видимой фактурой полированного металла.
Невозможное, никак не позволяющее сохранить благоразумие, выдержку и холодную голову зрелище. Олег Константинович издал горлом сдавленный вздох или даже всхлип. А ведь он уже видел её совершенно обнажённой, охваченной страстью, принимавшей самые неожиданные и причудливые позы… И всё равно!
Женщина, враз ставшая далёкой и почти незнакомой, смотрела на Олега прищурившись по-ведьмовски, обольстительно и одновременно пугающе улыбаясь.
– Что смотришь, мой милый самодержец? Помоги даме раздеться, – сказала она низким, слегка вибрирующим голосом, – но только не как прошлый раз. Я больше не хочу быть изнасилованной, даже из самых добрых побуждений… Даже самодержцем всея Руси. Я хочу, чтобы всё случилось ласково и нежно, как это делает любящий мужчина с невестой-девственницей в первую ночь. Ну! – И повелительно протянула ему, упавшему на одно колено, ещё более длинную в таком ракурсе ногу. Кажется, правую.
Самое удивительное, у Императора получилось так, как она просила и даже лучше. Сильвия испытала довольно необычные, при всём её опыте, ощущения. Та же самая по интенсивности и конечному эффекту страсть, но сильно растянутая по времени, в виде плавной синусоиды, вроде набегающих на пологий морской берег волн.
– Гениально, сир, просто гениально, – прошептала она, успокоив дыхание, вытянувшись во весь рост и заложив руки за голову. – Наверное, я и впредь буду прибегать к твоим услугам. Постараюсь пореже, чтобы не возникало кривотолков и не пропал эффект запретного плода. Пожалуйста, принеси сигарету и бокал шампанского. Себе, конечно, тоже…
Дело в том, что Сильвия не только в очередной раз удовлетворила свою любовь к такого рода приключениям, нисколько не угасшую с дней её первых опытов, ещё в немыслимо далёкие и необыкновенно благополучные восьмидесятые годы позапрошлого века. Тогда как раз она хорошо это помнила, в газете «Сан» печатались с продолжениями «Трое в лодке…» Джерома К. Джерома. Сейчас она провела ещё один сеанс психоэротического внушения, которым владела не хуже Удолина, пусть и базировалась её методика не на земной «Тантре», а на совсем других источниках. За полчаса любовной игры она убедила Олега, что, кроме мадам Берестиной и, может быть, Татьяны Тархановой, если вдруг доведётся им снова встретиться, ни одна другая женщина, кроме тех, кто специально настроен на одноразовую платную (в любой форме) любовь, не вызовет у него никаких чувственных эмоций. Особенно это касалось шестерых валькирий, тех он будет воспринимать как родных дочек, по отношению к которым никакие мысли и чувства, кроме отцовской гордости и искренней любви, абсолютно невозможны.
«Вот подарочек красоткам, действительно царский!» – с внутренней усмешкой подумала Сильвия. – Не заслужили, но да уж ладно, пусть пользуются…»
А взрыв настоящих чувств, вторая молодость придут к этому закоренелому холостяку и страстному женолюбу только при следующей, уже, кстати, назначенной им для себя встрече с Ингой Вире́н. По классической схеме – бурно нарастающий интерес, желание видеться как можно чаще, бессонные ночи, наполненные юношеского типа фантазиями и глубокими, практическими и династическими рассуждениями государственного мужа и, наконец, непреодолимое желание сделать этой девушке серьёзное, по всем правилам, предложение.
Слава богу, принятый ещё в двадцатые годы прошлого века закон, определяющий матримониальные правила ещё для тогдашнего первого Местоблюстителя, предусматривал всего несколько непреложных правил: невеста должна быть российскоподданной, предпочтительно славянского происхождения и православного вероисповедания, потомственной дворянкой, ранее незамужней, более того – девственницей, не имеющей за границей крупной собственности и родственников, занимающих там сколь-нибудь значимые посты на государственной службе или в частном бизнесе. Зато медицинские требования были предельно строгими, как в недавно появившихся военных училищах для лётчиков реактивной авиации.
Инга всем этим условиям удовлетворяла вполне, и её немецкая фамилия препятствием не являлась, поскольку немцы из входящих в состав Империи с времён Петра Великого губерний по умолчанию считались русскими. Тем более что в той России понятие «национальность» в правовом смысле отсутствовало, а у Инги в её, увы, пресёкшемся на ней роду значилось два генерала, три действительных и один тайный советник и один адмирал, тот самый известный из истории русско-японской войны Р.Н. Вирен, в параллельной истории зверски убитый пьяными матросами в семнадцатом году во время Гельсингфорсской резни.
Более чем достойная кандидатура.
Для того чтобы обеспечить ей будущее, Сильвии и пришлось в очередной раз изобразить гетеру, этакую Таис Афинскую[100].
Остаётся только сразу после первой брачной ночи, а то и после коронации, подробно объяснить Инге (во крещении ей дадут более подходящее русской царице имя), кому она обязана этим счастьем. Вот и хорошо, что Фёст вовремя и подсуетился, ему и придётся со своей валькирией объясняться. Ничего, вдвоём с Вяземской успокоят, если даже поначалу истерику вздумает закатить «Государыня Императрица Всероссийская, царица польская, великая княгиня Финляндская и прочая, и прочая, и прочая…»
Сильвия, в позе гойевской «обнажённой махи» раскинувшаяся на постели, приняла из рук Олега бокал. Выпили шампанского, покурили, поговорили на отвлечённые темы.
– Может быть, повторим? – вдруг предложил Олег.
– Не сейчас, – мягко ответила Сильвия. Колеблющейся походкой прошла в соседнее помещение и прямо в проёме двери, не прячась, начала неторопливо одеваться в свой деловой костюм, как бы намекая любовнику, что больше не видит в нём мужчины, перед которым нужно «строить из себя».
– Мы ведь здесь совсем по другому делу, ты не забыл? И, когда вернёмся, избегай смотреть на меня маслеными глазами в присутствии мужа. Он не твой подданный и вообще человек горячий. Дерётся, фехтует и стреляет – дай бог каждому. Кадровый офицер ВДВ, до сих пор ежедневно тренируется…
– Вот об этом я и хотел поговорить, – согласился Император, в котором внушённые аггрианкой идеи начали собственную эволюцию. – Насчёт подданства и прочего. Раз всё так складывается, вопреки Тынянову – «Всё уже решено»[101].
– Поясни, о чём ты. – Сильвия застегнула последнюю пуговицу, крутнулась перед зеркалом, проверяя, ровны ли швы на чулках, начала приводить в порядок причёску.
– Хотим мы или нет, очень скоро всем станет известно о существовании вашей России и нашем с ней союзе. Вот я и думаю, что нам нужно спешно озаботиться созданием, так сказать, общих, взаимопроникающих элит. Не тех, что в твоей стране таковыми называют. Тебя, например, я решил наградить Большим крестом ордена Екатерины со звездой и лентой, что введёт тебя в круг двенадцати самых влиятельных женщин моей Империи[102], даст придворный чин камер-дамы, что равно генерал-адъютанту. Ну и должность мы тебе приищём, необременительную, но влиятельную. Алексея Михайловича я сделаю «генералом Свиты при особе Императора», ну и, если захочет, Шефом Гвардии или Наказным атаманом всех казачьих войск. Неплохая, кстати, идея, если придётся у вас там заново создавать казачество в его настоящем виде и качестве…
– Посмотрим. Принципиальных возражений нет, – а сама подумала, как одна к одной карты пасьянса ложатся. Только что об Императрице Инге подумала, а тут и ей должность первой камер-дамы предложена. «Имеет право находиться при Особе Императрицы в любом месте и в любое время суток», как в «Уложении о чинах придворных» сказано. Судьба, значит.
– Сейчас должен человек подойти, с исчерпывающими планами наших британских друзей. – Сильвия сказала это так, будто сама больше ста лет не числилась английской аристократкой. Впрочем, очень многие иностранцы на службе Империи обрусевали легко и естественно, как князь Багратион, например, искренне жаловавшийся, что немцы при дворе русскому человеку (то есть ему) хода не дают. Или как Светлана Сталина говорила брату Василию: «А ты знаешь, что наш папа раньше был грузином?»
– Откуда подойти?
– Из Лондона, откуда ещё? Пока мы тут вопросы решали, он делом занимался.
Император пожал плечами, как бы заявляя, что он за весь этот бред ответственности нести не желает.
Однако никакого бреда не случилось. Едва они только вернулись в гостиную, снова сели к столу, чтобы слегка восстановить растраченные силы и «потерю жидкости», как выражался барон Пампа, в дверь деликатно постучали.
– Кто это вдруг? – удивился Олег. Сколь бы привычными ни становились всякого рода парадоксы на грани обычной гоголевской чертовщины, он так и не поверил Сильвии. Не поверил в обычном, общечеловеческом смысле, то есть не воспринял её слова в качестве истины, усваиваемой так же легко и просто, как сообщение метеобюро о том, что сейчас на улице дождь, или утверждение учителя математики о равенстве квадрата гипотенузы сумме квадратов катетов. Впрочем, последний пример не совсем корректный, ещё в пятом классе Пажеского корпуса юный Олег Романов никак не мог понять, как такое может быть, если сама по себе гипотенуза короче суммы этих самых катетов.
Сейчас случилось то же самое – в том, что Сильвия не обманывает, он убеждался неоднократно, и тем не менее её правота выглядела абсурдно. То есть каким-то образом она вызвала сюда человека из Лондона, и он явился, не прошло и часа. Да ещё и с сверхсекретными документами? Скорее всего, он уже ждал их здесь и сейчас получил незаметный сигнал…
– Тот, кого мы и ждём, – спокойно ответила аггрианка и, чуть повысив голос, сказала: – Входите, Арчибальд…
Вошёл крайне представительный джентльмен, годами несколько старше Олега, но похожий ростом и статью. Поклонился без подобострастия, поздоровался по-русски, прошёл к столу, сел без приглашения на свободный стул. Положил перед собой бордовую кожаную папку с неразборчивым вензелем в верхнем углу.
– Прошу, Ваше Величество, мистер Арчибальд Боулнойз, один из старейших членов и вице-председатель наверняка известного вам «Хантер-клуба».
Боулнойз снова наклонил голову с безупречным, в стиле девятнадцатого века, пробором.
– Клуб известен, само собой, но вот насчёт старейшего… Извините, уважаемый, сколько же вам лет?
Арчибальд мельком взглянул на Сильвию, будто ожидая от неё разрешения отвечать. Та коротко кивнула.
– Можно сказать, около ста сорока, применительно к той реальности, где существуете вы, Лондон, «Хантер-клуб» и прочие признаки цивилизации. Но с той же степенью достоверности я могу ответить – «не знаю», и тоже буду совершенно прав, поскольку там, где нет времени, нет и понятия возраста, не так ли?
Император, несколько ошарашенный этим силлогизмом, тем не менее сохранил понятия о приличии и, вместо того чтобы немедленно залпом опрокинуть столь необходимый ему «гвардейский тычок», предложил Сильвии и гостю сделать то же самое. Возражений он не встретил, а Арчибальд, понимая свой статус, сам разлил по бокалам и стопкам напитки. Не ошибившись, кому что следует. Себе налил «на три пальца» виски из доброго старомодного штофа.
– Арчибальд, Олег Константинович не расположен сейчас обсуждать проблемы хронофизики и иных логик. Ты принёс то, что я заказывала?
– Да, миледи. Вот все документы… – Он протянул папку над серединой стола. Берите, мол, кому нужнее. Взял Император. Раскрыл, начал бегло просматривать документы. Всё верно, насколько он понимает. Фирменная бумага, необходимые грифы и визы, стиль оформления, подписи.
– Так это что, подлинники? – с удивлением спросил Олег, ожидавший увидеть в лучшем случае фотокопии, распечатанные со шпионских микроплёнок.
Арчибальд посмотрел на Сильвию и недоумённо пожал плечами. В том смысле: «Неужели этот господин не понимает, что фирма веников не вяжет?»
– Разумеется, Ваше Величество, разумеется. Точнее сказать – молекулярные копии, что совершенно одно и то же, что оригиналы. Вы на содержание смотрите, не на форму…
Олег начал вчитываться, а Сильвия завела с Арчибальдом свой разговор. Робот подтвердил, что предыдущее распоряжение миледи он выполнил и «известным способом» снял мотивацию, заставлявшую основную часть заговорщиков в той реальности разрабатывать планы, в любом нормальном обществе свободно тянущие на репрессии вплоть до высшей меры без суда и следствия. Тысячи людей (за исключением буквально десятка совсем иным способом простимулированных лидеров) под волновым воздействием вдруг уверовали в то, что свержение существующей власти дело лёгкое и весёлое. Вроде событий февраля семнадцатого. Что эта власть глупа, бессильна и безвольна, капитулирует при первых же намёках на ясно выраженную волю «креативного меньшинства», которое одновременно является «моральным большинством». И, самое главное, как только Президент, правительство и Дума разбегутся, откуда-то, по мановению волшебной палочки, появятся тысячи мудрых, проницательных, демократических и либеральных вождей, десятки и сотни тысяч честнейших и бескорыстнейших чиновников, судей, губернаторов и вместе с ними сержантов ГАИ и ППС, сравнимых своими доблестями с античными героями.
Люди в это на самом деле поверили, в их душах и сердцах клокотали возвышенные (и одновременно до крайности примитивные) идеи, примерно как у довоенных детдомовских детей, свято веривших, что после победы Мировой Революции взрослые дяди первым делом начнут бесплатно раздавать конфеты.
Потом Арчибальд, как фельдшер у Высоцкого, «вырвал провода». За несколько часов до всеобщего «часа Ч», означавшего всего лишь Армагеддон, поначалу – локальный. И все эти энтузиасты мгновенно оказались либо в прострации, либо в состоянии жестокой адреналиновой тоски, как после весёлой пьяной ночи, когда поверх поначалу приличных напитков начинают добирать чем придётся, от дешёвого портвейна до тройного одеколона.
Потому и обошлось в Москве без большой крови, сплошных пожаров и стрельбы вдоль городских кварталов из самоходок «ИСУ-152» прямой наводкой, как в неоднократно уже упоминавшемся Будапеште.
– Может быть, мы в вашем варианте аналогично поступим? – спросила Сильвия у Олега, читавшего документы и одновременно прислушивавшегося к их разговору. – Арчибальд имеет возможность вызвать острый и мгновенный приступ одновременно диареи и импотенции у вашего державного Виндзорского брата и его камарильи. Они завтра же, внезапно осознав глубину пропасти, в которую их ведут завербованные «сионскими мудрецами» советники, отзовут свой ультиматум и предложат «Их Величеству» вернуться к проверенным столетием идеалам Антанты и ТАОС. Кого-то уволят для наглядности, кого-то отдадут под суд в назидание потомкам…
– Вот здесь, милейшая кавалерственная дама, я прошу прощения. «Мне отмщение и аз воздам!» Если этот документ подлинный, – он постучал по папке длинными сильными пальцами, – мы раскатаем британцев в тонкий блин. И лет пятьдесят никто не вздумает на Россию хвост задирать… А нам этого хватит для полной интеграции с РФ, и тогда посмотрим, найдутся ли охотники ссориться с державой в одну треть обитаемой суши площадью и населением в миллиард самого отважного и талантливого на Земле населения…
– Вас не заносит, Ваше Величество? – с демонстративной тревогой спросила Сильвия.
– Ни в коем случае. Я ведь не «гляжу в наполеоны» и не мечтаю о мировом господстве. Я всего лишь хочу, чтобы впервые за тысячу лет Россию оставили в покое и позволили ей жить «по правилам, ей самою для себя установленным». Поэтому пусть составители этого плана, – он уже, войдя в азарт, потряс над столом папкой, – собственным языком испробуют вкус плодов злонравия. Возвращаемся домой, мадам, и распорядимся о подготовке действительно адекватного ответа. Если я правильно понял вашего мужа, есть шанс обойтись вообще без потерь с нашей стороны?
– За исключением обычных и естественных случайностей. У нас там недавно случилась небольшая абхазо-грузинская война. Так подготовленная лучшими американскими инструкторами грузинская армия бежала сотню километров, из горного укрепрайона, прошу заметить, бросая знамёна, снаряжение и раненых. Абхазы в этой «трёхдневной кампании» потеряли одного раненым и одного убитым. Причём убит был боец, из куража надевший трофейный китель грузинского полковника и подстреленный собственным снайпером, тоже весьма эмоциональным!
– Молодцы абхазы. Потом дадите мне поподробнее прочесть об этой войне. Так что, всё решили? Можем возвращаться. Нет, на прощание ещё по одной. Надеюсь, мы скоро ещё встретимся, сэр Арчибальд? За эти документы я должен вам вручить не меньше, чем «Владимира» третьей степени. А ежели наша кампания завершится полной победой, то и на «Георгия» можете рассчитывать…
В это же примерно время Президента, работавшего с Мятлевым и другими, старыми и вновь приближёнными сотрудниками над организацией грандиозного, почти беспримерного в новейшей истории воздушного моста между Москвой, несколькими крупными гарнизонами с базами хранения военной техники и Екатеринбургом (а также и в обратном направлении), пригласили к телефону.
По «горячей линии», впервые установленной после Кубинского кризиса, звонил коллега – президент Соединённых Штатов. Разговор, само собой, вёлся через переводчиков, говорить на языке хоть противника, хоть друга никому из них было «невместно». Это руководитель любой другой страны легко болтал с «Большим братом» на встречах, даже официальных, по-английски (но – никогда наоборот), а здесь – «совсем другие понты».
Зато переводчики-синхронисты были столь высокого уровня, что их как бы и не слышали собеседники, будто действительно тет-а-тет общались.
– Здравствуй, Георгий. Рад тебя слышать. Хотел бы и видеть, но мне мои охранители «Скайп» не разрешают устанавливать.
– Здравствуй, друг. А я бы не возражал, мне скрывать нечего. Ведь мы с тобой всегда говорим только истинную правду, на благо наших народов и всего демократического человечества… Но если ты хочешь конфиденциальности, то пожалуйста…
Рядом с Президентом стоял Фёст, слушал разговор через наушники и в случае необходимости стремительно набирал подсказки на клавиатуре, соединённой с большим экраном напротив.
– Конечно, Георгий, ты совершенно прав. Но сейчас у меня к тебе несколько вопросов. Пока – не для разглашения. Ты же знаешь этих журналистов…
– Я-то знаю, Мишель. Я не знаю, самостоятелен ли ты сейчас от своих лоббистов, конгрессменов, сенаторов и тому подобной…
Слово «сволочь» не относилось к разряду проходимых сквозь «демократически-политкорректные» фильтры, а другого Президент, вернее, Фёст, подбирать не стал. Вадим ухитрялся придумывать ответы и письменно их излагать быстрее, чем оба собеседника находили подходящие выражения.
– Я всегда самостоятелен, за исключением предусмотренных нашей Конституцией случаев. И хочу спросить – твоё сегодняшнее заявление что означает?
– А в чём вопрос, Мишель? Моё заявление адресовано только моему народу и только по случаю некоторых, не имеющих глобального значения событий в моей столице. Я бы не стал звонить тебе по поводу бунта негров в Гарлеме или Нью-Орлеане…
– Афроамериканцев, Георгий, не забывайся…
– В учебнике антропологии названы три расы – европеоидная, монголоидная, негроидная. Мы станем оспаривать эту классификацию?
– Георгий, наверное, моя госсекретарь права – ты специально провоцируешь новую конфронтацию. Но зачем? Ты же меня знаешь, я только за добрые отношения и взаимопонимание на основе общечеловеческих ценностей…
– Ты – возможно. Но сам лично разве что-нибудь решаешь? Если даже сейчас ссылаешься на не слишком умную женщину?
Прочитав это на экране, Президент поднял на Фёста почти умоляющие глаза. Ну зачем, мол, это?
Почувствовав, что уже устал и думать, и писать, и держать мыслеформу, в которой Президент разумен и послушен, Вадим решительно взял у него из рук трубку и жестом Юлия Цезаря велел Мятлеву переместить своего друга и начальника в соседнее кресло.
Имитировать голос «предыдущего оратора» ему не составило никакого труда, с детства умел пародировать или воспроизводить кого и что угодно. Тем более переводчику-синхронисту не до того, чтобы улавливать тонкости фонетики. Тут успеть бы мысли адекватно переформатировать.
– Георгий, мне не очень нравится то, что ты говоришь. Я глава сильнейшей в мире экономической, политической и военной державы. А ты сегодня заявил, что наше мнение не имеет для тебя никакого значения. Как это понимать? Наши прежние договоренности…
Вадим удобно устроился в президентском кресле, потянулся, закурил. Сейчас куда проще дело пойдёт – напрямую говорить, а не шпаргалки торопливо писать.
– Понимай в самом прямом и безусловном смысле, вот с такой примерно позиции. Ты ведь тоже юрист? Значит, поймёшь. Вы вольно или невольно, но непрерывно, с самого сорок пятого года внушаете нам, что готовы сотрудничать только в пределах самой крайней необходимости. А вообще предпочли бы уничтожить и «снять проблему». Помнишь – план «Дропшот», стратегия «отбрасывания коммунизма», «Империя зла», «Звёздные войны»… Теперь – «Продвижение демократии». Ты хорошо меня слышишь, Мишель?
Фёст говорил, испытывая агрессивную радость, как тогда, когда, подготовившись, перед несколькими дворовыми компаниями демонстративно оскорблял признанного лидера «блатарей» с «того квартала», заведомо зная, что побьёт его хоть в одиночку, хоть со всей кодлой.
– Георгий, сейчас речь не об этом. Я хочу дружить с тобой и с твоей страной. Но ты пойми – моё фактическое положение и Конституция не позволяют пойти на мировую на твоих условиях. Это сочтут предательством, и всё закончится моим импичментом. Кому это надо? Для тебя я лучший партнёр, чем кто-то другой. Давай поговорим о взаимных уступках. Сначала ты берёшь свои слова обратно…
Фёст откровенно расхохотался в трубку и приказал своему переводчику аутентично донести эту реакцию до партнёра.
– Потом ты диктуешь мне ещё несколько условий… Извини, Мишель, мне глубоко безразличны твои проблемы с твоим конгрессом и вашей конституцией. Будет только так, как я уже сказал. Стопроцентно равное партнёрство. Мы не ущемляем ваших прав, но ни на один дюйм не поступимся своими. Вроде бы, как мне известно, первопроходцы Америки не прощали выпадов в свой адрес. Я был совсем молодым парнем, когда видел вашу «Великолепную семёрку». «Хлопай, парень, хлопай!»[103] Помнишь?
– Я не узнаю тебя, Георгий! Я хотел поговорить миром, а ты?
Казалось, даже через двух переводчиков передался надрыв в словах американского президента.
– Так узнай. Вы там очень любите в дело и не в дело цитировать Библию. Это оттуда: «Не мир я принёс, но меч!» Выбор за тобой. Либо вы впредь вмешиваетесь в наши дела, только когда попросят, остальное время сидите тихо-мирно и занимаетесь своей «Доктриной Монро». Любые спорные вопросы будем решать в Совете Безопасности ООН, на Генеральной Ассамблее или при личных конфиденциальных встречах. Идёт?
– Ты мне грозишь, Георгий? Не рано ли?
– Разве предложение выбросить краплёные карты и играть честно – это угроза? Посмотри на досуге ваш фильм «Маверик». А если всё же угроза – тогда в своём «Ситуационном кабинете» всё тщательно просчитайте. И с товарищами по НАТО посоветуйтесь. Кстати, термин «неприемлемый ущерб» придумали не мы. Вот и сообразите, что проще – не лезть не в свои дела или получить «по полной». Давай уж без лишней дипломатии, Мишель. Спроси там у своих, стоит ли внаглую навязанный миру принцип «USA uber alles!», присвоенное право бомбить, оккупировать, подвергать санкциям любую навскидку выбранную цель того, что наш Хрущёв называл «KUZKINA MAT»?[104] Спроси у своих консультантов. Эйзенхауэр и Кеннеди сделали правильный выбор. Третьим будешь?
Может, проще «каждому возделывать свой садик», как советовал Вольтер?
Глава тринадцатая
На следующее утро «всё свободолюбивое человечество» (то есть та часть населения «цивилизованных стран», которую каким-то образом интересовали перипетии борьбы Запада с нарушениями «прав человека» именно в России и ни в какой другой точке земного шара) проснулось, просмотрело утренние телепередачи, прочитало газеты и немедленно впало в шок. Особенно те граждане, которых не поразили ещё старческие деменции, болезни Паркинсона и Альцгеймера, что застали времена Фултона[105], Корейской войны, Карибского кризиса и рейгановских «Звёздных войн».
Основная масса политиков и «экспертов» сравнительно крупных и совсем уже ничтожных европейских стран очевидным образом наслаждалась тем, что Россия наконец без всяких дипломатических ухищрений продемонстрировала свою имперски агрессивную сущность. Причём радовались по разным причинам. Одним понравилось, что США получили обидный щелчок по носу, другим – наоборот.
Новая «холодная война» на глазах превращалась в реальность, и это не могло не радовать сотни тысяч специалистов, почти двадцать лет остающихся не у дел и безнадёжно теряющих квалификацию в довольно жалких попытках активизировать былой накал международной жизни. И тут вдруг такой подарок со стороны российского Президента, за которым никто раньше не замечал страсти к экстремальным видам внешнеполитического спорта.
Только небольшое число серьёзных, неангажированных аналитиков и экспертов, голоса которых совершенно затерялись в общем дружном хоре, осторожно предложили задуматься – а в чём, собственно, суть вопроса? Что именно подвигло всегда осторожного, мягкого почти до бесхарактерности человека выступить с откровенно провокативным «Обращением», формально к гражданам России, но безусловно адресованным Западу. Именно Западу, поскольку ни одно из более-менее серьёзных азиатских (кроме Японии, разумеется) и латиноамериканских государств демарш России не задевал. Они его в первый день словно бы вообще не заметили. Скорее всего – до прояснения обстановки, но вполне возможно – с тайной радостью, поскольку сказано ведь было то, что очень и очень многие сами хотели бы заявить, но при наличии амбиций у них явно не хватало амуниции, как выражались в XIX веке.
Неужели дело лишь в том, что российский Президент был выведен из себя попыткой его свержения (понятно, кем инспирированной) до такой степени, что потерял представление о реальности? Не похоже. Скорее, неудавшийся путч, в котором так грубо подставились спецслужбы и дипломатические ведомства ведущих держав, послужил лишь поводом для давно задуманной «смены курса».
«Но тогда напрашивается вопрос – в чём смысл и источник столь безрассудной отваги? – писал в «Файнэншл Ньюс» политобозреватель с пятидесятилетним стажем, ветеран бесчисленных пропагандистских схваток, скрещивавший шпаги со столь достойными бойцами канувших в Лету идеологических войн, как Валентин Зорин, Мэлор Стуруа, Станислав Кондрашов etc.
– Имперский синдром в словах Президента никоим образом не просматривается. Скорее, он намекает совсем на другое – на восстановление «железного занавеса» и переход к автаркии сталинского типа. Но Президент – не Сталин, и стать им не сможет ни при каких обстоятельствах. Сегодняшняя постиндустриальная Россия критически завязана на импорт всего на свете, от китайских джинсов до аргентинского мяса и американских процессоров, и расплачиваться за него может только нефтедолларами. Карточная система и сталинский уровень потребления в нынешней России немыслимы. Это не Северная Корея, здесь слишком образованное и привыкшее к благополучию и свободам население, а главное – слишком протяжённые границы, которые невозможно перекрыть и контролировать. Так зачем этот странный демарш? Вот каким вопросом следовало бы озаботиться нашему правительству и аналитикам из НАТО прежде, чем поднимать очередную волну антикоммунистической, простите за оговорку – антироссийской истерии…»
Ветеран «холодной войны» был не совсем прав. Его вопросы могли направить в нужное русло мысли только умных и хорошо образованных людей (иные «Финансовые новости» и не читали), но люди в Комитете начальников штабов, ЦРУ, АНБ и тому подобных заведениях в подсказках не нуждались. Ещё до выступления Президента и его разговора с американским коллегой, как только просочились первые сообщения об оглушительном московском провале, специалисты, отвечавшие за «российское направление», трудились без сна и отдыха.
К утру на стол президента США лёг наскоро составленный доклад, в котором с цифрами, фактам и историческими аналогиями утверждалось, что всё случившееся – не более чем грандиозный блеф, с причинами которого ещё предстоит разбираться.
Не изменилось и не могло измениться финансовое и тем более промышленное положение России, в автономном режиме она могла бы существовать, только снизив жизненный уровень населения минимум в десять раз и вернувшись к системе тотального принудительного труда. Как Северная Корея.
В военном отношении не могло быть и речи о реальном противостоянии даже армии одних только США, не говоря об объединённых силах США и НАТО. В современной войне российская армия продержалась бы ненамного дольше иракской из-за подавляющего технического перевеса противника, особенно – в высокоточном оружии. Угрозу применения «кузькиных матерей» не следовало принимать всерьёз, ибо не просматривалось никаких осмысленных целей, ради которых стоило рисковать существованием самой Земли. «Неприемлемый ущерб» русскими стратегическими ракетами, конечно, может быть нанесён, но ведь обязательно последует адекватный ответ, и остатки человечества будут вынуждены кое-как выживать в радиоактивных развалинах. Ради чего? Нет ни одной достойного такого развития событий причины. Ни у России, ни у Америки.
Если бы всё зависело от военных и разведчиков, они, наверное, так бы и поступили. Но тут имели решающее значение неподконтрольные сухому рационализму факторы. Прежде всего – национальный престиж, но и геополитический расчёт тоже. Пусть нерациональный, но расчёт.
Та страна, о победе над которой было громогласно заявлено как и о «конце истории» и установлении «Pax Americana» на веки веков, вдруг демонстративно заявила, что всё это не больше, чем пустая болтовня. Она настолько суверенна, что может себе позволить полностью игнорировать существование «мирового гегемона» и «Сияющего города на холме». Может не признавать законов, призванных держать в узде всех, кроме «законотворца». Вообще отрицать право «Великой Демократии» устанавливать какие-то законы, кроме внутренних, в том числе и таких, что служат посмешищем для всего грамотного населения остальной части планеты: «Запрещается бить жену по субботам палкой толще полутора дюймов», «Запрещается взрывать ядерные устройства на территории штата Иллинойс. Штраф 500 долларов…»
Если это сойдёт России и её Президенту с рук… Россия ведь действительно не Северная Корея, её пример может оказаться чересчур заразительным. Но что делать реально? Ни «оранжевой», ни «тюльпановой», ни «розовой» революции в России устроить не удалось. Попытка прямого и грубого, по чилийскому образцу, переворота только что сорвалась, причём самым жалким образом. Никто в мире вообще ничего не заметил, потому что западные корреспонденты не успели снять на фото и видео совсем ничего, а с русскими коллаборационистами произошла уже полная ерунда.
Буквально три часа назад по центральным московским телеканалам выступил вернейший друг Америки, писатель, блогер и журналист, лидер сразу всех направлений и толков «несистемной оппозиции» Михаил Волович. Он не только заявил о собственном патриотизме и полной поддержке Президента, вчера ещё называемого им «кровавым тираном», но и призвал всех своих сторонников и вообще честных людей сплотиться в этот нелёгкий час вокруг единственного человека, способного без потрясений провести государственный корабль по бушующим волнам и достичь тихой гавани. И вот тогда народы многонациональной России смогут мирно, без принуждения и со всей полнотой гражданских прав избрать хоть Конституционное собрание, хоть Земский собор, где и определить дальнейший курс нации и подобающие «национальным традициям» и «имперскому статусу» способы его реализации.
«Тем более что Москва была и остаётся Третьим Римом, а четвёртому не бывать! Любые другие высказывания на эту тему следует считать дешёвыми спекуляциями!» – несколько пафосно закончил своё выступление «властитель дум», и, судя по уже поступившим откликам в Интернете, эта формула встретила одобрение и понимание у подавляющего большинства умеющего нажимать кнопки компьютерной клавиатуры населения.
Причём если и выглядел Волович слегка выпившим, то в самую меру, а в целом его облик излучал здоровье, оптимизм и довольство. Избитым, замученным в подвалах или напичканным наркотиками его не признал бы самый оголтелый враг ВЧК – ГПУ – НКВД – МГБ. Скорее наоборот…
А ведь сколько сил и денег налогоплательщиков было потрачено на этого человека, действительно талантливого, что было особенно ценно!
Все заключения, выводы и рекомендации были положены на стол президента США.
Президент и назначенный «кем надо» присматривать за ним «вице» пролистали бумаги и брезгливо их отбросили. Не было мотивированного ответа на ключевой вопрос – как без войны заставить русских раскаяться и приползти на глазах у всего мира в свою Каноссу[106].
Впрочем, один из членов Комитета начальников штабов, адмирал Доунтлесс, написал своё особое мнение: не предпринимать абсолютно никаких действий, даже сделать вид, что и телефонного разговора не было. Вести себя, как с каким-нибудь Китаем. Хорошо бы ещё и прессу, и конгрессменов склонить к такой же реакции. Но это уже из области фантастики. А если уж президенту не терпится что-то предпринять, так пусть организует конфиденциальную встречу своих и русских спецпредставителей на нейтральной территории, в одном из горных отелей Швейцарии или вообще на Цейлоне. Там и поторговаться можно, и договориться.
К такому же точно решению пришёл и российский Президент со своими советниками и непременным участником всех совещаний, Фёстом. Мол, мы сказали и сделали, что сочли нужным, теперь очередь за вами, господа. По расчётам Берестина и его временного штаба требовалось около десяти дней, чтобы переправить сквозь тоннель из Империи в Россию минимум пятнадцать дивизий, каждая из которых втрое превосходила по численности нынешнюю штатную «бригаду постоянной готовности», при гораздо лучшей подготовке бойцов. Там ведь по-прежнему действует трёхлетний срок действительной службы при призывном возрасте двадцать. И почти все солдаты дивизий «первой линии» уже имеют боевой опыт. Кто с поляками повоевал, кто с хунхузами, текинцами, турками, курдами…
Усилить их современной артиллерией и танками, которых имелось на базах хранения в избытке, тоже не составляло особого труда. И каждому по «АКМ» выдать. Как с изумлением узнал Президент, номинальный Главковерх, изначально военными делами не интересовавшийся, на складах России имелось семнадцать миллионов (!) автоматов всех модификаций. И больше двадцати миллиардов патронов. Срок хранения у некоторых почти истёк.
К исходу второй недели на теоретически угрожаемых направлениях европейского приграничья можно было развернуть до тридцати оперативно-тактических групп смешанного состава: один-два батальона российских войск и полк или бригада имперцев[107] с десятком советников и дублёров командиров.
При такой группировке сухопутное вторжение полностью исключалось, у американцев вместе с натовцами просто не было сопоставимого количества боеспособной пехоты. Те контингенты, что вводились в Ирак и Афганистан – сборные отряды румын, латышей, грузин, молдаван и прочих «лимитрофов»[108], – даже при психологической поддержке французов или немцев сколько-нибудь осмысленных и успешных боевых действий вести не могли. Что великолепно продемонстрировала «героическая грузинская армия» в августе восьмого года. Через двести лет снова подтвердились слова великого русского поэта: «Бежали робкие грузины». Да и солдаты «старых членов НАТО» в боях против закалённых и спаянных железной дисциплиной кадровых дивизий Империи не имели ни малейших шансов. Даже Бундесвер теперь никаким образом не походил на Вермахт образца тысяча девятьсот сорок первого года.
– Что же касается пресловутого «высокоточного оружия» и прочих компьютерных игрушек, – объяснял Президенту Берестин, – с помощью которых они вдребезги разгромили армию Хусейна и распугали талибов, так они в нашем варианте не сработают. Мы просто не станем «играть на их поле». Ядерное оружие мы, конечно, оставляем на самый крайний случай. А вот в ответ на любую прилетевшую к нам «штуку» будем стрелять хотя бы и вакуумными боеголовками по местам пуска. Мобильных, необнаруживаемых пусковых установок на первое время хватит. Посмотрим, как это понравится зажравшимся европейцам. У них тесно, любой толковый взрыв кого-то, а достанет. Москва, в свою очередь, далеко не Белград, слава богу.
– Не хотел бы я вас иметь своим противником, Алексей Михайлович, – совершенно автоматически поёжившись, сказал Президент. Берестин только слегка улыбнулся. Император Олег был при первом знакомстве куда сдержаннее и твёрже, хотя и полный абзац к нему подступил.
Алексей улыбнулся и продолжил:
– По опыту прошлых «Бурь в пустыне» и прочих «тайфунов с ласковыми именами» – подготовка серьёзной военной операции даже против малобоеспособных полуфеодальных армий занимала у американцев несколько месяцев. Здесь задача будет на порядок сложнее, так что времени на «адекватный ответ» мы имеем в избытке… Поэтому не стоит вам беспокоиться. В крайнем случае – потренируемся в проведении учебных мобилизационных сборов пяти-шести возрастов. Сейчас у нас есть дело поважнее.
Агентура Императора (Алексей не хотел раскрывать всех карт) установила, что англичане планируют нанести по той России шокирующий и обезоруживающий удар не позднее середины следующей недели. Основная цель – базы Балтийского и Северного флотов, Романов-на-Мурмане, Петроград, Николаевская и Северная железные дороги, прилегающие к этим районам аэродромы. Задействован будет почти весь Гранд-Флит, до двухсот самолётов палубной авиации и около пятисот – береговой… Только бомбардировщиков. Плюс истребительное прикрытие.
– Серьёзно, – сказал Мятлев. – Наши сумеют его отразить?
– С большим трудом и огромными потерями. Зенитная артиллерия у них только ствольная, плюс авиация ПВО и флотов. При тридцатипроцентных потерях бомбардировщики в состоянии вывести из строя до половины больших кораблей и сильно разрушить инфраструктуру баз. Ответный удар получится значительно слабее, тем более что их флот будет рассредоточен и едва ли сильно пострадает. А дальше война приобретёт затяжной характер. Если американцы станут снабжать бриттов в той же мере, что в нашу Вторую мировую, забава может затянуться не на один год. Сами понимаете, с намеченной «интеграцией» едва ли получится что-нибудь выгодное для нас.
– Из ваших слов следует? – спросил Президент.
– Что мы должны буквально завтра начать переброску на ту сторону хотя бы сотни ЗРК, двух десятков РЛС и такого же количества противокорабельных ракет, «Москитов» и «Гранитов»… С расчётами и техническими специалистами. Самолётами до тоннеля, и оттуда тоже по воздуху до места. На развёртывание и подготовку к бою останется как минимум двое суток. Вполне приемлемо. Можно переправить и пару эскадрилий «Грачей» с несколькими боекомплектами.
– Это не ослабит нашу здешнюю обороноспособность?
– Ни в коей мере. Тем более, как я уже доложил, мы располагаем не днями, а месяцами, и то в случае, если американцы совсем с катушек съедут. И потребуеся нам в первую очередь совсем другая техника. Плюс мы получим значительное количество обстрелянных бойцов и всю мощь имперской России.
– Хорошо, – вздохнул Президент. – Действуйте. Ты, Леонид, обеспечь необходимое взаимодействие. А я подпишу соответствующие приказы…
Сильвия с Олегом и Арчибальдом воспользовались лифтом, умевшим перемещаться не только по вертикали, но и по горизонталям в любую точку Замка. На самом деле он просто использовал возникающие в каждый нужный момент по законам местной топологии внепространственные тоннели, не имеющие отношения к стабильной составляющей здешней архитектуры, в которой «нормальные» лифтовые шахты вообще отсутствовали. Только двери и сами кабинки, всегда оказывающиеся поблизости от местонахождения любого из обитателей, которому нужно было куда-то попасть.
То ли Воронцов, то ли кто-то из женщин ещё при первом посещении спросили Антона, не проще ли просто проходить через любую дверь в любое место? На это он ответил:
– Никаких проблем, но мне показалось, что так несколько снижается психический дискомфорт. Вы же всё-таки люди, и консерватизм в определённых дозах вам необходим. Хорошо бы вы себя чувствовали, оказавшись в абсолютно пустом пространстве, где всё нужное, от стула до книги или зубной щётки, возникало ниоткуда только в тот момент, когда вам захочется сесть или почистить зубы…
Физически перемещение воспринималось иногда как подъём вверх, иногда как спуск, но никогда как движение по горизонтали.
Остановился лифт секунд через двадцать, как будто они поднялись этажей на пять, но однажды Новиков с Шульгиным на такой же примерно маршрут по коридорам и лестницам затратили около двух часов, пережив при этом массу увлекательных приключений. Причём до цели так и не добрались. Андрей, помнится, тогда удивлялся, как Стругацкие в «Понедельнике» угадали и про лифт, и про свойства коридоров НИИЧАВО. С космосом и грядущим коммунизмом промазали, а тут – точка в точку.
Сильвия открыла перед Олегом двери ставшего по-своему сакральным местом «адмиральского кабинета» Воронцова. Увидев его интерьер и убранство, Император пришёл в восхищение, настолько они соответствовали его вкусам.
– Я познакомлю тебя с дизайнером этого помещения. Думаю, вы друг другу понравитесь. Только на его жену засматриваться не советую…
– О чём ты, Си?! Кроме тебя, для меня женщин не существует!
– Ох, как пылко. Смотри, как бы не зачах от воздержания. Я тебе ничего не обещаю и потакать твоим прихотям не собираюсь. Лучше приготовься, сейчас здесь должны появиться ещё две барышни из твоей гвардии. Возможно, они тебя отвлекут.
Действительно, не прошло и пяти минут, которые Олег посвятил осмотру кабинета, а Сильвия как раз успела выкурить без спешки сигарету, любуясь океаном за окнами. Этот кабинет был расположен метров на тридцать выше её апартаментов и в другом крыле Замка, обращённом фасадом на зюйд-ост. Отсюда океан заполнял всё поле зрения, не видно было ни пляжа внизу, ни окружающих скал и холмов. Завораживающее зрелище, особенно если знать, что по этим волнам не плавал ещё никто, ни викинги, ни полинезийцы на своих «Кон-Тики».
…Следующая неделя продолжала приносить Российской Федерации и её ближайшим окрестностям, плюс-минус десять тысяч километров от крайних пограничных пунктов, новые яркие впечатления. Как писал в своих недавних блогах и статьях Волович, тогдашний оппозиционер, «в этой стране жить скучно и противно!». Будто по мановению рук старика Хоттабыча, подсушившего свою бороду и разорвавшего очередной волосок, скука исчезла. Да и во второй части тезиса наметились изменения.
Самое интересное – это отметили люди самых разных стран, классов, образовательных уровней и политических убеждений.
Одними из первых – жители почти умирающих деревень, сёл и посёлков городского типа в окрестностях давным-давно оставленных, брошенных, словно при паническом отступлении, гарнизонов и военных городков от Пскова до Ростова и от Брянска до Нижнего Новгорода и Махачкалы. В городки вдруг начали круглосуточно прибывать на поездах, самолётах, колоннами «Уралов» и «ЗИЛ-131», иногда и пешим порядком батальоны и полки бравых, снаряжённых по полной выкладке солдат. Такие точно, по выправке, дисциплине и готовности «с марша в бой», как в при Екатерине, Потёмкине и Суворове, при Ермолове, Скобелеве, в Отечественную и даже в последнюю «грузинскую» войну.
Не зря Фёст и Берестин доказывали Президенту, что русскому человеку нужен только чётко отданный приказ и сколько-нибудь понятная мотивация. Ну и уверенность в том, что «отцы-командиры» по-прежнему знают, что делать.
Если столетия назад несколько тысяч одетых в военную форму людей могли прийти в богом и чёртом забытый угол, остановиться, оглянуться и поставить в голодной степи, пустыне или горах лагерь, тут же начинающий превращаться в крепость, а потом и городок, вокруг которого следующей весной возникали посады, станицы, торжища и всё сопутствующее, то отчего сейчас вдруг стало иначе? Отчего на размещение и обустройство какого-нибудь полка вдруг стали требоваться годы времени и миллиарды рублей денег?
В каждой части есть свои инженерные, сапёрные, технические, медицинские службы и предписанные уставами и инструкциями сроки и способы развёртывания. И этого достаточно. Тем более сейчас, при нынешнем уровне связи, транспорта, исторического опыта, наконец.
Вчера ещё брошенные городки зияли пустыми окнами разграбленных казарм, а на вторые сутки и рамы нашлись, и стёкла вставлены, заборы подняты, где нужно – натянута колючка, подключены свет и даже водоснабжение.
Местные мужики с удовольствием (иногда и восторгом), за хорошую плату выполняют работы, кто что умеет, и «транспортная повинность» налажена, как на Руси издавна принято, и везут из окрестностей радиусом в сотню километров продовольствие с подворий и ферм, стройматериалы находятся. На четвёртый день – всё стало как раньше.
Частные предприниматели, задыхаясь от изумления и подвалившего счастья, по ночам считают немерено привалившую выручку и созваниваются с поставщиками, впятеро и вдесятеро повышая заказы против обычного.
А уж местным девушкам, не успевшим разъехаться по окрестным «центрам цивилизации», какая радость! На любой вкус женихи появились, и солдаты, и офицеры. Правда, немного странные временами. И говорят не совсем «по-нашему», ну, это понятно, из далёких мест прибыли, из Сибири, с Дальнего Востока. И манеры непривычные. Простейших вещей иногда не понимают. Так не это же главное.
Зато у местных, и не только местных, но и столичных чиновников и предпринимателей незнакомые проблемы возникли. Многие почти утратили генетическую память о том, как с ними может «серьёзная власть» разговаривать.
Сколько раз Президенту, всего месяц назад, приходилось ломать голову над задачками, подходящими для учебника Остера: «Из федерального бюджета региону N выделен целевой трансферт в два миллиарда. До конечного потребителя дошло двенадцать процентов этой суммы. Вопрос – где остальные деньги?»
Оказалось – ответ довольно прост. Стоит только свести на очную ставку человека, подписавшего платёжное поручение, и того, кто в получении расписался. Обычно через час решение не самой сложной задачи находится, при том условии, что спрашивающий не реагирует как на намёк войти в долю, так и на упоминание об «очень серьёзных заинтересованных лицах». А вот срок в десять лет, да не условно, а реально, с отбытием на отдалённых «стройках капитализма» – вот он. Председатель военно-полевого суда легко может выписать, но так же легко и простить, в обмен на «сотрудничество со следствием».
Ещё интереснее решались в прибывших «издалека» войсках вопросы материально-технического снабжения. Ничего похожего на столь общепринятые в здешних местах «тендеры», «распилы», «откаты» и прочие сюжеты из курса политэкономии «периода первоначального накопления». Зам по тылу полка, допустим, получает у начфина энную сумму наличными, на которую закупает у местных поставщиков всё необходимое, от картошки до сапожных гвоздей. А также оплачивает всякие услуги и подрядные работы. В конце месяца отчитывается в офицерском собрании о расходах, до последней копейки. Если питание было плохо или ремонт казармы должным образом не обеспечен – выслушивает всё, что о нём думают товарищи. Это не считая взыскания от командира. А могут и потребовать в отставку подать или суду предать… Какая в таких условиях коррупция?
Между поставщиком, исполнителем работ и кассой исчезли любого рода посредники, вплоть до главы районной администрации и начальника милиции. То же и преступного мира касается. Очень многим странным показалось, что «гости» любую местную власть и любые «понятия» игнорируют. К примеру, в одном ресторане подсели к подполковнику, начальнику ГСМ, трое «реальных пацанов». Объяснили, что десять миллионов казённых денег на закупку бензина он потратил «не там и не у тех». Посоветовали впредь «не ошибаться». Офицер их послал. Ему показали пистолет, так, для наглядности. Он достал свой и без разговоров завалил двоих. Третьего сдал в свою контрразведку. Сколько голов в ближайшие дни полетело, включая кое-кого из команды губернатора. А подполковнику – благодарность в приказе и никакого разбирательства.
Задумаешься тут.
В кабинет вошли Катранджи, Басманов, Верещагина и Волынская. Увидев Императора, валькирии ошеломлённо вытянулись, не зная, рапортовать ли или реагировать как-то иначе. Ибрагим и тот поднапрягся. Один Михаил спокойно поднёс ладонь к козырьку, чем и ограничился.
– Вольно, вольно, – поднял руку Олег. – Проходите, рассаживайтесь…
Сильвия внимательно наблюдала за Императором. Нет, при виде валькирий Олег не почувствовал совершенно ничего. Ничего «этакого». По-человечески он рад был увидеть милых и при том героических девушек и немедленно предложил всем выпить за благополучное возвращение. Арчибальд подал шампанское и водку. Император чокнулся с Мариной и Кристиной, каждой поцеловал ручку, чем вверг девушек в полное смущение.
С чаркой в руке сообщил валькириям, что они, как и их подруги, за мужество и героизм уже награждены орденами Святого Георгия и повышены в чинах. Господа же Катранов и Басманов получат свои награды позднее, но принцип «За богом молитва, а за царём служба не пропадёт» остаётся в силе.
Сильвия из-за спины самодержца жестом показала им, чтобы вели себя без всяких церемоний. Настроение Олега Константиновича сейчас это позволяло.
А сам он, поставив на стол пустую чарку, пригласил Басманова к окну. Постоял немного, молча глядя на волны и разминая папиросу, потом спросил:
– Как, Михаил Фёдорович, не хотите ещё на моей стороне повоевать? Прошлый раз у вас неплохо получилось…
– Как прикажете, Ваше Величество! Я другой работы не знаю, честно говоря, а в Крыму у меня серьёзных дел нет. Если не секрет, что от меня требуется?
– Пока не решил. Просто чувствую, что без вас не обойтись. Вы полковником давно ходите?
– Четвёртый год.
– Генерала я вам сразу даю. Дальше разберёмся.
– Рад стараться, Ваше Величество, – щёлкнул Басманов каблуками.
…10 сентября на побережье Балтики день выдался пасмурный, обещающий долгий обложной дождь. А синоптики, глядя на упавший ниже семисот двадцати миллиметров барометр, обещали кое-что похуже – шквалы, нагонную волну и прочие пакости.
– Господин премьер-министр, – докладывал премьеру Уоллесу Первый лорд Адмиралтейства, – у нас всё готово. Авиация на стартовых позициях, флот развёрнут. Если решение окончательное, вам остаётся отдать приказ. Погода благоприятствует. Шквалы налетят на Балтику через два-три часа после расчётного времени бомбометания. Наши самолёты накроют цели и успеют дойти до Швеции. Сядут под Стокгольмом. В это время придёт очень сильный шторм. Главный метеоролог утверждает, что такого не было больше пятидесяти лет. Русские не смогут даже взлететь, и им очень трудно будет устранять последствия налёта. Флот за это время подойдёт к Бельтам и начнёт их форсировать. К утру будет на траверзе Данцига. Тут мы повторим удар береговой и палубной авиацией…
– Со шведской территории?
– Ну и что? Со шведской территории и с авианосцев. Это война. Мне доложили, что шведы согласны. Они рассчитывают получить Финляндию обратно… Я не дипломат, это не мои заботы. Возможно, уже завтра русские запросят мира. Наши потери от зенитного огня ожидаются в пределах десяти процентов, у них – больше пятидесяти.
Адмирал вздохнул и переступил с ноги на ногу. В глаза премьеру он старался не смотреть. Он говорил, что положено, но это ему не нравилось. Томили предчувствия, которые он не мог рационально объяснить. На жизнь и русских, да и своих лётчиков тоже ему было наплевать. Геополитика и «человечность» – понятия из разных смысловых пластов. Кого беспокоят жизни людей – пусть идёт во врачи или священники. Реальной опасности проигрыша он не видел. Да и как она может возникнуть? Два сокрушительных удара по Кронштадту, Гельсингфорсу и Петрограду, завтра утром ещё два по Романову и Архангельску, после чего можно месяц ничего не делать и читать сводки со среднеазиатского фронта… А отчего же на душе скверно?
(В другой реальности такие же предчувствия беспокоили почти всю верхушку германского генералитета в июне сорок первого года.)
Уоллес тоже вздохнул, вопреки всем правилам затянулся дымом толстой сигары «Гран женёр», едва не закашлялся.
– Если готово, то начинайте. Зачем вы пришли ко мне? Вы имеете на руках директиву?
Адмирал кивнул.
– Вот и выполняйте. Мне доложите, когда самолёты вернутся на аэродромы. Я буду в клубе. Не хочу, чтобы дёргали по пустякам…
Лёгкий крейсер Балтийского флота «Светлана» двадцатиузловым ходом спускался к зюйду восточнее острова Борнхольм. На его боевых постах кроме своих было до десятка офицеров флота РФ, обслуживавших незнакомой конструкции радиолокаторы и командовавших матросами, возившимися с толстыми зелёными трубами. Говорили, что это пусковые контейнеры невиданных зенитных ракет, могущих поражать одновременно несколько десятков воздушных целей на дистанции в двести километров. Это казалось офицерам крейсера невероятным, но кто станет шутить подобным образом?
Кроме того, у «союзников», одетых в очень похожую, но всё же другую форму, имелось с собой очень много разных интересных штучек, например, коробочек размером в ладонь, с экраном в две спичечные коробки, на которых можно было сколько угодно смотреть великолепного качества цветные фильмы. В том числе и довольно «забавного» содержания. Только для взрослых мужчин.
Раз можно в такой «плеер» поместить сотню кинофильмов, так, наверное, и про ракеты всё правда.
Начинающийся ветер развёл приличную волну, крейсер валяло градусов на десять с борта на борт.
– Если придётся стрелять, качка не помешает? – спросил командир «Светланы» у старшего офицера ракетно-зенитного комплекса со странным чином «капитан третьего ранга»[109].
– Без разницы. Лишь бы в момент пуска не вверх килем плавали… – усмехнулся зенитчик.
– А целиться как? В тучах и за горизонт…
– Они сами прицелятся. Дадим направление, высоту и «образ цели». И пусть ищут.
– Кто? – не понял командир.
– Ракеты. Знаете, я вам потом подробно всё расскажу, а то ведь у нас на вахте нельзя отвлекаться.
– У нас тоже, – дёрнул щекой командир и отвернулся. Он не привык, чтобы ему делали замечания младшие по чину.
С верхней локаторной площадки ссыпался по трапу главстаршина-контрактник.
– Товарищ каптри, есть цель. Курс норд-вест пятьдесят шесть градусов, удаление сто сорок миль. Цель крупноразмерная, скорость сближения – четыреста десять узлов…
– Есть, продолжайте наблюдение.
Главстаршина вознёсся обратно на площадку.
– Вот и всё, господин капитан второго ранга, – обратился каптри к затылку командира. Цель обнаружена. Они самые, голубчики. Прикажите сыграть боевую тревогу. И передать информацию на эскадру и на берег…
Василий Звягинцев Величья нашего заря. Том 1. Мы чужды ложного стыда!
Глава первая
Валентин Лихарев проснулся непривычно рано. Последнее время он обленился и не вставал раньше девяти. Но это тоже в зависимости от того, где он проводил своё довольно никчёмное время. Последние месяцы они с Эвелин жили в Железноводске, на третьей и самой, как бы это получше выразиться, конспиративной из своих кавминводских дач. После всевозможных, в общем-то, нетипичных для здешнего спокойного времени событий Лихарев решил, что неплохо бы иметь место, достаточно уютное и респектабельное, но прилично защищённое, в стиле других, не столь пасторальных «параллелей». А то ведь люди, воспитанные несколько иначе, чем здешние аборигены, способны без церемоний пренебрегать «священным правом частной собственности» и вторгаться на территории, ничем более не охраняемые. Как, например, это сделали люди, называвшие себя «друзьями и коллегами», с его пятигорским домовладением[1] два года назад.
Ничего подобного ему впредь допускать не хотелось. Не «братья» его беспокоили, от них по-любому не отбиться и не спрятаться, если займутся всерьёз, а местные «лихие люди» – криминалитет или внезапно спустившиеся с гор абреки. Словно в Средневековье, нужно иметь укреплённое жилище, которое не взять без долгой планомерной осады, на которую случайные налётчики не способны.
И участок подвернулся крайне подходящий, после целенаправленных поисков и стоящих того финансовых вложений. Кусочек леса в полгектара на склоне горы Железной, на полпути к вершине. Здесь не так давно планировалось близкими к губернатору края людьми строительство элитного пансионата, и подъездная дорога уже была проложена, но вот после нескольких приватных консультаций идея как-то сразу себя изжила, планы переменились, и никто не стал возражать, когда место без всяких публичных торгов отошло к известному на Водах меценату и вообще авторитетному человеку князю Лихареву.
Всего за одно лето, ударными темпами и с привлечением самых лучших специалистов (даже из Москвы и Петербурга), поместье было готово «под ключ». Дом получился даже скромный по местным меркам, нечто вроде швейцарского «шале» из местного доломита, под крутой черепичной крышей: гостиная и три комнаты внизу, четыре спальни на втором этаже, кабинет хозяина и библиотека в мансарде. Зато с большой крытой верандой, сплошь деревянной, на массивных дубовых подкосах, опасно нависающей над почти отвесным пятидесятиметровым обрывом. А ещё на двести метров ниже простирался уже Курортный парк со всеми его прелестями. Можно было сидеть на веранде за самоваром и, невидимыми снизу, наблюдать коловращение жизни на центральном Променаде и прилегающих аллеях, музыку с открытой эстрады Пушкинской галереи слушать.
Остальная территория усадьбы стараниями специалистов по садово-ландшафтным делам превратилась в некую компиляцию дикого горного букового леса, английского парка и японского сада мхов, ручьёв и камней. От случайных или целенаправленно-злонамеренных посетителей поместье ограждал приличной высоты бетонный забор, тщательно камуфлированный под окружающий ландшафт, от чего он становился заметен только на минимальном расстоянии. О дополнительных мерах безопасности, вроде современнейшего аналога старинной колючей проволоки, пущенного не поверх забора, что выглядело бы безвкусно, а вдоль его верхней кромки с внутренней стороны, в сочетании с инфракрасными датчиками, тепловизорами и масс-детекторами, не стоит и говорить. В результате всех трудов и топографических расчётов рассмотреть, что делается на подворье, можно было только через мощную стереотрубу (а лучше – телескоп) с некоторых точек на вершине расположенной хоть и напротив, но на порядочном удалении горы Бештау.
Ну и главная, так сказать, «фишка», которой Валентин гордился, – персональная канатно-кресельная дорога, со двора и прямо на специальную площадку неподалёку от дворца эмира Бухарского. Спустился, отправил кресла наверх дистанционным пультом, а решил вернуться – опять вызвал. Очень удобно, причём двигалась подвесная система намного быстрее, чем стандартная. Вниз почти со скоростью свободного падения, вверх – чуть помедленнее.
А по узкой извилистой дороге могла проехать только одна машина, двум не разъехаться: по обочинам такие отбойники, что танком не своротишь. Получилось нечто вроде жёлоба для бобслея. И перекрывался он тоже дистанционно, в нескольких местах.
Лихарев, конечно, понимал, что всё это так, для забавы больше, нормальный горнострелковый взвод легко его дачу штурмом возьмёт или просто из миномётов перепашет так, что отсидевшимся в глубоком подвале придётся, как Паулюсу, из него с поднятыми руками выходить. Но такое – вариант из самых маловероятных, кому тут нужна полномасштабная война с рядовым, в общем-то, хоть и богатым человеком. А кто знает Валентина в его подлинном качестве – вполне в курсе и его реальных способностей и возможностей, осведомлён и о том, что в случае чего ответ его будет адекватным. Но как бы там ни было, чувствовать, что живёшь в крепости и надёжно защищён от превратностей внешнего мира, было приятно. Нет постоянного ощущения, что сидишь ночью в освещённой комнате спиной к незашторенному окну.
Лихарев, не одеваясь, вышел на веранду, откуда открывался великолепный, чем-то слегка тревожный вид на Бештау во всей её утренней красе. От выпавшей росы тщательно отшлифованные дубовые плахи пола были чуть влажными и холодили босые ноги. Лихарев глубоко вдохнул густой воздух, пахнущий совершенно своеобразно – и начинающим желтеть предосенним лесом, и палой, перепревшей прошлогодней листвой под деревьями, и чем-то таким свежим, словно пузырящийся нарзан прямо из скважины в жаркий день. Всё равно слов не хватало, чтобы передать ощущение и впечатление, но этот запах он узнал бы везде и сразу, среди сотен других. Нигде больше не встречал он такого запаха.
Валентин оперся локтями о перила, остановился взглядом на подсвеченной встающим солнцем остроконечной вершине пятиглавой горы напротив.
Из-за её северного отрога на ярко-синее, не успевшее выцвести от солнца утреннее небо выползали белые кучевые облака, громоздящиеся до зенита, а за ними угадывались серо-синие грозовые тучи, обещающие непременно пролиться дождём, сперва коротким и бурным, а потом переходящим в долгий, обложной. Так случалось почти каждый день и стало уже привычным. Такое лето в этом году выпало, в середине августа начавшее ощутимо переходить в осень.
Валентин успел забыть предутренний сон, который, просыпаясь, изо всех сил пытался удержать в памяти, и казалось, что получается. Но нет – утекло, как вода или песок из часов времени, осталось только ощущение чего-то непонятного и беспокоящего. И очень важного. Это тоже было непривычно, сны ему если снились, то яркие, запоминающиеся и в то же время – нейтральные, нескучные, но без особого эмоционального заряда.
«Показатель душевного здоровья, – усмехнулся Лихарев, – полная гармония души и тела, даже подсознание себя не проявляет».
Вроде бы так и есть. Жизнь устоялась почти до неприличия. Не такие уж давние попытки вместе с Дайяной вернуться к политической деятельности своевременно и достаточно деликатно были пресечены лихими ребятами из «Братства», и ему в окончательной форме было предложено угомониться и о своих претензиях на роль «сверхчеловека» забыть, категорически и бесповоротно. Его личная жизнь, мол, никого особенно не интересует, и грех на душу никто брать не собирается, но «в случае чего» вернуть Валентина в тридцать восьмой год проблемы не составит. А там товарищ Сталин пусть сам разбирается, как поступить с бывшим, не оправдавшим доверия порученцем. Тем более, к его потенциальной соломенной вдове[2], Эвелине, большинство женщин испытывают самые тёплые чувства и не хотели бы, чтоб она вновь вернулась к скудной и скучной парижской жизни или шла в содержанки к кому-то из здешних «уважаемых людей»…
Он ведь так и не удосужился узаконить их отношения, и прав на наследство француженка не имеет ни малейших. Придётся ей, как мусульманке, изгнанной мужем, уходить только с тем, что на ней сейчас надето из вещей и драгоценностей. А на его дома и прочее имущество претенденты немедленно найдутся…
Этот довод, к слову, оказался весьма убедительным, воспитан ведь Лихарев был в традициях русской аристократии «серебряного века», и двадцать лет жизни «при большевиках» не успели поколебать его моральных принципов. Поэтому Валентин не только отошёл от всякой «политики», но и немедленно женился, как положено, с венчанием в кисловодской Свято-Никольской церкви, для чего Эвелин предварительно перешла в православие из своего католичества. Сделала она это с удовольствием, и отнюдь не только потому, что это был неизбежный шаг на пути к соединению с человеком, к которому она относилась примерно как мадам Грицацуева к «товарищу Бендеру». Православная обрядность и церковная эстетика увлекли и восхитили совсем недавно весьма секуляризированную[3] профессоршу сами по себе. Что её поначалу как бы даже весьма удивляло, а потом начало удивлять и вызывать сожаление собственное былое католичество. То есть схизма[4].
Вообще если бы кто-то из прежних парижских знакомцев сейчас увидел Эвелин (во крещении Елену) Лихареву, то поразился бы до глубины души. Обрусела она самым категорическим образом. На российских харчах и при местных обычаях поправилась килограммов на десять, если не больше, и стала по-настоящему красивой молодой дамой с положенными формами, не выделяясь субтильностью на фоне женщин своего круга, тех же Майи с Татьяной. По-русски она научилась говорить практически без акцента, лишь с едва заметной картавинкой и не всегда точными интонациями и ударениями. Заодно усвоила принятую в «водяном обществе» стилистику и лексику, а также все подходящие «истинно русской» барыне манеры и привычки. При случае могла и по матушке выразиться, что в её устах звучало крайне пикантно.
Лихарев, как оказалось, на самом деле давно именно подобного и хотел. Примерно как Пушкин, изображавший в стихах свой идеал семейной жизни. Только не сумел этого сразу понять.
Отчего же сейчас вспомнилось что-то давнее, почти забытое? Ему что, мало того, что довелось пережить аж с самой Гражданской войны, о которой кроме него здесь мало кто не то чтобы задумывался, а вообще вспоминал? Да в текущей реальности та война оказалась почти игрушечной, продлилась всего около полутора лет и унесла ненамного больше сотни тысяч жизней со всех участвовавших сторон. Ни голода, ни тифа, ни «испанки», даже, считай, без взаимного организованного «красно-белого» террора обошлось.
Это же сколько лет назад он придумал себе псевдоним «Студент», начиная прямо из старших камер-пажей[5] (о чём никто, разумеется, из новых «товарищей» не подозревал) карьеру советского чекиста? Да девяносто с лишним! Летом восемнадцатого года, а как вчера всё случилось. Не совсем, конечно. Тогда было двадцать два, сейчас, как окружающие, включая жену, считают, – тридцать семь. Как Пушкину. На самом деле (или – фактически, как угодно можно сказать) – почти сто пятнадцать. Чуть-чуть помладше Михаила Басманова, но – одно поколение, просто полковник всю Мировую войну захватил, а Валентин – не успел.
И кто сейчас способен вспомнить, как умел смеяться над хорошим еврейским анекдотом начальник махновской контрразведки Лёва Задов, ставший потом, после Ежова, наркомом НКВД, Леонидом Михайловичем Заковским. Да что Заковский, и Ленина он близко видел, и Менжинского с Дзержинским, а со Сталиным вообще десять лет был почти неразлучен… Кому об этом расскажешь? Особенно в реальности, где никакого Сталина (в общепринятом смысле) вообще не было, если, конечно, не вспоминать малозначительного дореволюционного экспроприатора Кобу, делегата одного из первых съездов РСДРП.
Все эти мысли, пришедшие сейчас в голову, были и непонятны, и неуместны. К чему они? Разве что очередной всплеск интуиции, предвещающей серьёзные жизненные перемены?
Валентин, довольный хотя бы тем, что благодаря гомеостату нет необходимости вести «здоровый образ жизни», приличествующий возрасту, взял с резного, инкрустированного слоновой костью столика портсигар, вместо сигарет «кинг сайз» наполненный не менее длинными, но более толстыми «Купеческими». Эти очень дорогие папиросы из смеси трапезундских и виргинских табаков ему нравились, несмотря на неподобающее его общественному положению название. Оформляясь на постоянное место жительства в этой реальности, Лихарев представил куда следует безупречные бумаги, подтверждающие его княжеское достоинство, после чего вполне законно напечатал визитные карточки с титулом и гербом, и во всех прочих официальных документах получил право именоваться должным образом. Титул сам по себе был ему безразличен, но позволял многое такое, что в исполнении человека «третьего сословия» вызывало бы у окружающих лишние вопросы.
Он с удовольствием закурил, наблюдая, как голубые струйки дыма поднимаются вверх в неподвижном воздухе. И вдруг неожиданно словно заслонка в мозгу открылась: он вспомнил, что вызвало у него под утро некое томленье духа. Ему приснился Александр Шульгин, больше и ближе знакомый как нарком Шестаков. То ли приснился, то ли явился, как это бывает в вещих снах. Похоже, разговаривали они долго, но, по ощущению, довольно сумбурно. Или просто многие детали несомненно важной беседы и внутренняя логика потерялись во время пробуждения, проскочили сразу из кратковременной памяти в подсознание, минуя долговременную. Но главное, кажется, осталось.
Шульгин пытался объяснить Валентину, где сейчас находится вместе с большинством своей команды. Представлялось, что в месте, не слишком подходящем для нормальных людей. Гораздо опаснее, чем Валгалла-Таорэра, но столь же отдалённом, судя по всему. Однако быть им там сейчас необходимо, несмотря на то, что и во всех освоенных реальностях снова назревают события.
Про то, что назревает здесь, в этой самой спокойной из возможных, Лихарев знал достаточно. Русско-британская война на пороге, тут не нужно быть ни пророком, ни аггрианским резидентом. Но вмешиваться в неё Валентин не собирался. Последний разговор с Левашовым помнил и решил отстранённо стоять до конца, как бы выполняя данное «Братству» «офицерское слово».
«Вернёшься домой, – сказал тогда Олег, – и свободен. До особого распоряжения. Продолжай жить, как привык, но в полной боевой готовности. Никаких шуточек, хохмочек и прочих инициатив тебе впредь не дозволяется…»
Лихарев согласился. А какие могли быть возражения? Вот и жил, как привык, вполне даже недурственно. Денег хватало, занятий тоже. Регулярно встречались с Майей и Татьяной, пока длился их «курортный сезон». С мая по октябрь дамы жили на вилле Ларисы, а на позднюю осень и зиму возвращались в Москву, к мужьям. Сам Лихарев эти месяцы предпочитал проводить вместе с Эвелин где-нибудь подальше, южнее экватора обычно.
Дайяна его больше ни разу не беспокоила, и ему не было интереса возвращаться на Таорэру, хоть на базу, хоть в девичий пансионат. Он думал иногда, что за прошедшее время минимум сотня девушек полностью завершили курс обучения и вполне готовы вернуться на Землю для «работы по специальности». Однако никаких известий, адресованных лично ему, оттуда не поступало, и косвенных признаков он тоже не замечал.
Вполне, кстати, возможно, что временна́я асинхронность продолжает действовать, способов проверить это, не включаясь в процесс, у Валентина не было. Очень даже вероятно, что там прошли всего неделя или две. Как, к слову сказать, и там, где сейчас пребывает Шульгин с товарищами. Едва ли стоит допускать, что они застряли где-то на целых два года и просто не хотят давать о себе знать. Скорее всего, у них там и месяца не прошло. Иначе трудно представить, чтобы и Левашов, и Воронцов каким-то образом его не проинформировали бы. Не чужие всё-таки люди, усмехнулся Валентин.
Он ведь и сам, если по-другому считать, провёл на Земле не девяносто лет подряд. Чисто биологически тоже выходит – не больше двенадцати лет на ГИП, учитывая частые отлучки «в нулевое время», да два года здесь и примерно полгода в три приёма на Таорэре и в параллелях.
Теперь, получается, опять что-то сместилось, раз Шульгин то ли всплыл в реале, то ли ночью во сне пригласил Лихарева на контакт через астрал. Значит, наложенная на Валентина епитимья[6] закончилась или заканчивается. И он снова нужен, непонятно, правда, в каком качестве. По крайней мере, он так понял – следует быть готовым к возобновлению прежней деятельности, только не уловил, где и в какой роли.
Ещё, кажется, Шульгин говорил, что меры безопасности следует усилить, но как, зачем и в расчёте на кого – тоже туман. В общем, выходило так, что ему досталось нечто вроде письма в бутылке из «Детей капитана Гранта». Общий смысл ясен, а самое главное пропущено…
Он не услышал, как на веранде появилась Эвелин. Каким-то образом он её разбудил, хотя спали они в разных комнатах, Лихарев терпеть не мог, чтобы кто-то, пусть даже любимая женщина, находился с ним рядом в постели сверх необходимого. Возможно, причина её раннего пробуждения вызвана тем же, что и у него, – некоей проникшей в их обычный мир аурой, волновым воздействием иных слоев эфира. Или просто так совпало.
– Почему ты не спишь? – спросила француженка, подходя и кладя сзади подбородок ему на плечо.
– Да вот так. Утро позвало собой полюбоваться… – ответил Валентин, чуть поворачиваясь и приобнимая её за талию. Жена прижалась к нему чуть плотнее, причём не в банально-сексуальном смысле, а именно чтобы почувствовать его силу и поддержку и передать свою. Выглядела она более чем привлекательно, в надетом на голое тело цикламенового цвета пеньюарчике. Но обычного желания её слабо замаскированные прелести сейчас не вызвали.
Валентин совсем непроизвольно сравнил её с той, какой она была в Париже, когда вдруг подсела к нему за столик в кафешке Латинского квартала, что недалеко от Нового моста (называвшегося так аж с шестнадцатого века, когда он был построен вдобавок к нескольким «Старым», стоявшим чуть ли не с тринадцатого…). Сначала она показалась ему просто очередной проституткой, не успевшей подхватить клиента раньше, но потом они быстро разобрались в ситуации. Не проститутка, а совсем даже целая доктор психологии, просто любительница внезапных и неожиданных связей. А с докторством у них просто – написала что-то вроде реферата, как в России для кандидатского минимума, доложила перед квалифицированным синклитом – вот и заветная приставка к фамилии «Dr. Phi.».
Однако чем-то зацепила она его тогда, слегка начавшего дичать от одиночества и бессмысленности жизни. Всего несколько дней они взаимоприятно и очень насыщенно пообщались, а потом Валентин почти экспромтом взял и пригласил её прокатиться в «снежную и варварскую страну», где даже к Наполеону отнеслись без всякого почтения…
Так до сих пор и живут, только теперь она Елена Лихарева и княгиня, к «сиреневым сумеркам Парижа» её совсем не тянет.
– Утро больно хорошее… – повторил Валентин, и женщина кивнула, не удивившись полному несоответствию стоящих рядом слов. Теперь она знала русский настолько, что легко воспринимала на слух непереводимые на «богатые» европейские языки обороты.
– Хорошее. Но гроза будет? – сказала Эвелин полувопросительно.
– Верняком. И не только атмосферная…
– Война, да? А разве нас она как-то коснётся? Ты же не офицер?
– Ещё какой, – непонятно усмехнувшись, ответил Валентин, вспомнив свою учёбу в Пажеском корпусе, парады в Красном селе и кое-какие лихие дела в Гражданскую. Но не стал развивать тему.
– Не хочу войны. Тем более – большой европейской или даже мировой… – продолжила жена, словно пропустив мимо ушей довольно прозрачный намёк.
– Как говаривал один мой старший товарищ, «твой враг выбран не тобой, а для тебя». Так что нам остаётся воспринимать сие как данность…
Во всех комнатах одновременно, и на веранде тоже, вдруг мелодично затренькали вызовы аппарата внутренней связи. Так Валентин устроил, чтобы в случае чего не бежать «их светлостям» с мансарды в гостиную или наоборот, по прихоти любого слуги, захотевшего что-то доложить хозяину.
Сейчас вот звонил привратник от нижнего въезда. Там у Валентина по ночам дежурил парный пост. Не какие-нибудь наёмные консьержи от частной охранной фирмы, а свои ребята, штатные, ежедневно занимающиеся «боевой и политической подготовкой». Охранник сообщил, что подъехала машина, за рулём знакомая дама и с ней ещё трое, «в списках не значащиеся».
– Я сказал, что хозяин раньше десяти не принимает, а госпожа Ляхова настаивает…
– Ну, дай ей трубочку, – сказал Лихарев, делая рукой жест, намекающий, что Эвелин стоит одеться чуть приличнее. Она кивнула и убежала к себе, сверкая длинными незагорелыми выше колен ногами.
Валентин, не выпуская трубки из рук, направился в свою спальню с той же целью.
Оригиналка, однако, Майя. Отношения у них, особенно у неё с Эвелин, были самые тёплые, но всё же в половину седьмого утра с визитом являться, заранее не предупредив! Разве что случилось нечто совсем уж из ряда вон…
Именно так он спрашивать не стал, но, извинившись, попросил без церемоний ехать прямо к дому и подождать в гостиной минут десять, поскольку, сама понимаешь, умыться, причесаться требуется, то да сё.
– Горничной у нас здесь нет, так что сама распорядись. Прохладительное и наоборот в холодильнике и в буфетной…
– Нет, так будет, – непонятно на что намекая, сказала Майя и рассмеялась серебристо, что в её исполнении могло означать абсолютно всё, что угодно. Любое настроение и любую затеянную шалость. Ну, раз смеётся, значит, неординарность из разряда приятных или хотя бы безвредных.
Валентин решил особенно не спешить, тщательно побрился, умылся, оделся по обстоятельствам, то есть в светло-оливковый летний костюм, только галстук повязывать не стал. Окликнул жену.
– Я буквально через пять минут, – отозвалась Эвелин, – ты пока спускайся, займи гостей…
Майя, несмотря на неприлично ранний час для светского визита, выглядела, как всегда, очаровательно, хоть и проснулась, надо понимать, никак не позже пяти, чтобы сюда успеть. Или, по столичной моде, вообще ещё не ложилась. Но там обычно такого перевёрнутого биоритма придерживались зимой – развлекались до поздней ночи или раннего утра, а потом спали часов до двух или трёх, а на Водах жили по более естественному графику, впрочем, тоже не все и не всегда.
Ляхова тут же подтвердила его предположение. В ответ на вопрос, почему она без Татьяны, ответила, что сегодня в дворянском собрании было небольшое «суаре»[7], потом сыграли в преферанс по маленькой, а тут и поручение поступило… А Татьяну немножко подвело соблюдение традиции – по рюмочке за каждый удачно сыгранный мизер, а мизеров ей сегодня шло много, и в выигрыше она сегодня в более чем приличном. Но за всё нужно платить, и поэтому она «в достаточно полуразобранном виде» предпочла отправиться домой, а не ехать бог знает куда в такую рань. Вот и пришлось одной.
Майя же выглядела, как всегда, свежо и привлекательно, успела даже сменить вечерний макияж на утренний. Она по привычке села за чайный столик у открытой двери в сад так, чтобы наслаждаться панорамой сопредельных гор и одновременно дать возможность хозяину полюбоваться длиной и безупречностью своих очаровательных ножек. У Эвелин они, конечно, тоже ничего, но на чужое смотреть всегда интереснее. Говорят – хорошо развивает воображение.
Не то чтобы она имела в виду соблазнять Валентина, но просто иначе у неё не получалось – требовалось постоянно чувствовать восхищённые мужские взгляды. При этом, в отличие от той же Татьяны Любченко, она, выйдя замуж за Вадима Ляхова, абсолютно никаких вольностей, кроме таких вот шуточек, кое-кого доводящих до опасной грани, себе не позволяла. Кто-то, помнивший её во времена достаточно эмансипированной молодости, ни за что бы не поверил в нынешнюю неприступность «светской львицы Бельской», а вот тем не менее. Со дня знакомства с Вадимом Ляховым – никаких вольностей на стороне.
– А ты ж чего? – спросил Лихарев, щедро бросавший заинтересованные взгляды на её коленки и выше, чтобы сделать женщине приятное. Будто надеется, что повезёт ненароком увидеть что-нибудь сверх предъявленного.
– А мне мизера совсем не шли, или – не игрались. Я в таких случаях предпочитаю воздерживаться…
Вполне разумная политика, особенно в её положении «соломенной вдовы», изображающей высокую степень легкомысленности. Если ещё даст слабину по части выпивки, могут быть неприятные неожиданности (или – неожиданные неприятности), окажись вдруг очередной поклонник чересчур предприимчивым в подходящий момент. Есть же в словаре Даля неприличная поговорка насчёт того, что пьяная баба себе не хозяйка.
– Мне вахтёр сказал, что ты не одна. Где же прочие особы? – спросил Лихарев, будто только что заметив в гостиной отсутствие тех трёх человек, о которых говорил охранник.
– Прочие особы подождут во дворе. Им за господским столом делать нечего…
Лихарев промолчал. Зачем лишние вопросы? Всё, что нужно, она так или иначе скажет. А самому добиваться… Человеку его положения приличествует важность.
– За столом? Это правильно. Сейчас Леночка (он любил называть Эвелин самыми разными именами, производными и от настоящего, и от крёстного имен) спустится – позавтракаем. Ты как?
– С полным удовольствием. И выпить теперь уже можно. – Она заговорщицки улыбнулась, мол, сам всё понимаешь. – Да, наверное, у вас и заночую, если так можно выразиться, хотя бы до обеда. Не прогоните?
– Как ты можешь, Майя? – удивлённо-осуждающе спросила Эвелин, спускавшаяся по лестнице и услышавшая последние слова. Вот тут у неё нерусскость натуры ещё чувствовалась, не всегда различала тонкости стилистики. Не принято у них там, в Европах, выражаться оборотами, совершенно не совпадающими по форме со смыслом, в них вкладываемым.
– А чего такого? – притворно удивилась Ляхова. – Заявилась не вовремя, да ещё и на кормёжку набиваюсь. Вполне можно сказать: «Позвольте вам выйти вон!»
Эвелин перевела растерянный взгляд с гостьи на мужа. Она понимала, что это Майя так шутит, но уж больно, как это? Заковыристо, вот…
– Практиковаться надо, милая, практиковаться, – продолжила Ляхова уже другим тоном. – Пока тебе ещё прощается, но скоро ведь все забудут, что ты приезжая, и станут просто хихикать за твоей спиной. Ты, Валентин, её заставь каждый день Салтыкова-Щедрина читать, Лескова и того, из твоей реальности… Да, Зощенко. И зачёты заодно принимай по ненормативной лексике, а то она до сих пор путается, когда вполне можно украсить фразу, а когда категорически нет, хотя бы и в чисто женской компании.
– Ладно, это мы учтём. Так насчёт завтрака что? Прямо сейчас накрывать?
– А чего тянуть? Я со вчерашнего вечера ничего приличного не ела…
С этими словами Майя коротко взглянула на Эвелин, не смотрит ли, и специально для Лихарева поменяла местами закинутые одна на другую ноги.
Валентин показал ей из-за спины кулак.
Всё же он слегка отделял себя от обычных людей, возможно, по-особенному его воспитывали, или в Гражданскую войну научился не отождествлять себя ни с белыми, ни с красными, ни с «махновцами» всех типов, чтобы проще жить было, а постепенно распространил этот отстранённый подход на весь род человеческий. Потому до сих пор умел смотреть вокруг как бы извне, словно из ложи на театральную сцену, где присутствует и он сам в качестве персонажа.
Вот и эта человеческая реакция на особей противоположного пола его в некотором роде забавляла, пусть и относилась к нему самому в полной мере. Майя, кстати, ему нравилась, и он с удовольствием «пригласил бы её в номера», как выражались старшие пажи и молодые корнеты в его юности. Тогда это выражение имело смысл, ибо где же ещё не имеющий собственной квартиры поклонник мог пообщаться с дамой сердца, иногда весьма высокопоставленной. На этот случай и были придуманы вуалетки и пышные веера, закрывающие женское лицо от посторонних.
В то же время прекрасно сознавал, что нет в ней абсолютно ничего такого, чего не было бы у Эвелин или сотен других девушек и женщин, с кем приходилось иметь дело. То, что отличает одну от другой, кроется гораздо глубже. А вот поди ж ты! Какой-то непреодолимый, «основной», как в известном фильме сформулировано, инстинкт включает определённые рефлекторные цепочки независимо от обстоятельств. Что, казалось бы, взрослому мужику мелькнувшие на мгновение перед глазами алые кружевные панталончики? Выйди на городской пляж, там сразу несколько сотен девиц увидишь в чём-нибудь гораздо более откровенном. И тем не менее…
Валентин отогнал совсем неуместную сейчас мысль и глазами показал Ляховой, что не время сейчас таким образом развлекаться. Ей. Тоже ведь вполне всем понятно, что продолжения не будет, и Лихарев никогда и ни за что не займётся адюльтером с женой… Скажем так – сослуживца. Однако вполне себе семейную даму эта игра как-то заводит, раз во вполне серьёзной обстановке удержаться не может.
Он напрямую связал – тут большого ума не требовалось – внезапный визит Майи со своим сном и её слова насчёт «поступившего поручения». Только не мог пока сообразить, в чём эта связь заключается. По времени совпадает, да и не та женщина мадам Ляхова, чтобы ни с того ни с сего подобные эскапады учинять. И ещё какие-то сопровождающие с ней, которых за господский стол пускать не стоит…
Эвелин начала суетиться на кухне, собирая на стол, чтобы не ударить в грязь лицом. Тоже весьма странное выражение, если вдуматься. Да, русский, как она за два года убедилась, почти наполовину из чего-то подобного состоит, не чета даже «великолепному французскому». Нужно просто запоминать всякие заумные обороты речи и употреблять к месту, не озабочиваясь, зачем да почему.
– Так я тебя слушаю, – сказал Валентин уже деловым тоном, садясь напротив Майи так, чтобы стол заслонил наконец её ножки, оружие массового поражения.
Ляхова открыла свой портсигар, неотличимо похожий на настоящий блок-универсал (настоящего ей пока не полагалось по каким-то братским правилам), прикурила, пару раз выпустила дым, не затягиваясь.
– В общем, мне из Москвы позвонил Вадим, сказал, что получил инструкцию от Воронцова. Организовать тебе приличное прикрытие, потому что… Потому что есть варианты. Случиться может что-нибудь такое, с чем ты сам не справишься…
– Я – не справлюсь? – удивился Валентин. – До сих пор почти сотню лет справлялся…
– Не скажи. Когда наши товарищи навестили твою пятигорскую резиденцию, ты, помнится, не слишком справился…
Напоминание было крайне неприятным, но из песни слов не выкинешь. Впрочем, быль молодцу не в укор. Разобрались, в конце концов.
– Это ты не равняй. Само собой, против той команды мне было не устоять, да и то не так у них всё гладко вышло…
В отличие от Майи Лихарев, закурив, три раза подряд затянулся как следует – время выиграть и нервы чуть успокоить. Несмотря на гомеостат, никотин и алкоголь в момент употребления действовали как положено, это уже потом нейтрализовались до последней молекулы, какую аппарат считал излишней подконтрольному организму.
– Вот чтобы ещё раз с участием кого-нибудь другого у тебя не повторилось того же самого. Одним словом, я сюда новую охрану привезла и заодно прислугу, настоящую. А то нехорошо как-то – княгиня сама тарелками и вилками гремит…
Эти слова Эвелин тоже услышала. Слух у неё был хороший и как бы избирательный, выделял из «белого шума» всё, что её как-то касалось.
– Прислугу? – Она вошла, толкая перед собой сервировочный столик. – Я давно Вале говорила, что надо бы нанять, а он всё против. Не терпит чужих людей в доме…
– Эти – не чужие. Очень даже свои. Понятливее и вернее любой собаки, – сказала Майя.
Сравнение француженке опять показалось странным. Собаки и прислуга. При чём тут?
А Лихарев уже догадался: насчёт воронцовских биороботов он был в курсе.
Аггрианская цивилизация предпочитала обходиться для своих целей живыми людьми, вроде него самого, кстати, Сильвии, Ирины и девушек, разумеется, что он с собой привёз. Правда, с тех пор так ни одну больше не видел. Только слышал, что военную карьеру в столице делают успешно. Это его радовало.
Но вот форзейли в этом деле преуспели, и Антон, забыв установленные у них там правила, снабжал ими Братство почти что в неограниченных количествах. По крайней мере, так ему казалось. На самом деле биороботов было совсем немного, в основном они служили матросами, офицерами и прочими специалистами на пароходе Воронцова, «сходя на берег» только в исключительных случаях и на непродолжительное время.
– Ну, познакомь, – пожал он плечами, вставая. – Пойдём, Эля, полюбуешься.
Жене он не стал раскрывать истинную суть роботов, которых по внешности и поведению от людей отличить было совершенно невозможно, без вивисекции, конечно. От Левашова он слышал, что даже на роль любовницы для нужного клиента любого из них запрограммировать можно, и никто ни о чём не догадается. До поры до времени, естественно.
В беседке напротив крыльца они увидели двух мужчин и женщину. Одному на вид было лет сорок, внешность вполне располагающая, черты лица правильные, фигура не очень массивная, но сила чувствовалась, и не просто грубая физическая, а специализированная. Мог бы так выглядеть кадровый строевой фельдфебель штурмгвардии, если здешними реалиями оперировать. Не интеллигент, но явно умный человек, по-народному, так сказать, умный. И наверняка мастер на все руки – от варки щей из топора до ремонта подручными средствами брегетов Павла Буре.
Второй помладше, около тридцати, ростом выше, голубоглазый, очень светлый шатен. Лихарев при случайной встрече определил бы его как человека с хорошим образованием, но не «ботаника», а весьма спортивного, тренированного парня какой-нибудь интересной профессии. Ну, геолога, может быть, или путейского инженера (очень в этом мире уважаемая профессия, что-то вроде жюль-верновского Сайреса Смита).
А третья – женщина. Дальше от тридцати, ближе к сорока пяти. С лицом не то чтобы красивым, но по всем параметрам безупречным. Бывает такое интересное сочетание. Женщина, с которой мало кому придёт в голову заигрывать. При том, что и пропорции тела никаких претензий не вызывают, вполне можно натурщицей для первокурсников Академии художеств ставить, чтобы сразу поняли, как должна нормальная женщина выглядеть, созданная для реальной жизни, а не салонных забав. «Некрасовская» такая, в отличие от «тургеневской».
С умом типаж подобран, подумал Лихарев. Главное, если эта дама чем-то вроде домоправительницы будет, у Эвелин никаких оснований для ревности точно не возникнет. Спокойно сможет её наедине с мужем оставлять, даже при длительных отлучках.
– Вот, прошу любить и жаловать, – с некоторой даже гордостью указала на вставших при появлении людей андроидов Майя. – Это – Баян, – представила она старшего мужчину, – это – Варяг, а она – Диана. Господин Воронцов всех своих подчинённых этого рода называет исключительно по именам кораблей старого русского флота. Вкус у него такой. А вы, конечно, можете им дать любые другие, на ваше усмотрение. Баяна лучше всего использовать в роли дворецкого, шофёра, начальника службы безопасности. Поваром тоже может. Варяг – мастер на все руки, в буквальном смысле, одновременно – большой интеллектуал и эрудит, во всех областях, всемирную информационную сеть вполне заменит, ибо к ней же и подключен. В смысле боевых качеств – все трое на одном уровне, то есть могут всё, что любой спецназовец, детектив, ниндзя даже, только гораздо лучше. Пока они с вами, можете не беспокоиться. Если даже сами ещё ничего не заметите, они и угрозу распознают, и все нужные меры примут…
Диана может быть, как вы уже догадались, домоправительницей, личной горничной хозяйки, попутно парикмахершей, домашним врачом, швеёй и модисткой, телохранительницей, конечно…
– А также всем, что потребуется впредь, – сказала вдруг Диана приятным, чуть низковатым, многим мужчинам нравящимся голосом (она и на роль дикторши или ведущей программ дальновидения вполне бы подошла), процитировав последний пункт из универсальной резиновой резолюции товарища Полыхаева, персонажа «Двенадцати стульев». Валентин от неожиданности рассмеялся, а Эвелин опять не поняла.
– Ну вот и всё, пожалуй, – завершила Майя. – Если согласны, новые сотрудники готовы немедленно приступить к своим обязанностям…
Эвелин выглядела несколько ошарашенной, не совсем понимая, то ли каким-то специальным жаргоном муж с Ляховой вдруг заговорили, либо она видит картинку времён крепостного права, о котором имела понятие в основном из «Мёртвых душ». Иначе как истолковать все эти слова – «Воронцов посылает», «можете дать им какие угодно имена»?
– Я тебе потом всё растолкую, у нас в «Братстве» есть много вещей, для постороннего взгляда странных, – успокоил Валентин жену и уже для Майи: – Да сейчас пока не совсем ясно насчёт обязанностей, неожиданно как-то, – сказал Лихарев, на самом деле очень довольный таким знаком внимания со стороны «старших», но ещё не решивший, как именно воспользуется «подарком с барского плеча».
– Да от вас пока ничего и не требуется, Валентин Валентинович, – вслед за Дианой подал голос и Баян. – Укажите нам помещение, где мы разместимся, и занимайтесь своими делами. А мы – своими.
Очень рассудительно «дворецкий» это произнёс, веско так…
– Да у меня и помещения особого нет. В доме нам самим едва хватает. Разве – флигель вон тот, – Валентин указал на небольшой домик в правом верхнем углу участка. – Так там только так… две комнатки, одна с инструментом и припасами кое-какими, вторая – вроде мастерской. Станки, верстак, стол, шкафы да ящики всякие. Топчан, правда, есть…
– Нам другого и не надо, ваша светлость, – сказала Диана. – Нам ни спать, ни есть не нужно, и мне отдельное от «мужчин» помещение не требуется. Просто, чтобы место было, куда с ваших глаз укрыться, когда не нужны… И одежду с принадлежностями всякими развесить-разложить…
Эвелин смотрела и слушала с широко раскрытыми глазами. Хорошо хоть не ртом. До неё стало доходить, что это – не иначе как только в кино и книгах бывающие андроиды. Ни о чём подобном ей Валентин не рассказывал, хотя общее представление о неординарности мужа и его приятелей она имела. Ещё с самого начала здешней своей жизни.
– Ну, значит, быть по сему, – согласился Лихарев. – Там и размещайтесь. И ждите распоряжений… – ничего другого он с ходу придумать не смог.
– А чего ждать? – удивился Баян. – Сразу и займёмся каждый своими делами. С вашего позволения, охранников и садовника я прямо сейчас рассчитаю. За месяц вперёд заплачу, раз без предупреждения, и пусть уходят. Как-нибудь и без них справимся.
Лихарев подумал, что не так всё просто получается с этими вроде как слугами автоматическими. Сразу и не поймёшь. А делать всё равно нечего, обратно не отправишь. Дела, похоже, и вправду непростые затеваются. Пусть лучше так.
– Хорошо, действуйте, – кивнул он. – Чистый вам карт-бланш, как говорится. А вы, Диана… ну, пусть будет Петровна (не Зевсовной же её называть), с Еленой Ивановной (отца у Эвелин Жаном звали, хорошо, хоть не Жаком) свою диспозицию потом обсудите… А деньги для расчета? – вспомнил он.
– Будьте спокойны, – с тонкой, очень ему идущей улыбкой ответил Варяг, – мы располагаем достаточными средствами для обеспечения своих функций. Когда нам имена с фамилиями придумаете – паспорта и прочие документы тоже сами выправим. Оснований для претензий мы вам постараемся не давать.
Вернулись в гостиную и наконец сели за стол. Без горячего Майя согласилась обойтись, хотя Эвелин предлагала яичницу приготовить, предел своих кулинарных способностей. Она, хоть и француженка, никакими тайнами национальной кухни не владела, с юных лет погрузившись в науки возвышенные, и лет десять, до знакомства с Лихаревым, умела только кулинарные книжки от нечего делать листать, зато на многих языках. Но теперь, как предположил Лихарев, у них в любой момент будет стол, не уступающий царскому. Как-то они с женой видели на выставке в Кремле роспись блюд обеда в честь коронации Александра Третьего, ещё в тысяча восемьсот восемьдесят втором году. Очень впечатлило. Причём карточки меню были оформлены и разрисованы самим Васнецовым. Который Виктор[8].
– Ну так в чём же всё-таки дело? – спросил Валентин у Майи, когда выпили по рюмочке, невзирая на достаточно ранний час (впрочем – кому как), – неужели Вадим ничего определённого тебе не сказал?
О своём разговоре во сне с Шульгиным он пока не упоминал.
– Вадим сказал, что если начнётся война с Англией, непременно оживятся все враги России на Кавказе и вообще за периметром. То, что случилось в Пятигорске[9], может повториться десятикратно. На этот случай всем нам нужна защита.
– Не проще ли вам с Татьяной, да и мне с Эвой просто уехать, хотя бы и в Москву?
– Это – ваше дело. Нам уезжать Вадим не советовал. В случае войны столица опаснее отдалённых провинций. Просто рекомендовал быть начеку.
– Всё равно не очень понятно. То, что было – было. Но сейчас-то, если мы предупреждены, у нас есть чем защититься от любого врага, ты же знаешь. Я никогда не использовал эти возможности, всегда удавалось обходиться вариантами попроще, но если вынудят… Кроме того, всегда есть возможность уйти… Далеко, в общем.
– Я не знаю, – повторила Майя, – как вам следует поступать. Просто выполняю поручение…
У неё имелся кое-какой опыт оперативной работы, ещё когда она, так сказать, подрабатывала в качестве полевого агента у отца в Бюро Специальной государственной информации, организации сугубо секретной, занимавшейся вопросами, которые по той или иной причине нежелательно было доверять Министерству госбезопасности. Так что дилетанткой Майя не была.
– Но сама думаю так – вся беда в том, что ни ты, ни кто-нибудь другой не в состоянии находиться начеку двадцать четыре часа в сутки и непрерывно озираться и прислушиваться. Ты можешь подстраховаться от уже известной и понятной опасности, но…
– Как-то, хм (он чуть не ляпнул – сто лет, а это для Эвелин было бы уже слишком), достаточно здесь прожил, и не в самые простые времена, – не хотел просто из упрямства соглашаться с Майей Валентин, хотя и понимал, что в принципе она права.
– Не равняй грешное с праведным. Не мне тебя учить. Сегодня, насколько я знаю, «красная черта» давно перейдена. Потому тебе и посылают такое «усиление». Вот они могут нести службу и сохранять бдительность круглосуточно. С нами «у Кшесинской»[10] пятеро таких два года прожили. Никаких проблем и никаких претензий…
– Ну, допустим. А заодно также круглосуточный присмотр. Шаг вправо, шаг влево…
– Если бы так, к тебе «охрану» надо было приставить сразу после… Однако ж нет. Значит, не в тебе фактически дело.
Эвелин надоело слушать разговор, в котором она снова мало что понимала. То есть понимала прямой текст, а все вторые и третьи смыслы, разумеется, упускала. Лихарев её в подробности своих занятий не посвящал, за исключением самых приблизительных и поверхностных сведений. Да она и не настаивала, француженка ведь, не русская, та бы в первые же дни с живого не слезла, пока не выяснила всё, до донышка.
Поэтому она решила перевести разговор на более интересную и, как ей казалось, важную тему. Начала расспрашивать Майю о роботах. Откуда они вообще взялись, каким образом могут произвольно менять специализацию, как именно получилось, что за всё время их знакомства ни Майя, ни Татьяна даже не обмолвились, что их великолепно вышколенные и превосходящие любого эталонного слугу из мировой литературы и драматургии – никакие не люди. И как, наконец, сочетается общепланетный уровень вычислительной техники и, так сказать, «интеллектроники» с бытовым использованием (и только ими) абсолютно человекоподобных механизмов. Даже не в технической начинке дело, во внешности и манере поведения. Она ведь специалист не из последних, и именно по межличностным коммуникациям, она бы сразу заметила фальшь, пусть эти «роботы» изображают не французов, а русских…
Переглянувшись с Валентином (в том смысле, что «давай я отвечу, у меня эмоционально убедительней получится»), Майя подошла к балюстраде, оттолкнувшись руками, ловко на ней уселась боком, не боясь пропасти за спиной, сплела ноги у щиколоток, достала сигарету. Валентин предупредительно поднёс ей огоньку.
С минуту Ляхова смотрела на панораму гор, на вереницу курортников, потянувшихся по лестнице в сторону целебных источников. Она не была психологом, как Эвелин, но с времён своей спецслужбы умела великолепно конструировать, причём экспромтом, легенды, гораздо более правдоподобные, чем скучная проза жизни. Валентин, поняв, что требуется для убедительности и полноты образа, подал ей бокал вина, как лектору на кафедре непременный стакан воды или холодного чая.
С видом, будто сообщает величайшую тайну, Майя поведала, что есть у известных Эвелин Ляхова и Тарханова начальник, приближённый к самому Императору, и вот этот начальник, имя которого всуе упоминать нет необходимости, в довольно давние времена каким-то образом вступил в контакт с инопланетными пришельцами. Что там было и как на самом деле, никто не знает, но тот человек, возможно, за какие-то услуги, получил доступ (или – награду) к оставляемым пришельцами при улёте с Земли (возможно – за ненадобностью) артефактам, в том числе и к самовоспроизводящимся роботам, которых можно программировать и для исполнения всякого рода человеческих, а не только инопланетных функций.
Вот благодаря своему служебному положению в императорских тайных канцеляриях флигель-адъютант Ляхов и Герой России Тарханов получили право (как получают право на служебный автомобиль или персональную охрану) пользования этими и кое-какими другими возможностями, составляющими государственную тайну высоких степеней. А сейчас за оказываемые Его Величеству услуги такого права удостоен и статский советник Лихарев. Так, слегка произвольно, Майя интерпретировала звания, которые Валентин носил на сталинской службе.
Эвелин слушала, в буквальном смысле раскрыв рот. Её европейский менталитет ещё недостаточно перестроился, чтобы скептически относиться ко всем тем байкам, что можно услышать в России от самых серьёзных и заслуживающих уважения людей. Во Франции отчего-то, при наличии вполне развитой литературной традиции, не появилось поговорки, аналогичной русскому «Не любо, не слушай, а врать не мешай!».
Майя в глазах Эвелин заслуживала полного доверия и за свои личные качества, и исходя из положения мужа и отца, поэтому рассказ её восприняла с абсолютным доверием, только по ходу весьма эмоционально демонстрировала своё удивление и восхищение. Последнее – тем, что и она с Валентином тоже приобщены к «сильным мира сего». До этого она была всего лишь княгиней, а теперь вознеслась в собственных глазах несравненно выше.
Лихарев несколько раз по ходу Майиной «саги» показывал ей из-за спины Эвелин жестами и мимикой полное одобрение, заодно и опрокинул две или три рюмочки.
Отлично всё получилось. Вроде как совершенно случайно он избавился от необходимости каждый раз изыскивать объяснения для многих своих поступков и случайных проговорок. Отныне можно ни о чём не беспокоиться, в случае необходимости значительно возводя глаза к небу или потолку и прикладывая палец к губам – остальное Эля сама додумает.
Да и наличие в полном своём распоряжении аж трёх роботов, возможности которых Валентин вполне представлял, не могло не радовать.
Глава вторая
– Спасибо за лекцию, – с лёгкой иронией в голосе сказал Лихарев. Но тут же и поправился, чтобы ещё больше Эвелин с толку не сбивать. – Очень ты доходчиво всё по полочкам разложила. Мне и утруждаться больше не придётся, если что, Эва сразу к тебе обращаться будет…
– Да я-то что, я всегда пожалуйста…
– Но мне всё же хотелось бы знать, какова моя предполагаемая роль в предстоящих событиях. Вадим или кто-нибудь повыше не удосужился разъяснить? А то прямо какой-то сорок первый год получается: «В ближайшее время ожидается нападение противника. Никаких подготовительных мероприятий не проводить, на провокации не поддаваться». Смешно, тебе не кажется?
О каком сорок первом годе говорит Лихарев, Майя примерно представляла, а Эвелин совсем не догадывалась: Валентин не считал нужным грузить её теорией множественности миров и историей каждого из них.
– Что я тебе могу сказать? Что от меня требовалось, я выполнила. Имей в виду – собственный персонал тебе передала. А когда смену пришлют, я не знаю, так что всего двумя «помощниками» нам с Татьяной обходиться придётся, – в голосе её прозвучала искренняя обида, они действительно привыкли к бóльшему количеству слуг невиданной здесь квалификации.
– Придётся самому разбираться. Не люблю непонятностей, особенно в подобных делах. Вы подождите меня немножко, надеюсь, не заскучаете…
Валентин удалился в свой кабинет-мастерскую, какой оборудовал в каждом своём обиталище, не доверяя ни внешнему спокойствию нынешних мест, ни современным охранным системам. Кроме аппаратуры, он ничем особенно не дорожил, даже значительную часть «золотовалютных резервов» держал не в банке, а дома, в металлокерамическом сейфе, недоступном ни талантам взломщиков любых квалификаций, ни взрывчатке в безопасных для самого грабителя количествах. Что же касается мастерских, он ставил их так, чтобы проще было здание срыть с лица земли и по кирпичику разобрать, чем до внутренностей бетонно-стального бункера обычным образом добраться. Прошлый раз захватившая пятигорский дом команда, включая Новикова, Шульгина, девиц и прочих нечеловеческих помощников, сумела Валентина живьём взять только потому, что Левашов внутри подвала раньше него оказался. А то бы и они ловили конский топот[11].
Стало бы Лихареву лучше или хуже, сумей он тогда уйти, – отдельный вопрос, но теперь и к повторению предыдущей уловки он был готов. К охранной системе были добавлены ещё кое-какие технические средства, чтобы и инопланетному существу со способностями не слабее аггрианских очень бы не по себе стало в этой «комнате Синей бороды», как он называл свою мастерскую, имея в виду присутствие в доме Эвелин. Но она-то броневую дверь шпилькой для волос открывать не станет, особенно если муж не велел, а любому другому подземелья египетских пирамид за курорт покажутся, в случае чего[12].
Он уже приблизительно догадывался, зачем передача ему роботов была обставлена таким образом, но уточнить не вредно.
Выходило так, что «братья» опасаются возможного перехвата их контакта с Лихаревым какими угодно службами, причём земными – в последнюю очередь. Дуггурами, скорее всего, пусть те и не давали о себе знать уже почти два года. (Здесь, впрочем, не подавали.) Незасвеченная боевая единица им нужна, и не входящая в круг внимания дуггурских стратегов территория на всякий пожарный случай. В буквальном, а не идиоматическом смысле.
С помощью имеющейся аппаратуры Валентину не составило труда выйти на московскую городскую АТС, а уже через неё – на телефон Ляхова – Секонда, и если бы кто связь полковника отслеживал, узнал – звонок производился с уличного телефона-авомата неподалёку от Сретенских ворот.
Вадим снял трубку уже на третьем гудке.
Поздоровались. Лихарев как бы из простой вежливости сообщил, что «соседка» только что заезжала и «посылочку» передала, за что господину полковнику горячая благодарность.
– Только не совсем понял, для чего это всё и следует ли данный «гостинец» понимать, как призыв из запаса. Если да – то смысл?
У Ляхова телефонная связь просто по должности была заведомо защищена от всяких прослушек, если только вообще весь информационный обмен в стране не находится под постоянным контролем. Такое, в принципе, тоже возможно, но всё-таки маловероятно. Однако Валентин не пренебрегал и самыми примитивными способами кодировки. Не помешает. Многих именно «прозрачность» шифра с толку сбивает. Обязательно ищут высших смыслов в самой примитивной телеграмме типа: «Харькове Арзамасе Минске индюку давайте исключительно овёс толокно»[13].
– Да, камрад, именно так всё и следует понимать, – ответил Ляхов. – Тут не моя инициатива, один любитель длительных морских путешествий подсказал…
Лихарев понял, что речь идёт о Воронцове. Он действительно вправе принимать любые решения по своему усмотрению, особенно в отсутствие поблизости остальных «братьев». А уж чем руководствуется…
– Так, может, мне прямо с ним связаться? Есть вполне безопасные способы.
– Твоё дело. Но если б он хотел, он бы так и сделал, а раз нет… Думаю, нужно будет – инструкции поступят. У меня лично есть мнение, что тут просматривается какая-то привязка к «Кулибину». Не исключаю, что адмирал имеет в виду с его помощью наш «Крест» сдублировать…
Кулибиным в определённое время служба Тарханова именовала профессора Маштакова, квартировавшего тогда под Пятигорском и занимавшегося конструированием всяческих штучек вроде «Гнева аллаха» по заданию «Чёрного интернационала» и под контролем как раз Лихарева, вёдшего тогда самостоятельную игру на «мировой шахматной доске»[14]. А ещё Маштаков вместе с Удолиным одно время весьма интересовались разработкой надёжной методики поиска стабильных «кротовых нор», то есть природных каналов, связывающих разные времена и пространства в пределах Земли. По типу Уральского тоннеля и того, что вывел Секонда с Фёстом из Палестины в Новую Зеландию и на сотню лет назад.
Мысль показалась Лихареву интересной, особенно в свете того, что Маштаков давно и успешно служит под контролем императорского Управления спецопераций. И выходит, что господин флигель-адъютант темнит, выдавая за собственную догадку то, что ему должно быть достоверно известно. Или – не он темнит, а Воронцов, собираясь ввести Лихарева в игру, реализует собственные схемы прикрытия…
– Ясно, что ничего не ясно, – туманно выразился Валентин, уходя в сторону от темы, деликатно обойдённой Секондом, сказавшим при этом вполне достаточно. – Ну, тогда пусть те, у кого зарплата больше, сами думают. Второй вопрос – насчёт партии в бридж с ребятами с туманных островов. Насколько это серьёзно, из Москвы глядя.
– А разве ты по своим каналам не интересовался? – спросил Вадим, зная о подлинных возможностях Лихарева, именно для таких дел и сидевшего на Земле скоро сотню лет.
– Не поверишь – нет. Я обещал не вмешиваться ни во что – вот и не вмешиваюсь. Мне и так неплохо, а станет хуже – есть куда переместиться. Вот только то, что в здешних газетах для курортников пишут, и читаю. Даже не каждый день…
Лихареву показалось, что его слова несколько озадачили Ляхова. Ну и пусть. Парень вообще многовато о себе воображает, и после стычки, связанной с несанкционированным использованием системы СПВ[15], Валентин с ним вообще избегал дел «Братства» касаться, хотя и встречались семьями время от времени, куда же от этого денешься.
– Очень даже серьёзно. Самая что ни на есть полномасштабная война на пороге, только все делают вид, что взаимно блефуют, ждут, кто первый карты на стол бросит. Но на самом деле обратного хода уже нет. Слишком тут много факторов и интересов завязано. Как в июле четырнадцатого. Мир созрел… Раздолбать-то мы их раздолбаем, да ещё с помощью «соседей», но мясорубка будет знатная…
– И зачем вам это надо? В моё время товарищ Сталин, пожелай он этого – и сотня Меркадёров[16] задачу выполнила бы точно и в срок. И все Судоплатовы, Эйтингоны и Заковские лично у меня по «Особой папке» проходили, только команды ждали…[17]
– Чего же тогда сорок первый год приключился? Нельзя было теми же методами предотвратить? – с определённым ехидством осведомился Ляхов.
– А это опять не ко мне вопрос. Я бы предотвратил, если б команда прошла. Команды не было, да и меня там давно уже… Другие люди решили партию по-другому разыграть, в итоге вместо полусотни человек пятьдесят миллионов угробили. Это не ко мне, – повторил Валентин. И говорил он совершенно искренне. – Оставайся я возле Сталина в прежней должности и получи нужный приказ, спокойно, к примеру, в Мюнхене[18] всем фигурантам с той и другой стороны ДТП организовал, взрывы бытового газа и оч-чень недоброкачественные салатики к столу подал… И кто бы тогда Судеты подарил и кому, кто бы будущую мировую войну начал?
Тут он не шутил, организация серии красивых терактов отняла бы у него не больше недели. После чего планету наверняка ждали лет десять сравнительно мирных лет. И даже без помощников обошёлся бы, всё – своими руками. Другое дело – те же Сильвия с Дайяной подобных инициатив у подконтрольных координаторов не поощряли. «Доктор сказал – в морг, значит, в морг». Возможно, и потому всего двумя месяцами раньше Мюнхена Лихарев из того судьбоносного года ушёл, предпочёл бестолковые и опасные тридцатые годы ХХ века тихому и уютному началу двадцать первого века. Да ещё несколькими реальностями дальше от исходной, предоставив мёртвым, как сказано в Библии, «самим хоронить своих мертвецов».
Судя по молчанию Ляхова по ту сторону провода, слова Валентина его не то чтобы удивили, но…
На самом ведь деле – по лихаревскому варианту уже сегодня можно решить проблему и завтра с утра приступить к очередным задачам по «Мальтийскому кресту».
– Ну, товарищ, ты тоже вопрос не ко мне адресуешь. И даже Императора теперь переубеждать бессмысленно. Он решил Англию на век вперёд по уши в землю вбить и от этой идеи не отступится…
Сам Вадим был бы стопроцентно за лихаревскую идею. Он хоть и военный человек, которому где и когда ещё, как не на хорошей войне, себя проявить. Но… Он ведь успел стать не только приличным генштабистом, но и царедворцем, то есть в определённой мере государственным деятелем. Догадывался, или нутром чуял, что веком спустя запущенная, успевшая подзаржаветь мясорубка может и не выключиться согласно программе, а так и пойдёт крутить, как другая, из параллели, заработавшая в четырнадцатом да толком больше вообще не остановившаяся. Пусть и не в его мире это было[19].
И сейчас Вадиму подумалось – а не взять ли на себя историческую, так сказать, роль? Попытаться лично тоже переиграть историю, но не постфактум, как его старшие товарищи это неоднократно совершали, а превентивно. Тем более у него вдруг появился совершенно неожиданный союзник. По крайней мере, ещё несколько минут назад он Лихарева в этой роли не видел.
– Слушай, Валентин, – сказал он, – а ведь ты, на мой взгляд, дело говоришь. Я бы с тобой в комплот вступил. Только кто я есть? Что по одной жизни, что по другой. Фёст, тот у себя покруче устроился: вместо Президента американцам свои условия диктует… А я? Знаешь, наверное, стоило бы, если ты всерьёз говоришь, с адмиралом все обсудить…
При этом Ляхов, по обретённой вращением в высших сферах привычке, умолчал, что у него самого уже имеется договоренность с Воронцовым о совместных действиях без санкций с ныне отсутствующей верхушки «Братства», и даже не ставя в известность Фёста.
«Если мы в сфере внимания Ловушки сознания, то внезапность и несогласованность действий поднадзорных способна лишить её позитивного целеполагания и в итоге просто вывести из строя…» Примерно в этом роде выразился в одном из разговоров с Секондом Дмитрий Сергеевич. Поначалу Вадиму казалось странным и недостойным конспирироваться от Фёста, от самого себя фактически, а потом, немного подумав, согласился с Воронцовым. На самом деле, хоть Ловушке, хоть мыслящему существу куда труднее будет планировать свои акции, если считающаяся единой коалиция начнёт вдруг вести себя непредсказуемым и не поддающимся логическому обоснованию образом. Как если бы каждый футболист команды противника начал играть в свою, причём неизвестно какую игру – кто в регби, кто в гандбол, а кто-то по-прежнему в футбол, но американский, с единственной целью – загнать мяч в ворота противника, не считаясь при этом с человеческими жертвами. И не было бы на поле арбитров, чтобы это безобразие прекратить.
А самому «Братству» такая вакханалия как бы и без разницы, поскольку никаких позитивных целей у него с самого начала не было, за исключением собственного выживания и, во вторую очередь, поддержания окружающих реальностей в приемлемом для жизни состоянии.
Что же касается теперешнего предложения Лихареву встретиться с Воронцовым, так прошлый конфликт у Валентина с Ляховым приключился как раз из-за того, что Вадим требовал устроить ему канал межвременной связи с пароходом, находившимся в двадцать пятом году югоросской реальности, а Лихарев отказывался, ссылаясь на прямое указание Левашова не лезть больше во внепространственные и любые другие дела «Братства». А теперь, значит, как бы и наоборот получается.
– Мне что. Могу. Прямо сейчас. Только я, как и тогда, буду на твоё указание ссылаться, – засмеялся Валентин. – Мне ведь прежнего табу никто, кроме тебя, не отменял…
– Давай, ссылайся.
– Значит, схожу. На море посмотрю, пива дарового выпью. Твою Майю как, в Кисловодск под охраной отправить или с собой прихватить?
– Это уж как она сама захочет.
– Лады. Тогда – до побачення…
По-прежнему страхуясь от «всеволновой» пеленгации с последующим немедленным ударом по вычисленному местоположению боевыми медузами (хватит, один раз уже взглянули «глаза в глаза»[20]) или чем-то похуже, Валентин решил действовать по примитивной, но действенной партизанской тактике. Выйти на связь внезапно, из неожиданного места, и тут же сменить дислокацию, быстрее, чем наблюдатели успеют вообще отреагировать на твоё появление в эфире.
Он оставил женщин болтать на интересные для них темы, а сам спустился на нижний двор (участок имел ступенчатую форму и состоял из двух уровней – внизу хоздвор с гаражом и «службами», как эти строения по-прежнему здесь назывались, а наверху – собственно дом и сад для отдохновений). Такая планировка позволила заодно устроить под верхним уровнем солидный железобетонный бункер в сотню квадратных метров площадью, хорошо заглублённый в гору. Как Лихарев шутил – нужно же где-то лопаты хранить.
Возле гаража велел, входя в роль барина, уже освоившемуся на новом месте Варягу приготовить машину к не слишком долгой поездке, то есть припасов и запас бензина не брать, но оружием озаботиться, и показал, где хранится его арсенал. Андроид, знакомый с оперативной обстановкой на КМВ, полномасштабных боевых действий в ближайшее время не предполагавшей, кроме двух револьверов «Смит-Вессон» выбрал короткие, издалека смахивающие на обрезы гладкоствольные «Снайдеры» десятого калибра с подствольными магазинами на пять патронов. Обычному человеку такое ружьё почти ни к чему, охотиться из него – только на гризли или пещерного медведя, причём из засады, да и не каждый стрелок его вообще в руках удержит при выстреле[21]. Как шутили знатоки и ценители, «стрелять из этого ружья может только тот, кто хорошо освоил заднее сальто».
Но у Лихарева силы было побольше, чем у чемпиона мира по штанге, при весьма аккуратной спортивной фигуре скорее теннисиста или фехтовальщика, чем тяжелоатлета, и отдачу он переносил легко, а роботу вообще без разницы – он мог бы и из ПТРС[22], как из обычной винтовки, стоя стрелять.
Зато на дистанции до полусотни метров «Снайдер» по эффективности, убойности и психологическому воздействию превосходил любое ручное огнестрельное оружие. Если стрелять экспансивной пулей, а ещё лучше – полукартечью. Типичная «окопная метла» по терминологии Первой мировой войны.
Баяну он приказал за время своего отсутствия приготовить на себя и «товарищей» полные комплекты всех нужных документов, включая всякие рекомендательные письма от прежних хозяев, квалификационные удостоверения по самому широкому спектру профессий и тому подобное. Нужное оборудование в мастерской Валентина имелось. Новые имена и фамилии для всей команды он назвал почти не задумываясь. Баян – Борис Абрамович Годунов. Варяг – Василий Иванович Шуйский. Диана пусть так и остаётся – Диана Петровна Лесная. Очень остроумно и изящно получилось.
Выехали на обычном для этих мест полноприводном и чрезвычайно проходимом, на уровне лёгкого гусеничного транспортёра, «Тереке» производства Владикавказского завода для нужд горно-егерских войск и просто охотников, рыболовов и любителей экстремальных кроссов по сильно пересечённой местности.
Через час по грунтовкам и накатанным горными мотоциклистами тропам заехали в такую глушь, что случайный человек «из столиц» и не поверил бы, что совсем рядом – фешенебельные курорты мирового уровня. Горный Алтай какой-то, да и только.
Остановились. Валентин сел на подножку, закурил и велел Шуйскому просканировать окрестности на предмет наличия стандартных и нестандартных излучений – электромагнитных и любых других, доступных его органам восприятия. Смысла во всех этих предосторожностях вроде бы и не было, сам Лихарев и все остальные контактёры с неведомым знали, что защититься от бесчисленных порождений Гиперсети просто невозможно. Куда ты денешься, скажем, от специально для тебя созданной Ловушкой псевдореальности? Или отмены закона причинности? Наконец, от так называемой выдирки, когда объект извлекается из реальности так, что и малейшего рубца на ткани континуума не остаётся, и какой-либо памяти об этом человеке ни в человеческих мозгах, ни в иных носителях информации.
Но тем не менее никакими доступными мерами безопасности «братья» предпочитали не пренебрегать. Пусть нам неизвестен, к примеру, возбудитель рака, но это же не повод позволять кусать себя переносчикам малярии или риккетсиозов.
Всё вокруг в радиусе двух десятков километров было в пределах нормы. Даже никаких работающих электроприборов не фиксировалось. Тогда Валентин настроил свой блок-универсал для прямой телефонной связи с «Валгаллой». Сигнал причудливым образом через атмосферу, до ближайшего телефонного узла, потом по проводам прошёл в здешний Петроград (второй раз Лихарев не хотел даже таким образом фиксироваться в памяти Московской АТС) и уже оттуда через какие-то эфирные слои и временной барьер – на одну из мощных длинноволновых радиостанции Югороссии. Только с её антенн вызов достиг находящегося в Атлантическом океане несколько ниже экватора парохода.
Если подобный путь кто-то в состоянии отследить, тогда Валентин без возражений сдаст свой, условно говоря, диплом аггрианского координатора аж второго ранга. По крайней мере, за всю его предыдущую деятельность подобного не случалось, а методики разрабатывал и внедрял он сам, наделённый, в отличие от прочих аггрианских агентов, весьма приличными способностями изобретателя-рационализатора. А также моделиста-конструктора. Вполне мог бы публиковаться в советских журналах с этими названиями.
Ответил Воронцов, поначалу вообразивший, что кто-то научился в этом мире выходить на микрофонную связь с длинноволновых станций на коротковолновый приёмник. И был несколько удивлён, когда Лихарев назвал себя и объяснил, откуда и как говорит.
– Что это у тебя за фокусы? Раньше я о таком даже и не слышал.
– Ну и слава богу. У всех должны быть свои маленькие секреты. Можешь меня прямо сейчас отсюда выдернуть, с минимальным расходом времени, энергии и колебания эфира? На две секунды приоткрой дырочку, чтобы я быстренько, бочком проскользнул.
– Да сделаю, не вопрос. Минут пять подожди, я специалиста вызову и проинструктирую. С места не сходи…
Валентин закурил вторую папиросу и успел дать наставления Варягу – сидеть возле машины, с посторонними людьми здешней реальности, буде такие случайно появятся, вести себя дружелюбно, но отстранённо, в общем – по обстоятельствам. Если он не вернётся через… – Лихарев посмотрел на часы, – через пять часов, ехать домой и сообщить хозяйке, что непредвиденные обстоятельства потребовали его отлучки в безопасное, но отдалённое место. На неопределённый срок. Так уже бывало, она поймёт, тем более там с ней сейчас госпожа Ляхова. Служить госпоже Елене, как самому «хозяину», поддерживать постоянный контакт с Ляховой, Любченко и их оставшимися роботами. Вот пока и всё.
– Готово, – услышал он голос Воронцова из динамика блок-универсала. Впрочем, называть это динамиком не было никаких оснований. Деталь внутри портсигара, размером чуть больше макового зёрнышка, воспроизводила звук качественнее любого земного устройства. Но совсем уже необъяснимо было то, что при необходимости звуковая волна могла как бы «останавливаться» или «рассеиваться» точно на заданном расстоянии, будто упираясь в звукопоглощающую стену, и стоящий буквально в двух шагах человек не слышал ничего, в то время как владелец хоть вагнеровской оперой наслаждался.
Ещё через секунду прямо перед Лихаревым сиреневая рамка обозначила проход, не превышающий размерами горловину лодочного люка между отсеками. Валентин с ловкостью старого подводника скользнул в него, и переход тут же закрылся, как ничего и не было, даже без обычного, сопровождающего перенос массы хлопка, настолько чётко робот-оператор всё настроил.
– Ну, с прибытием, камрад, – сказал Дмитрий, потягивая руку для пожатия. – Кто это тебя там так напугал?
– Вы же и напугали, кто ещё? – усмехнулся Лихарев, с удовольствием и интересом осматриваясь. Ему ещё не приходилось бывать на знаменитом, а также и пресловутом пароходе, тёзке планеты Валгалла-Таорэра, о котором был много наслышан.
Впрочем, именно здесь, в отсеке поста управления главной, самой мощной и технически совершенной установкой совмещения пространства-времени, смотреть было особенно не на что. Стальные, выкрашенные шаровой краской стены, несколько панелей управления почти обычного вида, четыре небольших экрана, как у старых чёрно-белых телевизоров, и один громадный, во всю глухую переборку, в выключенном виде зеленовато-серый. Если бы не он, помещение можно было принять за гидроакустический или радиолокационный пост. Тем более два оператора, один с погонами царского старшего лейтенанта, второй – кондуктóра[23] на одинаковых синих рубашках с короткими рукавами, сидевшие за пультами управления, дополняли картину до полного реализма.
Сам же Воронцов, как всегда «вне строя», был в лёгких светло-голубых брюках и белой рубашке. Вместо адмиральских погон на углах воротника по паре маленьких золотых двуглавых орлов с алмазно-рубиново-эмалевыми коронами[24]. Сильно загорелый и совсем не изменившийся с момента последней мимолётной встречи. Валентин между делом позавидовал Дмитрию. Он сам с детства привык носить какую-нибудь форму и сейчас жалел, что лишён такой возможности. «Надо бы походатайствовать, чтобы вернули право хотя бы на прежнее звание», – подумал он. У Сталина он носил любую форму с любыми знаками различия, на своё усмотрение и зависимо от обстановки, но в личном деле значился бригадным комиссаром, что равно как минимум капитану первого ранга, если на флотские чины переводить.
– Пойдём, расскажешь. Послушаю с интересом, – предложил Воронцов, открывая перед гостем стальную дверь, за которой виден был уже не узкий, почти отвесный трап военного корабля, а вполне себе пологий, дубовый, с балясинами и даже ковровой дорожкой, пристойный фешенебельному круизному лайнеру.
Они поднялись на семь маршей, после чего оказались в просторном тамбуре, из которого застеклённые двери вели в сквозной, через всю надстройку коридор кают второго класса и в два сравнительно коротких боковых ответвления, выходящих на верхнюю, она же главная прогулочная, палубу. Широкую и на всю длину двухсотметрового корпуса, от юта до волнолома и брашпилей на баке. По ней можно спокойно совершать почти полукилометровый променад вокруг всей надстройки, по пути подкрепляя силы в многочисленных буфетах и барах, а женщинам – отводя душу в имитирующих московские Верхние торговые ряды или петроградский Пассаж лавках и, по-иностранному выражаясь, бутикáх. Они и здесь имели место, только непонятно, для кого. Скорее – просто для настроения. Или разве редких гостей, вроде тех же валькирий, позабавить. Соответственно, и приказчиков с буфетчиками в них не было, заходи и бери, что надо. Полный коммунизм.
Валентин вдруг подумал, что, если всё с его планом получится, гостей на пароходе может и прибавиться. Весьма и весьма.
Погода за бортом не радовала. Хоть и южные моря, а сильно походило на Северную Атлантику. Туман, мгла, ветер, тот, что у моряков называется «свежий», срывающий пену с гребней волн. И волнение баллов пять, для «Валгаллы» как судна не слишком чувствительное, килевая качка – ещё заметна, а бортовой почти и нет, но штатские пассажиры в таких случаях массово не выходят к ресторанному столу, занимаясь делом совсем противоположным. Но у Лихарева вестибулярный аппарат был в полном порядке, он и двенадцатибалльный шторм на скорлупке вроде колумбовой каравеллы перенёс бы без неприятных последствий.
Моментами со стороны не слишком далёкой, а главное – ни единым клочком земли не отгороженной Антарктиды приносило почти горизонтальные дождевые заряды, звонко ударявшие в зеркальные стёкла и металл надстройки. Мутные струйки, бегущие вниз по окнам и иллюминаторам, невольно заставляли поёживаться. Без штормового облачения на открытые места лучше не выходить, если нет острой необходимости.
– Видишь, погодой не могу побаловать. И обедом на свежем воздухе.
– А мне нравится, – искренне сказал Валентин. – Чем мерзостнее снаружи, тем уютнее в тепле, под крышей и перед панорамным окном. Так что я не в обиде. Есть где посидеть, на буйство стихий любуясь?
– Вот с этим – никаких проблем…
Так же неспешно (лифты по причине непогоды всё равно отключены) они поднялись ещё на две палубы и прошли далеко вперёд, в отсек прямо под ходовым мостиком, где обнаружился уютный – хоть бар, хоть трактир, как угодно назовите – всего на четыре столика и с музыкальным автоматом, стилизованным под конец сороковых годов. Массивным, красного дерева, с пачкой «долгоиграющих» – на полчаса звучания каждая! – виниловых пластинок в застеклённой нише. Найдёшь название мелодии в списке на передней панели, кинешь пять копеек или пять центов, нажмешь кнопку – и наслаждаешься.
Вид через передние окна, прямо по курсу, производил отсюда должное впечатление. Поднявшийся на гребень очередной волны форштевень «Валгаллы» вдруг проваливался вниз, и белые потоки вспененной воды заливали верхнюю палубу далеко за высокий «V»-образный волнолом. Непривычному человеку в такие моменты казалось, что пароход больше вообще не выпрямиться, так и продолжит своё движение вниз и вниз, как подводная лодка, выполняющая маневр «срочное погружение».
А привычному – вполне ничего. В положенное время форштевень поднимается, стряхивая в шпигаты потоки воды и пены, судно всходит до середины корпуса (миделя, попросту говоря) на очередной гребень, будто бы балансирует так секунду-другую и снова соскальзывает, как санки с горки, прямо в глубокую, густо-бутылочного цвета ложбину. На удивление – почти беззвучно. Впрочем, это отсюда так кажется, а если рискнуть пробраться до самого волнолома, впечатление будет совсем другое. И грохот там такой, что от инфразвуковых колебаний внутренности начинают резонировать самым отвратительным образом.
– Красота! – со всей искренностью воскликнул Лихарев, пожалев, что в своё время попал в Пажеский, а не в Морской корпус. Всё могло бы сложиться иначе, и не пришлось бы Сталину прислуживать. Ушёл бы в двадцатом году с флотом в Бизерту, а там нашёл бы себе занятие «на морях и волнах». Не хуже Воронцова мог бы адмиралом стать, разве что не российского, а какого-нибудь другого флота.
– Возьми меня к себе старпомом, – неожиданно предложил он. – Или хоть старшим механиком. Тебе с твоими роботами тоскливо небось… И Наталье Андреевне в лице моей жены компаньонка будет.
– Скажем, ты о моей жизни не совсем верное представление имеешь. От одиночества мы тут особенно не страдаем. А тебе что, на берегу совсем надоело?
– А ты как думаешь? Меня всё же не на рантье учили. Я, по-твоему, зачем с Дайяной в разные авантюры пустился? Исключительно от скуки. Затем же по три раза в год на игорные дома мира набеги совершаю и на сафари в ЮАС и Кению мотаюсь…
– Так наймись к Катранджи в помощники – куда как весело станет. Особенно когда события начнутся. Он, думаю, возражать не станет.
– Я так понял, вы для меня уже работёнку подыскали, судя по сегодняшнему визиту юной дамы…
Два робота-вестовых тем временем споро, с мастерством официантов знаменитейших ресторанов выставили на столик приборы (малый обеденный набор), не спрашивая гостей (всё и так давно известно), принесли закуски – умеренно холодную водку, анчоусы и массу всяких иных морепродуктов, подходящие по сезону и вкусовой гамме овощи.
– А где же супруга? – удивился Валентин. – Желал бы, как говорится, предстать, лично засвидетельствовать и так далее…
– Успеешь ещё. Пока у нас тет-а-тет вроде бы. Давай, приступай, проголодался, наверное…
Что неоднократно отмечали все, кому приходилось пользоваться внепространственными переходами, – при каждом организм странным образом за короткие секунды, не производя никакой видимой работы, терял огромное количество энергии. Будто бы человек с полной солдатской выкладкой пробегал штурмполосу для бойцов спецназа. Внепространство, наверное, силы высасывало. Всего за секунды какие-то. А если чуть подзадержаться?
Вот и сейчас Лихарев, увидев накрытый стол, ощутил едва сдерживаемое желание немедленно начать поглощать белки, жиры и углеводы. В неумеренных количествах. Следует отметить, что гомеостат в данном случае совсем не помогал, скорее наоборот – подталкивал своего владельца к скорейшему пополнению дефицита жизненных сил. А вот в случае массированной потери крови, например, находил способ немедленного её устранения без участия хозяина. Из атмосферного воздуха и солнечного света. Парадоксы, парадоксы, куда от них денешься…
Но и от дворянского воспитания в корпусе тоже никуда не денешься, там юных пажей с восьми лет учили вести себя прилично в любых обстоятельствах, правильно есть, спать в определённой позе и тому подобное. Поэтому Лихарев ни единым жестом, даже мимикой не выдал своих истинных желаний, принялся выпивать и закусывать крайне сдержанно, не торопясь и понемногу.
– И всё же, Дмитрий Сергеевич, ты мне ответь, в чём необходимость столь срочного приставления ко мне охраны? Или – конвоя? В любом случае, стоило ли молодую даму гнать ни свет ни заря за сорок вёрст с вполне рядовым поручением? Я ж, как ни крути, подобными штучками начал заниматься задолго до рождения не только тебя, но и твоего папаши. Так что не темни. В чём, как говорится, суть и цена вопроса?
– Насчёт срочности – не совсем ко мне вопрос. Это, как я понимаю, не более чем накладка. Или, попросту – ефрейторский зазор. Сказано было, что пришла пора тебя к делу привлечь, поскольку обстоятельства того требуют, ну и «помощниками» снабдить немедленно, поелику времена грядут непростые и промедление на самом деле может оказаться смерти подобно. Это я говорил и за это отвечаю. А вот то, что Майя с ними лично поехала, – не знаю, со мной не согласовывали. Или Вадим что-то надумал, или её личная инициатива. Вдруг захотела с твоей женой без свидетельницы пообщаться? Или тебя на что-то раскрутить. Зная эту барышню – не исключаю…
– Не смею возражать. Война, до которой тамошние господа допрыгались, имеет все шансы перерасти в мировую. Мы-то в курсе, как оно бывает…
– Ну, такого мы точно не допустим, вопрос прорабатывается. Но вот проучить англичан, как мы в своё время шведов, чтоб лет на триста отбить охоту заниматься чем-нибудь, помимо розничной торговли, император Олег настроен категорически. И помешать ему крайне сложно, поскольку все козыри – у него. А на нашей стороне – только сила убеждения и абстрактный гуманизм.
– У вас – гуманизм? – рассмеялся Лихарев, несколько делано, впрочем. Поднял только что наполненную вестовым рюмку, сделал ею движение навстречу Воронцову. – Во что другое поверю охотно, только не в это. Другое дело – текущим планам «Братства» мировая война никак не соответствует, с этим соглашусь. Ребятишки ваши резвятся, вижу, но и у них на уме какой-то другой, наверняка ещё более грандиозный план. Они ж уже почти успели вообразить, что вы – старичьё и ретрограды, мыслите и изъясняетесь чуть не на языке Державина. И ты не столько помочь им хочешь с моим участием, как несколько притормозить. Ибо я, в отличие от вас, гуманистов, при необходимости и на роль пугала гожусь. Сталинский сатрап всё же, личный друг Ежова, Берии и Заковского…
– Насчёт Заковского – перебор. Секонд о нём и не слышал, а для Фёста он в тридцать восьмом расстрелян, то ли за дело, то ли за компанию. А в остальном – почти прав. Так за дурака тебя никто из нас и не держал. Не убили в своё время под горячую руку, значит, пора теперь пользу из своей сдержанности извлекать…
Пошутив таким образом, Воронцов сопроводил шутку хорошо в своё время знакомой и матросам, и комсоставу Средиземноморской эскадры и Северного морского пароходства усмешкой, много чего одновременно выражавшей. И в нескольких фразах обрисовал идею и способ воплощения операции «Мальтийский крест», в том варианте, что реализовывался Секондом при технической и психологической поддержке Фёста.
– И ты думаешь, что это «воссоединение» будет так уж хорошо? – приподнял бровь Лихарев. – Я что-то насчёт наших соотечественников, переживших советскую власть, испытываю серьёзные сомнения. Осталось ли в них достаточно чувств, необходимых для налаживания совсем новой жизни? Насколько я знаю, в том варианте, где всемирный социализм рухнул и две Германии слились в братских объятиях, даже спустя четверть века восточные немцы с западными подравняться в психологии и благосостоянии не могут. Хуже того – внуки уже «борцов за объединение» подросли и как-то подозрительно настойчиво твердят, что совершена была историческая ошибка и при социализме, по крайней мере, немцам (ибо он всё-таки их изобретение, а не русское), гэдээровцам жилось лучше, чем в бундесреспублике. Где гарантии, что полтораста миллионов нахлебников из собственно России и столько же из бывших братских республик не сломают совместными усилиями хребет России нынешней? А то как бы мне не пришлось вам гуманитарную помощь оказывать в наведении порядка, прежде всего экономического, приняв на себя обязанности моего бывшего начальника, его друзей и коллег…
Воронцов сразу понял ход мысли Лихарева. А что? Человек с очень хорошим базовым образованием, готовившийся на роль координатора реальностей в величайшей державе мира, постажировавшийся, если можно так выразиться, в ближнем окружении тирана, которого с равными основаниями одни называют кровавым палачом, а другие – эффективным менеджером, в подобных вещах должен разбираться. Почти четыре года прожив в этой реальности, он одновременно весьма глубоко, судя по его словам и действиям[25], вник в дела и проблемы мира параллельного, родного, по всем признакам, для Воронцова и его друзей.
По крайней мере – отличить то, что они называли Главной исторической последовательностью от реальности, где сейчас действовал Фёст, претворяя в жизнь свою долю проекта «Мальтийский крест», без специальных исследований не получалось. Все реперные точки, на которые можно ориентироваться, совпадали до долей угловых секунд. При том, что некоторые разночтения прямо-таки бросались в глаза, не меняя, впрочем, общей картины. И Лихарев в том и другом мирах ориентировался не хуже, чем сам Воронцов – в своих картах, лоциях, секстанах и прочих на то предназначенных принадлежностях штурманского дела.
– А это – интересная мысль, – некоторое время подумав, сказал Дмитрий. – Мешать людям вершить историю мы не будем, как я им и пообещал, возможно, слегка злоупотребив стечением обстоятельств. Но подстраховать – отчего бы и нет. Не зря ведь на флоте в нужные моменты к штатному командиру на военном флоте обеспечивающего приставляют, на торговом – капитана-наставника. Вот давай и мы попробуем. Причём опять же по схеме криптократии. У наших подопечных уже имеются претенденты на названную тобой должность, и с той, и с другой стороны. Одного Чекменёв фамилия, другого – Мятлев. А друг Фёст собирается того и другого курировать…
– Не слишком ли отважно? Из полковых врачей – сразу в серые кардиналы суммарно одной пятой и одной шестой части суши? Это сколько вместе получается?
– Одиннадцать тридцатых, – мгновенно ответил Воронцов, привыкший решать в уме торпедные треугольники, не пользуясь даже логарифмической линейкой, не говоря о калькуляторах. – Тридцать шесть и шесть в периоде процентов, грубо говоря, всей земной суши…
– Я и говорю – многовато для начала.
– Согласен. Пусть они с двух сторон своё дело делают, а мы с третьей зайдём. Хуже точно не будет. А ежели посмотреть свежим глазом, да используя твой опыт, сам по себе эффективный, если без крайностей, отчего бы и нет? Но это – второй вопрос. Первый, ради которого я о тебе вспомнил, – как раз и именно твои связи с Катранджи, с Маштаковым… Тут, знаешь ли, очень неслабая интрига закручивается, причём каждая сторона думает, что её идеи самые верные, а методики – неубиваемые…
– Ну-ка, ну-ка, – заинтересовался Валентин, радуясь, что не ошибся в своих предположениях и прогнозах, то есть нюх не утратил. – А ты, значит, как самый старший товарищ решил некоторое время побыть над схваткой. И тебе потребовался ещё один сравнительно нейтральный партнёр вроде меня. Верно?
– В основном верно. Только о нейтралитете речи не идёт. Для начала я решил проверить, не утратил ли ты былое чутьё. Если б не понял намёка – что ж, выполнял бы другое, не менее важное задание. От него, кстати, я тебя освобождать тоже не собираюсь. Ты на горячее что желаешь? – неожиданно сменил тему Воронцов.
– Да мне всё равно. Можно, чтобы не заморачиваться, тщательно приготовленную отбивную со сложным гарниром. Я ведь к еде достаточно равнодушен. Сам понимаешь – гражданская война, трудные годы восстановления, карточная система. Когда было гурманствовать?
– Знаем, слышали. И как членам политбюро по фунту чёрной икры в день выписывали, и по десять золотых червонцев на усиленное питание… – сыронизировал Дмитрий.
– Ну и зря смеешься. Публика там была разная, половина туберкулёзом болела, вон Свердлову и чёрная икра не помогла, как и многим другим. И что такое пайки даже всех партсекретарей, включая районных, на фоне ста семидесяти миллионов тогдашнего населения? Ну, отними, подели поровну, и что? Меньше чем по грамму даже хлеба на душу прибавка выйдет. Вдобавок и поваров приличных в те годы почти не осталось. Так что, Дмитрий Сергеевич, так оно и выходило на круг, как в рассказике для школьного чтения – «Картошка с салом»[26]. В «Метрополях» другая публика веселилась, или в ресторане Дома писателей, как у Булгакова описано… И Алексею Толстому за его обед на картине Кончаловского никто претензий не предъявлял.
– Ладно, не о том мы заговорили. Я тоже всякие пайки видал, включая так называемую «штормовую запеканку».
– Это ещё что? – заинтересовался Лихарев.
– Это когда в хороший шторм половина экипажа, включая кока – в лёжку. А которые ещё есть хотят, до камбуза кое-как добираются, что смогут из наличия продуктов в котёл покидают, а потом что не сгорит и не выльется – она самая и есть.
– Ясно. Итак?
– Видишь ли, до вчерашнего дня я ещё колебался – не пустить ли всё снова на произвол судьбы и действительно удалиться «под сень струй», как мы в самый первый раз на Валгаллу. Благо все возможности у нас к этому и сейчас есть…
– А что, Новиков, Шульгин, Левашов и т.д. уже удалились? Давненько я о них ничего не слышал…
– Не совсем так. Первые трое со своими подругами и несколькими добровольными помощниками занимаются сейчас исследованием Земли номер два, отделившейся от Главной исторической тысяч двадцать, если не больше, лет назад, в общем, ещё до «неолитической революции», исконной колыбели пресловутых дуггуров. В целях нахождения первопричины всего творящегося на Земле этой безобразия. Не слышал, когда учился, у вас на эти темы разговоров не проскакивало?
– С нами, к твоему сведению, в отличие от подобных земных заведений, комсостав никаких приватных разговоров не вёл. И газеток посторонних взять негде было. В увольнения не пускали, и торговли соответствующей за забором не имелось, – стараясь придать тону некоторую ядовитость, ответил Валентин, вспоминая заодно дни своей учёбы в Пажеском корпусе в годы Мировой войны. Вот там действительно и разговоров, и слухов, и газеток хватало. На любой вкус.
– Ничему, кроме непосредственно касающегося будущих функций, не учили. Причём, ты будешь смеяться, сто и двести лет назад – гораздо лучше, чем нынешних. Сравни, от нечего делать, Сильвию, меня, Ирину и тех девочек, что Левашов спас. Есть разница?
– Разница между поколениями всегда есть, – уклончиво ответил Дмитрий. – Я бы не стал сравнивать своих товарищей по училищу и персонажей Колбасьева[27]. Едем дас зайне в буквальном смысле.
Но это отдельный разговор. Из не пошедших в экспедицию Сильвия с Берестиным обретаются то в Югороссии, то в других интересных им местах, вплоть до Кейптауна, где до сих пор никак не закончится англо-бурская война. Время опять буксует… Удолин – тот между двадцать первыми веками до и после Рождества Христова разрывается, Александрийскую библиотеку на цифровые носители переписывает и ещё кое-где бывает. А ещё часть товарищей на твоей Таорэре до сих пор службу несёт, поскольку сразу после вашего исчезновения там очередное вторжение случилось. Кстати, две недели всего назад. А у вас – почти два года прошло. Посему досталась «молодёжи» практически бесконтрольная власть над двумя реальностями.
– Уж на это я внимание обратил, – хмыкнул Валентин, отодвигая тарелку с остатками отбивной, мгновенно убранную вестовым. – Ты же сам их всемерно и поощрял…
– Кофе, коньяк, ликёры, фрукты? – осведомился Воронцов.
– И мороженое, – добавил Лихарев. – Мы разве куда-то торопимся?
– Совершенно никуда, – заверил его Дмитрий. – Нам ещё много чего нужно обсудить… Что касается поощрений – я их скорее отвлекал. Думал, они больше девочками увлекутся, чем мировой политикой…
За десертом Воронцов, сопровождая слова демонстрационными материалами на экране большого ноутбука, изложил Лихареву план разработанной Фёстом и Берестиным при участии генералов той и другой России военной кампании. Общетеоретическая подготовка у Валентина была вполне достаточная, никак не хуже, чем у Берестина как минимум, а исходя из практического опыта и общей эрудиции, соображал он, пожалуй, получше. Хотя на стороне Алексея был ещё и его стратегический симулятор, но тоже ведь железка, в конце концов.
Вот, например, последний из великих советских шахматистов Каспаров компьютеру, как ни крути, а проиграл. А вот Алёхин или Капабланка наверняка бы выиграли, да и Чигорин с Талем, скорее всего.
– И что ты имеешь возразить? – спросил Лихарев. – Мне англичан вот ни на столько не жалко. Навешают им как следует, а потом ещё и поиздеваться можно, флот их в Скапа-Флоу затопить, как немцы свой там же…[28]
– Можно было бы, – согласился Воронцов, – только он и для других целей пригодится. А возразить я хочу только одно – молоды ещё наши «кадеты» судьбами мира ворочать. И совсем не потому, что во мне ревность или нечто подобное говорит. Очень я опасаюсь, что кое-какие непродуманные действия могут хрен знает к каким последствиям привести.
Он неторопливо выцедил коньяк, дождавшись, когда Лихарев сделает то же самое. Дмитрию сейчас было хорошо на душе. Как, допустим, перед выходом в море на паруснике, когда все дела уже сделаны и ждёшь только полной приливной воды, покуривая сигару и глядя с мостика на уже становящийся чужим берег.
– Сильвия, и та маху дала, когда решила силой Ирину из реальности изымать. Вон к чему её инициатива привела. Да и ты сам, не сбежал бы от Сталина, глядишь, действительно без Второй мировой обошлись бы.
– Не обошлись, – мотнул головой Валентин. – Установка у нас была – любой ценой войну эту обеспечить. Другое дело – приоритеты по ходу дела несколько сменились…
– Вот и я о том же. Но ты снова из внимания феномен посторонних Игроков упускаешь. Мы с Андреем и Сашкой много на эту тему спорили и к общему мнению не пришли. Они – люди одной серии, я – другой. Очень мне сильно кажется, что теперешняя игра без учёта вмешательства нас с тобой спланирована. Уж не знаю, отчего мы со счетов сброшены, показалось кому-то, что мы и вправду личными делами занялись, отпустив молодёжь в свободное плавание. И теперь ребят прямо непреодолимая сила в эту воронку затягивает. Настроенную на то, чтобы не у Фёста, так у Секонда, но катастрофа непременно случилась. А предпочтительнее, чтобы и там, и там сразу… Тогда у них полностью руки развязаны будут. Но как бы им не ошибиться очередной раз.
Лихарев внимательно посмотрел на Воронцова. Редко им приходилось так вот попросту беседовать, да ещё с глазу на глаз. Вдобавок на судьбоносные темы. Дмитрий всегда казался ему стоящим от всех достаточно в стороне. По целому ряду причин. И не принадлежал он изначально к тесной компании друзей, и натура у него была совершенно иной степени авантюрности, чем у того же Шульгина – Шестакова, не к ночи будь помянут.
Поучаствовал Дмитрий в аггрианско-форзелианских делах немножко, причём далеко не по своей воле, зато получил в результате намного больше, чем кто-либо из прочих, считая, конечно, только «первопоходников», урождённых, можно сказать, членов «Братства». Девушку своей мечты нашёл через много лет, живую, влюблённую теперь в него «по-взрослому», с учётом всех совершённых ошибок, да ещё и с аккуратно подкорректированной психикой.
Пароход получил вот этот в своё полное распоряжение, лично, кстати, спроектированный, с учётом всего своего служебного и общеисторического опыта.
И стал (только сейчас Валентину в голову пришло) кем-то вроде Тома Бомбадила из толкиеновской эпопеи. Того, что коротает века и тысячелетия в обществе никогда не надоедающей и умеющей общаться с ним с помощью «мягкой силы» жены, безраздельно правит своим лесом, никогда его не покидая, и является всемогущим в пределах, которые сам себе установил.
Так же и Воронцов. Со стороны производит именно такое впечатление. Всегда всем готов помочь, является хранителем убежища, способного защитить от всех напастей (Лихарев на полном серьёзе считал, что огневая мощь «Валгаллы» и её способность уходить в иные реальности делает её неприступной для дуггуров), и в то же время относится к происходящему, вообще к окружающему миру с лёгкой иронией. Мол, ничего другого это коловращение жизни и не заслуживает. Очень может быть, что такой его жизненной позиции способствовало близкое общение с минами, торпедами и иными взрывоопасными предметами. Когда поблизости от тебя много вещества, способного даже помимо пресловутой «единственной ошибки», просто под влиянием неведомых внутримолекулярных процессов обратить тебя в пар, а то и нечто ещё более эфемерное, исходные взгляды на жизнь могут сильно меняться. Большинство становится мизантропами, а некоторый процент – такими вот благодушными, расположенными ко всему миру циниками.
– Ты ведь, друг мой, не слишком давно к забавам нашей молодёжи тоже руку приложил. Собирался, да всё не получалось тебя спросить – просто от скуки очередным кандидатом во Властелина мира себя вообразил или под влиянием непреодолимой силы?
И впервые Лихарев, услышав вот так спокойно заданный вопрос, и не кем-нибудь, а именно Воронцовым, захотел исповедоваться. Как на духу, раньше говорили…
– В том-то и дело, Дмитрий Сергеевич, ни того, ни другого, ни третьего. Просто карта так легла. Дайяне на вашей Валгалле, нашей Таорэре без смысла сидеть надоело, вот и решила она меня по старой дружбе привлечь, чтобы, значит, Секондовскую реальность под себя приспособить, не вмешиваясь при этом в императорские и прочие разборки. Ничего, как ты знаешь, тогда у нас не получилось. А уже потом, совсем в другом варианте, я Фёсту кое-какие подсказки по ходу дела подбрасывал… Но меня другое интересует, пока я тебе окончательного ответа не дал. Самому ж тебе ведь «Мальтийский крест» нравится?
– А чего тут скрывать. Интересный вариант. Я ещё в молодые годы сахаровской идеей конвергенции социализма и капитализма интересовался. Молодой был, думал – раз академик и трижды Герой, так во всём умный. Почти поверил, что и мы, и Запад холодную войну можем свести вничью и приступить к совместной работе на общее благо. Только ведь не могло из этого ничего путного получиться. Умный был физик Сахаров, а понять логики мировой истории и сути мирового империализма не сумел. Ленин и тот на эту тему реалистичнее рассуждал. А сейчас вот новый поворот сюжета наметился. Отчего не поучаствовать в эксперименте? Тем более мне всегда интересно было, и геополитически и просто так, что будет, если Россия действительно станет сильнейшей страной в мире? Недостижимо сильнейшей…
Глава третья
– И каким же образом мы приступим? – спросил Лихарев Дмитрия, когда они, завершив обед, перешли в библиотеку, или, точнее, как это было принято называть ещё в конце позапрошлого века, когда появились первые по-настоящему комфортабельные трансатлантические лайнеры, – курительный салон. Размером он был примерно как спортзал обычной средней школы, с куполообразным световым люком на пятиметровой высоте. В глубоких кожаных креслах и диванах за резными, ручной работы столами ценных пород дерева могли одновременно разместиться свыше полусотни человек, причём на достаточном расстоянии, чтобы не мешать друг другу своими разговорами и табачным дымом «не того сорта».
Впрочем, мощные бесшумные вентиляторы мгновенно всасывали весь дым, а специальные дезодораторы ликвидировали даже намёки на запахи, свойственные прокуренным помещениям.
Джентльмены, позволявшие себе путешествовать первым и вторым классами, предпочитали проводить время не в своих каютах, а в таких салонах за разговорами на политические и финансовые темы, выкуривая при этом массу хороших сигар или благородных данхилловских и петерсеновских трубок. Тогда к этому занятию относились со всей серьёзностью, и никому из членов всяческих парламентов не приходило в голову тратить своё время на принятие законов, ограничивающих священные права личности на собственное здоровье.
Читать там тоже читали, в основном книги или ежемесячные журналы, поскольку свежая пресса по известной причине на пароходы не доставлялась, а первые специальные судовые газеты с новостями, принимаемыми по радио, появились ближе к началу Мировой войны.
Вот и на «Валгалле», где едва ли больше десятка человек одновременно проводило свои «отпуска», имелось всё то, что на прототипе парохода – «Мавритании» предназначалось для обслуживания и комфортного существования более чем двух тысяч пассажиров.
Вдоль переборок от пола до потолка высились застеклённые шкафы и открытые полки, где количество книг составило бы гордость любой районной библиотеки. И это только необходимый минимум – словари, энциклопедии, справочники, научно-популярная литература и художественные альбомы – в основном для того, чтобы вступившие в серьёзную дискуссию джентльмены (не всё же о погоде и статях спутниц по путешествию говорить) могли немедленно найти необходимые доводы «за» и «против» высказываемых собеседником сентенций.
По полу (назвать палубой это паркетное великолепие не поворачивался язык) простирался сотканный где-то в Джайпуре специально для этого парохода и этого салона ковёр в двести квадратных метров, по углам и на продольных стенах зала размещались целых шесть каминов, опять же, чтобы пассажиры не стояли в очереди за право посидеть возле живого огня, в других помещениях судна категорически запрещённого.
Само собой, на «Валгалле» все эти прелести, рассчитанные на множество людей совсем другого времени и культуры, были излишни, но Воронцов, проектируя переделку и модернизацию «Мавритании»[29], кое-какие помещения сохранил в первозданном виде. Вроде как элементы действующего музея истории пассажирского судостроения.
– Да каким угодно, – безмятежно ответил Воронцов, устраиваясь у камина и срезая кончик сигары. Самое то, что нужно, когда за бортом продолжает свежеть ветер и температура уже скатилась ниже плюс десяти по Цельсию. В такую погоду сто раз не позавидуешь морякам былого парусного флота. Трудно даже представить, каково приходилось экипажам экспедиции Беллинсгаузена и Лазарева, к примеру. А ведь жили люди, и плавали вполне добровольно чёрт знает куда исключительно из любознательности и любви к приключениям.
– Но ведь, если я правильно себе представляю картину, тебе придётся как бы изменять и собственным убеждениям и, прости за откровенность, – вашему общему делу. Я достаточно в курсе – подруги моей жены выбалтывают на своих «девичниках» гораздо больше, чем я узнал бы, продолжая следить за вами по всем правилам.
Здесь Валентин говорил правду – в обществе Эвелин Майя, Татьяна, время от времени появляющаяся на Кавминводах Лариса, она же «вдова Эймонт», общались совершенно свободно и наговорили очень много интересного насчёт дел своих мужей по прямой специальности и в качестве «послушников» «Братства». А Эвелин всё услышанное прилежно Лихареву пересказывала, и для того, чтобы самой с его помощью получше разобраться в окружающем мире, и потому, что он просил держать его в курсе «дамской болтовни».
Француженка настолько дотошно выполняла поручение мужа, что и обо всех коллизиях «личной жизни» прелестных дам Валентин знал более чем достаточно. Сам же он, держа, как учили, данное офицерское слово, никаких методик, имевших отношение к своей прошлой профессии, в этой реальности не применял. Единственное исключение делал для игорных домов и казино, да и там в большинстве случаев всего лишь не позволял крупье жульничать, то есть препятствовать тому, чтобы карты ложились и шарик бегал так, как Лихареву надо.
– Ты ведь позволил обоим Ляховым действовать по собственному усмотрению, разрешил им «попрактиковаться», попробовать себя в роли настоящих Игроков. И даже всемерно им способствовал.
– И в чём ты видишь противоречие? – спокойно спросил Воронцов, крутя в пальцах незажжённую сигару. – Тем более – при чём здесь убеждения?
– Но ведь ты только что заявил, что собираешься начать новую партию, получается, что против своих же учеников. Поскольку они «не способны» и тэдэ. Правильнее было бы им просто на ошибки вовремя указать и на верную стезю направить. Да и не только учеников – старых друзей тоже. Ведь ваша «Служба охраны реальности» имела определённые принципы и правила. А теперь…
Лихареву показалось, что Дмитрий посмотрел на него как бы с некоторым сожалением. Вроде хотел сказать нечто типа: «Умён ты братец, но совершенно не в этом вопросе…»
Воронцов неторопливо завершил все положенные манипуляции и наконец поджёг свою сигару, выпустил пару «пристрелочных» клубов дыма.
– Как это ты с товарищем Сталиным работал, прямо удивляюсь, – сказал он не то, что вообразилось Лихареву, но очень близкое по смыслу. – Где полёт фантазии, где, наконец, стратегическое мышление? Тебя ж там не за тем держали, чтобы беглых наркомов ловить, хотя и то занятие по-своему творческое… Давай попробуем вместе порассуждать, раз уж такой случай и повод выдался. Вот мы, так называемое «Братство», люди изначально совсем ни к чему такому не готовые, кое-как сумели выжить в столкновении с двумя, если не больше, галактическими империями, если языком «космических опер» изъясняться. На самом деле тут, на мой взгляд, всё совсем иначе обстоит, но не в том суть. Из «предложенных обстоятельств» мы каким-то образом выкрутились. При этом не заморачиваясь какого-либо рода «убеждениями». Не до того было. Вот ты – специалист, ты мне и скажи – почему и как? Сильвия, Дайяна, ты, Антон и его коллеги по общему делу, как ни крути, на Земле свою кампанию проиграли. Я не говорю о стратегических последствиях, глобальных, так сказать, результатах всей этой эпопеи, но до настоящего момента все вышеперечисленные персонажи, включая не до конца разъяснённых дуггуров, свои пусть даже тактические, местного значения бои – проиграли. Нам проиграли. И вынуждены заниматься теперь делами, вытекающими из наших, а не их интересов.
Валентин задумался. Вопрос поставлен интересно. В лоб, но весьма корректно. Понятное дело, что Воронцов софистикой занимается, чересчур демонстративно называет себя и своих друзей «простыми людьми», хотя как раз простыми они и не являются. Исходно, по определению. Однако это ничего не меняет. Ни аггры, ни форзейли за свою многовековую деятельность так и не научились гарантированно находить и квалифицированно использовать в своих целях людей с подобными, выходящими за пределы нормы характеристиками. Выращивать из тщательно отобранных эмбрионов и нужным образом воспитывать таких, как он сам, Ирина, Сильвия, девчонки-валькирии – умеют, а таких, как Новиков, Шульгин, этот же Воронцов – нет.
Наверное, по той же самой причине, по какой полным крахом кончилась затея Горького организовать единственный в мире Литературный институт и выращивать там пролетарских гениев пера ротами и батальонами. Институт есть, восемьдесят лет уже функционирует, а настоящих писателей и поэтов вышло из него меньше, чем хотя бы и из медицинских институтов, где сроду не изучали теорию стихосложения или «остранение как приём»[30]. И в том и в другом случае всё упиралось в такую неподвластную рационализации субстанцию, как «талант», или «врожденные способности», «дар Божий», в конце концов. Самое интересное, что ни преподаватели названного Литинститута, ни ведущие специалисты по взаимодействию с человечеством так и не научились распознавать наличие столь эфемерного качества. Точнее – распознавали, но только постфактум, не случайно же из сотен принимаемых на первый курс «гениев» прозы и поэзии девяносто процентов, получив дипломы, не ваяют шедевры в промышленных количествах, а продолжают функционировать всего лишь в качестве редакторов, критиков и литературоведов.
Ответил он чистую правду, так, как только что об этом подумал.
– Вот именно, друг мой, вот именно, – согласился Воронцов, выражая неприкрытую радость, словно в прежние времена – сообразительностью матроса, без подсказок выполнившего сложное задание. – Так какие мы основания имеем предполагать, что на этот раз все участники постановки изменят своему амплуа?
Вот этого умозаключения Валентин откровенно не понял.
– ? – приподнял он бровь.
– Ладно, разъясняю на пальцах – никто из фигурантов, включая присутствующих, умнее за истекший период времени очевидным образом не стал и на основании всего предыдущего опыта продолжит играть по тому же «тексту пьесы». Опытный зритель это заведомо знает и никаких неожиданностей со сцены не ждёт, не «Женитьбу» же в постановке Мейерхольда он пришёл смотреть, а классический вариант, допустим…
– Да то, что пусть все и делают, что от них ждут. Даже учитывая способность «актёров» к импровизации в некоторых, строго отмеренных пределах. Вот, например, сейчас Сильвия решила тряхнуть стариной, реванш взять, если угодно, очутившись в Замке в отсутствие настоящего хозяина. Это ожидаемо? Вполне. Тот, кто наблюдал за ней последние полторы сотни лет, иного решения от неё просто не ждёт. Как и того, что она без форс-мажорных обстоятельств способна отказать себе в удовольствии пополнить коллекцию своих любовников даже и Императором… Тут она у нас Клеопатра и Екатерина Великая в одном лице. Точнее – в одном, весьма соблазнительном теле… – при этих словах Воронцов усмехнулся, словно бы намекающе.
– Ну, скажем, так… – осторожно ответил Валентин, всё ещё не улавливая воронцовский «заход из-за угла».
– Далее, – сказал Воронцов, словно и не замечая некоторой заторможенности собеседника. – Образ мыслей и стиль поведения новой генерации наших друзей, от Ляховых до Императора и Президента РФ, тоже известен, ясен и понятен всем, кого эта тема вообще интересует. Для простоты будем называть их по-прежнему – Игроками. Если их действия никого не волнуют – они так и будут делать то, что начали. Если иначе – будут предприняты какие-то контрмеры. Какие – нам до того, как противодействие начнётся, не угадать. Но к этому нам тоже не привыкать.
То, что Андрей с ребятами сейчас очень и очень не здесь – все, кому нужно, тоже знают. И что в итоге?
– А куда Антон, кстати, делся? – спросил Лихарев, вспомнив слова Дмитрия о том, что Сильвия сейчас резвится в Замке в отсутствие настоящего хозяина.
– По моим сведениям – вместе с ребятами новую Землю исследует, а теоретически может находиться где угодно… Способности у него весьма разносторонние, правда – в галактическом розыске парень находится, что, по моему мнению, его прыть слегка смиряет.
– Может, и будет от того какая-нибудь польза, – достаточно безразлично сказал Лихарев. Ему в своей предыдущей жизни с форзейлем встречаться не приходилось, имелись для этого уровня другие люди, а когда тот тоже стал изгнанником «из рода и клана», взаимного интереса тем более не возникло. Хотя знал о том, что возможностей вмешиваться в человеческую жизнь и влиять на неё у Антона сохранилось гораздо больше, чем у него, Сильвии и даже Дайяны. Опять же – благодаря Замку. Ну и что из этого?
– Значит, если я тебя правильно понял, ты решил теперь не в шахматы, а в подкидного дурака сыграть? – спросил Лихарев, выстроив, наконец, собственную версию замысла Воронцова.
– Примерно так, – кивнул тот. – Я здесь, в двадцать пятом году, пока что никаких следов появления дуггуров или кого-то ещё не замечал. Да и кому я могу быть интересен – за исключением не слишком частых приёмов гостей на пароходе или в Форте ни в чём предосудительном не замечен. Твои следы, по всему выходит, затёрты надёжно. Мало что ты из тридцать восьмого года, где совсем случайно с дуггурами пересёкся, благополучно выскочил совсем не нашей методикой в очень далёкую параллель, так потом ещё и на Валгалле благополучно погиб.
Насколько я понимаю, крушение вашего с девицами флигера выглядело вполне убедительно, и ход боя с «медузы» наверняка записывали, и момент падения со взрывом – тоже. Ещё и орденок кому-то отломился… Следовательно…
– Следовательно, ты хочешь, чтобы я снова начал самостоятельную партию? Никак себя не проявляя, подстраховывал «молодёжь», а при возможности взял ситуацию полностью под свой контроль…
– Именно. Я не зря упоминал про схему «криптократии». Вполне плодотворная дебютная идея. Всегда можно замаскировать собственную деятельность чужой или вообще постараться, чтобы никакой деятельности как бы и не было. Чем, собственно, вы с Сильвией на Земле и занимались. Никакие исторические события не ассоциировались с весьма рядовыми личностями. Ни в одном учебнике, к примеру, не написано, что идею направить сербам пресловутый ультиматум некая элегантная дамочка через третьи руки австро-венграм подкинула и сама же проект набросала… Всё на бедного маразматика Франца-Иосифа грешат, вместе с Бертхольдом и Конрадом фон Гетцендорфом[31].
Хотя сам Лихарев по молодости лет в этой интриге не участвовал, но о роли Сильвии знал. Она в четырнадцатом году, считая крайне полезной полноценную мировую войну, грубо подталкивала Германию и Австро-Венгрию к агрессии, всячески маскируя готовность Англии вмешаться в войну на стороне Антанты. Что, собственно, и подвигло кайзера Вильгельма на эту авантюру. С Россией и Францией, при нейтралитете Британии с её гигантским флотом, он рассчитывался справиться за месяц-полтора.
Валентин просто кивнул в ответ на слова Воронцова и потянулся к графинчику. Раз пошёл уже совершенно конкретный разговор, можно и поднять бокал «за успех нашего безнадёжного предприятия», как любили выражаться его кремлёвские сослуживцы.
– Ну, давай… – коньяк у Воронцова был очень неплох. Точнее – лучший из возможных, другое дело, что французский, а Валентин со старых времён предпочитал армянский (тогда он назывался попросту – шустовский).
– То есть ты поручаешь (или разрешаешь?) мне вплотную заняться нынешними российскими делами? Призываешь на службу из отставки? А сам, значит, будешь из-за кулис руководить, как бы в роли тогдашней Сильвии?
– Можно и так сказать. А можно и иначе. У тебя достаточно опыта, способностей и возможностей, чтобы постараться сохранить реальность, в которой обосновался, в максимально приемлемом и удобном виде. Ты ведь хочешь жить в приличном мире? Сравнительно с тридцать восьмым годом.
– Безусловно, – вежливо улыбнулся Валентин.
– Против объединения той России и этой что-нибудь имеешь?
– Впрямую – нет, хотя и вижу достаточно сложностей. Но также и способы эти сложности смягчить, поскольку неплохо помню, как в старой России «на самом деле» всё было устроено.
– Совсем хорошо. А как ты думаешь, Дайяна согласится тебе помочь по старой памяти?
Вопрос Воронцова Валентина даже слегка ошеломил. Уж его-то он ни в коем случае не ожидал. В его представлении «Братство» и Дайяна оставались непримиримыми врагами.
– Именно. Просто помочь. По-соседски. Наши ведь её здорово поддержали при защите вашей учебки от дуггуров и прочих инсектоидов. Тем более, куда ей особенно деваться? Весь век на Таорэре без смысла сидеть? И что она со своими курсантками делать будет? Не пора ли их начать к делу пристраивать? Она об этом с тобой в последнее время разговаривала.
– Ты-то откуда знаешь? – не скрыл удивления Валентин.
– Не знал, но догадывался. Логика самая примитивная. А ты только что подтвердил. Чеховское ружьё в первом акте, не более того. Что делать с полутора сотнями девиц на выданье в глухом горном посёлке? Картошку выращивать и вязаньем заниматься? Так рынки сбыта далековато. И ей, тётке в самом соку, не скучновато ли? Это у Брюсова, кажется? «Одиссей многомудрый бездарно…» – или как-то ещё – «стареет в ничтожной Итаке». Впрочем, не помню.
Воронцов увидел, что его цитата не произвела на Валентина совершенно никакого впечатления, тому эта греческая древность надоела ещё на младших курсах Корпуса. Он автоматически пропустил ссылку на Гомера (да и Брюсова тоже) мимо ушей. Тогда Дмитрий счёл нужным слегка уточнить:
– Вообще, когда Новиков вздумал использовать в самом начале нашей эпопеи кодовое обозначение – «Одиссей покидает Итаку», кое-кто сразу указал ему на несообразность. Говорят же – «Как корабль назовешь, так он и поплывёт». Вот мы имеем то, что есть. Уходящую в бесконечность череду вполне никчёмных приключений. Упаси бог, если и завершение будет такое, как я процитировал.
Опять не сработало. Да и откуда бы этому, совсем «потустороннему» человеку верно воспринимать намёки людей совсем другого круга на малоизвестные ему обстоятельства..
– В принципе дальнейшая участь Дайяны и её питомиц – абсолютно не моё дело. Если найдут себе занятие более интересное или предпочтут век на базе коротать – их выбор. Но я бы на твоём месте сообщил им, как твои подопечные устроились, и …
Поначалу предложение Воронцова показалось Лихареву не то чтобы диким, но совершенно не ложащимся в алгоритм его обычного поведения. А потом понял – да ведь Дмитрию тоже хочется какого-нибудь серьёзного дела. И так удивительно, что на столько лет хватило ему интереса с корабликом и фортом забавляться, в то время как друзья всяческие головоломные приключения переживали, не так уж важно – оправданными они были или нет. В девятнадцатом веке, вообще до Мировой войны большинство свободных людей самостоятельно себе занятия искали, не считая, конечно, тех, кто на государственной службе состоял или на частной, в какой-нибудь Ост-Индской компании. Все остальные за свой счёт и на свой страх и риск дела делали или просто по планете скитались, иногда маскируя тягу к риску и поискам неведомого общечеловеческими интересами, а иногда и нет. Начиная, условно говоря, с Магеллана и заканчивая нашим Николаем Гумилёвым с его африканскими экспедициями. Благо тогда «белых пятен» в географии, биологии, да и политике тоже на всех, кроме «желающих возделывать свой садик», с избытком хватало.
Так он и ответил, давая понять, что вполне понимает мотивы адмирала:
– Я – с нашим полным удовольствием, Дмитрий Сергеевич. Я ведь тоже засиделся. Только идею как следует обмозговать надо… Дайяна, если ей привлекательные перспективы обрисовать и обращаться «по-человечески», вполне, по-моему, на все наши условия пойдёт… – Сделал совсем чуть-чуть скабрезную мину и добавил: – Ей ведь, кроме всего прочего, настоящего мужчину для себя найти хочется. Вроде как Екатерине – Потёмкина.
Теперь Воронцов пропустил мимо ушей сказанное собеседником, но явно для себя зарубку, где нужно, сделал. Ответил по сути:
– Наполеон считал, что всякое дело непременно увенчается успехом, если хорошо соображено не меньше чем на тридцать процентов. Остальное вполне можно оставить на волю случая и имеющих возникнуть обстоятельств…
– Ну вот и давайте вместе посоображаем…
Более или менее серьёзной проработки заслуживали всего два частных вопроса, после того, естественно, как «заговорщики» решили, что работать будут по аггрианской схеме, то есть исключительно опосредствованно, никому даже из своих не демонстрируя интереса к происходящему. Лучше всего вообще было бы, как и раньше, вне горизонтов событий оставаться. Только не получится, какую-то причастность демонстрировать по-любому придётся. Вот и нужно её, эту причастность, неким вполне очевидным, не внушающим подозрений образом замотивировать.
И ещё требовалось наметить контуры своего участия в назревающей англо-русской войне в Империи и конфликте, хотя пока и «холодном», между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами.
– Я, понятное дело, по-прежнему остаюсь глубоко аполитичной и совершенно частной персоной, как и раньше было, – сказал Лихарев, – разве только Ляхов или Тарханов что-нибудь конкретное предложат, раз про меня всё-таки вспомнили.
– Не они вспомнили, а я, – возразил Воронцов, – и мотивация у меня на этот случай неубиваемая… Но об этом позже. Ты говоришь, что технически можно и тот и другой конфликт пресечь в зародыше, самым примитивным и действенным способом…
– Совершенно верно. Прямо сегодня не составит никакого труда организовать в Лондоне приличный несчастный случай вроде взрыва бытового газа в районе Даунинг-стрит… Тонны на полторы тротила. И с «хантерами» по-быстрому разобраться…
– Кто же спорит. Кое-какие проблемы действительно снимутся, а что с другими, вновь возникшими делать будем? Сколько их появиться может, я как бы не лучше тебя знаю…
Дмитрий вспомнил, как, попав в самом начале их эпопеи в Замок, а из него – в сорок первый год, он вдруг вообразил, что, покидая ту реальность, наилучшим решением будет застрелить Сталина в машине на лесной дороге[32]. Чтобы изменить будущее категорически и безвозвратно. Мол, в любом случае без этого персонажа в истории лучше станет. Однозначно. Тиран ведь кровавый, несмотря на новиковские попытки его реморализаторства.
Молодой он тогда был, наивный, в политическом, естественно, смысле, вроде Иванушки из сказки, что сжёг лягушачью шкурку своей жены. И вот как раз тогда, пребывая в достаточно растерянном и дезориентированном состоянии, ещё надеясь, что Антон сумеет их отправить обратно и всё станет почти как было, они вдруг начали постигать кое-какие, тогда совсем ещё не очевидные вещи.
Оказывается, и в «обычных» условиях количество окружающих любое событие причинно-следственных связей так велико, что их невозможно просчитать ни на одном компьютере сколь угодно большой мощности. А в их случае естественный (что тоже весьма условно) ход событий нарушался слишком уж грубо, и никто не в состоянии достоверно определить, что из случившегося и в какой мере является артефактом. То есть вполне возможно, что первый поход Берестина в 1966 год создал условия для знакомства Новикова с Ириной шестью годами спустя, деятельность самого Воронцова на Земле в сорок первом году и его общение с Замком спровоцировало её же появление на Земле в виде координатора, и исчезновение Лихарева из тридцать восьмого года тоже. Проникновение Левашова с друзьями на Валгаллу предопределило полёт в тот район Вселенной звездолёта «Кальмар» в двадцать третьем веке и так далее…
– Поэтому, если мы хотим существовать в данных реальностях, лучше бы поостеречься, – сказал Воронцов как-то очень обыденно. – И ещё – в сложившихся обстоятельствах нам с тобой нужно действовать как можно медленнее. Был такой римский полководец, по прозвищу Кунктатор[33]. С него пример берём – совсем никуда не спешим. Всё пять раз обдумываем, потом делаем и смотрим, что получится. Ну, как сапёры по минному полю движутся. Это тоже тактика. Посмотрим, как предполагаемый противник на неё отреагирует, привыкнув, что мы всегда стремились опережать события на несколько темпов…
– Хорошо, поостережёмся, – послушно кивнул Валентин. – А для этого не вижу иного способа, как немедленно переправиться на Таорэру. Лучше всего – вместе с моими женщинами – собственной и подопечными. Демонстративно так. Заметят наш маневр, действия какие-то предпримут – хорошо, нам этого и надо. Нет – прогуляются наши дамочки на природе и домой вернутся, вместе с подкреплением… Дайяна наверняка захочет часть своих подопечных на Землю переправить. А андроидов оставим на виллах, чтобы всеми силами изображали присутствие хозяев на месте. Три моих да двое тех, что в Кисловодске. Вот пусть, как в старом водевиле, создают впечатление… У всех сразу.
– Быть по сему… – Воронцов плеснул в бокалы совсем понемногу, в виде «закурганной», и сказал совершенно как бы между прочим: – В общем, так Дайяне и скажи. Я готов весь её персонал на пароход и в форт принять, «курс молодого бойца» всем организовать, а потом расписать по принадлежности. Сдаётся мне, и в той и в другой России подготовленные и стопроцентно надёжные кадры понадобятся. Вечная ведь у нас проблема, с петровских времён – «нет людей». Саму тоже не обделим. Есть кое-какие соображения.
– Как всегда? – широко и без всякого подтекста улыбнулся Лихарев. Давно ему не было так легко на сердце. Он снова в команде и снова сможет заниматься делами, для которых создан и воспитан.
Продолжая конспирироваться неизвестно от кого, то ли от дуггуров, то ли от самих Держателей, Лихарев вернулся прежним, почти мгновенным и «бесшумным» образом в лес, где его ждал робот с машиной.
Эту тему – о возможности маскировать свои действия от «высших сил» – задолго до Лихарева, в самом начале эпопеи, обсуждали Новиков, Шульгин, Берестин, Воронцов. С одной стороны, казалось бы, куда и как ты от них укроешься, если они вправду «высшие», всемогущие и всеведущие. А с другой, если подумать – не бывает такого «всемогущества и всеведения» и быть не может, ибо в противном случае Вселенная вообще прекратила бы своё существование, схлопнулась в первые же минуты по причине мгновенного исчерпания всех степеней свободы своего развития.
На самом деле – если допустить существование «субъекта» (пусть даже и Богом его назвать) или нескольких аналогичных субъектов, знающих и могущих действительно ВСЁ, так какие могут быть варианты? Одномоментно «история» и начнётся, и кончится. Прямо в момент «Большого взрыва» или рождения «высшего существа». Поскольку в долю секунды оно, это существо, убедится, что при абсолютной предопределённости всего бесконечного бытия смысла в его существовании нет ни малейшего. Целей и необходимости – тоже.
Потому и изощряются богословы, изобретая то дьявола, с которым всемогущий Бог справиться не может, то «свободу воли» человека, от чего утверждение «ни волос с головы человека не упадёт без воли Господа» мгновенно обессмысливается. Но так потому и «кредо», что «абсурдум эст».
И так называемая «Большая Игра». Что в ней толку, если партнёры могут предвидеть ходы друг друга? То же самое, что с самим собой в «очко» играть. Да хотя бы и в шахматы. Но вот если ты мыслей противника не знаешь, да ещё каждая фигурка на доске обладает свободой воли, хитроумием Одиссея и весёлой наглостью Остапа Бендера – вот тут смысл-то и появляется!
Эрго – они, Держатели и Игроки, знают и могут как бы и не меньше нашего, поскольку, расширяя круг своих познаний и возможностей, любой Мыслящий прежде всего расширяет протяжённость границ с неизвестным и недостижимым. (Если брать за постулат, что абсолютной истины, как и конечного знания не существует nomine et re[34].) Это как если бы бесконечно увеличивать ширину обороняемого стрелковым взводом участка фронта. Очень скоро от бойца до бойца станет, как «от Москвы до Бреста». И много ли этот взвод навоюет? Вот вам очередной парадокс.
Поэтому хоть аггры, хоть форзейли, хоть Игроки с Держателями на самом деле по соотношению желаний и возможностей ничем не лучше нас. И исчезающе мал шанс на то, что именно сейчас «они» наблюдают именно за твоими перемещениями в пространстве, вообще любыми действиями. Может же кто-то в пивную в это время направиться, в гости к тому, что там считается женщиной, или вообще, пардон, в туалет. Если кто читал малоизвестные книги Марка Твена, вроде «Путешествия капитана Стромфилда в рай», то, наверное, запомнил, что у тамошних ангелов то, что у людей называется оргазм, длится годами. Ну и какая же в этом состоянии слежка за даже очень важными персонажами?
Все эти то ли богословские, то ли агностические построения промелькнули в голове у Валентина, пока он, очутившись на поляне, осматривался и садился в машину.
…Майя с Татьяной отнеслись к его предложению отправиться с ним в неизведанные межзвёздные дали положительно, но слегка по-разному. Ляхова – с чистым и неприкрытым восторгом, сразу увидев в этом предложении ещё один шаг на пути к полноценному членству в «Братстве» и, значит, исполнению главной её мечты – вечной (ну, пусть для начала – сотня-другая лет) молодости и водоворота бесконечных приключений. Да и прошлое посещение парохода со всеми его чудесами очень хорошо запомнилось. И, как ни странно в её положении серьёзной замужней дамы, танцы и лёгкий флирт с офицерами «Изумруда» – тоже.
Татьяна была не столь романтически-прагматична, хотя воспоминания у неё были те же, и оставаться вечно молодой ей хотелось никак не меньше, чем подруге. И в этом мире её особенно ничего не держало, семейная жизнь с Сергеем совсем не задалась, хотя она поначалу думала, что «стерпится – слюбится». Не получилось. Значит, тогда, ещё в студенчестве, она про перспективы их отношений всё поняла правильно. Но расходиться теперь тоже смысла не было – положение в обществе, титул, фамилия, финансовое положение Татьяну вполне устраивали. В постели (не так уж часто) Тарханов был ничуть не хуже других, а о том, чем его жена занимается большую часть года, он предпочитал не задумываться, хотя при желании мог бы взять её под плотный колпак. А зачем? Чувство биологической ревности было ему чуждо, а психологически… Кто-то когда-то определил суть брака такими словами: «Ради того, чтобы иметь возможность обладать этой женщиной, когда захочется, ты вынужден терпеть её присутствие всё остальное время». Вот Сергей с Татьяной молча договорились разделить две эти сущности.
Сейчас она просто по свойству характера опасалась неожиданных и резких перемен. Тем более у неё как раз на днях снова наметился этакий лёгкий и безопасный, но увлекательный романчик. Партнёр оказался «на высоте», и терять его пока что не хотелось. Вообще, в этом смысле у Татьяны был характер скорее мужской – она предпочитала затевать ни к чему не обязывающие интрижки с мужчинами женатыми и по преимуществу из своих старых приятелей. Эти не проболтаются даже в кругу знакомых, не станут приставать с глупыми предложениями уйти из семьи и «начать новую жизнь». Встречаться время от времени, раз в месяц провести вдвоём уик-энд в приятном и безопасном месте, и – до другого раза. Никто не в обиде, и почти никакого риска. Всегда можно сказать: «Да, было в молодости между нами кое-что, но было и прошло, а сейчас так, случайно встретились, поговорили, по бокалу вина выпили…»
Она пребывала в неуверенности и сомнениях почти до обеда, но Майя её убедила, приводя те же самые доводы, что грели душу ей самой. О новых впечатлениях, новых знакомствах, возможной поездке в настоящую Югороссию (прошлый раз они ведь ничего, кроме форта на берегу фьорда и помещений парохода, там не видели, ни в Севастополь, ни в Царьград не попали). А главное, Майя прямо здесь, не сходя с места, потребовала от Лихарева гарантий, что сразу по прибытии на корабль и куда там ещё они немедленно начнут проходить курс инопланетных омолаживающих процедур. Нынешние их с Татьяной двадцать девять, конечно, возмутительно много, но уж не тридцать, по крайней мере, и если данный возраст им гарантируют на неограниченное время – согласиться можно. Как это Ирина, Сильвия и Наталья Андреевна Воронцова комфортно себя чувствуют, приближаясь к сорока, Майе было решительно непонятно.
Нет уж, они так и будут балансировать на рубеже тридцатилетия (самый обольстительный для понимающей в жизни девушки возраст).
Об Эвелин и речи не было – та за мужем куда угодно пойдёт, словно и не француженка самого либерального воспитания, среди прежних подруг которой лесбиянок было две трети, а остальные тоже не чурались всяческих изысков. А она, видишь ли, влюбилась в откровенного русского сексиста и ни о каких свободах больше слышать не желает. Впрочем, можно и по-другому посмотреть – представительница самой прагматичной (куда там немцам) и «жлобской», неполиткорректно выражаясь, нации Европы сделала быстрый и правильный выбор. Что такое скудные доходы и тяжёлая работа университетской преподавательницы в сравнении с ролью жены «ле бояр рюсс», безмерно богатого и абсолютно свободного в своих поступках, желаниях и капризах. А также красивого, сексуального и великодушного.
Конечно, молодых дам не то чтобы приводила в ужас, но всерьёз ошеломляла мысль, что уже сегодня к вечеру они могут оказаться не на другом краю света даже, а в непредставимых безднах космоса, дальше, чем почти любая из видимых ночами на небе звёзд. Перемещения в соседнее время – хоть прошлое, хоть будущее – это как-то спокойнее воспринимается. Почти то же самое, что фильм исторический посмотреть. Со спецэффектами.
Но именно несопоставимость земных и межзвёздных масштабов как раз и смягчала шок – странно бояться того, что не в силах вообразить.
Однако приличия, и не только они, требовали, чтобы вопрос об отъезде был согласован с мужьями – иначе это уже чёрт знает что будет, а не семейная жизнь. Ведь не на день-другой они собрались выбраться в Приэльбрусье, к примеру, или на абхазское побережье.
Ляхов поначалу удивился столь странному предложению Лихарева. Да, обстановка в мире осложнилась до крайности, но – где Британия и где Кавказ? Всё ж таки усиление охраны и повышение бдительности – это одно, а поспешное бегство, как его ни назови из деликатности, совсем другое. Да и с какой радости ему звать с собой девушек аж на Таорэру, где самому Ляхову довелось разок побывать, и впечатления у него сохранились не самые радужные.
Но потом, наконец, Майя закончила выдавать сто слов в минуту и передала трубку самому Лихареву. Валентин спокойно и отчётливо объяснил, что данный экспромт – считай, что прямое указание Воронцова, а по его собственному мнению – очередной ход в игре, смысл которого ведом лишь самому вельтмейстеру, а зрители оценят его необходимость и вдобавок изящество лишь много позже. Если, впрочем, доживут. С этого момента Вадим возражать и удивляться перестал, только попросил Майю, как водится, быть поострожнее и не лезть, куда голова не лезет. И на автомате, как в «Братстве» обучился, выдал подходящую к случаю цитату: «С агрономом не гуляй – ноги выдерну. Можешь пару раз пройтись с председателем»[35].
Тарханов же, похоже, был только доволен, что его взбалмошную Татьяну берут под присмотр серьёзные люди. Он хоть и не был медиком, как Ляхов, но в жизни разбирался, да и разговоры соответствующие между ними велись. И Сергей вполне понимал, что психическое состояние жены колеблется на очень тонкой грани между так называемым мнимым благополучием и необходимостью срочной госпитализации. Так что смена обстановки пойдёт ей только на пользу. Да и постоянное присутствие рядом таких понимающих людей, как Воронцов и Наталья Андреевна, несомненно окажет терапевтический эффект. Может быть, настолько одумается, что и ребёнка наконец согласится завести. Впрочем, что-что, а представить себе жену беременной Тарханов совсем не мог. С младенцем на руках – это пожалуйста, а с большим животом и всеми сопутствующими явлениями – никак.
За три часа дамы собрали достаточно скромный, что называется – чисто личный багаж, по предыдущему опыту зная, что на пароходе в любую секунду может быть найдено или изготовлено абсолютно всё, что взбредёт самой больной на голову моднице. Отданы последние инструкции остающимся на хозяйстве андроидам – и вперёд. На машине вернулись на ту же полянку, куда настроена была аппаратура перехода. Миг – и дамы удивлённо озираются, увидев вокруг вместо напоенного запахами и наполненного пеньем птиц букового леса незнакомых людей и антураж глухого корабельного отсека. А потом поднимаются по трапам вверх, на широкую, добела выдраенную тиковую палубу и испуганно ахают, когда косая волна врезается в борт и брызги долетают на пятнадцатиметровую высоту.
– Ах, здорово как! – перевела дух Майя, вцепившись в планширь красного дерева, когда пароход вдруг провалился в ложбину между вполне уже солидными, густо-бутылочного цвета валами. Ещё не совсем как у Айвазовского в «Девятом вале», но около того.
Пока Лихарев возвращался с «Валгаллы» в Железноводск и Кисловодск, собирал своих женщин, прошло часов шесть «локально-земных», сколько здешних – никто не уточнял, но свежий ветер и крупная зыбь успели вплотную приблизиться к тому, что называется штормом. Не так чтобы очень сильным, но баллов на пять-шесть, никак не меньше.
Татьяна, стоя с ней рядом, смотрела на пересечённое пенными гребнями, закипающее море со странным выражением лица. В своём предыдущем, первом в жизни переходе через три моря на катере «Сердитый»[36] девушки в шторма не попадали, повезло, а то с таким капитаном, как Ляхов, едва ли куда-нибудь дошли бы. Но всё равно – открытое море, судно – что-то такое у неё в душе шевельнулось, забытое. У Татьяны ведь многое в подсознании было несколько раз перетасовано, по разным методикам и с самыми разными целями. И в любой момент это могло проявиться самым неожиданным образом, чего, каждый по-своему, опасались и Ляхов, и Шульгин, в разные моменты оказывавшие ей первую врачебную помощь…
О чём она сейчас думала? Да пожалуй что и ни о чём. Просто в душе как-то непонятно всё поплыло, смещаясь, путаясь. А возможно, как раз становясь на свои места. Она неожиданно почувствовала, что именно этого ей последнее время не хватало. Не надоевших светских развлечений и коротких, бессмысленных на самом деле увлечений, а чего-то в этом роде – подавляющего своей грандиозностью буйства стихий, безразличных к мелочным человеческим суетам.
– Ну, с прибытием, друзья, – сказал Воронцов, приблизительно догадываясь о мыслях и чувствах своих гостей. – Пойдёмте, Наталья ждёт. А на море через окна даже лучше будет любоваться. Надеюсь, морской болезнью никто не страдает?
При этом посмотрел почему-то на Эвелин, показавшуюся ему «слабым звеном».
Она и ответила:
– В Бискайском заливе на яхте не укачивало, надеюсь, здесь тем более…
– Вот и хорошо, значит, будем считать, вечер пройдёт без осложнений.
Спешить было некуда, поэтому и вечер, и весь следующий день провели на «Валгалле» в долгих застольных разговорах, безмятежном отдыхе в изумительных по комфорту и изяществу интерьеров каютах, вновь восхитивших даже Майю с Татьяной, хотя они в прошлый раз вроде бы попривыкли. Но времени с тех пор сколько прошло? Это как вернуться через два года из скромной квартирки какой-нибудь Кинешмы в парижский отель «Риц». Что же говорить об Эвелин, впервые столкнувшейся со стилистикой плохо ей знакомого девятнадцатого века, помноженной на достижения чужого двадцатого с кое-какими заимствованиями из совсем уже нездешней, инопланетной культуры.
Лихарев в своё время не счёл нужным рассказывать ей о скрытой, как обратная сторона Луны, составляющей своей прежней жизни, решив, что и того, что есть, вполне достаточно, чтобы девушка не жалела о решении покинуть «бель Франс» и превратиться в русскую аристократку.
Теперь, когда они лежали на огромной, «королевской» постели в спальне гостевой (собственной они пока не удостоились), то есть достаточно стандартной четырёхкомнатной каюты люкс, освещённой только светом бра, горящих в гостиной, ему всё же пришлось кое о чём рассказать, на ходу конструируя не слишком расходящуюся с действительностью, но и далеко не полную версию обстоятельств собственной жизни.
Звуки снаружи – свист ветра, удары волн о борта (гул машин многими палубами ниже сюда совсем не доносился, звукоизоляция переборок была почти идеальной) – только добавляли настроения и уюта. Покачивало, да, но совсем не сильно, и очень длинными, плавными килевыми размахами. «Валгалла» шла точно вразрез волне. Собственную тишину каюты нарушала только негромкая музыка из встроенных за декоративной обшивкой переборок динамиков системы, называвшейся в то время, когда Воронцов «строил» этот пароход, квадрофонической. На самом деле она была абсолютно полифоничной и создавала стопроцентно объёмный звук. Исполнялись мелодии из фонотеки «тех» шестидесятых и семидесятых годов, сильно отличавшихся от привычной Эвелин музыкальной культуры и настроением, и манерой исполнения. В её мире после Мировой войны эстетика свернула немного не туда. И не только в музыке. Здешняя ей нравилась гораздо больше.
Теорию множественности миров француженка благодаря своему образованию приняла вполне спокойно, обратив внимание только на последствия, из означенной теории вытекающие. В частности – существование «тайного ордена» (так Валентин для простоты назвал и «Братство», и аггрианско-форзелианский компонент), постигшего высшую суть данного феномена и на протяжении многих веков (!) занимавшегося поддержанием статус-кво. Проще говоря – предотвращением искажений и нарушений пресловутой Главной исторической последовательности злонамеренными или просто недостаточно цивилизованными для этого силами.
В принципе, и эта позиция была Эвелин понятна, она достаточно много знала о всевозможных жреческих сообществах, просветлённых личностях разных религий и культов, монашеских орденах вроде иезуитов, организациях типа известной в обоих мирах «Опус деи»[37] и тому подобных. И то, что она оказалась причастной к отряду ведущих, а не ведомых, её только обрадовало. И Дмитрий Воронцов с супругой произвели на неё крайне благоприятное впечатление.
Вообще жизнь для неё словно бы сразу наполнилась неким новым смыслом, которого прежде не хватало. Эвелин лишь осторожно высказала Валентину своё беспокойство по поводу дальнейшего: не приведут ли назревающие события к волне бедствий, способных смыть в океан неизвестности хрупкий островок давно уже балансирующей на грани европейской цивилизации. Изложенный с персидской образностью пассаж, явно навеянный тем, что сейчас творилось за бортом.
Лихарев постарался её успокоить, заверив, что, как любят выражаться русские, «всё под контролем».
Она решила, что этого достаточно, и больше забивать себе голову эсхатологическими проблемами не стала. У неё были собственные, посерьёзнее. Дело в том, что они с Валентином не совпадали темпераментами. Если Эвелин с удовольствием занималась бы личной жизнью и по два-три раза за ночь, а то ещё и днём, то Лихарева это мероприятие интересовало скорее эстетически, чем физиологически. Он вполне мог обходиться без этих радостей и неделю, и две, пока вдруг настроение не появлялось. Другая женщина не вынесла бы такого дисбаланса, но, как сказано выше, француженка была девушка практичная и считала, что достигнутое благополучие не стоит ставить под угрозу из-за подобной мелочи. Стремиться к желанной цели, конечно, нужно, но – без малейшего нажима. А то ведь эти русские совершенно непредсказуемы…
Она откинула лёгкое одеяло, опустила ноги на ковёр. Словно бы не обращая на присутствие рядом мужа никакого внимания, подошла к большому квадратному окну, несмотря на размеры способному выдержать даже прямые удары волн двенадцатибалльного шторма. Отдёрнула плотную, расшитую почему-то древнеегипетскими узорами и иероглифами штору. Снаружи не было видно почти ничего, только изредка в разрывах быстро летящих туч на минуту-другую проглядывала почти полная луна, освещая картину, способную наполнить ужасом сердца чуждых этой стихии людей, доведись им оказаться среди этих волн на чём-то не столь монументальном и надёжном, как «Валгалла».
Но не буйство стихий за бортом её сейчас интересовало. Она хотела, чтобы Валентин смотрел на неё в красивом, как раз так, как нужно, подсвеченном интерьере и возбуждался от желания, дорисовывая то, что скрывает полумрак и сиреневый шёлк пеньюара (а там, честно говоря, было чем полюбоваться почти каждому мужчине, кроме тех, что ошиблись с ориентацией). Раз уж она из одной сказки вдруг попала в другую, ещё более волшебную (а сколько их ещё? Минимум семь, как в русских матрёшках?), так надо, чтобы всё и шло по-сказочному.
Нужно признать, галльские женщины всё же кое в чём превосходят русских, пусть только в умении подать себя ненавязчиво и максимально эффектно (эффективно – тоже), независимо от качества «имеющегося товара». Эвелин не собиралась ждать милостей от природы и не считала зазорным брать их у неё силой, не думая о всяких феминистских глупостях. Мужчину нужно зажечь, и не так уж важно, каким именно топливом. А если будешь терпеливо ждать, когда он сам дозреет до того, чтобы упасть на одно колено и, прижав к груди (или – лбу) руки, умолять об… этом самом, так прождать можно слишком долго. До завтрашней ночи минимум.
Она повернулась и направилась поперёк спальни к двери в гостиную отработанной походкой, примерно такой, о которой говорила умная, циничная и отвязанная героиня Ремарка, Рене де ля Тур, кажется: «У вас должно быть такое чувство, что вы зажали между ягодицами монету в пять марок – а потом об этом забыли»[38].
Вернулась она совсем скоро, катя перед собой столик с серебряным подносом. Две чашки кофе со всеми полагающимися атрибутами, пепельница, пачка здешних сигарет из имевшегося в каюте совсем не «мини»-бара, и ликёр тоже местный, какого она раньше не пробовала, – «Вана Таллин», судя по этикетке – из разряда крепких, а раз содержался в здешнем баре, то и хороших.
Процессор, стихийно выбирающий из миллионов звукозаписей судовой коллекции подходящие к заказанной теме мелодии, как раз попал на с давних, очень давних лет любимое Лихаревым танго «Дым»[39].
И Эвелин мелодия сразу зацепила, хотя она-то в дополнительной стимуляции не нуждалась. Казалось, будто причудливые пассажи золотого саксофона выговаривают слова, очень точно передающие её теперешнее настроение.
А за этой мелодией пошла следующая, «Ночной Гарлем», так назвал её Валентин, и она тоже была совсем к месту, когда очень аккуратно, незаметным со стороны движением Эвелин помогла своему пеньюару соскользнуть с плеч. И сделала это с явным удовольствием – ей последнее время особо нравился вид собственного обнажённого тела. По причине климата, наверное, в России вся её галльская худоба, для приличия именуемая «стройностью», исчезла, фигура стала, как выражался Лихарев, «обтекаемой», при этом грудь увеличилась на два размера, сохраняя форму и изящество очертаний…
Ночью Воронцов резко сменил курс и на почти предельной скорости увёл пароход на норд-вест, за пределы штормовой полосы. Ближе к Соломоновым островам, под колпаком антициклона погода снова стала вполне курортной, с океаном сине́е неба и редкими кучевыми облаками, своей белоснежной вычурностью оживлявшими бывший бы слишком уж монотонным без них пейзаж. Даже с высоты «Солнечной» палубы и с помощью очень хорошего бинокля ни по какому румбу не видно было самомалейшего творения человеческих рук – ни джонок китайских или малайских пиратов, ни парусников белых торговцев, ни уж тем более посудин посолиднее. Всё ж таки двадцатые годы двадцатого века за бортом, и маршрут адмирал проложил в стороне от сколько-нибудь накатанных морских путей.
– Какая прелесть! – воскликнула Эвелин, глядя за корму, на пенный кильватерный след. Ветерок был совсем слабый, у него едва хватало сил, чтобы вздувать невесомые женские юбки, а уже шестиметровой площади флаг из тонкой шерсти свисал с гафеля совсем неподвижно. Сейчас француженка была в самом лучшем из возможных расположении духа, ибо «ночь любви» у неё сегодня удалась сверх всяких ожиданий, а начинающийся день сулил исключительно новые радости и открытия.
Бывают такие дни, когда с самого начала знаешь, что не один год потом будешь с благодарностью и лёгкой печалью вспоминать «это», и ведь не ошибаешься…
– Скажите, а вам не становится скучно вот так всё плавать и плавать по морям? – вдруг спросила у Натальи Татьяна, когда они расселись за столом для достаточно уже позднего завтрака. – Сколько уже лет? Как Летучие Голландцы…
Воронцов только слегка хмыкнул, услышав вопрос, а Наталья Андреевна начала отвечать благожелательно и распространённо. На то и застольная беседа.
– Ты, Таня, немного заблуждаешься. Не такие уж мы «Голландцы». Тот, насколько я знаю, сходил на берег раз в несколько лет, на один вечер, и если не находил девушку, искренне согласную разделить с ним тяжесть наложенного на него наказания, снова уходил на новый виток кругосветки. По крайней мере, такова одна из легенд об этом недостаточно изученном персонаже. У нас всё с точностью до наоборот. Мы сходим на берег очень часто, и желающих походить по морям вместе с нами предостаточно. Не только из своих, есть достаточно очень достойных и интересных людей в этом Мире. Не так давно Николай Степанович Гумилёв с нами вокруг Африки обошёл, высшие чины Югороссии тоже не прочь нервы подправить в морской прогулке. Врангель был, Кутепов… Ты ведь не забывай, Дмитрий Сергеевич не только вице-адмирал Российского флота, а ещё и начальник службы тыла всего нашего «Братства» и отвечает за такое количество вопросов, что тебе и не представить. Он всегда на связи, всегда готов помочь каждому, где бы тот ни находился. Так что скучать не приходится. Кроме того, на нас содержание новозеландского Форта, освоение прилегающих территорий и постоянный подбор нужного персонала. Знала бы ты, какая у нас текучесть кадров…
– У вас? – искренне поразилась Татьяна. Она была уверена, что человек, которому повезло попасть в Форт или на «Валгаллу», по доброй воле никогда не откажется от такого счастья.
– А ты как думаешь? У меня есть хорошие вакансии. Найди мне несколько человек. На всём готовом и жалованье золотом… В разумных пределах, но больше, чем может заработать хороший человек честным квалифицированным трудом в любом другом месте.
Наталья вдруг стала похожа на себя саму, когда, до встречи с Дмитрием, работала несколько лет прорабом на московских стройках, в том числе и Олимпийских. Приходилось ей решать кадровые вопросы, с рабочими разговаривать на доступном им языке. Правда, в таком качестве никто из здесь присутствующих её не видел. По этой же причине, встретившись с «бывшим женихом», она с огромным облегчением согласилась быть только женой и ни разу за столько лет не пожалела об утраченной свободе и «женском равноправии». Здесь они, при некоторой общности судеб в молодости, с Татьяной расходились диаметрально.
– Беда в том, что мы приглашаем на вольнонаёмную работу в Форт в основном уроженцев или нашей реальности, романтиков-шестидесятников «последнего призыва», или аборигенов из Югороссии. Так вот, первым через некоторое время прискучивает уж слишком комфортная и благоустроенная жизнь, начинает тянуть на подвиги, причём в большинстве случаев именно в Югороссии же, или даже в здешней, троцкистской РСФСР. Ну, это из тех, кто всё ещё мечтает о «социализме с человеческим лицом». Мы не только не препятствуем, а всемерно помогаем, сами понимаете, почему… А «местные» адаптируются хорошо и работают как следует, только все через несколько лет, поднакопив деньжонок, возвращаются в «большой мир». И это тоже полезно, расширяется круг людей, культурно и психологически превзошедших уровень пресловутого «тринадцатого года».
Шутка, увы, пропала впустую, никто, кроме неё и самого Воронцова, да и Лихарева, конечно, не понял, при чём тут именно «тринадцатый» год[40].
– А в остальное время мы много где бываем. Этот мир весь изъездили, в некоторых местах по месяцу и больше жили. Надоест – тогда дальше. Другие реальности тоже посещаем. Вплоть до того, чтобы на громкую премьеру в театр хоть у вас, хоть у нас сходить не затрудняемся. В «цивилизованных мирах» это просто – морем, а то и на самолётике до ближайшего аэропорта – и пожалуйста, Вахтанговский, Ла Скала, БДТ, Бродвей – на выбор. С паспортами и визами, сами понимаете, у нас проблем не возникает, особенно в реальностях, где не было Второй мировой…
Татьяна снова позавидовала Воронцовой. И занятие по душе у неё есть, и мужчина на всю жизнь, а теперь, выходит, совсем не жизнь затворницы, пленницы стальной коробки она ведёт, а совсем наоборот… И неужели они и вправду могут спокойно отправиться на премьеру «Князя Игоря» с Шаляпиным? Невероятно!
Майя тоже задала несколько вопросов в тему. Ей очень хотелось провести недельки две в Югороссии, о которой была достаточно наслышана, но сейчас предлагать такое путешествие сочла неуместным. Как-нибудь в другой раз, и с Вадимом, конечно. Впрочем, одной тоже скучно, наверное, не было бы…
День оказался на удивление длинным, заполненным разговорами, купанием в тропическом океане, другими доступными на борту развлечениями. Особенно это касалось женщин, которым Наталья продемонстрировала удивительную электронную систему, недавно смонтированную с помощью Антона. В ПОСЛЕДНЕЕ время он совершенно забыл о всех налагавшихся на него бывшей должностью ограничениях и начал передавать друзьям ранее категорические запрещённые к распространению технологии, имевшиеся в Замке. Эта, например, позволяла создать на экране свой трёхмерный образ в натуральную величину, а потом проделывать с ним всякие интересные штучки: изменять пропорции тела, черты лица, форму и цвет глаз, причёски… Нечего говорить о том, что свою репродукцию можно было одеть в любую, хоть взятую из каталогов, хоть лично смоделированную одежду, подогнать всё по месту, коснуться соответствующего сенсора на панели и немедленно получить требуемый комплект.
Поначалу это (не репликация одежды, конечно, а возможности экспериментировать с собственным телом) произвело на Майю с Татьяной слегка шокирующее впечатление. При том, что о многих доступных «Братству» чудесах Майя с Татьяной знали. А Эвелин не слышала вообще ничего подобного.
– И что, если я себе на картинке удлиню ноги, переделаю глаза и отращу волосы до колен, то «щёлк» – и со мной настоящей это же сразу и случится? – с некоторым даже испугом спросила француженка. – И навсегда?
– Как захочешь. Вообще-то эта штука больше предназначена для кратковременной корректировки внешности в целях оперативной маскировки, ну, интриг всяких… Через назначенный срок или, если нужно, экстренно норма восстанавливается. Но если тебе на самом деле что-то слишком в себе не нравится, можно и окончательно исправить. Как альтернатива пластической хирургии… И не мгновенно, конечно. В специальном боксе, во сне, чтобы сознание не мешало, за час или за сутки, в зависимости от масштабов вмешательства…
– А потом ещё раз, и ещё, когда втянешься… – со странной интонацией сказала Майя, мысленно, а также и в душе прикидывая, хотела бы в себе что-то взять и поменять? И решила, что если ей гарантируют абсолютное здоровье и нынешнюю красоту на достаточно длительный срок, то и ничего. И так хороша, разве что оттенок глаз. И уши сделать немножечко поменьше и поизящнее. Да, пожалуй, грудь бы немного приподнять и заострить, как у Дианы-охотницы на одной скульптуре. И ноги – ну, сантиметра на два удлинить, а под коленями…
Майя себя одёрнула. Если Наталья позволит, можно будет как-нибудь сесть одной, без посторонних глаз, и вволю поэкспериментировать. На картинке, конечно…
А пока с помощью Воронцовой каждая изготовила себе по комплекту походных одежд для путешествия на планету Валгалла. Исходя из советов Натальи Андреевны. Страшно сказать – за полтораста почти световых лет от Земли отправляются. Но и там, по словам Валентина, имеется своё общество, перед которым следует появиться в приличном виде. Лихарев сам не догадывался, какое там общество собралось сейчас. Он-то с девушками погиб несколько раньше, чем на Валгалле появились добровольцы из Югороссии.
Его гораздо больше волновал вопрос – как будет воспринято Дайяной и курсантами его появление после официально зафиксированной смерти. Впрочем, как-нибудь поймут – на войне всякое случается…
Глава четвёртая
Дайяна встретила гостей на удивление спокойно. В том смысле, что не подала вида, будто удивлена, более того, поражена фактом появления на базе, вместе с нормальными, человеческими женщинами живого и здорового Лихарева. Хотя сама принимала участие в захоронении того, что осталось от него и семерых курсанток, увенчав могилу на сопке обгоревшими обломкам флигера из инопланетных сплавов. Получилось почти как в стихотворении Бориса Слуцкого: «И мрамор лейтенантов – фанерный монумент».
Кое-что она однажды заподозрила, застав Сильвию и аналогов Ляховых в хранилищах агентурного снаряжения на Таорэре. Именно в тот момент, когда незваные гости забирали со стеллажей комплекты, обозначенные личными номерами погибших вместе с Валентином курсанток. Но Сильвия сумела её разубедить, сказав, что берёт эти контейнеры будущих валькирий как раз потому, что они остались без хозяек, под которых настраивались, и никому из питомиц Дайяны никоим образом не пригодятся. Тем более добра этого здесь и так больше, чем наличного (каламбур) личного состава. Наскоро слепленная легенда на удивление сработала, но только потому, что хозяйка Базы и сама не допускала мысли, что проделанный Левашовым выверт из свершившегося будущего в настоящее (которое одновременно и зафиксированное прошлое) через соседнее настоящее теоретически возможен и практически осуществлён.
Но теперь она определённо что-то заподозрила (уже в противоположную сторону) и попросила Майю, Татьяну и Эвелин подождать немного в зимнем саду Главного корпуса, в обществе двух готовых прислуживать гостьям и развлекать их беседой курсанток. Лихареву же движением головы указала в направлении ведущего к учебным классам коридора.
Там, насколько он помнил (всё-таки два года прошло), помещался один из рабочих кабинетов хозяйки, где она решала повседневные хозяйственные дела и беседовала с не удостоенными приглашения в личные апартаменты курсантами, курсантками и обслуживающим персоналом. Как правило, по поводу каких-то малозначительных проступков и упущений.
Обставлено помещение было в среднестатистическом стиле европейского офиса 60–70-х годов. Без крайностей советской помпезности и унылой казёнщины, а так – Корбюзье какой-то: металл, пластик, кожзаменители, отделанные шпоном ДСП, стеклянные столики и этажерки. Когда-то в заграничных фильмах и глянцевых журналах такие интерьеры у граждан СССР вызывали восхищение, вплоть до желания немедленно эмигрировать. Видимо, в те времена и обставлялся кабинет, «чтобы идти в ногу со временем».
Дайяна села в кресло, закинув ногу за ногу обычной своей манерой, не претендующей на сексуальность, но, за счёт фактуры, отнюдь не лишенной её. Закурила неизменный «Ротманс» – других сигарет Лихарев у неё никогда не видел, она курила их всегда, задолго до того, как этот сорт появился в продаже на Земле, ничуть не заботясь об анахронизме. С минуту переводила взгляд с покрытых мачтовым сосновым лесом гор за окном на лицо Валентина и обратно. Ему сигарету не предложила, не в её это было стиле, поэтому Лихарев щёлкнул крышкой своего блок-универсала. Привычно подумал, что со стороны это выглядит странно – одинаковые и весьма дорогие портсигары у совершенно разных по положению и даже полу людей. Впрочем, он не помнил случая, чтобы в прежние времена вместе собирались хотя бы трое координаторов. Это сейчас одних только валькирий на Земле семеро, и если они разом устроят у себя в роте перекур… Забавно будет.
Дайяна подождала, пока он затянется своей «Купеческой», потом ровным, без интонаций голосом, в котором сейчас совсем не чувствовалось ничего женственного, предложила уточнить позицию. Как бы подразумевая сохранение между ними сложившихся за время последнего периода пребывания Лихарева на Таорэре отношений: демократического сосуществования заведомо неравноправных по званию и положению личностей. Вроде как адмирала и капитана третьего ранга, вынужденных жить в общей хижине на необитаемом острове.
Такое самопозиционирование не сломать никакими жизненными неурядицами, в этом Дайяна кардинально отличалась и от Ирины, и от Сильвии. Но в то же время, наученная безусловно горьким для неё опытом последних бессвязных и перепутанных лет крушения всех целей и идеалов, в обстановке реальностей, выгорающих, как сигарета, подожжённая с двух концов, мадам усвоила, что и она сама, и ранее безраздельно подчинённые ей люди и «не совсем люди» перешли в совсем другое, новое для всех качество. И жить надо по-другому. Это она поняла окончательно после «поединка воль» на Центральной базе, где проиграла всё по единственной, считай, причине – она не предполагала, что Андрей Новиков умеет «не думать о белой обезьяне»[41]. И после этого окончательно решила – никаких авантюр больше не затевать, с «Братством» поддерживать отношения «благожелательного нейтралитета». А после внезапного вторжения прямо в её учебный городок десанта дуггуров нейтралитет превратился в настоящий, скреплённый совместно пролитой кровью боевой союз[42].
Только, похоже, никто из прибывших сейчас к ней в гости об этом ещё не подозревает. Ну и хорошо, тем интереснее будет дальнейшее.
Она осведомилась, какой именно перед ней Лихарев, откуда он родом, проще говоря. Вполне могли «братья» взамен действительно погибшего ввести в игру и того, как бы для них исходного, из тридцать восьмого года, и в двадцать пятом ранний прототип к своим делам привлечь, или пригласить нужного им фигуранта из любого, хотя бы случайно пересекшегося с данным (а какое оно – данное?) времени.
Валентин не стал умножать сущностей, в будущем никчёмная сейчас ложь вполне могла принести ненужные осложнения. Коротко сказал, точнее, доложил, как оно всё произошло, без всякого его участия, тем более желания, и сразу же – о том, что социализация выживших вместе с ним курсанток произошла в облюбованном для себя мире вполне успешно. Не зря, мол, старались, правильно учили, раз приспособились девушки мгновенно, и по службе успехов и наград добились, и на личном фронте у большинства дела обстоят наилучшим образом.
– И ты себя после всего этого нормально ощущаешь? – отстранённо, словно бы думая совсем о другом, спросила Дайяна.
– А после чего, собственно? – удивился Валентин. – Сам по себе межвременной переход ничуть не сложнее, чем я с вами или самостоятельно совершал. А про «смерть» мне уже потом рассказали. Может быть, тот, что здесь под холмиком остался, мог бы сказать что-то действительно важное, а я… – Он развёл руками.
Аггрианка кивнула.
– И сколько вы там у себя уже прожили?
– Да почти два года, если дней не считать. Ваша любимица двести восемьдесят седьмая уже до штабс-капитана дослужилась, крестов заработала больше, чем у нормальной девушки брошек. Замуж за натурального графа выскочила… Остальные – немногим хуже, а кое-кто и лучше.
– Молодец, – кивнула Дайяна. – Для того и учили, невзирая на беды и катаклизмы. Из тебя вон тоже – в друзья наследника царского престола готовили, а получился сталинский порученец. Только я не уловила – с чего ты взял, что именно двести восемьдесят седьмая – моя любимица. До выпуска они все для меня, как патроны в обойме.
– Ну, как же? Вы ж именно её к Новикову в постель подложили, от чего она, как я слышал, неожиданные способности приобрела. Словно бы он ей что-то от своей натуры передал. То же самое, кстати, получилось и с одноразовыми подружками Левашова и Шульгина… Я имел возможность наблюдать и сравнивать. Они – самые успешные и… своеобразные.
– Вот это – интересно. Вечером встретимся, ты мне подробно и тщательно всё расскажешь. Полезная информация. Заодно меня интересует, как эти ваши… Фёст и Секонд распорядились спецкомплектами, что Сильвия им взять помогла. – Она скептически скривила губы: – Вообразили, что я не заметила, как они хватали контейнеры с нижних полок. А я не стала делать им замечания… Решила, что мы теперь квиты, и всё.
– Об этом, пожалуй, ничего не скажу, не знаю просто. Даже о том, что они их получили, не знаю. Мы с ними на эту тему не беседовали. Они хоть активированы были?
– В пределах своей компетенции Сильвия может с ними управляться. Для Земли и использования обычными людьми это более чем достаточно. Но, наверное, пойдём, невежливо заставлять гостей ждать слишком долго. – Она притушила в пепельнице из большой тропической раковины докуренную чуть дальше половины сигарету, встала, одёрнула юбку, которая, всегда и любого покроя, имела у неё свойство как бы сама собой, но именно в нужные моменты, сбиваться очень высоко. Это при том, что Лихарев никогда не замечал за ней ни малейших намеков на какую-либо активность в эротическом плане. Ни в отношении себя, хотя они прожили с ней на Таорэре несколько месяцев практически вдвоём, не имея никаких причин, поводов и оснований сдерживать свои эмоции (если бы они возникли), ни вообще кого-либо из мужчин, попадавших в круг её деловых интересов. Разве только допустить, что она в условиях строжайшей секретности проводит «индивидуальные занятия» с воспитанниками и воспитанницами выпускного курса. А почему бы, кстати, и нет? Римские матроны активно пользовались услугами рабов, и это отнюдь не влияло негативно на их моральный облик.
Дайяна поймала направление и угадала смысл его взгляда, опять усмехнулась самыми краешками губ.
– Пошли. Только последний вопрос – ты и твои друзья догадываетесь, что здесь у нас прошло немногим больше двух недель? И могут быть… недоразумения.
– Мне незачем о чём-то догадываться, это в любом случае бессмысленно, а вот мои друзья – те, с кем я контактировал последнее время, – наверняка просто не думают об этом. Сейчас, – счёл он нужным уточнить. – Никого из них напрямую проблема синхронности не волнует.
– Тогда и тебя и их ждёт сюрприз, надеюсь – приятный…
Тут Дайяна не ошиблась, да и не могла ошибиться. Что сюрприз, то сюрприз. Для парадной встречи «представительной делегации», которой она решила придать статус дипломатической высшего ранга, в Большом актовом зале Главного корпуса было устроено настоящее парадное построение. Без шуток. Впрочем, строевой подготовке на Базе во все времена уделялось серьёзное внимание как важному учебно-воспитательному моменту. Отчего все семь валькирий так легко и естественно влились в состав Российской Императорской армии.
Зал и сам по себе был хорош – в какие-то давние времена создания Базы тогдашние дизайнеры скопировали аналогичные помещения земных дворцов девятнадцатого и восемнадцатого веков. Едва ли из любви именно к такой архитектуре. Скорее из прагматических соображений. Например – проводить социализацию будущих выпускников в конгениальной предполагаемым карьерам обстановке. Кому – коронационный ужин Александра Третьего, кому – помолвка внучки семнадцатого герцога Нортумберлендского. И проассоциироваться у разных людей он мог с чем угодно. Правильно задекорированный. Лихареву, например, он больше всего напоминал Столовый зал (так он назывался, хотя использовался и для других, более торжественных целей) Петербургского Морского корпуса, где им, пажам, бывать приходилось регулярно.
Огромная, почти соборная высота чуть выгнутого потолка, малахитового и расписанного золотом. Почти достигавшие его сводчатые окна, и между ними – мрамор, опять золото, связки каких-то знамён и тонны древнего рубящего и колющего оружия. И ещё статуи, мраморные и бронзовые. Фидий – не Фидий, но кто отличит?
Из всех измерений зала Лихарев навскидку мог назвать только длину – восемьдесят метров. Ну, ширина – в пределах двух третей. Говорят, что под мощный духовой оркестр на хорах в Корпусе, о котором вспомнил Валентин, могло легко танцевать до двух тысяч пар. Говорят… Вернее, говорили, конечно…
Сейчас при их появлении духовой оркестр не грянул «Встречный», он же – «Грибоедовский» марш, но остальное всё равно впечатляло. Сама собой у Валентина мелькнула мысль, что или Дайяна от безделья с ума чуть сдвинулась и решила в солдатики поиграть, или некий психологический «месседж» в сём действе присутствует. Намёк, по-русски выражаясь.
Здесь был выстроен не только личный состав двух старших курсов этого училища, а можно сказать, и Академии, принимая во внимание уровень образования и квалификации выпускников, но и оставшийся на случай очередного внезапного вторжения дуггуров югоросский офицерский взвод с бравым подполковником Мальцевым на правом фланге. Все в строевой корниловской форме, чёрной с красным, и даже при орденах. Это могло бы выглядеть каким-то цирком – и само построение, и смешение в одном строю трёх взводных коробок красивых девушек в оранжевых костюмах, взвода парней, тоже очень видных собой (Лихарев был примерно таким же сотню лет назад), и боевых офицеров, одетых в мундиры тоже столетней давности. Но отчего-то не выглядело.
Строй отражался в навощенном до зеркального блеска паркете, и хорошо, что в высокие окна не светило солнце – смотреть бы было невозможно.
Показалось Валентину, что Дайяна сейчас скомандует, как положено: «Батальон, смирно! Для встречи справа слушай на кра-ул!».
По штатам старого времени, независимо от реальной численности кадет, курсантов и воспитанников, военизированные учебные заведения в строевом смысле приравнивались к батальону. С петровских времён так пошло, хотя в Пажеском корпусе личного состава было, к примеру, вшестеро меньше, чем в Морском, где числилось целых восемь полных рот, включая две гардемаринские, то есть с обслуживающим персоналом и «подразделениями обеспечения учебного процесса» набирался почти полк.
Здесь сейчас, как мгновенно, не считая, просто окинув взглядом, определил Лихарев, в строю находилось двадцать три югоросских офицера в чинах от поручика до капитана и 118 курсантов обоего пола, из них парней всего девятнадцать. Впрочем, такая же примерно пропорция имела место и во время лихаревского ученичества. По необъясняемым причинам аггрианское руководству удовлетворялось соотношением среди своих координаторов один к пяти, что зеркально отражало половую структуру человеческих (точнее – земных, поскольку все курсанты были биологически людьми, только доведёнными до возможного совершенства) организаций такого рода. Какой-то смысл в этом очевидно был, только Лихарев никогда не пытался в него вникать. А задавать вопросы, не имеющие отношения к изучаемым предметам или правилам внутреннего распорядка, у них не полагалось.
В частности, Валентин (и любой другой курсант) понятия не имел, по какой причине категорически исключались личные контакты между ними и девицами, хотя в теории сексология и сексопатология, а также их использование в будущей практической деятельности изучались весьма подробно и в девичьих, и в мужских группах. Вот бы и тренировались друг с другом (вернее – с подругой). Но нет. Зачёты сдавались лишь на Земле, во время «преддипломной практики». За эти два-три месяца окончательно определялось и наиболее подходящее место деятельности выпускников, и даже их ранг. В отличие от земных училищ здесь отнюдь не все «выходили в полк» лейтенантами или подпоручиками. Можно было и в «сержанты» залететь, младшим секретарём при резидентуре, и сразу самостоятельную должность получить, вплоть до координатора целого континента.
Разумеется, та дисциплина, о которой зашла речь, профилирующей не считалась, но иногда оценка по ней могла серьёзно повлиять на «итоговый балл».
А отношения между курсантами исключались, видимо, потому, что считалось, будто подобные отношения могут разрушить крайне жёсткую аггрианскую иерархию. Кое-какой резон здесь был – женщины обычно занимали более высокие посты во внутренней иерархии, и каким бы образом та же Сильвия могла эффективно руководить им, Лихаревым, и ещё десятком агентов-координаторов мужского пола, имей она с ними в прошлом интимные, причём весьма непростые, как раз по причине сильного полового дисбаланса, связи?
В людских коллективах такое, как известно, случается, но почти всегда – с обратным знаком. Женщина-начальник обычно удовлетворяет свои потребности на стороне, а не с подчинёнными в обеденный перерыв.
Не зря, наверное, у паучих принято съедать партнёра после завершения брачных игрищ, а у некоторых и до, в том случае, если предлагающий руку и сердце самец не сумеет произвести должного впечатления.
При этой мысли Валентин испытал понятный дискомфорт и порадовался, что за время жизни на базе Дайяна не почтила его своим вниманием. При том, что её формы и стати были вполне в его вкусе. Этакая Венера Милосская, только с руками, и талией потоньше. А в целом – похоже.
Из-за всех этих мыслей и нахлынувших на вообще-то не сентиментального Лихарева воспоминаний он даже не сразу заметил, что у дальней стены зала справа, в креслах среди кадок с экзотическими (свойственными южным широтам Таорэры) растениями расположилась ещё одна группа гостей – Ирина, Лариса, Анна Шульгина, Алла Ростокина и сам Олег Левашов, непонятно из какого места и времени сюда попавший. Ну, слава богу, раз и он и Лариса здесь, то о судьбе экспедиции Новикова можно больше не беспокоиться. Да, честно говоря, она из гостей с Земли занимала только самого Лихарева в какой-то мере.
Вопреки логике, уставу и ожиданиям команды «К торжественному маршу!» подано так и не было. Дайяна вполне штатским голосом и тоном представила своим питомцам и белым офицерам вновь прибывших гостей, а гостям, в свою очередь, сообщила, что здесь собраны абсолютно все несостоявшиеся выпускники и выпускницы, и она будет очень благодарна, если ей помогут решить их дальнейшую участь наиболее благоприятным образом.
Ничего не оставалось, как пройти вдоль строя, расточая улыбки, полупоклоны, а Валентин вдобавок перебрасывался несколькими словами с некоторыми девушками и парнями. Из тех, что занимались последнее время в курируемых им группах.
Лихарев обратил внимание, что на куртках курсантов и курсанток больше нет ленточек с номерами, у всех нормальные, по преимуществу русские имена. Повторяющиеся, что было нередко, те да, по традиции имели цифровую добавку – «Елизавета-2» или «Татьяна-5», но это только до поры, когда обстановка потребует дать им окончательные фамилии и отчества.
– Ты правильно понял, – негромко сказала Дайяна, когда они закончили обход строя и процедуру личного знакомства с каждым из офицеров-югороссов. – Я решила «инициировать» всех, потому что продолжать держать их здесь в прежнем качестве – полная бессмыслица. Я и без тебя уже решила перебазироваться на Землю. Только ещё не решила, куда именно. Господа офицеры предлагали к ним, в Югороссию. Изобилие рук и сердец гарантировали. И желающих среди моих девочек не так уж мало. Некоторые уже подобрали себе пары, это в основном девочки, что рядом с «добровольцами» воевали. Но обе стороны ждут моего благословения. Лариса приглашала любителей экстрима к себе в РСФСР. Левашов считал, что лучше бы всем воссоединиться в твоих владениях и даже имеет некие конкретные предложения..
– Понятное дело. Думаю, тем, кто мечтает замуж, не стоит препятствовать. Остальным лучше ко мне. В компанию к подружкам. Парням тоже работа найдётся. Война на носу, а соответственно, славы и орденов на всех хватит.
Конечно, как исстари заведено, рядовой состав после представления был отправлен в места расквартирования, а для прочих был организован не протокольный банкет, а нечто вроде приёма «а ля фуршет» в длинной анфиладе дворцового типа, где за нереально короткое время были накрыты столики и вообще сделано всё, к подобному мероприятию относящееся. Здесь общаться можно было совершенно свободно, причём Майю с Татьяной в основном расспрашивали Ирина с прочими дамами, всё ж таки на оставленной ими Земле два года прошло и множество разных событий личного и государственного планов совершилось. Гостий, наоборот, интересовали местные обстоятельства, о которых они имели самые отрывочные представления, примерно как среднеобразованный современник Данте о ситуации в северо-восточных княжествах Средневековой Руси. Настроение у большинства присутствующих было приподнятое, пусть и по разным причинам.
У Дайяны исчезла наконец неопределённость насчёт будущего для ста с лишним курсантов и курсанток, дальнейшее существование которых на Базе давно превратилось в утомительную бессмыслицу. Вроде как десятилетняя жизнь и служба на кораблях бывшего Российского Черноморского флота, медленно ржавевших в Бизерте. Казавшиеся раньше необходимыми ритуалы совершались просто по инерции.
Да и угроза нового вторжения дуггуров продолжала оставаться вполне реальной. Стоило лишь врагу учесть допущенные тактические ошибки и заодно хотя бы утроить численность отряда вторжения – мало чем помог бы воинству Дайяны взвод корниловцев. Сражаться и умереть всем, как японцам на Иводзиме[43], – единственная альтернатива эвакуации.
Оставалась, конечно, возможность по полной программе использовать оборонительный потенциал всех имеющихся на Базе блок-универсалов, но это ненадолго оттянуло бы печальный финал. Превратить всю прилегающую местность в выжженную пустыню – и как потом в этой «Долине смерти» выживать? Нет, очень вовремя появился на Таорэре Лихарев. Теперь эвакуацию можно провести не спеша и организованно, а не как из Новороссийска в 1919 году.
Корниловцы истомились от продолжительного безделья и монашеского образа жизни. Далеко не все из них сумели наладить сколь-нибудь неформальные отношения, пусть и чисто платонические, с курсантками. А тут появилась перспектива скорого возвращения домой, а перед ним – по-царски накрытые столы с очевидной возможностью гулять до утра и три новых персоны дамского пола, пусть и с сопровождающим, так всего одним. Флиртовать и ухаживать напропалую Лихарев офицерам запретить не мог. А гостьи оказались мало что чертовски хороши собой, так ещё и через мужей принадлежали к военному сословию, то есть способны были правильно относиться к офицерскому поведению и манерам.
Майе, Татьяне и Эвелин было просто интересно всё окружающее – и люди, и здание, и пейзажи за окнами. Особенно действовало, конечно, осознание того, что они сейчас настолько далеко от Земли пространственно, что Солнца и в виде самой слабой звёздочки на небосводе на различишь. А в каком времени находятся – лучше и не задумываться. Зато комплименты и прочие проявления внимания со стороны боевых офицеров из глубокой древности, украшенных шрамами, орденами за Мировую и наградными знаками – первопоходников, марковцев, дроздовцев и даже последних каппелевцев за Гражданскую, – они принимали с удовольствием.
Впрочем, Ирина с Ларисой и две другие «сестры» тоже не были обделены вниманием, с ними было даже проще, всё-таки давние, с незапамятных времён, знакомые, и каждая являлась тайной или вслух объявленной «дамой сердца» сразу нескольких офицеров, особенно рейнджеров двадцатого ещё года.
Анфилада располагалась на четвёртом этаже Главного корпуса, как бы в мансарде с прозрачными до полной невидимости материала стенами и потолком. Вид отсюда на окрестные горы, покрытые лесом, открывался великолепный, не хуже, чем в Альпах или окрестностях Домбая.
Пристроившись за плотной шторой у открытой балконной двери, чтобы покурить, Майя рукой поманила проходившего мимо Лихарева. Имелся у неё вопрос практического характера, на который только он мог ответить квалифицированно и не устраивая тайн из пустяков. Каким образом организовано снабжение столь удалённой от Земли Базы вполне свежим и разнообразным продовольствием и напитками? Едва ли малая часть этого могла бы производиться на месте, разве что мясопродукты и овощи. Но уж никак не напитки. Причём, как она заметила опытным глазом «светской львицы» и профессиональной разведчицы – из разных времён и даже реальностей. Достаточно внимательно на этикетки посмотреть.
– Не так уж сложно. Как нам ещё на первом курсе объясняли, существует вполне автономная и автоматизированная «Линия доставки» всего нужного с Земли. Имеются специальные машины, по внепространственному каналу извлекающие из всего спектра освоенных… агграми времён (перед «агграми» он сделал совсем маленькую, едва заметную заминку) всё, что угодно, в качестве образцов. Потом на молекулярном уровне нужные изделия дублируются в потребных количествах…
Заметил на лице Майи подобие брезгливой гримаски.
– Нет, можешь не опасаться. Копии настолько абсолютные, что новорожденных младенцев можно дубликатом материнского молока поить, и они разницы не заметят. Почему с Земли, спросишь? А потому что Метрополия совсем даже не землеподобная, никакое снабжение оттуда невозможно. И аггры – не совсем гуманоиды. Без спецскафандров и вне приспособленных помещений здесь жить не могут. Зато Земля и Таорэра – абсолютные близнецы, только география немного отличается.
– А как же? – совсем уже удивилась девушка, раньше ни о чём подобном она не слышала и, общаясь с Ириной, искренне считала, что она и вправду инопланетянка, просто стопроцентно антропоморфная, как в романах у Ефремова написано.
Валентин всё понял и предварил окончание вопроса ответом.
– А мы все – самые обычные люди. Земляне. Просто искусственно выращенные в специальных инкубаторах по определённым программам, и сразу до шестнадцатилетнего примерно возраста. Со всем доступным к этому возрасту набором знаний и умений. А дальше начинается уже собственно профессиональная подготовка.
Непонятно что нашло на Лихарева, скорее всего – разговор с Воронцовым подействовал и осознание того, что прежние игры закончены навсегда. И тайн теперь по поводу Таорэры и аггрианской агентуры не может быть никаких. А ведь раньше даже Ирина избегала слишком детально излагать Новикову кое-что из своей прошлой жизни.
Но Валентину сейчас было даже интересно. Мадам Ляхова ему нравилась, был в ней особый аристократический шарм, который напрочь отсутствовал и у Татьяны, и у всех остальных женщин «Братства», за исключением, может быть, Ларисы. Даже Ирина при всех её статях и совершенстве тут не тянула – её ведь как советскую девушку конца шестидесятых годов готовили, а не для Пажеского корпуса, как его самого.
Хотелось посмотреть, не дрогнет ли что в её лице, когда она узнает, что имеет дело с монстром своего рода, выведенным «в пробирке» неизвестно из какого материала. Тут ведь нужно учитывать ещё и то, что в её мире репродуктивная биология и медицина делали только самые первые шаги.
Но нет, ничего, разве только любопытства в глазах прибавилось. Надо же, казался нормальным человеком, а оказалось – гомункулюс какой-то.
– Размножаться, значит, вы тоже можете? – только и спросила она, теперь уже Лихарева слегка ошарашив.
– Да, а к чему ты спрашиваешь?
– Чтобы знать. А почему тогда ни у кого из вас нет детей?
– Кого – вас? Ты только меня и Ирину знаешь. Остальные в «Братстве» – совсем обычные люди. У меня дети, наверное, есть, и не один. Я в этом вопросе никогда себя не сдерживал. А Ирину… У неё и спроси, если смелости хватит…
Он хотел сказать проще – «нахальства», но в последний момент смягчил выражение.
– А меня это как раз не касается. Я и сама такая. Знаешь, движение недавно появилось, «чайлдфри» называется… Ну, это когда женщины сознательно не желают иметь детей, поскольку беременность и прочее лишают их истинного равноправия…
Лихарев о таком слышал, но это очередное извращение возникло и приобретало всё большую популярность совсем не в реальности Майи. Впрочем, сейчас всё так перепуталось, люди, даже самым краем прикосновенные к «Братству», смотрели фильмы, читали книги из самых разных параллелей и времён и сами то и дело попадали в «параллели». Оно, может, и к лучшему, чрезмерная открытость нередко способствует сохранению тайн куда лучше, чем зверски-серьёзная упёртость секретчиков, со всех сторон огороженная уголовными статьями, допусками и «подписками о неразглашении». На собственном опыте Валентин в этом убедился.
А Майя расспрашивала его об интересных для неё деталях, потому что окончательно решила для себя стать полноценной участницей этого увлекательного «карнавала». Ну, как в прежние времена в Европе или сейчас в Бразилии – на несколько дней улицы и площади городов превращаются в нечто невероятное и загадочное, где не действуют прежние законы и правила морали, и люди ведут себя… Ну, не так, как весь прошлый скучный год и такой же будущий. И она представила, будто вокруг этот карнавальный, бесконечный, непостижимый город, в то время как сама она пребывает, заточённая, в тесной комнате с наглухо зашторенными окнами. И неважно, как отнесётся к её желаниям Вадим. Поймёт – хорошо, нет – ему же хуже. Своим идеалом она сейчас видела Ларису – красивую, сильную, независимую, умную, необузданную в желаниях и крайне рассудительную, когда в этом есть необходимость. Тем более уж она, как окончательно подтвердил Валентин, полностью земная женщина, никаким образом не «инкубаторская».
– Но должно же в вас присутствовать и что-то такое, нечеловеческое? – продолжила она расспросы с лёгким замиранием сердца. Интересно до невозможности и страшновато в то же время. Этакие новые Маугли, воспитанные негуманоидами. Она и раньше имела возможность несколько раз убедиться в необыкновенной физической силе довольно изящно сложенной Ирины и невероятной быстроте реакции и иных сверхспособностях самого Лихарева. Но избегала касаться этой темы.
– Да ничего такого, – Валентин понял смысл интереса девушки[44]. – Всё по науке. Просто доведённые до физиологического предела возможности абсолютно здорового человеческого организма. «Сотку», скажем, за девять-ноль суперспринтер в ближайшие лет двадцать пробежать сможет, а я и сейчас могу. А быстрее уже строение организма не позволяет. То же и с мышечной силой. Ограничивается только прочностью костей и связок. Выносливость – как если бы постоянно на фенамине или кокаине существовать. Индейцы колумбийские листья коки постоянно жуют и за сутки по горам с грузом больше проходят, чем наш горноегерский спецназ. Правда, до тридцати редко доживают. Тут нам без гомеостатов никуда. Или живи, как все, или от нервного и физического истощения сгоришь в неделю.
– Да, очень интересно, – сказала Майя. На самом деле, это же ужас как классно! На вид – ничем не примечательная барышня (тут она слегка пококетничала сама с собой), а по скорости – гепард (или – гепардиха), по силе – горилла, по реакции – южноамериканский паук. И никто не догадывается, а догадается, поздно будет.
– И с нами, взрослыми, такое можно проделать? На пароходе Наталья Андреевна показывала нам, как внешность менять. А дальше?
– Можно. На универсальном гомеостате можно полную реконструкцию пройти. Но тогда уже нужно ручной постоянно носить или непрерывно самоконтроль поддерживать. Забудешься, захочешь с земли на крышу, как кошка запрыгнуть, и пожалуйста – мышцу, да не одну, вместе с куском кости оторвешь сама себе…
– Ладно, это ещё не сегодня будет, – усмехнулась Майя и вдруг спросила: – А почему ты со мной только сейчас откровенничаешь, а до этого два года ваньку валял?
Лихарев сейчас смотрел на Майю какими-то другими глазами. Всё время знакомства он воспринимал её только как жену одного из младших «братьев», и никаких особых, мужских эмоций она у него не вызывала. Как, впрочем, и Лариса тоже. Ту он скорее остерегался, как разумный человек остерегается пусть и прирученную, но всё же от природы дикую пантеру. Да Лариса и сама культивировала у окружающих этот образ. А сейчас он почувствовал, что ещё немного, и эта станет почти такой же. Не многовато ли на одну компанию? Хорошо, что теперь они окончательно «в одной лодке», остерегаться никого не нужно, даже наоборот.
И одновременно Валентин почувствовал к Майе нечто похожее на внезапное влечение. Раньше ему вполне хватало одной Эвелин и для души и для тела. А сейчас вдруг представилось…
– Какого такого я ваньку валял? – взял себя в руки Валентин. – Ты мне кто была? Случайная, хотя и хорошая знакомая. Не больше. Ты ведь со мной не делилась, даже в подходящей обстановке, своими семейными, а тем более внесемейными тайнами? Я вот, признаться, не знаю, осталась ты в штатах прокурорской «генеральной инспекции» или выбыла «по семейному положению».
Лихарев посмотрел на неё с замаскированной, но не так, чтобы она была совсем незаметна, усмешкой.
У Майи слегка загорелись щёки. Сама по себе «Генеральная инспекция Российской императорской Верховной прокуратуры» была весьма засекреченным подразделением, де-юре не существующим, и о причастности к ней Майи, дочки Генпрокурора, по собственному классному чину – титулярному советнику Бельской, из всех входивших в круг её знакомств знал только муж и в какой-то части – Тарханов. Ну, генерал Чекменёв, само собой, но тот вообще знал в Империи всё и всех. Для всех прочих она была лишь кавалерственная дама (что ощутимо выше) Ляхова.
Но откуда об этом знать Лихареву? Майя действительно, выйдя замуж, была переведена в «резерв второй очереди», и два года о ней в «конторе» никто и не вспоминал, на другой уровень она перешла, и по отцовской должности, и по мужу.
– Кто тебе сказал? – и тут же прикусила язычок. Однако Валентин не стал задерживаться на этой будто бы случайной проговорке. Намекнул на степень своей осведомлённости – и достаточно.
– А теперь, исходя из того, что мы с Воронцовым обсудили, союз у нас заключён прочный, я бы даже сказал, «аншлюс» «Братства» и нашей с Дайяной корпорации. Теперь какие-либо тайны всякий смысл потеряли, напротив, чем больше мы друг о друге и в личном плане и в, так сказать, общеобразовательном узнаем, тем успешнее наше воссоединение происходить будет. Уловила смысл?
– Да уж как не уловить. Я, признаться, очень этому рада…
– Ещё бы. Теперь уж точно твоя мечта исполнится…
– Ты какую имеешь в виду?
– А у тебя их много? По-моему, одна и есть, остальные вокруг неё, как спутники, крутятся. Жить вечно молодой и красивой, долго и счастливо, в своё удовольствие…
– И что в этом плохого, – вскинула Майя подбородок.
– Ничего абсолютно, за одним исключением – осознание реальности лично твоей, не загробной, а текущей вечной жизни ужасно отравляет жизнь повседневную. Настолько усиливает страх случайной, она же в просторечии «нелепая», смерти, что может превратить человека в вечно дрожащую тварь.
– Тебя же и остальных не превратило пока? – с вызовом спросила девушка.
– А откуда тебе знать?
– И у вас гомеостаты есть…
– Примерно то же самое, что аптечка первой помощи у солдата или страховочная верёвка у альпиниста. Дело совсем в другом, и этому придётся учиться…
– Чему же?
– Да тому, что надо вообще забыть о том, что ты по наивности называешь «бессмертием». Не думать о нём, как в двадцать лет не думают о неизбежной в любом случае смерти. Живи каждый день, как последний. Господь Бог каждому обещает жизнь вечную, но не гарантирует завтрашний день.
Этот интересный, начинающий уже переходить в богословский диспут разговор прервали подошедшие к ним вдвоём Дайяна и Ирина. Майе, по причине слабой погружённости в историю «Братства» и вообще проблему отношений «ренегаток» первого, второго, а теперь и «третьего призыва», это странным не показалось, но Лихареву сказало многое.
– О чём секретничаете? – тоном любезной хозяйки, считающей своим долгом уделять внимание всем гостям, сколько бы их ни было, спросила Дайяна.
Майя впервые видела воочию и совсем рядом всемогущую, в её представлении, владелицу целой планеты и представительницу иной цивилизации, бесконечно далёкую от землян. Слышать о ней приходилось, и не всегда отзывы были лестными.
Сейчас же это была очень светская и очень милая дама, зрелой, как говорится, красоты. Пожалуй, Сильвия, и та рядом с ней хоть немного, но проигрывала бы.
– Ни о чём не секретничаем, – ответил незаметно для себя подтянувшийся Лихарев, словно капитан при виде генерала, и Майя вслед предыдущим мыслям подумала, что у «аггрианок» красота относится к разряду своеобразных «знаков различия». Чем чин выше, тем и «вторичные половые признаки» эффектнее. Впрочем, во всём биологическом мире точно так же. – Просто обсуждаем нашу дальнейшую жизнь…
– Вы тоже? – удивилась Дайяна. – Мне кажется, что вы настолько хорошо знакомы… Едва ли в вашей жизни что-то может измениться.
– Напрасно вы так думаете, – вдруг вступила в разговор Майя. – Мне, наоборот, кажется, что у каждого из нас жизнь изменится самым кардинальным образом. Даже один новый человек способен перебаламутить всё общество. Как тот же Печорин, явившись «на воды». А вас тут сразу вон сколько…
– Тонкая мысль, – слегка улыбнулась Дайяна. – И как же вы видите себе наше ближайшее совместное будущее?
– Я, знаете, как-то и не задумывалась, я вас всех здесь только что впервые наяву увидела… – растерялась Майя.
– Тогда я попробую за вас… Как бы вы отнеслись, если бы я предложила всем вам, женщинам и мужчинам «императорской» реальности, если таковые желание изъявят, принять участие в работе попечительского совета учебного заведения, которое я решила открыть? Некий гибрид Смольного института и Пажеского корпуса. – Она мельком взглянула на Лихарева и лучезарно улыбнулась как раз в этот момент оказавшемуся рядом подполковнику Мальцеву. Тот, естественно, мгновенно растаял, ибо с первых дней своего здесь пребывания облизывался на Дайяну. Очень ему эта властная, а главное, «с формами» дама понравилась. Такую бы жену в его имение под Гурзуфом привезти… Ещё та получилась бы помещица, да и в постели, наверное, долгими зимними штормовыми ночами с ней было бы… уютно.
– Как, полковник, пойдёте, скажем, старшим инспектором классов[45] в мой институт, когда на Землю переберёмся?
– Непременно, ваше сиятельство (отчего-то он с первого взгляда решил, что Дайяна ниже чем княгиней быть не может, и обращался к ней именно так), могу инспектором классов, могу начальником строевой части, – тут же согласился Мальцев, сделав вид, что подкручивает ус, вроде как майор на известной картине Федотова. Однако не преминул сразу же обозначить уровень своих притязаний, ниже которого спускаться не собирался. Не курсовым же, на самом деле, офицером! А профессорская должность по его специальности диверсанта широкого профиля вряд ли предусмотрена в штатном расписании Института благородных девиц.
– Видите, Майя, один коллега у вас уже есть. А вы, насколько мне известно, вместе с вашим мужем и подругами приняли самое непосредственное участие в социализации семерых моих воспитанниц, к сожалению – трагически погибших…
При этих словах Мальцев с изумлением посмотрел на Дайяну, потом перевёл взгляд на Майю.
– Не удивляйтесь, капитан, это просто такая фигура речи, – успокоила его Дайяна. – Кстати, подготовку мы намереваемся организовать в месте, хорошо вам знакомом. Там, где вы сами проходили курс молодого бойца…
– Простите, на пароходе или на острове? – уточнил Мальцев.
– Сначала на пароходе, я думаю, а потом найдём подходящее место.
– С удовольствием туда вернусь, – прищёлкнул каблуками офицер. – А, простите, сколько инструкторов из моих людей вам потребуется?
– Да хотя бы и все. Курс подготовки я планирую весьма разносторонний, всем дело найдётся.
Лихарев догадался, о чём секретничали перед этим две аггрианки. Странно немного, что они так быстро договорились. Впрочем, нет, отчего же странно? Ирина с подругами провели на Таорэре больше двух недель. Вполне могли всё обсудить и принять взвешенное взаимовыгодное решение. Согласованное с Воронцовым? Или просто так совпало? Да нет, конечно, они советовались, и только когда всё было решено, Воронцов пригласил к себе Валентина. А он удивлялся видимой нелогичности слов и поведения адмирала, этой странной затее с переброской женщин из находящегося в глубоком тылу Кисловодска сюда. Всё пытался найти логику. А она и была, только не там, где он её искал.
– Так что, сегодня и переправляться думаете? – только и спросил он, тщательно спрятав все мимические отражения своих мыслей.
– Начнём сегодня. Только не всех сразу – зачем континуум чрезмерно возмущать? Он ведь вроде паутины – начнёт дрожать, и непременно вскоре паук появится. Дайяна, как капитан, остаётся здесь до конца и будет руководить переправой личного состава и снаряжения, которое может понадобиться. Ты, Валентин, тоже здесь побудешь, а на пароходе мы прибывающих примем, – вместо Дайяны ответила ему Ирина. Лихарев удивился, как она вдруг изменилась. Ему казалось, что бывшая координатор совсем забыла о своём прошлом, превратившись в обычную, слегка даже меланхоличную женщину, которую мало что волнует, кроме личных, непосредственно насущных проблем, а сейчас он видел совсем другую Ирину.
Такой она была последний раз, пожалуй, в Севастополе, когда занималась реконструкцией старых броненосцев, с погонами старшего помощника судостроителя на кителе. Правда, сам Лихарев её в этой роли не видел, но слышать – кое-что слышал.
Похоже, что-то вокруг изменилось, а он, при всех его способностях, этого дуновения не уловил.
«Валгалла» была способна принять в свои каюты около двух тысяч пассажиров, считая и четырёхместные каюты третьего класса, да ещё по проекту прототип «Мавритания» имел каюты и кубрики для такого же количества обслуживающего персонала. Эти помещения Воронцов, работая над пароходом на верфи Замка, убрал, использовав освободившиеся объёмы для других целей, но пассажирскую зону значительно усовершенствовал в сравнении с оригиналом. Не считая двух самых верхних, целиком занятых под «жилплощадь» «действительных членов» «Братства», на остальных палубах надстройки размещались около сотни кают «президентского», люкс и первого классов, превосходивших комфортом те, что предлагаются на круизных лайнерах уже двадцать первого века. И ещё пятьдесят двухместных кают второго класса на палубе «Б» предназначались для всякого рода «специальных случаев».
Поэтому разместить две сотни гостей Воронцову не составило никакого труда. Правда, пришлось напрячь Наталью, заставить её вспомнить свою прежнюю профессию, чтобы на свободных пространствах парохода дооборудовать и устроить заново спортивные и тренажёрные залы для любых видов боевой и физической подготовки. Кое-что осталось от двадцатого года, когда на «Валгалле» переправляли в Крым белых рейнджеров, на ходу их до– и переучивая, но многое пришлось делать с нуля, учитывая особенности «контингента» и целей предстоящего обучения.
Зато и Наталье Андреевне стало жить гораздо интереснее. Из расчёта такого пополнения потребовалось роботов переналаживать. Нескольких – в коки – на всех гостей три раза в день готовить; хоть по одному на палубу – в стюарды, или, точнее, в старшины. Курсанты и курсантки, как и в обычной армии, к самообслуживанию приучены, но нужно ведь, чтобы кто-то показывал, объяснял, как и что на пароходе устроено, к кому по тем или иным вопросам обращаться, банные дни устраивать, постельное и прочее бельё выдавать. Много о чём задуматься пришлось и соответствующие оргмероприятия провести.
На следующее утро после появления на Таорэре Лихарева и через десять дней по часам «Валгаллы» «великое переселение» в основном было закончено. Самое ценное, что разместили в защищённых не хуже боевой рубки отсеках, – это триста с лишним комплектов «Шаров», блок-универсалов и гомеостатов.
Кроме «профкомплектов», с Таорэры забрали некоторое количество флигеров и бронеходов разных типов и достаточный запас аккумуляторов и «магазинов» к гравипушкам. Благо вся эта техника легко копировалась дубликатором, причём аккумуляторы – в заряженном виде, что удивило даже Левашова. Впрочем, электричество, а также гравитация – вещи малопонятные: определение «направленное движение электронов» (или «гравитонов») мало что объясняет, хотя использовать в своих целях данные явления отсутствие теоретической базы не мешало.
Ну и по мелочи несколько тонн снаряжения и оборудования, нужного для организации «института», на «Валгаллу» перекинули.
Аггрианскую Базу поставили на консервацию. Лихарев с помощью Левашова и двух десятков добровольцев привел в легко исправляемую (если знать, как) негодность большинство стационарных машин жизнеобеспечения и всю, как выражался С. Лем, «интеллектронику». Расставил, где можно и нужно мины всех типов, настолько примитивно исполненные и грамотно замаскированные, что дуггуры, появись они там, наверняка будут удивлены и расстроены. Появления каких-либо посторонних людей ни на Базе, ни в учебном центре не ожидалось, но даже на самый гипотетический случай везде, где нужно и не нужно (для создания впечатления), было через трафаретки написано классическое «Ахтунг, минен!», и ещё на нескольких языках то же самое. Квангов в расчет не брали, для них всё относящееся к агграм – абсолютное табу.
Последний раз собрав своих питомцев на общее построение, Дайяна объявила, что курс обучения закончен, Учебный центр закрывается. Всем присваиваются звания координаторов третьего класса, и желающие могут немедленно покинуть место постоянной дислокации и начинать самостоятельную жизнь в любом из четырёх реально существующих и освоенных миров. На свой страх и риск, естественно, поскольку никто ими больше руководить не будет.
Всем же остальным предлагается остаться в коллективе и перейти, условно говоря, на «дополнительный» курс. Здесь они будут обучаться опять же как свободные личности, кто чему захочет из предложенных программ, и казённый кошт[46] за ними сохраняется, но тогда придётся приносить нечто вроде присяги, с обещанием отныне и до века ставить интересы «общества» выше собственных и выполнять «советы и указания» выборных представителей. Над этим текстом работали Ирина, Дайяна и Левашов как единственный здесь «магистр Ордена». В принципе, сейчас создавался своеобразный филиал «Братства», ещё прямее выражаясь – его «боевое крыло», поскольку такового раньше не существовало, как организованной и специализированной структуры. Каждый из «братьев и сестёр» был и швец, и жнец, и на дуде игрец. Подконтрольные Басманову части ВСЮР[47] – это совсем не то. А вот спаянная железной дисциплиной и одновременно устроенная по принципу пчелиного роя организация, могущая существовать сразу в четырёх реальностях и взаимодействовать информационно и физически, состоящая при этом из специалистов высшей категории и вооружённая немыслимым для любой из реальности оружием – такая структура минимум в сотню раз повышает и организационный, и чисто военный потенциал «Братства».
Что-то подобное и имел в виду Воронцов, привлекая Лихарева к работе, но явно не только это. За Валентином всё равно сохранялась самостоятельная роль, как бы над схваткой и несколько в стороне.
Сам Лихарев думал, что с помощью новой организации (название бы ей ещё подходящее придумать) вполне можно посягать на завоевание мирового господства. Если бы эта цель хоть кого-нибудь из них интересовала.
Из ста восемнадцати парней и девушек только пятеро «избрали свободу», причём три курсантки просто решили выйти замуж и, приобретя на своё «выходное пособие» небольшое поместье в Крыму или под Одессой, предаться тихим семейным радостям, раз и навсегда забыв о прошлом.
– Но это, милые мои, очень даже вряд ли, – с самой благожелательной из своих улыбок сказала Дайяна, подписывая ведомости на выдачу каждой из уходящих по сто тысяч золотых рублей. – Через год или через три всё равно обратно потянет, особенно если газеты не только из своего времени будете прилежно читать. Вернётесь – и примем, и занятие найдём.
А двое парней захотели просто поскитаться по доступным мирам, посмотреть, как люди живут, и проверить, на что они сами годны «о натюрель», вне и помимо всякого контроля и надежды на помощь.
Им, кроме денег, Дайяна выдала блок-универсалы с инактивированными функциями, всеми, кроме связи и межпространственных перемещений. И гомеостаты, разумеется.
– Дерзайте, юноши. Могут вам пожелать единственно удачи. Всё остальное у вас есть. От вас требуется только абсолютное сохранение всех известных вам тайн «ДСП». А «дверь с той стороны» для вас всегда открыта. Только постарайтесь глупостей не наделать.
Подполковник Мальцев с грустной улыбкой стоял на верхней, покрытой выскобленным и вымытым океанской волной до белизны тиком, палубе парохода, не спеша курил, стряхивая пепел в один из развешанных вдоль планширя аккуратных ящичков с песком, и разговаривал с узнавшим его с первого взгляда Воронцовым. Да и как было не узнать одного из первых прибывших на борт «Валгаллы» будущего рейнджера. Тогда плохо выбритого, худого, нервного, со злыми глазами, одетого в штатские синие брюки, заправленные в расползающиеся сапоги, и табачный английский френч с тёмными полосками на плечах от споротых погон. Но – с приколотыми явно только что, перед подъёмом с катера на трап (потому явно, что ленточки были как новые, совсем не затёртые), орденами Владимира, Станислава и Знаком 1-го Кубанского (Ледяного) похода[48]. Сколько лет он носил их, аккуратно завёрнутыми в мягкую фланель, на дне походного вещмешка и штатского чемодана, а теперь решил надеть, авторитета ради.
Тогда он козырнул Воронцову небрежно и представился, а глазами так и шарил вокруг, пытаясь понять, куда же это он так неожиданно попал.
– Ну что, ваше превосходительство, всё по Екклесиасту?[49] Идёт ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своём, и возвращается ветер на круги своя.
– Истинно так, не прошло и шести лет, и ты снова стоишь на этой палубе и смотришь на море… – ответил адмирал.
– И опять не знаю, что завтра будет и куда жизнь очередной раз повернётся… – продолжил Мальцев.
– Ты вот Екклесиаста вспомнил, а знаешь, какой номер страницы, с какой она начинается в Синодальном каноническом издании?
– Да где уж мне…
– Шестьсот шестьдесят шесть. Забавно, да?
– Да ну! Надо же? Никогда внимания не обращал, – искренне удивился Мальцев, который едва ли читал оригинал, а говорил просто с чужих слов или вычитав популярную фразу в книгах попроще.
– Мне там ещё одно место нравится, хотя, конечно, неплохо бы весь текст наизусть знать, всего-то ровно девять страничек. Вот слушай: «Если человек проживёт и много лет, то пусть веселится он в продолжении всех их, и пусть помнит о днях тёмных, которых будет много: всё, что будет – суета!»[50]
– Тонко подмечено. Да нам ведь ничего другого и не остаётся… Я стамбульские дни до смерти не забуду…[51]
Глава пятая
Воронцов уже ночью, разобравшись с делами, поднялся в свою «походную» каюту, расположенную в передней надстройке, выше ходовой рубки и капитанского мостика. Здесь он мог отдыхать между вахтами, чтобы не отвлекала жена и статусная роскошь её, по сути, личных апартаментов, и, в случае чего, не теряя времени, через несколько секунд спуститься в рубку и принять на себя командование, если потребуется. Но на самом деле такие случаи существовали скорее в теории: и старпом-биоробот, и вся судовая вахта, несшая службу круглосуточно, не сходя с постов и не отвлекаясь ни на какие посторонние мысли, обладали квалификацией, намного превосходящей и его собственный уровень, и любого вообще на Земле судоводителя по какому угодно параметру.
Единственно, в чём они уступали Дмитрию, который потому и носил адмиральский титул, – в способности принимать самостоятельные и, главное, нетривиальные решения. Поскольку не имели цели и перспективы, каждый новый день начинался для них как первый (хотя память о прошлом они имели и умели ею пользоваться в служебных целях), и воображаемое будущее для каждого не простиралось далее сделанной Воронцовым на карте отметки – к такому-то дню и часу прибыть в указанную точку. Затем следовал новый приказ и команда приступала к его исполнению с тем же тщанием, что и все шесть предыдущих лет.
Надо сказать, что некий, условно говоря, опыт роботы всё же накапливали, в том смысле, что профессиональные действия, долгое время исполняемые одной и той же особью, как-то по иному перемыкали нейронные соединения в их распределённых мозгах[52], нежели знания теоретические, заложенные в них изначально. Поэтому робот, прослуживший «капитаном» или «штурманом» определённый срок, справлялся со своими обязанностями заметно лучше, чем только что перенастроенный, скажем, из нейрохирурга или шеф-повара. Именно по этой причине у Воронцова существовало разделение его команды на «штат», то есть постоянных специалистов, и «переменный состав», перезагружаемый по мере необходимости.
Вот и сейчас, мельком заглянув на ходовой мостик, выслушав доклад вахтенного начальника и посмотрев на экран, показывающий данный участок океана и положение «Валгаллы» со всеми необходимыми параметрами текущего состояния парохода, он поднялся к себе. Здесь, кроме спального отсека и небольшого салона, у него был свой персональный «прогулочный дворик», как раз по размеру крыши надстройки. Было тихо, если не считать лёгкого посвиста ветра в такелаже фок-мачты и размещённых на ней антеннах да шелеста разрезаемой форштевнем трёхбалльной встречной волны.
«Здесь всё кругом привычное, морское…» – пришла на память строчка одного стихотворения и сразу за ней – другого: «Поёт пассат, как флейта в такелаже, гудит, как контрабас, в надутых парусах. И облаков янтарные плюмажи мелькают по луне и тают в небесах…»[53]
Он сел в удобное ротанговое кресло у переднего обвеса мостика, так, чтобы не видеть ничего, кроме звёздного неба над головой и форштевня, взрезающего фосфоресцирующие волны с редкими, смутно белеющими в ночи пенными гребешками.
Достал из кармана заранее набитую трубку, тщательно раскурил.
Все знали, что решения он умел принимать мгновенно и реагировал на фразу собеседника (если это требовалось) раньше, чем тот успевал договорить её до конца. Но мало кому приходило в голову, что всё это было результатом постоянной работы мысли, непрерывно создаваемых воображением «вводных» и поиска наиболее адекватных, а по возможности и максимально изящных решений. Можно сказать, что вхолостую мозг его не работал никогда, такие занятия, как, например, раскладывание пасьянсов или решение кроссвордов никогда его не привлекали, разве что на спор, за несколько минут, разгадать «крестословицу» любой сложности, причём на слух, не глядя на картинку и не подбирая слов по уже имеющимся буквам. Играть в шахматы вслепую, по-алёхински, он тоже, наверное, смог бы, но никогда этим не занимался.
Вот и сейчас, вроде бы блаженно расслабившись и наслаждаясь покоем и немыслимой красотой вокруг, Дмитрий перебирал в уме и свои собственные планы и замыслы, и включал в партию новые сюжеты, возникавшие по ходу дела, по смыслу и содержанию разговоров, которые пришлось вести в течение дня с самыми разными людьми, высадившимися на пароход и сразу превратившими его в самое оживлённое место на тысячу миль в радиусе.
…Чем-то внезапно наступившее в двух параллелях время напоминало ему дни перед смертью Сталина и сразу после неё. Воронцову тогда было уже пять лет – вполне солидный для восприятия исторических моментов возраст, по крайней мере саму атмосферу, слова и поведение окружавших его людей, родителей прежде всего, он запомнил в точности. Потом, понятное дело, пришлось и читать, и слышать воспоминания и комментарии множества заслуживающих доверия очевидцев. Константин Симонов, например, и Эренбург очень подробно описали те мартовские дни и царившие в стране настроения страха, тревоги, ожидания неизвестно каких перемен.
Понятно, что сейчас его больше интересовали события, происходящие в их родной Главной исторической последовательности. В «Конце вечности» Азимов описывал подобную ситуацию, назвав её «одержимость временем» и отнеся к разряду достаточно тяжёлых профессиональных заболеваний психики.
Суть одержимости заключалась в том, что сотрудники пресловутой «Вечности», работающие во временном интервале в семь миллионов лет, постоянно стремились отождествить себя с каким-нибудь конкретным Столетием, найти себе место во времени, обрести, так сказать, хоть суррогатную «родину», потому что им категорически закрыт был доступ в четыре ближайших к дате рождения века. Воронцов вообще очень часто перечитывал эту запавшую ему в память с юности книгу. Впервые взяв в шестьдесят шестом году в руки тонкий серенький томик «Библиотеки современной фантастики», он никак не мог подумать, что эта книга через много лет станет для него чем-то вроде инструкции, несмотря на разительное несовпадение описанного там с действительным положением дел. Но в смысле психологии книга была столь же современна и могла служить руководством к действию, как и «Таинственный остров», к примеру.
Воронцов с товарищами тоже испытывали странное отношение к своей собственной реальности и по возможности избегали там появляться, даже когда вдруг появилась такая возможность. Имелось достаточно других мест и времён, где было чем заняться, тоже, впрочем, далеко не всегда по собственному желанию. Как любил говорить Сенека: «Volentem ducunt fata, nolentem trahunt»[54].
Но сейчас всё сложилось так (и не самодеятельность Фёста была тут причиной), что не вмешаться было просто нельзя. Их Россия подошла в самой реальной (?) из известных реальностей к критической черте, отчётливо обозначилась «та последняя пядь, что уж если оставить, то шагнувшую вспять ногу некуда ставить»[55]. Тем более, по всему выходило так, что нынешний «вариант» образовался именно потому, что они в восемьдесят четвёртом ушли из своего времени, да и агграм с форзейлями сломали привычную, всех устраивающую схему взаимоотношений. Вот и получилось то, что получилось.
Было время, Воронцов задумывался, а что на самом деле имели и те и другие «на выходе», в качестве «прибавочного продукта» своей деятельности на Земле и вокруг. Думал-думал и решил, что это своего рода общественный инстинкт – зеркально повторять действия того, кого считаешь историческим врагом. Человеческая история тоже знала подобные примеры. Из самых свежих – «линкорная гонка» Англии и Германии или ракетная СССР и США.
Любой, даже поверхностно образованный человек представлял, что после того, как достигнут уровень, позволяющий уничтожить не только врага, но и всю планету целиком, удвоение и удесятерение этого потенциала – занятие страшно затратное и более чем бессмысленное, однако руководители и той и другой сверхдержавы стегали свои экономики кнутом – «Ещё, ещё, больше ракет, сильнее заряды, быстрее перевооружаться!!!». Вот, наверное, и у инопланетян так же. Смысла в противостоянии и соперничестве не было, а просто так прекратить невозможно, ибо слишком громоздкими инфраструктурами эта «отрасль» обросла. Но вот вдруг взяли и прекратили, не по своей, правда, воле. И всем стало хуже, землянам в том числе. До предела зарегулированная система внезапно сменилась хаосом. И хаос продолжает «набирать обороты», в привычных терминах подумал Дмитрий, хотя использованные термины были из несовместимых смысловых рядов.
Но это несущественно.
Выходит так, что та, прежняя, подконтрольная пришельцам жизнь была в какой-то степени «нормой», а нынешняя, «свободная», отчётливо вырождалась в химеру. На Земле началось то же самое, что в Африке после «деколонизации».
«Российская империя» с её Олегом первым и всё земное политическое устройство тоже химера, с точки зрения хотя бы и исторического материализма. Так, может быть, химера, помноженная на химеру, в результате даст что-нибудь устойчивое? Как в математике, минус умножить на минус…
Переворота, который в случае успеха самым безусловным образом поставил бы крест на дальнейшем существовании России (по крайней мере, на век-другой как самостоятельного государства точно, второе ордынское иго просматривалось невооружённым взглядом), удалось избежать. Тут ничего не скажешь, «молодёжь» сработала чётко. Но оставался вопрос – удастся ли им в полной мере реализовать свой «Мальтийский крест»? По замыслу операция интересная, но Воронцов испытывал серьёзные сомнения – позволят ли довести её до конца. Кто? А вот в этом месте «туман войны» особенно густой.
Дуггуры вряд ли, им сейчас не до того. Судя по индикаторам на пульте сопряжённых с СПВ-установкой процессоров, Новиков с Шульгиным пока что в полном порядке, если бы это было не так, хоть кто-нибудь из имеющих при себе «маячок» назад бы выскочил. В самом худшем варианте – хотя бы его тело. Раз этого нет – значит, там, на «Земле-2», всё в пределах нормы. И все живы. А то, что здесь два года уже прошло, а у них явно намного меньше – ну, на то и теория относительности. На досветовом звездолёте тоже так примерно – когда час за год идёт, а когда и минута. В зависимости от скорости.
И ведь с момента ухода на «вторую Землю» экспедиции (или карательного отряда) ни в одной из доступных наблюдению реальностей дуггурских вторжений больше не было. А полоса наблюдений более чем столетие охватывает. О чём-то это говорит?
Пока что из известного вытекало следующее – глядя из родной ему ГИП, происходящее в Императорской России выглядит вроде бы и страшнее, но, на взгляд Воронцова, особых проблем не представляет. Тем более имеется достаточный запас времени, цейтнот ему, находящемуся в не связанной с двумя другими реальностями, по известным хронофизическим причинам, никак не грозил. Он к тому же сообразил, что фазы «Мальтийского креста», реализуемые как бы одновременно, на самом деле друг с другом связаны только в воображении, тех же и Секонда с Фёстом. На самом деле их можно рассматривать по отдельности, если правильно распорядиться возможностями левашовской СПВ и потенциалом Замка, вроде бы готового к сотрудничеству. Примерно как выписывать пируэты по скользкому горному серпантину, чётко и согласованно действуя рулём, педалями газа и тормоза. Справишься – доедешь до места живым, ещё и приз какой-нибудь заработаешь.
Очень интересным получился у Воронцова и анализ текущего положения дел на Главной исторической последовательности, хотя моментами он сильно сомневался, является ли она таковой после их вынужденного бегства на Валгаллу.
Судя по имевшейся у Дмитрия информации, очень многие люди в Москве (да и не только) уже поняли, кто умом, а кто спинным мозгом, что вокруг происходит нечто, ранее не то чтобы считавшееся невозможным, а просто в качестве возможного не рассматривавшееся. Даже те, кто по той или иной причине (как, например, Волович) желали устранения правящего режима, новой гражданской войны и вытекающего из неё очередного передела руководящих должностей и собственности, на самом деле в такую возможность не верили, оттого и развлекались своей «протестной деятельностью» без видимого энтузиазма. В основном теша самолюбие и деля поступающие от щедрых, но глупых спонсоров гранты.
Вновь возвращаясь к дням кончины Сталина, Воронцов оценил мастерство тогдашних пропагандистов, аккуратно и грамотно целых три дня публиковавших бюллетени о здоровье вождя. Для любого хоть немного понимающего человека они не оставляли никаких надежд на благоприятный исход. И всё равно – хоть «сталинисты», сознательные и стихийные, хоть того же типа и плана «антисталинисты», все эти люди одинаково не представляли себе, что может наступить момент, когда вся созданная за тридцать лет усатым человеком с трубкой реальность вдруг возьмёт и исчезнет. Разом и вообще, не оставив после себя ни завещания, ни инструкций. А так и случилось.
Отвлекаясь от эмоций, связанных непосредственно с кончиной человека, каким бы он ни был, фактически или в воображении, абсолютно всем в те дни начала марта пятьдесят третьего года утренний голос Левитана возвестил, что той жизни, которой они жили, в которой было всё – и индустриализация, и коллективизация, и «ежовщина», и война, и просто множество абсолютно личных моментов, – больше не будет.
Произойдет нечто небывалое. Не сравнимое даже с Февралём семнадцатого. Некоторые (в других вещах очень проницательные люди, достаточно демократически настроенные, как тот же Эренбург) считали, что со смертью Сталина как раз и начнётся «самое страшное». Вышедший из-под контроля террор, виселицы для «врачей-отравителей» на Красной площади, поголовная депортация всех евреев в Биробиджан… Здесь их ожидания и страхи не оправдались, но ведь и вправду то, что тридцать лет, равных по насыщенности, наверное, трём векам, считалось самоочевидным и пересмотру не подлежащим, исчезло буквально вмиг. Даже страшные ежовско-бериевские «органы» отнюдь не превратились в никому не подконтрольные «эскадроны смерти», а, напротив, проявили себя вполне лояльными новой власти, почти демократическим институтом. С тем же усердием, что раньше сажали, МВД и МГБ начали отпускать и реабилитировать сотни тысяч «незаконно репрессированных», небрежно списав всё ранее случившееся на «издержки культа личности» и попутно поставив к стенке несколько своих наиболее одиозных руководителей.
Точно так, на взгляд Воронцова, дело обстояло и сейчас. Если в других известных из истории случаях убийство или бескровное отстранение правителя в корне меняло политическую ситуацию, то сейчас неудача переворота обещала не менее кардинальные перемены и в настроениях общества, и структуре власти. И то и другое означало неизбежную смену налаженного, ставшего привычным порядка вещей, независимо от её, так сказать, «знака». Всем известно, что означала для Германии неудача полковника Штауффенберга[56] с его единомышленниками, или для России – «удача» Желябова с Перовской и Гриневицким[57]. Не слишком важно, что в Германии были казнены многие сотни заговорщиков, а в России – только пятеро непосредственных исполнителей: особым образом изменился сам характер государственного строя и внутренней политики.
Вот и сейчас люди ждали чего-то подобного, некоторые – со страхом, а большинство – с надеждой. Как в пресловутых «тридцать седьмом – тридцать восьмом» годах так называемые «простые люди» в массе своей искренне радовались тому, что интеллигенция нарекла «большим террором». За исключением двух-трёх процентов населения, непосредственно попавших в «ежовые рукавицы», и пусть даже десяти процентов им сочувствовавших остальные происходящее от всей души одобряли. Каждый по собственным причинам. Одним нравилось, что большевики наконец начали уничтожать большевиков. Когда перебьют всех, Сталин объявит себя царём, и всё встанет на свои места, «как было». Другие просто злорадствовали, что получают по заслугам «красные маршалы», залившие страну братской кровью двадцать лет назад, что сажают проворовавшихся начальников, больших и маленьких, а это всегда приятно русскому (и не только) человеку.
Сейчас в стране царили примерно аналогичные настроения. Если победивший Президент не начнёт пачками сажать и ставить к стенке всех тех, кто посягнул на его власть, не расправится под горячую руку с коррупционерами и иными «врагами народа», так вообще непонятно, зачем такой «национальный лидер» нужен… Вот этими надеждами непременно следует воспользоваться Фёсту. Воронцов решил несколько развести их с Секондом, каждому поручив строго ограниченный участок работы. На то он и Лихарева с Дайяной именно сейчас решил ввести в игру.
Это, научно выражаясь, один срез текущей действительности. А второй демонстрировал ещё кое-что. Каким-то образом сразу очень большому числу людей стало известно о существовании «параллельной России». Без всяких деталей и подробностей, потому что те, кто был действительно осведомлён, молчали, как и положено. «Пошедшая в народ» информация представляла собой нечто вроде электромагнитного поля, возникающего вокруг проводника под током. Для человека вроде Васисуалия Лоханкина, так и не дошедшего до «Физики» Краевича, явление совершенно необъяснимое, но в действительности существующее.
Слухи об этой «второй России» подчас распространялись совершенно дикие, но интереснее здесь было то, что ни отторжения, ни просто недоверия они не вызывали. Сказывался архетипический настрой русского человека на существование мифических Беловодья, Царства пресвитера Иоанна, града Китежа, недавняя вера в неотвратимый коммунизм и на крайний случай обещанного всем верующим Царствия Небесного. А за последние два десятилетия на умы обывателей обрушился такой поток «научной» и «ненаучной» фантастики, трудов Фоменко и Мулдашева (для публики пограмотнее), печатной и телевизионной мистики, шарлатанов, магов и колдунов всех оттенков спектра (для «простого народа»), что поверить ещё в одну «сущность» не составляло никакого интеллектуального или нравственного труда.
Следовательно, снимается главная опасность – вспышка ксенофобии или просто неприятия форсированного слияния двух Россий. Только действовать нужно очень быстро, пока не опомнятся «приведённые в изумление» враги, внутренние и внешние.
Тем более что буквально в первые же дни «после переворота» появились вполне доступные для «чувственного восприятия» материальные доказательства наличия «параллельной жизни» в двух шагах от этой, ранее единственной. Самый яркий и наглядный артефакт «оттуда» – десятирублёвая золотая монета, пресловутый «червонец», ни пробой металла, ни весом не отличающийся от прототипа ещё 1898 года, но с изображением не Николая Второго, а Олега Первого и с другой датой выпуска, естественно. Впрочем, старые, «классические», с Николаем, тоже всплыли, и не в среде подлинных коллекционеров, а как раз в тех околобанковских кругах, которые раньше назывались бы «валютчики». А сейчас никак не назывались, но их сеть, будто бы заранее подготовленная, ничуть не уступала распространителям «Гербалайфа» по активности, хотя и значительно превосходила по качеству товара. Червонцы, а также пятёрки, полуимпериалы и империалы[58] немедленно приобрели сразу несколько котировок, в том числе и коллекционную, но в любом случае стоили гораздо больше, чем золото 96-й, ныне не существующей пробы, из которого они были отчеканены. Если переправить в РФ действительно большое количество таких монет, хотя бы процентов тридцать от наличной бумажной массы, причём с продажей их за доллары и евро по весьма выгодному курсу, можно получить неожиданный для многих экономический и политический эффект. Воронцов смутно помнил из случайно пролистанных книг, что имеются некие очень интересные закономерности параллельного хождения ассигнаций и золота. Нужно будет активизировать робота-финансиста, пусть проработает все варианты, сулящие максимум выгоды нам и тяжёлую головную боль поклонникам ФРС[59], вплоть до окончательного превращения «священного бакса» в рядовую, не слишком даже конвертируемую валюту, вроде какого-нибудь реала или песо.
И, наконец, последнее по порядку, но не по значению: в стране имелось достаточно источников любой степени достоверности, чтобы в сотне вариаций поставить перед людьми вопрос: «А во что выльется слишком уж быстрый и неожиданный на фоне всего уже случившегося демарш Президента, явно направленный против всего абстрактно понимаемого Запада? Ясно ведь, что «новая Фултонская речь»[60] (как её уже успела окрестить подкованная в истории часть отечественных либералов) «на Востоке», а также и «на Юге» никого совершенно не заинтересовала и не обеспокоила. Разве что тех, кто традиционно привык извлекать преференции из противостояния главных геополитических партнёров.
А вот «Запад» взволновался чрезвычайно. Сотни газет, издаваемых чуть ли не в райцентрах Испании или Франции, где жителей сроду не интересовало ничего, кроме цен на собственное вино и помидоры, вдруг принялись рассуждать, позволено ли столь незначительному политику, как российский президент, «дёргать тигра за усы» и провоцировать «величайшего из лидеров величайшей державы». Сошлись на том, что никоим образом не позволено и тема для обсуждения есть лишь одна – как скоро последует ответ и сколь он будет сокрушительно-поучителен и поучительно-сокрушителен. Ясно было любому хоть немного понимающему и образованному читателю, что все эти публикации инспирируются из единого центра и понимать их следует строго наоборот.
Аналогичным же образом отреагировал «российский сектор» Интернета, завсегдатаи которого не осмелились в исторически судьбоносный час выйти на площади с оружием в руках и в меру силу поспособствовать… Как там у Маяковского: «Если в кучу сгрудились малые – сдайся, враг, замри и ляг!» Сгрудиться не получилось по причине массовой «медвежьей болезни» и недостаточного финансирования, но анонимно «возвысить голос» – желающих пока было в избытке.
Но дело не в этих проплаченных или иным способом мотивированных сторонниках «общечеловеческих ценностей». Очень многие в России, особенно те, кто постарше, действительно задавали себе вопрос, не стоит ли мир на пороге очередного Карибского кризиса и как он может выглядеть в новых исторических реалиях. При этом о возможности какого-либо участия в противостоянии «второй России» речь как-то не шла. Именно в сфере «реальной политики» и отечественные, и зарубежные, имеющие отношение к принятию решений круги дружно словно ослепли. О «другой России» речи вообще не поднималось, и в качестве заслуживающего внимания фактора она будто и не существовала. Вернее, существовала только на уровне ирреальности. Приблизительно как лозунги типа: «С нами Бог и Крестная сила» или «Аллах акбар». Пытаться рассматривать её на картах грядущей «второй холодной войны» встретило бы дружное непонимание на любом почти уровне.
Практически повторялась ситуация попытки свержения императора Олега двумя годами раньше. Тогда ведь тоже жители многомиллионной Москвы словно бы не заметили происходивших событий, с достаточно громкой стрельбой и появлением на улицах столицы солдат из Югороссии. Некоторые, и их большинство, не заметили совсем, а люди, которых события коснулись непосредственно – например, родственники по тем или иным причинам погибших, – сохранили в памяти отчётливые в деталях, но ничего не имеющие общего с действительностью воспоминания.
Только члены «Братства» и ещё несколько человек вроде Удолина, Маштакова и Уварова (югоросские офицеры – само собой) сохранили полное представление о тех событиях, да и то не сумев докопаться до причин и виновников случившегося[61].
Воронцов, например, соглашался с мнением Левашова и Удолина, что как раз тогда они имели возможность наглядно познакомиться с действием «Ловушки сознания», причём настроенной не на них, а на всё остальное население России, а соответственно, и Земли в целом, поскольку за рубеж подлинная информация о том парадоксе также не просочилась. Как и для чего это было сделано – человеческому, да и аггрианскому с форзелианским разумам постичь невозможно, ибо «Ловушка» – явление сверхъестественное, имманентное Великой Сети как таковой с самого момента её возникновения. Включилась ли Ловушка и сейчас – Воронцов утверждать не мог, не посоветовавшись с Константином Васильевичем, человеком, судя по всему, находящимся с Сетью в особых взаимоотношениях.
Но только явно гипнотическим, очень выборочным воздействием на умы можно объяснить ещё один парадокс, на который Воронцов сразу же обратил внимание Фёста, когда они обсуждали «ближайшую задачу» разыгрываемой ими комбинации. Даже те, кто более-менее уверовал в существование «другой России» – страны, чеканящей вполне материальную золотую валюту, – по умолчанию считали (возможно, оттого, что власть там сохранилась самодержавная, вместе с «золотым стандартом» и архаичной «Табелью о рангах»), будто «имперская Россия» по хозяйственному, политическому, военному и в целом интеллектуальному уровню находится где-то между периодами русско-японской и Первой мировой войн. То есть какого-либо серьёзного влияния на конфликты XXI века оказывать не может. Как здешние Аргентина или гоминдановский Китай на Тайване.
Все эти странности, сведённые вместе, могли бы напугать даже сильного духом человека, но – более традиционного, скажем, чем Дмитрий Воронцов. Он же здраво рассудил – Ловушка здесь проявилась или нечто другое, своим страусиным неучастием в происходящем ничего не изменишь и не исправишь, поэтому – «бей в барабан и не бойся»[62]. Тем более, как он подозревал, в полном объёме смысл текущего момента понимал только он один. Остальные или не успели, или просто не могли охватить ситуацию целиком.
Хорошо, что Фёст с подконтрольными ему структурами президентской администрации исключил любые публичные и даже приватные высказывания должностных лиц на этот счёт. Зато «свободная», то есть по преимуществу «жёлтая» и «бульварная», пресса резвилась настолько бесшабашно и почти до неприличия разнузданно, что буквально через несколько дней вопрос был аккуратно переведён в разряд тем, рассуждать о которых всерьёз считается если и не неприличным, то однозначно бессмысленным. «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе…»[63]
Как бы там ни было, жить в России и во всём мире вдруг стало гораздо интереснее. Всякого рода местные конфликты, «революции» и даже «геноциды» в странах «третьего мира» за четверть века всем приелись до чрезвычайности, а сейчас вдруг на сцену вновь решили выйти «игроки первого эшелона» и в очередной раз показать заскучавшему человечеству «мастер-класс» на мировой шахматной доске.
Страшновато было просвещённым наблюдать за развитием событий, но и увлекательно до чрезвычайности.
Обдумав всё это (как и многое другое), Воронцов и решил, не советуясь ни с Сильвией, ни с Берестиным, что даже если мировой войны и не будет – не те сейчас люди у власти и не тот у населения «цивилизованных стран» уровень пассионарности и потребность в адреналине, – ничего хорошего его родную реальность в случае продолжения текущей политики не ждёт.
Его всегда удивлял весьма популярный в советские времена термин «безвременье», применявшийся в основном к эпохе царствования Александра Третьего. В том смысле применялся, что раз при царе-Миротворце революционное движение было практически сведено к нулю, то и доброго слова та эпоха не заслуживает. Как бы вообще не было её.
А вот сейчас он с удивлением сообразил, что термин этот вполне применим к нынешней эпохе. На ГИП, разумеется. Как писал один интересный современный российский философ – начиная с 1969-го, года высадки землян (неважно, что американцев) на Луну, человечество словно подменили. Во всём мире сразу как бы исчез «творческий запал», кураж, стремление к новым рубежам, вообще к творчеству любого рода. «Пассионарность» исчезла фактически во всех странах, причастных к реализации амбициозных планов человечества. Осталась только страсть к потребительству и идея, что «права личности выше прав государства, нации, вообще земной цивилизации». Искусство с какой-то почти безумной остервенелостью заменялось на скоморошество, весь научный и технический потенциал переориентировался на производство предметов бессмысленной «развлекаловки». К чему далеко ходить – один сравнительно простенький айфон или айпад по своей «интеллектуальной мощи» превосходит все ЭВМ НАСА, обеспечившие высадку Армстронга на Луну! А каков высший смысл существования этого приборчика почти что одноразового пользования?
В конце концов, и распад СССР со всеми вытекающими последствиями – в одном ряду со всем вышеперечисленным. И аггры с форзейлями тут ни при чём – «вмешательство» было произведено с иного, куда более высокого уровня: Пресловутых «Игроков» или «Держателей», бог их разберёт, если они вообще существуют. Но объективных внутренних причин для подобной стремительной деградации на Земле не было. Очень возможно, что совпавший по срокам «тайфун исламского терроризма» – явление того же ряда.
Наблюдая за не слишком квалифицированными попытками Фёста изменить впадающий в слегоподобную нирвану[65] мир, Воронцов наконец решил вмешаться, помочь недостаточно ещё умелому, а главное – не располагающему нужными средствами «преобразователю природы»[66].
А Воронцов как раз располагал, и средствами, и гораздо более широким кругозором, в силу стечения множества разнородных обстоятельств. Пришла пора пустить эти латентные пока возможности в ход, но так, чтобы со стороны это было практически незаметно. Всем, кроме тех, чьи действия он именно в данный момент корректирует. И до последней крайности не раскрывая конечной цели собственной сольной партии. Интересная вырисовывалась роль – катализатор и одновременно ингибитор для новоявленных прогрессоров. А почему бы и нет? Вполне укладывается в концепцию давным-давно организованного при «Братстве» «Комитета защиты реальности». То всё чужие защищали, теперь появилась острая необходимость защитить свою. Защитить путем инициации крупномасштабных перемен. И в любом случае не позволить молодёжи наделать новых глупостей…
…Сильвия, Берестин, Фёст и Секонд сидели в выходящем высокими, пятиметровыми окнами на океан кабинете Замка. Не том, адмиральском, созданном персонально под вкус и воображение Воронцова много-много лет назад, а другом, оформленном «под себя» уже Сильвией. После известных событий аггрианка решила, что теперь она окончательно стала вровень со «старшими братьями» и, выиграв партию против Арчибальда, тоже может устраиваться «по своему усмотрению» не только на Столешниковом, но и здесь. Никто не возразит. Что без валькирий неизвестно, что у неё получилось бы, она со свойственной ей небрежностью предпочла забыть.
Да ведь и некому, по нынешним раскладам: Новикова с Шульгиным, как и Антона, в обозримых временах и пространствах нет, и удастся ли им ещё когда-нибудь пересечься – очень большой вопрос. Слишком глубокий рейд на этот раз они затеяли[67]. Нет, леди Спенсер не считала, что «кандидаты в Держатели» могут банальным образом погибнуть, даже и на Земле-2 – такая судьба не для них. А вот «разминуться во времени» – это очень даже свободно. Что такое, скажем, сдвиг на одну угловую секунду при перемещении в четвертый или пятый слой реальности? Может – ничего, а может – сотни и тысячи лет. Или, предположим, захотели Игроки лично пообщаться со своими партнёрами, провести вечерок за неспешной беседой в каких-то уровнях Мирового эфира – тот же самый результат. Пресловутый релятивистский эффект! «Для вас века, для нас единый час!»[68] И наоборот, естественно.
Левашов и Лариса, да и Ирина тоже почти не проявляют интереса к здешним делам, в основном пребывают на Валгалле (планете, а не пароходе), там тоже время течёт по-другому. Легче ждать возвращения экспедиции со «второй Земли».
Порой и не поймёшь – в прежнем ли качестве всё их разделившееся на почти не связанные друг с другом фрагменты (или сегменты) «Братство» пребывает и мир вокруг тоже, или же живут теперь все в эпоху победившего солипсизма[69], победившего в результате непозволительных (или необходимых) экспериментов с Гиперсетью и Континуумами. В любом случае то, что творится на Земле и в окрестностях — что самой Сильвии, что всем остальным совершенно ни к чему. Уж лучше бы оставалось по-старому. Понятнее как-то и привычнее.
Но выбирать не из чего, нужно жить, руководствуясь предложенными обстоятельствами. А обстоятельства таковы, что кроме как леди Спенсер возглавить то, что осталось от «Братства» здесь, очевидно, и некому.
С Берестиным всё понятно, на первые роли он не претендует, понимая, что в политических и иных хитросплетениях жизни его жена разберётся лучше, а сам он хорош и на своём месте, ему лишних забот не надо.
Воронцов и Наталья, по её мнению, как были, так и остаются «вещью в себе». Рассчитывать на них можно всегда и во всём. Дмитрий, в случае чего, готов сыграть роль «бога из машины», но ждать, что он возьмёт на себя повседневную текучку, – увольте. Ему такое (с его собственных слов) во время старпомовской службы надоело сверх всякой меры. Куда удобнее и приятнее ощущать себя «первым после Бога» на собственном корабле и чем-то вроде штатного арбитра в любом возникающем внутри «Братства» вопросе.
Левашов никогда не умел и не хотел принимать самостоятельных решений, если они не касались чего-нибудь научно-технического. Обо всём остальном раньше должны были задумываться друзья, а теперь – Лариса.
Как раз насчёт Ларисы у Сильвии были определённые опасения. Не в том смысле, что аггрианка всерьёз боялась соперничества со стороны этой весьма своеобразной девицы, то есть, простите, давно уже дамы, но тем не менее… Своей стервозностью, гораздо более откровенной, чем у самой Сильвии, она была способна внести в дела, и без того не блестящие, совершенно ненужный раздрай. И хорошо, что она в последнее время тоже нигде особенно не мелькает, сосредоточившись на собственных интересах в соседних реальностях.
Что касается остальных, то среди них не имелось фигур, способных в чём-то аггрианке противоречить и тем более противодействовать. Что Фёст, что Секонд – ученики чародеев, и не более. Сами это понимают.
Следовательно – она решила, а прочие согласились, что Замок (по крайней мере – до возвращения законного хозяина, Антона) принадлежит тем, кто остался здесь. А она – как бы между прочим – становится при нём и в нём кем-то вроде коменданта. А можно выразиться и иначе – смотрящей. Земля Землёй с её проблемами, но тем более оставлять столь удобное место без хозяйского глаза, не подняв, образно выражаясь, свой флаг и не застолбив участок, просто-напросто нерационально. Неразумно и даже чревато…
Кто знает, не появится ли из непостижимых недр какой-то новый Арчибальд на смену перевоспитанному. Поумнее, порешительнее и одержимый более жизнеспособными идеями, с которым не удастся справиться так легко, как с первым. Кто может знать, что за процессы происходят внутри «личности» этого эффектора Мировой Сети. Или не эффектора, и не Сети, а чего-то совсем другого.
Они ведь, здесь оставшиеся, всего лишь люди, в том числе и аггрианка, и валькирии тоже, пусть и умеющие создавать какие-то частные мыслеформы, но управлять ставшей объектом экспериментов Реальностью способны в той же мере, как курсант авиационного училища – истребителем пятого поколения в первом тренировочном полёте без инструктора. Ещё точнее – с инструктором, сидящим в том же самолёте и просто выдавшим вводную – «Я убит, дальше лети сам».
Вот, Сильвия сумела вообразить для себя кабинет, похожий на тот, в каком вершила государственные дела Екатерина Великая. И он возник там, где надо, вполне аутентичный, и с учётом всех достижений современной эстетики и дизайна. А что это есть на самом деле? Воплощённая в дерево и камень «воля и представление» или мастерски наведённая галлюцинация?
Хорошо Воронцову с Натальей – они хоть понимают, как устроена их «Валгалла», и тщательно следят за собственным поведением, не допуская никаких внушающих опасение вариантов. Да и то…
– Вы меня извините, леди Си, – говорил между тем Фёст, откинувшись в роскошном кресле с ножками в виде золочёных львиных лап, потягивая длинную зеленоватую сигару, из тех, что доставлялись с плантаций Британской Гвианы девятнадцатого века. Экологически чистый продукт, вдобавок из ныне утраченного сорта табака и с особой технологией ферментации. – Вам что, своих соотечественников совсем не жалко? Все же сколько лет вы прожили в качестве, так сказать, профессиональной англичанки. Должны вроде бы усвоить что-то из их менталитета, не нашего. Ведь если война всё же начнётся, мы их разделаем почище, чем наша «вторая Антанта» немцев с японцами… Им тогда уровень какой-нибудь Румынии недостижимой мечтой покажется…
– Наивный ты человек, – с усмешкой вполне светской, но не скрывающей превосходства, ответила Сильвия. – Так ничего и не понял. Вот кто я сейчас, по-твоему? С национальной точки зрения.
– Ну, сейчас, конечно, русская. Не отличить. Но ведь… – Он невольно бросил взгляд в сторону Берестина.
– Это как раз следствие, а не причина. Я, в отличие от некоторых наших общих знакомых, – сказала она, имея в виду, конечно, Ирину, – никогда себя с Англией не отождествляла. Место работы, не более. Разумеется, когда я туда впервые попала, жизнь там была во многом приятнее, чем в любой другой стране, включая и Россию. Но потом пришлось, – в подробности она вдаваться не стала, – и я довольно быстро русифицировалась. Так что не беспокойся, никакого конфликта интересов. Британцы сами виноваты, если даже через девяносто лет мира фактически всего лишь один робот с манией величия сумел их возбудить так, как Гитлер немцев. Ну вот и получат свой «план Моргентау»[70] вместо «плана Маршалла». Человечество ничего не потеряет от того, что Англия, Ирландия, Шотландия и Уэльс станут совершенно самостоятельными, притом противоположно ориентированными государствами. И на ближайшую сотню лет воевать отучатся… Разве что между собой станут разбираться, кто англы, кто саксы, кто бритты, кто кельты… А Россия, в свою очередь, вернётся в ТАОС в качестве старшего партнёра.
Берестин, всё это время наблюдавший за разговором со стороны, неожиданно вмешался.
– Было уже, немцев тоже собирались навсегда отучить, а что через двенадцать лет после «свободных выборов» в самом демократическом государстве случилось? – осведомился он с нескрываемой иронией[71].
– Но со второго раза всё же «перевоспитали»? – тут же ответил Фёст. – Значит, нам с первого раза нужно того же эффекта добиться. Тем более англичане – не немцы.
– Это ещё вопрос, кто хуже, – хмыкнул Алексей.
– Да не о том вы говорите, – вдруг с неожиданной горячностью заявил Секонд. – Война, война и ещё раз война… А разве нет у вас, уважаемые «старшие товарищи», способа без войны тех же целей добиться? Мне кажется – есть. Арчибальд – само собой. Ему ведь можно любую команду отдать, и он её теперь выполнит.
– Можно, – согласилась Сильвия.
– А остальная аппаратура?! А роботы, наконец?! По-моему, вполне достаточно, чтобы без всяких боевых действий привести Британию и вообще хотя бы зону ТАОС к основательному и прочному миру…
Эти слова настолько поразили Берестина, что он несколько секунд молча смотрел на Секонда, словно размышляя, верить ли ушам своим. Потом вздохнул и громко, пожалуй что с облегчением, рассмеялся. Вроде как счёл случившееся с товарищем временное помутнение не опасным для жизни.
– Вы над чем, собственно, смеётесь? – вскинулся Секонд.
– Да в основном над собственными мыслями. К тебе лично никак не относится.
– Да? Ну, может быть. Просто я хотел сказать, что ваш собственный опыт вполне достаточен, чтобы…
Тут снова вступила Сильвия, не дав Секонду закончить фразу.
– Вот сейчас, молодые люди, вы коснулись ключевого, можно сказать, вопроса текущей политики…
Так странно она обратилась к Фёсту с Секондом, словно к Владе и Никеше из «12 стульев» – это их Остап назвал «молодыми людьми», когда они совместно внесли в кассу «Союза меча и орала» всего восемь рублей на двоих.
– Дело в том, что мы все, я – в том числе, в последнее время заигрались, а можно сказать – и доигрались. Не случайно ведь за всё время моей работы на Земле, да и раньше тоже, на много веков раньше, силовые методы ни мной, ни моими предшественниками и коллегами не применялись. Только опосредствованное, непрямое воздействие на отдельных личностей, и уже через них – на текущие события. Для пресечения оных или, наоборот, стимулирования в нужном направлении. Тем более мы избегали без крайней необходимости использовать свою аппарату в активных режимах. Только в действительно крайних случаях и буквально на доли секунд. Поэтому никаких потрясений континуума и не происходило…
– Так и результатов особых тоже не было? – с невинным лицом осведомился Фёст, получивший от Шульгина за время индивидуального ученичества несколько иную трактовку аггрианско-человеческих взаимоотношений.
– Что считать результатами, – спокойно ответила Сильвия. – Необходимый баланс сил и интересов в Галактике сохранялся, человечество более-менее прогрессировало, ткань времени была прочна, и иные силы не имели доступа на конвенционную территорию. Но с того момента, как собственными ли способностями, или с чужой подачи Левашов изготовил свою первую установку пространственно-временного совмещения, абсолютно всё, как у вас выражаются, пошло вразнос. Очень возможно, что это было сделано специально, так называемыми Игроками, чтобы обострить партию, вывести её из патовой ситуации. Не знаю, могу только догадываться. Но каков имеем итог? Разрушена тщательно отрегулированная система взаимоотношений между аггрианским и форзейлианским Союзами, и те и другие потеряли всякую возможность цивилизованных взаимоотношений через нейтральную территорию. На самой Земле и в относящихся к ней Пространствах вместо стабильной Главной исторической последовательности открылись горизонты неизвестного числа Параллелей, ранее каким-то образом явно специально отсечённых от Единственной. Сама возможность продолжения человеческой цивилизации в привычном виде и качестве под непосредственной угрозой. Боюсь, что очень скоро всё вокруг перейдёт в совершенно другое качество…
– Но простите, Сильвия, – удивился Фёст, знающий о том, что сейчас сказала аггрианка, гораздо больше Секонда. – Насколько мне известно, все вами названные события начались как раз после того, как отнюдь не земляне, не Левашов и остальные «Братья» стали бесконтрольно применять имеющиеся у них спецсредства, а вы с Антоном. Едва ли сама по себе невинная попытка нескольких экспериментаторов исследовать случайно обнаруженную планету имела бы столь катастрофические последствия и для ваших цивилизаций, и для самой Земли. А у вас вроде именно так получается. Всё было чудо как хорошо, да стрелочник подвёл…
Сильвия вздохнула. Щёлкнула кнопкой своего портсигара, и через минуту-другую в кабинете появился Арчибальд, в своём костюме члена «Хантер-клуба», но катящий перед собой, как заправский лакей, сервировочную тележку, уставленную тарелками, бутылками и прочими приборами..
Аггрианка указала ему на низкий, инкрустированный малахитом стол, прототип нынешних «журнальных», в противоположном углу кабинета, и он так же молча, с вызывающей уважение сноровкой принялся его накрывать.
– Опять придётся объяснять очевидные вещи, – снова вздохнула Сильвия. – За столько времени не удосужились как-то всё систематизировать, «Краткий курс истории «Братства» написать, что ли. В итоге у всех – только обрывки информации, а лакуны между ними заполнены домыслами, у каждого – своими.
– Ты не совсем права, – вдруг вмешался Берестин, человек, имевший самое непосредственное отношение к этой «истории» ещё до того, как она по-настоящему началась. – Хоть «Краткий», хоть «Полный» курсы не написаны просто потому, что они и не могут быть написаны, поскольку именно как реальность эта «история» попросту не существует. Любой её этап и момент настолько вариабильны, что нельзя в точности сказать, как оно там было на самом деле. Поэтому и воспоминания у нас у каждого свои, и амбивалентность[72] присутствует почти в каждом эпизоде.
Для Фёста и Секонда это был довольно странный поворот сюжета, и не только потому, что они услышали столь оригинальную трактовку прошлого, а выходит, и настоящего той организации, к которой они имели честь принадлежать. Не менее неожиданным было и то, что произнёс данное суждение человек, менее всего, как им казалось, склонный к философствованию. Скорее уж Воронцов в своём многоуровневом уединении мог бы доразмышляться до таких постулатов.
– А вот это мы давай оставим для другого раза, – спокойно, но веско ответила Сильвия. – Сейчас – время практических решений. Уже неоднократно говорилось и всеми якобы признавалось, что любые наши поступки, с тех пор как мы нарушили «статус-кво» и начали тем или иным образом вмешиваться в… – Она сделала паузу, усмехнулась какой-то своей мелькнувшей мысли. – В сложившийся порядок вещей, каждое наше действие начало отзываться противодействием, причём, вопреки Ньютону, в самом хаотическом, подчас даже с нарушением законов причинности, порядке. Все это понимали, и все продолжали нарушать…
– «Странный аттрактор» такое положение называется. Но что было делать, если уже жить стало невозможно? – сказал Фёст, который и сам неоднократно на эту тему задумывался. – Мало кто умеет балансировать на стоящем велосипеде. Вокруг постоянно что-то происходило и каждый раз приходилось названные вами принципы нарушать. То по мелочи, то по крупному…
– Ну и к чему мы пришли? К такой ломке, что хоть колись, чтобы не умереть от абстиненции, приближая смерть от передозировки, хоть не колись, что практически тоже не обещает ничего хорошего.
– Ну и сравнения у вас, – сказал Секонд. – Профессиональные…
– А что поделать, если дела обстоят именно так? Мы подошли к последнему краю, и вы это видите. Почти половина наших товарищей заблудилась на перекрёстках времён, и удастся ли встретиться в обозримом будущем – большой вопрос. Грядущая война у тебя, – это Секонду, – угроза всеобщего развала и геополитической катастрофы у тебя, – повернулась она к Фёсту. – Что остаётся? На Валгаллу, ту или другую, бежать, или в последнюю благополучную параллель, что у нас осталась?
– Ну и какое ваше решение? – осведомился Фёст, присматриваясь к закускам и соображая, с чего начать – с коньячка или всё-таки с водки, по Гиляровскому. Ему уже вполне стала понятна мысль, к которой аггрианка их так аккуратно подводила. А могла бы этого и не делать, сказала бы впрямую, да и всё. Но в целом интересно, невредно послушать для общего развития. Ход мысли, метод построения силлогизмов и вообще. Если катастрофа всё же не наступит и мир ещё немного просуществует, им с Сильвией работать. А то и вправду, когда ещё Шульгин с Новиковым вернутся, и вернутся ли при их жизни…
– Решение, на мой взгляд, единственное. Сосредоточить всё внимание на твоей реальности, – указала она лёгким движением руки на Секонда, – позволить всем накопившимся за девяносто лет напряжениям, противоречиям межгосударственным и межличностным, а также и чисто хронофизическим парадоксам саморазрешиться, вскрыться, подобно гнойному абсцессу, вашим медицинским языком выражаясь. При этом нам, как врачам, предстоит быть очень внимательными, чтобы и в организме гноя и инфекции не осталось, и пациент не умер от кровопотери и сердечной недостаточности…
– Доходчиво, – улыбнувшись, кивнул Фёст, который старался оправдывать своё имя, везде выдвигаясь вперёд, заслоняя «братца». – А после такой «санации» пациент долго будет физически настолько слаб и нуждаться в поддерживающей терапии, что… Короче, с той реальностью всё понятно. Послевоенная Европа и мы в роли Америки, реализующей план Маршалла. При отсутствии на карте СССР? Так? А в остальном? – Он хотел показать Сильвии, что люди вокруг неё тоже кое-что представляют и рассчитывать на единоличное лидерство ей не стоит.
– Что – в остальном? Какая участь ждёт твою Эрфэ? – с долей раздражения ответила аггрианка. – Я не могу сейчас сказать, как отразится случившееся в той реальности на эту. Но имею основания полагать, что какое-то воздействие будет. Вы не обратили внимания – как только Олег возродил Империю, у здешней России тоже несколько изменился вектор политических устремлений?
– Да пока не очень заметно… Хотя, в прошлый раз, в дни «Ночи и тумана»[73], определённое воздействие нашей реальности на ту отмечалось, но было оно гораздо нагляднее…
– Присмотрись внимательнее. И не думай, что столь мягкое подавление, я бы даже сказала – пресечение мятежа, исключительно твоя заслуга.
– Да я и не думаю…
– Вот и хорошо. Значит, то, что здесь – полностью твоя прерогатива. И людей, и сил, и возможности влиять на Президента и общественное мнение у тебя достаточно. А там – это уже мы будем разбираться. Постараемся, чтобы «пациент» не только выжил, но и существенно окреп…
…А началось с чего? Нынешним утром Сильвия появилась в кабинете квартиры, где Фёст, достаточно уже замотанный, одновременно говорил по телефону с присланным в эту Москву «для согласований» представителем императорской Ставки и пытался что-то жестами объяснить ждущим его указаний Яланской и Людмиле.
Вошла, одним взглядом оценила ситуацию, указала пальцем девицам на кресла, извлекла из портсигара сигарету, предложила угощаться и им. При этом, посмотрев на Ляхова, сделала страдальческое лицо и возвела глаза к потолку, изображая нравственные мучения какой-нибудь мифологической Ниобы.
Дождалась, когда Фёст закончит разбираться с коллегой-полковником и переадресует его к телефонному номеру, по которому тот сможет решать вопросы с «начальником штаба», то есть майором Яланской. Сильвия «верхним чутьём» уловила, сколь велика сейчас неприязнь «невесты» к красивой женщине, мало ли что сослуживице, последнее время почти круглосуточно общающейся с Ляховым, пусть и по делам государственным.
– Так, – веско сказала аггрианка, вставая. – Пора заканчивать. Иначе процесс вступит в необратимую фазу. Мы всё это давно уже проходили и прошли…
– Что проходили? – не понял Фёст.
– Это самое. Стадию административного восторга. Когда человек, дорвавшись до власти, воображает, что ни один вопрос не может быть решён без его участия. Тогда он очень быстро задалбывает подчинённых, загоняет самого себя в тупик, а порученное дело глухо вязнет в «болоте» или вообще разваливается. «Трение»[74] возрастает до бесконечности… Я вот не знаю, чем ты сейчас занимался, но отчётливо понимаю, что ерундой, которую легко способен разрешить правильно подобранный и компетентный майор или даже капитан.
– Но как же?! – попытался удивлённо возмутиться Фёст.
– Да никак, – с милой улыбкой ответила аггрианка. – Просто ты сейчас вылез не на свой уровень. Первый раз в жизни, как я понимаю. До этого предел твоей компетенции определяли другие, а сейчас уздечка соскочила, извини за сравнение. Как там у вас в своё время очень популярная книга называлась? «Я отвечаю за всё»?[75] Так это неверно. Поэтому вешай на дверь табличку «Закрыто на переучёт» и пошли со мной. А на хозяйстве пока пусть останутся Люда с Галей. Кого считают нужным, пусть переадресовывают по команде, у вас там, я слышала, в новой Ставке скоро генералов негде размещать будет. Остальным говорят – «Зайдите завтра». И всё сразу наладится… Самим ничего решать не нужно, и вообще, чем меньше посторонних будут иметь к вам доступ, тем лучше для дела.
Перейдя с Фёстом на свою половину квартиры, она доверительно пожаловалась Вадиму, что больше совершенно не может здесь бывать.
– Представь, как в семнадцатом году «Мраморный дворец» Кшесинской превратили в «штаб Октября». Ужас, не нахожу другого слова. Если бы я знала, как здесь на самом деле будет всё устроено, оставила бы один коридор «оттуда сюда и обратно», а прочее отгородила глухой стеной. Увы, это не в моих силах. Поэтому…
Не продолжая, она блок-универсалом открыла проход в кремлёвский кабинет Секонда, где тот тоже трудился, «весь в мыле», и поманила его пальчиком с удивительно коротким для её статуса ногтем.
– Скажи адъютанту – «Барин больше не принимает», и – со мной.
Ещё две-три минуты – и они очутились в Замке, именно в том кабинете, что Сильвия лично для себя заказала и оформила. Он примыкал к той секции, где она недавно принимала Императора Олега, но отделялся от неё широким коридором с навощенным паркетным полом, в котором отражались висящие на шестиметровой высоте хрустальные люстры.
Кабинет был не слишком велик, женский всё-таки, но помещалось в нём достаточно много антикварной мебели, картин, статуй, статуэток, кадок с древовидными и кашпо с вьющимися растениями. Три окна выходили на серый волнующийся океан и пронзительно пустынный мелкогалечный пляж с несколькими остроконечными гранитными скалами разных оттенков красного, розового и тёмно-серого, наводившими на мысль, что они тут поставлены специально, после тщательных дизайнерских поисков идеала.
Там уже ждал Берестин, снова в военной форме, которую надевал обычно или по обстоятельствам, или просто чтобы отдохнуть от штатской одежды, как другие военные с той же целью, наоборот, переодеваются из формы в гражданское. И часто выглядят при этом весьма комично, как Николай Второй на нескольких любительских фотографиях.
– Вот здесь мне теперь нравится гораздо больше, – сказала Сильвия, присаживаясь к письменному столу, уставленному всякими драгоценными безделушками, статуэтками и фотографиями в причудливо-ажурных рамках. Непохоже, чтобы за этим столом вершились государственные дела. Кожаный бювар с листами глянцевой бледно-сиреневой бумаги, украшенной монограммой, и многофигурный письменный прибор с настоящими чернильницами и перьевыми ручками более подходили для написания писем и записок интимного содержания, нежели для указов и рескриптов.
Подумав об этом, Фёст с трудом сдержал на языке ядовитое замечание насчёт тайных комплексов и пристрастий некоторых дам. Не стоит – себе дороже может обойтись такой юмор. Шутки шутками, а Сильвия ведь не простила ему того унизительного момента, когда она, обнажённая, предлагала ему свою любовь, а он, пусть и крайне вежливо, отказался. И неважно, что совсем недавно она согласилась принять его в долю в интриге с Императором и Ингой. Это из разных опер интермедии.
– Мне кажется, я вообще перестану там бывать, – продолжила она, имея в виду Столешников. – Для меня это почти как надевать своё бельё, узнав, что его кто-то уже носил…
– Не слишком ли категорично? – удивился Секонд. – Насколько я знаю, и до вас там жили многие люди…
Он тоже не стал говорить впрямую, что это аггрианку Шульгин, Новиков и прочие пустили в свою компанию и в квартиру тоже, никак не наоборот. К чему обострять отношения сейчас, когда предстоят очень непростые дни, если не годы?
– Ах, это совершенно другое, – отмахнулась Сильвия. – Раньше там бывали только свои, и у каждого – личная территория. А сейчас – отвратительный гибрид проходного двора с ночлежкой…
Великолепно сыграно, с полной убедительностью. Прямо действительно капризная барынька чеховского типа, а не закалённая руководительница могучей инопланетной разведывательно-диверсионной сети. И всё лишь для того, чтобы замотивировать желание перенести свою резиденцию в Замок, пока никто другой участок не застолбил?
А почему бы и нет – эмоциональная мотивация часто бывает убедительнее рациональной.
…Обдумав сказанное Сильвией, Фёст решил, что, пожалуй, действительно так будет лучше. Если он сосредоточится только на здешних делах, причём, кроме общего руководства, на достаточно конкретных направлениях, вроде дипломатии и идейно-политической работы с массами, оставив проведение собственно «Мальтийского креста», и сопутствующих операций, по типу пресловутых «десяти сталинских ударов» узким специалистам – будет лучше всем. Но ему – в первую очередь. А то ведь требовать от армейского врача, прошедшего лишь «краткосрочный спецкурс стратегии непрямых действий», ну и имеющего кое-какой практический опыт, чтобы он ежедневно и ежечасно проявлял таланты Сталина, Наполеона, Талейрана и Макиавелли в одном флаконе – явно неблагоразумно. Как минимум. А на своём «суженном» до разумных пределов участке фронта он как-нибудь разберётся.
– А что у нас сейчас в секондовском времени? – спросил он у Сильвии, перед которой на столе стоял оформленный в золотую рамку стиля «рококо» универсальный календарь, показывающий соотносимые даты всех подконтрольных реальностей. Причём встроенный туда специальный чип-калькулятор позволял производить всяческие расчёты и иные манипуляции с локальными и условно-общими хронопотоками. Устройство позволяло также определять открытые для переходов контактные точки (места пробоев изоляции) жгута реальностей и наиболее вариабельные развилки альтернатив. Удобная штука, изготовленная по её распоряжению Арчибальдом, то есть всё тем же Замком, в каких-то своих тайных мастерских. Впрочем, зачем ему мастерские, если на своей территории Замок позволяет любому желающему уподобиться Богу – «И сказал Бог – да будет твердь посреди воды и да отделяет она воду от воды. И стало так».
– В секондовском времени всё в порядке, – ответила Сильвия, бросив взгляд на дисплей. – Межвременной зазор ещё немного расширился, и мы наверняка успеваем со всеми подготовительными мероприятиями. Ещё бы с Ибрагимом окончательно совместные действия согласовать… И пусть англичане начинают…
В массивные, выше двух человеческих ростов двери, украшенные высокохудожественной резьбой и с большим вкусом подобранной бронзовой (а может, и золотой, чего стесняться) фурнитурой снаружи кто-то постучал. Достаточно сильно, чтобы звук прошёл сквозь шестидюймовой толщины кедровые доски, но в то же время деликатно, чтобы это не походило на грубое явление опергруппы, присланной арестовать инсургентов. Именно так подумал Фёст. Да и Сильвия подняла голову, весьма удивлённая. Как-то чересчур театрально это выглядело – из присутствующих в Замке людей никто не знал о расположении кабинета и ни в коем случае не мог на него наткнуться «просто так». Арчибальду стучать тем более не было необходимости, теперь он мог являться только по зову. Тогда кто?
– Войдите, – совершенно машинально ответила Сильвия, даже не подумав, что на расстоянии двадцати метров, да ещё и по ту сторону закрытой двери голос её не будет услышан.
Однако сразу же после её слов дверь аккуратно отворилась, и на пороге появился Дмитрий Воронцов собственной персоной, одетый в свой парадно-выходной белый китель с золотыми нарукавными нашивками.
Глава шестая
– Добрый день, господа, – сказал Воронцов, лучезарно улыбаясь, – надеюсь, не помешал? Я, собственно, по другому поводу сюда наведался, но услышал, что у вас здесь как бы «большой сбор», ну и не смог не заглянуть, не представиться…
– А как ты, собственно?.. – начала Сильвия, желая спросить, каким образом Дмитрий попал в Замок, не возбудив мирового континуума. Если бы он воспользовался блок-универсалом или СПВ, она бы получила соответствующий сигнал на свой «портсигар». Да и Арчибальд непременно бы среагировал, не пустил постороннего «без доклада».
Но адмирал её перебил:
– Есть способы, дорогая, есть и порох в пороховницах, и всё прочее.
Воронцов, как известно, был первым из «Братства», по специальному приглашению посетивший Замок, и тот, некоторым образом, был на него настроен. Большинство помещений в предназначенном для людей секторе Дмитрий сам придумал и воплотил в «дерево и камень». Конструируя «Валгаллу», тоже непосредственно взаимодействовал со специально выделенными для этого «интеллектуальными и производственными мощностями». Да и обслуживающие пароход роботы были частью личности всё того же Замка, оттого Дмитрий был, что называется, «первый среди равных» для этой псевдоличности. А может, и просто – «первый» – без всяких оговорок.
И для того чтобы попасть сюда, Воронцову не требовались никакие технические ухищрения. Ещё в самом начале Антон вручил Дмитрию совсем крошечный приборчик, размером с таблетку валидола, который достаточно было приложить за ухо, чтобы из любой точки пространства-времени оказаться в Замке, причём в требуемый момент. Тогда Антон ещё пытался вести с помощью Воронцова отдельную игру, для чего и обеспечил ему возможность экстренной не только связи, но и спасения, если вдруг возникнет непреодолимая собственными силами опасность. Как в белорусских лесах летом сорок первого года, например.
Вот сейчас он этой штучкой и воспользовался. А стоило ему оказаться в пределах замковой территории, место совещания Сильвии с братьями-аналогами как бы само собой нашлось.
– Но это сейчас не имеет никакого значения. Просто имей в виду, что в отношениях с Замком у меня перед всеми остальными есть некие преференции. И раньше были, и впредь, надеюсь…
Фёст с Секондом сразу отметили, что Сильвии его слова очень не понравились. Натура у неё была всем известно какая, и она уже успела настроить себя на то, что Замок действительно переходит под её контроль, по крайней мере – сейчас, а что дальше будет – потом и посмотрим. То, что она таким образом брала реванш за проигрыш Антону, её стимулировало ещё больше. И тут вдруг появляется Воронцов, которого она в своих расчётах совершенно не учитывала и вообще привыкла воспринимать как «личность не от мира сего». Начальник тыла, как он сам иногда любил представляться, не очень при этом скрывая несколько ироничное отношение к собственным словам и к собеседнику, который воспримет это слишком всерьёз. Но безусловно – добрый человек, лишённый амбиций, готовый помогать всем и никогда не претендовавший на первые роли, кроме как на палубе своего парохода.
А он вдруг вон как заговорил! Вроде как указал всем на «заявочный столб», вбитый им раньше прочих и по всем правилам. Мол, играться – играйте, но в случае чего – «посередь грязи долой».
Берестин смотрел на Воронцова молча, в душе, наверное, забавляясь, а Фёст – с явным удовольствием. Союзник, похоже, решил открыто заявить о своей позиции. Могучий союзник, сразу меняющий все расклады. Только Секонд не слишком понимал сути происходящего, ему и своих забот хватало, чтобы ещё и вникать в тонкости отношений и приоритетов внутри «Братства».
Воронцов подсел к столу, негромко позвал Арчибальда. Тот никак не мог его услышать, даже если бы стоял у двери, приложив ухо к замочной скважине. Вернее, нормальный слуга не услышал бы, а этот буквально через мгновение уже возник на пороге. Дмитрий, в принципе, мог бы вообще ничего вслух не произносить, эффект был бы тот же: Замок с первого дня умел реагировать и на мысли, и на зрительные образы, представляемые Воронцовым.
– Мне чистый прибор, сам понимаешь, и бутылочку «Селекта»[76] к кофе… И боржомчика из холодильника.
Некогда весьма загадочный и грозный господин Боулнойз в роли официанта смотрелся тоже вполне адекватно.
– Сию минуту-с. Сделаем! – и исчез со скоростью О. Генриевского поросёнка.
Берестин снова засмеялся. Такое на него сегодня нашло эмоционально-подвижное настроение.
– Вы тут, наверное, непременно проблемы войны и мира обсуждаете? Не возражаете, если и я поучаствую? – осведомился Воронцов, улыбкой ответив на смех Берестина.
Извлёк из кармана совсем недавно спрятанную туда трубку «с огнём», как было принято среди офицеров Российского Императорского флота в начале прошлого века. Несколько потянул – разгорелась. Выпустил клуб медово пахнущего дыма.
– Какие же могут быть возражения? – сделала вид, что удивилась, Сильвия. – Просто мы не думали, что тебе это сейчас интересно, иначе непременно бы пригласили…
– Да пустяки. Так, вспомнилось вдруг прошлое, захотелось стариной тряхнуть, вдохнуть, как говорится, тревожного воздуха большой войны.
– Какой именно? – осведомился Берестин, – То есть где – у нас, или … – Он кивнул в сторону Секонда.
– Ну, какая на нашей стороне сейчас может быть война? Разве что внезапная термоядерная? – пренебрежительно махнул рукой Дмитрий.
– А в той ты каким образом думаешь поучаствовать?
– Ну, я всё ж таки, считай, линейным крейсером командую, – это он имел в виду вооружение «Валгаллы», хоть и уступающей новейшим английским крейсерам и линкорам числом и калибрами своих орудий, но значительно превосходящей их дальнобойностью, меткостью и скорострельностью. Это не считая ракетного вооружения и самонаводящихся торпед с дальностью до десяти миль и скоростью семьдесят узлов.
– Ещё и «Изумруд» у меня есть, так что повоевать найду чем. Хотя эскадренные бои затевать едва ли придётся. Блох ловить поодиночке – долгое и муторное занятие. Хватит с нас и двадцать первого года, тогда я свои нереализованные инстинкты полностью удовлетворил[77]. Я кое-что другое предложить хотел. Нет, в ваши планы я вторгаться не собираюсь, просто показалось интересным кое-какие соображения проверить. Вы ведь Арчибальда обратно в игру вводить пока не собирались?
– Пока – нет. Если ты имеешь в виду – за пределами Замка, – ответила Сильвия.
– Вот и хорошо. А у меня есть на его счёт некоторые планы. И ещё – с Катранджи что думаете делать?
– Я решила, что в Югороссию ему теперь незачем отправляться. У Олега и без того свободного оружия более чем достаточно. Завтра переправим его обратно и на месте решим, что и как должен будет делать он, что мы… Займётся привычной, но более социально-ориентированной деятельностью…
– Не пойдёт, – отрицательно качнул головой Воронцов. – Первоначальный вариант лучше: поедет он в гости к Басманову и о поставках договорится. А я помогу ему получить всё, что нужно, и переправить…
– Но зачем?
– Помните «Конец вечности»? – спросил Дмитрий, обращаясь как бы ко всем сразу.
Сильвия сделала непонимающие глаза. Она такими пустяками предпочитала не интересоваться, хотя за время долгого общения с «братьями» сразу поняла, что речь идёт о книге, а не о чём-то другом.
– Что именно? – осторожно спросил Берестин. Он книгу читал, в отличие от Фёста с Секондом, для которых это была слишком уж глубокая древность, изданная за много лет до их рождения.
– Место, где Харлан говорит: «Ваши расчеты предусматривали мучительную гибель двенадцати человек, а я для МНВ обойдусь перестановкой ящичка с одной полки на другую…»
– Ну, приблизительно помню… – кивнул Алексей.
– Вот и здесь поставленных целей можно достичь с гораздо большим эффектом, чем вы напланировали, и, я бы сказал, с заделом на будущее. Но для этого мне сначала нужно с самим эфенди поговорить.
Он не стал при всех заявлять, что идея Сильвии о прекращении миссии Катранджи-Басманова, переданная ему Фёстом, является и с военной, и с дипломатической точки зрения абсолютно непрофессиональной.
– Он у нас здесь как русский купец Катанов проходит, – уточнил Секонд.
– Непринципиально. Надеюсь, я не задел чьих-то чувств, проявив определённую бесцеремонность? Знаете же, что такое откровенность без церемониала? – говорил Воронцов вполне серьёзно, но с тем особым выражением лица, по которому хорошо знающие его люди легко угадывали, что произнесённое следует расценивать как крайнюю степень иронии, также именуемую и сарказмом.
– Нет, что ты, мы все с удовольствием примем любую помощь. Положение ведь действительно сложное. – Сильвия постаралась, чтобы слова её прозвучали предельно благожелательно. Она на самом деле понимала, что поддержка Дмитрия, решившего сойти со своих «горних высот», будет весьма и весьма полезна. Если она опытнее его, то он, несомненно, изобретательнее, да, пожалуй, и умнее, применительно к предложенным обстоятельствам. И не время сейчас меряться самолюбиями, тем более что её самолюбия Воронцов задеть не мог по определению, ибо они находились в разных плоскостях. Вот если бы она стала навязывать ему своё внимание, а он его демонстративно отверг, тогда да. Но ей хватало здравомыслия с самой первой встречи даже не пытаться испробовать на нём свои чары. Уж в этом вопросе она была специалисткой высшего класса. Только с Фёстом досадный пробой вышел, не учла, что его лично Шульгин тренировал и воспитывал.
– Ну, тогда продолжим работу каждый по своим планам, а мне достаточно будет с ребятами несколькими словами переброситься, а потом Ибрагима повидать…
– Что, даже на обед не останешься? – с милой улыбкой спросила Сильвия.
– Отчего же? С удовольствием. На обед, переходящий в ужин. Пойдёт? На нём заодно окончательно всё согласуем, с учётом предварительных консультаций. Кстати, если не затруднит, для меня хоть полчасика зарезервируй, перед самым ужином, чтобы потом, за общим столом наши позиции выглядели монолитно-едиными.
– …Не думал я, что вы решите лично в дела наши вмешаться, – сказал Фёст, когда они втроём расположились в любимом адмиральском кабинете Воронцова. Здесь братья-аналоги были впервые и с любопытством оглядывали явно избыточное, на их вкус, убранство помещения: модели кораблей, застеклённые книжные шкафы, фотографии в чрезмерно причудливых резных рамках, абордажное холодное оружие и старинные навигационные приборы на стенах и отдельных столиках. Музей, да и только. Слишком пышные ковры на полу, массивные кожаные кресла, титанический письменный стол – под стать шестиметровым потолкам и четырёхметровым стрельчатым окнам, выходящим на сумрачный морской берег.
Первый хозяин оригинала этого кабинета, адмирал Григорович, любил такую вот смесь ампира, барокко и модерна. А Воронцов ничего менять не стал, только подкорректировал кое-что под себя. И погода снаружи была такая же, как в день его первого сюда прихода. Странно было бы Дмитрию видеть всё это в лучах яркого тропического солнца. А вот так – многослойные серо-сизые тучи, то и дело проливающиеся холодным серым дождём, свинцовая, даже на вид холодная вода неспокойного океана, пустынный каменистый пляж… Посвист свежеющего ветра в каминной трубе. В самый раз.
– Не всё же мне на главной базе отсиживаться, решения по чужим рапортам на глобусе принимать. Надо и самому иногда командирскую рекогносцировку проводить, заодно и с настроением войск лично познакомиться. А то ведь «гладко было на бумаге…», – ответил Воронцов опять же на неуловимой грани между серьёзностью и иронией.
– Если не трудно, – посмотрел он на Секонда, – разожги камин. Там всё приготовлено, только спичку поднести. Уютнее будет…
Выдвинул правый верхний ящик стола, достал оттуда коробку сигар.
– Угощайтесь. Настоящие, прямо из тысяча девятьсот шестого года. Сейчас таких не бывает уже. Любил их высокопревосходительство хорошими сигарами побаловаться, приличный запас всегда при себе держал. Ну, ко мне и перешло по наследству. Я их специально отсюда не забираю – когда в Замке оказываюсь, тогда и балую себя. Твой наставник их тоже весьма уважает… – сообщил он Фёсту, вспомнив, как они с Шульгины дымили тут за обстоятельной беседой.
С веселым треском хорошо высушенной (тоже с 1906 года?) бересты начал разгораться камин.
– Ты там только вьюшку не трогай, она как раз под здешние ветры отрегулирована, – предупредил Воронцов Секонда. – Ну, садитесь, поговорим. По пути там из погребца, – указал он на приличных размеров сундучок из дорогих пород дерева, инкрустированный то ли слоновой, то ли моржовой костью, тоже на флотские сюжеты, – чего-нибудь на стол прихвати. Покойный адмирал всё больше херес и марсалу предпочитал. Ну и вы продегустируете, тоже вполне экологичные продукты, и исключительно от «эксклюзивного поставщика».
В погребце, то есть специальном дорожном вместилище именно для напитков и необходимых приборов, оказался и набор серебряных стопок и чарок, по шесть штук примерно сто– и двухсотграммовых. Как эти дозировки именовались по-старорусски, Секонд не помнил.
– Таким вот образом, парни, – сказал Воронцов, отпив треть чарки хереса, ароматного, выдержанного, не меньше чем двадцатиградусного. – Неплохо предки жили, согласны?
Близнецы дружно кивнули. Такое вино именно для хорошего, долгого разговора и предназначено и под определённую погоду, у горящего камина – здесь Дмитрий Сергеевич безусловно прав.
– Значит, сначала о Катранджи. Это у Сильвии экспромт – отменить его вояж за оружием в Югороссию, или она с вами советовалась?
– Экспромт чистой воды. Она на совещании в присутствии Императора мне его как готовое решение выдала. Я возразить попробовал, хотя бы в чисто техническом смысле, но она сказала, что все оргвопросы берёт на себя… – ответил Секонд, поскольку операция с Ибрагимом проходила по его ведомству.
– Ну, если это пока не непонятный нам замысел, то просто ошибка. И не одна. Мы их вовремя и деликатно исправим. А в чём главная из них – догадались? Ну, вот ты, академик, – обратился он непосредственно к Ляхову-второму, – наверняка ведь по военно-экономической статистике двенадцать баллов получил. Что скажешь?
Тот сосредоточился, даже по-школьному наморщил лоб. Воронцов дал ему явную подсказку, а он не мог сообразить, к чему именно она относится.
«Военная экономика, военная экономика… При чём она тут? Оружие ведь Катранджи получает за очень хорошие деньги, и не только деньгами будет расплачиваться. Самой России и Югороссии тем более оно практически ничего не стоит. За исключением накладных расходов. По любому параметру рентабельность – тысячи процентов. Где же тут подвох? А Фёст, кажется, уже догадался, вон, едва с языка рвущееся слово сдерживает… Ну, ему проще – они с Воронцовым современники. Наверняка прецедент вспомнил, какого и Сильвия не учла… Что же это у меня мысленный запор какой-то?»
– Ну ладно, хватит терзаться, – сжалился Воронцов над полковником-генштабистом. – Не бери в голову, с такой проблемой вам действительно сталкиваться, может, и не приходилось. Ты просто вечером спроси у леди Спенсер, наедине и как бы между прочим – что она о ленд-лизе помнит и в чём там была главная проблема.
Секонд хлопнул себя ладонью по лбу от досады.
– Нет, ну действительно, как я не сообразил! При чём тут имперские склады, полные оружия? А как его транспортировать в условиях войны до нужного места?
– Вот именно. Мы хоть миллион стволов со складов в европейской России отпустим, а бойцы, их ждущие, от Касабланки до Калькутты рассредоточены, и все коммуникации под вражеским контролем. Значит, раз согласны, что ваш вариант неприемлем, для Ибрагима всё оставляем по-прежнему, а транспортную проблему я беру на себя. Разберёмся – не впервой. Возражения есть? Возражений нет, – кивнул он, очень похоже сымитировав красноармейца Сухова. – Переходим ко второму вопросу. Дело в том, что Дайяна произвела в своей школе досрочный выпуск. Как бы прапорщиков военного времени. А это значит, что в ближайшее время в ваше распоряжение могут быть представлены сотня с лишним специалистов обоего пола известного вам уровня. Пока что они проходят заключительную шлифовку на «Валгалле». Какие соображения? В смысле – кто именно согласен взять их в своё подчинение? То есть – под какую реальность их затачивать?
После непродолжительных споров сошлись на том, что основная часть пополнения будет направлена всё же в распоряжение Секонда. У него есть уже действующая и хорошо отлаженная структура «Печенегов». Просто один нынешний девичий взвод в новую полноценную роту нужно будет развернуть. Целиком из «валькирий». Ротной хоть Вельяминову поставить, чин позволяет, личные качества – тем более. И все барышни её помнят, рады будут под началом воскресшей подружки служить. Немногочисленных парней сразу возьмёт себе Фёст, подготовить по собственной программе, оформив их пока как личных адъютантов. Многовато, конечно, по его должности, но вопросов задавать всё равно никто не осмелится, особенно если все разом свитой за ним ходить не будут.
– Да о чём тут говорить, всего семнадцать человек. Якобы прикомандированные с той стороны подпоручики, выпускники Тобольского или Уссурийского егерских училищ. Кому какое дело? Вы меня сегодня же на пароход отправьте, я сразу и займусь, – загорелся он, получив возможность, в свою очередь, почувствовать себя на месте Шульгина, обретя внезапно столько «послушников».
– Свободно. Сегодня тут закончим, и после ужина пойдёшь. Вместе со мною. Раньше не стоит, иначе опять начнём путаться во временах, кто из нас сколько где пробыл и какая дата какой соответствует.
– Так есть же компьютер, чтобы за всем этим следить…
– Термометр тоже за температурой следит, однако, если от тифа помирать будешь, вряд ли поможет. Нам даже один лишний парадокс, и то много…
– А я? – спросил Секонд.
– А ты домой вернёшься и сколько потребуется, станешь и мои, и свои функции выполнять, – ответил Фёст. – Не впервой же. Да многого от тебя на моей стороне не потребуется, вовремя переодеваться, появляться, где надо, иногда для важности щёки надувать, как Кисе Воробьянинову. Не беспокойся, напрягаться не придётся, в любом случае Людмила с Яланской за тебя всё что нужно сделают и всё подскажут. В отличие от нас с тобой у них и память и исполнительность абсолютные.
– Ты же завтра хотел и вернуться, – забеспокоился Секонд, – а говоришь так, будто…
– Да я по тому же принципу: идёшь в лес на день – бери хлеба на неделю. Мало какие у них там сбои бывают, в эфирных-то мирах…
С Катранджи они встретились тоже втроём, поскольку на каждом лежала своя часть задачи. Ибрагим, не обращая внимания на мундир – любой слуга может надеть костюм господина, – сразу почувствовал в Воронцове весьма значительное лицо, как минимум не уступающее в статусе Чекменёву, а возможно, в чём-то его и превосходящее. Как прирождённый лидер и владыка полумира, образно выражаясь, он людей сопоставимого со своим круга чувствовал сразу. Отчего и не стал затевать никаких дипломатических и прочих игр, принятых в обществе стадных млекопитающих для выяснения, кто тут «альфа», кто «омега». Тем более рядом присутствовали оба полковника Ляхова, к наличию которых и их «взаимозаменяемости» турок давно привык, считая одним из «законов природы» сопряжённых миров. Однако при этом не удивлялся отсутствию собственного аналога. Понимая, что если бы таковой имелся, «эти гяуры» не преминули бы использовать и его в своих играх.
Сейчас они с Воронцовым просто познакомились, как новые деловые партнёры, и сразу же перешли к делу.
– Я бы хотел услышать, Иван Романович, как вы намерены распорядиться товаром, за которым направляетесь в столь дальнее и рискованное путешествие. Вроде нашего Афанасия Никитина, – спросил Дмитрий.
– Не совсем понял, – осторожно переспросил Катранджи. – Вы в качестве кого меня спрашиваете? Мы вроде как этот вопрос на всех уровнях согласовали.
– Поясняю: я в данном случае выступаю как специалист исключительно в своей, моряцко-торговой области. Кому раздавать стволы собираетесь и в кого из них стрелять – меня совершенно не интересует. А вот как вы намереваетесь доставить его «франко порт» или ещё куда-то?
– Я считал, что если я оплачиваю транспортировку до пунктов выгрузки, то остальное – не моя забота. А сколько таких мест будет – я укажу несколько позже. На суть договорённости это ведь не влияет? – Только тут до него дошло, что собеседник одет в военно-морской адмиральский китель, не торгфлотовский. – Наверное, как раз вы станете обеспечивать перевозку?
Воронцов осуждающе посмотрел на Секонда.
– Вижу, вопрос совершенно не проработан. Вы, Иван Романович, за последнее время должны были понять, что не всё вокруг так просто. Насколько мне известно, никто из нас совсем не рассчитывал попасть вот сюда, – обвёл он рукой окружающий интерьер. – И тем не менее… Так что вопрос транспортировки становится важнейшим. Это же не просто из порта «А» в порт «Б» сто контейнеров дров переправить. Тут ведь и кроме госграниц, которые для вас, как я понимаю, никогда препятствием не были, другие границы имеются…
– Конкретнее можно, Дмитрий Сергеевич? – слегка раздражаясь, спросил Ибрагим, которому велеречивость, исходящая не от араба или старорежимного турка, резала слух.
– Можно. Я буду отвечать за доставку вашего груза к месту назначения, и говорить на эту тему вам следует только со мной. Остальным – кроме господ полковников, конечно, – это будет совсем неинтересно. Договорились?
Катранджи только кивнул, про себя соображая, что такое предупреждение и вообще такой поворот сюжета могут значить.
– Вы, Иван Романович, пожалуйста, очень тщательно подумайте, в каких пунктах лучше выгрузку организовать… Или нет, не так, – перебил сам себя Воронцов. – Вы вот лучше с Вадимом Петровичем на часок-другой уединитесь, возьмите карту и определите, какие шверпункты[78] в будущей войне для нас могут стать особенно важны, с каких плацдармов желательно нанесение самых болезненных для Британии ударов и где одновременно вы можете обеспечить полную безопасность, тайну и быстроту операции. Вот тогда и я свои действия могу начать планировать. Очень может быть, для этого предварительно потребуется захватить ряд удобно расположенных портовых городов и взять под контроль пути сообщения. В общем, думайте…
Эти слова Воронцова привели Катранджи в некоторое замешательство. И совсем не тем вызванным, что какой-то незнакомец (Воронцов был ему, как положено, представлен, но как иначе назвать человека, вторгнувшегося в его жизнь только что и так внезапно, в сравнении с прочими его друзьями, партнёрами и бывшими врагами) указал ему на столь очевидные ошибки. Всерьёз его озаботило то, что он – опытнейший во всякого рода опасных акциях человек – совершенно не задумался о вещах, на которые ему походя указал только что вошедший в дело человек. Это даже ошибками нельзя было назвать, просто какое-то помутнение рассудка, охватившее, нужно заметить, не его одного. Наверняка оно особым образом связано с прочими странными, непонятными и, прямо скажем, пугающими событиями, начавшими происходить в его жизни с незавидным постоянством. Тут же на ум пришли успокаивающие строки Хайяма:
Вроде бы не совсем по сегодняшней теме, но достаточно глубоко и вполне заменяет какую-нибудь суру корана, который Ибрагим знал наизусть, но считал не священной книгой, а, скорее, сборником подходящих на все случаи жизни афоризмов. Тем более что любую суру ничего не стоило, при должной ловкости и гибкости ума, истолковать в каком угодно смысле.
Кого боги хотят наказать, лишают разума, говорили древние. В их случае – то ли боги, то ли иные неведомые силы задались целью всячески сбивать с истинного пути, самого разума вроде бы и не касаясь.
Куда бы он распорядился плыть, стоя на готовом к выходу в море пароходе, доверху забитом ящиками с оружием, уже выписав чек и вдруг сообразив, что не может поручиться за безопасность ни одного из доступных ему портов? Все они наводнены шпионами всех стран и народов, информация о скором прибытии «спецгруза» улетит мгновенно, это вам не Россия. У англичан хватит сил и возможности блокировать подходы и перехватить транспорт в море. А также немцы или французы, в зависимости от того, к чьим зонам влияния та или иная территория относится. А разгружаться на неподготовленный берег – это, знаете ли, не тонну опиума или контрабандного золотого песка с моторной лодки скинуть.
А Чекменёв и Тарханов с Ляховым-вторым тоже ничего ему по этому поводу не сказали. Возможно, тоже думали, что «великий и ужасный Ибрагим» всё знает сам и раз не касается этого немаловажного вопроса, значит, считает несвоевременным его поднимать.
Только внезапно появившийся адмирал неизвестного флота сразу вычленил суть.
Поэтому, оставшись вдвоём с царским флигель-адъютантом, Катранджи первым делом, ещё не приступая к «работе с картой», спросил у Вадима, можно ли отсюда наладить связь с этими вот местами по списку. И тут же начал выписывать нужные номера телефонов из своего карманного блокнота, хранившего столько драгоценнейшей, хорошо зашифрованной информации, что стоил много больше, чем жизни весьма многих лиц из его окружения. Почему и был снабжён хитрой системой самоуничтожения при «несанкционированном доступе».
Арчибальд, стоило только Секонду произнести его имя, появился на пороге меньше чем через минуту. Он стал таким предупредительным и безотказным слугой сразу, как только дезактивировали в нём личность господина Боулнойза. Появлявшийся сразу после вызова, причём, очень возможно, в нескольких местах одновременно, если сразу нескольким людям одновременно требовались вдруг его консультации или услуги. Ничего особенного, кстати. Если для Воронцова было Замком без проблем изготовлено нужное число биороботов, так для собственных нужд чего же стесняться?
Арчибальд умело изображал слугу староанглийского, если ещё конкретнее – викторианского стиля. Внешний аристократизм, превосходящий таковой у хозяев, полная невозмутимость независимо от окружающих обстоятельств, и одновременно предупредительность и высокопрофессиональные навыки во всех областях лакейской профессии.
– Что угодно вашему высокоблагородию? – осведомился он, глядя на Секонда «без лести преданными» глазами. И не поймёшь, издевается робот или настолько вошёл в роль, и для него сейчас Ляхов – действительно заехавший с визитом флигель-адъютант иностранного монарха.
– Угодно организовать сеанс связи с реальностью-два. Там, где ты с «Хантер-клубом» работал. Это возможно?
– Будет исполнено. Должен предупредить, что режим видеоконференции обычным способом для той реальности недоступен. Там отсутствует единая мировая сеть и соответствующие персональные терминалы. По специальному каналу можно обеспечить выход на существующие дальновизорные приёмники…
– А по обычной телефонной?
– Никаких проблем. Прошу пройти в соседнее помещение…
Расположенная рядом комната выглядела так, что сразу было ясно – сделано на скорую руку, под конкретную задачу. Несколько даже демонстративно – обычный стол, даже не письменный, а скорее технический. Металлический каркас, столешница из гетинакса, как водится – с многочисленными следами от горячего паяльника, который второпях клали мимо подставки. На столе три разноцветных телефонных аппарата с дисковым набором, в стиле советских сороковых-пятидесятых годов, и зачем-то немецкий полевой, в потёртом кожаном футляре с плечевым ремнём.
Ближе к правому углу разместилась полевая рация, тоже немецкая, весьма архаичная даже на взгляд Секонда. В его мире прогресс радиотехники ушёл намного дальше. Над передней панелью рации красовалась поцарапанная алюминиевая табличка с предупреждением: «Achtung! Faind hert mit!»[79].
Перед столом с одной стороны стояло деревянное полукресло с дерматиновыми вставками на сиденье и спинке, с другой – два обычных стула, из того же времени. В довершение возле телефонов обнаружилась круглая пепельница синего стекла, средних размеров линованный блокнот и простой карандаш.
– Забавляешься? – спросил Секонд Арчибальда, кивнув на этот филиал Политехнического музея.
– Никак нет. Вы же не сказали, каким видом связи собираетесь пользоваться. Вот, на любой случай. А дизайн… Здесь когда-то господин Воронцов к работе в Отечественную войну готовился, с тех пор матрица и осталась. Сейчас просто активировалась. Желаете – переделаю.
– Интересно. Я и не знал, – заинтересованно огляделся Секонд. – Ладно, это совсем несущественно. Вот, Иван Романович, располагайтесь, звоните, куда вам нужно, а я пока выйду, чтобы вам не мешать.
– Просто звонить? – Катранджи опять выглядел слегка ошарашенным. Такие анахронизмы, даже чисто стилистические, способны выбивать из колеи самые закалённые натуры.
– Ну да. Набираете номер… Как здесь на «межгород» выходить? – спросил Секонд робота.
– Очень просто. Называйте в трубку страну и город, потом крутите диск. И всё…
– Хм! – Катранджи присел на кресло, достал из кармана пачку сигарет. – По любому аппарату можно?
– По любому, – ответил Арчибальд. – Только вы не уточнили, а в какое время звонить будете?
– В каком смысле?
– В самом прямом. Отсюда можно позвонить в любое время, где уже или ещё имеется телефонная связь…
Прозвучало это вполне буднично, но Ибрагим снова удивился.
– То есть как?
Арчибальд принялся объяснять и залез в такие дебри, что Катранджи махнул рукой, отчаявшись что-то понять. Как это можно – позвонить, скажем, самому себе в юности и сообщить что-то, в корне меняющее жизнь себя же? Оказывается, очень даже можно – назвать, допустим, выигрышный номер в американской национальной лотерее и на десять лет раньше получить свой первый миллион долларов. Можно-то можно, но тогда тот Ибрагим заживёт совершенно другой жизнью, что на положении нынешнего никак не отразится. Ведь на самом деле в его прошлом такого звонка не было? Вот и всё.
– Нет, мне нужно позвонить в тот день, который сейчас идёт на нашей Земле. В то число, месяц и год, когда мы отправились из Москвы в это «путешествие», – Катранджи постепенно обучался ставить правильно техническое задание.
– Звоните. Там сейчас пятое число. А час – в зависимости от пояса.
Оставшись один, Ибрагим, непонятно отчего волнуясь, набрал первый из нужных ему номеров. Ответил один из доверенных советников, которого Катранджи в шутку иногда называл визирем. Поговорили как бы и ни о чём. Хозяин осведомился, какие новости из Лондона, как текущие события отразились на финансовых делах «корпорации», что сообщают резиденты из европейских столиц и из финансово-духовных центров свободных, не входящих в Периметр ТАОС государств и территорий. Приказал к завтрашнему дню составить подробный отчёт о настроениях лидеров крупнейших группировок, входящих в «чёрный интернационал», предпринимают ли они какие-нибудь действия, выходящие за пределы «дозволенных степеней свободы». Все необходимые инструкции он передаст в ближайшее время, а пока следует распорядиться, чтобы все военизированные структуры организации были приведены в состоянии «готовности второй степени». Выражаясь языком, принятым в российской армии, этим объявлялся «угрожаемый период». Следующая, первая степень означала уже «всеобщую мобилизацию» и фактически войну. А с кем – на то отдельный приказ поступит. С мотивацией «по обстановке» и исходя из того, какому именно из множества крыльев «интернационала» он будет адресован.
Возможность этого была чисто гипотетической, настоящую, тотальную войну с ТАОС всерьёз никто и никогда не рассматривал. Это означало бы что-то вроде сразу нескольких «всемирных джихадов», если использовать этот термин – «джихад» – крайне расширительно, отнюдь не только в мусульманском и богословском смысле. Подразумевая под ним неограниченную, не духовную, а самую настоящую, горячую войну «на земле, в небесах и на море» с «неверными», кто бы к этой категории ни был отнесён вождями «интернационала», то есть, в конце концов, лично самим Катранджи. Для троцкистов это могли быть капиталисты и коммунисты других толков, для чёрных – белые, для уйгуров – китайцы, для «мировой деревни» – «мировой город», и вообще для «угнетённых» – все, кто живет не там, не так и хоть чуточку лучше.
«Визирь» был не слишком удивлён смыслом распоряжения, – эфенди виднее – локальные войны, стычки, грабительские набеги и тому подобное на Земле не прекращались никогда, как, допустим, пожары или дорожно-транспортные происшествия, и все причастные к «интернационалу» знали, что «поход к Последнему морю» когда-нибудь будет объявлен, как знают о втором пришествии все христиане.
Его удивило то, что Хозяин говорил так, будто сам находится в каком-то уединённом месте, без всякой связи с миром, и уже давно. Звучало в его голосе что-то такое, настораживающее. Он не постеснялся спросить об этом Ибрагима, вставив в тщательно сконструированный вопрос несколько проверочных слов, по которым можно было выяснить, не находится ли Катранджи в плену и не говорит ли по принуждению, и вообще – не имитирует ли его голос и манеру совсем другой человек. Но ответил Хозяин так, как и следовало, и сам, в свою очередь, перешёл на малоизвестный диалект курдского языка, которым они оба владели в совершенстве. Представить, что кто-нибудь другой (из тех, кто имел хотя бы теоретическую возможность подключиться к этой суперсекретной и весьма защищённой линии) владеет именно этим диалектом, Катранджи воображения не хватало.
– Не задавай мне лишних вопросов, Ансар. Если я что-то делаю, то знаю, зачем. Твоё дело исполнять сказанное. Я сейчас далеко и вернусь, когда сочту нужным. Но к началу следующей недели люди должны быть готовы. Все принадлежащие мне корабли и самолёты, поезда и грузовики в любой точке наших земель должны быть готовы по первой команде отправиться, куда будет нужно. Там, там и там, – он назвал несколько приморских городов Северной Африки и Ближнего Востока, – пакгаузы и склады должны быть готовы принять по несколько сотен тонн генерального груза[80]. Охрану обеспечить такую, будто это золото или… другой товар. В ближайшее время я передам более точные указания.
Второе. Поручи от моего имени председателям советов директоров всех наших компаний и трестов начать перевод деривативов в реальные ценности. Уплату всех долгов и процентов по ценным бумагам принимать только в золотой монете. Отгрузку продукции, за которую получена предоплата, – приостановить. Всем нашим банкам начать массовый сброс европейских и американских ценных бумаг, не считаясь с ценой. Одновременно скупать российские и латиноамериканские…
– Но, эфенди, мы же обрушим рынки…
– Не твоё дело. Впрочем, запомни – мне сейчас не нужна прибыль, мне нужна паника и хаос. Важно, чтобы мои враги потеряли больше, чем я. Ты хорошо понял, Ансар?
Третье… Впрочем, третьего не надо, делай то, что я уже сказал. Перезвоню завтра или на днях. Хорошо, чтобы у тебя было чем меня порадовать. И не забывай, я буду смотреть, как сторонний наблюдатель, умеете ли вы хорошо понимать и высказанное и невысказанное тоже.
После этого Катранджи сделал ещё несколько звонков, в разные страны и на разные континенты. Достаточно значимым фигурам, которые в той или иной мере различными способами контролировали положение дел в своих регионах.
Сейчас он совершенно не был похож на серьёзного, но вполне доступного, лишённого спеси человека, с которым почти каждый мог чувствовать себя на равных. Даже одесские бандиты с Молдаванки. В разговоре с людьми, занимавшими вершины властных или финансовых пирамид в своих сообществах он говорил, как Гитлер со своими генералами в острые моменты, – жёстко, безапелляционно, иногда вплотную приближаясь к границе прямых оскорблений, если собеседник реагировал на его слова не так, как, на его взгляд, следовало.
И имел на это право не только по собственному мнению, но и с точки зрения партнёров, вернее – клиентов. Каждый из них знал, что просто по собственному капризу Катранджи мог разорить любого, чужими руками посадить в тюрьму или сотворить что-нибудь неизмеримо худшее. Приказать убить – это само собой.
И только с последним в списке намеченных на сегодня собеседников Ибрагим собирался разговаривать как с равным. Примерно как с генералом Чекменёвым или самим императором Олегом.
Этот человек был, в своём роде, как бы аналогом Катранджи в «цивилизованном мире». Столь же полновластный, бесконтрольный и никому не известный. Он, конечно, существовал в мире и в обществе, но совершенно в другом качестве. Как и сам Катранджи – очень и очень богатый деловой человек, с обширнейшими связями, но и не более.
Достаточно сказать, что лично Ибрагим встречался с ним лишь однажды, а все остальные годы время от времени говорил по телефону. В случае крайней необходимости, так как большинство вопросов решалось на несколько уровней ниже. Единственное, чему всегда удивлялся Катранджи, – у его партнёра не было совершенно никаких деловых интересов в России. Насколько он знал, а Ибрагим обычно знал всё, что его интересовало.
Даже телефонная связь было организована таким образом, что установить, где в данный момент находится абонент, было «аусгешлёссен»[81], вспомнил вдруг турок подходящее немецкое слово. Сигнал проходил через несколько коммутаторов, зашифровывался и перешифровывался так, что в конце концов просто бесследно исчезал среди миллионов ежесекундно пробегающих по проводам и эфиру сигналов. И несколько попыток весьма способных инженеров отследить эту связь закончились ничем. Точнее – печально для самих связистов.
– Добрый вечер, милая девушка, – сказал он поднявшей трубку обладательнице довольно мелодичного голоса, хотя по внешности она могла быть и отвратительного вида старухой. Катранджи несколько раз встречался с такими случаями. – Если вас не затруднит и мой друг на месте и ничем не занят, попросите его взять трубку. Кто спрашивает? Скажите – Левантиец. Просто левантиец, этого достаточно.
Он знал, что разговор уже записан и запись будет по другой линии передана неизвестно куда, а уже там адресат её прослушает и примет решение. Катранджи очень хотелось, чтобы это решение было правильным. Ибо если сейчас он не договорится с этим человеком, его продуманный план осложнится на порядок. Или его придётся просто выбросить в корзину. Вести войну на два фронта Ибрагим согласился бы только в самом крайнем случае. Даже при поддержке таких могущественных союзников, какие есть у него сейчас.
Глава седьмая
…Неизвестно, в силу каких именно причин, может быть, естественных, а возможно, по прихоти кого-то из Игроков, и даже – при помощи коллективно сформированной всем наличным составом «Братства» мыслеформы, время в обеих реальностях ощутимо меняло свой ход. Судя по всему, это началось одновременно с началом «Креста». Примерно так же получилось и во время южноафриканской эпопеи[82] – там тоже происходили необъяснимые парадоксы, причём внутри одной реальности тысяча восемьсот девяносто девятого хода. Пока экспедиция Новикова – Шульгина бродила по вельду и общалась с дагонами и дуггурами, в остальной Южной Африке время несколькими скачками ушло вперёд больше чем на два месяца, и друзья пропустили фактически всю «англо-бурскую» войну. Зато увидели много другого и интересного.
Вот и сейчас в имперской России время вдруг пошло очевидно медленнее, чем «на этой стороне», что даже начало причинять некоторые неудобства при согласованиях совместных действий. Единственный специалист в этом вопросе (увы, не теоретик, а практик, изобретатель-одиночка и гений-самоучка, вроде каттнеровского Гэллегера[83] или того же Маштакова) Олег Левашов на заданный Фёстом после его возвращения с Таорэры на «Валгаллу» вопрос ответил только, что вряд ли стоило эксплуатировать мистический по большому счёту механизм столешниковской квартиры столь варварским образом. И к случаю привёл популярное в кругах старых членов «Братства» изречение иностранного мыслителя: «Не всё, что можно сделать безнаказанно, следует делать».
– Всё ж таки мы в своё время (он очень любил злоупотреблять этим выражением, как бы подчёркивая, что теперешние времена к «его» не относятся) пользовались кое-какими непонятными нам свойствами континуума, но не настолько варварски. А сейчас не квартира, а в буквальном смысле проходной двор. Караван-сарай какой-то. Не удивлюсь, если вы одновременно перемещались навстречу друг другу…
Фёст с покаянным видом развёл руками, мол, могло быть и такое, разве ж за всеми уследишь…
– Ну и чего тогда удивляетесь? – риторически осведомился Левашов. – И туннель при этом работает в три смены. Нет, мы всё же какую-то технику безопасности соблюдали. А вы дорвались, без присмотра! Как ещё в самый мезозой не провалились. Открыл дверь – и прямо в болото с ракопауками…
Но тут же заявил, что всё может быть «совсем не от этого», конь о четырёх ногах и то спотыкается, и сдуру можно без последствий залезть на такую гору, где сгинуло уже несколько хорошо подготовленных групп «настоящих альпинистов».
– Дед Удолин без всякой аппаратуры с самых Средних веков по астралам шлялся, и до сих пор как огурчик, – сказал он несколько двусмысленно. – Я никак собраться не могу, а надо бы их с Маштаковым по-настоящему напрячь, институт им придать, чтоб разобрались, наконец…
– Да Маштаков давно уже в некоем подобии хронофизической шарашки[84] трудится, всё своё «боковое время» исследует и методику уверенного поиска межвременных каналов отрабатывает, – ответил Секонд. Виктор Вениаминович тоже проходил по его ведомству, хотя реально с ним чаще всего работал Максим Бубнов, медик со вторым мехматовским образованием.
Из имеющегося контингента вполне можно было создать весьма особое, нигде больше в мире не существующее научное военно-мистическое подразделение. Маштаков, Бубнов, Удолин – каждый сам по себе личность уникальная, да под общим руководством самого Левашова. А для технических надобностей несколько роботов придать с «дипломами» Бауманского училища, МИФИ и МФТИ[85]. Да всё как-то руки не доходили.
– Надо будет с вашим Чекменёвым поговорить, чтобы или охрану усилили, или вообще в Югороссию лабораторию перенесли, а то ведь если информация наружу просочится, всему вашему «Кресту» амбец. Вообще даже трудно представить, что случится, если американцы у себя подобные тоннели организуют… Тогда действительно к самым острым методам придётся переходить. А какой на сегодняшний день у вас разрыв с параллелью обозначился? – спросил Олег у Фёста.
– Да почти две недели, триста часов с минутами… Но не всё время, иногда выходит то чуть больше, то меньше…
– Не слабо. Можно бы сесть, посчитать, с учётом числа переходов туда и обратно, перемещаемых масс и так далее. Хотя – бессмысленно, – легкомысленно махнул Левашов рукой. – Если через уральский тоннель большегрузные поезда «зелёной улицей» идут, тысячи тонн инертной массы гоняем туда-сюда, что тут считать? Остаётся надеяться, что когда всё рушиться начнёт, успеем в Югороссию или аж в девяносто девятый сбежать. Помнишь, какую картиночку со сдвигом хронопластов Новикову показали?[86]
– Как не помнить. – кивнул Секонд. – Только ведь он в тот раз, по-моему, как раз с Удолиным через астрал ходил, а не с вашим СПВ или через квартиру?
– А вот это точно без разницы. Просто наглядная демонстрация… Но сейчас в чём проблема у вас?
– Да не в чём особенном. Просто страшно моментами делается. Шагаешь через порог на ту сторону и спина холодным потом покрывается… Куда нелёгкая вынесет, думаешь. – Фёст дёрнул щекой.
– У тебя покрывается или у всех? – с профессиональным интересом спросил Левашов.
– Только у меня, остальные, даже Секонд, не настолько в теме.
Брат-аналог на эти слова усмехнулся слегка пренебрежительно. Мол, я-то в теме, просто у тебя гайки легче отдаются…
– Ну, тогда с квартирой по возможности завязывайте. Начинайте ходить только поодиночке и в случае крайней необходимости. Другие же средства есть…
– Да я уже и не знаю, у нас сейчас всё вокруг этого завязано. Это как в разгар наступления штаб фронта современной связи лишить, перейти исключительно на почтовых голубей…
– Значит, и не жалуйтесь, если что. Семь бед, один ответ, как говорится, – слегка противореча самому себе, ответил Левашов. Фёсту вообще показалось, что эта проблема Олега не слишком волнует, его мысли были заняты чем-то другим.
Но формально категорического запрета на беспорядочные и, признаться, нередко не совсем мотивированные железной необходимостью перемещения между параллелями от авторитетного брата-магистра не последовало, и это Фёста в достаточной мере успокоило. Хотя звучало «разрешение» примерно как пресловутая фраза Аристарха Платоновича из «Театрального романа»: «А впрочем, делайте что хотите».
Если бы вдруг, по-лермонтовски, хоть кто-то из участников всей этой истории «посмотрел с холодным вниманьем вокруг», то не только спина бы холодным потом покрылась, а все физиологические процессы свободно из-под контроля вышли. Потому что то, чем они занимались – это вроде как от скуки отвёрткой во взрывателе морской неконтактной мины ковыряться. Но потому, наверное, благополучно разрешались все возникающие коллизии, что каждый из наших героев, от Новикова с Шульгиным до родившегося веком позже Ростокина и полувеком раньше Басманова, в обывательском смысле нормальными людьми не являлись. И к жизни относились не совсем так, как «здравомыслящее большинство», а в соответствии с программным стихотворением Гумилёва. Старались походить на его героев, да нет, не старались, а просто от рождения и были такими: «Много их, сильных, злых и весёлых, убивавших слонов и людей, //Умиравших от жажды в пустыне, //Замерзавших на кромке вечного льда, //Верных нашей планете, //Сильной, весёлой и злой»[87].
Так что и от ковыряния во взрывателе может быть толк, если «Не бояться, не бояться и делать как надо». Иначе б по полям до сих пор валялись снаряды ещё Первой мировой: здравомыслящие ведь добровольно в сапёры не идут.
…Дел и вправду на отвыкшего от систематического ненормированного труда Фёста навалилось столько, что он впервые по-настоящему понял своего отца, военного кораблестроителя, в советские ещё времена в авральный период сдачи очередного «Объекта» неделями не появлявшегося дома, спавшего и евшего где и как придётся, вечно жалевшего, что в сутках не сорок часов.
И вот это обозначившееся нарушение синхронности и синфазности соседних миров было сейчас чрезвычайно на руку в политическом и техническом смыслах, пусть и доставляло множество мелких бытовых неприятностей. Но, разумеется, только тем, кто был занят в проекте очень глубоко. Остальные этих смещений просто не замечали. Какое, собственно, дело направляемому «в командировку для оказания братской помощи» офицеру или солдату, что у соседей слегка другой пояс, не часовой, а недельный или декадный. Даже удобнее – вернёшься домой, а командировочных набежало вчетверо больше, чем предполагалось.
Самое главное – хронологический сбой давал сейчас тот необходимый резерв времени, которого обычно всегда и всем не хватало (занимающимся реальным делом, понятно, а не бездельникам, мучительно избыток времени убивающим). Если по полученным от Арчибальда разведданным Англия планировала нанести первый (который в случае успеха мог оказаться последним и единственным) удар ровно через неделю, десятого сентября, то в запасе у Императорских армии и флота оказывались целых двадцать дополнительных дней, чтобы принять новое вооружение «на сопредельной стороне», в какой-то мере им овладеть, а главное, провести боевое слаживание с коллегами, живущими по другим уставам и воспитанными в совсем иной военной культуре.
А двадцать дней – это на самом деле очень много, если использовать каждую минуту с умом.
Но Фёст, человек своего времени, всё никак не мог душой принять факт, что девяностолетний, как ни крути, союз может быть так цинично разрушен внезапной, не мотивированной хоть каким-то поводом агрессией. Что самая цивилизованная (в глазах большинства либералов) держава может просто так, для собственного удовольствия нанести обезоруживающие удары по городам с миллионным мирным населением, в том числе и по Петрограду с его дворцами и музеями. Это так же нелепо, как вообразить, что русский флот из чистого интереса снёс бы с лица земли Венецию, например. Всё же в этом мире не было Гитлера, «сумасшедшего бухгалтера» Трумэна, даже своего Пол Пота.
Первой мировой войне, например, предшествовали очень долгие и сложные переговоры между будущими противниками, потом объявлялась мобилизация и только после этого – война. Англичане, очевидно, решили взять пример со своих давних клиентов[88], японцев. Но в далёком 1904 г. внезапное нападение на русский флот хотя бы не несло непосредственной угрозы гражданскому населению Порт-Артура и Владивостока.
Но раз так они решили, пусть будет: «Какою мерою меряете, такой и отмерится вам!» Очень удачно получилось, что для помощи новым союзникам требовались прежде всего войска и техника ПВО, а в Российской Федерации это – подразделения постоянной готовности, обученные действовать быстро, почти на пределе человеческих возможностей, и при этом успевать думать, в широком смысле этого слова. Вдобавок оснащённые оружием немыслимой в другом мире эффективности. Императору Олегу, кстати, понравился их девиз: «Сами не летаем и другим не дадим!» В его мире зенитчики до такого цинизма не додумались.
Ну а психотип командиров ПВО таков, что отчего-то почти каждый обладал определёнными педагогическими способностями. Не зря именно они всегда были в первых рядах направляемых на помощь «братьям по классу» все послевоенные годы – в Корею, Вьетнам, на Кубу, Ближний Восток и в Африку, где приходилось учить коллег (не всегда преодолевших рубеж первобытнообщинного строя) обращению с суперсовременной по тем временам техникой. Ну и самим принимать непосредственное участие, как без этого…
Так что ничего принципиально нового сейчас не происходило, психологических проблем при общении федералов и имперцев не возникало. Да и с той стороны приходили всё же не египетские феллахи и не вьетнамские крестьяне, а военнослужащие российской армии, с тем же языком и воинскими традициями, с общей до самого семнадцатого года историей, только не имеющие генетической, на уровне подсознания памяти о Великой Отечественной войне. А также и записанного в учебниках и наставлениях практического опыта всех случившихся за следующие семьдесят лет на Земле локальных войн и вооружённых конфликтов. Только во Вьетнаме советские ракетчики сбили больше двух с половиной тысяч американских самолётов, а сколько всего по всему миру?
В техническом, а главное – психологическом смысле мышление людей из имперской России пребывало где-то на уровне тридцатых-сороковых годов ХХ века первой реальности. Кое-какие изобретения и общий уровень научной мысли у них совпадали даже с шестидесятыми, но, как уже сказано – всё это при отсутствии стимулирующего воздействия почти целого века войн и политико-экономического противостояния двух систем. Но, ясное дело, непреодолимым барьером такой разрыв не являлся. Умеешь стрелять из архаичного «Дротика», слегка похожего на немецкий «Панцерфауст» – из «Иглы» за час научишься. Или вторым номером при ПТУРСе, который тоже сойдёт для стрельбы по медленным низколетящим самолётам английской гидроавиации.
Тем не менее несколько тысяч молодых офицеров и вольноопределяющихся[89] технических специальностей для освоения «новых образцов вооружения» были отобраны в рекордный срок и направлены в развёрнутый поблизости от входного (со стороны РФ) портала тоннеля учебно-тренировочный лагерь.
Больше всего он походил на расположение запасных полков времён Отечественной войны, где огромное число новопризванных и вернувшихся в строй после госпиталей бойцов в стахановском темпе осваивали новую технику впервые или переобучались. Только, в отличие от тогдашних времён, желания и способности людей по возможности учитывались. А не так, как в военной школе переводчиков – «На первый-второй рассчитайсь! Первая шеренга будет изучать японский, вторая – китайский. На занятия – шагом марш!». И то за полгода обучали совершенно чуждым языкам до вполне приличного уровня.
На железнодорожные станции и полевые аэродромы в радиусе полусотни километров от портала непрерывно прибывали эшелоны и борты с зенитно-ракетными комплексами всех видов – всё, что удавалось собрать по складам, базам хранения, снять непосредственно с боевых дежурств и прямо с заводов, которые неожиданно заработали в три смены, порождая массу слухов среди местных жителей и давно натурализовавшихся и забывших за ненадобностью ремесло шпионов самых захолустных разведок. Везли тяжёлые артсистемы полувековой и более давности, не успевшие пойти в металлолом, ящики и контейнеры «Игл» всех модификаций и ещё более интересных конструкций, по всеобщему разгильдяйству и пофигизму до сих пор не принятых на вооружение.
Эшелоны разгружались, техника своим ходом и местным транспортом доставлялась на специально отведённые места. И тут начиналось самое трудное. Некоторые подразделения прибывали в полном составе, и с ними особых хлопот не было. Они пополнялись боеприпасами и расходным имуществом, к ним прикреплялись «вторым штатом» имперские солдаты и офицеры, после чего получившие новые номера и наименования боевые единицы отправлялись на погрузку в уходящие на ту сторону поезда и автоколонны.
Сложнее было с формированием новых, за счёт вооружения с баз длительного хранения и резервного личного состава взводов, рот и батарей. Тут свеженазначенным командирам и представителям высших штабов приходилось довольно туго. Хорошо хоть командно-матерный язык в обеих армиях практически одинаков, за исключением несущественных, диалектных различий.
Фёст с изрядной долей удивления убеждался, что навыки и традиции русской армии отнюдь не утеряны за годы «развала и шатаний». Достаточно было чётко сформулированных приказов и грамотной «политико-воспитательной работы», чтобы военнослужащие вспомнили, как их деды и даже прадеды в такую вроде бы близкую, особенно с точки зрения Воронцова, Берестина и Левашова, войну за неделю умудрялись формировать с нуля вполне боеспособные дивизии. В том числе и ополченские. Начинать выпуск боевой техники на выгруженных в чистом поле заводах, не смущаясь отсутствием жилья и нечеловечески скудным питанием. Надо – значит надо. Не зря Высоцкий пел: «…Ведь у нас такой народ. Если Родина в опасности, значит – всем идти на фронт!»
Сейчас-то было не в пример легче. И хорошо оборудованные палатки имелись, в том числе и доставленные с той стороны, и с продовольствием никаких проблем. В императорской России его производилось столько, что многие соседи, и из ТАОС, и за Периметром, вообще отказались от собственного сельского хозяйства по причине бессмысленности и нерентабельности в сравнении с российским импортом.
А кроме всего прочего, федералам положили такой оклад содержания в самой твёрдой валюте – русских червонцах и империалах[90], что от желающих служить и воевать хоть в Антарктиде, хоть в неведомой «параллельной реальности» отбою не было. Тем более что царская Россия всё же намного привлекательнее станции «Восход» с её «семьюдесятью двумя градусами ниже нуля»[91] или миротворчества в республике Чад. Те, кто побывал на той стороне тоннеля, рассказывали удивительные вещи, и число желавших послужить там, а то и перебраться на ПМЖ росло гораздо быстрее, чем количество мечтавших «свалить из Рашки» на обетованный запад. Бойцов и командиров фертильного[92] возраста, пожалуй что, ещё больше окладов привлекала красота и высокие моральные качества тамошних девушек и женщин. И это неудивительно. Если даже здесь русские женщины считаются лучшими в мире, то каковы же они в стране, не знавшей ряда всевозможных геноцидов по классовому признаку (то есть уничтожения цвета нации), ужасных по потерям генофонда Гражданской и Отечественной войн, четырёх «волн эмиграций», голода, коллективизации и пришедшей из Европы «сексуальной революции»!
Фёст на пару с Секондом, направляемые и консультируемые Берестиным и Воронцовым, обеспечивали скоординированную деятельность массы военных, полицейских и административно-хозяйственных структур двух весьма разных по устройству и даже менталитету государственных механизмов. Очень плодотворной неожиданно оказалась идея возвращения к многократно охаянному постсталинской литературой институту военных комиссаров, в новом, естественно, преломлении.
По этой схеме каждый здешний ответственный чин получал такого вот «комиссара» (он же и «военпред») из числа наиболее подготовленных штаб-офицеров Императорской армии и Гвардии. В том числе почти все «пересветы» со своим уникальным образованием и нетривиальным мышлением оказались востребованы для отлаживания невиданного государственного гибрида. А достойные и заслуживающие полного доверия федеральные специалисты, в свою очередь, направлялись «советниками» и «обеспечивающими» на флоты и в округа Империи, получающие «новую технику» вместе с боевыми расчётами и младшими офицерами.
Так могло получиться в СССР, если бы В.И. Ленин отказался от своей идефикс о «полном сломе царской государственной машины», а начал бы полномасштабную конвергенцию царских, советских и чисто коммунистических структур. Вышло бы гораздо проще, бескровнее и эффективнее. Это как с НЭПом. Стоило огород городить, расстреливая людей за припрятанную золотую монету или провезённый в обход «продовольственной диктатуры» мешок муки, если всё равно в двадцать втором году пришлось вернуться к тому же смягчённому варианту капитализма, пусть и при «сохранении за ВКП (б) командных высот».
При нынешней схеме никакой эрфэшный чиновник или генерал даже помыслить не мог, чтобы потребовать «откат» за отгружаемую технику или проделанную работу с радушного, безукоризненно вежливого полковника или надворного советника, осуществляющего «взаимодействие и контроль» от имени своего Императора. Кстати, ко всем сотрудникам МГБ, милиции, Особых отделов, участвующим в проекте, тоже были приставлены «для обмена опытом» коллеги из Отдельного корпуса жандармов, тархановского УОО[93] и недавно созданного специально к данному случаю, по инициативе (явно забавлявшегося) генерала Чекменёва «Приказа тайных дел» – специального ведомства по контролю за всеми службами и людьми, осуществлявшими «Мальтийский крест». Очень действенная методика для пресечения в корне любой коррупции и вообще «нерадения по службе». В сталинское время нечто подобное тоже практиковалось, но там выходило не слишком хорошо, люди-то все были одного замеса, члены одной партии и с одинаковыми, в принципе, жизненными установками. Сговариваться им для совместного нарушения «социалистической законности», «обмана партии» и «буржуазного перерождения» было не в пример легче.
Относительно моментов совпадения и несовпадения менталитетов у Фёста тоже накопилось много интересных наблюдений. Сам-то он всё время существования в двух реальностях общался по преимуществу с людьми своего круга, при этом либо приспосабливаясь к мировосприятию своего аналога, либо прямо его дублируя. Его в этом смысле можно было сравнить с агентурным разведчиком, конгруэнтным, можно сказать, стране пребывания и среде обитания.
А теперь на достаточно ограниченной территории встретились самые обыкновенные люди двух разных Россий, и эффект был почти тот же, что при встрече советских колхозников и американских фермеров в годы первой, хрущёвской «разрядки» на базе совместного увлечения кукурузоводством. Или, что соразмерно, можно вспомнить знаменитую «встречу на Эльбе» наших бойцов с американскими же. Вся разница – язык в лагере под Екатеринбургом использовался общий, а в остальном взаимное недопонимание (но и радость одновременно) было похоже.
Солдаты и офицеры с той и другой стороны прошли инструктаж гораздо более тщательный, чем перед отправкой наших военнослужащих в Афганистан или на Кубу. На Кубу в шестьдесят первом году вообще посылали так, что не только солдаты, а даже и офицеры узнавали, куда и зачем их везут, лишь на середине Атлантики или сходя на бетонку военного аэродрома в каком-нибудь Сьенфуэгосе. Здесь замполиты (то есть замы по воспитательной работе) и там командиры подразделений получили на руки написанную для своих Фёстом, для своих – Секондом (других специалистов, отчётливо понимающих, что именно требуется, не нашлось) и распечатанную массовым тиражом агитационно-справочную брошюру об истории, государственном устройстве, нравах, обычаях, форме одежды, знаках различия и наградах «товарищей по оружию». С приложением «словарика наиболее употребляемых терминов», для каждой из сторон своего[94].
А недоразумений возникало множество, и серьёзных, и пустяковых на первый взгляд. Очень, например, удивляло федералов отношение в братской армии к табаку и алкоголю. Они там, «по дремучести своей и политической отсталости», не пережили бесконечных кампаний по борьбе с тем и другим, каждая из которых лишь ухудшала ситуацию. В империи, напротив, считали, что пагубны только излишества и злоупотребления, а в разумных пределах и то и другое скорее полезно, и тщательно воспитывали именно культуру потребления. В конце-то концов – каждый ведь сам отвечает за себя и за порученное дело, вот пусть и сообразовывается.
Офицеров РФ веселили (и слегка раздражали) такие, например, строчки из доныне действующего Указа Николая Второго, данного в далёком 1896 году: «Господам офицерам в Собрании разрешается требовать крепкие напитки лишь к обеду и к ужину, причём употребление оных недопустимо в присутствии нижних чинов, хотя бы и услужающих»[95]. Хотя самим «нижним чинам» казённая чарка выдавалась: в сухопутных частях раз в день по сто грамм, на флоте – два, в обед восемьдесят, в ужин семьдесят. Сохранялось также командирское поощрение чаркой бойцов «за успехи в боевой и политической подготовке».
В увольнениях посещение «нижними чинами» трактиров и иных распивочных заведений допускалось, но опять же «в меру»[96].
Табачное довольствие рядовым и унтерам тоже полагалось в натуральном виде, по двадцать папирос или 50 грамм резаного табака ежедневно, но непьющие и некурящие могли получать свою норму деньгами, и к демобилизации (если характера хватало) набегали весьма приличные суммы[97].
Вот и причина для конфликта – «почему им можно, а нам нельзя?», и никакие доводы командиров не действовали, поскольку бравый, подтянутый и весьма здоровый вид имперских солдат сводил к нулям всю основанную на сомнительных теоретических выкладках пропаганду. Да и дисциплина в той армии была куда крепче, и «дедовщина» отсутствовала в принципе, потому что сверхсрочные унтер-офицеры и взводные фельдфебели присутствовали в расположении круглосуточно, имея оклад денежного содержания выше, чем у подпоручиков и поручиков, за счёт выслуги и всяческих доплат. Но и солдаты там, нужно отметить, все три года не имели свободной минуты на всякие глупости, а главное – призывались не в восемнадцать, а в двадцать один год. А это большая разница.
Но всё это, в общем, мелочи, на фоне напряжённой, почти круглосуточной боевой подготовки. Фёст и приданные ему строевые, а не паркетные генералы от артиллерии, ПВО, ВВС и Ракетно-Космических сил плюс целый вице-адмирал, возглавившие «объединённый штаб» из десятка «двухпросветных» офицеров, поставили себе целью отправить к месту назначения полностью боеготовые подразделения, чтобы прямо с колёс – и в бой. И отправляли каждое немедленно, в соответствии с проработанным генштабистами-«пересветами» мобилизационным планом прикрытия угрожаемых районов. Благодаря Арчибальду и собственной разведке все они были хорошо известны.
К исходу десятых суток аврал почти закончился. В параллельную Россию ушли пятьдесят с лишним зенитно-ракетных батарей, оснащённых всем необходимым для «однодневной войны». Из их названий можно было составлять детские буквари – в названиях были использованы, кажется, все буквы русского алфавита, от А и Б – «Антей», «Бук» до Я – «Янтарь», «Яхонт». В названиях «изделий» фантазия конструкторов и заказчиков тоже не имела предела, в ход шли термины метеорологии, географии, ботаники, фортификации, фехтования и так далее и тому подобное. К ним добавилось около сотни установок морского базирования с соответствующими именами и столько же батарей ствольной зенитной артиллерии, калибрами от восьмидесяти пяти миллиметров.
Вся эта ударная мощь, предназначенная для решения не предусмотренной курсом военных академий задачи – «стратегическая внезапность обороны», уже однажды использованной Берестиным в альтернативном сорок первом году, по расчётам, должна была на первом этапе операции уничтожить девяносто процентов британской авиации, а на втором – довершить разгром нанесением ракетных ударов по военно-морским базам «владычицы морей». После чего, угрожая полным уничтожением Лондона и иных, дорогих английскому сердцу и карману объектов, предложить мирные переговоры на условиях не столь жёстких, как давний Версальский, но ставящих крест на «британском величии».
Конечно, можно сказать, что ради этой цели собственная ПВО Российской Федерации раздёргана и почти небоеспособна, за исключением авиации, но Мятлев с Берестиным и Сильвией убедили Президента, что государству в ближайшие месяцы массированная воздушная агрессия не угрожает. Зато, отразив нападение Британии, вся техника и люди быстро вернутся обратно с бесценным боевым опытом. А император Олег в долгу не останется, и Россия получит то, что ей сейчас нужнее всего, – неограниченную ресурсную базу, рынки сбыта, не имеющие аналогов (не только Империю, но и весь тамошний мир, отставший больше чем на полстолетия), а главное – многомиллионную сухопутную армию (а не жалкие украинские, молдавские и латвийские батальоны и роты, что американцы выпрашивают у вассалов для своей иранской операции), способную предостеречь от необдуманных действий хоть США, хоть Китай, и к тому же весьма полезную при решении стоящих на очереди геополитических проблем.
А уже в самом крайнем случае в нашем распоряжении есть окончательные доводы, способные предостеречь господину Ойяму от опрометчивых действий.
– Тогда почему вы не используете эти доводы для перевоспитания короля Георга? – спросил Президент.
– Да оттого, Георгий Адрианович, – ответила ему Сильвия, – что Император не желает больше иметь рядом с собой таких соседей. Натерпелись, говорит, со времён Ивана Грозного. Теперь я сделаю с Британской Империей то, что у вас случилось с Австро-Венгрией. Собственно, Англия, лишённая Шотландии, Ирландии, всех доминионов и зависимых территорий, будет представлять не больше опасности, чем для вашей России – нынешняя Австрия или Словакия…
– Жестоко, – потёр пальцами висок Президент. – Сколько людей погибнет только из-за того, что Олег так непреклонен.
– А вы почитайте тамошние свежие британские газеты, Георгий Адрианович, возможно, и измените свою «гуманистическую» позицию. Помните, как в Библии – «Если найду в этом городе пятьдесят праведников, я пощажу место сие». Это о Содоме и Гоморре. Так там даже десяти праведников не нашлось. Вот и вы, как Господь Бог, попробуйте найти в английской прессе десять статей против войны и в поддержку России…
– Вы всё же проводите грань между ангажированной прессой и простым народом, которому придётся умирать из-за конфликта между политиками.
«Нет, этот человек неисправим, – подумал Берестин. – Он из тех, что готовы оправдывать даже ограбивших его в тёмном переулке гоп-стопников. «А не надо было мне так вызывающе одеваться…»
– Как только овладею творческим наследием Льва Толстого, немедленно этим и займусь, – дерзко ответил он. – А на наших с вами должностях непротивленчество категорически противопоказано. Вы почаще вспоминайте, что думали и чувствовали, когда наши ребята и девушки вас на даче защищали. Вот Олег и не хочет, чтобы подобные коллизии для России повторялись.
Президент поджал губы и отвернулся к окну, открытому в тихий зелёный сквер, отделённый от остальной территории Кремля ажурной чугунной оградой в два человеческих роста.
«Бестактный солдафон. – Президент даже в уме не умел выражаться более конкретно и энергично, только книжными словами. – Как только представится возможность, нужно будет срочно избавляться от вашей компании». Но как бы это могло выглядеть на практике, он пока не представлял даже в первом приближении.
Берестин, похоже, угадал его мысли и едва заметно скривил губы в презрительной усмешке.
«Такой же типаж, как Каверзнев у Олега. Но тот хоть вовремя сообразил, что не тянет, и ушёл на безвредную для страны должность».
Президент взял себя в руки, что для него было нетрудно, так как всерьёз обижаться он тоже не умел. Чем очень походил на Николая Второго. Тот никогда не реагировал бурно и мгновенно, как его августейший родитель, но, выражаясь словами Зощенко – «некоторое хамство затаивал» и в момент, который считал подходящим, непременно его реализовывал. В другой ситуации Берестину недолго бы числиться в заместителях Председателя Ставки, а то и вообще на военной службе. Но сейчас Президент не только был не властен над самоуверенным «царским» генералом, но и сам находился в полной от него зависимости.
– Хорошо, – прервал свою начальственную паузу Президент, – что там у нас вообще получается? Вы действительно считаете, что здесь мы от вооружённого вмешательства в наши дела Америки полностью избавлены?
– Так точно, – прищёлкнул каблуками Мятлев, непривычно выглядевший в новенькой полевой форме, не камуфлированной, а однотонной, цвета «светлое хаки», причём дополненной имперского образца «адриановской» двойной портупеей и тамошним же пистолётом Воеводина в блестящей вишнёвой кобуре. Ему вообще больше нравился мундир Берестина с нашивками ВСЮР. Зеленовато-песочный китель, синие бриджи, надраенные шевровые сапоги с чуть присборенными голенищами. И правильно. Хорошие сапоги не в пример представительнее ботинок, не зря президентский полк именно их до сих пор носит, единственный во всей армии. Форменные же брюки навыпуск для строя Леонид Ефимович с детства считал порнографией.
Нет более отвратного для военного человека зрелища, чем парад в подобном облачении. И сейчас он решил, что, когда всё образуется, непременно вернёт в армию «нормальную» форму, оставив камуфляж исключительно для полевых учений и реальной войны. И только тем, кому положено, запретив его использование любыми нестроевыми службами и ведомствами. А то вспомнился Мятлеву когда-то давно прочитанный фельетон из журнала «Новый сатирикон» за тысяча девятьсот шестнадцатый год под названием «Люди ратные»[98], где анонимный автор издевался над охватившей Россию в Первую мировую войну повальной модой на военизированные одежды и атрибуты.
– Избавлены полностью. И не только по причине, что ваш друг Мишель просто слаб в коленках для масштабной войны с нами, а и потому, что, как объяснил мне компетентный товарищ из наших друзей, не только будущее отбрасывает тень в прошлое, но и параллель в параллель. Если там Россия начнёт громить Англию, а САСШ сохранят к нам благожелательный нейтралитет, то и здесь исторический ингибитор сработает…
«Нахватался и этот, – вновь приходя в раздражение, подумал Президент. – Правильно писал Макиавелли – избавляйся не только от врагов, но и от друзей, что видели тебя в минуту слабости. Когда всё образуется, проще всего будет с Олегом напрямую договариваться. Поверх этих… Прочих».
Но ответил ровно, даже с улыбкой:
– Вы уж меня избавьте, я в этих делах ничего не понимаю, да, признаться, и не стремлюсь. Достаточно, что ты, Леонид, похоже, разобрался… – и бросил короткий колющий взгляд, направленный в Мятлева, но перехваченный и правильно понятый Алексеем и Сильвией. – Меня более приземлённые вещи интересуют. Какие вообще Англия имеет основания и шансы затевать полномасштабную войну с хотя бы и той Россией? Соотношения численности войск, населения, промышленных потенциалов, техническое оснащение и прочее – далеко не в их пользу. Как можно на что-то рассчитывать? Не совсем понимаю…
«Нет, ну совсем уже! – с трудом удержался от внешней реакции Мятлев. – Хотя бы «Записку», что ему Фёст подготовил, внимательно прочёл…»
– Видите ли, Георгий Адрианович, вы всё-таки не военный человек, хоть и Верховный, да и историю войн на вашем юрфаке не очень тщательно преподавали, – старательно демонстрируя приобретённую в викторианской Англии политкорректность, отвечал Берестин. – Это ведь очень разные вещи – теоретические военные потенциалы и практические расклады, если можно так выразиться. На обывательский взгляд и у Японии в четвёртом году против России шансов не было, Финляндии совсем не имело смысла СССР в 1939 г. дразнить и в войну ввязываться. Согласны? А если взять «шестидневную войну» 1967 года…
– Ну, здесь я кое-что знаю. Финляндия явно рассчитывала на помощь Запада. И Германии, и, что достаточно непривычно многим слышать – Англии с Францией, а возможно, и США. При таком раскладе, опираясь на линию Маннергейма и учитывая время года…
– Понимаю, вы считаете, что и Израиль на поддержку Запада в 67-м рассчитывал. Это отнюдь не так. Запад скорее готовился немедленно прекратить эту войну, как в пятьдесят шестом, не позволив ни одной из сторон воспользоваться её плодами. Тогда СССР и США были едины в этом вопросе. Самое же главное, накануне пятого июня[99] ни арабы, ни даже СССР не предполагали такого сокрушительного качественного еврейского перевеса в людском потенциале при подавляющем количественном превосходстве арабской коалиции. Больше ста миллионов арабов против неполных четырёх – евреев. В их победу не верил никто, кроме самого Моше Дайяна и близких к нему генералов.
А параллельные англичане, как вам кажется, должны бы понимать реальные возможности российской армии и её мобилизационный потенциал. Вас подсознательно гипнотизирует опыт Отечественной войны, да и нынешнее реальное положение бывшей Британской Империи. Вы уверены, что англичане, нынешние, вообще ни на какую серьёзную войну не способны. Кроме Фолклендской[100]. Да ведь и вправду, вся нынешняя геополитика исходит из американской военной мощи, а всё прочее НАТО – так, единство цивилизованного мира символизируют, посылая по батальону то в Ирак, то в Афган. Вы считаете ту и эту Великобритании аналогами, за небольшими отличиями. Я верно рассуждаю?
Президент, ожидая какого-то подвоха со стороны «героя двух войн», кивнул, тем не менее. Пока Алексей всё правильно сказал.
– Но здесь-то мы имеем совсем другую ситуацию. И геополитическую и психологическую. Великобритания остаётся одной из сильнейших держав бывшего ТАОС, имеет крупнейший в мире флот, серьёзную авиацию, отнюдь не подорванный событиями нашей с вами истории боевой дух. Плюс весьма приличную «дезинтегрированную территорию», считая Канаду, Австралию, Новую Зеландию. Рассчитывает на пресловутую «атлантическую солидарность», то есть вначале благожелательный нейтралитет европейских стран и САСШ, а там, глядишь, по мере развития событий в «нужную сторону», и их прямую военную поддержку. Плюс – вовлечение в массированную партизанскую войну против нас пресловутого «Чёрного интернационала», организация скоординированной серии мятежей от Гельсингфорса до Кушки. Не совсем безосновательные надежды, я вам доложу.
И самое главное – в их глазах Россия ведь не СССР – победитель в Мировой и нескольких локальных войнах, обладатель до сих пор сокрушительной ядерной мощи. Здешняя Россия для них достаточно рыхлое государственное образование, только-только начавшее консолидироваться в виде новой Империи, пока что – банальная парламентская республика, ещё не избавившаяся от всех присущих ей недостатков. О настоящей национальной консолидации, как в СССР при Сталине перед «той войной», по их мнению, речи тоже пока не идёт. Да они и не верят в подобную «химеру». По их мнению, военные поражения ведут не к консолидации, а к распаду и краху. Как Австро-Венгрию. Все умные люди, генералы и лорды Адмиралтейства знают, что русская армия количественно довольно большая, но ведь всем понятно, что четыре миллиона, рассредоточенные по почти что одной пятой земной суши – на самом деле очень и очень мало.
Технический уровень авиации у нас сопоставим, российский флот неплох, но тоже рассеян по пяти не связанным друг с другом ТВД, а действительно боеспособных частей – четыре гвардейские дивизии да Экспедиционный корпус, занятый миротворческими и просто полицейскими функциями во множестве точек от Владивостока до Эрзерума, в Месопотамии и Северной Африке. Фактически (по их расчётам) Россия в ненамного лучшем положении, чем перед Крымской войной.
В Первой, по-здешнему единственной Мировой войне русская армия, с их точки зрения, воевала без особого блеска, при том, что по мобилизации составила почти 12 млн человек. Воевала на четырёх сухопутных театрах, кроме Брусиловского прорыва ничем не отличилась. На море – и говорить не о чем. Минные постановки и две стычки с «Гебеном» – всё, пожалуй. Одним словом – тот самый «паровой каток», причём весьма тихоходный и плохо управляемый. Думаете, в представлении англичан за девяносто лет что-то изменилось? Едва ли. Это ведь по большому счёту довольно тупая нация, лишённая настоящего воображения. Бухгалтерский расчёт, и только. Вот они и лезут. Вы с их стратегическим планом ознакомились?
– В самых общих чертах, мне и собственных забот хватает, – ответил Президент. – Надеюсь на вас и Императорский Генштаб, – позволил он себе усмехнуться.
– И правильно делаете. К чему умножать сущности? На днях у вас здесь тоже очень интересно станет. А англичане там повторяют вековечную ошибку всех прошлых «завоевателей России», включая и Гитлера. То есть судят по себе. Наполеон разве неправильно рассуждал? Он уничтожает в приграничных боях кадровую русскую армию и берёт столицу. В стране, естественно, паника, разброд и шатания. Он делает царю вполне нормальное с европейской точки зрения мирное предложение. Что остаётся Александру? Сколько-то поторговаться ради приличия и мир принять, причём достаточно пристойный. Немцы и на худший согласились.
Гитлер мыслил по той же схеме: приграничный разгром, взятие Москвы, выход на линию Архангельск – Астрахань и Батуми – Баку. После сдачи Парижа Франция ведь не дёргалась, согласилась продолжить «независимое существование» на оставшейся половине со столицей в Виши. Вот и Сталин подпишет нечто аналогичное, ограничится властью над азиатской Россией, со столицей в Новосибирске, к примеру. Докуда сумеют дойти при этом раскладе японцы – их дело.
Так же сейчас и Англия. Никаких сухопутных побоищ они не планируют. Регулярные точечные удары флота по основным нашим базам, воздушные бомбардировки, морская и континентальная блокада. Прекращение всяких экономических связей России и Европы. Дипломатическое давление. Да вдобавок и козырь в рукаве, твёрдо обещанный Арчибальдом, – активизация «Чёрного интернационала» по всем внутренним фронтам и ближнему зарубежью. А по его мнению, Катранджи способен натравить на Россию более миллиона вполне подготовленных к партизанской войне на уничтожение террористов.
В течение первых же месяцев России станет настолько плохо, что она и сама запросит «Портсмутского мира»[101]. Был ведь прецедент! А уж если удастся склонить на свою сторону САСШ, предложив им для начала Чукотку с Камчаткой, плюс, допустим, право «фри трейд»[102] на всём Дальнем Востоке, – чего ещё желать? Очень легко низвести Россию до положения тамошнего Китая и на ближайшую сотню лет обеспечить себе спокойное существование.
– А за эти сто лет неторопливо подчинить себе всю российскую экономику, политику и культуру, – добавил Мятлев, пока что внимательно слушавший Берестина. – У нас это уже началось в девяностом и на днях должно было перейти в заключающую фазу. Я ещё выясню, кого они планировали в твои преемники и кто из Думы готов был проголосовать за превращение России в парламентскую конфедерацию… – в голосе его прозвучали нотки, весьма далёкие от «истинно христианских».
Президента что-то несильно кольнуло в сердце. Он понимал, о чём говорит старый друг, но вся натура, сформированная в высокоинтеллектуальных кругах, протестовала. Если бы его не решили убить, а «поговорили по-хорошему», возможно, сегодня всё было бы иначе. Логичнее и, наверное, правильнее. Сами по себе «европейские ценности» милее его сердцу, чем грубая имперскость Александра Третьего, Сталина и Олега Первого. А теперь и друг Леонид туда же! Едва ли они сработаются.
– Совершенно верно, – поддержал Леонида Берестин.
Всё это время Сильвия сидела, закинув ногу за ногу своим десятилетиями отработанным способом и отстранённо курила длинную и тёмную пахитоску, лишь иногда вскидывая на Президента взгляд, от которого у него возникали совершенно противоположные эмоции – восхищение и страх. Впрочем, царица Тамара вызывала у современников подобные же чувства. Те, у кого вожделение перевешивало, жили только до следующего рассвета.
– Арчибальд им как раз это и обещал: ликвидация самодержавия, каковое есть абсолютный нонсенс в двадцать первом веке, восстановление самой что ни на есть либеральной демократии, правительство из стопроцентных англофилов, и в итоге вместо Российской империи получается нормальный такой доминион… А ещё точнее – десяток доминионов, выкроенных из половины нынешней территории. Остальное разойдётся на псевдогосударства вроде Литвы, Великой Эстляндии, Бухарского эмирата какого-нибудь…
– Странно всё это слышать, – пожал плечами Президент. – Адекватные ведь в большинстве своём люди…
– Напрасно вы так считаете. Во-первых, адекватности в них не больше, чем в имаме Шамиле, который провоевал с Россией тридцать лет и только по дороге в плен, в Калугу, где-то после Ростова прозрел: «Если бы я знал, что Россия такая большая, я никогда бы не стал с ней воевать». А во-вторых – не вмешайся мы, не выведи из строя Арчибальда и не организуй наш союз с Олегом, могло бы у них что-то и получиться. Война бы, конечно, затянулась очень и очень надолго, но если царя (как Павла Первого) ликвидировать, американцев припрячь, да и техникой помочь, осталось бы от матушки-России что-то вроде Великого княжества Ивана Третьего…
– Да, интересно у вас получается, – со странной интонацией начал Президент, но Берестин довольно невежливо его перебил:
– Только не говорите, что нас это не касается и дай нам бог со своими делами управиться. Очень даже касается. Без помощи Олега вам из нынешней ситуации не выпутаться, а если б даже и сумели, вслед за той Россией вплотную бы занялись этой, с вами, без вас – несущественно. Мало вам Горбачёва с Ельциным? Они войны не проигрывали, но раздали даром то, за что можно было бы лет сто безбедно жить, даже нефтью не торгуя. А идеи якобы олбрайтовской «интернационализации российских ресурсов и территорий» никто не отменял.
Удайся им вчерашний мятеж, вместо вас занял бы Кремль «истинный либерал» – хоть неудачник-шахматист, хоть любой из лидеров «Демократического выбора», и через три года наша с вами Держава превратилась бы в аналог Сербии, а скорее – Грузии. Без всякой войны, абсолютно мирным и законным путём. Глядишь, и в Совет Европы бы приняли, каждую из полусотни «русских республик» поодиночке, и в НАТО, оставив русской армии несколько «потешных полков» и лёгкое стрелковое оружие, как немецкому рейхсверу в тысяча девятьсот девятнадцатом. Только своего Гитлера нам пришлось бы подольше ждать, времена не те… И исторический опыт, он не только у нас имеется…
– Интересный всё же человек ваш Президент, – сказал Берестин Мятлеву, когда они вышли на затенённую высокими елями кремлёвскую аллею. – Это, наверное, про него русская присказка: «На колу мочало, начинай сначала». Я думал, ребята ему всё крайне доходчиво изложили, да и вы тоже. Особенно после всего с ним случившегося. Олегу Константиновичу одного покушения и нападения на Берендеевку хватило, чтобы от всякого прекраснодушия избавиться. А ведь тоже поначалу сильно не хотел самодержавие восстанавливать. А ваш прямо как гимназистка, свято верящая, что пятимесячная беременность ещё может как-то «рассосаться».
– Вы гимназистку в пример привели, потому что долго в реликтовой Югороссии прожили? У нас девушки сравнимого возраста в основы акушерства и гинекологии не хуже студентов-медиков посвящены…
– Может, и поэтому. Просто наивность вполне взрослого человека поражает…
Берестин общался с Президентом гораздо меньше Фёста и даже Сильвии, и ему действительно казалась странной смиренность, чтобы не сказать резче, главы государства и Верховного главнокомандующего.
Советских вождей (за исключением Сталина, с которым близко общался почти полгода) он помнил только по кинохроникам и газетным полосам со статьями и докладами. Но те если и отличались собственными странностями, то как раз в противоположную сторону. Всё время ждали от западных руководителей всяких пакостей и непрерывно готовили страну к вражеской агрессии со всех азимутов сразу. Но то было понятно и объяснимо, что и подтвердилось последующими событиями. Как говорил товарищ Сталин: «Слабых бьют». А посмотреть на Президента – его и в школе должны были бить постоянно. Просто так, за то, что сдачи не даёт и не собирается… Впрочем, и школы сейчас не те, могли и не бить.
…Несколькими часами позже Берестин, Сильвия и Чекменёв разговаривали с Императором в Берендеевке, которая так понравилась в прошлый раз Алексею, несмотря на не совсем располагавшую к любованию прелестями среднерусской природы обстановку. Война подступила тогда ближе, чем немцы к Москве в сорок первом. Зато сейчас – всё как положено. И погода, и тишина, и ландшафт. На веранде второго этажа только они четверо, да ещё верный пёс Олега Красс, с которым не так давно только что вступивший в должность Император отсчитывал последние секунды до прихода помощи (то, что она явится в лице и под командой нынешнего Берестина, Олег тогда знать не мог) или готовился к «последнему параду», в котором ни собака, ни человек не собирались пережить друг друга[103].
Сейчас пёс лежал на краю веранды, положив массивную голову между вытянутых вперёд лап, совершенно спокойный. С его точки зрения, обстановка не внушала опасений.
Вокруг по-особенному, совсем не так, как лиственный, шумел сосновый и еловый лес, и запахи вокруг распространялись головокружительные – хвои, свежей и палой, нагретой солнцем смолы, недалёкой речки с заросшими всевозможными кустарниками и травами берегами…
– …Таким образом, Ваше Величество, – докладывал Чекменёв, а Берестин просто курил, пуская дым вверх через лапы заглядывающих на веранду елей, – мы тут набросали окончательный, точный и подробный план войны, на основании представленных госпожой Берестиной материалов и окончательного подсчёта поступивших на нашу сторону «средств усиления».
– Точный и подробный? – удивился Олег. Он сам был с малолетства полностью военным человеком, да ещё и с врожденными задатками вождя и стратега. – Разве такие бывают?
Здесь пришла пора съязвить Берестину.
– Бывают, Олег Константинович. «Барбаросса», к примеру, был. В сорок первом году. Тогда к исходу первой недели войны аж целый начальник Генштаба Гальдер признал, что «всё идёт по плану, кампания выиграна за 14 дней…»[104]. Просто германский Генштаб допустил такие ошибки, которых на первом курсе нашей общевойсковой академии молодые офицеры не делают. Что, в общем, наводит на размышления – самостоятелен ли он был в своих действиях или изображал одну из сторон в плохой компьютерной игре.
По крайней мере, когда я читал в мемуарах генералов и фельдмаршалов, что они «плохо представляли себе предстоящий театр военных действий, состояние дорог и погодные условия в России», просто оторопь брала. Это писали люди, которые всего двадцать три года назад воевали на этой же территории, с этим же противником? Даже сорокапятилетние полковники и генералы успели в Первую мировую поносить минимум лейтенантские погоны. И треть из них если не повоевала как следует на русском фронте, так дошла после Брестского мира до самого Ростова. Как они могли «не представлять себе» то, где провели самые яркие дни своей молодости? Да и кроме того – книжек по географии в школе не читали, фильмов не видели, на киевские и белорусские маневры не ездили в качестве атташе и наблюдателей? Перед началом войны штабных учений на картах не проводили?
Нет, Ваше Величество, тут дело совсем в другом. Пусть Гитлер пообещал им, что Красная армия капитулирует через месяц. Так разве генералы, планирующие операцию, имеют право руководствоваться не лежащими перед ними картами, расчётами сил и средств, своими и противника, метеорологическими особенностями территории противника, а пустой болтовнёй хоть и канцлера, но всего лишь бывшего ефрейтора? Что, никто из них не читал записок наполеоновских соратников? Никогда не поверю…
– А в чём же, по-вашему, дело? – заинтересовался Олег. – В тех книгах о вашей Отечественной войне (третей, кстати, потому что Первая мировая у нас называлась Второй Отечественной) я читал, что СССР был в шаге от поражения и что Гитлер был почти прав, только мелкие детали не сложились: то не вовремя наступление на Москву притормозили и на юг повернули, то распутица раньше времени началась…
– Вам самому не смешно? Всё это оправдания проигравших, причём проигравших с таким треском, как никто никогда не проигрывал с времён Карфагена. Я не буду сейчас показывать на картах, что и как было на самом деле. – Берестин подумал, как бы удивились Император и Чекменёв, скажи он им, что лично руководил ходом этой войны в первые, самые трагические месяцы. Многовато для коллег впечатлений будет. Сказал другое: – Не нужно быть Гальдером или Кейтелем, чтобы сообразить, что взятие Москвы едва ли хоть чем-то облегчило бы немцам жизнь. Москва превратилась бы в удесятерённый Сталинград. Та же зима, те же измотанные до предела войска, надеявшиеся на «тёплые зимние квартиры», а получившие бесконечную мясорубку уличных боёв в громадном городе. Причём резервов у Красной армии в ноябре сорок первого было больше, чем в конце сорок второго, а сама Москва для захватчиков очень плохо подходит одновременно для уличных боёв внутри и создания прочной обороны по периметру. Всех войск, что были тогда у немцев, не хватило бы, чтобы изобразить хоть тонкую нитку по всему внешнему обводу…
– Но ведь, насколько я знаю, немцы рассчитывали как раз на то, что Красная армия будет полностью разгромлена и Сталин капитулирует… – сказал Чекменёв. – В этом аспекте «Барбаросса» имела смысл.
– Повторюсь – кадровые немецкие генералы должны были знать исторические примеры. Случалось ли, чтобы русские правители капитулировали, даже теряя большую часть армии, территории и столицу? Если не считать, конечно, Брестского мира. Так то не российская армия и не российское государство сдалось, а интернациональный кагал за хорошие деньги отворил ворота крепости, которая могла держаться ещё не один год. А оставалось-то до полной победы всего несколько месяцев…
– Кажется, мы немного отвлеклись, хотя тема, безусловно, интересная, и мы к ней непременно вернёмся, – пресёк поток исторических воспоминаний и ассоциаций Олег. – Что вы хотели сказать по существу, Алексей Михайлович?
– Да вот что. По существу, пусть и опираясь на семидесятилетней давности факты: у меня сложилось отчётливое впечатление, что немцы приблизительно с конца сорокового года действовали как бы под гипнозом. Или – по компьютерной программе. Добившись на континенте всего, чего только можно желать, они вдруг решили воевать с СССР, не имея ни малейших шансов в этой войне победить. Помню, в одной из книжек какой-то немецкий офицер смотрит на карту мира и спрашивает у коллег: «Интересно, а фюрер эту карту когда-нибудь видел?»
В том смысле, что на тогдашней немецкой технике без малейшего противодействия противника даже до Урала от границы было доехать технически нереально, а самое интересное начиналось как раз за Уралом. Вот и англичане сейчас все свои планы составили под влиянием такого же примерно гипноза. Исходя из принципов «отрицательной вероятности». Ну а мы, соответственно, просто достаточно грамотно их умопомрачением воспользуемся. Вам приходилось играть в преферанс на хорошие деньги, зная не только прикуп, но и все карты обоих партнёров?
– Нет, – с интересом к продолжению темы, но и с лёгким сожалением ответил Олег.
– Ну а вот мы сейчас в таком как раз положении. Мы знаем абсолютно всё и при этом не станем сразу раздевать противника. Мы будем делать это не торопясь и со вкусом… Ну, вы меня понимаете, – сделал он многозначительное лицо, оригинально совместив в одной фразе сразу две темы, карточную и, так сказать, эротическую…
…Прелесть ситуации, собственно, в чём? Англичане (руководство страны, конечно, которое и вправе решать вопросы войны и мира) получили стопроцентные заверения, что кроме геополитически и экономически безупречного рисунка операции они будут иметь в режиме «онлайн», как у нас некоторые выражаются, все необходимые корректировки её хода. Практические, прошу заметить, не какие-то там никчёмные советы, а реальную, стратегического уровня военную помощь.
Постоянные диверсии, шпионаж и предательство в самых высоких штабах, десанты в ключевых точках в максимально неудобное для нас время, ломающие все наши расчёты внезапные вмешательства до того нейтральных держав, многочисленные мятежи инородцев, по типу польского, парировать которые нам будет нечем…
– Это действительно им было обещано и документально подтверждается? – спросил Император, причём достаточно равнодушно, как бы уточняя очередную, не слишком важную деталь.
– Так точно. Можете ознакомиться. – Берестин откинул крышку большого ноутбука. – Здесь две сотни страниц крайне интересных документов, – сказал он, поворачивая тридцатидюймовый экран к Олегу. – Зафиксировано всё и многое сверх того. Бюрократия неистребима и неисправима. Удивляюсь, как они ещё не отправляют «отношения» на имя любовников своих жён с уведомлением о месте, времени и количестве предполагаемых контактов… Я бы за такое расстреливал…
– За «уведомления»? – оживился Олег.
– Нет, за дурную привычку фиксировать на бумаге или, по-современному, в фейсбуках вещи, могущие стоить головы сотням и тысячам людей… Вот Сталин крайне редко доверял бумаге действительно серьёзные вещи…
– Абсолютный диктатор может себе такое позволить, ему отчитываться перед вышестоящим руководством не приходится, – усмехнулся Чекменёв в стиле Ришелье (киношного – настоящего никто из присутствующих видеть не удостоился), – ни за казённые суммы, ни за результат. А нам – увы…
– Мне ваши документы читать незачем, – ответил Олег. – Есть мой Генштаб, есть вы с Игорем, наконец, – кивнул он в сторону Чекменёва. – Другое интересно. Я вот соображаю – на основании ваших разведданных и при помощи предоставленного союзниками оружия возможно совсем нестандартно войну построить. Чтобы англичанам по гроб жизни впечатлений хватило… – иногда Олег вспоминал свою офицерскую молодость и начинал выражаться несоответственно своему нынешнему положению. – Первый удар наносим отнюдь не смертельный, но весьма шокирующий. Так, чтобы они остались и без ВВС, и без основной части Флота Метрополии. Они ведь практически всю свою боеспособную авиацию решили в первый эшелон поставить?
– Так точно, – ответил Берестин. – Совершенно как немцы в сорок первом. Один авианалёт, и господство в воздухе завоевано. Правда, они думали, что навсегда, а получилось не совсем… – Алексей вспомнил свой вариант утра 22 июня[105].
– Мы тоже используем все свои, то есть ваши спецсредства для первого ответного удара. Их хватит?
– Так точно. Стратегическая внезапность обороны. Дело знакомое…
Именно эту самую СВО, лично разработанную, Берестин и применил против немцев, когда в своём варианте командовал Западным Особым военным округом.
– Но хотелось бы всё оформить так, чтобы они не поняли нашей действительной мощи. Приняли случившееся за досадную случайность. После чего мы предпринимаем вполне нестандартный шаг. Такого от нас наверняка не ждут ни сами альбионцы, ни бывшие союзнички по ТАОС.
Берестину стало интересно. Он впервые наблюдал здешнего монарха прямо в процессе рождения судьбоносного для мира решения. Вряд ли он излагает сейчас предварительно продуманный текст, специально для них двоих с Сильвией. Ведь перед верным другом и наперсником незачем играть? Да и сам Алексей не та фигура, чтобы для него Император Всероссийский театральные этюды разыгрывал. Значит, действительно, идея к нему только что пришла. Ну-ну… Только вот что он там насчёт «досадной случайности» несёт? Потерять весь воздушный флот вторжения от несуществующего в том мире оружия и не понять этого?
Но промолчал, решил слушать дальше.
– Мира мы с ними в обозримом будущем заключать не будем. Даже если они его тотчас же запросят, под любым предлогом, хотя бы даже сославшись, что имел место досадный эксцесс исполнителя – внезапно сошедшего с ума премьера или главкома ВВС.
– Сошедшего с ума вместе со всем Генштабом, Адмиралтейством и палатой лордов, а после поступления информации о крахе авантюры впавшего в просветление и застрелившегося?
Олег посмотрел на Берестина с уважением.
– Да, такой вариант совсем не исключен. Если король или те, кто короля за ниточки дёргает, решатся на подобный цинизм…
– В нашем мире – сплошь и рядом решаются, – просветил Императора Алексей. – И в данном случае могу почти стопроцентно гарантировать, что так и будет. Ибо знаю, откуда вообще у этой интриги ноги растут.
– Интересно. Потом расскажете…
– Вам моя супруга лучше расскажет, – с показавшейся Олегу странной интонацией сказал Берестин. Впрочем, на воре шапка горит, вот и мерещится всякая чушь. Откуда этому генералу знать, чем он с его супругой не так давно занимался? Если только у них это – не семейный подряд.
– Она весьма близка к британскому высшему свету и достаточно информированна…
– Так почему же она работает на нашей стороне? – не удержался от не совсем уместного вопроса Олег.
– Это давняя и длинная история. Если вы помните, немало французских и немецких аристократов служили вашим предкам. По самым разным причинам. И неплохо служили. Вот и у моей жены свои скелеты в шкафу.
– Хорошо, я обязательно с вами побеседую, миледи, – привстал и изобразил полупоклон Император. – В самое ближайшее время. Но продолжим. После шокирующего весь мир разгрома агрессора мы не идём на мирные переговоры, продолжая гнуть свою линию – только безоговорочная капитуляция. Чем быстрее – тем условия будут мягче. Организуем утечку через известную нам британскую агентуру, какие именно условия могут быть для нас приемлемы. Британия на подобное не согласится ни в коем случае и бросится вперёд «очертя голову», как они говорят. И вот тогда мы переходим к игре в одни ворота.
Пользуясь тем, что враг остался без авиации и без значительной части флота, мы начинаем делать всё то, что они собирались сделать с нами, долго и с особой изощрённостью. Может быть, даже на протяжении нескольких лет… В общем, до капитуляции. Возможно, я ограничусь тем, чем удовлетворились британцы в 1856 году[106]. Лишу их флота, не больше, причём так, чтобы ни территория Метрополии, ни её граждане не понесли серьёзного ущерба.
Тут даже Чекменёв вскинул голову, удивлённый словами сюзерена. А Берестин остался безразлично-спокоен, просто прикурил новую папиросу. Он понял суть императорского замысла. После победы можно будет посадить на трон и в кресло премьера своих людей, и не нужно, чтобы у простых граждан сохранилась ненависть к бомбившим их города и убивавшим детей русским. Англичане всё же не японцы, свой Ковентри помнят лучше, чем те – Хиросиму. Посмотрел вправо, на великолепного пса, слегка двинувшего правым ухом, видимо, уловив какие-то интересные ему нотки в голосе или просто настроении хозяина.
«Жаль, что самые лучшие из них не живут больше пятнадцати лет, – подумал Берестин, сам большой любитель хороших собак. – А заводить потом ещё одного – только душу рвать…»
И вдруг ему пришла в голову мысль – а нельзя ли попробовать и к собакам гомеостат применить? Неужели Сильвия с такой ерундой, как настройка браслета, не справится? Истинные-то аггры, которые всю их аппаратуру придумали, они от людей ещё больше, чем собаки, отличаются…
И следующая мысль, уже поднаторевшего в придворных интригах царедворца: «А ведь если получится, этот же Олег за продление до обозримых пределов жизни своего любимца будет благодарен больше, чем даже за выигранную войну. Вполне свободно…»
Но сказал совсем другое.
– Абсолютно верное решение, Олег Константинович. В принципе, кое-что подобное я и сам предполагал. Для другого, впрочем, случая. Навязать противнику бесконечную войну на истощение, лишить его заморских территорий и взять под жёсткий контроль морские перевозки. Не неся при этом собственных потерь… Ну, в разумных приделах, – поправился он, чтобы соответствовать менталитету собеседника. – А потом согласиться признать всё случившееся не войной, а всего лишь конфликтом. Тогда и мир заключать незачем. Оставить всё «как было», но противника при этом – без штанов.
– Остроумно, – прищёлкнул языком Император. – Но есть и другой вариант. Насколько мне известно, термин «безоговорочная капитуляция» придумал один из двух диктаторов вашего мира, то ли Сталин, то ли Рузвельт, специально для побеждаемой Германии. И каждый, исходя из просмотренной мной литературы, – в своих целях.
– Так точно, Олег Константинович, если исходить из смысла, вами в это понятие вкладываемого. Вообще-то испокон веков, хоть Ветхий Завет возьмите, там эта самая «безоговорочная» сплошь и рядом. Только в куда более мерзкой упаковке. «Я их победил, я убил их пленных, женщин и детей, я сжёг их город…», ну и так далее. Только в те времена вражеского царя или полководца не привозили в полной парадной форме и даже с маршальским жезлом в Карлсхорст, не давали подписать бумаги в пяти экземплярах и не кормили после этого хорошим ужином. Правда, отдельно от победителей…
– А потом всё равно повесили? – странно сощурился Император, успевший пролистать и материалы Нюрнбергского процесса.
– Ну, это как карта легла. Причём, прошу заметить, наши бы его не повесили. Посидел бы, как Паулюс, 10 лет на хорошей подмосковной даче, да и поехал бы домой, доживать, мемуары писать да внуков в истинно прусском духе воспитывать. Это амеры с лаймами настояли. И судья был их, и прокуроры, и даже палач, сержант… Вуд, кажется, который потом верёвки кусками за хорошие деньги продавал… На сувениры. Начальство не препятствовало. Законный бизнес.
Императора передёрнуло. Должны же быть пределы человеческой подлости и алчности!
– Ладно, оставим это на их совести. В конце концов, каждому народу присуща определённая степень низости и дикости. Уточним кое-какие подробности, чтобы мне больше на частности не отвлекаться. Вы совершенно уверены, Алексей Михайлович, что первый шокирующий удар англичан по нашим базам мы отразим? Не получится нового Пёрл-Харбора в трёх экземплярах?
– Абсолютно уверен, Олег Константинович. Опытные люди расчётом сил и средств занимались. У нас, вы знаете, с самого сорок пятого года тоже своего рода национальная паранойя имела место – не допустить повторения сорок первого! Быть готовыми дать отпор любому агрессору и любой коалиции. Любой ценой! Даже ценой гибели всего человечества, причём минимум семикратного…[107] И добились, в общем-то. Только цена высоковата оказалась. Это я к тому, что такие вещи, как отражение «вероломного удара», у нас отработаны и обеспечены лучше, чем правила пожарной тревоги на подводной лодке. В данный момент на вашу сторону переправлено достаточно ЗРК, чтобы дважды уничтожить всё, что у англичан вообще способно подниматься в воздух. А если сильно потребуется – есть чем ударить по всем их флотским базам и соединениям кораблей в море. Знаете, есть у нас штучки, что сразу целое авианосное соединение – фюить! – Берестин сдул с рукава воображаемую пушинку.
– Я предлагаю, Ваше Величество, – сказал Чекменёв, – сегодня же опубликовать к сведению всего мира сообщение – Россия, мол, не против приличной джентльменской потасовки, если Великобритания или любая другая держава имеет настроение помериться силами. Но заранее категорически предупреждает, что правила будут англосаксонские: число раундов не ограничено, бой до победы не «по очкам», а вчистую, и «победитель получает всё».
– Что ж, ничем не хуже, чем «Иду на вы» Святослава, – согласно кивнул головой Олег.
Глава восьмая
Сейчас, пока развиваются несколько сюжетных линий сразу в трёх параллельных реальностях, как бы одновременно, и в то же время с серьёзными отклонениями от общей, если так можно выразиться, хронологии, есть время обратить внимание на некоторые имевшие место в недавнем прошлом события. Впрочем, очень может быть, что не совсем в прошлом это было, а случилось где-то на пересечении пространственных и временных координат, сильно, как и предупреждала Сильвия Фёста с Секондом, деформированных происходящим. Настолько, что даже сверяя сделанные под протокол показания очевидцев, иногда невозможно разобраться, что же там было на самом деле, и в какой мере причины предшествовали следствиям, а в какой – совсем наоборот.
Перед тем как отправить Басманова с Ибрагимом и сопровождающими валькириями в Югороссию, Сильвия с Воронцовым о чём-то долго совещались, привлекая к своим симпосионам[108] Арчибальда, то в качестве консультанта, то свидетеля или даже подследственного. Кроме того, Дмитрий несколько раз уединялся с Удолиным, тоже обсуждая что-то касающееся их двоих, и заодно – судеб окрестных миров. В целом получалось так, как Воронцову и хотелось – он сейчас играл как минимум на трёх шахматных досках, причём не совсем понимая, принадлежат его «противники» к одной команде, с общим тренером и консолидированным интересом, или же это просто несколько совершенно посторонних друг другу любителей, заплативших свои двадцать копеек за право сразиться с заезжим гроссмейстером.
Оставаясь ночью один в своём прежнем, самом первом здесь номере, скопированном с «королевских» апартаментов бомбейского отеля «Си рок», Дмитрий, уже засыпая, в расслабленной полудрёме обращался к Замку с вопросами, пытаясь вспомнить и сымитировать тот настрой, что был у него в дни, когда из его подсознания извлекались воспоминания, использованные для воспроизведения образа-мечты Натальи. Непонятно до сих пор, зачем это было сделано. Точнее – было известно, зачем потребовалась её голографическая копия во время нахождения Воронцова внутри системы, но вот для чего Замку потребовалось перенести новые личностные характеристики девушки-фантома на живущую в настоящей Москве, не слишком на неё похожую тридцатилетнюю женщину с нелёгкой, как говорится, судьбой? Дмитрию казалось, что с добрыми намерениями, в качестве этакой «награды за труды», и сейчас он надеялся, что каким-то образом Замок подскажет ему что-то весьма важное и полезное. Или в «вещем сне», или напрямую, в виде вербального совета-инструкции.
Что-то такое его посещало, но крайне расплывчатое, неоформленное и не структурированное, зато имевшее большой эмоциональный заряд, причём позитивный, так что просыпался он в прекрасном настроении, убеждённый, что жизнь прекрасна и удивительна и что горы для того и существуют, чтобы их походя сворачивать.
На третий день своего здесь пребывания утром за общим завтраком он сообщил Басманову и Катранджи, что никаких препятствий для исполнения их миссии больше не видит. Вернее, не он сам, а так расположились звёзды.
– Не правда ли, Константин Васильевич?
Удолин, только что опрокинувший рюмку «Зубровки» и закусывавший вкрутую сваренным и разрезанным вдоль яйцом, намазанным последовательно майонезом, горчицей и настоящей аджикой из Сухума, промычал утвердительно и вдобавок кивнул головой.
«Где ж это он таким кулинарным изыскам обучился?» – подумал Воронцов, а вслух сказал:
– В таком случае заканчивайте завтрак и отправимся…
– Вы что, тоже с нами? – осведомился Ибрагим. – И профессор?
– Мы – пока нет. Это просто в фигуральном смысле… Отправитесь, конечно, вы, а я помашу вам с берега платочком и буду обеспечивать вашу дальнейшую безопасность. Вы ведь всё-таки, Иван Романович, в никуда фактически отправляетесь. В царство мрачного Аида некоторым образом… Сами ведь понимаете, что никакого тысяча девятьсот двадцать пятого года в природе не существует, поскольку девяносто лет назад в положенный срок он сменился двадцать шестым и так далее, вплоть до сегодняшнего. И всё, бывшее ранее, превратилось в конфетти на полу вокруг ставшей никому после новогоднего бала не нужной ёлки.
Катранджи древнегреческую мифологию в своё время изучал, поэтому ссылку понял. Дальнейший заковыристый пассаж тоже… Если не понял по сути, то уловил смысл.
– А вот как же, Михаил Фёдорович? Вполне себе существует. Как и мы с вами здесь…
– Ну, это уже дебри начинаются. Когда вы смотрите на фотографию вашего почтенного прародителя, снятую в городе Смирне где-то на рубеже предыдущих веков, то ведь не сомневаетесь в подлинности предметов, которые его там окружают? Пролётка куда-то едет, лошади ногами перебирают, человек в котелке на заднем плане собирается шагнуть с тротуара на мостовую. Даже ветерок присутствует, шевелящий листья пальм. И что?
– Как что? Всё это на самом деле было. Но ведь прошло. Дед в могиле, тот человек – тоже. Разве что пальмы остались. И ветер с моря. Такова жизнь. Откуда мы пришли, туда уйдём навеки…
– Верно. Ну а если есть способы и из фотографии сюда к нам выйти, и туда вам войти? Вот, Михаил Фёдорович вышел и вполне выглядит живым нормальным человеком. А теперь вы с ним туда войдёте. Ничего сложного, если разобраться. Для вашего деда столь же невероятной казалась идея о том, что из его Смирны за час можно добраться до Мекки, Стамбула, а за десять всего – до той стороны Земли… А потом люди узнали способы. Мы – узнали ещё несколько. Но самолёты ведь не всегда долетают туда, куда направлялись. Совсем недавно вы в этом убедились. Но с вами, слава богу, произошла всего лишь вынужденная посадка на подготовленный аэродром. Вполне гостеприимный. Вот почему я и сказал, что озабочусь, чтобы подобного не повторилось…
– Вполне доступно вы всё объяснили. Хотя и чересчур затейливо. Умом я всё понимаю, но чувствами воспринять – пока не получается, – честно признался Катранджи.
– Ничего, привыкнете, – успокоил его Воронцов. – К моей затейливости – тоже. А то вам всё больше чересчур прямолинейные люди попадались… Короче, заканчивайте завтрак – и вперёд.
– «Иль погибнем мы со славой, иль покажем чудеса». Так, кажется в старой русской солдатской песне пелось?
– Совершенно верно. Доберётесь – сможете при желании дедушку повидать. Или по меньшей мере открыточку послать. Тогда вообще всё на своё место станет в моей аллегории.
Чуть позже, оставшись с Басмановым наедине, Дмитрий сообщил ему в виде «предполётного инструктажа» как человеку достаточно подготовленному и всё понимающему, что по уточнённым только что с Арчибальдом сведениям его Югороссия «двадцать пять» действительно находится полностью вне системы остальных ныне действующих реальностей. Как именно это получилось – он сам до конца не понимает, но, организуя переход «Братства» вместе с пароходом в «большой мир», Антон вместе с Замком сумели выделили этот сектор Гиперсети в некий инвариантный анклав.
Посещать его физически можно, и существует он как бы по общим для действующей модели мироздания законам, но в то же время путь в него именно через Замок, то есть минуя куда более опасные и ненадёжные методики Левашова или Сильвии, может открываться только в определённых обстоятельствах и с применением особых приёмов, суть которых способен осознавать только сам Замок. Арчибальд же всего лишь исполняет его волю, не вникая в физику процесса. Если это вообще физика, а не мистика, в человеческом понимании.
То есть риск действительно имеется и здесь, он Катранджи не запугивал, – в случае, если Замок изменит свои взгляды, обратного пути может и не быть. Это крайне маловероятно, но такую возможность следует учитывать.
Михаил изобразил на лице недоумение. Сам-то он неоднократно перемещался туда и обратно, и даже целую дивизию легко удалось переправить в Берендеевку, когда возникла необходимость. В Южную Африку девяносто девятого года оттуда ходили, и сейчас офицеры рейнджерского батальона действуют в определённом месте… То есть – в чём смысл этих слов? Может быть, Дмитрий Сергеевич что-то недоговаривает? Ему-то лично без особой разницы, если придётся там остаться – что ж, это его настоящий мир, может, и проще будет забыть о всяких переходах и доживать свой век, как тот же Сугорин, ведя беззаботную жизнь довольно высокопоставленного отставного офицера. Там это несложно.
– Жаль будет всех вас потерять, а всё остальное меня мало волнует.
– С тобой-то так. Тем более, как я понимаю, – невесту с собой везёшь. Из Марины очень хорошая жена получится, вдобавок владеющая непредставимыми у вас возможностями. Колдунья в исполнении Марины Влади. Фильм давным-давно такой популярный у нас был, – пояснил он в ответ на вопросительно приподнятую бровь полковника. – Они с той артисткой немного похожи. Не пропадёшь, кто бы сомневался. Вот для нас такой вариант будет натуральной катастрофой. И друзей лишимся, и очень важной для всех тыловой позиции… Недоступной для любых гипотетических катаклизмов. А если ты думаешь, что я понимаю намного больше твоего, Миша, так ты ошибаешься, – продолжил Воронцов, привычным для него образом неопределённо улыбаясь. – Я ведь тоже человек совсем другого образования, культуры и способа мышления, чем эти… форзейли. Мы с Антоном вроде и друзья закадычные, но гораздо дальше друг от друга психологически, чем ты – от какого-нибудь готтентотского вождя племени чумакве-шуакве, пусть он в отличие от прочих людей произносит слова на вдохе, а не на выдохе. То, что мы с инопланетянами по фенотипу и генотипу неотличимо совпадаем, – игра природы, не более.
А о том, что опасность существует, это я тебе только собственное мнение передаю. Замок как раз, через посредство Арчибальда, меня в противоположном заверил. Ваша реальность, грубо говоря, существует только в представлении Замка, потому для вмешательства чуждых сил так же недоступна, как наши с тобой интимные фантазии…
Он снова улыбнулся, но уже с другим выражением.
– А как же в этом случае кто-то сумел проникнуть к нам в Царьград, устроить провокацию с «Гебеном», угнать наш самолёт?
– Да сам Замок и сумел. Через того же Арчибальда. Это ведь его епархия. Хозяин – барин. В тот момент ему потребовалось собрать вас у себя. Возможно, чтобы совершилось то, что совершилось, чтобы какие-то совсем неожиданные узелки на «нити судеб» завязались. Сколько всего между вами произошло, сколько интересного каждый узнал и о себе и о другом…
– Постой. Ты сам откуда о… том, что здесь было, узнал? Ты ведь уже… после всего появился.
Басманову, непонятно почему, стало очень неприятно при мысли, что Дмитрий в курсе его внезапной, но, признаться, чертовский увлекательной интрижки с Сильвией. Возможно, оттого, что Воронцов только что упомянул Марину как его невесту. Самое же интересное, что, с точки зрения дворянина начала ХХ века, ничего здесь стыдного не было. Жёны, невесты, любовницы или обычные «публичные девки» существовали в абсолютно разных, непересекающихся плоскостях.
– И я не просто так появился, а «в нужный момент». О том, что он сам счёл важным, меня Замок проинформировал. То ли он новую партию против пресловутых Игроков затеял, то ли пытается доступными ему средствами «вывихнутый сустав» на место поставить[109]. Но ведь не будешь же спорить, что эффект для всех сразу и для каждого в отдельности получился интересный? А уж как всё было срежиссировано! Сказано ведь – «неисповедимы пути Господни», и «не простому смертному судить о причине причин». Второе – это уже из буддизма, – счёл нужным пояснить Воронцов.
– И то, что Замок допустил, точнее – сделал возможным несколько эпизодов весьма странного характера, да заодно сумел значительно расширить возможности наших девушек в обращении с блок-универсалами, – конечно же не просто так. Надо думать, что для его дальнейших планов это имеет существенное значение.
– Значит, мы теперь можем надеяться только на то, что у Замка не возникнет новая «плодотворная дебютная идея»? И мы у него если не в рабстве, то «под колпаком» точно.
– Зато есть довольно серьёзная гарантия, что никто другой в наши дела не вмешается, – успокоил его Дмитрий. – Всегда лучше, если точно знаешь, что в лесу только один волк или тигр, а не чёртова уйма скорпионов и гремучих змей… Да и ещё проще – верующий человек ведь живёт, зная, что все ниточки его судьбы находятся в руках Единого Бога, или Рока, или Мойр каких-нибудь древнегреческих. Как их там?
– Клото, Лахесис, Атропос[110], – с ходу ответил Басманов. Греческую мифологию в корпусе по программе классической гимназии изучали очень даже основательно.
– Молодец. Двенадцать баллов. Так что лишний раз задумываться над тем, над чем не властен, – просто бесполезно.
– Ты же задумываешься…
– Я, по возложенным на себя обязанностям, всего лишь продумываю варианты. Чтобы не оказаться в растерянности перед очередной загадкой Сфинкса.
– Изящно излагаешь. Тут, конечно, не поспоришь. Итак, мы летим в Севастополь, там решаем все дела с Ибрагимом и возвращаемся? Ты нас вызовешь или мы тебя?
– Конечно, вы. Твои спутницы сейчас настолько овладели аппаратурой, что им не составит труда… Решайте свои дела, сколько потребуется, девчонкам позволь на другую жизнь посмотреть, на вкус попробовать. Только пусть не увлекаются. Завтра свяжешься со мной. Я уже сказал Верещагиной, она на своём блоке такую комбинацию выставила, что вызов уйдёт в никуда, для любого наблюдателя, а где-то в мировом эфире, на седьмом или бог знает каком уровне его перехватит Замок. Остальным об этом пока знать не нужно. Девушкам тоже. А если вдруг – я сам тебя вызову аналогичным образом. Поэтому по прибытии на место портсигар у Марины временно изымешь. Уяснил?
– Прикажешь повторить инструкцию или на слово поверишь, что правильно понял?
– Поверю, господин полковник, ты же по-настоящему меня старше чином.
Это Воронцов подразумевал, что Басманов на большой, шестилетней войне дослужился до капитана гвардии, то есть армейского подполковника, а сам Дмитрий всего лишь советский капитан-лейтенант запаса.
…«Буревестник» взлетел, и только после этого Басманов зашёл в пилотскую кабину.
– Поднимайтесь тысячи на три курсом прямо на восток, по солнцу, после этого все ваши приборы заработают. Надеюсь, – сказал он флотскому старшему лейтенанту, командиру экипажа. Вот ведь тоже интересно, вместе в такой переделке побывали, а кроме фамилии ничем этот пилот из множества других для него не выделился. Не возникло какой-то товарищеской близости. Видно, подсознательный почти антагонизм моряков и «крупы» и здесь проявился. Ну и разница в чинах и положении.
– Если меня не обманули, окажемся примерно над серединой Чёрного моря. И ложись курсом на Севастополь. Когда появится связь, доложишь, что борт такой-то с полковником Басмановым и иностранной делегацией на борту идёт из Царьграда, просит посадки, как положено. И встречи на пирсе, согласно протоколу.
– А как же, господин полковник, объясняться будем? – спросил пилот, у которого за истекшее время мозги то выходили из меридиана, то становились на место, словно гирокомпас разболтанный у него в голове находился. Но психическое здоровье офицер, к своей чести, сохранил в полном порядке. Что сделается с человеком, пережившим и полтора года Мировой войны, и революцию с Гражданской, и всё последующее? – Мы ж как бы пропавшими без вести должны числиться. Болтались двое с лишним суток неизвестно где, а запас горючки у нас – восемь часов…
– Это вы слегка заблуждаетесь, старшой. Если хотите дальше служить и орденок какой-никакой за этот рейс выслужить, запомните крепко и экипажу доходчиво объясните – ничего ни с кем не случалось. Вчера по приказу слетали в Царьград, гостей свозили отдохнуть, где и как – вам не докладывали. Утром согласно моему приказу подготовили самолёт к вылету на Севастополь. Всё, что нужно, с тамошними службами было оформлено. И ничего больше. Всё прочее – государственная тайна. Вы с экипажем в комендантской гостинице ночевали, что в Галате, недалеко от Дроздовского моста. Никто проверять не будет, но для себя именно так запомните. Сейчас часы где-то около десяти утра должны будут показать. Так что всё сойдётся. Для личного спокойствия предлагаю считать, что прочие ваши впечатления – от непривычной дозы испробованного в баре абсента. Всё ясно?
– Так точно, господин полковник. Можете не сомневаться.
– Не имею такой привычки. Своим людям мои слова передайте. Начнут по пьяному делу что-то болтать, им не поверят, а я так или иначе узнаю. И, сами понимаете, на дальнейшем прохождении службы очень даже такая невоздержанность отразится. И наоборот, естественно. Я своих обещаний зря не бросаю. За богом молитва, за царём служба не пропадают.
Полковник вернулся в салон. Катранджи о чём-то спорил с Кристиной. Уже не как работодатель с подчинённой, а по-человечески. Очень может быть, у них прошлой сумбурной ночью тоже что-то произошло, только это Басманова сейчас совсем не занимало. Со своими бы делами разобраться.
Увидев его, и они, и Марина заметно напряглись. Не скажет ли чего-то нового после общения с пилотами? Ведь за бортом снова началось прежнее непонятное. Будто резко в густую облачность вошли, разом исчезло и небо, и берег с Замком, и волнующийся океан. Только сплошная молочная муть за иллюминаторами. И лёгкое ощущение тошноты, будто гидроплан плавно проваливается в безбрежную «воздушную яму». Совсем не похоже на то, что бывало при внепространственных переходах известными им способами.
– Всё в порядке, – кивнул полковник. Хотел было сесть рядом с Верещагиной, но что-то помешало, он задержался у отдельного кресла перед откидным картографическим столиком в нескольких шагах от пассажирских мест.
Стюардесс на гидроплане не имелось, но буфет в кормовой части фюзеляжа был: не должна же дюжина старших штабных офицеров, не считая экипажа, почти сутки святым духом или сухпайками питаться в дальнем перелёте.
– Вы б, барышни, сообразили насчёт кофейку или хоть водички минеральной, – попросил Басманов, садясь лицом к своим спутникам. – Да и чего покрепче к кофе можно. Не знаю, как вы, а у меня мандраже не проходит, – это он специально сказал, чтобы народ не рефлектировал по поводу своего морально-психического состояния. – Курить на борту разрешается…
Марина с Кристиной дружно кинулись выполнять просьбу полковника, даже столкнулись бёдрами перед узкой дверцей в служебный отсек. А Ибрагим тут же начал раскуривать толстую сигару, которую извлёк из нагрудного кармана пиджака. Михаил удовлетворённо хмыкнул и тоже закурил. Шутки шутками, но действительно хотелось побыстрее долететь и почувствовать под ногами надёжную землю родного мира.
Девушки быстро нашли всё требуемое, в том числе и шустовский коньяк из лучших сортов армянского винограда, сноровисто, как заправские бортпроводницы, через десять минут сервировали стол у задней переборки салона: три сорта минеральной воды, лимон под сахарной пудрой, авиационный шоколад.
Марина, закончив работу, из-под ресниц коротко взглянула на Басманова, ожидая реакции, и несмело улыбнулась, увидев его одобрительный кивок, безусловно, адресованный лично ей. Всё складывается совершенно чудесно. Спасибо Насте, что сумела убедить Уварова в необходимости её включения в состав дипмиссии.
А несносная леди Спенсер специально ведь хотела заставить девушку вернуться в Москву. Это Верещагина верхним женским чутьём сразу поняла. Для чего, почему, каков её интерес – не совсем ясно. Не может же она сама иметь виды на Басманова? Ей он зачем, при живом муже-генерале, тоже красавце-мужчине? Не иначе из вредности: не может простить всем валькириям сразу и каждой в отдельности, что они её переиграли на её же поле. Ну, теперь-то всё будет хорошо, Михаил Фёдорович смотрит на неё так, как ей могло только примечтаться. Удивительно, что всего несколько дней назад они не были даже знакомы, а теперь вот так…
Она мельком перемигнулась с Кристиной, показывая подруге, что теперь только на той лежит обслуживание «важной особы» (термин VIP в эти времена если и знали, то лишь специалисты по англосаксонскому дипломатическому протоколу), Ибрагима то есть. А сама она постарается явочным порядком занять место кого-то вроде офицера для особых поручений при Басманове, раз он глава их делегации по дипломатической и военной линии. Мало ли, что никто ей таких обязанностей не поручал – младшие офицеры тоже имеют право на разумную инициативу.
Кристина ответила, тоже взглядом, что так всё и будет, не переживай, мол.
Ещё Марине очень странно было, что биологически (или физически) Михаил Фёдорович был не старше полковников Ляховых и чуть-чуть младше самого генерала Чекменёва, но при этом такая разница, не во внешности – психологическая. Человек родился в девятнадцатом веке, за тридцать с небольшим лет успел провоевать семь лет на двух войнах, встретился с пришельцами из далёкого будущего, сам побывал в нескольких реальностях… И – никаких следов психических деформаций. Наверное, прививки Мировой войной, полученной в двадцать лет, хватило и на всё остальное.
Марина в общем-то его понимала. У неё самой получилось что-то похожее. Готовилась жить и работать в социалистической стране, позднесталинской или раннехрущёвской, а внезапно очутилась в совсем другой, монархической реальности, и на полвека позже, где пришлось перенастраиваться и приспосабливаться, да так, чтобы никто из окружавших не заметил её (их, считая вместе с подругами) психологических трудностей. Так ведь успешно выдержали испытание, даже офицерские погоны получили, на что совсем не рассчитывали. Вообще много чего после этого повидали. Кто же и поймёт Михаила лучше, чем она? Не барышни же из его родной реальности, стослишнимлетние, по факту, старухи. Как «Пиковая дама». Куда им…
Уже через десять минут в салон выглянул штурман и с восторженно-обалдевшим лицом сообщил, что все приборы работают, радио тоже, и установлена связь с Севастополем.
– Ну и что за ажиотаж? Командир был предупреждён. Вы там что, забыли, как полагается действовать, приближаясь к собственному порту со старшим начальником на борту? Инструкции перечитайте… А вы, мичман, по возвращении на базу прежде увольнения сдайте своему командиру зачёт по уставным словам и выражениям. Свободны.
Как-то неожиданно резко, едва ли не грубо это прозвучало, в тот момент когда все действительно искренне радовались, что из непонятного провала во времени и пространстве вдруг вернулись в привычный мир. Но Марине показалось, что полковник совсем не играет в «начальника-самодура», без повеления которого подчинённому и с ноги на ногу переступить не дозволено, а на самом деле поступает в соответствии с требованиями службы и субординации. Ну да, выбрались неизвестно откуда, чуть не с того света – но какой тут повод военнослужащему, тем более флотскому офицеру, словами захлёбываться и козликом скакать по лужайке? Да ещё обращаясь к целому полковнику в присутствии членов дипломатической миссии. Несомненно, Михаил Фёдорович прав. Вот истинный пример военного человека и просто мужчины, вот так и следует себя вести!
И не сводила с него сияющего взгляда, раскрасневшись и сама того не замечая.
– Очень хорошо, что всё идёт штатно, – нормальным голосом сказал Басманов, в основном Ибрагиму (девушки по чинам и должности не нуждались в специальном пиетете). – Выходит, мы совершим посадку (он не сказал ни «приземлимся», ни «приводнимся») где-то через полчаса или несколько позже (это чтобы не сглазить), скорее всего – в Стрелецкой бухте, там нас встретят. Как вы желали бы, Иван Романович, – обратился он к Ибрагиму по его легендарному имени, – переговоры на сегодня назначить или на завтра с утра?
– Всё же на завтра, думаю, лучше, – ответил Катранджи. – Мы солидная делегация, нам не след торопиться, как в первый день распродажи у Вулворта…
– Делегация, – хмыкнул Басманов, отвлекаясь от своей официальной роли и чувствуя, как поднимается настроение. От ста грамм коньячку и от близости Марины тоже. Сам себе удивился – Сильвия действительно его больше не только не волновала, вообще удалилась на задворки сознания. Как ничего и не было, а если и было – так давным-давно. Ослепительная валькирия же, наоборот, занимала теперь всю его отведённую для личных эмоций часть сознания. Он посмотрел на неё, встретился глазами, на сердце по-особенному потеплело.
О том, что за это как раз аггрианку и нужно благодарить, внушившую ему нужный настрой и заставившую забыть о себе как о женщине, он даже не подумал. Точнее – он больше этого не знал. Вот только что ещё помнил запах её духов и страстное, сбивчивое дыхание, и – ничего. Скажи ему кто-нибудь, что он сегодня провёл с госпожой Берестиной бурную ночь – покрутил бы пальцем у виска. И для этого хватило всего лишь влюблённого взгляда юной девушки.
– Из одного человека? Несолидно как-то. Я считаю, в Москве всё же недодумали. Нужно было бы хоть профессора с нами направить… Он умеет впечатление производить.
По простоте душевной Басманов отнёс себя и поручиц к обслуживающему персоналу и «сопровождающим лицам».
– С чего вы взяли? – нимало не смутился турок. – Это на таких, как вы, умеет. Но на солидного человека никак не произведёт. И без него справимся. Главное – правильно наше явление обставить. Вы будете, одновременно с вашей здешней должностью, уполномоченным со стороны … ну, пусть императорской Ставки и одновременно моим миноритарным акционером. Я понимаю, в таком совмещении кто-то может усмотреть конфликт интересов, но так даже интереснее. Отвлечёт ненужные мысли, если они у кого появятся, в противоположную сторону. Мадемуазель Кристина очень подходит для должности эксперта по лёгкому стрелковому и иному оружию, а Марину я попрошу изобразить… – Он задумался, какая роль наиболее подойдёт Верещагиной.
– Кого же, как не главного юрисконсульта, – со смехом ответила Марина, которой игра сразу понравилась.
– Вот-вот, – согласился Ибрагим. – И повернём дело так, чтобы свита сама стала играть короля, – это я ваших здешних соотечественников подразумеваю, – пояснил он Басманову. – А вы, никому ничего не говоря, сумейте дать понять, как вас на самом деле воспринимать надо. Не как одного из «своих», а как полномочного представителя сил куда более высоких… – Катранджи почувствовал себя в своей тарелке и распоряжался, как авторитарный режиссёр на репетиции.
– Вы, Кристина и Марина, сообразите, как одеться и как себя вести, много говорить не придётся, достаточно слушать и время от времени шептать мне что-то на ухо или в блокноте показывать. Я дам понять, что когда от вас потребуется…
– Да мы, если что, и всерьёз можем, – вдруг заявила Верещагина. – Я, например, и Римское право знаю, действующие уголовные, гражданские и административные кодексы большинства европейских стран, политэкономию капитализма, а если чего забыла – через минуту-другую любую информацию найду. – Она легко прикоснулась к сумочке, где лежал блок-универсал. – Да и Кристина вам без запинки хоть цену на партию подержанных ППД на базаре в Урумчи назовёт, хоть на целевые патроны к «Ли Энфильду» в Антатанариве… Она же, когда в Одессу собирались, предполагала, что там и задержаться придётся. Не только девушку из заведения мадам Вульферсон изображать, могло потребоваться и на Привозе свежими бычками торговать, и бриллиантами у Семитати…[111]
– Ну так тогда вообще о чём говорить, – удовлетворённо кивнул Ибрагим.
– Кроме всего прочего, мы вообще можем из себя реальных первых лиц изобразить, а вы при нас так… Ходячий кошелёк.
Марина, не сдержавшись, фыркнула. Кристину опять понесло, она хамила с голливудской улыбкой, чтобы со стороны выглядело милой шуткой, а те, к кому непосредственно адресовались слова, понимали, что не совсем эта девушка шутит. Или – совсем не…
Катранджи успел познакомиться с боевыми качествами девушек и их артистическими способностями. Безрассудную вроде бы, но тщательно просчитанную отвагу. Из двух последних дней общения вынес представление, что они и к магии способны, непонятно только, к какой именно, до чрезвычайности умны и сообразительны, но то, что сказала Марина, а потом и Волынская…
Если любая из них берётся изобразить квалифицированного юриста перед юристами же, с лёгкостью, подходящей для обещания станцевать на балу, – это весьма серьёзно. Тут опять надо думать и думать. О том, как вообще дальнейшую жизнь строить.
– Тогда, господин полковник, – деловым тоном сказала Кристина, входя в роль, – нам бы следовало предварительно обсудить, в каких пределах возможно и прилично торговаться, заранее выяснить, какой ассортимент товаров нас интересует. Мне нужно знать три показателя – реально располагаемая сумма, минимум, к которому нужно стремиться, ну и мой процент со сделки, – скромно добавила она.
Басманов снова засмеялся. Удивительно приятно ему было смотреть на эту девушку, так чётко настроившуюся на волну. Явно ведь развлекается, но до чего убедительно! Он не видел Волынскую в одесской операции, но сейчас в её лице опять отчётливо проступили семитские черты, хотя ни к каким «техническим» средствам она не прибегала, просто мимику изменила, совсем чуть-чуть тональность голоса и глаза… Вот глаза да, заметно потемнели, непонятно, каким образом.
– Я цены на мировом рынке тоже знаю, – с достоинством сказал Ибрагим, – но, наверное, так и вправду лучше будет – торговаться будешь ты, а я только сидеть и надувать щёки, как известный персонаж.
– Ха! Смотрите, потом от жадности не зачахните, когда расплачиваться придётся, – повела плечом и состроила совсем уже выразительную мину Кристина. – Я беру пять процентов от суммы скидки к известным вам ценам… Хотя вы упустили – в этой России и мире цены совсем другие. Но – слово сказано.
– Четыре, – тут же ответил Катранджи, вполне возможно – инстинктивно.
– Тогда в итоге шесть. Иду вам навстречу. По три процента мне и Марине, это будет справедливо. А сколько господину полковнику? – озаботилась она и благосостоянием Басманова.
– Меня в расчёт не берите, я на службе, причём на другой стороне, – с усмешкой отмахнулся Басманов, знающий вдобавок о решении снабдить Катранджи и его «Интернационал» оружием всей линейки по совершенно символическим ценам. Но если Волынская будет выбивать скидки со «среднемировых», подзаработают девочки, и прилично. Только надо будет завтра шепнуть Тер-Исакяну, чтоб подыграл…
Вообще фамилия начальника административного управления штаба Черносредиземноморского флота была давным-давно, как это принято в Русской армии, унифицирована в Исакова, но каперанг любил подчёркивать свою принадлежность к роду потомственных священнослужителей армяно-григорианской церкви, которая как раз и обозначалась приставкой «Тер». И был этот каперанг, что знали только эрудированные члены «Братства», своеобразной реинкарнацией всем известного адмирала Исакова с Главной исторической, по крайней мере, подробности биографии до семнадцатого года у них совпадали. А до погон каперанга и нынешней должности Иван Степанович дослужился сам, за восемь (теперь уже девять) лет. Из мичманов. А всего лишь человек пошёл по той линии, что была ему душевно ближе, а не той, что определилась после его перехода на сторону красных в предыдущей реальности[112].
Басманов вдруг пристально посмотрел на девушек, и они, почувствовав опять «командирский глаз», начали встревоженно оглядывать себя и друг друга в поисках «нарушений формы одежды» и прочих непорядков.
– Это вы так собрались явиться пред глаза встречающих вас представителей Верховного? Возможно, даже генералитета!
Действительно, подсознательно готовясь к первому неофициальному, наверняка тёплому крымскому дню, Марина с Кристиной оделись, нужно сказать, достаточно легкомысленно. И Сильвия им ничего не подсказала, змея подколодная, а Басманову, конечно, перед вылетом было не до того. А сейчас вдруг увидел их свежим взглядом.
Симпатичные платьица, кто спорит, по стилю, цвету, материалу очень даже ничего. По меркам двадцать шестого уже года, конечно, «вперёд моды на вершок», но в целом довольно прилично и может послужить для тамошних дам очередным стимулирующим вызовом, как выражался профессор Тойнби. Но вот то, что в туфлях-босоножках и вдобавок без чулок – это уже ни в какие ворота! Примерно то же, что в РФ в ресторан топлес. Не могла Сильвия такой важной детали упустить, значительную часть жизни прожив в эпоху пуританства. С голыми ногами женщины в СССР начали ходить только в тридцатые годы (и то не от хорошей жизни), а на Западе – в конце шестидесятых, и то не все и не везде.
– Так, барышни. Деловые костюмы с собой имеете? Тогда извольте, пятнадцать минут на всё. Чулки тёмных оттенков – обязательно. А вот так – вечером в город пойдёте. Там эпатируйте сколько угодно.
Валькирии скрылись в кормовом отсеке, а Катранджи налил себе и Басманову ещё по рюмке, выпил, поцокал языком:
– Нет, ну до чего красивы, чертовки! Я сколько смотрю, столько и млею. Вот прямо всех бы в гарем забрал… Невозможно выбирать, да?
Сейчас Катранджи, вполне успешно изображавший русского купца Катанова, от нечего делать приоткрыл Михаилу свою истинную сущность. Действительно, турку, потомку владетельных пашей, хоть и проведшему много лет в студенческой среде Петрограда, до сих пор трудно было отрешиться от генетически определённых свойств личности.
– Ты себе не льсти, Иван Романович. Тебе одной Кристины, если сумеешь её уговорить, до конца дней хватит. И нескучно будет. А про гаремы забудь, не потянешь. А по морде очень свободно схлопотать можешь, если сильно засматриваться на чужие ножки станешь. Хоть бы и на Маринины…
– От вас, что ли? – напрягся Ибрагим.
– При чём тут я? – искренне удивился Басманов. – Скажешь тоже! От Кристины, от кого ж ещё? Так что лови момент, пока обстановка складывается, и моли своего аллаха, чтобы девушка согласилась. Тогда и комиссионные к тебе вернутся, в виде приданого…
– Да ну вас, Михаил, сейчас о другом думать надо, – словно бы даже смутился Катранджи, что выглядело очень странно и неожиданно.
– Об этом всегда думать надо, а остальные дела и подождать могут…
– То-то по вам заметно, о чём вы сейчас думаете…
Начавшийся обмен любезностями прервали вернувшиеся в салон валькирии. Удивительно, сколько всего, кроме оружия и амуниции, они ухитрились уложить в свои станковые рюкзаки и «перемётные сумы». Кто бы подумал, что и полный «комплект для официального приёма на государственном уровне» там поместится, причём так, что и гладить не пришлось. Теперь девушки выглядели «совсем как надо». Высокий класс! От Волынской с Верещагиной было сейчас глаз не оторвать. Красота и элегантность в чистом виде, без примеси сексологии с физиологией. Кристина ещё чуть поработала над собой, почти неуловимо усилив нестандартный левантийский шарм, и не подумаешь, что на самом деле она типичная светловолосая и светлоглазая «паненка».
Марина осталась при своих, просто сделалась чуть постарше (для солидности) и надела очень подходящие к должности юристки очки в очень изящной и очень дорогой оправе. Для начала ХХ века непривычный, надолго цепляющий внимание аксессуар. Тогда дамы носили очки лишь по крайней необходимости и весьма уродливого вида. Чем и хозяек превращали в уродок, вроде Крупской на известной фотографии. А те, что на валькирии, – настолько шикарны и хороши, что непременно войдут в моду и, как всегда, с перебором против оригинала.
В остальном же на них были почти одинакового покроя, на первый взгляд весьма строгие английские костюмы, у Кристины фисташкового цвета, у Марины жемчужно-серого с перламутровым отливом. Чёрт, как известно, прячется в деталях, вот девушки этими деталями и позабавились. Не здесь, конечно, всё было подготовлено ещё в Москве и уточнено в Замке. Юбки чуть покороче, чем носили в двадцать шестом году, как раз настолько, чтобы привлечь внимание. Подобно тому, как в начале шестидесятых советские девушки произвели в стране настоящую революцию, дружно приподняв край юбок на три пальца выше колен. Всего лишь, а сколько шума тогда этот вызывающий демарш произвёл!
Рукава три четверти, немного более глубокий вырез жакетов, ткань блузок потоньше и на самую малость попрозрачнее, тёмно-золотистые чулки с лайкрой, превращающие ноги в отдельное произведение искусства, туфли с каблучками повыше и потоньше, чем носят там, носки заострённые, тонкие ремешки вокруг щиколоток. И, последний штрих – лайковые перчатки, которые можно надеть для полной тонности, а можно и так, в руке держать, по бедру или по другой ладони похлопывать…
– Ну, барышни, вы даёте, нет слов… – восхитился Басманов, а Ибрагим, довольно улыбаясь (на него, кажется, антиэротический предохранитель не подействовал), щёлкнул пальцами в воздухе и поднёс сжатую щепоть к губам.
– Боюсь, и вправду бо-ольшой процент вы, несравненные пери, завтра выторгуете…
– Кто о чём… – достаточно разборчиво, хотя и как бы в сторону, сказал Басманов.
«Буревестник», гудя моторами на реверсе, подрулил к отведённому месту пирса в гидропорту Стрелецкой бухты, как и предполагал Михаил. Там его встречали без помпы, но достаточно почётно – каперанг от флота, полковник от армии и отделение юнкеров Гвардейского флотского экипажа. Плюс надворный советник от гражданского губернатора. Командир гидроплана, получив опосредствованный фитиль от Басманова, тоже выстроил свой экипаж у трапа, сам приняв на себя роль фалрепного, то есть подавал руку или поддерживал под локоть членов делегации при сходе их с гуляющего вверх-вниз борта на бетон причала по короткому крутому трапу.
В двадцати метрах гостей ждали две зелёно-золотистых «Чайки» для почётных гостей, синий «Хорьх» сопровождающих офицеров, две машины дорожной полиции и три бронированных «Днепра» с морпехами в шоколадных беретах, наследниками по прямой тех самых рейнджеров первого призыва, у которых в полку Басманов был почётным шефом. Высшая мера уважения со стороны старморнача[113] или кого повыше.
– Забавляетесь, господин капитан первого ранга? – как бы между прочим осведомился Басманов, приняв рапорт и все положенные почести. – Пыль в глаза пускаете? Кому? Мне или делегации? Стоит ли так светиться? Мы бы и двумя машинами доехали.
Спросил он это специально въедливым тоном, поскольку каперанг уж слишком вытаращился на валькирий. Хотя, казалось бы, чего он ещё в жизни не видел, судя по погонам и орденским планкам?
– Никак нет, у нас это не принято. – ответил офицер, вернув глаза на место и поворачиваясь к Басманову. – Мне приказано, я исполняю… – а в голосе послышалось, – «не приказали бы, в гробу я видел и тебя, и твою делегацию».
Как будто от действительно серьёзных дел человека оторвали и заставили свадебного генерала изображать, не озаботившись при этом вручить соответствующие погоны.
– Представьтесь, каперанг, – попросил Басманов сопровождающего, потому что тот, рапортуя, своей фамилии и должности не назвал, а сам он никогда раньше этого офицера не видел. Да и вообще с флотскими не так часто приходилось общаться.
– Капитан первого ранга Смоляков, Ардальон Игнатьевич. Врид[114] командира броненосца «Три святителя». Приказано встретить, сопроводить и разместить согласно законов гостеприимства. Извините, если что не так.
– Да нет, что вы! Просто я подумал – реклама нам совсем ни к чему. А если кто-то решил, что такой помпой меня удивить можно…
– Прошу прощения, господин полковник, я и сам не сторонник. Но… – Он развёл руками.
Каперанг был лет на пятнадцать старше Басманова, да и по числу нашивок за ранения давно мог числиться в отставке.
– А почему я вас не знаю, Ардальон Игнатьевич? Где каперанг Штейнгауз?
Штейнгауз Отто Леопольдович, прихвативший юнгой ещё турецкую войну семьдесят седьмого года, командовал броненосцем с первых дней воссоздания Югоросского флота. И в отставку уходить не собирался.
– Господин капитан взял трёхмесячный отпуск для поправки здоровья и на той неделе отбыл на воды. Так что пока я за него…
Всё это показалось Басманову достаточно странным. Если командир уехал в отпуск, его обязанности исполняет старший офицер, а не посторонний «врид». Да и молод слишком этот Смоляков, чтобы на такую должность идти. Ему на боевых кораблях служить надо.
Тут следует сказать несколько слов о «Святителях».
До появления дредноутов этот броненосец был одним из сильнейших в мире кораблей, и совершенно непонятно, почему в тысяча восемьсот девяносто седьмом, году зачисления в строй, его оставили в Чёрном море, где для него не имелось достойных противников, а не перегнали на Тихий океан. Корабль неплохо отвоевал Первую мировую, но в девятнадцатом году всё те же англичане, покидая Севастополь под натиском Красной армии, но не желая помочь и белым (кто его знает, как дальше сложится), не позволили флоту уйти в Одессу или даже Батум, взорвали на большинстве броненосцев и крейсеров паровые машины. В Югороссии ветерана, не модернизируя, как «Иоанна» и «Евстафия», до полной боеспособности, более-менее привели в порядок и решили использовать достаточно необычно.
Тут инициативу проявили Новиков с Шульгиным, пользовавшиеся в двадцатом и двадцать первом годах у Врангеля непререкаемым авторитетом и в политических, и в военных вопросах. Не говоря уже о чудом спасённом и назначенным на должность командующего Морскими силами Югороссии Колчаке. Прежде всего, броненосец оказался хорош на роль ключевого узла обороны тогдашней столицы только что организующегося государства. Всё же вооружён «Три святителя» был посолиднее самого мощного берегового форта любого государства той эпохи: четырьмя 305-мм весьма дальнобойными орудиями с хорошей баллистикой и достаточным запасом снарядов, четырнадцатью шестидюймовками Канэ и двумя десятками скорострельных «противоминных» пушек. С учётом новых реалий ему добавили избыточное даже для конца Второй мировой количество универсальных ПВО-ПТО[115] автоматов 37 и 85-мм калибра, плюс несколько десятков неведомых в этом мире счетверённых, спаренных и одиночных пулемётов КПВ и ДШК, способных сами по себе уничтожить в двухкилометровом радиусе на земле, в море и в воздухе практически любую цель, кроме броненосных кораблей, естественно.
Да и бронирован «Три святителя» был уникально для российской морской практики, в развитие своего прототипа «Наварина» – 457 мм главный пояс и 406 мм – башни и рубка. К примеру, русские «дредноуты» типа «Гангут» и «Императрица Мария» были защищены ровно вдвое слабее.
Броненосец посадили на банку напротив Николаевского мыса, и с этой позиции он мог перекрывать огнём входы в Севастопольскую и Южную бухты, весь город и подходы к нему с суши на десять с лишним морских миль.
Последние годы опасность внезапного нападения на Севастополь была сведена практически к отрицательной величине, и команда броненосца-форта, числящаяся за вторым гвардейским флотским экипажем, в большинстве своём несла службу на берегу, сохраняя при этом двухчасовую готовность к занятию мест по боевому расписанию. А постоянно на корабле находились только вахтенный офицер, караульный взвод, расчёты дежурных пулемётов и сигнальной трёхдюймовой пушки на крыше носовой башни. Чтобы в случае чего отразить внезапное нападение вражеских морских диверсантов (буде такие у кого-то из вероятных противников появятся) или воздушный налёт замаскированного под гражданский самолёт, дав время прибыть на боевые посты остальной команде.
Предосторожность, очень может быть, что и излишняя, всё-таки глубокий тыл, и международная обстановка не предвещает ничего внезапного и экстраординарного, но опыт у основателей Югороссии был обширный. И исторический, и личный. Начиная с Порт-Артура. Так что, как выражался один из батарейных фельдфебелей у Басманова, ещё в самом начале Мировой войны, Михаил и фамилию его успел забыть, что-то в гоголевском стиле, «Вискряк не Вискряк, Мотузочка не Мотузочка»: «Хай будэ!»[116].
Универсальный подход к любой почти служебной ситуации – неважно, нужна сейчас та или иная вещь из снаряжения и амуниции или состояние повышенной боеготовности в тыловом вроде бы районе, когда так тянет расслабиться. А вот сказал фельдфебель – «хай будэ», и всё, винтовку в руки, бебут[117] на пояс и – в боевое охранение. Басманов многократно убеждался, насколько правильной была такая жизненная позиция в самых разных обстоятельствах.
А потом, когда из Севастополя уходила в дальние моря, к будущему Форту Росс, «Валгалла», Воронцов посоветовал, «чтобы добро не пропадало», устроить на броненосце нечто вроде полевого штаба филиала «Андреевского братства» в этой реальности. Места на корабле, не предназначенного больше для свободного плавания, хватало – почти половина судовых помещений годилась для намеченного. Адмиральские помещения, салон командира, кают-компания на юте с выходом на кормовой балкон, двадцать шесть одноместных офицерских кают в надстройке, камбуз, буфетная, склады для «сухой и мокрой провизии», и множество других помещений, ненужных для обеспечения единственной оставленной броненосцу боевой функции – артиллерийской.
Должным образом настроенным биороботам парохода, использующим почти неограниченные материальные запасы «Валгаллы», хватило нескольких дней круглосуточной работы, чтобы превратить жилую часть броненосца в этакий плавучий отель, сочетающий береговые роскошь и комфорт с неистребимой морской экзотикой яхты какого-нибудь американского мультимиллионера (отечественные российские олигархи в то время ещё отсутствовали как класс). Яхты Николая Второго «Полярная звезда» и «Штандарт» были оформлены не в пример скромнее.
Причём спланировано всё на «Трёх святителях» было таким образом, чтобы боевой экипаж во время нахождения на корабле – регламентные работы, тренировки «по заведываниям», полномасштабные учения, приборки и т.п. делать приходилось, согласно уставам и инструкциям, – никак не пересекался с пассажирами и обслуживающим персоналом. Вот если настоящий бой, тогда действительно все заботы о покое и комфорте гостей полетят к чёрту и броненосец превратится в то, чем по своей сути и являлся – артиллерийскую платформу, предназначенную единственно для доставки снарядов из погребов к цели, посредством сложнейших механизмов, пушечных стволов, оптики прицелов и, конечно, специально на то обученных людей.
На «Трёх святителях» обычно поселяли высокопоставленных гостей «из центра», военных и гражданских, а в остальное время использовали по собственному усмотрению военного губернатора, коменданта гарнизона и командира над портом[118].
И ресторан там был хорош, укомплектованный лучшими из возможных поваров, и каюты, от обычных одноместных до громадных, по типу адмиральских апартаментов, не уступали номерам в лучшей севастопольской гостинице, без затей названной «Морская». Басманов, кстати, имел здесь собственные, на ключ запертые помещения, жилые и рабочие, но пользовался ими крайне редко, предпочитая виллу возле Гурзуфа или форт на Марморе.
Так что, пожалуй, решение разместить делегацию на броненосце было принято на самом верху, хотя совсем недавно, перед выездом Басманова в Москву, предполагалась Ливадия, для большей приватности мероприятия. Неизвестно, доложил ли генерал Шатилов о происшествии с «Гебеном» Верховному правителю[119], но сам необходимые выводы из происшествия сделал и к совету всего лишь полковника Басманова прислушался.
Вообще между «Братством», полномочным представителем которого Михаил Николаевич неофициально считался, и руководством им же («Братством», а не Басмановым, естественно) созданного государства существовали редкие в истории взаимоотношения.
Югороссию никак нельзя было назвать вассалом, протекторатом, лимитрофом или как-либо ещё на политическом сленге, поскольку она была абсолютно суверенна и не входила ни в какой союз, федерацию или конфедерацию, даже и с РСФСР. Хотя и претендовала на полное правопреемство от «Большой» Российской империи. Жила по собственному усмотрению, ни на кого не равняясь, свободно и управлялась властью, пребывающей в полной симфонии[120] с населением. Получилось нечто вроде аналога современного нам Израиля с его специфическими взаимоотношениями между народом, правительством и армией.
Слишком много пришлось пережить этому населению за годы «настоящей» (в отличие от той, что случилась в мире Секонда и Тарханова) Гражданской войны, чудом выжить на последнем клочке русской земли и каким-то чудом вновь стать гражданами нормального, спокойного, более того – процветающего государства, снабжённого всеми атрибутами «цивилизованности и свободы». Поэтому тем семидесяти или восьмидесяти миллионам «югороссов» (переписи здесь до сих пор не проводилось), кто насмотрелся на прелести военного коммунизма, лишился друзей, родственников, брошенного, реквизированного или экспроприированного в РСФСР имущества, пожил в прифронтовой полосе или на территориях, подвластных всевозможным «правительствам», «радам», «меджлисам» или просто большим и малым «батькам» и «атаманам», нынешняя стабильность была дороже всего. Раскачивать только-только миновавший смертельные рифы государственный корабль желающих в массе населения не находилось. Тех, кто был на это способен, или перебили в ходе завершающих «окончательное оформление границ» боёв, или выслали (в добровольном порядке или насильственно) в РСФСР, в «царство рабочих и крестьян». Иногда к этому полуофициальному наименованию «советской России» добавляли – «плохих рабочих и крестьян-бездельников».
Так вот, для высших руководящих кругов Югороссии дипломатические отношения с «Братством» более всего напоминали таковые с духами предков в роду или племени первобытно-общинной эпохи. А полковник Михаил Фёдорович Басманов, таким образом, принял на себя роль шамана – посредника между «миром людей» и «страной удачной охоты». И аналогия эта было гораздо глубже и точнее, чем могло показаться на первый взгляд.
Прежде всего, в отсутствие на территории Югороссии Берестина, Новикова или Шульгина, по-прежнему сохранявших за собой достаточно значимые государственные должности, «шаман» был единственным в стране человеком, который знал, как общаться с «духами», и имел с ними постоянную, недоступную никому другому связь. Кроме того, что весьма немаловажно, общение это было гарантированно результативным. Служитель ни одной религии не мог похвастаться тем, что его обращение (молитва, камлание) в ста процентах случаев дойдёт до адресата и обязательно будет рассмотрено, с положительной в большинстве случаев резолюцией. Главное – не просить невозможного по технологическим или этическим меркам означенных «духов». А мерки (рамки, границы) Басманов знал.
Ну и как положено во всякой первобытной анимистической[121] религии, культ немедленно оснастился огромным количеством как домыслов, так и всевозможных табу. Главнейшее из них, непременное и обязательное именно для высшего руководства – не обсуждать даже между собой и не рассуждать об истинной подоплёке событий, приведших к Победе Двадцатого года. Это может показаться странным человеку конца ХХ и начала ХХI века, но именно так и было. Девиз Ордена Святого Николая Чудотворца – «Верою спасётся Россия», вот и не следует выходить мыслью за пределы этого девиза. При этом считалось обязательным принимать все предлагаемые «Братством» блага и выполнять его рекомендации (крайне редкие) и просьбы (ещё более редкие – две или три за все прошедшие годы).
То, что «покровительствуемая» или «опекаемая» держава в лице своих руководителей в какой-то момент «возомнит о себе» и пожелает изменить свой статус, или что эти самые руководители поведут себя подобно пушкинской старухе – исключалось полностью. Без всяких высоких материй и тонких политических ходов до Врангеля и всего его окружения была доведена простая, тоже имеющая быть только в сказках мысль – каждый из них при правильном поведении может рассчитывать на неограниченно долгую жизнь без болезней и фактически без старости. В этом лично убедился ещё в двадцатом году сам Пётр Николаевич Врангель, после того как Сильвия в образе жрицы неведомого культа за один сеанс излечила его от тяжёлой сердечной болезни, через несколько лет долженствовавшей привести его в могилу[122].
Все же остальные, непричастные лица, до которых безусловно доходила информация обо всяких странностях, в том числе и межвременных переходах (от тех же офицеров, побывавших и в Москве, и в Берендеевке, и на англо-бурской войне), могли думать, говорить и писать абсолютно всё, что им приходило в голову. Государственная власть и средства массовой информации относились к теме точно так же, как в иных реальностях к трудам Фоменко, уфологии, целителям вроде Кашпировского или филиппинских хирургов и к ясновидцам всех мастей. В итоге и большинство образованных людей придерживались той же позиции, а прочих, «лиц податного сословия», это просто не интересовало.
– Хорошо, Ардальон Игнатьевич. Рад знакомству. Поехали, не будем тут отсвечивать, процедуру взаимных представлений и более близкого знакомства проведём на месте. Не возражаете?
– Не имею оснований, решения принимать мне не поручено, я инструкции и ваши пожелания исполняю…
Молодец каперанг, соображает, что полковник Басманов со своими погонами едва ли не то же, что Государь Николай Александрович. Тот тоже до конца носил «два просвета без звёздочек», однако едва ли какой угодно генерал на этом основании осмелился бы отнестись к его чину всерьёз. Так и с Михаилом Фёдоровичем – все, кому положено, знали, что он, с одной стороны, строевой гвардейский офицер, герой двух войн, многих орденов кавалер, командир и шеф всех спецподразделений Югороссии, а с другой – человек, которому что-либо приказать может только сам Верховный. С прочими старшими офицерами и сановниками державы он общался, как правило, на равных, а в сфере своих служебных прерогатив – вежливо, но непреклонно, невзирая на число звёзд и орлов на погонах собеседника.
Кому нужно, знали, в чём причина такого особого положения обычного, в общем-то, полковника, даже возрастом не выделявшегося на фоне многих других героев Гражданской войны, а все прочие могли строить любые предположения, это не возбранялось, главное – не переусердствовать.
На броненосце понравилось и Ибрагиму, и девушкам, особенно после заверений Сильвии и Арчибальда, что Югороссия недоступна вмешательству враждебных потусторонних сил. А все трое не понаслышке знали и о степени опасности окружающего мира, и о ценности надёжного убежища. «Три святителя» был таким убежищем уже внутри государства, самого по себе бывшего одним из самых безопасных мест на Земле. Вроде неприступной крепости на недосягаемом острове – в этом мире просто не существовало технических средств или спецподразделений, с помощью которых неприятель мог бы проникнуть на корабль и причинить вред его пассажирам, гостям, постояльцам…
В конце ХХ века на ГИП такие вещи имелись, здесь – нет. Триста метров морской воды от набережной до корабля, окружённого сплошной стеной, от поверхности до дна, противоторпедных сетей, сверху донизу обмотанных «Егозой» с бритвенно-острыми лепестками, несколькими слоями спиралей Бруно. В клубках колючей проволоки прятались многочисленные масс-детекторы и датчики тепловизоров, настроенные именно на подводных пловцов и не реагирующие на рыбу и дельфинов. В придонный ил были погружены мины типа сухопутных «МОН» и «лягушек», в случае инициации запалов способные поражать живую силу осколками и гидравлическим ударом, безвредным для самого проволочно-сетевого заграждения и корабля.
А дальше отвесный восьмиметровый надводный борт и бдительно несущая службу вахта. При поднятых трапах на броненосец не смогли бы проникнуть ни прославленные итальянские диверсанты из десятой флотилии МАС[123], ни герои нынешних сериалов про «Морских дьяволов». А дальнобойных ракет с термобарическими боеголовками, реактивных самолётов-носителей и даже обычных сверхмалых подводных аппаратов с дистанционным управлением манипуляторами здесь пока не придумали.
Катранджи как главу делегации разместили в бывшем адмиральском салоне, приведённом в соответствие с нормативами парижского отеля «Риц» или какой-нибудь «Рэдиссон Славянской». Напротив, по другую сторону коридора, ведущего в кают-компанию, в бывшей трёхсекционной (салон, спальня, кабинет) каюте командира поселились Кристина с Мариной. Басманов ограничился всего лишь двухкомнатным номером, бывшей каютой старшего офицера.
– Мы в город поедем? – спросила Марина у Басманова, когда размещение было закончено и девушки вышли на широкий кормовой балкон, откуда отлично была видна Нахимовская набережная, за последние пять лет превратившаяся в шикарный променад, ничуть не хуже, чем в Ницце, например. – Ужасно хочется посмотреть своими глазами, как вы тут живёте…
Глава девятая
…В словах девушки Басманову послышалось невысказанное – «Как ТЫ тут живёшь?» и даже – «Как мы с тобой здесь жить будем?». Отчего-то ему казалось, что всё уже решено, нужно только найти подходящий момент и закрепить словами то, что, как Михаил надеялся, чувствовали они оба.
– Это уж как ваше желание будет, – ответил ей Басманов. Они впервые оказались с Мариной вдвоём, вообще впервые, не только с момента, как она почувствовала возникшее у неё душевное к полковнику влечение, а он, в свою очередь, это заметил и ощутил самый первый намёк на готовность ей ответить.
– Я связался с министром, ответственным за работу с нашей делегацией, он согласился, что гораздо удобнее для всех будет начать переговоры завтра в десять утра, в помещении Офицерского собрания флота. Решили, там самое подходящее место, по многим причинам. Таким образом, Марина Васильевна, сегодняшний вечер в нашем полном распоряжении. У меня есть несколько, так сказать, полуофициальных предложений по «культурной программе», но решать, безусловно, вам. Вот подойдут Ибрагим и Кристина Станиславовна, всё и обсудим.
Марина, безусловно, предпочла бы какой-то вариант времяпрепровождения только вдвоём с Михаилом, хотя бы даже в театр пойти, на местный бомонд полюбоваться, но понимала, что это едва ли будет правильно понято. Прежде всего Кристиной, которая ни в коем случае не желает оставаться наедине с Ибрагимом. О чём только что, в очередной раз переодеваясь в каюте, ей сказала.
– Знаешь, в нём есть нечто такое, перед чем мне трудно устоять. Я почти точно знаю, что если он будет слишком настойчив, я не устою. Хотя совсем не хочу этого. Понимаешь?
Марина не понимала, у неё мысли были заняты совсем другим, да и по темпераменту они сильно отличались.
– Это один раз уже почти случилось, – говорила Кристина, прикидывая перед зеркалом, какое из трёх имевшихся в её резерве платьев подойдёт для сегодняшнего вечера. – Я один раз уже лежала перед ним, в самом приглашающем виде, и сопротивляться совершенно не могла, как в дурном сне. Он был совсем готов, во всей красе, а я вся дрожала, чувствовала, что не хочу, не должна и в то же время ждала с нетерпением. Понимаешь?
Марина опять отрицательно мотнула головой.
– Впрочем, тебе и не нужно понимать. Поэтому не оставляй меня наедине с ним, пока я сама не попрошу. Совершенно не нужно, чтобы он меня поимел, как истинную секретаршу, на ближайшем диване, а то и прямо на полу… И я смертельно боюсь, что мне это может понравиться…
Марина от удивления даже замерла, прекратила подводить веки тушью по здешней моде. Внимательно посмотрела на подругу, на её подёрнувшиеся тем, что называют «поволокой», глаза. Действительно…
– Так поставь себе блок, и всё на этом…
Любая из них могла ставить антиэротические преграды не только снаружи, но и внутри себя. Решила, допустим, что именно в сегодняшний вечер, или всю неделю, или даже год никакие чувства и желания в тебе не возникнут – и пожалуйста, этих проблем у тебя не будет. Словно у евнухов византийских императоров, занимавших высшие государственные и военные посты. При отсутствии «основного инстинкта» все силы, мысли и энергию можно направить на решение интеллектуальных задач. Во всей этой технологии один минус – нельзя назад отыграть: решила быть фригидной месяц, так все тридцать дней и будет, а иначе какой же смысл? Как с алкоголиком получится – железно завязал, но строго до момента, когда бутылку в шаговой доступности увидел.
И пока этот блок стоит, никакой соблазнитель или насильник с ней ничего не сможет поделать. Будет сопротивляться с применением всех своих сил, что означает в случае безрассудной настойчивости пациента самые тяжёлые последствия, вплоть до смертельного исхода. Быстрого или мучительного, с затяжной агонией – это уж как покусившемуся повезёт.
– Вот ещё! Я девушка эмоциональная. У меня же и другой вариант может подвернуться, поинтереснее. И что тогда? Просто знаю я этих азиатов. Уж кому-кому, а Ибрагиму – только после свадьбы и венчания.
– Так он же мусульманин?!
– Сильно захочет – перекрестится. Евреи вон через одного выкресты – и ничего…
– Так ты вправду готова за него пойти? – с наивностью двадцатилетней девушки, имеющей о мужчинах лишь теоретическое представление, спросила Марина.
– А что такого? Для общего дела ничего лучше не придумаешь…
– А любовь и всё такое?
Кристина коротко и как-то суховато рассмеялась.
– Любовь? А не абстракция это, для таких, как ты, придуманная? На Сильвию посмотри или на Татьяну Тарханову. Где там «любовь»? А замужество сильно мешает? Зато все тылы прикрыты.
– Ну… – Марина, с её нынешним романтическим настроем, никак не могла разделить подобного циничного отношения к самому святому.
Сначала на балконе появился Катранджи, а минут через пять после него и Кристина. Сейчас обе девушки были в светлых летних платьях, подходящих и для прогулок по бульвару, и для ресторана, в крайнем случае – и для театра. Дуновения бриза то и дело прижимали лёгкую ткань к девичьим телам, подчёркивая те или иные их достоинства.
– Только, барышни, – сказал Басманов, – шляпки вам нужны обязательно, с короткими вуалетками, без них так же неприлично, как без чулок и этих… – Он замялся, не желая вслух произносить в его мире неприличное слово «бюстгальтер». В мужских устах неприличное, разумеется, если его при женщинах произносить, как и многое другое, впрочем. Как говорил один знакомый капитан второго ранга, литератор, кстати: «Можно брать в руки сокровенные части тела баронессы, но нельзя назвать их своим именем, хотя эти же слова произносятся утром вслух на палубе при пяти сотнях матросов…»[124] Девушки поняли, засмеялись, их военная служба приучила любые слова не краснея выслушивать.
– А в Царьграде же обошлись, – привычно стала напоперёк Кристина, не потому, что к шляпам имела неприязнь, а из принципа.
– Там вы на людях не появлялись, кроме как в ресторане…
Пользуясь случаем, Басманов тут же и прочитал гостям небольшую лекцию о нравах и обычаях здешних мест и их аборигенов. Как всякий гвардейский офицер, он был полностью в курсе всего, относящегося к жизни и света, и полусвета[125]. Предварительно он послал старшую над каютными горничными, профессионально разбирающуюся в предмете, в ближайший галантерейный магазин – приобрести для дам нужные предметы, сообразно внешности и одежде каждой. В цене велел не стесняться.
– Я так понимаю, что в посещении ресторана для вас никакого интереса нет, – начал Басманов, и Кристина тут же вставила: – Какая проницательность!
Марина бросила на неё негодующий взгляд, но полковник не отреагировал.
– Просто кататься по окрестностям – банально. В театрах сейчас ничего достойного внимания – не сезон. Зимой, бывает, от большевиков их «р-революционные театры» приезжают. Бывает забавно. Особенно когда «старый режим» обличают…
– И у вас такое позволяется? – удивилась Марина.
– А почему нет? Разагитировать они никого не разагитируют, а с художественной точки… Я недавно «Мистерию-буфф» Маяковского смотрел. Глупо, но впечатляет. Можно в варьете направиться, тут бывшая питерская «Бродячая собака» круглогодично гастролирует[126], но, на мой взгляд, вам бы интереснее посетить какой-нибудь бал, суаре или нечто в этом варианте. В высшем свете, так сказать, повращаться. Здесь постоянно у кого-то организуется. Вот, только на сегодня… – Он достал из кармана довольно приличную пачечку пригласительных билетов, переданных ему Смоляковым.
– Так – супруга начштаба флота графиня Молас даёт приём по случаю шестнадцатилетия своей дочери Анны. Это не советую, скучно будет. Вот поинтереснее – вечер поэзии у гражданского вице-губернатора. Там веселее, «с подачей прохладительных и иных напитков», но к концу поэты непременно переберут и устроят скандал. Это… это… это… – полковник быстро перебирал приглашения, зная, что сейчас лишает очень многих уважаемых людей великолепной возможности утереть нос не менее уважаемых, приняв у себя таких гостей. А куда денешься – любой выбор есть насилие над чем-нибудь, и стоит всё-таки отдать предпочтение собственным интересам перед ложно понятым альтруизмом.
– А сюда бы стоило заглянуть, – Басманов задержал в руках глянцевую картоночку. – У Симбирцевых сегодня «детский крик на лужайке»…
– То есть? – не поняла Волынская. Катранджи просто слегка усмехнулся. Он хоть и турок, за время Петроградской жизни усвоил некоторые эвфемизмы, принятые в свете.
– Это означает достаточно раскованное мероприятие на свежем воздухе, на даче в данном случае. Предполагаются танцы, подвижные игры и всё сопутствующее. Само собой – вечерний чай (из книги Елены Молоховец и других источников девушки знали, что в это время «вечерний чай» означал «собрание знакомых для дружеской беседы, которая не продолжается далеко за полночь. Поздний вечерний чай, разливаемый хозяйкой, может заменить и ужин, к нему подаётся десять-двенадцать видов холодных закусок, пять-шесть сортов вин, ликёров, пуншей и коньяков, а также и сладкое»[127]). Детей точно не будет, это просто к слову, из Бальмонта, кажется – «Будьте как дети».
– И ещё песня в другой России скоро появится: «Мы будем петь и смеяться, как дети, среди великой борьбы и труда…» – вставила мельком Марина.
– Видать, они там на голову больные, – предположил Басманов. – В литейном цехе хорошо смеяться, в листопрокатном и попеть можно… – и продолжил: – А Симбирцевы – это весьма почтенная семья, авторитетная в Крыму, и не только. Он – инженер, статский советник по министерству путей сообщения, совладелец Юго-Западной железной дороги[128]. Жена – очаровательная дама, профессиональная меценатка. Рекомендую принять именно их приглашение. Узнаете много нового и интересного.
– Старые, наверное? – сморщила нос Кристина.
– Ему – лет сорок, ей – не больше тридцати, но никто не рискует уточнять. Так поедем? Молодёжи тоже много обычно бывает. Многие романы так завязываются…
– С удовольствием, – кивнул Ибрагим. Его сразу заинтересовал хозяин. Собственник железной дороги – это по-любому серьёзно и всегда заслуживает внимания. Девушкам же куда интереснее показалась возможность сразу познакомиться с новым миром изнутри. Что может быть лучше? Оказаться на вечеринке «белыми воронами» они тоже не опасались – иностранкам многое позволено не знать, а общение с Сильвией, Ларисой, Майей, Натальей Воронцовой научило их многому такому, что здесь пока неизвестно.
На официальном уровне Югороссии ни для РФ, ни для Империи по понятным причинам не существовало. С самого начала так повелось и с Антоном было обусловлено – кроме рыцарей «Братства» и некоторых избранных югороссов, перемещаться через «границу» не позволялось никому. Только вот сейчас наметились новые веяния.
– А как туда принято одеваться? – встревожилась Кристина.
– Как есть, так и подойдёт. Это ведь загородная дача, так что женщинам и теннисные туфли допускаются, мужчинам без галстуков можно. Но это и все послабления, – Михаил развёл руками. – Не XXI век здесь.
Времени до назначенного часа было достаточно, Михаил предложил прокатиться по окрестностям в открытом автомобиле и заодно продолжил свою познавательную беседу о международном, экономическом и социально-политическом положении Югороссии, чтобы гости не попадали впросак каждую минуту, беседуя с незнакомыми пока людьми. Хоть ты из Парагвая будь, а основные-то константы мировой геополитики знать полагается, раз валькирии не выбрали себе роль сестричек-хохотушек, раз и навсегда прекративших своё образование, отсидев по три года в трёх первых классах пансиона «условно-благородных» девиц.
…Прежде всего приняли к сведению, что вокруг сейчас третье сентября тысяча девятьсот двадцать седьмого года. А о «двадцатом пятом» те, кто был осведомлён, говорили просто для обозначения реальности. Именно в этом году все проблемы послевоенного «реконструктивного периода» были решены, и страна начала жить как нормальное благополучное государство.
Примерно так же Азимов в «Конце вечности» не говорил ни о странах, ни о конкретно-исторических ситуациях, а просто о столетиях. «Четыреста восемьдесят второе», допустим, где жила возлюбленная Харлана. «Оно характеризовалось тем-то и тем-то» и достаточно, к чему лишние подробности.
В Крыму двадцать седьмого года стояла чудесная пора начинающейся южной золотой осени. Небо густо-синее, без единого облачка, бриз с моря, пролетая сквозь многочисленные частные сады и парки, а также большой земский Ботанический, напитывается запахами всевозможных кустарников и цветов, экзотических и эндемичных. Политические горизонты вокруг Державы после событий двадцать четвёртого года[129] столь же ясны, как горизонт физический, очерчивающий мерно колышущееся, хотя и штилевое море на юге.
Этот год, кстати, двадцать седьмой – тот самый, в котором концессионеры искали свои стулья. И в РСФСР жизнь примерно походила на описанную соавторами, жившими и здесь не в югоросской родной Одессе, а в Москве, как в прошлой реальности. Не так уж глупо они поступили, хотя и обвиняли их в этом многие, равно как и в предательстве. Всё же Москва есть Москва, и хорошие писатели, верно уловившие дух времени, жили там получше, чем их коллеги в Югороссии, где таковых было гораздо больше реальной потребности. «Оставшимся с народом» платили золотом и бонами «Торгсина», за казённый счёт посылали за границу на несколько месяцев, для ведения пропагандистской работы среди тамошней «левой» интеллигенции.
Ильф с Петровым устроились у большевиков примерно как в нашем мире вовремя вернувшийся в СССР из эмиграции Алексей Толстой. Дачи, «буржуйские» квартиры в центре, почти как у профессора Преображенского, личные автомобили. Но, правда, они, как и Алексей Толстой, писать действительно умели. На мировом уровне, тот же «Гиперболоид» на голову превосходил любые поделки западных фантастов двадцатых годов. И тут же – «Петр Первый», «Хождение по мукам». Лариса, контролировавшая культурную политику ВКП (б), внимательно следила за любимыми авторами, и её попечением Ильф уже проходил профилактический курс лечения от туберкулёза. Так что можно было надеяться, что ещё лет тридцать после года своей безвременной кончины он проживёт. И Петрову не придётся погибать на фронте в сорок втором, здесь той войны точно не будет. Так что от соавторов здесь можно было ждать в ближайшем будущем те же «Двенадцать стульев», и вряд ли сильно отличающиеся от оригинала. Факт существования Югороссии только подбавит «перчика» в сюжет. В сатирическом, естественно, ключе. Лариса даже подумывала, забавы ради, подарить писателям их же книгу, издательства «Земля и фабрика», Москва, 1928 г. На презентации местного варианта.
Троцкий ввёл у себя в РСФСР НЭП сразу же, как только получил власть. Регулярных, весьма тайных дотаций из Югороссии, вместе с доходами от широко практиковавшихся иностранных концессий и экспорта «возобновляемых ресурсов» вполне хватало, чтобы не спеша налаживать в стране Советов приемлемую для неизбалованного русского человека жизнь. А избранным пайки и квартиры выдавались такие, что купить просто так, «за свои», – никаких гонораров не хватит.
ВЧК, уже переименованная, как и предложил некогда Левашов Троцкому, в ОГПУ, под контролем его, Ларисы, бывало – и самого Шульгина, руководимая полностью прикормленным и перевоспитанным Аграновым, занималась только тем, чем и положено заниматься тайной полиции в приличном государстве. Причём ОГПУ было именно «тайной» на 90 %, форму носило и по кабинетам сидело очень небольшое число людей. А все остальные выполняли свои функции «по совместительству», и любой инженер, слесарь, бухгалтер, завскладом или, наоборот, к нему обращающийся снабженец из соседней области мог оказаться оперсотрудником экономического отдела ГПУ. А отдел «экономический» не потому, что занимается финансовыми вопросами Управления, совсем напротив – экономическими преступлениями в масштабах от артели инвалидов до Совнаркома Республики.
Это Шульгин с Левашовым так придумали. Ещё в двадцатом году Олег, воспитанный отцом – твердокаменным коммунистом, резко возражал против идеи помощи белым против красных. Но дружба возобладала над догмами, и Левашов согласился поэкспериментировать с конфедерацией белой и красной Россий. Тем более договорились, что и Врангель, и Троцкий будут плавно и аккуратно приведены к некоему общему знаменателю. Но прежде – никуда не денешься – белые должны свою половину партии блестяще выиграть, а красные при этом как бы и не проиграть. Справились, мир заключили, под интересным, лично Львом Давидовичем изобретённым обоснованием, на что он был большой мастер: – «Добрый мир с Врангелем (который тоже демократ, но несколько иного толка) гораздо лучше худой ссоры с ним же. Бывшие враги всегда лучше бывших друзей, и вообще, исходя из диалектики, враг во многом лучше друга, ибо враг предать не может, а друг – сплошь и рядом. Враг может эволюционировать в друга, а друг – только во врага, что не в пример хуже».
– Это, получается, мы теперь и у себя хотим в гораздо больших масштабах повторить уже обкатанную здесь программу? – спросила Марина.
– Выходит, так, только обстоятельства там и тут немного разные. Белые с красными действительно непримиримыми врагами были, кровушки море пролили, а РФ с Империей что же различает? Ничего, в общем, кроме вопроса, кто в конце концов главнее будет…
– Это разве обязательно? – вдруг спросил Ибрагим, до этого заинтересованно слушавший. – Я вот надеюсь, что российский Президент, Император и я как-нибудь сумеем поделить мир без крови и скандалов…
Басманов повернулся к Катранджи, глядя на него, как на редкостный экземпляр антропологического музея.
– Вы трое, может, и поделите. А после? Все не вечны, особенно вы, Иван Романович… – сказал он с едва-едва уловимым презрением гвардейского офицера к бандиту, хотя и крайне цивилизованному. Катранджи эта интонация не оскорбила, возможно, и наоборот.
– Ваши слова да Богу с Аллахом в уши, Михаил Фёдорович, чтобы на протяжении наших жизней всё сложилось, а что потом…
Он особенным образом сложил руки перед грудью, сделал подобающее восточному мудрецу лицо:
И хитровато покосился в сторону Волынской.
Басманов предпочёл свернуть тему и продолжил свой «краткий очерк по истории современности».
Разумеется, о повторении сталинской коллективизации и того же типа индустриализации в «красной России» теперь и речи не шло, как и о небрежно забытой «теории перманентной революции». Достичь бы, как говаривал полувеком позже Дэн Сяопин, «средней зажиточности», и хватит пока, главное, что пролетариат всё же получил, впервые в истории, политическую власть! Пусть пока и «в одной, отдельно взятой стране». Эта РСФСР ни с кем воевать не собиралась, не та в Европе обстановка, и «коммунизм» можно было строить тоже по-китайски, не к конкретной дате, вроде двадцатилетия Октября, а в бесконечной перспективе.
Зато в Югороссии дела обстояли совершенно иным образом. Всего за семь лет новообразованное государство превратилось в самую богатую и благополучную страну Европы. Да и с САСШ можно было потягаться. Там, конечно, пятнадцать миллионов автомобилей и валовой продукт намного больше, так зато в Югороссии нищих нет, таких, как в фильмах с Чарли Чаплиным показывают. И гангстерских войн, и кровавых разборок между профсоюзами и капиталистами. Один думский деятель с трибуны как-то весьма метко заявил: «В Югороссии с голоду умереть может только тот, кто от длительного запоя потерял способность закусывать».
Удивляться тут нечему. Югороссия составилась из самых богатых и благополучных территорий бывшей Империи – почти вся будущая Украина, то есть в основном Новороссия, Центральная чернозёмная область, Донбасс, области войск Донского, Кубанского, Терского, Уральского, Астраханская, Ставропольская и Царицынская губернии, всё Закавказье, треть азиатской Турции (ныне – Западная Армения, включающая Трапезунд, Эрзерум и озеро Ван), плюс – Царьград и Зона проливов. Мало того, кроме природных ресурсов, новообразованной республике достался мощный и весьма современный промышленный потенциал, наиболее трудоспособное и ориентированное на личный успех население, в дополнение к которому со всей европейской России и даже западной Сибири хлынули в эти благодатные края миллионы (буквально!) представителей самых культурных и образованных сословий Империи, в том числе множество инженеров, учёных, университетских и гимназических педагогов…
И, наконец, Югороссия сумела обеспечить себе, с одной стороны, естественные, с другой – надёжные и легко охраняемые границы. От устья Урала с Гурьевом новая казачья оборонительная линия шла почти по прямой на северо-запад, до Царицына (включительно), оттуда граница поднималась вверх, охватывая Воронеж, потом почти прямо на запад, между Курском и Орлом, через Чернигов к Житомиру, и вертикально вниз, по линии Винница – Кишинёв – Измаил.
Румыния и Болгария никакой опасности не представляли, поскольку их сухопутные армии насчитывали ровно по пять пехотных дивизий без тяжёлого вооружения, расквартированных приближённо к западным границам. Таковы были условия послевоенного «урегулирования» взаимоотношений между двумя «региональными сверхдержавами», проведённого под патронажем Югороссии и невмешательстве Антанты, сильно выбитой из колеи поражением, понесённым Англией и союзниками в Чёрном море и Проливной зоне в двадцать первом году.
Владение Дарданеллами, Мраморным морем, Царьградом и двадцатикилометровой ширины «полосой отчуждения» полностью гарантировали безопасность с этого направления. Теоретический неприятель (та же Великобритания, потому что Антанта в двадцать третьем году благополучно приказала долго жить, не выдержав англо-французского конфликта из-за делёжки германских репараций и контроля над Руром) мог напасть на новые русские территории, только используя Грецию в качестве плацдарма, а оборудовать его там – дело долгое. Тем более что по договору с Ататюрком Югороссия в любой момент могла поддержать турецкие претензии на Кипр и острова Архипелага, что служило надёжной гарантией против всяких неожиданностей. Да и сама по себе Греция была в большом долгу перед русскими за поддержку в аннексии балканских провинций бывшей Австро-Венгрии.
Дополнительным «стабилизатором» на юге Европы работала полностью пророссийская Сербия, которой на всякий случай настоятельно не порекомендовали создавать мини-империю в виде «Королевства сербов, хорватов и словенцев», памятуя, чем кончилось подобное в другом мире.
То есть на этом направлении югоросская дипломатия поработала неплохо, завязав такие «гордиевы узелки», что не скоро найдётся новый Македонский, чтобы их разрубить без тяжёлых для себя последствий.
С красной РСФСР действовал сугубо тайный конфедеративный договор, предусматривающий в случае нападения внешнего врага взаимную поддержку, координацию действий и даже создание Ставки союзного главнокомандования. Но это было известно только на самом высоком уровне, а «трудовой народ», в царстве Троцкого преимущественно, по-прежнему считал «буржуйскую державу» историческим недоразумением. «Вот если б Ильич дожил, никогда б такого не допустил!» – очень распространённая фигура речи, особенно среди «потомственных подсобных рабочих».
Мало кто знал (кроме тех, кому по должности положено) о том, что высылаемых из Югороссии «асоциальных элементов» в РСФСР принимали с большой охотой. Этот контингент массово пополнял «трудовые армии»[130], позволяя тем самым снизить репрессивную нагрузку на «коренное население», то есть замаскировать экономический характер якобы политического террора.
Курируемой «товарищем Ларисой», то есть попросту Ларисой Левашовой, в девичестве Игнатовой, советской пропагандистской машине не составляло большого труда поддерживать в обществе резко антиюгоросские настроения, рисуя её таким же средоточием греха и порока, как в годы «холодной войны» изображался Западный Берлин, к примеру. И собственные впечатления немногих лично там побывавших, и наличие многочисленных потребителей продукции югоросской промышленности ничего в нарисованной агитпропом картине не меняли. «Зато там негров линчуют», то есть у пролетариев прибавочную стоимость отнимают и культивируют потогонную систему Тейлора».
А на вопросы некоторых въедливых товарищей с той и этой стороны – как же с такими настроениями возможен будет грядущий военный союз антагонистов – Лариса легкомысленно отмахивалась. Тем, кто был в курсе параллельной истории, отвечала: «А что, долго нужно было людей перевоспитывать, когда Гитлера в тридцать девятом другом объявили?» Прочим же советовала подумать о чём-нибудь более полезном для дела Мировой революции, которая обязательно наступит.
Тут она изображала себя троцкисткой куда большей, чем любой Бронштейн.
Вообще, некоторые эпизоды жизни Ларисы в красной России заслуживают отдельного романа. Марина и Кристина в своё время слушали её увлекательные рассказы, в которых правда была совершенно неотделима от вымысла и густо подсолена изящной эротикой, оттого их так и тянуло в эти загадочные края.
Басманов тем временем уже перешёл к политэкономии сего искусственного, но отнюдь не химерического мира. В чём-то был он более реален, чем даже ГИП, потому и рассматривался в качестве «Крепости последней надежды».
Само собой, в названных условиях любое государство, имевшее Югоросский потенциал, восстановилось бы от военной разрухи быстрее среднеевропейских темпов (как Чехословакия в нашем мире), но тут ведь было совершенно уникальное сочетание факторов. Возможность получать золото и прочие ликвиды в неограниченных количествах могла бы легко привести к «испанской болезни»[131], но здесь – и в «Братстве», и во врангелевском правительстве – подобрались люди умные и знающие историю. Слитки и монеты поступали в экономику в тщательно просчитанных на компьютерах Замка количествах, удерживая на нуле инфляцию в Югороссии и обеспечивая лишь самые необходимые капиталовложения за рубежом.
Источником экономического благосостояния республики являлся почти исключительно экспорт высокотехнологичной и фактически уникальной продукции, в основном автомобилей, самолётов, лёгкого стрелкового оружия, опережающих общеземной уровень лет на десять-пятнадцать, не более, чтобы не создавать бросающихся в глаза анахронизмов. Кроме того, Югороссия лидировала в области продвижения на мировой рынок продукции престижного потребления, стиль которого сама же и формировала. Это было совсем нетрудно, зная тенденции мировой моды, гламурного образа жизни, технической эстетики и эргономики на полвека вперёд.
Три года назад английская разведка вплотную подобралась к разгадке «русского чуда», только на последний шаг воображения не хватило. А так очень грамотные специалисты, изучив несколько сотен экземпляров попавших к ним в руки пулемётов «ПКМ» и карабинов «СКС», отметили необъяснимую странность – все образцы были идентичны. То есть совпадали вплоть до царапин, заусенцев и микрораковин даже на внутренних сторонах деталей. Сразу объяснения этому не нашли, а потом, после провала организованного «Системой» московского путча и гибели Сиднея Рейли, тема как-то сама собой забылась[132]. У других людей появились другие приоритеты, а некоторым, особо досужим, помогли избавиться от всех вредных мыслей сразу.
Не повторяя советских ошибок, югороссы патентовали каждый узел, чуть ли не каждый болт поставляемых на экспорт изделий. И никому в голову не могло прийти, что продающиеся только по предварительной записи «Днепры», «Уралы», «Хопры» и «Доны» имели своими прототипами сконструированные в Штатах и Германии пятнадцатью годами позже «Доджи», «Виллисы», «Харлеи» и «БМВ». Правда, последние два года пошли с конвейеров пяти новых автозаводов уже собственные легковые модели на базе «Победы», «ЗиМа» и даже вполне эксклюзивные «Чайки».
Одновременно специально организованное на базе бывшего военно-технического комитета Генштаба полувоенное Управление перспективного развития скупало по всему миру, где явно, где тайно, патенты, представлявшие реальный интерес. Либо для внедрения полезных изобретений, либо для пресечения ненужных направлений прогресса в чужих странах. Для того имелись особые списки, инструкции и рекомендации, поступавшие в управление извне и регулярно обновляемые и дополняемые.
В целом Югороссия в этой реальности заняла весьма специфическую «экологическую нишу», похожую на ту, что занимали в шестидесятые-восьмидесятые годы ХХ века Главной исторической последовательности Япония, ФРГ, США, Франция и Италия, вместе взятые. Конечно, с неистребимой российской спецификой, вроде стопроцентной обеспеченности собственными сырьевыми ресурсами и поражающей воображение оригинальностью мышления инженерно-конструкторского корпуса.
Об уровне развития сельского хозяйства даже нет смысла и говорить. Местное кулачество и казаки, которыми являлось, по сути, всё сельское население страны, снабжённое техникой, удобрениями, передовой агротехникой и фактически беспроцентными кредитами, производило продукции в несколько раз больше потребностей собственного населения, поэтому экспорт, ориентированный в основном на РСФСР и Западную Европу, обеспечивал не только финансовый, но и политический эффект. Уцелевшие крестьяне там перешли на натуральное хозяйство, прочие же стремительно люмпенизировались.
В Германии, кстати, сейчас творилось примерно то же, что описано Ремарком в «Чёрном обелиске». Суперлиберальный «Веймарский» режим, вынужденный выплачивать гигантские репарации Антанте, был явным образом не в состоянии хоть как-то стабилизировать экономику. Если бы не постоянный займы и дотации Югороссии (при негласном, но строгом политическом контроле), там давно совершилась бы или коммунистическая, или нацистская революция.
К некоторому удивлению «Братства», Врангель и его правительство во главе с бессменным премьером Кривошеиным оказались вполне вменяемыми, государственно мыслящими и обучаемыми людьми. Уже первая экономическая программа Кривошеина, принятая ещё на ГИП весной двадцатого года, была весьма реалистична и могла сработать, если бы сам белый Крым не был обречён. Здесь всё получилось, особенно при постоянной поддержке и корректировке курса по рекомендациям «Братства». И поставках всего необходимого, в основном в виде идей, технической документации, технологий и натурных образцов. В общем, получился гибрид ленд-лиза и плана Маршалла, но без иждивенчества. Новиков с Шульгиным в полной мере учитывали опыт СССР в отношениях с союзными республиками, странами «народной демократии» и «идущими по некапиталистическому пути».
Фактически новое российское государство уже держало остальной цивилизованный мир за горло, только никто этого ещё как следует не осознавал. Однако стоило возникнуть реальной угрозе, с чьей угодно стороны, пальцы можно было сжать, с разной степенью плавности. Врангель и его окружение прекрасно осознавали это обстоятельство, знали, кому они обязаны, и представляли, что случится, если они или их преемники начнут вести себя неправильно. Так что лояльность югоросской власти и значащих элит была стопроцентной, тем более что Шульгин, Новиков, Берестин, да и сам Басманов занимали, пусть скорее номинально, весьма важные посты в спецслужбах и высшем военном руководстве.
А сейчас наметились новые направления во внешней и внутренней политике – экспансия на якобы навсегда захваченные Западом плацдармы, и опять с использованием инноваций. То есть создание международной банковской сети с абсолютно демпинговыми процентными ставками, организация игорной индустрии на государственном уровне, превращение крайне слабо развитого тогда международного туризма в полноценную отрасль экономики. За пять следующих лет планировалось превращение всего черноморского побережья, от Одессы и Крыма до Батума, в одну сплошную «Русскую Ниццу», доведение до высших стандартов Кавказских Минеральных Вод и горных курортов Теберды, Архыза, Бакуриани… Достаточно перспективным представлялось и планируемое на более отдалённую перспективу курортно-туристическое освоение Каспийского побережья.
За полчаса с небольшим полковник раскрыл гостям множество государственных тайн высших приоритетов, зато теперь и Ибрагим, и валькирии имели достаточное представление о стране, в которой им довелось очутиться волею судьбы и старших командиров.
Как там Кристина – по ней не поймёшь, а Марина уже испытывала сильное желание остаться здесь надолго. Не навсегда, разумеется, очень много интересно и в других параллелях, уже освоенных и только теоретически представимых. Приобрести бы скромную виллочку, вроде кисловодской дачи Ларисы, где-нибудь неподалёку от Ялты… О том, что именно таковая уже имеется у Басманова, она пока не знала.
– А сверхзадача? – дослушав познавательную лекцию, проницательно спросил Катранджи. Он хорошо понимал, что всё, о чём говорил полковник, – это всего лишь средства. Догнать по жизненному уровню подданных князей Гримальди, наследственных владетелей Монако и Монте-Карло – это, конечно, интересно, но зачем? Добиться, чтобы каждый югоросс ел вместо селёдки сёмгу, вместо кур – фазанов, и пил не отечественную «казёнку», а исключительно мальвазию какую-нибудь – можно, но бесперспективно в рассуждении экзистенциальном.
– Вообще говоря, – после краткого раздумья ответил Басманов, – главная цель развития Югороссии примерно та же, к какой стремились большинство Романовых – создание в Европе обстановки, чтобы некому и не за что было воевать. Тут идея в том, чтобы обеспечить невозможность возникновения антироссийских союзов и коалиций. Очень хороша в этом случае система исключительно двухсторонних и, как правило, кабальных для наших «союзников» договоров. Ну и поддержание всех видов сепаратизма и ирредентизма[133], желательно одновременно.
– И даже в этом случае – что дальше?
– Дальше? Можно будет подумать о воссоединении с РСФСР. Вот уже лет на двадцать перспектива имеется. А кому этого мало – междупланетными перелётами можно будет заняться… Как Колумбу в Америку сплавать…
Видно было, что его столь далёкие перспективы не заботят. Вполне естественно – это когда древний Рим упёрся в географические и интеллектуальные пределы своей Ойкумены, он и покатился к своему упадку и гибели. А тут ещё в первой своей «Пунической» войне»[134] югороссы победить не успели, только что по-человечески жить начали… Если по Гумилёву, то у нового государства впереди лет пятьсот ещё, потом только об путях преодоления общей деградации задумываться придётся…
– Да оставьте вы, – не выдержала Кристина. – Ещё и сейчас о политике. Скажите, Михаил, а там, у ваших Симбирцевых, неженатые кавалеры будут? Ужас как хочется с каким-нибудь настоящим, действующим князем или графом познакомиться.
– Думаю, найдутся. Я, кстати, прямо сейчас могу вон хоть из того кафе по телефону позвонить. Человек пять из сухопутных и флотских титулованных особ сыщем… А там всё от вас будет зависеть.
Катранджи сделал вид, будто только что откусил от цельного лимона. Волынская довольно улыбнулась и подмигнула подруге.
…Уже под утро вернувшись на броненосец, заперев за собой стальную, обшитую полированными дощечками красного дерева дверь каюты, девушки дали волю натурам. А то ведь весь долгий вечер и тёплую южную ночь приходилось изображать достойное воспитанных девушек поведение, в этих краях гораздо более чопорное, чем в Империи, не говоря о РФ. Каждое слово и каждый жест приходилось выверять и контролировать, памятуя о своём официальном статусе в делегации, возрасте, семейном положении и прочая, и прочая, и прочая…
Кристина торопливо сбросила с себя одежды и, опередив Марину, захватила ванную комнату. Натанцевалась до упаду, не раз вспотела, сейчас нет ничего лучше, чем полежать в огромной малахитовой чаше, в облаках ароматической пены.
Марина тоже разделась, улеглась на диване под открытым иллюминатором, закурила. Там, в гостях, не следовало показывать свою распущенность. Здесь после Гражданской войны открыто курили только привыкшие к этому занятию ещё «при старом режиме» богемные дамы, вроде знаменитой поэтессы и теософки Зинаиды Гиппиус или княгини Ирины Юсуповой (она же графиня Сумарокова-Эльстон), организаторши первых в мире конкурсов красоты. Вообще же занятие считалось на самой грани приличия, что ревнители нравственности подтверждали, часто публикуя в юмористических журналах карикатурные изображения грубых «коммунисток» из РСФСР в красных косынках, дымящих папиросами и даже самокрутками.
Кристина не закрыла дверь, и они могли переговариваться, да вдобавок ванна с нежащейся валькирией отражалась в сплошной зеркальной стене.
– Ты знаешь, а мы с ним о свидании договорились, – звонким голосом сообщила Кристина, подняв из пены длинную ногу и критически её осматривая. Она имела в виду своего нового «поклонника», знаменитого (но в очень узких кругах) полковника Кирсанова, о роде занятий которого и его причастности к делам «Братства» девушки пока не подозревали. Павел Васильевич не имел привычки без нужды светиться. Да и случая встретиться раньше у них не было.
Сначала внимание валькирии привлёк совсем другой персонаж, старший лейтенант флота, именно князь, как она Басманову и заказывала. Князь Бахметьев, Василий Ильич, старший штурман линкора «Генерал Алексеев», кавалер ордена Святого Георгия и ещё нескольких. Двадцати восьми лет от роду, уроженец Петербурга, холост. И красив до невозможности. Танцевал вообще как бог Дионис. Хотя танцы у них тут совсем другие. Однако кое-что у неё получалось, моторика у валькирий хорошая и зрительная память. Один раз увидишь, что другие дамы и девицы делают, и повторяешь. Зато вальс, общий для всех времен, она исполняла блестяще.
Однако, буквально за несколько минут до того, как Кристина могла бы ощутить первые дуновения влюблённости, провоцируемой великолепным шампанским, случилось нечто другое.
На очередной танец, который моряк должен был пропустить, чтобы не привлекать уж слишком пристального внимания общества (три-четыре танца подряд с одной и той же девицей здесь истолковывались почти как заявка на помолвку), валькирию пригласил мужчина, вначале ею незамеченный. В кремовом летнем костюме из тонкого вельвета в мелкий рубчик, прекрасно подстриженный, с ухоженными так называемыми «офицерскими» усами. От него пахло суховатым, с полынным оттенком одеколоном и совсем немного – табачным, скорее всего трубочным дымом. Фигура подтянутая, даже через костюм видно, что мускулистая, пружинистая, хотя и аккуратная, не перекачанная. Опыт сразу подсказал Кристине, что этот человек много времени уделяет занятиям спортом, но специфическим. Фехтование, скорее всего, и, безусловно восточные единоборства. Движения очень координированные и выверенные.
Странно, что она его сразу не заметила. Уж больно он характерно выглядел. Войны и революции украсили его лицо несколькими шрамами, столь аккуратными и правильно расположенными, будто их делали не вражеские осколки, а хороший косметолог. Походная жизнь снабдила несходящим, но не слишком тёмным загаром, на фоне которого особенно ярко выделялись сизо-стальные глаза и очень светло-русые волосы. Ещё он имел высокий лоб, тонкие, хорошего рисунка губы, приличный рост и неожиданно тихий голос бархатистого баритонального оттенка. Вроде как у знаменитого советского диктора военных времен Левитана.
Может быть, он появился позже, или просто проводил время с гостями постарше за ломберным столом. Но вот он с полупоклоном протянул ей руку и, взглянув в его глаза, Кристина почувствовала, что поплыла. Это было совсем новое чувство, равно не похожее на то, что вызвал у неё Катранджи в том странном полусне-полуяви или которое только что промелькнуло в объятиях князя Бахметьева.
Просто непередаваемо! Он посмотрел на неё, ещё ничего не сказав, а она ощутила, что у неё будто птичка затрепыхалась в груди.
– Вы позволите, барышня? Полковник Кирсанов, Павел Васильевич. Позволите?
Она кивнула и сделала шаг навстречу с лёгким, едва заметным книксеном.
И всё. Князь для неё больше не существовал, ну вот совершенно. При объявлении следующего танца он к ней подлетел и с первых же тактов понял, что никакое продолжение ему не светит. И голос девушки изменился, и в теле появилась напряжённость, какой только что не было. Она выполняла положенные движения как бы через силу и не скрывала, что ждёт, когда музыка закончится.
Бахметьев был неглупый человек и сразу сообразил, что произошло. Он видел, с кем Кристина танцевала до этого, и знал, кто такой Кирсанов. Неясно было одно – он что-то сказал ей касающееся личности князя или – её самой. Но проверять лейтенант не собирался. Повода ведь не было, а создавать его – увольте. Мы себе лучше другую найдём.
Самое интересное, на Кирсанова, очевидно, Кристина тоже произвела впечатление и сразу заметила это, при том, что отнюдь не включала специальных механизмов обольщения. Разве что вовсю начала разыгрывать карту «тоже княжны», никак не пошлой «мадемуазель Волынской», зарабатывающей на жизнь прислуживанием богатому купцу. Благо у неё на всякий случай была отработана роль праправнучки знаменитого Артемия Волынского, вожака «верховников», казненного при Анне Иоанновне[135]. В «печенегах» она тему своей принадлежности к титулованным особам никак не форсировала, но после получения первого серьёзного гонорара от Катранджи кое-какие самостоятельные действия в Департаменте герольдии произвела и имела в личном сейфе все необходимые документы, подтверждающие её право на титул. И не думали Майя с Татьяной, выбирая для «девушки № 291» фамилию из адресно-биографического справочника «Вся Москва», что, случайно ткнув пальцев в строчку, создают, можно сказать, новую родовую ветвь Рюриковичей. Кристина тоже не думала, последнее время связывая своё будущее с Катранджи-Катановым, а протанцевав с необыкновенным полковником следующее танго, позволила ему «приложиться к ручке», с которой благосклонно стянула невесомую бальную перчатку – и задумалась.
Получалось так, что все её предыдущие планы разом посыпались прахом. Павел Васильевич – это вам не Катранджи. Конечно, не столь богат и влиятелен, может быть, вообще живёт на жалованье, но это как раз не проблема. Она-то достаточно богата. Титул свой здесь сохранить сумеет, даже выйдя замуж. Испросит право на двойную фамилию.
Конечно, она не воображала, что такой человек будет вымаливать, пусть не на коленях и со слезами на глазах, её руку и сердце – не тот человек. Да и вообще мысль о возможном браке с этим человеком мелькнула просто как вариант. Надо повнимательнее к Павлу Васильевичу присмотреться. Что он её полюбит, если она захочет, Кристина не сомневалась. Захотеть бы самой, чтобы промаха не дать. Чтоб непременно любовь до гроба и всё такое… Она будто совсем забыла, что всего полдня назад заявила Марине: «Любовь – это абстракция, вымысел, неосязаемый чувствами звук».
Потом весь очень длинный вечер, и застолье тоже, он от валькирии почти не отходил. Она, судя по всему, его тоже заинтересовала. Он был сдержанно остроумен, эрудирован в любой области, какой ни коснись. Легко сошёлся с Мариной, буквально с первых слов, а вот с Катранджи держался весьма корректно, но чувствовалось, что исключительно за счёт хорошего воспитания. Сам по себе турок, пусть и изображавший русского, его заинтересовал весьма незначительно. И это Кристине тоже понравилось.
Когда они стояли на веранде, откуда открывался вид на ночное море, Павел Васильевич даже прочитал ей несколько стихотворений, Кристине незнакомых, но очень трогательных, о настроениях человека, вынужденного воевать на никому не нужной войне. Валькирия заподозрила, что он сам их написал, но уточнять не стала. Одно её особенно тронуло:
– Очень хорошо, – после долгой паузы, вздохнув, сказала Кристина. – Но как мрачно. Это вы о себе написали? С вами такое было?
– Почему я? Другой офицер. С другой войны. Но всегда везде повторяется одно и то же.
– На Лермонтова похоже. «Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть…»
Чтобы отвлечь девушку, Кирсанов начал очень интересно рассказывал об англо-бурской войне, где участвовал вместе с Басмановым и, что самое неожиданное и удивительное, с Ларисой. Кристина подумала, а вдруг между ними что-нибудь было? Зная характер старшей подруги и наставницы, трудно поверить, что, общаясь с таким человеком, она не вскружила бы ему голову или не увлеклась сама. Но не подала вида, что её это интересует. В случае чего можно будет у Басманова спросить.
Одним словом, первый же вечер в Югороссии оказался столь интересным и, можно сказать, романтическим, что превзошёл самые смелые ожидания. Михаил Фёдорович не ошибся, предложив принять приглашение именно сюда.
– А с Ибрагимом как же? – с острой заинтересованностью спросила Марина, выслушав откровения подруги. Она ещё там, на даче поняла, что Кристина увлеклась «с первого взгляда», а сейчас та разоткровенничалась, но не по-девичьи, как это обычно бывает, а словно докладывала о результатах выполнения служебного задания, сдержанно, но ёмко, с анализом его и своих слов и соображениями по ходу. В завершение сказала, что если её новый «друг» станет предпринимать дальнейшие шаги, она препятствовать не станет.
«Интересно как получается, – думала Марина, – вот сделал им Арчибальд царские «свадебные подарки» – и немедленно всё пошло как по маслу. У неё самой и у подруги сразу же. Очевидно, что Кристинка уже влюбилась и, похоже, всерьёз, хоть и бравировала своей демонстративной аморальностью. А все аморальности – один раз в жизни с мужчиной ночь провела, да в девичьей компании не стесняется на деликатные темы откровенные разговоры вести, называя все предметы и действия своим словами, без жеманства и околичностей».
– На нём ведь большая политика завязана, и тебе там немаловажные задачи прописаны…
– А мне это… сугубо одинаково. От работы и службы я не отказываюсь. А в кого мне влюбляться в нерабочее время – миль пардон! Вон Павлу Васильевичу, ему хорошо. У них тут нравы простые – попрощавшись со мной, свободно может в приличный бордель двинуть, излишнее нервное напряжение сбросить. И никто его не осудит, даже мне лучше – все грешные мысли – там, а со мной – только чистая любовь, не отягощённая непреодолимым желанием немедленно хватать девушку руками и лезть к ней под юбку. Удобно…
– А это ты к чему? – удивилась Марина, одновременно подумав, только без кристининой простоты, что и Михаил может так же – весь вечер нежные слова говорить и «краснеть удушливой волной, едва соприкоснувшись рукавами», и прямо от неё – к шлюхам?
– К тому, что мне труднее придётся. Я, если Ибрагиму уступлю, хоть и «по службе», – ни о какой чистой любви к другому речи быть уже не может. А водить его всё время за нос, как Людка Фёста, – ну неделю можно, ну месяц. А потом?
– Ты чего, подруга, совсем квалификацию растеряла? Новый вздыхатель разум отнял?
– Да если б вздыхатель. Первая-то я поплыла. Теперь вот думаю, заметил он или нет?
– Едва ли. Он если и не поплыл, как ты выразилась, то от твоих прелестей без ума. Пусть и в самом пока физиологическом смысле. А Ибрагиму твоему я знаешь что сделаю?
– Почему ты вдруг? – насторожилась Кристина.
– А чтобы тебя совесть не мучила и с чистым сердцем смогла ему в глаза смотреть. Я на него вялотекущую импотенцию напущу. Вроде как всё в порядке, а при попытке к делу перейти – уже на дальних подступах – облом. А чтоб с горя не повесился, оставлю ему возможность где-то раз в неделю свои потребности удовлетворять, но только с помощью особо изощрённых жриц любви древнеегипетской школы. Есть в Москве такое заведение, я в журнале объявление видела. «Лечим все виды мужской слабости. Эксклюзивные методики, дипломированные специалистки, и дальше в том же роде. Подсунешь ему невзначай рекламку, он и успокоится…
– А ты, милая, тоже стерва не из последних, – заявила Кристина, вставая в ванне и включая душ Шарко на полную мощность, так, что струи минерализованной, то горячей, то ледяной воды хлестали по телу валькирии, как винтовочные шомпола. Очень способствующая укреплению нервной системы процедура. – Этот салон египетский – он в какой Москве?
Ей даже не пришлось повышать голос, чтобы подруга её слышала за шумом душа. У всех валькирий была идеальная шумоселективная способность, могли услышать шёпот человека на другом конце платформы в момент, когда рядом тормозит поезд метро.
– В эрфэшной, естестнно, у нас косвенная реклама запрещена. И чего сразу стерва? Исключительно о тебе забочусь. И о твоём будущем друге, само собой. Надеюсь, если всё пойдёт как надо, обратного типа расстройство ты ему вскоре сама привьёшь?
– Или ты сомневаешься? – с одесской интонацией ответила вопросом на вопрос Кристина. – Кстати, ты ложись, если спать хочется, а я собой займусь, надо к очередному свиданию истинный шляхетско-княжеский облик себе вернуть.
– Не советую. До конца миссии оставайся как есть. Иначе многие не поймут. А потом уж своего полковника наповал сразишь…
– Многие – это что, Михаил с Ибрагимом? Да мне их мнение, знаешь…
– О них и речи нет. Противоположная высокая договаривающаяся сторона. Рэкуэл Уэлч[137] в роли эксперта по вооружению произведёт слишком сильное впечатление на пуританистых предков…
– Ага, посещающих бордели после каждого свидания с любимой девушкой…
Кристина демонически захохотала, выключила душ и принялась растираться жёстким полотенцем.
– Иди, плескайся, а я пока помоделирую, как мне посмертельнее Кирсанова сражать…
Марина из ванной вернулась неожиданно быстро. Видно, тема настолько её затронула, что непременно хотелось возможные точки расставить..
– Слушай, Крис, а ты, если что, действительно за местного мужчину выйти б смогла?
– Что за вопрос? Мы, бабы, если влюбимся, хоть на край света побежим, вплоть до шатра бедуина или самоедского[138] чума… Ты ж за своего Михаила пойдёшь, если позовёт?
– Пойду, – тихо ответила Марина.
– И здесь останешься? Вот и я так же. Что нам в тех Россиях ловить, если здесь любовь получится? И пользу, между прочим, для общего дела мы тут приносить сможем как бы и не лучше… Ладно, давай спать ложиться, утром хошь – не хошь с ранья подскакивать придётся…
…Первое заседание «высоких договаривающихся сторон» было намечено на полдень, так что времени подготовиться, позавтракать и обсудить с Басмановым кое-какие существенные детали переговоров было достаточно.
Кристина была буквально поражена, когда на кормовой балкон, где был накрыт стол, из глубины кают-компании вышел Кирсанов собственной персоной, одетый уже совсем иначе, в летнюю полевую форму Галлиполийской гвардейской бригады – светло-оливковые брюки и рубашку с короткими рукавами, на узких погонах-хлястиках – два золотистых полковничьих шнура.
Короткая немая сцена – явился «Deus ex machina», или, если проще – «рояль из кустов», потому что буквально минуту назад Марина спросила подругу, рассчитывает ли она сегодня увидеть своего кавалера.
– Он сказал – постарается сегодня выбрать время…
– Что, такой занятой, что есть вещи важнее, чем первое свидание с девушкой? – с долей ехидства спросила Марина.
– Ну, он же не восемнадцатилетний юнец, от буйства гормонов теряющий голову, – ответила Кристина, и тут же – пожалте вам!
Никто не заметил, когда к правому трапу броненосца подошёл доставивший Кирсанова катер.
– Да, мадемуазель и месье, – с улыбкой сказал Басманов, – позвольте вам представить. Вчера как-то не получилось. Уже известный вам Павел Васильевич по совместительству назначен осуществлять негласное прикрытие нашего мероприятия от лица возглавляемой им организации.
– Какой такой организации? – сузив глаза, безразлично-ровным голосом спросила Кристина.
– Примерно аналогичной той, в которой вы служите у себя. Полковник – прекрасный специалист в вопросах любых стратегий непрямых действий и, кроме того, – принадлежит к нашему «Братству». С самого начала, с тысяча девятьсот двадцатого года, когда мы были никем, выброшенными с родной земли безродными эвакуантами[139] и не думали, не гадали, что всё повернётся самым непредставимым образом.
– Как и мы с Кристиной, – ответила Марина, понимающе кивнув.
После завтрака Кирсанов, достав из кармана потёртый кожаный портсигар («ещё с германского фронта»), взглядом указал Кристине, что им стоит подняться с балкона на ют, где никто не помешает. Остальные сделали вид, что не заметили их маневра.
– Судя по вашим глазам, Кристина Станиславовна, вас как-то задели моя должность и возложенная на меня функция, – тихим голос почти без интонаций спросил (или констатировал) полковник, вынимая папиросу.
– Дайте и мне, – протянула руку Волынская.
Кирсанов не удивился, щёлкнул золотой зажигалкой «Зиппо».
Кристина не по-женски глубоко затянулась. Папироса была из тех самых, «Корниловская». Ароматный, крепкий дым, и совсем не царапает горло.
– С чего вы взяли, будто что-то могло меня задеть? Мы оба офицеры, оба на службе. Так что всё совершенно нормально. Надеюсь, мы сработаемся…
– Очень на это надеюсь. Ваша помощь мне безусловно потребуется. А с чего взял – профессия у меня такая, всё замечать. Только я очень бы вас попросил – не делать опрометчивых выводов. В нашей работе это непростительно.
– Не совсем вас поняла, Павел Васильевич.
– Всё вы прекрасно поняли. Мне сейчас не хотелось бы продолжать эту тему, просто повторю свою просьбу…
Говоря это, Кирсанов смотрел мимо Кристины, на море, город, будто совсем не интересовался её реакцией, но она видела, что боковым зрением он и смотрит куда надо, и фиксирует каждое её мимическое движение.
Значит, она не ошиблась, и то, что произошло между ними вчера, – не случайный эпизод. И решила немного похулиганить, раз он завёл этот разговор. Посмотрим, насколько он тонок и проницателен.
– Вы вчера очень хорошие стихи читали. Значит, вы тоже хороший человек. Мне тоже вдруг вспомнилось. Тоже фронтовой офицер написал:
– Не случится, как с героем этого стихотворения? – подчёркнуто нейтрально спросила валькирия, выпуская дым в сторону, чтобы не смотреть на Кирсанова.
– А что с ним случилось? – простодушно спросил полковник, как бы демонстрируя свою литературную необразованность. – Впрочем, я попробую догадаться. Вы позволите?
– А как я могу не позволить?
– Да так как-то… «…всем презрением юным, чуть заметным движеньем руки»[140].
– Это уже Блок, я не ошиблась?
– Абсолютно верно. Он самый. Я ещё помню такие рестораны. Перед войной. И почти в конце… Так о чём это мы?
– И дальше угадывать будете?
– Ну а куда денешься? Вроде пока получается.
– Да, Павел Васильевич, хорошо вы умеете угадывать. Мне даже не по себе делается. Так-таки и не встретили?
– Увы! Часто думал, на беду или на счастье…
– Пожалуй, скорее на счастье. Иначе…
– Я думаю, пока достаточно, Павел Васильевич. Мы с вами оба люди умные, специалисты, да? Всё что вы хотели, я услышала. Вам прямым текстом ответила. И давайте закончим на сегодня…
Кирсанов наклонил голову, в буквальном смысле поняв её слова.
– Пойдёмте, нас ждут, – как можно мягче сказала Волынская.
Глава десятая
…Переговоры Катранджи с югоросскими «коллегами», «оружейными баронами», проходили в атмосфере полного взаимопонимания. Пять «купцов» в штатском во главе с вполне достоверно выглядевшим армянином Тер-Исакяном с заинтересованным вниманием выслушали пожелания редкостного оптового покупателя.
Все с увлечением играли свои роли. Катранджи представлялся тем, кем мог бы на самом деле быть в этом мире – старшим сыном турецкого бея из ныне британской подмандатной Палестины. Он якобы решил, пользуясь нынешними затруднениями англичан, организовать против них масштабный джихад с целью вернуть себе владения, по праву принадлежащие его роду с шестнадцатого века, по фирману четырнадцатого османского падишаха, султана Ахмеда первого. Проще говоря – изгнать оттуда британского комиссара с его канцелярией и основать новый халифат, от Нила до Евфрата. С точки зрения здравого смысла легенда достаточно бредовая, но ничуть не более, чем восстановления Израиля через две тысячи лет после его ликвидации.
По крайней мере, торговцы оружием, по мнению Катранджи, лица вполне самостоятельные, хотя и патронируемые правительством, достоверностью предложенной им версии нисколько не заинтересовались. Им нужно было избавиться от огромного количества неликвидов, скопившихся у них на складах ещё с времён здешней Мировой, Гражданской и греко-турецкой войн. В розницу ими торговать можно было до второго пришествия Христа или первого – еврейского машиаха. Примерно такие распродажи устраивали американцы после обеих мировых войн в нашей действительности.
Только законченный идиот мог бы поверить в такую версию, а Ибрагим-эфенди таковым не был ни в коем случае. Какие «неликвиды» двух минувших войн? Среди них могли бы оказаться «трёхлинейки» всех модификаций, немецкие «маузеры», «австрийские «манлихеры» и поставленные союзниками «арисаки», «винчестеры» и «ли-энфильды». Из пулемётов – «максимы», «льюисы», «шоши», «гочкисы». Даже в мире Югороссии это старьё никак не подошло бы для вооружения бандитских армий, что говорить об эпохе, ушедшей на век вперёд.
А здесь вдоль стены большого зала на столах было выложено оружие, которого Катранджи, при своём богатом жизненном и конкретно военном опыте, просто в глаза не видел. Даже не догадывался, что такое существует, хотя не было ручного огнестрельного железа, с которым бы ему не приходилось иметь дела при тех или иных обстоятельствах. Знал он все стоящие на вооружении российской армии системы, унифицированные таосские и оригинальные конструкции американских и европейских оружейников. Был знаком с мелкосерийной продукцией более-менее технически развитых территорий «Дикого поля», как иногда называли в России все земли, лежащие за пределами Периметра. Там, в княжествах Южного Индостана, в Персии и городах-государствах китайских «милитаристов»[141] иногда появлялись весьма остроумные поделки, пользоваться которыми в серьёзном деле ни один уважающий себя человек в здравом уме не стал бы даже под страхом виселицы.
Но устроители «выставки-продажи» выложили на свои стенды такое, что у Ибрагима глаза полезли на лоб от изумления и восхищения. Вот, например, штурмовая винтовка, или, как русские её назвали – «автомат». Чертовски красивое и удобное изделие, но поражающее прежде всего какой-то безумной простотой. Консультант-инструктор в гражданской рабочей одежде, в котором намётанный взгляд сразу выявлял офицера немалых чинов, взял автомат в руки – несколько стремительных движений, лязг металла, и на столе лежат всего пять деталей. Сразу видно, что это – настоящий инструмент для боя. Ибрагим присмотрелся, взял в руки массивный затвор с длинным штоком, повертел в руках.
– Я так понимаю, что ваш автомат можно вообще не разбирать? – спросил он у инструктора. – Тут нечему ломаться.
– Разве что для чистки. Причём не обязательно регулярной. Со ствольной коробкой, полной грязи, работает довольно уверенно. Но я бы всё же посоветовал тщательно чистить после каждой стрельбы, меньше мороки и дольше послужит, – вежливо ответил офицер.
Кроме «автомата», вниманию Катранджи было предложено: аккуратный, тоже очень простой самозарядный карабин («Патрон однотипный, 7.62×39, баллистические характеристики пули аналогичные, но меткость в полтора-два раза выше»), два типа снайперских винтовок, три – пулемётов и шесть – пистолетов и револьверов.
– А вот на этом стенде – опытные разработки, удобные тем, что они сделаны под имеющиеся у вас типы патронов, – сообщил уже другой консультант, указывая на непривычного вида и оказавшийся неожиданно тяжёлым в сравнении с первым «автоматом» пистолет-пулемёт с откидным прикладом и торчащим вниз прямым коробчатым магазином. – Достоинство – патрон «Парабеллум» и низкий темп стрельбы, недостаток… Недостатков много, но некоторым любителям всё равно нравится. Есть в нём определённый шарм.
Шарм действительно присутствовал, пистолет-пулемёт хотелось просто держать в руках, да и пострелять тоже, но Ибрагим с лёгким сожалением отложил его в сторону. Первый автомат его навсегда пленил, особенно вариант со складным прикладом и компенсатором на стволе.
– Что вы сказали насчёт патронов?
– Вот эти наши модели рассчитаны на так называемый «промежуточный патрон», – инспектор извлёк его из магазина и протянул покупателю. – Нигде в мире, кроме как у нас, в Югороссии, не производится. Как-то не догадались изобретатели. Весьма удобен, мощность как раз подходящая, не винтовочная и не пистолетная. Позволяет стрелку с достаточно лёгким и одновременно мощным оружием работать на самой удобной дистанции – двести-шестьсот метров. Снаряжается несколькими видами пуль. Калибров два, на выбор, 7,62 и 5,45. Пулемёты есть под эти же патроны, есть и посерьёзнее, под стандартный русский «восьмого года».
Наличие патрона, не имеющего аналога в его мире, Ибрагима насторожило. Такая ситуация ставила его в полную зависимость от поставщиков. Ясно, что наладить собственное производство патронов куда сложнее, чем оружия под заданный патрон. Так он и сказал. Заодно подумал, что уж эти люди наверняка знают о существовании параллели, из которой он пришёл, и спросил в лоб: отчего, если этот патрон так хорош, его не используют в другом мире?
– С их возможностями ничего не стоило бы наладить такое производство…
– Понимаете, там, у вас, совсем другая военно-историческая ситуация, – взял на себя обязанности консультанта Басманов. – Вы благополучно отвоевали Мировую войну с тем, что было, а потом пошли так, как повели обстоятельства. У вас сразу началась эпоха локальных войн с заведомо слабейшими противниками. А там как раз хорошо оружие, позволяющее вести эффективный бой или на близких дистанциях – кратковременные уличные стычки, например, где весьма удобен многозарядный пистолет-пулемёт, вроде «Томпсона», русского «ППД» или немецкого «МП-40», – он указал на понравившийся Ибрагиму образец. – Или, наоборот, на весьма дальних – чтобы не дать противнику сосредоточиться перед атакой, дезорганизовать его заблаговременно и выбить комсостав и тяжёлое оружие. Тут в самый раз винтовки обычные и снайперские, а также ручные и станковые пулемёты, под этот самый «патрон 1908 года». А то, что вы видите у нас, – эволюционная линия эпохи очередных мировых войн и массовых армий…
Тут вмешался ещё один из высоких чинов югоросской делегации, генерал-лейтенант артиллерии, который добавил, что проблема боеприпасов – вполне надуманная. Большая часть армий мира пользуется чужим оружием и импортными боеприпасами, не заморачиваясь созданием персональной индустрии.
– Даже России во время «патронного голода» пятнадцатого года пришлось обратиться к союзникам с просьбой о помощи оружием и боеприпасами. И ничего, провоевали два года не только своим, но и японским, английским, французским. Только американцы свои «Винчестеры» сразу под наш патрон выпускали. Проблем не возникало…
– Были б союзники, – как бы под нос себе, но вполне разборчиво буркнул Катранджи.
– Вы можете сразу купить столько патронов, сколько считаете нужным. На одну мировую войну, на две… У нас всё равно мощности простаивают. Рабочие и фабриканты будут вам благодарны. Цены самые божеские – пять копеек за патрон.
Ибрагим вопросительно посмотрел на Кристину. Самое время ей вступать.
– Цена названа по здешнему золотому стандарту, я так понимаю? Если в наших фунтах или рублях, мы что-то выигрываем?
– По сравнению с государственными поставками, если бы мы смогли их добиться там – дешевле почти вдвое. На официальных рынках стран «третьего мира» выйдет дороже втрое, на чёрных за Периметром и в розницу – примерно вчетверо, исходя из средневзвешенных котировок прошлого месяца. Правда, товар эксклюзивный, я сравниваю с наиболее ходовыми у нас – винтовочными «маузер 7,92/96».
– Такая разница? – всерьёз удивился турок. – За счёт чего?
– Ну, нам же сказали, что войны не ожидается, склады заполнены, заводы простаивают. Чтобы не нести убытки и не увольнять рабочих, они торгуют почти по себестоимости. Здесь тот случай, когда «дешевле» не синоним «хуже», – с несколько двусмысленной улыбкой ответила девушка.
– Назовите, пожалуйста, живучесть ваших систем, – обратилась она к артиллеристу. Тот назвал, по каждой модели, плюс-минус сто выстрелов, по данным полигонных испытаний.
– Вот из этого и будем исходить, – кивнула Кристина. – Мы покупаем в комплекте – ствол и соответствующее число патронов. Поскольку утраты оружия на поле случаются, и не так уж редко, мы в итоге будем иметь резерв примерно плюс десять процентов к стандартным тридцати боекомплектам. По-моему, этого вполне достаточно? – Она вопросительно посмотрела не на Катранджи, а на Басманова. – И ведь варианта прекращения поставок мы не рассматриваем?
– Можно внести в контракт пятикратную неустойку в случае сбоя в поставках, – с самой радушной улыбкой предложил Тер-Исакян. Турок едва заметно поморщился, при всей широте своих взглядов армян он недолюбливал, как и они всех турок скопом. Но этот каперанг ведь считает его русским? Едва ли. Как немец нюхом чует еврея любой степени ассимиляции, так армянин – турка.
– Щедрое предложение, – сказала Марина, черкнув в блокноте, который не выпускала из рук, – непременно внесём…
В завершение Ибрагим осмотрел предложенную коллекцию ручных гранат, противопехотных и противотанковых мин, среди которых некоторые показались ему крайне остроумными. Ещё его вниманию был предложен пластит и эластит: чрезвычайно мощные взрывчатки с бесценными для диверсионной работы свойствами. И целая линейка взрывателей: радио-, электрических и с огневой инициацией, также нажимного и натяжного действия и с таймерами-замедлителями.
Невиданное богатство для профессионального террориста.
– Теперь предлагаю перейти к столу другому, – сказал глава югоросской делегации, – перекусить чем бог послал и поговорить о ценах и прочих скучных местах. Надеюсь, мы полностью удовлетворили ваши ожидания, или что-то не так?
– Более чем, – со всей искренностью ответил Ибрагим, одновременно пытаясь сообразить, где и в чём кроется подвох. Он не привык, что существуют абсолютно взаимовыгодные сделки. Кроме того, его не переставало удивлять довольно странное явление, если можно так выразиться. Непонятный и необъяснимый технологический отрыв Югороссии от прочих великих держав, до сих пор ими не устранённый. В том, что русские – остроумный народ, в сравнении с теми же немцами, почти всегда добивающимися цели самым сложным и затратным путём, Ибрагим не сомневался, достаточно пожил и в России, и в Германии. Но одно дело – изобрести автомат из пяти деталей вместо сорока немецких, совсем другое – отладить крупносерийное производство без потери качества. И ведь не одной модели – почти десятка. Зачем вообще государству, только что вышедшему из двух подряд войн, столь масштабное, можно сказать – концептуальное перевооружение? Катранджи не любил непонятностей, они почти всегда несли в себе или за собой нешуточные угрозы. Но эту головоломку он решить не мог, поскольку не подозревал о возможности существования ещё и третьей России. В его мире информация об этом феномене ещё не стала достоянием масс, вообще не вышла за пределы участников «Мальтийского креста».
А валькириям операция, в которой они участвовали, казалась странной по другой причине. Для чего вообще затевать этот цирк, если задуманные Ибрагимом совместно с Чекменёвым и при активном, хотя и не афишируемом участии Фёста с Секондом «Единые регулярные вооружённые силы «Чёрного интернационала» можно было легко снарядить и экипировать на месте? Девушки представляли, сколь велики военные запасы Империи Олега, а недавно убедились, что на складах РФ и бывшей Советской армии только чёрта в ступе нельзя найти, да и то как сказать.
И способов доставки оружия к местам назначения имелось сколько угодно, взять хотя бы систему снабжения американцами афганских моджахедов. А у самого Катранджи и его проникших во все поры тогдашнего мироустройства добровольных и платных агентов таких возможностей должно быть несравненно больше. Искусству контрабанды никак не меньше трёх тысяч лет, и весь этот многовековый опыт «Чёрным интернационалом» усвоен и освоен.
Об этом и спросила Марина Басманова во время того, что в высоких дипломатических кругах называлось «кофе-брейк», а по-русски – попросту перекуром.
– Есть вещи, какие простым исполнителям вроде нас знать просто не положено. Не оттого, что не доверяют, просто, как учил апостол Павел, – «Умножая знания, умножаешь скорби». Ты лучше свои прямые обязанности со тщанием исполняй, чем забивать голову излишним…
– Не бывает бесполезных знаний, – тут же возразила девушка, чувствовавшая себя всё более раскованной в общении со старшим по чину, положению и возрасту полковником. – Это не я придумала, это ещё Карл Маркс писал.
– Он большевистский пророк, ему можно, – благодушно ответил Михаил. – А мы давай уж как-нибудь, в пределах наших звёздочек на погонах…
– Я сейчас не поручик, я юрисконсульт своего клиента и должна озаботиться, не являются ли предполагаемые транспортные расходы излишними…
Басманову почти непреодолимо захотелось шлёпнуть валькирию по обтянутой тонкой тканью аккуратной заднице. Чтоб не умничала. Да и вообще…
– Транспортные расходы фирма берёт на себя, – усмехнулся он. – Но шефу об этом можешь ничего не говорить. Он не обеднеет, а вам с Кристей дополнительный навар…
Не мог же он сказать девушке, что на самом деле тут намечалась интрига многоходовая, полезная для всех «высоких договаривающихся сторон». В собственной реальности Катранджи его боевики оказались бы вооружены системами, в природе как бы не существующими, единственно – частично использующими боеприпасы российского стандарта, но это в нынешние времена не улика: патроны системы «9 Пар» или «.45 АКП» тоже две трети стреляющего мира использует, и происхождение их практически не отслеживаемо. Так что головной боли и совершенно безнадёжных разведдипломатических забав потерпевшим от акций Катранджи весьма бы прибавилось. Целые управления и резидентуры самых разных стран занимались бы не сравнительно полезной деятельностью на ниве плаща и кинжала, а исключительно поисками загадочных оружейных заводов и путей транспортировки оружия по всему свету. На этой почве вполне возможными становились самые увлекательные варианты игр между разведками, под аккомпанемент российского «Приказа тайных дел», разумеется.
Того, что неизбежно оказавшиеся в руках противника образцы, взятые в виде трофеев или банальным образом проданные лишёнными моральных принципов боевиками, обязательно будут копироваться, «Братство» не волновало. Заблаговременно было установлено, что технологии двадцатых годов не обеспечат производства аналогов удовлетворительного качества поделок вроде немецкой «Пантеры» или китайских «АК», так это только на пользу. Особенно если одновременно затеет производство необычных боеприпасов. Как известно, «Шмайссер 43/44» немцы разрабатывали чуть ли не пять лет, однако, запущенный в серию, он ни малейшего влияния на ход войны не оказал. В отличие от советского «ППШ». Да и сам шок от появления в руках террористов, неожиданно перешедших на сторону (или просто работающих на неё за деньги) России, такого количества неизвестного и по всем канонам здравого смысла не могущего существовать в природе вооружения вызовет определённую смуту в головах и политиков, и военных, технических эспертов вместе с владельцами оружейных корпораций. Какое количество сил, нервной энергии, времени и денег будет потрачено на разгадку этой тайны! И ни один человек из всего «Чёрного интернационала», включая самого Катранджи, попади он в руки главнейших разведслужб мира, не сможет её раскрыть, ни под пытками, ни под гипнозом или химиопрепаратами. Как в том анекдоте: «Ребята, учите матчасть!»
Сама Югороссия, выступая всего лишь в роли посредника, имела с этого весьма приличный гешефт. Хотя в средствах она особенно и не нуждалась, в политическом и чисто финансовом смысле выигрыш был очевиден. Страна получала возможность кардинально сменить ассортимент поставляемых на мировой рынок драгоценных камней и металлов, поскольку пресловутые южноамериканские слитки и николаевские червонцы всем уж порядочно примелькались. А тут сразу появится масса алмазов, изумрудов, рубинов и прочих сапфиров трудноидентифицируемого происхождения, а также золота и платины, добытых из неизвестных в этом мире месторождений. Колымских, в частности.
Опять головная боль и банкирам и разведчикам: откуда это появилось и как? Троцкий ли снабжает своих врагов драгоценностями с секретных сибирских приисков, на Кавказе ли они обнаружились? Снова надо думать, искать, засылать агентуру, а мировые биржи будет лихорадить, доллар, фунт и франк скакать то вверх, то вниз, а кто-то умный ещё и прилично заработает «на разнице».
Катранджи в этой операции плотно садился на крючок Олега и Чекменёва, поскольку всем известно – на войне боеприпасов много не бывает, а к поставляемому оружию он получит большое, но всё же конечное количество патронов, снарядов, взрывателей для мин и гранат и тому подобного. Собственную крупносерийную промышленность ему разворачивать не по силам, да и толковая разведка всегда обнаружит такие поползновения раньше, чем процесс войдёт в завершающую фазу. Хорошо, мир, где это оружие будет использоваться, не настолько глобализирован, как на ГИП, нет там за пределами ТАОС независимого государства, способного с нуля наладить у себя индустрию боеприпасов, созданных в стране с совсем другой технической культурой и идеологией.
Самое же главное – микрочипы, изготовленные в развитие идеи инженера Леухина и бесплатно прилагаемые к поставляемой технике, позволят отслеживать движение каждой партии оружия и боеприпасов. Так, на всякий случай.
И здесь названы только некоторые выгоды, которые смогут извлечь в будущем из этой негоции целых три российских государства на разных исторических линиях.
Ещё в Москве Катранджи получил заверения, что может требовать от контрагентов в буквальном смысле «любое» количество оружия, лишь бы хватило чем заплатить. Остальное сам на месте обсудит.
Он и запросил (для проверки) техники и снаряжения столько, чтобы обеспечить двухсоттысячную армию. Именно к этому числу они пришли, обсуждая с Чекменёвым и аналитиками из «Пересвета» перспективы превращения «Интернационала» из абстрактной силы в реальную. Не так и много, имея в виду предстоящий театр военных действий и мобилизационный потенциал «Интернационала», превышающий десять миллионов. Чисто теоретически, конечно.
Уже так или иначе подготовленных боевиков по всей подконтрольной Ибрагиму части планеты имелось достаточно, но это были именно банды, «эскадроны смерти», обслуживающие интересы разного рода тиранов во всех уголках света. И свои собственные тоже. В лучшем случае – укомплектованные «белыми наёмниками» взводы и роты европейской организации и подготовки, для выполнения специальных задач, вроде государственных переворотов в непокорных княжествах и эмиратах или смены собственника нефтяных полей, плантаций мака и коки, всяких «копей царя Соломона».
А теперь речь шла о фактически регулярных формированиях, батальонно-бригадного уровня, подходящих, чтобы вести правильные боевые действия с теми и там, на кого укажет Катранджи Российское руководство. Не в метрополиях, конечно, исключительно на «подмандатных территориях», в сеттльментах и вольных городах. И там, само собой, где «Интернационалу» не нужны соперники.
Тер-Исакян, едва переваливший рубеж тридцатилетия кадровый офицер, хорошо тем не менее умел изображать манеры своего деда по материнской линии, выдающегося негоцианта из Эривани, ныне продвинувшего зону своих коммерческих интересов на всю аннексированную Югороссией у турок территорию.
Он пошевелил пальцами с несколькими хорошо подобранными перстнями, деликатно причмокнул губами. Только «Вах!» не сказал, но это был бы уже перебор.
– Хорошая заявка. Люблю иметь дело с солидным покупателем. Если он платёжеспособен. Но – чересчур неконкретно. Вам нужно именно двести тысяч стволов как таковых? Тогда каких моделей? Вы уже определились? Всё, что вы видели, у нас есть в любых разумных количествах. Дело за вами. Или подразумевается весь спектр вооружения и экипировки взводного, ротного, батальонного уровней? Вы не стесняйтесь, у нас хорошие специалисты, помогут определиться, если вы сами ещё не до конца в теме… Можем поставлять комплексно, скажем – снаряжение десантно-штурмового батальона в пятьсот штыков. Так и сделаем, сформируем партию – от касок до портянок, включая ложки, котелки, карманные фонарики и туалетную бумагу защитного цвета. С танками и артиллерией тоже можем помочь, но это уже тема совсем отдельного разговора.
Слова армянина насчёт платёжеспособности и компетентности могли бы прозвучать как оскорбление, но их можно было счесть и знаком уважения и внимания. Большой, мол, вы человек, о деталях и пустяках вам думать некогда.
Катранджи предпочёл истолковать это именно так. Да и на самом деле, в спецификациях, справочниках и ценниках ему ковыряться, что ли? Вон Кристина назвалась, пусть и пашет, не всё с князьями танцевать.
Ибрагим действительно был вчера уязвлён. Этой свиристелке, оказывается, нищий лейтенант и едва ли богатый жандармский полковник привлекательнее и ближе, чем он – хозяин полумира? Немного попсиховал, потом заставил себя думать «без гнева и пристрастия». Ну и что? Действительно, и должен быть ближе. Голос крови всё-таки. У них, у турок, когда были гаремы, вопросов не возникало, но если сейчас встанет вопрос – позволить ли сыну взять единственную жену из русских ли, евреек или индусок, какой отец не стукнет кулаком по столу?
А вообще даже интересно (тут вступила приобретённая за годы учёбы и жизни в России и Европе способность мыслить широко) – что победит в Кристине – абстрактный романтизм или прагматика? Вот и посмотрим. Катранджи как-то забыл, что уже имеющихся у Волынской денег и тех, что она ещё должна получить за работу, по её меркам настолько много, что миллиарды, которыми она смогла бы распоряжаться, выйдя за него – дворцы, замки, яхты и власть, – для девушки полная абстракция, не способная повлиять на принимаемое решение.
– Мы и инструкторов можем предоставить, – перебил мысли турка армянин. – Берут они дорого, но свои деньги отрабатывают. За месяц любой контингент, достигший стадии прямохождения и хоть чуть-чуть грамотный, до уровня наших солдат-срочников обучают. А дальше уже штучная работа, сами понимаете…
– Понимаю, понимаю, – ответил Ибрагим, которого идея, в принципе, заинтересовала. – Но сейчас всё же решим пункт первый. – Он сделал пометку в специальном, самосжигающемся, если не набрать нужный код на обложке, блокноте. Причём эффектно горящем, поскольку целых пятьдесят граммов термита в нём упрятано.
– Значит, двести тысяч бойцов вы штатно оснастить берётесь? От портянок до касок, вы сами сказали. Со всем, что между ними. Из тяжёлого вооружения – только станковые пулемёты. Один на взвод. Ручных – один на отделение. Батарею лёгких миномётов на батальон. Пока хватит.
– Да хоть миллион, – небрежно ответил армянин, – просто не в один приём, нам тоже время потребуется. Давайте так – либо партиями по десять тысяч комплектно, с интервалами суток в трое, либо сначала только стрелковое сразу, в течение недели, а остальное по мере поступления.
– Первый вариант предпочтительнее. Расчёт – франко порт?
– Как вам будет угодно. По транспортировке цена отдельная, оплата люмпсум[142]. А по товару – к вечеру получите прайс-листы с окончательным итогом. А там можно и подискутировать о деталях…
– Договоримся… – Ибрагиму стало очень интересно, как это товар будет доставляться отсюда в порты, разбросанные по берегам трёх континентов, в разумные сроки. Неужели тем же способом, что и их самолёт сюда переправили? Самолёт-то что – мелочь, а пароходы с контейнерами общим весом в тысячи тонн? Причём в чужой для них мир, где даже судовые документы окажутся недействительными. Рисково! Но это по большому счёту совсем не его забота. – Я предлагаю так – аванс пятьдесят процентов, остальное по завершении поставок.
– Как вам будет угодно. – Тер-Исакян передвинул по столу в сторону Катранджи массивную синюю папку с вензелями. – А теперь – не желаете ли прокатиться в море на моей яхте? Я думаю, нам есть о чём побеседовать в приватной и приятной обстановке… Вашим сопровождающим с нами будет скучно – им мы предложим развлечения, более соответствующие их возрасту…
Ибрагим секунду подумал: «А твой-то возраст далеко от их ушёл?», но тут же эту мысль вытеснила другая: «У настоящего «делового человека» нет возраста. Если присутствует талант, неважно, сколько тебе лет, двадцать или девяносто». Он вспомнил себя в эти (Тер-Исакяновские) годы. На его счету были не только первые лично заработанные миллионы, но и не меньше десятка лично устранённых людей.
– Хорошо, пусть будет по-вашему. Прогуляемся вдоль Южного берега.
Но оставаться без охраны ему не хотелось, да и в Москве говорилось, что валькирии должны быть при нём неотлучно. Он посмотрел на Басманова. Тот незаметно кивнул, не сомневайся, мол, всё будет в порядке.
– А ваших сотрудниц мы поручим попечению надёжного человека. За ним – как за каменной стеной, я лично бывал с ним в таких переделках… – Басманов имел в виду приключения в Африке, и не только.
Ибрагим не желал расставаться с Кристиной, и совсем не из страха за собственную персону. Но раз контрагент настаивает на конфиденциальности встречи, значит, в этом есть особый смысл.
Вот поручать её присмотру жандарма Катранджи по своей воле не стал бы. Слишком они вчера разворковались. Да и утром о чём-то перешёптывались. А впрочем… Это даже интересно будет – понаблюдать, как станет развиваться её роман. Эта жесткая, как прут стальной арматуры, девушка – и нежные вздохи при луне, объятия и всё такое.
Самого Ибрагима она привлекала именно в этом качестве. Ну, вроде как взять из табуна самую злую и непокорную кобылицу и объездить, без седла, конечно, пользуясь только уздечкой и шенкелями.
Моментами ему нестерпимо хотелось обладать этой девушкой, притом так, как привык, без всяких европейских заморочек, однако ревности при мыслях о сопернике он не испытывал. Что из того, если даже она переспит хоть с князем, хоть с полковником, да пусть с обоими сразу. От неё не убудет, зато быстрее одумается, поняв, что здесь уже всё получила, а с Ибрагимом всего не исчерпает никогда…
…На не так чтобы очень большую, но весьма внушительную яхту армянина с вполне подходящим названием «Абрек», кроме хозяина, погрузились Ибрагим и полковник с десятком очень серьёзно выглядевших офицеров. Кроме того, в поле зрения, на отдалении в две-три мили, маячили два эскадренных миноносца. Смысла в таком сопровождении было немного, но с точки зрения престижа Ибрагим был польщён. Да и случай с его «Лейлой» на рейде Одессы он забыть при всём желании не мог. Несмотря на то, что Югороссия и его неспокойный мир – пресловутые «две большие разницы».
Как только вышли в открытое море, Тер-Исакян, с которым Катранджи быстро перешёл на «ты», тем более – они оказались тёзками в русской транскрипции – один Ованес, другой Ибрагим, и оба Иваны, рассказал, что яхта перестроена из военного клипера типа «Крейсер»[143]. Внешность корабль сохранил оригинальную. Ту, что была в день начала его первой кампании[144]. Понятно, что после сорока с лишним лет службы корпус, рангоут, такелаж капитально отремонтировали, заменили машины на более компактные и современные, полностью перестроили внутренние помещения. Но весь антураж океанского рейдера дней зари парового флота остался в неприкосновенности, включая два весьма современных гранатомёта, оформленных под раритетные 87-мм пушки по обе стороны выхода на кормовой балкон в кают-компании и две снятые со списанных броненосцев «погонные»[145] шестидюймовки побортно на баке.
Всё это говорило о хорошем вкусе владельца, его преклонении перед русской военно-морской историей и очень приличных возможностях. Впрочем, что стоит главному интенданту флота выкупить кораблик по цене плохого металлолома и отреставрировать «хозяйственным способом»[146].
– Солидно, – сказал Ибрагим, сам большой любитель яхт, похлопав ладонью по казённику вполне современного орудия. – Есть с кем воевать?
– Там, где приходится бывать, – нередко, – коротко ответил купец, не вдаваясь в подробности.
Катранджи развивать тему не стал, перевёл разговор на другие достоинства корабля (из-за наличия вооружения судном его называть не получалось), привёл в пример собственную «Лейлу», столь трагически погибшую. Зато её гибель послужила окончательному сближению Ибрагима с Российским престолом.
Вестовые к тому времени накрыли приличествующий уровню хозяев и гостей стол прямо на юте, рядом с тамбуром, ведущим в низы, где вместе с кают-компанией, превращённой в гостевой салон, помещался и «господский» камбуз.
Перед тем как занять своё место, Катранджи отозвал в сторону Басманова.
– Теперь скажите мне, Михаил, для чего вам потребовалось организовывать всё это? Девушек послали, чтобы они охраняли меня и помогали, а вы…
– Отвечу, теперь никакого секрета. Мы имеем основания опасаться, что враги, ваши и наши, неважно, англичане это или кто-то другой, могут дотянуться и сюда. Я не Бог, и «в сердцах читать не умею»[147], не гарантирую, что кто-то из окружающих нас людей не сотрудничает с неприятелем.
– Даже на вашем уровне не можете?
– А что такого? Предают ведь всегда свои, вы разве не знали? И пока плоды предательства не стали явными, очень трудно профилактировать. Вот поэтому сейчас ваши помощницы сопровождают человека, очень похожего на вас, в увлекательной экскурсии в Никитский ботанический сад с последующей дегустацией в Массандровских подвалах…
– Вот как… – теперь Ибрагим решил, что понял, с какой целью к ним был подведён полковник Кирсанов. – Но вы ведь сами заверяли, что здесь – вполне безопасно.
– Здесь – да. Почти. Но меня предупредили, что могут возникнуть ситуации… экстраординарные.
Волна в открытом море была совсем небольшая, пологая, и яхту-крейсер совсем не качало, так что вестовые без опаски сервировали стол даже и хрустальными бокалами на длинных ножках.
– А скажите, Иван Романович, – вдруг спросил Исаков, пока услужающий нижний чин в белой форменке Гвардейского флотского экипажа, заложив левую руку за спину, разливал Голицынское шампанское. – Вот недавно Михаил Фёдорович обмолвился насчёт «другого мира» с другой историей, в том числе военной и оружейной. Это так? Вы действительно купец, совершающий «Хождение за три мира»? И не у нас собираетесь весь этот арсенал использовать? «На вывоз» приобретаете, как Чичиков мёртвые души?
Катранджи мельком взглянул на полковника, как бы спрашивая, что можно сказать, чего нельзя.
Тот едва заметно дёрнул плечом, словно от досады. Прокол, мол, случился.
И обратился к каперангу:
– Вы что же, Иван Степанович, на самом деле настолько не осведомлены? Я думал, раз вас к этому делу допустили…
– Слышал, много всего слышал от разных людей, но никто мне ни разу впрямую не объявил – «Дела обстоят таким и таким-то образом». Начальство не сочло нужным, а досужие разговоры… У нас вон дамы по ночам столоверчением занимаются, духи великих людей вызывают. И что, я и этому верить должен? Но сегодня уважаемый Иван Романович несколько раз проговорился, а потом и вы, Михаил Фёдорович… Да и спутницы ваши, – с улыбкой знатока и ценителя обернулся Исаков к Ибрагиму, – не в наших оранжереях расцвели, я за свою интуицию ручаюсь.
– Я думал, у вас все такие информированные, как Михаил Фёдорович, – словно бы оправдываясь, сказал Катранджи.
– Информированность – понятие относительное. И не всегда полезно, когда сторонние лица осведомлены о её пределах, – затейливо ответил Исаков.
– Кто бы спорил. Тогда вы и сами всё остальное поняли. Да, на вывоз. У вас в таких масштабах войну не затеешь, сами понимаете. Для отвоевания принадлежащих мне наследственных земель проще было бы нанять несколько тысяч добровольцев у господина Басманова, из числа его рейнджеров. Кстати, мне не совсем понятно, почему, имея такое сверхсовременное даже для моего родного мира оружие, вы остановились на сравнительно скромных для вашей действительной мощи границах.
– А нам больше не надо, – усмехнулся каперанг. – Лично мои национальные чувства успокоились, когда к нам вернулся Арарат и озеро Ван. Материковая Турция армянину ни к чему. Русским достаточно Проливов и креста на Святой Софии. А если кому территории не хватает, наш заклятый друг товарищ Троцкий практически бесплатно готов на самых выгодных условиях предоставить концессии до самого Берингова пролива.
– Спасибо, прояснили вопрос. Но о чём таком уж слишком конфиденциальном вы хотели поговорить со мной, приглашая на эту, не скрою, приятную прогулку? Не верю, что только за тем, чтобы выяснить, из какого я мира.
– Слишком или нет – то мне неизвестно. Михаил Фёдорович сам скажет вам, что сочтёт нужным.
Видно было, что армянин действительно очень мало осведомлён в теории параллельных времён и сути дипломатических и финансовых взаимоотношений Югороссии с «другой Россией». Не знает, а главное – вроде бы совершенно не интересуется делами, выходящими за пределы его компетенции. Великолепное качество для человека, делающего свою заранее просчитанную карьеру и не претендующего на что-то большее.
Катранджи удивился ещё сильнее. Неужели у Басманова были основания для столь многослойной секретности? Если в совершенно безопасной, по словам Воронцова, реальности он таится даже от вернейших из верных – своих валькирий. Или – не считает их настолько уж верными? Хотя бы по причине возникших между ними и Катранджи финансовых отношений?
– Чтобы вам было понятнее, Иван Романович, я сейчас действую по инструкции, смысл которой мне понятен только в части, меня касающейся. Очевидно, это вызвано некими крайне серьёзными обстоятельствами. Я давно уже ряд вещей научился принимать без попытки их рационального осмысления. Если бы вы встретились с некоторыми явлениями, с которыми встречался я, вам эта позиция тоже показалась бы единственно верною.
– И что же это за явления? – спросил Катранджи без особого любопытства. Он тоже успел повидать много всякого, включая демонстрацию «бокового времени» профессором Маштаковым.
– С удовольствием поведаю. Когда и где ещё рассказывать удивительные истории, как не в кают-компании, за стаканом хереса? Не так ли, Иван Степанович?
Тер-Исакян, сам баловавшийся публикацией в «Морском сборнике» флотских побасенок, согласно кивнул, раскрывая портсигар. Возможно, сейчас прозвучит ещё что-то, достойное его пера.
Басманову потребовалось около часа, чтобы в подробностях, необходимых для слушателей неискушённых, изложить ту часть южноафриканской эпопеи, где присутствовали инсектоиды и монстры[148]. Особо зафиксировал внимание слушателей на том, что тысяча восемьсот девяносто девятый тоже был им рекомендован как место вполне спокойное. А на самом деле там их поджидало вот это…
И это самое «это» являлось инструментом воздействия на человеческие реальности существ совсем нечеловеческих, обитающих где-то поблизости, в реальностях, расположенных на расстоянии, может быть, вытянутой руки.
– Страшные вещи вы говорите, Михаил Фёдорович, – сказал Исаков, выглядевший по-настоящему потрясённым, без всякого наигрыша. – И как теперь прикажете жить с таким знанием?
– Я ведь живу, и ничего. Вообразите, что вы по-прежнему на фронте. И неприятель в любой момент готов вас удивить самым неприятным образом. Пусть у вас на флоте ядовитых газов и столь внезапных изобретений, как танки, не применяли, но немецкие подводные лодки в четырнадцатом – это ведь тоже не стакан лафита?
Каперанг немного подумал, усваивая услышанное. В целом ведь, если разобраться, ничего сверхъестественного Басманов не открыл. Если есть один мир, вполне благожелательный, посланцы которого спасли Белое движение и продолжают всячески помогать Югороссии небывалыми техническими новинками, отчего же не существовать другому, однозначно злому и враждебному? Всё ведь так устроено – тень и свет, порядок и хаос, Бог и Дьявол… Как выражался знакомый корабельный иеромонах: «Сие знаменует гармонию природы».
Катранджи, тот был совсем не удивлён. Разве что чисто биологическим аспектом истории – каким образом могут существовать на Земле насекомые таких размеров и как налажена система управления их поведением. Не собаки, вообще не животные, мозгом не снабжены. Всё же два факультета он окончил, в естествознании разбирался.
– Именно поэтому, поскольку ни мы, ни наши друзья не представляем себе всех цепочек причин и следствий, объединяющих все известные нам явления, для меня лично начавшиеся ничем не примечательным константинопольским утром двадцатого года, нам и приходится перестраховываться, как у них выражаются. Ну, как в тропическом лесу, когда не знаешь, болото под ногами разверзнется ли, саблезубый тигр выскочит из зарослей или, наоборот, невидимый глазу москит уже впрыснул вам смертельный яд. Сейчас мы не знаем, кто за нами наблюдает, какие планы строит и в какой момент нанесёт удар. Единственное, что в наших силах, – быть готовыми ко всему и по возможности поступать неожиданным и непонятным для врага образом…
– Образно выражаетесь, – с одобрением сказал Исаков. – Мне это напоминает что-то из раннего Средневековья. Весь мир полон демонов, ведьм, злых духов, и спасение только за стенами монастыря, в постоянной молитве и совершении предписанных ритуалов. Причём никто наверняка не знает – помогут ли они или всё так, для сохранения душевного равновесия…
– Очень близко к истине, – поддержал его Катранджи. – Но ведь другого выхода у нас всё равно нет?
– Нет, – согласился Басманов. – Поэтому импровизируем кто во что горазд. Может, ношение пудовых вериг поможет, может – святая вода или танцы шамана с бубном… И вот такие наши «многоходовки».
– Ну, шаман у нас точно есть, – усмехнулся Ибрагим, имея в виду Удолина и его компанию магов-некромантов. – А если ближе к делу?
– Я к этому и веду. Посмотрите. – Басманов достал из кармана бинокль чуть больше театрального, но силой не уступающий хорошему морскому призматическому. Поднёс его к глазам и протянул сначала Катранджи как уважаемому гостю. До Исакова очередь не дошла, потому что вахтенный с мостика крикнул: – Судно на зюйд-ост, сто десять градусов.
В бинокль у кромки горизонта отчётливо обрисовался силуэт на первый взгляд неподвижного корабля, поскольку над его трубами не было ни малейших следов дыма. А без дыма здесь мало кто ходил, если не считать дизельных броненосцев Черноморского флота. Даже новейшие, достроенные после войны «Новики» «Ушаковской серии»[149] всё равно хоть немного, а дымили.
Через минуту до яхты донёсся гром, похожий на отдалённый выстрел двенадцатидюймового орудия.
Только Басманова знал, что подобным звуком сопровождается перенос крупной массы через межвременной барьер.
Остальные просто посмотрели на небо, не увидев туч, слегка удивились. О том, что где-то может идти бой, мыслей не возникло.
Меньше чем через полчаса к борту «Абрека» «с шиком», гася тридцатиузловую скорость «полным назад», подошёл крейсер «Изумруд», сначала семафором с мостика, а потом и голосом испросил разрешения швартоваться «борт к борту». Разведённой реверсом волной яхту ощутимо раскачало, но рулевой и швартовая команда «Изумруда» сработали выше всяческих похвал.
На палубу «Абрека», ещё до того, как корабли прижались кранцами и остановились, рисуясь марсофлотской лихостью, перепрыгнул моряк в белом кителе с Георгиевским крестиком на груди.
– Капитан второго ранга Белли прибыл в ваше распоряжение, господин полковник, – сверкая белозубой улыбкой, доложил он Басманову, всем прочим отдав легкий полупоклон. Ни Катранджи, ни Исаков заслуживающими отдельного внимания фигурами ему не показались.
– И отчего это вдруг? – спросил Басманов. – Да вы подсаживайтесь, прибор сейчас принесут, – указал он капитану на накрытый стол. – Вроде на эту тему у нас ни с кем разговора не было…
И тут же в кармане у него подал вибровызов «портсигар» Верещагиной. Как и обещал Воронцов – «если что».
Полковник отошёл за ближайший кильблок и откинул крышку блок-универсала.
– Слушаю, Дмитрий Сергеевич…
– Это я тебя слушаю. Крейсер подошёл?
– Так точно. Белли минуту назад представился. Пижонит, как всегда. И темнит…
– А ты чего хотел? Дело молодое, я б тоже сейчас козликом скакал. Девиц поблизости нет?
– Нет, на берегу остались.
– Значит, пусть службу без восхищённых глазок вокруг несёт. Он тебе сейчас полностью подчинён. С Катранджи я переговорю, через радиорубку крейсера, а дальше по обстановке.
– Так Ибрагима что, на крейсер переправить?
Пока Исаков расспрашивал кавторанга, откуда здесь взялся его странный крейсер, вроде как систер-шип погибших в японскую и мировую «Изумруда» и «Жемчуга», но и отличающийся в существенных деталях, Катранджи прямо по корабельному радиотелефону общался с Воронцовым.
Впрочем, в этом для него ничего странного теперь не было – события в Замке сильно расширили его кругозор.
Дмитрий не стал говорить ему, что вместо трёхнедельного, как минимум, перехода в Крым из новозеландского форта решили организовывать его переправу через половину глобуса опять же с помощью Замка, то есть как бы помимо всяких контактов с материальным миром и, само собой, без потрясений соседних реальностей. Хотя, с другой стороны, всё их множество входило в единый континуум Гиперсети, и каким-то образом между собой взаимодействовало, опять же по-библейски – «нераздельно и неслиянно».
Единственный эффект, от которого избавиться не удавалось даже в таком варианте, – звуковой, адекватный переносимой массе. Что полностью подтверждало «посюсторонность» форзейлей, Замка и всего с ними связанного. Переносы материальных объектов по методикам Удолина, сквозь уровни эфира, никакого воспринимаемого человеческими чувствами эха не создавали.
Вышел турок из радиорубки в состоянии странной задумчивости.
– Что-то случилось, Иван Романович? – участливо поинтересовался Басманов прямо с палубы «Абрека». От мостика крейсера его отделяло не больше пяти метров. Мало ли какие у человека могут быть неприятности, раз из другого мира его «к прямому проводу» позвать просят: гарем экстренно и неизлечимо заболел, биржевый крах случился или соратники, пользуясь его отсутствием, экстренный «октябрьский пленум»[150] провели.
– Ничего особенного. Просто этот ваш «товарищ» сказал мне, что всё меняется. Что сегодня же нужно загрузить вот на этот корабль весь наличный запас вооружения и немедленно переправить его в указанное мною место…
– В смысле?
– Я должен за ближайшие три-четыре часа определить новое место выгрузки, всего одно, и не из тех, что раньше планировал. С вашей помощью связаться с кем-то из доверенных моих людей, которые должны не позднее завтрашних четырёх утра (Катранджи назвал день и время для своей реальности) встретить груз и иметь при себе ликвидные ценности на оговоренную сумму… Как-то быстро и неожиданно у вас там обстановка меняется… И вообще, о сумме мы пока не условились, и роль господина Воронцова мне теперь совсем непонятна.
Ибрагим выглядел не то растерянным, не то обиженным, что для такого человека было совсем не свойственно. Да и вообще, с момента, как он оказался в орбите «Мальтийского креста», он довольно сильно изменился. На набережную Одессы совсем недавно сходил будто бы совершенно иной персонаж.
– Ну с суммой мы решим. Иван Степанович, – повернулся он к Исакову, – свяжитесь с берегом, пусть доложат, чего и сколько они могут отгрузить сегодня до… полуночи. Передайте, что под погрузку подойдём через… За час управимся? Вот, значит, пусть и начинают товар на рампу подавать…
– А роль адмирала Воронцова… – ответил он на предыдущий вопрос Ибрагима. – Вот такая у него роль – главного пожарного, на случай непредвиденных случайностей, о которых мы только что говорили.
…В одной из многочисленных бухт Севастополя ещё с Крымской войны, а то и раньше располагались минно-артиллерийские склады, в двадцатом ещё году, сразу после легализации «господина Ньюмена» с друзьями в качестве ближайших помощников генерала Врангеля переоборудованные в весьма своеобразный «завод + арсенал». В нем хранились отнюдь не реальные запасы оружия и иной техники, а лишь «выставочные образцы», нужные в основном для демонстрации немногочисленным заказчикам или особо доверенным инженерам. Но действительно, секретные и недоступные никому из «местных», кроме Басманова, помещения таили в себе то, благодаря чему во многом и существовала Югороссия.
Один зал занимали собственно дубликаторы и обеспечивающая их работу аппаратура, а два других – собранные из медных полос и стержней клетки, вроде тех, что предназначены для содержания зверей в зоопарках. Клетки были разных размеров – от маленьких, «трёхкубовых», до полномасштабных, достаточных, чтобы в них помещались по два «нормальных товарных вагона» образца 1875 года. Те самые всем известные «теплушки». На них всё и было рассчитано. После ряда экспериментов Левашов убедился в оптимальности именно такой конструкции. В «приёмное отделение» дубликатора загонялся вагон с любыми грузами, а через несколько секунд в «отсеке выдачи» появлялась его точная копия. Вагон сразу можно было цеплять к маневровому мотовозу и отправлять на железнодорожную станцию или на пирс, где была оборудована довольно простая перегрузочная система из списанных корабельных кильблоков и шлюпбалок. После чего дублирование повторялось нужное число раз. Необходимая для технических нужд и обеспечения процесса «трансмутации» (а как ещё назвать производство материальных предметов из атомов окружающей атмосферы, а может – из пресловутого вакуума?) электроэнергия поступала с переоборудованного и поставленного под берегом на бочку списанного крейсера «Память Меркурия», заодно исполнявшего роль хорошо вооружённой плавказармы для роты охраны объекта.
Казалось бы, располагая таким источником неограниченного количества материальных благ, Югороссия могла бы обеспечить себе уровень жизни, превосходящий таковой в каких-нибудь Эмиратах будущего времени, подобно героям «Туманности Андромеды» или «Полдня» забыть об «отупляющем производительном труде», полностью отдавшись наукам и искусствам.
Но, прежде всего, этакая «воплощённая утопия» никому в «Братстве» не была нужна – все прекрасно понимали, к чему она, будучи перенесена на «грешную землю», в ближайшем будущем приведёт и саму себя и весь окружающий мир. Самое же главное – все отлично помнили рассказ Шекли «Кое-что задаром». Никто ведь на самом деле не представлял, откуда что берётся и какова в случае чего может быть расплата. Антон, передавая Левашову схему дубликатора, конечно, заверил его в полной безвредности этой игрушки, но верить что Антону, что самому Замку на слово… Бесчисленные истории о дьяволе и прочих подобных существах давали достаточно поводов для сомнений и сугубой осторожности.
Поэтому, как и многие другие возможности, имевшиеся в распоряжении «Братства», использовались с крайней осторожностью и по преимуществу «в условиях крайней необходимости». И всё равно, ненаучно выражаясь, «энтропия нарастала» и «система разбалансировывалась» с каждым годом всё больше, что было очевидно невооружённым глазом. Сейчас Воронцову казалось, что если бы они после образования Югороссии не делали больше совсем ничего, то жили бы не в пример спокойнее. Но ведь не поспоришь, без всякого с их стороны умысла то и дело возникали ситуации, из которых не было другого выхода, кроме снова и снова прибегать к потусторонним методам и средствам, поступать тем самым, «единственно возможным» образом. В связи с этим очень актуально звучал ещё один рассказ Шекли – «Опека». Там у героя с его сверхъестественным попечителем состоялся такой разговор:
«… – Я не сомневаюсь в ваших предсказаниях. Но только замечаю, что до вашего появления жизнь не представляла такой опасности.
– Конечно, нет. Но должны же вы понимать, что раз вы пользуетесь преимуществами опеки, то должны мириться и с её отрицательными сторонами.
– Какие же это отрицательные стороны?
– До встречи со мной вы были как все и подвергались только риску, вытекавшему из ваших житейских обстоятельств. С моим же появлением изменилась окружающая вас среда, а стало быть, и ваше положение в ней. Известно ведь, что избегая одной опасности, открываешь дверь другой.
– Вы хотите сказать, – спросил я раздельно, – что с вашей помощью опасность возросла?
– Это было неизбежно, – вздохнул он».
Так и сейчас – неизбежна была необходимость включить дубликатор на проектную мощность, пренебрегая тем, что где-то (и когда-то) произойдёт гигантский отбор энергии и неизвестно какие побочные явления, вытекающие из преобразования бог знает чего в сложно-упорядоченные материальные структуры. Что-то такое упоминалось в «Понедельнике…», со ссылкой на «обобщённый закон Ломоносова – Лавуазье», но без всяких подробностей.
И ещё предстояло в очередной раз организовать сеанс радиосвязи между параллельными мирами и со сдвигом по времени, что, несомненно, ещё больше раскачивало мировой эфир или что-то другое, его заменяющее.
Басманов, к его счастью, в тонкости взаимоотношения «Братства» с иномирными структурами посвящён не был и воспринимал ставшие ему доступными чудеса столь же спокойно, как в детстве только что вошедшие в употребление телефон, электрическое освещение, автомобиль и даже показательные полёты аэропланов, собиравшие больше зрителей, чем выступления самых знаменитых артистов и даже «французская борьба».
– Вы хотите сказать, что, погрузившись сегодня здесь, вы обещаете доставить груз в любую точку земного шара завтра к утру? – продолжал шумно удивляться Ибрагим, которому первого знакомства с возможностями потусторонних миров оказалось мало. – Моим людям не хватит времени, даже чтобы собрать требуемую сумму. А кстати, мне так никто её и не назвал до сих пор…
– Я, как вы должны понимать, вам сказать совсем ничего не хотел. Это вы мне пересказали ваш разговор с совсем другим человеком. Кроме того, о «любой точке земного шара» разговор вряд ли у вас шёл. Антарктида или, к примеру, Гренландия едва ли фигурировали. – Басманов отвечал спокойно и даже слегка скучающе, в духе флегматичного майора Мак-Наббса из «Детей капитана Гранта». – В том, что капитан Белли вас доставит по назначению и точно в срок, я не сомневаюсь. Значит – дело за вами. Назвать место и гарантировать оплату…
– Но сумма! И количество?! Мы весь день разговариваем, а до главного так и не дошли.
– Иван Степанович, это по вашей части, – повернулся полковник к Исакову.
– Чем мы располагаем на данный момент? – спросил каперанг у робота, изображающего старшего лейтенанта артиллерийско-технической службы, явно засидевшегося в чине и не рассчитывающего на поворот судьбы к лучшему. Обычных местных людей к столь секретной и важной технике не допускали, разве что в качестве грузчиков и наружной охраны. А о том, что «начальник арсенала» – механическое существо, не подозревал и сам Исаков. Считал его просто офицером, через половину экватора добравшимся в Севастополь из Владивостока вместе с отрядом капитана первого ранга Китицина в двадцатом году. Так оно в принципе и было, тогда ещё «лейтенант Весельский» был поставлен на должность прямо с момента создания в этих пещерных хранилищах мало кому вообще известного «арсенала», снабжавшего винтовками «СВТ» ещё корниловцев перед Каховским сражением.
– Согласно вашему запросу в настоящее время имеем по двадцать тысяч стволов «АКМ», «АКМС» и «СКС», две тысячи «СВД», полторы тысячи «РПК» и «ПКМ». Боеприпасы согласно разнарядке…
– А гранаты, взрывчатка и остальное? – вмешался в рапорт Катранджи.
– Так точно. Двадцать тысяч ручных гранат разных типов, пятьсот «РПГ» и пять тысяч выстрелов к ним. Само собой – ЗИПы, кожаное снаряжение, разгрузки… Пистолеты есть, «ТТ» и «08», но заказа не было.
– Пистолеты мне как раз не нужны. А вот военная форма, каски, радиостанции и прочее? Мы как договаривались?
– Успокойтесь, Иван Романович. Обстановка поменялась слишком быстро. Всё требуемое вы получите следующей партией, в пределах ближайшей недели. А сейчас, если вы согласны с ценой, я прикажу начать погрузку на крейсер… Всё-таки шесть дивизий вооружить вы сразу сможете. Едва ли все они стоят в ротных колоннах в ожидании оружия. Мы успеем…
– Так назовите же её наконец! Хватит ходить вокруг да около. И ещё. Мне немедленно нужно встретиться с моими помощницами…
– Всенепременно. На яхте мы доберёмся до Графской пристани через полчаса. Их тоже туда доставят. И час – на оформление документов. Отлично управляемся. Так что я приказываю начать погрузку…
– Но мы даже приблизительно не договорились. Если цены будут…
– Возьмите себя в руки, Иван Романович, – это уже вмешался Исаков. – Мы обязательно договоримся. От меня ещё никто не уходил без товара…
И улыбнулся так простодушно, что у Катранджи резко обострились все его антиармянские комплексы, хоть и был он вполне европеизированным человеком, «истинно русским» по легенде.
Глава одиннадцатая
Самым подходящим местом для выгрузки своего товара Катранджи после долгих размышлений (слишком много факторов приходилось рассматривать и учитывать) выбрал принадлежащий ему небольшой скалистый островок у юго-восточного побережья Сицилии. Ничем особо не примечательный, кроме великолепного климата, пейзажей несравненной красоты, открывавшихся с веранды его виллы, перестроенной из палаццо какого-то аристократа XIV или XVI века, множества маленьких бухт с тончайшим золотым песком. Сама вилла была окружена густым садом, переходящим в дикие непроходимые заросли акации-гледичии, упрочненные вдобавок немыслимыми переплетениями колючей проволоки разнообразных сортов и видов, усиленной минно-взрывными заграждениями. И располагалась эта «линия Катранджи» на почти отвесных склонах, покрытых естественными трещинами, осыпями и кавернами. Проще говоря, никакие горные стрелки высочайшей квалификации, хоть итальянские берсальеры, хоть русские егеря, преодолеть эти естественно-исскуственные заграждения не могли иначе, как по воздуху. Но этот вариант тоже был предусмотрен.
Для связи с внешним миром имелся там, поблизости, на плоской вершине, небольшой аэродром, вернее – взлётно-посадочная полоса легкомоторных самолётов и вертолётная площадка с приличным огневым прикрытием и дистанционно управляемыми МЗП[151]. Пятьюстами метрами ниже по вертикали и в трёх километрах пути по извилистому серпантину – прикрытый скалами от зимних штормов заливчик с волноломом, причальным пирсом и эллингом. Его «Лейла» и несколько других расходных яхт размерами и водоизмещением превосходили крейсер «Изумруд», так что проблем со швартовкой и разгрузкой возникнуть не должно было.
Катранджи не был бы восточным человеком, притом достигшим таких высот собственным умом, хитростью и предусмотрительностью, если бы не обеспечил несколько «запасных входов и выходов». Через его непреодолимые заграждения на склонах горы вело несколько извилистых «козьих» тропок, по которым знающий дорогу мог за полчаса спуститься и за полтора – подняться от виллы к морю и наоборот. Только при этом нужно было специальным сигналом отключить разнотипные взрыватели на щедро расставленных вдоль тропок минах.
А ещё была вертикальная шахта, что вела из подвала дома в расселину неподалёку от пристани. По этой же шахте по трубам наверх подавались ледяная артезианская и горячая минеральная вода из расположенных под подошвой островка источников. Одним словом, в оборудование этого «приюта отдохновения» была вложена уйма труда и не меньше – фантазии и денег.
Надо ещё отметить, что в мире «другой России» и ТАОС по не совсем понятным причинам туризма в том понимании, что он имел на Главной Исторической Последовательности, практически не существовало. Вернее, он был, но в том виде, что сложился примерно ко времени перед началом Первой мировой войны. Отсутствовала, так сказать, индустрия туризма. Люди не столько массово перемещались по миру для краткосрочного отдыха на популярных курортах – в Таиланде, на Канарах, Египте или Турции, – сколько именно путешествовали. Отправлялись в долгие познавательные поездки, обстоятельно и не спеша знакомясь с культурой Италии, например, или с достопримечательностями вроде Ниагары, Гран-Каньона, озера Байкал, пещерных храмов Индии и тому подобных мест. На осмотр Эрмитажа, галереи Уффици или Третьяковской галереи принято было тратить не два часа, а как минимум неделю. Исходя из этого формировались и другие «культурные паломничества». Месяц – «Русские сезоны в Ницце», другой – «Фестиваль Неаполитанской песни» и так далее.
Как вид активного отдыха существовали сафари в достаточно спокойных местах, где приезжий европеец или американец не рассматривались как законная добыча любого, кто имел желание и возможность ограбить, убить чужака, продать в рабство или использовать в целях получения выкупа. В основном же процветали виды спокойного, если так позволено выразиться, отдыха. Двух-трёхмесячные выезды на близкие и не очень дачи, лечение на популярных курортах, проведение целых сезонов в местах с благоприятным или считающимся целебным климатом. Например, вполне нормальным считался образ жизни тех же Майи Ляховой и Татьяны Тархановой и тысяч им подобных, с началом южной весны отъезжавших из столиц на воды, где у них имелись собственные дома. Люди попроще снимали комнаты в пансионатах и предназначенных для длительного, почти домашнего проживания гостиницах.
Трудно сказать, почему сложилось именно так. Возможно, оттого, что по историческим причинам здесь не возник так называемый средний класс, то есть общность людей с примерно одинаковыми культурными запросами, финансовыми возможностями и общей идеологией. Общество оставалось по преимуществу сословным. Лица с сопоставимыми уровнями доходов – промышленники, купцы, рантье, лица хорошо оплачиваемых свободных профессий, чиновничество и аристократия не чувствовали себя принадлежащими к некоей специфической общности, скорее – строго наоборот. Это как с интеллигенцией – какой-нибудь недоучка, вроде Васисуалия Лоханкина, мнил себя её представителем, и «общество» не возражало, но назвать «интеллигентом» директора департамента с двумя высшими образованиями, свободно говорящего на шести языках – язык не поворачивался у самых свободомыслящих граждан.
Да и сама структура мира, весьма неспокойного за пределами Периметра, резко поделенного на цивилизованную и живущую по законам раннего Средневековья части не настраивала людей на хаотичное перемещение по планете в поисках новых впечатлений.
В результате та же Сицилия, о которой сейчас идёт речь, и большинство островов Средиземноморья оставались землями весьма патриархальными, если не сказать дикими, где местное население продолжала жить почти так же, как сто и триста лет назад. Не было там бесчисленной массы курортных посёлков и популярных пляжей, и от Таормины до Исола Гранде, крупных по здешним меркам, причём хорошо укреплённых городов простирались сотни километров никак не охваченных хозяйственной деятельностью земель. Поскольку, кроме всего прочего, здесь было весьма неспокойно.
Всё южное побережье Средиземного моря, от Гибралтарского пролива и до Дарданелл, исключая Израиль, жило по законам, больше похожим на те, что действовали во времена финикийцев, ещё до возникновения Pax Romana[152]. Среди жителей прибрежных поселений, сплошь каменных, с окнами, обращёнными внутрь дворов, рыболовство и контрабанда считались самыми невинными занятиями, потому что были и другие, к которым сицилийцы готовились с раннего детства.
Остров Ибрагима по всем этим причинам мог считаться местом, весьма подходящим для оборудования здесь базы снабжения его вновь создаваемой армии. Фактически вне юрисдикции держав, входящих в ТАОС, и одновременно настолько удобно расположенный географически, что в течение кратчайшего времени и практически беспрепятственно сюда могли подходить каботажные суда и садиться самолёты, получая предназначенный для переброски в нужном направлении груз. А в случае необходимости прямо здесь можно было организовать учебно-тренировочную базу для формирования и первичной подготовки боевых отрядов. Примерно так, как в двадцатом году на одном из островов греческого Архипелага обучался первый батальон будущих югоросских «рейнджеров».
Катранджи получил сообщение от одного из своих визирей, отвечавшего за военно-технические вопросы, что нужное количество людей во главе с ним самим уже прибыло на остров. К приёму товара готовы, и вся оговоренная сумма в золоте, драгоценностях и некотором количестве весьма ликвидных ценных бумаг, которые предполагалось использовать в этой реальности, тоже доставлена. «Изумруд» как раз подошёл к острову на пятьдесят с небольшим миль – полтора часа форсированного хода.
– Ну, можно сказать, что большая часть дела сделана, – сказал Ибрагим Басманову, выйдя из радиорубки крейсера на крыло мостика.
– На этот счёт у нас есть несколько поговорок, предостерегающих от излишнего оптимизма, – вместо Басманова ответил ему Кирсанов.
– У вас есть какие-то основания сомневаться? – насторожился турок.
– Никаких, кроме собственного, достаточно богатого опыта…
Жандармский полковник знал, сколько неожиданностей следует иметь в виду, когда работаешь с Востоком вообще и восточными людьми в частности. Да и место, где они находились, никак нельзя отнести к самым благостным и спокойным.
О возможности вариантов предупредил его и Воронцов, не случайно переигравший вдруг план миссии и приславший на роль транспорта даже для этого времени хорошо вооружённый крейсер, а на нём, кроме подготовленного ко всяким жизненным перипетиям экипажа в триста человек, людей и роботов, разместилась ещё и рота «басмановских рейнджеров», давно, впрочем, так не называвшихся даже между собой. После многочисленных столкновений с англичанами на суше и на море они предпочитали называться попросту – «ударниками», как в Первую мировую (для них просто – Великую) войну именовались бойцы добровольческих «ударных» подразделений. И, входя в Отдельный корпус спецопераций, продолжали числиться за теми полками, в которых начинали службу – Корниловским, Марковским, Алексеевским, Дроздовским… А кто и за Преображенским или Семёновским, но это уж совсем «старики», царских выпусков, вроде самого Басманова.
До рассвета оставалось больше часа, когда «Изумруд» самым малым ходом вышел в видимость острова. Даже без ноктовизоров и радиолокаторов его горбатый, скошенный к северу массив отчётливо проектировался на фоне едва-едва посветлевшего неба.
Уже по обычному радиотелефону Катранджи вызвал своего помощника.
– Мы подходим, у вас всё в порядке?
– Всё в полном порядке, эфенди. Грузчики ждут, как только вы подойдёте к причалу, сразу начнём.
– Скажите, пусть прямо сейчас посигналит, – подсказал Кирсанов. – Три длинные вспышки, две коротких, одна длинная…
– Зачем это? Будем подходить, свой прожектор включим.
– Сделайте, как я прошу, – не меняя интонации, сказал Кирсанов, и у Ибрагима пропало всякое желание спорить.
Не прошло и минуты, как, видимый даже без ПНВ, с вершины скалы, на которой располагался хозяйский дом, мигнул сильный фонарь.
– Ну что, вы довольны?
Кирсанов посмотрел на Басманова, потом на валькирий.
– Ну? Кто самый умный?
Кристина была готова первой, но из субординации сначала посмотрела на Басманова. Не пожелает ли сам ответить.
Михаил разрешающе кивнул.
– Что-то не сходится. Ответ пришёл слишком быстро – раз. И дан сильным армейским фонарём – два. Штатский человек, получив такой приказ, скорее, поднялся бы на верхний этаж и просто пощёлкал выключателем. Здесь глухое место и частная территория, от кого таиться? А вот кадровый военный, спецназовец или морпех чисто инстинктивно отреагировал бы именно так…
– Молодец, поручик, – с непонятной улыбкой сказал Кирсанов. – Ваш секретарь долго в армии служил?
– Совсем не служил. Он по другим вопросам. Но стреляет хорошо…
– А ваша охрана?
– Я вас понял, – подобрался Ибрагим. – Ну, дети поганого пса и портовой шлюхи (более резко в обществе девушек Ибрагим выражаться не стал, хотя и умел). Охрана – очень хорошие бодигарды и убивать обучены. Но не солдаты, нет… Значит…
– Пока ничего не значит, – пожал плечами Кирсанов. – Просто некто не сильно умный, значит, не разведчик, а вояка просто, отреагировал инстинктивно. Чтобы противник ничего не заподозрил, нужно исполнить требуемое как можно быстрее и чётче, такая у него логика.
– Так, может, дать прямо на огонёк главным калибром? – предложил с интересом прислушивающийся к словам специалиста капитан Белли. – Один снаряд – и всё, противник обезглавлен…
Кирсанова он весьма уважал как одного из своих спасителей, подобравших его замерзающим зимой двадцать первого года на перроне Омского вокзала[153]. Да и просто как человека, не скрывавшего своего острого неприятия замаскированного союза с «троцкистами». Владимир тоже ненавидел большевиков лютой ненавистью, и чувство это за минувшие шесть лет нисколько не угасло.
– Что вы, что вы! – перепугался Катранджи. – Мы же пока ничего точно не знаем. Да если вообще придётся стрелять, попрошу делать это очень аккуратно и по возможности мимо виллы. Там только подлинников картин на сотню миллионов. И библиотека редкой ценности.
– Придётся, Иван Романович, как бы ни хотелось этого избежать. Чутьё жандармское подсказывает. Не поверите, с конца шестнадцатого года у меня такое отвратительное настроение всё время было, что в феврале семнадцатого даже полегчало. И сейчас почти то же самое.
К высадке на берег приготовились два взвода, вооружённых пистолетами и автоматами бесшумной и беспламенной стрельбы, и третий, оснащённый уже тяжёлым оружием – пулемётами «ПКМ», «Утёс», АГС «Пламя», РПГ и ПЗРК. Катранджи наскоро набросал на листе бумаги из штурманского стола кроки прилегающей к вилле местности, расположение надворных построек и план дома. Особо выделил три тропинки, со всеми углами поворотов и ориентирами. Память у него была фотографическая. Тут же, на глазах у всех, Ибрагим дезактивировал минные заграждения, послав со специальной портативной рации, предназначенной только для этого, серию сигналов.
Но ему всё равно не верилось, что верный помощник его сдал и сейчас на берегу ждёт засада. Главное, чья? «Свои» бы нашли другие способы избавиться от хозяина, а тут, по словам Кирсанова судя, действуют таосовские вооружённые силы, никто другой бы не осмелился и ногой ступить на землю Катранджи. Но как всё вообще получилось, если по совету Воронцова он только вчера определил этот место для доставки товара и расчёта с поставщиком? Значит, всё готовилось давно, раз нескольких часов хватило перебросить на остров силы, достаточные для подобной операции. Тогда, выходит, и события в Одессе были организованы теми же силами и при участии… А он ведь доверял своим помощникам почти как сыновьям. Можно сказать, из рук всех выкормил. Как же их сумели перевербовать? Деньгами? Но у каждого из них всё было. У Фазиля Самед-оглу – в особенности. Неужели другие посулили больше, чем Ибрагим мог предложить?
А это как раз очень возможно. У Катранджи было хорошее русско-германское образование и жизненный опыт. Не так уж трудно было взглянуть на происходящее и с немецкой, и с русской точки зрения, отвлёкшись от чересчур ограниченной азиатской. С позиций чистого рационализма – предложили молодому человеку вместо должности, как ни крути, лакейской, самостоятельность, пусть в масштабах не сильно большого, но собственного ханства, хоть эмиром Кувейта какого-нибудь – и согласился, даже под страхом сдирания с живого кожи. Сколько раз так случалось, и не только на Востоке.
При этом изменник должен быть уверен, что сразу же после завершения дела его не зарежут и не утопят в море в кожаном мешке. Гарантии должны быть неубиваемые, которым поверить должен был помощничек.
А кто мог такие предложить? Против кого Катранджи собственную интригу затеял? Секунды хватило, чтобы перебрать в уме всех возможных противников и вспомнить реальные возможности каждого. И физические, и интеллектуальные, и, так сказать, волевые. Кто из частных врагов рискнул бы, как у Пушкина написано, «необходимым ради излишнего»? Выходит, они самые, «туманные альбионцы», как его русские друзья любят выражаться? А кто Палестину у дедов отнял? Они же! Ну, теперь посчитаемся…
– Вы что, действительно уверены, что мои люди меня предали и на берегу засада ждёт? – спросил Ибрагим, наблюдая, как за борт опускаются клиперботы с водомётными двигателями, такими же тихими, как моторы приличных легковых автомобилей. – Не верите мне и моим людям? – Хотя сам уже полностью поверил этому страшноватому, но всё равно располагающему к себе жандарму из совсем другого времени. Вот такого бы человека ему в помощники. Этот не предаст. Фарид-бек, надёжнейший из надёжных, предал, Фазиль – тоже. А эти не предадут. Врагами могут быть бескомпромиссными и беспощадными, но не предадут. Не их стиль. Как у них там – «Любовь – женщине, служба – царю, честь – никому!».
– Не-а! – безмятежно ответил Кирсанов. – Я очень давно догадался, что насчёт веры – это в церковь. Я и прямому с непосредственным начальству не верю, просто выполняю приказы, если считаю их разумными… Рациональность – вот мой девиз. Потому я при Государе только штаб-ротмистра получил, а мог бы и тогда полковника. Однако хватит разговаривать. Поехали…
– Подождите, – почти крикнула Кристина. – Мы с Мариной тоже хотим… Прокатиться. Это как раз по нашей специальности! – и искоса глянула на Кирсанова, как он оценит её порыв.
– Мы только переоденемся, минута всего…
– Пока горит свечка, – сострил Басманов, много чему научившийся от старших товарищей.
– Нет, мы правда…
– Отставить, поручик, – неожиданно холодно сказал Кирсанов. – Пока что я отвечаю за операцию, не Михаил Фёдорович. И запомните, я – другого типа человек. При мне, пока мы сами живы, женщины под пули не пойдут. Можете эту тему обсуждать в другом месте и с другими людьми. А меня даже вашими чинами и крестами не убедите. Стойте на мостике и любуйтесь красотами средиземноморской природы.
Кристина хотела что-то возразить, но глянула на Павла Васильевича и прикусила губу. Прямо как мадам Грицацуева. Спорить с этим мужчиной ей совершенно не хотелось. И тут же подумала – а как с ним жить, если вдруг придётся? Сразу же сама себе и ответила: «С удовольствием. Настоящий мужчина таким и должен быть. Что он, что Басманов. «С раньшего времени люди».
– Пойдут все, кому положено, – счёл нужным пояснить Кирсанов. – Я, к вашему сведению, тоже бы не прочь позабавиться. Но считаю, что шальная пуля вот в эту голову, – он показал пальцем на свой лоб, – принесёт гораздо больше вреда, чем отказ от наших с вами вполне естественных желаний. – Повернул голову к Басманову: – Простите, Михаил Фёдорович, развели ненужную дискуссию. Но я счёл необходимым…
– Ладно, Павел, проехали. Начинайте, Эльснер, – скомандовал он командующему десантной партией капитану. – Ввиду изменившихся обстоятельств – высаживайтесь километром левее и правее назначенного места. Обходите горку, поднимаетесь наверх, блокируете виллу и дорогу. Занимаете господствующие над пристанью высоты и ждёте. И только после тройной белой ракеты – общий штурм.
– А рации?
– Рации – само собой. Постоянно включены на приём у всех. Но штурм – по ракетам, – ответил Басманов.
В детали он вникать не собирался – у Эльснера боевого опыта было чуть меньше, чем у него самого, и вдесятеро больше, чем у любого аборигена.
«Изумруд» подходил к берегу демонстративно медленно, как бы подчёркивая нежелание капитана рисковать в отсутствие лоцмана. Довольно примитивная маскировка из листов фанеры и брезента на каркасах на расстоянии в две-три мили, да ещё в темноте делала его похожим на небольшой сухогруз, каких множество слоняется по Средиземному и прилегающим морям в поисках случайных фрахтов. Специальная дымовая шашка в средней трубе давала ровно столько чёрного дыма, как паровая машина тысячи в три индикаторных сил, работающая на «малый ход».
Сблизившись на расстояние прямой видимости – теперь контур «Изумруда» отчётливо просматривался и невооружённым глазом, – «пароход» снова вышел на связь. Катранджи, демонстрируя свою обычную подозрительность и тщательность к деталям, предложил помощнику выйти вместе с грузчиками на пирс и оттуда ещё раз посигналить фонарём.
– Я не хочу, Фазиль, раньше времени включать прожектор. Мало ли кто может его увидеть…
– Всё чисто, хозяин, никого постороннего вблизи острова нет и быть не может. Мы проверяли, и сейчас в море находится несколько катеров. Разве только подводная лодка вдруг всплывёт, – это он так пошутил, чтобы разрядить напряжение, которое и сам ощущал – чувствовалось по голосу.
– И этого нельзя исключать, – сухо ответил Ибрагим. – Выходи, мы пока подождём…
– Хорошо, я уже иду. Со мной двадцать человек и две машины. Грузить будем сразу на них. На вашем судне есть кран?
– Есть всё что нужно…
Капитан Эльснер вскарабкался на плоский отрог скалы, всего в полукилометре от въезда с дороги на территорию виллы, или, пожалуй, форта, так она отсюда выглядела. Выбрал подходящую промоину между большими камнями у подножия древней, перекрученной ветрами и временем оливы. Отсюда в ночной бинокль просматривалась и сама дорога, и вся бухта с причалом.
– Глупо было оставить нам эту позицию, – сказал он командиру первого взвода, устанавливавшему в щели между камнями тяжёлую снайперскую винтовку на сошках. – Теперь у них нет шансов.
– У кого – у них? – спросил поручик, настраивая прицел. – Может, тут никого и нет…
– Нет – значит, считай, внеплановую тренировку провели… Но я так понимаю – полковники наши зря паниковать не будут. Есть, наверное, информация. Хоть рота, хоть две «коллег» вполне могут и дом занять, и вон на тех склонах окопаться. Им ведь, я так понимаю, только корабль с грузом интересен, по сторонам глядеть незачем, остров контролируется. Насколько я знаю, местная охрана тут давным-давно каждую песчинку на пляже просеяла…
Из динамика рации донеслось несколько щелчком ногтем по микрофону. В течение ближайших минут такие же сигналы поступили и от остальных боевых групп.
– Готово. Лесков и Самохвалов тоже на позициях. Ещё минут пять, и третий взвод небо перекроет. Никто никуда не денется.
Сам аэродром с позиций «ударников» был не виден, он располагался несколько выше даже самой виллы, и сопоставимых горок на острове больше не было. Но любое летающее приспособление в момент отрыва от полосы или захода на неё оказывалось в самом выгодном положении для стреляющего – скорость минимальная, маневр исключается, бей, как тарелочку на стенде.
– Вон, смотри, началось шевеление, – указал взводный Эльснеру.
Действительно, у невидимых отсюда ворот виллы загудели моторы, донеслись хорошо слышные в предутреннем воздухе голоса. Освещая себе путь ближним светом фар, на дорогу выкатился сначала маленький открытый вездеход, слегка похожий на популярный в Югороссии «Донец», за ним два трёхтонных «Опель-блица».
Кузова грузовиков были полны людьми.
Эльснер присмотрелся, различая даже лица. Десятикратный панкратический бинокль давал такую возможность. Оружия вроде не видно, но сами пассажиры подозрительно похожи на военнослужащих. В отличие от штатских рабочих, они разместились в машинах организованно. И выглядят напряжённо. Привычному глазу это очень заметно. С чего бы простым грузчикам и охранникам сосредотачиваться? Радоваться должны, веселиться – хозяин приплыл, бакшиш наверняка даст за сверхурочку. А кто в джипе едет?
– Вот, пожалуй, и оно…
Эльснер в нескольких словах доложил увиденное на «Изумруд».
– Взять на прицел дорогу в самом крутом месте, пирс и всю бухту по протяжению пляжа. Уточняю, белые ракеты – сигнал для штурма виллы. После них радиомолчание между бойцами отменяю. Стрелять по пристани и машинам только по второй ракете – красной. До неё ваша ответственность – всё, кроме людей на пирсе, – ответил Басманов.
Когда машины проехали половину пути, «Изумруд» вновь дал малый ход, забирая чуть левее причала. Выйдя на траверз, крейсер сможет артиллерийско-пулемётным огнём перекрыть полным бортовым залпом и сам пирс, и дорогу на вершину скалы на всём её протяжении. Аэродром тоже. Одновременно по штормтрапам в море спустились пять роботов в варианте «боевых пловцов». Для подстраховки от «коллег». Кто их знает, может, вздумают на берегу внимание отвлекать, а штурмовать с моря начнут.
Несколько странные маневры «парохода» у помощника Катранджи и у того, кто им сейчас руководил, если и вызвали какие-то сомнения, то времени что-нибудь изменить в действующем плане уже не имелось. Все люди уже получили приказы и инструкции, до подхода судна к берегу остаются считаные минуты. Как только борт парохода коснётся пирса, штурмовая группа отлично подготовленных диверсантов морских пехотинцев «его величества», специализировавшихся как раз на абордажах и захвате укрепрайонов, ворвётся на палубу и всё будет кончено практически мгновенно. Если даже кроме двадцати-тридцати членов экипажа там окажется ещё какая-то охрана, оказать организованного сопротивления она не успеет – палуба и надстройки парохода давно взяты под прицел снайперов. И не простых сухопутных, а отлично знающих, как работать именно по морским объектам.
Излишняя самонадеянность слишком часто приводит к срыву самых тщательно проработанных планов – потому, что не находится человека, способного задаться вопросом: «А что, если противник ни в чём мне не уступает и даже превосходит (главная сложность – подумать именно так)? Какие контрмеры следует предпринять на этот, пусть и маловероятный случай?»
Но мало кто готов планировать операцию, исходя из такой «вводной». Особенно если принадлежит к несокрушимому флоту «Владычицы морей» и последнюю сотню лет не имел дела с равным по уму и силам противником.
Вот и сейчас – на какие неожиданные варианты стоило бы закладываться, если ситуации прозрачна, как хорошо вымытый и вытертый бокал? Туземцы – они и есть туземцы, как бы много они о себе ни воображали. Все нужные характеристики и сведения на главаря разновидности всемирной мафии, именующей себя «Чёрным интернационалом», давно известны, достаточное число близких к нему людей запуганы или перекуплены, все его шаги и поступки под контролем. Более того, есть сведения, что на самом высоком уровне он признаётся полезным на сегодняшний день союзником, с ним якобы достигнуты определённые договорённости, и сама нынешняя операция может рассматриваться скорее как воспитательный момент. Способ показать, что не следует затевать собственную игру в мире, где роли давно расписаны, что нужно знать свой шесток и не кукарекать, пока не разрешат.
Это, понятно, пример рассуждения лиц достаточно высокопоставленных, облечённых правом мыслить если не в глобальных, то в весьма широких масштабах. Им поступила информация, что Ибрагим Катранджи готовит какое-то серьёзное вмешательство в позицию на «мировой шахматной доске», для чего решил перевооружить свою гвардию современным оружием, и оружие это приобрести помимо и втайне от монополизировавших рынок корпораций. Идея сама по себе предосудительная, независимо от дальнейших целей самого магната.
И второй, не менее важный в финансовой геополитике момент. Неизвестным оставался источник (или источники) приобретения оружия на гигантскую сумму, достигающую, по словам окружающей Катранджи агентуры вышеназванных корпораций, миллиарда фунтов стерлингов. И это походило на правду, потому что для оплаты первой партии ближайший помощник Ибрагима Самед-оглу доставил ценностей и бумаг ровно на сто пятьдесят миллионов фунтов. Спешка была такая, что Катранджи прямо по телефону продиктовал код своего личного сейфа, где кроме золота в монетах и слитках, килограмма первично огранённых алмазов и полусотни редчайших антикварных мужских перстней (любил эфенди покрасоваться перед людьми своего круга) хранились, условно говоря, «контрольные пакеты» акций нескольких весьма серьёзных фирм, работающих на территории ТАОС. Допустить переход их в «чужие руки» кое-кто в Соединённом королевстве считал абсолютно недопустимым.
Поставщик оружия и, соответственно, получатель средств до сих пор был неизвестен. А это путало сложившиеся в «цивилизованном мире» схемы. Получалось, что объявился новый игрок, отбросивший считавшиеся незыблемыми приличия, решивший «смешать карты» и объявить, что намерен руководствоваться какими-то новыми правилами. Была ли это одна из держав, или не уступающая им по силам и бесцеремонности новая частная структура, как раз и предстояло выяснить.
Вообще в этой истории было слишком много неясностей. Очевидно только одно – Катранджи действует, что называется, в условиях острого цейтнота, потому что осуществляет всю операцию лично и таким образом, как никогда раньше не работал. Если даже предположить, что на его сторону тайно перешла Америка или Россия (или – он им продался), образ их действий не походил ни на что практиковавшееся раньше. И перевод денег, и доставка «товара» могли быть осуществлены гораздо более аккуратно, по отработанным каналам, какими Ибрагим пользовался десятилетиями. Это стало бы известно, но не привлекло чересчур пристального внимания британских специалистов, тщательно отслеживавших события на так называемых «свободных территориях» и внутри всей тайной империи Катранджи.
А здесь (навскидку) всё выглядело так, будто в контакт вступили и создали собственный комплот две равноценные структуры, заинтересованные в конфиденциальности своих действий по дестабилизации успешно функционирующего уже почти столетие миропорядка.
Что эти действия находятся в ощутимой связи с действиями новой Российской империи, объявившей о выходе из ТАОС, было ощутимо любому квалифицированному аналитику, но ни общие цели, могущие связать изначально враждебные системы («Интернационал» Катранджи, в значительной мере состоявший из мусульман, всегда боролся за контроль над «исламскими территориями Империи»), ни их согласованная политика (на какой разумной основе?) пока не просматривались.
Именно для этого SIS[154], получив ещё самую первую информацию о странных маневрах Катранджи, немедленно присвоила его разработке высший приоритет. Целое спецподразделение перешло на круглосуточный режим работы по направлению «Шейх». Через премьер-министра было получено право подключать к расследованию все нужные ей государственные службы, в том числе и Адмиралтейство, которое и само вело работы в этом направлении. Временно были сняты запреты на силовые акции за пределами давно поделенных с другими союзниками «зон ответственности». А что стесняться, если пока необъявленная война уже, считай, началась. Чего стоило хотя бы явно силовое вмешательство русского флота в проводимую Британией операцию?[155] Абсолютное недопустимое нарушение суверенитета и «свободы мореплавания». Но если бы кто-то попробовал заикнуться, что акция адмирала Хилгарта сама по себе задумывалась как антироссийская, предназначенная дать хороший «казус белли», то получил бы возмущённый ответ: «А какое это имеет значение? Англия сама решает, как ей поступать, а кто не согласен – враг, мерзавец и гнусный агрессор!»
Но времени на тщательную проработку «Шейха» катастрофически не хватало, тем более что и с других направлений проблемы сыпались одна за другой, так что нормальный человек, окажись он на месте нынешних короля с премьер-министром, насторожился бы, приказал «машины на стоп, в отсеках осмотреться».
Пока громоздкая и в полной мере бюрократизированная служба только начинала выходить на рабочий режим, в Лондон поступило экстренное сообщение, что в ближайшие сутки пароход с оружием, следующий из неизвестного порта, подойдёт к берегам Сицилии. Причём руководит операцией лично Катранджи. А о том, что за судно, каков экипаж и есть ли вооружённое сопровождение – ни слова. Мог он, конечно, мобилизовать десятка два головорезов из ближайшей «боевой ячейки», но не больше. Больше, чем на реальную охрану, турок на свой авторитет полагается.
Всё, что успели предпринять лондонские начальники, – это приказать находившейся в Гибралтаре усиленной роте постоянной готовности немедленно десантироваться на остров с воздуха и захватить пароход вместе с Катранджи, причём взять его обязательно живым и по возможности здоровым. В ближайшие сутки туда же подойдёт несколько кораблей средиземноморской эскадры, и уже тогда можно будет действовать по привычным моделям. Но самому Катранджи при таком повороте событий придётся исчезнуть, возможно, и навсегда. Свой шанс он упустил ещё вчера. Слишком он много знает, чтобы позволить секретнейшей информации просочиться в зону внимания не только «общественного мнения», но и чужих разведок, как враждебных, так и союзных. Причём очень возможно, что его не убьют. Просто остаток дней он проведёт этакой новой «железной маской», оказывая услуги и ежедневно надеясь, что удастся выкупить если не прощение, то хотя бы свободу. Блажен, кто верует. А Британия умеет хранить свои секреты.
Заодно, разумеется, исчезнут и его «активы». Всё, что можно будет взять на пароходе и самой вилле, которая непременно будет разграблена и сожжена «грабителями». Кого назначат на эту роль – будет видно. По обстоятельствам.
А потом начнётся и передел всей империи Катранджи. Многоходовка получалась великолепная. А если совместить её с планирующейся скоротечной «карательной операцией» против России – перспективы перед английскими теоретиками вырисовывались лучезарные. И всего в результате одной операции на задворках «Ойкумены», едва ли успеющей получить какое-то отражение на страницах ведущих мировых газет.
«Изумруд» сблизился с пирсом на дистанцию, с которой наверняка уже можно было распознать его небрежную маскировку. Любой опытный моряк сразу сообразил бы, что надстройки выше фанерного фальшборта – явная декорация, а вот форма форштевня, изгиб скул и звук машин никак не совместимы с природой каботажного трампа[156]. Кроме того, у мыслящего специалиста немедленно должен был возникнуть вопрос: откуда это могла дошлёпать сюда такая калоша? Едва ли из портов Южной или Северной Америки, а в пределах внутреннего моря портов, где он мог бы беспрепятственно принять огромную партию контрабандного оружия, просто не существовало в природе. Разве что появиться из устья Дарданелл… Так быстро и с грузом оружия – только из России. Север Африки и так контролировался «Интернационалом», Гибралтар и Суэц – англичанами. Французы и итальянцы сами в такую игру не ввязались бы. Оставалась ещё Сербия – из её портов куда ближе, чем из Чёрного моря. Но Сербия и Россия – это, считай, одно и то же. В любом случае – после захвата транспорта кому следует – разберутся.
Но как раз торговых моряков среди офицеров, командовавших группой захвата, не было. Сто двадцать морских пехотинцев и полтора десятка квалифицированных «диверсантов широкого профиля» при пяти офицерах, старший из которых был всего лишь майором, – это всё. И никто из них не был обучен думать о вещах, не входящих в круг ближайшей боевой задачи. Тем более отвлекаться на детали, к ней не относящиеся.
План командира, майора Стента, был хорош своей простотой: занять все ключевые точки самой виллы и её окрестностей, включая аэродром, обеспечить огневое воздействие по подошедшему пароходу и людям на нём, если вдруг возникнут какие-то непредвиденности. Предложение Катранджи выслать на пристань команду грузчиков ещё более упрощало задачу. Майор прекрасно знал, что ночью стрелять вверх по рассредоточенным и замаскированным огневым точкам – безнадёжное дело. В то время как сам пароход будет как на ладони, десантники смогут стрелять под таким углом, что и за надстройками не спрячешься. Или сразу сдаваться, или искать укрытия в низах. Майор знал и то, что отход задним ходом от пирса займёт слишком много времени, если даже капитан решится на это. Противотанковый управляемый снаряд долетит до ходовой рубки гораздо быстрее.
Охрана острова состояла из полусотни отъявленных головорезов, знавших здесь каждый метр и известных в лицо самому хозяину. За время нахождения на острове майор с помощью предателя Фазиля легко убедил «янычар», что какие-либо попытки сохранения верности теперь уже бывшему эфенди будут наказаны быстро и, выражаясь доступным языком, – окончательно. Зато в случае «правильного поведения» все они будут вознаграждены и, по выбору, смогут продолжить службу или отправляться с «премией» на все четыре стороны. Восток есть восток – предательство не оправдавшего доверия повелителя здесь считается как бы нормой жизни, а «тотальные зачистки» рядовых исполнителей обычно не практикуются, иначе сломался бы весь вековой уклад.
Теперь двадцать человек местных, без оружия, предназначенные именно на роль грузчиков, ехали в машинах к берегу, а между ними, сложив оружие на полу кузовов, разместились ещё столько же морских пехотинцев, эти уже в полной боеготовности. Их и разглядел в бинокль Эльснер. «Рыбак рыбака видит издалека», как говорится. Вместе с предателем Фазилем в джип сели два офицера, и за руль старший сержант. В общем, всё должно было получиться как надо. На судне если и готовы к неожиданностям, то не против таких сил.
Басманов свои силы на крейсере разместил как раз из расчёта, что противник поступит так, как подсказывает ему примитивная логика. А никакой другой здесь и придумать нельзя было – принятый алгоритм теперь побуждал англичан действовать безвариантно.
Все оставшиеся на крейсере бойцы укрылись на левом, противоположном берегу борту. У спаренного «КПВ» на корме и за щитами бортовых орудий, согласно боевому расписанию, изготовились к бою только матросы-роботы. Сам полковник вместе с Белли, Кирсановым и девушками расположился в боевой рубке, броня которой выдерживала попадание стомиллиметрового снаряда. Хотя пушки с собой десантники вряд ли привезли, а гранатомёт любой конструкции с высот не достанет, а с пирса не успеет (о ПТУРСах полковник как-то не подумал). Но и простую автоматную или пулемётную пулю без толку ловить не хотелось.
Сближение происходило по классическим законам киножанра – с берега на пирс въезжали грузовики с набитыми людьми кузовами, с моря к нему же бесшумно скользил пароход с пригашенными навигационными огнями, только один маленький фонарь бросал на плещущую о стенку воду и обросший длинной бородой водорослей бетон узкий конус света. Не хватало только тревожной музыки, создававшей бы у зрителей должный настрой. Впрочем, саспенса и так хватало, причём у статистов на берегу адреналина в кровь выбрасывалось на порядок больше, чем у экипажа крейсера.
Когда до стенки оставалось всего несколько метров, вахтенный с крыла мостика крикнул на берег по-турецки: «Принимай швартов». Машины только успели затормозить, и на них произошло некоторое замешательство. Те, кто понимали язык, просто не знали, как им следует поступать. Подобная элементарная вещь – распределить между исполнителями роли так, чтобы противник ничего не заподозрил до момента, когда сопротивляться уже поздно и бессмысленно, – никому из англичан не пришла в голову. Фазиль был полностью поглощён собственными мыслями, считая, что свою часть дела он уже исполнил. Он готовился, если что пойдёт не так, первым делом броситься на настил причала по противоположной от корабля стороне, а потом осторожно соскользнуть в воду. Плавал он хорошо и километр до дальнего мыса проплывёт без труда. А в темноте его не заметят ни «свои», ни «чужие».
Как принято на Востоке, визирь думал сразу в двух направлениях. С одной стороны, он был уверен, что его с англичанами план сработает как надо, ференги – люди опытные и умеют проводить такие операции. Но с другой – допускал, что хозяин способен на самые неожиданные решения и мог подстраховаться. Удалось ведь ему выжить в Одессе, где шансов Катранджи фактически тоже не имел. Пусть там ему помогла русская контрразведка, но и здесь Ибрагим-эфенди мог придумать что-то неожиданное, просто на всякий случай.
Что ж, в этом случае Фазиль тоже имеет туза в рукаве.
А британский разведчик подобный штрих – самую обычную просьбу с швартующегося корабля набросить трос на кнехты – совсем не имел в виду. Для него всё должно было начаться, когда пароход остановится и начнёт спускать на берег трап.
Вроде бы совершенная мелочь, а операция сразу оказалась на грани срыва. Ещё несколько секунд, и кто-то, сам Катранджи или капитан заподозрят неладное, дадут задний ход – и всё на этом! Даже в сотне метров от берега добыча станет недостижимой. Тогда что – вертолёты поднимать и топить её ракетами? Можно и в ответ получить. А оставшимся на пирсе – в воду прыгать, не дожидаясь шквального огня в упор?
И на принятие решения – те самые несколько секунд, и отсчёт уже пошёл.
– Вперёд! – прошипел капитан-диверсант, сильно толкнув Фазиля в спину, и сам первый спрыгнул на пирс, махнул рукой вахтенному, показывая, что готов принять носовой швартов.
– Вы – к корме, – скомандовал он лейтенанту, – а ты к трапу, вызывай своего босса, говори что угодно, пусть покажется…
Катранджи действительно хватило этих самых секунд, чтобы понять, что русские правы. Никогда и ни за что, если бы только сам хозяин приказал, Фазиль не бросился бы принимать канат. Он знал себе цену, был вальяжен и надменен со всеми, кроме Ибрагима.
Водитель остался за рулём (а кто он такой? чувствует себя главнее помощника хозяина? Нет таких среди его людей!), два или больше десятка охранников и слуг даже не собираются вылезать из грузовиков, а он торопится изобразить жалкого портового матроса? Настоящий Фазиль просто грубо скомандовал бы, а сам остался сидеть до появления Хозяина. И, кажется, тот, что сзади, осмелился буквально вытолкнуть самого здесь главного человека из машины. Значит, и вправду всё это – враги, помощник – грязный предатель, и сейчас начнётся… А от него самого уже ничего не зависит.
– Действуйте, полковник, – выдавил он. Ибрагима душила слепая, почти неконтролируемая ярость. И в то же время он отчётливо понял, что если и Фазиль переметнулся к врагу, то он уже никто в своей империи, и без помощи русских былой власти не вернуть, шансы остаться равноправным игроком, «третьей силой» закончились.
– Но этого – взять живым, любой ценой…
Ни Басманову, ни Белли ничего объяснять не требовалось. Сами они совсем не стремились затевать бойню первыми, тем более на чужой территории и без веского повода. Но раз хозяин острова распорядился арестовать своего слугу, отчего и не выполнить его просьбу. Их гораздо больше интересовали те двое, что приехали с ним. Ясно, кто распоряжается операцией.
– Взять! – повторил Белли, только которому сейчас и подчинялись роботы судовой команды. Если с ним что-нибудь случиться, главным станет Басманов, за ним Кирсанов, а потом уже и валькирии. Система субординации была доведена до экипажа сразу же, как люди прибыли на борт.
Двое матросов, только что сбросившие на пирс швартов, не обращая внимания, что с пятиметровой высоты фальшивого полубака прыжок на бетон для обычного человека грозил бы неприятными последствиями, с абсолютной синхронностью пролетели отделяющее их от Фазиля расстояние. Раньше, чем он успел вообще заметить этот маневр, сосредоточив внимание на упавшем ему под ноги тросе, роботы заломили ему руки за спину и с невероятной быстротой поволокли к середине борта, откуда сейчас должен был быть подан трап. Настоящая верхняя палуба крейсера возвышалась над уровнем пирса меньше чем на метр.
В этот же момент повалился наружу декоративный фальшборт, грохнули сходни, высекая стальными окантовками искры из бетона, вспыхнули кормовой и носовой артиллерийские прожектора, едва не сбивающие с ног своим световым потоком. Включённый на все сто с лишним ватт мегафон с мостика проревел по-английски: «Всем оставаться на местах! Стреляем без предупреждения!» – дублировать команду на турецкий или любой другой язык было некогда, и, вопреки смыслу команды, «КПВ» дал длинную очередь на метр выше голов так и сидевших в кузовах морских пехотинцев и ибрагимовых охранников.
Этот пулёмёт, да ещё в спаренном варианте, стреляет очень громко, особенно если до него два десятка метров и тяжёлые, способные рвать человеческое тело на куски пули проходят так низко, что волосы сами собой поднимаются. То ли от ветра, то ли от страха. Вдобавок все они мгновенно ослепли, на полчаса и больше.
Английский капитан, оказавшийся в мёртвом пространстве и не попавший под луч, не успел двинуть рукой в сторону предусмотрительно расстёгнутой кобуры. Он услышал почти неразборчивый после забившего уши грохота голос: «Руки поднимите, пожалуйста. Было же сказано – ввиду нехватки патронов предупредительный выстрел не производится. Сразу – контрольный».
Это Кирсанов к случаю использовал слышанную от кого-то из «братьев» шутку, то ли от Шульгина, то ли от Воронцова.
Он стоял, прислонившись плечом к щиту бортовой «стотридцатки», и целился англичанину прямо в глаза из полюбившегося ему с самого начала «ППСШ». Их разделяли всего шесть или семь метров, полковник метром выше, так что положение капитана, несмотря на его суперподготовку и опыт, было стопроцентно проигрышным.
– Да-да, поднимите и не спеша идите к трапу. Одно лишнее движение, и вы схлопочете пулю между глаз. А ваш кагал порубят в капусту из пулемёта. А можно и шрапнелью вдоль пирса. – Он похлопал ладонью по орудийному стволу.
С трудом передвигая ставшие одновременно ватными и свинцовыми ноги, англичанин двинулся к трапу. Кирсанов сопровождал его по палубе, не опуская ствола.
«На машинах – всем спуститься на пирс, – продолжал орать мегафон. – Без суеты, по одному, без оружия. Лечь, вытянуть ноги, руки за голову…»
Как слепцы с картины Брейгеля, охранники Ибрагима вперемешку с морпехами начали неуверенно слезать на бетон, держась за борта и друг за друга, вытирая рукавами слезящиеся, невидящие глаза, медленно ложились, даже не помышляя о сопротивлении, хотя у многих и пистолеты висели на ремнях, и гранаты в сумках. Много навоюешь, если в голове бьётся одна мысль – сможешь ещё видеть или навсегда ослеп. Людей очень пугает всё связанное со зрением, точнее – возможностью его потерять.
Одновременно всё происходящее внизу стало прекрасно видно майору Стенту и оставшимся с ним на вилле и возле вертолётов морпехам и диверсантам. Он разразился руганью на пределе возможностей родного языка. Очень ограниченных, кстати. Что катастрофа уже произошла, он не совсем осознал. Думал, что выбор у него всё же есть. Сдаваться, что в его положении было бы самым разумным, принимать бой, заведомо жертвуя своими людьми на пирсе, но сохраняя призрачную надежду достаточно повредить пароход (что это не транспорт, а крейсер, он пока не понял) и всё же выиграть незадавшийся бой, или, наконец, прямо сейчас, плюнув на всё, своих бойцов в том числе, грузиться в вертолёты и сматываться, пока есть такая возможность.
По глупому упрямству он предпочёл второе, не имея никакого представления о реальной обстановке.
Со стороны виллы Катранджи в сторону «Изумруда» ударили сразу три пулемёта, целясь в прожектора. Пара очередей недолётам пришлась по пирсу. Закричало сразу несколько раненых «дружественным огнём». Убитые наповал, естественно, не кричали. Десяток пуль зазвенел по надстройкам крейсера и орудийным щитам. Прожектора погасли, не разбитые, просто вовремя выключенные. На их месте остались как бы сверхчёрные, по сравнению с окружающей темнотой, пятна. Иллюзия, конечно.
С каким бы удовольствием Белли сейчас скомандовал залп всем бортом. Дистанция смешная, поверх стволов можно целиться. Но виллу приказано беречь.
Басманов выпустил условленные ракеты, направив их так, чтобы у англичан возникло впечатление, что этот сигнал имеет какое-то специальное значение, например – целеуказание сухопутным силам. Если враг уже находится в расстроенных чувствах и «туман войны»[157] для него сгустился до непроницаемости, весьма полезно ещё усугубить ситуацию. Полковник сразу же приказал Эльснеру всей огневой мощью третьего взвода воздействовать на правый фланг противника, на причале его помощь не потребуется, и так всё решилось. Самому же без лишнего шума атаковать позиции неприятеля с тыла, одновременно захватив аэродром с вертолётами и иной техникой. Пригодятся и сами по себе, и для фотоиллюстраций в мировой прессе, куда материал будет направлен немедленно после завершения дела. Чем плохо: «Британия продолжает свои пиратские выходки! Вилла известного предпринимателя и финансиста на собственном острове атакована бандой английских военнослужащих! Частный промысел или особое задание?!» В таком примерно роде, найдётся кому расписать, плюс фотографии подлинных документов, видеозапись допроса командира и рядовых бойцов… Пленных нужно взять как можно больше, британцев, естественно. С остальными – по обстоятельствам.
Отряд Стента не готовился к серьёзной обороне. Вся акция вообще представлялась ему совсем не так. В чём суть приказа? Обеспечить десантирование на остров, установить контроль за виллой и прилегающей территорией. Когда и если подойдёт судно с контрабандой – захватить. Пленных передать представителю SIS. И всё. После этого разведчики начинают заниматься своими делами, а он, если не поступит другого распоряжения, возвращается на базу. Государственная награда и хорошая денежная премия гарантированы.
Однако, когда на берегу случилось то, что случилось, а шквал огня из расположенных вне поля видимости, но бьющих удивительно точно пулемётов, да вдобавок частые хлопки малокалиберных мин (с гранатами АГС ему сталкиваться не приходилось) прижали его солдат к земле настолько плотно, что буквально головы не поднять, майор крепко задумался. Сам он сидел в достаточно прочном убежище, непосредственно жизни в ближайшие минуты ничего не угрожало, но что дальше? Вызывать по радио поддержку с Гибралтара? Часа за три долетят, если поднимутся в воздух немедленно. А сам он сумеет прожить эти три часа? Силы противника неизвестны, но плотность огня говорит сама за себя. И эти люди заняли позиции ещё до подхода парохода с оружием. Значит, всё тщательно спланировали. И сколько ещё бойцов сойдёт на берег, чтобы довершить дело?
Начальник здешней охраны подробно описал всю систему фортификации, и сейчас Стент понял, что лишён даже возможности маневра. Дорога под огнём, склоны горы непроходимы, путь к вертолётам блокирован.
Ловушка? Очень может быть, причём ловушка политическая, а не военная. Кому нужна его рота, чтобы затевать подобное?
Прячась от шальных пуль и осколков за дворовыми постройками, майор добрался до центрального корпуса виллы. Там в задней комнате второго этажа, откуда не было видно моря, а пули с флангов пока не залетали, пристроившись на полу под обращённым в сторону посадочной площадки окном, возился с рацией представитель Лондона.
– Какие будут предложения, мистер Лонсдейл? – стараясь выглядеть совершенно спокойно, спросил майор. Стянул с головы берет, вытер потное лицо. – Насколько я понимаю, мы попали в очень большую задницу?
Разведчик отмахнулся. Напряжённо вслушивался в то, что звучало с той стороны радиомоста.
Похоже, говорилось оттуда что-то весьма неприятное.
Наконец Лонсдейл щёлкнул тангетой, отключаясь.
– Вы что-то сказали?
– Я спросил, вы знаете, как выбираться из этой задницы? Четверть людей я уже потерял, остальные зажаты огнём на этой чёртовой горе и возле вертолётов. Едва ли кто-то из них готов бессмысленно умереть, даже не видя врага. Мы солдаты, а не самоубийцы. Если люди потребуют капитулировать, я не смогу лично расстрелять изменников короне перед строем. Построиться негде…
– Добраться до вертолётов есть шанс?
– Добраться – есть. Улететь – вряд ли. Нужно быть полным дураком, чтобы не расстрелять нас на взлёте. А те, кто это устроил, – далеко не дураки. Совсем нет, сэр…
Сисовец достал из кармана фляжку, сделал три длинных глотка, протянул остальное майору.
– Тогда могу сказать только одно. Хотите – воюйте до конца, хотите – сдавайтесь. Свою часть задания вы провалили, полководец из вас дерьмовый. Я свою – пока нет. Здесь наши пути расходятся. Пошли, ребята…
Из соседних комнат появились пять или шесть сотрудников разведки. Остальные или уехали на берег, встречать пароход, или находились возле аэродрома.
Если бы лондонский пижон не назвал майора «дерьмовым полководцем», он, возможно, и стерпел бы. Да, он сглупил. Теперь понятно – нужно было оставить здесь этих Сисовцев, а самому развернуть всю роту вдоль пляжа, за кустами и камнями. И атаковать всем сразу, как только борт парохода коснулся пирса. О том, что «если бы покойник сходил с бубей, было бы ещё хуже», англичанин опять не догадался. Этот вариант Басманов тоже просчитал и встретил бы морпехов шрапнелью трёх «стотридцаток» в упор.
Но сейчас весь гнев Стента обратился на разведчика. Отчего не подсказал, как действовать, если такой умный?
– Бежите, крысы?
– Работа у нас такая…
– Ну как же, помню.
Майор вдруг, кривя губы, прочитал строфу из Киплинга:
И, прервавшись на полуслове, ударил из своего «Стирлинга» поперёк комнаты. На уровне пояса. Расстрелял весь магазин, и живых, кроме него, в доме не осталось. А чему удивляться – тридцать патронов с расстояния в несколько шагов. Сильно завоняло сгоревшим порохом, а вот кровью и вспоротыми кишками – ещё нет.
Майор перезарядил автомат и вышел на крыльцо. Он ещё не знал, станет ли воевать до последнего или решит сдаться, но эти уже никуда не сбегут. Если бы Лонсдейл предложил какой-то план, чтобы выбраться вместе… А то уж слишком грубо он послал майора, а тому ведь терять нечего. Плен, русская каторга или смерть – это ещё видно будет, а с непосредственными виновниками своего позора он рассчитался. А то вообразил, красавчик, что только им в их конторе наплевать на чужие жизни, другие же будут вежливо кланяться и покорно скакать под их дудочку.
Что ж, сейчас он, наверное, раскаивается в своей ошибке.
Если там, по ту сторону радуги, покойникам дают такую возможность.
Свистком майор подозвал ближайшего сержанта.
– Джонсон, там в комнату мина залетела. Да-да, именно мина, – подчеркнул он в ответ на удивлённо приподнятые брови командира отделения, который не слышал и не видел разрыва. – Прикомандированных – всмятку. Возьми двоих надёжных парней. Обыщите. Что найдёте – все мне, – он хлопнул ладонью о ладонь. – Кроме денег. И разбросайте геройски павших коллег в разных простреливаемых противником местах. В случае чего все будут видеть – они сражались и умерли с оружием в руках. Суньте им в руки какое-нибудь оружие. Или бросьте рядом. Потом соберите всех уцелевших сержантов и обоих лейтенантов. Будем думать, как выбираться из этой задницы…
Василий Дмитриевич Звягинцев Величья нашего заря. Том 2. Пусть консулы будут бдительны[1]
Глава первая
Воронцов с Арчибальдом вполне дружески беседовали, сидя в любимом баре Дмитрия, ещё в том, что он сумел создать силой воображения в свой первый день появления в Замке. Когда вообще никакого «Братства» ещё не было и сам он совершенно не понимал, как и для чего Антон организовал его перемещение. Вот как иногда заканчиваются совершенно невинные и ни к чему вроде бы не обязывающие разговоры со случайно встреченными людьми. Впрочем, гораздо раньше и лучше этот постулат сформулировал Булгаков.
Но его почти что врождённая привычка легко относиться к любым поворотам судьбы здесь, в Замке, только укрепилась. И «самопровозглашённого человека», если употреблять современную стилистику, он воспринимал без тех предрассудков, что ощущались у некоторых его соратников. Они – это они, а Воронцов начинал свою сольную партию здесь, он её и продолжит, невзирая на… Мало ли что в данный момент некоторая часть Замка приняла такой вот антропоморфный образ. Не в этом же совершенно дело.
Дмитрий в самые первые минуты «знакомства» ощутил с этим немыслимой природы существом (именно существом, не безличным объектом он сразу воспринял Замок) взаимную приязнь, так оно и продолжалось. А Арчибальд что? Звучит, может, немного кощунственно, но нельзя ли провести аналогию между парами: «Арчибальд – Замок» и «Бог-отец и Христос»? И та и другая существовали одновременно, были, как говорится, «единосущны», но по всей имеющейся информации Иисус в период своего земного существования и был Богом, и одновременно им, безусловно, не был, сохраняя полную человеческую сущность. Иначе к кому бы он обращался с мольбою: «Да минует меня чаша сия!» К самому себе, что ли?
То же самое и относительно взаимного позиционирования Арчибальда и Замка. Первый, обладая набором отпущенных ему для выполнения задания способностей, никоим образом не равновелик породившей его Сущности. Которая, в свою очередь, тоже кем-то изготовлена, выращена или на крайний случай – допущена к автономному существованию, являясь всего лишь порождением случайного сочетания атомов или нейронных связей Мировой сети.
Дмитрий усмехнулся: сейчас бы ему в компанию Шульгина, в той его ипостаси, где он подражает Арамису из «виконтовского» трёхтомника. Потешились бы они богословским спором за стаканчиком амонтильядо…
– Ты подбери мне одёжку, чтобы я именно с твоей точки зрения выглядел достойным членом клуба, да и пойдём, – сказал он, отставляя бокал с недопитым соком манго. Негромко звякнули о хрусталь кусочки льда.
– Ты хочешь изображать нынешнего члена клуба или?.. – спросил Арчибальд, который, несмотря на своё безразличие к условностям, тоже чувствовал себя с этим собеседником гораздо комфортнее, чем с Сильвией, например.
Воронцов это сразу заметил и подумал, что любые рассуждения о «человеческом» и «нечеловеческом» разумах заведомо бессмысленны. На самом деле – Замок на второй день знакомства извлёк из памяти Дмитрия очень глубоко запрятанное воспоминание о его неудачной любви. Сумел разобраться в психологии Натальи прошлой и смоделировал её нынешнюю. На основании этого создал сначала голографическую копию, а потом разыскал в далёкой Москве прототип и дистанционно переформатировал вполне взрослое и самостоятельное существо под представления уже другого Воронцова, изменившегося и под влиянием самого пребывания в Замке, и в ходе знакомства с «макетом» женщины, которую считал навсегда потерянной. И самое главное – Наталья после всего этого сохранила и лучшую часть своей подлинной личности и стала воплощением придуманного идеала. Причём – эта мысль пришла Воронцову в голову только что – он ведь так и не понял, чей «придуманный идеал» воплотил Замок, его или самой Натальи?
Но если это так, то он смог бы сделать то же самое с любым человеком на Земле. Превратить умирающего Брежнева обратно в стройного красавца, придав ему заодно тонкость и изощрённость мысли Макиавелли, красноречие Дизраэли и реформаторский настрой Петра Великого, разбавленный мудростью и кротостью Серафима Саровского, вместе с эрудицией… Ну, хоть академика Лихачёва. Как бы тот реформировал СССР и саму идею социализма? Но Замок этого не сделал. Потому что это не по силам даже ему или?..
А вот тут возникает очередной проклятый вопрос – как можно судить, что Замок с кем-то сделал или не сделал? Контрольного-то образца под руками не имеется. Что, если необходимые изменения давно произведены и всё обстоит, как описал Марк Твен в «Таинственном незнакомце»? Предложенный вариант – лучший из возможных. Просто мы не в состоянии представить, что в «моральном кодексе» высшего существа считается «лучшим», а что «худшим». Вернее – наши и его представления на эту тему настолько расходятся…
Вот Замок свёл Антона с Дмитрием на ступенях Ново-Афонского храма, преследуя какие-то свои цели, и с этого момента потянулась совершенно другая цепочка причин и следствий[2], пока что весьма и весьма для Воронцова благоприятных. Но для миллионов людей, втянутых в эту же, совершенно не предусмотренную прежним «коловращением жизни» воронку событий – полная катастрофа, нравственная, а то и физическая.
Новиков как-то предположил, что так называемая «перестройка» и всё с ней связанное как раз и случилось оттого, что именно в этот момент вся их компания окончательно сформировалась, начала действовать, смешала карты и агграм, и форзейлям, а потом вообще исчезла с Главной Исторической (а можно ли её теперь так называть?) последовательности. Даже только это – благо или зло? Вот, к примеру – ты сделал нечто, и вследствие этого, допустим, началась война. Некий условный человек попал на неё и провоевал четыре года, ежедневно эту войну и все свои тяготы и лишения проклиная. Но откуда ему знать, что не начнись война, он поехал бы кататься со всей многочисленной семьёй на велосипедах, и все они погибли бы под колёсами самосвала, управляемого пьяным водителем. И этот пример касается каждого из миллионов людей по обе стороны фронта.
Нет, Замок сам по себе, или нахождение в нём, влияет на Дмитрия очень странным образом. Сейчас, например, на философствования потянуло, а первый раз – на подвиги, и не только военные.
– Я хочу, чтобы мы прямо сейчас отправились в тот Лондон, где ты развлекался в «Хантер-клубе», – прервал грозящий стать беспосадочным полёт своего воображения Воронцов. – В имперской реальности, в день, отстоящий на две недели от планируемого нападения на Россию. Если это не создаст какого-то парадокса или анахронизма. Там ты потребуешь у премьера немедленной аудиенции…
– Нет проблем. Но в качестве кого ты хочешь появиться перед Уоллесом? Членов клуба он знает всех…
– А ты используй свои сверхъестественные способности и вспомни человека, который может считаться там одним из предводителей того, что наши конспирологи называют Мировой закулисой. Она ведь наверняка существует, в том или ином виде, и кто-то ею руководит. Ваш «Хантер» – средоточие олигархов[3] «Системы», а что на ступеньку или две выше? Ну?! Кто бреет цирюльника?[4]
Лицо Арчибальда изобразило сомнение, потом что-то в нём неуловимо изменилось. Воронцов догадался, что робот переходит на иной уровень личности, подключаясь, возможно, к ранее недоступным ему структурам Замка. В принципе так меняется обычный человек, вдруг получивший известие, что сего числа он произведён в высший чин с соответствующим изменением функций и статуса. Был, допустим, камер-юнкером и вдруг стал камергером[5].
Тон голоса у андроида тоже стал другим.
– Я не уверен, что тебе сейчас нужно знать всё это в подробностях. Мне кажется, время ещё не пришло, и от лишней информации будет больше вреда, чем пользы… – так и есть, это нотки очевидно надмирного происхождения.
– Мы же знаем о Держателях, Игроках, Ловушках…
– А что вы знаете? – несколько даже вкрадчиво спросил Арчибальд.
И Воронцову пришлось покаянно развести руками. Но всё равно не смолчал: «Ничего. И то не всё». Шутка – она есть признак самообладания и адекватного отношения к окружающему.
Арчибальд сдержанно хохотнул.
– Так я и не настаиваю, чтобы ты мне сейчас всю мировую подноготную открыл, – уточнил свою позицию Воронцов. – Вспомни имя сильного мира, которое для Уоллеса окажется настолько авторитетным, что других вопросов не возникнет. Пусть оно будет даже несколько легендарным, это не важно. А меня пусть воспримут, грубо говоря, тринадцатым сионским мудрецом.
Арчибальд опять издал звук, будто подавлял очередное желание рассмеяться в голос.
– Я с самого начала понял, что ты очень остроумный и… свободный от условностей человек. И когда с Антоном разговаривал, и когда… со мной.
– А чего теряться? Такой уж уродился. Правда, земному начальству это, в отличие от тебя, не сильно нравилось.
– Ну, адмиральских чинов ты всё же достиг, и гораздо раньше, чем в прошлой жизни.
– Это да, – согласился Дмитрий. Останься он служить дальше, больше, чем кап-два, ему ни за что не дали бы. Ну, на самый крайний вариант – кап-раз при выходе в отставку.
– Но как всё же с моим пожеланием? Есть такой человек или группа людей, в достаточной мере известных премьеру? Или вы его играете втёмную и клуб для него – альфа и омега мировой политики?
– Разумеется есть. И премьер Англии знает, что он есть, хотя с ним лично никогда и не встречался. Но как раз это совсем не существенно. Небольшого напоминания будет достаточно. Ты правильно сообразил: на определённом уровне каждый, признанный достойным быть допущенным к «свободным выборам» или к назначению на ключевую должность, получает свою долю «мировых тайн». К мнению членов «Хантер-клуба» просто прислушиваются, и только в Англии, но есть имена, при упоминании которых самые самоуверенные лидеры теряют всякий кураж. Тебе ведь приходилось видеть, как главы великих, причём конфронтирующих держав непонятным образом действуют в унисон и, что очевидно для всех понимающих – во вред своим же государствам?
– Очевидно для всех, но никто не удивляется, – кивнул Воронцов. – Всегда найдутся «независимые эксперты», которые объяснят смысл происходящего с десятка точек зрения, кроме верной…
– А если кто случайно назовёт истинную причину, тут же наготове стандартный набор методик, от обвинения в «конспирологии» до многозначительного – «Политика – это искусство возможного».
– Бывает – и пуля в голову…
Арчибальд только кивнул в ответ, двумя пальцами вытащил из нагрудного кармана пиджака визитную карточку и протянул её Воронцову.
– В подходящий момент покажешь…
На стандартного размера прямоугольнике тёмно-вишнёвого картона (совсем вроде неподходящий цвет) выпуклыми готическими буквами было вытиснено серебром: «Магнус Теофил Сарториус» – и ничего больше. Именем с фамилией это считать, названием фирмы по торговле дамской галантереей или заклинанием – вопрос фантазии.
– Спасибо, – кивнул Дмитрий, пряча визитку в карман. – Что-то вроде «Лаксианского ключа»?[6] А как насчёт риска, что, отойдя от должности, тот же мистер Уоллес не захочет забыть о подобном способе «решать вопросы» уже в чисто личных интересах?
Арчибальд посмотрел на него с долей сожаления.
– Я думал, подобного вопроса у тебя не возникнет. Люди, на которых есть виды, проходят достаточно подробный инструктаж. А если тем не менее начинают вести себя неправильно, вопрос решается так, что лишнего клиент сказать и сделать не успевает. В истории достаточно примеров вроде «Тайны убийства братьев Кеннеди» или «Смерти принцессы Дианы». Впрочем, по поводу смертей Сталина и Рузвельта тоже есть соображения. У конспирологов.
– Благодарю, теперь мне всё совершенно ясно…
– А всё ли? Ты же сам готовишься ступить на этот же путь…
– Ах, как сказали бы в Одессе, «я с вас смеюсь». Ты бы меня чуть раньше предупредил, когда Антон меня к тебе в гости послал. Так, мол, и так, в июль сорок первого ходить не надо, там стреляют… Чего же промолчал?
В этот же момент Арчибальд вернулся в прежнее качество. Это трудно объяснить словами, но несколько похоже на то, как актёр заканчивает cвою мизансцену (может быть – ключевой монолог), под аплодисменты уходит за кулисы и в долю секунды, пересекая границу сцены, из какого-нибудь Юлия Цезаря или Макбета превращается в Ивана Петровича Сидорова, хотя и «заслуженного», но всё равно глубоко заурядного гражданина.
– «Запел петух, и Шехерезада прекратила дозволенные речи», – со всей доступной ему иронией, всё равно, правду сказать, не достигшей цели, сказал Воронцов и принялся раскуривать трубку.
– Ну так пошли, что ли? Да, кстати, а о чём ты с ним собрался говорить? – Этот вопрос уже был задан как бы не от имени Замка, а от Арчибальда лично, в его роли господина Боулнойза.
– Да вот, знаешь, Император очень опасается, что англичане в последний момент раздумают начинать войну. А я с ним как бы и согласен, но не хочу, чтобы война получилась чересчур кровопролитная. Нас бы устроило нечто вроде аналога «Битвы за Англию»[7], только в зеркальном отражении. Вот и захотелось мне лично с премьером побеседовать, его настроения прозондировать и пару полезных советов дать…
Предложенный Воронцову Арчибальдом костюм, сразу видно, должен был обозначить особу высокого ранга и в средствах нисколько не стеснённую. Сам он таких никогда не носил, демонстративно ограничиваясь чем попроще, но понятие имел. Покрой отличался от принятого в его мире не так уж сильно. В пределах индивидуальной фантазии модельеров, вынужденных «плясать от той же печки», то есть фасонов первого десятилетия двадцатого века.
– Ну и как ты наш визит обставишь? – осведомился Воронцов, когда всё было готово. По привычке сунул под ремень брюк сзади «вальтер ПП», всякие изыски вроде «глоков», «беретт», «дезерт иглов» он не любил. Едва ли на этом уровне общения оружие ему понадобится, но, как выражался пресловутый старшина: «Хай будэ». Ещё прихватил нераспечатанную пачку сигарет в дополнение к имеющейся, зажигалку и «спринг-найф». Примерно так он был экипирован, когда попал в Замок впервые, за исключением пистолета.
– Как обычно. Сейчас перейдём в гостиную клуба, и я оттуда позвоню премьеру… Через полчаса обед, – сказал робот, не взглянув на часы, – к нему пусть подъезжает.
– Приедет? – усомнился Дмитрий. – Он же человек занятой, у него война на носу…
– Тем более приедет, сообразит, что сейчас такие люди, как я, таких, как он, по пустякам не дёргают.
– Это верно. Я его сейчас совсем не пустячной новостью обрадую…
В Лондоне шёл моросящий дождь с туманом, и, похоже, не первый день. Уже начали появляться первые признаки формирования «старого доброго смога». Чем сильнее падает температура, тем больше аборигенов растапливают свои печки и камины, да не дровами, а плохим бурым углем и торфяными брикетами. В этом мире газовое, электрическое и центральное отопление отчего-то получили куда меньшее распространение, чем в соседнем. А кардиф[8] нынче дорог.
И каминный дым, смешиваясь с туманом, создаёт ту неповторимую атмосферу, из-за которой приличные люди предпочитают пореже высовываться из своих особняков, наглухо заперев окна, и грея в руках бокал бренди или грога, наслаждаться достойным джентльменов уютом.
В гостиной клуба Воронцов с интересом осмотрел достопримечательности, долженствующие запечатлеть в поколениях подвиги славных охотников. Особый его интерес, наряду с головами представителей «большой пятёрки»[9], развешанными по стенам, вызвала картина, изображающая бородатого мужчину в явно русской дворянской одежде позапрошлого века и высоких начищенных сапогах, вонзившего здоровенную, как оглобля, рогатину в грудь гигантского медведя, чуть ли не «пещерного»[10], у входа в разворошённую берлогу. И лес вокруг был явно не британский.
Медведь скалился длинными, в ладонь, клыками и пытался достать героя не менее ужасными когтями. Художник был не то чтобы уровня Васнецова или Верещагина, но вполне владеющий ремеслом.
– Это у вас что, иллюстрация к ремейку «Затерянного мира»? – осведомился Дмитрий. – На российском, так сказать, материале?
– Нет, это документальное, подтверждённое свидетелями событие. В тысяча восемьсот девяносто седьмом году князь Михаил Муравьёв на самом деле в присутствии своих гостей, действительных членов «Хантер-клуба», без какого-либо оружия, кроме рогатины, добыл этого медведя весом ровно в сорок пудов… За что и был принят «зарубежным членом-корреспондентом», что случалось крайне редко.
– Судя по картине, в этом звере пудов под сто. Но вообще геройский, по всему, был князь. Рогатина – дело ненадёжное…
– Самому приходилось? – удивился Арчибальд.
– Читал. А сам только в училище фехтованием на штыках занимался. Так что в целом представляю. Одно неверное движение – лезвие уходит в сторону, а ты получаешь по уху такой вот лапой… Голова, натурально, летит в кусты помимо тела. Собственно, вся наша жизнь такая, – философично заметил Воронцов, справедливо решив, что сравнение их нынешней деятельности с опасной охотой гораздо ближе к истине, чем шекспировское «мир – театр». В театре в худшем случае освищут и потребуют деньги назад, а ошибка в общении с таким вот персонажем – он снова взглянул на исполненную драматизма и жизненной правды картину – влечёт куда более необратимые последствия.
Присели в кресла к уже разожжённому камину. В клубе, в отличие от домов обывателей, джентльмены наслаждались треском настоящих, притом высокачественных дров, стоивших здесь сумасшедших денег. Как в Одессе двадцатого года, где акациевые дрова продавали на вес, фунтами[11]. Воронцов подумал, что в здешнем мире Россия гораздо больше заработала бы экспортом возобновляемой древесины, чем углеводородов. Впрочем, может и зарабатывает – он в такие тонкости местной экономики не вникал.
Преисполненный самоуважения лакей подал джентльменам виски и по особой рецептуре производимые в Британской Гвиане уже полтораста лет подряд сигары «только для «Хантер-клуба». В случае попадания их куда-либо ещё (в Европе, разумеется, на месте именно их курили все кому не лень) производителю грозила астрономическая неустойка.
Не успел Арчибальд преподать Воронцову краткий курс манер, которых стоит придерживаться, чтобы выглядеть среди клубменов естественно, подъехал и премьер-министр. Похоже, господин Уоллес, не так давно удостоенный королём рыцарского звания и могущий теперь именоваться «сэр Смит-Дорриен», был достаточно заинтригован и сумел выкроить час-другой в своём крайне напряжённом графике. Причём подготовка к войне для него заключалась не в изучении стратегических карт, корректировке мобилизационных планов и чтении непрерывно поступавших от «надлежащих лиц» рапортов, чем как раз сейчас занимался император Олег. Британский премьер «разруливал разногласия и корректировал интересы» всяческих групп влияния, без чего государственная машина, армия, флот и «большой бизнес» синхронно работать были не в состоянии. Собственно, таким же образом руководил войной и Черчилль в соседней реальности, но у того, в силу разницы в личных качествах, получалось несколько лучше.
– Итак, мой дорогой Боулнойз, что вынудило вас искать моего общества? – деланно-весёлым голосом осведомился премьер, входя в гостиную и на ходу вытирая дождевую морось с лица большим клетчатым платком. – Давненько мы не виделись, из чего я делаю вывод, что у вас ко мне нечто экстраординарное?
В глазах Уоллеса Воронцов заметил отблески не то обычной паники, не то начинающегося безумия. Впрочем, могло быть и то и другое сразу, психотип премьера вообще не подразумевал функционирования в условиях, выходящих за рамки девяностолетней бюрократической рутины, когда решения принимаются гораздо выше его уровня, а исполнением занимаются несменяемые чиновники[12].
Арчибальд вначале с соблюдением всех церемоний представил Воронцова и премьера друг другу, после чего они вновь расселись вокруг низкого прикаминного столика и взяли в руки традиционные бокалы. Все «хантеры» в стенах клуба считали себя как бы охотниками на привале, а какой привал без доброго глотка чего-нибудь покрепче пива? К тому же вечные сумерки от полузадёрнутых плотных штор позволяли легко обходить ещё одно «охотничье» правило – никогда не пить виски до захода солнца.
Чтобы не вызывать лишних вопросов, Воронцов был назван лишь латинизированным именем, что звучало вполне солидно, а заодно наводило на желательные ассоциации с владельцем визитки-пароля.
– Вот, господин Деметриус имеет к вам некое поручение, – сказал Уоллесу робот. – Я допущен к тайнам этого уровня, поэтому не буду делать вид, что мне срочно потребовалось выйти в туалет или позвонить по телефону…
Воронцов наклонил голову, подтверждая слова Арчибальда, и молча показал Уоллесу карточку.
Премьер взял её в руки и не меньше минуты рассматривал, будто выискивая на ней какие-то тайные знаки. Кто его знает, возможно, они там и были.
Вернул недрогнувшей рукой, только подобрался весь, и губы шнурочком сжались.
– Я вас слушаю, – и чуть-чуть не удержался в образе, спросил лишнее: – А отчего мистер Сарториус не позвонил по телефону, как обычно?
– Вопрос совершенно не ко мне, как вы понимаете, – ответил Дмитрий, но интонацией и мимикой дал понять, что как раз к нему, ни к кому другому, а ссылка на «Сарториуса» – это просто пароль.
– Могу только сказать, что господин Сарториус последнее время очень занят и ему недосуг вникать в текущие вопросы, сколь бы важными они ни казались…
После этих слов можно было надеяться, что Уоллес тут же не кинется к телефону уточнять и перепроверять слова «мистера Деметриуса». Вот если Сарториус некстати сам вдруг позвонит – это будет номер! Одна надежда – Замок озаботится, чтобы этого не случилось, раз сам затеял интригу.
– Виски очень неплох, как вы считаете? – сменил тему Воронцов и ещё минут пять рассуждал о сравнительных качествах этого напитка как в отношении с иными «продуктами прямой перегонки», так и применительно к разным регионам Ирландии и Шотландии. Затем перешёл к сигарам. Когда твой партнёр взвинчен и изо всех сил пытается понять, что именно в данный момент происходит, такая тактика очень хороша в качестве «артподготовки».
Клиента следует довести до состояния, когда он уже не в силах должным образом контролировать ситуацию и своё положение внутри её. Это особенно хорошо удаётся, если персона выведена за пределы привычного контекста и вынуждена на ходу применяться к роли, ей совершенно несвойственной.
Премьер-министр великой державы, поставленный в положение школьника, внезапно вызванного к директору без предварительного объяснения причин. Всякого рода прегрешений и проступков любой семи-восьмиклассник знает за собой множество, но о каком именно сейчас пойдёт речь? А может быть, предстоит не наказание, а награда? Тоже непонятно за что. Очень малое количество людей, обычно имеющих специальную подготовку, в состоянии сохранить в предложенных обстоятельствах полную безмятежность духа и хорошее настроение. А если это им удаётся – то чем не повод задуматься как раз о заведомой срежиссированности их поведения. Всё это хорошо было показано в «Семнадцати мгновениях», на примере пары Штирлиц – Мюллер. Впрочем, Воронцов за последние годы имел время изучать и более достоверный «учебный материал».
– Вы уже в курсе о событиях сегодняшней ночи? – наконец спросил Воронцов, доведя Уоллеса до кондиции. Спросил внезапно, без всякого интонационного или смыслового перехода от предыдущей фразы.
– Я не понимаю, что вы имеете в виду? – опешил премьер и снова потянулся за платком. Потоотделение тоже полностью вышло из-под контроля. Очередь за остальной вегетатикой…
– Неужели вам не доложили? – удивился «мистер Деметриус», мельком взглянув на ручной хронометр. – Должны бы были, особенно с учётом разницы во времени. Дело, собственно, вот в чём. Довольно крупное подразделение британской морской пехоты в сопровождении кадровых сотрудников СИС, конкретно – МИ-8, около полуночи высадилось на острове, принадлежащем достаточно известному в мире лицу. Вам, по крайней мере, точно известному – Ибрагиму Катранджи. Причём если многие малоосведомлённые люди считают его главарём чуть ли не всемирного преступного синдиката, то в иных кругах он считается вполне респектабельным деловым человеком, сфера интересов которого лежит в «серой», как некоторые выражаются, зоне по отношению к общепринятым принципам и стандартам.
Удачно завершив эту старательно сконструированную фразу, Дмитрий замолчал, с удовольствием пыхнул сигарой и вопросительно посмотрел на Уоллеса.
– Я на самом деле ничего об этом не слышал, – с излишним жаром ответил премьер, разве только за руку Воронцова не схватив для большей убедительности. – Мне, безусловно, хорошо известен господин Катранджи, более того, он должен сыграть важную роль в предстоящих событиях, и предварительная договоренность с ним уже достигнута… Следовательно, то, о чём вы говорите, – или чудовищное недоразумение, а возможно – провокация. Так осложнять отношения с одним из решающих союзников на пороге войны?! Нет, это на самом деле беспрецедентно, и я…
– Командир подразделения коммандос майор Стент сдался в плен и даёт показания, руководитель спецоперации Лонсдейл погиб в бою… – помолчав, добавил Воронцов и снова посмотрел на премьера.
Арчибальд, всё это время молча смачивающий губы в своём бокале, не поленился встать и, хотя они ни о чём предварительно не договаривались с Дмитрием, очень своевременно и достаточно многозначительно принёс и поставил перед премьером телефонный аппарат на длинном витом шнуре.
– Это – закрытая связь. Позвоните, куда считаете нужным, и уточните…
Уоллес начал нервно накручивать диск, а Воронцов незаметно показал роботу большой палец, одобрительно при этом кивнув. Машина-то он машина, но степеней свободы набрался столько, что тест Тьюринга[13] выдержал бы перед целым синклитом строгих экзаменаторов. И соображает вполне правильно. Всегда бы так.
После нескольких звонков Уоллес попал, наконец, на компетентное лицо и затеял с ним весьма напряжённый разговор, в котором неоднократно звучали нецензурные (по английским меркам) выражения и даже угрозы.
Когда премьер положил трубку, на него неприятно было смотреть. Как на полураздавленного таракана.
И взгляд, что он бросил на Арчибальда, был отнюдь не ангельский. Тот ответил взглядом же, но совершенно безмятежным, с таким примерно смыслом: «Сам напортачил, сам и отвечай. И нечего искать виновных на стороне». Относилось это, безусловно, к сложным взаимоотношениям между некоторыми клубменами, членами правительства и парламента, а также и особами из Царствующего Дома.
– Там действительно не только нападение на остров, – сказал Уоллес. – Там полный провал операции, большие потери и масса пленных. Пока неизвестна судьба некоторых важных документов…
– Ваши люди настолько идиоты, что отправляются на «острую операцию» с секретными бумагами? – изобразив подчёркнутое удивление, спросил Воронцов.
– Мы с этим будем разбираться, – промямлил премьер.
– А по какой бы ещё причине я к вам лично явился? – в стиле неизвестного Уоллесу Бендера поинтересовался Воронцов. – Идиотская акция налицо, причём позорно проваленная. «Люди короля» в плену и наверняка сейчас, перебивая друг друга, дают признательные показания под угрозой сдирания шкуры заживо с последующей варкой в оливковом масле. Думать надо, с кем связываетесь. Там ведь не только турок, там ещё калабрийцы, сицилийцы и наверняка хоть парочка русских…
Премьер довольно сбивчиво начал разъяснять посланцу таинственного Сарториуса всю нелепую цепь случайностей, нестыковок и заведомую неконструктивность нынешнего устройства британской бюрократии, приведшую к столь нежелательному результату.
– Это, в общем, не ко мне, – ответил достаточно благодушно Воронцов и чуть не добавил: «Обращайтесь во всемирную лигу сексуальных реформ». Но вовремя остановился, решив, что увлекаться не стоит.
– Мне моё время ещё дороже, чем вам – ваше. Поэтому отвлекаться не будем. Для того чтобы урегулировать инцидент, вам следует лично обратиться к господину Катранджи, пока он не «дал ход» этому делу. В своём, конечно, понимании. О чём и как договоритесь – меня не касается. В любом случае ваш с ним семейный конфликт предстоит самим и решать. Так, чтобы он не повредил «общей цели». То есть он может потребовать с вас всё, что пожелает, и мы препятствовать не будем. Но война с Россией должна начаться независимо от ваших разборок. Срок – не позднее такого-то числа.
Главное, ради чего Воронцов и затевал весь цирк, было сказано – названа дата «часа Ч», или, по англо-американски выражаясь – «Дня Д»[14].Такая уж людская психология – если приказано свыше «не позднее», то позднее не начнут, но и раньше тоже, обязательно найдётся какая-то «непришитая пуговица». Теперь же всё ясно – премьер напуган и одновременно озлоблен настолько, что остальное должно пройти без сбоев.
На обед Воронцов не остался: дополнительная пощёчина, ведь, решив все неприятные вопросы, джентльмены могли бы за хаггисом и ростбифом как-то сгладить случайные противоречия. Только Дмитрию этого не требовалось. Следующий раз пусть с премьерами Берестин общается, это у него наследные принцы в друзьях ходят.
Из Замка он позвонил непосредственно Ибрагиму. Как в соседний квартал того же города, даже не задумавшись, что сам он сейчас находится в месте и времени, далеко предшествовавшем открытию Америки не только Колумбом, но даже и викингами. Чистый Гаррисон с его «Фантастической сагой».
– Как там у тебя? Я только что с Уоллесом закончил беседовать. Ничего не изменилось? Клиенты твои колются?
Для простоты Воронцов избрал для общения с Катранджи стилистику петроградских студенческих кругов. Не так важно, что сам он учился во «фрунзенке», а Ибрагим в другой реальности в штатском Университете, главное, что примерно в одном возрасте они ходили по одним и тем же улицам и мокли под теми же бесконечными дождями, находя приют то в разного рода кабачках, то в неизменных с времён Достоевского «съёмных квартирах» центральных, но захолустных переулков.
– Нет, всё нормально. Напели достаточно, хоть на пожизненную каторгу, хоть на свержение Кабинета министров.
– Свержение нам как раз ни к чему. Долго второго «Гаммельнского крысолова» искать придётся. Он тебя, по моим расчётам, в ближайшие полчаса-час искать начнёт. Передай секретарям, где ты есть, и чтобы соединяли немедленно. Можешь требовать с него, чего душеньке угодно. Хоть в финансовом вопросе, хоть в политическом. В обоих сразу тоже можно. Клиент спёкся и жить хочет больше, чем иметь красивые похороны в Вестминстере. Так что полная свобода твоему воображению. Но воевать за него ты в конце концов согласишься. Только уточни, где и с кем для подписания стратегического союза встретишься. Нет, подписание обязательно, на словах бритты чего хочешь наобещают – царской России в пятнадцатом году Стамбул клялись отдать. Так что бумажка в руках нужна. Окончательная. Пользоваться мы ею, скорее всего, не будем, но им этого знать необязательно.
В целом задачу свою Воронцов выполнил. Здесь война начнётся в точно известный момент, что исключает ненужные случайности. Определённый им срок даст возможность Берестину и Секонду завершить все приготовления и к первому удару неприятеля, и к предполагаемому законом Ньютона ответу. А Фёсту он обеспечивает полную свободу действий на избранном поле деятельности. Поскольку совершенно неожиданно и как бы попутно Дмитрию открылась одна интересная вещь, несколько последних лет являвшаяся непроницаемой тайной и для Новикова с Шульгиным, и даже для самого Антона.
А по сути дела, кто такой Антон? Ну, персона, приставленная, чтобы осуществлять определённую коммуникацию между Замком, Землей и самими форзейлями, как выяснилось, именно над Замком и не властными.
Зато сейчас, в ходе очередной импровизации, Воронцов смог получить от Замка разгадку словно бы неразрешимой по определению задачи. Случайно или нет – другой вопрос. Но Дмитрию казалось, что он сумел изящно переиграть несравненно более информированную и одновременно с человеческой точки зрения наивную структуру. Грубо говоря, вынудил проболтаться очередного ибн-Хоттаба, как в любимой с детства книге Волька вынуждал на разные интересные поступки своего джинна.
До него неожиданно дошло, в виде «гениального озарения», какое снисходило на пришельцев с Андромеды из рассказа Рассела «Будничная работа», что означали те таинственные события вокруг резиденции тогда ещё Великого князя Олега – Берендеевки, и одновременно в параллельной, их Москве, откуда некие люди при участии бывшего аспиранта Шульгина осуществляли экспансию в соседнюю реальность.
Они тогда так и не сумели установить, кто же или что стояло за людьми, создавшими «Институт глубокого нейропрограммирования», называвшими себя «Союз озабоченных гуманистов» и умевшими перемещаться через межвременную границу. И даже наладившие весьма прибыльную торговлю «билетами в один конец» для людей, желавших эмигрировать. Но не в благополучные швейцарии и голландии, пребывающие тем не менее на этой же самой планете, а значит, подверженные всем бурям и катаклизмам XXI века, обещающего не меньшие потрясения и беды, чем век минувший, а в совсем другую, идиллическую и пасторальную реальность – длящийся и длящийся «серебряный век», где по-прежнему прочно сидит на троне «батюшка царь».
Культура андромедян, согласно Расселу, создавалась благодаря отдельным озарениям, которые из века в век добавляли к ней всё новые и новые факторы, возникая из ничего каким-то необъяснимым образом. Причём озарения приходили спонтанно, сами по себе. Их нельзя было искусственно вызвать, какой бы острой ни была потребность в них.
Примерно так же получилось сейчас у Воронцова. Сколько всех доступных технических средств и «мозговых штурмов» они тогда предприняли, пытаясь выяснить, с какой это «четвёртой силой» столкнулись, считая себя, Игроков и Держателей тремя первыми. Даже Антон бессильно развёл руками. И Замок ему не помог. А оказалось, нужно было чуть-чуть по другому поставить вопрос…
Или, что вероятнее, Антону Замок не счёл нужным помогать. А ему, значит, счёл… Не вполне понятно, но несомненно приятно.
Теперь дальше. Эти самые «Озабоченные гуманисты» не только научились проникать сквозь «изоляцию провода» в кабеле, они ещё смогли получить аппаратуру, позволяющую создавать у значительных масс людей гипнограммы высшей пробы. Такие, что человек принимал их за высший приоритет. В какое бы вопиющее противоречие со здравым смыслом внушённая информация ни вступала, «загипнотизированный» продолжал твердить своё, присягать, клясться на чём угодно, идти под пули и на костёр…
Тогда почему после разгрома их «Института» и пленения Затевахина со всем его «железом» и программами[15] деятельность «гуманистов» прекратилась? Как бабка отшептала.
Подожди, сказал себе Воронцов, что значит прекратилась? Из наших глаз исчезла верхушка айсберга, всего лишь. Будто лодка погрузилась, спрятав рубку, но оставив на поверхности головку перископа.
Допустим, тот шульгинский аспирант на самом деле сделал стопроцентно уникальное открытие насчёт тотального программирования, и повторить его «озабоченные» не в состоянии. Но все остальные возможности остались. А вероятно, и уцелел какой-нибудь «демонстрационный образец», и оператор при нём. Тогда кое-кого они подчинять своей воле всё-таки могут. Пусть и в индивидуальном порядке. И организация никуда не делась. Как ловко только что спрятались концы от антипрезидентского заговора! Один в один, как в дни «Мрака и тумана». До предпоследнего исполнителя – вот они, а дальше – обрыв цепи.
То есть эти ребята от своих замыслов не отказались, просто решили зайти с другого конца. И «Сарториус» – их подлинный главарь или просто обозначение должности в иерархии этих самых «гуманистов». Тогда, попутно, становится понятна и загадка нераспространения информации о параллельной Земле в этом мире. И у нас, и за рубежом о ней знают многие, но «идея отнюдь не овладевает массами». Массы остаются к ней в лучшем случае безразличны. Это и нам на руку, но противнику сохранять тайну почему-то важнее.
Воронцов почувствовал, что мысли у него начинают слегка путаться. Перетрудился он сегодня.
Встал и по внутренней лестнице спустился всё в тот же «Бар первого дня». А что, неплохое название. Взял из окошка выдачи большую чашку кофе и ликёр «Селект», к которому пристрастился как раз в дни своего безмятежного отдыха в Сухуми, перед началом всего этого. Да, ещё непременно нужна бутылка боржоми, как можно сильнее газированного, из холодильника.
Теперь всё нормально. Набить трубку, закурить.
– Ну что, Замок, давай побеседуем насчёт Сарториуса и прочего? Ты не возражаешь? – сказал негромко, но вслух. – Если не хочешь – молчи, я не обижусь. Просто мне кажется, нам обоим будет полезно…
Он, честно сказать, не ждал немедленного ответа. С очень большой вероятностью его могло не быть совсем или прозвучать в весьма неконкретном виде. Вроде слов Дельфийского оракула.
Однако Замок отозвался сразу. Из-за драпировок на стене, словно за ними был спрятан обычный динамик, прозвучал приятный баритональный голос.
– Хорошо, давай поговорим. Мне и самому кажется, что обстановка вокруг вас нуждается в корректировке, самим вам едва ли удастся справиться…
Глава вторая
Фёст неожиданно отметил за собой вдруг возникшую привычку – задумываться ни с того ни с сего. Сколько-то времени жизнь шла, как ей и следует, в бесконечных повседневных делах и заботах. А забот этих и дел у человека, который совершенно добровольно взвалил на себя обязанность отвечать за окружающий мир и по возможности стараться сделать его хоть немного лучше, мало быть не может. Их гораздо больше, чем у любого другого, выполняющего свои обязанности, хоть бы даже и президентские. И вдруг внезапно накатывает. Неудержимо хочется остановиться, оглянуться…
Фёст произнёс эти два слова, когда-то ставшие названием очень популярного романа известного журналиста, а ещё раньше – началом стихотворения поэта, так и не ставшего популярным. Захотелось вспомнить целиком, и без помощи протезов памяти, естественным образом. На это ушло минут пять, не меньше, но не зря ведь специалисты говорят, что человеческий мозг не забывает ничего. И – сейчас тоже получилось:
Хорошо. Даже очень хорошо. Почти каждый склонный к рефлексиям человек может к себе применить.
Не хотел Вадим Ляхов для себя ничего из того, что сейчас происходит. Вернее, хотел, чтобы всё вокруг в той, предыдущей жизни, поменялось, но только – само по себе, волей исторических сил, без его участия. Он никогда ни в чём «общественном» не хотел участвовать, разве только в комсомол вступил, тоже по инерции, с разгону, как все, за год до кончины этой (не самой плохой, теперь можно признать) организации. Но ни на какую политическую карьеру тоже не рассчитывал, хотя вокруг очень многие бредили только этим. Уж больно широкие перспективы, как большинству окружавших его людей казалось, открывались с падением монополии КПСС и наступлением «свободы». До пресловутого Перевала так и жил, стараясь делать что должен и по возможности избегать всего остального, кроме доступных ему развлечений – занятий спортивной стрельбой, охотой, путешествиями, преферансом…
А потом случился Перевал и после него – смерть не смерть, жизнь не жизнь, а так, не пойми чего, но со всеми признаками в общем-то жизни. Вот у Эдмона Дантеса когда началось нечто подобное – после ареста, после полёта в никуда в мешке с двухпудовым пушечным ядром, или когда он перегружал сокровища кардинала в сундуки своей яхты?
Частые обращения к роману, явно не входящему в списки Великих книг человечества, – это от Александра Ивановича Шульгина, сыгравшего в жизни скоромного армейского лекаря Вадима Ляхова ту же примерно роль, что аббат Фариа в жизни молодого, никому не известного моряка.
И от Шульгина же – непонятное «демократически настроенным» знакомым стремление в очередной раз спасать мир. Хорошо хоть, инфекция проявилась в достаточно стёртой форме, не так, как у Ленина, Троцкого или Гитлера. Но и то, что он уже успел, с теорией «малых дел» не слишком соотносится.
Однако, опять же «остановившись, оглянувшись», следует признать – ему себя особенно упрекнуть не в чем. Не слишком обширных познаний Вадима (но всё же неизмеримо больших, чем у членов так называемых «экспертных сообществ», расплодившихся во множестве) в историческом материализме, геополитике и самой обычной всеобщей истории хватало на то, чтобы понять – предпринимаемое им здесь и сейчас, с помощью Секонда, Сильвии, остальных рыцарей «Братства» – это как раз то, что в человеческих силах сделать, не превращаясь в «Бога» в каком угодно смысле, чтобы не допустить человечество от сваливания с «лезвия бритвы» в пропасть вселенского зла.
Он усмехнулся. Высокопарно звучит и на первый взгляд отчётливо отдаёт манией величия как минимум. И тут же успокоил себя, как будто в этом была необходимость: а разве любой человек, ныне причисляемый к «великим» или хотя бы «замечательным»[17], не тем же самым при первой возможности заниматься начинал? Империи строить, «Либерте, эгалите, фратирнете» учинять, на худой конец – единомыслие внедрять. Так спасибо Александру Ивановичу и его друзьям – до уровня подсознания обеспечили понимание того, где в своих «благородных начинаниях» остановиться нужно: за шаг до «точки невозврата», от которой начинается известно чем вымощенная дорога в ад.
Вот, например, есть у него в личном распоряжении небольшое устройство, всего вдвое больше размером, чем обычный ПК (персональный компьютер, а не пулемёт Калашникова), предназначенное для совмещения пространства и времени. Вообще-то Левашов не совсем правильно своё изобретение поименовал. Совмещение там имеет место, но гораздо важнее – перемещение вдоль и поперёк пространственной и временной координатных сеток. На пароходе «Валгалла» есть такое же, но раз в десять больше и мощнее, но ему и своего хватает.
Фёст потушил лампу на письменном столе, пересёк кабинет и сел на широкий подоконник открытого в сторону Красной площади окна. Отчётливо видны были звёзды на двух ближних башнях. На этот раз он решил покурить трубку, за обычной суетой на неё никогда не хватало времени. А сейчас можно. При должном умении единожды набивши, можно попыхивать хорошим «Петерсеном» полчаса и больше. Думать весьма помогает, если есть о чём.
Так, значит, об СПВ он начал? С помощью этой машинки «отцы-основатели» «Братства» получили возможность в легендарные «ранние восьмидесятые» творить на Земле абсолютно всё, что в голову взбредёт. А как иначе, если можно невидимо и неощутимо открыть проход в любую точку современного пространства или почти любой миг прошлого и будущего. С известными ограничениями, касающимися в основном времени – пойти-то пойдёшь, а вот вернёшься вряд ли. Нет, кажется, упражняться с временем Левашов попозже начал, вначале только пространственно перемещался, но не телепортировался, а совсем наоборот, притягивал к аппарату нужную точку земной (и не только) поверхности, после чего открывал туда проход. Или – окно, с одно– и двусторонней проницаемостью только для фотонов, но не материальных тел.
Впрочем, о тех временах Вадим знал не слишком много, лишь то, что считали нужным рассказать сами «братья» и «сёстры» или описал Новиков в своих пресловутых «Записках», которых целиком, пожалуй, никто и не видел. Более того, Ляхов подозревал, что для разных читателей имеются и разные варианты текстов, то рукописных, то отпечатанных уже на лазерном принтере. Оно и понятно, когда Андрей Дмитриевич начинал свой труд, даже матричных не существовало, только перьевая авторучка с чернилами разных цветов (часть тетрадей заполнена чёрными, часть синими, зелёными и даже красными) и ещё механическая пишмашинка марки «Москва». До сих пор стоит на почётном месте в кабинете Новикова.
А что это значит реально – пользоваться СПВ ради собственного удовольствия? Можно из своего кабинета шагнуть в любую точку Земли или всей Галактики, узнать любую тайну, чью-то личную, государственную или историческую, взять что угодно (хоть из казематов форта Нокс, хоть из сокровищницы царя Соломона), убить, кого заблагорассудится, без следов и риска разоблачения. Даже атомным зарядом без особого труда обзавестись можно и использовать его хоть для шантажа, хоть сразу по прямому назначению.
И почему, в таком случае, все эти сказочные возможности не реализовать, в меру способностей и фантазии?
Вот в этом и суть того, что весьма старательно и умело передавал своему воспитаннику, а в перспективе и правопреемнику Фёсту Александр Иванович. Начиная с простейшего афоризма какого-то заграничного мыслителя или просто опытного человека: «Отнюдь не всё, что можно сделать безнаказанно, следует делать». Ну и дальше углублял и углублял эту тему, оперируя и «нравственным императивом» Канта, и многими историческими примерами, но в большинстве – собственными философски-логическими построениями.
Одним словом, в результате более чем годичной индивидуальной подготовки Вадим Ляхов с псевдонимом Фёст превратился в личность не то чтобы идеальную, но весьма квалифицированно разбирающуюся в том, «что такое хорошо и что такое плохо» почти во всех областях общественно-политической деятельности. Настолько же не походящего на себя исходного, как граф Монте-Кристо – на свою заготовку — Эдмона Дантеса.
Он (Фёст), признаться, с самого раннего детства отличался некоей врожденной тягой к справедливости, придерживался самостоятельно выработанного «кодекса чести», помогал людям, даже совсем этого не заслуживавшим, ни разу не воспользовался так называемой «минутной слабостью» знакомых девушек. За это многие друзья над ним подшучивали, но в итоге почему-то всегда оказывалось, что он был прав, а друзья заблуждались. И подтверждалось это подчас самым жёстким образом.
Да, в конце концов, что, как не эти самые понятия, толкнуло его остаться со своей винтовкой на Перевале вместе с майором Тархановым, хотя врачи, особенно в миротворческих силах ООН, считались некомбатантами[18]. И, значит, он мог забрать раненого бойца и спокойно катить в тыл, радуясь, что и сам выжил, и женевских конвенций не нарушил.
Под руководством Шульгина эта его «врожденная порядочность» приобрела весьма солидный теоретический и психологический багаж, и отнюдь не только в виде «десяти заповедей Моисея» и постулатов Нагорной проповеди.
Вот и сейчас: в результате его (чего уж тут стесняться – прежде всего именно его) деятельности этот родной ему мир подведён к грани очередной «холодной», а то и «горячей» мировой, в перспективе, войны. А почему? Потому что не было сил не вмешаться в происходящее. И дело не в том, хорош или плох оказался нынешний российский Президент и его окружение, хорош или плох, в конце концов, сам народ, допустивший (или лучше сказать – доведший) страну до такого именно состояния. Да, да – именно народ, никто иной. Нет чтобы году так в тысяча восемьсот шестьдесят первом удовлетвориться дарованными Царём-Освободителем реформами, да и начать на их базе потихоньку-полегоньку отстраивать на одной шестой части суши свою персональную Швейцарию, не беря в голову никаких «прельстительных идей» вроде «любая собственность есть кража», «пролетариату нечего терять, кроме своих цепей» или даже проще – «всё отнять да поделить».
Вот не поддался бы народ, продолжил бы любого «агитатора», как в ранние времена «Народной воли», хватать и тащить в участок, может, и не пришлось с ручным пулемётом по подмосковным лесам бегать, спасая нынешнюю власть, а точнее сказать, всю страну от очередного хрустящего оборота «Красного колеса».
Ну, спасли, предположим, «молодую», а также «суверенную» российскую демократию от повторения февраля семнадцатого. Так теперь «заклятые друзья» и одновременно «стратегические партнёры в борьбе с терроризмом» в открытую намекают, что лучше бы вам, ребята, ныне и впредь не делать резких движений, а то обидимся мы всерьёз, и вот тогда…
Поэтому лучше сами снимайте штаны и ложитесь на лавку. Посечём немного для вразумления, особо больно не будет, и воцарятся у вас настоящие тишь, гладь и сплошные права человека. Прямо как в «Вороньей слободке». Чем там, кстати, начатая поркой Лоханкина история кончилась?[19]
Опять же сам он, Фёст, пользуясь моментом, буквально заставил нашего Президента весьма грубо и вызывающе говорить с ихним. Чтобы довести того до белого каления.
А вот затем, чтобы сейчас и наступил «момент истины». Кому на этой планете банк держать.
Чего, казалось бы, проще – открыть с помощью СПВ окно в Овальный кабинет Белого дома и швырнуть туда пару гранат, как Уваров в варшавском Бельведере. А потом ещё и ещё, в разные кабинеты от Антарктиды до Северного полюса, пока некому будет России ультиматумы диктовать, включая «двенадцать сионских мудрецов», «семь подземных королей» и ещё какое-то количество членов «добровольных некоммерческих организаций».
А вот нельзя. И причины этого «нельзя» пришлось бы объяснять слишком долго. Некоторые ответы можно найти, перечитав «Трудно быть богом». Но только некоторые. Чтобы все – слишком много самых разных книг перечитывать придётся.
Зато можно по-другому. Ненасильственными, так сказать, методами.
Фёст с сожалением соскочил с подоконника. Сидел бы так и сидел. Внизу как раз начиналась вечерняя московская жизнь. Он с некоторой иронией подумал, что совсем недавно этот переулок ничем не отличался от сотен окрестных, разве что при советской власти хороший букинистический магазин здесь имелся. А сейчас, он буквально на днях в газете прочитал – Столешников по цене аренды «нежилых помещений» стал самым дорогим местом в Москве, как бы даже не во всей Европе. Всего-то стоило начать работать в одной из квартир тайному офису непонятной организации. Едва ли это можно назвать совпадением.
В мастерской Лихарева, очень нравившейся Вадиму (потому что чрезвычайно она напоминала лабораторию при кабинете физики в его любимой школе), он, перед тем как привести в действие установку СПВ, что всегда, даже без всяких иных потрясающих мироздание действий было чревато катаклизмами планетарного масштаба, но в то же время благодаря «теории невероятности» было довольно безопасно, трижды сплюнул через левое плечо. Многим такие простейшие приёмы техники безопасности помогают. Потом включил Шар – аггрианский универсальный информационно-поисковый прибор, по результатам – вроде «Гугла» или «Яндекса», только без лошади. Как паровоз.
Набрал установочные данные на искомый объект, потом – последовательность выполнения некоторых, по отдельности весьма простых заданий.
У президента США была очень удачная фамилия и сложное происхождение. Фамилию свою он мог писать двояко, и до избрания, в быту, там, где не требовалось предъявлять удостоверения личности или заполнять финансовые документы, пользовался ирландским вариантом – О’Йама, что для Америки почти нормально. Статус ирландцев по не совсем понятной причине был там значительно выше, чем южноевропейцев или, упаси Бог, славян. Может, потому, что культовый президент Кеннеди тоже из них, из ирландцев. Хотя сам по себе народ ну абсолютно ничем не выдающийся на фоне соседей по континенту и окрестностям. Ну, рыжих много, ну, картошку очень сильно любят, что однажды чуть не привело к исчезновению их как самостоятельного народа[20]. Но у нынешнего персонажа ирландцы по материнской линии в роду были, и никуда от этого не денешься.
На самом же деле его настоящая фамилия звучала и писалась – Ойяма, поскольку был он прямым (но побочным – такое случалось) потомком, хотя и давно натурализовавшимся, известного японского принца, маршала, военного министра, начальника Генерального штаба, в Русско-японскую войну – главнокомандующего сухопутными войсками, а с 1912 года носившего пожизненное звание гэнро, то есть члена совета старейшин при императоре[21].
То есть происхождение нынешнего президента было аристократическое дальше некуда. Правда (об этом биографы умалчивали), его прадед, сын маршала от двоюродной сестры, ещё в конце девятнадцатого века за какие-то несовместимые с самурайством провинности был изгнан из рода, лишён всех прав состояния и эмигрировал в Северную Америку, что тогда было довольно модно в двинувшейся по пути цивилизации и просвещения феодальной империи, вполне варварской по каким угодно меркам.
Арканар не Арканар, но очень вроде того.
За прошедшую сотню лет потомки разжалованного самурая, ронина[22], попросту говоря, вполне американизировались, многократно вступая в браки с «лучшими представителями многонационального населения «великой западной демократии». В череде предков, родственников и свойственников президента оказались даже мексиканцы и отчего-то затесался какой-то алеут (голос крови свёл, наверное).
Однако внешность Мишель Ойяма имел почти европейскую, ну, чуть-чуть с азиатчинкой, любил на собственном примере демонстрировать полный триумф американского мультикультурализма (а также и «плавильного котла»), умел долго и красиво говорить, в результате чего был триумфально избран президентом, правда, с перевесом над соперником всего в 1,1%, что вполне укладывается в пределы статистической погрешности, особенно если в родном штате бюллетени пересчитывали трижды, выискивая бракованные. Но если где нужно решили, чтобы президентом на следующий срок стал именно он, – так тому и быть.
Да и вообще… Никто до сих пор не удосужился наглядно объяснить простым американцам, что напрасно они пытаются учить другие народы демократии, ибо сами они об этом феномене не имеют никакого представления. За всю историю страны ни один американец никогда не участвовал в тех самых прямых, равных, всеобщих и тайных выборах верховной власти, что являются «священной коровой» хотя бы в России, начиная с революции 1905 года. Там «выбирают» каких-то «выборщиков», которые тоже никого не выбирают. Просто считают (тоже неизвестно кто), к какой партии эти «выборщики» принадлежат. У какой хоть на одного больше – та и победитель, та и назначает своего президента. Независимо от реального отношения граждан к этим самым кандидатам. Ничуть не демократичнее получается, чем выборы Калигулой в римский Сенат своего коня.
Но тем не менее Ойяма «победил», и в тот же миг весь «цивилизованный» (то есть тот, где принято восхищаться Штатами, даже когда они бомбят твою собственную столицу) мир охватила «Ойямомания». Вроде того что после распада СССР и мнимого окончания «холодной войны» очень короткое время происходило вокруг имени и личности Горбачёва.
Ирландо-японо-алеуту, олицетворившему торжество мультикультурализма и политкорректности (жаль, что он открыто не объявил себя ещё и пассивным педерастом – недобор получился), немедленно, буквально через месяц после избрания и единогласно (Россия, по счастью, в этом постыдном действе не участвовала), присудили Нобелевскую премию мира, впервые в истории главе государства, ведущему сразу две войны и ещё к двум открыто готовящемуся.
И потом ещё года два СМИ «золотого миллиарда» ежедневно рассказывали остальному миру, что вот-вот наступит «всё сразу»: прекратится мировой финансовый кризис, сами собой закончатся все войны, мигрантов всех племён и рас (кроме русских и православных славян, естественно) в Европе и англосаксонских странах уравняют в правах с аборигенами, причём с правом пожизненного наследуемого вэлфера[23]. И ещё наступит «перезагрузка»[24].
При этом как-то совсем незаметно кризис разгулялся пуще прежнего, захватив даже самые ранее благополучные страны. Исламский терроризм вырос до невиданных масштабов, ранее стабильные и постепенно цивилизующиеся страны Северной Африки и Ближнего Востока начали стремительно, при деятельной помощи Запада, проваливаться в Средневековье. Американцы проиграли две уже тянущиеся по десять лет войны, но не перестали готовиться к новым.
Одним словом, жизнь на Земле шла нескучная.
Президент Ойяма в начале своего первого срока любил воображать себя реинкарнацией Джона Фицджеральда Кеннеди[25] и имел, нужно отметить, к этому некоторые основания, даже не считая ирландских предков. Он, например, умел читать толстые книги, не шевеля губами, и даже имел дипломы о двух высших образованиях.
В общем, был это выскочивший, как чёртик из табакерки, или как Чичиков в городе № новоявленный кумир «интеллектуально-либеральной» Америки, а то и всего «цивилизованного» мира, к которому Россия, естественным образом, не относилась.
В компенсацию этому странному торжеству толерантности «азиатского выскочку» сразу возненавидела вся консервативная и попросту «глубинная» Америка. Рэднэки так называемые. Негр не негр, а всё равно чужак, да ещё и с «идеями», пусть самыми робкими, но намёками на какой-то там реализм (Хрущёв бы непременно сказал «реализьм» и был бы в чём-то прав) во внешней и внутренней политике. Не забудем, на вполне постановочных выборах ему нарисовали лишь 51,1 процента голосов «за». Даже чуть меньше, как намёк, наверное.
Поначалу как-то обходилось, и весь первый срок президент надеялся, что ему удастся реализовать большинство своих, в целом не слишком глупых идей, но потом всё сразу изменилось. Где-то он, сам не заметив, переступил некую черту, или истинные «хозяева жизни» сочли, что поигрались – и будет. И решили укоротить поводок. Вот тут Ойяма на личном опыте убедился, что вопреки сказкам про американскую демократию (в которые он до последнего искренне, на грани слабоумия, верил, что странно при его образовании и жизненном опыте) и пропагандистским штампам о всевластии американского президента на самом деле он не может ничего. Вообще ничего! Ни сказать, ни сделать что на службе, что в личной жизни. Разве что жену обматерить по-японски, убедившись, что рядом нет микрофонов.
Любое его слово, если оно не понравится кому-то из тех, кто принимает настоящие решения, может закончится грязной кампанией в самой свободной прессе: «пятнами на платье», «сигарой с биологическими следами», «подслушиванием конкурентов», смешиванием с дерьмом и последующим циничным импичментом. Вспомните хоть Никсона[26], хоть Клинтона, если не углубляться слишком далеко в прошлое. В общем, полная свобода передвижения человека, привязанного к паровозу.
Ума и азиатской сообразительности Мишелю Ойяме хватило, чтобы наконец понять, чего стоит его «свободомыслие» и где границы его власти и даже свободы. Окончательно всё стало ясно, когда в политические наставники ему демонстративно были определены два давно переваливших восьмидесятилетие ветерана «холодной войны». Руководить «чёрной кассой» государства стал тоже ассимилированный еврей (национальность здесь, разумеется, значения не имеет, нашёлся бы столь же пронырливый эстонец – да ради Бога!), но всего лишь семидесяти лет от роду, зато печатающий доллары станок стоял у него чуть ли не в спальне. И вставать не надо, проснулся, ткнул пальцем – ещё триллион госдолга, извольте получить. Прямо как в Зимбабве[27].
Затем те, кому положено, выбросили на ломберный стол сразу четырёх дам – назначив их на должности госсекретаря, директора АНБ[28], советника по национальной безопасности и руководителя аппарата Белого дома. Все эти «дамы» (термин употребляется исключительно из вежливости, если кому сразу непонятно) отличались отвратительным характером, зоологической русофобией, истеричной агрессивностью и, похоже, традиционной для фашиствующих либеральных феминисток ориентацией. По крайней мере, три из них были незамужними от рождения, а четвёртая – прославившаяся многими скандалами «разведёнка».
Положение мистера Ойямы сразу стало значительно хуже губернаторского[29]. Зачем далеко ходить – даже о разработке и начале реализации операции по устранению российского Президента, названной «Мангуста» (очевидно, исходя из змеиной сущности вражеского предводителя), ему удосужились сообщить как бы не самому последнему из «допущенных».
Это, пожалуй, было последней каплей, переполнившей чашу, или соломинкой, сломавшей спину буйволу…
Но как-то утром, встав, наверное, не с той ноги, потомок самураев вдруг ощутил приступ национально-фамильной злости. Не цивилизованной европейской, когда начинают грязно ругаться и крушить посуду и мебель, а исконной островной, где вынужденные жить в чудовищной тесноте, в домиках со стенами из соломы и бумаги люди выработали совершенно другие поведенческие схемы. Моветоном считалось не то, чтобы голос повысить, а чёрточкой лица дрогнуть до того, как врагу будет нанесён единственный, со стороны часто и незаметный удар…
У Ойямы не было никаких личных оснований желать падения руководителя второй по военной силе мировой державы. Да, «объект акции» не отличался выдающимися волевыми качествами, но искренне почитал право и «демократические ценности» и в личном общении был лучше многих коллег что по «семёрке», что по «двухдюжинке».
Моментами русский коллега пытался держать себя подчёркнуто независимо и открыто противоречил выражаемой США «воле мирового сообщества». Так он потому и был русским, достаточно русским, чтобы не соглашаться открыто капитулировать и признавать главенство единственной в мире «сверхдержавы». Но кто мог бы поручиться, что другой человек на его месте окажется хоть чем-то лучше или удобнее? Любому более-менее вменяемому политику известно, что, в отличие от математики, замена какого-либо члена в «уравнении» способна вызвать на самом деле «непредсказуемые последствия», и, допустим, устранение Гитлера в сорок четвёртом году могло вызвать не скорейшее окончание войны, а, напротив, её продолжение в бесконечность…
У Черчилля ведь были планы сразу после взятия русскими Берлина напасть на них вместе с интернированными, но не разоружёнными на Западном фронте немцами. Хорошо, что у Рузвельта были другие виды на «всемирную историю»[30].
Никакой угрозы для США сегодняшняя Россия не представляла. Медленно, но достаточно целеустремлённо она выкарабкивалась из трясины девяностых годов, но до того, чтобы составить реальную конкуренцию экономической мощи Штатов (даже без её сателлитов), ей потребуются много-много десятилетий. Если это вообще возможно – подравнять потенциалы при таком разрыве, не количественном даже, а качественном.
Другое дело – тот дурной пример, что она подаёт миру. Точнее – его недовольной американским диктатом части. Самим фактом очередного «ренессанса» делает месседж — мол, её рано списывать со счетов, за последнюю тысячу лет она и не такое видала, и считает, что по сравнению с Наполеоном и Гитлером нынешние противники выглядят мелковато, моментами просто жалко, несмотря на свою финансовую и военную мощь. Где гарантии, что другие страны с тысячелетним историческим опытом не сообразят, что, если все сразу пошлют «дядюшку Сэма» по известному адресу, деваться ему будет некуда. Что такое его жалкие двести тепличных лет в сравнении с пятью тысячами китайских, двумя тысячами персидских, да даже тысячей испанских и латиноамериканских?
Здесь, воленс-ноленс, Ойяма по-своему, как бы под совершенно другим углом и с других мировоззренческих позиций, с указанной точкой зрения соглашался. Деградация, и личностная и на онтологическом уровне, поразила не только Европейский Запад, но и Японию. Сегодня никто уже не готов, как в годы и Первой и Второй мировых войн, сражаться до последнего солдата и патрона, ходить в штыковые атаки и атаковать на торпедоносцах вражеские корабли, зная, что шансов вернуться от двадцати процентов до нуля[31].
Да какая там мощь, если быть до конца честным с самим собой? Единственно, что её имитирует, – возможность бесконтрольно печатать чёрно-зелёные бумажки с портретами никому в мире не интересных людей, провинциальных адвокатов, четыре или восемь лет занимавших место в Белом доме. Разве сравнишь это «архитектурное сооружение» с Кремлём, Зимним дворцом, Петергофом, наконец? А какова резиденция правителя, такова и его психология, тут без вопросов. Архитектура – это, как известно, философия и история, воплощённые в камне. Как там Наполеон выражался во время своего Египетского похода: «Солдаты, сорок веков смотрят на вас с этих пирамид!»
А пресловутое «военное превосходство». За исключением опереточной испано-американской США уже третий век не выигрывали самостоятельно ни одной войны. Даже во Вторую мировую и Рузвельт, и Трумэн вынуждены были просить Сталина помочь, ибо без СССР даже с нищей, не имеющей природных ресурсов Японией великая Америка, располагающая атомными бомбами, уже сброшенными на беззащитные города, не надеялась победить раньше тысяча девятьсот пятидесятого года. При том что грядущие потери в живой силе заранее признавались неприемлемыми. Свободный американский народ не потерпел бы двух-трёх миллионов гробов; он и пятьдесят семь тысяч из Вьетнама не выдержал. На Корейскую войну пришлось мобилизовывать половину «членов ООН», на Иракскую и Афганскую – всех, включая молдаван и эстонцев. И всё равно проиграли.
Автоматически следовал вывод – воевать всерьёз с Россией, даже нынешней, США были физически и психологически не в состоянии. Никакие ПРО не помогут. Вопрос стоит только так – либо гарантированное взаимное уничтожение вместе со всей планетой, либо Америка проигрывает вчистую. Разумеется – только политически, об экономике речи пока не шло.
Оставалась лиддел-гартовская «стратегия непрямых действий»[32]. Вот специалисты-разведчики, аналитики, геополитики и финансисты и додумались решить вопрос раз и навсегда. Это были, честно сказать, очень странные «специалисты». Руководствуясь их теориями и рекомендациями, Америка за шестьдесят с лишним лет, прошедших после Второй мировой войны, ухитрилась потерять всё, что только возможно.
Нет, с точки зрения малограмотного обывателя, всё выглядело просто великолепно, но если посмотреть, как советовал какой-то русский поэт, «с холодным вниманьем вокруг», картинка вырисовывалась до крайности неприглядная. Достаточно сравнить геополитическое, финансовое, нравственное состояние США в тысяча девятьсот сорок девятом году[33] и сейчас. Тогда Америка была сильнейшим и богатейшим государством в мире, ей никто не угрожал и угрожать не мог даже теоретически. Сталин был бы рад, как они договаривались с Рузвельтом, без очередной войны разделить «бремя белого человека» по поддержанию порядка на Земле на двоих. Остальные страны и народы в этой «большой шахматной игре» должны были довольствоваться ролью пешек, в лучшем случае – зрителей. В Ялте[34] к этому были сделаны решающие шаги, но смерть Рузвельта и пришедший к власти человечек с внешностью провинциального бухгалтера[35] всё испортили.
Колониальные державы наводили порядок в своих колониях, и никаким туземцам Африки, Азии и Латинской Америки в голову не приходило массово мигрировать в Европу и США, чтобы потребовать своей доли пирога, якобы отнятого у них. Да и жизненный уровень африканцев, «стонущих под пятой», в 1950 г. был в среднем вчетверо выше, чем сейчас, и ни о каких нынешних бедах не шло и речи.
Не существовало ни терроризма, ни проблемы наркотиков. Бреттон-вудский «золотой стандарт» – тридцать пять долларов за унцию – делал «гринбэк» действительно мировой валютой, твёрдой, как скала. Жизненный уровень «простого американца» неизмеримо превосходил всё, что имелось в разорённой войной Европе[36].
Но англосаксы, увы, не могут жить спокойно и чувствовать себя в безопасности, если поблизости есть кто-то, кто не вертит униженно хвостом и не заглядывает в рот, а даёт понять, что «видали мы лилипутов и покрупнее». Вот и не утерпели. Сначала «Фултонская речь» Черчилля, потом «железный занавес», «холодная» и масса локальных «горячих» войн. В итоге доигрались до «башен-близнецов» и всего прочего, с чем вошли Соединённые Штаты в двадцать первый век.
Один весьма почтенный, уважаемый и, в общем, заслуженно авторитетный современный российский философ сообщил в одной из своих книг, что уровень американских футурологов, экспертов и «конструкторов будущего» столь недостижимо высок по сравнению с нашим, они владеют такими методиками и технологиями «управления реальностью», что при общении с ними даже он чувствовал себя как семиклассник физматшколы на семинаре аспирантов хотя бы Ландау или Колмогорова. То есть понимал суть их рассуждений через пятое на десятое и с предельным, до головной боли и дрожания в конечностях, напряжением интеллекта. И нам, конечно, заявил означенный философ, ближайшие десятилетия нечего и пытаться соперничать с США на этом поле. Типа – «у них ноутбуки, айфоны и айподы, а мы всё на счётах щёлкаем и до сих пор телефоном системы «Белл-Эриксон» пользуемся…».
Фёст, услышав это, сильно удивился. И даже позволил себе не слишком вежливо рассмеяться тому в лицо. У него как раз насчёт умственных и профессиональных качеств американских специалистов сложилось совершенно противоположное мнение. То есть создавать собственный имидж с использованием методик НЛП у них получалось совсем неплохо, только вот реальные результаты при вдумчивом рассмотрении не впечатляли.
Включенная в режиме «одностороннего окна» установка СПВ сейчас открылась в так называемый «ситуационный кабинет» президента США, где господин Ойяма совещался со своими приближёнными. Точнее, происходящее больше напоминало описанную Гашеком «Торжественную порку»[37], где экзекуции подвергался как раз хозяин.
Большинство присутствующих он с чистой совестью мог считать своими непримиримыми и бескомпромиссными врагами, хотя для общественного мнения в администрации президента и вокруг царил истинно командный дух и полное единство взглядов.
Директриса АНБ бросила (именно!) на стол перед Ойямой несколько сколотых вместе листов формата А-4 с набранным 16-м размером шрифта текстом.
– Это – что? – спросил тот, глядя на «меморандум» с вполне мотивированной опаской.
– Это выдержки из последних статей о реальной боеспособности российских вооружённых сил и моральном уровне офицерского и генеральского состава самого авторитетного сейчас в России военного эксперта, некоего Грюнфельдбауэра, обозревателя «Актуальной газеты».
– Самого? – не поверил президент. – Я думал, самые авторитетные у них в Генштабе или ГРУ работают…
– Его источники как раз там и служат, так что достоверность материалов стопроцентная. Но сами они, как вы понимаете, открыто высказываться не могут, а статьи этого журналиста благодаря его отважной оппозиционности и великолепному стилю еженедельно читает весь российский креативный класс. После этого через социальные сети точка зрения обозревателя становится известна большей части хоть как-то интересующегося внешней политикой населения России. И это приносит нужные нам результаты. Мы платим этому господину сорок тысяч необлагаемых налогами долларов ежемесячно, и он того стоит. Для вас мы подобрали только фактаж, без публицистики. Ознакомьтесь, пожалуйста.
– Постойте, – вдруг вспомнил Ойяма некогда тщательно прочитанные им подборки материалов по недавней, крайне неприятной и даже унизительной для Запада «пятидневной колониальной войне», когда русские впервые за двадцать лет показали, что могут решать геополитические проблемы без оглядки на мировое сообщество, и – довольно успешно. – Это ведь он, кажется, за неделю до начала русско-грузинской войны предсказывал, что вооружённая и обученная нами армия «Джорджии» легко разгромит деморализованную и почти безоружную российскую, вернёт себе оккупированные территории и станет региональной сверхдержавой? Крайне ценный был прогноз. Обошёлся нам в десять миллиардов долларов плюс «потерю лица». Вы с него тогда не удержали гонорар хотя бы за несколько месяцев?
– Я тогда ещё не работала здесь, – поджав губы, ответила мисс Прайс, не понимавшая даже английского юмора, не говоря о более тонких разновидностях этого определяющего разумность высших млекопитающих жанра. Многие собаки, не говоря о шимпанзе, юмор, пусть и своеобразно, но воспринимают и даже сами умеют вроде как шутить. – А наш обозреватель был, между прочим, совершенно прав. И комитет начальников штабов[38] это признал… Вмешался человеческий фактор. Если бы грузины действовали в точном соответствии с планом, озвученным г-ном Г., успех был бы гарантирован…
– Интересно, отчего комитет начальников штабов не пригласил этого господина к себе на службу или не назначил его главкомом грузинской армии? – язвительно спросил Ойяма.
– Никто не предполагал, что грузины начнут разбегаться при первых выстрелах. А мы их вооружали и готовили десять лет. У них лейтенант получал жалованье больше профессора Тбилисского университета, а все офицеры старше майора прошли обучение или стажировку в Вест-Пойнте[39], снаряжение им тоже было выдано наилучшего качества. При таких условиях они просто обязаны были победить.
– Очень жаль, что в Вест-Пойнте не умеют оценивать моральные качества и боевую стойкость своих курсантов, – насмешливо сказал президент. – Я где-то слышал, что за деньги легко заставить убивать, но очень трудно убедить умирать. – А сам подумал: «Хорошо, что эта война случилась до моего избрания, не пришлось объясняться перед Конгрессом и краснеть на брифингах…»
Причём объясняться не за то, что эту войну организовали и спровоцировали, а за то, что не сумели довести её до победного конца, в решительный момент практически спрятавшись в кусты.
А вот сейчас его подталкивают к гораздо худшему.
Вчера Ойяме уже было сказано одним из тех, кто обеспечил его избрание, прямым текстом, даже не лично, а по телефону, что само по себе оскорбительно: «Этому наглецу (то есть русскому президенту) нужно ответить немедленно и так, чтобы ни у кого больше не возникло желания даже подумать о возможности такого тона в разговоре с Соединёнными Штатами». И сказал это человек, для которого США не более чем место временного пребывания, до тех пор, пока у него и его партнёров в руках печатный станок Федеральной резервной системы. Не у государства, не у правительства, а у них. Этот господин принадлежал к структуре, которая последние пятьсот лет последовательно управляла финансами нескольких некогда великих, но потом переставших ими быть держав. Начиная с только что завершившей реконкисту[40] Испании.
До сих пор такое положение дел Мишеля Ойяму устраивало, вернее – он просто не представлял, что может быть как-то иначе: подчинение президента и Конгресса силам, никаким образом не предусмотренным Конституцией (хотя на долларовой бумажке изображены масонские знаки), считалось само собой разумеющимся, а теперь это его вдруг задело, и сильно.
Может быть, сам того не понимая, Ойяма сравнил своё положение с положением русского президента, едва-едва не свергнутого своим ближним окружением. Тем не менее понявшего «откуда ветер дует» и решившегося первым делом, как только разделался с заговорщиками, бросить переходящий границы разумного вызов не то чтобы даже сильнейшей военной и экономической державе мира, а самому мироустройству как таковому. Ибо не признавать лидерства Америки – ещё большая ересь, чем мусульманину публично заявить о том, что «Есть Бог кроме Аллаха, и не только Магомет пророк его».
Госсекретарь, мисс Блэкентон, которой полагалось только советовать, а не требовать что-то от шефа, собрала тонкие губы в подобие куриной гузки и стала вдруг похожа на злую старуху с лавочки у подъезда в малопрестижном спальном районе Москвы. Но здесь, к сожалению, некому было провести такую параллель. Старушки у подъездов отсутствуют в Штатах как класс, что входит в некоторое противоречие с распространённым предрассудком о невероятном коллективизме американцев в противовес российскому угрюмому индивидуализму.
– Грузины поверили людям из предыдущей администрации. Им твёрдо обещали, что русские не вмешаются в операцию по освобождению «оккупированных территорий», а мы окажем им всю необходимую помощь, включая неограниченную военную. Они имели перед собой пример Сербии и искренне верили, что мы точно так же, спасая их от геноцида, станем бомбить Москву, как в своё время Белград. А когда наступил «момент истины» – их обманули. Мы больше не имеем права таким образом подставлять наших друзей… За свои слова надо отвечать. Если наши деды брались за рукоятку револьвера, они не позволяли врагу поверить, что это дешёвый блеф…
Президент подумал, что мисс Блэкентон – отвратительная мегера, хотя ей нет ещё и пятидесяти, и по доброй воле он не стал бы разговаривать с ней даже о погоде, но увы – это другие «хозяева Белого дома» могли сами набирать себе команды и стучать кулаком по трибуне в Конгрессе, требуя принятия нужных для них и Америки решений. Как Рузвельт, Трумэн или Эйзенхауэр. Он – не может. Эпоха диктаторов у власти прошла навсегда, сейчас эпоха политкорректности, мультикультурализма и «коллективного руководства».
Взгляд президента упал на портрет одного из его предшественников, в ряду других украшавший противоположную стену зала. Да вот хотя бы – Эйзенхауэр, Дуайт Дэвид, «Айк», 34-й по счёту. Победитель во Второй мировой войне, полнозвёздный генерал, награждённый, кстати, наряду с самим Сталиным советским орденом «Победа», варварски пышным и безумно дорогим, осыпанным настоящими бриллиантами.
Да, вот это – президент, имевший и волю, и характер плевать на любые рекомендации, хотя бы они исходили от людей, имевших столько денег, что хватило бы купить не только послевоенную Европу посредством «плана Маршалла», но и сами Соединённые Штаты тоже. Это ведь ДДЭ публично заявил, что главную опасность для Америки представляет её набравший непомерную силу и власть «военно-промышленный комплекс».
А он – всего лишь Мишель Ойяма, метис с кровью, похожей на тщательно взбитый коктейль – президент всех наций, народностей, групп и группок каких угодно меньшинств, включая активных лесбиянок и пассивных некрофилов, но не «американского народа».
Для того и выбран и «избран», чтобы окончательно дать понять всем, что ни о какой «воле большинства» отныне не может быть и речи. Зачем лицемерить перед самим собой, его избрание – это прежде всего плевок в лицо этим самым WASPам. Сильный, самодостаточный, уверенный в себе, имеющий собственное мнение, «винчестер» и «кольт», белый протестант, потомок первопроходцев, здесь и сейчас никому не нужен. Он почти такой же враг «новой Америки» и «новых американцев», как и русский. А сам Ойяма должен сделать героем и символом нации «одноногого, слепого негра-мусульманина, вдобавок – гомосексуалиста». И в то же время, руководя народом, составленным из таких вот «граждан», – обеспечивать и впредь глобальное доминирование США… Или – уже не США?
Мишель с горькой усмешкой подумал, что от него требуют достойно ответить лидеру страны, с которой не справился ни Наполеон, ни руководимые Англией «двунадесять языков», ни Гитлер. (Ойяма, как раз в силу своего происхождения, учился очень хорошо, старательно, не то что какой-нибудь Буш или Рейган, которым происхождение и социальный статус позволяли не знать не только где на карте находится Иран, а где Пакистан, но и не уметь перечислить по алфавиту названия всех американских штатов.) Всемирную историю он знал в достаточном объёме для вменяемого и окончившего два рассчитанных на подготовку «серьёзных специалистов» факультета человека.
И в то же время у него недостаёт власти, чтобы просто попросить выйти вон и никогда больше не возвращаться полусумасшедшую лесбиянку (лесбиянок Ойяма ненавидел куда сильнее, чем педерастов, но никогда этого не демонстрировал), вместе с тремя остальными «политмисс»! Хозяин пиццерии может уволить плохого повара, владелец корпорации – не справляющегося со своими обязанностями финансового директора, а он?
Эта уродливая баба – «госсекретарь»! Почему? Потому что её бывший свекор был три срока подряд постоянным председателем сенатского комитета по иностранным делам? Или потому, что она со школьных времён занимала руководящие посты в отделениях и комитетах «Дочерей американской революции»?[41] Или просто некогда приглянулась «менеджеру по персоналу» тайного «мирового правительства»? Кому-то, имеющему право определять «единственно верный курс» всего мирового сообщества?
Что-то слишком много посторонних мыслей лезет в голову в то время, когда нужно принимать «судьбоносные решения», наверняка кем-то уже принятые за партией в гольф или между переменой блюд кошерного субботнего ужина.
Но эти господа кое-чего не учли – потомком древнего самурайского рода, восходящего непосредственно к богине Аматерасу-Оомиками, нельзя помыкать, как выходцем из трущоб Гарлема, пусть и закончившим Гарвард. Вот подскакивающая от нетерпения сказать очередную прописную глупость директор АНБ мисс Прайс как раз такая – злобненькая, истерзанная комплексами всех видов, от сексуальных до расовых, «чёрная пантера», пусть и в совершенстве выучившая русский язык.
На четверть японец (по крови на четверть и на три четверти по духу), Ойяма умел на многие вещи реагировать не так, как от него ожидали те, кто воспринимал его, исходя из внешности и несущественных деталей биографии.
– Ну и ради чего мы собрались? – вдруг сказал президент, не притрагиваясь к «меморандуму», словно мгновенно забыл все слова, что были ему сказаны самыми разными людьми вчера, позавчера и сегодня тоже, во время этого совещания. Он любил поигрывать в покер. Не то чтобы профессионально, но гораздо лучше, чем в гольф. Гольф его бесил именно тем, что шарик по зелёному полю гоняли джентльмены, считающие, что тот, кто не умеет правильно выбрать клюшку и забросить ловким ударом мячик на двести ярдов, недостоин говорить о большой политике.
Покер – куда увлекательнее и демократичнее. Истинно американская игра. Вот сейчас Ойяма сбрасывает от пяти карт три и прикупает. И что получает в итоге? Каре с джокером или никчёмную «тройку плюс двойку»? Думайте, господа, и говорите своё слово.
– То есть как? – вскинула голову Прайс. Высветленные до желтизны и искусственно выпрямленные волосы дико смотрелись на её лице негритянки. Точнее, мулатки, но темноватой. С чертами лица, далёкими от классических канонов даже и кроманьонцев. «Больше всего похожа на австралопитека из музея, – подумал Ойяма и чуть не рассмеялся. – Вот интересно, за что она так ненавидит Россию? Никаких ведь действительно разумных оснований. Там, кажется, всегда выступали за права чёрных. По крайней мере, в качестве рабов на плантациях никогда не держали. У меня, пожалуй, в память о прадедушке и судьбе Квантунской армии больше оснований их не любить. Вот Курилы с Сахалином категорически отдавать не согласны. На что уж Ельцин с Шеварднадзе и Козыревым вели себя как подгулявшие ковбои в борделе, тратящие последнюю десятку, а тут упёрлись намертво…»
– Вот именно так, мисс Прайс, – приходя в боевое расположение духа, ответил президент. – Мне надоели всякие околичности. Слишком многое стоит на кону. Не меньше, чем в октябре шестьдесят второго[42]. И говорить о сути и смысле текущего момента нужно серьёзно, чтобы не осталось место неясностям и недоразумениям. Здесь все ответственные люди, журналистов поблизости нет, прослушки, надеюсь, тоже…
Он сделал паузу, будто ожидая ответа хоть от кого-нибудь. Но все его «дамы» и прочие члены «кризисного штаба» предпочли перемолчать. Наверное, сколько здесь людей, столько и подслушивающих и подсматривающих аппаратов. Каждому ведь нужно отчитываться. Что ж, тем лучше…
– Давайте говорить прямо. Вы собрались здесь с фактически уже готовым решением – России нужно объявить войну. Реальную, или до крайнего предела «холодную». До нуля по Кельвину. (Едва ли многие из присутствующих знали, что это такое.) Так? Но по Конституции я не имею такого права, это прерогатива Конгресса. Тогда что я могу для вас сделать? Мой разговор с русским президентом вы все слышали. По-моему, всё, что возможно, мы друг другу сказали. Я не заметил со стороны моего русского коллеги особой агрессивности, он, скорее, был сдержан, но сдержанностью сильного…
– Вот это и недопустимо! – повысил голос вице-президент Дональд Келли.
Видимо, ситуация начинала выходить из-под контроля, раз подчинённым президента, хорошо воспитанным и знающим аппаратные правила, изменяет элементарная выдержка. Ещё это значит, что готового решения нет ни у кого.
«Ты сердишься, Цезарь, значит, ты не прав!» – вспомнил Ойяма римскую поговорку.
На этом и можно сыграть, не доводя дело до прямого конфликта, вполне могущего закончиться новой «далласской пулей»[43]. С импичментом никто затеваться не станет – цейтнот.
– Я же просил, Дональд, – давайте попробуем говорить прямо. – Голос президента звучал до предела умиротворяюще. Он ведь отнюдь не спорит, он просто честно пытается разобраться в непростой ситуации. В сорок первом году всё было наоборот: никто не хотел вмешиваться в мировую войну, а Рузвельт настоял. – Хотя бы сегодня. Иначе завтра, возможно, разговаривать будет слишком поздно. Просто некому и не с кем. – Президент постарался вложить в свои слова максимум убедительности. Не останавливаясь перед тем, что его слова будут восприняты не как сила, а как слабость цепляющегося за остатки своей власти и авторитета человека.
– Недопустимо что? То, что русский говорил со мной твёрдо, но сдержанно? Вы предпочли бы истерику или что-то ещё? Давайте воспринимать противника (или всё же пока партнёра?) по возможности реально, без голливудских штампов.
– Именно: «что-то ещё». Нам нужен полноценный «казус белли». Русские от него всячески уклоняются, и, судя даже по вашему поведению, им это удаётся.
– «Даже по-моему» – это хорошо звучит, Дональд. А что я должен сделать в ответ на телефонный разговор? Разорвать дипломатические отношения, объявить абсолютное торговое эмбарго, послать войска? Или сразу – распорядиться о нанесении ракетно-ядерного удара по всем разведанным целям? Вы же мои советники и помощники, господа. Так советуйте, чёрт возьми! Я готов проявить всю возможную жёсткость. Только и вы мне помогите, мисс Прайс, положите мне на стол не вот это. – Он аккуратно отодвинул к краю стола предложенный ему документ. – Мне нужно что-то посолиднее для принятия рокового, может быть, решения. Чтобы не оставалось ни малейших сомнений в результатах нашего «демарша». Что мы реально теряем, сохраняя статус-кво, и что можем выиграть, перейдя Рубикон. Кстати – Комитет начальников штабов уже имеет проработанный в деталях план военной кампании? Настоящий план, не декларацию о намерениях, а чтобы так: «Ди эрсте колонне марширт, ди цвайте колонне марширт…»
Никто из присутствующих, похоже, не только Толстого не читал, но и в немецком языке разбирался слабо. Их лица выразили недоумение.
– Насколько я знаю, на детальную проработку военной кампании мирового масштаба требуется не один месяц. И ещё, мы ведь все деловые люди. Посчитайте и представьте в виде таблицы – сколько будет стоить каждый пункт вашего плана. В долларах и человеческих жизнях. Наших и неприятеля. Хватит с нас «Бурь в пустыне» и «Несокрушимых свобод». И ещё – чтобы следующее совещание не проводить в бункере под Скалистыми горами, – кто-нибудь гарантирует стопроцентное поражение абсолютно всех русских средств доставки? Я не помню, чтобы мне докладывали о полной готовности нашей системы ПРО.
Похоже, Ойяма переступил некую границу.
С серыми от ненависти губами (мисс «глава администрации» никогда их не красила, предпочитая «естественность») Кейтлин Мэйден заявила вибрирующим голосом:
– В этом нет никакой необходимости. Вместо этого «плана» я вам подготовлю справку о массовых нарушениях прав человека, бессудных расправах и казнях, происходящих сейчас в Москве и по всей России. Узурпатор, пользуясь случаем, под корень уничтожает всё, что является или может стать оппозицией. Людей, которых мы растили и готовили почти два десятилетия…
– Хорошо, представьте, – кивнул Ойяма.
– И вы немедленно должны сделать заявление о том, что США не в силах терпеть эту кровавую вакханалию. Либо немедленная отставка «президента», которого, возможно, вообще не существует, либо мы начинаем «гуманитарную интервенцию».
– Вы начинаете? – невинно спросил Ойяма. – Сколько дивизий моя администрация намерена выставить в «первой волне» ударной группировки, сколько во второй и так далее? С каких позиций и какими силами будут нанесены высокоточные и, если потребуется, ракетно-ядерные удары? Сколько времени и транспорта потребуется для переброски «оккупационной армии»? Куда и как будем эвакуировать население городов, входящих в списки русских ответных ударов?
Понимая, что пилюлю следует хоть сколько-нибудь подсластить, добавил:
– Я президент и верховный главнокомандующий. Не могу же я сотрясать воздух впустую. Скажите, генерал, – повернулся он к председателю Комитета начальников штабов, – может быть, хоть вы в состоянии ответить на заданные мною вопросы? Вы гарантируете, что ни одна боеголовка до капитуляции Москвы не упадёт на американскую территорию? И достаточно ли у вас мобильных войск, чтобы оккупировать все ключевые точки их территории, подавить возможные очаги сопротивления, взять под контроль атомные станции и ракетные базы? Да, я ещё забыл, – с чрезмерной, пожалуй, ядовитостью (но ведь и вправду – его уже достали) сказал президент, – совсем недавно я видел по телевизору, как русские поднимали свой Андреевский флаг на новых лодках, несущих по 16 ракет с десятью термоядерными зарядами каждая. Вы способны уничтожить их все и сразу? Вы знаете места их лёжек с точностью до ярда?
Генерал Паттерсон встал, чувствуя себя крайне глупо. На вопросы президента ответить было просто нечего. В том формате, как они были заданы. Он шёл на это совещание, будучи заранее настроен таким образом, что его тема совещания как бы и не касается. То есть речь будет идти о санкциях против России, вплоть до военных, но на самом деле это только дипломатия. То есть Ойяму обяжут (вот именно) предъявить русскому президенту ультиматум, и этот ультиматум будет составлен таким образом, что отклонить его русские не смогут, не произнеся нужных слов о возможном применении силы. Они, разумеется, понимают, что грозить Америке военной силой не позволено никому, как и то, что никаких реальных сил у них и не имеется. Что толку от их ржавых ракет, ежегодно подкрашиваемых, но не факт, что способных взлететь и долететь? За исключением нескольких демонстрационных образцов. Последние неудачи с испытаниями новых стратегических ракет, запусками аппаратов к Марсу и даже спутников связи прекрасно это показали. Да и устроенная по советским образцам армия Саддама Хусейна рассыпалась в пыль после нескольких высокоточных ударов. В Грузии русские тоже воевали по лекалам шестидесятых годов прошлого века и с той же практически техникой.
Такая штука с ультиматумами два раза в прошлом веке проделывалась с Сербией. В четырнадцатом году за сербов вступилась Россия, и началась известно чем кончившаяся для большинства инициаторов мировая война. В девяностые годы Россия за Сербию не вступилась, и Америка спокойно решила все свои проблемы на Балканах. Вернее, то, что она считала проблемами тогда. Россия не Сербия, за неё вступаться некому…
Генерал, даже с хорошо промытыми собственной пропагандой мозгами, был всё же военный человек и помнил, что русские не раз удивляли мир, опрокидывая все расчёты лучших генштабов мира. Но – ему сказали, что именно сейчас русские воевать не будут. Потому… потому что не пойдут! Как сказал какой-то их деятель: «Верхи не могут, низы не хотят!» Очень емкое и успокаивающее объяснение. Генерал был неглупый человек, но исключительно в своей области, и, не совсем даже понимая, что совершает государственную измену, выступая против Верховного главнокомандующего (то, что президент всего лишь «наёмный менеджер» налогоплательщиков – это для штатских), согласился сыграть на той стороне стола, что напротив президента. За этими людьми сила, а за Ойямой, как ему объяснили, – ничего.
Паттерсон словно забыл, что ещё позавчера считалось, что никого нет и за русским президентом.
Но теперь Верховный главнокомандующий задал ему вопрос, и на него нужно отвечать, а то ведь что? Саботаж приказов Верховного пахнет мятежом.
– Нет, господин президент. Ничего из того, о чём вы спрашиваете, я гарантировать не могу. Детальных планов полномасштабной войны против России у нас нет. В данный момент мы располагаем известным вам количеством стратегических и иных средств доставки, а также ТРЕМЯ вполне боеспособными воздушно-десантными дивизиями, которые мы можем использовать для оккупации России после того, как она капитулирует. Для уничтожения её сухопутной армии в случае полноценного сопротивления этих сил недостаточно. Правда, если правы дипломаты и разведчики, если Россия сопротивления не окажет и сложит оружие, тогда первые две-три недели мы сможем контролировать ситуацию. Да, сэр, две-три недели. На союзников по НАТО в ближайший год можно не рассчитывать, боеготовых для «русской кампании» подразделений у них нет вообще. Годом позже они просто разбегутся, бросив нас наедине с русскими. Кроме того, эти варвары уже не раз заявляли, что применят своё термоядерное оружие, если другие возможности обороны окажутся недостаточными…
– Итак, господа? – Президент обвёл глазами присутствующих. – Вы сами всё слышали. На мой взгляд – вопрос не подготовлен[44]. Если вы гарантируете, что Конгресс даст согласие на объявление войны России при нынешнем положении дел, я выступлю с ультиматумом. Русские – не дураки, со своим византийским чутьём они великолепно умеют распознавать блеф. И в этом случае – «Vae victis!». Если нет – я не хочу делать нашу страну объектом всеобщего осмеяния. Кстати, мисс Блэкентон, – повернулся он к госсекретарю, – вас не затруднит сообщить нам, как поведёт себя Китай в ситуации нашей с русскими конфронтации? Что, если, воспользовавшись случаем, он захватит Тайвань и попутно примется решать все другие свои геополитические проблемы? У вас подготовлена нота и, опять же, план действий и на этот случай?
На госпожу госсекретаря было тяжело (а вернее – противно) смотреть. Причём объектом её неэстетичной злобы сейчас были отнюдь не русские.
– Таким образом, господа, – с непроницаемым самурайско-покерным лицом сказал президент, – я считаю, что нам всем следует ещё немного поработать. Со всем старанием. Нельзя, только что потерпев крайне неприятное поражение, подставляться снова, окончательно демонстрируя миру, что зубы у Акелы окончательно затупились… После Ирака, Афганистана и событий в Северной Африке это нам совершенно ни к чему. Прошу через три дня предложить мне более реалистичный вариант обращения к русскому президенту и рассчитать достаточно сбалансированное сочетание имеющихся в нашем распоряжении кнутов и пряников… Я буду говорить с ним по телефону, но в случае необходимости готов встретиться и лично. Все свободны.
Ответом ему было почти змеиное шипение Блэкентон:
– У вас нет этих трёх дней…
Ойяма предпочёл не расслышать.
Во всей правящей верхушке страны у него был один человек, которому Ойяма доверял абсолютно – начальник военно-морской разведки вице-адмирал Феликс Шерман. Давным-давно они жили по соседству, учились в одном колледже и тогда же поклялись в вечной дружбе. За прошедшие тридцать пять лет ни тот, ни другой клятву не нарушили. К Феликсу он и решил обратиться немедленно. Отчего бы старым друзьям не половить «большую рыбу» с яхты президента. Говорят, в этом году очень расплодилась золотая корифена.
Фёст сделал вид, что аплодирует президенту. Этот парень повёл себя единственно возможным способом в данной ситуации. Правда, ещё неизвестно, чем это может для него кончиться. Пуля не пуля, а капелька чего-нибудь интересного в чашку зелёного чая – вот вам и обширный инфаркт с абсолютным летальным исходом. А вице-президент – свой человек в антирусской камарилье. Вроде как Трумэн после Рузвельта.
Злые и одновременно подавленные соратники президента с каменными лицами покинули кабинет, а Ойяма обессиленно опустился в кресло и дрожащими пальцами начал раскуривать длинную сигару. В рабочих помещениях Белого дома этого делать не полагалось, но ему сейчас было всё равно.
О том, кто является единственным другом президента, Фёст уже знал.
Глава третья
Фёст не мог не посмеяться (или – поудивляться) синтонности некоторых событий, происходящих в разных реальностях и, возможно, долженствующую обозначать некую инвариантность пресловутой, навязшей в зубах геополитики. А возможно – обычной психологии.
Проще говоря – уже третий (или – четвёртый)[45] раз представляется возможность чисто эмоционально-психологическими методами разрушить кажущуюся нерушимой и логически безусловной англо-американскую антироссийскую доминанту. Америка здесь оказывается слабым звеном, и, следовательно, её «русофобия» – не более чем дань определённой моде, «атлантической солидарности» и мощному давлению «мировой закулисы». Но если трижды при определённых обстоятельствах удавалось объяснить американским президентам их истинные интересы – значит, никакой фатальной обязательности в конфронтации двух истинно великих держав нет, и нужно только постараться в четвёртый раз.
Фёст почувствовал охвативший его кураж – карта пошла, вера в победу на ринге или мировой шахматной доске охватила всё его существо. В такие моменты актёры, например, в донельзя заигранной пьесе вдруг достигают каких-то немыслимых вершин, и зал овацией заставляет их двадцать раз выходить на аплодисменты.
Он поймал нерв Ойямы, теперь нужно на нём сыграть. К его же, между прочим, благу. Наступил такой редкий момент, когда, как пел Высоцкий, противник с полными руками козырей «зашёл он в пику, а не в черву»[46].
Так что, мистер Мишель Патрик Кэндзабуро (третье имя в официальных документах не употреблялось) Ойяма, приготовьтесь. Скоро будет интересно.
Поднявшись в свой рабочий кабинет, Ойяма расслабленно опустился в кресло наискось от приоткрытого окна, за которым на фоне густо-синего неба пылали багрянцем канадские клёны. Настоящее «индейское лето».
Президент чувствовал себя вымотанным и измочаленным, хотя по его виду сказать этого было нельзя. Разговор со своим русским коллегой дался бы ему гораздо легче. По той простой причине, что можно было бы оставаться самим собой и говорить то, что думаешь и что принесло бы реальную пользу обеим странам. Он на самом деле считал, что России лучше бы согласиться на роль младшего партнёра США со всеми вытекающими последствиями. Тогда Америка могла бы больше не принимать на себя все «непопулярные» решения, предоставив роль «надсмотрщика на плантации» этой громадной, бестолковой, но умеющей, когда надо, быть сильной и беспощадно решительной стране. И, самое главное, русские умеют находить общий язык с жителями «недоразвитых стран». И, пойдя на альянс с Америкой, Россия, наконец, получила бы правильную демократию, правильные государственные институты и правильное понимание законности.
Тогда бы можно было полностью отстранить от мировых проблем все остальные государства, да заодно и ЕС. Пусть копаются каждый на своём огороде.
Сейчас же он фактически сыграл в покер против своей страны, если, конечно, считать, как было сказано почти сто лет назад одним из тогдашних реальных хозяев США: «Что хорошо для «Дженерал моторс», то хорошо и для Америки». Но там хоть всё было названо своими именами, а кому должно стать «хорошо» в случае нынешнего русско-американского кризиса? (Он предпочитал употреблять слово «кризис», поскольку даже сейчас в возможность «горячей» войны не хотел верить. На «вторую холодную», пожалуй, придётся согласиться.) От переворота в Чили 1973 г. лучше всех стало «AT&T»[47], от свержения правительства социал-демократа Хакобо Арбенса в Гватемале в 1954 г. выгадала «Юнайтед фрут»… и так далее. США как таковые ни в одном случае своих «гуманитарных интервенций» не выигрывали ничего, кроме лишней головной боли и чувства гордости за то, что высоко несут знамя «доктрины Монро»[48]. Деньги в любом случае шли не на благо «налогоплательщиков», а в сейфы всё той же «закулисы», где впоследствии бесследно растворялись. Зато всё умножался и умножался накал ненависти к самому имени «американец» во всём мире. Уже «демократизированном» и ещё нет.
Но вопрос ведь стоял именно так – либо он, президент, работает во благо своей страны, понимая это благо широко, в очень и очень долговременной перспективе, считая себя политиком, а не политиканом. Либо, подчинившись давлению (или – шантажу), – против неё, но это с точки зрения тех, кто, по сути, не имея отношения ни к самой Америке, ни к её настоящим жителям, ни к «американской мечте», как её понимали ещё отцы-основатели, ухитрились, прикрываясь самой разнузданной демагогией, навязать этой стране безусловно гибельный для неё курс. Упиваясь тем, что сегодня в их руках самый мощный и универсальный инструмент для достижения мирового господства – сочетание действительно сильнейшей на сегодняшний день военно-экономической державы и возможность в любых количествах печатать безусловно обязательные к приёму в любой точке Земного шара деньги, ничем по сути своей не обеспеченные[49].
А вот что должно воспоследствовать в результате «окончательной победы» транснационального правительства в мировом масштабе – вопрос не менее интересный, чем аналогичный столетней почти давности. А что будет, когда наконец победит «мировая революция»?
Ойяма осмысливал происшедшее не столь отчётливо и однозначно, как реконструировал его мысли Фёст. Это и неудивительно, слишком разные у них были менталитеты, жизненный опыт и вообще стиль и способ отношения к историческому процессу. Но в основном их мыслеформы совпадали – и рафинированный европеец, и близкий к природе пигмей из лесов Итури в определённых ситуациях приходят к совершенно одинаковым выводам и даже начинают одинаково действовать, при полном несходстве используемых ими логик.
На краю стола тихо пискнул и мигнул светодиодом на крышке специальный, штучный, на японском заводе собранный ноутбук, «лэптоп» по-американски, подаренный президенту в конфиденциальном порядке одним из нынешних глав клана «настоящих» Ойяма. Если бы об этом подарке узнали недоброжелатели, мог бы разразиться нешуточный скандал, и не только потому, что его цена значительно превышала установленный законом лимит.
Президент с некоторым удивлением подвинул к себе обтянутый акульей кожей аппарат, отщёлкнул защищённый кодом замок. Мало кто имел этот электронный адрес, и именно сейчас президент никаких посланий не ждал.
Ойяма открыл почтовый ящик и, ещё больше недоумевая, прочитал короткий текст, написанный иероглифами. С соблюдением всех правил вежливости и церемониала, которые понятны только высокообразованному и не менее хорошо воспитанному аристократу. Причём иероглифы были не отпечатаны (таких и клавиатур не бывает), а с большим каллиграфическим искусством написаны от руки, а потом отсканированы, видимо. В достаточно редуцированном[50] при обратном переводе иероглифов в буквы текст гласил:
«Глубокоуважаемый господин Президент, приношу самые почтительные извинения за несанкционированный доступ. Исключительно сила обстоятельства и, возможно, воля Неба побудили меня к злоупотреблению вашим Высоким вниманием. Выражаю своё глубокое восхищение вашей твёрдостью и выдержкой, проявленными во время только что закончившегося совещания. Вы вели себя, как и подобает истинному самураю, постигшему «Бусидо». Однако своим поведением Вы вызвали гнев персон, с которыми в своём настоящем качестве бороться не в состоянии. Более того, вы поставили свою жизнь в положение непосредственной опасности. Поэтому примите почтительнейший совет – немедленно, никого не ставя в известность, вылетайте в Кэмп-Дэвид или другое не менее защищённое от проникновения посторонних место. До отъезда постарайтесь ничего не есть и не пить в своём Доме. Мы, в свою очередь, обещаем обеспечить вам на пути следования максимальную безопасность. Данное письмо может служить подтверждением наших возможностей и самых добрых намерений. Более подробную информацию и разъяснение многих сейчас непонятных вам моментов вы получите не позднее сегодняшнего вечера. Со всем возможным почтением – Друг».
Иероглиф подписи был старинный, малоупотребимый, его можно было прочитать и как «соратник, товарищ по оружию», и ещё несколькими подобными способами, весьма зависящими от контекста, а также и от обстоятельств его употребления.
Сам Фёст, конечно, японского не знал, но Учитель привил к нему интерес и понимание того, что язык этот можно использовать в самых неожиданных обстоятельствах и с самыми разными целями. А безусловным, не имеющим себе равных среди признаннейших знатоков «японистом» был всё тот же аггрианский Шар, вернее, одна из заложенных в него программ. Ляхову нужно было только набросать приблизительный текст записки и ввести некоторые параметры, остальное было сделано и аранжировано за него.
В качестве подтверждения, что записка – не попытка дешёвого розыгрыша, вслед за ней были помещены несколько фотографий с только что закончившейся «тайной вечери» с указанием, до секунд, времени съёмки.
Ойяма несколько раз глубоко вдохнул и выдохнул воздух сквозь сжатые зубы. Сомневаться в том, что снимки подлинные, не было никаких оснований, он сам присутствовал и в кабинете, и теперь – на великолепного качества изображениях. За прошедшие двадцать две минуты написать письмо, загрузить и передать его вместе с подтверждающими иллюстрациями едва ли кто-нибудь из присутствующих успел бы. А больше на совещании никого и не было. Вот здесь запечатлены все сразу, так что, кто фотографировал – само по себе вопрос. Специальные сканеры перед началом совещания подтвердили отсутствие любого рода приборов, не предусмотренных протоколом и инструкциями по безопасности.
Впрочем, насчёт этого президент не испытывал особенного оптимизма. Всё зависит от того, кто непосредственно занимается безопасностью. Что он скажет, то и будет принято к сведению. И деваться тут некуда. Не средневековая Япония вокруг и даже не патриархальная Сицилия, нельзя в этой Америке дать голову на отсечение, что любой этажности пирамида перекрёстной слежки за теми, кому вверил свою жизнь, гарантирует от предательства.
Ну, допустим, камеры слежения в кабинете имелись и зафиксировали видео– и аудиоряд совещания. За те самые двадцать минут некто изготовил записку, должным образом её оформил (а здесь, Ойяма понимал, требовалась рука каллиграфа очень высокого класса, одновременно владеющего и тонкостями стилистики японского, и современным американским языком) и вместе с фотографиями скинул на его почтовый ящик. А вот это ещё одна сложность (он пока рассуждал только о технической стороне вопроса) – пароль для связи был известен крайне узкому кругу лиц, и ни один государственный служащий в него не входил.
Неужели «врагам» (президент пока мысленно взял это слово в кавычки) удалось купить кого-то из тех, в ком он был уверен, как в самом себе. Купить или выманить шантажом. Задача сложная, крайне дорогостоящая, и в любом случае – практически бессмысленная. Очень сильно рисковать, и ради чего? Чтобы однажды послать ему такую вот записочку? Именно однажды, потому что любому понятно – пароль он сменит сразу же, независимо от содержания текста.
Тем более существует масса способов донести до адресата любую информацию, не прилагая вообще никаких трудов. Как до Кеннеди – путём платного объявления в газете[51].
Может быть, таким образом некто собирался посеять сомнение в верности самых, как он считал, близких людей? Глупо. Это только в плохих мелодрамах и в высокой классике вроде «Отелло» герой предпринимает судьбоносные действия на основании недостоверного слуха или намёка. В реале генерал, да ещё восточного (мавританского) происхождения, сначала как следует порасспрашивал бы господина Яго, служанок и всех более-менее к ситуации причастных. А уже потом сделал вытекающие из результатов расследования выводы, грозившие смертью скорее интригану, чем законной супруге. В уставе кайзеровской германской армии командирам прямо предписывалось даже в самых очевидных случаях меру наказания за дисциплинарный проступок назначать лишь на следующий день. Во избежание воздействия эмоций на здравый смысл.
И самое главное – его ведь неизвестный «друг» прямо предостерегает о возможности неких противоправных действий именно тех лиц, которые единственно могли бы осуществить такую, с позволения сказать, интригу.
Итак, что мы имеем?
Ойяма сам не заметил, когда закурил вторую сигару и неприличными для настоящего знатока и ценителя сжёг её быстрыми затяжками (О, ужас!) почти до половины.
Если все вероятные гипотезы оказываются несостоятельными, следует обратиться к невероятным. Тогда, возможно, кое-что прояснится.
Президент снял трубку внутреннего телефона и попросил зайти к себе начальника собственной службы безопасности, коммодора[52] Брэкетта. Этому человеку он до сегодняшнего дня доверял, и, что самое главное, офицер не подчинялся ни одному из людей, только что покинувших Белый дом. Он был рекомендован Ойяме лично адмиралом Шерманом и назначен в обход обычных административных каналов. На этом настоял военно-морской разведчик, чем обеспечил своему протеже многолетнюю роль чужака и изгоя для присосавшегося к Белому дому клана.
– День добрый, Гедеон, – сказал президент, вставая навстречу офицеру, который умел носить штатский костюм так, что он не смотрелся на нём мундиром без погон. Со вкусом, небрежно, но одновременно по-своему строго. Так мог бы выглядеть очень хорошо воспитанный представитель богемы из книг Оскара Уайльда, хотя бы и сам лорд Генри[53].
Ойяме было эстетически приятнее регулярно общаться с таким сотрудником, нежели с представителем банальных «Дублёных загривков»[54].
– Присаживайтесь, пожалуйста. Кофе, сигару, что-нибудь ещё?
– Спасибо, сэр. Чашечку кофе я выпью. Он у вас гораздо лучше, чем варит моя машина.
– Возможно, ваша машина просто плохо запрограммирована? Я где-то слышал анекдот, правда, не совсем политкорректный, и касался он не кофе, а чая. Там перед смертью главный герой говорит: «Евреи, не жалейте заварки».
Коммодор вежливо растянул губы. Смысла он, конечно, не понял, так не за наличие чувства юмора его держат на этом посту. Тем более, судя по имени, он из каких-нибудь пуритан или мормонов, а у них смеяться вообще грешно. Христос ведь никогда не смеялся.
– Скажите, Гедеон, – спросил президент, нажимая кнопку кофеварки, – вы сегодня ни от кого не получали никаких распоряжений относительно дальнейшего распорядка дня?
– Никак нет, сэр. Мои люди убедились, что все участники совещания покинули территорию, проверили, не забыл ли кто-нибудь что-то в помещениях. После этого все вернулись к обычному режиму. В журнале запланированных мероприятий других записей нет. От вас или ваших секретарей устных распоряжений также не поступало.
– Да, я помню – я вам даже говорил, что сегодня больше никуда не собираюсь и визитёров не жду. Но, может быть…
– Никак нет, сэр, не хочу повторяться. Леди Берилл сейчас находится в гостях у своей подруги, вы это знаете, с ней двое бодигардов. Когда она соберётся домой, то позвонит, за ней будет направлена машина.
Сейчас Брэкетт не производил впечатления эстета, ведущего исключительно рассеянный образ жизни. Отвечал он чётко и с должной степенью металла в голосе, причём металл этот, в отличие от разговора с подчинённым, должен был только подчеркнуть шефу, что коммодор на службе и вполне понимает ответственность стоящих перед ним задач.
– В таком случае – ещё один вопрос. Вы готовы выполнять мои… распоряжения (он хотел сказать – «приказы», но в последний момент воздержался) без оглядки на… чьи-либо другие?
– Не совсем понял вас, сэр. Вы – Верховный главнокомандующий, и, естественно… Разумеется, есть ещё должностные инструкции, которые я обязан выполнять, несмотря на несогласие охраняемого лица…
– До определённого предела, Гедеон. Не забывайте. Есть моменты, когда любые инструкции утрачивают силу. И эти моменты определяю я. Если я поставлю вас по стойке смирно и отдам вам приказ именно как Верховный главнокомандующий, вы его исполните?
– Так точно, сэр!
– Без оглядки на чьи-либо ещё распоряжения и даже собственные… интересы?
Видно было, что Брэкетт все меньше и меньше понимает суть и смысл происходящего.
– Как вы могли подумать, сэр?
– Я должен думать всегда и учитывать самые… неприятные варианты. Вот сейчас такой момент наступил. Вы, никого больше не ставя в известность, приказываете подготовить два вертолёта. Один для меня и вас, второй для охраны. Возьмите человек шесть – восемь. Можно больше, если поместятся. Сразу по готовности мы вылетаем в Кэмп-Дэвид[55].
– Что-то случилось, сэр? – В голосе полковника прозвучали тревога пополам с любопытством. Странная какая-то коллизия обрисовывалась, хотя само по себе желание президента посетить свою резиденцию не являлось событием экстраординарным. Если, допустим, ему хочется поработать с документами, просто поразмышлять о мировых проблемах под сенью клёнов и сосен, «вдали от шума городского». Так оно сейчас, в сущности, и было, только с известным нюансом.
– Абсолютно ничего, за исключением того, что трещины на панцире черепахи[56] посоветовали мне сегодня «уединиться в прочном месте» и «не допускать к себе никого, кроме оруженосца». Мы с вами, Гедеон, конечно, современные люди, но Учитель[57] говорил: «Не упускай возможности соблюсти Ритуал. Без крайней нужды не иди против течения». Поэтому мы, не сообщая об этом никому, летим сейчас в Кэмп-Дэвид. Надеюсь, получаса вам хватит? А я пока соберу нужные мне бумаги.
Перелёт занял не более получаса, и когда вертолёты приземлились на посадочной площадке внутри охраняемого периметра, Ойяма ощутил странное спокойствие. Будто действительно совершил опасный переход через горы, кишащие разбойниками, и добрался, наконец, до ворот замка местного сеньора, охраняемого сильной дружиной.
И вдруг почувствовал, что гораздо лучше понимает своего русского коллегу. Совсем недавно тот был не более чем малолегитимным (поскольку не желал слепо следовать в американском фарватере) правителем погрязшей в заблуждениях позапрошлого века авторитарной державы и неожиданно показался едва ли не «товарищем по несчастью». Человеком, выполняющим трудную, неблагодарную работу, каждую минуту ходящим по лезвию ножа, зная, что, если тебя вдруг захотят убить или просто смешать с дерьмом и грязью, не поможет никакая охрана.
А что поможет?
Русскому президенту что-то ведь помогло, и рухнул весь долго и тщательно выстраиваемый заговор. Как бы сам по себе.
Сейчас и Ойяма почувствовал дуновение ветерка от свистнувшего над головой меча. А что, если меч – тот же самый, и неким силам совершенно всё равно, кто станет его жертвой? Не вышло с одним – попробуем с другим. На загадочный «конечный результат» перемена мест слагаемых не повлияет.
У порога коттеджа он обернулся к следовавшему в двух шагах позади и справа Брэкетту.
– Спасибо, Гедеон. Пока вы мне больше не нужны. Занимайтесь своими делами. И ещё, – будто случайно вспомнилось, – поручите там кому-нибудь, пусть тщательно фиксируют, начиная с этого момента, любые телефонные переговоры, в которых упоминается моё имя, кличка, вообще, вы понимаете… Кто, когда, о чём… То же касается всемирных сетей. Как открытых, так и… любых других. – Президент не слишком хорошо разбирался в делах, имеющих отношение к компьютерам, всяким там айфонам, айпадам, вай-фаям и прочим малопонятным «гаджетам». Хуже даже, чем в автомобилях, там он, кроме того, куда вставлять ключ зажигания, как трогаться и ехать, хотя бы знал, почему в бак наливают именно бензин и каким образом осуществляется процесс преобразования вспышек в цилиндрах во вращение колёс. В затронутой же сейчас теме он мог оперировать только самыми общими выражениями, в надежде, что собеседник сам поймёт, о чём речь и что от него требуется.
– Будет исполнено, сэр.
– Кроме того, лично отдайте приказ охране – не пропускать на территорию ни одного человека, повторяю – ни одного, до тех пор, пока я не увижу его на экране камеры слежения и не распоряжусь, как поступить. Никакое летательное средство не может приземлиться на площадке или рядом. Примите меры и к этому. Если над территорией появится беспилотник – сбивайте сразу. Нет зенитных средств? Так привезите. Часа вам хватит? Что так смотрите, коммодор? Считаете – у меня острый приступ паранойи? Ну и что? Я очень жалею, что ею не страдали ни Кеннеди, ни Линкольн[58]. Несколько позже я постараюсь вам кое-что объяснить. Сейчас скажу одно – госпожа госсекретарь, думая, что я её не слышу, сказала, что сомневается, проживу ли я следующие три дня. А я хочу их прожить. Вы понимаете, Гедеон?
– Это попахивает государственной изменой, сэр!
– С этим мы разберёмся несколько позже. А пока помогите мне прожить эти три дня…
– Я сделаю всё, сэр! Может быть, позвонить адмиралу?
– Пока не надо. Не будем раньше времени ворошить осиное гнездо…
Президент улыбнулся и кивнул, но коммодор видел почти вплотную его сузившиеся глаза и подумал, что с этими парнями, японцами то есть, шутить надо очень осторожно. У них какие-то свои, не всегда понятные белому человеку реакции. Резать живот, чтобы смыть оскорбление, – дикость, конечно, но Брэкетт знал, что с обидчиками там поступают гораздо круче.
В своей спальне, выходящей окнами на тихую ухоженную лужайку, где порхали и пересвистывались десятка полтора пёстрых птиц, президент переоделся и открыл балконную дверь. Выйти, постоять, вдохнуть свежего воздуха, окончательно проникнуться тем чувством, что не испытывал очень давно.
Охранников нигде не видно, но они есть, каждый на своём месте, и на территорию «лагеря» не проникнет больше никто без его личного на то разрешения.
Впрочем, так же думал, наверное, и русский президент, считая себя за оградой своей дачи в полной безопасности. Но тому хорошо, раз уж удалось спастись, может отсиживаться в своём Кремле сколько угодно, не боясь даже и ракетного удара. Ойяма однажды побывал в этом средневековом замке и невольно проникся не совсем подобающим главе сильнейшей на планете державы чувством. Он не любил вспоминать о том моменте, но никуда не денешься. Он вошёл под своды Георгиевского зала Кремля и на какой-то миг ему показалось, что и сама Америка в сравнении с Россией – как её Белый дом в сравнении с этими краснокирпичными стенами и башнями, лестницами, коридорами, залами, бесконечной глубины и протяжённости подвалами, сохранившимися, как ему говорили, в неизменности то ли с шестнадцатого века, то ли вообще с двенадцатого. И расставленные вдоль пути следования гвардейцы президентского полка в своей стилизованной под XIX век парадной форме! По сравнению с ними те, что несут аналогичную службу при Белом доме, выглядят на скорую руку наряженными в военные мундиры деревенскими увальнями. Они даже парадным шагом ходить не умеют…
Тогда и шевельнулась мысль (всё ж таки японские гены сказывались), что двести лет американской истории – это слишком мало, чтобы делать какие-то основательные выводы о сравнительной мощи и величии её и других государств, хотя бы и западноевропейских. На самом-то деле что? На заре семнадцатого (всего лишь) века несколько радикальных экстремистских сект эмигрировали из Англии и Голландии в Америку, основав колонию в Новой Англии. Пересекая Атлантику, эти пуритане, называвшие себя «избранным народом святых», проклинали оставляемую ими Европу, её королей и её церкви, навсегда отсекая себя от них бритвой «доктрины предопределения» и приговаривая оставляемый мир к «вечной смерти».
А через триста лет потомки этих людей «вернулись» в Европу, чтобы силой вбить в головы «недочеловеков» свои мессианские идеи. Ойяме хватало внутренней свободы, чтобы понимать это, продолжая служить идее «американской мечты», просто потому, что не получилось у его предков «собрать восемь углов мира под одной крышей»[59].
Значит, судьба предназначила его сделать то же самое, но с позиций правителя уже другой страны. А что будет дальше – ведомо только богине Аматерасу…
Снова мигнул светодиод на крышке лэптопа. Ощутив некоторое волнение, президент открыл «почтовый ящик».
Новая записка, оформленная в том же стиле.
«Вы поступили правильно, Господин Президент. Теперь самое лучшее – сохранять своё уединение несколько ближайших дней, поручив верному человеку обеспечить ваш покой, прервав всякую связь с внешним миром. Перед принятием ответственного решения лучше не отвлекаться на суетные мелочи. Кроме того, столь необычный поступок повысит ваш авторитет и одновременно заставит недоброжелателей проявить активность, которая почти всегда ведёт к ошибкам. Передаю вам подборку документов, которые убедят вас в чистоте моих намерений и помогут принять правильное решение. Если вам потребуется дополнительная информация или просто моральная поддержка – вот адрес, по которому вы можете в любой момент со мной связаться. Извините за неподобающую назойливость и навязывание вам непрошеной помощи. Но бывают времена, когда лучше пренебречь ритуалом, чем потерять голову. Писать можете на любом удобном для вас языке. Друг». После подписи был изображён иероглиф «Ли» с пометкой, что его можно использовать в качестве кода вызова загадочного «друга», если добавить к нему следующий по порядку.
Сам по себе иероглиф имел несколько значений, но именно в таком каллиграфическом исполнении наводил на мысль, что подразумевается… Не случайно же записка заканчивалась одним из афоризмов Учителя. (Интересно, откуда «друг» знает, что Ойяма – не христианин и не синтоист, а именно – стихийный конфуцианец?)
А какая гексаграмма в «Книге перемен» обозначена как «Ли»?
Он достал из ящика стола изящно переплетённый томик, изданный ещё до начала эпохи Мэйдзи[60], в японском переводе и с комментариями Мацуи Расё. Раскрыл примерно посередине. Вот она.
«Ли. Наступление».
Сколько лет живёт на свете Ойяма, а не перестаёт удивляться. О чем бы ни спросил эту Книгу – всегда ответит именно об этом. Иначе не бывает.
И сейчас – пожалуйста.
«И кривой может видеть, и хромой может наступать. Но если наступишь на хвост тигра так, что он укусит тебя – будет несчастье. Если не укусит тебя – свершение».
Достаточно пищи для длительной медитации.
А следующая гексаграмма? Номер одиннадцать. «Тай», в самом близком значении – «расцвет».
«Малое отходит, великое приходит. Городской вал опять обрушится в ров. Не действуй войском! В своём городе изъявляй свою волю! Упорство приведёт к сожалению».
Конечно, можно предположить, что именно эти две гексаграммы выбраны неизвестным специально. При желании можно скомпилировать какие угодно «предсказания». Но всё же, всё же…
Ойяма, невзирая на всю «ассимилированность» и «европейскую рафинированность», оставался человеком своей культуры и своего менталитета. Этой простой вещи не понимает большинство людей, когда представляют таких людей совпадающими по «форме» и «содержанию». Мол, если закончил два престижных университета и военную академию, безупречно носит смокинг и фрак, знает, к какому блюду какое вино следует подавать, и смеётся тем же шуткам, что и мы – значит, он «цивилизовался». А этот цивилизованный, возвращаясь домой в какую-нибудь афроамериканскую республику, требует к ужину филе пойманного в Париже лидера оппозиции, и непременно в кляре[61]. А другой, став командующим одним из сильнейших и современнейших флотов в мире, всё равно сидел в салоне линкора на циновке и в кимоно, и каждую действительно талантливую операцию предварял гаданием на цветках тысячелистника[62].
В этом, пожалуй, заключался главный просчёт и тех, кто выдвинул Ойяму на нынешний пост, и тех, кто попытался им манипулировать привычными методами.
Ойяма задумался – а каким образом использовать иероглифы в качестве пароля? На клавиатуре их нет. Может быть, так – «Ли» и «Тай» – десятая и одиннадцатая гексаграммы. В сумме – двадцать один. Непростое число, с особым смыслом. Или, если подряд прочесть цифры, – тысяча одиннадцать. Он не математик и не нумеролог, так сразу уловить смысл этого сочетания не может.
Но попробовать можно оба варианта. Однако не слишком ли просто?
Оказалось, что именно так. На «21» программа не отреагировала, а когда Ойяма набрал в строчке адреса второе сочетание, соединение произошло мгновенно.
«Всё правильно, господин Президент. Быстрота мышления делает вам честь. Связь установлена. Но сначала всё же почитайте документы. Примерно через полчаса к воротам Кэмп-Дэвида подъедет человек. Примите его. Пароль – «Ли – Тай». Можете ему полностью доверять. Мы решили, что через курьера можно организовать контакт между двумя достопочтенными лицами надёжнее, чем с помощью технических средств. Когда человек прибудет, подтвердите встречу и получение документов». Этот текст был написан без затей, латиницей и по-английски.
Что-то кольнуло Ойяму. Похоже – сомнительная похвала. Сделанная как бы с другого уровня. Так учитель может одобрительно погладить по голове второклассника за успехи в устном счёте. Но с другой стороны…
«Хорошо, оставим это, – погрузился он в размышления. Курьер, курьер… Действительно, попахивает Средневековьем. Но с другой стороны, неизвестный «Друг» прав. Техника может всё, кроме того, что может специально подготовленный человек. И бумаги… Разумеется, бумаги – это гораздо достовернее, чем их электронная копия. Вопрос – что это за бумаги? Компромат на него или на его врагов? Ну ничего, подождём, недолго осталось. Второе, конечно, вернее. Шантажировать можно и гораздо более простыми способами. Но как всё рассчитано и исполнено! Здесь чувствуется очень опытная рука. И изощрённый ум. Достойный японца. Но в Японии у него нет «достопочтенного друга». Не нынешнего же премьера так называть? Нет, для протокола можно, но по сути… А что, если это послание от русского коллеги? Тогда всё сходится – и непонятные технические возможности, и глубина познаний, и… Да, вот именно, «и»! Наследие Византии. Не германская дуболомная прямота и не англосаксонский стиль, где через самые хитрые конструкции просматривается напыщенная самоуверенность…
Ничего, через полчаса он всё узнает. Незачем ломать голову. Лучше посмотреть, что скажет учитель.
Ойяма закурил уже третью сигару, вновь положил перед собой «Книгу перемен» и взял в руки черенки папоротника.
Выпала гексаграмма номер сорок восемь, «Цзинь» (колодец).
«Ну что же, – подумал Ойяма. – Пока прибудет посланец, есть время помедитировать…»
Глава четвёртая
Идея, с которой несколько дней назад Воронцов обратился к Фёсту, была крайне проста. Может быть – проста до наивности. В свои студенческие годы, начав изучать психиатрию, тогдашний Вадим Ляхов был поражён одним незначительным, в общем-то, открытием. Оказывается, человека, страдающего, например, шизофренией, невозможно переубедить в его бредовых идеях. Вроде бы человек интеллектуально сохранен, вполне ориентируется в окружающей действительности и остаётся тем же кандидатом технических наук или известным литератором. Но поселяется в нём некая сверхценная идея, избавить от которой его столь же трудно, как вылечить сифилис плясками шамана вокруг костра. Вадим пытался целый семестр «наставить на путь истинный» одного пациента. И отступился. Осознал, что некоторые убеждения сродни этой самой белой спирохете – логическим доводам и демонстрации каких угодно экспериментов не поддаются. Например – коммунистические или ваххабитские у ряда граждан. У других – лечатся вполне.
Вот Воронцов и предложил проверить – нормальный ли человек американский президент. Сможет ли он, ознакомившись с тщательно подобранными документами и получив какие-то гарантии очевидных преференций для себя и своей страны, резко сменить политический курс, грубо говоря – с трумэновского на рузвельтовский.
Личность Ойямы была проанализирована с помощью «стратегического симулятора» Берестина после того, как Шар выдал достаточно материала для анализа. Получилось, что искомая возможность не исключается. Да мало ли было в истории деятелей, которые, «пересмотрев свои взгляды» и суть «государственного интереса», меняли курс кто на девяносто, кто на сто восемьдесят градусов. Ближайшие примеры только из XX века – руководители Финляндии, Румынии, Болгарии в конце Второй мировой войны, коммунистические руководители бывших советских республик и «стран народной демократии» – в восьмидесятые-девяностые годы.
Тогда и было решено поэкспериментировать. Для начала президенту был подготовлен пакет документов, в который Фёст включил некоторые материалы о деятельности «Озабоченных гуманистов» и «хантеров» Арчибальда. К ним добавил распечатки телефонных и прямых переговоров «дам и джентльменов» его ближайшего окружения, снабжённые доказательствами их абсолютной подлинности. Чтобы Ойяма хоть в первом приближении понял, каким образом «некие личности» используют его страну и его самого, а также и то, какая участь уготована самой Америке. Пожалуй, гораздо более печальная, чем даже России. В силу исторических, географических и демографических обстоятельств.
Кроме того, с помощью тех же чудес техники был подготовлен написанный в достаточно свободной форме протокол заседания некоего «Конгресса футурологов и конструкторов будущего». Здесь вниманию Ойямы предлагалось несколько сценариев развития отношений США и России с разными вводными. Прогнозы были и краткосрочные – на ближайшие месяц-два, и перспективные – на пятилетку и в ещё более далёкой перспективе.
Пусть прочтёт и подумает. Как следует подумает. Тогда и ясно станет – политический он деятель исторического масштаба или очередной мелкий политикан, танцующий под дудочку весьма неприглядных личностей. Ещё проще – шизофреник он или нормальный, хотя и заблуждающийся человек.
Оставался ещё вопрос – каким образом всю эту «идеологическую бомбу» до Ойямы донести. Чтобы всё было достоверно, не вселяло подозрений и настолько заинтересовало, что отказаться «проглотить наживку» президент не смог бы.
С первым этапом всё было понятно. Пароль ноутбука узнать несложно, составить записки на японском – тоже. Но дальше в игру должен был вступить человек. Не «бог из машины» – он наверняка спугнёт клиента. Не русский – прямые переговоры с русским представителем вроде Гарри Гопкинса, через которого Рузвельт решал со Сталиным многие деликатные вопросы, – это второй этап. Нужен был особый человек, и найти такого человека Фёст поручил своим валькириям. Как раз по специальности: их именно этому и учила в своё время Даяна. Срок – двое суток, в методах и средствах – без ограничений.
Одновременно Фёст, не отвлекая Секонда от его прямых служебных обязанностей, решил немного поработать в своей Москве, попытаться состыковать здешние события с американскими, провести ряд подготовительных мероприятий для второй фазы его собственной операции. Большая часть оставшихся верными Президенту высших чиновников и сотрудников наскоро сформированных «полевых подразделений» Объединённой Ставки Верховных Главнокомандующих (такой интересный, ранее неведомый «наднациональный» орган власти с диктаторскими полномочиями на паритетных началах сам собой оформился) была очень плотно занята текущими делами по «Мальтийскому кресту». В ожидании скорых и тектонического масштаба перемен рутинные государственные заботы сами собой отошли на второй и третий план. Думу на всякий случай отправили на внеочередные каникулы (чтоб под ногами не путалась), оперативное управление регионами передали в Совет министров и соответствующее подразделение президентской администрации. Всё равно совсем скоро начнутся такие дела, что о нынешних никто и не вспомнит.
Но те, кто был допущен, напрягались не меньше, чем их предшественники в первые годы Отечественной войны, когда большая часть военно-политического руководства страны работала фактически на круглосуточном казарменном положении. Несколько поспокойнее и планомернее, конечно, но впервые за десятки лет здешние, Российской Федерации люди почувствовали, что такое настоящая работа при действительно серьёзной ответственности. И, что с понятным удивлением отметил для себя Фёст, многим это начало нравиться. Как тому же Мятлеву, например, взвалившему на себя, кроме членства в Ставке, ещё и бремя трёх крайне запущенных министерств.
Как-то во время короткого перекура в кремлёвском коридоре, на этой стороне, Леонид Ефимович сказал Фёсту, забежавшему решить с глазу на глаз кое-какие вопросы:
– Ты знаешь, Вадим, я вот только окунулся в серьёзную работу как следует…
– А до этого всю жизнь только этим самым груши околачивал? – по скверной привычке, которую Фёст знал за собой, но никак не мог собраться и искоренить, перебил он генерала.
– Выходит, что так. Разучились мы именно что работать, а не присутствие изображать. Как у Стругацких в «Понедельнике»: «В итоге они пришли к странному выводу – «Работай или не работай – всё едино».
– Не совсем точно цитируешь, – по привычке поправил Фёст, – а в принципе так и есть. Если б вам ещё с брежневских времён за каждый серьёзный косяк или просто бездействие власти (была такая в царское время в «Уложении о наказаниях» статья) звёздочки сдирали или вообще отправляли в отставку без объяснения причин, без мундиров и пенсий[64] — сейчас бы у нас, как при Сталине, сержанты райотделами заведовали, а лейтенанты и капитаны[65] – отделами в Центральном Аппарате. По этому случаю мне резолюция Петра Первого на докладе о некоем проступке офицера вспомнилась. «А капитану имярек вменить сие в глупость и выгнать со службы, аки шельма».
– Оно бы, может, и правильнее было, – кивнул Мятлев, глубоко затягиваясь дорогой, специального заказа «Корниловской» папиросой, к которым неожиданно быстро пристрастился, бывая в имперской России. Не говоря о вкусе, куда более полном и своеобразном, чем у неизвестно какой синтетикой набитых сигарет, человек с папиросой сам по себе как-то значительнее выглядит, что ли. Да и много всяких манипуляций, успокаивающих нервы или отвлекающих внимание собеседника, можно проделывать с папиросой и никогда не выйдет с сигаретой.
– Но я в этой связи другое хотел сказать. Знаешь, была в советском разделении властей, не на законодательную и исполнительную, а на партийную, советскую и хозяйственную своя сермяжная правда. Если до абсурда не доводить, конечно, в разумных рамках это соотношение соблюдать. И понятнее, с кого за что спрашивать, и есть кому, и вообще – каждый сверчок… сам понимаешь.
– Чего ж не понимать. Только теперь едва ли так, как было, получится. Впрочем, всё в ваших руках. Мы вам, сам видишь, ничего не навязываем.
– А идею насчёт Ставки? – хитровато прищурился Мятлев.
– Ты ещё скажи, что мы вам идею штаны через ноги, а не через голову надевать навязали. Ну, попробуйте ещё по-старому поруководить…
В голосе Фёста прозвучали такие нотки, что Леонид предпочёл быстренько свернуть тему, не преминув, однако, съязвить, чтобы в долгу не оставаться:
– «Мы – вам». Быстро же ты себя от нас отделил.
Фёст вдруг подумал, что со стороны так и может это восприниматься плохо знающим его человеком – вот, воспользовался моментом и быстренько перебежал на сторону победителей. А вот победителей ли – разбираться кому времени не хватает, а кому – и просто ума.
– Это ещё как сказать, можно и совсем иначе на вопрос взглянуть. Это вы так сильно себя от нас отделили, что теперь нам приходится… – Он вдруг не нашёл подходящего слова и опять заменил его пародийной цитатой из какого-то, советских времён поэта: – «Вышли мы все из народа, как нам вернуться в него?» – И не стал продолжать внезапно возникшую тему. – Мне, собственно, от тебя вот что надо. – Вадим достал из планшета (обычного, офицерского, а не компьютерного) два сколотых вместе листа бумаги. – Ты как есть у нас сейчас и за министра госбезопасности, и обороны тоже, это твоя компетенция. Подпиши вот это. В целях, как говорится, дальнейшего совершенствования боевого взаимодействия… Если не возражаешь, конечно, потому как кумовством попахивает.
– В каком это смысле?
Мятлев скользнул глазами по тексту. Там было написано, что в целях обеспечения специальных задач создаётся при ставке особая оперативная группа. Положение о группе и должностные инструкции см. в «Приложении №1» (Секретно, №0013). Штатное расписание – см. «Приложение №2 (ДСП). В состав группы включаются военнослужащие армии РФ и Российской императорской армии, которым наряду с имеющимися чинами присваиваются воинские звания[66] РФ (отдельным приказом).
Подпись – и.о. министра обороны РФ генерал-лейтенант Мятлев.
– Так я ж армейского звания не имею, – вскинул глаза Леонид. – И у себя пока «майор».
– Ничего, завтра будешь. Так солиднее.
Штатное расписание было коротким. Постоянный состав группы – восемь офицеров и два старших прапорщика/старших мичмана – делопроизводителя, секретной и несекретной части. Начальник группы – воинское звание генерал-майор/полковник (т.н. «вилка»), заместитель начальника – майор/подполковник, прочие, офицеры для поручений – с «потолками» до майора включительно. Денежное довольствие – по занимаемой должности со всеми предусмотренными надбавками.
В следующем приказе значились сам Ляхов В.П., которому присваивалось[67] (наконец официально!) звание полковника. По-настоящему, а то он до сих пор делил чин на двоих с Секондом. Замом назначалась поручик РИА Яланская – отныне майор РФ, капитанами становились подпоручики и поручики Вяземская, Витгефт, Вирен, Варламова, да ещё какие-то Глазунова и Темникова, о которых Мятлев никогда не слышал. Должности прапорщиков оставались вакантными.
– В принципе твоё дело. Сейчас под горячую руку можешь кого хочешь и в генералы возвести, – каким-то кисловатым голосом сказал Леонид. – И всё же. Почему вдруг Яланская – майор, а Люда и Герта – капитаны?
– А тебе, как Жукову – любовницу сразу полковничьего чина и орденом Суворова наградить? – неизвестно зачем опять съязвил Фёст.
– Я не о Герте. А с Жуковым что, правда такое было?
– Такое не такое, а своим шестёркам он сильно попускал. Некоторые после его отставки в тюрьму угодили. Это ж при нём «ЗБЗ»[68], вполне приличную награду, переименовали в «За боевые услуги». Каждой санитарке и горничной первым делом цеплял. Если «услуги» продолжались – тогда ордена и звания. А Галину я не просто так в майоры произвожу. Она, в отличие от наших девчонок, баба серьёзная, обстоятельная, хоть и молодая пока. С её характером я горя знать не буду. Прикажу – любого генерала до печёнок достанет, но своего добьется. И ещё что хорошо – если кто из местных выступать начнёт – сразу в позу: «А не пошли бы вы, товарищ? Я своего Императора поручик, а у вас так, прикомандированная! Все вопросы – генералу Мятлеву, он приказ подписывал, с ним и решайте!» Ты разве сам не понял? А связи у неё там, дома – зашибись. В случае чего очень многое можно будет приватно порешать.
Леонид Ефимович представил подобную картинку – разговор Яланской с каким-нибудь штабным полковником – и довольно хмыкнул.
– Что красивая и характер стервозный – заметить успел, а в другие тонкости не вникал. Тебе Людмила из-за неё глаза не выцарапает? – почти дословно повторил он слова Яланской, что та первым делом произнесла, когда Фёст предложил ей должность.
– Ни в коем разе. Она просто в восторге будет, когда узнает. Твоей тоже обижаться не на что. Мне, если хочешь знать, капитанские погоны вообще эстетически больше по душе. И чего это генеральше «де-факто» подружке-майорше завидовать? Короче – я так решил, и этого достаточно. Подписывай. Мне виднее, как лучше и с кем возложенные обязанности исполнять.
– Да я-то что, мне погон не жалко. Но условие – я подписываю, и они чтоб сегодня же проставились. Хоть сами готовят, хоть в кабак ведут на первую зарплату. И звёздочками для обмывания запасутся. В «Военторге» сейчас натуральные золотые продаются. Как раз в этих целях…
– Это свободно. Людмила уже совсем поправилась, а остальные – всегда готовы. То-то радости будет…
Мятлев ещё немного подумал и спросил:
– Слушай, а это как со стороны, вообще? Целый секретный отдел, и сплошь бабы, одна другой краше. Я бы и то заинтересовался, если б не в курсе был.
– Что, думаешь, я их на строевой смотр выводить собираюсь, смотрите, мол, и любуйтесь на мой «гарем». Секретное подразделение всё же. Думал, хоть тебе объяснять не надо, почему я с девицами предпочитаю работать. Ты же их в деле видел? А посторонний человек ни в жисть не подумает, что от таких, как Людмила, можно серьёзных проблем ожидать. У Герты твоей хоть глаза бывают суровые, а у моей… – Он махнул рукой, но при этом улыбнулся как-то растерянно, словно до сих пор не мог поверить, что имеет право так легко и свободно говорить о Вяземской – «моя». С тем особым смыслом, который это слово имеет в одном-единственном случае.
– Да и вообще. Я ж в медицине начинал, а там это норма – на одного мужика – главврача полсотни и врачих и санитарок. И ничего, нормальный такой симбиоз получается. Ладно, специально, чтоб тебе угодить, прапоров я мужиков возьму. Можешь надёжных посоветовать, из своих кадров?
На самом деле, конечно, Фёсту никакие посторонние мужики, тем более из МГБ, никаким краем не требовались, но чего ж не подсластить пилюлю новоиспечённому трижды министру? А в натуре – «как пожелаем, так и сделаем». Мысль у него была – роботов на должности архивных крыс взять. Вернее – крысиных волков[69].
После этого разговора Фёст вернулся на Столешников, где сейчас присутствовали только трое из его теперь уже официальных подчинённых, довёл до них приказ и со словами – «Заяц трепаться не любит» протянул Яланской майорские погоны. Для большего эффекта – золотые, парадные.
– Так что, Галина Семёновна, ты у нас теперь дама двухпросветная. Желаю соответствовать. Ну а вам, барышни, пока и четырёх звёздочек хватит.
Он несколько посерьёзнел, хотя, исполняя эту приятную обязанность, должен был бы, по мнению девушек, по обыкновению улыбаться и шутить.
– Прошу иметь в виду, что это вам не просто так – захотел добрый дядя Лёня, и нате вам, девочки, российские погоны. Сколько людей, такие погоны носивших, в землю легло и сколько с ними подвигов совершили – вам в той России и представить трудно, хоть и фильмы всякие вы видели… К присяге вас не приводим, два раза не присягают, но помнить – помните!
Девушки тоже подтянулись, чётко ответили: «Служим России!», благо теперь эта формула была одна и та же по обе стороны барьера.
– А теперь сразу, не теряя времени, сядем, кое о чём помаракуем. Завтра я нам для группы подходящее помещение поблизости выбью, а пока придётся здесь. «Третью» квартиру временно используем.
Под «третьей» он подразумевал соседнюю, аналогичную по планировке, всегда параллельную настоящей, что не так давно была выкуплена у владельца бензоколонок. Ради неё даже возник непродолжительный, без применения настоящей силы разрешённый конфликт со смотрящим района и его шестёрками. Такая же точно квартира, но после прежнего хозяина несколько реконструированная, чтобы, на случай чего, выглядела посовременнее специальной.
– Нам в ней только рабочий кабинет и кухня с прилегающими службами потребуется. Одну спальню займи, товарищ майор, у тебя ж здесь пока собственного жилья нет, – сказал он Яланской, и та благодарно взмахнула ресницами, двукратно. – А для работы с аппаратурой в соседнюю будем ходить. Так что слушайте, девушки, что нам сейчас сделать нужно… А ты, Галя (такой небрежный переход от звания к домашнему имени), обеспечь прибытие сюда ваших подружек, теперь уже подчинённых. Для них тоже дело есть. В ближайшее время мечта Полины наверняка осуществится.
Это он к тому сказал, что если Яланская больше всего мечтала о майорских погонах и приличной должности в этой России (тянуло её на экзотику, как в девятнадцатом веке многих романтиков на Кавказ или в Среднюю Азию), то её подруга и во многих случаях соперница Полина Глазунова с несколько даже патологической страстью стремилась обзавестись какой-нибудь местной страховидной машиной вроде «Тундры» или «Навигатора». В её мире таких монстров не выпускали, а ей вообразилось, что в эффектном здешнем прикиде да за рулём чего-то этакого она будет там, у себя дома, совершенно неотразима. И, глядишь, там у неё с этой неотразимостью что-нибудь в смысле так называемой личной жизни наконец получится. По-настоящему, от приходящих кавалеров у неё отбоя и так не было.
Уже несколько дней после очень непростого и по-прежнему сулящего крайне неприятные последствия разговора с послом Лерой Лютенс спецпредставитель ЦРУ и ещё нескольких организаций, на некоторое время получивший «крышу» второго секретаря посольства, не очень понимал, что же ему следует делать. Обратившись за инструкциями к непосредственному руководству в Вашингтоне, он теперь боялся, что его просто отзовут, чтобы уже дома повесить на него всех собак, но, к его удивлению, этого не произошло. Ему даже показалось, что человек, с которым он говорил, отнёсся к случившемуся (вернее – не случившемуся) в Москве слишком легко. Вроде как здешний американский посол, но несколько в другой тональности. В чём в чём, а в таких нюансах Лютенс научился разбираться. На всякий случай он упомянул о действующем в Москве филиале института «Паранормальных явлений», чья штаб-квартира располагалась (вот странное совпадение) в Сан-Франциско и откуда за несколько дней до начала операции приехал якобы с инспекцией некто вроде исполнительного директора. Такое не может не настораживать, и вот он, Лютенс, решил покопать в этом направлении и считал бы полезным потщательнее разобраться с этим «институтом» на месте.
Согласие было получено неожиданно легко, и ему на другой день сбросили всю относящуюся к этому заведению информацию, не очень богатую, кстати. Зато разведчик со всей наглядностью ощутил верность русской поговорки насчёт свалившегося с сердца камня. Раз ему пошли навстречу, не задавая неприятных вопросов, всё получается совсем не так плохо, как можно было ожидать.
Стоя в своём кабинете у окна, выходящего на перекрёсток Садового кольца и Нового Арбата, он вспомнил, как вчера вечером, после того как доложил послу (с ним он решил восстановить максимально возможные в нынешней ситуации дружеские отношения) о своём разговоре с Вашингтоном и дальнейших действиях, они довольно крепко выпили. Это, пожалуй, было смешно – оба глубокие знатоки русской культуры и обычаев, но одновременно и настоящие американцы тоже, карьерные чиновники, решили использовать одну и ту же методику – русский пьяный «razgovоr po duscham», в надежде заставить собеседника сказать гораздо больше того, на что можно рассчитывать в разговоре обычном и статусном. Тем более у каждого был повод посетовать на судьбу, поделиться мыслями о незавидном будущем и прикинуться, будто «v jiletku» поплакаться ну совершенно некому.
Они с послом уже выпили достаточно водки, и Лерой Лютенс подумал, что русские и тут проявили своё византийское коварство и способности к «нечистой игре». Зная о собственных биохимическом и психологическом преимуществах – повышенная концентрация алкогольдегидрогеназы в организме и умение сохранять самоконтроль практически в любой стадии опьянения (генетически закрепившийся признак, способствующий выживанию наиболее здравомыслящих и резистентных особей. Даже пословица у них на этот случай имеется – «Кто пьян, да умён, два угодья в нём»), они навязали всему остальному цивилизованному миру любовь к своей «vodke» и представление о том, что настоящий мужчина должен уметь выпить «dlya kompanii» минимум десять «дринков», после чего только и возможно между «sobutylnikami» настоящее взаимопонимание. Если ты с человеком выпивал, да не раз, вы с ним автоматически становитесь по-особому близки, как, допустим, члены разных «каппа-бета-гамма»[70] американских университетов. Даже ближе.
Лерой чувствовал, что обычай в принципе правильный, после «двух по сто» назревший конфликт с послом удалось как-то купировать, они взаимно признали собственную неправоту в некоторых вопросах и начали вместе вырабатывать черновик (пока) плана, подходящего, чтобы защитить их обоих от гнева Вашингтона. У каждого своё начальство, но любое начальство всегда горит желанием свалить всё просчёты, а также и любые природные явления, от наводнения до падения астероида на лужайку Белого дома на подчинённых. Потому что опыт показывает – в очень редких случаях самое высшее начальство (только если оно действительно умное и всерьёз болеет за государственные интересы) берётся выяснять, кто на самом деле виноват в том или ином «неприятном происшествии». Русский термин «ЧП» на Западе почти не используется, считается слишком категоричным.
Теперь, похоже, и посол и разведчик сошлись на том, что поодиночке выплывать нет никакого смысла, да и шансов меньше ровно вдвое. Точнее, не так – шансов меньше не вдвое, а в бесконечное число раз, потому что если не помогать сейчас друг другу, а топить – стопроцентный конец обоим.
Лютенс ощутил гордость за то, что умеет столь изящно формулировать приходящие в голову мысли, а заодно и то, что непременно опять нужно немного добавить – сейчас он один, в кабинете, примыкающем к двухкомнатной «комнате отдыха», попросту говоря – обычной квартирке «сталинского», как здесь говорят, стиля[71], и это очень даже хорошо в сравнении с надоевшим «хай-теком».
Для того чтобы мысль и дальше как бы сама собой разматывалась в нужном направлении, ещё одна стопочка будет в самый раз. Потому русские такие хитроумные, что не упускают случая выпить, и для того чтобы в их хитромудростях разобраться, нужно и самому привести мозг в особым образом измененное состояние.
Он достал из холодильника поллитровку характерного дизайна, две баварские колбаски, густо намазал их не сладкой немецкой, а до слёз пробирающей русской горчицей.
Всё-таки этот мир катится явным образом не туда. Если почитать книги начала прошлого века, хотя бы и Ремарка, так там люди пили пиво, шнапс, закусывали гороховым супом с варёным свиным брюхом, колбасами, на крайний случай – консервированной свининой с бобами. Ели и пили помногу, и ни у кого из тогдашних писателей нет даже намёка, что это может быть вредно (если только специально, в художественных целях брались изобразить конченого человека, горького пьяницу. Но и такие, у Горького в «На дне», например, рассуждают весьма здраво и резонёрствуют[72]). Какой же вред мог быть от хорошей еды? И курили тогда все, и табак жевали, кокаин спокойно покупали в аптеке и нюхали, не скрываясь… А о раке лёгких, наркомании, ожирении, холестерине люди понятия не имели. Наверное, потому, что врачей тогда было очень мало – один-два на город, вот они и лечили тех, кого успевали, а заниматься пропагандой «здорового образа жизни» им было просто некогда. Да и в голову не приходило рубить сук, на котором сидишь.
Разведчик выпил, стоя у открытого окна и любуясь с шестого этажа на панораму центра города.
Кажется, перенапряжённые нервы начало понемногу отпускать. А то ведь совсем плохо было. Перед Крейгом Лютенс храбрился, а на самом деле чувствовал себя отвратительно. После такого оглушительного провала ему, посвящённому в слишком многие тайны, ничего не стоило и под ликвидацию угодить. Не он первый, не он последний. Намёк посла на то, что разведчика могут выдать (ну, не впрямую выдать, конечно, просто не препятствовать задержанию), Лерой всерьёз не принял, кто ж Крейгу позволил бы такое, а вот пристукнуть без шума свои же ребята из спецкоманды могли бы спокойно. Да и сейчас ещё могут: разговор с Вашингтоном как-то слишком гладко прошёл, так иногда говорят с человеком, которого на самом деле уже списали, но не хотят раньше времени спугнуть. Хорошая снайперская винтовка может продырявить насквозь из окна любого здания в радиусе полутора километров. И свалить можно на кого угодно – на русский спецназ, на русских же террористов или на третьи силы, желающие поссорить наши народы.
Лютенс поспешно отошёл в глубь комнаты и тут же рассмеялся вслух. Какие уж теперь предосторожности: разведчику от своей судьбы не уйти и не спрятаться, ни на дне морском, ни в дебрях Амазонки.
Мысль сделала причудливый вираж, будто слаломист на трассе.
Как сказал посол Крейг? «Мне почти очевидно – вмешалась никак нами не учтённая третья сила…» Только почему третья? Минимум четвёртая: мы, русские «законные власти», заговорщики с их собственной, неподконтрольной «спонсорам» игрой и…
Или всё-таки третья, поскольку «мы» и «заговорщики» в данном случае одно и то же? Вот где кроется первая ошибка – подсознательно мы с самого начала так и считали: спонсоры, инициаторы и топ-менеджеры «проекта» с русской стороны – стопроцентно наши марионетки. Они выполнят всё, что от них требуется, в надежде получить право занять в своей бывшей стране место индийских магараджей при вице-короле Индии.
Нет, хорошая рюмка отлично прочищает мозги. Они ведь все чистосердечно и простодушно пребывали в уверенности, что, свергнув нынешнего президента и взяв власть, представители «Другой России» с восторгом согласятся на роль шестьдесят какого-то штата Америки. Потерявшие своих владельцев активы они поделят, демократию обеспечат американцы, заодно взяв на себя тяготы внешней политики, проблемы экономики, финансов и вообще всего, связанного с нормальным функционированием развитого демократического государства. В общем, новый, беспроцентный план Маршалла[73].
Это на самом деле казалось очень легко – превратить варварскую тоталитарную страну во вполне «цивилизованную». Как правильно писал Ленин в одной из своих статей, главное – устранить влияние церкви на общество и полностью ликвидировать прежний государственный аппарат. Именно полностью. И заменить его на свой, стопроцентно преданный идеалам североамериканской демократии. И одновременно – программа «Обучи и вооружи», как для Грузии, Эстонии и любой постсоветской республики. Увлекательная, полезная и выгодная работа на десятилетия. Уволить весь командный состав армии, распустить по домам несчастных полуголодных и забитых призывников, на их место поставить подготовленных по американским стандартам профессиональных солдат и добровольно прошедших обучение в американских учебных центрах офицеров, предварительно выдержавших самые строгие тесты на лояльность новым хозяевам. Само собой – изъять с территории России миллионы и миллионы единиц накопленного за сто лет оружия, продать в «третьи страны», утилизировать. Что возможно – использовать «в мирных целях». Демонтировать работающую не по американским и натовским стандартам военную промышленность. Взамен запустить на полный ход исключительно американские заводы и вооружить новую русскую армию тем и так, как надо нам. Оставив производство боеприпасов на территории метрополии. Зная варварские привычки русских – одномоментно разрешить им иметь не более трёх боекомплектов на ствол, и пополнять убыль по мере обоснованного использования. С обязательной сдачей специальным контролёрам ружейных и снарядных гильз. Армия – как германский рейхсвер – тысяч сто человек, больше незачем.
Очень всё хорошо и правильно было продумано. Учтены, кажется, все ранее допущенные в аналогичных операциях ошибки. Даже те, что немцы допустили ещё в сорок первом – сорок втором годах. Этим угро-славянам ни в коем случае нельзя давать понять, что они – проигравшая сторона. Немедленно впадут в неконтролируемую ярость и непременно затеют бесконечную партизанскую войну и против «оккупантов», и против своих «предателей». Обязательно надо обставить свою победу так, чтобы русские видели – их от всей души принимают в «братскую семью» и сажают за стол рядом с хозяином, выше всех прочих. Ничего, ради общего дела и прибалты, и латиносы, даже немцы с французами сколько-то времени потерпят. А дальше видно будет…
Кроме всего прочего, для США открывался ещё один необъятный мировой рынок – рынок бывшего русско-советского оружия. Полсотни стран в мире можно будет полностью перевооружить, причём за живые деньги, а не безвозвратные целевые кредиты, как это практиковали альтруистичные до идиотизма русские последние шестьдесят лет. Это же опять триллионы долларов и миллионы новых рабочих мест для американцев, как в мировую войну.
Впрочем, Лютенса потянуло не туда. Приятно вспомнить, конечно, те радужные планы, но большая политика сейчас не его забота. Вот одно из побочных свойств русской выпивки – стоит чуть-чуть потерять самоконтроль, и тебя затянет в пучину неконтролируемых ассоциаций, а если выпиваешь не один – в пресловутый русский застольный разговор, в котором за вечер может быть высказано столько истин и взаимоисключающих антиномий, что хватит на год семинаров философского факультета в Гарварде. А если бы он сказал вслух при не совсем уж до конца продавшихся «свободному» миру русских то, о чём сейчас думал, последствия могли быть «непредсказуемыми», как сейчас любят выражаться политики и журналисты, демонстрируя свою полную профнепригодность. Кто же и должен предсказывать последствия собственных решений и поступков, как не они, специально на то поставленные?
Так на чём они завершили свой разговор с Крейгом?
«Президент России начал вести себя как совершенно другой человек… А может быть, это теперь действительно другой человек?
Говорили, что в Москве действует какой-то институт «Паранормальных явлений». Бред, сами понимаете. А если – не бред?»
Вот так – если не бред?
Лютенс по роду деятельности был чужд всякой мистике, в Бога (любого или любых) он тоже не верил и отчётливо понимал, что любые «паранормальные явления» – обычный способ заработать. Не хуже других и гораздо менее рискованный, чем наркоторговля, допустим, не требующий специальных знаний, как медицина и юриспруденция. Но… Но ведь бывают и другие случаи. Кому, как не разведчику с пятнадцатилетним опытом знать это…
Что-то об этом институте он слышал, просто тема здесь и сейчас не входила в круг его непосредственного задания.
Лютенс включил компьютер и принялся перечитывать то, что ему скинули из Лэнгли и что он так и не удосужился внимательно прочитать, счастливый самим фактом – раз его просьбы исполняют, значит не списали. Не так прост мистер Лютенс, как, возможно, думает посол. И пугать его своими связями и возможностями не стоило. Послы ведь, кроме входящих в особый список, тоже расходный материал. Случится с ними может всякое, главное, чтобы своей безвременной кончиной (если такая вдруг случится, все под Богом ходим) они приносили необходимую пользу высшим интересам.
Ничего серьёзного ему о запрашиваемом объекте не сообщили. Да, такой «институт», а если точно, то «Комиссия», действительно был зарегистрирован положенным образом, в списке «иностранных агентов» не значился, платил положенные налоги, предоставлял по запросам различных государственных и неправительственных организаций, занимавшихся аналогичной деятельностью, какие-то справки, сводки и даже отчёты. И в то же время контент-анализ всей публичной деятельности «института» – это название нравилось Лютенсу больше – создавал отчётливое впечатление грандиозной мистификации. Реального смысла во всём этом не было никакого. Информации и исходящие из стен института «труды» представляли стопроцентный плагиат или компиляции множества книг и статей на любые оккультные темы. Прибыли этот проект не приносил и финансировался каким-то легальным, но тоже крайне сомнительным фондом. В заключение вниманию Лютенса предлагались версии, наскоро сформулированные каким-нибудь стажёром, мало что понимающим в серьёзной работе.
Первая – данный проект обыкновенная честная глупость богатых людей, повредившихся на паранаучных гипотезах вроде УФОлогии, телепатии и тому подобного.
Вторая – хорошо замаскированный и анализом не разгаданный способ извлекать деньги из легковерных и психически неустойчивых меценатов. Жалоб на действия института до сих пор не поступало, а финансовые потоки выглядели прозрачными, но есть ведь и такие древние методики, как расплата наличными или разного рода услугами, судить об их реальной ценности невозможно, как и установить сам факт оказания таких услуг кем бы то ни было.
Третья – всё это с большим умом и изобретательностью прокручиваемый проект по отмыванию «грязных» денег и финансированию каких-то других, в поле зрения компетентных органов не попавших тайных программ.
Четвёртая – институт – это «крыша» для криминальной или политической структуры, государственной или частной, и в этом случае требуется длительное специальное наблюдение за каждым буквально шагом каждого из сотрудников и прежде всего руководства.
Вероятность каждого из вариантов – почти равнозначная. Поэтому их оценку и выбор подходящего для разработки предоставляется запрашивающей стороне. Сам отдел, где готовился анализ, перспективным интерес к институту не считает. Точка.
Лютенс пожал плечами. Всё это может оказаться интересным, а может быть и пустышкой, но именно в данный момент, пожалуй, не слишком актуально. Не то было настроение, чтобы в момент очередного исторического перелома (а он словно бы подсознательно воспринимал происходящее именно как перелом, а не просто один из эпизодов бесконечной партии на «Великой шахматной доске», как выражался гуру американского неоимпериализма Збигнев Бжезинский) заниматься скучным просчётом вариантов. Особенно когда ничего изменить уже нельзя. Главное – господин Ляхов, слишком уж вовремя приехавший в Москву и первым делом вступивший в контакт с журналистом Воловичем, одной из ключевых фигур «заговора», заслуживает самого пристального внимания и персональной разработки.
Видимо, русская водка, изготовленная в третью смену с нарушением классических ГОСТов, продолжала своё парадоксальное действие на мозг, от природы не приспособленный к такого рода упражнениям, и долгие и упорные тренировки ничего тут были не способны изменить.
Не нами сказано: «Что русскому здорово, то немцу смерть». Тем более немцу, сильно американизированному и, значит, ещё более беззащитному перед тонким химизмом процессов, происходящих сейчас в его сером веществе между нейронами, аксонами и молекулами цэ два аш пять о аш, особым образом разбавленными водопроводной водой.
Лютенс вдруг решил, что лучше всего сейчас будет отправиться в город для личного, полевого изучения происходящего на его улицах. Вроде как уподобиться Джону Риду (не путать с Ридом же, но Дином, популярным в былые годы прогрессивным певцом), американскому журналисту, оказавшемуся в России в разгар большевицкого[74] переворота и написавшему ставшую весьма популярной во всем мире книгу «Десять дней, которые потрясли мир».
Сейчас, конечно, попасть в окружение теперешнего российского вождя (кем бы он ни был на самом деле) так легко, как Риду, не получится, времена другие, но личное присутствие на улицах принесёт гораздо больше пользы, чем тупое сидение в кабинете. А то, глядишь, и с кем-то из руководства «борцов за свободу» удастся выйти на безопасный контакт. Предусмотренным образом это, судя по всему, невозможно, а, как говорят русские, «на шермака»[75] – вполне возможно, потому что такие приёмы не входят в реестр предусмотренных контрразведкой методов.
Главное, Лютенс правильно соображал: состояние лёгкого подпития и не всегда адекватное поведение – самое то, что нужно на улицах только что пережившего (или ещё переживающего) подобие очередной революции города.
Тут разведчик сформулировал верно – революция имела место быть, потому что после случившегося вся жизнь в стране непременно поменяется, и отнюдь не эволюционным путём. Очень многое из того, что составляло основу политического и, если угодно, ментального устройства этого постсоветского режима, будет устранено отнюдь не вегетарианскими методами.
Американец, хоть и германского происхождения, много лет изучавший Россию как объект своих профессиональных занятий (так студент первого курса медколледжа изучает нормальную анатомию человека), оставался американцем и чисто физически не мог понять множества относящихся к российской действительности вещей[76], как бы ему этого ни хотелось и сколько бы русских книг он ни прочёл. Даже наизусть выучив Лермонтова, Печориным он стать не сумеет, главное – даже и не поймёт, зачем это вообще нужно вести себя столь странным образом. Верна и обратная теорема – глубоко изучив Драйзера, средний русский человек, не из «новых», не научится ведь думать и вести себя, как Фрэнк Каупервуд.
Есть, говорят, в лесах Амазонки индейское племя, у которого отсутствует представление о времени. Совсем. И в языке, и в бытовой сфере. Как уж там они обходятся – бог весть, но как-то обходятся, раз до сих пор существуют. Но – именно и только внутри своего привычного ареала. Едва ли взрослый индеец сумел бы адаптироваться в том же Рио-де-Жанейро. По-настоящему адаптироваться, имеется в виду.
Таким же образом американцам, вообще «цивилизованным белым народам», невозможно адаптироваться внутри «русской цивилизации», а без этого какую-либо осмысленную политику в отношении России проводить бесполезно. Она возможна только до тех пор, пока русские в каких-то своих тайных целях «соблюдают правила игры», стараются говорить, поступать, вообще «вести себя» как европейцы.
Как только им это надоедает или обстоятельства меняются, они мгновенно превращаются в подобие неких инопланетян, и тогда вся мировая «реальполитик», построенная на совершенно ложных, придуманных европейцами для собственного удобства посылках, летит в тартарары (ещё одно непереводимое слово, очевидно, имеющее какое-то отношение к древнегреческому тартару[77]). И случается то, что случалось уже много-много раз, и не только с европейцами. Любые планы, прогнозы и «стратегические замыслы» в отношении этой непонятной и нелепой страны рушатся, а в конечном итоге как-то так выходит, что она, победив или просто «отойдя от края пропасти», превращается в нечто совсем другое. Киевская Русь – во Владимиро-Суздальское, потом Московское княжества, княжество – в «Великия, и Малыя и Белыя Руси Государство», а то – в Империю, а она – в СССР, теперь в РФ. И её и врагам, выжившим и новым, нужно снова думать, как дальше строить с ней отношения.
Самое интересное, что Лерой Лютенс был достаточно образованным человеком и неплохим разведчиком, прочёл массу русских исторических и художественных книг в оригинале и, как уже говорилось, почти всё вышесказанное теоретически понимал и сам мог привести исторические примеры, включая татаро-монгольское иго, Смутное время, Первую мировую войну и революцию семнадцатого года, Великую Отечественную войну и её итоги…
Только это не имело никакого практического значения – обыкновенному «человеку из офиса» даже самое доскональное знание теории канатоходства никак не поможет перейти по тросу без страховки Гранд Каньон, что недавно проделал один сумасшедший парень, до этого так же прошедший над Ниагарой.
И не стоит садиться играть в шахматы с гроссмейстером, рассчитывая на выигрыш, даже выучив наизусть все существующие наставления, начиная с бессмертной остаповской лекции «Плодотворная дебютная идея». Всё это Лютенс понимал, поэтому просто выполнял свою работу, за которую платили неплохие деньги, надеясь, что до самой пенсии не случится ничего экстраординарного, требующего экстраординарных же талантов для борьбы с последствиями.
В идеале в ЦРУ и аналогичных ей организациях должны бы работать русские по крови и духу – перебежчики, предатели и дети предателей и эмигрантов. Те-то уж знают своих соотечественников «от и до». А коренные американцы будут только отдавать приказы, которые коллаборационисты[78] должны трансформировать и адаптировать к обстоятельствам.
Но и эта вроде бы вполне очевидная идея работать не могла по «той же самой причине», как выражался император Павел Первый, то есть по причине «загадочности и непредсказуемости» пресловутой «русской души». Ни один облечённый властью руководитель ни за что не позволил бы допустить русских в достаточном количестве к хоть сколько-нибудь ответственной работе против России же, тем более – предоставив им допуск к государственным тайнам. Итальянцев – можно, евреев, немцев, французов – можно, но не русских. Никто ведь не сможет поручиться, что в какой-то момент самый надёжный сотрудник не испытает приступ иррационального патриотизма и не начнёт работать «на своих».
Вдобавок, позволив им разрабатывать и проводить операции по своему усмотрению, руководствуясь «национальным стилем мышления», даже непосредственные начальники немедленно утратят контроль за обстановкой. Они ведь тоже не будут понимать, что на самом деле означает то или иное действие, каким образом и к какому результату приведёт.
И – самое главное. Вся история человечества показывает, что предателям доверять нельзя. Это понимали ещё древние египтяне и какие-нибудь хетты. При определённых условиях можно воспользоваться услугами, но под строжайшим контролем и заведомо предполагая, что рано или поздно даже «свой в доску сукин сын» должен быть отстранён, а лучше всего – уничтожен.
И как, скажите на милость, будет работать такой «сотрудник», прекрасно понимающий и свою истинную роль, и отношение к себе хозяев? А он, если умный, должен всё это знать ещё до того, как согласится на такую службу. А если глупый – какой с него толк?
Порочный круг и ничего больше.
Да зачем далеко ходить – всё вот оно, прямо перед глазами, только что произошло или даже продолжает происходить. Операция посыпалась во всех звеньях, за которые отвечали здешние русские. Вроде бы учтены были все нюансы, баланс идеалов и интересов каждой из антипрезидентских, антиправительственных, вообще антигосударственных и антирусских групп, выделено финансирование, проведены все инструктажи, семинары и «тактические игры на местности».
И каков результат? Деньги разошлись по рукам и карманам, но большинство участников заговора среднего и высшего звена при первом же намёке на неудачу «попрятались по кустам», «залегли на дно» или уже сейчас разными способами пробираются к ближайшим границам, прекрасно сознавая, что былая вольница с легальными перелётами и переездами через погранпосты кончилась в тот же момент, как была отбита первая вооружённая атака на президентскую дачу.
Лютенс тоже понимал, что эта фаза закончилась в тот момент, когда президентский спецназ или другие верные ему войска внезапным ударом уничтожили основную организованную силу заговорщиков – спецбатальон «Зубр». Показали, что если в военном отношении и не обладают подавляющим перевесом, то значительно выигрывают в темпе и, главное, решительности. Как раз этого от пропрезидентских сил не ожидали. Поэтому ввести в бой спецподразделения, аналогичные «Зубру», но имеющие другие пункты постоянной дислокации – не получится. Прежде всего потому, что нет смысла – весь план, как и гитлеровская «Барбаросса», строился на одном обезоруживающем и деморализующем ударе, после которого полевым частям вермахта предстояло только собирать трофеи и добивать локальные очаги сопротивления фанатиков, вроде Бреста или Одессы.
Как только стало ясно, что блицкриг провалился (а любому нормальному военспецу это стало понятно не позже августа – сентября), война против СССР могла считаться проигранной. Речь шла лишь о том, сколько продлится агония вермахта, хоть он выходил в это время на ближние подступы к Москве. Мог даже взять её или обойти, продолжив намеченный «удар в пустоту», то есть в направлении Вологда–Ярославль – это совершенно ничего не меняло.
Так и здесь. Если не вышло ликвидировать или пленить президента одномоментно, затяжная позиционная война ничего не даст, тем более что сведения о случившемся в Москве в тот же день дошли, тем или иным способом, до всех заинтересованных лиц. На вторую попытку желающих не найдётся. Кто не сбежит – тот сядет или пойдёт к стенке (мораторий на смертную казнь отменили Указом президента за номером три), самые же незамаранные и прыткие – перебегут в стан победителей.
Разговаривая с послом, Лютенс это понял, и Крейг понял. И тут же каждый начал импровизировать, искать своё место в новом раскладе сил, просчитывать варианты, соображать, как быстренько пересдать карты и начать новую игру, перехватив инициативу не только у противников, но и у союзников. Желательно оформив всё так, чтобы самые главные начальники вообще не поняли, что кто-то здесь, выражаясь русским жаргоном, «лажанулся по крупной». Посол явно решил «уходить в несознанку», доказывать и в Госдепе и выше, что вся акция проводилась «через его голову», без консультаций и согласований ключевых моментов. И где-то он был прав – в подробности чисто тактических моментов посла не посвящали, оставив ему стратегическую задачу на момент «час Ч+…»[79]. «Оранжевый» или «розовый» сценарий для Москвы даже не просчитывался, здесь сразу должно было установиться прямое американское правление, только из приличия замаскированное каким-нибудь «правительством народного доверия» или «координационным советом объединённой оппозиции».
В принципе, если бы всё удалось, демократические побрякушки были просто не нужны. С потерей Россией роли самостоятельного игрока маски можно было сбрасывать и «подавать товар лицом».
Китая и Индии отчего-то никто в команде неоконов и их кукловодов не боялся и даже, наоборот, стремился поотчётливее обнажить приём. Мол, если с Россией так поступили, с вами тем более никто церемониться не будет. И правильно, в общем, рассчитывали. Хоть и называют Индию «самой большой на Земле демократией», да ещё и с ядерным оружием, и Китай за последние двадцать лет поднялся очень сильно, но ни тот, ни другая никогда не были по-настоящему «Великими державами», не играли в «Мировом концерте», не выигрывали войн, не завоёвывали колоний, территориально многократно превышавших площадь метрополии. Да просто они не умели воевать, как воюют «белые люди», от чего с ними можно было никак не считаться, совершив несколько ритуальных, как бы уважительных жестов вроде консультаций о переносе условных границ ещё более условных сфер влияния. Вернуть китайцам Хабаровск, к примеру.
Значит, Лютенсу нужно начинать свою игру с противоположным вектором. У его начальников в Лэнгли тоже есть свои кураторы, и они наверняка согласятся, что посередине кампании, ещё не проигранной, просто пошедшей немного не так, нет смысла затевать охоту на ведьм, гораздо правильнее слегка сместить прицел. Отыграть несколько очков у госдеповцев, под шумок сдать русским (за приличное вознаграждение) резидентуры некоторых слишком много вообразивших о себе коллег, затеявших собственные интриги – БНД, МИ-6, МОССАДа. Незапланированный бонус, но солидный – убрать с поля конкурентов и за треть цены, а то и совсем даром (плата – невыдача МГБ) перекупить массу ценных агентов и целые организации оптом. А ближайшая реальная цель – выяснить, какими такими силами располагает русский президент (рохля и тряпка по общему мнению), который тем не менее не только «одной левой» валит всю внутреннюю оппозицию с «приданными ей силами», а ещё и осмеливается бросать демонстративный, даже – провокативный вызов и США и всему «мировому сообществу».
Что всё это именно так, Лютенс понял сразу, ещё не дослушав до конца «Обращение» Президента. Таким тоном обращается один парень к другому в салуне, если намерен объяснить всем (или отдельно взятой мисс или сеньорите), кто здесь круче десятиминутных яиц.
Интересно бы выяснить, что (или кто) за этим кроется. Неужто русские втихаря заключили с китайцами типовой, сталинско-маоцзедуновских времён договор «О дружбе, сотрудничестве и взаимной военной помощи»? Тогда русский ресурсно-технический потенциал и китайские полтора миллиарда населения плюс триллион золотовалютных резервов и позиция «мастерской мира» очень даже резко меняют глобальный расклад сил… А за Китаем стоят Иран и Пакистан. Возможно – Бразилия. Индия будет традиционно пророссийски нейтральна… Есть над чем подумать.
Всё это несколькими параллельными потоками пронеслось в расторможенном сознании Лютенса всего за несколько минут, «одним пакетом», как сигнал специального передатчика. Что-то имело определённый смысл, что-то было полной ерундой, но сейчас все мысли и идеи были для разведчика сверхценными, вдобавок окрашенными в эйфорические тона.
Ну, большинство понимает, до каких высот могут воспарить мысли, «в самую плепорцию» разогретые хорошей выпивкой. И стихи, кажущиеся гениальными, сами собой рождаются, и все женщины вокруг красивы, заслуживают всяких великолепных безумств в свою честь… Правда, иногда и по морде можно схлопотать невзначай, слишком уж распушив хвост.
Но Лютенс-то был не из простаков и умел владеть собой великолепно. Только недооценивал превосходства биохимии над психологией, применительно к себе, разумеется.
Вот сейчас ему показалась правильной мысль переодеться в подходящую одежду и пойти прогуляться по городу, посмотреть по сторонам. Что может быть естественнее русского патриота, прилично выпившего по случаю победы над очередными врагами России и Православия, пидарасами; и шатающегося по центру, стремясь поделиться с народом своей радостью, обсудить перспективы будущего и узнать что-нибудь полезное для дальнейшей жизни…
Лютенс начинал изучение России с языка. Ещё в пятнадцатилетнем возрасте сын американского генерала немецкого происхождения, демонстративно подчёркивавший свой американизм, чем на всю жизнь испортил отношения с большинством родственников, включая родного отца, заинтересовался страной, сначала разгромившей в мировой войне в союзе с Америкой фатерлянд его предков, а потом превратившейся в главного врага уже самой Америки.
С отцом о своём интересе говорить было бессмысленно, зато в деде он нашёл подходящего собеседника и единомышленника. Старый Рейнгард Лютенс родился ещё до Первой мировой, когда жизнь была совсем другая. Немцы жили как немцы, по своим обычаям, компактно, целыми городками в самом немецком штате САСШ – Висконсине. Дед был настоящим немецким патриотом, любил кайзера Вильгельма, но до конца жизни не мог простить сначала ему, а потом и Гитлеру, что они начали две войны подряд против России, и обе с треском, позором, слезами и невозможным количеством жертв проиграли. Вместе с другими американскими немцами он считал, что всё должно было быть строго наоборот, как завещал великий Бисмарк. Тогда, глядишь, именно они, немцы, были бы сейчас в США главной нацией, определяющей здесь всё, а не англосаксы, итальянцы, евреи и латиносы.
Юный Лерой заинтересовался этой дедовской «альтернативной историей» и решил разобраться в вопросе поподробнее, тем более что «холодная война» давно превратилась в довольно бессмысленный ритуал вроде посещения лютеранской церкви по воскресеньям. Русский язык он начал изучать самостоятельно, и пошёл тот довольно легко. Через год Лютенс почти свободно читал газеты и журналы, бесплатно раздававшиеся, вот парадокс, в культурном центре еврейских эмигрантов, там же начал понемногу учиться говорить, поначалу не замечая, что здешний «русский» – довольно странный и ближе к языку одесской Молдаванки, а не Царскосельского лицея. Впоследствии с коррекцией этой лексики и стилистики ему пришлось немало помучиться.
Потом началась «перестройка», и Лерой понял, что угадал. Всё русское стало очень модным, причём не только на бытовом, но и на государственном уровне. Тут и отец-генерал его поддержал. Он устроил сына в специальное отделение военных переводчиков при кафедре славистики университета, а уже там его взяли на заметку специалисты из Лэнгли. И карьера пошла.
Лютенс ни разу не пожалел о своём выборе, хотя дедовское «раздвоение личности» передалось ему в полном объёме. Никто об этом не догадывался, но достигший уже солидных чинов (опять же по-русски выражаясь) в ЦРУ, Лерой (вообще-то его при рождении нарекли Людвигом) Америку воспринимал только как страну проживания, а душой он был настоящим немцем, кайзеровского, так сказать, замеса, без всяких новомодно-демократических перекосов. Послевоенная ФРГ его раздражала, и своим пошлым «атлантизмом», и политкорректностью, и тем, что вместо старой доброй марки перешла на никчёмные «еврики»… И много чем ещё. Одновременно интеллектуально он предпочитал Америке Россию, даже со всеми её недостатками, которые легко могли быть устранены в случае грамотно организованной интеграции с будущим «Четвёртым рейхом».
Но и «американизм», бытовой и подсознательный, тоже никуда не делся, в полном соответствии с тезисом Маркса (или Энгельса, Лерой всегда путал, кто из этой парочки что сказал или написал): «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя».
Такого вот сотрудника имело ЦРУ и ему поручило координацию очередного антироссийского заговора. И он его успешно «координировал», вплоть до вчерашнего дня. Теперь пришла пора посмотреть на происходящее несколько по-иному.
Глава пятая
– Ну что, подруга, вроде и нам с тобой доверили серьёзное задание «от и до»: самим придумать, самим найти, самим исполнить, – сказала Герта Людмиле, когда они сидели в уютной кафешке под липами Екатерининского парка и, словно девочки, лакомились удивительно вкусным здешним мороженым, шоколадным со смородиновым сиропом.
– Да и слава Богу, – кивнула Вяземская. – А то надоело уже. Он меня только что в туалет на руках не носил. «Ах, бедненькая, ах, раненная смертельно, ах, ты, смотри, не вставай раньше времени». Даже противно.
– Дура, – рассудительно ответила Герта. – Где ты ещё такого мужика найдёшь? Полковник, а по сути – чуть ли не диктатор здешний. С Президентом только что не на «ты» разговаривает, а мой, хоть и трижды министр, его побаивается. Раз горшки из-под тебя выносить был готов, значит – по-настоящему любит.
– Да, наверное, – кивнула Людмила, на самом деле на сто процентов уверенная, что так и есть. Но надо же повыпендриваться перед подругой. Как без этого?
– А мой – до сих пор не знаю, – пожаловалась Герта. – И что любит, говорит, и жену уже пристроил…
— То есть как? – не поняла Людмила.
– Нашёл её любовника, поговорил по душам и велел, чтобы завтра же женился и забирал к себе. Денег на обзаведение подкинул…
Судя по выражению лица Герты, видно было, что этот ход ей нравится.
– Нет, ну а ты? – Видно было, что Вяземскую, всерьёз считающую себя уже замужней и крайне положительной женщиной, это волновало.
– Ну что я? Хороший человек. Сорок ему, естественно, не мальчик, не девственник. Жена ему стерва попалась – с кем не бывает. Но главное условие он исполнил – я сказала, пока не разведёшься – не подходи. И не подпускала…
Посидели ещё, начали думать, как к новому заданию подходить. Людмила вспомнила, какими глазами на неё смотрел Волович. И кое-что ещё из его биографии.
– А давай-ка, позвони ему сейчас, – предложила Герта, двусмысленно усмехаясь. – Прибежит же, б… буду, прибежит, прямо сейчас. И сразу его мы в раскрутку возьмём.
Вяземская достала из сумочки розовый телефончик (уже знала, какими гаджетами в этом мире девушке её стиля пользоваться подобает), набрала номер. Поворковала, используя самые эротические из своих обертонов.
– Точно угадала. Уже едет…
Валькирии для встречи были одеты самым подходящим образом. В Москве стояла тридцатиградусная жара, и они благословляли судьбу, что сейчас были в РФ, а не в Империи. Там нравы куда строже, а здесь обе были одеты в юбочки, длиной на ладонь всего ниже того места, где бедро теряет своё благородное наименование. И в топики без бюстгальтеров, оставляющие открытыми животы и мало что скрывающие выше. При их росте, фигурах и дизайну ног ходить по улицам в таком виде было не то чтобы затруднительно, но занимало больше времени, чем обычно. Валькирии невольно тормозили – хотелось услышать и осознать всё, что встречные мужчины, юноши и мальчики, достигающие подходящего возраста, говорили, зацепившись взглядами за эти «чуда природы».
Слух у девушек был достаточен, чтобы в пределах двадцати метров выделять всё, их интересующее.
Волович, очевидно, был настроен на что-нибудь безусловно романтичное, поскольку Вяземская вызывала у него каскадные выбросы самых важных гормонов, и он совершенно искренне считал, что как мужчина гораздо привлекательнее Вадима Ляхова. Достаточно распространённый синдром, между прочим.
Людмила позволила ему выпить сто граммов коньяку, закурить в предвкушении интересного разговора. При этом он всё время пялился поочерёдно за вырезы девичьих кофточек и пытался заглянуть ещё дальше, чем позволяли края юбок обеих подруг, в то же время расточая комплименты исключительно Витгефт, Людмиле он только «глазки строил», что выглядело довольно противно.
Наконец Герте это надоело, и она прервала «современную идиллию» резкими словами.
– Насмотрелся? И хватит. Какого цвета у меня трусы – я потом скажу. Теперь быстро и без зихеров – у кого из американцев был на связи? Ты меня знаешь, в деле видел. Я с тобой рассусоливать не собираюсь – отвечаешь быстро, конкретно и от души – всё останется, как раньше. Твои отношения с руководством меня не интересуют. Но контактёра мне сдай. Иначе тебя через полчаса будут рыбки Москвы-реки обнюхивать, в рассуждении, съедобный или нет. Я нюансов здешней сыскной работы не понимаю, у меня свои есть.
Переход от осматривания девичьих прелестей и от мыслей об их практическом использовании к такому вот разговору был слишком стремительным и неожиданным. При этом взгляд красавицы Герты не оставлял надежд, что имеет место просто милый розыгрыш.
Волович сломался сразу. Не потребовалось демонстрировать пыточные приспособления, перечислять статьи Уголовного кодекса, что ему светят, просто убеждать, что с чистой совестью жить гораздо приятнее, чем с замаранной. Он поверил: захочет эта барышня – и он умрёт. Очень быстро. Ни мольбы, ни попытки обмануть её не помогут.
Он глубоко, со всхлипом вздохнул.
– Можно я ещё выпью?
– Пей, но опять же помни – вариантов нет. Хоть трезвый помрёшь, хоть пьяный, но сначала расколешься. Говори.
Волович успел сдать Фёсту всех своих московских друзей-приятелей и просто серьёзных людей, с кем ему так или иначе приходилось пересекаться. Авторитетов преступного мира тоже. Но Ляхов почему-то совсем не интересовался, кто дёргал верёвочки сверху. Возможно, решил, что, как обычно, всё замыкается на американского посла, а промежуточные звенья ему были неинтересны.
А теперь вдруг девушек этот вопрос заинтересовал. Что они умеют великолепно стрелять и наверняка полностью удовлетворяют своих начальников в постели, журналист не сомневался, ни один руководитель нормальной ориентации не сможет просто так терпеть возле себя девушек такого класса.
Но вот что им могут поручаться самостоятельные разработки и ведут они их так же профессионально, как следователи прежнего КГБ, о которых Михаил слышал от «правозащитников» старших поколений, в это до сего момента верилось с трудом. Точнее – не о вере вообще речь, он просто не задумывался в этом направлении.
– Я закурю? – почти машинально спросил Волович.
– Кури. – Вяземская, с усмешкой вспомнив соответствующие эпизоды из «милицейских» фильмов, подвинула к нему пачку сигарет. – И перестань испытывать наше терпение…
– Ну, это… Значит… Лютенс его зовут. Лерой Лютенс. Советником в посольстве числится. Но никакой он не советник…
Воловичу нужно было только дать толчок, а дальше он попадал под обаяние собственного голоса и начинал токовать, как настоящий лесной глухарь. И мог говорить непрерывно много часов подряд, только следовало время от времени корректировать направление его красноречия.
Лютенс оделся обычно для не слишком о себе понимающего москвича во втором, пожалуй, поколении. Выглядел он как раз на среднестатистический зазор между тридцатью пятью и сорока годами. Внешность, войдя в образ, имел в этнографическом смысле самую нейтральную, то есть «русского вообще», без привязки к конкретному региону. И выговор не пойми какой, типичный для мест с неоднократно менявшимся за последнюю сотню лет классовым и этническим составом населения. Курской, например, области или Новосибирской. По крайней мере, за мигранта «внутреннего» или из «ближнего зарубежья» его ни один пэпээсник не принял бы, не стал спрашивать паспорт и справку о регистрации.
Так, прилично накачанный мужик, обитатель какого-нибудь Южного Бутова или Бирюлёва-товарной, обладатель «культурной» рабочей профессии, судя по чистым, не огрубевшим ладоням и пальцам, или даже инженер, но не «офисный планктон» однозначно, вообще не «потомственный интеллигент», о чём говорила искусно нарисованная самопальная татуировка на тыльной стороне правой ладони. Синяя, довольно корявая, не армейская и не тюремная, такие кололи во дворах лет двадцать назад от глупости, пытаясь подражать настоящим «конкретным пацанам».
Образ был Лютенсом подобран и обкатан давно, вполне успешно – именно такие типажи, при всей их внешней колоритности, на самом деле привлекают очень мало внимания. И так всё понятно – оттянул рабочий человек смену, принял свою четвертинку и отправился в центр посмотреть, что здесь творится на самом деле. По телевизору всё равно ничего толком не скажут, а с народом потолкаешься, лучше всего – в пивной, и всё тебе разъяснят в лучшем виде.
С собой взял хорошо сделанный российский паспорт и на крайний случай настоящий, дипломатический. Не на своё, конечно, имя, а на то, под которым он въехал в Россию и засветиться ещё не должен был. Разве что в последние дни кто-то из контактов доложил, где следует, его словесный портрет, а то и фотографии представил. Тогда, если он действительно уже попал в какие-то проскрипционные списки (что, впрочем, очень маловероятно), могут быть серьёзные неприятности. На дипломатический паспорт внимания не обратят, и пойдет Лерой по этапу под своим русским псевдонимом. И никто никогда концов не найдёт, как с тем же Валленбергом[80] вышло…
Что ещё нужно человеку, чтобы спокойно чувствовать себя на улицах столицы в любой ситуации? Правильно – деньги. В давно отработанном порядке разложил, чтобы невзначай не перепутать, по карманам рубашки и джинсов несколько пятитысячных купюр, штук двадцать тысячных и некоторое количество мелочи – по пятьдесят, сто и пятьсот рублей. Само собой – пачечку стодолларовых в специальный, под них сделанный и при поверхностном обыске не прощупываемый карман под поясным ремнём.
Всё же в городе кое в чём удобнее работать, чем «в поле». Не нужно таскать с собой рюкзак с множеством необходимых припасов, оружие и патроны. Даже пистолета Лютенс не имел, только совсем безобидный карманный «универсальный инструмент»[81], обычный для любого мастерового мужика, только сделанный по спецзаказу и имевший в несколько раз больше весьма неожиданных функций, чем у тех, что продаются в магазинах.
И два телефона при себе было. Один – действительно телефон, хотя и сильно навороченный, а другой – классический шпионский аппарат. Это простым гражданам упорно внушают, что в наши дни шпионы ничем похожим на инструментальное оснащение условного Джеймса Бонда середины прошлого века не пользуются. Им, мол, теперь обычного Интернета и для добывания информации, и для тайных контактов с коллегами (на чём раньше их контрразведчики и ловили) вполне хватает. А если кого вдруг и ловят со всякими «камнями-контейнерами», так это официально никак не комментируется, зато вся свора либеральных журналистов поднимает согласованный вой об очередной провокации «кровавой гэбни».
Иногда даже жалко становится, что никому из этого «пула» едва ли доведётся лично познакомиться с методикой работы простых, бесхитростных абакумовских[82] ребят году этак в сорок девятом…
На блок-универсал «телефон» Лютенса не тянул, но всяких электронных премудростей, истинных вершин современной «суммы технологий» в него было напихано сверх меры. Только американцы в очередной раз сели в лужу, примерно как с шариковой ручкой для письма в невесомости. Делали-делали её, ещё в конце шестидесятых, в расчёте на длительные космические полёты. Потратили несколько миллионов долларов на своё чудо техники, а потом на «Аполлон-Союзе» увидели, что хотя их «спейспенсил», заправленная спецпастой и специальным компрессором, и работает, русские легко обходятся копеечным «простым» карандашом. Это тоже к вопросу о стилях и способах мышления.
Если помыслить практически, то в обычной обстановке функции всех тех гаджетов, что были спрятаны в «телефоне», легко и с большим эффектом исполняют отдельные специализированные приборы. А в ситуации необычной, то есть фактически для разведчика провальной, воспользоваться устройством не получится тем более: аппаратик просто отберут при задержании. Случаев же, когда агент ЦРУ совершенно внезапно попадает в неведомые земли или, как «Янки при дворе…», в раннее Средневековье, в анналах не зафиксировано. Но считалось, что такой прибор в принципе крайне полезен. Близкая к правительству фирма очень и очень хорошо на нём заработала.
Примерно так Лютенс в детстве увидел в магазине «Вулворт» перочинный ножик с полусотней лезвий и иных приспособлений и страстно возмечтал стать его обладателем, но стоил он больших по тем временам денег, а отец субсидировать покупку отказался, объяснив, почему именно. Всеми правдами и неправдами Лерой предмет своей мечты всё же приобрёл и немедленно понял, что отец был прав – более бессмысленного и нефункционального предмета, чем этот нож, он в жизни не видел. И, кажется, до тех пор, пока он не затерялся бесследно, ни разу не воспользовался им по назначению, если оно вообще было.
По коридорам и внутренним лестницам Лютенс прошёл на первый этаж правой половины здания, занимаемый консульским отделом, и вскоре через довольно захламленный участок коридора возле туалетов попал в вестибюль перед залом, где даже и сегодня томились в очереди сотни людей, чающих получить въездную американскую визу. Юдоль скорби, выражаясь библейским языком. Многие страдальцы добирались сюда даже и из-за Урала, чтобы после двухминутного собеседования через окошко, похожее на кассу провинциального кинотеатра, получить от злобной даже на вид, но прекрасно говорящей по-русски дамы отказ. Трагизма обстановке добавляли развешанные по стенам и над окошками таблички: «Причины отказа в визе не объясняются, апелляции не принимаются. Повторное обращение рассматривается по истечении года». Сколько же ругани, рыданий, тихих слёз и громогласных проклятий слышали эти стены! А казалось бы – хрена ли в той Америке? Не пустили – и слава богу. Можно в России подыскать занятие даже и поинтереснее, за те же деньги.
Причём опытный взгляд легко отличал просителей туристических виз от желающих «свалить» в «твердыню демократии» на ПМЖ.
Смешавшись с потоком направляющихся к выходу граждан, частью счастливых, но в большинстве удручённых (соотношение везунчиков и неудачников примерно один к трём), Лютенс, на минуту ощутив свою причастность к этим людям и их проблемам, вышел в боковую дверь к домику Шаляпина и мимо него на бульвар, где мгновенно растворился в несколько чрезмерном для этого времени числе прохожих.
Кроме общего впечатления от реакции москвичей на провал очередной попытки «демократизации» не приспособленного к этому общества, Лютенс хотел собрать личную, по-настоящему достоверную информацию, подтверждающую или исключающую слухи о вводе в Москву для подавления мятежа войск из некоей «другой России». Сама эта мысль казалась бредовой, но слишком многие, в том числе и сотрудники посольства, утверждали, что почва под такими слухами имеется. Кто-то сам видел солдат в незнакомой форме, кто-то даже демонстрировал золотую монету, очень похожую на российские дореволюционные (до четырнадцатого года), но с новыми датами и профилем отнюдь не Николая Второго.
Конечно, такой артефакт (или попросту подделка) не есть доказательство потрясения основ мироздания, но тем не менее. Слухи множились, обрастая совсем невероятными деталями, официальные ТВ и пресса ничего не сообщали, а «жёлтую» переполняли материалы, в большинстве откровенно заказные и провокационные.
Неожиданности, не виданные в Москве с дней ГКЧП и «хасбулатовского путча» 1993 года и знакомые Лерою только по кинохроникам, начались сразу, как только Лютенс перешёл через подземный переход и вышел на Новый Арбат. Впервые с момента, когда узнал о неудаче, разведчик осмелился выйти из посольства. Намёк посла о возможности его ареста он принял абсолютно всерьёз. Знал и возможности российских спецслужб, и подлую беспринципность соотечественников. Из окон посольства обзор был минимальный, а телевизионщики репортажами с улиц отчего-то не увлекались, предпочитая транслировать официальные заявления, материалы зарубежных корреспондентов и новости «с мест», долженствующие заверить зрителей, что в стране есть куда более интересные дела, чем нечто, постепенно в их трактовке приобретающее уровень хулиганского налёта на президентскую дачу не вполне нормальных «отморозков».
Зато очень много времени уделялось скрупулёзнейшему разъяснению сути, смысла и исторической подоплёки теперешних антироссийских демаршей Запада, в особенности США.
Прежде всего он увидел два военных блокпоста, размещённые один на Новом Арбате перед пересечением с Новинским бульваром со стороны центра, второй – на Садовом кольце, обращённый фасом к Смоленской площади. Они контролировали всю эту стратегическую развязку, явно имея в виду большое количество находящихся поблизости важных объектов.
Выложенные из больших, килограммов по сто, мешков с песком, люнеты[83] в рост человека, возле бойниц не только пулемёты «ПКМ» на треногах, но и АГС «Пламя». Четыре бронетранспортёра, установленные по осевым линиям проспектов, «валетом» – направив стволы тяжёлых башенных пулемётов в противоположные стороны. Грамотно поставлены – с тротуара не подбежишь и гранату не кинешь, движущиеся сплошным потоком, без интервалов, машины помешают, а сам автомобильный поток сокращён до одной правой полосы в каждую сторону. Из машин рискнёт стрелять по постам только старый, опытный самоубийца – по всей ширине улиц демонстративно разложены широкие ленты с острыми двадцатисантиметровыми шипами, из ряда не выскочишь и пешком никуда убежать не успеешь. В поле зрения Лютенс с ходу насчитал целых шесть парных патрулей с автоматами на изготовку. Видимо, порядок таким образом поддерживается как минимум по периметру Садового кольца. И мосты через Москву-реку наверняка ещё надёжнее блокированы.
Осадное положение в чистом виде, и в то же время особо в глаза не бросается, комендантский час, кажется, тоже не вводился. Одним словом, как русские выражаются – «повышенные меры безопасности». Лютенс подумал, что в Штатах в подобном случае меры безопасности выглядели бы, как лучше сказать – истеричнее, что ли, поскольку в каждом тревожном случае американские власти, полиция и даже армия начинают защищать прежде всего самих себя, не считаясь с законами и нравственными нормами. Всех прочих – только по остаточному принципу. Закон – полицейский и солдат имеют право стрелять на поражение в любом случае и по кому угодно, если сочтут, что им угрожает опасность.
Автомобильное движение, отметил разведчик, само по себе в несколько раз меньше, чем обычно. Люди, интуитивно оценивая обстановку, решились без нужды не рисковать, мало ли что: и машину под предлогом «особого положения» или чего-то ещё отнять могут, а то в заварушку какую влезешь… Пешком – оно надёжнее, или уж на общественном транспорте подъехать, куда нужно.
Прямо напротив поста Лютенс и остановился, благо там же кучковались ещё с десяток человек, все мужики, естественно, женщины сборищ с милитаризованным оттенком избегают, если не имеют непосредственного повода. А здесь для них повода не было. Мужчины, судя по всему – сплошь отслужившие, кто солдатом, а кто и офицером, в возрасте от тридцати до шестидесяти, и, что интересно, совсем никого там Лютенс не заметил из «креативного класса». Те и в армии не служат, и смотреть на наглядную картину торжества ненавистной власти не могут без омерзения. Оттого собирались и обсуждали случившееся совсем в других местах. Или – паковали чемоданы, собираясь, как в тех кругах выражаются, «валить» в любую страну, где за профессиональную русофобию дают вэлферы. А эта публика, собравшаяся у перекрёстка, в целом одобряющая очередное «наведение порядка», просто оценивала и обсуждала, как оно и что.
Кроме политической составляющей и перспектив на будущее России как таковой и отдельных её граждан, в том числе нынешней «элиты» и «хозяев жизни», обсуждали марки и качество техники, обмундирование и вооружение у патрульных спецназовцев. Тут все понимали, что никакие это не «вованы»[84] и не ОМОН. Спорили только о конкретной принадлежности бойцов. Как говорится, русские мужики служат в армии два года, а разговоров об этом им на всю жизнь хватает. Здесь люди собрались в массе своей незнакомые, и каждый стремился блеснуть познаниями и собственным видением геополитических проблем. Некая аналогия с «пикейными жилетами» из «Золотого телёнка». И ничего в этом смешного нет. По нынешним временам военные сборы запасных не проводятся, и бывшим бойцам негде (кроме дней десантника и пограничника) даже и пообщаться, не говоря, чтобы подержать в руках автомат или кому что по ВУСу[85] положено.
Лютенс тоже достал сигарету, присоединился к народу.
На самом деле жизнь агентурного разведчика, ориентированного на эффективную работу в тылу врага, весьма и весьма нелегка. Учиться и поддерживать форму нужно фактически круглосуточно. Мало знать язык, даже и в абсолютном совершенстве, на уровне хорошо образованного «носителя». Нужно прочесть все книги, пересмотреть все фильмы, которые должен был читать и видеть изображаемый персонаж в «стране пребывания». Поскольку сельских алкашей с тремя классами шпионы обычно не имитируют, приходится помнить анекдоты, имевшие хождение «от Ромула до наших дней», мгновенно и правильно реагировать даже и на намёки, на произвольно выдранные, зачастую искажённые цитаты. И по нескольким ремёслам и профессиям, свойственным человеку с конкретной легендой, уметь поддержать разговор на достойном уровне. И ещё владеть всей повседневной бытовой информацией, вплоть до слухов и баек годичной, месячной и недельной давности.
Иначе в лучшем случае сочтут трепачом и неадекватным человеком, в худшем – сделают выводы и сообщат «куда следует». Так, по крайней мере, учили в Лэнгли Лютенса и ему подобных, несмотря на царившую в России эпоху всеобщего «пофигизма». Пофигизм, конечно, имел место, но и вековечная привычка к бытовой бдительности у людей никуда не делась.
Поэтому Юлиан Семёнов и придумал своему Штирлицу довольно специфическую биографию, а «зафронтовой» разведчик вроде книжного, а не настоящего Николая Кузнецова был бы разоблачён в ближайший час общения с любым немецким солдатом или офицером. И никакого гестапо или СД не надо – не среагировал мгновенно и правильно на какую-нибудь жаргонную фразу, не понял всем известной идиомы – и «вот всё об этом человеке». Диверсанты Скорцени, переодетые в американскую форму в сорок пятом в Арденнах, хорошо знающие «бытовой английский», сплошняком палились, когда на заправках требовали «петроль», а не «гэс». Это если месяц-другой изображать челюстно-лицевое ранение и изъясняться исключительно жестами, тогда что-то для будущей роли можно усвоить…
Лютенс в этом смысле был из лучших. Он действительно прочитывал (или хотя бы просматривал) по несколько русских книг и журналов ежедневно (вроде Сталина, если верить тому, что пишет о нём в своих мемуарах К. Симонов[86]). Несколько лет жил в столицах бывших советских республик, не пытаясь выдавать себя за русского из России, просто за иностранца, хорошо знающего язык и стремящегося его усовершенствовать.
Он даже постиг такую тонкость – в каком случае человек может допускать лексические, семантические, фактологические ошибки, и это не вызовет никаких последствий, а в каких такая же вроде бы ошибка-оговорка может вызвать подозрения с далеко идущими последствиями.
Самое интересное – его нынешняя должность совсем не требовала такого «глубокого погружения». Обычному агенту под посольской «крышей» умения понимать язык на слух и без грубых ошибок на нём изъясняться было вполне достаточно. Так что Лерой Лютенс занимался как бы «искусством для искусства», или – своеобразным экстремальным спортом. Кому из нормальных людей действительно нужно забираться на Эверест или пересекать на вёсельной шлюпке Тихий океан? А ведь делают это тысячи людей, и постоянно.
Зато теперь Лютенс был уверен, что, как выражаются русские, «в случае чего» он спокойно может натурализоваться в этой стране, даже занять достаточно высокий пост в организации или фирме, не слишком интересующейся всей подноготной своих сотрудников. Кто его знает – а вдруг и пригодится…
Мужчины рядом с ним говорили все сразу и о разном, друг с другом и просто в пространство. Но тем и полезно участвовать в подобных стихийных сборищах, что невзначай можно услышать совершенно неожиданные вещи. Вот как сейчас…
– ГРУ это, зуб даю. Мы с грушниками в первую чеченскую плотно взаимодействовали, я их где хочешь отличу…
– Да чё ты гонишь, чё гонишь? Никаким краем не ГРУ, те совсем по-другому держатся. Это, похоже, из кавказских горных бригад контрактники, видишь какие береты… Этих бригад всего две, их совсем недавно сформировали…
Береты и вправду были необычные, светло-шоколадного цвета, с круглой кокардой спереди и трёхцветным шевроном справа. Такие же шевроны и на рукавах. Жалко, далеко от тротуара до середины проспекта, подробно не разглядишь.
– Чего зря языком молоть, – ни к кому специально не обращаясь, сказал плотный мужик лет сорока, под стать Лютенсу, только не рыжий с бледным веснушчатым лицом, как разведчик, а загорелый шатен. Заметно было, что он не совсем из гражданских – то ли недавний отставник уровня прапорщик-мичман, то ли работает в каких-то полувоенных структурах. Очень характерны эти особого рода подтянутость, экономно-координированные движения и спокойно-уверенный взгляд.
С такими людьми хорошо дружить, по этой же причине они вызывали у цэрэушника естественное опасение и настороженность. Из-за того, что с ними нельзя расслабляться. Народ наблюдательный и себе на уме. Скажешь или сделаешь что-то не то – сразу заметят, а как среагируют – бог весть.
– Никаких таких штатных войск у нас до прошлой недели точно не было. Это я гарантирую, – уверенным, не предполагающим возражений голосом говорил мужик, дымя чем-то без фильтра, но не «Примой». Скорее «Лаки страйк» или «Кэмелом». – Или где-то очень хорошо прятались, или заново сформированы. Я слышал, будто на юге, в Ставрополе, совсем новую армию по штатам военного времени разворачивают, может, оттуда. Из казаков преимущественно, с прежними правами и казачьими воинскими званиями.
Слова мужика Лютенса заинтересовали – появление в Москве неизвестных военных частей всегда заслуживает внимания, сейчас – в особенности.
Это только недалёкие люди, судящие по американским, насквозь пропагандистским (куда там советским) фильмам, где русских военных и милицейских одевают в уродливую, ни на что не похожую форму с карикатурными знаками различия, думают, что за океаном действительно не представляют, что носит и чем вооружён «вероятный противник». Кому нужно, знают, и назубок, до последней пряжки и значка классности. Лютенс тоже разбирался и не мог не согласиться со «знатоком».
Сейчас вмешаться в разговор – вполне мотивированно будет, и интереса маскировать не нужно, и эрудицией блеснуть можно, чтобы собеседников раскрутить… Очень удобная вещь – безадресный трёп в толпе, главное – палку не перегибать, не ошибиться в господствующем общественном настроении. Не стоит восхвалять «русский империализм» на Болотной площади и необходимость немедленной «демократизации по-американски» на Поклонной горе.
– Чего ты рассказываешь-то, чего рассказываешь? – повернулся к «знатоку» Лютенс. – Ну, формируют, сорок девятая армия называется, в газетах писали, так она чисто общевойсковая, только две отдельные горно-стрелковые бригады туда передали. И с чего бы это им форму меняли? Там только одна ДШБ[87] «казачьей» называется. Чего-чего, а этого добра и старого хватает, знакомые ребята говорили, что ещё «сталинской суконной» на складах полно…
– Суконку давно моль поела, – скупо усмехнулся мужик. – А ты, видать, только газеты и читаешь, причём неизвестно какие…
Вот тут он в самую точку попал. Правильно Лерой таких, как он, опасается.
– Сейчас комдиву, а командарму тем более ничего не стоит позвонить кому следует, не говоря, чтоб в баньку сходить, а на Кавказе люди в этом толк понимают, и завтра хоть цвет берета меняй на свой вкус, хоть знаки различия. Про значки, нарукавные эмблемы и кресты всякие самодельные я не говорю. Что, не обратил внимания – последнее время безо всякого приказа снова вместо штампованных «птичек», как у америкосов, сержанты начали старые наши лычки носить? Кто красные, а кто и галунные. Или эти, новые из Следственного департамента, на повседневную форму золотые погоны нацепили, как при царе… Сейчас по форме не суди, – с полной авторитетностью продолжал вещать мужик.
– Не об том базарите, парни, – вмешался ещё один «знаток и ценитель», помоложе, но тоже с глазами очень и очень неглупыми. И – цепкими. Что и напрягает здесь Лютенса постоянно. В Штатах всё просто и понятно – как в муравейнике, где каждая особь обладает интеллектом и манерами, соответствующими врожденной функции.
В собравшейся по такому же примерно поводу уличной толпе в Нью-Йорке или Волнот-крике[88] каком-нибудь, едва ли встретишь людей, органично смотревшихся, хотя бы внешне, в гарвардских аудиториях и кампусах. А чтобы на равных эти «средние американцы» со студентами и преподавателями на специальные темы дискутировали (и выигрывали, что вполне вероятно, хоть рассказ Шукшина «Срезал» вспомнить) – и в гротескном сне не приснится. А здесь – свободно, здесь сильно выпивший тракторист, вытащив из грязи «Лексус» среднего калибра олигарха, легко может тут же начать ему доказательно, с яркими примерами разъяснять причины и движущие силы сначала Февральской, а потом и Октябрьской революции, и чем эти исторические аллюзии грозят вот таким, как он с его кодлой. Разойдётся, так может в знак презрения и деньги не взять. Плюнет под ноги и пойдёт собеседника поприличнее искать…
И как себя с таким народом вести? Разумеется, подобному человеку невмоготу заставить себя восемь часов в день у конвейера прикручивать третью гайку на заднем колесе. А вот (с двумя классами образования) сообразить, как сделать, чтобы ружейная смазка не замерзала на тридцатиградусном морозе, и мотор американского грузовика, рассчитанного на высокооктановый бензин, работал на керосине[89] – каждый почти солдат Отечественной войны легко мог, без видимых интеллектуальных усилий. По наитию. У немецких инженеров во Вторую мировую, при всём их «сумрачном тевтонском гении», такие вещи не получались. Автоматы зимой плохо стреляли, танки не заводились и даже дизель от «тридцатьчетвёрки» за четыре года скопировать не смогли.
– Не о том, – повторил парень. – Береты – херня, я сам и чёрный, и краповый носил…[90] Вы на их оружие посмотрите…
Лютенс и все остальные посмотрели. До этого как-то не обращали внимания – далеко, да и автоматы бойцы сложили на броню, только у одного висел на плече стволом вниз.
Вот что значит – стереотип восприятия. Раз автомат, значит «АК», в данном случае «АКСМ» или «АКСУ», раз без деревянного приклада. Ан нет!
– Во, бля! – Это Лютенс искренне сказал, всё по обстановке и в тему. Действительно новость, да какая… Точнее, как говорил Черчилль, «загадка, обёрнутая в тайну». Автомат действительно был чистая экзотика – самый настоящий ППС, опознать который вот так, навскидку, теперь уже способен мало кто из людей младше сорока, не эксперт-криминалист и не оружейник, ну и не завсегдатай военно-исторических сайтов.
Это что же получается? В России закончилось современное оружие? Абсурд, за шестьдесят с лишним лет «калашниковых» наштамповали несколько десятков миллионов, «всем способным держать оружие» хватит, и на продажу ещё столько же останется, от Аргентины до островов Фиджи – каждому желающему. Значит, что? В тот момент, когда вооружали именно это подразделение, под руками не было ничего, кроме складов «очень длительного хранения»? Так? Не было времени ждать, пока подвезут из ближайшей воинской части? Тогда что это за люди, которых ОЧЕНЬ срочно собрали, вооружили тем, чем придётся (а где такое «приходится»?), и тут же бросили патрулировать Москву? Что, все остальные войска настолько ненадёжны? Может, и вправду казаки? Или что-то другое? Одеты они как раз однообразно и очень неплохо.
– Именно что «бля», – гордо ответил парень. – Я как раз об этом. Эти гвардейцы сидели где-то с одними пистолетами, скажем, а тут – боевая тревога и спецзадание. А через дорогу – музей боевой славы с коллекцией этого добра. Катит?
– Да как-то не особенно. Где у нас с одними пистолетами сидят, да в таких количествах? И на казарменном положении. Не бывает. А ты что, в разведке служил? – спросил старший из собеседников, «прапорщик», как обозначил его для себя Лютенс. Конечно, не «складской» прапорщик, а из тех, что комвзводами или замкомроты в спецназах служат. Остальные любопытствующие, числом свыше десятка, прекратили свои разговоры и насторожились. Что-то интересное обозначилось в и без того непростой обстановке.
– Разведка, само собой. Да что я, ещё пацаном кино про войну не смотрел? – спокойно ответил парень.
– Забавно, – кивнул и Лютенс. – Что бы это могло значить?
– Вот и я спрашиваю.
– Такое добро долго искать будешь – не найдёшь. А тут в Москве по случаю государственного переворота полк как минимум спецназа по тревоге подняли и с таким антиквариатом вывели. А антиквариат-то новенький, и магазины у него не родные, пластиковые, на полста, наверное, патронов. Что, их снова на вооружение приняли? Даже не смешно. Тогда на следующем углу с трёхлинейками стоят?
– Ну и вывод? – спросил «прапорщик». А скорее никакой не прапорщик, судя по прорвавшейся интонации – не майор даже, подполковник и выше.
– Слышь, ребят, а может, просто кино снимают? Фантастическое, вроде «Обитаемого острова», – предложил вариант парень немного за двадцать.
– Хорошая мысль, только кинокамер не вижу, – ответил «прапорщик».
– То есть логически непротиворечивого ответа не просматривается, – заключил недавно подошедший немолодой мужчина преподавательского вида. Вообще толпа любопытствующих как-то сама по себе стала увеличиваться, как всегда бывает, когда в городском пространстве образуется своеобразная ретенционная точка[91].
– Естественно. Если б сейчас начали собирать народное ополчение – тогда любое оружие оправданно, какое под руками есть. А так…
– Вы не совсем правы, – возразил «интеллигент». – Я сторонник сократической логики. Мы с вами наблюдаем очевидность. Значит, нужно найти ей непротиворечивое, причём простое и осмысленное объяснение…
– Ну-ну…– подзадорил кто-то из толпы.
– Интересно, – согласился «прапорщик», – что невоенный человек придумать может?
– Я, к вашему сведению, капитан запаса, – вдруг обиделся «интеллигент», – «двухгодичником» честно оттянул командиром первого огневого взвода, то есть старшим офицером гаубичной батареи под Хабаровском.
– Уважаю, – сказал «прапорщик». – Так что скажете, товарищ капитан?
– Кто-то вдруг решил, что для городских дел в нынешних обстоятельствах «АК» и его производные избыточно мощны и опасны. Шальная пуля и за километр панельную стену пробить может, особо если утяжелённая. А пистолет-пулемёт – совсем другое дело… Жильцы верхних этажей на той стороне проспекта могут быть спокойны…
– Не лишено, – согласился бывший морпех-разведчик.
– Только не верю я, что в нынешних обстоятельствах, при всей панике и суматохе, кто-то такой ерундой заморачиваться стал бы. У нас проще – по площадям из чего придётся, – сказал «прапорщик».
– Вот чего-чего, а как раз паники и суматохи я ни сейчас, ни с самого утра не наблюдаю. Даже странно, – сказал бывший артиллерист. – Есть, правда, ещё одно объяснение, но слишком уж оно… Против Оккама.
– Кого против? – спросил «разведчик».
– Был такой монах средневековый, учил, что лишней херни придумывать не нужно, когда и имеющейся достаточно, – не задумываясь пояснил «прапорщик», чем вызвал удивлённое «хм?» «артиллериста-интеллигента».
– Да вы говорите, чего уж, нам сейчас и без всякого Оккама…
Что именно, «прапорщик» не пояснил.
– Говорят некоторые, что вообще не наши это люди. Из «параллельной России» к нам прибыли. Порядок наводить…
– Какой такой «параллельной»? – с агрессивным интересом выкрикнул кто-то из толпы, постепенно всё разрастающейся.
– Ну, такой же, как наша, только рядом существующая, где ни революции, ни войн наших не было, «красных» сразу побили и царь там до сих пор правит. Вот каким-то образом нашёлся проход оттуда сюда, они и двинулись…
– Да что ты там несёшь? Не бывает такого!
– Отчего же? До Колумба про Америку никто не знал, а когда открыл – разве кто-то удивился? Теперь представь, что там уже не каменный век, а вполне развитой капитализм. Только по морям плавать не умеют. Отчего-то. Отчего-то в Америке и лошадей, и колеса не было. А когда их «открыли» – собрались и двинулись «новый» для себя свет открывать, – вроде как с некоторой издёвочкой, но вполне серьёзно разъяснил «интеллигент».
– Просто так взяли и двинулись?
– Значит, не просто, раньше уже было обговорено. Да ты сам посмотри, похожи они на наших?
– А давайте подойдём да спросим, – вдруг предложил Лютенс. – Чего нам? Сразу всё понятно будет. Если и не из «другой России», так всё равно ещё чего узнаем…
Американца мысль о «параллельной России» совсем даже не напрягала. Во-первых, разведчик должен быть готов сохранить самообладание в самой невероятной, по обывательским меркам, обстановке, а во-вторых, Лерой ещё в молодости читал и Пола Андерсона, и Айзека Азимова, достаточно хорошо представлял, о чём речь идёт. Фантастика-то она фантастика, но, пусть и вопреки Оккаму, способна объяснить очень многое.
– Можно и подойти. Почему и нет, народ и армия едины… – согласился «прапорщик».
Все они, затеявшие этот разговор, и ещё человек пять заинтересовавшихся, не долго думая, двинулись вперёд, не дожидаясь даже, пока на перекрёстке загорится красный для машин, идущих по Арбату. Ничего, пропустят.
Лютенс хотел было присоединиться к группе, да вдруг расхотелось что-то. А он привык доверять своим эмоциям и инстинктам. Этим-то мужикам всё равно, терять нечего, и никто им ничего не сделает, а вот если кто-то из непонятных бойцов (или осуществляющий их оперативное сопровождение) заинтересуется Лероем, можно неслабо залететь… Может быть, он и так уже давно «под колпаком» или «на крючке». Чёрт его знает, но в этой стране всеобщего бардака и коррупции иностранные агенты тем не менее попадаются в лапы «кровавой гэбни» с вызывающей удивление систематичностью, даже и документы имея вполне надёжные, вплоть до прикрытия думскими мандатами, и спецподготовку, для столь расхристанной страны даже избыточную….
То ли наследие сталинизма, когда каждый следил за каждым и бдительные пионеры пачками препровождали американских парашютистов «куда следует»[92], то ли генетическое, за тысячу лет отшлифованное свойство «нутром» угадывать «чужих», что по крови, что по убеждениям, и реагировать автоматически. Как в известной блатной песне тех же сталинских лет поётся, о том, как американский шпион предложил уголовникам выкрасть «советского завода план»: «Советская «малина» держала тут совет, советская «малина» врагу сказала – нет! Потом его мы сдали стрелкам НКВД, с тех пор его по тюрьмам я не встречал нигде». Шутки шутками, а так ведь оно примерно и обстоит. По крайней мере, на уровне «простого народа». А ведь там враг предлагал ворам «фунты, франки и жемчуга стакан».
Тем более Лютенс не имел ни малейшего представления, как сумели столь блестяще сработать «на опережение» российские спецслужбы, пусть небольшая их часть, но непонятным образом сохранившая все прошлые умения и навыки. И это при том, что почти всё их руководство давным-давно превратилось не в воровскую малину даже, а просто в банку, куда некий любитель острых ощущений накидал без счёта ядовитых тарантулов, скорпионов и сольпуг. Не просто бессмысленно-злобных, но ещё и корыстолюбивых, чего в мире насекомых не бывает.
Вся эта братия, снедаемая противоположными чувствами – честолюбием и трудно представимой даже в Риме эпохи упадка жаждой наживы, погрязнув в финансовых махинациях, запутавшись в связях с криминалом и уже просто не понимая, кто есть кто, от кого брать деньги можно и нужно, а кого пора немедленно травить или отстреливать, смертельно боясь при этом, что кто-то из друзей-соперников успеет первым перетянуть на свою сторону Президента и начать «новый тридцать седьмой год», с восторгом откликнулась на приглашение поучаствовать в государственном перевороте. Эта идея, как казалось, решала сразу все проблемы сразу у всех. Финансовые, карьерные, всякие.
А взаимные счёты, которые никуда не делись и деться не могли, пока эта публика продолжала физическое существование, причём на свободе, а не в «мрачных горах Акатуя», предполагалось решить по принципу оппозиционеров семнадцатого года, от крайне правых до крайне левых: «Сначала свергнем самодержавие, в союзе хоть с чёртом, хоть с дьяволом, а потом посмотрим».
Да, в семнадцатом и полусотне следующих лет посмотрели, всякого насмотрелись. И теперь снова – либералы, «демократы ельцинского призыва», коммунисты из самых упёртых, анархисты, педерасты, православные хоругвеносцы и скинхеды словно бы слились в едином порыве – свергнуть вот эту «продажную и антинародную» власть. Посты в будущем правительстве были поделены, и о будущем «парламентском» устройстве власти договорились. В точно рассчитанный момент была дана команда «штурмовым отрядам», и совершенно неожиданно последовал мгновенный и страшный разгром. Тут же, меньше чем за сутки, «сдулся шарик» объединённой оппозиции, остались только обслюнявленные цветные ошмётки, а на перекрёстках стоят бронетранспортёры, по которым никто не стреляет из окон домов и проезжающих автомобилей. А сейчас бы, как в Ливии или Сирии, тысячу-другую обкуренных боевиков выпустить на улицы в сопровождении сотни пикапов с КПВ, ДШК, РПГ и «Стингерами» – где сейчас президентская команда была бы? Только раньше надо было это сделать, перед тем, как людей за Президентом посылать. И ничего ведь практически не стоило: «Зубры» любой приказ бы выполнили, да при поддержке контингента, который они, по легенде, должны были охранять![93]
Почему никогда в этой стране не получается, как намечено, ни в ту, ни в другую сторону?
И словно бы со стороны прозвучал в голове Лютенса издевательский ответ: «Потому что сие знаменует гармонию природы». Откуда это, к чему?
Разведчик оглянулся, и на глаза ему вдруг попалась девушка на мотоцикле, стоящая у бордюра, опершаяся о него длинной ногой в потёртой и застиранной джинсе и ковбойском сапоге с заклёпками и имитацией шпор. Выше – тоже всё как надо – куртка-косуха, на руках кожаные перчатки без пальцев, шлема нет, длинные волосы собраны в тугой конский хвост. Довольно симпатичное лицо по здешним меркам, по американским – Анджелина Джоли пополам с Николь Кидман, Шерон Стоун. Или кто там сейчас у двадцатипятилетних считается недостижимым в обычной жизни идеалом? Современное американское кино Лютенс знал плохо. Русское – лучше.
Лицо у девицы, как и положено байкерше, – загорелое и обветренное, выражение иронично-пренебрежительно-вызывающее, нижняя губа чуть оттопырена, глаза прищурены. Но смотрит при этом на патрульные БТР и всё происходящее вокруг с истинным интересом, не позирует, поскольку приятелей по клубу рядом нет, а мнение остальной части человечества ей безразлично.
Мотоцикл хорош, хотя и не из самых крутых. «Кавасаки – Спорт-турист ZZR 400», движок четырёхцилиндровый, полсотни лошадей. По городу спокойно можно гонять по 100–120 км/ч, а больше и не надо, да днём и не получится.
То, что нужно – осенило Лютенса. Прямо сейчас подойти, познакомиться, он этому хорошо обучен, срывов практическим не бывало. Девица его не интересовала, не то время, чтобы на уличные флирты размениваться, а вот как средство передвижения… И для маскировки хороша.
Сделав два щелчка своим «телефоном», в данном случае в функции фотоаппарата, вслед отправившимся разговаривать с патрулём мужикам, с трансфокатором сняв БТР, бойцов, их форму и автоматы, Лютенс, на секунду отвернувшись и прицепив на карман куртки бейджик «Пресса. «Коммерсантъ», подошёл к девице, боясь только одного – газанёт сейчас, не дав произнести те несколько фраз, после которых уже никуда не денется – и поминай как звали.
За эти секунды он, подобно артисту-трансформатору, сменил имидж, не прибегая ни к гриму, ни к любым другим техническим ухищрениям. И сразу из утомлённого нетрезвого работяги превратился в этакого рубаху-парня, «знающего жизнь», но явно интеллигентного рода занятий. В советское время кинорежиссёры любили такой типаж на роли геологов, капитанов торгового флота, начальников сибирских райотделов милиции. И был он теперь не «нетрезвым», а – «слегка навеселе», а это, как всякий понимает – совсем разные вещи.
– Добрый день, девушка, – сказал он, нужным образом интонируя голос, чтобы она ни в коем случае не приняла его за уличного дон-жуана, вообще за человека, способного заговаривать с незнакомыми девушками без крайней на то необходимости. Свои сексуальные проблемы такие люди, как он, решают куда более цивилизованными способами.
– Привет, – без всякого дружелюбия ответила девица, но всё же ответила, и это плюс не ей, а Лютенсу. – Что надо? Я подаю только по субботам.
– Хорошо сказано, – одобрил Лютенс. – И не послала впрямую, и намёк рассчитан на более-менее умного человека. Не беспокойся, я не по этой части. На «ты» можно? Не люблю лишних церемоний. Всё равно ведь перейдём, так зачем зря напрягаться? Зовут меня Владимир Алексеевич, можно и Володя, если дальше продолжим общение. Журналист, как видишь. – Он кивнул на свой бейджик. – Вообще я типа в отпуске, только сегодня приехал из Абхазии, а тут такое… Вот труба и позвала…
Байкерша ещё на пару градусов оттаяла. Неужели к ней так часто пристают, что постоянно держит имидж агрессивной неприступности? Вроде бы не должно так, она всё же из команды, таких задевать избегают все хоть чуть-чуть понимающие. Разве из этих… ЛГБТ? Жаль, если так. Лютенс, к слову сказать, как многие люди из спецслужб или армии, что здесь, что в Штатах, политкорректностью не отличался, а гомофобом вообще был стопроцентным. Библейская точка зрения на эту мерзость встречала у него полное понимание.
– Гонишь, – небрежно ответила девчонка. – Журналист? – Она скривила губы. – И такой пендюркой снимаешь исторические события? Это только для «Фэйсбука»… Что я, настоящих аппаратов не видела?
О, ещё одна тема наметилась.
– Во первых, я не фотокор, а писака, фрилансер. А про машинку не скажи. Эта «пендюрка» имеет пикселей раза в два больше, чем «Кэнон» с такой вот трубой. – Он показал руками размер объектива. – И компьютер так чётко все параметры отрабатывает, что и фотошоп потом не требуется. Хоть постеры прямо с камеры печатай…
Он вскинул «телефон» и щёлкнул девушку крупным планом, успев сдвинуть колёсико на режим «портрет».
– Смотри…– показал байкерше дисплей классического формата 9×12.
Снимок и вправду получился хорош. Даже при таком размере видно было. И цветовой насыщенностью, и композицией. Главное – выражение лица! Вот эта чуть пренебрежительная гримаска, приоткрывшиеся губы, смотрящие прямо в душу зрителю глаза, прядка волос, упавшая на лоб, своенравный поворот шеи. Кто осмелится сказать, что «Владимир» – не профессионал.
– Поймалась, девушка, – сказал он шутливо, но с особой интонацией. – Теперь так и будешь на меня со стенки над столом смотреть. И всем любопытным буду говорить, что ты – моё курортное приключение…
– А ну сотри сейчас же, – резко бросила девушка, глаза сверкнули грозовым проблеском. – Сам сотри, а то…
– Да зачем, хороший же снимок. И тебе подарю. А в Сеть выкладывать не буду, мамой клянусь…
– Я что сказала? Стирай, или сейчас ребятам позвоню. Они доходчивей объяснят. И никуда ты не денешься, раз я твоё издательство знаю. У нас в суд не обращаются, сами бьют, больно, без следов и свидетелей…
– Да ладно, ладно, сотру, если хочешь, – не то чтобы испугался, а сделал вид, что просто не хочет «обострять», Лютенс. – Только давай я сначала его тебе перекину, на телефон, или на флешку, ей-богу, хорошей работы жалко… И я вообще к тебе не за этим подошёл. Ты заработать хочешь?
– В смысле? Блядей в другом месте ищи…
Голос у неё был приятного тембра, невзирая на лёгкую хрипотцу, вызванную естественным для мотоциклистки поверхностным хроническим бронхитом-фарингитом и ларингитом. Да и курит, наверное.
– Зря ты это, – совершенно искренне сказал Лерой, хотя воспитание российских девиц в список его приоритетов не входило. Но чем-то она его зацепила, невзирая на его нынешнюю работу. Но это дело такое – если проскочила искорка, так независимо от классовых, национальных и идеологических факторов. Только что вообще ничего такого не думал и вдруг почувствовал, что девчонка ему небезразлична. Впрочем, что за беда? Лишнее знакомство, да ещё в тех, весьма далёких от обычной либеральной тусовки кругах, отнюдь не помешает.
– Не идёт тебе, не к образу, хоть ты и байкерша. Рано или поздно настоящим мужикам матерящиеся девицы надоедают, раздражать начинают…
– Поучи ещё…
– Да зачем мне – это? Пусть тебя папа с мамой или будущий муж учат. Я просто как профессионал говорю. Вот распечатай дома свою фотографию, что я тебе сейчас отдам, а ниже припиши, как в комиксах, какой-нибудь приличный загиб, без пропусков и многоточий… По утрам посматривай – соответствует форма содержанию или как…
«Значит, – подумал Лютенс, стоило увидеть симпатичную девицу, и сразу из меня наружу полезли христианские ценности. Вот уж воистину верно сказано: «Бойся первых побуждений, они, как правило, бывают благородными». А так всё нормально идёт, экспромты по-прежнему выходят качественно…»
– Держи. – Девица достала из нагрудного (на симпатичной такой груди) кармана рубашки флеш-карту, прицепленную к длинной серебряной цепочке.
– Сбрасывай. И сразу стирай, при мне…
Вот как раз тот редкий случай, когда шпионские возможности аппарата пригодились. Лютенс вставил флешку в разъём, скачал на неё фотографию, заодно переписал в память «телефона» и содержимое флеш-карты целиком (может, что интересное обнаружится, сейчас молодёжь стала такая неосторожная, хранят в компьютерах откровения, что тридцать лет назад в шифрованных записях личным дневникам не доверяли), ну и копию фотографии, естественно.
– Готово. Теперь смотри. – Он выбрал в меню функцию «Удалить», показал девушке.
– Ну? Стираю?
Девушка упрямо сжала губы, кивнула.
Лютенс нажал кнопку. По экрану пробежала волна разноцветных ромбиков – и всё. Чисто.
– Варварство, – вздохнул Лютенс. – Словно своей рукой тебя из сердца вырвал. Слушай, у меня настоящие фотографы есть, давай, в натуре, фотосессию заделаем, опубликуем, а то и календарь отшлёпаем, с мотоциклами и вообще… Прилично заработать можно. Ты барышня очень даже нестандартная. Без всякой порнухи, просто красивые намёки… Неужто тебе до этого ни разу не предлагали? Не поверю. Ты ведь уже совершеннолетняя?
– Я всё-таки повторю тебе те слова, что воспитанные девушки не говорят. Давай, уё.. отсюда, Володя…
Интересная, прямо интересная девушка, и становится всё интереснее. А он ведь действительно её хотел одноразово использовать, сейчас же кажется – есть варианты поинтереснее. В своей конторе Лютенс слыл мастером вербовки, правда, в России ему ещё не приходилось особо блистать своим искусством: в тусовках «креаклов» желающие сразу, без преамбул, продаться, и не задорого, могли бы составить очередь не короче, чем в консульском отделе посольства.
– Странная ты, – очень натурально вздохнул разведчик. – Другие на собственной свадьбе готовы догола раздеться и на столе танцевать, чтобы в календарь или «Плейбой» попасть. Тысяч за пятьдесят баксов, сама понимаешь. Но я чужие принципы уважаю. И подошёл к тебе совсем не за этим, и заработок куда поскромнее имел в виду…
Всё же чем-то Лютенс девицу тоже задел, раз она до сих пор не уехала. Грубила, но слушала. Красавцем он себя не считал, внешность имел довольно простонародную, тело крепкое, рост 185 и вес 95, но на сорок свои не выглядел, что-то вокруг тридцати пяти – тридцати семи. Нормальный мужчина, любая женщина сразу поймёт, что – надёжный. Потому что взгляд не блудливый, не запуганный, не бегающий и не масленый, не похотливый. Умные дамы такие моменты сразу просекают. Да срабатывал и журналистский бейджик, слова он подбирал неплохо, хотя и на чужом языке. Впрочем, когда нужно, он переключался без усилий и думал по-русски, пожалуй, лучше, чем по-английски. Не американец же он – немец, мать тоже настоящая немка, причём из остзейских немцев, а это уже почти и Россия. Поэтому русский язык к его характеру лучше подходил, не зря же с самого начала он по-русски начал говорить совершенно без акцента, если, конечно, легенда другого не требовала.
– Думал попросить, если других срочных дел у тебя нет, прокатить меня на твоей швейной машинке по Колечку и по нескольким радиусам, где проезд не закрыт. Заплачу, как правильному таксисту, два счётчика. Могу добавить ужин в кабаке Дома журналиста…
В Домжур он её вести, разумеется, не собирался, там он за своего «не проканает», и пришла ему эта идея только что, но если бы вдруг согласилась, есть места и получше, чем забегаловка на Никитском бульваре.
Всё же выпитые двести пятьдесят так до сих пор и не выветрились.
– За пару часов управимся, посмотрим, поснимаем, и я явлюсь в редакцию с готовым репортажем… Оперативность, она дорогого стоит.
– Сколько? – Вот тут девица впервые отреагировала без своих обычных грубостей, наверное, сочла предложение действительно деловым и не наносящим ущерба статусу.
– Ну, как ты сама оценишь? Кольцо – 16 км длиной, радиусы, будем считать, ещё двадцать. Ну, на круг пять тысяч нормально будет. Да и если почасово – примерно то на то выйдет. Вдвое – значит, десять.
Девица сощурила зелёные, совершенно кошачьи глаза.
– Кольцо не шестнадцать, а девятнадцать, и поперёк него неизвестно сколько ездить придётся. Плюс форс-мажоры всякие. Знаки, патрули, придурки на четырёх колёсах. Короче – тонна баксов вперёд. На ужин согласна, кабак сама выберу, насчёт интима и не заикайся. Сошлись?
– Ну, ты даёшь, – только и ответил Лютенс.
– А ты думал – дуру нашёл? Чего ж тогда, в натуре, такси не взял? Вон, – махнула она рукой в сторону Кольца, – лови любого, езжай. Я по-другому считаю. Оперативность – раз. Со мной ты проедешь, где никакая машина не рискнёт. Безопасность – два. Это я гарантирую, раз за работу берусь. Если что – убежим от кого хочешь, от вояк, от ментов – меня в Москве я и не знаю кто поймать сможет. Я, между прочим, любого стритрейсера[94] только так сделаю… Вдруг чего – могу для поддержки и эскорта десяток наших в полчаса собрать. А если ты свой репортаж сделаешь и проиллюстрируешь, штук десять можешь получить, нет? А уж если на Запад загонишь… Так что я, как соавтор, не много и прошу…
– Молодец, красавица. Ты точно и без интима на жизнь заработаешь. Тебя зовут-то как, представься, раз сговорились и на общее дело идём…
– Пока зови Рысь, а дальше посмотрим. Утром деньги, вечером стулья?
Лютенс засмеялся, сунул руку в карман.
– Рублями – хоть сейчас, а за баксами домой заехать надо.
– Давай рублями, по утреннему курсу. Тридцать три штуки…
Лерой поморщился, но достал из одного кармана шесть пятитысячных, из другого остальное, начал отсчитывать в руки девушки оговоренную сумму и тут же взвыл матерно, правда – лишь внутренне. Кто ж мог рассчитывать именно на такую встречу? Хотел под «простонародье» покосить, а вышла встреча с очень неглупой девушкой, и включилась иная подпрограмма. Но дурацкие наколки на руках куда теперь денешь? Придётся мотивировать.
Или – вот так. Рысь как раз на них смотрела очень внимательно, принимая из рук «журналиста» весьма немаленькую сумму. Ну и он на неё посмотрел… Мол, я тебя за романтическую барышню принял, а ты – шкуродёрка и жлобка, можно сказать, штуку баксов рвёшь за «покататься по Москве».
Рысь этот посыл поняла и тоже ответила без слов, одними глазами.
«Другой ты бы те же деньги заплатил за куда более короткое удовольствие в постели. Думаешь, тяжёлую машину с придурком за спиной легче по городу гонять, чем ножки раздвинуть и смотреть в потолок, пока ты сопишь и хрюкаешь? А это – нормальная работа».
Что-то американцу подсказывало, что девушка живёт не сильно богато, а на его деньги теперь легко месяц протянет, или «Кавасаки» столько же заправлять сможет.
Впрочем, оппозиция «бедность – богатство» в России тоже определяется совсем по другим критериям, чем в «цивилизованном мире». Человек, в США позволивший себе покупку такого мотоцикла и не шевелящий губами, сравнивая цену бензина на этой и соседней заправке, бедным считаться не может. Там, если цены на топливо подскочили не на доллар даже, а на двадцать центов за галлон, вполне экономически оправданный повод для транспортного коллапса или народных волнений сотен тысяч представителей «среднего класса» по всей стране. А этим, этой вот Рыси – на всё плевать!
«Если водка станет восемь, всё равно мы пить не бросим!»[95]
А наколки – ну что наколки? Сейчас модное «тату» дочки миллионеров себе и на заднице и где угодно делают. Ну а мы в своей молодости так вот развлекались. И вообще, если она действительно байкерша – какое ей дело? Они там все уголовники, нацисты, ксенофобы и сторонники тоталитарного режима, так, по крайней мере, определялась в ежегодных отчётах ЦРУ и Госдепа эта российская субкультура. А кто ещё может демонстративно поддерживать «эту» власть, презирая «либерастов» и «дерьмократов»?
Стоп! Лютенс зацепился за свою же, только что мелькнувшую мысль. «Если она действительно байкерша!» А разве могут быть сомнения? Считать её «подставой», что ли? Бред. Даже в «мирное время» подвести к профессиональному разведчику оперативника контрразведки – солидная спецоперация. А уж сегодня! Прямо тебе «Операция «Трест». Что, эта Рысь тут с утра стоит, в расчёте что мистер Лютенс именно в эту точку Москвы выйдет и именно на её прелести внимание обратит. Чистый бред. Но интуиция, интуиция, чего она вдруг зашевелилась? Или это не интуиция, а обычная трусость? Страшно стало с безбашенной девчонкой по городу на военном положении прокатиться?
Девушка аккуратно сложила деньги в пачечку, спрятала в карман и застегнула тугую кнопку.
– Теперь можем кататься, пока у тебя яйца не посинеют…
Сказано было грубовато и явно с подначкой, исходя из предыдущих морализаторств Лютенса, но тем не менее… Ему действительно перестали нравиться произносимые ей непристойности. Но в основном-то Рысь была права – заднее сиденье такого «Кавасаки» – не место для комфортной езды. То ли дело отдельное, высокое, подпружиненное седло старой отцовской «Индианы» 1935 года выпуска. Умели тогда люди комфорт, свой и чужой, ценить.
– А ты что, сидел? – всё же спросила девушка, не смогла удержать любопытства.
– Да какой там… Просто дворы у нас вокруг Переяславки такие были. Или делай, как все, или… Хорошо, у меня родители вовремя оттуда съехали в Черёмушки. Вместо тюрьмы в МГУ пошёл…
Глава шестая
Рысь хорошо взяла с места, чтобы сразу показать свой класс.
– Слушай, ты это… Я тебя не автородео показывать нанял. Мне надо спокойно ехать, смотреть по сторонам, снимать окружающую обстановку и составлять в голове текст! – крикнул он ей в ухо, с удовольствием прижимаясь коленями и животом к её спине и бёдрам. – Изволь полсотни, и хватит.
– Полсотни, – фыркнула девица, полуобернувшись. – Я на такой скорости и не удержусь, набок завалюсь…
– Удержишься, я вон на велосипеде вообще на месте стоять могу… Давай, работай. Клиент всегда прав.
Неизвестно, что там Рысь бормотала себе под нос, но скорость сбросила. Ничего, останется одна – компенсирует полученный моральный ущерб.
За время поездки Лютенс увидел нового и интересного даже больше, чем рассчитывал. На самом деле действиями оставшихся верными Президенту войск руководили очень компетентные и удивительно спокойные и выдержанные люди. Складывалось такое впечатление, что все планы «контрреволюции» были составлены давным-давно, запечатаны в «красные пакеты» и розданы именно тем, кто заведомо не перебежит на сторону противника и не допустит ни минуты растерянности и промедления. Вообще это выглядело как хорошо отрепетированный спектакль. И «положительные герои», и «злодеи» руководствуются написанным драматургом текстом и указаниями режиссера – как реплики и ремарки пьесы следует воплощать в разыгрываемое на театральных подмостках подобие жизни. В какую дверь на сцену выходить и какой рукой героине за сердце хвататься.
А Лютенс и все остальные, планировавшие разыграть собственное действо, сейчас с изумлением наблюдают, как занавес поднялся и актёры, на генеральной репетиции всё делавшие правильно, начали играть совсем не ту пьесу, что была обозначена на афишах и в программках. Вместо «Макбета», например, «Двенадцатую ночь». Не историческую трагедию, а весёленькую «комедию положений».
Ни один из местных руководителей заговора, ни силовики, ни представители «гражданского сектора» заведомо не предполагали, что на стороне Президента смогут оказаться вообще хоть какие-то вооружённые силы. Милиция и ОМОН с СОБРом были заблаговременно парализованы, заранее подготовленных армейских частей вообще не имелось, а инициатива «случайно не охваченного» командира среднего звена должна была быть подавлена в зародыше специально на то назначенными людьми. Для этого и линии связи прослушивались, и подготовленные группы снайперов и гранатомётчиков от «Зубра» немедленно бы пресекли выдвижение к столице каких-то стихийных энтузиастов. Все подходы к Москве легко перекрываются минимальными силами, если, конечно, наступление не ведётся в масштабах немецкой операции «Тайфун»[96] осенью сорок первого года.
Это, кстати, отлично продемонстрировали сторонники Президента. Та информация, которую успел получить Лютенс, подтверждала участие в активных действиях против заговорщиков нескольких автономных групп общей численностью всего лишь до батальона, правда великолепно натренированных бойцов, преимущественно офицеров. Неужели господин Мятлев, неприметный замминистра, таким джокером в рукаве оказался? Вот уж воистину, в тихом болоте…
Сейчас, побывав уже на пятнадцати заставах, блокировавших в основном площади на пересечении Садового кольца с главными радиальными магистралями, Лютенс видел, что Москва контролируется крайне незначительными силами. Пока он обнаружил всего три с небольшим десятка блокпостов, на каждом – одно-два отделения на лёгкой бронетехнике плюс пешие патрули и мотоманевренные группы, тоже по основным магистралям. Как ни считай – от силы полк штатной численности.
Теоретически, если бы начались активные наступательные действия мятежников, подкреплённые «мирными выступлениями граждан», хоть тысяч по десять-двадцать «протестующих» на главных площадях, вокруг Кремля, Белого дома, Государственной Думы, удержать такими силами контроль даже за первым внешним обводом центра города нереально. Кроме основных проспектов Садовое кольцо пересекают сотни улиц поменьше и переулков, а их все плотно перекрыть даже теоретически невозможно, если не имеешь в распоряжении минимум трёх-четырёх мотострелковых развёрнутых дивизий со всеми средствами усиления. Одних, штатов мирного времени, не хватит, даже чтобы обозначить вокруг центра Москвы тоненькую нитку оцепления: по стрелковому отделению на городской квартал, без всякой глубины и не имея ничего в резерве для маневра силами и средствами.
А ведь по «окончательному плану» заговорщики собирались вывести на улицы в нужный момент минимум несколько десятков тысяч хорошо вооружённых бойцов, от взводов используемых «втёмную» подмосковных ОМОНов и СОБРов до вполне мотивированных «Зубров» в полном составе и вводимых в операцию на втором этапе батальонов и бригад внутренних войск. Затем для закрепления успеха и превращения ситуации в «необратимую» предполагалось начать раздачу оружия более-менее организованным отрядам «избравших свободу» – студентам, криминально ориентированным фанатам, отставникам из ветеранских организаций прокоммунистического толка. «Антинародный режим» они свергать пойдут с удовольствием, а когда свергнут – поздно будет остатки волос на вытертых фуражками лысинах рвать. В дело вступят совсем другие силы, а к бесконтрольно выданному оружию боеприпасы закончатся как раз к моменту, когда возникнет опасность, что оно может быть повёрнуто в другую сторону.
Лютенс тщательно изучил хранившиеся в архивах ЦРУ материалы «Операции «Фокус»[97] шестидесятилетней давности. Тогда, в октябре пятьдесят шестого года, «мирная демонстрация студентов» неожиданно для властей и многих её участников превратилась в хорошо скоординированную военную операцию. Пятьдесят тысяч бывших салашистских[98] офицеров и жандармов вместе с уголовниками, вооружённых натовским и оставшимся с войны оружием, показали, что зря их после войны простили «ради единства нации». Расквартированные в Будапеште и окрестностях подразделения венгерской народной армии, полиции и АВХ[99] мгновенно утеряли контроль над ситуацией и были разоружены. Сопротивлявшиеся (а также все сотрудники госбезопасности) расстреливались на месте, большинство подчинилось приказам нового «демократического правительства» Имре Надя. Когда опомнился Советский Союз и занялся подавлением мятежа, ему потребовалось почти две недели и двадцать дивизий, включая танковые. Воевали по-настоящему, почти как в сорок пятом.
А вот здесь и сейчас не существовало внешней силы, способной поддержать рушащийся режим, внутренней – тем более. На это и делался весь расчёт, учитывавший опыт всех антиправительственных переворотов второй половины двадцатого и начала этого века, удачных и неудачных.
Если в пятьдесят шестом году ЦРУ и Госдепартамент хотя бы теоретически допускали возможность поражения и заблаговременно подготовили в Австрии и ФРГ лагеря для почти полумиллиона «беженцев от коммунизма», то на этот раз возможность проигрыша не рассматривалась ни в каком аспекте. И именно поэтому не существовало никаких подстраховочных вариантов, вся ставка сделана на единственный парализующий удар.
И вот теперь Лютенс мог наблюдать невозможное. Как заявил Пётр Первый по поводу одной из первых побед в Северной войне – «небывалое бывает».
Патрули и заставы были сформированы из бойцов самых разных родов войск и служб. Лютенс фотографировал, используя трансфокатор, все попадавшие в объектив знаки различия на погонах, рукавах и петлицах, значки и эмблемы. Зачем – ему и самому было не совсем понятно, теперь-то, в пустой след, но действовал инстинкт разведчика. На одном ключевом перекрёстке, у Никитских ворот, он увидел группу морских пехотинцев, два отделения примерно, явно сверхштатно вооружённых преимущественно пулемётами, РПК и ПКМ.
«Эти-то как сюда попали? – машинально удивился Лютенс. – Разве что на сборы какие приехали. Так не было сведений о проведении в Москве каких-то сборов с привлечением личного состава всяческих спецназов. Если б были – непременно такой факт отразился бы в планах и расчётах. В массе же на улицах преобладали солдаты-контрактники (судя по возрасту), в камуфляжах всех когда-либо использовавшихся в России расцветок. Попадались служащие вообще никак не идентифицируемых структур, которых объединяло только наличие оружия и сравнительно единообразной униформы.
Наверняка тут были чоповцы, эмчеэсники и вездесущие «ряженые», как среди либералов принято презрительно именовать казаков. Ряженые-то они ряженые, но воевать умеют, что показали ещё в «чужих» локальных войнах начала 90-х годов – Абхазия, Приднестровье, Чечня, даже Сербия.
Но в целом занявшее город воинство больше всего напоминало ополчение или заградотряды, что наскоро комплектовались из выходящих из окружения в сорок первом году остатков разбитых полков и дивизий. И, как в те первые дни войны, здесь свою роль эти импровизированные боевые группы сыграли.
Дело даже не в том, что пара-другая тысяч человек за несколько часов взяла под контроль гигантский мегаполис, давно и тщательно поделенный на зоны ответственности куда более организованных частей и подразделений, пообещавших заговорщикам помощь и поддержку. Лютенса поражала никаким образом не объяснимая согласованность действий тех, кто выступил на стороне уже, казалось бы, списанного в тираж Президента и его «антинародного и кровавого режима».
Разведчик знал, что такое «боевое слаживание войск», и то, что в нормальных условиях учёбы в звене рота-батальон на него требуется не одна неделя, с регулярным проведением полевых учений в обстановке, приближенной к фронтовой. А тут что же – подняли по тревоге то, что нашлось под рукой, и через несколько часов получили чётко функционирующий боевой механизм? Причём абсолютно точно знающий дислокацию вооружённых сил заговорщиков, адреса и явки руководителей гражданских структур, вплоть до фанатских и бойцовских клубов антигосударственной направленности. Так просто не бывает. И тем не менее!
Пожалуй, подобная информация будет иметь интерес не только для непосредственного начальства из Лэнгли, тут будет над чем задуматься и многозвёздным генералам из объединённого Комитета начальников штабов[100]. Феномен ли надличностной стихийной самоорганизации защитных сил власти (вроде биологического фагоцитоза), или первый случай практического применения нового «организационного оружия»?
И вот ещё что до крайности удивило Лютенса. Москва митинговала так, как ни разу за последние двадцать лет. Словно пыталась выговорить сразу всё, что накопилось и о чём молчала, то ли от лени, то ли от осознаваемой бессмысленности абстрактной болтовни. А сейчас будто прорвало. Люди собирались в любом мало-мальски подходящем просторном месте, желательно с памятником или монументом в центре, чтобы было куда залезть. В конце восьмидесятых такое толковище постоянно действовало только рядом с редакцией «Московских новостей» – «рупора Перестройки» – на углу улицы Горького и Страстного бульвара, напротив памятника Пушкину, возле щитов с вывешенными полосами свежих газетных номеров. Как и тогда, спорили яростно, до крика, но в то же время как-то уважительно, что ли, не с оппонентом как таковым, а лишь с его тезисами. По крайней мере, скандалов, оскорблений и драк на тогдашних «гайд-парках» не отмечалось, и даже милиция на эти дискуссионные клубы не обращала совершенно никакого внимания. Люди вот именно что свободно обсуждали недалёкое будущее, которое тогда всем представлялось по-разному, но непременно светлым и радостным.
И сейчас, на очередном витке спирали, повторялось почти то же самое. Власть в эти внутринародные диспуты не вмешивалась, явно сознательно допуская этакое стихийное вече. Похоже, говорить сегодня можно было о чём угодно (или – о чём попало), хотя бы о том, что Президент захотел арестовать всех нынешних воров в законе и забрать себе «всероссийский общак», а те ему в ответ и «намекнули».
Лютенс был полностью уверен, что кто-то наверняка фиксирует всё происходящее и получает сейчас бесценный материал для последующего анализа, осмысления и использования в работе.
Рысь сама остановила мотоцикл, когда они добрались уже до Красных Ворот, раньше, чем Лютенс приказал ей это сделать. Она ведь смотрела вперёд, а разведчик больше по сторонам. То, что они увидели, её особо заинтересовало, хотя до этого девушка чётко исполняла роль водителя и не больше, даже во время остановок не вступая в разговоры со своим нанимателем.
Действительно, открывшаяся им сценка была интереснее, чем всё, что они успели увидеть на улицах и площадях за предыдущий час.
На этот раз стандартный пост из двух БТР-80 с отделением бойцов на каждом был укомплектован совсем уже необычными персонажами.
На крыше и башне одного транспортёра в вольных позах расположились модельного вида девушки, ничуть не уступавшие шармом Рыси. На левых рукавах – трёхцветные угловые шевроны, выше них – чёрные овалы с белыми черепами. Погоны-хлястики на плечах у всех с офицерскими звёздочками, у кого по две, у кого по три. На алых беретах – бело-чёрно-жёлтые кокарды. Что-то весьма непонятное – в российской армии Лютенс не знал войск с такой атрибутикой.
Хороший кадр для какого-нибудь полуфантастического фильма. В реальности так не бывает. Разведчик, специализирующийся на организации всяческих революций, «цветных» или «календарных», волей-неволей должен знать не только, как писал Ленин, «её движущие силы и социальную опору», но и возможности действующей власти по их предотвращению. В том числе и вооружённой силой. То есть знать о существовании и реальных возможностях всех без исключения вооружённых и военизированных формирований с той и другой стороны.
Лютенс считал, что владеет вопросом в совершенстве. По крайней мере – лучше, чем военный атташе американского посольства в Москве контр-адмирал Стивен Эмброуз.
Вот, к примеру, известный разведчику, но крайне мало освещаемый исторической литературой и публицистикой, русской и зарубежной, момент – так называемая Февральская революция 1917 года оказалась «успешной» (если можно так выразиться, имея в виду все последующие события) не по каким-то там «объективным социально-политическим условиям», не потому, что «Российская империя сгнила изнутри», а «народ больше не в силах был выносить тяготы войны» (во много раз меньшие, кстати сказать, чем в любой из стран Антанты или «Центральных держав»).
Нет, всё упиралось в наложение друг на друга двух ошибок – психологической и управленческой, если угодно. Вначале царь Николай вообразил, что для скорейшего завершения войны (которая тогда ещё мыслилась как манёвренная и скоротечная, этакий двухсторонний встречный блицкриг) лучше всего будет бросить на чашу весов свою Гвардию. Уж она-то сразу переломит начавшую пробуксовывать «войну до осеннего листопада». Гвардию – корпус кавалерии и два корпуса пехоты – на фронт послали, где она и растворилась нечувствительно в отчаянных, но в тот момент бессмысленных сражениях.
Николай, к сожалению, не учился в Академии Генерального штаба, и никто не решился ему подсказать, что, исходя из опыта хотя бы наполеоновских войн, «общий резерв следует использовать только для нанесения решающего удара». И талант полководца в том и заключается, чтобы точно угадать нужный момент. Николай этим талантом не обладал.
В итоге оказался без Гвардии, которую в роскошных казармах Северной столицы заменили несметные толпы запасных солдат второй и третьей очереди (не пустовать же приспособленным помещениям). А любому обладающему хотя бы зачатками здравого смысла человеку понятно, что на третьем году войны вражеским агитаторам ничего не стоит растолковать тридцатипяти-сорокалетним мужикам, оторванным от семей и хозяйства, что гораздо удобнее и спокойнее перекантоваться до «замирения» в центре столицы, на несравнимом и с фронтовым[101] и с деревенским пайке, чем помирать неизвестно за что в Галиции или на Турецком фронте.
Буквально день-другой, и Петроград оказался фактически захвачен буйными толпами почуявших волю солдат, противопоставить которым у коменданта города было совершенно нечего, а царь совершил последнюю в жизни ошибку – не поднял по тревоге и не бросил на Петроград несколько ближайших фронтовых кавалерийских дивизий во главе с пресловутой «Дикой», и не возглавил сам это войско, как генерал Корнилов Добровольческую армию годом позже.
Так вот, по сведениям Лютенса, в нынешней действительности никаких вооружённых сил, способных противодействовать мятежу, у Президента не было, и уж тем более некому было отважно и решительно командовать усмирением, если бы что-то и нашлось!
Однако факт налицо! Неизвестно откуда взявшиеся войска – вот они, а вполне реальные ещё вчера «Зубры» и прочее – кто в могиле, кто в бега подался, кто затаился до прояснения обстановки.
Лютенс был абсолютно уверен, что женских офицерских подразделений спецназа в нынешней России просто нет. Бывало, что в боевые части принимали какое-то количество контрактниц – специалисток тех или иных профессий, но чтобы существовали целые строевые взводы и роты – нет. Такое было только в маоцзедуновском Китае, когда во время войны с Вьетнамом особые женские батальоны прославились зверствами, до которых было далеко всяким гитлеровским «Нахтигалям» и «Бранденбургам»[102].
Кроме того, такого сочетания знаков различий и эмблем в российских вооружённых силах Лютенс не видел ни в одном справочнике. Разве что за несколько суток до попытки переворота уже были сформированы спецвойска с прицелом на будущее. И – никакой информации никуда не просочилось, при том что заговорщики присутствовали в буквальном смысле везде, вплоть до райотделов милиции, и уж тем более – любых отделах и управлениях МГБ, территориальных и федеральных.
Опять же – девушки с погонами лейтенантов и старших лейтенантов были вооружены, кроме пистолетов в кобурах, очень похожих на те, что носили советские офицеры в Отечественную войну, уже виденными автоматами типа «ППС».
Очень, очень интересно.
Но ещё интереснее выглядели патрульные со второго бронетранспортёра. У этих незнакомым было всё вообще – расцветка униформы, не камуфляжная, а однотонная, необычного зеленовато-песочного оттенка, эмблемы и нашивки, а главное – сапоги. Именно сапоги, а не шнурованные ботинки, принятые нынче в большинстве армий. И не кирзовые солдатские, что носили в советской армии и долго донашивали в российской, а из натуральной хорошей тёмно-коричневой кожи, сшитые, скорее всего, по модельной колодке, такие не набьют ногу при сколь угодно длинном марш-броске; и по горам в них можно лазить, судя по стальным шипам и развитым грунтозацепам на подошвах.
Погоны такие же, как у девушек, но эмблемы и кокарды другие. Вместо черепов с костями на обоих рукавах белые металлические щитки заострённым краем вниз, окантованные чёрно-оранжевой лентой. В центре скрещенные старинные ружья, Георгиевский крест и стилизованные под полуустав[103] красные литеры «Ш» и «Г». А оружие – автоматы, напоминающие знаменитые «ППШ» прежде всего своими круглыми патронными дисками. Только покороче, изящнее, с воронёными рамочными прикладами, стволы – в цилиндрических дырчатых кожухах, как на английских «Стирлингах» или немецких «Рейнметаллах». Вообще ощущается стилистика двадцатых-тридцатых годов прошлого века.
Опять та же история – элитные, по всем показателям, неизвестного происхождения и назначения части, а оружие из музеев? Или – из каких-то спецлабораторий? Возможно, и не огнестрельное даже…
Вдобавок для полноты картины революционного города, во все времена поразительно схожей, хоть Петрограда семнадцатого года, хоть Парижа тысяча семьсот восемьдесят девятого или восемьсот семьдесят первого[104], перед небольшой толпой, человек с полсотни, забравшись на высокий цоколь дома, витийствовал явный революционер. Тоже весь такой типичный, «юноша бледный со взором горящим». Очки, само собой, длинные каштановые волосы собраны в «конский хвост», под расстёгнутой джинсовой курткой грязноватая белая майка с плохо читаемым издали длинным, похоже, не на русском, лозунгом.
Простирая руку в сторону заставы, кричит срывающимся голосом. До Лютенса с Рысью доносятся только обрывки пламенной речи: «Кровавые сатрапы! Не допустим, не потерпим чужаков! Оккупация! Пусть лучше приходят войска ООН, даже НАТО! Свобода! Демократия! Люди вы или бараны?!»
Последние слова кого-то, наконец, задели, парня дёрнули за ногу, и он неуклюже свалился со своего постамента. Расшибиться, упав плашмя или вниз головой, ему всё же не дали, поддержали в несколько рук, и он продолжил свою филиппику на тротуаре, прижавшись спиной к стене и размахивая уже двумя руками.
Непонятные бойцы на броне смотрели в сторону происходящего с интересом, но никакого намерения вмешаться не демонстрировали. Словно бы даже не понимали языка, на котором парень кричит.
А Лютенсу сразу вспомнились слова «интеллигента» с Арбата. Насчёт «параллельной России». Если это так, то все вопросы снимаются, всё становится на свои места. И с формой понятно, и с оружием, даже с тем, как всё у Президента ловко получилось. На самом деле – имея в своём распоряжении подобный «Иностранный легион», ничего не стоит за сутки провести свою контроперацию. Только как в это поверить? В единый миг принять как данность, что мир изменился кардинально и навсегда, что теперь начнут действовать совсем другие законы и расклады. И не в Москве только, с Москвы лишь начинается. Всё, всё ложится в пазл – и разгром мятежа, и «Обращение» русского Президента, и эти красавицы на броне, каждая из которых без труда получит миллионный контракт в Голливуде. Только у них, наверное, есть свой «Голливуд», и какие же дивы снимаются там, если такие – в пехоте служат?
– Ты что-нибудь понимаешь, Рысь? – неожиданно для себя спросил Лютенс, как бы забыв, что этим вопросом почти что расшифровал себя. Какой это русский мужик его возраста, да ещё репортёр, спросит у молодой девушки такое в предложенных обстоятельствах?
– Понимаю, – так же неожиданно ответила та, смерив разведчика взглядом явного превосходства. Или – сочувствия. – Они все не отсюда. Сам ведь уже понял, ещё там, на Арбате. Нет?
— Что за ерунда? В каком смысле не отсюда? А откуда? С Марса?
– Долго в Абхазии был? – неожиданно спросила байкерша.
– Две недели, – машинально ответил Лютенс.
– Отстал, ясное дело. Ну, раз репортёр, можешь их самих спросить. Девочки такому симпатичному кавалеру не откажут… – Довольно двусмысленно прищурилась, чуть скривила уголок рта. Где-то разведчик именно такую мимическую формулу уже видел. Но где? Вспомнить это показалось вдруг очень важным.
– Напрямую ты их спросишь, или из-за угла – другой вопрос, – продолжала Рысь. – Ты ведь, Володя, имей в виду – я почти кандидат нейропсихологии. Зимой защищаться должна. А катаюсь – мозги проветрить, или женишка вроде тебя подхватить…
Последние слова Лерою вдруг резко не понравились.
– Для меня человеческая этология[105] – открытая книга. Да вот хоть на взгляды их пристально посмотреть. Ты наших туристов, впервые в Таиланд или Камбоджу попавших, видел? Вот и эти так же по сторонам смотрят. Не знаю, в «таёжном тупике» они до вчерашнего дня жили, или в Парагвае – но Москву и людей рассматривают, как храмы Ангкора… Неужели ты сам не видишь? В их годы, с их внешностью – так на вполне заурядный уголок Москвы не смотрят.
– Да чёрт его знает! Просто под таким углом, как ты – не задумывался. И словам того мужика значения не придал, пропустил мимо ушей и внимания. Я привык с другой точки всё рассматривать. Любое происходящее событие – кому-то выгодно, кем-то организовано, стало результатом чьей-то глупости или халатности. «Что, где, когда?» – одним словом. А мистика у нас по разряду других изданий проходит. То, что сейчас в Москве – оно происходит безусловно и самоочевидно…
А сам подумал: «Вот тебе и институт паранормальных явлений!» Хотя при чём тут этот институт – по-прежнему не представлял.
Заодно он успел удивиться, что его новая знакомая, действительно по виду типичная байкерша, – почти кандидат, по-западному – «доктор философии». Там психология, как и многие другие «общественные» науки, скопом числится по разряду «философии». И пометка «доктор философии» на визитке или в личном деле котируется значительно выше, чем, скажем, «физики» или «биологии». Наверное потому, что у американцев с «общим интеллектом» на уровне нации как таковой – не очень, вот и кажется им самая заумная из наук (да и наука ли вообще?)[106] вершиной человеческого разумения. И «оклады жалованья» эти самые «философы», в отличие от России, научились себе выколачивать повыше, чем у медиков даже. В любой корпорации «Dr. ph.» с руками оторвут, на любую, считай, должность, кроме юридической, конечно. Сам Лютенс, кстати, такую приставку к фамилии в визитке тоже имел.
Но вот Рысь – «доктор философии»?! Это уж никак не вязалось. Он снова подумал о разнице менталитетов. В Штатах женщина-пилот боевого истребителя или командир крейсера никого не удивляет, удивляло бы другое (и послужило поводом к долгому судебному разбирательству), если бы девицу не приняли в военно-морское училище и потом из-за «половой принадлежности» тормозили в продвижении по службе. Но при этом никому в голову не придёт повторить про американку (современную американку), что она «коня на скаку остановит, и т.д. Вот засудить за «харасмент» – любого засудит.
Потому и девицу-байкершу совместить с почтенной дамой-философиней никак не получалось, разноплановые это явления. Но не для России.
– И как же «наука о наиболее общих законах бытия и мышления» нам данную гипотезу растолкует? – несколько ёрническим тоном, чтобы замаскировать свой прокол, спросил Лютенс.
– Никак, – спокойно ответила девушка, – слезай. На месте выяснять будем. Мне тоже интересно. Что за новые русские люди появились в моём привычном русском мире.
Эффектным движением гимнастки, пронеся правую ногу над баком и рулём (Лютенс такого никогда не видел, наверное, фирменный стиль в её банде или личное «ноу-хау»), соскочила на асфальт, пару раз полуприсела, разминая затёкшие мышцы.
– Подойдём да спросим, чего проще. Всегда надо идти навстречу проблеме, а не рабски следовать за ней, – назидательно сообщила Рысь, возможно, что и тезис из своей диссертации.
То есть фактически предложила то же, что сам Лерой мужикам на Арбате. Бумерангом эта идея к нему и вернулась. А чего бояться? Разведчик отлично представлял себе, что русские – не американцы, не англичане и не немцы. К ним можно подойти вот так, попросту, хотя они и при исполнении, взять да спросить, протягивая заодно раскрытую пачку сигарет, из каких мест прибыли, что за задачу выполняют, вообще какие настроения. Попробовал бы русский журналист таким образом пообщаться с военными патрулями в Ираке, Афганистане, даже каком-нибудь Париже в разгар уличных беспорядков. Послали бы, ох как послали, а то и пристрелили (случалось, и не раз), сославшись, что приняли репортёров за террористов. И никогда там за убийство «по недоразумению» или за «дружественный огонь» никого не судили.
И самые большие начальники, и судьи с прокурорами на Западе отлично понимают, что на войне человеку очень, очень страшно, и он, чтобы «прикрыть свою задницу», не задумываясь, пристрелит любого. Просто на всякий случай.
Зато если нечто подобное совершали русские солдаты даже в разгар самых ожесточённых боёв второй чеченской войны, всей западной прессе, вплоть до самых провинциальных «клозетных листков», чьи читатели не знают не только, где находится эта самая Россия с Чечнёй, но в столице своего штата ни разу в жизни не были, материалов для самого остервенелого воя хватало на месяцы. А в каком-нибудь Брюсселе немедленно создавали очередной международный трибунал для расследования преступлений «кровавых русских варваров».
Лютенс всё это знал очень хорошо, сам в таких акциях участвовал, потому и шевелился у него в глубине души вполне естественный вопрос: «А что будет, если русские на самом деле станут такими, как о них пишут в «цивилизованном мире»? Вспомнят свой древний анекдот: «А хай клевещут», и – плюнут на свою всесветную отзывчивость». Становилось страшновато, вспоминалась весна сорок пятого года в русской оккупационной зоне Германии (как её освещает не тогдашняя – нынешняя американо-европейская пресса и наиболее оголтелые из российских либералов).
В данной же ситуации всё, чего можно ждать от этих вполне мирно настроенных, хотя и держащихся настороженно людей – пошлют по популярным в России адресам, в худшем случае – проверят документы, чего Лютенс совершенно не боялся. Он ещё не встречался с ситуацией, чтобы русские офицеры, солдаты и иные должностные лица с журналистами, даже в разгар реальных боевых действий, как, скажем, на русско-румынской войне девятого года в Приднестровье, обходились без должного уважения. В крови у них это: «Нас не трогай, мы не тронем, а затронешь – спуску не дадим».
– Ну, давай подойдём, – согласился он. – Я спрошу у девушек, откуда они прибыли и предложу сфотографироваться для первых полос самых популярных газет. А ты с мужиками пококетничай, спроси, что это за автоматы у них такие необычные. Ты, мол, сама КМС по стрельбе, а таких никогда не видела… И вообще, как им Москва показалась, ну, будто ты заведомо знаешь, что они здесь в командировке. В Чечню ведь и ОМОНы, и армейские группы со всех концов России гоняли, и никто из этого тайн не делал. Сам, помню…
– Ну, кокетничать у меня вряд ли получится, а спросить – спрошу. Только тогда я уже в качестве соавтора буду. Так и напишешь – репортаж такого-то и такой-то. Ву компрене?
– Же компран бьен. Пошли. Но только теперь я тебя на законном основании везде первыми планами снимать буду. Гонорар и за сессию пополам, – кивнул Лютенс, а сам подумал, до чего же меркантильная девка. По-русски подумал и тут же внутренне рассмеялся. Если бы он думал по-английски и на месте этой Рыси была американка – всё было бы правильно, за каждую сделанную или обещанную работу нужно запросить всё, что можно, и добиваться этого, «не жалея ни матери, ни отца». Вся разница, что в цитированной поговорке речь шла о «красном словце», а не о чёрно-зелёных долларах. И когда думаешь по-русски о русской девушке, красивой к тому же вельми, мысль о том, что она тоже хочет урвать свою долю, причём в валюте, а не в виде чего-то возвышенно-эфемерного, кажется странной. Неправильной.
Лютенс с досады даже сплюнул незаметно. Чем больше с этими русскими общаешься, тем большим идиотом себя чувствуешь. И когда их не понимаешь, и ещё большим – когда понимаешь правильно.
А Рысь ещё подбавила, в своём неизъяснимом байкерском стиле: «Только фотошопом меня не раздевай и, на фотку глядя, не онанируй…»
Лютенс натурально окончательно обалдел, но остатками своих «цэрэушных» сил сохранил видимость выдержки. У нас, у русских, мол, уверенная в себе баба и не то может сказать чуть ли не любому мужику.
Он показал «цветнику на броне» (а что, хороший мог бы быть заголовок для статьи, вздумай он её на самом деле писать) журналистскую карточку и тут же обратился к старшей по званию из присутствующих, изумительно красивой (даже рядом со своими однополчанками) девушке в сильно сдвинутом на правую бровь берете, с тремя звёздочками на погонах:
– Товарищ старший лейтенант, моим читательницам будет очень интересно узнать, каким образом такие восхитительные барышни оказываются в рядах наших защитниц. Даже я о «женских батальонах смерти»[107] со времён Керенского не слышал. Вы могли бы украсить любой подиум, демонстрируя летящие наряды из прозрачного шёлка, а вместо этого стоите на броне в центре Москвы и, наверное, цитируете про себя Маяковского: «Сдайся, враг, замри и ляг…» Вы дадите мне хотя бы совсем кратенькое интервью? Совсем-совсем. В сопровождении броских фотографий оно завтра сделает вас и ваших подруг знаменитыми на всю страну и далее…
– Трепач, – сказала другая девица, с пышными, несмотря на короткую стрижку, золотистыми волосами и беретом, засунутым под погон с двумя звёздочками. Она сидела, опираясь о ствол КПВТ и свесив ноги вдоль наклонного броневого листа в зелёно-рыжих камуфляжных пятнах.
– Нехорошо так выражаться, – зацепился за первое же сказанное в ответ слово Лютенс. Не важно какое, главное, что диалог начался. Остальное – дело техники. Он тут же сделал два снимка – один первой девушки, второй – этой. Заодно и бортовой номер транспортёра прихватив. – Я значительно старше вас, нахожусь на работе и сказал только истинную правду. А вы, товарищ лейтенант – это уже непосредственно златовласке, – не согласны с тем, что ваш портрет способен украсить стену над любой солдатской койкой в казарме? Сам служил, знаю.
Ответом ему был дружный смех всего девичьего отделения. Очевидно, он невзначай затронул какую-то деликатную тему, имеющую непосредственное отношение к этой «товарищ лейтенанту».
– И о чём же вы нас собираетесь интервьюировать? – без запинки выговорила сложное слово «старшая лейтенант», явно здесь главная, тоже присаживаясь на край броневого свеса, чтобы было удобнее слушать и отвечать.
– Да о чём угодно, в пределах дозволенного военной тайной. Кто вы, как зовут, откуда… Ваши впечатления от происходящего… Не участвовали вы в интересных боевых эпизодах в горячих точках? То же самое касается любой из ваших подчинённых. Всем же интересно, что чувствуют такие прелестницы, как вы, если их посылают на неожиданное и весьма опасное задание. Читательницам будет очень интересна такая вот оппозиция[108] – пока они посещают фитнес-клубы и модные рестораны, вы – ничем им не уступающие, а во многом и превосходящие – с автоматами в руках патрулируете Москву, не боясь испортить свой маникюр. Кстати, а что у вас за автоматы? Я на своей службе таких не видел. И эмблемы у вас интересные… – и снова щёлкнул камерой, беря самым крупным планом девушку с лежащим поперёк коленей «ППС»…
– А это мы сейчас объясним, в деталях и с подробностями, – услышал за спиной неожиданно мужской голос Лютенс. Он как-то не ожидал, что с прикрытого Рысью направления к нему подойдут так бесшумно. И ведь на лицах девиц-офицерш, которые сверху всё видели, не дрогнула ни одна чёрточка. Специалистки, мать их…
– Объясните? Я с удовольствием, – не теряя куража, обернулся разведчик. Перед ним стоял офицер в той же форме, что и у парней с соседнего БТР, с четырьмя зелеными звёздочками на погонах. Этот самый загадочный «ШГ». Пистолетная кобура, подвешенная у пояса по-немецки, слева, была расстёгнута, из неё виднелась довольно массивная рукоятка с желтоватыми костяными, а не пластиковыми щёчками.
– Большого удовольствия не гарантирую, – без улыбки или иной эмоции ответил капитан, в глазах которого, теперь Лютенс сам отчётливо это видел, плескалось что-то настолько нездешнее… Это трудно объяснить, но так оно и было – офицер носил русские погоны, говорил по-русски без акцента, но был страшно далёк отсюда. В его взгляде словно бы отражалась совсем другая жизнь и другая история. Лютенс не мог объяснить, как он почувствовал это, но ему не раз и не десять приходилось видеть нечто подобное. Например, разговаривая с очень прилично владевшим английским вождём банды очередных сепаратистов на юге Африки. У того тоже был взгляд посетителя террариума, если смотреть на него с той стороны стекла. Так тот хоть был чёрным…
– Документы ваши предъявите…
Лютенс нашёл глазами Рысь. Байкерша стояла у второго БТРа и о чём-то оживлённо говорила с офицерами на броне. Обострённым чувством он отметил и ещё одну странность – этих двадцати пяти-тридцатилетних парней словно бы совсем не интересовали красотки с соседней машины, а вот мотоциклистка вызвала у них неприкрытую тягу «распускать хвост». Объяснить это можно было только одним – лейтенантки на БТР номер 87 были «свои», а эта – нет. Чем всегда и везде интересна женщина чужого племени? Да тем, что соответствующие структуры подсознания сразу распознают в ней наличие «чужого генотипа», и все органы, для того предназначенные, пытаются выяснить – полезным или вредным он будет для продолжения рода? Есть какой-то механизм, почти безошибочно вызывающий к «чужачке» симпатию или антипатию вплоть до острой ксенофобии.
Рысь, похоже, оказалась этим непонятным солдатам вполне «комплементарна»[109].
– А в чём, собственно, проблема? – как можно спокойнее, чтобы не провоцировать скрытые комплексы и синдромы непонятного офицера, если они есть, спросил Лютенс, снова вытаскивая корреспондентскую карточку. Приходилось такое видеть – на вид вполне нормальный человек, но, услышав некие слова, имеющие для него значение «спускового крючка», превращается… Да бог его знает, во что он может превратиться…
– Я, кажется, ничего не нарушаю. Занимаюсь своей работой. Закон о свободе информации разрешает сотрудникам СМИ получать её любым законным способом. А у вас тут нигде не написано, что запрещается приближаться и задавать вопросы. Напишите: «Стой! Запретная зона. Из-за нехватки патронов предупредительный выстрел не производится». А иначе – простите. И представьтесь, пожалуйста…
В подобных случаях чем увереннее держишься и сразу начинаешь «качать права», тем лучше. Неплохо ссылаться на всяческие нормативные документы и акты, с датами и номерами, независимо, существуют ли они на самом деле. Вроде того солдатика из армейской побасенки: «В Уставе, товарищ генерал, сказано – на мосту честь отдавать не положено».
Похоже – шутка с нехваткой патронов офицеру понравилась. Будто впервые услышанная. Он широко улыбнулся и тут же снова посерьёзнел.
– Представлюсь – с удовольствием. Штабс-капитан Колосов, командир роты отдельного батальона штурмгвардии. А вы кем будете? – спросил офицер, не делая даже попытки заглянуть в удостоверение, которое держал в руке. Оно, похоже, его совсем не интересовало.
На стандартно-некультурный вопрос имеется в запасе безукоризненно-грамотный ответ: «Да тем, наверное, кем и до этого, таким-то и таким-то…»
Только ещё в уме, перед тем как соскочить на язык, фраза увяла.
Стоп-стоп, что этот офицер только что сказал? Штабс-капитан, штурмгвардия? С какого это края такое?..
– Ещё раз прошу прощения, товарищ… или – господин… штабс-капитан? Не поясните ли? Я, может, за последнее время от жизни отстал? В отпуске был, прозевал что-то? Министра обороны за подрыв боеготовности вроде бы даже расстреляли, это я вчера слышал, а чтобы тут же и воинские звания поменяли… И – штурмгвардия. Первый раз слышу. Не поясните?
– Только к этому и стремлюсь. Прошу вас…
Колосов показал рукой, и Лютенс увидел, что позади БТРа уже стоит синий мини-вэн с гостеприимно сдвинутой широкой боковой дверью. И Рысь делает приглашающий жест, и одна из девчонок на броне, сверкая голливудской улыбкой, машет раскрытой ладонью. «До скорого, мол…»
Недоумённо хмыкнув и демонстративно пожав плечами – роль играть нужно до конца, пока занавес не закрылся, Лютенс на прощанье щёлкнул красотку самым крупным планом (нет, снимки по-любому должны выйти отличные, только кто на них любоваться будет?).
Он сел на заднее широкое сиденье салона, отделённого от водительского отсека непрозрачной переборкой, Рысь, которой Колосов передал документ «журналиста», – в кресло рядом. Дверь автоматически задвинулась, штабс-капитан, оставшись снаружи, отдал честь, совершенно так же, как это делают здешние офицеры, может быть – несколько резче и чётче. У американских и европейских офицеров, кроме немцев, конечно, этот жест выглядит довольно карикатурно или просто неуклюже. Как и строевой шаг, впрочем.
«Интересно, – подумал Лютенс, – на арест не слишком похоже, ни конвоя, ни обязательного обыска. А если у меня пистолет или хотя бы нож в рукаве? Девчонка, хоть и крепенькая, мне ничего сделать не успеет…»
– А толку-то тебя обыскивать? – немедленно ответила на непроизнесённый вопрос Рысь. Всё-таки паранормальные явления имеют место быть? – Не с дураком же имеем дело. Пока, обрати внимание, ситуация остаётся в статике. В реальности ничего не меняется, пока причина не получает зафиксированного следствия…
– Интересная формулировка. Вроде того, что быстро поднятое считается неупавшим? – постарался попасть в тон Лютенс, а про себя подумал, что так оно и есть. Если, не выходя из машины, байкерша сумеет добиться от него желаемого, хотя бы подписки о сотрудничестве, в его повседневной жизни ничего не изменится. Вернее – уже изменилось так, что пора думать, как в новой жизни устраиваться. И очень может быть, что, напротив, ничего плохого ему не сделают, а положение Лютенса в своей служебной иерархии только упрочится. Уж наверное, раз местное МГБ или какая там организация обратили внимание на сотрудника ЦРУ и американского посольства, то не преминут посодействовать свежезавербованному агенту в продолжении карьеры. Есть у них наверняка «агенты влияния» в Вашингтоне на самом верху…
Но пока действительно не произошло ровным счётом ничего «необратимого». Нужно только слушать и соображать, как бы не просчитаться. Он ещё не решил, как себя выгоднее повести. Будет зависеть от того, что произойдёт между ним и этой суперзвездой в ближайшие полчаса. Но как же она так сумела его вычислить? И что на улицу в этот самый момент выйдет, и что к блокпосту подойдёт, и к ней обратится?
– Именно так, – немедленно отозвалась девушка, будто действительно читала его мысли. – И в гораздой большей мере не является шуткой, чем ты способен это вообразить. Так что, согласен разговаривать по делу?
Разведчик неоднократно сталкивался с людьми, умевшими думать «за собеседника» и в нужный момент отвечать на непроизнесённые слова, да и сам таковыми способностями обладал на примитивном уровне. Но эта Рысь! Психолог высшего разряда, прямо тебе Капабланка или Моцарт, от рождения умевшие то, чему другие не могли обучиться за долгие годы…
Машина в это время вывернула не на Черногрязскую, как ожидал Лютенс, а свернула в проезд, ведущий в сторону Мясницкой, и начала крутить по бесконечной и непостижимой для постороннего человека паутине переулков самой что ни на есть исконной Москвы, где почти и не ощущались последствия пятнадцатилетней архитектурной шизофрении вереницы московских градоначальников и их подручных. Машин только многовато, сплошными рядами припаркованных почти впритык к стенам домов с обеих сторон. Ехать почти невозможно.
Рысь опять угадала его мысль, перехватив направление взгляда.
– Ничего, с этим мы скоро разберёмся. Город должен быть для людей, а не для машин…
– А куда денете людей, для которых смысл жизни в обладании машинами? – неожиданно для себя спросил Лютенс, будто оставаясь в образе журналиста, пишущего на социальные темы, хотя ему следовало бы думать о совсем других вещах. – Многие ведь не для того всё это железо на последние гроши покупали, чтобы по-прежнему на метро ездить. Для них это единственный символ «успеха».
– Ты мне ещё расскажи о праве личности «на свободу и стремление к счастью». И о том, что никогда не бывал за границей. Там ведь принимается решение о запрещении парковок и даже вообще движения по тем или иным улицам, и никто не страдает по поводу ущемления прав тех, кто непременно желает ехать и стоять именно здесь, а не где-то в другом месте. Моя б воля, я внутри Садового кольца позволила бы ездить только общественному и технологическому транспорту. Но тебя правда это сейчас волнует? – На своём безупречно правильном и безоговорочно красивом без всякого макияжа лице Рысь изобразила искреннее удивление.
– Меня ещё вот что волнует – деньги-то ты с меня взяла, а условие, кажется, не в полном объёме выполнила. Это правильно?
– С чего ты взял, что не выполнила? – приподняла бровь Рысь.
– Ну как же? Я так понимаю, арест, или задержание, по какой там статье проводить будете, не знаю, автоматически ведёт к прекращению предыдущих правоотношений, поскольку статусы сторон коренным образом меняются…
– Беда с этими американцами, с рождения все контужены своей юриспруденцией. Проще нужно на жизнь смотреть, как в этой стране принято. И кто тебе сказал вообще, что наши правоотношения изменились?
– Ну как же… – начал Лютенс и прикусил язык. Чуть не проболтался окончательно, впрочем, чего уж там, проболтался не проболтался, разве в этом дело. Просто он сразу начал себя вести с девушкой именно как задержанный американский разведчик, а не оскорблённый произволом отечественный журналист, да ещё и оппозиционных изданий, разговаривающий с обычной, никакого статуса не имеющей байкершей.
«Штабс-капитана» вполне можно оставить за скобками или начать разговор именно о нём… Толку в продолжении игры никакого, но политес должен соблюдаться… Пусть обыскивают, доказывают что-то, а он уже потом, если потребуется, начнёт качать свои дипломатические права.
– Да-да, я как раз об этом. Легко ты поплыл, Владимир, или как там тебя… Лерой, что ли? Оно, с одной стороны, всё верно, деваться тебе и так и так некуда, но всё ж таки… Если б меня насиловать собрались, я б сопротивлялась до последнего, и неизвестно, получил бы кто-то в конце концов «удовольствие» или лишился бы чего-нибудь важного навсегда… Но не будем о грустном. Пока что мы сели в мою машину… ну, перекурить, что ли. – Девушка достала из кармана удивительно шикарный и, наверное, жутко дорогой золотой портсигар, инкрустированный натурально драгоценными камнями под цвет глаз. Щёлкнула кнопкой, взяла даже на расстоянии ароматную сигарету светло-шоколадного цвета с длинным фильтром, протянула портсигар Лютенсу.
– Хочешь выпить – бар в спинке переднего сиденья. Не стесняйся. Так вот, мы покатались, мне захотелось перекурить. Выпить тоже могу за компанию, у нас здесь сейчас чрезвычайное положение, промилле никто проверять не будет… Итак, я тебя больше часа катала, ты фотографировал, собирал информацию. Захочешь – ещё покатаемся, в Москве много осталось интересных для тебя мест. Все объехать – доплачивать придётся. Ну а не договоримся – полученную от тебя сумму приобщим к вещественным доказательствам. Себе не оставлю, у меня муж хорошо зарабатывает…
– Ты замужем? – непонятно чему удивился Лютенс. Как-то так странно Рысь всё обставила, что его мысли постоянно соскакивали на вещи, которые его должны были бы волновать в самую последнюю очередь.
– А чего удивительного? Возраст подходящий, собой недурна, что ж, в старых девах пропадать?
– Да, действительно, – согласился Лютенс. Просто ему подсознательно показалось, что несправедливо, если такая красавица принадлежит одному мужчине, как если бы снять известную картину со стены в музее и запереть в сейф неизвестного коллекционера. И интересным показалось, что за муж у неё должен быть и как выглядит её семейная жизнь. Неужели так же скучно и банально, как у всех?
– Ладно, с этим, допустим, выяснили. – Лютенс не стал чиниться, выпил стопочку настоящего армянского «Двина», явно не подделки. Хорошо живут господа российские контрразведчики. Едва ли специально для него бар загружали. Затянулся пару раз сигаретой, тоже весьма нерядового качества.
– Вводная первая – я официально заявляю, что являюсь секретарём посольства США и по непонятной для меня причине незаконно задержан во время прогулки по городу. По-любому вы меня должны отпустить, просто так или пригласив для моего опознания и подписания необходимых документов официальное лицо, вплоть до посла, мистера Крейга…
– Допустим. Мы обычаи знаем. Уж на что к гитлеровцам после двадцать второго июня негативно относились, а с полным комфортом их дипломатов из Москвы отправили. Как и они наших – Восточным экспрессом Берлин–Стамбул. Как у Агаты Кристи… Кстати, мы приехали…
Мини-вэн успел свернуть в глухой, но весьма обихоженный дворик, со всех сторон окружённый стенами трёхэтажного строения, возведённого не позже середины девятнадцатого века.
– Выходите, господин секретарь. Я своё дело сделала, теперь с более компетентными товарищами говорить будете.
Лютенс, успевший окончательно восстановить душевное равновесие, сейчас пытался понять – в чём с профессиональной точки зрения был смысл участия Рыси во всей операции? Задержать его можно было прямо там, где он её увидел, без всяких ухищрений, ничего из сказанного и сделанного им никаким образом не влияет на его дальнейшую судьбу. Ни поводов для шантажа, вообще ничего. И всё, о чём они с ней говорили, ни к какому делу не подошьешь. Информативно – ноль, психологический и деловой его портрет у них и так должен быть давно составлен. Непонятно. И зачем ему явно специально демонстрировали тех странных девиц, штурмгвардейского штабс-капитана… Ерунда какая-то. Правда, удовольствие от прогулки на мотоцикле с красивой девушкой-водителем он получил. Просто так, по-человечески.
– Скажи, как ты могла знать, что я предложу тебе покататься? Ты ведь меня там ждала?
– А ведь не ко мне вопрос, мистер Лютенс. Восстановите последовательность событий. Вы вышли из посольства, когда захотели. Пошли, куда ноги понесли. Стояли, с мужчинами разговаривали. Я в вашу сторону даже не смотрела. У вас это обычная манера – приставать на улицах к незнакомым девушкам? А если нет – подумайте, что вас подтолкнуло к нестандартному шагу? Кстати, там совсем неподалёку от меня тоже очень миленькая девушка стояла, в юбочке на ладонь ниже пояса. Чего к ней не обратились?
«Водка, – чуть не ответил Лютенс. – В ней всё дело. После четвертинки без закуски и не такие эскапады могут в голову прийти…»
А девчонку в короткой юбочке он, убей бог, не видел. А если б и да – зачем она ему?
Глава седьмая
Лютенс себя чувствовал, как бы это лучше выразиться – странно. По всем параметрам. И это никак не объяснялось тем, что случилось с ним и вокруг, начиная с момента, когда до него дошла первая информация о полном провале дела, стоившего нескольких лет жизни и многих душевных терзаний. Да, звучит необычно, но и для человека, посвятившего себя игрищам «плаща и кинжала», есть такие константы, выход за пределы которых нарушает «постоянство внутренней среды личности».
Да, дело провалено, и даже при самом оптимальном для разведчика исходе ни на что приличное в смысле дальнейшей карьеры он может не рассчитывать. Слишком значительно дело и масштабна теперь цена поражения. Если начать перечислять по пунктам, прямо страшно становится.
Очень даже может быть, что уволят его «с позором», а это катастрофа для человека, жизнь посвятившего государственной службе. После такого увольнения и в солидную частную структуру не возьмут на хлебную и спокойную должность. Придётся пускаться «на вольные хлеба». В детективы податься, вроде Ниро Вульфа или Перри Мейсона. Судя по книжкам, и в этом качестве люди живут, а то и благоденствуют, не подчиняясь никому и не завися от гримас мировой политики. Ну, ещё можно попробовать себя на поприще «белого наёмника» при правителе какой-нибудь дикой страны. Ставки там приличные, но уж больно работа противная и опасная.
Варианты третий и четвёртый категорически неприемлемы. То, что посол намекнул на возможную выдачу Лютенса русским – полная, разумеется, ерунда. Любому понятно, что в отместку за такую подлость он молчать не будет и без всякого раскаяния сдаст русской разведке и контрразведке всё и всех, что и кого знает, а также и многое сверх того. Поэтому речь, скорее всего, пойдёт о несчастном случае или внезапном сердечном приступе, инсульте или о чём-то ещё в этом же роде.
Фантазия у парней из «конторы игрек» не то чтобы слишком богатая, но зато практики достаточно, и вся цепочка под контролем: ненужных вопросов не возникнет ни у коллег, ни у судмедэкспертов, ни даже у родственников. И никакая это не паранойя, чистый реализм, не более того. Если вдруг в Вашингтоне или в каком-то другом месте решат, что пора менять курс в отношениях с Россией, слишком много знающий специалист из «предыдущей исторической эпохи» никому не будет нужен. Скелеты рациональнее выбрасывать вместе со шкафами, а не ждать, что некто любопытный от нечего делать в старый шкаф заглянет.
Так что очень даже вовремя русские эмгэбэшники к нему свою сотрудницу подвели. Правда, если бы дождались момента, когда он сам к ним прибежит, могли бы побольше выгадать… Да и он тоже.
Из этих размышлений вытекает, что он, в полном соответствии с принципами его организации и вообще страны, в которой довелось жить и служить, уже решил, что в свете складывающихся обстоятельств предать следует первым, не дожидаясь, пока предадут тебя. Он прекрасно представлял, какой материал может на него быстренько представить «куда следует» посол Крейг и те, кого он сочтёт нужным пригласить себе в помощники. И наверняка найдёт такой канал продвижения информации, что помочь не успеют, не смогут, а потом уже и не захотят те, на покровительство которых он до последнего момента так рассчитывал.
Потому что игра, как выясняется, идёт между совсем другими партнёрами, чем ему представлялось, и на стол тут бросают не «даймы» и «квотеры», а, пожалуй, полновесные гинеи[110].
Причём кто, кого, как и во что играет – понять пока не получается.
Штука с «параллельной Россией» вносит в и так не простую ситуацию такой дополнительный элемент непредсказуемости, что и вправду поверишь поэту Тютчеву: «Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать – в Россию можно только верить».
Но подождите, если есть параллельная Россия, то и Штаты тоже есть, и в мировом раскладе в итоге ничего не меняется? Только вот как найти дорогу в те Штаты, если и про ту Россию ему пока ничего почти не известно. Значит, надо узнать, любой ценой, вот на ближайшее время цель и смысл жизни. А то вдруг окажется, что, если в России победили «белые» и сохранилось самодержавие, в Штатах могли победить южане, и, значит, «янки»[111] там делать нечего.
Рысь указала ему на неприметную (как водится, «приметные» в позапрошлом веке делались только на парадных подъездах, выходящих на улицу) дверь в левом углу двора «П-образного» здания. Тёмные окна всех трёх этажей смотрели неподвижными взглядами, и от этих взглядов, за которыми не ощущалось никакой жизни, на душе американца делалось ещё тревожнее. Хотя никакой это не «тюремный замок», вроде Бутырки или питерских «Крестов», а вот поди ж ты. Умеют русские даже своей архитектурой на психику давить. Или сам Лютенс успел себя так основательно накачать адреналином и иными кортикостероидами, или продолжалось действие того самого внезапного изменения структуры всей окружающей среды, что ему померещилось. Как кошке за некоторое время до землетрясения или наводнения.
По широкой и пологой чугунной лестнице, где чугунное литьё перил имитировало причудливую кружевную резьбу по дереву, по рифлёным ступеням со следами логотипов фирмы-производителя, полустёртых миллионами прошедших по ним подошв, он в сопровождении девушки поднялся на третий этаж. Им не встретилось по пути ни одного человека, и даже не слышалось людских голосов и каких-либо иных звуков в расходящихся вправо и влево длиннейших сводчатых коридорах. Зато шаги отдавались вверх и вниз удивительно гулко. Прямо заколдованное царство какое-то, а не довольно обычный старый дом в центре города. При советской власти здесь наверняка размещалось учреждение министерского уровня – главк, совнархоз или что-то в этом роде. Сейчас могла бы поселиться сотня разнообразных офисов, или, опять же, департамент московского правительства, но выглядело так, будто здание законсервировано для некоей специальной функции. Отчётливо пахло старым деревом и как бы не архивной пылью.
На верхнем этаже Рысь предложила войти во вторую от пересечения пугающих коридоров дверь, справа. То есть расположенное за ней помещение должно быть обращёно окнами во двор, а не на улицу.
За дверью Лютенс увидел приёмную с оборудованным по самым высшим стандартам рабочим местом секретарши (или секретаря, в зависимости от вкусов руководства). Расплодились последнее время кое-где при мужчинах-начальниках секретари-референты с внешностью персонажей порнографических открыток начала прошлого века. Ещё там было несколько массивных, тоже старого фасона, стульев для ожидающих приёма лиц и уголок с журнальным столиком, удобными креслами и большим аквариумом, возле которого, любуясь рыбками, могла бы скоротать ожидание раньше назначенного времени явившаяся VIP-персона. Сейчас здесь никого не было, ни секретарей, ни посетителей, только лениво шевелящие хвостами и плавниками макрорусы, или как их там, тычущиеся глупыми мордами в толстое стекло.
Рысь нажала на столе кнопку селектора.
– Мы здесь, Вадим Петрович, – доложила она, как будто хозяин кабинета давным-давно не наблюдал за ними, с самого въезда во двор по расставленным небось через каждый метр видеокамерам. А то и раньше.
– Здесь – так вводите, – прозвучал из динамика молодой и, пожалуй, весёлый голос. А чего грустить человеку, дела у которого идут самым великолепным образом?
– Мне – тоже? – спросила Рысь.
– Зачем? Мы тут сами. Ты просто подежурь, отдохни, на связи побудь и чего-нито перекусить сообрази, я с утра на ногах и голодный.
Это демонстративное «чего-нито» якобы должно было обозначить в говорившем связь с «малой родиной», Владимирской, скорее всего, областью, но прозвучало резким диссонансом с остальным, явно петербургским произношением и, главное, манерой говорить.
Насчёт великорусских говоров Лютенс был большой специалист, а их изучение и знание требовало гораздо больше трудов и тщательности, чем у германиста или китаеведа. Там разница в диалектах разительная, отличить баварца от пруссака или кантонца от синцзянца не сможет только с детства глухонемой, а вот костромича от тверяка и ростовчанина-на-Дону от ставропольца – тут нужно слухом Ойстраха обладать. И изучить массу трудов, начиная от сталинского «Введения в языкознание».
В не менее просторном, чем приёмная, кабинете, оформленном без всяких «хай-теков», строго в административном стиле «заката Российской империи» 1900–1913 годов, у полуоткрытой балконной двери, с которой задувал прохладный, без всякого кондиционера освежавший помещение ветерок, стоял с сигаретой в руках молодой сравнительно, едва за тридцать, мужчина, одетый в совершенно неконкретный штатский костюм так называемого «спортивного стиля».
Если не обращать внимание на некоторые специфические детали, вроде размера и покроя карманов, ширины брюк, качества и выделки ткани, её расцветки, он почти так же естественно, как сегодня, выглядел бы и в начале прошлого века. В любом случае – в подходящей обстановке в глаза бы не бросался.
Сшит из бледно-кофейной чесучи[112], да ещё и с золотистым отливом при изменении угла падения света, что говорило о крайней дороговизне этой ткани ручной выделки. В целом выглядел мужчина вполне аристократично – не чета Лютенсу с его нынешним обличьем. Впрочем, и в самом дорогом смокинге Лерой всё равно смотрелся коряво. Странное такое свойство, отчего ни смокингов, ни фраков и даже военных мундиров Лерой не носил. А у этого всё в порядке – и лицо, одновременно тщательно вылепленное, но и в меру грубоватое, без карамельной слащавости, присущей, например, оперным тенорам или «секс-символам эстрадной тусовки минувшего сезона». Ростом вровень с Лютенсом, то есть шесть футов с дюймом примерно[113], светлый шатен, коротко, по-армейски подстрижен, носит так называемые «английские» усы, бывшие в моде тоже в начале века, но в России и сейчас весьма популярные, в отличие от большинства «цивилизованных» стран, не считая южноевропейских и латиноамериканских, но там фасон другой.
Глаза тёмно-серые в голубизну, внимательные, но без злобы, фанатизма или стандартного англосаксонского безразличия ко всему на свете, кроме некоторых сугубо личных моментов. Человеческие глаза. У садистов или «палачей по должности» таких не бывает.
Губы очевидным образом готовы к дружелюбной улыбке, это чувствуется, даже когда они сжаты.
Одним словом – лучший из типичных образцов великорусской нации, фенотип, без особых изменений дошедший ещё с домонгольских времён. На Западе, и не только, сложилось представление, что «настоящий» русский – это светловолосый широколицый богатырь, зачастую – курносый, голубоглазый, очень сильный, но несколько неуклюжий. «Весело-придурковатый», по определению Петра Великого. Одним словом – слегка очеловеченный медведь. А ведь на самом деле всё названное – черты, привнесённые при смешении со всякого рода угро-финнами и иными ныне стопроцентно ассимилированными племенами, населявшими территорию восточнее Днепра и до самого Тихого океана, куда русские не спеша, то пешком, то по рекам, добрались уже в шестнадцатом веке, когда тех же «американцев» (что северных, что южных) ещё и в помине не было. Да и англичанам до покорения Индии две сотни лет подождать пришлось.
Вот и этот мужчина – стопроцентный великоросс явно хорошего происхождения, если и не природный Рюрикович, то близко к тому. Как его назвала байкерша Рысь – «Вадим Петрович»? Всё понятно – он самый, Вадим Петрович Ляхов, топ-менеджер всемирной, точнее – транснациональной «Комиссии по изучению и рационализации паранормальных явлений». Впервые о Ляхове Лютенс услышал с месяц назад от своего «агента влияния на жалованьи», звезды столичной журналистики и «протестного движения» Михаила Воловича, в связи с тем что этот самый Ляхов несколько раз подбрасывал репортёру интересные темы, не столько для публикации, как «к размышлению». Вот и осело в памяти, по профессиональной привычке. Но именно «паранормальной составляющей» этого человека он тогда не заинтересовался. Мало ли что добровольные информаторы наболтают…
А вот Крейг, получается, отнёсся к информации более внимательно. Возможно, в тех кругах московской «несистемной оппозиции», где посол любил вращаться, регулярно устраивая приёмы (они же – кукиши в кармане действующей власти) в своей на весь свободолюбивый мир известной резиденции, об этой организации разговаривать было модно. Не всё же «кровавый режим» проклинать и будущие министерские посты делить, надо бы и о возвышенном. А то не собрания «истинно креативных» людей получатся, а неизящная смесь клуба «пикейных жилетов» с «Союзом меча и орала»[114].
Лютенсу не до того было, да и при чём тут какие-то придурки, любители столоверчения и уфологии, когда готовится государственный переворот в крупнейшей, причём ядерной, единственно способной уничтожить США одним ударом державе? Как говорил столь почитаемый в России интеллигентами О. Бендер: «К пожарной охране, которую я в настоящий момент представляю, это не относится».
Ляхов сделал несколько шагов вперёд, протянул руку и крепко пожал поданную в ответ Лютенсом. Отчего же не пожать? Коллега наверняка, а коллегам делить нечего. Застрелить при случае – это пожалуйста, а так чего же? Одно дело делаем, просто по разные стороны баррикады.
– Садитесь, Лерой. Бар вон там, внутри. – Он показал на громадный средневековый глобус в медной оправе и на тёмной дубовой подставке, стоявший в двух метрах левее кресла, на которое указал хозяин. – Но в принципе можете и не затрудняться, Герта сейчас всё подаст. Я очень голодный и выпью с удовольствием, ибо на сегодня рабочий день, считаем, закончен…
– Закончен? – не сдержал удивления Лютенс. – А как же?.. – Сам-то он считал, что с его задержанием всё только начинается.
– А, вы про это? Да ну, ерунда какая. Разве ж это работа? Мы просто посидим, пообщаемся, обсудим, как нам лучше всего оформить наши будущие, надеюсь, взаимоприятные отношения…
Ляхов сел напротив, закинул ногу за ногу. Он был обут в лёгкие мокасины под цвет костюма. В отличие от американца, который, как большинство его соотечественников, обожал крепкую, несносимую обувь, и даже к костюмам от «Хьюго Босса» надевал пусть и дорогие, но способные без потерь прошагать рядом с фургоном через всю Долину смерти туфли или, точнее, полуботинки. Сейчас костюм у Лютенса был попроще, очень попроще, но с туфлями он промазал. Любой русский контрразведчик с ходу сообразил бы, что этот парень как-то чересчур смахивает на богатого американца своими чрезмерно дорогими даже для очень хорошо зарабатывающего москвича «шузами», да и не по погоде они. Русские зимой носят надёжную и тёплую обувь, а летом предпочитают что полегче, вплоть до сандалет на босу ногу. Азиаты, что скажешь…
– Нет, господин Ляхов, давайте уж по правилам, – сказал Лерой, беря протянутую собеседником сигарету.
– Давайте, – легко согласился тот. – Только насчёт правил просветите. Что вы, собственно, имеете в виду?
– То есть как? Вот мой паспорт. – Он достал из внутреннего кармана свой дипломатический. – И давайте, предъявляйте мне, что там у вас есть. Убийства вы мне никак не пришьёте, а всё остальное даже общественного порицания не заслуживает. Что ещё делать посольскому работнику, как не изучать обстановку в стране пребывания. Тем более – когда такое…
– Ну да, ну да, – согласился Ляхов. – «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые…» Кто написал?
– Не помню. Кажется, Тютчев? Или Лермонтов, – машинально ответил разведчик, хотя совершенно не был обязан.
– Вот и мне кажется, что Тютчев, – кивнул Ляхов, пролистал паспорт и небрежно сунул в боковой карман пиджака. Будто гаишник – права нарушителя. – «Его позвали всеблагие, как собеседника на пир…»
– Эй, эй, подождите, вы что? – подскочил с места Лютенс.
– А что? – удивился хозяин кабинета. – Герта, ты где там? – крикнул он в сторону двери.
– Иду, иду уже… – вошла Рысь с солидно накрытым подносом, и американец вновь залюбовался прелестью этой девушки, хотя какая там прелесть у грубиянки-мотоциклистки, только что заманившей его в ловушку и арестовавшей. А вот поди ж ты! Лерой, выходит, уже смирился, что прежней жизнь никогда больше не будет, и на происходящее реагировал без театрального трагизма. На подсознательном уровне. Знал, куда ехал и на что шёл.
Девушка ловко, словно официантка со стажем, расставила по столу холодные, не требующие специального приготовления, но весьма изысканные и питательные закуски, стопочки, графинчики с чем-то тёмно-рыжим и понятно чем прозрачным, бутылку незнакомой Лерою минеральной воды «Нагутская №2. Типа боржом»[115].
– Ну, давайте. Вы сегодня с водки начинали? Ну и продолжайте…
– А с чего вы так решили?
– По запаху, уважаемый, по запаху. Подумаешь, бином Ньютона… А что касается паспорта – предлагаю поверить мне на слово (как и всем остальным, в случае чего придётся) – не было его никогда, это вам просто померещилось. Есть люди, что себя наполеонами воображают, ну а вы – американским дипломатом. Кстати – хотите загадку? Почему, если мужчина себя Наполеоном объявляет, его сразу в психушку везут, а если женщиной – то американский конгресс начинает принимать резолюции в защиту его прав? Не смешно? И я так думаю: вам тут не смеяться, а плакать надо – такая христианская нация была, американцы-протестанты, я хочу сказать, к еде не приступали, пока дедушка молитву не прочтёт, Библию наизусть почти все знали, а теперь словно не для них про Содом и Гоморру там написано… Хорошо, и это оставим…
Ляхов налил себе и Лютенсу, тут же выпил, не чокаясь, начал закусывать. Лютенс тоже взял бутерброд с холодным языком. Действительно, целый день не ел, но всё равно не преминул заметить, что любой из поданных Гертой бутербродов не в пример вкуснее и полезнее какого-нибудь гам– или чизбургера. А главное – проще, минималистичнее, можно сказать. Хлеб, причём хороший, настоящий – основной ингредиент, сливочное масло, прослойкой под икру или балык, например. Ну, веточка кинзы сверху. Копчёная колбаса, сыр, отварной язык тоже одобряются.
Хозяин дожевал небольшой валованчик, вытер губы салфеткой.
– Ладно, вижу, как вам не терпится. Верно всё же говорится – «кусок в горло не лезет». Так я вот о чём – представьте себе, что нет никакого Лероя Лютенса. Был ещё сегодня днём, потом пошёл в Москву, охваченную массовыми беспорядками, им же и инициированными (доказательства есть, кстати), и пропал. Без вести. Навсегда то есть. С концами. У нас вон сколько миллионов людей в войну без вести пропали… Когда-никогда энтузиасты-поисковики кости с медальоном или медалью с номером откопают. Тогда, значит, хоронят с почестями и имя на памятнике пишут. А так… – Ляхов тяжело вздохнул и развёл руками. – Зато появился в нашем мире… – Он внимательно посмотрел на удостоверение журналиста. – Гражданин Шеховцов Владимир Иванович, задержанный при попытке вооружённого нападения на военный патруль. Свидетелей достаточно, вещдоков тоже. Одного только телефон-фотоаппарат-ноутбука-не знаю-ещё-что со снимками воинских частей на позиции, номеров техники и прочего военно-полевому суду хватит для приговора скорого, но справедливого. Отпечатки пальцев на нём ваши, вот и достаточно. Пистолет опять же. Ваш, ваш, не сомневайтесь. У нас есть методики… Высшая мера, заменённая при конфирмации[116] комендантом Москвы двадцатью годами каторги. И вполне спокойно все двадцать лет кандалами и отзвените. На зонах таких «соловьёв», что утверждают, будто и они не они, и посадили их ни за что, вполне достаточно. Письма с жалобами дальше канцелярии лагеря не пойдут, а адвоката у вас нет и не предвидится. Поскольку суд всё-таки – военно-полевой. «Без участия сторон» и всё такое. Вернее – папка с вашим делом и приговором будет за лагерем числиться, а вам другое занятие найдётся. Мы тут решили, что идея сталинских «шарашек» совсем не плоха. Зачем заставлять высококвалифицированного специалиста рукавицы шить, если у него образования хватает Шекспира туда и обратно без словаря переводить? Это я к примеру говорю, насчёт Шекспира, – пояснил Ляхов, – можно и более актуальное занятие найти. Ну а второй вариант тоже прост и понятен, я на него уже намекал – провинциальная психиатрическая больница для лиц с чрезмерно девиантным поведением. Никаких надежд на выздоровление и даже никаких свиданий и передач, ввиду отсутствия как близких, так и дальних родственников…
Лютенс передёрнул плечами. Суровая перспектива, но весьма вероятная, судя по безмятежному, но отнюдь не глупому выражению глаз визави.
– Вы выпивайте, Лерой, и закусывайте, пока есть возможность. В любом из названных мной заведений пища достаточно калорийная, с голоду никто не умирает, но о вкусовых качествах лучше не вспоминать. Хотя, если «Один день Ивана Денисовича» вспомнить, так там и каша из магары за деликатес шла. Даже во сне о ней мечтали, а не о столике в «Арагви»[117].
Лютенс выпил, сообразив – правильнее всего действительно сегодня напиться в стельку, а что там завтра случится…
– Неужели вы, после случившегося эксцесса, на самом деле готовы ввести у себя в стране такие правовые нормы, которыми меня пугаете? Это ведь самый натуральный сталинизм, уже без всяких деликатных оговорок. Цивилизованный мир не поймёт…
– Ах, ах! – картинно поднял глаза к потолку Ляхов. – Вот только не надо именно здесь «ля-ля» про цивилизованный мир. И бомбёжки Белграда он легко принял, и Гуантанамо, и тюрьму Абу-Грейб, и самые дикие законы, ваши или саудовские. Когда у вас приказывали «независимым журналистам» писать, что чеченские террористы убивают русских потому, что русские ничего другого не заслуживают, ваши «демократические граждане» охотно в это верили и сейчас верят. Согласен, едва ли «общественное мнение» готово принять российскую точку зрения, но нам на это наплевать. С высокой колокольни. Американским сепаратистам у вас высшую меру с реальным приведением в исполнение легко припаяют, если какие-то ребята пойдут с оружием в руках Техас и Калифорнию от «белых ублюдков» освобождать!
Поэтому наш Президент правильно сказал: «Отношение к России в США и в странах-сателлитах Америки никаким образом не зависит от реального поведения России на мировой арене, поэтому нам нет никакого смысла пытаться заслужить от «мировой общественности» похвалу или снисхождение».
Что эти слова на самом деле сказал не Президент, а он сам, легко сымитировав его голос, Вадим уточнять не стал. Смысл и правильность высказывания не зависят от того, кто его произнёс.
– Вы просто попробуйте, Лерой (пока я называю вас так), поставить себя на моё место. И меня – на своё. Если вам потребуется нарушить все божеские и человеческие законы по приказу начальства, ради «высокой идеи», «американской мечты» или собственных шкурных интересов – разве вы хоть на секунду испытаете дурацкие «гуманные» колебания?
– Наша служба, в отличие от вашей, всегда исполняла и исполняет американские законы, – несколько напыщенно заявил Лютенс. От третьей рюмки «на старые дрожжи» его опять понемногу начало развозить. – А если иногда что-то такое и случалось, виновные строго наказывались. Вы вот упомянули про Абу-Грейб…
– Достаточно, Лерой. Я даже не буду говорить, что история вашей организации сразу началась с самого обычного предательства. Это когда ваш Даллес и Донован начали за спиной русского союзника договариваться с гитлеровцами о сепаратном мире и дальнейшей совместной борьбе против коммунизма…
– А я-то при чём?
– Да, в сорок пятом вас ещё не было. Согласен. Даллес на том свете сам отвечает за себя. А что вы скажете на это?
Фёст бросил на стол целую пачку снабжённых всеми необходимыми грифами и реквизитами самых секретных документов, стопроцентно доказательно свидетельствующих о десятке операций ЦРУ, в которых лично Лютенс принимал участие. Причём назывался и своей подлинной фамилией, и действовавшими в каждом отдельном случае оперативными псевдонимами. Любая из этих бумажек тянула на очень и очень солидный срок, если бы кому-то удалось привлечь цэрэушника и его подельников к нормальной международной ответственности. Не такой, как пресловутый Гаагский трибунал во главе с потрохами купленной теми же американцами бельгийской прокуроршей.
Американцы «своих сукиных сынов» даже за работу, аналогичную службе антиеврейских эйнзатцкомманд, к ответственности не привлекают. Пусть весь мир был свидетелем, как американские солдаты расстреливают мирных жителей в Ираке, и не только их, но и подвернувшихся под руку иностранных журналистов. Это никого внутри США не взволнует: «Права она или нет – это моя Родина». В Штатах сажают на пожизненное тех, кто подобную информацию передаёт независимой прессе.
Причём документы, хотя и являлись изготовленными с помощью аггрианского Шара копиями, выглядели абсолютными подлинниками, и любая экспертиза это подтвердила бы, включая идентификацию отпечатков пальцев тех, кто их на самом деле держал в руках в Лэнгли или где-то ещё.
– Читайте, читайте, Лерой. У меня и ещё есть, – благодушно сказал Ляхов, глядя на отвалившуюся челюсть и остекленевшие глаза цэрэушника. Как бы его инсульт не хватил. Впрочем, он диспансеризацию регулярно проходит, с давлением и сосудами у него наверняка полный порядок.
– Неслабый скандальчик выйдет в случае публикации? И вы от своих получите «пожизненное» не за то, что совершили реально, а за то, что вольно или невольно подставили своих хозяев. Согласны? Заодно прошу принять во внимание, что ни я, ни моя ассистентка Герта к любым спецслужбам России или иной страны не имеем никакого отношения. Мы – классическая некоммерческая организация, причём не занимающаяся политической деятельностью на американские деньги…
– А как же?..
– А это наше хобби. Вас разве ещё в детстве не раздражали паранормальные, вдобавок – необъяснимые явления? Меня и моих друзей – ужасно. Вот мы и занялись их рационализацией и утилизацией. Ваш случай очень даже в круг наших интересов попадает. Представьте себе – взрослый, культурный, образованный человек зачем-то занимается прямо-таки непристойной подрывной деятельностью против суверенного государства, лично ему ничего плохого не сделавшего, хотя мог бы, например, изучать жизнь членистоногих на Большом Барьерном рифе или лечить обитателей Экваториальной Африки от лейшманиоза…[118]
– Вы издеваетесь надо мной? – спросил Лютенс, не зная, что делать с бумагами, то ли бросить на стол, то ли порвать в знак протеста, то ли продолжить чтение.
– Нет. Это вы со своей «землёй обетованной» – над нами. И уже давно. Последние лет сто – точно, – усмехнулся Ляхов. – Какие у вас могут быть претензии лично ко мне? В этих документах что-нибудь неправильно? Вы готовы оспорить их подлинность? Хотите призвать меня к суду за клевету и подделку? Я к вашим услугам. Кстати, способ, каким эти бумаги попали мне в руки – отдельная тема, тоже весьма интересная. Или вас беспокоит что-то другое? Тогда поделитесь. Я по первому образованию врач, и даже, как говорили, неплохой.
На это Лютенсу ответить было в буквальном смысле нечего. Опять Фёст сыграл по методике, которую он изучал в «иезуитской», если использовать распространённое в прошлом значение этого слова, школе Александра Ивановича Шульгина. Никогда не нужно пытаться загнать противника в тупик, если он в состоянии успешно сделать это сам.
Разведчик уронил руки на колени, листки рассыпались по паркету. Он ощущал глубокую опустошённость и страх. Не рациональный – мистический, потому что на самом деле ему бояться было нечего. Человек его профессии, даже пойманный в очень неприятную ловушку – психологическую, моральную, финансовую, – был приучен с первых служебных шагов сохранять невозмутимость и одновременно выкручиваться, искать выход и способ обратить временное преимущество противника в свою победу. Иначе зачем вообще оставаться в должности? Можно найти сколько угодно не менее заработных видов деятельности, не требующих постоянного противопоставления человеческого естества некоей абстракции. Тут Ляхов правильно сказал насчёт «членистоногих». В широком смысле.
Другое дело, последние лет пятнадцать Лютенсу уже не приходилось хоть чем-то рисковать всерьёз. Работа под дипломатическим прикрытием грозила в самом худшем случае выговором от вышестоящего руководителя. Да если даже и с предложением добровольной отставки… Риск попасть под колёса автомобиля на московском или вашингтонском перекрёстках был гораздо выше того, что принято связывать с профессией «кинематографического шпиона».
Но сейчас он столкнулся с совершенно иной ситуацией. Образования, жизненного опыта и обычного здравомыслия хватало, чтобы понять – происходит то, что на самом деле происходить не может. И последствия для него будут не «оговоренные контрактом», а вполне трагические. Что-то вроде пресловутого тазика с цементом, с которым гангстеры отправляли своих недругов «искупаться в Гудзоне». Для него, само собой, приготовлены другие варианты. Некоторые из них этот русский уже назвал. Что придумают дома – узнать ещё предстоит.
Если не допустить, конечно, что он каким-то образом и без всякой внешней причины сошёл с ума. И всё происходящее – тягостный бред.
Нет, едва ли. Это слишком оптимистический вариант, а потому и нереальный. Генетической предрасположенности у него к душевным болезням не было. И до белой горячки, учитывая объёмы употребляемого алкоголя, тоже ещё очень и очень далеко. Кроме того, сумасшедшие в последнюю очередь испытывают сомнение в достоверности своих галлюцинаций.
Пора брать себя в руки, что Лютенс и сделал, дополнительно прикрыв своё смятение и процесс выхода из него ещё одной рюмкой и нервно прикуренной сигаретой.
– Судиться? – Издевательское предложение Ляхова он автоматически принял всерьёз, для американца упоминание о суде – как лампочка для лабораторной собаки Павлова. – Судиться, конечно, глупо, особенно учитывая, что только упоминание об этих документах само по себе повлечёт весьма суровые санкции, я даже не исключаю, что на определённом уровне может быть принято решение о физической ликвидации всех причастных…
– Вот видите. Оказывается, ваше положение даже хуже, чем показали мне звёзды. – Ляхов очевидным образом куражился, но глаза у него были серьёзные и даже немного печальные. – Эти прошлые дела плюс ваша теперешняя досадная неудача… Если присовокупить к имеющимся бумагам ваше собственноручное донесение резиденту ГРУ в Вашингтоне, «вашему куратору», о начале разработки такой-то операции, её участниках и вдохновителях, от… – Фёст секунду подумал и назвал дату «сообщения», переданного всего на две недели позже утверждения на Совете национальной безопасности «Предварительных соображений плана…». Лютенс хорошо её помнил. Дату реального утверждения, а не вымышленной докладной.
– Мне отчего-то кажется, после этого ближайшую сотню лет вам в пределах досягаемости американской юрисдикции лучше не показываться. Нет?
Лютенс почти машинально кивнул головой, отвечая не столько собеседнику, сколько собственным мыслям, и Ляхов рассмеялся довольно.
– Видите, как я вас легко и изящно перевербовал? Вам даже ради приличия не получилось мне что-нибудь возразить…
– А что можно возразить, когда имеешь дело со стихийными бедствиями или мистическими явлениями? Наверное, против саранчи, что Бог напустил на Египет по просьбе евреев, никакие дезинсекционные службы не помогли бы. Даже современные.
– Что вы, Лерой, ну какая же здесь мистика? Это просто как фокус в цирке. Пока вам не раскроют секрет распиливания пополам красивой девушки, большинство зрителей так и будут пребывать в тягостном недоумении. Но я свои секреты пока раскрывать не собираюсь. Нам ещё работать и работать, и не только с вами…
Ляхов нагнулся, аккуратно собрал с пола бумаги, подровнял стопочку, даже постучал её ребром по краю стола. Положил. Тоже закурил, с интересом глядя на своего визави.
– Наша беседа, конечно, пишется? – спросил Лютенс, просто чтобы не молчать, а ничего более осмысленного сразу не пришло в голову.
– А это уж думайте в меру своей испорченности, – снова улыбнулся Ляхов. – Лично мне такая запись вроде и ни к чему. Начальства надо мной нет, отчитываться не перед кем. Разве – для семейного архива. А вас шантажировать – не вижу смысла. Отношения между серьёзными людьми должны строиться на более солидной основе, чем страх. Не важно чего – смерти, разоблачения, продажи в туземный бордель… Не удивляйтесь, человеческая извращённость не знает границ. Я знаю места, где и на такого видного мужчину, как вы, найдутся и любители, и любительницы. Не совсем в тех целях, что вы вообразили, гораздо худших. Но страх – контрпродуктивен. Лучше выбирать из положительных стимулов. Вам лично что больше нравится – чисто коммерческий подход, по Марксу – «товар-деньги-товар», или с примесью высоких идеалов? Ну, помните – Ким Филби, дело Розенбергов и тому подобное. Роман Меркадёр, кстати, Троцкого ведь не за деньги ледорубом приласкал… Честно отсидел двадцать лет от звонка до звонка, никого не выдал, и только в шестидесятом году в Москве Героя Советского Союза получил, пенсию в ваши тогдашние триста долларов и двухкомнатную квартирку, без всяких излишеств… Идеалист!
Времени, потраченного Ляховым на якобы пустую болтовню, хватило Лютенсу, чтобы начать соображать конструктивно. А что ему ещё оставалось? Не в окно же кидаться вниз головой? Этаж хоть и третий, но потолки в этом доме пятиметровые, да цоколь высокий, хватит, чтобы разбиться, с гарантией. Да не факт, что массы тела хватит, чтобы стекла вышибить, очень может быть, они здесь армированные и пуленепробиваемые.
Кстати, что за дом такой интересный – время вроде как рабочее, а нигде ни одного человека, и тишина – совершенно как в склепе, а по самым скромным прикидкам в подобном строении человек пятьсот постоянных сотрудников помещаться должно. Это же не аббатство Мельк[119], к примеру, где в средневековых корпусах, едва ли сильно уступающих размерами Московскому Кремлю, спасают души всего тридцать два монаха. И снаружи совершенно никакой шум не доносится, будто вокруг не революционный мегаполис, а тайга в безветренный день.
Он так и спросил у Ляхова, отчего не слышно людей, не в связи ли с происходящими в городе событиями? И что здесь вообще размещается? Скрывать это бессмысленно, глаза ему не завязывали, если жив останется – и сам узнает, но интересно именно сейчас.
– Какие секреты? Здесь и находится моя организация, эта самая «Комиссия паранормальная». Особняк мой собственный, приобретён абсолютно законным образом, вопрос на уровне самого МЭРА согласовывался. – Ляхов изобразил на лице смесь почтения к названной персоне и собственной значительности. – И народу у меня работает достаточно. Достаточно для моих целей. А то, что вы никого не видите и не слышите – это тоже один из моментов «необъяснённости и, может быть, даже необъяснимости».
Очевидно, что он снова развлекался столь неподходящим к случаю способом.
– Понимаете, каким-то странным образом в пределах подтверждённых кадастровым планом границ данного имения время течёт… ну, не совсем линейно, скажем так для простоты. Когда я не хочу, чтобы мне мешали или отвлекали, – я устраиваю себе персональную «временную нишу», этакий «двадцать пятый час суток». Для контактов с сотрудниками и посетителями я доступен в оговоренные правилами внутреннего распорядка приёмные часы. В остальное время… Вам приходилось видеть на дверях табличку: «Приходите завтра»? Бронзовую табличку, прикрученную двухдюймовыми винтами. Так что, уважаемый коллега, я да вы, да ещё Герта – сейчас единственные обитатели этого «дома с привидениями». И вокруг нас – почти абсолютное ничто. А то, что вы увидите, подойдя к окну, – это как бы материализованные воспоминания кого-то из нас о том, что наверняка будет присутствовать здесь и завтра и послезавтра. Дома вот, если их не взорвут, вон та старая «Волга» со спущенными шинами. Ну и вечерний свет. Романтично, правда?
Лерой чувствовал, что недавние предчувствия его не обманули, и граница между вменяемостью и безумием становится уж больно зыбкой. Как многократно стиранная кисея.
– Я одного только не понимаю, – сказал он, будто всё остальное уже понял, – зачем вам я вообще нужен, при таких-то возможностях? Всё, что вы проделали со мной, вы, наверное, можете проделать с кем угодно. С послом, с госсекретарём США, с самим президентом. Или я ошибаюсь? В любом случае – зачем вам Лерой Лютенс?
– Опасные вопросы задаёте. Вдруг да и я над тем же самым задумаюсь – а действительно, зачем? А если незачем… Ну, сами понимаете. На ваше счастье, раньше задумался, раньше и решение принял. И от вас его скрывать не буду – вы мне нужны даже не как агент влияния, а просто как канал связи. Мы ведь должны делать вид, что мир по-прежнему незыблемо-рационален. И, соответственно, соблюдать принятые в нём правила. Человек вы авторитетный, проверенный. Если я попрошу вас что-то кому-то передать в устной форме или в виде записочки – вам скорее всего поверят. Вот и будете продолжать делать свою обычную работу, докладывать домой то, что от вас служба требует, именно служба, если вы к ней всерьёз относитесь, а не конъюнктура. Плюс всё, что я сочту нужным впредь доводить до вашего руководства. Оттуда сюда мне информация не нужна, и так знаю всё, что требуется. А вот в ту сторону – как я собственные мысли и желания транслировать смогу?
Мне что же, как Бене Крику записочки клиенту писать: «Мосье Эйхбаум, положите, прошу вас, завтра утром под ворота на Софиевскую, 17, двадцать тысяч рублей»? Ну, и так далее – читайте «Одесские рассказы». Не получится: президент Соединённых Штатов и даже простой директор ЦРУ, или там АНБ, я знаю, никогда мне не ответит, как принято было в той же самой Одессе между порядочными людьми. «Так, мол, и так, Вадик, если б ты был идиот, я бы написал тебе, как идиоту! Но я тебя за такого не знаю, и упаси Боже тебя за такого знать…» Не ответят и совершат ту же ошибку, что многие до них совершали…
Лерой Лютенс много чего читал на русском языке, но вот как раз Бабель пролетел мимо него. Было слишком много книг поактуальнее, а по-настоящему насладиться этим автором можно было только в конце 60-х годов прошлого века, когда он только-только стал доступен. Ну, или на второй волне, в конце восьмидесятых, когда Исаака Эммануиловича уже не столько читали, как дискутировали на страницах либеральных изданий о его печальной судьбе и дотошно выясняли, был он любовником жены Ежова, или интересовался ею исключительно как бытописатель. А сейчас нужно какое-то особое стечение обстоятельств, чтобы человек старше тридцати ни с того ни с сего решил вдруг обратиться к этому тонкому, но давно утратившему актуальность стилисту.
Поэтому Лютенс не понял всего смысла слов Ляхова и заложенных в его тираде сюжетных ходов, хотя общую идею уловил.
– То есть получается, что в случае чего мне и обвинения в предательстве предъявить не смогут?
– Совершенно в точку. Вы делаете свою работу, встречаетесь с людьми, собираете информацию, как пчёлка нектар. И вдруг попадается среди навоза жемчужное зерно. Куда ж с ним? По принадлежности. Единственное, на чём вы сможете подзалететь, так только на нарушении субординации. Некоторые начальники не любят, когда подчинённые действуют через их голову. Но с этим вы уж как-нибудь разберётесь.
Было у нас на излёте сталинской эпохи такое «дело врачей», так оно началось именно с того, что рядовая врач-кардиолог Кремлёвской больницы, Лидия Тимашук[120], обратила внимание непосредственных начальников, известнейших профессоров и академиков, что они недооценивают роль такого достижения передовой науки, как кардиограммы, и ставят диагнозы по старинке, часто – неверно. Её, естественно, послали подальше. Она написала уже выше, прямо министру госбезопасности. Там тоже не обратили внимания. Но письмо не уничтожили, подшили, как положено. И тут вдруг умирает сам Жданов, Андрей, если не ошибаюсь, Александрович, ближайший друг и соратник Сталина. Умирает именно от инфаркта и именно потому, что лечащие врачи и руководство больницы не поверили кардиограмме, а поверили своей «интуиции и опыту». Сталин был очень расстроен. Вот тут кто-то ему и подсунул то самое письмишко Тимашук с резолюцией Абакумова – «В архив». Вождь рассвирепел, да ещё на старости лет паранойя у него начала в острую форму переходить, ну, головы и полетели. Сам товарищ Абакумов по обвинению в заговоре в тюрьму сел, откуда живым больше не вышел, хотя уже и при следующей власти. Ну а за врачей взялись, разумеется. Хоть главным у них был профессор Виноградов, русский, обратите внимание, и вообще половина врачей была русскими, однако уже шестьдесят лет эту историю раскручивают исключительно в антисемитском плане. Правда, в отличие от Германии, Россия на провокации не поддаётся и репарации никому платить не собирается…
Ляхов излагал Лютенсу эту историю, вальяжно раскинувшись в кресле и с явным удовольствием, рисуясь своей эрудицией. Как молодой доцент на семинаре со студенточками и аспирантками. Хотя повод, по которому они здесь находились, очевидно, не располагал к такого рода академичности.
Так разведчик и спросил – при чём здесь эта, достаточно уже давняя история, и не тянет ли собеседник время в каких-то собственных целях, поскольку вопрос, если уж он поставлен, должен решаться конкретно и конструктивно.
– Вот сразу и видно, что никогда ничего толкового из американской разведки так и не получится, – с сожалением в голосе ответил Ляхов. – Прагматизм, причём весьма низкого, я бы сказал, пошиба, не позволяет вам, как у нас выражаются, воспарять мыслью и в результате находить решения яркие и нестандартные. Вот как я с вами сегодня. Выпьем ещё по чуток?
Лютенс молча кивнул, слова партнёра его одновременно задели и заинтересовали. Вдобавок он понимал, что лишь любезно предлагаемая хозяином высококлассная выпивка позволяет ему сохранять некое подобие выдержки.
Нервный срыв у него уже произошёл, сразу, как только стало известно, что план, которому он посвятил больше года напряжённой работы, провалился. Причём провалился без каких-либо объективных обоснований и оправданий вроде внезапно для Наполеона и Гитлера наступившей зимы или «странного» нежелания Александра Первого подписывать (а с какой, собственно, радости?) мир на условиях Бонапарта, сидящего в Кремле, но не имеющего ни малейшей возможности столь же отчаянным рейдом взять ещё и Петербург. Кстати, за двести лет историки так и не разобрались, а отчего французы сразу не пошли на настоящую, а не «духовную» столицу вражеского государства.
Лютенсу и всем заинтересованным лицам ссылаться было не на что, поскольку отсутствовали хоть какие-то видимые факты и факторы, принесшие русскому Президенту победу, а им – поражение. Просто сорвалось дело, «и тольки», как выражался Нестор Махно в кинофильме «Пархоменко»[121]. Так срывается неизвестно почему со спиннинга рыба, уже схватившая блесну.
И всё, что разведчик делал последние чрезмерно затянувшиеся дни, было явно патологическим поведением, в какой-то мере купировавшимся почти инстинктивно принимаемым алкоголем. Так больная кошка, не зная фармакологии, находит нужную ей лечебную травку. То виски, то водка позволяли Лютенсу балансировать на достаточно тонкой грани, отделявшей просто тяжёлый стресс от чего-то вроде реактивного психоза со всеми вытекающими последствиями.
Это может показаться странным – всё ж таки в разведке должны работать люди с гораздо более устойчивой психикой, позволяющей выносить вещи похуже – например, арест, пытки, суд, длительное тюремное заключение, иногда и в камере смертников, – примеров этому масса. Но натуры, как известно, у всех разные, некоторые люди разоряются не по одному разу, бывает, опускаются на самое дно жизни и всё же продолжают жить и находить в этой жизни какие-то радости. А другие кончают с собой из-за совершеннейшего пустяка вроде обвала курса акций на бирже или жены, пойманной с любовником в кульминационный момент в собственной супружеской постели…
Самое главное, он почти правильно понимал происходящее с ним и ухитрялся сохранять даже достаточно спокойные интонации, отчётливо при этом зная, что на самом деле самое бы лучшее – немедленно отправиться в отдалённый санаторий в заросших сосновым лесом горах, под присмотр минимум двух психоаналитиков и надёжной вооружённой охраны. И чтоб на сотню миль вокруг нельзя было достать ни капли спиртного.
– Да к тому я это рассказал, что это готовый для вас сценарий поведения на ближайшие несколько месяцев. Завтра или послезавтра вы сядете в самолёт и отправитесь в Вашингтон. Для посла – по вызову начальства, для начальства – для конфиденциальной встречи с ним же, заранее не согласованной по причине полного недоверия ко всему вашему окружению, включая посла и всю здешнюю агентуру всех разведок мира. Чем круче паранойя – тем достовернее. Они там в Лэнгли и вокруг давно все параноики, так что вы никого не удивите.
Заодно напишете письма – на имя президента, кого-то вам лично в конгрессе или сенате известного, можно и во всякоразные газеты, как запасной вариант, с изложением вашей истинно патриотической позиции во всей этой московской, крайне сомнительной истории. Но это, разумеется, лишь на тот случай, если что-то вдруг не так пойдёт, по законам Мэрфи и Паркинсона. Прикрыть от бессмысленного гнева недалёкого (в умственном смысле) начальства я и сам вас сумею, жалованье вам положу неслабое, а идейную сторону «смены флага» вы уж как-нибудь сами себе обоснуйте….
А знаете, Лерой, что-то плоховато вы выглядите, – вдруг с неприкрытой тревогой в голосе сказал Ляхов. – Внезапного головокружения, загрудинной боли, одышки, страха смерти не ощущаете? – Он резко поднялся со своего места, начал щупать пульс разведчика, заглядывать ему в зрачки. Лютенсу на самом деле захотелось погрузиться в мягкую пучину беспамятства.
– Я бы немедленно занялся вашим здоровьем, – словно через вату услышал Лерой. – Вы сможете перед своими замотивировать, если сегодня придётся ночевать не дома? А то я и здесь помогу…
– Не надо. Я за своё поведение не отчитываюсь, вообще могу неделю в посольстве не появляться…
– Неделя ни к чему, а вот до завтра вам бы стоило побыть под наблюдением. Знаете, есть такой диагноз – «Недоперепитие». Это когда выпил больше, чем мог, но меньше, чем хотел. С вами то же самое, на фоне сердечной недостаточности. Герта, бегом ко мне…
Это всё, что услышал Лютенс, перед тем как полноценно отключиться. Даже не успел подумать, не отравил ли его «вербовщик».
Глава восьмая
Пришёл в себя Лютенс, как ему показалось, очень быстро. Вроде как короткий обморок с ним приключился, когда хотя и теряешь сознание, но представление о течении времени сохраняешь. Однако сразу же понял, что это не так. Он лежал раздетый на застеленном свежим бельём диване, под тонким одеялом, а небо в высоком окне напротив ощутимо розовело, обозначая, что ночь (хорошо, если первая) почти прошла.
Разведчик прислушался к себе, как водится, подвигал ногами и руками. Всё было в полном порядке, тело слушалось, самочувствие великолепное, даже никаких следов похмелья. А должны бы быть, тут он сомнений не испытывал. Хорошо помнил, чего и сколько (вчера?) выпил. Помнил даже то, что в какой-то момент его встревожило – спиртное пролетало стопка за стопкой, а изменения степени опьянения он не ощущал, только голова наливалась тяжестью и окружающий мир всё больше и больше становился каким-то картонным, как плохие декорации в прогорающем театрике.
Но сейчас ничего этого не было: яркость восприятия напоминала ту, что бывает, если снять, наконец, маску противогаза с запотевшими стёклами. И дышалось так же легко, совсем как в ранней молодости. Даже от нормальной утренней пробежки с выкладкой, на десять километров, как в военном училище, он бы не стал отказываться. Хорошая разминка всегда полезна.
– Стоп, – сказал он сам себе, – это значит, что я сейчас под каким-то наркотиком, вроде фенамина. В моём возрасте и с моим образом жизни не может быть такой бодрости и силы. Естественных, конечно. Значит, меня вчера вырубили водкой с какой-то дрянью, выпотрошили до донышка под парагексапентилом, к примеру, после чего организовали гемодиализ, промывание кишечника, и всё заполировали питательной смесью со стимулятором пролонгированного действия. Только перестарались. Я себя чувствую слишком хорошо. А я же не дурак…
Лютенс встал, осторожно ступая босиком по паркетному полу (домашних туфель и пижамы возле постели не оказалось), подошёл к окну. Нормальному, без решёток, и даже датчиков систем безопасности на стёклах и рамах незаметно.
Внизу он увидел обычный асфальтированный двор с несколькими клумбами, вымощенными мозаичной плиткой дорожками между ними и заплетённой чём-то зелёно-вьющимся беседкой, без всяких изысков, с солдатской прямотой оснащённой большой урной для окурков посередине шестиугольника деревянных скамеек. Явно не элемент атриума венецианской виллы.
Почему-то Лерой подумал именно о венецианской, а не о другой, географически и исторически более близкой к центру Москвы.
Если он всё ещё в Москве, а не где-нибудь «далеко от неё»…[122]
Да нет, похоже, двор это тот же самый, что и вчера, Лютенс тогда только мельком взглянул, но как раз беседку запомнил.
Во дворе было, как и вчера, совершенно пусто, за многочисленными окнами не просматривалось признаков жизнедеятельности. За дверью комнаты тоже тишина, прямо даже какая-то вызывающая…
Правду, значит, сказал Ляхов – здесь вечно не наступающий завтрашний день?
Страшно всё-таки внезапно осознать, что очутился в совершенно другом, по-новому устроенном мире, не в физическом даже, в эмоционально-экзистенциальном смысле. Особенно ему, прагматичному американцу немецкого происхождения, привыкшему с детства, что он гражданин страны, для которой никакие законы не писаны, ни божеские, ни человеческие. А теперь, выходит, что не только русские против него, снова необъяснимым образом оказавшиеся «впереди планеты всей», но и само мироздание? Тут впору немедленно впасть в окончательную депрессию и осознать себя не всемогущим американцем, а жалким галутным[123] евреем, только и находящим утешение в своей, не признаваемой больше никем «богоизбранности».
Лютенс повернулся, ища глазами платяной шкаф или вешалку, где могла бы находиться его прежняя или какая угодно «вообще одежда».
В этот момент бесшумно открылась дверь и вошёл Ляхов, как и вчера подтянутый, бравый, уже в другом, светло-сером костюме, но точно так же сидящем на нём, словно парадная, сшитая на заказ военная форма.
– Утро доброе, Лерой, – радушно произнёс он, протягивая руку. Лютенс поёжился, неуверенно протягивая свою. Очень неприятно находиться почти голым в неподходящей обстановке, рядом с человеком, безукоризненно одетым. Совсем не то же самое, как разговаривать даже и с одетыми людьми на пляже, например.
Ляхов сразу понял причину его скованности и напряжённости.
– Извините, что я так, внезапно, без стука и доклада. Но вы же сейчас вроде бы пациент для меня как для врача или – военнопленный для офицера. Временно выведен за пределы этикета и политеса. Ваша одежда вон там, – он указал на малозаметную, в цвет обоев дверцу в правом углу комнаты.
– Надевайте, если хотите, а то я распоряжусь, принесут что-нибудь другое…
– В поперечную полоску? – попытался сострить Лютенс.
– Если у вас такие вкусы. Лично я предпочитаю узкую продольную, но в принципе гладкая ткань симпатичнее, если нет нужды в камуфляже…
Говоря всё это, Вадим сел в низкое кресло у журнального столика напротив окна. Американец только сейчас рассмотрел, что комната обставлена не как больничная палата, а наподобие гостиничного «полулюкса». До этого был поглощён собственными ощущениями и видом из окна.
Ляхов закурил и старался смотреть в сторону, пока Лютенс облачался в весьма непрезентабельный, на фоне его собственного, костюм.
– Порядок? Чего-нибудь хотите перехватить или в городе позавтракаем?
– Вы меня и в город вывести собираетесь? – удивился разведчик.
– Если вы сами соберётесь…
– В каком смысле?
– В самом прямом. Мы совсем немного побеседуем, и всё станет на свои места. Тогда и в приличный кабачок можно закатиться.
– Вы же не мальчик, Лерой, – укоризненно сказал Ляхов, подвигая американцу раскрытый портсигар, такой же раритетно-шикарный, как и у его сотрудницы, Рыси-Герты.
– Натощак?
– Ничего, одна не повредит на фоне всего прочего. Закуривайте, заодно и мозги прочистите. Наверное, чтобы не заниматься «китайским бильярдом» (это выражение было Лютенсу незнакомо[124]), я сам вам сразу всё скажу, а вы тогда уже и будете соображать, «куды бечь».
– Буду вам обязан, а то и вправду, недоумений столько, что мысли разбегаются. Кстати, какое сегодня число?
– Завтрашнее, – усмехнувшись, ответил Ляхов. – Вы проспали, если можно так выразиться, примерно десять часов. Так что здесь всё нормально, никаких хроноклазмов…
– «Если можно так выразиться…» – Лютенс медленно повторил. – Насколько я знаю русский со всеми его нюансами, вы хотите мне намекнуть, что я вовсе не спал, а…
– Из вас выйдет хороший лингвист, если до пенсии доживёте, – похвалил Ляхов. – Всё верно. Спали вы весьма условно, за исключением трёх последних часов. До того находились в глубокой и в обычных обстоятельствах несовместимой с жизнью коме.
Он произнёс это спокойно, но у Лютенса внезапно задрожали пальцы, и он не с первого раза зажёг спичку, чтобы прикурить. Вместо зажигалки на столе зачем-то стояла старомодная спичечница со вставленным сине-красным коробком с надписью «Гигант». Таких спичек Лютенс в Москве в продаже не видел – раза в два толще обычных, с крупными головками зелёного, а не коричневого фосфора.
Удобно для курильщика-гурмана – горят долго, и запаха газа или бензина нет совершенно. Сигару или трубку особенно хорошо раскуривать.
– Не совсем понял, – сказал он, выдохнув первую порцию дыма. Голова сразу плавно закружилась.
– Да понимать особенно нечего. Траванули вас очень хитрым ядом, типа бинарного ОВ. Сам по себе он действует сравнительно долго, незаметно, приводит обычно к деменции или к инсульту. Но в сочетании с алкоголем превращается в нечто иное. Интоксикация становится ураганной. Судя по всему, травить вас начали дней пять назад, вчера вы резко усугубили и на выходе получили инсульт, очень качественный, – при этих словах Ляхов опять усмехнулся.
– Протянули бы вы, при вмешательстве самых квалифицированных врачей (а их ещё найти надо, а кому это нужно?), от силы пару дней, без всяких шансов на выздоровление. Случись это в посольстве – ваш врач констатировал бы хрестоматийный диагноз и зафиксировал закономерный исход. Но – исход евреев не всегда летальный, – неизвестно в каком смысле произнёс Вадим.
После с достаточно впечатляющими красочными подробностями рассказал, как именно плохо было этой ночью американцу и какие усилия пришлось предпринять Ляхову и его ассистентке, чтобы вытащить «исторического врага» с того света.
– Ну, это ведь не столько из врожденного гуманизма? – на середине рассказа перебил Вадима Лютенс. – Я для вас представляю, похоже по всему, значительную реальную ценность?
– Да это как раз как сказать, – потянулся за новой сигаретой Ляхов. – Скорее, инстинкты сработали: умирает на твоих глазах человек – надо спасать. Остальное – вторично. Понятно, что вам это странно, но тем не менее…
После этого Вадим сообщил, что никакая «традиционная медицина» американца бы не спасла. Во-первых, никто не догадался бы одновременно проводить реанимационные мероприятия и глубокий биохимический анализ, а значит, причина поражения организма осталась бы невыясненной и продолжающей действовать. Во-вторых – антидотов против использованного яда нынешняя фармакопея не упоминает.
– То есть тянули бы вас на искусственном дыхании и поддерживающих средствах часиков так десять, после чего удручённо развели руками и пошли эпикриз писать. Вот как раз сейчас, наверное, – посмотрел Ляхов на часы.
Лютенс почувствовал неприятный спазм в желудке. Да уж! Вместо того чтобы сидеть напротив окна, за которым разгорается утро нового дня, ехал бы он на морговской каталке, с головой, накрытой простынёй. По русскому обычаю – ногами вперёд.
Но, как сказано, самочувствие у него было просто великолепное, оттого мысль об ином варианте всерьёз его не зацепила. Ну, бывает же – покрышка на дороге лопнула. Однако кое-как машину удержал, в метре от обрыва, скажем. Вытер пот со лба, или как там ещё организм среагирует, закурил, представил, что могло бы случиться. Пережил, докурил да и дальше поехал. И профессиональные качества включились опять же. Это может показаться странным, но Ляхову он сразу поверил. Отчего, почему? Видимо, действительно есть вещи, которые нутром чуешь. Как, например, свою мимо пролетевшую смерть.
– Так каким же образом вы…
– Так мы же на самом деле специалисты. Если мы «покоряем пространство и время», сложно ли, увидев внезапно потерявшего сознание человека, просканировать его ауру, произвести бесконтактный анализ крови, слюны, мочи и прочих менее материальных субстанций и приступить к некоему аналогичному экзорцизму действу. А потом, если можно так выразиться (опять он повторил это не совсем обычное словосочетание), повторная рекомбинация. Сильно за полночь провозились, но и результат… Вы себя как чувствуете? – вдруг заботливо осведомился Ляхов, но даже попытки не изобразил потрогать пульс пациента, как принято ритуально, тем более давление померить. Совсем как в известном анекдоте[125].
– Превосходно, – честно ответил Лютенс.
– Вот видите. Желание будет – сходите к своему лечащему врачу, пусть диспансеризацию проведёт и сравнит показания с прошлыми параметрами. Теперь к делу.
– Подождите вы со своим… делом. Тут, можно сказать, потрясение основ и веры в действительность разумного…
– Скорее – разумность действительного…
– Не важно. Не перебивайте, я и так волнуюсь. – Прозвучало это как-то слишком по-театральному. Но, похоже, как раз поэтому от души.
– Получается, что на текущий момент мы имеем парапсихолога, гения диагностики и медицины а также властителя над временем в вашем лице? Совершенно иначе устроенный мир, параллельные вселенные и дубликат России в имперском варианте, тоже служащей вам?
– Ну, это вы уж чересчур хватили. Давайте снизим планку. Я и мои ассистенты владеем некими паранормальными способностями, мы умеем использовать свойства пространства и времени немного лучше, чем остальное человечество. И нам удалось найти путь на параллельную Землю, где обнаружилась вполне себе цивилизованная и дружественная к нам Россия. Да, другая, имперская, но стопроцентно аутентичная…
– А США, США там тоже есть? – не мог не спросить Лютенс.
– Куда б им деваться? Вполне себе нормальная страна, настолько же не похожая на вашу, как та Россия на эту. Только, в отличие от здешней, та Америка предпочитает дружить с Россией, не имея сил конфронтировать. И очень не любит Англию. Забавно? Мне тоже. Но ведь по большому счёту вполне естественно. Естественнее, думаю, чем странное партнёрство бывшей колонии с бывшей же метрополией…
– Интересно бы посмотреть своими глазами. Это ж, как вы понимаете, покруче открытия Америки Колумбом событие…
– Понимаю. Сам был в достаточной мере шокирован, но пережил, как видите…
Ляхов нажал где-то незаметную кнопочку, или просто по времени было согласовано, и в комнату вошла Герта-Рысь, одетая в довольно-таки короткий медицинский халат с белой водолазкой под ним и, очевидно, ещё более короткой юбкой. Она и в джинсах с кожанкой была хороша, а сейчас у американца даже перехватило дыхание. Вообще-то он считал, что в свои сорок лет не следует придавать женским прелестям такое уж большое значение, и темперамент у него был так себе, но сейчас он почувствовал, что явно помолодел лет на двадцать. Сообразно, нужно отметить, общему самочувствию.
– Так вы ещё и доктор, Рысь, – спросил он с некоторой иронией, весьма, впрочем, заметной.
– Нет, я ассистент мэтра. По всем вопросам. А халат – это так положено. Чтобы пациент не стеснялся, когда в палату к нему заходит малознакомая женщина, и чтоб посторонние мысли не возникали.
– Тут вы не совсем правы, – пошутил Лютенс, – белый халатик, как у вас, иногда, наоборот, вызывает…
– До того момента, когда начинаются назначенные врачом процедуры. Клистир, например. Читали у Гашека? Судя по описаниям, после него не до мыслей, – совершенно спокойно, с нейтральным лицом ответила Герта.
– Ты нам кофейку сообрази, – прервал тему Фёст. – Мне с коньячком, а пациенту в эту сторону ближайшие дни думать не показано… Так на чём мы остановились? – снова обратился он к разведчику.
– На новом мире и возможности посмотреть.
– Беспроблемно. Но, как понимаете, при соблюдении некоторых условий…
– Подписка о сотрудничестве? – скривился Лютенс.
– Вы до какого момента вчерашний вечер помните? – вопросом на вопрос ответил Ляхов.
– Бумаги помню, что вы мне показывали, и вроде о смысле моей вербовки разговор пошёл. Но там уже всё плывёт, подробности не отложились.
– Хорошо, про бумаги запомнили, второй раз за ними в сейф бежать не придётся. Так вот, имея возможность копировать такие документы, мне вашу расписку изобразить – делать нечего.
– Тогда что? Монолог перед телекамерой?
– Ну как вы всё приземлённо мыслите, Лерой. Вокруг вас картина мироздания рушится, «Последний день Помпеи» кисти художника Брюллова, а вы о такой ерунде. Нужны мне ваши расписки и интервью. Я хочу того, что Костя Остен-Бакен хотел от польской красавицы Инги Зайонц. Просто с сегодняшнего дня, с сего самого момента, вы становитесь сотрудником моего института. Я и документик вам выправлю, и оклад жалованья положу. Не хуже цэрэушного. Плюс квартирные, столовые, полевые, прогонные и пошивочные[126]. Взамен полная и нелицемерная лояльность. Корпоративный дух и так далее. Нынешней службе это мешать не будет. Согласны?
– А у меня есть выбор?
– Вот только не надо этой жалобной обречённости. Выбор всегда есть. Хотя бы как у Савинкова. – Фёст указал на окно[127]. – Но спешить некуда, ваш «долг», ваша организация, как и сама страна, на мой взгляд, не заслуживают того, чтобы из-за них с собой кончать. Впереди ведь столько интересного…
Вадим выпил свой коньяк, глотнул кофе, снова закурил, давая возможность «пациенту» обдумать его слова.
– И вы поверите мне, просто так, без условий и доказательств? – через минуту примерно ответил Лютенс, проглотив достаточно оскорбительный пассаж Ляхова. Впрочем… Что ему действительно эта Америка? Есть на свете места и поинтереснее.
– Если скажу – «да», уже вы мне не поверите. Исходя из менталитета. И, между прочим, напрасно. Я в людях разбираюсь. Не только без медицинской спецаппаратуры, но и без «полиграфа Киллера». Соврёте – увижу. Согласитесь сотрудничать и вздумаете двойную игру вести, тоже узнаю, даже если мы будем друг от друга очень далеко. А вам нужны неприятности? Серьёзные, я имею в виду. Лучше прямо сейчас откажитесь, и расстанемся, как уважающие друг друга люди.
– Нет, Вадим… Петрович, кажется? Отказываться я не буду. И готов вам принести, как её… вассальную клятву верности.
– Принимается, – коротко кивнул Фёст, но никаким другим движением не обозначил это самое «принятие».
– А как быть с тем… с теми, кто пытался меня отравить? Они ведь сильно… удивятся, что я вдруг жив.
– Я же говорил, препарат в принципе сильно пролонгированного действия. Они же не знают, сколько и чего вы именно вчера выпили, и едва ли достоверно представляют степень резистентности вашего организма именно к нему. А когда пройдёт контрольное время, я думаю, отравителям будет глубоко не до вас. Их, может, самих к тому времени… Бог накажет.
На этом имеющий судьбоносное значение диалог закончился, продолжился уже просто разговор двух понявших друг друга мужчин, которым больше незачем переливать из пустого в порожнее и размазывать белую кашу по чистому столу. Ни один из них, в конце концов, не был в молодости раввином[128].
Лютенс спросил Вадима, как можно объяснить странное сходство Герты-Рыси с военными девушками на блокпосту.
– И не сёстры, и типажи довольно разные, а вроде из одной семьи.
– При этом вы смотрели на тех девушек минут пять от силы…
– Зато нафотографировал я их вволю…
– Вот и чудесно. Сможете загнать в «Нью-Йоркер», допустим, баксов по тысяче…
– Куда как дороже, – теперь уже без напряжения улыбнулся американец.
– Значит, опять девушку обманули, Герту, я имею в виду…
– А как же? Если человек предлагает цент за вещь, что стоит доллар, кто же станет спорить?
– И я о том же…
Лютенс начал расспрашивать Вадима, как реально можно осуществить переход отсюда в другую Америку. Мол, интересно же до невозможности, во что превратилась его страна в тех обстоятельствах, в которых Россия стала новой Империей.
– Реально не слишком сложно, но долго. Сначала отсюда поездом или самолётом до того места, где есть терминал, потом уже оттуда обратно в Москву или любой город, имеющий воздушное сообщение с вашими САСШ.
– Там САСШ, не США? Как раньше было?
Ляхов пожал плечами.
– Как хотят, так и называют. Но особо ярких впечатлений я вам там не обещаю. Разве что – Родина… По сравнению с Россией – унылая страна. Представьте затянувшиеся больше чем на полвека времена Великой депрессии. Там Второй мировой не случилось, и денег, соответственно, со всего мира срубить не вышло. Чтобы было понятнее – за полдоллара, если он у вас есть, там можно плотно пообедать в обжорке. Никаких гамбургеров, похлёбка, свинина с бобами и чай. Перечитайте Ильфа с Петровым, «Одноэтажная Америка». Вот примерно так.
Лютенс призадумался.
– А в той же Москве?
– За полтину гораздо лучше, у Тестова, например. С непременной рюмкой водки.
Лютенс ещё подумал и задал последний вопрос, вполне естественный:
– Золотом два доллара за рубль.
– Так у нас, выходит, дешевле?
– В Зимбабве ещё дешевле, – хмыкнул Ляхов без всякого уважения к национальным чувствам собеседника. – Только у нас зарплата рабочего сто рублей в месяц, а там – 40 долларов.
Ещё некоторое время поговорили фактически ни о чём. Лютенс задавал разные вопросы, иногда с подтекстом, иногда без, Ляхов отвечал, и всё это походило на разговор давно друг друга знающих людей, одного круга, но не связанных дружескими узами. Да и странно было бы, чтоб два – по-любому суди – непримиримых врага вдруг в чисто библейском стиле обратились бы в агнцев, мирно щиплющих травку в саду Эдема.
Случилось по-другому. Лютенс, являясь гражданином государства, по факту составленного из в той или иной мере предателей, с самого основания Нового Амстердама: людей любых национальностей, отказавшихся от родины, какой бы она ни была, исключительно ради более толстого куска хлеба, тем более если с маслом, на генетическом уровне не имел механизма, категорически исключающего переход на сторону врага. Или хотя бы не исключающего совсем (человек слаб), но на уровне так называемой совести подобный переход осуждающего.
Для американца открылась перспектива гораздо более интересной и, скорее всего, выгодной жизни. Так отчего бы не перезаключить контракт?
Об этом вскоре и пошёл у них разговор: об условиях «трудового соглашения», о содержании предстоящей работы, о гарантиях личной безопасности нового «сотрудника» и, само собой, о жизненных перспективах.
– Знаете, я вам где-то даже завидую, Лерой. Получая массу бонусов, вы фактически ничем не рискуете, в отличие от банальных двойных и тройных агентов. Вам не придётся переходить границу, таща на себе контейнер с бациллами бубонной чумы, выкрадывать из сейфа начальника очередной «план Дропшот»[129], вообще снабжать меня какой-то секретной служебной информацией. Со всем этим я легко справлюсь без вас, оперативные возможности у меня неограниченные. Способности тоже, – после короткой паузы скромно добавил он. – А вы должны будете всего лишь продолжать честно исполнять свои служебные обязанности. Сейчас ведь в Москве сложилась очень странная для вас и для всех заинтересованных лиц ситуация. И в ней необходимо разобраться. Так и доложите своему начальству – случилось, мол, непредставимое и непредсказуемое, мы пали жертвой подлой измены и дьявольской дезинформации, но вы, именно вы, Лютенс, уже вышли на след и движетесь по нему со скоростью русской борзой. Никому другому это не под силу. Я думаю, Вашингтон эту наживку сглотнёт. А материала я вам предоставлю достаточно. Да вы и сами много накопаете, уверен. Как только пойдёте по всем своим здешним контактам. От пресловутого и таинственного Директора, он же Владислав Борисович, и до трусливо сейчас сидящих по своим кухням «идейных и креативных» борцов с «прогнившим режимом». Деньги вам нужны?
– На служебные надобности пока есть, если Лэнгли финансирование не обрежет, а аванс в счёт будущих гонораров возьму охотно…
Лютенс, что достаточно удивительно, почти бесконтрольно (нельзя же расписку агента на клочке бумаги считать финансовым отчётным документом) распоряжался солидными суммами, но ничего не брал себе. Даже счета из ресторанов, где обедал или ужинал с нужными людьми, прикладывал к отчётам. Немецкая натура, наверное, сказывалась. В Освенциме тоже золотые зубы и кольца тщательно приходовались и почти не расхищались. До сих пор, говорят, в ячейках швейцарских банков контейнеры с этим золотом лежат.
Но вот прибавка к легальной зарплате разведчика интересовала очень, и он с чувством глубокого удовлетворения принял из рук Фёста пачку долларов. Небрежно так протянутую.
– А сколько здесь? – недоумевая спросил Лютенс. – Посчитать же…
– Бросьте этих глупостей, Лерой. Знаете анекдот: сын просит у отца денег на ресторан. Возьми в тумбочке, отвечает тот. А сколько? Возьми столько, – Ляхов показал пальцами толщину примерно в сантиметр. – А если не хватит – спрашивает сын. – Тогда столько, – и раздвинул пальцы вдвое шире.
– Понятно, – ничего на самом деле не поняв, кивнул Лютенс. Вот это манера дела вести. Поэтому, наверное, русские всегда и во всем выигрывают, если, конечно, захотят. Разве это подход цивилизованного человека: «Мы за ценой не постоим!»?
– Вот примерно так я с вами и буду рассчитываться, уважаемый… – Ляхов на секунду задумался, соображая, какой бы псевдоним новому агенту изобрести. – Канарис[130], – вдруг осенило его.
– Почему Канарис?
– Как же. Во-первых, немец, во-вторых – талантливый разведчик, в-третьих – тоже… разносторонняя личность, в-четвёртых, оперативный псевдоним должен иметь как можно меньше общего с личностью агента. Дать действительно горбатому уголовнику псевдоним Горбатый – это не принято. Ваш же настолько близок вашей натуре, что никто, безусловно, не догадается.
Лютенс подивился причудливому ходу мысли нового куратора, но возражать не стал. Уж больно ему понравилась манера «парапсихолога» вести финансовые дела. Судя по толщине пачки, тысяч около двадцати пяти там есть. Неплохо для первого знакомства.
– Всякая ценная информация будет оплачиваться особо, – как бы понял ход его мысли Фёст. – Знаете, в царской России было принято таможенникам и пограничникам выдавать вознаграждение в размере шестидесяти процентов от цены конфиската. Тем самым полностью исключалась возможность мздоимства. Я вам тоже буду платить столько же от реальной ценности вашей информации или проделанной работы. Согласны?
Лютенс кивнул.
– Значит, на данный момент с делами покончено. Как я и обещал, можем в обществе Герты съездить в какое-нибудь заведение, отметить ваше чудесное спасение и обмыть адмиральские нашивки.
Разведчик сначала не понял, потом до него дошло – он же теперь «адмирал». Остаётся надеяться, что смерть в железном ошейнике ему не грозит[131].
К послу Крейгу Лютенс вошёл в прямо-таки прекрасном расположении духа. Он не мог сдержаться, ощущение молодости и телесной силы переполняло его. Тем более в украинской корчме «Тарас Бульба», куда свободно пускали только обладателей членских карточек, а прочую публику – по предварительной записи, Ляхов внимательно на него посмотрел и сказал, что спиртное ему, пожалуй, уже не противопоказано. И слава богу, потому что поедать все значащиеся в меню изыски малороссийской и сопредельных кухонь «всухую» было бы невмоготу.
Вот разведчик и принял понемногу разных напитков, но в массе достаточно, чтобы посол не удивился. А то действительно, неделю пил не просыхая и вдруг даже без запашка пришел.
Своё хорошее настроение он тут же принялся многословно объяснять послу тем, что нашёл устраивающее всех решение проблемы, которая Крейга тоже немало беспокоила. Как там посмотрят, а то ведь могут выпереть без всякой жалости, с «волчьим билетом». И ему что тогда, идти русский язык в захудалом провинциальном университете преподавать? В Госдепе это умеют – найти козла отпущения и гнобить его без пощады, отвлекая внимание от не менее виноватых, но неприкасаемых персон.
Посол слушал его с крайне кислым выражением лица. Разведчик его с самого начала раздражал просто как человек, безотносительно к роду занятий и личным отношениям, но сейчас его терпение подошло к пределу.
– Вы не думаете, что вам бы стоило бросать пить? Тем более в служебное время. Вы всё-таки секретарь посольства…
– Я служебное и личное время не разделяю. Я всегда на посту. А если вы желаете получить значащую информацию от русского, который пригласил вас в ресторан, то игнорировать… Я бы поостерёгся. Знаете, есть у них поговорка: «Кто с нами не пьёт, или больной или мерзавец» (правильное «подлюка» он употреблять не стал, как диалектное). Сами понимаете, на больного я не похож, а с мерзавцами конфиденциальной информацией в этой стране делиться не любят.
– Смотрите, вам виднее. Хочу только поставить вас в известность – мне сообщили, что назначено сенатское расследование по поводу здешних событий. Секретное, разумеется. Официально Сенат к московским делам не имеет никакого отношения. И, насколько мне стало известно, ни АНБ, ни ряд других организаций в качестве объектов не рассматриваются. Всё замкнётся на ЦРУ и, пожалуй, на мне. Как вам эта новость?
– Новость как новость. Понятно, что Сенат в установлении истины не заинтересован, но отчего они решили спустить собак именно на нас?
– Оттого, что все другие ведомства успели прикрыть свою задницу раньше. Вам нужно разъяснять нынешний расклад сил в Вашингтоне?
– Спасибо, не надо.
Лютенс сел и, не спрашивая у посла разрешения, взял из восьмигранного серебряного стакана у него на столе тонкую зелёную сигару. Только прикурив, небрежно осведомился:
– Вы не против?
Крейг только махнул рукой, мол, чего уж теперь в деликатность и воспитанность играть.
– Те четыре сучки плотно обложили президента, и без их инструкций он шагу ступить боится. Хотя мог бы раздавить всех четверых одном пальцем.
– Мог бы – раздавил, – философически заметил Лютенс. – Но пока давить будут нас с вами. И не думайте, Алисон, что вам удастся меня сдать, а самому выкрутиться, перебежав на любую из выигрывающих сторон. Не получится… – Он хитро улыбнулся и покачал перед носом посла дымящейся сигарой.
– Вы совсем пьяны, Лерой, и не понимаете, что несёте…
– Ещё как понимаю, и вы понимаете, что я понимаю, и я понимаю, что понимаете, а в чём ошибаетесь вы.
– Не слишком ли вы завинтили?
– А русские и говорят, что на всякую хитрую задницу есть что-то там с винтом. Они всегда выражаются очень расплывчато, зато поступают до отвращения конкретно. Я решил брать с них пример. Когда проигрываешь, вполне ведь естественно перейти на тактику и стратегию противника…
– Что-то я вас совсем не понимаю, Лерой. Может быть, вам налить ещё немного, и вы пойдёте спать? А завтра на свежую голову мы подумаем…
– Да что там думать, всё давно известно. – Лютенс расстегнул застёжку папки, что принёс с собой, достал несколько листов принтерной бумаги.
– Посмотрите. Вот это, сверху – лично для вас, чтобы не думали, что Боливар не снесёт двоих. Ещё как снесёт. А ниже – это для Госдепа, АНБ и лично президента. Едва ли увольнение и разжалование какого-то никчёмного полковника и не менее никчёмного посла, даже не карьерного, стоит скандала, который непременно разразится в случае опубликования вот этого… И это даже не вершина айсберга, это пыль на снегу, покрывающем его вершину…
Крейг сначала просто пошёл красными пятнами, возникавшими на его лбу и щеках крайне несимметрично, потом натуральным образом посерел. Лютенсу даже стало интересно, не в родстве ли с хамелеонами его посол, уж больно у него кожа цветодинамична…
– Откуда у вас… это… – Голос Крейга звучал сейчас, как будто воспроизводилась на патефоне старинная бакелитовая пластинка, сипло и невнятно.
– Вы о первом или о втором? – добродушно осведомился Лютенс, вытягивая ноги почти до середины кабинета. – Я, как-никак, разведчик, и по должности и по призванию. Мне с самого начала было неприятно, как вы на меня смотрите, говорите со мной, что отписываете обо мне наверх. Коллеги, впряжённые в один воз, так себя не ведут. Вот я и решил подстраховаться. Правда, интересные бумажки? Кто бы мог подумать, что старина Крейг занимается такими делами? Это ведь не увольнением пахнет, это крах всей вашей жизни вообще. Как достойного человека, я имею в виду. Физическое существование вы при желании продолжать сможете, конечно…
Посол, не говоря ни слова, просеменил (вот именно, даже походка у него изменилась, а что вы хотите?) к шкафу, достал бутылку коллекционного скотча с рукописной этикеткой от производителя, дрожащими руками набулькал себе полстакана.
– Эй, ваше превосходительство, а меня уже забыли? Делиться надо, как говорил бывший русский министр финансов…[132]
Болтая в стакане виски с позванивающими ледяными кубиками, цэрэушник говорил увещевающе:
– Не нервничайте, Алисон, а то вас kondraschka хватит. – Наверное, вспомнив, как его самого чуть не хватила. – Я вас сдавать никому не собираюсь, просто подстраховываюсь слегка. Этот незначительный факт вашей биографии никак не может повлиять на нашу дружбу, настоящие друзья иногда знают друг о друге и не такое… Жизнь есть жизнь. Выпейте, выпейте, можно до дна. Sposobstvuet.
Крейг послушно выпил, как ребёнок прописанную доктором микстуру. Даже не поморщился, запил глотком содовой.
– А вот насчёт второго блока информации… Вы, конечно, удивитесь, что, располагая сведениями о номерах и паролях швейцарских банковских ячеек, где хранится переоформленное на новых, вашингтонских, владельцев нацистское золото, возможно – прямо из Освенцима, я не воспользовался этой информацией в личных целях? Чего уж проще – по-тихому уволиться, уехать, раствориться и потеряться, забрать товар, после чего jit pojivat i dobra najivat… А поверите – мне просто противно, да и это слишком мягкое слово. Нашим хозяевам едва ли противно, им, может быть, просто страшно прикасаться к этому золоту, но и отказаться от него – выше их сил. Не зря же, когда ребята Донована[133] нашли эти счета, их по одному убрали s koncami, счета по приказу Трумэна переоформили и до сих пор чего-то ждут. Причём, как вы видели, о существовании этих счетов знают как раз те люди, от которых для нас с вами исходит максимальная угроза…
– Пять тонн золота… – словно в трансе произнёс посол.
– Пожалуй, намного больше, и большинство – в «необработанном виде». Шёл сорок пятый год, немцы просто не успевали. Там, наверное, ещё и клише для печатания долларов и фунтов, и «готовая продукция», что и сегодня представляет немалую ценность…[134] Вы как знаете, Крейг, а я вряд ли смог бы заставить себя прикоснуться к зубным коронкам, содранным… Ладно, не будем. Пусть они лежат там, где лежат. Исходя из национальной принадлежности банкиров, это можно считать разновидностью ритуального захоронения… Понятное дело, опубликование всех этих материалов, да ещё и помещение в открытый доступ всех реквизитов вызовет массу интересных коллизий. Вы только представьте…
Посол представил.
– Вас же просто убьют, Лютенс. Даже не для того, чтобы скрыть тайну, просто в отместку. Чтобы другим неповадно было, отныне и до веку.
– Ну, это мы ещё посмотрим, кто кого распнёт[135], – непонятно сказал разведчик.
– Но как это всё к вам попало? – спросил Крейг (едва не добавив – «вы же всю неделю пили, не просыхая»), это же стоит миллиарды и миллиарды, по крайней мере вам заплатят миллиарды и с той, и с другой стороны, хотя и по разным причинам…
– Знаете, Алисон, – Лютенс набрал в рот виски, тщательно пополоскал и сплюнул прямо на ковёр, демонстрируя, как несложно изобразить «беспробудное пьянство», – я никогда не метил в политики, но всегда был разведчиком очень неплохого класса. По нашему внутреннему рейтингу – точно из «первой сотни». Сейчас, по Бисмарку, политика пришла за мной. Я отреагировал. Ведь вы, Крейг, даже не представляете, на каких уровнях и горизонтах российского истеблишмента мне приходилось эти годы вращаться… – Он хрипловато засмеялся и восполнил выплюнутый виски новой порцией, принятой уже правильно.
– Пресловутый «Директор» и всё его окружение на самом деле составляли высший по отношению к русскому Президенту круг власти. «Деньги и информация правят миром», не так ли? Это ведь ваши слова, Алисон. Вот пришёл момент, когда и деньги и информация превратились в тлен для некоторых лиц. Ну, не совсем в тлен, но в средство, чтобы купить себе жизнь и относительную свободу в обмен на миллиарды долларов и миллиарды гигабайт информации. Знаете, Алисон, – послу показалось, что разведчик всё-таки пьян если не от алкоголя, то от самой невероятности происходящего, – знаете, мне очень смешно было смотреть, как человек, куда могущественнее нашего президента, выкладывал мне всё, что имел, в обмен на возможность доехать на машине с посольскими номерами до моего личного самолёта в Шереметьево, у которого уже был подписан открытый полётный лист. Очень смешно, – повторил Лютенс и взял новую сигару.
– Мы бы с вами, Алисон, сегодня тоже могли бы стать богачами, я не жадный, я бы с вами поделился – но вы когда нибудь слышали такую максиму: «Честь дороже». Вы знаете – это правда. При любом повороте событий мы сохраним незапятнанной репутацию, а некое шестое или седьмое чувство мне подсказывает – она тоже очень скоро станет товаром первого спроса.
Этого Крейг вообще не понял, ну не в том он был состоянии, чтобы воспринимать высокие философские истины.
Часом спустя, проводив Лютенса, Крейг буквально кинулся в комнату спецсвязи посольства. Сначала он достаточно спокойно и подробно, в соответствии с протоколом доложил по всем трём адресам, перед которыми ему полагалось отчитываться, голую канву беседы со спецпредставителем ЦРУ, фигурой по любым раскладам из «тяжёлых». Где-то подробнее, где-то более сжато доложил о том, что Лютенс работу продолжает, несмотря на осложнение обстановки, и мешать ему нельзя ни в коем случае. Пары намёков, почему именно нельзя, хватило, чтобы сам посол получил очередной карт-бланш. В Вашингтоне по-любому ничего не понимали, и слова человека, утверждающего, что понимает, большинством воспринимались как повод просто перевести дух.
Четвёртый звонок Крейга был уже совсем другого содержания. Здесь он докладывал по сути, и суть заключалась не в каких-то там личных секретах или «неразгаданных тайнах» тонн нацистского золота. Посол (да и не посол в данном случае) сообщал о невероятной информированности резидента и запрашивал инструкции. Впервые за всё время своей службы. Раньше инструкции приходили сами и никак не зависели от сегодневного настроения посла.
Встречу Лютенса и Крейга «в прямом эфире» наблюдали Фёст, Герта и Мятлев. Вторая и третий – скорее для того, чтобы лучше понять настоящие возможности «Братства».
– Ну и как? – спросил Вадим, отключая систему.
– Впечатляет, – ответила Герта, Мятлев молча развёл руками.
– Означенную местную публику, включая посла и всё его «либерально-демократитческое окружение», выдаю вам головой[136], это как сами решите. С ними мне делать нечего, говорить тем более. Цэрэушник за мной остаётся, ну и вот эта связь, что я так ждал, само собой. Сейчас всем разрешаю отдыхать. Согласно уставу, раздевшись и при желании в постели[137].
Фёст неприкрытым образом издевался, то есть развлекался.
– А вот мне спать не придётся. По всем часовым поясам придётся ловить старшего партнёра господина Крейга, которого провал мятежа волнует меньше, чем семьдесят лет назад вырванные зубы. И я уже знаю почему. Потому что у его не успевших сбежать в Лиссабон[138] родственников именно там и жизнь отобрали, и всё, включая зубы, если они на них коронки носили, разумеется. Иногда люди, имеющие власть сегодня, бывают удивительно недальновидны.
Глава девятая
На сегодня у Воловича было намечено много дел. Он и так пробездельничал слишком долго, хотя едва ли можно назвать таким уж бездельем процесс излечения от достаточно тяжёлой (по его мнению) раны. Назови её лёгкой – и останется только неприятная топография, над которой каждый не преминет покуражиться – тема уж больно благодатная. Особенно в его сомнительном, с точки зрения «человека чести», положении. Людям лагеря, к которому он сейчас примкнул, путь «нравственного возрождения» Михаила вообще не интересен, они мыслят другими категориями, а вот бывшие соратники оттянутся по полной хоть на его «филейной части». Сама собой вспомнилась фраза Ляхова, точнее, не его, а Достоевского, но Вадим употреблял её довольно часто, и многие думали, что сам и придумал: «Либеральный террор хуже жандармского (или – полицейского, по-разному говорилось)».
Кроме того, в своём полупостельном режиме журналист и работал тоже. Несколькими написанными им текстами, жаль, что «редакционными», то есть без подписи, без всякой натяжки можно гордиться. Блестящая, можно сказать – пламенная публицистика. Впоследствии их, пожалуй, можно будет включить в какой-нибудь автобиографический труд. Или сборник статей и эссе. Название он уже придумал: «В дни поражений и побед». Воловичу казалось – это звучит красиво.
С утра он намеревался обсудить с Ляховым-Фёстом и одним из помощников Президента конспекты нескольких «установочных»[139] и контрпропагандистских статей для завтрашних номеров «Известий» и «Свободного слова». Именно «Слово», как газету достаточно авторитетную и «либерально-патриотическую», ранее в сотрудничестве с «режимом» не замеченную, решено было сделать официозом, рассчитанным на читателя из вышесреднего класса, одним и более высшим (причём – солидным) образованием, не летально инфицированного вирусами умеренного либерализма и просвещённого западничества. А сохранение прежнего названия – это так, эстетский штришок для посвящённых и подтверждение «направления», как в девятнадцатом веке выражались. Владелец и издатель ни в коем случае против «мягкой переориентации» не протестовали, наоборот – всемерно приветствовали.
Вообще Волович знал о стиле и методах работы журналистики «прежних времён» больше понаслышке и со студенческих лет привык зло издеваться над «агитпропом»[140]. Но за последние несколько дней начал осознавать, что дело это весьма тонкое и интересное. В чём и заключалась основополагающая ошибка его и вообще всех прежних соратников и единомышленников – в отсутствии системности и, так сказать, целеполагания. Что толку писать и печатать крикливые, внешне вроде бы неплохо сделанные статьи, эссе, стихи и прочие «эманации громокипящего разума», бичующие нынешнюю власть, серость и никчёмность бытия, свинцовые мерзости режима, если отсутствует Основная идея, как бы сводящая в единый фокус внешне даже и не связанные материалы?
Каковы уж там были те пропагандисты XIX – начала ХХ века на самом деле – не нам судить, но своё дело они знали. Долбили в одну точку, опираясь на «единственно верное учение», чётко разъясняли, «кто виноват» и «что делать», почему «верхи не могут», а «низы – не хотят», и добились-таки своего. Причём, в отличие от нынешних «борцов», предпочитающих при малейшем намёке на опасность для своей, как американцы выражаются, «задницы», «валить из Рашки», реально рисковали и свободой, и, случалось, жизнью. Всего за двадцать лет, без телевидения, Интернета, скайпа, социальных сетей и прочих чудес науки и техники, только листовками и несколькими нелегальными и полулегальными газетами плюс устной агитацией сумели разрушить великую империю и не менее великую культуру. Построить свой, «новый мир». Пусть всего на семьдесят лет, но важен, как говорится, «креатив и месседж»! А что потом у народонаселения наступит «когнитивный диссонанс» – это уже забота следующих поколений.
Беда Воловича и прочих пахарей на ниве отечественного либерализма в том и заключалась – они не могли (просто не понимали сами) предложить гражданам, населению, электорату, наконец, никакой системно-позитивной программы, да ещё с простой и понятной инструкцией по сборке. Как, с помощью каких инструментов, в какой последовательности и, главное, для чего делать что-то, долженствующее преобразить жизнь прямо завтра. Для всех, даром, и чтобы никто не ушёл обиженным. Кроме тех, разумеется, кто подлежит люстрации[141], а то и физической ликвидации.
Теперь Михаил, вынуждаемый обстоятельствами и умело перевоспитываемый «старшими товарищами», почувствовал вкус именно к системной работе по продвижению в массы идей простых, понятных, а главное – естественных. Конечно, естественных – в рамках предложенной ему только что парадигмы[142]. Новая парадигма представлялась простой, логичной и понятной, могла служить руководством к действию не хуже строк «Интернационала», при этом отнюдь не была оторвана «от земли» и на самом деле в перспективе обещала исполнение желаний и чаяний всем, кто готов был приложить к общему делу достаточно воли и сил. А как писал Некрасов, «воля и труд человека дивные дива творят».
В этом примерно направлении, хотя и немного другими словами, он и размышлял сейчас, готовясь к первому после переворота самостоятельному выходу в город. Тот, когда он выскочил в Москву по звонку Вяземской, как бы не считался. Он по приказу прибежал, под неожиданно сильным нажимом Герты разом потерял весь свой кураж и сдал с потрохами советника Лютенса, о связи с которым молчал до последнего. Просто берёг, как ключ от двери запасного выхода.
Ляхов, которому девицы, несомненно, передали всю выкачанную из Воловича информацию, ни словом ни взглядом не намекнул, что сведения об американце как-то повлияли на их нынешние взаимоотношения. Глядя на невозмутимость Вадима Петровича, он даже подумал, что вся сцена была разыграна девицами для собственного развлечения. Сидели, сучки, мороженым с коньяком баловались и решили из себя контрразведчиц изобразить и перед ним, Михаилом, повы…. пендриваться. Эх, его бы воля, он бы с ними, с каждой по отдельности и с обоими сразу тоже… Такими мыслями Волович отгонял воспоминание об унизительном страхе, охватившем его при взгляде в пронзительные глаза Герты.
Ну и хрен с ними! Михаил чуть не обгадил штаны, сдал своего куратора и теперь предпочёл и об этом факте, и о самом человеке забыть. Как там с ним поступит улыбчивый, но беспощадный Фёст, Воловича больше не волновало.
«Переворот» журналист подразумевал не государственный, а свой личный, нравственный. И он требовал полной смены имиджа. Прежний облик и манера одеваться сегодня решительным образом не подходили. Зря, что ли, всякие помощники аптекарей, приказчики галантерейных магазинов и ученики скорняков (дочки царских генералов и губернаторов тоже), «идя в революцию», первым делом меняли партикулярное платье на красные галифе, кавалергардские шевровые сапоги с серебряными шпорами и кожаные куртки самокатчиков[143].
Сейчас преобразиться таким образом не представлялось возможным, если только не попросить зачислить себя по разряду военных журналистов. Волович представил себя, перетянутого ремнями и в скрипящих сапогах, поморщился. Явно отдаёт карикатурностью. Вроде той машинистки у Булгакова, в солдатских кальсонах[144]. Времена нынче совсем не те, и столь радикальная трансформация наверняка вызовет как минимум злую иронию. У того же Фёста, человека со сложным, не совпадающим с имевшимся у Михаила чувством юмора.
Значит, нужно нечто среднее. И очень быстро Волович решил, что именно. Хорошо, что он постоянно подслушивал разговоры Людмилы и Герты между собой, сначала случайно, а потом намеренно-систематически. Уж очень много интересного девушки говорили, думая, что поблизости нет никого; в том числе и пикантности всякие, до которых Михаил был большой охотник. Друг с другом женщины часто такие вещи обсуждают, что мужикам и в голову не придёт подобным образом откровенничать. Попутно он узнал, что в этой квартире можно найти всё, что может потребоваться её непростым обитателям для служебных надобностей. Одежда, безусловно, к числу необходимых предметов относилась.
Закончив бриться, он запахнулся в безразмерный банный халат и направился во вторую половину квартиры, что использовалась «хозяевами» в качестве своей приватной территории и каким-то образом не являлась в полном смысле «частью этого мира». Оставаясь с ним нераздельно связанной. Заходить туда «посторонним» прямо не запрещалось, но негласным образом не приветствовалось.
Однако сейчас Воловичу нужно было обратиться к одной из девушек с просьбой, и он, сделав как можно более независимый вид, направился длинным полутёмным коридором в сторону кухни, ничем абсолютно – ни планировкой, ни меблировкой – не отличающейся от такой же в общедоступной части квартиры. И на полпути вдруг остановился, услышав голоса из-за неплотно прикрытой двери кабинета.
Если бы не остановился и не прислушался, жизнь его наверняка сложилась бы иначе. Как и многие персонажи этого повествования, Волович, ничуть об этом не подозревая, совсем малозначительным действием перевёл стрелку. И «поезд его жизни» покатился, образно выражаясь, не в Сочи, а куда-то в сторону Воркуты.
Разговаривали Ляхов и Людмила. Подслушивать, как уже было сказано, Михаил любил. Приватные разговоры людей, думающих, что они общаются наедине, очень часто несут в себе массу не всегда конкретной, но достаточно полезной информации. А сейчас по нескольким случайно уловленным словам Волович понял, что речь идёт как раз о нём. И остановился, одновременно соображая, как себя поведёт, если его застанут за не совсем благовидным занятием.
– Знаешь, милый, – говорила Вяземская, – я совершенно не понимаю, что за фигура этот ваш Миша (она так произнесла его имя, что журналист непроизвольно прикусил губу и сжал пальцы в кулак). Разве можно сменить ориентацию на сто восемьдесят градусов и при этом держаться как ни в чём не бывало? Ни следа душевных терзаний, хоть тени стыда или за прошлое, или за нынешнее поведение…
В ответ Ляхов коротко рассмеялся. Послышался щелчок зажигалки, и через секунду в щель потянуло дымком очень хорошего трубочного табака. Судя по звукам голосов, собеседники стояли или сидели в дальнем углу кабинета, скорее всего – в креслах возле окна. Значит, неожиданно к двери никто из них не подойдёт и Волович успеет переместиться к переходу с одной половины квартиры в другую. А если услышит шаги позади – метнётся в кухню. Якобы в поисках какой-нибудь выпивки, это будет выглядеть достаточно естественно. На другой кухне она тоже есть, но он сделает вид, что просто ошибся поворотом. Как у Грибоедова: «Шёл в комнату, попал в другую…» А заблудиться в этой «нехорошей квартире» – пара пустяков.
– Не в том ты времени живёшь, Людок, – ответил Ляхов. – У вас там всякие отжившие понятия до сих пор в ходу. Ты ещё предположи, что наш приятель мог бы и застрелиться от невыносимых душевных терзаний. Увы, увы! Не то время и не те люди. Хотя и в твоём времени существует поговорка: «Плюй в глаза, всё божья роса». Не за того ты Мишу и ему подобных держишь.
– Ну как же? – В голосе валькирии прозвучало самое искреннее удивление пополам с недоумением. – Разве, совершая предательство, человек не понимает, что именно он делает? И как следует оценивать его поступок? В моем понимании любой предатель и ренегат – подлец, но не дурак же, не отдающий себе отчёта?
– В том и разница между ними и тобой. Они таких вещей действительно не понимают. Как слепые от рождения не представляют, что такое голубое небо и как на нём выглядит малиновый закат…
И дальше Ляхов начал растолковывать девушке тонкости психологии людей, подобных Воловичу, причём в столь точных и выверенных периодах[145], иногда не совсем приличного содержания, что Людмила, не служи она уже два года в российской армии, непременно должна была залиться краской и прервать жениха возмущённым вскриком.
Михаилу вдруг показалось, что Вадим знает о том, что их подслушивают, и адресуется не к подруге, а непосредственно к нему, чтобы уязвить побольнее и выразить всю степень своего презрения.
«Ах ты!.. – подумал Волович. – Я, значит, такое же дерьмо, как генерал Власов! А сам-то ты кто? Весь в белом? А услугами подобных мне с улыбочкой благодарности пользуешься… Потому я вас всех ещё сто раз продам, снова куплю и посмотрю, как вы на МОЕЙ веревочке выплясывать будете!»
Пожалуй, он счёл бы себя гораздо меньше оскорблённым, будь подобные характеристики и умозаключения высказаны ему в лицо прилюдно. Там можно было бы сделать мину оскорблённого достоинства, страдающего от ненависти «бессмысленной черни», и найти подходящие слова, чтобы дезавуировать оппонента. Полемистом Волович был опытным и, пожалуй, в словесной дуэли имел шанс свести счёт хотя бы вничью. Но когда ты слышишь такое, не имея возможности ответить, а девушка, весьма тебе не безразличная, заливисто и явно одобрительно смеётся…
Тут, господа, даже вызов на дуэль не принёс бы удовлетворения. Не тот вариант. На дуэли и сам пулю схлопотать можешь. Иначе нужно – без спешки и наверняка. Вы обо мне такого мнения? Хорошо же. Вам придётся убедиться, что я гораздо хуже. Для вас. И пусть участь некоего Эдмона Дантеса покажется вам не более чем мелкой неприятностью, не заслуживающей внимания.
Как именно он будет мстить, тоже как Дантес, но из второго тома или иным образом, Волович ещё не решил, но то, что месть будет ужасна и неотвратима, он осознал мгновенно. Мало кто подозревал об этом, но с юных лет Михаил умел ненавидеть и уязвлять противника талантливо и изощрённо. Можно сказать – со вкусом. И не важно, кто имел несчастье навлечь на себя это чувство – демонстративно отказавшая ему на выпускном вечере одноклассница или целое, имевшее неосторожность в чём-то разочаровать и унизить Воловича государство.
– Только ты, Людок, пожалуйста, не демонстрируй ему свою неприязнь столь наглядно. Полюбезнее будь. Нам с этим кадром ещё работать и работать. Тем более возбуждаешь ты его. Пусть он лучше онанирует на твою фотографию, украдкой телефоном сделанную, глядя, чем злобу копит…
– Фу, какие гадости ты говоришь. – По тону Людмилы Волович представил, какое у ней стало выражение лица. – Это ж только вообразить – стошнит…
Продолжая свой внутренний монолог, по накалу страсти не уступающий годуновскому, про «мальчиков кровавых», Михаил бесшумно вернулся к порогу своей комнаты и уже оттуда начал оглашать квартиру шутливыми стенаниями, призывая кого-нибудь из хозяек квартиры откликнуться.
Здесь последние дни постоянно находились Людмила Вяземская, в качестве выздоравливающей, Герта, совмещающая должности охранницы и сожительницы Мятлева, и исполняющая роль вроде как коменданта этого погранпункта между двумя мирами Галина Яланская.
Кто-нибудь непременно отзовётся на его призывы, вполне вписывающиеся в роль, которую он для себя придумал при общении с девушками «вне службы».
И хотелось ему, чтобы это была не Людмила. Он с самого начала их знакомства спокойно общаться с Вяземской не мог, хотя и не показывал вида. Прав, чёрт возьми, этот хам Ляхов. Слишком сильно она на него воздействовала и внешностью, и гормональным фоном, да и психологически тоже. Испытывая одновременно сексуальное влечение и неконкретный, но отчётливый дискомфорт, Михаил предпочитал (особенно наедине) говорить с ней покороче и по делу, стараясь с независимым видом скользить взглядом мимо её глаз, да и всей фигуры в целом. Но по ночам нередко представлял «валькирию» (придумают же названьице) в самых соблазнительных для себя и унизительных для неё позах и положениях.
Однако именно Людмила немедленно появилась, будто и не общалась только что со своим дружком за тремя поворотами коридора, а за нею почти сразу и Герта, одетая по-походному, явно в город собралась, неизвестно только, в какой именно.
– Что случилось? – спросили обе почти в унисон и на самом деле выглядели как минимум встревоженными. Не знал бы Волович об их истинном отношении к нему – непременно бы в очередной раз купился.
– У тебя что, кровотечение открылось? – предположила Герта, изгибаясь, чтобы заглянуть за спину журналиста, на его задний фасад.
– При чём тут кровотечение? Я просто погромче позвал, стены у вас тут толстые и двери…
– А, ну и слава богу, – с видимым облегчением вздохнула Герта, а Людмила пренебрежительно скривила губы. Мол, понаехали тут, да ещё и выпендриваются.
– Тогда что, проголодался? – спросила она.
– Ну что вы всё о низменном? – шутливо, с широкой улыбкой удивился Волович. – Тут, барышни, такое дело… Мне в город надо, с руководством право на свободу передвижения согласовано, – сам не понимая почему, будто оправдываясь, пояснил Волович, – а одеться как бы и не во что. Ну, в смысле, для нового содержания как бы и новая форма требуется, чтобы, значит, вполне соответствовать…
Михаил представил, как воспринимаются его слова со стороны, и ужасно сам себе не понравился. Беззубое вяканье какое-то, словно пацан, схваченный за ухо во время написания матерного слова на заборе, пытается объяснить, зачем он это делал. Всё-таки не получилось сразу взять себя в руки как следует. Надо срочно менять тональность, а то заподозрят что-то.
– Ну так а мы при чём? – спросила Вяземская весьма прохладным тоном. Ничего не могла поделать, несмотря на предупреждение Вадима. Да ещё и его последние слова. Девушку передёрнуло… Людмила знала о впечатлении, которое производит на Воловича, и при этом сильно его недолюбливала по целому ряду причин. Главная, ещё давнишняя, идущая со дня первого знакомства, когда неким подобием свойственного всем валькириям телепатического чувства она уловила адресованный ей эротический посыл, причём носивший самую что ни на есть грубую и примитивную форму.
Скорее всего, Михаил и сам тогда ничего как следует не понял, а она ощутила, почти что увидела возникшую в мозгу репортёра картинку. На её вкус то, что хотел бы немедленно совершить с ней Волович, было омерзительно. Вида она тогда, конечно, не подала, в конце концов, человек, тем более мужчина, не может отвечать за неконтролируемые эмоции, вызываемые красивой женщиной. Когда на неё с понятным выражением смотрели другие, хотя бы офицеры из других рот, она ничего не имела против. Но представить себя в объятиях Воловича! Это уже не к одиннадцати туз, это гораздо хуже.
– Мне что, в ЦУМ сбегать, прикид вам подобрать?
– Нет, ну зачем вы так, более чем превратно толкуете мои слова? Я совсем другое имел в виду. Кто-то мне сказал, что у вас в квартире можно найти очень богатый выбор костюмов. Для оперативных целей… Может быть, и для меня…
Девушки быстро переглянулись. Словно спрашивая друг у друга, кто мог такое сказать. Потом Людмила весьма критично осмотрела его фигуру сверху вниз и обратно.
– Не знаю, не знаю… И с чего вы взяли вообще, что у нас здесь ателье готового платья?
– Я как бы не помню точно, но кто-то определённо говорил. Как бы и не сам Вадим Петрович…
– Всё может быть… – Вяземская пожала плечами с некоторым сомнением. Но если он знает, так непременно от кого-то из «своих». В конце концов, как к нему ни относись, сейчас Волович такой же член команды… Нет, не так – просто очередной солдат, которого следует воспринимать как боевую единицу, независимо от… «Каждый человек необходимо приносит пользу, будучи употреблён на своём месте» – эту заповедь Вадим произносил очень часто и по самым разным поводам. Приелась уже, а к случаю ничего лучшего в голову не приходит.
– Что вас конкретно интересует? Посмотрим, что можно сделать… – Герта отнеслась к просьбе журналиста проще, она слов Фёста в его адрес не слышала, да и в бросаемых на неё взглядах он допустимой Гертой границы не переходил.
– Ну, не обычный штатский костюм, но и не камуфляж. Это было бы сейчас вызывающе. Мне кажется, такой, знаете, костюм вроде охотничьего… Цвета хаки, желательно с искрой, много накладных карманов, хлястики, погончики, свободный покрой… – Он с помощью пальцев попытался изобразить желаемое.
– Я поняла. – Герта опять хмыкнула. Задача с дизайнерской точки зрения непростая. «В талию» сделать костюмчик – карикатурно будет. Замаскировать формы свободным покроем – ещё опрятнее клиент станет выглядеть. «Как три слоновые задницы, накрытые брезентом» – вспомнила она от кого-то из знакомых слышанную присказку. Думать надо.
– Так, примерно пятьдесят восемь, рост три. – На службе Вяземская научилась мгновенно определять на глаз все необходимые параметры человеческих фигур, вплоть до размеров шапки, обуви и противогаза. Если нужно срочно обмундировать взвод, с портновским сантиметром возиться некогда.
Опыт общения с «гардеробной комнатой» квартиры у девушек уже был. Прошлый раз они заказывали себе здешнюю военную форму для общения с пленным генералом. Сейчас, правда, было посложнее. Не для себя одежда требовалась, и Людмила немного сомневалась, в состоянии ли она представить нужное, чтобы не получилось, как в слышанной здесь песне про волшебника-недоучку. Ну, там, где он получил розовую козу с жёлтой полосой. Подошла к двери «гардеробной», сосредоточилась, пытаясь в стиле гиперреализма представить требуемое. И покрой, и размеры, и цвет, а также фактуру ткани. Ну и клиента – куда денешься.
Похоже, девушка неизвестно какими силами и каким способом была оценена, взвешена и признана фигурой, подходящей по массе[146]. Или управляющая система сама умела переводить в жизнеспособную реальность даже самые приблизительные мыслеформы. Проще говоря – всё сработало как надо. Когда они вошла в гардеробную, требуемый костюм висел на плечиках прямо перед дверью. Осталось только пригласить Воловича и предложить ему примерить обновку перед зеркалом.
Людмила задержалась перед настоящим венецианским зеркалом, размером от пола до потолка, в причудливой резной раме. Вот ведь, семнадцатый век, а изображение в нём получше нынешних. Ярче, отчётливее, подлиннее, можно сказать. А что вы хотите – стекло ручной работы, из особого песка с секретными добавками, и амальгама чисто серебряная, не синтетика какая-нибудь.
И валькирии снова показалось, что девушка, поправляющая волосы по ту сторону стекла, совсем немного, но отличается от оригинала, даже не понять, чем именно, но всё же… Ощущается так. Не зря Людмила давно думает, что в этом мире совсем не только чудеса техники присутствуют, но и что-то вроде магии имеет место. Квартира сама по себе – ярчайшее подтверждение. Какая-то немыслимая древняя магия или, наоборот, порождение настолько далеко ушедшей вперёд цивилизации, что и пытаться что-то понять бессмысленно. Как кроманьонцу сообразить, что совсем не обязательно гоняться по тундре за мамонтом, чтобы съесть вкусный бифштекс. Вполне можно надеть смокинг, положить в карман кредитную карточку и вальяжно войти в зал любого не вегетарианского ресторана.
Тот же уровень семантического несоответствия.
Волович вышел из гардеробной на самом деле преображённым. Некто или нечто, исполнявшее заказ, гораздо тщательнее отнеслось к работе, чем Людмила к создаваемой мыслеформе. Если бы «квартире» передалось её отношение к Воловичу, результат был бы соответственным. А так костюм вышел намного лучше того, что вообразил себе Михаил и кое-как протранслировала Вяземская. Речь даже не о материале и качестве исполнения; непонятным образом покрой соответствовал исходному замыслу – изменить сам имидж носителя. Сейчас журналист выглядел не пародией на подгулявшего Александра Дюма-отца, а скорее на Уинстона Черчилля, как он мог бы выглядеть, оставшись до соответствующего возраста на службе в колониях.
Глядя на него, Людмила вдруг вспомнила слова старого торговца кепками Зусмана из недавно прочитанной книги Паустовского «Время больших ожиданий» (Фёст старательно погружал будущую жену в литературно-исторический контекст новой для неё эпохи): «Ай-ай-ай! Что может сделать с человеком такая дешёвая кепка за сто тысяч рублей! Если она, конечно, сшита хорошим мастером! Она может сделать чудо!» А тут ведь не кепка, тут целый костюм из трёх предметов.
– Вы знаете, Михаил, что-то в этом есть. Теперь, по крайней мере, приличные люди станут воспринимать вас всерьёз.
Сомнительный комплимент, если вдуматься, но Волович, поглощённый самолюбованием, не обратил внимания.
Вначале он собирался навестить несколько достаточно близких друзей. Узнать, как в «тех кругах» реагируют на случившееся (прежде всего, конечно, на его телевизионное выступление), и прозондировать настроения насчёт совместной работы. Надёжные и знающее дело люди ему были нужны, особенно если Фёст выполнит своё обещание насчёт учреждения нового министерства пропаганды (как бы оно ни называлось на бумаге) взамен ничего не значащего нынешнего комитета по печати. С Воловичем, естественно, во главе. Что пропагандировать – и ему, и большинству его друзей, было совершенно безразлично. Если за это будут платить больше, чем платили заокеанские и европейские кураторы, – лучше не придумаешь. Особенно в ситуации, когда шансов на смену формы правления и личностей, стоящих у власти, в ближайшие годы больше не просматривается. Тут главное – не опоздать и оказаться если не «впереди паровоза», то хотя бы на нём самом.
Но теперь, после того что он услышал, Михаил несколько изменил свои планы. Прежде всего необходимо повидаться с куратором и просто посоветоваться, следует ли и впредь рассчитывать на специальную благосклонность известных структур, или оставаться на уже обретённой «санни сайд оф лайф»[147] в её нынешнем варианте. Правда, в этом случае достойная месть откладывалась на неопределённое время, но тут уж ничего не поделаешь.
«Нет, – думал Михаил, у которого настроение могло меняться, как осенняя погода в Лондоне, – безусловно, прежняя моя жизнь почти штатного лидера организационно не существующей оппозиции и «властителя дум» креативного класса была, может, и забавнее, но слишком уж эфемерна. Здесь же, если всё сложится как надо – безбедная и беспечальная жизнь до конца дней наверняка обеспечена. А если что-то пойдёт не так – в любом варианте «дольше жизни жить не будешь, раньше смерти не помрёшь».
Под «не так» он подразумевал реакцию не кого-нибудь, а конкретно Фёста в случае, если тому станет известно о его намерениях начать собственную «вендетту».
«А на случайно услышанные слова наплевать и забыть? Последовать примеру Александра Третьего?[148] Мало ли кто что о ком думает. Я вот тоже о нём и о его девке…»
Но нет, такое вегетарианское решение Воловича не устраивало. Он жаждал крови, фигурально выражаясь, легкомысленно игнорируя народную мудрость, что от добра добра не ищут, а брань, соответственно, на вороту не виснет.
Исходя из текущей обстановки, не исключающей вооружённых вражеских выпадов, Герта предложила Воловичу воспользоваться «Тигром» в штабном варианте, разумеется с водителем, пулемётчиком и двумя то ли охранниками, то ли вестовыми.
От машины он отказался, заявив, что желает «понаблюдать коловращение жизни» лично, тем более все его цели находятся в пределах Бульварного кольца. И недалеко, и, скорее всего, безопасно. Но «девяносто вторую» «беретту» он всё же сунул в обширный накладной карман полуфренча, благо в его новом удостоверении было указано, что предъявитель имеет право на ношение, хранение и применение любых видов оружия.
Мобильным телефоном Михаил благоразумно решил не пользоваться, а действовать по старинке. В меру сил проверяясь, нет ли за ним слежки (да откуда бы ей и взяться, если он только что вышел из квартиры и никаких подозрительных личностей возле дома не околачивалось?), через Петровку и Кузнецкий мост дошёл до Камергерского переулка. Там из пустого кассового зала МХАТа позвонил по телефону-автомату по специальному, для личной связи, номеру.
Лютенс, по счастью, был на месте и отозвался после четвёртого звонка. Михаила он узнал сразу и достаточно холодно, невежливо осведомился, что ему теперь, собственно, нужно. Вроде как всё понятно, точки расставлены эт сетера.
Тому пришлось, подавляя вспыхнувшее теперь уже по адресу цэрэушника раздражение, объяснять необходимость встречи, прибегая к иносказаниям и примитивному географическому кодированию места желательной встречи.
В результате Лютенс согласился, и Михаил с облегчением направился в сторону метро «Охотный Ряд». По пути как бы по внезапному капризу задержался в летней кафешке на тротуаре и с удовольствием выцедил литровую кружку «Гессера», неторопливо закурил, сибаритствуя и привычно провожая взглядом каждую проходящую мимо даму и девушку от шестнадцати до сорока примерно лет. Независимо от экстерьера. Если встречал ответный взгляд – широко улыбался и подмигивал. Новый имидж его натуру не изменил.
Он просидел так около получаса, окончательно убедившись, что слежки за ним нет. Об этом говорили все почерпнутые из художественных и документальных произведений литературы и кино знания. Автомобильного движения в переулке не было, немногочисленные прохожие на журналиста внимания не обращали, по два и более раза мимо не проходили, наблюдение из окон окрестных домов исключалось обычной логикой: Волович сам не знал несколько минут назад, что устроится именно здесь, а не в любой другой точке густой сети центральных улиц, переулков и заведений на их перекрёстках.
Наконец в перспективе он увидел куратора. Лютенс, неся наперевес большой чёрный зонт-трость, прошёл мимо и направился в сторону Театральной площади. Отпустив его на два десятка метров, Волович раздавил в пепельнице почти докуренную сигарету и двинулся следом.
Мимо «Метрополя» американец вышел на площадь Революции и у подножия Китайгородской стены свернул к весьма дорогому и оттого вечно пустому ресторанчику на полтора десятка столиков. Сел так, чтобы через сплошное остекление стены любоваться видом хорошо отреставрированного «сердца старой Москвы». И наблюдать за подходами к заведению со всех четырёх направлений.
Через пять минут к нему присоединился Михаил, вежливо осведомившись, не помешает ли, и пояснив, что имеет привычку обедать исключительно в компании. С незнакомыми людьми даже предпочтительнее.
– Да, иногда это бывает действительно интересно, особенно когда собеседник – иностранец, – согласился Лютенс.
Выпили по рюмке, споро принесённой официантом по заведенному здесь обычаю, ещё до основного заказа, водки с хреном и мёдом, закусили маленькими чёрными гренками с красной икрой. Кухня в этом заведении была действительно незаурядная, что, впрочём, при такой наполняемости не могло обеспечить хоть минимальной рентабельности. Очевидно, деньги владельцы зарабатывали каким-то другим способом. Или – в другом месте.
– Что вынудило вас искать встречи после всего происшедшего? – далёким от дружеской теплоты голосом спросил разведчик.
Михаил тут же начал излагать почти стопроцентно правдивую легенду, сконструированную им за кружкой пива. В ней, по его мнению, совершенно не к чему было придраться. Волович только умолчал о том, что перешёл на сторону победителей абсолютно искренне, а отыграть назад его заставило всего лишь оскорблённое самолюбие. Сейчас он вначале заверил куратора, что ни словом, ни намёком нигде не упомянул об их деловых взаимоотношениях, а уже потом заявил, что, оказавшись совершенно случайно в крайне выигрышной ситуации, решил немедленно ею воспользоваться и внедриться в столь высокие сферы, что ещё недавно о том помыслить нельзя было даже в алкогольном бреду.
Лютенс слушал с крайним вниманием, именно так, как история агента того заслуживала. И стремительно просчитывал варианты – сообщить ли Фёсту (теперь это имя было для него оперативным псевдонимом уже собственного куратора) о демарше Воловича, или придержать информацию для себя, обеспечив тем самым хоть какое-то пространство маневра на ближайшее будущее. Принципиального выигрыша это не сулило, ибо партия была сдана, что называется, на третьем ходу, однако по мелочи кое-что выгадать всё-таки можно. Конечно, не джокер в рукаве, но… «Крот», а возможно, и «агент влияния» в высших эшелонах власти потенциального противника – это совсем немало.
– И что, как вы думаете, мне с вашей информацией делать? Стратегического выигрыша она явно не несёт, а затевать с вашей помощью новую игру с многолетней перспективой… Какой смысл? Я, кстати, улетаю из Москвы уже завтра, начальство вызывает, для личного доклада, то ли вернусь недели через две-три, то ли – никогда. А как на всё происходящее взглянет мой сменщик, вернее – высшее руководство, нам не дано предугадать…
– Как слово наше отзовётся, – подхватил Волович, может быть, совершенно случайно получившееся у американца словосочетание.
– Вот именно. Так зачем вы мне сейчас?
Лютенс отвернулся от Воловича и начал диктовать официанту заказ. Михаил сначала сцепил зубы, а потом мстительно выпил «хреновку» в одиночку.
– Мне кажется, что польза от меня кое-какая возможна, – с усмешкой сказал он и отмахнулся от вопросительного взгляда «гражданина услужающего», как называли официантов в первые годы советской власти.
– Ещё графинчик того же самого…
– И польза вот в чём, – продолжил он, когда официант отошёл, – я располагаю сведениями, которые стоят очень дорого. Не одну сотню тысяч сами знаете чего. Но сейчас меня устроит аванс. Десять тысяч немедленно, и я вам такое скажу…
Американец презрительно усмехнулся, совершенно как в одном из старых советских фильмов «про шпионов» и в полностью аналогичной ситуации.
– А если вы сначала говорите, а я уже в процессе оценю, стоит оно того или нет?
– Нет, Лерой, так не пойдёт. – Выпитое уже начало действовать, и Михаил ощутил весёлую раскованность и кураж. – Мои информации всегда того стоили, не отпирайтесь. Когда я скажу всё, вы заплатите очень много, хоть казёнными, хоть своими личными. Бесценная информация. Особенно сейчас, когда мы оба с вами оказались… Сами знаете где. А десять штук – это так, скорее для приличия. Или – для завязки разговора…
– Ну, будь по-вашему. Меня ещё не лишили права распоряжаться «рептильным фондом»[149]. Что будет дальше – поручиться не могу. Код загрузки вашей карточки прежний?
Через две минуты сумма была переведена, Волович получил на мобильник подтверждение и совсем расслабился.
– Это дело надо отметить, и я приступаю…
Всё, что Михаил изложил относительно «параллельной Империи», Лютенс выслушал с интересом, но без радостного визга. Сам «факт» был ему уже известен, а детали… Безусловно, информация ценная, но как её использовать практически? Смысл для разведчика был только в одном случае – если бы он получил надёжный способ доступа в этот мир и смог сообщить о столь фантастическом повороте лично и непосредственно своему президенту. Тогда вознаграждение было бы адекватное. Президент смог бы правильно воспользоваться информацией, и это было бы их «личным секретом». А вот в случае передачи материала по инстанциям самому не светило почти ничего.
– Ну и что? – почти равнодушно спросил он у Воловича. – Если это даже и не сказка, и не ваша галлюцинация, как такое можно использовать в наших интересах? «Общечеловеческий» смысл сего феномена меня в данный момент не слишком занимает. Как я могу отыграть хотя бы свои десять тысяч, не говоря о прочем?
– Как же?! – почти задохнулся Волович. – Это же… Я даже не знаю, как сказать! Это в корне меняет всю геополитику и экономику Земли. Имеющий выход в новый мир получает… Получает…
– Да ничего он особенного не получает, судя по вашим же словам. Ну, ещё один такой же по территории и природным условиям мир. Вдобавок населённый практически нашими аналогами, на том же культурно-экономическом уровне. Нам-то что с того? Если бы это была вторая Земля доисторических времён или хоть новая доколумбовская Америка, и мы с вами в виде очередных Кортесов заполучили в своё распоряжение всё золото ацтеков или инков, не помню, кого именно… А так… Не вижу для себя интереса в вашем сообщении. И жалею, что заплатил вам гонорар… Дутая сенсация.
– Подождите! Как же вы не понимаете?! Всё совсем не так, как вы думаете! Это же… Я просто поражаюсь вами! Имея выход в параллельную Россию, нынешняя утраивает свой экономический и военный потенциал, вдобавок приобретает абсолютно неуязвимый тыл. Они теперь смогут угрожать Америке, оставаясь в полной безопасности, вывезя туда все свои ценности и какое угодно количество нужных им людей. А оттуда – миллионы обученных солдат. В той России под полмиллиарда населения. Считайте, что Штаты уже проиграли геополитическую партию!
– А мне-то что? – с прежним равнодушием спросил Лютенс. – Проиграли так проиграли. Похоже, в отличие от вас, — а это уже было сказано с язвительной иронией, – я не стремлюсь, чтобы моя страна стала полем ядерного Армагеддона. Пусть она живёт, как полтора столетия назад, у себя и для себя, не рвёт больше жилы в стремлении к мировому господству. Я, если угодно, изоляционист, а заодно и немец бисмарковского толка.
– Вам? Что с этого вам? – Волович опустил голос до шёпота. – Если вы уже не патриот своей страны и вам безразлична её историческая судьба, то, может быть, ваша личная что-нибудь значит?
– Ну-ка, теперь попробуйте поподробнее. – Разведчик отодвинул тарелку и потянул из пачки сигарету.
– А вот подробности – потом, – победительно усмехнулся Волович. – Дело в том, что я знаю, где находится дверь в этот мир и как её открыть. Вообразите, какую пользу сможете извлечь из такого знания лично вы! Вам наплевать на свою страну – ваше дело. А если вы сам сможете через другую Россию оказаться в другой Америке, представьте, какие возможности перед вами откроются! Мы станем миллиардерами… А то и что-нибудь покруче придумаем!
– Уточните, пожалуйста, так я или мы? Вы уже без меня организовали акционерное общество на паях и полном обоюдном доверии?
– А как же ещё? Я знаю, как туда пройти, вы знаете и умеете то, чего мне не дано. Загрузим ноутбуки и флешки всей существующей научно-технической и технологической информацией…
– И откроем инновационную компанию. Кое-какой смысл в этом есть, – кивнул Лютенс. – Но где гарантии, что нас очень скоро не похитят с целью получения даром того, за что мы собираемся получить миллиарды? Нас ведь будет всего двое против всего мира, наверняка не более гуманного, чем этот. И вообще, вдруг нам там не понравится? Чужой мир всё-таки…
– Да бросьте. Что значит – не понравится? Там везде уровень жизни примерно как в здешние пятидесятые в Штатах, причём без «холодной войны» и атомного оружия…
– Вот это уже интереснее, – задумался Лютенс. – И вы действительно имеете доступ к «проходу»? Тогда зачем вам я? И сами бы устроились.
– Хотите честно? – Волович опрокинул пустой графинчик над своей рюмкой и замахал официанту, требуя следующий. Американец поморщился. После недавнего тяжёлого отравления он решил, что два-три «дринка» – достаточная дозировка, и дал себе зарок из этих пределов не выходить. Но сейчас просто чертовски хотелось поддержать Воловича в его увлекательном занятии. И он решил, что повод имеется более чем подходящий.
– Валяйте, – сказал он, имея в виду оба смысла сразу.
– Так вот, Лерой, доступ к проходу я имею. Прямо-таки ночую в двух шагах от двери. Сам пока выйти не пробовал, но в окно смотрел. Точно – совсем другая Москва.
– Одному мне туда идти просто страшно, чего уж скрывать. А вы человек опытный, тренированный, американец опять же. В той России мне задерживаться не резон, сразу схватят, жандармы у них крутые, имел удовольствие познакомиться…
Действительно, самого поверхностного знакомства с Чекменёвым Воловичу хватило, чтобы оценить, да ведь и сам Фёст, и его валькирии проходили по тому же ведомству.
– Значит, нужно выбраться туда, сразу же на поезд, ещё лучше – автомобиль, самолёт ни в коем случае, и в ближайшую европейскую страну. Что там от Москвы ближайшее? Швеция, кажется. А оттуда уже куда угодно…
– А я вам нужен на роль Остапа Бендера при Кисе? – усмехнулся Лютенс, повеселевший после прекращения насилия над собственной личностью.
– Не только. Вы знаете американские реалии, пусть и не совсем здешние, но едва ли они сильно отличаются. Может быть, даже знакомых там найдёте. У вас есть настоящая хватка, а я в бизнесе не силён. Директором по персоналу и связям со СМИ могу, но не больше…
– А главное? Не лукавьте, Миша, всё, что вы говорите – вторично. В чём, как у вас говорят, прикол?
Волович тяжело вздохнул. Именно об этом он сейчас говорить не очень хотел, но деваться, похоже, некуда.
– Проход расположен в их штаб-квартире. Недалеко. Можно войти в обычную дверь здесь и через коридор пройти к другой, открывающейся уже туда. Минутное дело. В этой же квартире есть достаточно денег, чтобы не чувствовать себя там бедняками. На обзаведение, так сказать.
«А мне Ляхов говорил, что проход находится довольно далеко, самолётом лететь нужно. Кто врёт – он или этот?»
Но спросил другое:
– Здешних денег? Зачем они там?
– В том и хитрость, что тамошних тоже навалом. Сам видел. Одних долларов и фунтов миллионов на двадцать. И золотые монеты тоже есть. Я же говорю – очень хитро всё устроено. В одной и той же квартире выходы на две стороны, зеркальное отражение. И на том же месте в секретере лежат деньги. В одном здешние, в другом тамошние. Вот, смотрите…
Михаил хотел отложить демонстрацию на другой раз, но раз куратор упорно не желает заглатывать голый крючок, нужно на него червячка прицепить. При удивительной безалаберности, иначе не скажешь, хозяев квартиры заглянуть в секретер и вытащить из пачек по одной всего бумажке американских, английских, французских, немецких и русских денег не составило труда. Золота он брать не стал – это уже как бы воровство, а чужие бумажки – не более чем коллекционерство. Как в старом анекдоте: «Я не нумизмат, я сифилитик, но мне тоже интересно».
Лютенс долго, со всех сторон, только что не обнюхивая и не облизывая, изучал образцы. Особенно родную двадцатидолларовую. Размером почти в полтора раза больше, непривычной черно-серо-бордовой гаммы, разрисованная массой завитушек и розеток в стиле «модерн» начала XX века, образующих почти непосильные для воспроизведения фальшивомонетчиком узоры. С очень крупным, незнакомого дизайна шрифтом и портретом генерала Шермана, героя Гражданской войны. Но самое главное – ФРС[150] в этом мире, очевидно, нет. На банкноте сверху написано – «Государственное казначейство». И внизу, мелко, указано, как и на российских банкнотах, что эти бумажки свободно размениваются на золото по цене 100 долларов за тройскую унцию.
«Да, там наверняка совсем другая жизнь», – подумал Лютенс, сразу прикинув, что эти доллары почти в двадцать раз дороже настоящих. Впрочем, Ляхов так и говорил.
– Забавно. Понятно, что для банального розыгрыша слишком тщательная работа, на те бумажки, что в подземных переходах продают, не похоже. Остальные деньги тоже явно не фальшивка. Продолжайте…
– Проблема в том, что там постоянно находятся люди. Минимум двое. Две женщины, – уточнил он, – но с подготовкой боевиков запредельно высокого класса…
Лютенс вспомнил девушку по имени Рысь и слегка поморщился. Если там тоже такие…
– В одиночку мне не справиться. Кроме того, я не умею стрелять в спину, тем более женщинам, которые ко мне хорошо относились. Гораздо лучше будет так: в подходящий момент я открою вам дверь, вы войдёте, без пролития крови нейтрализуете её или их, и мы тут же исчезаем, прихватив с собой столько денег, сколько унесём…
– Интересная схема, – произнёс Лютенс. – Примерно как в вашем фильме «Операция «Ы». Бабушка с мелкашкой сторожит склад, и мы её… Того. А если не выйдет? Как-то вы не так сработаете, и пулю от ваших дам мне получать?
– Нет, что вы, Лерой. Уж это я обеспечу…
В этот момент Волович искренне считал, что как-нибудь он внимание Герты с Людмилой отвлечь сможет, да хотя бы из двух баллончиков перечным газом сразу обеим и прямо в глаза. А там уж пусть профессионал работает.
– Хорошо, Михаил, – сказал Лютенс. – Мы этим непременно займёмся, когда я вернусь. В прежнем качестве или как частное лицо. Так что спокойно готовьтесь и ждите.
– А может – прямо сегодня сделаем и с плеч долой? – каким-то плаксивым тоном, словно Моргунов вдруг преобразился в Вицина, спросил Волович. Ждать ещё несколько недель ему вдруг показалось невмоготу.
– Нет, как ваши «урки», «на рывок» я не работаю. Любое дело должно быть как следует обмозговано и подготовлено. Так что не нервничайте, Миша, тратьте деньги, раз здешние нам больше не понадобятся… Выглядите вы каким-то замученным. Может, вам к девочкам стоит съездить развлечься? У меня есть адресок приличного дома свиданий, могу поделиться.
– Спасибо, обойдусь, – раздражённо ответил Волович. – Лучше вы возвращайтесь поскорее.
– Как только, так сразу, – усмехнулся Лютенс, употребив плебейский, его самого крайне раздражавший оборот. – Главное – вы тут глупостей не наделайте…
Глава десятая
В это же самое время, с поправкой на поясное, естественно, на обширную площадку перед изящным, в стиле архитектора Фрэнка Л. Райта, строением, почти точной копией знаменитого «Дома над водопадом»[151], вышел весьма пожилой господин. Точнее было бы назвать его просто старым, но что-то мешало. Возможно то, что за исключением морщинистого лица и выражения глаз всё остальное могло бы принадлежать человеку между пятьюдесятью и шестьюдесятью годами. Даже волосы у него были не седые по-настоящему, а так, сероватые, цвета окисленного алюминия, или махорочного пепла, если угодно.
Мужчина, одетый только в подобие купального халата из буклированной ткани апельсинового оттенка, подошёл к высокому, по грудь, деревянному ограждению. В руке он держал массивную телефонную трубку с коротким штырём выдвижной антенны и внимательно слушал своего собеседника.
Сам собеседник столь же отчётливо был виден, тоже в натуральную величину на левой половине окна-экрана, окружённого чуть пульсирующей фиолетово-сиреневой рамкой в ладонь шириной. Цвет рамки указывал, что канал сейчас работает в режиме «одностороннего окна»[152].
– То, что вы говорите, Дональд, достаточно интересно. И вы совершенно уверены, что «самурай» заранее и специально к вашей встрече не готовился?
Фёст смотрел на джентльмена (а это был явно джентльмен, хотя и не совсем англосаксонского экстерьера, было в нём нечто левантийское, пожалуй) и на всю вообще картинку не просто с интересом. Он был попросту поражён, как легко и просто решилась загадка, над которой в своё время безуспешно бились не только они с Секондом, но и Новиков с Шульгиным. Кто, каким образом, зачем и для чего организовал в этой России позапрошлогодний «Хлопок одной ладонью»?[153] То, что к безобразиям и в реальной РФ, и в новосозданной Империи приложили руку Лихарев и Даяна, сомнений не было, они сами в этом признались, но что касалось земных исполнителей, похвастаться было нечем. На каком-то, очень высоком, кстати, уровне структур Гиперсети (как бы не самими Игроками) был поставлен очень мощный, непробиваемый никакими имеющимися в распоряжении «Братства» средствами блок. Для аналогии можно представить, что самым опытным средневековым специалистам по штурму крепостей предложено было бы взять линию Маннергейма. Причём её защитники использовали бы лишь пассивные средства обороны. И всё равно – ни таран, ни кирки, ни пороховые мины не помогут против «восьмисотого» бетона. Против проволочных заграждений всех видов, усиленных минными полями, во всём тогдашнем цивилизованном мире тоже ни средств, ни методик не имелось.
Кому-то, всё тем же пресловутым Игрокам, или некоей «третьей силе», возможно и неразумной даже, как Природа у Стругацких в «Миллиарде лет», потребовалось сделать так, что даже почти всемогущие, по людским меркам, аггры уровня Лихарева и тем более Даяны, не сумели разобраться, кто, в конце концов, явился непосредственным исполнителем замысла по перехвату управления сразу двумя странным образом состыкованными реальностями.
Была в общем-то проведена элементарная, примитивная даже операция прикрытия. Вроде как стрелки на железнодорожных путях перевели, и поехал поезд вместо Москвы в Саратов, и никто из пассажиров по ночному времени этого не заметил, а когда заметили – уже поздно было.
Вот и «Братство» спохватилось, начало разбираться, что, как и почему. Дошли тогда до «предпоследнего», как им показалось, уровня вселенского, иначе не скажешь, заговора, а дальше – тупик. Или – «стратегическая пустота», если угодно. Весьма и весьма высокопоставленным фигурам поступали команды, ставились задачи, выделялось финансирование – и вроде бы ниоткуда. Сами исполнители, даже подвергнутые самым изощрённым методикам воздействия на подсознание, в один голос утверждали, что всё, что было, – просто череда «озарений». Вдруг «пришло в голову» – и всё. И ведь не поспоришь по большому счёту. Поди узнай, каким именно образом пришло в голову Гитлеру стать поначалу руководителем вполне маргинальной партии, потом канцлером и, наконец, Фюрером своего народа и Рейха. Однако удалось, но он, если б его получилось взять живым, ничего сверх того, что написал вместе с Гессом в «Моей борьбе», всё равно бы не сказал.
Когда такая же практически история начала повторяться уже в Империи Олега – появление на арене вместо Даяны с Лихаревым Арчибальда, поставившего перед собой те же цели, что и они, и задействовавшие аналогичные общественные структуры, от «Хантер-клуба» до «Чёрного интернационала» и самого обычного криминалитета, Фёст задумался.
До этого ему не было особого стимула заниматься этой проблемой. Они с Секондом так и числились в «младших братьях» или просто в «рыцарях», если считать «Братство» именно Орденом, оттого и не считали возможным брать на себя разгадывание очередной «загадки Сфинкса». А вот сейчас этот стимул появился. С момента, когда ушли в свой рейд на «вторую Землю», в логово дуггуров, «старшие» и он, Фёст, скорее от нечего делать, чем по действительной необходимости, решил выяснить, как известный персонаж, «тварь ли он дрожащая», или тоже право имеет».
Не в том смысле, как понимал это Родион Раскольников (или сам Достоевский). Скорее им двигало чувство, подобное тому, что присуще многим актёрам «второго плана». А что, если вдруг, как это бывает в книгах и фильмах, ему предложат главную роль на самой главной сцене в знаменитейшем спектакле? И о роли этой он давно мечтал, и знает её назубок, и всё же… Согласиться выйти к рампе и начать сотни раз произнесённый уже величайшими из великих монолог, рискуя в случае провала до конца дней остаться в чужих и собственных глазах жалким, вообразившим о себе ничтожеством? Можно ведь и не согласиться, найдя внешне убедительную причину, тогда и дальше можно будет блистать на привычном уровне, продолжая подавать надежды и намекать (или говорить впрямую), что уже вот-вот и…
Это самое «вот-вот» только что и случилось. Взяв на себя смелость не только фактически возглавить «Мальтийский крест», да заодно и вмешавшись в тщательно подготовленный и обречённый на успех план по свержению здешнего Президента, Фёст произнёс роковые (в любом смысле) слова. Как и сам Гамлет – не вслух.
Вот и начал он это сопротивление оказывать. Вовремя сообразил, сумел в самый последний момент пресечь очередной, вроде как тщательнейше, а на самом деле из рук вон плохо подготовленный антироссийский заговор. Чем и спровоцировал абсолютную, спонтанную, когнитивным диссонансом вызванную, прямо-таки аллергическую реакцию до последнего никак себя не проявлявших Сил. Затем ещё усилил эффект, фактически заставив своего Президента сделать резкое, почти грубое заявление об изменении Россией всей внутренней и внешней политики. В целом не представлявшее собой ничего особенного, «чего бы ещё не было на свете», выражаясь в стилистике Экклезиаста, но по форме да с учётом мировой общеполитической обстановки, выглядевшее как жест опытного бретёра[154], вынуждающего противника ответить вызовом, причём на самых невыгодных для него условиях.
Фёст точно просчитал, что после прозвучавшего на весь мир «Заявления» господин Ойяма попадает в глухой цугцванг. Не драться нельзя, позор, потеря лица. Драться – безнадёжно, выиграть невозможно в принципе. Если, конечно, по старому принципу инициаторов и идеологов «холодной войны» не заявить: «Лучше быть мёртвым, чем красным». И пойти на заведомое самоуничтожение. Любому чуть-чуть понимающему аналитику, да и просто здравомыслящему человеку ясно – после обмена ядерными ударами Россия как-нибудь да выживет (если уцелеет сама планета Земля), а вот американская цивилизация (именно цивилизация, Pax americana) – точно нет. Решится ли на такой шаг хитроумный (это Фёст тоже выяснил) и весьма расчётливый потомок самураев ради «неосязаемого чувствами звука», именуемого в данном случае «Честью Америки» или «Великим демократическим проектом». По результатам анализа, проведённого с помощью Шара и весьма усовершенствованного за минувшие годы «стратегического тренажёра» Берестина – не должен. Особенно если ему совсем немного помочь. По-дружески, в память о былом русско-американском боевом союзе.
Да и вообще просто интересно будет понаблюдать за процессом – как себя поведёт «сверхдержава», поставленная перед тем самым, по Арнольду Тойнби, историческим вызовом. Тут ведь не сработает старая блатная хохмочка: «Держите меня крепче, братва, а то я не знаю, что с ним сделаю». Обращаться не к кому, и держать тоже некому, вот в чём главная фишка!
Но вот чего Фёст не смог предугадать, так того, что его провокация (в медицинском смысле) приведёт к совсем неожиданным последствиям. Наблюдая за совещанием импровизированного «кризисного штаба» – импровизированного потому, что в настоящий должны были входить, наряду с ранее названными, совсем другие люди: меньшего внешнего политического веса, возможно, но гораздо большей информированности и просто интеллекта. Вадим решил внимательно отследить дальнейшие телодвижения лиц официальных, которые они обязательно предпримут после того, как Ойяма не поддался на лобовое, грубое давление. Он всё же был японцем в гораздо большей степени, чем это могли предположить достаточно заурядные людишки, волею обстоятельств оказавшиеся на совсем не для них предназначенных постах.
Сами ли начнут предпринимать сообразные их уровню мышления меры или обратятся в инстанции, как говорилось при Советской власти[155].
Они и начали обсуждать свои последующие действия сразу, как только покинули кризисный кабинет. Прямо в машинах, не успев отъехать от ворот Белого дома. И продолжили обсуждение на вилле вице-президента, в одном из самых тихих и со сравнительно хорошим микроклиматом районов столицы. Сейчас Келли повёл партию. Ведь именно ему в случае чего предстояло занять президентский пост, как Трумэну после Рузвельта. С тем же примерно, неприятным для русских эффектом.
А Фёст всё это записывал на видео и тут же распечатывал избранные места на бумаге. Полный текст с видеорядом можно будет предъявить и позже, по обстоятельствам.
Минут через десять после начала «тайной вечери» Келли, извинившись, оставил своих подельников продолжать дискуссию за круглым столом, а сам поднялся по винтовой лестнице на третий этаж, а с него – ещё выше, в восьмигранную башенку, надстроенную над крышей. Там у него помещалось нечто вроде поста дальней связи. Весьма архаичное понятие во времена сотовой связи и разных видов Интернета. Но тем не менее смысл в этом был понятный если не самому вице-президенту, то людям, этот пост оборудовавшим. У самого президента, к примеру, такого не было, что могло означать только одно – на Дональда Келли возлагались особые надежды, то есть Ойяма в чьих-то глазах заранее не соответствовал.
На момент избрания и в процессе всего первого срока – соответствовал неким критериям, но другим, возможно и гипотетическим – нет. Как известно, обстановка на поле боя и в политике тоже может меняться быстрее, чем способны реагировать вроде бы признанные полководцы и государственные мужи. Тогда прежних смещают или ликвидируют иным способом, а на их место ставят других.
Как в тридцать шестом году (тысяча девятьсот, естественно) в Советском Союзе нарком внутренних дел Г. Ягода «оказался явно не на высоте положения и не на уровне задач»[156] и был нечувствительно заменён на Н. Ежова, а когда и тот «не оправдал», а точнее – выполнил свою миссию, нашёлся словно для этого именно момента и «сидевший на скамейке запасных» Л. Берия.
На примерно такой же случай в США имелся мистер Келли. Сам по себе, при живом президенте, практически никто, и одновременно – проходная пешка на предпоследней горизонтали. Один шаг – и сразу ферзь!
Сэр Дональд, как его было принято называть, хотя ни англичанином, ни тем более рыцарем он не был, откинул переднюю панель старинного, пятидесятых ещё годов прошлого века «всеволнового» радиоприёмника фирмы «Телефункен». Приёмник был оснащён вдобавок проигрывателем для виниловых пластинок, и сами они имелись тут же, в большом количестве расставленные по вращающимся этажеркам. Такой себе уютный уголок меломана-ретрограда, маскировка – лучше не придумаешь.
За панелью приёмника скрывался пульт, довольно похожий на вертикально поставленную клавиатуру компьютера, и в зажиме – тёмно-красная трубка, напоминавшая первые образцы сотовых телефонов, по дизайну и эргономике никак не соответствующая двадцать первому веку.
Фёст, увидев эти манипуляции, почувствовал примерно то, что рыбак, ощутивший внезапную и мощную поклёвку на своей удочке, до того приносившей только малопочтенную рыбную мелочь. Прежде всего его заинтересовала сама коллизия, а также и антураж мизансцены, остро напомнившей всевозможные книжки «про шпионов» из серии «Библиотечка военных приключений», с косой полосой для иллюстрации по диагонали обложки.
Отец Фёста ещё в свои молодые годы собрал абсолютно полную коллекцию этих книг, и начиная с семилетнего возраста Вадим прочёл их все. Не прав будет тот, кто скажет, будто эти творения ныне почти забытых авторов вроде Шпанова, Томана, Авдеенко, Матвеева и прочих – мусор и «тоталитарная пропаганда». Совсем даже нет. Если к ним отнестись правильно, то есть не упрекать за то, чего там нет, а внимательно присмотреться к тому, что имеется, можно сделать множество по отдельности мелких, но в сумме (синергетически) весьма полезных открытий и почерпнуть массу полезной информации. Если, повторяю, не искать там стилистических изысков Пруста и гражданского пафоса сборников «Иного не дано» времён «поздней перестройки».
Вот и сейчас вице-президент, как какой-нибудь инженер Горелов[157], скрывшись от своих «товарищей», по ужасно секретном прибору передаёт очередную шифровку во вражеский штаб.
И с кем же это он решил так срочно пообщаться, не дотерпев даже до окончания конференции?
Шар – очень полезный прибор, если уметь им правильно пользоваться. Предоставляет массу возможностей, о каких и понятия не имеют рядовые пользователи. Фёст в лаборатории Лихарева, изучая его записи и рукописные инструкции для будущих помощников, а также и популярным «методом тыка» (благо это чисто информационное устройство опасным не было по определению), с Шаром научился работать весьма профессионально. Само собой – лишь в пределах своего интеллектуально-психологического потенциала. Есть вещи, до которых разум сегодняшнего человека просто не дорос. Как Эвклид или Пифагор – до дифференциального исчисления или какой-нибудь, прости господи, алгебры Буля и геометрии Лобачевского.
Представим себе всем известного и любимого инженера Сайреса Смита, идеального героя раннеиндустриальной эпохи. До сих пор читать интересно, как с помощью двух стёкол от часов и собачьего ошейника можно воссоздать на необитаемом острове практически аутентичную «большой» технологическую цивилизацию. И вот вместо сундука капитана Немо в его распоряжении оказывается какой-нибудь склад хранения современной военной техники. Укомплектованный по всей линейке – от «АКМ» до приборов навигации, связи, тепло– и ноктовизоров и тому подобного. Вот и представьте, что из всего этого добра сможет использовать гениальный инженер? Думаю, очень многое, причём иногда – неожиданным даже для нас способом. И в то же время едва ли он сообразит, что если отвинтить крышку на торце круглого пластмассового футляра с застеклённым рефлектором на другом конце и вложить туда два или три ярких цилиндрика с бессмысленной надписью вроде «Philips powerlife» из лежащей в совсем другом ящике коробки, то можно получить великолепный и почти вечный (если коробка большая) источник яркого и дальнобойного (в сравнении с керосиновым фонарём) света.
В том же положении с самого начала своей эпопеи оказались и рыцари «Братства». В их распоряжение попала масса, условно говоря, вещей, материальных и не очень, ничуть не менее фантастических, чем сотовый телефон (со всей обеспечивающей его работу инфраструктурой), или всё тот же ноутбук для Сайреса Смита. И пользоваться ими (без подсказки со стороны) они могли ровно в той же мере, что означенный инженер.
Фёст в данный момент умел использовать Шар как раз в пределах, обеспечивающих успех его плана, в любом другом случае – совершенно умозрительного, чтобы не сказать – дурацкого. Ну как же – тридцатилетний бывший врач без военного, дипломатического и всякого другого практического опыта вступает в борьбу с мирового масштаба структурами. То есть изображает из себя нечто вроде инженера Гарина (или негодяя из романа Беляева «Властелин мира», Штирнера, что ли) и, в общем, пока побеждает.
Кстати, это тоже очень распространённое, особенно в последнее время, заблуждение – что для того, чтобы руководить государствами, корпорациями, сложными производствами и чем угодно ещё требуется специальное образование и «трудовой стаж по избранной специальности». Нельзя, мол, вчерашнего мастера цеха ставить губернатором, а младшего научного сотрудника заштатного НИИ «Овцеводства и козоводства»[158] – министром обороны, к примеру. На самом деле – можно. Вообще всё можно, лишь бы личность была подходящая, хотя бы и с двумя классами сельской школы.
И ещё кем-то сказано: «Кто владеет информацией – владеет миром». Следовательно, к свойствам характера и способу мышления Фёсту требовалось добавить только это. Информацию то есть. Опять же – понимаемую в широком смысле.
Всё, что проделал Фёст, давным-давно могли бы сделать и Новиков, и Шульгин, и Сильвия, а тем более Антон. Но, как уже было сказано – человек всегда остаётся всего лишь человеком, со всеми его недостатками, с какой бы фантастической наукой он ни был знаком и какой фантастической техникой ни управлял. О некоторых вещах он просто так догадаться не может, если нет для догадки какого-нибудь, подчас совсем незначительного повода. Не смог же Антон вообразить, что его арест спецслужбами Союза Ста миров и страх перед демонтажом (или развоплощением) побудит Замок к созданию Арчибальда, если ни о чём подобном не слышал никогда и ни от кого.
А с загадкой неуловимых организаторов всех творившихся последние годы на Земле безобразий ещё проще – никому из «Братства» ни разу не удавалось застать попавших в круг их внимания личностей в момент связи со своим «руководством». А Ляхов сейчас совершенно случайно застал, да ещё при нужном стечении обстоятельств.
Установка СПВ в нынешнем режиме обеспечивала прямой односторонний контакт с вражеским «переговорным пунктом» связи в реальном времени. Находящийся рядом с ней Шар был включён, и Фёсту достаточно было протянуть руку, чтобы ввести команду и сразу же «сесть на чужую волну». И всё. Теперь нужные параметры зафиксированы в памяти прибора и деваться клиенту некуда. Можно вводить любые новые кодировки и защиты, применять хаотично меняемые частоты и амплитуды, использовать новейшие методики сжатия информации – это будет столь же бессмысленно, как попытки существа, обитающего на двухмерной плоскости, скрыться от взгляда из третьего измерения за нарисованными на листе преградами[159]. Отныне ничего не стоит не только прослушивать все разговоры вице-президента, но и открыть канал прямого перехода в место нахождения адресата.
А место эта было крайне интересным. Не переставая слушать и записывать отчётливо подобострастный доклад (иначе не назовёшь) американского вице-президента человеку, по всем административно-бюрократическим канонам его начальником не являющимся, Фёст подкручивал ручки настройки, позволявшей приближать и удалять объект, а также и ракурсы обзора, как бы парить вокруг него и над ним, подобно буревестнику, в отличие от, скажем, вертолёта, без шума и тряски.
Его всегда немного удивляла архаика дизайна установки СПВ и вся идеология интерфейса, если этот термин здесь вообще уместен. Что значит психология конструктора, оставшегося в плену технической эстетики середины прошлого века! Вполне ведь можно было всё управление переделать на сенсорное или хотя бы джойстик поставить вместо всех этих верньеров, движков и тумблеров. Но – хозяин – барин. Не Ляхову учить Левашова, как оформлять свои изделия. Что-то, кстати, в этой архаике есть завораживающее. Как и в «радиоприёмнике» вице-президента, кстати. Его, похоже, изготовлял человек тоже не нашего времени.
Но мы опять отвлекаемся.
Интересным местом была точка, где располагался собеседник мистера Келли. Прямо для обложки журнала «Вокруг света». Собственно, это была не «точка», а целый остров, каких несчётное множество разбросано по просторам Тихого океана косой многотысячемильной полосой, от Филиппин и почти до Антарктиды. Словно Творцу надоело старательно прорисовывать на глобусе причудливые контуры континентов, и над ста восьмьюдесятью миллионами квадратных километров океана он просто махнул наотмашь кистью, покрыв всё это пространство брызгами краски разных форм и размеров.
Остров по сравнению с тысячами других, имевших собственные имена и население, был исчезающе мал – его плоскую вершину усечённого конуса, сложенного из древних вулканических пород, можно было обойти по периметру меньше чем за час, но изумительно красив. Он возвышался над кружевной пеной бивших в подножие волн метров на восемьсот абсолютно недоступной человеку твердыней. Альпинист-скалолаз мог бы подняться с немалыми трудами на его вершину, но для этого сначала пришлось бы добраться с моря до его подножия, что было тоже практически невозможно из-за массы торчащих из-под воды рифов и подошвой, заваленной жутким хаосом лавовых обломков от килограмма до тонны. А главное – затея эта была бы совершенно бессмысленной. От ближайшего, хоть как-то населённого острова нужно плыть сюда несколько сот миль, потом ложиться в дрейф, поскольку при здешних глубинах на якорь не станешь, организовывать целую операцию десантирования и ради чего?
Зато самая вершина островка, скорее даже – просто чуть наклонного каменного клыка была покрыта густой шапкой тропической растительности, постоянно пополняемой морскими ветрами, несущими с незапамятных времен неведомо откуда семена всевозможных растений. В кронах пальм и прочих деревьев и древовидных кустарников водились даже какие-то совершенно эндемические породы насекомых, иначе чем бы питались вполне сухопутные птицы, жившие в этом изоляте, может быть, миллион лет? Чайки и прочие альбатросы, кормящиеся морской живностью, гнездились гораздо ниже.
И вот на этой плоской, словно ножом срезанной вершине устроил свою обитель человек, говорящий сейчас по какому-то хитрому, наверняка спутниковому телефону с Вашингтоном.
Фёст довольно подробно успел рассмотреть его виллу и прилегающую территорию. Сады Семирамиды, иначе и не скажешь. Сам трёхэтажный, составленный из нескольких объёмно-конструктивных элементов дом, примерно гектар ухоженного парка вокруг, довольно большой бассейн, выложенный голубым кафелем или фаянсом. Всё обнесено, несмотря на полную неприступность места, ещё и довольно высоким металлическим забором. Хорошо оборудованная вертолётная площадка, с ангаром и всякими служебными постройками.
Трудно даже вообразить, сколько трудов, а главное – денег вложено в это «Орлиное гнездо». Плюс – что стоило обеспечение секретности тайного убежища сейчас, когда сохранение каких угодно тайн – дело весьма проблематичное!
Впрочем, выяснение этих, как и многих других вопросов можно оставить на потом. Разговор хозяина с вице-президентом ещё не закончился.
Келли очень и очень подробно пересказывал чуть ли не в лицах всё, что происходило в «ситуационном кабинете», а собеседник часто переспрашивал, уточняя детали, иногда самые вроде бы несущественные. Это само по себе выдавало в нём специалиста, скорее всего опытного разведчика-аналитика с хорошей общепсихологической подготовкой.
Спасибо школе Шульгина, после неё и двух лет практической работы Фёст моментами сам себе напоминал Штирлица, то есть Максима Исаева с момента, как им стал вполне обычный юноша Всеволод Владимиров. В данном случае он имел в виду появление (или внезапное раскрытие) таланта, никакими предшествующими событиями в жизни не обусловленного. Что он сам, что аналог Секон до «Перевала» как раз никакого интереса к разведывательной, контрразведывательной, вообще политической деятельности не проявляли. Либо в результате срабатывания «гнева Аллаха» в мозгах у них что-то круто перевернулось, да настолько, что и у Секонда в его Академии дела более чем успешно пошли, и в нём самом Александр Иванович увидел такой же благодатный материал, как аббат Фариа в Эдмоне Дантесе.
Хозяин «Орлиного гнезда», выслушав всё, после короткой паузы дал вице-президенту несколько конкретных развёрнутых указаний. Общая их суть сводилась к тому, что Ойяме на самом деле можно отпустить на размышления и осознание реального положения дел два-три дня, но не более. В это же время организовать во всех подконтрольных средствах массовой информации, и не только американских, предельного накала антироссийскую по форме, но и антипрезидентскую по существу кампанию. То есть давление должно исходить со стороны, не из президентского окружения. Может быть, в ближайшем разговоре следует дезавуировать некоторые слишком резкие выражения и «прелестных дам» (при этих словах на губах джентльмена мелькнула саркастическая улыбка), и самого Келли.
– Впредь, подталкивая его к решительным действиям, ссылаться нужно только на мнение народа, выраженное печатным и иными способами. Конгресс и Сенат от этого вопроса лучше пока вообще отстранить, с ними возможны осложнения. Вспомните Рузвельта и сорок первый год[160]. И совсем незачем спешить. Вы явно перестарались. Конфликт, тем более вооружённый, прямо завтра нам не нужен. Пусть нарыв созревает. Какой-то лишний мирный месяц особого значения не имеет. Надо обставить дело так, чтобы большинство стран, имеющих хоть какой-нибудь вес на мировой арене, предъявили России свои претензии или хотя бы отказали в моральной поддержке. А мы, со своей стороны, постараемся, чтобы русский лидер сам сделал ещё несколько весьма неосторожных шагов, обостряющих ситуацию. Несмотря на последнюю неудачу, ничего ещё не потеряно. Ну, проиграли одну лунку, на следующей отыграемся. Вопросы есть?
– Никаких, господин Сарториус. Будем исполнять ваши рекомендации. Следующий сеанс по графику?
– Нет. Будете докладывать каждый вечер – мой вечер, естественно, в девять часов. До свидания.
И после слов прощания Сарториус произнёс довольно длинную фразу, слов примерно из десяти. Точнее сказать невозможно, ибо язык был Фёсту совершенно незнаком. Даже и близко ни с чем не ассоциируется. Его он, разумеется, тоже записал. Воронцов с помощью Замка непременно расшифрует. Наверняка ведь что-то важное.
Джентльмен выключил свой аппарат и положил его на столик.
Сарториус, значит. Лема, что ли, читал, или действительно такая фамилия (или имя) существует? Надо будет выяснить.
А пока вернёмся к нашим баранам, сиречь американским неоястребам.
Келли спустился вниз, где дискуссия продолжалась с нарастающим накалом. Теперь шло уже соревнование в степени собственной крутизны. Слуги подали виски, джин и калифорнийское вино, что ещё больше подогрело страсти. Всё же у президента приходилось сдерживаться, хотя и через силу. А высказаться о наболевшем хотелось всем. Даже суровый воин Паттерсон, с честью прошедший через все военные провалы и конфузии США, начиная с позорно проигранной вьетнамской, слушая истерические пассажи высокопоставленных дам, зябко поводил плечами под четырёхзвёздными погонами.
Это что же, представлял он себе, будет, если весь этот кагал дорвётся до настоящей власти? Не подать ли, пока не поздно, в отставку и отправиться, от греха, в Патагонию, где у него давно было приобретено ранчо в пять квадратных миль пампы с несколькими тысячами голов коров и лошадей. Аргентина уж точно в русско-американский конфликт вмешиваться не станет. А дамы соревновались в жёсткости условий и тяжести санкций, которые следует включить в ультиматум, чтобы русский президент его точно отклонил. А если бы вдруг принял – чтобы эта страна перестала существовать де-факто в своём нынешнем качестве.
А тут мисс Блэкентон пришла в голову ещё одна светлая идея. Надо бы взять да немедленно и вынести на обсуждение Генеральной ассамблеи ООН вопрос об исключении России из Совета Безопасности с передачей её места Германии и Японии.
Это предложение услышал уже и Келли, от чего ему сделалось не по себе. Сама-то идея возражений не вызывала, России с её правом вето в Совете действительно делать нечего. Но человек, пусть он является по факту истеричной дамой, поставленный на такой пост, должен же ориентироваться в реалполитике хоть немного лучше уличного мусорщика-мексиканца. Как-никак, Совет Безопасности – это клуб победителей в мировой войне и основателей ООН, и так уж просто поменять местам палачей и жертв не выйдет, хотя кое-кто семьдесят лет старается.
Если бы вице-президент ориентировался в русской литературе, он наверняка бы вспомнил о «пикейных жилетах».
Келли довольно быстро вернул компанию в берега здравого смысла, хотя бы относительного. При этом, что отметил Фёст, он не ссылался на слова (или распоряжения) господина Сарториуса, однако излагал их своими словами, в доступном собеседникам стиле с такой уверенностью, как будто Моисей, только что пообщавшийся с Господом, вещавшим из горящего тернового куста на горе Хорив. И, похоже, определённую роль сыграла в этом последняя фраза, сказанная Сарториусом на неизвестном языке. Очень может быть, что она имела отношение к какой-то системе НЛП или даже обычной магии.
Фёст до глубокой ночи наблюдал воочию и писал на памятные кристаллы, что в гибриде земных, форзелианских и аггрианских компьютеров заменяли прежние дискеты, а потом – флеш-карты, всё, что говорилось в этом тайном собрании. Он основательно устал слушать такую массу бредятины и человеконенавистнической ерунды. Сначала он было подумал, что будь такая запись опубликована, она произведёт в мире тот самый пресловутый эффект. Хотя чего уж особо эффектного во взрыве обычной, хоть чугунной гладкоствольной пушки, хоть даже авиационной бомбы? Миллионы людей их видели, ну и что? Подавляющее большинство из выживших особо сильно своих представлений о мире не изменило.
Так и сейчас. Ну, посмотрят люди запись, послушают, пообсуждают, повозмущаются и постепенно вернутся к своим делам. Мир точно не рухнет, и США, в свою очередь, из того же Совбеза не исключат. Кто-то из весьма авторитетных мыслителей середины прошлого века, как бы не философ Адорно, заявил в своё время: «Нельзя писать стихов после Освенцима!» И – попал пальцем в небо. Был Освенцим или не был, а пишут, пишут, даже нобелевскими лауреатами за это дело становятся, в том числе и сами евреи, а хлёсткий афоризм так и остался личным мнением человека, вдруг вообразившего, будто ему открылась какая-то новая нравственность. Аналогичная мысль была высказана несколько раньше, но с противоположным знаком: «Гвоздь в моём сапоге кошмарнее Голгофы».
Зато одному из шести миллиардов, простому человеку с фамилией Ойяма вдумчиво ознакомиться с таким материалом будет весьма полезно. Глядишь, пересмотрит кое-какие свои взгляды на окружающую действительность, данную нам в ощущениях.
Фёст соответствующим образом скомпоновал, оформил и добавил в папку, предназначенную президенту, и эту информацию. Пусть изучает, думает, морально зреет. Времени, отпущенного ему сначала самим Фёстом, а потом, не сговариваясь, Сарториусом, действительно хватит, чтобы принять осмысленное решение. Не всякий простой человек (простец в терминологии некоторых весьма продвинутых авторов) в состоянии даже представить, сколько мыслящая личность способна перекрутить в голове фактологического фарша и сколько выдвинуть, проработать и отринуть гипотез и идей, чтобы на следующем витке рефлексии вернуться к ним вновь.
Пусть забавляется мистер Ойяма, лишь бы только не перенапрягся и не решил искать выход из своего непростого положения традиционным для части его предков способом. Конечно, написанное им предсмертное хокку[161] прочитать было бы познавательно и полезно, но живым президент представляет куда больший интерес.
Кто-то, возможно, в очередной раз захочет предъявить претензию Вадиму Ляхову (Фёсту) за то, что серьёзнейшие мировые проблемы он воспринимает только через призму игрового интереса. Тут, как говорится, цивилизации собираются рушиться, а он озабочен проблемой – пить ему чай или не пить.
А разве все остальные вошедшие во всемирную историю личности руководствовались чем-нибудь другим? За исключением явных гипоманьяков и параноиков, которые рвались «переустраивать жизнь» бескорыстно, просто потому, что вообразили – по их распорядку, скорее всего, жить людям будет гораздо лучше, чем по прежнему, заведённому отцами и дедами.
Зато множество людей (а также многократно высших по сравнению с ними существ) воспринимают возможность вершить чужие судьбы, создавать, а также и разрушать империи именно как Игру. Главное – придумать для неё сколько-нибудь убедительные обоснования. Но можно и без них – как древнегреческие боги, например.
Фёст чем и отличался от Секонда, при их стопроцентной идентичности в момент сработки «гнева Аллаха», что за прошедшее время, пройдя «спецшколу», весьма отличную от Военно-дипломатической Академии, стал совсем другим человеком. Если Секонд когда сознательно, когда на уровне подкорки считал примерами для подражания самого Олега и его верного паладина Чекменёва, то Фёст, человек совсем другого времени и опыта, признавал в качестве единственного авторитета лишь Шульгина. В его отсутствие – Воронцова, но, само собой – несколько иначе. С Дмитрием Сергеевичем контактные точки находились совсем в других областях (или на других уровнях) общения.
И ничего в своей текущей деятельности он по-настоящему не принимал всерьёз. Так, чтобы на костёр пойти, вроде Джордано Бруно. Совершенно не понятно, кстати, из-за чего он был осуждён на самом деле. Уж никак не за пропаганду множественности миров. Точно так же не понимал Вадим и тех, кто резал себе вены по причине якобы измены, якобы – любимой девушки. Подожди с недельку – или то, или другое утверждение окажется ложным.
Сверхцель и сверхзадача, тоже выражаясь известным языком, у него, конечно, были. Только не афишируемые, не метаемые перед свиньями, «дабы они не втоптали этот жемчуг в грязь и, обратившись, не растерзали бы вас». Кому здесь и сейчас стоит вслух говорить об офицерской чести, о величии России, о собственном презрении к таким, как Волович и, главное – его многочисленная паства. Скривятся, засмеются, отойдут в сторону, как от заразного. Так лучше пусть всё наоборот.
Арбенин, Печорин, поручик Карабанов[162], этот, как его, Сильвио из пушкинского «Выстрела», ещё некоторые почитаемые Шульгиным подлинные и литературные персонажи, переданные Фёсту в качестве образцов для примера (и не подражания даже, а использования их психоматриц в подходящих обстоятельствах), скорее всего поняли бы Фёста.
Ещё Николай Ливитин из «Капитального ремонта» – это уже сам Ляхов выбрал себе в качестве примера. Плохо кончил тот старший лейтенант, обаятельный циник, мастер изящных афоризмов и безусловный патриот – так ошибку совершил: надо было раньше галс сменить[163]. Пошёл бы к белым – лет сорок бы ещё прожил в гармонии с собственной совестью.
Фёст позволил себе тоже немного расслабиться, оставив на экране картинку острова с птичьего полёта. Налил, наконец, а то всё не до того было, чашку очень крепкого и действительно «геджасского» кофе, из одноименной Йеменской провинции. К нему, безусловно, потребовалась и трубка, неторопливо набитая ароматным и длинноволокнистым табаком «Капитанский», которого сейчас и не достанешь у нас. Отчего-то перестали выпускать, хотя он был, пожалуй, гораздо лучше, чем любые нынешние импортные. Да и те далеко не в каждом магазине купишь, так что проще и удобнее запасаться табаком и новыми трубками тоже в Москве императорской. Там в лавочке на Сретенке, существующей с позапрошлого века, выбор громаднейший, а если серьёзный покупатель чего не найдёт – сделают специальный заказ, из любой точки мира товар доставят в неделю, только плати.
Итак, как вы там назвали, мистер Келли, своего таинственного кукловода – Сарториус?
Будем разбираться.
Звучит красиво, по-древнеримски, у Лема в «Солярисе» есть такой персонаж, но является всего лишь переводом на латынь фамилии Шнейдер, то есть «портной», не больше и не меньше. С Ляховым в одном классе учился Димка Шнейдерман, но чем Шнейдер отличается от Шнейдермана, Фёст не знал. Разве что национальностью, потому как среди Шнейдеров-Сарториусов попадалось много «фонов» и даже один барон, Георг Сарториус фон Вельтерхаузен, известный историк позапрошлого века.
Всего Шар выдал информацию на несколько десятков хоть чем-то знаменитых Сарториусов, не упустив и лемовского персонажа, который первым делом пришёл Фёсту на память. Но господина с острова среди них не было, что и неудивительно. Если этот псевдоним нигде документально не зафиксирован и ни по каким делам, ранее попадавшим в сферу внимания владельцев прибора, тут Шар пасует, каким бы «умным» он ни казался. Ему обязательно нужна конкретная привязка, а иначе он столь же бесполезен, как приёмник «Глонас» или «GPS» при отсутствии в небе спутников. Ну и ещё ряд условий должен наличествовать. Лихарев же не сумел с помощью этого же самого Шара найти в Москве наркома Шестакова, личность весьма известную, поскольку его собственные излучения полностью перекрывались матрицей Шульгина, параметры которой в памяти аппарата зафиксированы не были, как лица ещё не родившегося и в этом мире информационного следа не оставившего.
Вот что-то такое и с господином Сарториусом. Многослойно он, значит, заэкранирован от всяких коллекторов рассеянной информации и селекторов стабильной, человеческих и инопланетных. Но теперь-то он всё же попал в сферу действия прибора «о натюрель», и тот, выражаясь словами персонажа «Момента истины», будет его «качать на косвенных».
Пройдётся по всем упоминаниям этого имени в официальных документах, частной переписке, личных заметках всех без исключения жителей Земли за последние десять лет для начала, с учётом всех возможных искажений при транскрибировании на нелатинские шрифты. Само собой, будут созданы контекстные фильтры, отсекающие все неподходящие варианты.
Одновременно и параллельно Шар сравнит зафиксированную во всех ракурсах и с максимальной детализацией внешность «объекта» с фотографиями сотен миллионов людей, совпадающих по инвариантным, то есть не зависящим от нации, возраста, усилий пластических хирургов параметрам. Прямо с этого момента начнёт отслеживать весьма интересную систему связи его острова с окружающим миром, а там крошечные кусочки мозаики сами начнут цепляться одна за другую, выстраивая картинку во всей её яркости, объёме и наглядности.
Иногда в очередной раз сталкиваясь с чудесами аггрианской науки и техники, Фёст удивлялся, как даже поодиночке производящие очень серьёзное впечатление «пришельцы» (он подразумевал лично ему известных Сильвию, Ирину и Лихарева) всей своей цивилизацией всё же ухитрились потерпеть поражение от весьма отсталых землян, причём якобы известных им психологически и анатомически вдоль и поперёк. Так называемые «этические ограничения» казались ему наскоро придуманной отговоркой. Какая там «этика», если речь идёт о судьбах миллиардов живых существ, не только людей вида «хомо сапиенс» и грандиозного проекта с многовековой историей и безграничными перспективами.
Поэтому он предпочитал думать, что аггров выбили из игры совсем не «братья-первопоходники», при всей их доблести и выдающихся способностях, а совсем другие силы и обстоятельства.
Вот и он сейчас предполагает фактически в одиночку переиграть для начала мировую сверхдержаву со всей её военно-технической и интеллектуальной мощью, и это не кажется ему бредом маньяка вроде инженера Гарина. Он просто имеет перед собой конкретный пример и образец в деяниях старших товарищей, а главное – непоколебимо уверен, что ничуть не хуже Шульгина или даже Новикова сумеет создать нужную мыслеформу для обеспечения предполагаемых действий. Совсем не всеобъемлющую, способную подменить целый реальный мир, а весьма и весьма локальную – чтобы в её пределах какой-нибудь условный «демон Максвелла» послушно и верно распределял вероятности: все благоприятные – тебе, весь негатив – партнёру. Причём с кумулятивным эффектом.
По крайней мере – до сего момента у Фёста, как ему казалось, всё получалось. Он не ставил (до поры) перед собой грандиозных задач, скорее, как хладнокровный и скупой преферансист, играл только по своим картам, не полагаясь на прикуп, и вистовал лишь при четырёх гарантированных взятках. Иногда выходило слишком медленно и немного нудно, зато – верняк.
Может быть, именно поэтому Шульгин перед своим «крайним» уходом дал ему фактически карт-бланш, поручив Воронцову издалека присматривать за «молодым», без крайней нужды не вмешиваясь.
Но мы опять несколько отклонились.
Сарториус, кем бы он ни был и кто бы ему ни покровительствовал, совершил типичнейшую для подавляющего большинства разведчиков ошибку. И не совершить её не мог.
Правильно было сказано каким-то специалистом контрразведывательного дела – «Наши клиенты всегда горят на связи. Либо – на попытках её установить». А как без связи? Хоть ты даже личную, только на тебя и в специальном режиме спутниковую группировку запустил – всё равно радиоволны надолго не спрячешь. Чего-то же другого вроде гравитации или телепатии в распоряжении господина Сарториуса с компанией пока не имелось. Не повезло ему ещё и в том, что Фёст случайно оказался свидетелем его «радиосеанса», причём оказался во всеоружии. Но не попался бы Сарториус сейчас – спалился бы завтра, потому что Фёст уже настроил Шар на фиксацию всей входящей к президенту и его окружению информации по любым каналам, и исходящей тоже. Так что вопрос был только во времени.
А вот и первые результаты поиска появились на экране прибора. Вадим с радостным удивлением хмыкнул, переключил Шар на принтер – он любил работать с печатными документами – и решил, что первую на сегодня рюмочку коньяка он точно заслужил. Благо и кофе в чашке ещё совсем горячий.
И как раз в этот момент зазвучал гудок вызова, и на соседнем экране (всего в мастерской, где работал Вадим, их было шесть, для разных нужд) появилось изображение Воронцова.
– Приветствую, ваше высокопревосходительство, – изъявил почтительность Фёст. – Вы откуда, проездом из Костромы в Вологду?
– С чего это ты такой радостный? – подозрительно сощурился Дмитрий.
– Да так. День хороший. Вчера Лютенса завербовал, завтра отправлю в Вашингтон с подборочкой интересных документов и предложением, от которого Ойяма-сан едва ли сможет отказаться.
– Это хорошо. А у меня тоже интересные новости. Ну, во-первых, операция с Катранджи завершена, и он с девушками домой возвращается. Тут кое-что случилось, теперь наш друг железно на войну с англами замотивирован, личные у него причины появились. Представь, когда они его виллу захватывали, вазочку разбили. Вроде ничего особенного, но она, оказывается, прямо из гробницы очередной египетской Нефертити к нему попала. Ценность обозначить – нулей не хватит. И второе…
Фёст видел, что Воронцов тоже весело возбуждён, и едва ли только случаем с Ибрагимом. Здесь что-то посерьёзнее.
– Слушаю со всем вниманием.
– Видишь ли, я тут в Замке кое с кем пообщался и, мне кажется, решил загадки и нынешнюю и дней минувших…
– Насчёт чего? – В сердце у Фёста что-то екнуло. Вроде как предчувствие какое-то.
– Насчёт того, кто все подлянки устраивал и без нашего разрешения собственный канал между мирами наладил. Помнишь, как вы с Секондом Затевахина поймали?
Вот он, момент истины, с ликованием подумал Фёст. Теперь он покажет старшему брату, кто есть кто. Как там у Стругацких? «Младший был дурак, естественно, но вот кто был первый?»[164].
– Удивительно, Дмитрий Сергеевич! Просто слов нет! – расплылся в льстивой улыбке Вадим и показал Воронцову только что распечатанную фотографию старца с острова. – Его, случайно, не Сарториус зовут? А то попался мне тут один…
Глава одиннадцатая
Воронцов, как он ни умел владеть собой, только что рот не раскрыл от изумления. А Фёст, наоборот, преисполнился хорошо замаскированного самодовольства. Ну как же, самого Дмитрия Сергеевича уел, да как!
– Жаль, что не могу сказать, как Павел Первый прадедушке нашего Владимира: «Ну, Белли, ты меня удивил, так и я тебя удивлю»[165]. Но галочку против твоего имени в формулярном списке поставлю. Что ещё успел выяснить?
– Да всё, считайте, и выяснил. Теперь как скажете – можно живьём брать, можно на блесне поводить, если нужно. Меня что больше всего удивляет – он ведь и там и там одновременно живёт. Как думаете, по какой причине?
– А что думать. Пока ты свой сыск вёл, я напрямую с Замком поговорил, молодость вспомнил. Как он меня в сорок первом на фронт провожал… – Глаза Воронцова подёрнулись грустновато-мечтательной дымкой. И не столько отъезд на фронт на броневичке он вспомнил, как первую встречу с Натальей через толстое стекло экрана. – Он мне Сарториуса и разъяснил. Не представлял, что ты до того же докопаешься… Понятное дело, ты лицо заинтересованное…
– Ещё бы. – Фёст скривился, вспомнив, как пришлось тогда по Москве под пулями побегать.
– Однако талант не отнимешь, не отнимешь… Может, тебя вместо Мятлева в министры ГБ двинуть?
– Увольте, Дмитрий Сергеевич. Я лучше по-прежнему, в частном порядке. Да, кстати, Сарториус же подождёт. В ближайшие сутки точно никуда не денется. Кроме того, с ним «с лёгким сердцем» разговаривать желательно, так думаю. А мне другую проблему решить не терпится, и с сердцем по-любому тяжёлым… Поприсутствуете?
Воронцов посмотрел на Вадима повнимательнее. Да, кажется, парень нешуточно вздёрнут. Только что весел и искромётен был, а сейчас вдруг – помрачнел не по-хорошему. Что же такое могло случиться? Не с Людмилой ли что? Нет, в этом случае он бы сразу сказал, да и не начал удачливого частного детектива изображать, демонстративно переигрывая. Из другой оперы что-то, но доставшее его до печёнок, что называется.
Дмитрий сделал понимающее лицо.
– Отчего же нет, если обещаешь, что интересно будет. Мне перейти?
– Переходите, конечно, чего уж… У нас после разговора с Сарториусом другие возможности появятся, не такие рисковые…
– Да они и сейчас есть, – продолжил Воронцов, и, не включая привычной рамочки вокруг превращаемого из «окна» в «дверь» экрана, просто шагнул вперёд, словно через полосу разделяющего их тумана. Фёст мельком успел увидеть за спиной адмирала обстановку его кабинета и вот – нет ничего. Воронцов стоит рядом с ним, а позади – полки с аппаратурой и бессмысленно мерцающее бельмо экрана.
– Видишь, и так можно, если Замок разрешает. Твой Сарториус этой же схемой пользуется. Так как – здесь говорить будешь, или в комнаты пойдём?
– Лучше бы в комнаты. В кабинет Шульгина…
В кабинете Фёст указал Воронцову на кресло за письменным столом.
– Сюда садитесь. Я – рядом. Трибунал у нас будет. Выездное заседание…
– Во как! А третий? Без третьего члена нельзя, – вспомнил Дмитрий петровское ещё «Уложение».
– А судить кого? – Воронцов насторожился. Уж не поехала ли крыша у «кандидата». Гражданских с улицы он вряд ли хватать станет, а из тех, кто в его окружении… Кроме как на валькирий у него власти не хватит.
– Так, волонтёра одного, – неприятно дёрнул щекой Вадим, и Воронцов узнал ещё одну характерную примету Шульгина. Да, многому Сашка успел за три года парня научить. Про аналога-Секонда всё время речь, а аналог вот где – поколением позже появился, шульгинский, естественно. Не получилось у него сына родить и воспитать, на Ляхова всё неотреагированные эмоции перебросил.
Фёст закурил, потом позвонил в настольный серебряный колокольчик, как в девятнадцатом веке принято было.
Почти сразу же появилась Людмила в легкомысленном домашнем. Увидев Воронцова, ойкнула и словно бы засмущалась.
– Волович в квартире? – непривычно жёстким голосом спросил Вадим.
– У себя был. А что?
– Второе – лишнее. Переоденься в форму, Герта пусть тоже. Будете готовы – введите! – сказано было едва ли не с лязганьем камерного засова.
Вяземская сделала большие глаза.
– Что-то не так? – Она подумала, что поведение Вадима связано с проведённым ею с Гертой допросом.
– Выполняйте, капитан!
Воронцов видел, что Ляхов сам себя накручивает, приводит в должное состояние, и подумал, что кое-кому сейчас станет очень не по себе. Он и сам так умел, но за Ляховым таких склонностей не замечал. Опять Сашкины замашки.
Людмила исчезла, тоже весьма озадаченная.
Фёст достал с барной полки книжного шкафа бутылку французского коньяка. Дмитрий подумал, что он сейчас нальёт, но Вадим не сделал нужного движения. Просто пояснил:
– У французов перед гильотиной рюмку наливают и закурить дают.
В подтверждение раскрыл настольную коробку на сотню папирос, развернул её «от себя».
– Что-то серьёзное ты затеваешь, – демонстрируя непричастность, заметил Воронцов.
– Сообразно обстоятельствам…
Через три минуты дверь без стука распахнулась и Людмила с Гертой, в строевой форме офицеров здешней армии, вошли, деликатно подталкивая перед собой Воловича. Несколько заспанного.
– О, Вадим, привет! – деланно-радостно возопил тот, увидев на столе бутылку, но испытывая в то же время смутную тревогу. Пока ничего конкретного, но при наличии совести, грязной, как недельная портянка, подсознательно всего остерегаешься. Даже и предложения разделить дружеское застолье.
– И вам здравствуйте, – кивнул он Воронцову, которого видел впервые в жизни.
– Садитесь там и там, – указал Фёст валькириям. – А ты – сюда!
– В чём, собственно, дело? – с напором, как нередко говорят люди, уже понявшие, что попались, но неизвестно почему продолжающие надеяться, что самоуверенность и наглость могут выручить.
– Да ни в чём, собственно. – Фёст почувствовал, что долго играть избранную роль не сможет. Или пристрелит этого подонка прямо здесь, или… Что «или» – он и сам не знал.
Посмотрел на сидящих девушек – одна возле окна, другая ближе к двери. Представил их с разбитыми насмерть головами или с пулями в сердце, и без гомеостатов, конечно: эта сволочь их первым делом сняла бы, чтобы обеспечить не только себе вечную жизнь, но и вечную торговлю ею же.
– Твой начальник и куратор Лютенс оказался более честным человеком, чем ты. Подписав договор о сотрудничестве, он немедленно доложил о твоём «проекте», даже не задумавшись, что теряет очень многое, в твоей трактовке, естественно. Что ты дешёвка и продажный писака, я с самого начала знал. Когда мы с тобой познакомились – в две тысячи пятом, кажется?
На Воловича тяжело было смотреть даже Воронцову, видевшему всякое. Полуспущенный надувной слон плюс портрет Дориана Грея в одном лице. Его била дрожь, по лицу струился пот, он пытался что-то сказать, но голосовые связки не повиновались.
Фёст кивнул Герте, и она силой, запрокинув ему голову за волосы, влила между жирными губами стопку «благородного напитка». Половина пролилась на грудь батистовой рубашки, но кое-что попало по назначению.
– Видео вашего сговора у меня есть, но крутить не буду, ты мне на слово поверишь, ведь правда? И насчёт оправданий – заранее заткнись. В таких делах оправданий не бывает. «Законники» таких, как ты, в землю закапывают живьём, турецкие султаны любили на тонкие колья сажать. Понимаешь, почему на тонкие? Сицилийские ребята вообще изобретательны до отвращения. Я, как русский человек, скорее всего тебя бы просто пристрелил. Но ведь смерть – мгновение, согласен? Аврелий считал, что он со смертью вообще не встретится. Пока он есть, её нет и так далее… Помнишь?
Волович непонятно почему, точнее – зачем, кивнул. Лучше бы возражал, отрицал, провозглашал лозунги, вроде как народовольцы на судах.
– Именно поэтому я тебя кончать не буду. Хоть я и не гуманист. Есть варианты поинтереснее. Ты Лютенса бежать из «этой» страны уговаривал. Беги, никто не помешает. Только не совсем в ту страну.
У нас, если ты слышал, а не слышал – всё равно, есть и другие параллели, кроме императорской России и «другой Америки». Вот я тебя и пошлю, знаешь куда – в РСФСР товарища Троцкого. В тысяча девятьсот двадцать седьмой год. Там все свои – Лёва Троцкий, Лёва Мехлис[166], Яша Агранов. А куратором над ними – наша Лариса. Мы её попросим, чтоб тебя в советскую печать пристроила. Рабселькором[167]. На соответствующий паёк. Когда к дистрофии приближаться начнёшь, ниже трёх пудов похудеешь – лишние пять фунтов селёдки и пуд картошки подкинут. Проявишь себя – попрошу в «Гудок» перевести[168]. Там как раз Ильф, Петров, Олеша, Булгаков, ещё интересные люди работать будут. Чудная компания. Про каждого книжку в «ЖЗЛ» напишешь. Только они там народ злой и проницательный – если раскусят – долго не протянешь…
Фёст несколько раз затянулся сигаретой.
– Ту американскую бумажку, что Лютенсу показывал, – себе оставь. Совсем херово будет – в Торгсине[169] сменяешь на американские «свинобобы»[170].
Пока что Волович тупо, именно что по-воловьи, слушал слова судьи. В голове шумело, мысли путались, ничего, кроме «Простите, больше не буду», на ум не приходило. Но соображения хватало понять, что как раз это стопроцентно не поможет.
Он смотрел поверх головы Фёста, на окно. Там синело небо и мелькали какие-то птички. Ему невероятно захотелось туда, к ним. Показалось – замахай руками, и взлетишь, и растворишься в смальтовой лазури. Это означало, что безумие совсем уже на пороге.
Но тут до него всё-таки дошло, что убивать его не собираются, просто вышлют куда-то. К какому-то Троцкому… Но того ведь, кажется, как раз убили? И это просто эвфемизм – отправить в штаб Духонина, отправить к Троцкому…
И наконец-то вегетативная нервная система от непосильной эмоциональной перегрузки ему отказала. То есть все сфинктеры[171] расслабились разом. С понятными последствиями.
Даже Фёст, несмотря на медицинское образование, брезгливо поморщился. Людмила, девушка тонко организованная, отвернулась, подавляя отвращение. Только Герта сохранила полную безмятежность. Просто посмотрела на Вадима и чуть приподняла вопросительно бровь.
– Немедленно вышвырни его на ту сторону. Пока на ковры не протекло. В любое пустынное место на окраинах Москвы. Сентябрь двадцать седьмого. Потом займётесь подробностями. Я всё сказал…
– Ну, ты и садист, – с усмешкой произнёс Воронцов, когда воняющего (в буквальном смысле) журналиста уволокли валькирии. Почти как в скандинавских сагах. Только не павшего, не героя и не к пиршественным столам…
– Да чего садист, Дмитрий Сергеевич, – вроде бы даже обиделся Фёст. – Другой бы убил без разговоров, сапогами запинал! Нет, ну какая сука?! Уж меня бы собрался убить или даже президента – ладно. Издержки классовой борьбы. Но девчонок, что его выходили, кормили-поили – так спокойно приговорить! Ты, мол, их мочи, дядя, а я подстрахую. Нет, от собственного гуманизма меня прямо выворачивает. Его, курву, в сортире бы утопить, а я ему – высылку. И не в Верхоянск, в Москву. НЭП там всё же, «Двенадцать стульев» перечитайте. Освоится, коллективизацию пропагандировать станет, потом, как Ляпис-Трубецкой, стишки про Гаврилу продавать начнёт. А там вздумает через румынскую границу дёрнуть…
– Не бойся, ОГПУ всегда начеку, не зря ты Агранова вспомнил. Я о другом подумал – это ж такая пройда, что он там сам вместо Ильфа с Петровым романы напишет и прославится немыслимо. Наказали, получается… Первый круг ада, – с подначкой сказал Воронцов, имея в виду известный роман Солженицына..
– Или – рая, – широко улыбнулся Ляхов. – Но я уж постараюсь, чтобы ад раем не показался. Хрен он у меня там что напишет, кроме заметок на четвёртую полосу и заявлений о вспомоществовании в ячейку Дорпрофсожа[172].
С крайне неприятной проблемой он справился, и ему сразу полегчало на душе. Разбираться с Сарториусом и Ойямой будет куда проще.
Господин, назвавшийся Сарториусом, отключил свой, условно говоря, «телефон», одновременно включая систему дополнительной страховки от несанкционированных контактов. Ему незачем было вникать в тонкости современных компьютерных технологий, он просто знал, что любой адресованный ему вызов даже при наличии всех хаотически меняющихся паролей и кодов доступа прямым путём на его аппарат прийти не сможет. Так же, как не может быть запеленгован и перехвачен, поскольку для любого непосвящённого он вообще как бы не существует, как не существует вообще вся используемая их организацией система связи. В привычном для нашего времени и технического уровня понимании. Не нужно забывать, что сигнал из одной реальности, даже тщательно отслеживаемый, непременно на границе с другой просто исчезнет. А в другой возникнет ниоткуда и тоже запеленгован быть не сможет, как не имеющий локализованного источника.
Фёст перехватил разговор Сарториуса с Келли только потому, что «сел на волну» межпространственного передатчика, работающего почти по той же схеме, что левашовская СПВ.
Если есть желание и очень много денег, сегодня можно не только придумать, но и воплотить в жизнь самые, казалось бы, фантастические идеи, лишь бы они не нарушали основных принципов и законов природы. Тоже известных в настоящее время.
Как в известном фантастическом рассказе – нескольким изолированным друг от друга группам учёных показали документальный фильм об испытании антигравитационного летательного аппарата, сообщили, что его создатель погиб, не оставив технической документации, и предложили, ни в чём себя не ограничивая, попытаться воспроизвести это изобретение.
В итоге у одной из групп получилось, а остальные, хоть и не достигли цели, по ходу дела сделали несколько грандиозных прорывных открытий в разных областях науки и техники.
Сарториус (будем считать его если не официальным единоличным главой своей организации, или, точнее – «Клуба искателей странного», то генератором идей и одновременно, выражаясь кинематографическим языком – «директором картины») по этому же примерно принципу искал и находил во всех концах света талантливых людей из разрядов «сумасшедших изобретателей» и «непризнанных гениев. Если бы тридцать лет назад ему подвернулся Олег Левашов и они нашли общий язык – трудно даже представить, как выглядел бы сегодня наш мир. Одно дело – собирать первую СПВ-установку в домашней мастерской, в свободное время и на личные, довольно-таки скудные средства (благо с работы тогда можно было таскать радиодетали и прочие расходные материалы в почти не ограниченных количествах, попутно придумывая, чем их можно заменить там, куда они первоначально предназначались), и совсем другое – делать её же на базе той же «Интернэшнл телефон энд телеграф компани» с неограниченным финансированием и технической поддержкой всех её КБ и экспериментальных цехов.
Так что, пожалуй, человечеству очень повезло, что Левашов не имел привычки писать статьи в научные и научно-популярные журналы, даже в рубрики типа «Маленькие хитрости» и «Домашнему мастеру на заметку». А то мир и сам изобретатель со своими друзьями пошли бы совсем в другую, чем в нынешнем варианте, сторону.
Зато Сарториусу повезло в другом – ему вовремя встретился господин Боулнойз, за сравнительно незначительные ответные услуги посуливший власть над миром и снабдивший чертежами и схемами немыслимых до того устройств.
В результате уже больше трёх лет Сарториус и компания были уверены, что владеют техникой и методиками, столь же далеко ушедшими от нынешних, как цифровое телевидение двадцать первого века от радиовещания тридцатых годов прошлого.
Только, к глубокому изумлению и разочарованию Сарториуса, первая попытка захвата власти над двумя реальностями провалилась самым жалким, унизительным образом. Сам он так и не осознал причин своего провала, а Арчибальд Боулнойз тоже никак его не объяснил. Видимо, Замок не счёл нужным давать отпочковавшемуся от него андроиду слишком много степеней свободы. И тот словно бы «не заметил» вмешательства в свою игру «Андреевского братства». Они с Сарториусом и всей его организацией до сих пор подходили к проблеме совсем не с той стороны.
Сарториус положил в ящик стола трубку «телефона», вернулся к увитой тропической зеленью балюстраде, отделяющей край террасы от трёхсотметровой бездны, на дне которой (каламбур, однако) накатывались на рифы нешуточные волны. Даже сюда доносился едва ли не пушечной силы грохот, когда особо мощная волна, без помех разогнавшаяся прямо от берегов Антарктиды, обрушивалась на отполированный бесчисленными миллиардами таких ударов базальт.
Место не для слабонервных. Некоторые дамы, а иногда даже и мужчины, время от времени бывавшие здесь в гостях, подойдя к краю площадки и взглянув вниз, испытывали дурноту, головокружение и все прочие признаки страха высоты. Здесь она была на той грани, когда воспринимается именно как высота реальная и смертельно опасная. Если человек поднимается ещё выше, преодолевается определённая психологическая граница и взгляд под ноги уже не вызывает ужаса. Как из кабины самолёта или с вершины горы.
А от порога дома, с его веранд и балконов, и плоской крыши тоже, над которой сплошным куполом смыкалась листва четырёх росших по углам зонтообразных деревьев, береговые обрывы не были видны, только безбрежный океан во все стороны света. Ни единого островка вокруг, да и какие-либо суда появлялись в поле зрения хорошо если раз в несколько месяцев. Такой вот удалённый от всяких «голубых дорог» район. Контейнеровозы и танкеры теперь ходят неизменными, как рельсовые пути маршрутами из А в Б, охраняемые военными кораблями морских держав, круизные лайнеры предпочитают более цивилизованные, богатые достопримечательностями и безопасные места севернее экватора. Богатые яхтсмены, в отличие от своих предшественников иных времён, не любят удаляться от цивилизованных мест дальше, чем на суточный переход: пиратство в этом мире развито куда шире, чем в шестнадцатом веке или во времена египтян и финикийцев – сказывается уровень технического развития и многочисленность не желающего честно трудиться населения «свободных от цивилизации» стран.
И воздушные лайнеры здесь не летают, да и в любом случае с борта «Констеллейшена», летящего раз в неделю на десятикилометровой высоте из Токио в Веллингтон, именно этот островок разглядеть крайне малореально, не то чтобы постройки на нём.
«Стопроцентное одиночество и вечный покой гарантированы», можно было бы писать в рекламных проспектах, вздумай хозяин организовать здесь эксклюзивный морской курорт. Что верно, то верно, особенно второе.
Хотя никаких причин так уж дорожить своей уединённостью и тайной местонахождения господин Сарториус не имел. Права владения островом оформлены по всем международным законам и правилам, строительство на нём «бунгало» – тоже. А властей, которые захотели бы познакомиться с новым лендлордом и «соотечественником» поближе, просто не существовало в природе, как «де-юре» и самого острова, и информации о нём в каких угодно архивах. Такой вот парадокс – земля ни по каким учётам не проходит нигде, но в случае необходимости права собственности на неё подтверждены на любых уровнях.
Но это ещё не главная особенность острова. Само по себе домовладение и прилегающая территория были невелики, с их обслуживанием справлялись не более двух десятков слуг и технических специалистов, охрана же была фактически не нужна. Разве что вплотную подойдёт чей-то авианосец и, пренебрегая священным правом собственности, вздумает высаживать на вершину вертолётный десант. Так в этом случае что десяток охранников, что тысяча – всё едино.
Слава богам, за всё время, что Сарториус тут обитает, подобных инцидентов не случалось. В этой реальности, по сравнению с ГИП, флоты стран ТАОС без крайней необходимости в малоосвоенных местах не болтаются, и понятия «сфера жизненных интересов» до сих не существует. Моря свободны, а ненаселённые земли принадлежат любому, кто водрузит свой флаг и немедленно займётся (это обязательно) хоть какой-нибудь хозяйственной деятельностью. Иначе земля попрежнему ничья, хоть всю её флажками утыкай.
Но вообще-то заинтересуйся кто-нибудь этим «приютом уединения» всерьёз, захвати единственно возможным способом вершину и начни кропотливое исследование, многое и многое здесь повергло бы любого человека в глубокое изумление.
Неизвестно, каким образом узнал господин Сарториус (или кто-то из его предшественников), что островной конус, одна из самых высоких точек миллионы лет назад скрывшегося под водой горного хребта, был некогда действующим вулканом. Сама вулканическая деятельность в те же незапамятные времена прекратилась, то ли навсегда, то ли «до особого распоряжения», оставив за собой горное образование, пронизанное внутри, кроме ствола центрального кратера (на поверхности давно исчезнувшего), огромным количеством штолен, штреков, лавовых ходов и карстовых пустот всевозможной протяжённости и диаметров, будто источенный до кружевного состояния древесный пень, сохранивший лишь внешнюю форму.
Неизвестно, какими специальными методиками пользовались геологи и географы, состоявшие на службе у «Клуба», но остров Сарториуса был далеко не единственным на сверхсекретных картах Мирового океана. На текущий момент было обнаружено и освоено аналогичным образом почти четыре десятка похожих артефактов, расположенных по преимуществу южнее экватора по всей его протяжённости. Впрочем, были и в Северном полушарии, и не только на океанских просторах, в сухопутных горных массивах подобные структуры тоже встречались, но в местах исключительно труднодоступных: в Тибете, например, в Андах, на Памире.
Нет нужды рассказывать о каждом из них, достаточно и безымянного островка Сарториуса, чтобы получить представление обо всех прочих. Все они были не уединёнными приютами отшельников-анахоретов вроде жюль-верновского капитана Немо (а остров Сарториуса всем, кроме размеров, весьма напоминал остров Линкольна), а скорее неким подобием островка Бэк-Кап, описанного тем же автором[173].
Бэк-Капом, как помнят те, кто читал роман или хотя бы видел пародийный чешский фильм[174], имевший грандиозный успех полвека назад, владел некий пират и авантюрист Керр Каррадже. Вот как характеризует его великий фантаст: «Человек небывалой отваги, один из тех смельчаков, которые ни перед чем не отступают, даже перед преступлением, почему и пользуются неограниченной властью над людьми с необузданными страстями и дурными наклонностями. Имя Керра Каррадже произносили с отвращением и ужасом, ибо оно принадлежало существу легендарному, невидимому, неуловимому»[175].
Господин Сарториус отличался от Керра Каррадже (он же – граф д’Артигас) тем, что имя его было практически никому не известно, прочие же характеристики вполне совпадали, разве что ужасный пират был личностью куда мельче пошибом, с достаточно примитивными, на уровне середины XIX века, воображением и потребностями. О возможностях и речи нет, тут – никакого сравнения!
Внутренние полости островка и связывающие их тоннели, коридоры и прочие переходы в сумме составляли, по расчётам инженеров, не меньше одной десятой общего объема острова, а это колоссальная величина, примерно триста миллионов кубометров. Причём только в надводной части. Для сравнения можно представить, что объем всех тоннелей московского метро – меньше пяти процентов этого числа. Не зря Перельман в своей «Живой математике» настойчиво внушал юным читателям, что их представления о мире «больших чисел» применительно к творениям человеческих рук и природным объектам поразительно отличаются от реальности.
Разумеется, большая часть внутриостровного пространства, образовавшегося на протяжении целых геологических эпох под воздействием вулканических и иных процессов, была недоступна для исследователей, в силу своих размеров и топографии. Но и тех полостей, куда можно было без особого труда проникнуть с вершины, хватало, чтобы разместить там средней величины подземный город со всей необходимой инфраструктурой.
Самое главное, кроме всякого рода полезных ископаемых, вроде выходов каменного угля, разнообразных руд и даже жильного золота, внутри острова в изобилии имелась пресная, великолепной чистоты вода, наполнявшая через естественные артезианские скважины целую систему подземных озёр и ручьёв, образующих местами поразительные каскады водопадов.
А грандиозные анфилады многоуровневых залов, галерей и коридоров своей нечеловеческой красотой превосходили самые известные и популярные среди туристов пещеры мира.
В такое трудно поверить, как и вообще в очень многие причуды природы. Кто при взгляде на сравнительно невысокие прибрежные горы и холмы Абхазии мог бы вообразить, что под ними скрывается колоссальная Новоафонская пещера, считающаяся, в свою очередь, весьма и весьма скромной в сравнении со многими другими.
Господин Сарториус сразу же смог оценить реальную, «потребительскую», как сказал бы Маркс, стоимость доставшегося ему почти даром сокровища.
Зато вложения, сделанные им в оборудование острова за последние тридцать лет, значительно превосходили годовые бюджеты многих вполне развитых государств, хотя и не шли в сравнение с бессмысленными расходами на вооружение тех же Соединённых Штатов, да и СССР, если по мировым ценам считать.
В результате получилось убежище, вполне способное на неограниченный срок разместить с комфортом несколько тысяч человек на случай тотальной ядерной войны или любого другого катаклизма типа падения на Землю приличного астероида (кроме прямого попадания, само собой). Лишь бы вообще уцелела земная биосфера. Несколько лет «ядерной зимы», к примеру, пережить можно было бы спокойно, особенно учитывая крайнюю удалённость острова от любых объектов потенциального радиоактивного поражения.
В громадном гроте, метров пятьдесят высотой и три сотни в диаметре, расположенном на уровне моря и соединённом с ним подводным тоннелем, спокойно размещалось у пирсов несколько транспортных подводных лодок и даже две боевых, с хорошим торпедно-артиллерийским вооружением. Не считая специально сконструированных комбинированных подводно-надводных каботажных судов. Так что и здесь не ошибся в своих предвидениях Жюль Верн, описывая и остров Линкольна и Бэк-Кап, хотя уж откуда ему, казалось бы, никогда не выходившему в море дальше прибрежных вод, знать о «тайнах двух океанов».
В случае тех событий, на которые Сарториус и его соклубники рассчитывали, то есть глобального катаклизма, могущего разрушить весь теперешний миропорядок, имевшиеся на каждом из островов-убежищ флоты должны были обеспечить и связность уцелевшей инфраструктуры, и возможность использования уцелевших ресурсов остальной Земли. В том числе заниматься промышленным рыболовством и использованием иных ресурсов океанов, которые очень мало пострадают при наземном конфликте почти любой интенсивности.
Кроме уже готовых жилых помещений, складов, мастерских, наисовременнейших систем жизнеобеспечения, рассчитанных, как уже было сказано, на комфортное проживание нескольких тысяч «избранных первого разряда», вчерне были готовы уровни, предназначенные для совсем других категорий обитателей. «Нечистых», выражаясь языком Библии. «Второй разряд» – в него должны были войти квалифицированные рабочие, рядовые инженеры, обслуга всякого рода, кандидаты в будущие свободные фермеры и «вольные землепашцы», к которым теоретически относились рыбаки, охотники, старатели, просто профессиональные организованные мародёры.
И наконец, «третий» – не то чтобы совсем рабы, но что-то очень близкое по статусу – сервы, колоны, крепостные, как хочешь назови – одним словом, плебс всех разрядов, на которые их делили в древнеримском обществе. Но и они должны были состоять из особей генетически безупречных. Ведь пополнять, в случае чего, убыль представителей «высших каст» придётся за их же счёт, больше неоткуда. Да и наложниц себе феодальные сеньоры, русские помещики и американские плантаторы-южане находили в этих же слоях, пресытившись чересчур узким кругом женщин, равных по положению, да вдобавок ещё и свободных от брачных уз.
В общем, продумано всё было наилучшим образом. На сооружение таких вот убежищ по всему миру десятилетиями тратились гигантские суммы, стерилизуя таким образом львиною долю всей обращающейся в мире «чёрной наличности», которая в противном случае грозила бы обрушить мир в новую, не в пример более страшную «Великую депрессию». Целые отрасли производств по всему миру тоже работали на этот проект, даже не подозревая об этом, потому что ещё одна «индустрия» возникла тут же – одновременно логистический центр и высокоспециализированная служба безопасности, защищая тайны, о которых сама не имела стройного представления.
Забавнее всего, как уже было сказано, было то, что очень ко многим делам, связывавшим «Клуб искателей Странного» (так организация назвалась в имперской реальности) и «Общество озабоченных гуманистов» с «Хантер-клубом», сам Арчибальд приложил руку в бытность свою господином Боулнойзом. Что сейчас позволяло организовать несколько интересных вариантов той бесконечной игры, что ведут между собой всевозможные спецслужбы, начиная с времён столь же давних, как и история праотца Ноя с его ковчегом, «чистыми» и «нечистыми».
Самое главное, что больше всего заинтересовало и Фёста и Воронцова – это проявление в лице господина Сарториуса и очередного «аристократического клуба», весьма склонного (как и его предшественник, если не сказать – дублёр «Хантер») к неуставной деятельности. Не есть ли они (и люди, и клубы) – то ли первичные по отношению к ним, то ли вторичные – проявлениями как раз той «третьей силы», которой в своё время так опасались аггрианские резиденты.
Вполне ведь можно представить, что всё те же Игроки, разочаровавшись в своих же «послушниках» (то есть в «Братстве» как в таковом), решили вывести на доску, на сцену, на беговую дорожку – как угодно можно сказать – новых персонажей. Удовлетворяющим каким-то там неведомым «критериям отбора». Чтобы или вообще заменить прежние фигурки на новые, повыше качеством, оставив саму шахматную доску и число клеток на ней в неприкосновенности, или просто в очередной раз обострить партию, введя по ходу дела дополнительные факторы, фигуры и расширив пространство маневра. До ста двадцати восьми клеток, к примеру.
– Ну да, Дмитрий Сергеевич, опять вы мне напомнили всё те же «Записные книжки»: «Ввести в известную пьесу новое лицо, которое перевернёт все действие».
– Почему бы и нет. В конце концов, там же сказано: «Всё, что вы написали, пишете или только собираетесь написать, давно уже написала Ольга Шапир, которая издавалась в Киевской синодальной типографии». Так что я не уверен, имеет ли смысл ждать от каких-то там, пусть и потусторонних существ, действительно оригинальных поступков. Если признавать существование Бога и боговдохновенность Библии, так и на них должно распространяться: «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и ничего нет нового под солнцем. Бывает нечто, о чём говорят: «смотри, вот это новое», но это было уже в веках, бывших прежде нас»[176].
Разговор как бы сам собой скатился всё на те же рельсы, как и почти каждый, что начинали между собой «братья» и даже посторонние люди, попадавшие в их орбиту, если, конечно, были способны на это. Впрочем, с неспособными не слишком-то и разговаривали. На каждый тезис тут же выскакивал антитезис, далеко не всегда приводя при этом к «синтезу», и цитаты появлялись сами собой, иногда для подтверждения собственной мысли, иногда – для замены её чужой, более удачной формулировкой, а нередко – просто так, на манер джазовой аранжировки известного созвучия. Хотя и на этот случай немедленно находится очередная мудрость: «Глупейший человек был тот, который изобрёл кисточки для украшения и золотые гвоздики на мебели».
– А если данные «потусторонние персонажи» не входят в круг интересов нашего Бога и сами воспитаны в иных традициях, то их решения могут оказаться весьма и весьма оригинальными, – предположил Фёст.
– Едва ли. Существа с принципиально иной логикой и способом восприятия мира находят себе более понятные им «шверпункты»[177]. А раз они лезут в человеческие дела, используя человеческие методики, то мы с ними достаточно верно понимаем друг друга.
– Очень хорошо. Значит, теперь стоит подумать, как эту «хохмочку с яйцами» использовать в наших целях. Что-то мне чутьё подсказывает – эти ребята могут, сами того не подозревая, сделать за нас львиную долю работы. Причём – ко взаимной пользе.
И опять, усмехнувшись, Воронцов изрёк очередную истину, почерпнутую в тех же «Записных книжках»: «Учтите, что бы вы ни делали, вы делаете мою биографию».
– Совершенно верно, Дмитрий Сергеевич. Сюда же и Пруткова можно приспособить, только не хочу повторяться.
– Вот и я так же думаю. А то слишком долго мы непрерывно со всеми подряд конфронтировали. Стоило мне с Антоном а Андрею с Ириной познакомиться – и понеслось. И, ты будешь смеяться, опять у меня цитатка подходящая напрашивается. Не побьешь?
– Да за что же, если незатёртая и к месту. Давайте…
с выражением прочитал Воронцов.
– Интересно. И кто же это? Что-то вертится в голове, а не вспомню с ходу.
– Тютчев. Говорят – второй на самом деле русский поэт, после Пушкина, только недооценённый.
– Очень возможно. А откуда строфа – я вспомнил. Это Пикуль. «Битва железных канцлеров». Там Горчаков с Тютчевым о Бисмарке говорят…
– Примерно так. Я всегда говорил, что зря нынешнюю молодежь хают всячески. Ничем вы не хуже нас, просто другие немного. Я это к чему вспомнил, Тютчева в смысле. С Ибрагимом нашим, Катранджи, сумели мы без шума и драки наладить вполне человеческие отношения, которые крепнут с каждым днём. Особенно если ещё именно этой самой любовью, матримониально то есть, наш союз скрепить. С Арчибальдом всё образовалось. Так чего же теперь этого романтично настроенного господина Сарториуса не привлечь под свои знамёна? Негласно пока, разумеется, но так всё сообразить, чтобы эти самые «межимпериалистические противоречия» он до крайнего предела довёл, а уж насчёт «Coup de Grace»[178] мы сами озаботимся…
Фёсту было сейчас очень приятно смотреть на адмирала. Он словно помолодел лет на десять, и в глазах мелькали столь редко там последнее время появляющиеся чёртики. Явно только что высказанная им идея ему самому нравилась. А главное – она должна была осуществляться в пространстве «реальных возможностей», без привлечения каких-то потусторонних сил. Клинок против клинка, и ничего больше.
Не раз Фёста удивляла избранная Воронцовым позиция. Не то чтобы «над схваткой», а как бы немного «сбоку». Он понимал, конечно, что Дмитрий – человек несколько другого типа, чем остальные «братья». И по воспитанию, и по отношению ко всей этой истории с агграми и форзейлями вообще.
То, что он придумал «Валгаллу» в качестве особой, в своём роде экстерриториальной базы «Братства» уже сыграло и будет дальше играть свою и стабилизирующую, и морально укрепляющую роль. Но самому вечно изображать «Летучего голландца», который уже год скитаться по морям вроде бы и без цели, воплощая собой мэхэновскую теорию «Fleet in being»[179] – должно было бы уже и надоесть. Впрочем, ведь никто точно не знает – чем именно занимается Воронцов в те промежутки времени, когда он предоставлен самому себе, имея в своём распоряжении всю техническую базу «Братства», да ещё и какие-то свои личные отношения с Замком, наверняка существующие, хотя бы потому, что рядом с ним всегда жена Наталья Андреевна, тоже ведь по сути являющаяся неким подобием Арчибальда…
Фёст поймал себя на том, что сейчас уподобился деятелям сталинского, и не только сталинского времени, с глубоким подозрением относившимся ко всем, кто «был в плену, на оккупированной территории, за границей». Причём не важно, по какой причине человек за этой границей побывал, в качестве эмигранта или в служебной командировке по линии даже и самого НКВД. Штирлица вон тоже после войны посадили, может быть, даже и правильно. Мало ли, что ты там какие-то задания руководства выполнил, главное – ты двадцать лет в РСХА работал, до штандартенфюрера дослужился, то есть, по сути, фашист похуже какого-нибудь полицая с тремя классами образования.
И не в том дело, что Ляхов подозревал старшего товарища в каких-то неблаговидных деяниях или интригах – ему просто хотелось знать о нём как можно больше, в том числе и об «обратной стороне Луны».
И вот теперь вроде Дмитрий Сергеевич решил тряхнуть стариной, лично поучаствовать в новом непростом деле. Как раз ему по уму и характеру. Никому при этом до конца не раскрыв своих планов.
Вообще открытие Фёста, подкреплённое полученной из Замка подробной и точной информацией, – именины сердца для конспирологов всех мастей, если бы они о нём узнали, конечно. Оно отвечало запросам и теоретическим построениям кого угодно – поклонников теории заговора «сионских мудрецов», адептов возрождения ордена розенкрейцеров или тамплиеров, и более рациональных сторонников абстрактно понимаемой, воплощающей все непознанные нюансы политической истории «мировой закулисы».
Даже коммунисты обрадовались бы, получив подтверждение марксистско-ленинской теории об империализме, как высшей стадии капитализма, загнивающего, катящегося в пропасть и так далее. Но, самое интересное – так оно и было на самом деле. То есть вся деятельность организации господина Сарториуса, представлявшей (наряду с «Хантер-клубом») ещё как минимум два тайных нервных узла пресловутой, существующей в разных видах чуть ли не от начала времён «Системы» (глиняные таблички с докладными её агентов найдены даже при раскопках таинственного города Ур), была развёрнутым ответом на вопрос: «А что делать дальше?» И каждая историческая эпоха, каждый фазовый переход приносили на него новый ответ.
В шестидесятые годы у думающих студентов, успевших на первом-втором курсах овладеть основами диалектики, был очень в ходу вопросик, позволявший капитально отвлечь преподавателей от темы очередного семинара: «А что будет после коммунизма?» Вопрос, инспирированный не какими-нибудь «западными голосами», а лично Никитой Сергеевичем, только что объявившим дату наступления означенной формации, как бы и окончательной, поскольку о каких-то других только Ефремов смутно намекал в «Туманности Андромеды». Так что тогдашние советские студенты, хоть и валяли дурака, но сильно предвосхитили господина Фукуяму с его «Концом истории».
С коммунизмом разрешилось как-то само собой, остался империализм, и вопрос теперь касался уже его исторической судьбы.
Любой нормальный человек, наделённый мыслительными способностями, знанием мировой истории и умением строить силлогизмы и находить аналогии, отлично представлял, что и без всяких коммунистов крах «последней эксплуататорской формации» неизбежен, как солдатский дембель. Смешно же представить, что так и будут столетие за столетием бегать по кругу, как карусельные лошадки, «ежедневно и ежечасно», как писал товарищ Ленин, «порождая капитализм». Темпы исторического прогресса, как известно, всё ускоряются, словно бы сами по себе, и столько времени, как первобытно-общинному или рабовладельческому строю, капитализму никто не даст. Что-нибудь с ним обязательно случится, причём, судя по множеству признаков, в самое ближайшее время.
Произойдёт ли на очередном витке диалектической спирали новая социалистическая революцию, теперь, в полном соответствии с теорией, не в отсталой аграрно-феодальной России, а в самых передовых странах Запада? Возникнет ли новая, непредставимая сегодня даже фантастами формация? Или, как многие предсказывают, мир таки опрокинется в пучину новых «тёмных веков»?
Люди из команды Сарториуса, сами или с чьей-то помощью заблаговременно, как им казалось, нашли ответ на вопрос, чем почти сравнялись на данном историческом этапе с незаслуженно, в общем-то, охаянными Марксом и Энгельсом и их «историческим материализмом».
Как писал философ-марксист Дж. Кьеза: «Эти «хозяева Вселенной», владельцы международной финансовой структуры имеют не только богатства, но и власть. Деньги, которые они напечатали – 200 триллионов долларов, – ничем не обеспечены, это пустышки. Эти властители живут на высочайших этажах большой башни, у них обзор, оттуда они видят, наблюдают лучше, чем мы».
Всё правильно написал философ, только сам не осмелился или не сумел заглянуть ещё дальше, чем позволяла ему его парадигма, поскольку дальше решил, что: «Эти люди видят, что наступает гигантский кризис. Ищут выход. Но у них нет стратегии, нет понятия, а как строить мир? Сегодня мы живём в полном хаосе».
А вот умнейшие из «хозяев» попробовали, сразу уподобившись первооткрывателям «исторического материализма». Они тоже нашли устраивавший их выход из абсолютного тупика, куда непременно вёл, по всем теоретическим выкладкам, нынешний, да и любой из возможных вариантов капитализма. Идея какого угодно «нового социализма» вызывала у них естественное, как к каннибализму или инцесту, отвращение. Мысль о пресловутом «равенстве», даже хотя бы только перед законом, а уж тем более «социальной справедливости» – это же ересь и извращение всех основ мироустройства. Если бы бог (боги) любой из религий захотели сделать людей равными, они так и поступили бы с самого начала, избавив человечество от истории, литературы, вообще культуры. То есть даже пресловутая размолвка Каина с Авелем не могла бы случиться в случае «равенства» двух братьев, что в глазах друг друга, что перед богом.
Поэтому наиболее простым и надёжным способом возвращения человечества в его естественное состояние, а мира как такового – к вечной стабильности (то самое пресловутое «прекращение истории», только всерьёз) был признан неофеодализм. То есть самый обычный, европейского типа эпохи расцвета, но с использованием на старом базисе всех действительно полезных правящему классу достижений современной науки и техники[180].
Здесь нет времени и места излагать достаточно стройную и сложную теоретическую основу «будущего общества» и большую часть мер, которую планомерно, последовательно и неторопливо, едва ли не в стиле тропического ленивца осуществляли его основоположники и идеологи в течение последних сорока уже с лишним лет. Имеется достаточное количество с большим мастерством написанных и глубоко засекреченных теоретических трудов и вполне практических инструкций, вроде лютеровских или ленинских «тезисов».
Самое интересное, люди, первыми пришедшие к этой идее и начавшие её воплощать – были своеобразными бескорыстными романтиками. Все они («руководящее и направляющее ядро» организации числом менее сотни человек и «второй эшелон» – примерно около тысячи) сосредоточили в своих руках столько экономических и политических ресурсов, что не нуждались вообще ни в чём. Контролируя реальный и виртуальный капитал в триллионы долларов, евро и заменяющих их «деривативов», а через транснациональные корпорации и «агентов влияния» – целые группы государств (тот же Евросоюз, к примеру) они давным-давно не нуждались абсолютно ни в чём. Все существующие в мире вещи были им доступны, а несуществующие всегда можно приказать придумать и изготовить. Способов, позволяющих съедать и выпивать больше того, что позволяет емкость желудка, наука так и не изобрела[181]. Экономической и политической, по преимуществу тайной властью они располагали такой, что никакие существующие на Земле официальные должности не могли их заинтересовать. Тем более что легитимно получить практически любую из них можно было хоть завтра. За исключением, может быть, тиары Папы Римского. Или короны наследственно правящих на Западе и Востоке монархов. А что даже и в них проку? Бесконечная череда скучных, рутинных, донельзя формализованных обязанностей и никакой подлинной личной свободы. Возможность иметь триста наложниц и ужинать мясом хоть бывшего лучшего друга, хоть злейшего врага – это ещё не свобода.
А вот создать совершенно новую, ни в каких трудах самых великих мыслителей не описанную и не предсказанную формацию и начать жить в ней и править исключительно по собственному усмотрению, не оглядываясь ни на какие законы, правила и традиции – в этом есть настоящий интерес.
Ещё и потому можно назвать этих людей романтиками, прежде всего – «основоположников» (их было не двенадцать, как «мудрецов» или христианских апостолов, а четырнадцать), что мало кто из них рассчитывал лично дожить до реализации своего проекта. Это, кстати, роднило их с теми правителями и архитекторами Средневековья, что затевали постройку очередного грандиозного собора, Реймсского или Кёльнского, отчётливо представляя, что и труд свой и деньги тратят совершенно бессмысленно, поскольку даже внуки их внуков не увидят грандиозные проекты завершёнными[182]. Попросту говоря – людьми двигала чистая идея, без всякого личного интереса, кроме посмертной славы и, возможно, загробного вечного блаженства.
Для реализации «Цели» были привлечены (без их ведома об истинном смысле происходящего) главы государств, учёные, экономисты, писатели, всевозможные тайные организации, политические и криминальные. Что заслуживает особого внимания – истинные цели и убеждения всех этих людей не имели для проекта особого значения. Как закоренелый преступник, так и записной альтруист, чуть ли не святой в белых одеждах, должным образом ориентированные, с энтузиазмом работали на генеральную идею, что коренным образом отличало это движение от многих других, имевших место в истории человечества.
В качестве примера можно привести тех же советских диссидентов и правозащитников ещё самого раннего разлива. Никаким образом не усомняясь в чистоте помыслов и даже жертвенности лучших из них, нельзя не признать, что свою роль, отведённую им манипуляторами «Системы», они сыграли. При их активной помощи и участии одна из двух мировых сверхдержав (как бы к ней ни относиться объективно) была демонтирована, чем, парадоксальным образом, был открыт путь не к процветанию, а к ликвидации и её исторической соперницы. Что и входило в планы «теоретиков». Земля, лишённая двух своих «мировых жандармов» (все остальные претенденты на эту роль уже успешно приведены в ничтожество), очень быстро деградирует, несмотря на всё усилия остающихся ошмётков «цивилизованного мира», до уровня Экваториальной Африки. По сомалийскому образцу[183].
Потренировавшись на этом и ещё нескольких «лабораторных объектах», единомышленники и предшественники Сарториуса продолжили свои эксперименты, отрабатывая ещё более изощрённые методики. И всё у них пока получалось, что очевидно, если сравнить политическую и экономическую карту мира 1959-го и нынешнего годов[184].
В «реальности номер два» всё обстояло ещё лучше. Там половина мира и так жила почти при феодализме, достаточно было разрушить ТАОС, ввергнуть Россию и остальные державы в сильно отсроченную мировую войну – и vouloir[185], как говорят французы.
Эти «успехи» выгодно отличали их от прекраснодушных и не очень «демократов» и либералов всех мастей. Да и коммунистов тоже, ухитрившихся так задёшево провалить все свои выигрышные позиции на «мировой шахматной доске».
Либерал-демократы ведь, если отвлечься от «тонкостей вероучения», всегда во главу угла ставят примат личности над обществом и прав над обязанностями, отчего органически не способны к разумной самоорганизации и созданию сколь-нибудь действенных пропагандистских и управленческих структур. О каком «общем деле» можно говорить, если какой-нибудь «координационный совет объединённой оппозиции» способен полный рабочий день потратить на обсуждение вопроса: «Включать ли в повестку дня первым пунктом вопрос о повестке дня нынешнего собрания», да так и разойтись, не сумев найти консенсус.
В тех странах, где либералов, в соответствии с «базисной теорией неофеодализма», не считаясь с затратами, приводят к власти, их более-менее длительное существование обеспечивается достаточно устойчивыми государственными и общественными структурами, сохранившимися совсем с других времён. Но и их либеральные парламенты постепенно выедают изнутри, как гельминты – организм хозяина. И точно так же гибнут вместе с его смертью. Если хозяин, конечно, вовремя не примет эффективное и сильнодействующее средство.
Вот последние сорок лет достаточно умные, дальновидные и по-своему бескорыстные (поскольку у них и так было всё) люди занимались изготовлением такого лекарства. Причём долженствующего не только истребить паразитов, исполнивших свою «историческую роль», но и кардинально изменить самого сапрофита.
Маркс верно писал о том, что капитализм сам готовит себе могильщика в лице пролетариата. На данном историческом этапе роль «могильщика» была определена так называемому «среднему» (впоследствии поименованному также «креативным») классу. Именно он был в состоянии «разрушить до основания» сложившееся к середине ХХ века мироустройство, причём таким образом, чтобы сами инициаторы процесса получили действительно неограниченную власть над всей планетой. По возможности без слишком затяжных, с «непредсказуемыми последствиями» социальных катаклизмов.
Задача, безусловно, крайне сложная, намного сложнее той, что стояла перед организаторами Первого и последующих «интернационалов»[186].
Самое интересное – это, по аналогии выражаясь, «внутреннее политбюро» или «малый совнарком» при достаточно прозрачной для тех, кому положено, «Системе» совершенно выпал из внимания и аггров, и форзейлей. Едва ли случайно, скорее всего, теми же Игроками или даже Держателями было устроено так, чтобы деятельность «Клуба» просто не выглядела чем-то целенаправленным, вообще осмысленным и организованным. Ну, происходят какие-то события, пусть даже меняющие привычную картину мира и вектор его развития, но мало ли как и что стихийно в обществе случается.
Как-то пришлось Фёсту затронуть подобную тему во время его ученичества у Шульгина. Не эту именно, на Сарториуса с его командой замкнутую, а шире – о форзейлях и агграх вообще, об Игроках, как они представлялись, о смысле всего вокруг происходящего.
Вадим тогда, познавая основы мироустройства, с полным недоумением спросил, сопоставимо ли всё происходящее на третьей планете вполне захолустной звезды, относительно центра Галактики расположенной куда дальше, и значащей куда меньше, чем выселки в три двора где-нибудь в Забайкалье для московского бомонда, с интересами столь всемогущих существ?
– Мне с самого начала в вашей эпопее это чересчур странным показалось, – сказал Фёст Шульгину, когда выдался у них в Форте Росс свободный вечер и они выехали порыбачить на довольно приличную горную речку. С ухой, ночевкой у костра и прочими скромными радостями жизни.
– Самое начало – там вроде всё как-то вяжется, а потом полные непонятки идут. Ну, на мой непросвещённый взгляд не бывает так, вот и всё. Вас бы должны были походя прихлопнуть, как надоедливую муху, или просто перейти на недоступный вашему вмешательству уровень, только и делов.
– Вполне логично рассуждаешь, – согласно кивнул Шульгин, пуская в сторону костра дым из трубки. Тишина вокруг стояла потрясающая – на сотни километров вокруг ни единого, самого маленького населённого пункта, и казалось, что это каким-то образом влияет на уровень шума в этом конкретном месте. И плеск речной воды на перекате странным образом не разрушал ощущения царящего вокруг вселенского безмолвия.
– Мы сами сколько уже копий вокруг этой темы сломали, с самых первых дней, как на Валгаллу попали, а потом пищи для размышлений и дискуссий только прибавлялось, а сама окружающая действительность становилась всё страньше и страньше… До тех пор удивлялись, пока не пришли к поразительному по своей простоте выводу, ничего не объясняющему, но снимающему нервное напряжение: «Ну устроено именно для нас всё таким вот образом, и не с нашими мозгами судить о причине причин!» Как-то ещё в школьные годы я в «Знание – сила» прочитал стенограмму «Круглого стола» с участием известных тогда персон. Один мыслитель-метафизик доказывал, что наша Вселенная и уж тем более жизнь на Земле, по всем понятиям, существовать не может и не должна, уж слишком много всевозможных «природных» условий должно было совпасть, физических констант и прочего, чтобы из неведомо какого протокосмического излучения материя возникла, потом звёзды, планеты и всё прочее. Теория вероятности подобного никаким образом не допускает.
А другой диспутант – из популяризаторов, таких тогда много было, не то что в нынешнее время – не вдаваясь в заумные тонкости, астрономами и физиками придуманные, чтобы умнее казаться, ответил, что если бы эти «законы и константы» не совпали таким вот невероятным образом, то и рассуждать бы некому было и не о чем. Мол, спустившись на землю из эмпиреев, можно констатировать, что наша дискуссия тоже явление абсолютно невозможное и невероятное, ибо немыслимое количество самых диких совпадений должно было произойти, чтобы каждый из уважаемых коллег вообще появился на свет в именно данной сущности, стал тем, кем он стал к настоящему моменту и в один и тот же момент времени оказался в этом зале и мог произносить слова «своей роли».
– Ну да, из той же оперы ответ, что известный стих: «Движенья нет, сказал мудрец брадатый…»
– Примерно, – кивнул Шульгин.
– Но какое отношение…
– Самое прямое. Если бы не существовало в мире неких сил, заинтересованных в определённом развитии событий, и сам мир был бы устроен несколько иначе, ничего бы из того, что было, не случилось. Мы бы с тобой здесь не сидели, поскольку никаких иных возможностей у нас с тобой встретиться не было, ну и так далее. Учти, Вадим, только при таком понимании жизни можно в ней существовать и даже чего-то добиваться, хоть в личном плане, хоть, как у нас говорили, «в общественном». Попав в штормовую прибойную волну, ты не задумываешься о законах гидродинамики и тем более телеологии, ты просто пытаешься не захлебнуться, удержаться на воде, уловить какую-то закономерность и либо успеть поднырнуть под волну и выскочить в единственно возможный момент на берег, либо – нет. Тогда говорить точно не о чем будет. Согласен?
И вот сейчас вместо Шульгина с Фёстом разговаривал Воронцов, но суть сводилась примерно к тому же самому. Зачем и для чего нас поселили в мире именно с такими свойствами, нам понять не дано. Если Держатели обеспечивают существование подобной конструкции мироустройства в данном или «отдельно взятом» участке Гиперсети, значит, другой вариант им сейчас по какой-то причине не нужен. Очень может быть, что этот мир вообще существует, чтобы Игроки смогли довести до конца свою партию. Нельзя же играть в волейбол под открытым небом на астероиде – при первой же подаче мяч улетит куда-нибудь в сторону созвездия Лебедя. Вот и на Земле с другой биологией и психологией жителей именно эта игра была бы невозможна.
Но раз уж она идёт, и сколько попыток ни предпринималось из неё выскочить, все они заканчивались одинаково (как часто при попытке проснуться ты просто попадаешь в новый сон), значит, проще, да, честно говоря – и интереснее очередной раз вмешаться в неё хотя бы на правах проходной пешки. Причём такой, что сама решает, когда ей шагнуть на последнюю горизонталь.
– …Поговорили мы достаточно, – подвёл итог Воронцов, пора и с господином повидаться, вообразившим себя кукловодом. Был такой роман у Хайнлайна.
– Помню. А мы, значит, в роли того Отряда выступим?
– Обстановка покажет. Пока просто поговорить хочется…
– Я не против, а детали? – осведомился Фёст.
– Подожди минут десять, я выйду и вернусь…
Воронцов притворил за собой дверь кабинета, по длинному коридору прошёл в совершенно такой же, но находящийся уже по ту сторону. Он не хотел, чтобы Фёст видел, каким образом он сообщается с Замком. Не потому, что не доверял, просто считал, что лишнее знание, не принося немедленной пользы, может нечаянно сработать во вред. Как его носителю, так и окружающим. Это понимал Жюль Верн, потому и не смог никто из бесчисленных читателей приготовить нитроглицерин по его рецепту.
Вернулся, как и обещал, через указанный промежуток времени, но не один, а вместе с Арчибальдом.
– Вот, Вадим Петрович, в некотором роде виновник всех ваших с Секондом неприятностей…
Арчибальд сдержанно поклонился, аккуратно погрузился в кресло и сказал мягким приятным голосом:
– Можно и по-другому посмотреть. Если б не я, не были бы вы «героями своего времени», не носили бы заслуженные кресты и погоны, ну и так далее.
– Не время сейчас вдаваться, – прекратил Воронцов начинающуюся речь мистера Боулнойза, который в «Хантер-клубе» мог разглагольствовать часами, держа в напряжённом внимании слушателей. – Мы прямо сейчас отправляемся в гости. Говорить буду по преимуществу я, а вы – задавать вопросы, если они по ходу возникнут.
– А также надувать щёки, – не удержался Фёст.
– Вот именно. Но денег просить не станем. Пока.
Господин Сарториус услышал непонятный шум на террасе и выглянул в окно. За столиком в тени сикомора, или как там называлось это дерево из семейства тутовых (в Библии, кажется, смоковница), рассаживалась странная компания неизвестно как попавших сюда людей, причём явно чувствовавшая себя как дома.
И одного из них Сарториус несомненно знал – мистер Боулнойз, мистическое существо, бессменный и, похоже, бессмертный член «Хантер-клуба», инициатор и вдохновитель многих проведённых «Системой» операций, а также поставщик многих неизвестных на Земле предметов и идей. Снабдивший его тайной перемещения между реальностями.
Интересно, что означает его появление? И что за людей он с собой привёл?
«Властелин мира» почувствовал пока ещё лёгкое раздражение. Так они не договаривались. Встречались всегда на нейтральной территории и по предварительному соглашению. А это, можно сказать, вторжение…
– Спускайтесь к нам, Сарториус, – весёлым голосом крикнул сорокалетний примерно высокий мужчина в белом флотском кителе. – Прятаться не нужно и охрану вызывать тем более…
– Я неподходяще одет, – отозвался магнат. – Пять минут, и я буду готов.
– Таким образом, милейший Магнус Теофил, – подвёл итог их довольно затянувшейся беседы Воронцов, – считаем, что мы договорились. Минимум месяц вы продолжаете жить, как жили. Отдыхайте, наслаждайтесь природой, забудьте о том, что какая-то земля за пределами острова вообще существует. Нет ни США, ни Англии, ни России, ни императоров, ни президентов. Никаких звонков, никаких попыток бегства на подводной лодке или сигналов зеркальцем или фонариком на ваши личные спутники. Месяц – и всё. Потом мы снова встретимся и поговорим намного подробнее и предметнее, чем сегодня…
– И чем же вы рассчитываете обеспечить выполнение этого… условия?
По глазам было видно, что он хотел сказать «ультиматума», но сдержался.
– А как вы думаете? Вам мало тех чудес, что вам передал наш друг? – Дмитрий указал на Арчибальда. – Так это лишь малая часть того, чем мы располагаем. К примеру, что будет, если вдруг взорвётся заложенный в недра вашего милого острова ядерный заряд в десять килотонн? Никакого ущерба окружающей природе, кроме как вам – её неотъемлемой части. Весь мир подумает, что очередной Кракатау[187] взорвался. Бомба у нас чистая, почти без радиации. – Воронцов заметил, что Сарториус сделал протестующий жест и успокоил: – Но это на самый крайний случай. А так мы просто оставим с вами мистера Боулнойза. Он присмотрит, чтобы вы не делали опрометчивых поступков. Кроме того – он прекрасный собеседник и отличный кулинар…
Когда Фёст с Воронцовым вернулись в квартиру, Вадим автоматически потянулся к так и стоящей на столе бутылке, из которой никому, кроме Воловича – не налили.
– Нет слов, ваше превосходительство. Партия проведена блестяще. В стиле чемпиона. Но как вы решились оставить там Арчибальда на целый месяц. Он нам и здесь пригодился бы. Кроме того – а вдруг они опять сговорятся?
– Это вряд ли. Поскольку остался там никакой не Арчибальд, а его копия, макет, если угодно. Исполняет все функции прототипа в лучшем виде, но лишён каких-либо сверхъестественных способностей. Именно что сторож и дворецкий, не более.
– Ну спасибо, успокоили. Теперь у нас что осталось? Президент Ойяма? Лютенс уже должен стучать в его калитку.
– Давай посмотрим и на это представление. Признаться, я уже немного устал. Наливай. Закончим с этим пунктом нашей программы и предлагаю – на «Валгаллу». Отдохнешь, с новыми людьми познакомишься. Девушками по преимуществу.
Фёст посмотрел в ту сторону, где за несколькими стенами располагалась комната Людмилы, и опасливо вздохнул.
Ойяма закончил пролистывать привезённые Лютенсом бумаги и поднял глаза на разведчика.
– А на словах вам что велели передать?
– Только одно. Россия хочет иметь с Америкой такие отношения, как при Рузвельте. Они помнят и наших инженеров на своих заводах, и фордовские машины[188], и войну, и ленд-лиз. «Холодную» и всё нынешнее согласны забыть. Всему миру станет лучше, а вы войдёте в историю наравне с Рузвельтом и Кеннеди. Они ещё сказали – для подтверждения серьёзности своих намерений могут с полным обеспечением вашего и чьего угодно алиби устранить любое лицо, на которое вы укажете. Физически или морально. Возможностей и компромата у них хватит на любого.
– Даже так? Вы сами в это верите? – спросил президент, уперев в Лютенса свои сверлящие зрачки.
– Абсолютно, сэр. Да и вы наверняка верите, если вам дали почитать подлинные документы о подготовке и провале нашего путча.
Ойяма вздохнул и откинулся в кресле. Потянулся за сигарой, Лерой тут же щёлкнул зажигалкой.
– Оставьте. Подайте мне каминную спичку.
Курил президент не менее пяти минут, тщательно выпуская дым и следя, чтобы столбик пепла не свалился.
– А что они посулили лично вам, Лютенс? – вдруг спросил президент, снова подавшись вперёд. Пепел отломился и упал на ковёр.
– Почти ничего, сэр. Должность консультанта в одном не имеющем отношения к политике научном институте, если вы меня выгоните со службы…
– А если я прикажу вас арестовать и судить как изменника и предателя?
– Едва ли у вас это получится, сэр. Личную безопасность русские мне гарантировали. И знаете что ещё… – Теперь уже разведчик доверительно наклонился к президенту. – Мне вдруг чертовски захотелось сделать что-нибудь действительно полезное и нужное для моей страны и всего мира… Русские, я вам скажу, своеобразные парни. Но с ними, я думаю, стоит иметь дело. Тем более, сэр, что России сейчас уже две. Но может быть и больше. Нам от них не отмахаться даже эйч-бомбами…[189]
– Хорошо, Лютенс. Вас сейчас проводят отдыхать, а я буду думать. Много думать, хотя мне ужасно осточертело это занятие…
– Неплохо, совсем неплохо, – сказал Воронцов Фёсту, досмотрев сюжет. – По моему, своё полковничье жалованье ты точно отработал, на десять лет вперёд.
– Вы думаете, я ещё десять лет прохожу в полковниках? Олег за «Мальтийский крест» обещал сразу генерал-адъютантов.
В кармане у Воронцова отрывисто запикал вызов аппарата прямой связи с «Валгаллой».
Дмитрий с минуту внимательно слушал, потом лицо его расплылось в широкой, почти «гагаринской» улыбке.
– Ты слышал, что мизера ходят парами? – спросил он у Фёста, наливая стаканчики до краёв.
– Ну? – осторожно ответил Вадим.
– Так у нас третий сразу выпал, на двенадцати картах неловленный, я так понимаю.
– То есть?
– Вахтенный радиоинженер сообщил, что экспедиция Новикова-Шульгина на связь вышла. Просят с нашей стороны проход открыть. У них что-то не срабатывает…
Василий Звягинцев Фазовый переход. Том 1. «Дебют»
Путешественник по времени (будем его так называть) рассказывал нам самые странные вещи.
Глава первая
Из записок Андрея Новикова
…Сашка спросил меня: «А как там у нас, интересно, с раскладом по времени? Отстаем мы сейчас от реала или обгоняем?» – и я вдруг ощутил такое яркое и отчетливое дежавю! Не вспомню точно, в какой момент и в какой по счету «параллели», но было это уже. Именно так он и спросил, глядя прямо на меня, но словно и мимо, будто поглощенный совсем другими мыслями. И сейчас, как и тогда, я удивился этой отстраненности, как и бессмысленности риторического вопроса. Кто же это может знать? Не придумано еще таких синфазных хронометров-компараторов, чтобы показывали сравнительный ход времени в разных реальностях. Даже Антону с его Замком такое не под силу, насколько мне известно.
– Да какая разница? Ничто нас не лимитирует, – ответил я, глядя на медленно встающие у обреза горизонта мощные кучевые облака, кумулонимбусы они, кажется, по-научному называются. Предвещают обильные ливни, грозы, шквал, град…
Даже и здесь, в мире высочайших биотехнологий, погода никому не подвластна. А в нашем детстве каждая вторая фантастическая книга повествовала именно о достижениях в области практической метеорологии. Кларк в своих «Чертах будущего», написанных в шестьдесят втором году, полное управление погодой намечал на первое десятилетие нашего теперь уже двадцать первого века.
– Да как сказать, – чуть скривил губы Шульгин. – Не очень бы хотелось мартыновского «Гостя» изобразить[1]. В близком, ростокинском будущем мы еще кое-как адекватны, а лет через двести – сильно сомневаюсь…
– Какие-то основания есть к подобным предположениям? – спросил я, отчего-то вдруг почувствовав неприятное внутреннее напряжение. У нас с Сашкой интуиция довольно хорошо развита, но у него – лучше, особенно на всякие пакости. Такой вот природный дар, усовершенствованный долгим общением с Удолиным и совместными с некромантом выходами в астрал.
– Какие могут быть в нашем деле основания? – почти равнодушно спросил Шульгин. – Просто на ум пришло. Ассоциативно. Тот раз, общаясь с дуггурами, на своей, считай, территории, и то проскочили вперед на два месяца. А здесь, в самом логове, бог знает, какие завихрения наличествуют. И связи с «Валгаллой» третью неделю нет…
Связи действительно не было. С самого момента, когда Удолин ухитрился выпрыгнуть за борт, образно выражаясь, прихватив с собой Ларису, а я в последний момент вывернулся, удержался по эту сторону рамки. Вместе с «ангелочком». Правильно сделал, как оказалось.
Вообще, тогда тоже получилось как-то странно. Я сейчас на страницах этого дневника, с пером в руке старательно пытаюсь реконструировать события, непосредственно предшествовавшие «приходу полночи»[2] и самого «первого контакта». Но получается плохо. Даже с помощью непосредственных очевидцев и участников – Шульгина, Ростокина, Антона. Удивительно, но и Антон со своим нечеловеческим в принципе мозгом и спецподготовкой ксенодипломата как-то странно «путался в показаниях».
Опять Ловушки, причем для каждого своя, или просто случилась деформация пространства-времени, наложение нашего поля СПВ на то, что одновременно включили дуггуры, произвело такой эффект?
Нечто похожее, кстати, произошло с моей памятью (или окружающей действительностью), когда при нашей с Сашкой попытке перехода с кавказской дачи в Замок через астрал по методике Удолина Александр с Константином долетели благополучно, а меня то ли на секунду, то ли на бесконечно длинный день забросило в бывший город Ворошиловск, разрываемый между несколькими эпохами.[3]
Тут момент «наступления полночи» тоже оказался связан с присутствием в непосредственной близости от меня того же пресловутого профессора. Он словно катализатором всякой несуразицы подрядился работать. До меня только здесь доходить стало, сколько подобных моментов было, а мы их сопоставить и оценить не удосужились.
Свела нас с ним судьба в тайном узилище Яши Агранова, и градус чертовщины с того момента резко подскочил[4]. (А смешно написалось! То есть подсознательно все, с нами происходившее, помимо Удолина, я расцениваю как «твердую НФ», а стоит в сюжете возникнуть этому мистическому деду, и повествование срывается в банальное фэнтези.)
И в этот раз, теперь это очевидно, как только закончился разгром дуггурского «Дома Советов» и появился «ангелочек», а вслед за ним и Лариса, срочно вызванная с Земли, с Удолиным что-то произошло. Он словно шаманских грибов переел. Запаниковал, начал галлюцинировать и пророчествовать. Хотя только что разговаривал и вел себя вполне разумно. И даже мужественно.
«Вий приближается… Совсем скоро полночь… Часы начинают бить… Пятый удар, кажется…»
– Какая, на хрен, полночь? – возмутился я в ответ на этот бред, сам еще не вполне оправившись от контузии. – Утро в разгаре…
– Это здесь утро, а там…
Ростокин собрался направить «ангелочка», которого мы решили использовать как заложника в переговорах с «высочайшими», в портал, ведущий на «Валгаллу», и в этот момент Константин Васильевич, не соблюдая больше никаких правил этикета и субординации, изо всех сил толкнул меня в сторону окруженной сиреневым ободком рамки прохода. Не Ларису толкнул, не пленника – меня!
Я подобного не стерпел. Это что же получается, капитан первым покидает терпящее бедствие судно?
Удолин хоть мужик крепкий, жилистый, но масса у меня побольше и реакция с координацией лучше. Я выставил руку, и ладонь уперлась в твердое. Удивительное дело, снаружи рамки портала пустота, внутри тоже, а сама она (ее светящаяся кромка) твердая, причем не стальной прочности, а будто чуть упругая, ну вот как край тракторной покрышки. От «Кировца». Я еще чуть добавил импульса и пролетел мимо проема, ведущего в броневой отсек «Валгаллы», а Константин так в него и ухнул, как парашютист в самолетный люк. Следом за ним, с интервалом в секунду, Сашка совсем неделикатным толчком двумя руками в часть тела несколько ниже талии буквально вышвырнул Ларису. (Хорошо, если она там приземлится на некроманта, а не на твердую, да еще и уставленную всякими железками палубу).
А Ростокин, которому было поручено препроводить туда же пленника, уже не успел. Канал закрылся сам собой, Левашов ни за что не стал бы без предупреждения отрезать нам путь к отступлению. Значит, это сделали или силы природы, или хозяева этой Земли – «высочайшие».
Как впоследствии и подтвердилось. Не могли они допустить, чтобы мы их «мальчика» с собой забрали. Да и с нами желали продолжить общение, начатое столь эффектно.
Впрочем, мы и не собирались никуда отступать. Видимой опасности, кроме коричневой, уже рассеявшейся тучи, пока не было, сынок кого-то из «высочайших» вел себя спокойно, с тупым недоумением глядя на происходящее. Похоже, профессор наш как бы ни с того ни с сего панику поднял. Да если б опасность и была, нам что, самим спасаться, торопливо выпрыгивая в портал, а капитана Ненадо с его взводом тут оставить? Они, конечно, ребята на все готовые, знали, куда шли, и выбраться как-нибудь сумели бы. Аскольд знал, как с «медузой» управляться, но неизвестно, смогла бы она долететь до Земли после смерти пилотов.
И вообще не в этом дело – люди на нас, отцов-командиров, полностью полагались, с самого двадцатого года, и вдруг бы мы сбежали, а их бросили…
В итоге остались мы стоять рядом с флигером, напротив полуразрушенного Дома Советов. Шульгин, Ростокин, Антон, я и робот Артем. А также Виктор Скуратов, к подобным «вариантам» нашей жизни до сих пор не привыкший как следует, но дисциплину понимающий. Отчего и просидел все предыдущие бурно-бестолковые минуты, как и было приказано, на заднем сиденье флигера, даже и не подумав геройствовать, как остальные. Логик, что скажешь. Сейчас он вылез наружу и оглядывался по сторонам, заново оценивая обстановку.
Ну и «ангелочек» этот, еще более растерянный и недоумевающий от всего произошедшего – внезапного появления «девушки своей мечты», вдруг случившейся суматохи, похожей на панику, столь же мгновенного исчезновения Ларисы. Он, похоже, и не понял, что означала эта стремительная смена декораций. Да и не до отвлеченных мыслей ему было. Запал сексуальный, Ларисой вызванный, у него пройти не успел. Тога белоснежная и полупрозрачная прямо на голое тело была надета и степень его боеготовности с того ракурса, что я на него смотрел, почти не скрывала.
Помню, мысль у меня мелькнула: «Будь я на месте Ларисы, неужели взаимность бы почувствовал, увидев такой прибор? Скорее, испугался бы…»
Да, честно сказать, и мы в тот момент мало что сообразить успели. Просто у нас привычка к сюжетам с вариациями была, так что для стороннего наблюдателя «лицо сохранили». И инициативу, разумеется.
Там Удолин что-то насчет «их спецназа», идущего за нами, кричал? И про Вия вдобавок. Ну, пусть приходят. Едва ли на нас нечто неразумное, вроде инсектоидов, спустят. Не тот случай. Так что сейчас этот двухметровый красавчик с гиперсексуальностью и нездоровым влечением к чужим женщинам очень нам может пригодиться. Естественно, как заложник.
«Отцы», кем бы они ни были, натаскивающие недорослей на земных девушек, скорее всего, относятся к «сынкам» с подобающей степенью родительской любви. И должны бы ими весьма дорожить, даже и из прагматических соображений – численность «высочайших» наверняка невелика, если даже собственных женщин им для нормального размножения и поддержания генетического разнообразия не хватает.
Только в этом наш шанс, так что на «ангелочка», кроме трех автоматных стволов, был направлен еще и пулемет Артема. Этот ни при каком раскладе не промахнется. Да и Антон на многое способен. Только выглядел как-то… Отстраненно, я бы сказал.
Сашка щелкнул тангетой рации.
– Слушаю, Александр Иванович, – тут же отозвался капитан Ненадо.
– Все видел?
– Больше половины. Лихо вы им вдарили. Наши все целы?
– Целы, целы, – успокоил капитана Шульгин. – Даже пленного взяли. Из самых главных.
– А теперь что? Отступать к нам будете, или я начну выдвигаться?
– Не спеши, Игнат Борисович. Покумекать надо. Связь у нас с Землей отрубилась. И есть предположение, что сейчас еще кое-что начнется. Так что продолжайте наблюдать по старой диспозиции. И пусть Аскольд с тыла вас прикрывает. Мы тут выяснили – здешние обитатели наших роботов не чувствуют. Так что в случае чего у него преимущество. Думаю, к нам сейчас парламентеры выйдут, поэтому просто смотрите и не вмешивайтесь. Знаешь, вы бы под броню лучше укрылись. Вдруг опять каких-нибудь паукообразных на вас натравят. Но огонь открывайте только в самом крайнем случае. Большой риск недоразумений, сам понимаешь, раз не с людьми дело имеем.
Если с нами вдруг… Ну, сам понимаешь, очевидно и достоверно все произойдет, пусть Аскольд пробует, прежде чем «медузой» займется, с «Валгаллой» по своим каналам связаться. Есть у него специальные. Свяжетесь – доложите Левашову или Воронцову, и дальше по обстановке. Если нас отсюда живых куда-то заберут – ждите. У Артема по-любому с Аскольдом связь сохраняться должна… Понял?
– Так точно, – ответил прошедший две большие войны, не считая «инцидентов», капитан. Без всяких сентиментальных: «Да о чем вы говорите?», «Все будет хорошо» и тому подобных успокоительных формул. – Сделаем, не сомневайтесь.
Последние слова обозначали все сразу. И что по возможности нас поддержат «огнем и колесами», и что отступят в нужный момент, если иного выхода не будет и ретирада окажется возможной.
Шульгин отключился, посмотрел на меня. Я кивнул, все, мол, верно сказал. Только сейчас-то что делать? Так и стоять посреди бетонки, словно голеньким? На месте хозяев вполне свободно можно отрядить пяток всего лишь снайперов – и нам амбец, а паренька своего получат целым и невредимым. Впрочем, это вряд ли. Что робота никаким пулевым оружием быстро не свалить, хоть земным, хоть монстровской «митральезой», дуггуры наверняка уже в курсе. Он «ангелочка» свободно успеет из «ПКМ» почти в упор на лоскуты порвать. Что-то менее избирательное для освобождения пленника тем более не пригодно. То есть с этой стороны мы сравнительно в безопасности.
Разве только есть у них что-нибудь мгновенно парализующее, но не летальное, или психотронное, как прошлый раз по мне. Еще раз я такого не выдержу. Впрочем, противник об этом не догадывается, по его представлениям, мы куда более резистентны, чем на самом деле, и рисковать не станет. Да и опять же, на андроидов ни газ, ни парализаторы, ни психотроника не действуют.
То есть ситуация в худшем случае патовая. А в лучшем…
– Давайте закурим, что ли, – предложил я Сашке и всем желающим. Кроме Антона и андроида, даже Скуратов «зельем поганым» баловался, потянул из внутреннего кармана пенал с сигарой. Он в этом деле был очень разборчив, но Замок смог обеспечить его самые вызывающие запросы. Таких сигар, как там, он ни в одном земном магазине своего времени не видел.
Шульгин приказал Артему посадить «языка» на бетонку, в теньке от флигера, из соображений гуманности, и велел прицела с него не спускать, но стрелять только по прямой команде. Или – если командовать вдруг станет некому…
Закончить фразу он не успел. Прошлый раз «ангелочек» возник как бы из воздуха (а на самом деле момент его появления Шульгин с Ростокиным просто проглядели, занятые более важными делами), но сейчас мы все увидели, как из-за окружавших площадь деревьев, похожих на вековые платаны, выметнулось НЕЧТО.
Со скоростью языка хамелеона полупрозрачное шупальце с чем-то округлым и массивным на конце пронеслось над бетоном и замерло в десятке шагов от флигера. Гофрированная серо-зеленая капсула размером с наш флигер, только поставленный «на попа», раскрылась, как бутон цветка, высадив на бетон еще две фигуры в белом, и столь же стремительно исчезла в зарослях.
Грамотно было сделано, нужно сказать. Если б мы опять смотрели хоть немного в сторону, могли бы этой «процедуры» не заметить. Хозяева вполне разумно опасались, что более медленное их появление могло спровоцировать неадекватную с нашей стороны реакцию. Действительно, высовывается вдруг из леса гигантское щупальце, а за ним кто? Сухопутный кракен немыслимых размеров? Или никакое не щупальце, а сапрофитное существо. Типа суперкобры или сколопендры дрессированной. Вот и засадили бы из гравипушки с перепугу, да и заложника невзначай могли прихлопнуть.
Но это ж какие при таком способе транспортировки ускорения возникают и что там за гравикомпенсаторы установлены? В противном случае пассажирам этого транспортного средства куда хреновее пришлось бы, чем пилоту истребителя при катапультировании.
(Я свои тогдашние мысли и ощущения записываю, чтоб для истории сохранить некую последовательность и стройность повествования, отстраняясь от того, что узнал и увидел позже.)
«Ангелочек», увидев своих, радостно дернулся и попытался вскочить, но тут же получил совсем не деликатный тычок стволом «ПКМа» между лопаток. Наш Артем сейчас функционировал в качестве обычного морпеха-фронтовика, для которого существовали только целесообразность и приказ, для политесов места в его псевдоличности не было.
Я перевел взгляд на гостей. Ну что ж, эти на звание «высочайших» вполне тянут. Разительно отличаются даже от своего пацаненка, не говоря уже о казавшемся совсем недавно весьма представительным Суннх-Ерме.
Такие вполне себе подходящие мужички, чтобы Микеланджело для статуи Геракла позировать. Два – два десять рост, мускулатура и пропорции, темно-русые волосы крупными завитками, черты лица более чем правильные, тоже в этаком «неоклассическом» стиле, никаких посторонних расовых примесей не заметно. Проще говоря, в нашем биоценозе такой этнотип отсутствует. Практическая генетика пополам с евгеникой налицо. Если, конечно, это опять не видимость, личина, проекция наших представлений об «идеальных существах». Что-то вроде «метагалактиан» из «Гриады» Колпакова[5]. Чтобы, значит, подчеркнуть свое над нами превосходство, играя на архетипах.
И сразу мне пришли в голову дуггуровские как бы антагонисты – аггры. А может, не антагонисты они, а просто продукт более раннего аггрианского творчества на очень давно образовавшейся развилке. У нас из подручного генетического материала суперженщин выводить стали. А здесь – супермужиков. Забавно.
И одновременно – может, они такие на самом деле и есть? Сколько-то там лет реализовывали древние представления о красоте и совершенстве идеального человека. Сказал бы, последователи Ивана Антоновича Ефремова, прилежные читатели «Лезвия бритвы» и «Таис Афинской», если б не разделяли их с нашим классиком сто веков вдоль и бог знает сколько поперек параллельных реальностей. Но предположим, что возлюбленные Ефремовым протогреки имели возможность с этими ребятами когда-то пересекаться, оттуда их эстетические пристрастия, мифы о богах и титанах, о том, как Юпитер и иные олимпийцы тамошних Ио и Европ похищали. Не для совместных же бесед о политике и искусстве стихосложения…
И первый, и второй «парламентеры» (а как иначе их статус определить?) очень были схожи друг с другом, разве что стоявший на полшага впереди не то чтобы выглядел, а ощущался постарше. То ли взгляд более опытный и умудренный, то ли неуловимые чувствами, но воспринимаемые на уровне интуиции различия в идиомоторике. Мало ведь кто не отличил бы генерала от прапорщика, даже будь они ровесниками и одеты в мундиры с одинаковыми погонами.
Как-то так получилось – либо Антон замешкался, то ли я поспешил, но разыгранная перед Рорайма схема субординации в нашей команде сломалась. Я почти машинально шагнул вперед раз, потом второй и остановился. Достаточно, пожалуй.
– Чем обязаны приятностию нашей встречи? – почти на автомате осведомился я. А что, нормальный «заход в козыря». Вопрос как вопрос вроде, но сразу трехслойный тест в нем заключен. И на сообразительность, и на чувство юмора, и вообще на самостоятельность мышления. Не говоря уже о степени владения языком и умении «читать в мыслях» или хотя бы правильно эмоции чувствовать.
– Мне кажется, это должно быть очевидно, – глубоким баритоном с бархатными обертонами ответил первый, явно оставляя в стороне всякие словесные и умственные игры. Слишком озабочен судьбой «ангелочка»? Не папаша ли, часом? А почему бы и нет?
– Вы можете опустить свое оружие… – продолжил он.
Как-то неотчетливо прозвучало: то ли вопрос, то ли предложение.
– А мне неочевидно первое, а тем более второе, – с достаточной (на мой взгляд) степенью равнодушия отозвался я. – Если вы прибыли для переговоров, то следует сначала представиться – имя, звание, должность, кем и на что именно вы уполномочены, после чего переходить к сути дела. Иначе… Иначе мы по-прежнему воспринимаем вас как неприятеля, только что предпринявшего очередную неспровоцированную агрессию, ответственность за последствия которой целиком ложатся на вас. И оставляем за собой право…
Какое именно, я уточнять не стал. Сказано достаточно, теперь пусть выкручивается.
– Вы должны прежде всего отпустить этого юношу, – будто не услышав моих слов, сказал этот самый, сохраняющий инкогнито.
– Не вижу оснований. Он вполне попадает под категорию военнопленного, ибо появился на «поле боя», каковым тогда, несомненно, являлась площадь, с неизвестными, но едва ли дружественными целями. Мы только что отразили налет, явно имевший целью наше уничтожение, так что руки у нас развязаны. Тем более «юноша» сам только что подтвердил, что и раньше принимал участие в вооруженных вторжениях на Землю.
– Он сказал неправду. На вашей Земле он не был ни разу…
– Слушай, дядя, – перебил нашу забуксовавшую беседу Шульгин. – Хватит трепаться, если ты понимаешь, что я имею в виду. Или мы начинаем деловой разговор, исходя из текущего стату-скво, как высокие договаривающиеся стороны, со всем протоколом и политесом, или мы покидаем это малогостеприимное место, прихватив с собой вашего паренька. А можем и вас за компанию. Иных вариантов ноль. Так чтобы мы погибли, а вы выжили. Нам терять, сами понимаете, нечего. Можем и ядерное оружие применить… Вы хорошо улавливаете смысл моих слов? Переводчик не требуется?
Это Сашка уже вчистую блефовал. Но им-то откуда знать пределы нашей безбашенности? Кое-какие демоверсии уже видели.
– Хорошо, – не меняя интонации, представитель «высочайших» легко сменил позицию. – Давайте разговаривать на ваших условиях. Не думаю, что это что-то изменит, но давайте…
Русским он владел превосходно, если только не выхватывал словесные конструкции прямо из моей памяти, причем именно такие, что должны были показаться мне самыми подходящими и уместными.
Возможно, для походных «Записок о галльской войне»[6] я сейчас уделяю внимание слишком уж незначительным деталям или демонстрирую собственную способность к углубленным рефлексиям в столь напряженный момент? Нет, я отнюдь не стараюсь в своих заметках показать себя в выгодном свете, мне это просто ни к чему: посмертная слава меня интересует мало, а публиковаться прижизненно намерений нет.
Другое дело, для последующего анализа случившегося, выявления очередных нестыковок и прорех в ткани реальности тщательная фиксация незначительных на первый взгляд деталей очень даже необходима. Не могу не вспомнить путешественников и естествоиспытателей прошлого. Их методичность, скрупулезность и внимание к подробностям внушают уважение, хотя порой навевают скуку. Взять хотя бы тот же «Фрегат “Паллада”» Гончарова. Конецкий, к примеру, гораздо увлекательнее, но в точности и обстоятельности описания деталей, казалось бы – самоочевидных, наверняка проигрывает. Такие книги хорошо читать в одиночном заключении, чтобы соседи не мешали и на работы вертухаи не выгоняли. Поскольку в Шлиссельбург меня не заточали, лично у меня терпения хватило продираться через авторское многословие и многомыслие только до второй сотни страниц.
Но это тоже к слову.
Я обратил внимание, с каким интересом вслушивается в наш диалог Скуратов. Ну и правильно, он – специалист по нечеловеческим логикам, наверняка уловит что-то такое, чему я, скорее всего, не придам значения.
– Тогда, пожалуй, нам лучше будет перейти вон туда, – вступил Антон и указал рукой на некое подобие «китайского павильона» по правую сторону от полуразрушенного «Дома Советов». Там началось какое-то шевеление аборигенов. Разбор завалов, поиски пострадавших и все сопутствующие обстоятельствам телодвижения. А сам павильон или беседка располагался очень для нас удобно. Во-первых, в тени громадных пробковых дубов, в несколько раз превосходящих высотой и толщиной те, что я видел на нашей Корсике в предыдущей жизни. Кое-какая прохлада гарантируется без всяких кондиционеров, а на открытом месте стоять было не только жарко, но и глупо, с какой угодно точки зрения.
Во вторых, там мы окажемся целиком в поле зрения нашей группы прикрытия и достаточно удалимся от места, где в зарослях скрывалось то, что выбрасывает щупальца. Оно, конечно, может, и безвредное, не более чем транспортное средство, но лучше держаться подальше от всего, что внушает опасение. Сработает еще раз и высадит с той же скоростью взвод «монстров» или стаю инсектов. Не успеем и стволы вскинуть.
«Хозяева», переглянувшись, но не обменявшись ни словом, через несколько секунд утвердительно кивнули. Не из болгар, значит, те, как известно, в случае согласия вертят головой слева направо и наоборот.
В беседке было довольно мило, это свидетельствовало о том, что аборигены не чужды эстетических изысков, тяги к дизайну и комфорту. Все деревянное, точнее – растительное, причем явно живое, не из мертвых досок сколоченное – восьмиугольный низкий стол, плетеные кресла неповторяющихся форм, арки, образованные лианами с листьями всех оттенков зеленого, я даже затрудняюсь эти оттенки назвать, многие видел первый раз в жизни.
Сразу вспомнилась давняя, шестидесятых годов повесть Мирера «У меня девять жизней», где наши тогдашние современники тоже попадают в параллельную реальность со стопроцентно биологической цивилизацией. Я читал ее в «Знание – сила» на первом курсе института. Воистину, или хорошие фантасты действительно провидцы, или прав Ефремов и число вариантов прогресса, биологического и социального, крайне ограниченно. Природа, как мы ее воображаем, или нечто совсем другое, но носящее то же имя, манипулирует набором стандартных элементов, из которых при всем желании не соберешь ничего принципиально нового.
Тот же и Лем, если разобраться, даже в своем «Эдеме» не ушел сильно далеко от того, что и на Земле вполне возможно, пусть и под несколько другим соусом. А уж как старался. Относительно оригинальными у него только «двутелы» получились.
Воистину прав Екклесиаст: «Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это новое», но это было уже в веках, бывших прежде нас».
Расположились с возможными удобствами. Ростокин посадил стокилограммового «ангелочка» у дальнего торца павильона, спиной к лесу, чтобы Аскольду или кому-то из офицеров было удобнее держать его, да и обоих парламентеров на мушке. С их позиции наше местоположение должно быть видно, как на ладони. Сам Игорь сел, отстранившись метра на два, чтобы не мешать снайперу, положил автомат на колени, стволом в бок пленнику, палец на спуске.
«Высочайшим» предложили места напротив, тоже в зоне, максимально открытой для обстрела, не знаю уж, догадались они об этом или нет. Возможно, тактические навыки на уровне инстинктов у них отсутствуют за ненадобностью, и нашим ухищрениям они значения не придали.
Артем занял позицию прикрытия метрах в десяти от беседки со стороны площади, получив идеальные сектора обстрела во всех угрожаемых направлениях.
Мы, то есть Сашка, Антон, Скуратов и я, разместились у боковых граней стола, ближе к аборигенам, попарно «одесную и ошую»[7] от них.
Специально не спеша разложили перед собой курительные принадлежности, как это было принято в старые времена, когда в присутственных местах и даже институтских аудиториях дымить не возбранялось. Не студентам, конечно, преподавателям и вообще начальству. На экзаменах, например. Тем более что небрежно открытый портсигар и как видеокамера работает, и в качестве оружия весьма неплох.
– Ну-с, приступим, наконец? – полуспросил-полупредложил я, щелкнув зажигалкой. – Повестку вы предлагаете?
– Для чего все это? – неожиданно спросил второй парламентер, до того молчавший. Чем-то он показался мне несколько симпатичнее своего коллеги. Может быть, выражением глаз?
– То есть? – тут же осведомился Скуратов. Я ему одобрительно кивнул. Мол, контролируй беседу и вмешивайся, если сочтешь нужным. У нас тут субординация ни к чему, сплошная коллегиальность.
– Вы очевидным образом разыгрываете какой-то спектакль. Рассчитываете таким образом воздействовать на нашу психику? Сколько времени потратили, а ни на шаг не продвинулись…
– Вас время лимитирует? – быстро спросил Сашка, и сразу после него Антон:
– А у вас тоже существует театр, драматургия, спектакли? И что обычно ставите?
– Это вы старательно воздействуете на нашу, – добавил я. – С самого момента встречи. Мы привезли вашего сотрудника, с его помощью довели до сведения господина Суннх-Ерма свои исключительно мирные намерения, и что получили взамен? Я искренне надеюсь, что никто из ваших людей не пострадал во время нашей вполне правомочной необходимой обороны…
Оба парламентера сразу сделали рукой одинаковый жест, вполне понятный, очевидно-пренебрежительный, хотя в нашей системе невербальных коммуникаций и не существующий, – нечто вроде «О чем вы говорите? Судьба этих нас ни в малейшей степени не интересует».
Это хорошо. Значит, культурно-цивилизационные различия между нами и здешними «высочайшими» не зашли слишком далеко. То, что они могут осмысленно говорить по-русски, – одно, а вот то, что жестикуляция, обычно непроизвольная, конгруэнтна, можно сказать, – гораздо более значимый факт.
В принципе это нас тогда обрадовало – ну, значит, пресловутые дуггуры все-таки люди, как бы далеко мы с ними ни разошлись на протяжении скольких-то тысячелетий. А все наши конфликты с их «эффекторами» – именно что «эксцессы исполнителей». Отправь, что называется, дурака богу молиться… Не вникали просто ребята в то, что там их итакуатиара, тапурукуара, урарикуэра и прочие вытворяют на сопредельных территориях. Ну, к примеру, как руководство метрополии, послав сатрапа с вооруженным отрядом в отдаленную колонию, интересуется только результатом, доводимым в письменном виде и в виде добытых материальных и культурных ценностей. Если претензий не возникает, то какая разница, что там на самом деле происходит?
Такое вот самоуспокоительное объяснение. Весьма свойственное русскому человеку. Государь в творящихся на местах безобразиях неповинен, и если ему все правильно доложить, он тут же наведет порядок. Хорошо хоть, мы подавали свою «челобитную» с позиции силы. Пока.
Похоже, это наконец дошло и до «принимающей стороны». Все ж таки мы очень показательно разгромили их «Дом Советов», разогнали насланные на нас темные, вернее, коричневые силы. И демонстрировали сейчас полную готовность не останавливаться ни перед какими предрассудками. В конце концов, между нашими реальностями не существовало никаких дипломатических отношений и уж тем более конвенций о правилах ведения военных действий и об отношении к военнопленным.
Очевидно, что эти вот господа, назначенные парламентерами, весьма глубоко знакомы с нашими порядками и образом жизни, раз свободно владеют языком и весьма специфической терминологией. Но в то же время это знание никоим образом не мотивирует их к установлению нормальных отношений с нашей Землей или хотя бы лично с нами как ее представителями.
То же самое понял и Скуратов, сказавший вдруг вполне в унисон с моими мыслями:
– Не обольщайся, Андрей. Они еще меньше склонны (или способны) видеть в нас равноправных партнеров, чем американцы в индейцах или британцы в зулусах. А знание языка совершенно ничего не значит. Сболтнул же этот «малец», что они воруют женщин с Земли для улучшения собственной породы. И очень может быть, что преимущественно русских. Гораздо ведь проще для общения с наложницами один раз выучить их язык, чем каждую заново обучать своему.
– Тем более что знание рабынями языка «господ» представляет собой определенную опасность, – добавил Сашка.
Этот обмен мнениями происходил, причем заведомо специально, в присутствии парламентеров. Я правильно понял идею Виктора. Еще раз подчеркнуть преимущества нашей позиции. Мы, мол, можем себе позволить не скрывать своих мыслей и не выбирать выражений, поскольку не допускаем иного варианта, кроме как безоговорочной капитуляции со стороны неприятеля.
– Слушай, Антон, а ты сумеешь продемонстрировать этим ребятам, – я подбородком указал на дуггуров, – свои способности «высочайшего»? Хоть на минутку их «оглушить», как Урха?
Парламентеры настороженно переглянулись. Похоже, знали, что имеется в виду, и слегка перепугались, не представляя истинных границ наших возможностей. Факт ведь имел место, что любую их выходку, направленную против нас, мы парировали с той или иной степенью превосходства. Так что опасаться еще какой-то пакости с нашей стороны имелись все основания. Да и наведенные стволы свое влияние оказывали. И гравипушка наверняка произвела впечатление, тем более что они не знают об исчерпанности нашего боезапаса. Зато наверняка знают о нашем боевом отряде, расположившемся всего в полукилометре отсюда. И хоть приблизительно, но представляют его боевой потенциал.
– Хорошо, мы согласны вести переговоры, как вы хотите, без предварительных условий. Но предупреждаем, что если вы причините нам вред, то и сами отсюда живыми не уйдете.
– Вас это должно утешить? – тут же съязвил Скуратов. – Насколько мы поняли, вы настолько дорожите своими конкретными жизнями, что абстракция посмертного воздаяния «обидчикам» никак не компенсирует их потери. Или вы верите в чудо воскрешения или хотя бы реинкарнацию? Если сия тайна вам известна, тем более – с сохранением памяти о предыдущем воплощении, мы готовы очень хорошо за нее заплатить. И воевать больше не придется…
Шульгин тут же чуть омрачил перспективы обозначившейся идиллии:
– А если с вашей стороны какое-нибудь хамство все же последует, вы перед собственной кончиной сумеете еще полюбоваться, что с вашим «мальчиком» сделает пулеметная очередь в упор. Ваши последние минуты будут весьма омрачены зрелищем его безвременной и бессмысленной кончины.
И выразительно посмотрел в сторону Ростокина. Тот слегка пошевелил пальцем на спусковом крючке автомата, направленного в правый бок потерявшего весь свой недавний блеск «ангелочка». Выглядел он как в воду опущенный и, пожалуй, прикидывал, какие кары его ждут даже при благополучном разрешении текущей ситуации. Как говорится, не за то бьют, что воровал, а за то, что попался.
И черт их знает, что этому пацану может грозить. В царское, допустим, время за многие провинности блестящего гардемарина из «очень хорошей семьи» могли выгнать из Морского корпуса без права поступать в какие-либо привилегированные учебные заведения Империи. По тем временам – натуральная жизненная катастрофа, причем для всей фамилии.
Наша вызывающе нахальная тактика подействовала, и партнеры решили, что хватит валять дурака, пора переходить к конструктиву. Что-то там у них в мозгах переключилось, дошло наконец, с очень большим запозданием – не с теми связались. Им просто никогда раньше не приходилось контактировать с людьми на таком уровне. С позиции заведомо проигрывающей стороны.
Как и следовало бы с самого начала, парламентеры наконец представились. Одного звали Анказуабу, второго – Марувату. Их пацана – Анцухи. Тем самым подтвердилось предположение, что они и Шатт-Урх с братьями по страте принадлежат к совершенно разным расам или, хотя бы – к культурно-языковым группам. «Высочайшие», как мне показалось, могли бы происходить от каких-то южноафриканских, возможно – протомальгашских племен, тех же дагонов, а «мыслящие» или «полуразумные», по терминологии Удолина – это, скорее, что-то вроде протосемитов или даже древних египтян, настоящих, а не арабских. Хотя фенотипически тут выходила полная ерунда. Удостоившие нас внимания «высочайшие» больше всего напоминали, как я уже отмечал, без помех эволюционировавших древних греков или даже этрусков, описанных Ефремовым. Или – наше о них представление!
Впрочем, в тот момент это было не так уж важно, в деталях мы начали разбираться гораздо позже.
Но в целом классификация Константина Васильевича оказалась очень близка к истине. И тот и другой на самом деле были «настоящими людьми» в том смысле, как мы это понимаем, подлинными хозяевами, а также и творцами здешнего… не знаю, как лучше и выразиться – мироустройства, что ли. Потому что просто цивилизацией это назвать было трудно. Тот же Александр Мирер в своей повести назвал нечто подобное Равновесием. Можно еще назвать это особым типом биогеоценоза.
На всей «второй Земле» этих «высочайших» насчитывалось всего несколько миллионов. Далеко даже до «золотого миллиарда». Зато устроили они себе вполне комфортную жизнь. Хотя, на наш взгляд, до безумия скучную и бессмысленную. Но об этом – дальше.
А тогда разговор пошел таким образом.
Парламентеры принесли достаточно сдержанные извинения за случившийся «инцидент», так они представили устроенную нам «торжественную встречу». Их собственной вины или злого умысла, по их мнению, здесь не было. Все по-прежнему не более чем «эксцесс исполнителя». Рорайма, которые, в сущности, на самом деле были верховным органом здешней как бы «исполнительной власти» (так много кавычек приходится ставить, что все это очень приблизительные термины, достаточно условно отражающие подлинный смысл существующих учреждений и установлений), для всех низших, но обладающих какой-то «интеллектуальной составляющей» сословий отреагировали на наше появление в соответствии с заложенными в них инстинктами. Как мы и предполагали на основании имевшейся информации, полученной от дагонов, Шатт-Урха и собственных домыслов, система этих инстинктов была настолько разветвленной и почти всеобъемлющей, что полностью заменяла девяноста процентам человекоподобного населения планеты то, что мы называем разумом.
Это вообще очень интересная тема – соотношение приспособительной ценности разума и инстинктов. По сути – у себя, на своей Земле мы имеем почти то же самое. Особенно в странах ислама и так называемой западноевропейской (она же иудеохристианская) цивилизации.
Если разобраться – весь набор религиозных предписаний, обычаев, правил поведения, так называемого «права» во всей его широте, «понятий» в комплексе по степени воздействия на среднего индивидуума не сильно отличается, точнее – очень немного не дотягивает, чтобы получить право называться безусловными рефлексами и теми самыми инстинктами. Запреты, например, на употребление вина, свинины, запрет переходить улицу на красный свет светофора, схемы сексуального поведения, даже новомодная пока еще «политкорректность», вера в так называемую «демократию» и «права человека», адаты и законы шариата очень многими уже не рефлексируются, а реализуются почти бездумно.
Не так уж много усилий требуется, чтобы с помощью генной модификации перевести все это на уровень подкорки, а освободившееся в коре место заполнить всякими полезными навыками и умениями, не оставив свободных зон для независимой мыслительной деятельности.
Вся разница в том, что мы до этого порога все же пока не дотягиваем, и резкое изменение условий окружающей среды заставляет (но и тут далеко не у всех) включаться независимые от стереотипов мыслительные структуры. Однако, как например, у среднего «европейца», это переключение происходит слишком поздно. Не зря придумана присказка: «Поздно пить боржоми…»
Когда мы там немного обжились и получили возможность заниматься хотя бы самыми поверхностными научными изысканиями, я, вспомнив свое исходное образование, по мере изучения разных страт «общества» дуггуров гораздо лучше (вернее – правильней) начал оценивать и многие аспекты истории нашего человечества. Эволюционировавшего якобы не биологически, а социально-технически.
Отчего, к примеру, так называемый коллективный «Запад» на протяжении всего Нового и Новейшего времени столь антагонистичен цивилизации русской?
Можно сказать, что на нашей линии ГИП произошло то же, что несколько раньше, приблизительно на уровне позднего неолита, разделило нас, «сапиенс сапиенсов» и дуггуров. Предки индоевропейцев пошли по пути механистическому, увлеклись строительством первых городов – Ура, Сидона, Вавилона, ирригацией начали заниматься, орудия труда совершенствовать. А дуггуры – путем прямо противоположным.
Я даже готов допустить, что каким-то образом (или с чьей-то помощью, да хоть тех же и форзейлей) произошло разделение и генетического материала. То есть особи, более склонные к развитию технологий, – направо, гуманитарии и «юные натуралисты» – налево. Ничего в этом необычного и сложного нет. Похожее устройство земной (превратившейся в Галактическую) цивилизации описал Азимов в рассказе «Профессия».
А протославяне оказались какими-то уникумами. Физически попали на этот берег, а душой во многом остались на том. И ничего прошедшие века с этой дихотомией сделать не смогли. Близкие к нам по духовному устройству особи на этой Земле-два как раз и составили с течением времени клан (или, точнее – уже биологический вид «высочайших»). Прочие же послужили материалом для формирования каст – «мыслящих», «полумыслящих», «пятерочников» и так далее, по нисходящей.
Я позже еще вернусь к этой теме. Но главное именно в том, что и «высочайшие» очень быстро уловили это самое родство. И дальше мы начали понимать друг друга почти без затруднений.
Но сначала я закончу ту, как бы саму собой пришедшую в голову мысль. Мы, славяне, сильно уступая «правильным европейцам» в обстоятельности и приверженности к Ordnung и Закону, безусловно, превосходим их способностью к безболезненной смене парадигм и так называемым гениальным озарениям.
Арабы, кстати, тоже достаточно долго обгоняли европейцев за счет этих самых озарений. В математике «ноль» придумали, в астрономии блистали, пока телескопов не было, в медицине столько всего интересного понаоткрывали – и «по нулям», извиняюсь за каламбур. А все оттого, что не сумели эти свои природные способности наложить на европейский научно-материалистический подход. Зато мы – сумели. Отчего и ухитряемся и в научном прогрессе до сих пор лидировать, и в нравственном смысле у большинства человечества авторитетом пользуемся. По крайней мере, русский человек свободно адаптируется в любом человеческом сообществе, хоть Миклухо-Маклай среди папуасов, хоть наш современник на Брайтон-Бич и в Силиконовой долине.
Оттого «цивилизованный Запад» в лице своих креативных представителей, тоже на подкорковом уровне, сути и смысла нашей цивилизации не понимает и опасается инстинктивно, не задумываясь о причине. Так муравьи из чужого муравейника воспринимаются врагами безусловными, с которыми даже на уровне феромонов взаимопонимание невозможно.
«Великие умы – основоположники единственно верного учения» – Маркс с Энгельсом в полной мере это продемонстрировали. В своих не популяризируемых у нас, но и не запрещенных отчего-то трудах они весьма доходчиво объяснили, что русские – не совсем люди и «мировое коммунистическое движение» должно их использовать только как запал для мировой смуты, а когда коммунизм победит, то этим «недочеловекам» будет указано их истинное место. Ленин и Троцкий говорили это не столь прямолинейно, все же учитывали, на каком языке и для чего с народом общаются, но поступали в полном соответствии с «всесильной теорией». Тоже, наверное, ощущали свое родство с низшими дуггурами.
А законы биологии – от них никуда не денешься. Потому и невозможно заставить русского человека жестко подчиняться нормам и правилам, какими бы «правильными» и «общечеловеческими» они ни казались. Те же немцы за шесть всего лет практически стопроцентно восприняли гитлеризм как «единственно правильное», а главное – крайне выгодное непосредственно для «расово-чистых» германцев учение и образ жизни, а русские за семьдесят лет так и не уверовали по-настоящему в «научный коммунизм». Не совпал он по фазе с русской натурой. И тезис, что «суровость российских законов значительно смягчается необязательностью их исполнения» – чисто наш, к англосаксам и немцам (вообще к большинству наций, сформировавшихся в сфере притяжения Западной, а не Восточной Римских империй[8]) неприменимый.
Однако вернусь чуть назад из этих эмпиреев.[9] Наше появление в компании Шатт-Урха и первые же слова и поступки сработали как гранатный запал «УЗРГм», попали в те сторожевые пункты «мыслящих», что немедленно включили систему опознавания «свой – чужой». Этого мы, конечно, не учли. В чем есть вина как раз Удолина, убеждавшего нас, что он научился контактировать с «полумыслящими», не до конца поняв разъяснения Шатт-Урха о разнице между кастами, хоть и относящимися к привилегированным, но далеко не равными по статусу и функциям. Пожалуй, и сам Шатт-Урх этого до конца не понимал. Для индуса позапрошлого века все «белые» – саибы, а для английского офицера лондонец же, но рядовой – во многом ниже джайпурского махараджи. По крайней мере, сыновей махараджи принимали в Кембридж или Сандхерст, а детей уроженцев «лондонского дна» – никогда.
Проще говоря, наш профессор, как неопытный сапер, не смог сообразить, что «мина установлена на неизвлекаемость».
И то, что произошло дальше, – просто соответствующая реакция здешней системы. Константин Васильевич, к его чести, раньше нас почувствовал угрозу, только истолковал ее не совсем верно, и до нас не сумел быстро и грамотно довести. Что поделать, фрилансер, в армии не служивший.
Тут опять не могу не обратиться к литературным источникам. К лемовскому «Непобедимому». И «туча», и «коричневые одеяла» – некие аналоги Ловушек Сознания. В «охраняемой зоне» появилось нечто, демонстрирующее «ненадлежащее поведение», следовательно – нуждающееся в нейтрализации. Нас отнюдь не собирались немедленно уничтожить. Нас требовалось просто «инактивировать» и предоставить для дальнейшего изучения и принятия «управленческого решения» на следующих уровнях системы.
Пацан Анцухи на несколько минут раньше, практически случайно, уловил прошедший сигнал тревоги, как раз когда «туча» была нами рассеяна, а Рорайма выбросили в «эфир» волну весьма специфической паники. «Ангелочек» идентифицировал оказавшиеся в их ноосфере характеристики нашего мыслефона, проассоциировал с тем, что было зафиксировано возле дагонских пещер, прежде всего – как знак того, что теперь уже в их мире появились те, у кого столь привлекательные «самки», и решил опередить всех. Рассчитывая, что ему лично что-то с этого обломится. Ну и возник. Получилось, что не в то время и не в том месте.
Спецподготовки он еще не проходил, не знал, чем такие самодеятельные эскапады подчас заканчиваются. Вроде как в байке про охотника, что «поймал медведя».
– Вы не должны на нас обижаться и спокойно можете убрать свое оружие. Вам здесь ничего больше не грозит. Мы с удовольствием воспримем вас как аккредитованных посланников мира, с которым готовы наконец выстраивать равноправные и взаимовыгодные отношения… – примирительным и даже радушным тоном произнес Анказуабу.
– Смешно слышать, – тут же ответил Сашка. – Вы хотите нас уверить, что за столько тысяч лет вы именно сейчас воспылали желанием «выстраивать»? Под дулом пулемета, между прочим. Раньше подобных случаев не представлялось?
– Вы можете не верить, но все обстоит именно так, – кивнул микеланджеловской головой Марувату. – Мы впервые столкнулись с вашим феноменом, совсем недавно. До этого нам ни разу не встречались существа, подобные вам. Остальное население вашей Земли для нас ни интереса, ни угрозы не представляло…
– Кроме как генетический материал? – вдруг вмешался Антон, до этого демонстрировавший несколько даже наигранное безразличие к происходящему. Ну да, господин «Тайный посол». Ему как бы по чину не положено участвовать в бессмысленных препирательствах аборигенов. А теперь вдруг настал момент.
Оба дуггура на его включение в переговоры отреагировали на удивление одинаково. Не то чтобы испугались, а вроде как «стали во фрунт». Внутренне, конечно. Но ощущалось это отчетливо, на ментальном, если угодно, уровне.
Очевидно, только сейчас как-то осознали, что его слова, сказанные для Рорайма, – не пустая болтовня. Или – Антон включил не воспринимаемый нами сигнал опознания. Что вполне укладывалось в теорию о форзейлях, курировавших не только нашу Землю, но и эту тоже.
– Это вы неправильно себе представляете, – ответил Анказуабу. – Регулярное освежение генофонда – один из элементов нашего образа жизни. Следует понять, что структура нашего общества исторически и эволюционно так сложилась. Мы – наша каста, давайте условно примем этот термин, генетически и ментально несовместима с другими, пусть и гуманоидными обитателями планеты. Мы можем размножаться только в пределах очень узкого изолята. Вы знаете, что такое инбриндинг? Без контактов с представителями вашего… вида, наша цивилизация давным давно погибла бы…
– Откуда вы так хорошо знаете именно русский язык? – не совсем по теме спросил Скуратов. – Специализируетесь на… особях именно нашей национальности?
– Совсем даже нет. Мы… приглашаем к себе представительниц самых разных наций и групп. Не думайте – на вполне добровольной основе. Ваши легенды и мифы не лгут – каждая из женщин, соглашавшихся на… непонятную вам, не обольщайтесь, роль, получала настолько больше того, что мог ей предложить ваш мир… Для нас безразлична раса женщины, используемой для продолжения рода, безусловно только ее абсолютное соответствие… стандартам. Но да, многие предпочитают иметь дело именно с русскими. Фенотип, вы понимаете… И, как вы правильно догадались, ментальная общность. Она передается по наследству, хотя прямым воспитанием потомства анцалувати не занимаются…
Потом я уточнил, что этот термин слишком многозначен, чтобы перевести его одним словом, при всем богатстве русского словарного запаса. Это одновременно и наложница, и дарящая жизнь, и дочь праматери… Этот термин одновременно обозначал и юридический статус земной женщины, взятой в этот мир, и что-то еще, на что просто не хватает ассоциативных способностей. Вроде того как в «Эдеме» киберпереводчик, не справляясь, выдавал такие конструкции, как акселероинволюция, экземплификация самоуправляемой прокрустики и еще в этом роде. Позже я напишу об этом поподробнее, а пока все же – о первом контакте.
– Ну да, понимаем, – со значительным видом ответил Скуратов. Для принимающей стороны он выглядел очень убедительно, со своим сократовским, наголо выбритым черепом идеальных пропорций и профессорской бородой, – понимаем. Но все равно, очень уж углубленное и даже специализированное у вас знание языка.
Эта тема сейчас не имела особенного значения, но Виктору виднее, чем следует интересоваться. В рассуждении каких-то своих идей и гипотез исследования.
– Ничего удивительного. Любой из нас способен в течение очень короткого по вашим меркам времени изучить любой язык и любую земную науку. Если сочтет это нужным. Как только мы осознали появление в сфере наших интересов вас, использующих именно русский язык, достаточное число «мыслящих» изучило его в совершенстве, то есть в абсолютно полном объеме…
– И такие, как Шатт-Урх, – тоже?
– Все, кому положено было…
И все же банальное земное тщеславие было не чуждо и этим…
– Некоторые «высочайшие», вроде нас с Анказуабу, – важно сказал Марувату, – в совершенстве владеют многими языками и многими земными науками. Поэтому нам и поручено встретить вас…
– Спасибо, я понял, – кивнул Скуратов и принялся раскуривать очередную сигару.
– Если б вы так хорошо изучили Землю и конкретно Россию, вы бы не совершили такую массу грубейших ошибок. И вообще, и за сегодняшний день конкретно. Но мы готовы отнестись к этому с пониманием. Все еще можно… нивелировать, так сказать. Для этого стоило бы прямо сейчас заключить соглашение об установлении дипломатических отношений с представляемой нами частью человечества, оговорить гарантии безопасности нашей миссии и свободы обмена информацией. Предоставить нам приличествующую рангу резиденцию и разместить при ней на условиях экстерриториальности группу сопровождающих нас лиц…
Шульгин широким, но неопределенным жестом указал на джунгли, в которых скрывался взвод капитана Ненадо.
Этот намеренно витиеватый и в некоторой мере нагловатый пассаж преследовал, кроме всего прочего, цель проверить, действительно ли настолько хорошо «хозяева» понимают язык и ориентируются в тонкостях «обстановки»[10].
– Мы вас поняли, – сказал Марувату, вставая. – Давайте мы решим эти вопросы, а уже потом приступим к переговорам по существу.
Глава вторая
Из записок Андрея Новикова
…Сколько в детстве, начиная с книжек очень тогда популярного (не меньше, чем Стругацкие несколькими годами позже) Георгия Мартынова: «Каллисто», «Каллистяне», «Гианэя», или Александра Колпакова с его пресловутой «Гриадой», было прочитано всякого о первом контакте землян с инопланетянами! А кроме наших вскоре начали мы читать и иностранцев, англо-американцев по преимуществу, на ту же тему. Нужно признать, советский автор негуманоидов не жаловал, равно как и некоммунистические цивилизации. Однако, свирепо кромсая и перечеркивая малейшие намеки на отступление от «генеральной линии» у членов Союза писателей СССР, цензоры удивительно легко пропускали в серии «Зарубежная фантастика» какие угодно изыски творцов буржуазных.
Была ли это сознательная политика неких «тайных диссидентов» из ЦК КПСС и Госкомиздата, или все объяснялось банальным раздолбайством товарищей, брошенных на этот участок идеологического фронта, сейчас сказать не берусь. Хотя сам немало лет вращался внутри крайне идеологизированного сообщества журналистов-международников. И ничего там до конца не понял.
Один и тот же ответственный товарищ мог со мной всю ночь водку (или текилу) пить, Высоцкого с Галичем на магнитофоне заводить и антисоветские анекдоты травить, и буквально на следующий день с гневом и в стилистике тридцатых годов разносить совершенно невинный абзац из статьи, посвященной, скажем, трудностям преобразований в аграрном секторе революционной Никарагуа. Не на ту главу Маркса или Ленина, понимаешь ли, сослался. А она (глава) написана в совсем других исторических условиях, и точка зрения партии на эту проблему с тех пор изменилась принципиально.
Опять я отвлекся, но моментами просто не могу удержаться. Полноценных мемуаров, скорее всего, никогда не напишу (а стоило бы!), вот и разбрасываю приходящие в голову эпизоды и размышления из прошлой жизни где ни попадя. Как тот брадобрей, что, изнывая под тяжестью «подписки о неразглашении», убежал в камыши, где и прошептал с облегчением: «У царя Мидаса ослиные уши!» Чем это кончилось – известно.
С чего я, собственно, начал? Множество раз приходилось читать о контактах с гуманоидами и с удивлением приходится признать, что наши советские, «ограниченные в информации, свободе самовыражения и правах человека» фантасты, запертые за железным занавесом, оказались гораздо проницательнее, чем их «свободные» зарубежные коллеги.
То есть ничего столь уж поразительного, вызывающего футурошок и неадекватные реакции, при этих контактах не происходило. Да, у братьев по разуму все было «покруче» (больше, шире и длиннее, как говорил один мой приятель), коммунизм поразвитее нашего «развитого социализма», науки естественно шагнули, как и продолжительность жизни, но ничего непостижимого. Пример для подражания – да, и готовая методика для очередной культурной и технической революции.
На собственном примере мы убедились, что ничего именно поразительного при встречах что с агграми, что с форзейлями не произошло. Мы столь же легко освоились с их «чудесами техники», как американские индейцы с «кольтами» и «винчестерами», а неграмотные афганские крестьяне – со «стингерами». Достаточно прослушать краткий инструктаж – и все понятно. В смысле – как пользоваться. А идеологические и психологические недоумения при знакомстве с продуктом неизмеримо более продвинутой технической мысли перекрываются одним удачно придуманным наименованием – «шайтан-труба». И достаточно, и все понятно, нет необходимости вдаваться в дальнейшие подробности.
Конечно, мы культурным и интеллектуальным уровнем повыше означенных «моджахедов». Так нам и объяснения предлагались чуть понаукообразнее. А в принципе приходится согласиться, что Сильвия, Антон, даже Даяна – всего лишь «понижающие трансформаторы», чтобы наши мозги не перегорели, как лампочки на сто двадцать семь вольт от встречи с напряжением триста восемьдесят. То есть с истинными вершинами чужой техники и культуры.
Ну, не знаю.
Наших гостеприимных хозяев – дуггуров тоже можно приравнять к своего рода инопланетянам, и даже в большей степени, чем стопроцентного (в отличие от Ирины и Сильвии) пришельца Антона.
Только что кислородом дышат и генетический материал у нас общий, а прочих различий – масса.
В качестве довода в пользу данного утверждения можно привести простейший – никто из нас в этом мире самостоятельно выжить бы не смог. В отличие от того же всем известного «Обитаемого острова» – Саракша. Максим там вполне даже обжился и социализировался, как и Румата в Арканаре.
Здесь – извиняйте! За пределами поселений «высочайших» нормальному человеку делать нечего. Там все не для нас – и флора, и фауна, и даже солнечная радиация та самая, что была на нашей «первой» Земле сотню-другую тысяч лет назад. Мутагенная, я бы сказал. Сегодня у нас, сколько на солнце ни загорай, у самых шоколадных, но от природы «белых» родителей негритята не родятся. А тогдашнее (и нынешнее здесь) солнце очень даже свободно людей в негров превращало, и много еще каких последствий от его лучей проистекало.
Но лучше по порядку.
Мы достаточно быстро договорились, что нас разместят в соответствующей нашему рангу и обеспечивающей должную безопасность и комфорт резиденции. В пределах ее территории найдется место и для охраны. Правда, сформулировали мы несколько дипломатичнее – «группы сопровождения», в том якобы смысле, что столь представительная делегация в охране не нуждается. Мы, будем считать, тоже в своем роде «высочайшие», причем двух разных типов – Антон как «Тайный посол» Конфедерации, мы – как Держатели земного уровня. И в этом качестве сами способны производить разнообразные, в том числе и смертельные, манипуляции с веществом и пространством.
Наверняка ведь эти господа-парламентеры достаточно информированы своими урарикуэра и тапурукуара (интеллектуалами и военными, грубо говоря) о всех случаях применения нами земного оружия, его тактико-технических характеристиках и, что главное, его портативности и индивидуальности использования.
Если совсем просто – наши «хозяева» должны знать, что более-менее крупные подразделения земных вооруженных сил нам практически не нужны, во всех имевших место боестолкновениях (за исключением сражений с инсектоидами в Южной Африке и на Валгалле) отпор они получали карманным или, в отдельных случаях, групповым, типа КПВ или гравипушки, оружием.
Значит, взвод капитана Ненадо – именно церемониальный, а на какой там он технике перемещается – уже неважно. Неприемлемый ущерб мы им способны причинить, что называется, не вынимая рук из карманов.
Разместили нас прямо таки хорошо, без всяких оговорок. Километрах в пятнадцати севернее места нашей высадки, куда нас доставили на чем-то вроде метро. Яйцевидные капсулы, идентичные той, на которых прибыли парламентеры, в большом количестве располагались на обычной с виду полянке неподалеку от «Дома Советов». А то «щупальце», что нас так поразило, было всего лишь элементом своеобразной транспортной системы. Опять же по аналогии – гибридом эскалатора и движущихся дорожек в аэропортах. Капсула (она же вагончик то ли на гравитационной, то ли вообще на магической тяге) прибывала на станцию (как я потом узнал – хоть с другого континента), захватывалась «щупальцем» и выставлялась хоть на «перрон» перед «шахтой», хоть прямо на площадь перед входом в Зал Рорайма. А если уезжать отсюда – процедура происходила в обратном порядке. Капсулу вставляли, как патрон в патронник, в горловину туннеля, и она летела, мчалась, перемещалась (на длинных перегонах – со сверхзвуковой скоростью), куда потребно было пассажирам. На короткие расстояния – стоя, а на трансконтинентальные – сидя, со всем потребным именно «высочайшим» комфортом. С моей точки зрения, комфортом следует называть нечто другое.
В тот день (да и сейчас, пожалуй) мы ощущали себя в положении шестилетнего мальчика «Алеши-почемучки», героя книжки Б. Житкова «Что я видел». Там он тоже впервые в жизни едет на поезде, попадает в Москву (тридцатых годов прошлого века), катается на метро, удивляется газовой печке на кухне и так далее.
Удивляться мы не особенно удивлялись, и не такое видели (хотя и в более гуманоидном, что ли, варианте), а вот недопонимали гораздо больше, потому как и аггры, и форзейли изготовляли (или хотя бы маскировали) свою технику под нечто знакомое и привычное человеку двадцатого века ГИП, а эти ничего не маскировали и не имитировали. Мы наблюдали все как есть, как получилось на Земле (совсем уже и не нашей) после развилки, образовавшейся задолго до «неолитической революции».
Потому передо мной сейчас выбор – или изображать из себя того самого Алешу, или писать, ничего не растолковывая ни гипотетическому читателю, ни даже самому себе. Кто-нибудь когда-нибудь на основании видео и прочих записей, а также и воспоминаний человека с куда более научным и организованным мышлением, чем мое (Виктора Скуратова, если конкретно), создаст нечто объективное и одновременно научно-популярное.
Одним словом, опять вспоминается Симонов: «А не доживем, мой дорогой, Кто-нибудь услышит, вспомнит и напишет, Кто-нибудь помянет нас с тобой».
Добирались мы на «метро» пару минут. Зашли, вышли. И все. На таком расстоянии это больше похоже на телепортацию. А взвод на МТЛБ, двух БРДМ и мотоциклах, нами проинструктированный, в сопровождении Артема и одного из «мыслящих» прибыл через полтора часа, оттого, что дорогу для техники пришлось прокладывать специально, через лес, состоящий из многовековых деревьев типа ливанских кедров. На бронированной технике дуггуры в пределах обитаемых «высочайшими» зон не ездят. Как и за пределами. Кому положено – летают, остальные – или пешком, или, в случае необходимости, на том же «метро». У них оно как в Париже или Вене – станции через каждые полкилометра, а вообще, как мне кажется, в любом нужном месте. Как крот или медведка – где захотели, там из-под земли и вылезли.
Ростокин, к экологии относящийся с почтением, удивился было и даже расстроился, узнав, что для проезда всего лишь моторизованного взвода подчистую (в буквальном смысле вровень с грунтом) было срезано (жуткого вида и размера крабообразными существами, оснащенными невероятной остроты и мощности клешнями) несколько сотен великолепных, в несколько обхватов деревьев с кронами метров по тридцать в диаметре. Офицеры, наблюдавшие эти «саперные работы», пережили чрезвычайно яркие впечатления, поскольку даже самые жуткие из известных им инсектоидов не шли с этими супермонстрами ни в какое сравнение. Однако, кое-что прикинув, решили, что нормальным ПТУРСом такое чудище взять можно, благо скоростных качеств «лесорубы» не демонстрировали.
– Примерно то же самое, что первые английские танки на Сомме, – сказал Ненадо, послуживший и в Особых русских бригадах на Западном фронте. – А потом и немецкие появились. Если не психовать, то за полверсты спокойно успеешь и прицелиться из полевой семидесятипятимиллиметровки[11], и попасть несколько раз. Только ошметки полетят. Чему я тогда с другими нашими удивлялся – и немцы, и французы с англичанами тех танков до поноса боялись. А нам – хоть бы хрен. Один подпоручик у нас в обороне Моонзунда в пятнадцатом году участвовал, тот говорил: «Вот когда целый немецкий линкор по тебе стреляет двенадцатидюймовыми, тогда страшно. А это – тьфу!»
По поводу же нерационального использования лесных богатств хозяева Ростокину объяснили, что проблем здесь никаких. Древесина будет положенным образом утилизирована, по-любому ежедневно на земле сводятся сотни гектаров самого разнообразного леса, так важно ли, где именно произошла вырубка? Скуратов попутно спросил, каково соотношение численности населения Земли с лесными и прочими угодьями.
Узнал, что на каждого «высочайшего» приходится около девяноста квадратных километров нетронутой природы, и успокоился. Действительно, наш визит не нанес непоправимого ущерба экосистеме второй Земли.
Вопрос Игоря о численности «мыслящих» и прочих высших приматов Анказуабу встретил с недоумением. Ответил примерно в том смысле, что мы бы его еще спросили, сколько инсектоидов вида… (он назвал, но я не то что не запомнил, даже на слух не воспринял, латинская классификация у них не в ходу по естественной причине) приходится на кубический … (тоже местная единица, но ее он в кубокилометры перевел) земной атмосферы. Кто-то из «мыслящих», изучающий практическую энтомологию, наверняка знает, но «не барское это дело». Именно так он и выразился, чтобы нам понятнее было. Действительно, славист-филолог и даже где-то фольклорист.
«Поместье», отведенное для нашего проживания, занимало, конечно, не пятьсот квадратных километров, как полагалось бы, если считать только нас пятерых «высочайшими», а офицеров сопровождения только «мыслящими», но очень и очень много. Пусть даже всего километр. Но красотища! Корсика все же, причем еще менее затронутая цивилизацией, чем в те времена, когда здесь мальчишкой бегал Наполеоне Буонапарте.
С одной стороны высились покрытые лесом горы, с другой берег обрывался голыми каменными откосами и осыпями к заливу Валинко, как он назывался в наше время. Поразительной синевы море, сверкающее мириадами солнечных искр, пустынное, как сразу после сотворения мира. Хоть бы одна древняя трирема рассекала его волны…
И воздух здесь был великолепный. Ни с чем не сравнимый. Даже на Валгалле не такой – там не было поблизости теплого Средиземного моря, в которое до сих пор не вылилось ни тонны нефти, ни кубометра промышленных стоков с европейских берегов. Первозданная чистота. Захотелось немедленно сбежать к пляжу и погрузить свои телеса в кристальную (а также хрустальную) воду. Или все же сапфировую?
Нужно только попросить у хозяев, чтобы организовали самую простенькую канатку к воде. Или сразу гравилифт. Им, похоже, все равно.
В ответ на заданный Сашкой вопрос Марувату сказал, что сделать это действительно можно в ближайшее время, но тут же и довел до нашего сведения, что мы уже схватили порядочную дозу солнечной радиации. И хотя сама по себе она лично для нас не смертельна, но может оказать самое неожиданное воздействие на репродуктивную функцию. Поэтому наше месторасположение уже накрыто специальным волновым куполом, преобразующим солнечный спектр до привычных нам параметров.
– Но науке ничего не известно об изменении характера солнечного излучения за последний миллион лет минимум.
– В этом все и дело, уважаемый Виктор, – с вполне человеческой усмешкой превосходства ответил дуггур. – Вы и не могли ничего заметить, сколь бы точные приборы ни использовали. Да я и не знаю приборов, способных по остаткам ископаемых животных и растений зафиксировать доли процента реликтового излучения. Но поверьте мне на слово. Как однажды вспышка Сверхновой послужила причиной растянувшейся на миллионы лет деградации динозавров, так почти аналогичное событие создало развилку, определившую «неолитическую революцию» у вас и магико-биологическую у нас.
Скуратов зацепился за термин «магико-биологическая» и начал выяснять, какова доля непосредственно «магии» в истории дуггуров. Мне же более интересным показался вопрос, как именно образовалась «развилка» в отсутствие «действующего субъекта»? Мне казалось, чтобы зафиксировать наметившуюся параллель, обязательно нужен достаточный массив разумных существ, способных заметить происходящие изменения, отрефлектировать их и воспринять в качестве новой нормы.
По крайней мере, на этой теоретической базе строилась вся аггрианская теория многовариантности мира, с которой мы познакомились в самом начале. Да и Антон ее вполне признавал. Не зря же с помощью феномена «растянутого настоящего» можно было как бы отменить наметившееся изменение, отыграть его назад, до тех пор пока оно будет замечено достаточным количеством людей, поверивших в возникающую новую Реальность.
На это Марувату, ставший при нас вроде как гидом-консультантом, ответил, что на Земле в тот момент уже имелось достаточное количество человекообразных разной степени разумности, в том числе и известных нам как неандертальцы и кроманьонцы, а также еще четыре расы, вполне готовые к переходу из разрядов «хабилис», «эректус» и даже «сапиенс» в статус «хомо люденс».[12] И как раз та их часть, что своевременно заметила изменение солнечной радиации и инициируемые ею процессы, и превратилась в предков современных дуггуров на собственной временно́й линии, а прочие, «не заметившие» и не отреагировавшие, продолжили существование на том, что мы называем ГИП.
Спорить с ним совершенно не хотелось, хотя и у меня, и, как я понял, у Антона появились серьезные вопросы к этой крайне сомнительной теории. Жаль, что профессор Удолин чересчур поспешно оставил нас, у него бы нашлось достаточно желания и доводов, чтобы довести наверняка не привычных к средневековой схоластике «хозяев» до любой степени каления. Или до психического срыва.
Помещения, что Анказуабу и Марувату отвели для нас (вернее – сообщили, что до тех пор, пока длится наша миссия, жить мы будем здесь, а самой процедурой расселения и дальнейшим обслуживанием занимался целый сонм «мыслящих» и «полумыслящих»), явно были изготовлены только что и под нас персонально. Если бы это предназначалось для «высочайших», то и габариты комнат и мебели были бы минимум на треть больше, а «челяди» подобные дворцы не полагались априори.
Как они ухитрились сделать все это за какие-нибудь пару часов – вопрос. Если только не располагают методикой и технологией локального замедления времени. Если да – то в этом вопросе они шагнули дальше, чем даже форзейли, не говоря об агграх. Ирина могла своим блок-универсалом на месте растягивать настоящее минут на пятнадцать, да и то в одну только сторону, а на стационаре – останавливать время в квартире относительно его течения «за бортом», правда при определенных условиях. А дуггуры, возможно, как и в дагонских пещерах, умеют просто находить соответствующие аномалии, вроде как Маштаков научился использовать «боковое время» или естественные межпространственные кротовые норы.
На удивление, все здания были одноэтажными, и, что еще более удивительно – каменными. А мы уже настроились на чисто биологическую цивилизацию, с выращенными разумными растениями домами, мебелью и всем прочим.
Нет, камень был самый натуральный и на вид мало отличался от того, из которого были сложены все строения и мосты на известной мне Корсике второй половины ХХ века. Впрочем, мосты и акведуки из этого же камня стояли здесь с времен Цезаря, Брута и, допустим, Веспасиана (это он, кажется, отличался особой любовью к коммунальному хозяйству[13]).
Внешне напоминая казарменные корпуса, дома эти, от фундамента до крыш заплетенные подобием плюща, имели очень большие окна венецианского стиля, устроены были по анфиладному типу, так что классических спален там не было, и устраиваться пришлось в альковных нишах, задергиваемых шторами. Но кровати там были вполне приличные, метра по три длиной и шириной, наверняка изготовленные по образцам, используемым «высочайшими» для утех со своими земными «подругами», или как они их там назвали…
Прочая меблировка была более чем скудная. Низкие, не предполагавшие использования стульев и кресел столы, без всяких «архитектурных излишеств», но из весьма красивых и ценных на вид пород дерева, подобие ковров на каменных полах, вместо шкафов – задергиваемые шторками ниши. Стены изнутри нештукатуреные и сложенные, похоже, «всухую», без использования извести или цементного раствора. Даже потолков не было – высокие, четырех с лишним метровые комнаты перекрывались треугольными стропилами из бруса, покрытыми толстыми серебристо-зелеными циновками, точнее – матами, внахлест. Нужно признать – от здешнего солнца очень неплохая защита. Были у них потайные кондиционеры или нет, но в домах температура не превышала двадцати двух – двадцати четырех градусов при тридцати пяти снаружи.
Нам, «официальной делегации», отвели три корпуса, состыкованных в виде буквы «Н», и комнат там было двадцать одна. Ни то ни се, честно сказать. На пятерых явно много, тем более функционально и размерами они ничем друг от друга не отличались. Только спальных мест было по числу постояльцев. А в остальном и непонятно, что здесь делать. Бессмысленно бродить по одинаковым помещениям, время от времени устраиваясь в произвольно выбранной комнате для распития спиртных напитков?
Вроде бы должны они знать наши требования к жилым помещениям, а если решили предложить нам свой вариант… Тогда со вкусом у них плоховато.
Ну, еще можно было рассматривать произведения аборигенского искусства – настенные гобелены из тончайшей соломки палевого цвета с полуабстрактными фигурами людей и животных, а также изображавшие что-то, при достаточном воображении воспринимаемое как пейзажи. Судя по этим изделиям, можно было предположить, что изобразительное искусство дуггуров застряло где-то между наскальными росписями неандертальских пещер и шелкографией средневековой Японии.
Но сам факт, что искусство у них все-таки есть, обнадеживал.
Офицеров разместили в таком точно доме, но удаленном от «господского» на полсотни метров в глубь сада, или парка. Там же и технику поставили, поближе к главному выходу. Главному потому, что в домах имелось еще по несколько дверей, в темных переходах-тамбурах между секциями анфилад. Двери эти, невысокие, одностворчатые и массивные, выходили либо на аккуратно постриженные газоны перед фасадной частью, либо на заднюю сторону, прямо в примыкающие к стенам заросли кустарника. Смысла в этом особого не просматривалось. Но не устраивать же мозговой штурм для разъяснения тонкостей дуггурианской дизайнерской мысли.
– Хреново дело, Андрей Дмитриевич, – доложил мне Ненадо, закончив размещение личного состава и определив порядок несения внутренних нарядов. – Ни одна дверь здесь не запирается. Никак. Ни на засовы, ни на внутренние замки…
– Что поделаешь, наверное, такой у них здесь стиль. На Земле тоже замки появились лишь в эпоху феодализма. А здесь, похоже, до сих пор первобытно-общинный строй…
– Да как-то чересчур цивилизованно для первобытного, – не преминул вмешаться поручик Оноли, до Мировой войны окончивший три курса Петербургского университета.
– Уровень материальной и прочих культур не всегда совпадает с общественно-экономической формацией, – назидательно сказал я. – Капитализм не в пример прогрессивнее рабовладельческого строя, однако во многих своих чертах древнеримские города значительно выигрывали с раннекапиталистическими, вроде нашей Шуи и английского Манчестера… В средневековой Флоренции архитектура великолепна и строительная техника на высоте, но с этой самой высоты, со всех шести этажей содержимое ночных горшков выливали прямо на улицы.
– Да что вы говорите?! – поразился простодушный капитан, а эстет Оноли тонко улыбнулся и добавил, что во Флоренции лично побывал там, где Данте и Беатриче стояли в узком переулке перед входом в церковь по колено в дерьме и объяснялись в вечной любви, старательно делая вид, что вокруг благоухают розы…
– Хорошо здешние эту культурную стадию хотя бы внешне переросли, – заключил поручик. Он, как всегда, гонорился, но чувствовалось, что ему все еще не по себе. – Придется караульную службу нести в полном объеме. Или самим запоры на двери сообразить. В ПАРМе[14] наверняка что-то такое найдем… В «ЗиПах» броников что-то такое было…
– Не стоит, – возразил стоявший рядом Шульгин. – Еще хозяева сочтут за обиду. Пусть Артем с Аскольдом круглосуточно двор контролируют, да и все…
– Так точно, – согласился Ненадо, не успевший еще привыкнуть к наличию среди своих подчиненных бойцов, способных нести круглосуточную службу, да еще и обладающих абсолютным зрением и слухом. Ему для реальной оценки ситуации пришлось представить себе парный дозор тех инструкторов, что тренировали первый отряд «белых рейнджеров», да в сопровождении нескольких высококлассных собак разных квалификаций. Представил и успокоился.
– А как насчет увольнений? – поинтересовался неугомонный Оноли.
– По обстоятельствам, – ответил Шульгин. – Пока имей в виду, что здесь даже на открытое солнце за пределами ограды выходить нельзя. Час-два – и сначала импотенция гарантирована, а потом рак кожи и прочие прелести.
– Понятно, почему их наши бабы так интересуют, – не совсем логично умозаключил Ненадо. Наверное, решил, что красивые земные женщины способны своим шармом ликвидировать последствия пребывания под здешним солнцем. Заодно весьма умный, хотя и не слишком образованный, Игнат Борисович определил для себя причину внезапного налета дуггуров на валгалльскую школу Даяны. Две сотни таких девах – кто же не позарится. Хотя, как я заметил, сам капитан плотно запал на саму мадам начальницу. Формы ее Игната здорово восхитили, а возможно, и не только формы. Не побожусь, но вполне может выясниться, что некогда вызвавшая грешные мысли и у меня «главная аггрианка» не устояла перед натиском бравого воина. Чем она хуже той же Сильвии, допустим?
– Может быть, что-нибудь придумаем, – успокоил я офицеров. – На море вылазку организуем, экскурсию по достопримечательным местам…
– Значит, ладно. Тогда объявлю парко-хозяйственный день[15]. Самый страшный на свете зверь – ничем не занятый боец. А после окончания – наркомовскую?
Вот еще ирония истории. Отчего-то среди белых офицеров Югороссии с подачи Сашки и Берестина намертво прижилось обозначение того, что при «старом режиме» называлось «казенной чаркой». А тут вдруг – наркомовская. Впрочем, не первый случай, когда ни с того ни с сего в употребление входило вполне случайное иноязычное слово. Например, в войсках Краснознаменного Дальневосточного округа в семидесятые годы солдаты любой прием пищи вдруг стали обозначать словом «чифан», что на хорошем мандаринском диалекте означает ни больше ни меньше, как «банкет». И придумали от него массу производных. А у офицеров, даже взводных, этот термин не употреблялся даже случайно.
– Наркомовскую можно. Не дети, чать, боевые офицеры. Главное, чтоб без эксцессов. Особенно с местными.
С кормежкой тоже определились легко. Хозяева прекрасно знали, чем обычно питаются люди (своих наложниц же они кормили, и неплохо, как позже выяснилось). Поэтому нам достаточно было один раз написать нечто вроде заявки: «Прием пищи трехразовый, раскладка по белкам, жирам, углеводам такая-то, мясо травоядных теплокровных животных и не хищных птиц к обеду и к ужину, плюс фрукты, овощи, напитки в виде соков, чая, кофе (или аналогов)», приложить к ней распечатку с ноутбука одной из хороших кулинарных книг, и проблем с питанием у нас не возникло ни разу до самого отбытия на Родину.
Заправлял на нашей базе «дворецкий» (одного «интеллектуального ранга» с бесследно сгинувшим Шатт-Урхом) по имени Шмуль-Зоар, командовавший доброй полусотней «мыслящих» и неизвестным числом «полумыслящих».
– Ну, натуральное рабовладение, – восхитился Ростокин. – Легко предположить, что мы гостим на вилле какого-нибудь Лукулла или Гнея Помпея… Тем более и климат подходящий.
– Интересно, а как тут у них насчет баб-с? – с серьезным лицом процитировал Сашка. – Убей меня, не поверю, что все сплошь «эмигрантки» с Земли попадают в этот самый статус анцалувати. Я правильно сказал?
– Правильно, – подтвердил обладавший абсолютной слуховой памятью Скуратов. – И я с тобой согласен. Зная древнюю земную историю, с которой они наверняка связаны прочнее и ближе, чем мы, скажу, что процентов десять, едва ли больше, «эмигранток» ухитряются здесь занять сколько-нибудь достойное положение. Не может быть первобытного, по сути, общества, в котором многократно превосходящее мужчин по численности женское население пользовалось бы достойными правами…
– Почему? – удивился Ростокин.
– Элементарно. Дамы, в силу специфики своего характера, не могут составить коллектив равноправных по статусу жен. Значит, здесь работает частично гаремная, частично… не знаю даже, как назвать – «ферменная» культура. То есть ориентированная на выращивание чего-то живого в промышленных масштабах.
– С чего это вдруг? – по-прежнему не понимал Игорь.
– Да проще простого, – Скуратов начал раздражаться. Какой, думал наверное, непонятливый студент попался. Мне-то ход мысли Виктора был отчетливо ясен сразу, все ж таки в более простом и циническом обществе вырос, мы такое не только слышали, но и видели. А человеку общества на полтораста лет (да без войн и революций) цивилизованней нашего кое-что хоть и известно теоретически, но сложно для восприятия.
– Репродуктивная способность женщин ограничена естественными пределами, – принялся объяснять Скуратов, – мы не знаем, какую численность населения «высочайшие» считают для себя оптимальной, но по логике и исходя из площади земной поверхности им требуется достаточно расширенное воспроизводство своей страты. Значит – не меньше четырех-пяти голов доживающего до начала собственного детородного цикла приплода на пару. Процесс же воспитания потомства достаточно протяженный по времени, связан с многими неудобствами и ограничениями. Даже в аристократических кругах при моногамной семье.
Здесь таковых не имеется, достаточно признаков, чтобы судить с уверенностью. Значит, каждому из наших хозяев требуется от четырех, как по шариату, до бесконечного количества жен и наложниц. На Земле первой, то есть нашей, схема отработанная. А они ведь нам прямые родственники и вообще от высших обезьян (которые тоже не моногамны) происходят, потому женщин им нужно много. Будем считать – десять к одному, с условием постоянной смены контингента. А еще молодежь развлекать и тренировать надо, значит, нечто вроде системы борделей должно наличествовать. Кроме того – мамки, няньки, служанки, кормилицы и тэпэ. «Мыслящие» и «полумыслящие» тоже вполне себе гуманоиды, их численность тоже надо как-то пополнять…
Хорошо быть ученым. Вот так посмотрел по сторонам и сразу составил полную социопсихологическую картину здешнего общества.
Верна она или нет – другой вопрос. Я, не такой ученый, как Виктор, причем не логик, а больше психолог, на тех же посылках могу выстроить совсем другую гендерную структуру здешней цивилизации. Значит, надо и с этим разбираться. Кое-какие идеи уже появились.
Доверять мы своим «хозяевам» не собирались ни на грош. Это вообще универсальное правило – людям чуждой культуры, чьи обычаи тебе неизвестны, а намерения невозможно документированно проверить, доверять нельзя в принципе. Во избежание, так сказать.
Речи не идет ни о какой ксенофобии и прочих либеральных страшилках. Просто есть животные, которым необходимо посмотреть прямо в глаза, чтобы пресечь возможную агрессию, а есть такие, кого взгляд как раз провоцирует. И если ты этому специально не обучался, то сильно рискуешь ошибиться – с летальными последствиями.
То же самое и люди. В разных культурах одно и то же действие может означать прямо противоположное. И нравственные установки отличаются полярно. Очень у многих этносов обмануть, ограбить, убить доверившегося им человека – доблесть и признак большого ума, у других предложение переспать с собственной женой – высшая степень гостеприимства. И так далее.
Поэтому даже к согражданам иной веры и культуры следует относиться без предубеждения, но с осторожностью, а что же говорить о дуггурах, отделившихся от человечества задолго до появления какой-либо культуры в нашем понимании? С которыми, кстати, мы за время «знакомства» только воевали, причем воевали победоносно. А теперь явились к ним на трофейном средстве передвижения, в сопровождении то ли перебежчика, то ли перевербованного соотечественника.
В нашей истории инки, майя (а возможно, и ацтеки, но это неважно) совершили такую психологическую ошибку – приняли белолицых гостей из-за океана с распростертыми объятиями. За что и поплатились.
В этом смысле нашим зауральским соотечественникам повезло намного больше. Среди русских землепроходцев, казаков и даже каторжников не нашлось ни американских протестантов, ни испанских католических «просветителей».
Вечером, когда солнце спустилось к горизонту примерно в районе несуществующей здесь Барселоны, мы решили без помех обсудить итоги дня в подходящих и комфортных условиях. Для этого, предварительно изучив территорию, устроились посередине россыпи белых крупных валунов, окруженных невысоким кустарником, рядом с крутым обрывом к морю. В месте, максимально неудобном для прослушивания и видеонаблюдения. Во внутренних помещениях или многочисленных павильонах и беседках, в изобилии наличествующих среди рощ и дендрариев, окружавших дома, слежку за собой мы считали стопроцентно разумеющейся. Ибо сами поступили бы точно так же, принимая «высоких гостей».
Антон известным ему способом защитил наше ментоизлучение на волнах, которыми пользовался Шатт-Урх. Вдобавок мы должным образом настроили наши с Сашкой блок-универсалы, я на создание купола звуко– и прочей непроницаемости, а Шульгин – на перехват чужих радио– и прочих импульсов. В случае необходимости автоматически сработала бы система РЭБ, весьма агрессивная.
При выведении режима на максимум схема любого устройства, использующего известные нам и агграм способы дистанционной передачи информации (кроме флажкового семафора, естественно), сгорала на ноль, в угольный порошок. А уже на первых тридцати процентах мощности эфир (в широком смысле) забивало непроницаемым «белым шумом».
Неплохое оружие, кстати. В принципе не летальное, но достаточно смертельное, если сфокусировать луч на современном автомобиле или самолете. Одномоментно выводится из строя вся электроника, и что происходит дальше – представить нетрудно. Работоспособной останется только техника первой половины прошлого века.
Разместились, обезопасились в инструментальной области, а физическую защиту обеспечивали два парных офицерских патруля на территории «жилого комплекса» и андроиды, которые органолептически и иными способами контролировали всю территорию нашего расположения.
Аборигены из обслуги поместья вели себя вполне насекомообразно, то есть по выполнении необходимых функций куда-то скрывались, не удивлюсь, если в некие подземные убежища, где и впадали в каталепсию. А почему бы и нет? При наличии нервной системы, полностью загруженной всякого рода инстинктами, какая-то интеллектуальная жизнь не имела смысла. Имитировать ее можно для окружающих, но не для себя. Читать незачем, играть в азартные игры – тем более.
Интересно бы узнать – а в режиме инстинкта сексуальная жизнь приносит удовольствие? С одной стороны – вроде бы должна, ибо даже фильм так назывался – «Основной инстинкт». Но с другой – весь-то кайф именно от эмоциональной составляющей. Впрочем, это для нас, людей высокоорганизованных. А большинство даже и «среднего класса», не говоря о всякого рода люмпенах, упрощает это дело до крайнего предела, без всяких – «а поговорить?».
Сделаем пометку – в ходе научных изысканий и на данный момент внимание обратить.
По распоряжению Шмуль-Зоара услужающий низшего вида, из «хабилисов», принес нам несколько деревянных фляг емкостью примерно в наши «четверти»[16], весьма изящно украшенных причудливыми узорами, при ближайшем рассмотрении оказавшимися естественного происхождения. Текстура и неравномерная окраска слоев неизвестного дерева всего лишь. В них содержалась весьма приятная на вкус «амброзия», что «высочайшие» используют для подъема тонуса, как и все высшие млекопитающие. Проще говоря – некая спиртосодержащая жидкость, напоминающая одновременно и херес, и не слишком крепкий ликер. Но вином это не было однозначно: градусов многовато, не меньше тридцати.
Скуратов предположил, что это может быть выделениями какого-то специального вида насекомых, вроде ламехузы. Те, проникнув в муравейник, своим выпотом, обожаемым «формиками» всех видов, вгоняют их в наркотически-алкогольный транс, а потом беспрепятственно поедают яйца и личинок.
Профессора дружно обматерили за его неаппетитные гипотезы, а Антон включил какой-то свой внутренний анализатор и сообщил, что опасности нет, продукт экологически чист и представляет собой результат ферментации и перегонки медоподобного вещества. То есть, в общем, Виктор оказался прав, но «меды ставленные» – как раз русский национальный напиток, и, следовательно, гипотеза о родстве дуггуров со славянами, а не с японцами, например, находит очередное подтверждение. После этого дегустацию продолжили. Однако же капитана на всякий случай предупредили, чтоб от аборигенов никаких гостинцев не принимал, а «винную порцию» выдавал исключительно из собственных запасов, которых на месяц должно было хватить при соблюдении «высочайше утвержденных норм»[17].
Покуривая и отхлебывая «амброзию» из растительного же происхождения пиал, мы для начала распределили обязанности по изучению «прекрасного нового мира»[18], чтобы не просто дипломатическую задачу решить, но и обогатить человечество новым знанием. Когда-нибудь в далеком будущем, так как сейчас пользы от такого знания оно не получит.
Самонадеянно рассуждаю, сказал бы некто, доведись ему прочитать эти строки. А я бы ему возразил, что нынешнее человечество в новых знаниях не нуждается, независимо от моей или чьей-либо еще точки зрения. Оно старательно доказывает ненужность ему какого угодно действительно нового знания вот уже сорок лет. И это великолепно показано (и предсказано) Стругацкими в «Хищных вещах» и «Сказке о тройке». Мне к написанному там прибавить нечего.
Коллективному «голему»[19] человечества ни к чему новые миры, новые горизонты, даже сколько-нибудь осмысленная музыка, кино и книги. Что им до какой-то «Второй Земли», то ли существующей, то ли сгалюцинированной?
А вот убить нас в случае разглашения подобного «знания» постараются обязательно. По разным причинам разные люди, но дружно. И опять бежать? Скрываться на Валгалле или в Югороссии?
Лучше уж помолчать, как много лет молчали.
Исходили мы из специализации каждого, профессиональной и интеллектуальной. Мне, соответственно, досталась дипломатия в чистом виде, каковой следовало заняться с учетом всего моего предыдущего опыта и представлений о дуггурах как об определенной социосистеме, доступной для «рационализации и утилизации».
Шульгин по основной специальности должен был сколь возможно изучить этот мир и его обитателей с биологической точки зрения, а по второй – отыскивать «болевые точки», которых здесь не могло не быть, и соображать, как их использовать «к вящей славе божией»[20].
Со Скуратовым все ясно – он должен изучать логику, психологию и политическое устройство данного общества, в том числе и его гендерную составляющую, раз уж сам поднял эту тему.
Ростокин – он репортер, и этим все сказано. Должен лезть во все, всем интересоваться, задавать вопросы, включая дурацкие, и не забывать, что хороший журналист в стане если и не явного врага, то и не друга точно, не должен ограничиваться только сбором информации, пусть и сенсационной. Благо опыт не только изучения, но и влияния на ситуацию у него был порядочный, в том числе и инопланетный.
Как-то в последнее время текущие события заслонили тот факт, что Игорь еще в своей «предыдущей жизни» контактировал с весьма недружественно настроенными пришельцами и сумел практически в одиночку спасти Землю от крупных неприятностей. За что в своей реальности был награжден и чинами, и орденами[21]. Да и попав к нам, вел себя в незнакомых обстоятельствах более чем достойно.
А вот как использовать Антона – нужно было думать. При первой встрече с Рорайма он был представлен как «Тайный посол», представитель якобы курирующей земные дела Галактической Сверхцивилизации, Союза Ста миров, но вот каким образом он должен эту роль обозначить, как повести себя с дуггурами и какие ближайшую и последующие задачи мы таким образом можем достичь?
Этим мы и занялись, поскольку все остальное было достаточно ясно. В любом случае – мы свой ход сделали, теперь ждем, что за староиндийскую или, наоборот, «хотя и устаревшую, но довольно верную защиту Филидора» дуггуры решат разыгрывать. Тут мы почти в положении Остапа, включая возможность его заключительного маневра[22].
Утром, как и условились, через час после восхода солнца к нам пожаловал господин Марувату, окончательно продемонстрировав, что он на самом деле наш постоянный куратор, гид и, скажем так, аналог дантовского проводника[23]. Мне как-то так представилось, что много интересного и не всегда приятного нам предстоит здесь увидеть.
Он прибыл на «медузе», из чего следовало – лететь нам неблизко.
Шульгин еще раз проинструктировал нашего капитана. Мы взяли с собой Артема в качестве личного слуги и заодно – средства связи. По своим каналам, гравитационным или нейтринным, не знаю, он в любом случае до полного собственного уничтожения успеет связаться с Аскольдом. Если мы перестанем существовать или окажемся в силу тех или иных причин недееспособными, Ненадо получал полную свободу рук. А уж сумеет ли он воспользоваться ей для спасения нас (а вдруг?), своего отряда или только для славной гибели с нанесением врагу максимального ущерба – бог весть.
Ядерного заряда у нас с собой не было, естественно, но дуггурам мы еще вчера сказали, что «в случае чего» с Земли-один прилетит вторая трофейная «медуза» с термоядерным зарядом в десяток мегатонн. И пусть думают – сильно ли им это надо, даже если их «поселения», «гаремы» и важная инфраструктура в должной мере рассредоточены.
Кстати, мы можем устроить им хороший тарарам без всякой бомбы, двух «портсигаров» хватит, чтобы выжечь десяток гектаров густонаселенной местности. Но этот козырь мы пока предъявлять не будем.
«Медуза», на которой мы полетели, была как бы бизнес-класса – намного комфортабельнее и технически совершеннее, чем та, на которой мы прибыли сюда. Разница как между военно-пассажирским транспортным самолетом и личным «Боингом-777» владельца нефтяной корпорации.
В центре салона имелся даже как бы экран внешнего обзора, но не ЖК и не плазменный, а в виде огромного живого «глаза» двухметрового диаметра, на влажной поверхности которого и формировалась цветная картинка из миллионов клеток – пикселей. «Глаз» едва заметно пульсировал и только что не моргал. Зрелище и ощущение не совсем приятное, как и вообще от самой «медузы» и прочих квазиживых устройств.
Ориентируясь по солнцу и времени полета со скоростью около пятисот километров в час, поскольку навигационной карты нам предложено не было, а географическая топонимика «высочайших» с земной не совпадала, я определил, что приземлились мы, скорее всего, на Азорских островах. Привязанность высокопоставленных дуггуров к островам наводила на размышления.
При их численности населения и вполне развитой и агрессивной биосфере жить на материке возможно только в особо укрепленных замках. Да и то без наличия значительных вооруженных сил подобный образ жизни особо комфортным быть не может. Противники (такие же феодалы, а то и существа других видов) спокойно жить не дадут, даже при наличии орд «монстров», многоствольных митральез и прочего вооружения.
Острова, удаленные от материка на сотни миль, гораздо комфортнее. Достаточно иметь кое-какую ПВО от «медуз» и отряды противодесантной обороны. Из людей или специально выведенных «морских гадов».
Значит, структура дуггурианского общества просто обязана быть неоднородной. Даже в пределах касты «высочайших». Некоторая их часть (функционально или по какому-то иному признаку) должна жить в гораздо более суровых условиях, чем обитатели теплых и безопасных островов. И, соответственно, представлять собой иной психотип. Вроде как у нас хозяева северных фьордов – викинги, принадлежа к той же романо-германской группе, что и французы с итальянцами, отличались от них и фено– и психотипом. Есть ли здесь подобное деление? Я решил обратить на эту тему специальное внимание.
Приземлились мы на площадке, очень похожей на ту, что имелась перед «Домом советов», так же окруженную субтропическим лесом, карабкающимся по склонам довольно высокой остроконечной горы. На Азорах мне бывать еще не приходилось.
Повезло в очередной раз, значит.
Глава третья
Из записок Андрея Новикова
…О физической географии второй Земли говорить нет смысла – за сотню тысяч лет в ней практически ничего не изменилось. Об экономической и политической – можно, это представляет непосредственный интерес хоть бы из чистого любопытства. Все ж таки наша родная планета, сейчас больше похожая на Валгаллу своей незатронутостью технической цивилизацией.
Надо же, как все просто – в какой-то момент (местные ученые этим не интересовались, а зря) достаточно большая часть человечества, а точнее – не само человечество, а его эгрегор, «голем», «коллективное бессознательное» – сделала выбор иной, чем наши предки. И сделала его в тот момент, когда он имел возможность не просто реализоваться, а образовать отчетливую, безусловную, как транспортная развязка на автостраде, развилку. Кому на Минск – налево сворачивайте, кому на Петербург – прямо и направо.
В нашей «подлинной истории» тоже имелось значительное количество личностей, не желавших строить пирамиды и Баальбекские платформы, гораздо больше интересовавшихся практической биологией и всевозможными религиозно-мистическими делами, но как-то не хватило им критической массы, чтобы перетянуть чашу весов на свою сторону.
Наверное, боги технократов оказались сильнее и решительнее. С тех пор колдуны, ведуны, друиды, волхвы, шаманы, а также всякие «юные натуралисты» оказались в числе маргиналов, хотя и могущественных временами.
Не зря ведь «ботаник» является презрительной кличкой «сильно умных» детишек, а не «штукатур», например.
В этом мире, впрочем, все сложилось еще хуже. У нас натур, склонных к художествам всякого рода, в буквальном смысле и переносном, все же не «ликвидировали как класс», а приспосабливали к общему делу. Иногда – с поразительными результатами. А со всякого рода «ведьмами» и «колдунами» боролась всерьез только католическая церковь, да и то не слишком долго и спустя рукава. Здесь же процесс «искоренения чуждых элементов» длился десятки тысяч лет.
В итоге осталось с десяток миллионов «высочайших», то есть «людей» в общепринятом понимании, биологически и, с некоторой натяжкой, психологически. А те гипотетические миллиарды, которые тоже должны были бы существовать в «человеческом» качестве – либо не существуют вообще (любого вида «гуманоидных» существ на Земле-два и миллиарда не наберется), либо влачат существование, на которое ни один из более-менее вменяемых землян не согласился бы.
У нас самый распоследний нигериец или бирманец имеет реальный шанс попасть в Москву, Нью-Йорк или Мюнхен и сравнительно прилично там устроиться. Или в собственной стране стать, допустим, паханом над всеми паханами тамошнего преступного мира.
А тут даже господин Суннх-Ерм, председатель Всеземного парламента, есть всего лишь имеющее внешний облик человека насекомое и никогда, никаким образом не ощутит себя «свободным человеком». Потому что нечем ощущать то, о чем не имеешь никакого представления.
Как там Пушкин писал? «Не дай мне Бог сойти с ума! Нет, легче посох и сума. Нет, легче труд и глад…»
А эти ума лишены от природы и так живут, не знаю, что при этом чувствуя.
Но я начал о географии.
Вот этот десяток миллионов «людей» очень недурственно, что в своем, что в нашем понимании, и устроился на целой нетронутой механистическим прогрессом планете.
Реализованная мечта господина Сарториуса и ему подобных. Поделили между собой по пока еще не выясненному принципу наиболее комфортные в климатическом смысле территории, прежде всего – хоть сколько-нибудь подходящие для жизни острова. Даже на Гренландию и Исландию нашлись желающие.
А кому островов не хватило – выкроили отвечающие их вкусам феоды на материках, преимущественно имеющие легко защищаемые границы. В итоге образовалось несколько сотен большего или меньшего размера баронств, графств и герцогств (в нашей, естественно, терминологии и понимании). На самом деле устроено и функционирует здесь все совсем по-другому.
Живут «высочайшие» кланами, насчитывающими от сотни до нескольких тысяч экземпляров, как о них предпочитает выражаться Шульгин. Городов, само собой, не имеется, но есть как отдельные семейные поместья замкового типа, так и аналоги наших «охраняемых поселков» вроде разных «рублевок», «горок» или их западных аналогов. А также общие для нескольких поселений «культурные центры». «Высочайшие» все же приматы, а значит, нуждаются в некоей «социализации». Для чего создали весьма разветвленную и нам пока не совсем понятную систему вертикальных и горизонтальных связей, в том числе и общепланетного уровня.
Но, будучи приматами (то есть не имея генетического механизма, запрещающего внутривидовую агрессию), с самых начальных времен своего «раздельного существования» непрестанно воевали друг с другом, сначала каменными топорами, потом все более совершенным оружием.
Другое дело – до мировых войн не додумались в силу малочисленности населения и малой связности территорий. Зато во все времена их истории практиковались «набеговые операции». На лодках, верблюдах, слонах и лошадях, позже – на «медузах» и иных биомеханических устройствах. Аннексии территорий и перекройки границ владений тоже случались постоянно, но в детских, с нашей точки зрения, масштабах.
Главное же, они, весьма быстро проскочив период рабовладельческих империй, всерьез и основательно занялись развитием и совершенствованием близкого с нашим аналога феодализма. «Экстерриториальные университеты» у них тоже рано появились, похожие на первые европейские, только, в отсутствие монотеистической религии, там не богословием занимались, а естественными науками.
И «базовую теорию» своего общества разработали, и специалисты по «научному феодализму» имелись, уровня нашего ИМЭЛ[24], даже своеобразный партполитаппарат имелся. Основное отличие от нашего варианта политической истории заключалось в том, что этот «феодализм» содержал в себе значительную долю коммунизма, как «первобытного», так и вполне себе «развитого». И войны у них «феодального» стиля, а не «капиталистического». Воюют в основном не сами «феодалы», а нижестоящие по «эволюционной лестнице» существа, от «мыслящих» до инсектов, а сами «высочайшие» лишь руководят процессом, принимая участие в боях лишь иногда, тоже по «рыцарскому» типу.
Такой вот парадокс, в изучение которого я влез с азартом и при благожелательной помощи «товарища Мураванго», как я, дурачась, стал звать дуггура, работавшего лично со мной по интересующей меня тематике. «Товарищ» оттого, что он очень напоминал мне одновременно Мао Цзэдуна и Ким Ир Сена, несмотря на рафинированно европеоидную внешность.
Очень симпатичный оказался «высочайший», в летах весьма приличных. В «пересчете на мягкую пахоту», то есть с учетом отличий в длине суток и скорости вращения по орбите (да, именно так, Земля-два имела отличные от нашей Земли характеристики, приближаясь по ним к Валгалле), было ему где-то под сто лет. Но выглядел он на пятьдесят здорового и занимающегося атлетическими видами спорта человека.
Насчет их топонимики, напоминающей кванговскую[25], и астрономических характеристик планеты я его спросил, не есть ли их Земля этакой аллотропией[26] нашей и Валгаллы-Таорэры одновременно. Коллега (а он тоже имел аналогичное моему образование и ученую степень) сказал, что над этой проблемой никогда не задумывался, но имеющиеся материалы исследования культуры квангов (у них они называются, естественно, по-другому) указывают на определенное сходство и культур, и языков, но это, очевидно, скорее конформные аналоги[27], нежели родственные связи. Но вот способ проникновения у дуггуров что на нашу Землю, что на Валгаллу один и тот же. А какой именно – Мураванго не имел понятия. Классическое – «Извозчики довезут».
После того как мы прибыли на Азоры, где у дуггуров располагался комплекс учреждений (условно говоря), осуществлявших определенную координацию совместных действий всей популяции «высочайших», нас, после краткой ознакомительной беседы со всем синклитом, распределили по секциям. Сами собой всплывают полузабытые термины советских времен, когда часто приходилось бывать на всевозможных семинарах и конференциях по обмену опытом.
Руководство решило, что раз уж мы сюда проникли и наше человечество к ним серьезных, имеющих силу «казус белли», претензий не имеет, то и психологически, и экономически будет выгодно, если мы сможем поближе познакомиться друг с другом, обменяться информацией, интересующей каждую из сторон, и в итоге заключить нечто вроде «Декларации о недопущении столкновений судов на море». То есть из самого предварительного обмена мнениями следовало, что вылазки свои (или – грабительские набеги) они на Землю и Валгаллу прекращать не собираются, но готовы сделать все, чтобы их и «землян» интересы не пересекались в пространстве и во времени.
Каких-либо «верительных грамот», подтверждающих нашу правомочность говорить от имени всей планеты и заключать любого рода соглашения, никто от нас не потребовал. Скорее всего, на их «толерантность» очень повлияло присутствие в нашей команде Антона и двух андроидов. Со своими возможностями в «психотехнике» они мгновенно убедились, что форзейль человеком не является и его ментальные характеристики значительно превосходят таковые что у людей, что у дуггуров. И если «Галактическая цивилизация» на самом деле заинтересовалась нашим мирком, имея в нем какие-то свои интересы, то лучше без толку в бутылку не лезть.
Ну а Артем с Аскольдом подтверждали наше неоспоримое техническое превосходство, поскольку ничего равноценного они роботам противопоставить не могли, да и вообще не очень понимали, что те собой представляют. А кроме того, сразу поверили, что мы в состоянии переправить на их территорию неограниченное количество андроидов, страшных как раз «искусственным мозгом», абсолютно не реагирующим ни на какое «волновое воздействие», и по любым параметрам превосходящих что самих «высочайших», что наиболее мощного «монстра». О том, что андроиды на самом деле полные аналоги их «мыслящих», только во много раз более универсальные, они пока не догадывались.
Значит, подтвердились наши расчеты на справедливость суворовской максимы: «Смелость города берет». Взяли, внаглую прилетели в логово экзистенциального врага и пока живы. Принимают, и даже с уважением.
Какое-то время мы с «товарищем Мураванго» согласовывали мои имевшиеся в ноутбуке карты Земли с теми, которыми пользовались они. Меркатора в их истории, конечно, не имелось, привычной системы координат – тоже, и то, что они называли картами, выглядело, на мой взгляд, достаточно дико. Особенно учитывая, что и магнитные полюса у них в других местах расположены, и меры длины у дуггуров отнюдь не метрические.
Но кое-как разобрались.
Помещение, в котором мы работали, находилось на одном из верхних этажей громадной восьмиугольной каменной башни, высящейся на склоне скалистого хребта, сплошь, за исключением гранитных ребер и щебенчатых осыпей, покрытого дремучим, на вид совершенно непроходимым лесом. Напротив, на мысу, проецируясь на синее с полосками облаков небо и еще более синий океан, высилась небольшая куполообразная гора. Ее вершина находилась как раз на уровне окна, сквозь которое я на нее смотрел. Красиво, черт возьми. Умеют же устраиваться люди!
У нас что-то подобное можно увидеть только на Курилах, а прочие острова, Соловецкие, например, или Валаам, такого праздничного настроения не создают. Совсем другое у них предназначение.
А вообще оказались мы на центральном острове архипелага, Сан-Хорхе, как он у нас называется, похожем на узкий иззубренный клинок, брошенный на синее бархатное полотнище океана. На мысу, прямо под нашей башней, должен был бы располагаться курортно-рыбацкий городишко Велаш. Но здесь на его месте сплошным покровом расстилались дремучие темно-зеленые дебри. Только выделялась ярко-желтая полоса многокилометрового пляжа, с двух сторон отороченная зеленой бахромой леса и бело-синей прибойной полосой. Судя по ровной, с высоты кажущейся неподвижной кромке пены, накат там довольно приличный. Серфингом вполне можно заниматься.
Снова непреодолимо захотелось искупаться в этой немыслимо чистой для нашей Земли воде. Каламбур получился, или как?
Чтобы избавиться от соблазна (а то ведь потребую прямо сейчас, чтобы меня доставили на берег), спросил у Мураванго, как здесь насчет акул и прочей хищной морской фауны, и вообще, развиты ли у них водные виды спорта?
Почему-то я совсем не удивился, получив положительный ответ на первый вопрос и отрицательный на второй. Акулы, по словам моего куратора, это еще довольно безобидные существа. Имеются в океане рыбообразные, моллюски и членистоногие, опаснее стократ. Одна из медуз, например (типа нашей «кубоидеум», живущей в Охотском и Японском морях), убивает человека одним прикосновением в девяноста случаях из ста. Есть еще всякого рода рачки, заменяющие в океане пресноводных пираний, способные обглодать даже крупное животное до костей. Спасает остальную водоплавающую фауну только особо прочная чешуя, кожа и изобилие рыб, этими рачками питающихся, словно киты – планктоном.
Относительно же спорта подтвердилась наличествующая и в нашей истории закономерность – кроме полинезийцев, ни один первобытный народ до спорта не додумался. Например, горцам, хоть кавказским, хоть андским, в голову не пришло за тысячелетия заняться альпинизмом. До верхней границы альпийских лугов добирались, а дальше зачем? Только европейцы, а конкретно – греки, перевели физические упражнения из занятия чисто утилитарного в некое развлечение. Правда, после древних греков потребовалось еще две тысячи лет, чтобы вернуть идее спорта утраченные в «темные века» позиции.
Точно так и «высочайшие» не баловались даже плаванием, ограничиваясь купанием в бассейнах, а весь их атлетический облик происходил от генетики и каждодневных упражнений, не носящих характера соревнований. Соревноваться друг с другом, притом с «нулевой суммой»[28], считается среди «высочайших» делом предельно недостойным. На это у них имеется неограниченное количество «низших».
Два феодала могут вести долгую кровопролитную войну за какой-то материальный или моральный интерес, но после достижения одним из них цели или просто исчерпания ресурсов для войны понятие «победы» или «поражения» не используется. И «высочайшие» во врагов не превращаются, следующая «война» по умолчанию никак не связывается с результатами предыдущей.
Есть в этом что-то от рыцарских турниров, а поскольку цивилизация дуггуров сформировалась раньше, чем возникла такая культура, то здесь ближе аналогия с поведением большинства высокоорганизованных млекопитающих. Никакая драка не предполагает нанесения противнику «неприемлемого ущерба». Бой прекращается после вполне символического изъявления покорности. Как и у нас, рыцарь, вылетев из седла, отдавал победителю свой доспех и коня, но уроном его чести сей факт не считался. Они тут же могли сесть за общий стол и приступить к пиршеству. До следующего поединка.
Иначе при весьма ограниченном количестве феодалов их цивилизация давным-давно исчезла бы за исчерпанием мобилизационного ресурса.
Достигнув полного взаимопонимания со своим куратором, я погрузился в документы и материалы, которые мне сочли возможным предоставить. Кстати, у них при крайне ориентированной в сторону биологии и бионики науке механических достижений тоже хватает.
С задачей удобного и компактного хранения текстовой информации, неподвижных и движущихся изображений они справились вполне успешно лет на тысячу раньше нас, но так на этом, соответствующем приблизительно середине нашего ХХ века уровне и остались. Потому как незачем дальше лошадей гнать. Это примерно как если бы у нас в архивах хранились фотоснимки фронтовых корреспондентов, сделанные в походах россичей на Царьград или в ходе битвы на Калке, причем тем же самым «Зенитом» или «Зорким», что и сейчас работают.
Честно сказать, происходящее с нами мне нравилось. Снова, как в молодости, я занимался делом, к которому был привержен и приспособлен, а самоощущение не сильно отличалось от того, что было, когда я в двадцать шесть лет впервые очутился на «диком Западе», да еще и в самых экзотических его местах. Контраст не намного меньший получился, чем я сейчас наблюдаю.
И Антон вернулся к основной профессии. Все ж таки большая разница – состоять непонятно в каком качестве при оголтелой компании землян, с которыми свела судьба и она же наградила жалкой участью невозвращенца[29], или опять обрести свой высокий дипломатический ранг. Пусть и на время.
Беда Антона заключалась в том, что после ареста в своей Метрополии и осуждения на пожизненный срок он в глазах Замка как бы потерял авторитет. Или не Замка в целом, а его адаптированной к условиям работы на Земле субличности. Форзейль перестал быть представителем некоей высшей воли, служить которой Замок изначально был предназначен.
Исполнять по привычке просьбы, пусть даже облеченные в форму команд, Замок соглашался, но видно было, что все это только имитация, наглядная демонстрация поговорки: «Привыкла собака за возом бегать».
Согласен, что все это только мои домыслы, где уж среднему уму постичь тайны взаимоотношения «галактов», как подобных экземпляров назвали в каком-то романе давних времен. Но с моей точки зрения, треугольник Замок – Антон – Арчибальд расшифровывался именно так.
Но не в этом дело. Оказавшись здесь, Антон как бы вынул из шкафа и снял с плечиков свой мундир «Тайного посла» со всеми нашивками, погонами и регалиями, почистил щеточкой, надел, повернулся несколько раз перед зеркалом и решил, что все адекватно. А также и аутентично[30].
Он был представлен господам Туливара и Манакара, судя по всему, специалистам по контактам «Дуггурляндии» с нашей Землей. Языками, что русским, что основными европейскими, они владели более чем свободно. Обычно такая степень недоступна даже среднестатистическому большинству «носителей». Но как раз такая давалась что форзейлианскими, что аггрианскими обучающими программами. Что наводило на очередные размышления. О самостоятельности дуггуров как варианта автохтонной[31] цивилизации.
Возможно, они такой же продукт упражнений ныне живущих или ранее существовавших Держателей, как половина рас, входящих в Союз Ста миров. Или даже – генетический мусор, побочный продукт более удачных экспериментов, оставленный существовать просто из любопытства – «а, может быть, и из этого получится нечто познавательное или поучительное».
Кстати, еще во время обучения Антона в своих спецшколах и на спецкурсах повышения квалификации значительная часть курсантов регулярно задавалась вопросом, почему именно Земля занимает столь уникальное положение между Союзом и Конфедерацией и по какой причине она давным-давно не отошла к той или другой стороне. Захватить ее силой или обменять на что-то полезное проблем бы не составило: целые Звездные скопления неоднократно переходили из рук в руки.
На что Антон, как и множество его старших и младших коллег за доступные обозрению века, получал один и тот же ответ: «Так установлено Держателями и записано в Гиперсети». То есть и Конфедерация, и Союз имели право лишь на весьма ограниченный круг этнополитических экспериментов во всем секторе Гиперсети и Мирового эфира, где хоть в малейшей степени ощущалась вибрация, производимая всем пучком связанных с Землей (и Солнечной системой в целом) реальностей.
Зачем и почему это было установлено так, а не иначе – вопрос из разряда «для чего закон всемирного тяготения» или «почему смерть необязательна, но неизбежна, как пересечение кривых в неэвклидовых математиках».
Туливара и Манакара для общения с «господином Тайным послом» избрали еще одну башню над двухсотметровым обрывом к океану, где не только имелось все необходимое для их специфической работы, но и прекрасные помещения для медитаций. Это занятие было для Антона столь же обязательным даже в его человеческой ипостаси, как утреннее посещение умывальника и туалета для большинства культурных людей.
Антон сразу же, образно выражаясь, вручил коллегам из дуггурского МИДа особые «ментальные верительные грамоты», по которым любое разумное существо в обеих галактических сверхсистемах автоматически узнавало в «Тайных послах» лицо экстерриториальное и неприкосновенное. Это «заклинание» (можно и так выразиться) действовало с одинаковым эффектом (но используя, конечно, разные психофизиологические механизмы) что на очень негуманоидных и слабо цивилизованных обитателей системы звезды Процион, что на эсэсовский патруль на улицах оккупированного Копенгагена, где Антону пришлось провести некоторое время в ту войну.
Знание этой формулы давалось пожизненно, и Антона не лишили прерогатив «Тайного посла» даже по приговору о «покаянии и просветлении». Только вот, отбывая срок в «одиночке», он не имел возможности этой способностью воспользоваться для побега. Те сущности, что оберегали его покой, к разумным существам не относились, а судьи имели иммунитет к подобным вещам.
Вот и эти «высочайшие» немедленно все поняли и прониклись. Им только хотелось узнать как можно больше о Союзе Ста миров, как о невероятной форме сосуществования бесконечно отличных друг от друга разумов, связанных исключительно моральными узами, без всякого участия магии или замены свободного мышления инстинктами любой степени сложности.
Сама идея возможности такого мироустройства настолько их поразила и захватила, что вопросов о том, что именно нужно «Трижды высочайшим» от Земли, хоть первой, хоть второй, и почему они явственным образом выступают на стороне одной из них, даже не возникло. Поначалу.
Антону пришлось положить времени и сил ненамного меньше, чем потребовалось бы для разъяснения Чингисхану сути и способа функционирования современного Евросоюза. И не потому, что дуггуры стояли примерно на той же стадии не интеллекта, а нравственности, как и «Потрясатель Вселенной», а чисто по Козьме Пруткову: «Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, а потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий».
Однако более или менее доступно большинство постулатов существования галактических сообществ Антон «коллегам» разъяснил.
Сам же Антон с удивлением узнал, что по отношению к «Земле людей» дуггуры полной и развернутой информацией не располагали. Причем не потому, что не имели такой возможности технически. Все было опять же по Пруткову. Какую-то часть человечества, с какой им на протяжении тысячелетий случалось контактировать, они относили к разновидности «высочайших», прочими же просто не интересовались, как и сутью «технологической цивилизации». Так фасеточные глаза насекомых не формируют привычной нам целостной картинки внешнего мира, однако позволяют в нем вполне удовлетворительно ориентироваться.
По необходимости приходилось причислять к «высочайшим» некоторую часть женщин, что они похищали или «вербовали» на Земле. Но об этом я напишу позже, когда дойду до материалов, изученных Скуратовым.
Самое же главное – работали с Землей «экспедиционно» (постоянных баз там за тысячелетия так и не было создано) и исключительно «мыслящие» разных специальностей, «по направлениям». Единого министерства или департамента соответствующей специализации не имелось. А самые подготовленные узкие специалисты ни к каким обобщениям и даже элементарному обмену систематизированной информацией способны не были.
«Высочайшие» же, регулярно участвовавшие в «охоте на женщин», получали от «специалистов» примерно столько инструкций и полезных сведений, что и приезжавший в Африку в середине позапрошлого века охотник на слонов и бегемотов – об истории, культуре, этнографии и политическом устройстве «черного континента» от своих туземных проводников.
Регулярно доставляемые с Земли «жены и наложницы» в качестве источников полезных сведений также не рассматривались, да и в массе своей едва ли могли что-то осмысленное донести до интересующихся совсем другими проблемами самцов. Турецкие султаны, например, имея в своих гаремах женщин десятков наций и народностей, «политсеминаров» с ними не устраивали.
Совсем немного времени потребовалось Антону, чтобы утвердиться в мысли, не раз уже нас посещавшей, – дуггуры нам не соперники и даже не враги в широком смысле. Какого-то системного, организованного вреда они нам причинить не могут и уж тем более не в состоянии вести сколько-нибудь регулярную войну.
Но это, конечно, не означало, что им можно позволить бесчинствовать даже в достаточно ограниченных пределах.
В общем-то выходило так, что многотысячелетний фольклор самых разных наций и народов Земли имел под собой реальные основания, отражавшие те или иные аспекты контактов с дуггурами. И как раз в силу разрозненности и бессистемности их действий у человечества с древнейших времен так и не получилось понять суть и смысл происходящего. Свидетельства очевидцев и даже попадавшие в руки людей (как правило, без научной подготовки) отдельные артефакты все время трактовались по разным линиям и с разных позиций. Что-то, казавшееся той или иной группе наблюдателей особо важным, включалось в теоретический багаж основных религий, и тоже без увязки отдельных фактов в стройную систему. Дальше всех, пожалуй, пошли древние египтяне и греки (да они и по времени были ближе к точке бифуркации). Причем египтяне оказались способны воспринять одну из сущностей, а греки – совсем другую.
Жителям страны Та-кемт чем-то понравилась идея о загробной природе всего, связанного с посещением Земли дуггурами. Отсюда вырос и уже свой собственный культ мертвых, и мифология, и даже поэзия. Очень возможно, что кому-то из одаренных талантом египтян довелось побывать на «Земле-2», и они породили целое литературное направление, всячески воспевающее посмертие. Ни у одного из современных им и последующих народов нет такого романтически-приподнятого и одновременно крайне практичного отношения к встрече со смертью. Христианам и мусульманам до этого далеко, они идеологизировали совсем другие аспекты потустороннего.
Иудаисты – те вообще, кажется, оставили тему посмертного существования за кадром, зато тщательно зафиксировали моменты, когда «высочайшие» предпочитали именно древних евреек. А потом кого-то из них (возможно, вместе с детьми) отпускали обратно. От этих «репатриантов», возможно, «сыны Израилевы» и набрались идей об «избранности» своей народности[32], а также о всяких там «скрижалях», «заповедях». И тысячу предписаний и запретов почерпнули оттуда же, отнесясь к столь полезным «родственникам» со всей серьезностью и должным пиететом.
А вот древние греки, в соответствии со своим практичным, но достаточно «раздолбайским» (прошу прощения, но лучшего эпитета подобрать не сумел) характером на основе подлинной информации о контактах с дуггурами, создали почти всеобъемлющую мифологию, опять же сосредоточив внимание на сексуальных взаимоотношениях своих дам и девиц с дуггурами всех категорий, не только «высочайшими». Оттуда и взялись всякие сатиры, протеи и иные не совсем гуманоиды, густо населяющие всеми нами неоднократно читанную в детстве книгу Куна «Легенды и мифы Древней Греции». Лично у меня было подарочное, богато иллюстрированное издание, где половина картинок была как раз «про это».
Чтобы не распространяться, достаточно отметить, что и все сказки и былины про всяческую нечисть и нежить отражают систематическое проникновение дуггурской агентуры на Землю и непременно фиксируют внимание на том, что «чудища», «драконы», «идолища поганые» и прочие непременно требуют с людей, к каким бы расам они ни принадлежали, жертвоприношений непременно девственницами. Разнится только количество – одно «чудище» довольствовалось одной раз в год, а другие устраивали целые похищения сабинянок. То есть захватывали девиц сразу сотнями и тысячами.
Но это я опять вторгся в сферу исследований Виктора. Впрочем, он в основном изучал современное положение экспортируемого с Земли контингента, так что наблюдения Антона здесь более к месту.
Переходя к временам новым и новейшим, ознаменованным эпохой Просвещения, развитием капитализма и «машинного производства», «превращением науки в непосредственную производительную силу», продолжающиеся контакты с дуггурами приобрели и наукообразные объяснения. Все предыдущее было объявлено неспособностью людей прошлого давать рациональные объяснения явлениям природы. Зато с девятнадцатого века «рациональные объяснения» посыпались как из рога изобилия (тоже когда-то подсмотренного кем-то из «попаданцев» в «Дуггурляндию»).
Особенно раздольно почувствовали себя уфологи. Абсолютно каждый контакт ложился весомым камнем в их теории. Пирамиды, математика, рисунки майя, «зеленые человечки» и наскальные портреты разных видов «мыслящих» и иных категорий «соседей» – все шло в дело. Но, самое главное: очень плохо, а часто и никак это не объяснялось «официальной» наукой. Отрицать некоторые факты, а тем более – артефакты, было невозможно. С материалистических позиций объяснения выходили чересчур натянутыми, поэтому большая часть следов пребывания на Земле дуггуров даже и в наши дни просто игнорировалась. Как метеориты Парижской Академией наук: «Камням на небе взяться неоткуда».
То есть не вмешайся мы, точнее – не обрати на себя внимание неких дуггурских спецслужб своей выходящей за рамки их обычных представлений деятельностью, все продолжалось бы заведенным порядком неизвестно до каких пор.
Что интересно – Антон мне признался, – по его ведомству дуггуры не проходили. Он знал о существовании такой цивилизации, но не имел указаний ее разрабатывать, а, возможно, получил как раз прямой запрет касаться данной тематики. То же и у Ирины с Сильвией. На их уровне дуггуры тоже как бы не существовали, но сам термин был им известен. С негативной окраской причем. Будто бы некий «хока», о котором знают все дети, но описать и разъяснить его вряд ли сумеют. А вот Даяна наверняка знала побольше, отчего ее совсем не удивило вторжение дуггурских мародеров на ее бывшую Базу, а инсектов и «медуз» – в Учебный центр.
Выяснением этих «межрасовых» тонкостей я обязательно займусь, но уже по возвращении домой. Интересно бы устроить очную ставку между аггрианкой и форзейлем.
«Изучив» (или точнее будет – «рассмотрев») историю взаимоотношений дуггуров с землянами в их трактовке, господин «Тайный посол» на следующий день (а всего Антон работал с «дипломатами» больше недели) вынес свой вердикт. В присутствии, само собой, всех членов нашей делегации. А также и слетевшихся с разных концов планеты двух десятков «высочайших», облеченных какими-то полномочиями представительствовать от лица неприбывших или недостойных иметь право голоса в этом «сходняке»[33].
Вначале он долго перечислял утомительное множество Галактических законов, соглашений и прецедентов, касающихся взаимоотношений между любого рода межпланетными и межзвездными ассоциациями разного уровня, вплоть до высших на сей день структур – Союза и Конфедерации.
Он переигрывал немного, конечно, но так же было видно, что сейчас он чувствует себя «в своей тарелке». Ему нравилось ощущать себя в этой роли и функции, как Берестину нравилось командовать армиями, а Сашке – играть в Берию, Гейдриха и Канариса одновременно.
Антон объяснил, что все сказанное касается и столь неординарного случая, как наш, то есть отношений между расами, возникшими путем образования в одном Узле Гиперсети двух параллельных, но не тождественных самим себе Исторических Последовательностей.
Это он завернул даже чересчур. Вроде персонажа одного из рассказов Шукшина. Но – прозвучало.
И в качестве вердикта было вынесено решение единоличное, но оглашенное от имени того же пресловутого Союза Ста миров и, следовательно, для цивилизаций, хотя бы и не входящих в сей Союз, но находящихся в сфере досягаемости, а следовательно, и юрисдикции, обязательное.
– В случае несогласия с данным вердиктом любая из сторон вправе апеллировать к совместному Арбитражному суду Союза и Конфедерации, для чего законные представители должны лично явиться на… (он назвал официальные галактические координаты одной из самых близких административных планет Союза) или… (Антон огласил координаты какой-то из аггрианских систем, о которых даже мы не имели никакого представления).
На вопрос одного из «высочайших», каким образом туда можно добраться и как вообще должен выглядеть визит официального представителя в организацию, о которой не известно ровным счетом ничего, Антон ответил, что предварительно каждой из представленных здесь цивилизаций следует подать заявление о вступлении либо в Союз, либо в Конфедерацию. Заявление будет в установленном порядке рассмотрено и, в зависимости от решения «надлежащих инстанций», удовлетворено или отклонено. Но вынесенный сегодня вердикт должен исполняться немедленно, вплоть до момента, когда таковой будет признан действительным или отклонен, а взамен него принят другой.
Я и не догадывался, что Антон столь блистательный бюрократ. С нами он всегда держался или запанибрата, или на равных.
Вопрос о способе проезда к месту принятия апелляции и заявлений форзейль проигнорировал, а Шульгин «с места» подсказал: «За свой счет».
Наконец Анказуабу, который здесь председательствовал (по-моему, просто потому, что он был инициатором и организатором этой «Потсдамской конференции»), поинтересовался сутью вердикта. А то, может быть, не стоит и огород городить?
Антон перешел к сути. Ничего сверхъестественного и чрезвычайного в этом документе не было. После полутора страниц рассуждений в вышеприведенном стиле резюмировалось, что обе высокие договаривающиеся стороны, руководствуясь принципами… (ля-ля-ля), добрососедства и невмешательства в дела друг друга должны учредить совещательный орган для разрешения мирным путем всех возникающих проблем.
Дуггуры (тут использовалось официальное, очень длинное и маловразумительное наименование их псевдогосударственного образования) отныне обязываются без предварительного уведомления не проникать на занимаемую землянами Главную Историческую Последовательность и находящиеся под их протекторатом такие-то параллельные реальности (названо, какие именно, в понятных дуггурам терминах). Земляне, в свою очередь, брали на себя обязательство любое посещение «Дуггурляндии» согласовывать с представительством «высочайших», имеющим постоянное базирование на о. Корсика (он же – Мзимборендже). Согласованным сторонами способом.
В случае нарушения данного вердикта, который должен быть контрассигнован двухсторонним соглашением, составленным и оформленным в ближайшее время, он, «Тайный посол» такой-то, от имени Союза вправе принять все необходимые меры вплоть до полной блокады цивилизации-нарушительницы в занимаемом ею секторе Гиперсети без права покидать пространственно-временной ареал своего обитания.
То есть, выражаясь в терминах девятнадцатого века, – «Строгий домашний арест с приставлением часового».
Нас-то это не касалось никак, мы на дуггурскую территорию никогда не лазили и не собирались впредь, а вот им…
После того как Антон «поставил точку», было много шума, как в парламенте какого-нибудь малокультурного псевдогосударства. Только что без мордобоя, потому как не имелось подходящего объекта. Формально наша Земля в строго аналогичном положении – объект влияния посторонней сверхцивилизации.
Господа «высочайшие», собственно, волновались по одному только поводу – свободе доступа к нашему «генетическому материалу» вообще и женщинам «как полноценным биологическим объектам» в частности. Примерно такие дебаты кипели в английском парламенте по вопросу запрета работорговли в тысяча восемьсот седьмом году.[34]
Антон предложил председательствующему взять день-другой, а если потребуется, то и больше, для прений и достижения консенсуса, который не может быть ничем иным, как уже оглашенный вердикт. Наша же делегация, возражений против решения «Тайного посла» не имеющая, выразила желание совершить экскурсию по планете, а также лично познакомиться с кем-либо из земных женщин русского происхождения, добровольно, по их словам, выбравших себе «Дуггурляндию» в качестве новой родины.
Вопрос этот был поднят по предложению Скуратова, достаточно успевшего погрузиться в проблему, которому требовались теперь объективные подтверждения целого ряда гипотез исследования.
Смысл в этом, несомненно, был – убедиться кое в чем самолично. Разумеется, как бы там ни обстояли дела на самом деле, доброволен этот многотысячелетний процесс пополнения дуггурского генофонда или имеет место тоже многократно зафиксированная в истории практика похищения невест из отдаленных племен с той же целью – ничего из уже сделанного мы изменить или отменить не могли.
Не стоит воображать душещипательные картины спасения русских пленниц из турецких гаремов нашей победоносной армией или героями-одиночками. Или же организацию репатриации после войны угнанных на работы в Германию. Это в наши задачи не входило, особенно если учесть, что во всех упомянутых случаях значительное количество «жертв» категорически на покинутую родину возвращаться и не хотело. По разным причинам.
То, что эта практика с нынешнего времени прекратится и партнерш себе дуггуры смогут добывать только из неосвоенных нами реальностей, – уже хорошо. Хотя тоже является благом весьма относительным. Вкусы-то у всех разные, и в нынешней России достаточно девиц и почтенных дам, ищущих и находящих себе мужей среди граждан самых диких африканских и азиатских стран. Не зря ведь кто-то из древних мудрецов сказал: «Делай добро только, когда тебя настоятельно об этом попросят»!
В этом месте, если бы я писал пьесу, следовало бы сделать ремарку: «Автор в бессильном отчаянии заломил руки».
В итоге хозяева согласились на наше ознакомительное путешествие по планете, если пожелаем – даже кругосветное. В ходе него были обещаны и встречи с соотечественницами, добровольные и даже принудительные, если жены и их владельцы вдруг не изъявят своего согласия. Но нас заверили, что такое едва ли возможно.
Из всего этого мы сделали вывод, что чрезмерной закрытостью общество «высочайших» не страдает, а предстоящие дебаты «палаты лордов» обещают быть весьма продолжительными. Почему и предпочтительно нас на это время отправить куда подальше. Чтобы под ногами не путались и не имели возможности оказывать давление на «народных избранников».
Само путешествие описывать не буду, достаточно имеется видеофильмов, которые снимали все и почти постоянно, из обычной туристической привычки. Прекрасно понимая, что едва ли эти гигабайты информации будут когда-нибудь востребованы, дай бог сотую долю отснятого друзьям и подругам показать. Вот если создать при Правительстве РФ Министерство по делам «Дуггурляндии», тогда вся наша видео– и аудиопродукция сгодится в качестве учебного и рабочего материала.
Сопровождали нас двое «высочайших», для придания поездке официального статуса, и четверо «мыслящих», специалистов в разных отраслях экономики и культуры, владевших русским языком.
Пока мы летали на все той же роскошной «медузе» премиум-класса по островам и континентам, останавливаясь непременно в поместьях очередных феодалов, поскольку отельный бизнес здесь не развит совершенно, Сашка со Скуратовым просвещали нас в отношении и биологических, и социологических тонкостей местной «сексуальной культуры», что ли. Но эта «культура» есть лишь малая часть дуггурской репродуктивной системы как таковой.
Мы обо многом догадывались не то чтобы инстинктивно (здесь это звучит довольно двусмысленно), но просто в силу привычки размышлять и сопоставлять факты и гипотезы, по их поводу возникающие.
В результате многотысячелетних экспериментов с собственным биологическим материалом, а также и теми изменениями солнечного спектра, о которых я уже упоминал, протодуггуры ухитрились включить механизм мутагенности, намного превосходящий любые достижения нашего человечества в кошко– и собаководстве. О чем говорить, если у них успешно получались не только межвидовые, а и межклассовые, даже межтиповые скрещивания[35].
Собственно, таким путем они вывели огромное количество «отрядов и подотрядов» всевозможных инсектоидов. Мы удивлялись, как может существовать насекомое размером с большую собаку, хорошо зная, что дышат они так называемыми «трахеями», отчего не могут превышать размеров большого паука или стрекозы. Прочим не хватит кислорода для жизнедеятельности. А выведенные дуггурами «химеры» могли и иметь легкие, и сочетать несочетаемые виды мускулатуры и иных тканей, органов и систем.
Все это с научной, да и практической точки зрения было крайне интересно, особенно когда они начали экспериментировать на себе, произвольно наделяя и затем фиксируя в генотипах нужные им признаки. На самом деле зачем ловить где-то рабов, усмирять тех, кто усмирению поддается, затем обучать разным профессиям, чтобы общество могло нормально функционировать, обеспечивая элиту потребным (или – вообразимым на этом уровне) комфортом? Не проще ли сразу выводить врожденных специалистов всех требуемых профилей?
Не вдаваясь в подробности, скажу, что затея увенчалась полным успехом. Включая один непредусмотренный штришок. Который при должном внимании можно было подсмотреть в природе, кою они столь усердно копировали и изменяли. Мичуринцы-лысенковцы![36]
Штришок этот называется – половой диморфизм. Если совсем просто (даже я это знал без всяких биологов) – в живой природе существует такое явление, как отличие самцов и самок одного и того же вида, иногда не слишком значительное, чисто внешнее, как у льва и львицы, павлина и павлинши, а иногда просто разительное, например, у некоторых видов пауков. И по размерам, и даже по внутреннему устройству и поведенческим признакам.
Вот и наши селекционеры-дуггуры что-то такое сотворили со своими наследственными механизмами, почти по сакральной фразе, использованной Стругацкими как пример наукообразного абсурда: «Рецессивная аллель влияет на фенотип, только если генотип гомозиготен». На самом же деле это просто пример лемовского металанга, языка высшего, по сравнению с общеупотребительными, уровня, и чтобы адекватно донести эту простенькую истину до человека с полным начальным образованием, потребуется минимум несколько суток. Именно адекватно, потому что попросту перевести сию премудрость не так уж трудно: «подавленные, в том числе и вредоносные врожденные, качества проявляются в потомстве только при близкородственном скрещивании». Или как-то так.
В общем, они так перепутали свои «аллели», что при заданном «генотипе» начали получаться бог знает какие «фенотипы». Очевидно, где-то очень глубоко, даже у человекообразных, запрятан ген этого самого деморфизма, а если его активизировать, да еще и стимулировать в нем неконтролируемую мутагенность…
Одним словом, добившись у мужских особей всех запланированных свойств и качеств в «фенотипе», они что-то такое напортачили в самой глубине X– и Y-хромосом, отвечающих за пол особи и имеющих еще другие, до конца человеческой наукой не проясненные свойства, что вместо нормальных девочек у них начало рождаться невесть что. Ни в сказке сказать, ни пером описать!
«Самки» (рука не поднимается написать – «женщины») дуггуров превратились в некий «исходный» типаж «хомо сапиенс» – что-то вроде австралопитеков и с таким же примерно уровнем интеллекта. Но вполне способные к репродукции.
И сколько-то там десятков тысяч лет назад господа дуггуры оказались в чрезвычайно неприятной со всех точек зрения ситуации. Чтобы не сгинуть с лица Земли, писаным красавцам микеланджеловских и фидиевских статей приходилось использовать для размножения почти что обезьян. Эстетически это малоприятно, да и какое нормальное цивилизованное общество можно построить при этом самом деморфизме? Пришлось создавать особую «женскую субкультуру», внутри которой их самки могли существовать комфортно (в своем понимании), не мешая при этом «высочайшим» радоваться жизни в своем кругу.
Да вдобавок мальчики, рождавшиеся у дуггурлянок («высочайшие» обязаны были, в качестве повинности как бы, своих самок регулярно оплодотворять для элементарного сохранения «социума»), в 30-40 % внешне полностью отвечали требованиям «канона», но уже в третьем поколении начинали демонстрировать явственные признаки деградации, приобретая все более конкретные черты своих родительниц.
Расу дуггуров от деградации и исчезновения спасло открытие методик проникновения в параллельные пространства, где с мономорфизмом было все в порядке. Более того, писаные красавцы и атлеты «высочайшие» не только производили неизгладимое впечатление на еще очень малокультурных человеческих дам, но и потомство от их связей с «дочерьми человеческими» получалось идеальным. Но опять же – только мальчики. Девочек землянки рожали вполне аналогичных самкам дуггуров. Отсюда, наверное, и пушкинское – «Родила царица в ночь не то сына, не то дочь, не мышонка, не лягушку, а неведому зверюшку».
Таким образом вся дуггурская цивилизация уподобилась самолету. Тот летит, пока есть в баках бензин или керосин, эта существует при постоянном притоке «инопланетного» женского генофонда.
Вот и сложилось с течением времени совершенно чудовищное, на наш взгляд, дуггурское жизнеустройство.
Красавцы «высочайшие», подавляя отвращение (а может, и с удовольствием, откуда нам знать?), продолжали регулярно спариваться со своими обезьяноподобными «законными супругами», те старательно ежегодно рожали, пополняя национальный генофонд и поддерживая общую численность гуманоидного населения.
Если бы не сложилась такая система, через несколько поколений раса дуггуров просто исчезла бы. Распалась на меньшинство, превратившееся в обычных землян, и несколько переходных метисных форм, неумолимо скатывающихся к обезьяноподобию. Перекос в любую сторону вызвал бы мгновенное по историческим масштабам крушение цивилизации.
Чтобы продолжать балансирование на «лезвии бритвы», в их обществе существовало огромное количество правил, обычаев, запретов и прецедентов, бытовых и юридических, регулирующих абсурдную в принципе систему.
Так, например, разные категории «мыслящих», «пятерочников», «полумыслящих» получались или из генетических отходов «высочайших» (ну, вроде как у землян рождаются дауны, дети с ДЦП и прочими генетическими отклонениями), или в результате полноценных браков (а также и инцестов) внутри низших каст.
В общем, голову сломаешь, если начнешь разбираться в деталях.
Мы и не стали, пока странствовали по чудесным феодам вполне великолепных феодалов. Граф, скажем, Бриан де Буагильбер из относящегося к четырнадцатому веку «Айвенго» никогда бы не смог нам обеспечить такого комфорта, как, условно говоря, «высочайший граф», лорд или просто «владетель» северной части «нашей» Бразилии (от Амазонки до Карибского моря) по имени Мазввлитананга.
Несмотря на с трудом произносимое имя и высокую степень суверенности, он со всем почтением отнесся к рекомендациям сопровождающего «товарища» держаться с нами запросто и немедленно проявил столько радушия и откровенности, что сразу же вспомнился колоритный барон Пампа, дон Бау-но-Гатта-но-Суруга-но-Арканара, кажется…[37] Не такой здоровенный и грубый, как в книге, но эмоционально брат-близнец и ему, и Портосу.
Этот самый граф или герцог спокойно выпил с нами настоящего ирландского виски из наших запасов, ответив подобием вина из своих подвалов, а потом, в должной стадии алкогольной интоксикации, Виктор Скуратов задал ему вопрос, даже два на самом деле, но сначала о первом.
– Есть ли у тебя жены земного, а точнее – русского происхождения? Живые и в расцвете сил…
Вопрос, конечно, крайне неделикатный, но специалисту по всяким нечеловеческим логикам виднее.
– Есть, – спокойно ответил «барон», – десять или двенадцать, точно не помню, к половине из них я давно уже не входил. Они надоели, исполнив свое предназначение, произведя мне трех законных наследников и сколько-то там бесалаломпи.
Этот термин означал потомков, по каким-то параметрам не подходящих под статус «истинно высочайших», низведенных в некоторый промежуточный ранг, что-то вроде «неслужащих дворян» времен Екатерины Великой. Они вели вполне достойный образ жизни, но не владели личными феодами и не могли наследовать родительские, не допускались к тому, что здесь можно назвать «руководящей работой», а главное – не годились для функции «производителей». Производителей «высочайших», понятное дело. «Первоклассных мыслящих» они могли плодить сколько угодно, пользуясь земными женщинами, списанными, так сказать, их законными (то есть лично добывшими этот «материал» во время экспедиций на Землю) хозяевами.
– Со мной сейчас живет только одна, но и то до тех пор, пока я не добуду себе парочку новых. Она неглупая и искусная «подруга», но уже не доставляет прежней радости…
– И что с ней будет потом? – спросил я.
– Еще не думал. Может быть, отдам младшим сыновьям, пусть она их поучит, пока своих женщин не добыли. Или отпущу на «свободное поселение», будет жить как многие бывшие жены, даже сможет завести собственный гарем из «мыслящих». У нас выращивают таких, специально для этого самого… Женщину, после того как она познала «высочайшего», обычным образом не удовлетворить. Вот вы бы не сумели. – «Барон» довольно похабно заржал, сразу потеряв всякую человеческую привлекательность.
Я обратил внимание, как Скуратов, хоть и специалист, но человек более светлого и гуманного века, чем наш, сжал кулаки так, что побелели костяшки. Действительно, дикость вполне древнеримская, вроде как в кинофильме «Калигула».
Глава четвертая
Антон, пользуясь собственной, непонятной даже Левашову, методикой, сначала на огромной, как экран старинного «широкоформатного» фильма, плоскости совместил изображение кормовой вертолетной площадки «Валгаллы» с плацем во дворе дуггурианского «пункта дислокации» так, чтобы уровень утоптанной ногами и укатанной колесами земли до миллиметра совпал с уровнем тикового настила палубы. Перед этим он еще производил сложные математические расчеты, касающиеся компенсации переносимой массы, во избежание аннигиляции двух десятков тонн вещества, которое в какой-то момент превращается в антивещество. Вот этот момент и необходимо каким-то известным ему способом свести к абсолютному нулю.
Всем, кому приходилось пользоваться «методикой Антона», отмечали, что процедура как таковая вполне комфортна, не создает неприятных ощущений, а главное, не связана с необходимостью превращаться в пучок излучения, на другой стороне канала опять преобразующегося в материальный и по-прежнему живой биологический объект.
В принципе пользование «каналом Левашова» во многом равнозначно прыжку с парашютом с негарантированным качеством укладки, а «по-антоновски» – это просто шаг через порог из одной комнаты в другую. Легко и стопроцентно безопасно. Если не случится той самой аннигиляции. Но раз Земля до сих пор существует, то, скорее всего, и этот переход произойдет благополучно.
Поэтому, хоть через робота Аскольда и удалось вдруг наладить связь с «Валгаллой» и попросить настроить для встречи систему СПВ, предпочли все же пойти более надежным путем.
Первыми в свою реальность перешли «старшие братья», как бы игнорируя обязанность командиров вначале обеспечить эвакуацию «женщин, детей, стариков» и вообще подчиненных. Но, с другой стороны, вне театра боевых действий по трапу корабля и самолета по прибытии в порт назначения первым сходит начальство.
А последним отошел отряд прикрытия во главе с капитаном Ненадо, гордо отдававшего честь встречающим из повернутой назад стволом башни замыкающего БРДМа.
– Все здесь? – на всякий случай спросил его Новиков перед тем, как Антон разорвет связь с прекрасной, но оставившей неприятное впечатление «сестрой Земли».
– Так точно, – ответил капитан после того, как его взвод покинул технику и в несколько секунд построился в две шеренги лицом к боевым машинам.
– Господа офицеры, поздравляю с благополучным завершением операции и возращением на Родину. Всем спасибо за службу, – уставным образом подвел итог их несколько затянувшейся (с точки зрения остававшихся на Земле) операции Шульгин. Насчет «Родины» он несколько перебрал, потому что как раз офицерам до их Югороссии отсюда было пока что не ближе, чем от покинутой «Дуггурляндии».
– Сейчас разместитесь по каютам и наконец отдохнете. Нелегкая выдалась экспедиция, – с чувством продолжил он, краем глаза наблюдая, как за спиной Воронцова еле сдерживают нетерпение, чтобы кинуться к своим «блудным мужьям» Анна, Ирина и Алла. Страшно подумать, почти два года девушки ждали. Каково им пришлось!
– Рады стараться, господин генерал! – дружно ответил строй, чрезвычайно довольный возвращением на всем знакомый пароход, на котором столько уже лет назад начиналась их невероятная служба.
Однажды, то ли в Южной Африке, то ли еще раньше, после боев в параллельной Москве поручик Оноли, склонный к философствованию, довольно меланхолически заметил за вечерним застольем (точно как у Дениса Давыдова: «Конь кипит под седоком, Сабля свищет, враг валится… Бой умолк и вечерком снова ковшик шевелится»[38]): «А не кажется ли вам, господа, что все мы давно убиты? Кто где. Я вот, например, скорее всего – осенью девятнадцатого года на Екатеринославском мосту. Выжить там было просто невозможно – почти полверсты бегом под шквальным огнем махновских тачанок…»
А все последующее… Не зря ведь очнулись, фактически мы как раз на «Валгалле». После чего началось достойное каждого посмертное существование. Чертовски приятное, не скрою, по-любому лучше, чем догнивать в сырой земле без памятника, креста и даже могильного холмика…
Мысль, к слову сказать, прямой поддержки у собрания не встретила, кое-кто попробовал даже оспорить ее с религиозных или материалистических позиций, но в голову большинству она запала. На эмоциональном уровне.
А что – теория, по сути своей, объясняющая все сразу и полностью снимающая любые вопросы по поводу каких угодно несообразностей текущего бытия.
Правда, оставался вопрос, а что происходит с теми, что ухитряются погибнуть и здесь, по второму, так сказать, разу? Отчего они вновь не возвращаются к пиршественному столу, как положено по скандинавскому эпосу?
Но это было сочтено уже вопросом «второго порядка». Мало ли как устроен механизм дальнейших перевоплощений… И погибшие еще и здесь бойцы получают свое воздаяние уже уровнем выше. Здесь, например, внимания гурий следует добиваться и за напитки везде, кроме собственно «Валгаллы», платить из жалованья, а там уж точно девицы абсолютно все неземной красоты и в любую минуту готовы «соответствовать» и скатерти-самобранки на каждом шагу…
И вот сейчас, увидев среди встречающих множество девичьих лиц, знакомых по боям на совсем уже далекой отовсюду (хоть три года скачи – никуда не доскачешь) планете, носящей имя парохода, Валерьян Оноли вдруг вспомнил тот вечер и тот разговор. И подумал, что касательно гурий – все точно. Вон их сколько, одна другой краше, но вот насчет того, чтобы попросить их исполнить «райский обычай» – десять раз подумаешь. Офицеру ходить с битой мордой как-то «не комильфо», да и ручки у этих барышень отнюдь не для пяльцев и клавесинов созданы, отвесит так, что и без зубов останешься. Одним словом, «нет правды на земле, но нет ее и выше».
– Теперь до особого распоряжения разрешаю разойтись по своим каютам и иным помещениям, – продолжил Шульгин. – Внутренний распорядок и правила поведения остаются прежними? – для соблюдения субординации осведомился он у Воронцова, надевшего для встречи белый парадный мундир и адмиральскую фуражку.
– Так точно, – едва заметно улыбаясь, ответил Дмитрий. – Если кто-нибудь подзабыл планировку парохода – любой член экипажа подскажет. До ближайшего берега – минимум неделя, так что на скорый «отдых» не рассчитывайте. Впрочем, могу вас порадовать. Кроме непосредственно встречающих на «Валгалле» сейчас находятся все ваши товарищи, остававшиеся на планете, плюс весь состав инопланетной базы, все курсанты и курсантки. Просто мы не объявляли публично о моменте вашего прибытия, во избежание, так сказать. Примета плохая. Но теперь уже скоро увидитесь. Добро пожаловать, господа-товарищи! Мы вас очень ждали и очень рады видеть всех в добром здравии…
По строю прошел удивленно-радостный шумок. В строю, как известно, разговаривать не полагается, но обычно выходит, что в случае сильной общей эмоции даже без произнесенных вслух слов некая звуковая волна возникает из вздохов, коротких смешков, междометий и прочего.
– Теперь одно замечание. Мы – не круизный лайнер. Прошу это учитывать. Все заняты делом. Здесь вновь работает нечто вроде знакомых вам по двадцатому году курсов. Личный состав инопланетной базы – в прежнем качестве, ваши товарищи – в основном инструктора при них по разным отраслям знаний… Все поцелуи, объятия и прочие изъявления радости – в предусмотренное расписанием время.
– Простите, господин адмирал, – поймав паузу, вмешался капитан Ненадо, – никаких нарушений распорядка не допустим. Сначала – прошу указать места для размещения техники, потом будет произведен профилактический осмотр, обслуживание, сдача на хранение лишних боеприпасов, а уж тогда, с вашего позволения, размещение по каютам и дальнейшие действия согласно распорядку. Не затруднитесь довести…
– Так точно, – с пониманием ответил Воронцов. – Вы командир, вам виднее.
Он взглянул на часы.
– Сейчас одиннадцать ноль семь. Обед по расписанию в тринадцать ровно. В зале на палубе «Б». Там и увидитесь с друзьями и старыми знакомыми…
– Уел тебя капитан, – с усмешкой сказал Воронцов Шульгину, когда они остались только среди своих. – Он, как видишь, службу помнит, а ты, ваше превосходительство, подзабыл, доброту и заботливость свою генеральскую решил проявить. А оружие и технику действительно сразу нужно в порядок привести. Потом еще меньше захочется возиться, когда отдохнут да расслабятся… – в обычной своей манере говорить серьезные вещи полушутливым тоном да еще и с улыбочкой завершил «воспитательный момент» Дмитрий. На кого другого Сашка, может, и обиделся бы, еще и нагрубил, а сейчас воспринял как должное, только мимикой изобразил, как он к этим причудам «морского волка» относится.
– Ну ладно, ты человек малослуживший, тебе простительно. С людьми разобрались, теперь дозволяются неконтролируемые эмоции. А вас позвольте к себе пригласить, обменяемся впечатлениями, – сказал он Антону и Скуратову, у которых близких женщин не было.
– Ближе к вечеру в Кипарисовый салон приглашаю, – теперь уже нормальным тоном обратился он к троим друзьям и их подругам, из последних сил сохранявшим выдержку, в том числе и с помощью как бы и не к ним относившихся слов Воронцова.
– Там вы исчерпывающе доложите, где болтались два года и что за это время успели натворить… Сами понимаете, все по вам соскучились ну до невозможности. Даже Сильвия с Берестиным и Лариса с Олегом подскочат из своих палестин по такому случаю…
Эти пары так и предпочитали большинство времени проводить в Лондоне и Москве, Берестины в викторианском, Левашовы в югоросской. Им там представлялось комфортнее, да вдобавок и собственные проекты они реализовывали.
– Неужели все-таки два? – удивленно и одновременно удрученно спросил Ростокин. Ему сразу пришла мысль, точнее, воспоминание об их прошлом с Аллой мире, где подруга уже после месячной разлуки начинала сильно нервничать и готова была (а возможно, и заводила) к интрижкам на стороне. А тут два года. И вытерпела?
– Ну, не для всех, – успокоил его Воронцов. Для меня и парохода – месяцев пять, наверное. На Главной Исторической – вот там да. Два года чистых. А кто на Валгалле время проводил, в Империи, у Виктора – везде по-разному… Но не годы. Соскучиться успели, а забыть – еще нет… Разберетесь помаленьку.
Утешил, одним словом.
Шульгин коротко дернул щекой. Вспомнились собственные пророческие слова, сказанные еще тогда, в восемьдесят четвертом: «Черт, тебя, Андрюха, дернул! А я ведь давно говорил, что от твоих классических увлечений добра не жди. Одиссей, Одиссей! Сидел бы этот мелкий феодал на своей Итаке, как нормальному царю положено, и ничего бы не было. И Троя до сих пор бы на месте стояла…»
Но Воронцов, пожалуй, прав. И сам он, и, главное, девушки внешне никак не изменились. Но это заслуга гомеостатов, Сильвия вон вторую сотню лет в одной поре, да и Ирина, если по другой моде оденется и причешется – почти все та же загадочная девушка с Устьинского моста, какой встретилась Андрею в семьдесят шестом году[39].
Да и внутренне с чего им меняться? Экспедиции полярников или географов по полгода-году считаются нормой, а сколько еще профессий, связанных с разлуками? Вон Дмитрий десять лет ходил по морям, лишь на пару месяцев сходя на берег в отпуск. О войнах вообще нечего говорить.
Ирина, сильно сжав его ладонь, провела его по коридорам и трапам в свою каюту молча. Даже, кажется, сцепив зубы.
Захлопнула за собой дверь и только тут, в собственном, изолированном от всех мирке, дала волю чувствам. Она изо всех сил обняла Андрея, прижалась к нему всем телом и просто-напросто разрыдалась. Как самая обычная деревенская баба, не обученная психоаналитиками и не усвоившая канонов великосветской сдержанности. Как будто он действительно вернулся с какой-то прежней войны, откуда письма и весточки не доходили годами. Или вообще никогда.
«Скажи, что я писать ленив, что полк в поход послали, и чтоб меня не ждали…»
Он слушал ее рыдания, собирал губами слезы с ее щек, не позволяя никаких вольностей, руки его сомкнулись у нее на лопатках и так и оставались в этом положении. Он словно снова, как в самом начале их знакомства, понял, что она любит его гораздо больше, чем он ее. Хотя как можно тут говорить – больше, меньше? Она эмоциональнее, ничего не скажешь, но он знал, что без малейших сомнений отдаст жизнь ради нее. Если это, упаси бог, потребуется, и о чем еще говорить?
Он был без нее всего два месяца и невероятно соскучился, даже не столько по ее телу и по тому, что происходило у них в постели не так уж часто последние год или два, а просто по ее присутствию рядом. Голосу, каким-то особенным словам, общим воспоминаниям, уверенности, что пока они вдвоем – ни с кем из них не может случится ничего плохого.
Ирина, последний раз всхлипнув, повлекла его в глубь лабиринта своей каюты, которого целиком не знал никто, кроме нее и Андрея. Гостей, в том числе и ближайших подруг, она принимала лишь в нескольких, специально отведенных для того помещениях. Да и у всех «братьев» и «сестер» личные помещения создавались и оформлялись по индивидуальному проекту, отражающему не только сиюминутные вкусы, но и глубинные черты личности.
Зайди кто-нибудь посторонний в каюту Ларисы, например, расположенную на целых трех палубах, он заблудился бы среди абсолютно разностильных помещений, связанных множеством трапов и потайных ходов, и среди зарослей почти двухсот квадратных метров зимнего сада, занимавшего среднюю из трех палуб. Кто-то мог бы назвать такой проект параноидальным, но она во время постройки «Валгаллы» увлекалась как раз «Именем розы» Умберто Эко и позаимствовала кое-какие элементы из описания монастырской библиотеки.
В небольшой, но уютной спальне обращенные на северный, сейчас затененный борт парохода окна были задернуты вдобавок плотными шелковыми шторами цикламенового цвета. От этого в пахнущей знакомыми духами и иной косметикой каюте царил нереального оттенка полумрак.
Торопливо, помогая друг другу и ничего больше не говоря, они разделись и, снова сомкнувшись в объятиях, упали на широкую постель, с которой Ирина в последний момент косо вбок стянула покрывало.
Через час или полтора бурных и каких-то сумасшедших ласк, как в ту ночь, когда Ирина сбежала с дачи бывшего мужа и привезла Андрея в свою городскую квартиру[40], она, измученная, но прямо-таки светящаяся внутренним пламенем, села на постели, дрожащими руками взяла с прикроватной тумбочки портсигар, закурила.
– Пожалуй, теперь я верю, что там у тебя никого не было. Долго нужно было поститься, чтобы так оторваться…
– Разве плохо получилось? – спросил Андрей. Он, уже входя в каюту, сформировал совсем небольшую, локальную мыслеформу. Чтобы Ирина сейчас была такой же, как в тот самый раз. Три года не поймешь каких отношений – влюбленности с ее и почти что братской дружбы с его стороны, потом четырехлетняя разлука на ее замужество и новая встреча, с теперь уже вполне зрелой, опытной и по-прежнему влюбленной в него женщиной. Та ночь была незабываемой. По многим причинам. Сейчас он пожелал, чтобы подобное повторилось. За все время их совместной жизни она была, в общем, сдержанной любовницей, умелой, ласковой, но – спокойной. Крышу у нее срывало всего несколько раз за много лет. А ему подруга нравилась больше всего именно в такие моменты – когда сознание почти полностью отключается и остается только страсть. Как говорил Шульгин, медицинский специалист и вообще большой любитель и ценитель этого дела: «У женщины настоящий акт – это то же самое, что эпилептический припадок. Даже почти все симптомы одинаковые, и во время, и после…»
Вот сейчас мыслеформа удалась, и он снова любил не красивую, элегантную, утонченную, с принципами девушку, которая не позволяла раздевать себя при свете и могла в постели завести разговор о последнем вернисаже в Манеже или о хокку Басе (бывало такое, особенно в молодости), а ефремовскую женщину, предупреждавшую неопытного партнера, что секс с ней может завершиться летальным исходом[41].
– У тебя, надеюсь, тоже? – с легкой иронией спросил он.
Ирина аккуратно притушила в пепельнице едва на треть выкуренную ментоловую сигарету и, сделав хищное лицо, повалила его на спину, уселась верхом и, словно наездница шенкелями, сжала коленями его ребра:
– А вот сейчас узнаешь…
Несмотря на очередную вспышку страсти, ничего она ему не доказала. Такие дамы, как Сильвия или Лариса, могут ежедневно изображать с достоверностью, удовлетворившей бы самого Станиславского, женщин, до безумия истосковавшихся по мужской ласке. Другое дело, что Ирина в принципе была абсолютной однолюбкой. Когда снова сошлись после ее развода (да и замужество у нее было чисто деловое, почти формальное), она не изменяла ему ни разу, Андрей знал это совершенно точно.
Только уже приняв душ и начав одеваться к ужину, Ирина спросила Андрея, просматривающего в соседнем салоне новозеландские и австралийские газеты и журналы двухнедельной давности, – а что это за девицу в армейском камуфляже вы с собой привезли? Когда улетали, ничего подобного с вами не было… Дипломатическая представительница? Тогда почему сразу не познакомили?
Новиков вошел в гардеробную, непосредственно примыкающую к спальне и отделенную от салона нешироким коридором. Он не любил перекрикиваться из комнаты в комнату, не видя собеседника.
Ирина как раз пристегивала застежку тугого золотистого, разрисованного подобием черных орхидей чулка, поставив длинную ногу на пуфик. Андрей отвернулся, зная, что она не любит, чтобы на нее смотрели, когда она одевается, еще больше, чем на раздевающуюся.
Но это мало помогло: все три переборки и даже дверцы платяного шкафа были сплошь зеркальными, и подругу он видел во всех ракурсах в бесчисленном числе отражений.
«Гаданием со свечкой здесь хорошо заниматься, – подумал он. – Черт знает что можно увидеть, наверное».
– С девицей – это особая история. Мы, видишь ли, умыкнули у тамошнего феодала наложницу, которую он собирался перепродать или отдать на потеху своим наследничкам. Нашу, русскую. Виктор Скуратов на нее глаз положил…
– Любовь с первого взгляда? – спросила Ирина, подтягивая второй чулок. – Я ее совсем мельком заметила, даже подумала сначала, что кто-то из незнакомых офицеров, а потом сообразила. Да, выразительная женщина. Как раз для Скуратова…
– Не совсем чтобы влюбился. Больше – просто пожалел. А там – что выйдет. Или – уже вышло, только мы не знаем. Она с нами сбежала в чем была, а была чуть меньше одета, чем ты сейчас, они исподнего в неофициальной обстановке не носят. Пришлось ей камуфляж подобрать, благо рост у нее гвардейский. Офицеры над ней шефство взяли, будут выяснять, не служил ли кто на фронтах с ее отцом. Не поверишь – она из Крыма в девять лет эвакуировалась, а отец у Врангеля в арьергарде отход флота прикрывал. Так и не встретились больше… Сегодня на банкете познакомишься, Наталья и Тарханова с Ляховой обещали над ней шефство взять…
– Чего ж не поверить? – пожала загорелыми плечами Ирина. – С нами и не такое случалось. Сам говоришь – офицеры… Они откуда?
– Да так, а все равно моментами странно. Прилетели черт знает куда, на другую планету, Арканар пополам с «миром Полдня», с бароном Пампой виски пьем – и тут, пожалте, баронесса, она же девочка-белоэмигрантка…
«Любимая жена барона», когда он ее представил в ответ на просьбу Скуратова познакомить с кем-нибудь из женщин, добровольно переселившихся с Земли в «Дуггурляндию», сразу произвела на землян впечатление сильнее того, на какое они рассчитывали. Виктор всего лишь хотел задать несколько вопросов женщине, чтобы лучше представить психологию столь странных, на его взгляд, «союзов». И, наверное, подсознательно все они рассчитывали увидеть существо, чем-то похожее на русских жен йеменцев или афганцев, довольно часто эвакуируемых последнее время на Родину из очередных «горячих точек».
Друзья даже совсем не были уверены, что хозяин пойдет им навстречу. Скорее – обидится. Раз тут гаремная система, то можно предполагать, что и нравы сообразные. Да еще на самой окраине обитаемого мира.
Но ничего подобного. «Барон» благодушно кивнул, что-то крикнул в пространство, и его «последняя» из предыдущего призыва жена немедленно явилась. Была она поразительно хороша, прямо как Венера с картины Баттони «Венера и Амур». Под метр восемьдесят ростом, изумительно сложенная, с холодноватым, но идеально вычерченным лицом, в белой прозрачной хламиде, под которой не было больше ничего, она произвела должное впечатление на всех. На Андрея тоже, чего скрывать. Но особенно на Скуратова.
Это заметил даже хозяин и легко предложил «уединиться» с дамой, если она гостя взволновала.
– Она знает, как доставить мужчине всю полноту радости, – сообщил Мазввлитананга, проводя мощной дланью по талии и восхитительным, без всякой лести, округлостям, в которые она переходила.
Женщина улыбнулась, словно обычному комплименту, но в глазах у нее что-то такое мелькнуло… Нехорошее, в общем.
– Спасибо, уважаемый, мы привыкли решать свои проблемы за пределами гостеприимного дома, – ответил Скуратов максимально корректно, хотя и видно было, что сохраняет подобающий тон он с трудом. Не привык на своей благоустроенной реальности к нравам иных эпох и культур.
– А напрасно отказываетесь, – сказала вдруг женщина по-русски. – Соглашайтесь – я вам кое-что интересное расскажу. Когда еще соотечественника встречу… – и вроде как подмигнула.
Хозяин, похоже, что-то тоже уловил в ее словах, потому что вдруг довольно сильно шлепнул, даже скорее ударил женщину по месту, которое только что гладил. И бросил короткую фразу на своем малоудобопроизносимом языке. Но Виктор, кажется, понял, он с помощью блок-универсала дуггурианский «высокий» язык старательно изучал.
– Жаль, – еще раз сказала женщина, плавно шагая к двери. И вдруг коротко бросила по-испански: – «Аста ля виста. Пор ля ноче»[42]. Очевидно, знала, что этим языком ее повелитель не владеет.
То есть ожидаемого интервью не получилось. Зато «баронесса» действительно пришла около полуночи в комнату к Виктору какими-то тайными ходами, проложенными внутри стен, как это водилось и в европейских средневековых замках и дворцах. Дама эта, хоть и русская, оказалась из самых настоящих белоэмигрантов «первой волны», девочкой вывезенная из Крыма, и разыскал ее Мазвлитананга в довоенном, перед второй мировой, Париже, где она не то чтобы очень бедствовала, но и жизненных перспектив не видела. Замуж богатые французы не зовут, за русского голодранца выходить смысла нет. Лет до тридцати пяти она еще будет котироваться как актриса кабаре и «содержанка на коротких контрактах», а дальше? Понятно, что предложенный умопомрачительным красавцем вариант ее устроил. И прожила она здесь восемь лет, ни о чем не жалея, потому что еще одной мировой войны и послевоенной разрухи она бы не выдержала.
– То есть как это? – оторопел Скуратов. – Вы жили в царской России и эмиграции? – Он к идее скачков между временами и реальностями только-только начал привыкать и до сих пор относился как современники Пушкина к поездкам по Царскосельской железной дороге.
Женщина, а звали ее Надеждой, оказалась куда более приспособленной к тяготам и странностям мира (миров, точнее). Все с ней случившееся она пережила достаточно легко. По принципу: «Так – значит так». Что же касается очередного «хроноклазма»…
Оказывается, исключительно для удобства все той же «репродуктивной проблемы», вокруг которой у дуггуров, получается, крутится вся жизнь, они давным-давно отрегулировали соотношение хода времени у себя и на нашей Земле. По очень простому курсу – месяц у них – год у нас. Поэтому, совершив очередной набег и обеспечив всех нуждающихся новыми женщинами, а специалистов из центров селекции – достаточным количеством яйцеклеток, получаемых от «объектов», по кондициям не подходящих для роли жен или наложниц, дуггуры могли сделать перерыв на два-три своих года. За это время очередные партнерши им приедались, а на Земле как раз вырастало новое поколение, сулившее желанное разнообразие как во внешности и манерах, так и на генном уровне.
На самом ведь деле – стоит сравнить массовый типаж красавиц всего лишь тридцатых и шестидесятых годов прошлого века. Абсолютно ничего общего. То девушки-красавицы вроде нашей Серовой или американской Дины Дурбин – и вдруг, как с конвейера, пошли девицы стиля Милен Демонжо, Джины Лоллобриджиды, отечественных Фатеевой и Самойловой хотя бы…
Но Надежда оказалась редким исключением, отчего и привлекла внимание искавшего нечто «с изюминкой» дуггура. И родившаяся почти на полтораста лет раньше Скуратова, мгновенно зацепила и его.
Сама она, услышав «настоящую» русскую речь русских людей, чуть не упала в обморок, настолько привыкла к мысли, что Родина потеряна навсегда. «Потомки» ей сразу понравились. И вдруг мелькнула надежда.
– У Надежды – надежда, – засмеялась она. – Жаль, что сразу и прошла.
Но увидела, что из всех землян именно Виктор проявил к ней внимание и сочувствие, потому и решила воспользоваться тайными ходами, посетить его и предостеречь.
Мазввлитананга все эти годы относился к ней хорошо и так демонстративно ударил впервые, именно, чтобы показать свою власть. Да, пожалуй, почувствовал мгновенно возникшую у нее тягу к соотечественникам. И предложил свою пока еще «жену» заезжим гостям, как какой-нибудь дикий тунгус русскому офицеру или китайскому купцу, из этих же соображений. Унизить ее в глазах земных мужчин. Да и их тоже немного поставить на место. Настолько-то он в психологии землян разбирался.
– Феодалы, они все такие, – поддакнул женщине Скуратов, на самом деле не слишком много знающий о феодализме.
– Скорее так с крепостными в восемнадцатом веке поступали, даже и князья-рюриковичи, вроде Шереметевых. Могли с крестьянкой жить как с женой, и внебрачных детей в кадетский корпус отправить, а потом надоела – и все. Хоть на сторону продаст, хоть в дворовых оставит… А вы, смотрю, люди воспитанные. У вас от слов «моего» даже кулаки сжались, а товарищ ваш, смотрю, щекой задергал. А потом, уже когда уходила, сообразила, что люди-то вы из будущего. Посчитала наскоро. Да из такого, где красных хамов наши все-таки победили…
Потому и решила рассказать, что вас тут может ждать. Уже вечером услышала, как ваш сопровождающий моему говорил, что обратно вас домой все равно не отпустят. Или несчастный случай по дороге произойдет, такой, что никаких подозрений. Или подержат здесь столько, что там о вас просто забудут…
Эти слова Виктор принял к сведению, но в тот момент его больше интересовала сама Надежда и ее, как принято было писать, «непростая судьба». Да еще и явилась она к нему все в тех же, что днем, ничего из ее прелестей не скрывающих одеждах. У них здесь, как в древнем Риме, матроны только в общественные места выходили приодевшись, а в собственной вилле ни рабов, ни гостей мужа не стеснялись ну ни на сколько.
Он спросил, устраивает ли ее тот вариант, что уготовил ей «повелитель»? Неужели она, такая красавица и пока еще «хозяйка», в свои тридцать с небольшим лет действительно хочет стать «наставницей» и объектом каждодневных упражнений малолетних, сексуально озабоченных балбесов, вроде того, что повелся на Ларису. Он, судя по тому что «братья» видели и знали еще с Южной Африки, ни о чем другом думать не был настроен. А остальные чем лучше?
– Как будто у меня богатый выбор? – грустно сказала Надежда, удивительно дисгармонируя тональностью голоса с вызывающей телесной силой и красотой. – Неужели вы поверили Мазве? – так она сократила имя феодала для удобства разговора. Жить в отдельном поместье я действительно смогу, и «гарем» завести мне помогут, только ежемесячно будут извлекать из меня… сами понимаете что для пересадки в инкубаторы «мыслящих». И там оплодотворять. Им ведь тоже породу улучшать надо. Врачи за мной следить будут, чтобы, упаси бог, внепланово не забеременела. А остальное время, конечно, жить смогу в свое удовольствие. Как сучка племенная…
– А знаете, Надя, давайте мы вас с собой заберем, – неожиданно для себя предложил Виктор. Не в том дело, что «баронесса»-эмигрантка произвела на него столь уж неизгладимое впечатление (и это было, конечно), а невозможным казалось оставить ее здесь для такой вот участи.
Конечно, десятки миллионов земных женщин находятся здесь и сейчас в таком же, и гораздо худшем положении настоящих сексуальных рабынь и производительниц «биоматериала», а она все же прожила столько лет как любимая жена турецкого султана, к примеру. По словам Надежды, останься она в Париже, с ее характером, выйдя в тираж, быстро бы спилась и сдохла под забором, за несколько лет проскочив путь между шикарной «эскорт-мадемуазель» и ловлей клиентов на Пляс Пигаль и Центральном вокзале. Она ведь русская, и тамошние сутенеры «с крючка сорваться» и «подняться» бы ей не позволили. Так что, зная о такой перспективе, она предложение дуггура приняла сознательно.
– И ведь не обманул, – со странной усмешкой сказала она.
Для Скуратова слова женщины звучали примерно как страницы из купринской «Ямы». Он, вдобавок, вырос в мире не в пример более «вегетарианском», чем ГИП или близкие к ней параллели.
После этих откровений ни мраморная грудь Надежды, несмотря на возраст и несколько родов такая же тугая и высокая, как у пресловутой Венеры, ни ее почти не прикрытые бедра и живот Виктора не возбуждали. Он думал лишь о том, как ей помочь. Забрать отсюда и разорвать порочный круг судьбы, придумавшей ей такую беспросветную и унизительную участь.
– Пойдешь с нами домой? – спросил он ее, за несколько секунд все прикинув и взвесив и неожиданно перейдя на «ты».
– А там я что буду делать? – грустно улыбнулась «баронесса», несомненно, тронутая его порывом, но куда более трезво смотрящая на вещи. – Через сто лет после своего времени? С такой биографией, без профессии и средств. Ты же меня замуж не возьмешь?
– Почему нет? – удивился Скуратов. – И на разведенных женятся, и на вдовах, на всяких… Другое дело – не знаем мы друг друга, и характеры могут оказаться прямо противоположными. А занятие ты себе найдешь. Мы тебе найдем… И не только отдаленное будущее у нас. Есть путь и прямо в твою Россию. Там, где белые победили и жизнь если не сказочная, так близка к сказке, что эмигранты себе придумали… Пойдем. Не пожалеешь. Лишь бы муж отпустил… А то с боем прорываться… Мои друзья могут на такое не согласиться. Дипломатия! – Он весьма примитивно выругался.
– Так ты вправду, что ли? – в голосе женщины прозвучали одновременно и удивление, и что-то вроде насмешки, и глубоко затаенная надежда – а вдруг «земляк» не врет?
– А как же? – в свою очередь удивился Виктор.
– Ну… Тогда можешь не беспокоиться. Скажи завтра, что ты хочешь меня себе забрать, – он не откажет. Может какой-нибудь несерьезный выкуп попросить. Символически. А я скажу, что мы с тобой уже… Если вас здесь считают равными по положению, этого достаточно. Любой «высочайший», соблазнивший женщину такого же «высочайшего», становится ее хозяином. Такое здесь бывает, хотя и крайне редко… А там хоть убить может, натешившись, никому никакого дела…
– Да, порядочки у вас, – покрутил головой Скуратов. – Но я тебя пока «соблазнять» не буду. Вдруг на Земле тебе кто-то больше меня понравится…
– Как знаешь. После того чем мне тут заниматься приходилось, все остальное так же невинно, как поцелуй в щечку на Пасху…
Надежда, наконец поверившая в серьезность намерений Виктора, подробно разъяснила ему, как именно следует вести завтрашний разговор, еще раз подчеркнув, что он обязательно должен заверить хозяина, что в течение этой ночи неоднократно вступал с нею в связь, причем в деталях объяснила, где и в каком коридоре они вечером встретились. И как Виктор, ссылаясь на разрешение хозяина, сказал ей, что безумно ею очарован, и тут же повлек в свою комнату. А она, как послушная жена, выполнила распоряжение мужа.
– Если он спросит, каким именно образом я тебя ублажала, придется ответить. Это по обычаю. А ты ведь не сумеешь…
Скуратов смущенно пожал плечами.
– Значит, мне все же придется тебе объяснить, как это делается здесь… Иначе наш план сорвется. А я уже настроилась еще раз повидать Родину, Севастополь…
– Интересно люди живут, – со странной интонацией произнесла Ирина. – И что ж там у них в этом деле особенного?
– Мы не спрашивали, Виктор не говорил. Но утром все так и вышло, как ему Надежда обещала. Они, так сказать, признались, и Виктор попросил отпустить женщину с ним. Хозяин долго веселился, действительно поинтересовался, как все произошло и согласен ли господин, что он, Мазввлитананга неплохо ее отдрессировал. Скуратов ответил ему гневной отповедью. Короче, свобода соотечественницы стоила золотого хронометра со всякими наворотами. По меркам дуггура он наверняка стоил дороже «отработанной» жены…
Ну а мы, когда узнали про «ход времени» и судьбу, что нам приготовили, решили немедленно сматываться. Прямо оттуда. Антон по наводке между андроидами свой переход открыл, и мы в тот же час – на Корсику. Там объяснили потерявшим дар речи от изумления нашими способностями «высочайшим», что дела требуют нашего немедленного отбытия на Родину. Не давая противнику опомниться, подписали и тут же ратифицировали «мирный договор» и – сюда. Так что благодари судьбу и Надежду, Рипов ван Винклей из нас не вышло[43].
Только вот беда, английских костюмов у нее в гардеробе не водилось, и красавица прибыла к нам на базу все в той же эротической хламиде. Пришлось переодевать ее в солдатское белье и камуфляж…
Ирина еще раз хмыкнула. Андрей так и не понял, в каком именно смысле. Повернулась к нему спиной и начала надевать светло-песочное, переливающееся, как муар, платье с весьма смелым декольте. Наряд дополнили изящные, из кожи какой-то тропической змеи туфельки на невероятной высоты шпильках. Давно он не видел подругу столь вызывающе-элегантной. Словно собралась эпатажно покорять действительно великосветскую компанию.
– Как тебе? – Ирина крутнулась на одной ноге, невесомая юбка взлетела почти до пояса.
– Чего-то, по моему, не хватает, – задумчиво сказал Андрей, придирчиво ее рассматривая.
– Чего же? – она спросила с ощутимой долей вызова в голосе. Мол, я так старалась, и чего же тебе еще?
– Да вот, например…
Новиков достал из кармана замшевый мешочек, похожий на кисет.
Он, конечно, не мог вернуться из дальних странствий без подарка, но не стал вручать его сразу, ждал подходящего момента. Сейчас – в самый раз.
– Что это? – как и всякая женщина, Ирина была любопытна и подарки обожала, хотя и жила в условиях почти абсолютной доступности всего. Тем сложнее было угодить и тем ярче оказывался эффект, если получалось угадать и удивить.
– Да, подвернулось там случайно…
Она распустила тесемки, достала подарок, несколько секунд присматривалась, потом ошеломленно ахнула:
– Да не может же такого быть… Просто не бывает…
На ладони у нее лежал как бы кулон – треугольный, размером со спичечный коробок камень, пронзительного ярко-фиолетового цвета, ограненный асимметрично, чего не делается европейскими ювелирами, и словно бы по законам какой-то другой геометрии. Внутри камня вспыхивали синие искры, как в звездном сапфире. Оправлен он был в золото, но выглядела оправа словно розетка, сплетенная из множества стебельков неизвестной травы, слегка пушистой и с массой миниатюрных, хоть в лупу рассматривай, заостренных листиков.
Подвешен был кулон на столь же изящной и необычной золотой цепочке странного плетения.
Сразу даже у не слишком искушенного в искусствах человека возникало понимание, что изделие это какое-то «нечеловеческое». При первом же взгляде становилось как-то не по себе. Будто от некоей абстрактной «неправильности». То есть у физиков «абсолютно черное» или «абсолютно твердое» тело, а здесь – обретшая материальное воплощение несообразность мироздания со здравым смыслом. Новиков именно так подумал сразу, как только в подобии ювелирной мастерской на Корсике увидел эту штуку.
– Ой, какое чудо! Я глазам поверить не могу! Такого ведь просто не бывает… – говорила она с непривычным у нее придыханием. Женщина, которой доступны любые ювелирные изыски, хоть из гробниц Тутанхамона и Нефертити, была в полном восторге.
– Давай-ка попробуем его надеть. – Новиков взял кулон из рук Ирины и аккуратно, чтобы не повредить прическу, двумя руками опустил цепь ей на шею. Размер оказался точь-в-точь, даже уши прижимать не пришлось.
Камень лег точно в ложбинку между грудей и будто бы даже отбросил на лицо особую подсветку. И глаза у Ирины оказались того же точно цвета. Магия какая-то…
Андрей с минуту смотрел на подругу не отрываясь, переводя взгляд с кулона на лицо и обратно.
Потом сожалеюще цокнул языком.
– Снимай. Не пойдет…
– Что? – не поняла Ирина.
– Камешек не пойдет. Это в натуре какой-то приворотный талисман. Если в нем выйдешь, вся компания, включая андроидов, только на твою грудь пялиться будет, а потом все закончится групповым изнасилованием… Так мне отчего-то кажется. Давай ты его только для меня надевать будешь, и то по особым праздникам. Знаешь, сама по себе эта штука такого впечатления не производила. А на тебе… Я, честно говоря, еле-еле себя в руках удерживаю. Да и то потому, что нас уже ждут, а я человек пунктуальный. Снимай… Какое-то прям «Кольцо всевластья». А ты как?
– Я бы тоже сейчас лучше дома осталась…
– Вот и ответ. Спрячь его подальше.
Ирина с сожалением сняла кулон и, убрав в мешочек, положила в керамический сейф.
Выходя из каюты, непроизвольно оглянулась.
– Страшноватая вещь. Где ты ее взял?
– По случаю, – хмыкнул Новиков. – Там по случаю можно много чего раздобыть. И мир там… Страшноватый. Хорошо, что мы, кажется, договорились. Они к нам сюда – ни шагу больше. Мы к ним тоже. Контакты, если что, – на нейтральной территории…
– Да у нас на Валгалле. У них туда давно дорожка протоптана. Правда, теперь, когда Даяна Базу эвакуировала, им там делать особенного нечего. Именно что только на переговоры…
Почти все без исключения андроиды (кроме несущих ходовую вахту) были настроены на специальности поваров, официантов и барменов. Все же в главном ресторанном зале обслуживать пришлось двести с лишним человек, на прототипе «Валгаллы» – «Мавритании» пассажиров первого класса насчитывалось примерно столько же.
Меню и программу банкета целиком скопировали с аналогичных мероприятий конца девятнадцатого века. Тогда люди, лишенные большинства технических достижений века двадцатого, достигли вершин в умении развлекаться «естественным способом»: вкусно есть, изысканно выпивать, наслаждаться «живыми» видами искусства, флиртовать напропалую. Тогда даже члены императорской фамилии имели официальных любовниц, пассий, «побочных» жен, что не встречало никаких серьезных протестов. Скорее – напротив.
Именно в те годы была придумана поговорка: «Люблю повеселиться, особенно пожрать». Так оно и было – в дореволюционном Петербурге ежедневно давалось множество балов, обедов, ужинов и прочих мероприятий того же типа. И «светский человек» в середине дня напряженно размышлял, перебирая пачку приглашений, будто решал в уме пасьянс – как бы и не обидеть никого нужного и важного, и время со вкусом провести, и какую-нибудь пользу из своего выбора извлечь. Где в карты удобнее выиграть, а где – о подряде на постройку Кругобайкальской железной дороги договориться. Или богатую и красивую невесту себе приискать.
Как и на всяком большом балу, где наряду со старшими членами «Братства», боевыми офицерами «Первого ударного батальона», призыва еще двадцатого года, присутствовало и около полутора сотен даяниных «курсантов», «курсанток» и специалистов «подразделения обеспечения учебного процесса», никакого консолидированного коллектива создать не удалось, да никто к этому и не стремился. Рассажены гости были по «ранжиру» и «интересам», кто за длинными общими столами, кто за сгруппированными в нужном порядке четырех– и восьмиместными столиками. Выбор напитков и блюд был весьма обширен – десяток поваров высшей квалификации потрудились на славу, вдобавок с помощью дубликатора можно было в ассортименте получать уже готовые «кулинарные композиции». В нескольких примыкающих помещениях на фуршетных столах располагались напитки и холодные закуски, рядом был танцевальный зал, а в обеденном – на эстраде у дальней стены играл голографический оркестр, исполнявший всевозможные мелодии как согласно собственной программе, так и по заявкам гостей.
Вначале, само собой, было сказано несколько спичей и тостов общего назначения, разъясняющих тему и повод данного собрания, в меру способностей и настроения тостующих прославляющие подвиги главных виновников торжества, «за присутствующих здесь дам», конечно, а дальше – на усмотрение присутствующих, по группам и интересам. Всех удивил капитан Ненадо, обычно стеснявшийся своего унтер-офицерского происхождения и в «господских компаниях» предпочитавший не засвечиваться.
Видимо, общая атмосфера праздника, несколько больших рюмок водки, масса прелестных девушек вокруг, многие из которых впервые надели бальные платья вместо форменных костюмчиков, а также и присутствие тайно обожаемой «госпожи Даяны» его растормозили.
Он довольно связно поблагодарил «господ командиров», обеспечивших экспедицию и не допустивших потерь в этом опасном деле, своих офицеров, «с честью исполнивших долг у черта на рогах», и даже пожелал «милейшим на свете барышням» в ближайшее время найти своих суженых и обрести законное счастье не в боях «хрен знает с какой нечистью», а в уютных семейных покоях.
Капитан своим тостом сорвал аплодисменты, привлек внимание кое-кого из тех самых «барышень», и даже Даяна, как ему показалось издалека, посмотрела на него пристально и благосклонно.
– Слушай, – сказал Новиков Шульгину, – а Игнату пора полковника давать[44]. «За образцовое обеспечение» и вообще по совокупности. Нормально будет. Он в строю уже сколько?
– То ли с девятого, то ли с десятого года, – ответил Сашка.
– Во! Считай, век человек оттянул. А если со всеми зачетами и выслугами?
– Какие вопросы? Сделаем. Вон Алексею сейчас скажем, пусть представление Врангелю пишет. Ненадо – полковника и Георгия третьей степени, Оноли – штабса или сразу капитана. Сколько можно – с шестнадцатого года человек воюет, «вольнопером»[45] начинал. И всем, кто «в деле был», – по Владимиру с мечами.
Где-то после пятого тоста общее застолье начало рассыпаться, молодежь отправилась «освежиться» и потанцевать, а все члены «Братства» плюс Даяна, Лихарев и Эвелин, оба Ляховых, Татьяна с Майей, а также «гостья Надежда», перешли в расположенный через поперечный коридор от танцевального зала и палубой выше обширный «Сандаловый кабинет». Вся мебель и стенные панели были в нем выполнены, понятно, из натурального сандала, и общее оформление имитировало нечто усредненно-индуистское.
Теперь, в стороне от посторонних глаз, можно было наконец расслабиться, не теряя авторитета в глазах нижестоящих товарищей. Не только ведь «Quod licet Jovi…»[46], обратная теорема тоже верна.
Здесь Ирина и присмотрелась поближе к Надежде, о которой составила, со слов Андрея, определенное впечатление. Но удивительным образом после нескольких лет, проведенных в роли наложницы «высочайшего», и предыдуших двадцати эмигрантских она здесь чужой не выглядела. Как-то очень легко приспособилась. Держалась вполне по-светски, только сама в разговоры ни с кем не вступала. Отвечала, если к ней обращались, а так в основном слушала, улыбалась, с удовольствием пила настоящее «Голицынское» шампанское. Но по ряду деталей Ирина видела, что женщина пребывает в полушоковом, особого типа, состоянии. Она просто не верила до сих пор, что все происходящее – явь, а не навеянный галлюциногенами сон. И все свои силы направляет на то, чтобы не проснуться слишком рано.
Шутка ли – два или три дня назад еще была рабыней без каких-то светлых перспектив у «нелюдей» на далекой планете и вдруг вернулась не просто домой, а в счастливое детство. В атмосферу тех праздников «до войны», когда были живы родители и точно так же собирались по вечерам гости… Она тогда была уже достаточно большой, чтобы запомнить. И вот…
В компании, превышающей даже пять человек, связно рассказать о чем-то, а тем более о такой долгой и необычной экспедиции практически невозможно. Непременно будут перебивать, переспрашивать, начинать говорить о своем, будто бы имеющем отношение к теме, и так далее. Поэтому Ростокину, как наиболее опытному журналисту не только с международным, но и межпланетным опытом, доверили сделать самое краткое и достаточно информативное сообщение, минут на пятнадцать буквально. А завтра уже провести нормальное деловое совещание. С приглашением всех, кого это касается.
Сегодня – отдыхать и веселиться. Слава всем богам – в который уже раз, после очередных экспедиций и приключений, они опять собрались вместе, никого не потеряв, наоборот – в расширившемся составе.
Чего еще желать, какая бы погода и какие обстоятельства ни имели места «за бортом».
Покурив на кормовом балконе, Новиков вернулся в салон и под влиянием внезапно накатившегося настроения взял гитару, оказавшуюся, как пресловутый «рояль в кустах», на диване в дальнем углу. Кто ее сюда подложил? Воронцов, наверное, или Наталья, всегда предусматривающая самые неожиданные повороты сюжета. Кроме Новикова гитарой почти профессионально владела Майя Ляхова, да и еще кое-кто умел не только дворовые «три аккорда» бряцать. Вдруг возникнет желание что-то исполнить. Душещипательный романс, например.
А может, и Ирина расстаралась, зная его внезапные творческие порывы, и то, что балладами, то ли своими, то ли чужими, он любит создавать нужное настроение. Или – устранять ненужное. А суммарный накал психологического напряжения в компании сейчас довольно высок. И не только от радости встречи. Есть еще несколько объективных и субъективных факторов.
Опять же – «Валгалла», пиршественный стол, как же без скальда. Ну, будет вам скальд.
Андрей взял инструмент, присел на подлокотник ближайшего кресла, медленно выцедил предупредительно поданную Шульгиным чарку. Чтоб голос подправить и в настроение войти. Никто не знал, что он собирается исполнить, да и сам только что решил.
Перебрал несколько раз струны, прикидывая, в какой тональности аккомпанемент подойдет к тексту, и негромко запел:
– Подписан будет мир, и вдруг к тебе домой, – при этих словах он повернулся к Наталье и слегка ей кивнул, – к двенадцати часам, шумя, смеясь, пророча, как в дни войны, придут слуга покорный твой…
Несколько раз пророкотал струнами, как бы привлекая внимание слушателей и предлагая настроиться на серьезный лад:
Сделал короткую паузу, прикрыв ресницами глаза:
Баллада была длинная, но все слушали, затаив дыхание. Что это и чье, знали, пожалуй, только Шульгин, Левашов, ну и Воронцов, скорее всего. Даже Ирина и Лариса – вряд ли. Старой поэзией они не увлекались. А половина общества была вообще не из этой реальности.
Долгая-долгая пауза после последнего долго затихающего аккорда. Кто-то из девушек, кажется, Майя, издал сдавленный горловой звук, будто подавляя всхлип. Остальные молчали, пока наконец Воронцов не поднял наполненную рюмку.
– Ну ты, братец, умеешь поднять настроение. Как раз к случаю. Но вы вроде все вернулись? Тогда за тех, кто не опоздал!
– А что, друзья, – как бы возразил ему и одновременно поддержал Скуратов – после пережитых совместно испытаний уже вписавшийся в компанию, но все же бесконечно далекий и от времени написания этой баллады, и от психологического настроя автора и его героев. – Действительно ведь, на самом деле ни с кем ничего плохого не случилось, мы вернулись с огромным научным материалом, я даже не знаю, как это все повлияет на дальнейшее развитие…
– Повлияет, не сомневайся, – дернул его за полу куртки и заставил сесть Шульгин. – Только мы сейчас про другое, Игорь тебе потом тонкости сюжета объяснит. А у тебя есть, на что еще внимание обращать…
Он посмотрел на Надежду. Та, кстати, поняла балладу очень правильно. Сама совсем недавно, если на пальцах посчитать, и Мировую войну пережила, и Гражданскую. И отца, такого же, «в шинели и ремнях», помнила очень ярко.
Ростокин действительно смог бы объяснить другу его не то чтобы бестактность, но определенную эмоциональную тупость, в очередной раз невзначай проявленную. Игорь успел пожить в этом мире много где, в том числе и в РСФСР ранних нэповских лет, когда до новой Гражданской войны было рукой подать, да и о других войнах знал не понаслышке. Оттого лучше своего друга-логика понял цель и смысл выбора Андреем именно этой баллады для праздничного вроде ужина. Как раз чтобы чувствовали и не забывали, по какому краешку они все ходят.
Постепенно настроение общества вернулось к норме: все же они собрались на праздник встречи, но то, чего Андрей хотел, он достиг – их почти потерявшая ту душевную связь компания (слишком долго все занимались собственными интересами, часто – весьма противоречивыми), что объединяла всех в начале «эпопеи», снова ощутила свое базовое единство, причастность к «одной серии». Да и в полном составе они слишком давно не собирались. Как ни считай, а с разными вариациями два года – это срок. Похоже – получилось. Да и новым «братьям и сестрам», которые из других времен и реальностей, полезно. Послушать и задуматься.
Еще не меньше получаса под беспорядочные тосты все говорили со всеми, как и бывает в достаточно многолюдном застолье, где собрались хотя и хорошо знакомые, но давно не видевшиеся люди и отсутствует «организующая и направляющая сила» в лице тамады. То начинали обсуждать, что творится «за бортом», причем для многих там существовало не только другое время, но и другая реальность. Да, вдобавок, и точка зрения на суть и смысл событий у многих была разная.
Вдруг кто-то прерывал одну тему, соседу по столу казавшуюся важной, и начинал говорить о вещах сугубо личных. Кто-то вспоминал новый анекдот, посвященный неизвестной другим ситуации, или актуальное высказывание политического деятеля, большая часть компании о каковом и не слышала.
То есть происходило то, что и должно обычно происходить. Следующим этапом «мероприятия» должна стать «селекция» компании по вкусам и интересам, стихийная разбивка на группы по три-четыре человека, ибо в большем составе единомыслия и единовкусия достигнуть невозможно, а их тут было почти двадцать человек, кое в чем разительно не похожих и даже малознакомых. Что так уж объединяло, допустим, Даяну, Надежду, Эвелин, Майю и Татьяну, кроме принадлежности к женскому полу и опосредствованных связей через близких и не очень мужчин? Или Кирсанова с Лихаревым? Хотя нет, этих как раз объединяло дореволюционное прошлое и взаимный профессиональный интерес.
Кажется, один Фест чувствовал себя совершенно свободно со всеми, хоть со старыми «братьями и сестрами», хоть с новыми «кандидатами»… Это уже спецподготовка в «школе Шульгина» сказывалась. И еще ему было интересно наблюдать за своим учителем после затянувшейся разлуки. Нет, в самом Шульгине откуда быть изменениям, если он прожил «там» всего пару месяцев, а вот САМ-то он не видел его почти два года. Отсюда и разница. Это как заново перечитать через время давно знакомую книгу.
Банкет затянулся почти до утра. И коловращение жизни происходило. То Новиков стоял с Шульгиным, Ириной и Анной на балконе, любуясь кильватерной струей в ночном океане, то сидел за столиком с Берестиным, Сильвией и почему-то Ларисой без Олега, и они обсуждали британо-югоросские и англо-советские проблемы прошлого (в данный момент – текущего) века.
Потом пригласил на танец Даяну, и они очень лихо исполнили «семь-сорок», единственное, что Андрей умел почти профессионально, за исключением медленных переступаний в обнимку с девушкой, что в его студенческие годы называлось «танго». С азартом их примеру последовали только «современники», поскольку в иных реальностях этот национальный танец популярностью не пользовался.
Снова выйдя на свежий воздух под ручку с «главной аггрианкой», успев при этом сделать успокаивающий жест Ирине (мол, по работе нужно, ничего личного), Андрей прямо спросил, может ли Даяна со своим «Большим гомеостатом» помочь Надежде адаптироваться?
Аггрианка вкратце знала историю гостьи и сразу перешла к деталям – в чем именно проблема?
– В том, что, после восьми лет с тем жеребцом, да еще под какими-то психовоздействиями, она ни с Виктором, ни с любым нормальным мужиком жить не сможет. Мне мой коллега-дуггур так прямо и сказал. Это сейчас она в некотором шоке от изменения судьбы, от встречи с русскими людьми и даже белогвардейцами. Но натура свое возьмет, не сомневаюсь. Я в отличие от Скуратова логик, может, и хреновый, но психологию знаю, без ложной скромности. Да и физиологию достаточно.
Так вот чтобы у нее могла «человеческая» жизнь начаться, нужно Надежду подлечить. И память, и биохимию ей скорректировать. Ну и анатомию, если потребуется. Чтобы она все, связанное с этой сферой, забыла и превратилась в нормальную женщину, после нескольких лет не слишком удачного брака решившуюся на вторую попытку. Чтобы сколько нужно эндорфинов у нее вырабатывалось от самого обычного общения с обычным мужчиной. И никогда, понимаешь, никогда не вспоминала, как там это у дуггуров. Лариса только издалека их психический зов почувствовала, без всякого реального контакта, и то до сих пор слегка контуженная… Сделаешь?
– Ох и альтруист вы, Андрей Дмитриевич, – усмехнулась Даяна и слегка прикоснулась пальцами к его руке. – Я не забыла, как вы меня не смогли запертую в железной каюте бросить. После всего, что я с вами сотворила. Да и потом… Все сделаю, не беспокойтесь. Завтра же с утра прикинусь корабельной докторшей и приглашу вашу протеже на профилактический медосмотр. Может, ее прямо сразу девственницей сделать, столько лет ждавшей принца-академика?
– Не валяй дурака, Даяна, не знаю, как по отчеству. Достаточно создать ей ощущение обычной разведенной дамы, обдуманно и спокойно влюбившейся в нового знакомого и сохранившей крайне неприятные воспоминания о предыдущем замужестве за дуггуром, который приличную девушку с нормальными потребностями раз в месяц мог кое-как удовлетворить…
– Договорились…
Даяна бархатно рассмеялась и снова провела теплой ладонью по руке Андрея.
Уже начало слегка рассветать, когда Новиков с Ириной спустились к дверям ее каюты.
– Ох и набрался ты сегодня, милый, – с легким осуждением сказала она. – Я и не помню, когда ты таким был. В студентах еще, наверное.
– А что? После благополучного возвращения – имею полное право! Хоть иногда нормальный кайф почувствовать. Я для того гомеостат и снял. Надоело из себя дурака-дегустатора изображать, что коньяком рот полощет и сплевывает…
– Понятно, – вздохнула Ирина. – Только не стоит повторять это упражнение слишком часто…
– Да я что, это ж минутное дело, – Андрей достал гомеостат и защелкнул его на запястье. – Полчаса – и порядок. Ну ты давай, открывай дверь, хочу еще на тот камушек полюбоваться. Без помех…
Глава пятая
С утра на пароходе, на верхних его палубах, было пусто и тихо. Только в ходовой рубке и на мостиках иногда были слышны голоса вахтенного штурмана, рулевых и сигнальщиков. Большая часть «братьев и сестер» отсыпались в своих каютах после классического «банкета с танцами до утра». Именно так протекала светская жизнь в Петербурге до начала капиталистической эпохи с ее новыми трудовыми ритмами и почти всеобщей занятостью. Когда жили по обычаям, описанным и Пушкиным, и Лермонтовым. Каждый вечер – театр, концерт, клуб, ресторан, балы «по поводу» или без всякого повода – заведено в этом доме собираться по средам, в этом по пятницам, а в том по понедельникам. Ну и собираются бог знает сколько лет подряд, как было заведено при Александре Благословенном, а то и отце его, Павле Петровиче. Где-то просто играли в карты, как в «Пиковой даме» описано. Но почти всегда – до утра. Питерская погода располагала, особенно зимой. Смеркается рано, рассветает поздно, так что же – по полгода с закатом ложиться, едва успев пообедать? И спать по пятнадцать часов каждый день? Нормальному человеку выдержать такой биоритм невозможно, вот и развлекались, как тогдашний уровень жизни позволял.
Да еще и утро выдалось как по заказу, сырое, туманное, с дождем, моросящим из туч, таких низких и плотных, что солнечный свет кое-как пробился сквозь них лишь часам к десяти. Совсем как в зимнем Петербурге.
Но, как и там, что в зимние утра, что в летние – большинство людей занималось положенными делами с самого раннего часа. «Курсовые офицеры» даяниного учебного центра подняли своих воспитанников в семь утра, как обычно (но и по дортуарам[48] их отправили с бала ровно в полночь), и они приступили к предусмотренным расписанием занятиям в специально отведенных помещениях нижних палуб. Сейчас в основном курсантки и курсанты занимались общевойсковой подготовкой и специальными видами боя, которые им преподавали офицеры-рейнджеры и некоторые роботы, запрограммированные на преподавание в далеком двадцатом году[49]. Еще несостоявшиеся координаторы изучали «обстановку», как у разведчиков называется весь комплекс сведений, касающихся норм, правил и обычаев жизни в стране или на объекте, где предстоит работать. «Обстановка» включает в себя что угодно – от манеры держать сигарету, расплачиваться в магазине, зашнуровывать ботинки до анекдотов, принятых в определенной среде (в армейской одни, в кругу художников-геев – совсем другие), до общепринятой реакции на те или иные жизненные моменты. Например, царскому офицеру невозможно первым извиниться перед наступившим ему на ногу штатским или в уголовной среде не потребовать в должной форме «ответа за базар».
Незнание таких мелочей зачастую стоит разведчику свободы, а то и жизни.
К этим занятиям Даяна договорилась с Фестом привлекать свободных от службы «валькирий», поскольку они были, во-первых, «своими», которым не нужно было приспосабливаться к специфике своих учениц, а во-вторых – зарекомендовали себя великолепной приспособляемостью к «обстановке», ранее им незнакомой, что в императорской России, что в Российской Федерации.
Не сделал своим бойцам снисхождения и Ненадо. Невзирая на то что бал для многих закончился в пять, а то и позже, в восемь (пусть благодарят, что не в семь), он устроил предусмотренный уставом развод и затем – занятия по строевой подготовке и спортивные соревнования, сославшись на то, что за время «командировки» утрачено «боевое слаживание» между взводами, несшими боевую службу «вдали от Родины» и «морально разлагавшимися» от безделья, да еще и в постоянном общении с красивыми девками.
Только после обеда Новиков объявил по громкой связи, что в шестнадцать часов в таком-то помещении состоится лекция-доклад об итогах работы возвратившейся с «другой Земли» экспедиции, куда приглашаются все желающие, а «учащиеся и военнослужащие» – в полном составе, кроме занятых в нарядах.
Собственно вводную лекцию, на полных два академических часа, прочитал Новиков, успевший в какой-то мере обобщить и систематизировать материалы, собранные исследователями по отдельным темам. В какой-то мере у него получилось нечто вроде того, что раньше называлось «лекцией о международном положении». Если кто еще помнит, это был в советское время, особенно до массового внедрения телевидения, крайне популярный жанр. Такие лекции читались на партийных собраниях, в рабочих и сельских клубах, открытых площадках в парках «культуры и отдыха». И народ, что интересно, ходил на них добровольно и слушал с живым интересом.
Вот и сейчас Андрей, вспомнив собственный опыт нештатного пропагандиста в системе «марксистско-ленинской учебы», постарался подать материал живо и интересно, учитывая, что большинство его слушателей – молодежь и югоросские офицеры, не слишком знакомые с теорией Эверетта и иными, касающимися параллельных и совмещенных пространств и времен. Но в то же время и предельно научно, если здесь вообще можно было говорить о какой-то науке. Оказалось – можно, причем как о той же «марксистско-ленинской».
Несмотря на десятилетия самой оголтелой критики, вплоть до полного отрицания, Новиков за прошедшее время никакой другой теории, столь же связной и логически безупречной, не увидел. Кроме «Исторического материализма», все объяснившего насчет «Происхождения семьи, частной собственности и государства»[50], общественно-экономических формациий и дальнейших путей развития человеческого общества.
Пролистал он года четыре назад, вернувшись на ГИП, книжки Фукуямы, Хантингтона, Медоуза с соавторами[51] и понял, что «буржуазные политические науки» не создали (за двадцать пять лет его отсутствия в этом мире) ничего по-настоящему «научного» или хотя бы «правдоподобного». Полным идиотизмом показался ему вердикт Фукуямы, сделанный в девяносто втором году, – «после крушения коммунизма мировая история закончена в своем развитии, идеологическое развитие человечества завершено, поскольку во всем мире воцаряется универсальная западная либеральная демократия как окончательная форма правления!».
Эти слова показались Новикову абсурдными сразу, а дальнейший ход событий подтвердил его правоту.
А вот в марксистскую теорию вся история и жизнеустройство «Дуггурляндии» вполне укладывались. Хотя бы как экзотическая форма доведенной до крайности идеи эксплуатации человека человеком. Если по Марксу – Энгельсу капитализм превращал человека в инструмент извлечения прибавочной стоимости лишь экономически, оставляя ему право и на отказ от этой роли, и на социальную революцию (хотя и всячески препятствуя реализации так называемых демократических лозунгов), то «дуггуризм» просто превратил девяносто девять процентов населения в полностью лишенных разума человекообразных насекомых.
Его доклад неоднократно прерывался тем, что в стенограммах обозначалось значком «оживление в зале», и множеством вопросов, задаваемых с места прямо по ходу выступления. У слушателей просто не хватало терпения дождаться окончания лекции и предусмотренных регламентом «ответов на вопросы». Но Андрея это не смущало. Так выходило даже интереснее, а заодно по ходу дела у него возникали совсем свежие идеи и мысли, которых не было еще час или полчаса назад.
– Разумеется, – говорил Новиков, – никакого «братства цивилизаций» у нас не получится. По всем параметрам мы настолько далеки с даже наиболее «человекоподобными» представителями дуггуров, что речь может идти только о подобии нейтралитета, не скажу даже – «дружественного». Вооруженного, не более.
Мы кое-как сумели объяснить «двоюродным братьям», что продолжение того, что мы считаем экспансией, а они – «освоением прилегающих территорий», может закончиться только уничтожением всей их цивилизации. С использованием имеющихся в нашем распоряжении «негуманных средств», включая ядерное оружие, до которого они, по счастью, не додумались.
– Блефовали, конечно? – спросил Берестин.
– Я бы так не сказал. Понятно, что атомную бомбу или хотя бы фосфорорганические газы мы применять не станем, но о том, что для нас такое дело морально вполне приемлемо, сообщили. И кое-какие документальные фильмы продемонстрировали. В смысле, что если мы по отношению к друг другу такие «отмороженные», то уж судьба каких-то в реальности не существующих «псевдохомо» нас интересует в самую последнюю очередь. А Антон намекнул еще и о возможных санкциях со стороны Галактического содружества, которое о так называемом либерализме и «праве наций на самоопределение» и понятия не имеет. Выселят, как товарищ Сталин некоторые народы, весь их кагал на отдаленные планеты, где можно выжить только с кайлом или лопатой в одной руке и автоматом в другой, – и жалуйтесь потом хоть во Всемирную Лигу сексуальных реформ.
– А что, «галакты» действительно практикуют подобные методы? – спросил с места в первом ряду Секонд.
– Подобные случаи имели место, – не стал вдаваться в подробности Антон. – И дуггуры с их ментальными способностями убедились, что я говорю правду. То, что это случалось очень-очень давно и с негуманоидами, – уже несущественно…
– А как же с «генетическим материалом», – спросила Даяна, появившаяся в зале через полчаса с лишним после начала доклада. С ней пришла и Надежда, как показалось Новикову – выглядевшая уже несколько по-другому. Утомленной, хотя это могло быть следствием вчерашней, достаточно веселой ночи, но главное – спокойной. По-человечески. Не чувствовалось в ней «иномирного» налета, и отсутствовал неестественный, как после дозы кокаина, блеск в глазах.
Они сели рядом, на крайние стулья средних рядов, ближе к «курсанткам» и поодаль от группы «братьев и сестер».
– Тут имеются не то чтобы сложности, но вопрос, так сказать, этический, – вместо Новикова снова ответил Антон, как бы в продолжение своих предыдущих слов. – Этим ребятам на самом деле без притока свежего, исконно человеческого «материала» не выжить. Заигрались они в практическую генетику, которая может многое, но, увы, не все. «Задний ход», например, у нее не предусмотрен. Это вопрос, конечно, не одного и не двух поколений, но вырождаться они начнут. Безусловно. Их собственные «женщины», а также и большинство мужских особей независимо от «умственных» способностей являются носителями массы «рецессивных генов», которые невозможно ни ликвидировать, ни надежно подавить.
Они – как диабетики. Живут только при помощи постоянных инъекций. Иначе… – он развел руками. – Кроме того, их «разумное» общество выстроено именно как «гаремная», полигамная институция, рабовладельческая в своей основе. Вне него этот социум нежизнеспособен.
Невозможно в обществе с многотысячелетней культурой, пусть нам и глубоко чуждой, вдруг насадить капиталистический способ производства и одновременно моногамию в условиях уже описанного нами «полового диморфизма».
Представьте, если у нас, вот в этом коллективе, – Антон обвел рукой зал, где две трети присутствующих составляли красавицы курсантки и женщины постарше, но столь же привлекательные, – мы с сегодняшнего дня строго запретим известный тип отношений, наших прекрасных дам высадим на берег в ближайшем порту, а вместо них примем на борт вдесятеро большее количество самок шимпанзе…
Форзейль переждал волну смеха, выкриков с мест, в том числе и возмущенных.
– Вот видите. А у нас здесь всего лишь временно собравшийся коллектив, имеющий возможность безболезненно рассредоточится и продолжить привычный образ жизни на берегу, а дуггуры такой возможности не имеют. Ни физически, ни психологически. Кроме того, если отцы перестанут отдавать сыновьям своих «отработанных» жен, сыновья начнут убивать отцов. И организовывать собственные «экспедиции на Землю». Где большая часть рискует быть уничтоженной подготовившимися к подобным набегам «аборигенами». При их численности и типе семьи – уцелевшие очень скоро вымрут в своих замках, будут уничтожены немного более жизнестойкими и примитивнее организованными «мыслящими» или сожраны неподвластной им фауной…
– Так что же, ты предлагаешь наладить с ними взаимовыгодный обмен? – агрессивно спросила Лариса, имеющая личный опыт общения с «ангелами». – Торговлю живым товаром? Да я…
– Не заводись, – намеренно лениво, скучающе ответил Шульгин. – Мы все уже согласовали. К нам они больше не сунутся. А в других реальностях, нам неизвестных, – пусть резвятся. Ты уверена, что там не найдется масса девиц, да и вполне зрелых дам тоже, которые на определенных условиях согласились бы…
– Мало ли что! На любое извращение желающие находятся, но это не значит… У нас, слава богу, не Европа. – Лариса была иногда на удивление категорична и консервативна в своих взглядах. И противоречива. С одной стороны – моментами почти феминистка и ревнительница строгой морали, с другой – большая любительница ни к чему не обязывающих сексуальных забав и психологических интриг. Женщин «легкого поведения» категорически не терпела, считая, что ее собственные приключения к этому никакого отношения не имеют и означают совсем другое.
Вот и сейчас она зацепилась за вроде бы несущественный на общем фоне вопрос. Какое ей, в сущности, дело до того, каким образом впредь будут удовлетворяться репродуктивные потребности столь ненавистных ей дуггуров? Впрочем, в этом, наверное, все и дело – она их настолько ненавидела, что вполне поддержала бы меры по полной изоляции с дальнейшей ликвидацией этого зловредного народца.
И ей, конечно, совсем были безразличны судьбы тех «сучек и стерв», которые добровольно шли бы в шлюхи к дуггурам. Она точно так относилась и к соотечественницам в те, еще советские времена выходившим замуж за студентов из «братских стран», чтобы только уехать из Союза за границу, хоть бы и в Йемен или Сомали. В возможность так называемой «любви» между русскими девками и афроазиатами она категорически не верила. Слишком разные менталитеты. В койке поваляться – это понять можно, а чтобы семейно жить – простите великодушно.
– Этим вопросом мы займемся специально, – пресек дальнейшие, вполне уже назревшие споры Новиков. – Создадим специальную комиссию, назначим тебя, Лариса, ее председательшей. Ты же там, в рэсэфэсээрии[52], кроме прочего, и всякими женсоветами занимаешься, борьбой за права работниц. А асоциальные элементы? Подумаешь, что лучше – в зоны их отправлять, в Воркуту на «общие работы», к стенке ставить, или все же – туда? Многим понравится. Не хуже, чем в женах у султана Брунея… Мужики мощные, сама видела, жилплощадь не лимитирует, и любые извращения даже приветствуются…
– Да пошел ты… Знаток извращений, – полыхнула она взглядом, но одновременно проскочило в ее глазах и выражении лица кое-что другое. Вполне практичное. Воображение у нее было великолепное, и жизненный опыт – дай бог каждой. Слова Андрея угодили в точку, и она уже начала прикидывать, какие интересные варианты вырисовываются.
– А с венерическими болезнями у них как? – неожиданно поинтересовалась она.
– Не слышал, – честно признался Андрей.
– Европейцы до Колумба тоже не слышали…
Кто-то засмеялся, сообразив, о чем речь, кое-кто из дам «тонкого воспитания», вроде Натальи и Анны, поджал губы.
Да тут еще Фест сострил:
– А также можно наладить массированную переброску хорошо подготовленной агентуры в целях последующей организации у дуггуров пролетарской или какой-нибудь другой революции.
Посмеялись, однако у многих отложилась не такая уж абсурдная идея специалиста по «стратегии непрямых действий».
– Видите, как нас на частности заносит, – сказал Новиков. – Так мы и до утра буксовать будем. Давайте я совсем вкратце подытожу, а потом каждый отчет напишет по своей теме и почитают все. Можно даже в виде монографии «Для служебного пользования» издать.
Вот, например, – интересная деталь. Не ошиблись мы с самого начала, правильно сообразили, что не зря у них и автоматическое оружие есть, и боевые «медузы»… Воюют они, и довольно долго, не одно тысячелетие. Точно по законам «базовой теории феодализма». Все против всех. Барон против другого барона, аналоги наших герцогов создают большие, даже по нашим масштабам, коалиции. В тамошней Южной Америке имеется нечто вроде феодальной конфедерации…
– И ради чего они воюют? Есть какой-нибудь весомый повод? Что делят? – профессионально заинтересовался Берестин. – Если, по вашим же словам, цивилизация биологическая, с полузамкнутым циклом, никаких экономических предпосылок не просматривается. Борьба за какие-то «невосполнимые ресурсы»? Или противоречия идеологические?
– Если в детали вникать – долго говорить придется. Александр тебя в индивидуальном порядке просветит. А вкратце – по большей мере от скуки. Что еще феодалу делать, как в гареме утешаться и воевать с себе подобными? Науками «мыслящие» занимаются, прикладным дизайном тоже они. Экономики в марксовом смысле нет, так что и на финансовом поприще себя не проявишь…
– Не совсем верно, – вставил Шульгин. – Есть у них серьезная причина воевать, только генштабистами у них тоже «мыслящие» числятся. Те «высочайшие», с кем ты в основном общался, во многие «мелочи» просто не вникают. И общепланетной прессы у них нет, информация распространяется по закрытым для большинства каналам. Не потому, что секретная – неинтересная большинству всего лишь. Какие в наше время в СССР тиражи журналов «Работница» и «Крестьянка» были и «Зарубежного военного обозрения»?[53] А я до документов добрался, какими их «вояки» обмениваются. Спасибо, Виктор помог по-быстрому машинный перевод наладить. Так судя по тому, что я узнал, – ожесточенность войн у них запредельная. Как между двумя муравейниками. Без намека на возможность мирных переговоров. Отсюда и тактика, что они против нас здесь применяли…
– Но вот только настоящего военного искусства там нет, – негромко вставил Ростокин. – Ни стратегии, ни даже тактики в нашем понимании. Миллион инсектоидов на миллион, кто кого раньше порвет, тот и победил.
– А монстры и пулеметы?
– Это для других случаев: когда феодалы персональные разборки затевают, замки друг у друга отнять пытаются. В разумных, так сказать, пределах. А «мировые войны» – дело почти неконтролируемое. Представь себе грабительский набег через всю Евразию, Берингов перешеек и до Бразилии примерно? Пешком. Отправляется в него несколько миллионов инсектоидов, тысяча-другая монстров и столько же «мыслящих». Бывает, несколько «высочайших» присоединяется, но из самых отмороженных, вроде Кортеса или Магеллана. Военно-морских флотов у них нет, «медузами» обходятся, да и тех не так много. Инкубационный период у них очень длинный, а «моторесурс» небольшой. Как у наших танков в начале войны. Они вообще больше для межреальностных перемещений приспособлены, чем для повседневных грузоперевозок. Не «Ан-2» и не «ГАЗ-51».
Затягивается такая операция на несколько лет. Потери в живой силе и технике – до девяноста процентов. Но им спешить некуда и «живую силу» беречь незачем. Они другими категориями мыслят. Те, кто вообще мыслит…
– Зато все при деле, – вспомнил избитое присловье Воронцов, слушавший все, относящееся к дуггурскому военному искусству, с большим интересом.
– Ну а цель-то какая? – продолжал недоумевать Берестин. – Из Европы пешком на Амазонку. Зачем?
– В Бразилии водятся обезьяны, подходящие для выведения монстров, а в Европе их нет. Монстры – они вроде мулов. При всех своих полезных качествах – не размножаются. Экспериментировали с медведями, но эффект не тот. То есть в итоге этой экспедиции «через три континента» можно добыть несколько сотен тестикул, а в них – миллиарды сперматозоидов. Лет на десять питомники материалом обеспечены… Потом по новой.
– А чего сразу живьем обезьян не привозят? Устроили бы питомники, да и все, – сказал Фест.
– Черт их знает. Есть какие-то тонкости. Не размножаются в неволе, допустим. Я не вникал, – пожал плечами Шульгин.
– Какая нам разница, на самом деле? – слегка капризным тоном сказала Сильвия. – Давайте не отвлекаться.
Судя по ее глазам и оживленному виду, встреча с пропавшими было друзьями и привезенная ими информация на аггрианку подействовали самым благотворным образом. Очевидно, она до последней крайности устала от событий последних лет в реальностях, оставшихся в ее распоряжении. Да и в самом деле – это как талантливой актрисе каждый вечер выходить на пыльную сцену провинциального театра, сотый раз произносить слова до невозможности заигранной пьесы.
Что в родной Британии ей было скучно, что в ситуациях, создаваемых то вольно, то невольно друзьями по «Братству», Игроками, Держателями. Кем там еще? Как угодно, а на второй сотне лет жизни эта самая жизнь начинает слегка приедаться, особенно если все время приходится вращаться в образе тридцатилетней красавицы. Хоть бы старухой побыть для разнообразия, вроде как Фаина Раневская, например, чьи записки Сильвия недавно случайно прочитала, неожиданно получив большое удовольствие.
А теперь появлялась какая-то новая возможность: с пресловутыми дуггурами ей раньше близко сталкиваться не приходилось. Еще в самом начале своей координаторской деятельности она знакомилась с отрывочными сведениями об этой непонятной и неисследованной форме «параземной» жизни. Но никаких контактов с ними за все время ее работы не случилось: некие потусторонние силы надежно блокировали грань между мирами, само наличие которых считалось довольно гипотетическим. Дуггуры признавались за реально существующих, но за таковых принимали исключительно «мыслящих», даже не догадываясь о физическом и интеллектуальном полиморфизме существ, скопом именуемых общим названием. А в целом они так и остались для сотрудников уровня Сильвии чем-то вроде мифологических существ и разного рода «нечистой силы», зафиксированной исключительно в человеческом фольклоре.
Точно так же этот мир был закрыт и для Антона с его гораздо вариабельными возможностями. Зачем, кем и почему – оставалось только догадываться.
Нельзя же предположить, что непостижимое явление, называемое Замком, о них ничего не знало. Значит, тоже исполняло запрет, наложенный на доведение информации, как в армии и спецслужбах в «сопроводиловках» пишут: «Ознакомить в части, касающейся…» Ни ее, ни Антона, выходит, эта «часть» не касалась. А «Братству» данная информация была прямо-таки всучена. Насильно, считай…
И «потайной мир» был вскрыт, как до поры валявшаяся в дальнем углу кухонного шкафа консервная банка. Или – как средневековая Япония. Удивительно своевременно, когда партия Игроков на этой Земле была не то чтобы сыграна, а банальным образом скомкана. «Все стали шуметь, подсказывать друг другу, кто-то украл ладью и спрятал ее в карман…»
Одним словом, Игроки поняли, что ничего путного здесь больше ждать нечего, да вдобавок Шульгин с Удолиным отключили свою ячейку от всей Гиперсети. Вот кое-кто и отпер своим ключом запасной вход и распечатал свежую колоду. Не вышло в шахматы, попробуем в покер или вообще в штос.
Принуждают отвлечься от земных дел и поучаствовать в новой игре и исследовании предложенного их вниманию мира? Сильные ощущения, судя уже по самым первым впечатлениям «землепроходцев», почти наверняка гарантированы.
– Мы и не будем отвлекаться, – успокоил Сильвию Новиков. – Но все хорошо во благовремении. Твое от тебя не уйдет.
– Ничье ни от кого не уйдет, – с наигранной многозначительностью изрек Шульгин.
Аггрианка, соглашаясь, кивнула, прикидывая, какой личный интерес она может извлечь из уже услышанного и того, что услышать только предстоит. Она ведь все же прирожденный координатор высокого класса, а не салонная дамочка, пусть и затеявшая интригу «с» и «вокруг» наследника британской королевской короны. Да и намеки на нечеловеческие мужские способности «высочайших» ее заинтересовали. Вдруг это на самом деле интересно? Надо будет расспросить познавшую все это «реэмигрантку» Надежду. Даяна с ней сегодня зачем-то работала. Можно и у той спросить, издалека этак, с намеком на возможность продолжить там прерванную здесь миссию.
Потом еще не меньше часа говорили об иных, не менее экзотичных подробностях «потусторонней» жизни. Посетовали, что Удолин не вовремя оттуда выскочил. Сам упустил много интересного, и помощь бы его пригодилась.
– Кстати, где он сейчас? – спросил Андрей, имевший к некроманту ряд непроясненных в свое время вопросов.
– Да с командой своей где-то в библейских местах шарятся. У них и кроме наших забот собственных интересов хватает. Или на Валгалле свои симпосионы[54] устраивают…
– Ладно, потребуется – пригласим. Для них работенка тоже есть. По профилю…
– Опять кого-то препарировать? – спросила Ирина.
– В том числе, – неопределенно ответил Андрей и предложил сегодняшнее заседание на этом свернуть. Докладчик утомился, слушателям нужно время на обдумывание полученных сведений и формулирование осмысленных вопросов и предложений. Посему до ужина все свободны.
– Впрочем, – добавил Андрей, чтобы не повторить вчерашней ошибки, – мои слова касаются только тех, кто действительно свободен. Прочие же пусть продолжают занятия «регламентом предусмотренные». Это относилось к даяниным питомцам и в какой-то мере – офицерам.
Несмотря на абсолютную надежность корабельных андроидов, Ненадо считал своим долгом поддержание среди вверенного ему личного состава (где многие бойцы были в одном с ним звании и даже выше) надлежащей воинской дисциплины и полной боеготовности. Поэтому дневальство в местах расположения личного состава и техники сохранялось в точном согласии с требованиями Устава гарнизонной и караульной службы.
Андрей сказал Шульгину, что неплохо бы промочить горло, уставшее от подзабытой уже специфической работы (лекции читать – это не то что за рюмкой анекдоты рассказывать), приличным пивом, которым всегда славился небольшой паб на прогулочной палубе. И попутно вспомнил одного весьма остроумного, любимого студентами за парадоксальность мышления и неожиданность поступков доцента. То были благословенные времена середины шестидесятых, узкий зазор между сталинизмом и так называемым «застоем», когда «надлежащие инстанции», сами изрядно устав от церберских функций, перестали считать юмор «подрывом устоев», а всякие невинные шуточки возводить в разряд «идеологических диверсий».
Михаил Валерьевич, читавший «историю буржуазных политических учений», всегда требовал, чтобы на кафедру перед началом лекций, послушать которые сбегалась половина Университета, даже с физмата, ставили стакан холодного несладкого чая. Но обязательно хорошего и крепко заваренного.
Однажды кто-то предложил схохмить и вместо чая поставить полный стакан недорогого тогда грузинского коньяка. Что и было сделано.
Доцент на десятой примерно минуте сделал маленький глоток, ни на йоту не изменился в лице и продолжил лекцию. С последними ее словами окончательно опустошил стакан, аккуратно поставил его на край кафедры и, уже выходя из аудитории, негромко, но так, что услышали все, бросил – «есть же на курсе светлые головы».
Эту историю Андрей вспомнил к тому, что прочитанная сейчас лекция требовала для смягчения горла тоже отнюдь не холодного чая.
Паб, куда они зашли, был скопирован, как и почти все на этом сказочном пароходе, с реально существующего в Лондоне лет триста подряд в одном и том же помещении. Когда-то, еще в годы совместной морской службы, Воронцов с Левашовым в нем побывали, и эта, по-нашему выражаясь, «пивная» их очаровала. Тогда же пришла в голову мысль: «А вот если бы в России тоже так – и трактир какого-нибудь Сойкина или Сайкина функционировал в том же подвальчике на углу Сретенки и Рождественского бульвара с дней царя Иоанна Грозного? Чтобы все знали, что на этих именно стульях и за этими столами сиживали последовательно опричники, бойцы-ополченцы Минина и Пожарского, возвращавшиеся из дальних странствий землепроходцы Семена Дежнева и так далее, вплоть до студентов-шестидесятников сначала девятнадцатого, а потом и двадцатого века[55]».
Ну и они сами посещали бы регулярно этот кабачок с древней почерневшей вывеской, и не было бы повода скрепя сердце признавать умение англичан создавать и бережно сохранять особую рафинированность своего «образа жизни». Какой ценой и за чей счет – в данном случае не так уж важно.
Но какая-то закономерность, а возможно, и высший смысл есть и в том, что на Руси подобное невозможно, даже в самом захолустном городке с тысячелетней историей, где никогда не было ни татаро-монгольского нашествия, ни войн, ни революций.
Когда занимались постройкой и оборудованием «Валгаллы», кто-то из них вспомнил про это местечко и решил воспроизвести. Пусть будет, для настроения. Чтобы все выглядело совсем уж достоверно, часть корабельного коридора была оформлена в виде отрезка узкой улицы, вымощенной брусчаткой, с соответствующими фасадами, окнами и вывесками, и даже освещение было подобрано так, чтобы создавать иллюзию сумрачного и туманного осеннего денька. Только что дождевая морось, смешанная с копотью каминных дымов, с подволока не сыпалась.
На пароходе имелось достаточное количество такого рода стилизаций, на любой вкус, благо на девяти жилых палубах с четырьмя километрами продольных и поперечных коридоров места хватало на все. А Замку ничего не стоило встроить в то, что крайне условно можно было назвать «бортовым компьютером» «Валгаллы», еще и эту функцию. Станислав Лем в «Сумме технологий» назвал ее «фантоматикой».
Бармена здесь не имелось (а ничего бы не стоило поставить за стойку соответствующе одетого и настроенного андроида), поэтому пиво из бочек с бронзовыми кранами наливали в квартовые кружки сами. Кому какое нравилось. Выбор здесь был богатый, и пополнялись запасы через последнюю из открытых реальностей, тысяча восемьсот девяносто девятого года, вполне себе оформившуюся в самостоятельную после переигранной англо-бурской войны и включения в нее Сильвии с Берестиным.
На рубеже двадцатого века никаких трансгенных продуктов не использовалось, как и консервантов, и «добавок, идентичных натуральным», оттого пиво там отличалось отменным вкусом, ароматом и крепостью.
В пабе вместе с Новиковым и Шульгиным оказались Воронцов, Берестин, Левашов, Фест и неожиданно – Кирсанов. Остальные каким-то непонятным образом затерялись в массе расходящихся из зала слушателей. Женщины – понятно, они по пивным не ходят, а вот мужчины… Или не расслышали предложения, или нашлись неотложные дела, как у Скуратова, например, сильно взволнованного произошедшими с Надеждой после «консультации» у Даяны изменениями. Надо же – за столько лет холостой жизни, при своем нобелевском статусе не сумевший найти себе подругу из числа хотя бы и аспиранток с доцентшами, вдруг увлекся… У Новикова даже не нашлось сразу подходящего слова, как бы эту «реэмигрантшу» поточнее обозначить. Но, как известно, в жизни всякое бывает, и что-то недоступное Андрею академик в даме рассмотрел.
А сюда, выходит, пришли, предварительно не сговариваясь, только «отцы-основатели», Вадим-первый, ученик Шульгина и, если можно так выразиться – «кандидат в “кандидаты в Держатели”». Такие на него Александр возлагал надежды, и не совсем безосновательно. А вот «товарищ жандарм»…
Впрочем, Павел имел врожденное, очевидно, свойство оказываться там, где его присутствие необходимо, и исчезать бесследно, если «обстановка не требовала».
Новиков мельком отметил этот неоднократно подтверждавшийся практикой факт и принялся раскуривать сигару.
– Ну что, братцы, теперь, может, вы нас в курс введете, что тут в наше отсутствие творилось? Старые газеты и хроники мы, само собой, посмотрим, то, что внимания заслуживает, а в общем?
Шульгин перевел взгляд с Воронцова на Феста и обратно. Они же здесь оставались «смотрящими». Каждый в своей сфере деятельности и внимания.
Говорить пришлось все же Фесту. Адмирал умело, как освоил это искусство с юных, пожалуй, еще докурсантских лет, сумел объяснить окружающим, что «наш юный друг» справится с заданием гораздо лучше. Никто и не собирался ему возражать, но Дмитрий тем не менее счел нужным привести несколько неубиваемых доводов, в чем будет заключаться польза для всех присутствующих от такого именно распределения ролей. Это, разумеется, тоже было элементом общих игр, по которым Воронцов откровенно соскучился, но исполнено в лучших традициях, даже Шульгин завистливо прищелкнул языком.
Вадиму порученная «старшим товарищем» задача трудной не казалась. Он в отличие от Секонда в академиях не обучался, но докладывать коротко, точно и исключительно по делу, не отвлекаясь на несущественные подробности, умел. Да и показаться перед учителями и наставниками в выгодном свете никогда не вредно. Это Дмитрию Сергеевичу лишний авторитет ни к чему, и старого хватает, а ему отчего же не отличиться в очередной раз. Тем более – столько не виделись! Если Александр Иванович с Новиковым сами по себе не слишком изменились, то Фест за два года – весьма значительно. Его взгляды на них – тоже. И не в самоуверенности и зазнайстве здесь дело.
– Только разрешите сначала один вопрос перед тем, как начну про «дела наши скорбные» рассказывать, – чуть усмехнулся Вадим, вспомнив момент из фильма, который «старшие товарищи» успели посмотреть еще в «первой жизни»[56].
– Ну давай, – кивнул Шульгин.
– Какой, по большому счету, смысл во всех ваших «открытиях и исследованиях»? Ну, что угрозу дальнейших вторжений устранили – это ясно. А научная часть? Вы ж ничего такого нигде опубликовать не сможете. Разве что в виде очередного фантастического романа.
Новиков с Шульгиным переглянулись.
– Прагматиком ты, однако, успел стать. Не сказать, что это сильно здорово. Мы вон насколько дольше тебя прожили, а так романтиками и остались. Нам просто интересно жить, ну и познавать эту жизнь во всех ее проявлениях, – вместо Шульгина ответил Новиков, а Воронцов согласно кивнул.
– Если б я в ваше время рос, может, тоже романтиком сейчас числился бы. Но – увы… – видно было, что Вадим рассчитывал получить какой-то другой ответ.
Ну, раз хотел – пожалуйста. Новиков сделал глоток из тяжелой кружки, после чего сказал:
– Знаешь, мне отчего-то кажется, что совсем скоро и опубликовать наши открытия можно будет, и еще много интересных явлений в мире произойдет. Вы ж тут без нас тоже время не теряли?
– Очередное прозрение?
– Скорее – настроение. Так мы тебя слушаем.
Свой доклад-отчет Вадим постарался уложить строго в академический час, для чего пришлось исключить все живые, нередко весьма экзотические подробности, оставив только выскобленный до снежной белизны скелет истории[57].
– Вот, значит, оно как, – со сложной интонацией произнес Новиков, ни разу не перебивший Ляхова.
– Да уж, потрудились ребята славно, – не то осуждающе, не то одобрительно согласился Шульгин, обращаясь к Воронцову. – Что значит здоровая, не сдерживаемая ничем инициатива. А твоя роль и прочих остававшихся здесь товарищей никак не преуменьшена? Не слишком ли много ответственности «братья Ляховы» с сочувствующими им лицами на себя взяли, пользуясь вашей снисходительностью, сопряженной с невзиранием?
Цитата из Салтыкова-Щедрина пришлась очень к месту, хоть и перефразировал ее Сашка применительно к текущему моменту[58].
– Ни в коем случае не преуменьшена, – широко улыбнулся Воронцов. – Все так и было. Надо же когда-нибудь позволить молодежи проявить заложенный в нее потенциал? Мне помнится, кое-кто из присутствующих в звании старшего лейтенанта запаса взялся округом, а потом и фронтом командовать. И вроде ничего – получилось. Так бы и в «Маршала Победы» выбился, если б не помешали. А тут все-таки два настоящим образом выслужившихся полковника, с академическим образованием, знанием нынешней геополитики и несравнимым с вашим тех времен жизненным опытом. Так что, я считаю, свобода действий им была предоставлена вполне правомерно, и распорядились они ею достаточно разумно. Мировая термоядерная война ведь еще не началась? А остальное поправимо.
Воронцов говорил вроде и серьезно, однако кое-какая издевка в его тоне чувствовалась, для понимающего человека, по крайней мере. А тут все были понимающие.
– Да мы разве что-нибудь говорим? – в ответ улыбнулся Новиков. Сначала – Воронцову, потом, уже несколько покровительственно – Фесту. – Нормально все, сообразно обстоятельствам. Просто снова слегка странно. Казалось бы – всего ничего мы отсутствовали, а тут такие дела у вас случились… Рипом ван Винклем все же себя чувствуешь. Да оно, пожалуй, и к лучшему. Сколько узелков будто сами собой развязались. Осталось с вашим «Крестом» разобраться, а там и на покой можно. Как там говаривал Кандид у Вольтера, переживший миллион приключений и растранжиривший миллионы пиастров: «Надо возделывать свой садик»?
– Примерно так, – подтвердил Фест, за компанию с Секондом постоянно расширявший и углублявший свое классическое образование, весьма довольный тем, что санкции и репрессии, в чем бы они ни выражались, ему в ближайшее время не грозят.
– «Так» в смысле что у Вольтера написано или что нам действительно на покой пора? – тут же отреагировал Шульгин.
– Исключительно в смысле точности цитаты. Вы, как всегда, на высоте. А что касается второго, то вы наверняка и слова Блока помните?
– Еще б не помнить. «И вечный бой! Покой нам только снится сквозь кровь и пыль… Летит, летит степная кобылица и мнет ковыль…»[59] Это?
– Не спеши льстить себе, Александр Иванович, – вдруг тихо сказал промолчавший все это время Кирсанов. – Молодой человек мог иметь в виду и другую цитату: «Уж не мечтать о подвигах и славе, Все миновалось, молодость прошла…»
«Нет, жандарм он и есть жандарм, хоть и с полным классическим образованием, – подумал Фест. – Сразу по трем целям стреляет. И меня подставляет деликатненько, и Шульгину шпилька, да вдобавок демонстрирует, как здорово поэзию Серебряного века знает. Навскидку! Не только, мол, за врагами Отечества присматривал, но и культурный уровень постоянно повышал. Ну и язва…»
– А разве не прошла? – внезапно согласился с полковником Новиков. – И у нас, и у тебя, по всему чувствуется. Остается утешаться одним: «Пей, много будет бед, пока твой век не прожит. Стечение планет не раз людей встревожит. Когда умрем, наш прах пойдет на кирпичи, и кто-нибудь себе из них хоромы сложит».
– У меня такое ощущение, что наговорились мы сегодня по самое некуда. Пора бы и закончить. Что-нибудь из невинных развлечений придумать. Пулечку, например, расписать? – предложил Шульгин.
– Две по трое? – спросил Левашов. – Кто с кем?
– Да нет, я, пожалуй, пойду, – сказал Кирсанов, вставая. – У меня тоже есть свои развлечения…
– И я тоже. – Воронцов развел руками. – Длительное оставление несения вахтенной службы без надзора несовместимо с капитанской должностью. – Схожу на мостик, потом посмотрю, не скучают ли пассажиры…
Из четверых оставшихся трое одновременно вспомнили последнюю, пожалуй, спокойную игру в их жизни, летом восемьдесят четвертого[60].
– Раков только не хватает, – с печалью сказал Левашов.
– Зато уж тут гарантированно никто не помешает, – ответил Шульгин.
В баре в специальном шкафчике имелись разные настольные игры, в которые могли бы захотеть сыграть посетители, запечатанные колоды карт в том числе.
– Давай, молодой, – протянул Шульгин колоду Фесту. – Сдавай до туза…[61] И больше ни слова о делах.
Глава шестая
– Теперь стоило бы обсудить реально сложившуюся обстановку антр ну[62], как выражались герои А. Дюма, – сказал на следующий день ближе к двенадцатой, полуденной склянке Шульгин, взобравшись по трапу в «рабочую» капитанскую каюту Воронцова, непосредственно сообщающуюся с ходовой рубкой парохода. Каюта была невелика, всего из двух отсеков – спального, размерами чуть больше вагонного купе, и рабочего салона, с письменным столом, терминалом компьютера, репетирами всех основных навигационных приборов и селекторной связью со всеми боевыми постами «Валгаллы». Здесь Дмитрий мог отдохнуть, не опасаясь, что кто-нибудь, да хоть бы и жена, помешает, одновременно контролируя обстановку на судне, несение службы штурманами и всей вахтой. Случись что – десять ступенек по трапу, и он уже на мостике.
Кроме того, каюта была полностью изолирована от избыточной моментами (все ж таки самое начало XX века и царство стиля модерн) роскоши парохода, напоминая, что «Валгалла», кроме всего, еще и боевой корабль, вооруженный посильнее, чем линейный крейсер Первой мировой войны.
Она напоминала ему о прежней службе, когда его вдруг, сразу после получения четвертой звездочки, кинули на Дальний Восток. Обстановка там тогда была сложная, и начальство убило двух зайцев, избавившись от строптивого офицера в штабе Балтфлота и усилив «восточные рубежи Родины» перспективным командиром. Дали ему тогда сторожевик «сто пятьдесят девятого проекта» водоизмещением в восемьсот тонн и с экипажем семьдесят человек.
Многие на флоте тянут лямку все двадцать пять лет, так и не удостоившись гордого звания «командира». А тут в двадцать шесть лет и свой корабль, и перспектива досрочного получения двухпросветных погон. И ко всему этому – первая в жизни настоящая, собственная каюта, любовно отделанная и украшенная предыдущими владельцами с помощью умельцев на все руки, которых отчего-то среди матросов и солдат обнаруживается во много раз больше, чем «на гражданке».
Кое в чем Дмитрий воспроизвел здесь элементы того флотского декора.
Вслед за Сашкой в каюту протиснулись Новиков с Фестом. Не то чтобы на огромном пароходе негде было больше уединиться для приватного разговора. Там, где по проекту размещалось больше пяти тысяч человек, даже ныне присутствующие полторы-две сотни терялись почти бесследно, и можно было долго бродить по коридорам, салонам и палубам, поражаясь пугающей пустоте многочисленных помещений пассажирского и служебного назначения.
Просто по старой, с детских лет еще привычке всякие уединенные места, куда даже случайно, а тем более – намеренно не могут проникнуть посторонние лица, казались самыми подходящими для всякого рода конфиденций. Такая уж черта характера, не зависящая от возраста и не имеющая отношения к паранойе. Просто пацаны во все времена любили устраивать себе тайные пристанища то на чердаках, то в ветвях старых могучих деревьев, наподобие героев «Детей капитана Гранта» или «Приключений бура в Южной Африке», а то и в лабиринтах послевоенных бомбо– и газоубежищ, поддерживаемых в относительном порядке, но месяцами не посещаемых представителями «Гражданской обороны», за которыми эти привлекательные сооружения числились.
Ну и вид отсюда открывался получше, чем из любой пассажирской каюты или с палубы, – все же на пятнадцать метров выше самой верхней точки «Солнечной палубы» и с обзором на все тридцать два румба.
Хорошо! Темная до черноты синева океана, кое-где украшенная белыми гребешками волн, и столь же безграничное густо-голубое небо, тоже с белыми барашками, но уже облаков. Прямо тебе – «благорастворение воздухо́в», нечто такое, на суше практически не встречаемое, разве лишь где-нибудь на вершинах Кавказских гор, где отсутствие моря компенсируется бездонными пропастями и ущельями, при взгляде в которые тоже захватывает дух.
– Пиво, кофе, чай? – предложил Воронцов гостям, расположившимся вокруг откидного столика под лобовым панорамным окном, откуда видно было миль на двадцать, если не больше.
– Я бы пива, если не баночное, – сказал Шульгин, остальные предпочли «чай по-адмиральски».
– Конкретнее пояснить можешь, что сейчас понимаешь под «сложившейся обстановкой»? – спросил заваривавший положенный ему по чину чай адмирал, когда друзья, разложив на столе курительные принадлежности, задымили трубками. Более практичного и универсального приспособления, чем хорошая трубка, для использования на морях не существует. Пожароопасность намного меньше, чем от сигарет и папирос, и курить можно в любую погоду, «и в дождь, и в ветер». Опять же возможность составлять смеси из разных сортов табака, по вкусу и настроению.
– Есть необходимость уточнять? – удивился Сашка. Они с Новиковым уже ночью, после удачно для них закончившейся партии, больше трех часов обсуждали обстоятельства, в которых оказалось «Братство», да и весь мир за время их отсутствия. И кое-что придумали. – Ну, извольте, ваше превосходительство. Берем, так сказать, текущий момент. Никто в принципе не настаивает – можно оставить все как есть, и на нашей условной ГИПе[63], и на соседней параллели. Но нам просто интересно – вы так прямо и считаете, что идеально все придумали и с «Мальтийским крестом», и с нашей «демократической Россией»? А вдобавок вдруг еще затеяли параллельную игру с президентом Ойямой и господином Сарториусом? Не сложновато ли выходит? Многомерные шахматы… Пешка выходит в пространство слонов. К тебе вопросов нет, – качнул он головой в сторону Феста, – меня точка зрения Дмитрия Сергеевича волнует…
Новиков в это время старался не смотреть ни на Феста, ни на Воронцова, больше на свою трубку. Он рассматривал ее с большим интересом, словно пытался найти в ней случившиеся за два года изменения. Не трогал ли кто драгоценный «Петерсен» в его отсутствие, не повредил ли слой тщательно создаваемого «научным обкуриванием» нагара.
– А маэстро считает иначе? – осведомился Воронцов. – Заглянул проездом с карлсбадского турнира и наметанным взглядом оценил позицию на всех двадцати досках? – в голосе Дмитрия слышалась не только ирония, но и вполне живой интерес.
Фест пока предпочитал только слушать. Раз Александр Иванович затеял этот разговор, значит, уже придумал что-то. Почти двое суток имел для размышлений и анализа партии, а мыслил «шеф и учитель» на удивление быстро. Вадим со времен своего ученичества запомнил продемонстрированную Шульгиным шахматную партию, так называемую «бессмертную», разыгранную между Андерсеном и Кизерицким аж в 1851 году[64]. Тогда Андерсен пожертвовал ферзя и две ладьи и тем не менее выиграл.
– Вот примерно в этом стиле и следует стараться работать. Может, выйдет и не всегда, но тем не менее… – поучительно сказал Шульгин, сгребая фигуры с доски. – А то многие мнят себя Игроками, видя стол со стороны, – добавил Александр Иванович назидательно, но явно обращаясь не к Ляхову а, скорее всего, к самому себе.
– Я пока никак не считаю. Я именно оцениваю расклад и пытаюсь сообразить, каков у нас прикуп, – перескочив с шахматных ассоциаций, возникших у Воронцова и Феста, на преферансные, ответил Шульгин. – Шикарная и победоносная война с Англией, безусловно, выгодна царю Олегу, да и много кому еще. Тебе, например, – снова повернулся он к Фесту, – наверняка хочется заработать генерал-адъютантские погоны и какой-нибудь солидный крест на шею, вроде как у нас за Крым и все остальное[65]. А от здешнего Президента «Героя России» за победу во «второй холодной войне»?
Фест дернул щекой. Не то чтобы он исключительно к этому и стремился, но в виду имел такую возможность. Приличный официальный статус в «объединенной России» был бы отнюдь не лишним. «Остепениться да и жениться».
– Предположим, не только в одних наградах дело. – ответил он. – И я, кажется, нигде не нарушал никаких предварительных условий? По крайней мере, отправляясь в экспедицию, вы позволили нам «действовать по обстановке». Да и с Дмитрием Сергеевичем в сомнительных случаях я обязательно советовался.
– Да кто ж тебя винит? Грамотно действовал, в пределах предложенных обстоятельств. А они вроде как сами сложились. Тем более – Дмитрий Сергеевич одобрил…
– Вообще нельзя так вопрос ставить – лучше, хуже, – вставил Новиков. – Своя голова на месте и планета пока цела – уже хорошо. А если мы начнем каждый ход разбирать, тогда, конечно… «Знал бы прикуп, жил бы в Сочи». Речь сейчас о том, что, начиная с сего момента, следует делать? У нас с Александром на свежую голову впечатление сложилось, что столько шнурков в клубок спуталось… За какой ни потяни, узлы еще туже затягиваются. Ты уж прости за очередное сравнение, но Алехиных среди нас нет. А вот Бендеры, что взялись сеанс одновременной игры давать, просматриваются. Большой проницательности не надо, чтобы это сообразить. Мы, Дима, сам понимаешь, за два дня ничего толком не поняли и понять не могли, но… Хрен с ними, с шахматами, но ты же человек военный. Знаешь, чем обычно заканчивается наступление по расходящимся направлениям. Хоть Польскую кампанию Тухачевского возьми, хоть немецкую летнюю кампанию сорок второго года.
Воронцов подумал, что Шульгин пока не знает про еще одну операцию, что он решил затеять вдвоем с Лихаревым. Она как раз и должна была несколько ослабить «стратегическое напряжение», которое несомненно имело место. Тут Воронцов ничуть не хуже оценивал сложившееся положение, чем Новиков. Однако выхода практически не было. Ни одно из затеянных дел бросать на полпути нельзя, это наверняка грозит катастрофой. А пока – просто достаточно запутанная партия…
Новиков словно представил себе ход мыслей Воронцова и ответил на них:
– Деваться-то по-любому некуда, «ле вин э тире, иль фо ле буар»[66]. Вопрос в другом – вашу игру продолжать или резко ломать сценарий? Нам, например, пока совсем непонятна перспектива розыгрыша Сарториуса…[67]
– Ну вот, начинается деловой разговор, – удовлетворенно кивнул Воронцов. – Честно говоря, мне тоже роль этого персонажа не вполне ясна в общем раскладе. И как с ним быть? Устранять с доски или, наоборот, разыгрывать по полной? На роль «двойника» он в целом подходит. И на тот и на другой вариант есть резоны.
– А знаешь что, – вдруг предложил Новиков, словно эта мысль только что пришла ему в голову, – давай-ка мы из одной игры сделаем три, а то и четыре. Вроде как Крымскую войну воспроизведем, что сразу на шести не связанных друг с другом ТВД протекала. Тогда и наши потери выигрышами на других фронтах компенсируются, и противнику (если он один и тот же) труднее сообразить, что на самом деле происходит. А ты и дальше веди свою с Фестом партию. «Крест» там, интригу с нашим президентом продолжайте. Нам, с одной стороны, трудно так сразу включиться, мозги не на то настроены, и слишком много деталей мы просто не знаем…
– Хуже того – не чувствуем, – вставил Шульгин. – Два года есть два года. Сколько всего в обеих реальностях произошло! Мне даже страшно представить, насколько мы отстали! Побольше, наверное, чем Эдмон Дантес за время своей отсидки. Если всего одну приличную газету подряд, день за днем просмотреть, чтоб общее представление составить, это ж под тысячу печатных листов выйдет – двадцать толстых книжек…
Здесь Шульгин не кривил душой. Они ведь с Новиковым, честно говоря, и раньше реальной жизнью как раз на ГИП интересовались очень мало. Все время витали в эмпиреях, как раньше говорилось. Появлялись на короткое время с какой-то утилитарной целью и снова уходили в те или другие параллели.
А тут вдруг возникла коллизия, когда нужно принимать решения в так сказать подлинной жизни, не вымышленной и не сконструированной «под себя». Ничего по-настоящему про эту жизнь не зная. Ни о том, что происходило внутри страны за прошедшее время, ни как выстраивались международные отношения, со всеми их нюансами. Что тут подскажешь и посоветуешь тому же Фесту, и тем более – Воронцову? Будешь почти ежеминутно садиться в лужу, да и все.
Поэтому Дмитрий все время и сохранял на лице не саму ироническую улыбку, а как бы немедленную готовность к ней. Пока Шульгин с Новиковым делали вид, что они по-прежнему удерживают в «Братстве» лидерские позиции. Нет, по сути дела, так оно и есть, если иметь в виду нормальные и паранормальные способности «кандидатов в Держатели», «ходоков в Астрал» и тому подобное. А в этой конкретной партии…
– Так что, пожалуй, мы тут слегка увлеклись, – самокритично продолжил Шульгин, – не с той стороны к снаряду подошли. В стратегическом, так сказать, плане можем порассуждать об «Очередных задачах Советской власти» и так далее. Как жизнь в объединенной России строить, как с нашими представлениями цели и возможности господина Сарториуса увязываются. Вместе с Антоном подумаем, как Замок на пользу трудовому народу использовать. Все это мы вполне можем. А именно эту партию доигрывать – это уж как вы с Вадимом затеяли, так и давайте…
– А также все, что потребуется впредь! – негромко, как бы в сторону, сказал Фест.
– Что? Ну да, конечно. И предыдущие 16 пунктов заполни и представь на ознакомление[68], – усмехнулся Новиков.
Обстановка вдруг словно сама собой разрядилась. До этого каждый испытывал крайне неприятное чувство вроде того, что возникает при необходимости напомнить сослуживцу о давно одолженной и до сих пор невозвращенной сумме. Не слишком большой, но и не столь маленькой, чтобы о ней безболезненно забыть. И причины для дискомфорта у каждого были свои, хоть и вызванные одной и той же причиной.
– Давай, Дим, плесни по чарочке «Бакарди» своего, или что там у тебя, – предложил Шульгин. – Пиво мне совсем сегодня не идет. Как-то у нас так получилось… Все принято ерничать, в дело и не в дело поминать картину Репина. А если без смеха, в оригинальном виде – «Не ждали» довольно-таки жизненный сюжет. Человек вернулся с каторги или просто из длительной отлучки, и никто в кадре не понимает, как на его появление реагировать. Главное, радости там ни у кого на лицах не чувствуется…
– У меня такое мнение, что ни с какой не с каторги, а просто папаша бросил семью, пошлялся бог знает где, пропился-проигрался в прах и надумал вернуться. Глядишь, примут Христа ради… – решил окончательно увести разговор в сторону от неудобной темы Андрей.
– Вполне убедительная версия. Вроде как у Солоухина в «Письмах из русского музея», где он другие широко известные полотна перетолковывал, – согласился Воронцов. – Надеюсь, не себя вы имеете в виду. А то бог знает каких вы там в своей экспедиции идей нахватались. Не зря в прежние времена лицам, побывавшим за границей, особое внимание уделялось. У меня, кстати, по этому поводу одно соображение есть…
– Всего одно? – удивился Сашка.
– Пока одно. У ваших новых приятелей партию специально обученных инсектоидов прикупить или на что-нибудь сменять можно?
– Думаю – без проблем, – ответил Новиков. – А тебе зачем?
– В психологических целях. В нужный момент в нужном месте выпустить. Хоть в Лондоне, хоть в Вашингтоне. А потом продемонстрировать, что только мы с ними успешно бороться можем…
– Ну, ты и садист…
– Не знаю, чем смерть от напалма или фосфорных бомб так уж хуже таковой в жвалах культурно выведенного насекомообразного. Покойнику все равно, а уцелевшие, глядишь, правильные выводы сделают, что людей вообще никаким способом убивать не стоит, если они тебя первые не трогают…
– Хорошо, это вопрос не первостепенный, и мы его еще обсудим, когда к плану практических действий перейдем. А сейчас хорошо бы с общей военно-политической доктриной определиться, – предложил Новиков. – Как будем решать – то ли одновременно на всех фронтах воевать, или последовательно, с сосредоточением всех сил на главном направлении?
– Последовательно никак не получится, – вполне категорично ответил Фест. – В Империи так или иначе само начнется, ни Олега мы удержать не сможем, ни бриттов. Даже если на их премьера как следует надавим, другие командование на себя примут. Демократия демократией, а «уж если я чего решил, так выпью обязательно». Нельзя им без этой войны, раз уж решились и судьбы империй на карту поставили.
Отступать бритты не приучены, в двадцатом веке разве только на Галлиполи и в Дюнкерке. Ну, еще Сингапур без боя бросили. Однако же и ту и другую войны они в итоге выиграли, хоть и не совсем с теми итогами, что планировали. Зато и почти без потерь. Ну да, это у нас две, там только одну. Не суть важно. Нереализованная возможность в будущем все равно бросает тень в прошлое. Сейчас они хотят вернуть сразу все потерянное и там, и там. В своем обычном стиле. Бульдог – английское изобретение: – вцепиться мертвой хваткой и не отпускать, пока враг не испустит дух.
Но даже если мы ОЧЕНЬ постараемся и они сейчас отыграют назад, боюсь, что Олег все равно тем или иным способом их спровоцирует. Если не на главном направлении, то в каком-то другом месте. В Индии, в Афганистане, на Мальте, которая ему де-юре принадлежит как наследнику Павла первого. И то, что банды Катранджи Россией направляются и снабжаются, – утаить не удастся…
– А чего утаивать? Будто альбионцы сильно скрывали, когда заварушки у нас на Кавказе или в Средней Азии организовывали… Больно деликатные мы тут все. А надо грубо и прямо, – пожал плечами Новиков.
– Я о том, что России ни война, ни повод к ней были тогда не нужны, нам и без нее забот хватало, оттого они свои интриги и не маскировали. А англичанам из олеговой реальности хоть хиленький повод нужен обязательно. Демократия, туды ее мать! Иначе «избиратель» не поймет. То есть войны хотят обе стороны, но Император все же предпочитает, чтобы они ударили первыми. О будущих учебниках истории думает, – уточнил Фест.
– Нам возражать оснований нет. Нужно только, чтобы британский военный потенциал был разгромлен полностью, как у Испании в девятнадцатом веке, а для экономики план «континентальной блокады» давно готов. Так что, я считаю – ни Олега сдерживать, ни нам особенно в ту войну вмешиваться не надо. Секонд за взаимодействие с Берестиным в прежней роли главного военного советника императорской армии отвечает. Алексей и при штабе «ограниченного контингента» РФ в той же должности числится… Сам с собой взаимодействие налаживает, – добавил Воронцов.
– А что, в армии РФ своих генералов этого уровня не найдется? Захотят они чужаку подчиняться? – усомнился Шульгин.
– Командиры есть. Давно переправлены на ту сторону и отрабатывают взаимодействие с «братской армией». Вплоть до полкового звена. Выше – смысла нет. Мы же не собираемся «ограниченным контингентом» сухопутные стратегические операции проводить. ПВО, зенитная артиллерия, немного авиации и вертолетов – это все мы туда перекинули и на позиции выдвинули. Связисты, само собой, тоже отсюда, группа штабистов дивизионного уровня со своим полковником во главе. К ним приставлены представители оперотдела «пересветов». Для координации совместных действий и своевременного устранения недоразумений. А главным все же пусть Алексей Михайлович будет. Он в курсе всего стратегического замысла, с Олегом давно лично знаком и с нашими отношения наладит, не чужой человек.
Впрочем, они не знают, что на самом деле советский старший лейтенант, сталинский командарм и врангелевский генерал ими руководит. Единый в трех лицах. Просто «товарищ с самого верха», генерал-полковник ГРУ, к примеру, армейским строевым командирам не известный. И не возникнет стандартных коллизий «обезлички», не придется никому в ответственные моменты выяснять, имеет ли право пехотинец или артиллерист в равном звании летчикам и морякам что-то указывать, да хоть и просто советовать. И наоборот, естественно. От такой «независимости» половина бед случилась и в Порт-Артуре, и при обороне Севастополя в Отечественную.
– Ну если все давно спланировано и проработано, чего ж еще и нам в эти дела лезть? – Шульгин с видимым облегчением пожал плечами и принялся выбивать золу из трубки. – Сущности умножать. Пусть работают, как наметили. Сил и средств у коалиции братских армий достаточно, а уж как государь Император ими распорядится… Ему жить. А нам куда интереснее будет к старой проблеме вернуться…
– Это какой же? – приподнял бровь Воронцов.
– Да мы ж так тогда в Москве и не разобрались, кем и как все было организовано. Кто дырки в пространстве времени делал, кто моего аспиранта Затевахина вербовал, каким образом на целый город мо́рок навели, что десять миллионов, считай, и не заметили, какие у них там дела творились[69]. Очень много недоумений осталось, а даже с помощью Антона и Сильвии ничего выяснить не сумели. Абидно, панимаэшь!
Вот на эти темы с вашим господином Сарториусом и мистером Арчибальдом Арчибальдовичем побеседуем. Как раз по нам задачка. И, если вы, конечно, не возражаете, направление президента Ойямы и вашего агента Лютенса на себя возьмем. Линия Сарториуса как-то уж очень наглядно с проблемой нынешних США перекликается…
– Тут с вами никто не сравнится, – совершенно искренне воскликнул Фест, от всей души преклонявшийся перед дипломатическими и прочими способностями Александра Ивановича и Андрея Дмитриевича. Уж сколько они для него сделали и сколько уроков преподали – «ни пером описать, ни гонораром оплатить».
Вадим даже с некоторым садистским удовольствием представил, как Шульгин начнет окутывать Сарториуса в кокон своих силлогизмов, апорий и антиномий, как паук муху, чтобы потом предложить ему выбор из «прочих равных». Да нет, выбор, скорее, будет предлагать уже Новиков, умевший, мысленно поигрывая «мизерекордией»[70], ставить понятные пациенту точки в конце изящно выстроенного разговора. Видел такое Фест неоднократно и сам кое-чему научился у старших товарищей.
Но некая заноза в глубине ляховской натуры оставалась, беспокоила, ныла, и показалось ему, что сейчас, во время этого вроде бы откровенного, без скрываемых обеими сторонами «задних мыслей» разговора, выдернуть ее – самое время.
Он попутно удивился, как это у него вдруг мелькнула такая мыслишка – насчет «обеих сторон»? Словно бы ни с того ни с сего из подсознания всплыло ощущение, будто хоть в чем-то он и старшие товарищи могут оказаться «по разные стороны баррикады». Не происки ли это очередной Ловушки Сознания, решившей активизироваться именно сейчас. Значит, разговор нынешний действительно в чем-то судьбоносный, раз кто-то из Игроков или просто иммунная система Гиперсети начали реагировать.
«С Шульгиным и Новиковым об этом сейчас говорить не стоит, – подумал Вадим, – а вот Константина Васильевича проинформировать – в самый раз. Нужно будет сегодня же его разыскать».
Фест успокоился и спросил то, что давно хотел, но то ли стеснялся, то ли случая не было.
– Я, может, бестактность допускаю, но не дает мне покоя мысль – а зачем вам это все, Александр Иванович, Андрей Дмитриевич?
– Что? – не понял или только сделал вид Новиков.
– Да вообще все! Только что вернулись бог знает откуда и опять ввязываетесь. И реальность моя вам всем чужая, ваша в восемьдесят четвертом на самом деле закончилась. Не только социализм, просто нормальная жизнь. Я же ваши записки читал, Андрей Дмитриевич, и разговаривали мы… О чем только не разговаривали. Вам что, на самом деле так уж важно нынешнего российского президента с американским помирить, или Англию на благо царя Олега на колени поставить?
– А ты? – спокойно спросил Шульгин. – Ты зачем? Когда я к тебе тогда, сразу после Перевала, подошел и предложил вместе с нами над «Защитой реальности» поработать, ты ведь не послал меня подальше, согласился почти сразу.[71] Хотя «Мастера и Маргариту» к тому времени читал, а то и перечитывал…
– Ну, я! Мои обстоятельства вы лучше меня знаете. Не понимаю даже, зачем спрашиваете…
Новиков, все время занимавшийся трубкой (очень полезная вещь для отвлечения внимания собеседника от своего лица), закончил ее набивать собственной многосоставной смесью, долго и тщательно прикуривал. Только когда клуб добытого из «Петерсена» дыма наконец достиг нужного размера и плотности, он сказал с ощутимой грустью в голосе:
– Да понимаешь, Вадим, показалось нам, что пришла пора долги отдавать…
– Какие долги, за что? И кому?
– За все. Задолжали мы Отечеству! Сбежали из него, как «колбасные эмигранты», когда, может быть, наши кое-какие способности очень бы пригодились. Глядишь, мыслеформу нужную в нужный момент создали, и – вуаля! Тогда ведь ничего еще не было решено!
– Или – убрали бы вас всех, и меня попутно, чтобы у серьезных людей не путались под ногами, – негромко, словно тоже размышляя вслух, сказал Воронцов. – Вас – когда Ирину спасать кинулись, меня – когда из Антонова Замка вышел.[72]
– Если б убрали – и говорить не о чем бы было, – упрямо возразил Новиков. – Но живы же до сих пор? Значит, по-прежнему за свои поступки отвечаем. «Перестройку» в том виде, как она случилась, не допустить могли? Наверное. Дубликатор народу преподнести, чтобы, значит, ни продовольственной проблемы, ни дефицитов никаких, ни зависимости от Запада больше в России не было? Могли наверняка. И левашовский «совместитель» на благо народу использовать? Да элементарно…
– Подожди, – остановил резким жестом Феста Шульгин. – Спросил, так слушай теперь. Мы, значит, в эмпиреи сбежали, развлекались, по мирам странствовали, всеми мыслимыми благами пользовались, а люди в это время… Ну, сам помнишь, как многим тяжко приходилось и как страна разваливалась, и тэ дэ и тэ пэ. А мы – ну будто бы «новые русские» в это время на Мальдивах отсиживались…
– Но вы же и на войне, и в Югороссии…
– Ага. Как Гусев в «Аэлите» – «Я пять (или сколько там?) республик учредил». Что от его «республик» толку, что от наших…
– Что-то тебя на самобичевание и разрывание рубашек потянуло, – скривил губы Воронцов.
– Отнюдь. Понятно, что ни дубликатор, ни СПВ нынешнему человечеству в руки давать нельзя было. И дорогу на Валгаллу открывать. Тогда, в восемьдесят четвертом… И сегодня тем более нельзя. Однако… – вместо Шульгина ответил Новиков. – Есть у Твардовского такое стихотворение:
– Дошло? Вот и хорошо. Мы вроде бы ни в чем не виноваты и старались все делать как лучше, но – где-то там… – Андрей махнул рукой в сторону от курса парохода. – А сейчас появилась возможность кое-что поправить здесь, – он пристукнул ладонью по столу. – Причем поправить настолько кардинально… Вот потому мы и ввязались. Возможно, на это и намекал «Белый» или «Черный» игрок, якобы прощаясь с нами. Ну, вот и попробуем…
Фест, услышавший явно больше того, чем хотел узнать, кивнул головой. Продолжать тему отчего-то совершенно не хотелось.
Воронцов пообещал сегодня же передать все имеющиеся материалы и по линии российско-американских отношений, и касающиеся Сарториуса с Арчибальдом. Начинать Шульгин с Новиковым решили именно с Сарториуса, поскольку он являлся ключевой фигурой всей не дававшей им покоя несколько лет интриги, воспринимавшейся едва ли не как личное оскорбление. Это же только представить – им, всему «Братству», но прежде всего «отцам-основателям», самому Сашке, Новикову и Левашову, не удалось после всего, что они совершили, выяснить, казалось бы, пустяковую вещь – кто еще на Земле кроме могущественной «триады» – «Братства», аггров и форзейля в состоянии развлекаться межвременными и межпространственными переходами и пытаться перекраивать реальности по собственному благоусмотрению. Грешили на дуггуров, но дуггуры, хотя кое-что в этом смысле и умели, в данном конкретном случае оказались ни при чем, что и было выяснено в ходе экспедиции. Антон и Сильвия категорически утверждали, что никакой «третьей силы», которой сами «братья» некогда заморочили голову аггрианским «силовикам», в имеющейся Мультивселенной гарантированно не существует. Чем, в общем-то, противоречили самим себе, в иных случаях признавая присутствие в мироздании пресловутых Игроков и даже Держателей.
Но в схоластических назидательных беседах и Антон, и Сильвия как-то так все оборачивали, что названные персонажи к предполагаемой «третьей силе» отношения иметь не могут, ибо являются (каламбур?) явлениями иного порядка. Совсем иного. Как, скажем, при сходном внешнем эффекте никак нельзя уподоблять молнию, вылетевшую из грозовой тучи, и выпущенную СУ-двадцать пятым управляемую ракету. Хотя для человека или предмета, оказавшегося в точке попадания, результат взаимодействия со столь разными, по сути, силами окажется практически одинаковым. За редчайшими исключениями.
А теперь все вдруг стало ясным и понятным. «Третьей силой» оказался Замок, то ли кантовская «вещь в себе», то ли некий самостоятельный «электронный ганглий»[73], неизвестным самому Антону (а возможно, и его высшему руководству) образом оказавшийся передовой операционной базой форзейлей на планете Земля. Его никто (судя по имевшимся в распоряжении Антона материалам Информатория) специально не создавал, и документально не зафиксировано, с каких пор и каким образом он начал использоваться самыми первыми форзейлями, очутившимися на Земле.
Потом, в ходе самостоятельных исследований, Шульгин с Новиковым убедились, что (очень вероятно) Замок – один и тот же играет аналогичную роль на неизвестном количестве и иных миров. То есть, как выразился доступным для математически безграмотных друзей Левашов, «является размерностью высшего порядка, погруженной в Эн-мерный континуум, и в нашу трехмерную реальность выступает всего один его какой-то «угол» или «грань». Словно бы торчащий из волн десятиметровый шип кораллового Большого Барьерного Рифа, разросшегося на тысячи километров под вечно волнующейся поверхностью «Океана Дирака»[74].
Красиво, малопонятно, но вполне достаточно для практического использования. Как автомат с лазерным прицелом для наскоро обученного папуасского сепаратиста.
Замок (он же, возможно, один из пресловутых и гиротетических Игроков) обеспокоился событиями, при его же участии вдруг начавшими происходить в подконтрольном ему участке Мультивселенной (или ячейке Гиперсети). В том числе незапланированным изменением баланса сил в треугольнике «люди – аггры – форзейли», случившимся оттого, что кое-кто из людей оказался по своей нервно-психической организации ближе к Держателям Мира, чем к обычным «хомо сапиенс сапиенс». Совершенно неожиданно, впервые за тысячелетия кто-то в Союзе Ста миров настолько заинтересовался тихо существовавшим на окраине Галактики Замком, что решил не только устранить Антона – неизмеримо мелкую пылинку в охватывающей треть обозримой Вселенной бюрократической системе, но и дезактивировать сам Замок, явно считая его всего лишь стоящей на балансе инвентарной единицей. Ошибка ли это была или осознанно спланирование действие – сейчас не важно. Главное – эта задача очевидным образом была не решаема имевшимися у Галактической «надцивилизации» средствами, но тем не менее сулила Замку кое-какие неприятности. Или – раздражающие неудобства. Как, к примеру, человеку – массированная атака клопов во время сладкого предутреннего сна, да еще и с женщиной. Несмертельно, но, сами понимаете…
Вот Замок и предпринял собственные, представлявшиеся ему в тот момент необходимыми и достаточными меры. В частности – сотворил сам из себя эффектор, названный людьми Арчибальдом, и предоставил ему свободу воли в заданных границах.
Одновременно Замок начал точечные воздействия на саму, так сказать, канву ГИП и прилегающих к ней реальностей. Вплоть до исчезающего малого, но все же ощутимого, пусть и «внечувственно», изменения так называемых «законов природы». Оттого и начали отмечать друзья как раз в тот самый год отчетливо заметные при наблюдении из нескольких «реперных» точек деформации привычной метрики пространства-времени – хронологические сдвиги, провалы и «прорехи» в ткани реальностей, нестыковки в соотношении причин и следствий, ставшие очевидными при сопоставлении массивов фиксированной стабильной информации.
В этом серьезно помогло сопоставление собственных дневниковых записей Новикова, хранившихся частично на пароходе, частично в первом и втором фортах Росс, на Валгалле и в Новой Зеландии, соответственно с материалами, которые по просьбе Шульгина собрали «специалисты тайных дел», Суздалев и Маркин из реальности Ростокина-Скуратова. Вначале все нестыковки и флюктуации относили на счет самопроизвольно срабатывавших Ловушек Сознания, но потом Левашов с помощью профессора Маштакова – коллеги из параллели Секонда, и самого Замка, решившего, по своим собственным соображениям, «сдать» Арчибальда «Братству», смогли более-менее разобраться в ситуации.
Все это Левашов и Воронцов изложили друзьям, в своей экспедиции несколько потерявшим за два года связь с текущей жизнью. Да они и до «хождения за три мира» не слишком с этой жизнью были связаны.
Так, эпизодически, вроде вмешательства в московский заговор против Великого князя, а в основном действовали в реальностях, значительно отдаленных от ГИП, и в ту, и в другую сторону. От тысяча восемьсот девяносто девятого с англо-бурской войной до две тысячи пятьдесят шестого с его пробоем в вымышленный Ростокиным тысяча двести тридцать восьмой[75].
И в тысяча девятьсот тридцать восьмом году бывали, и в тысяча девятьсот двадцать пятом[76], на «Валгалле» и в новозеландском форте время проводили. Только до родного времени никак руки не доходили. Хотя какое оно родное? Разве что по Шекли: «Среди вероятностных миров, порождаемых Искаженным миром, один в точности похож на наш мир; другой похож на наш мир во всем, кроме одной-единственной частности и так далее. Подобным же образом один мир совершенно не похож на наш во всем, кроме одной-единственной частности и так далее»[77].
Вот и их Главная историческая отличается от истинной одной-единственной деталью – все они со своими способностями исчезли из нее больше двадцати лет назад, и с тех пор там происходит бог (или черт) знает что. Начиная от «ППП» (пятилетки пышных похорон) и неожиданного восшествия на генсековский стол Михаила Третьего (Горбачева) со всеми вытекшими из того последствиями, вплоть до самоуничтожения Советской власти и дезинтеграции Союза.
Неоднократно уже поднимался, между делом или специально, вопрос – что в итоге оказалось эффективнее? Методика аггров по вселению матрицы Новикова в личность первого лица государства или противоположная, спровоцированная Антоном, – устранение из реальности некоторого количества личностей, потенциально способных коренным образом эту реальность изменить?
Впрочем, Новиков до сих пор отчетливо не представлял, чем и как они смогли бы помешать, допустим, возвышению Горбачева или бессмысленному порыву масс «к свободе», о которой эти самые «массы» имели крайне искаженное (или вообще никакого) представление. Догадки разные и соображения были, но специально они не прорабатывались по причине никчемности этого занятия на фоне куда более актуальных, как им казалось, задач и проблем.
И вот теперь возникла, кажется, возможность вернуть отклонившуюся от истинного курса ГИП. Устранить, выражаясь морским языком, девиацию и продолжить движение в «правильном» направлении.
Неоднократно друзья задумывались и о том, является ли эта последовательность «настоящей» или уже утратила право так называться? Однако с помощью несложных вычислений и наглядных примеров Антон сумел их убедить, что да, является. Ибо на демонстрационных схемах все значимые альтреальности имели хорошо видимые точки бифуркаций и в каждом случае достаточно легко выявлялись моменты пресловутого МНВ[78].
Значит, как ни изощряйся, именно вот эта жирная малахитово-зеленая линия на трехмерном экране (или точнее – в трехмерном, на грани четырехмерности видеокубе), уходящая в неэвклидову бесконечность, и есть инвариант «исторического процесса», объективного и как бы не зависящего от посторонних вмешательств.
Звучит достаточно странно или даже глупо, но получается, как в старом, тридцатых еще годов анекдоте: «Не проявляли ли колебаний по отношению к линии партии? Нет, всегда колебался только вместе с линией партии». В любом почти месте при правильно рассчитанном воздействии можно создать жизнеспособную альтернативную реальность, но она будет именно что внезапным побегом на древесном стволе, растущим под каким угодно углом к основной директрисе. Сам ствол никуда не денется и не превратится вдруг в бессмысленно ветвящийся куст. Потом большинство этих побегов отсохнут и отвалятся сами собой, некоторые превратятся в полноценные ветви, но каждому с первого взгляда вполне очевидно, что перед ним именно дерево определенного рода и вида, а не нечто совсем другое, и что ствол есть ствол, а ветви – только ветви.
Конечно, можно представить другую конструкцию мироустройства, по образцу какого-нибудь баньяна, где центральный ствол и не различишь среди сотни поддерживающих крону воздушных корней (которые в конце концов и душат своего прародителя), но сейчас мы рассматриваем лишь нашу концепцию Мультиверсума[79].
Из всего вышесказанного «с очевидностью вытекает» – чудная фраза, выхваченная когда-то Новиковым из толстой математической книжки на столе у Левашова, где только это он и сумел прочесть в конце страницы, заполненной исключительно цифрами и символами чего-то. А еще через полстраницы такой же, когда-то изучавшейся в школе, но напрочь забытой через полчаса после выпускного экзамена абракадабры, опять вполне понятное «Однако» – и опять… Так вот – с очевидностью вытекает, что попытка навести некий относительный, в их понимании, порядок на родной ветке мироздания не приведет к возникновению очередной развилки, просто «ствол» слегка искривится и продолжит свое движение куда-то «вверх», повинуясь детерминирующему тропизму[80]. А значит, отчего бы не попытаться в доступной мере исправить то, что в результате их необдуманных (но, возможно, чьих-то весьма обдуманных) действий получилось?
Фест и Секонд вместе с Воронцовым уже создали все необходимые предпосылки и условия для корректировки действительности. Разумеется, речи не идет о возвращении ее к ситуации восемьдесят четвертого года, «когда еще ничего не было решено». Все уже случилось так, как случилось, без всяких «исчисленных и продуманных» действий с чьей бы то ни было стороны. И неважно, какую ахинею последние четверть века говорят и пишут конспирологи всех мастей, хоть либерального, хоть «патриотического» толка.
«Не стоит искать злой умысел там, где все можно объяснить просто глупостью».
Другое дело, что глупостью (не только первых лиц, а всего общества) отдельные индивидуумы в СССР и за рубежом сумели воспользоваться в собственных интересах. Так это всегда бывало в мировой истории. Варвары тоже извлекли немалую пользу из падения Рима, турки – Византии, маньчжуры – какой-то очередной китайской династии. И очень даже много удовольствия.
Однако ни Моммзен, ни другие историки античности не пишут, что падение Рима стало результатом тайного сговора императора Константина с разведками галлов, франков или вестготов. И христианство этот же Константин Великий учредил в Риме не для того, чтобы разорвать «сверхдержаву» пополам и половину ее отдать во власть варваров и плебса! Были у него другие, вполне прекраснодушные соображения.
Естественно, вопрос: «А как это сказалось на процветании человечества в целом?» мы отметаем как бессмысленный. Ну, сохранись римское величие еще тысячу лет… Допустим, не было бы «темных веков» европейской цивилизации. Так для кого они «темные», а для кого совсем наоборот. В будущей России, например, никакого «средневековья» в общепринятом понимании не было. Наоборот, как раз с седьмого или восьмого века шел процесс бурного этногенеза и очевидного прогресса во всех областях. По крайней мере, в том же Новгороде Великом в X-XI веках и демократии было не меньше, чем в пресловутой «культурной» Европе, и уровень жизни повыше, и всеобщая грамотность. А бани в каждом дворе, до чего Европа с Америкой додумались почти на тысячу лет позже?! И, кажется, не было среди русичей обычая гадить в царском дворце под ковры и за занавески. И содержимое ночных горшков выплескивать за окно терема, на улицу, а не в собственный двор, ни в Москве, ни в Новгороде не практиковали. Батогами б, наверное, запороли на Лобном месте за подобное. Хотя это, конечно, варварство – пороть людей «за самовыражение» и стремление соблюдать санитарию в собственной квартире. О других пусть Господь Бог заботится.
Вот и минувшие с момента встречи «братьев» с агграми и форзейлями двадцать с лишним лет вряд ли прошли напрасно. Что-то ведь за эти годы происходило в стране и в мире, продолжая движение к неведомой цели, и не дано обычному человеку судить, как лично им прожитое и сделанное отразится в веках. Умер солдат, допустим, в ноябре сорок первого на окраинах Москвы и никогда не узнает (если нет загробной жизни), как повлияли на близкое, и не очень, будущее те пять месяцев, что он с товарищами отступал, цепляясь за каждый подходящий пригорок или «водную преграду».
Или, как в следующей строфе этого стихотворения Симонова:
Да и вообще речь не о том, что уже случилось. Главное – на каком рубеже, на какой позиции они находятся сейчас и могут ли что-нибудь сделать для того, чтобы «партия» пошла в нужном направлении?
Снова та же тень сомнения распростерла над «Братством» свои крылья. Кому нужном? Нужном ли? И так далее. И выход в таком положении один – убедить себя, что ты прав. Прав просто потому, что следуешь общему вектору родной, российской истории и совершенно тебе без разницы, что об этом подумает все «прогрессивное человечество». Они – это они, мы – это мы. Как будто хоть когда-нибудь на этом свете за последнюю тысячу лет кто-то «из них», пусть в пьяном бреду, только единожды задумался о благе России и людей, ее населяющих, больше, чем о полноте своей тарелки и кармана.
«Да чтобы вам всем подохнуть, а мне бы всегда чай пить!», так можно воспроизвести мысли «просвещенной Европы» в отношении России и ее народов, слегка перефразируя Достоевского. Что особенно наглядно подтвердила Вторая мировая война и все последовавшие годы вплоть до нынешнего.
Общее представление о положении в своей родной стране, удивительным образом изменившейся за время их отсутствия и одновременно оставшейся почти той же, несмотря на обилие «свобод», товаров в магазинах и автомобилей на улицах, они получили еще несколько лет назад, сразу после эпопеи с Ростокиным и сопутствующих событий[81]. Попробовали даже предпринять кое-какие меры к «исправлению нравов» в не слишком понравившемся им обществе[82].
Получилось далеко не все, и в своем развитии «постсоветская Россия» плавно подошла вот к этому рубежу. К попытке военного переворота, слегка замаскированному под «всенародное восстание», такое же, как прославляемый либеральными историками фашистский мятеж пятьдесят шестого года в Будапеште.
Фест уже предпринял кое-какие неотложные меры, теперь осталось их «довести до ума» по собственному разумению. И уже потом состыковать сделанное с проектом «Мальтийский крест».
И нечего терзаться в сомнениях. Как сказала при второй встрече на Валгалле Даяна, вдруг заговорившая от имени Игроков (кого-то из): «Совет один, и он последний. Думайте, изучайте, анализируйте. Не бойтесь принимать рискованные решения, но всегда готовьте запасной вариант, если что-то пойдет не так. Смысл жизни не в результате, а в самой Игре, тем более что даже бесконечной жизни не хватит, чтобы выяснить, кто победил окончательно…»[83]
Америку сейчас Фест с Воронцовым поставили в интересное положение. Ей фактически не оставили выбора (на что не решались ни советские генсеки, ни «демократические» властители. Разве только Никита Сергеевич во время Карибского кризиса). Либо там контролируемые шайкой Сарториуса «неоконы» и «безродные космополиты» наконец-то устроят «нормальный» переворот и сбросят все псевдодемократические маскарадные костюмы и маски, либо президент Ойяма сделает то же самое. Только не развяжет тотальную мировую войну, а вернется к политике Франклина Делано Рузвельта и его, увы, не осуществившейся договоренности со Сталиным. Точно по формуле В. Высоцкого: «Правую нам, левую – им, а остальное – китайцам»[84].
Фест только что показал Новикову свежий номер вышедшей по инерции, уже после подавления путча, либеральной газетенки, где сотрудничал недоброй памяти Волович, о котором Вадим поведал друзьям много интересного. Как писал Бабель: «О молниеносном его начале и ужасном конце». Шульгина этот персонаж очевидным образом заинтересовал.
Так вот, в указанной статье автор, назвавшийся «профессором философии», долго и нудно рассуждал (безусловно, готовя почву для новой «оранжево-бархатной революции»), что после девяносто первого года «демократия» в России непрерывно сдавала свои позиции в надежде, что «свобода», «рынок» и «мировое сообщество» сами расставят все по своим местам. Не препятствовали, мол, сохранению пережитков «совка» и «коммунизма», дали волю «клерикалам», «державникам», «националистам» и «русским фашистам». Позволили уйти со светлой дороги парламентаризма в зловонное болото авторитаризма, на глазах превращающегося в тоталитаризм (это ж надо такое придумать, при нынешнем до невозможности «толерантном» и почти бесхребетном президенте, стесняющемся посадить в тюрьму людей, которых даже в «супердемократических» Штатах законопатили бы лет на тридцать, если не пожизненно, плюс еще столько же).
Отчего и скатилась страна к нынешнему состоянию. Но вот «если и когда» (изящная отмазка) демократия в «рашке» победит снова, она немедленно должна заняться собственной защитой от любых «недемократических» проявлений «вековечно-рабского русского характера». И недопущением очередного «скатывания»…
Прочитав это, Андрей изумленно хмыкнул. Ребята точно дошли до самого края. Настолько было уверовали в свою полную победу, что практически открытым текстом заявляют «Urbi et orbi», что, придя к власти, немедленно начнут сажать и расстреливать инакомыслящих, хоть на шаг отступающих от норм «истинного либерализма». И никак иначе этих слов не поймешь, если абзацем выше этот же «профессор» объявляет крупнейшей ошибкой предоставление «права голоса» и «свободы слова» тем, кто их ни в коей мере не заслуживает. Коллективному «Уралвагонзаводу», проще говоря.
Новиков сразу не понял, при чем тут именно этот завод, а не «Ростсельмаш», например, и Вадим ему доходчиво объяснил этимологию и либерастический смысл этого выражения. Был, как раз когда «братья» самовыражались в других мирах, в России еще один кризис, с итогами думских выборов связанный, и там вышли на московские улицы толпы протестующих из партии «Другая Россия». А власть и действующего президента первыми массово поддержали рабочие и ИТР танкового «Уралвагонзавода». За ними еще процентов шестьдесят населения страны. С тех пор в лексиконе «креаклов» и закрепился этот термин-пугало.
Андрей, привыкший вроде бы ко всему, искренне удивился паскудству нынешней «прогрессивной интеллигенции», вполне достойной недавно «изгнанного из рая» Воловича, о каковом событии ему успел красочно рассказать Фест.
Вот уж воистину «бывали хуже времена, но не было подлей». Смердяков у Достоевского именно потому и удостоился специального описания, что было таких, как он, исчезающе мало на всю огромную Россию. А сейчас?! Сотни тысяч в одной только Москве!
Самому Новикову с друзьями тоже не нравилась Советская власть образца семидесятых-восьмидесятых годов прошлого века (еще точнее – большинство ее проявлений), но не возникало же ни у кого из них желания бежать продаваться на радио «Свобода» или примыкать к жалкой кучке «диссидентов», в кругах приличных людей почитаемых скорее за юродивых, чем за предателей.
И если они, «заблудившись во времени», решили учинить крымско-каховскую авантюру (иначе не скажешь) и создали Югороссию – так все же для недопущения худших итогов обеих революций семнадцатого года и для возрождения России, а не для окончательного превращения ее в теперь уже вечный, третьестепенный, ничего не значащий и никому не интересный «задний двор» Евроатлантического сообщества. Такое же деградировавшее в соседстве с Соединенными штатами государственное образование, как, например, Мексика.
– Ну что же, это, пожалуй, подходящая для нас задачка, достаточно интересная, с вариантами, – усмехнувшись особым образом, ничего хорошего не предвещавшим объектам приложения его интереса, сказал Шульгин. – «На пыльных тропинках далеких планет» нам, пожалуй, пока больше делать нечего. Что могли, сделали, теперь поработаем здесь.
И действительно. Дуггурская проблема снята на сколько-то лет, а если воспользоваться возможностями Замка в окончательном рассогласовании континуумов «Земли-2» и ГИП, то и навсегда. Все, чем они сами занимались в параллелях, таким образом, теряет актуальность, если Игроки, конечно, вновь не опомнятся и не добавят жизни здоровой увлекательности. А в ожидании этого вполне спокойно можно заняться делами внутренними, домашними. Уж больно обстоятельства удачно складываются, чтобы обрубить очередной «паразитный» побег на древе ГИП…
В первый раз после 1863 и 1867 годов[85] появился шанс пресечь странный с точки зрения геополитики, психологии и просто здравого смысла англо-американский союз, так много крови испортивший России и СССР за следующие полтораста лет. И, что самое интересное, не принесший никакой ощутимой пользы ни Америке, ни Великобритании.
Свои деньги американские банкиры в любом случае бы заработали, но сами Штаты не загнали себя в почти смертельную геополитическую ловушку. Из нее пытался выбраться Рузвельт, сделав ставку на сотрудничество со Сталиным и нейтрализацию Черчилля, да не успел. А преемника Франклина Делано, манхэттенского бухгалтера Трумэна, герцог Мальборо «сделал одной левой», заставил бывшую британскую колонию послушно реализовывать свои ни на йоту не смягчившиеся за две совместно отвоеванные мировые войны русофобские комплексы. Соглашаясь при этом, чтобы американцы думали, что главные на планете – они!
Но вот сейчас на доске вырисовывается интересная комбинация. Отчего бы ее действительно не разыграть, тем более что и жертвовать ничем особенно не придется. А в перспективе успешного завершения «Мальтийского креста» картинка рисуется прямо радужная. Тамошняя Англия будет разгромлена военной силой или иным способом приведена к ничтожеству, президент тех САСШ надежно выведен из игры Императором Олегом. Следовательно, после Объединения (или как-нибудь еще красиво и пафосно можно будет наименовать предстоящую процедуру) можно будет поддерживать союзнические отношения и с теми американцами, и с этими, отнюдь не допуская каких-либо прямых контактов между ними. Только через нашу территорию и под нашим контролем. Для чего создать специальное военно-научное подразделение, основной задачей которого будет пресечение в корне чьих бы то ни было разработок в направлении поиска собственных межреальностных туннелей.
Если знаешь, с чем бороться, а противник пока не представляет, что искать, проблема оказывается попроще, чем борьба за нераспространение ядерного оружия.
– Значит, так и решим, Александр Иванович, – сказал Ляхов. – Я передаю вам все материалы по проекту «Самурай», и вы в очередной раз преподадите нам мастер-класс политической интриги…
– Нет, так не пойдет, – мотнул головой Шульгин и принялся вновь набивать трубку табаком собственной рецептуры, на базе некогда чрезвычайно популярного, но отчего-то совершенно вышедшего из употребления «Золотого руна» с добавлением еще нескольких экзотических ингредиентов. – Какие там мастер-классы? Не хедер[86] какой-нибудь у нас здесь. Сделаем как положено – создадим рабочую группу, утвердим планы решения первоочередных и последующих задач, распределим обязанности, изберем ревизионную комиссию, председательствующего, почетный и рабочий президиум… Так, примерно. Забыл, что ли?
– Да откуда ж мне помнить, Александр Иванович? – подыгрывая учителю, изобразил искреннее удивление Фест. – Я-то с какого года? Даже в комсомол не успел вступить, как эта ваша стройная система посыпалась. Только читал кое-что о тех славных временах. Выходит, по-любому вам руководить. А я, так и быть, согласен на рабочий президиум…
– Из тебя одного и состоящий, – уточнил Новиков. – А Дмитрий Сергеевич, в знак признания заслуг, будет у нас тоже Президиумом, но Почетным…[87]
– Слушали и постановили, – подвел итог Шульгин. – Но знаешь, Вадим, эта твоя шуточка с Воловичем меня не только позабавила. Соображения кое-какие на сей счет появились. Можно ли эту гиену пера в полезных для нас целях использовать? Вот, Андрей Дмитриевич, побывавший в сталинской шкуре, наверняка нам что-то умное подскажет. Умел Иосиф Виссарионович самых разных людей к общей пользе приспосабливать. Красного графа Толстого обласкал и возвысил, хотя мог и расстрелять. Прокурора Вышинского опять же, хотя тот, в бытность чиновника при Керенском, ордер на арест Ленина выписывал… Не важно, какого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей. Ты как, Андрей, считаешь?
– Посмотреть бы надо, – пожал плечами Новиков. – Ежели он действительно был вождем и рупором «непримиримой оппозиции», вполне может сгодиться. Если все остальное у нас получится…
Глава седьмая
Лютенс жил в гостевом домике Кэмп-Дэвида уже вторые сутки, но Ойяма больше не приглашал его к себе. Лерой прогуливался по территории, постоянно ощущая на себе пристальные взгляды наблюдающих из разных точек и с разного расстояния охранников, но не пытался как-то показывать, что ощущает эту слежку. И без этого всем все понятно. Начальник президентской секьюрити коммодор Брэкетт – тоже профессионал и исполняет свои функции, ничуть не задумываясь, как на это реагирует то ли гость, то ли пленник президента.
Брэкетт знал о Лютенсе все, что позволяли начальнику службы безопасности его допуски и что счел нужным сказать сам Ойяма. Большего узнать не пытался, раз не было такой команды, а излишняя инициатива нигде не поощряется. Тем более в отношении представителя организации, очень не любящей вмешательства в свои внутренние дела.
«Гостю» разъяснены его права и обязанности на территории резиденции, обозначены закрытые для прогулок зоны и границы «полосы безопасности» вдоль внешней ограды и стационарных постов охраны, которые не следует нарушать.
А в остальном человек, объявленный личным гостем президента, свободен. Без права покидать Кэмп-Дэвид, с кем-либо встречаться, пользоваться телефоном или любыми другими средствами связи, интернетом, само собой.
Нормальный режим привилегированного интернированного лица. Довольно комфортабельный, в той мере, правда, что возможен на территории довольно-таки аскетической резиденции. Именно что «лагерь», как и переводится слово «кэмп». Лютенсу, насмотревшемуся на многочисленные дворцы русских царей в окрестностях Петербурга, видевшему Кремль с его Оружейной палатой, все окружающее теперь казалось до удивления жалким и примитивным.
В какой-то мере взгляды его на привычный стиль жизни изменились после того, как господин Ляхов нарисовал разведчику перспективы, открывающиеся в близком будущем. И Лерой почти непроизвольно начал ассоциировать свое будущее не с пуританским, втиснутым в рамки законов и обычаев мирком «среднего американца», а чем-то таким, безалаберно-неорганизованным, полуанархичным, именуемым странным русским словом «воля», но чертовски привлекательным и обещающим намного больше удовольствий и радостей.
Все же Лютенс был не «ВАСПом»[88], а немцем. Немцы же, как известно, испокон веков перебирались из фатерланда жить и работать в Россию, устраиваясь там обычно не в пример лучше, чем на Родине, и достигали высших постов в армии, на флоте и гражданской службе. Но это пока – вопрос неопределенного будущего, и невозможно предугадать, что случится с ним в ближайший час или даже минуту. Сочтет Ойяма, что ему выгоднее сговориться со своим нынешним окружением и теми, кто дергает за ниточки этих марионеток, – и конец всем планам. Арест с последующим тайным судом, на открытый процесс его никто не выведет. Скорее же всего – бесследное исчезновение. Президент сам догадается, или ему подскажут, что это самый удобный выход из положения.
Лютенс не испытывал никаких иллюзий насчет «американской демократии» и «правового государства». В слишком многих акциях сам принимал участие и знал все относящиеся к подобным случаям инструкции и «понятия», как выражаются русские, зачастую придавая этому термину негативно-осуждающий смысл. А ведь любые законы были сначала именно «понятиями», принятыми в том или другом обществе, прошедшие испытание временем и реальной жизнью и лишь затем кодифицированные.
Но сейчас «секретарь посольства» отчего-то не боялся за свою жизнь, хотя в целом ситуация представлялась ему весьма сложной и взрывоопасной. Слишком велики были сила убеждения и надежность, исходившие от директора института паранормальных явлений Вадима Петровича Ляхова. Многое уже Лютенс узнал от него и помимо него, чтобы сомневаться в том, что на произвол судьбы его не бросят. Если уж Ляхов со своей командой (какие теперь сомнения) сумел сорвать тщательно подготовленную революцию в России, к которой были привлечены десятки тысяч людей и потрачены миллиарды долларов, что стоит надежно прикрыть зачем-то понадобившегося ему, в общем довольно обычного сотрудника ЦРУ в личине дипломата. Внезапно Лерой сообразил, зачем именно он нужен Ляхову. Никак не на роль курьера или обычного связного с президентом и оппозиционным нынешним ястребам истеблишментом США.
Игра наверняка затевается по-настоящему масштабная, и русским нужны свои люди на самом верху. С хорошими послужными списками, безупречные с любой точки зрения, которых никто не обвинит в предательстве интересов нации или коллаборационизме. И кого, в случае чего, можно поднять на самый верх, как сами американцы испокон веку поступали со своей агентурой влияния, продвигаемой давно отработанными способами на посты президентов и премьеров вполне себе независимых и уважаемых государств. Теперь, значит, пришла очередь и самой Америки?
Может быть, это и правильно. Лютенс, как и сам президент Ойяма, принадлежал к тому типу людей, для которых Америка не стала в полной мере тем «плавильным котлом», о котором больше ста лет талдычила официальная пропаганда. Они по-прежнему испытывали по отношению к своим «бывшим родинам», точнее – родинам своих предков примерно то же чувство, что очень многие евреи «стран рассеяния», вполне ассимилировавшиеся, – по отношению к Израилю. И, значит, уже не могли считаться «стопроцентными американцами», раз в их представлении существовал хотя бы смутный образ некоей другой, в какой-то мере более ценной, по отношению к этой, страны. Собственно, отсюда и происходит очень часто применяемое к США ее жителями определение – «эта страна». То есть в определенном смысле – «не моя».
Не до всех доходит смысл такой семантической тонкости, но факт остается фактом.
Вот и Лерой, почти незаметно для себя, собственным умом, подкрепленным, на всякий случай, целенаправленным внушением Феста, определился, что, безусловно, желает Соединенным Штатам и их гражданам только добра. Однако ни в коей мере не разделяет позиций их правящего класса по большинству вопросов внешней и внутренней политики и, в полном согласии с Конституцией, имеет право бороться за установление действительно разумных и справедливых порядков. И прежде всего за установление добрососедских, лучше всего тесных союзнических отношений с Россией. Как в годы Второй мировой, только еще откровеннее и честнее.
Здесь внушение, проведенное Фестом, хорошо легло на достаточную отстраненность Лютенса от ханжеского мессианства «истинных ВАСПов» с их кальвинистской злобной нетерпимостью к инакомыслящим и иноверцам. Новые времена добавили к их бредням о заведомом «величии», «избранности» и «предназначении» Америки идею, что все это может быть подорвано примирением с «православными русскими варварами» и «отступничеством» от Божьего промысла, определившего Штатам единоличную роль «пастыря человечества».
Причем русские в этом мире представляют главную опасность, с которыми невозможен никакой компромисс, в отличие от тех же китайцев или даже самых оголтелых саудовских салафитов. Те не предлагают «цивилизованному миру» собственных вариантов неотчуждаемых ценностей вроде «демократии» и «прав человека», единственным хранителем и толкователем коих может быть только Америка, и никто иной.
Иногда, отвлекшись от размышлений, посещавших его во время длительных прогулок по дорожкам поместья, Лютенс сам себе удивлялся, пожалуй, впервые за свою довольно уже долгую и очень непростую жизнь.
За исключением пешего хождения, Лерой, лишенный активной связи с миром за пределами поместья, валялся на веранде отведенного ему бунгало, много курил, пил безалкогольные напитки со льдом, пролистывал доставляемые в Кэмп-Дэвид пачки всякоразных газет и смотрел телевизор, чего не делал очень и очень давно. В России включал только официальные новости, по четверти часа утром и вечером, чтобы быть в курсе. Здесь, впрочем, развлекательные программы его тоже не интересовали. Он занимался тем, что социологи называют контент-анализом, проще говоря, вычленением смыслосодержащих блоков из сплошного массива фоновой информации.
В общем-то это было как раз одной из специальностей Лютенса, только раньше он не применял ее для изучения внутриамериканских процессов. А сейчас применил, за отсутствием изъятого охраной лэптопа рисуя различные графики и схемы на листах бумаги для принтера.
Интересная складывалась картинка. Уже пятые сутки подряд (сразу после выступления российского Президента, транслированного большинством основных мировых каналов) американская пресса вела себя как минимум странно. Маховик якобы независимой пропагандистской машины раскручивался внешне неторопливо, но зловеще неумолимо, подобно только-только начинающей свое движение горной лавине или переливающемуся через край кратера лавовому потоку. Что удивительно – основной удар был направлен не против России и ее лидера. Жертвой «акул и шакалов» пера стал президент американский. И кампания эта явно направлялась и регулировалась из единого центра, профессионалу это было очевидно.
Впрочем, совсем недавно Лютенс в этом же духе и по тому же принципу сам ориентировал руководителей независимых СМИ в России. Только там это не выглядело столь наглядно. За счет сравнительной малочисленности самой оппозиционной прессы и свойственной русским журналистам упертости в собственные так называемые принципы, даже невзирая на гигантские, по тамошним меркам, гонорары согласившихся «работать на демократию» коллег.
Здесь все делалось ощутимо тупее, но зато основательнее. Вначале в достаточно массовых и считающихся солидными изданиях и телевизионных политобзорах появились как бы установочные статьи и выступления «зубров» политжурналистики и дипломатии.
В них взвешенно, без истерик, но с железобетонной тенденциозностью излагалась, так сказать, концепция текущей политической ситуации. Беззастенчиво использовался весь комплект антироссийских и антисоветских еще штампов, обоснований и доводов, разъясняющих пока еще способному самостоятельно мыслить читателю и зрителю, что Россия наконец пересекла «красную черту».
Даже в пятидесятые-шестидесятые годы, в разгар «холодной войны», эта противная всем «человеческим» нормам и принципам держава отнюдь не бросала Америке и всему «свободному миру» явного и нетерпимого вызова, негласно соглашаясь на роль как бы второстепенного «центра силы» и, соответственно, сохраняя пусть и относительную, но «договороспособность». А вот сейчас, находясь в несравненно худшем экономическом, геополитическом и военном положении, Россия вдруг громко заявляет о своем праве поступать на мировой арене абсолютно так, как признанные лидеры человечества, определенные на эту роль самим Богом и историей, что наглядно продемонстрировал недавно минувший двадцатый век, в своей последней четверти расставивший все по надлежащим местам.
Ничего особенно нового в этих откровениях не было, большинство американцев родились в такой атмосфере, многие на закате жизни ощутили бодрящий ветерок, пахнущий терпким духом Фултонской речи и маккартизма.[89] Сравнительно новым было то, что в большинстве материалов с разной степенью категоричности утверждалось, что нынешний демарш России – несомненное доказательство того, что, не имея никаких иных возможностей вернуть себе прежние, утраченные после распада СССР позиции и «капитуляции в “холодной войне”», она безоговорочно стала на путь военного решения всех своих проблем.
Геополитические гуру шли даже на то, что признавали (пожалуй, впервые в послевоенной истории), что объединенные силы Запада едва ли могут рассчитывать на победу в войне «классического типа». И приводили примеры, от Наполеона до Гитлера, которые как раз и мобилизовывали на сокрушение «медведя на глиняных ногах» армии и ресурсы практически всех европейских стран. И, следовательно, решением проблемы может быть только внезапный, массированный «обезоруживающий удар» всеми имеющимися в распоряжении США и НАТО силами и средствами. Только таким образом можно избежать «ядерного удара возмездия» со стороны России, чреватого тем самым пресловутым «неприемлемым ущербом», о котором шли дискуссии все годы «холодной войны».
Тут же, как будто попутно, обыватель уверялся в том, что США и НАТО вполне способны нанести этот обезоруживающий удар, с полным эффектом, и Россия по своей нерасторопности, технической и моральной устарелости баллистических ракет «позапрошлого поколения» отразить превентивный (не агрессивный, а, скорее, «санитарный») удар не успеет. А возможно, и не захочет, поскольку людей, разделяющих идеи Президента в «Московии» ничтожно мало, а весь «креативный класс», да и большая часть генералитета и офицерского корпуса предпочтет немедленно «перейти на сторону свободы». Как это сделали генералы и офицеры Саддама Хусейна в две тысячи третьем году.
Прочитав это, Лютенс только криво усмехнулся и прищелкнул языком. Это даже не шапкозакидательство, это гораздо хуже. Сам он как раз на подобном и прокололся, поверив бесчисленным утверждениям собственных агентов в рядах оппозиции, причем занимающих весьма значительные посты в правительстве и близким к ним структурам, что народ доведен до последней степени нищеты и отчаяния, он всей душой ненавидит власть и прямо-таки бредит и грезит «европейскими ценностями».
Казалось бы, профессиональный разведчик и вообще неглупый человек, Лерой Лютенс, прожив в России несколько лет, мог бы, не разбрасываясь десятками миллионов долларов на «продвижение демократии», эти деньги просто присвоить, а представление об истинном положении дел в стране составлять путем, как выражаются социологи, «включенного наблюдения». И разбогател бы, и заодно понял истинное положение вещей.
Но от него, как и от авторов нынешней антироссийской кампании, как раз здравомыслия и не требовалось.
Вообще, здесь кроется одна из величайших загадок человеческой психики, так сильно повлиявшая на ход мировой истории. Почему-то, играя в шахматы, преферанс или затевая «нормальную», просто с целью пограбить, без всякой идеологии, войну, люди тщательно взвешивают свои возможности и шансы противника и, только все оценив и сопоставив, объявляют «мизер» или посылают в бой свои полки и батальоны.
Но если взять войны, так сказать, «идеологические» – тут здравый смысл как бы автоматически отключается. И опытные, захваленные сверх всякой меры немецкие генералы «прусской школы Шлиффена и Мольтке», планируя «Барбароссу», забывали заглянуть даже в учебники географии и истории для начальной школы. Фюрер сказал: «Россия – колосс на глиняных ногах и рухнет через две недели», значит, так тому и быть. Сразу вылетели из памяти километры расстояний, характер местности, метеорологические сводки за последние двадцать пять лет, ну и соотношение мобилизационных потенциалов тоже.
Лютенс получил некогда установку: «Власть в России слаба, армия развалена, население только и мечтает влиться в европейскую семью народов, оформить шенгенские визы и ездить на выходные пить баварское пиво». Значит, любые другие варианты не подлежат рассмотрению. Нужно найти или создать вождей оппозиции, хорошо им заплатить и в некий «Час Ч» получить на блюдечке с голубой каемочкой искомый результат. Тем более что в десятках аналогичных случаев именно так все и получалось. Что побеждали «цветные революции» в сильно не похожих на Россию странах, во внимание принимать не разрешалось.
К счастью Лероя, ум у него оказался лишь временно затуманен «стереотипами и прецедентами», а испытав на собственной шкуре некое своеобразие «страны пребывания», где пришлось работать, он почти мгновенно вспомнил, что разведчик и половой в трактире: «чего изволите, вашсиясь?», это несколько разные профессии.
Потому сейчас он, прекрасно понимая мотивацию госдеповских пропагандистов (а все шло именно оттуда, стиль своих коллег он хорошо знал), одновременно искренне удивлялся столь топорной, а главное – бессмысленной работе.
Ну, допустим, обывателя они возбудят до последней крайности, и он, пылая энтузиазмом, готов будет рвать русских зубами и ногтями. Но на более-то высоком уровне? Напугать русского Президента и его правительство до согласия на безоговорочную капитуляцию не удастся, это должно быть ясно каждому специалисту (об истерических дамочках из окружения Ойямы речи не идет). Хотя Наполеон, заняв Кремль, тоже на полном серьезе верил, что Александр первый, сидящий в Петербурге, за семью сотнями верст осеннего, абсолютно непроходимого бездорожья, немедленно сдастся. Исключительно с перепугу.
Зачем же тогда подводить мир к самой грани очередной мировой войны, в которой победителей, скорее всего, не будет? Уж какие бы ни были старые у русских ракеты, но раз регулярно возят грузы и людей на Международную космическую станцию, до Нью-Йорка, Вашингтона и Сан-Франциско хоть десяток из двух тысяч долетит. И к чему тогда все?
Но по мере того как Лютенс вникал в следующие уровни пропагандистской войны, истина начинала постепенно приоткрываться. Русские тут, пожалуй, почти и ни при чем. Разумеется, нервы потрепать противнику всегда полезно, взбодрить собственное население и конгресс, выбить еще сотню миллиардов на неотложные военные нужды – святое дело. Но цель не в этом. От «налогоплательщиков» по-любому ничего не зависит, а с теми, кто что-то действительно решает, говорят с глазу на глаз и предметно.
После дежурной, за последние века отработанной артподготовки, столь же традционной, как ход «Е-2-Е-4», и «мэтры и зубры» журналистики, и самые мелкие, «районные», можно сказать, газетенки как-то на удивление слаженно перекинули стрелки вины за нынешний кризис уже на свои, американские власти. А конкретно – на президента Ойяму лично.
Мол, вот к чему привела бесхребетная, соглашательская, ориентированная только на сиюминутную выгоду политика «умиротворения агрессора». Ни разу, мол, не стукнул кулаком по столу, не объявил Россию «страной-изгоем», столь же заслуживающей наказания, вплоть до Гаагского трибунала, как Сербию, – и получил заслуженный ответ. Россия теперь, значит, сама будет определять, кто в этом мире прав, кто виноват. И поддакивать ей вот-вот кинутся десятки никчемных стран «третьего мира», как в советские времена. Врагов у Америки достаточно, и теперь они увидят, что снова появился «защитник» и «арбитр».
Чего же в таком случае можно ждать с учетом того, что позиции Америки в мире значительно ослабели, с учетом китайского и исламского факторов? И главное – кто в этом виноват?
Для непонятливых сразу были названы имена. Президентов, разумеется. Демократия, Конгресс, Сенат, широкая автономия штатов – это для оболванивания толпы и мирового общественного мнения в спокойные времена. А на самом деле все в стране решает президент. Для того и поставлен. Если президент правильный – он приказывает сбросить атомные бомбы, начать войну, объявляет, кого нужно, «Империей зла» и вообще защищает интересы страны любой ценой, ни на кого не оглядываясь. А если «неправильный» – так сами видите… Вот он, ему бы и ответить! Всегда так было. Одни отвечали головой, других подвергали импичменту и с позором изгоняли. Пришла очередь и этого.
Таблоиды пожелтее и побульварнее сразу же начали публиковать слухи о личной жизни, причастности к коррупционным схемам, тайном антиамериканизме и даже возможной склонности к государственной измене.
«Четко, четко все организовано, – думал Лютенс, – очень даже неглупо. Только зачем бы это вообще?» Ни с чем подобным он в своей жизни не сталкивался. Читал, что такое было во времена Никсона – «Уотергейтское дело», но там вся компания крутилась вокруг незаконного подслушивания разговоров в предвыборном штабе соперников на президентских выборах. А здесь прямая калька с кампаний против «врагов народа» в сталинском СССР. Несколько дней или недель травли в печати авторитетных, высокопоставленных людей, а потом партийный пленум, арест, суд, расстрел.
Но ведь здесь не мрачная тоталитарная империя, здесь «самое демократичное и свободное в мире государство». Или – уже нет?
Чем так кому-то досадил мистер Ойяма, что прямой клеветой решили не брезговать, будто заведомо привлечения к суду не боятся? Вроде прошли те времена, когда посреди политической, да и физической биографии «первого лица» ставили свинцовую точку. Ему и осталось какие-то два года отсидеть в Белом доме, переизбираться не будет. Кроме всего прочего, имеется масса отработанных способов заставить президента делать и говорить что нужно тем кому нужно. Да и что от него истинным «хозяевам Америки» могло бы понадобиться?
Кеннеди убили за то, что собирался отменить налоговые льготы «на истощение недр» техасским нефтяным баронам. Линкольна – за разгром Конфедерации и освобождение негров. Этот, кажется, ни в чем подобном не замечен. Неужели действительно за то, что не хочет воевать с Россией? И сопротивляется навязываемой ему роли «бешеного пьяного ковбоя», который вел бы себя на мировой арене как в аризонском салуне позапрошлого века, паля в потолок из двух «кольтов» сразу и загоняя посетителей пинками под столики…
А кому такое может понадобиться? Уж едва ли крупному транснациональному капиталу. Там люди серьезные и понимают, что ядерная боеголовка, взорвавшаяся посередине Уолл-стрит, зачеркнет все предполагаемые выгоды от унижения России.
В любом случае кто-нибудь из власть имущих переговорил бы с Ойямой с глазу на глаз, изложил бы, что от него на очередном историческом этапе требуется. А тут – неспровоцированный, совершенно хамский «наезд» на первое лицо, как ни крути, верховного главнокомандующего и прочая… И сразу же, без паузы – такая вакханалия в прессе.
Значит, кто-то там, на самом-самом верху, действительно сошел с ума. Причем настолько значительный, что и возразить ему подходящих фигур не нашлось.
– По-хорошему, следовало бы с этой планетки поскорее сматываться. Только вот беда, некуда… – Лютенс с удивлением отметил, что последние слова произнес вслух, по русски, и даже получилось нечто рифмованно-ритмизированное, вроде поговорки или присловья.
Он подумал, что надо немедленно попросить у президента аудиенции и донести до него кое-какие пришедшие в голову мысли. Относительно этой вот самой кампании. И необходимости срочно принять контрмеры. Но прежде неплохо бы перед разговором с Ойямой посоветоваться с «куратором». Лерой, отправляясь сюда, еще не представлял, что дела зашли так далеко.
Может быть, Вадим Петрович знает, почему президент затворился в Кэмп-Дэвиде, как царь Иван Грозный в Александровской слободе, и демонстрирует какую-то буддийскую (или – синтоистскую) отстраненность от мира. Но, однако же, президент «курьера» держит при себе, чего-то выжидая. Был бы Лютенс ему не нужен – давно бы отправил… Куда – это другой вопрос.
К сожалению, Лерой сейчас ощущал себя словно в эпоху до изобретения Беллом первого телефона. Чистое средневековье – или подкупай стражника, чтобы записочку доставил по адресу, или почтового голубя отправляй. Увы, и то и другое невозможно. Стражники сейчас не те, что в давние века, у Лютенса просто наличных денег не хватит, чтобы нынешнего охранника с гарантией подкупить, а голубя – где ж его взять?
Очевидно, «профессор» Ляхов, кроме прочих способностей, мысли читать тоже умел. На любом расстоянии.
Экран телевизора мигнул и погас, прерывая на полуслове очередное ток-шоу на тему: «Такой ли президент нам нужен в это судьбоносное время?» По почти единодушному мнению неизвестно где набранных «экспертов», отставных конгрессменов и «людей с улицы» выходило, что совсем не такой. А какой именно, дослушать не удалось. Но ясно было, что широко известный и весьма популярный ведущий гнет к тому, что даже импичмент в текущих обстоятельствах не годится. Чрезвычайно долгая и формализованная процедура. Куда лучше отстранить его от власти прямо завтра. По медицинским, например, показаниям…
Через секунду плазма снова засветилась, и на расстоянии трех метров Лютенс увидел облокотившегося о край обрамляющей экран рамки Вадима Петровича собственной персоной. Паранормальные явления продолжались, ибо каким иным образом мог проникнуть этот человек внутрь кабельной сети, предварительно преодолев в виде электрического сигнала несколько тысяч километров космической пустоты, из Москвы до спутника-ретранслятора и от него до сервера на ближайшей цифровой подстанции. А потом сюда по оптоволоконному кабелю.
– День добрый, Лерой, – вежливо улыбнулся «куратор». – Как здоровье? Рецидивов не было?
– Спасибо, вашими молитвами. Но как вы?..
– Опять за рыбу гроши! Пора бы и привыкнуть после возвращения с того света и всего, что вы уже узнали. Чтобы раз и навсегда перестать забивать себе голову никак не нужными сейчас вопросами, просто представьте, что вы культурный и образованный инженер из середины XIX века. И вдруг вам некие не менее культурные и образованные люди показали действующий телевизор или обычный сверхзвуковой истребитель. Вкратце могли и объяснить, на каких принципах все это работает. У вас достаточно ума и здравомыслия, чтобы принять все увиденное как данность, не впадая в панику или религиозный экстаз. Но одновременно понять, что на профессиональном уровне вы никогда в этом не разберетесь. Остается успокоиться и жить дальше, извлекая из чудес техники пользу и удовольствие.
Как в принципе поступали всякого рода туземцы при встрече с европейским прогрессом. Сам без штанов сидит в бедуинской палатке у очага, в котором горит верблюжий помет, но одновременно смотрит портативный телевизор со спутниковой тарелкой…
Лютенс только хмыкнул, услышав такое сравнение.
– Вам тут не особенно досаждают излишним вниманием? – перешел Ляхов к прозе жизни.
– Вы о прослушках и видео? Я проверил, понимаю в этих делах кое-что. Вроде чисто. Меня обыскали, все неположенное изъяли, поэтому считают, что внутри помещения следить незачем, вот снаружи опекают плотно… Как вы думаете, долго меня здесь продержат? Карантин или?..
– Вы же телевизор смотрите? Значит, представляете, что за бортом творится. На самом деле, как вы правильно заметили в разговоре со своим послом в Москве, – это всего лишь пыль на верхушке айсберга. Тут процессы просто тектонические, каких Штаты не знали со времен Гражданской войны или «Нового курса» Рузвельта[90].
Вам бы еще европейской прессой поинтересоваться, там тоже такого… интересного найти можно, что я моментами и слов не нахожу. Хотя все же в Европах умные и просто неангажированные люди чаще попадаются. Например – проскакивают мысли насчет того, что нынешние и американская, и русская тактики всего лишь операция прикрытия какой-то стратегической цели, разгадать которую было бы чрезвычайно важно для интересов всего Старого Света. Глубокая мысль, вы не находите?
Лютенс немного подумал и ответил, что если автор этой идеи руководствуется «нормальной логикой», то тогда и паранойю можно объяснить с рациональных позиций. Например, предположив нечто вроде «сговора» двух великих держав. Или – вмешательство никому не известной «третьей силы»…
– Ну, если это ТАК на поверхности лежит, придется углу́бить, – задумчиво сказал Ляхов. – Впрочем, никакой разницы. Просто догадка одного умного человека никак на общий расклад повлиять не способна. Да хоть бы и тысячи… Я, собственно, зачем появился… Хочу предложить несколько идей для разговора с камрадом Ойямой. Тут, мне кажется, нужно пойти на обострение, тем более что мы, похоже, на самих затейников вышли и догадываемся, как на них повлиять…
Лютенс понял, что имеет в виду «куратор». Те самые «круги», что вертели американскими президентами и большей частью мировой политической элиты, как им того хотелось, без малейшей оглядки на реальные интересы и судьбы что «своей» страны, что любой другой, и миллиардов населяющих Землю людей. Сбои у них случались до крайности редко, в двадцатом веке, пожалуй, только с Рузвельтом, Эйзенхауэром да кланом Кеннеди. Правда, после шестьдесят третьего года[91] «Система» самообучилась и начала пресекать подобные поползновения еще в процессе их вызревания у считающих себя слишком самостоятельными президентов, премьеров и даже диктаторов вроде Саддама Хусейна, Каддафи или, чуть раньше, иранского шаха.
Другое дело, что по «гамбургскому счету» лучшие аналитики «мировой закулисы» не тянули и на первый шахматный разряд, не умея предвидеть последствия своих действий даже на три хода вперед, отчего и глобальная ситуация в целом, и качество того питательного субстрата, на котором «Система» паразитировала, постоянно ухудшались. Вплоть до нынешнего кризиса.
– Обстановка таким образом слегка поменялась, и по факту нам уже и сам Ойяма не слишком нужен. Вопрос может быть решен, как мы, медики, выражаемся – радикально. Но сочтено полезным господина Ойяму в должности сохранить и всячески поддержать. Просто в силу возникшей «зеркальности» на «мировой шахматной доске» теперь уже России невыгодна смута, могущая возникнуть на вашей вполне взрывоопасной территории в случае свержения законного президента и начавшейся дележки власти. С немедленной фашизацией Америки по лучшим немецким лекалам. А план такой существует, это я вам со всей ответственностью заявляю. И к чему это приведет…
При общей безбашенности и глубоко криминальном характере вашего общества факт наличия у Штатов ядерного оружия и военных баз по всему миру создает куда большую опасность, чем Россия начала девяностых… Сомали таких масштабов нам совсем не нужно.
Лютенс сначала хотел обидеться на столь жесткую и несправедливую характеристику своей страны, но, слегка задумавшись, воздержался. Если вспомнить про негритянскую, мексиканскую, мусульманскую, индейскую проблемы… Приплюсовать сюда уровень общеуголовной преступности, число заключенных в тюрьмах, легальных и секретных, да еще учесть склонность вроде бы до идиотизма законопослушных граждан к вспышкам немотивированного насилия и тотальным грабежам во время самых незначительных природных или социальных катаклизмов (вроде внезапного отключения электричества в Нью-Йорке или наводнения в Нью-Орлеане), то Ляхов, пожалуй, прав.
Американское общество давно и тяжело больно вялотекущей паранойей. А вдобавок Лерой (разведчик все же, целый полковник) хорошо знал, что мало кто сравнится с американскими солдатами и офицерами в непрофессионализме, истеричности и готовности убивать направо и налево своих и чужих по любому поводу и без такового. Лишь только что-то померещится в темной комнате, условно говоря. Именно при контактах американских войск с союзниками родился термин «дружественный огонь»[92], которого не знала ни одна армия в мире, хотя, конечно, у всех всякое случалось. Но не как система.
– Если я правильно понял, вас больше устраивает превращение Ойямы в вашу марионетку при устранении его противников?
– Пожалуй, это слишком грубо, – не слишком скрывая сарказма, улыбнулся Ляхов. – Зачем нам марионетка? Да и вам тоже. Всем нужен человек, реально представляющий смысл своей должности, подлинные интересы государства и народа, здраво оценивающий окружающую обстановку, видящий перспективы не в войне против всех, а во взаимовыгодном сотрудничестве…
– Ну, это уж вы чересчур хватили, Вадим Петрович, – ответил почти аналогичной усмешкой Лютенс. – Ангельские крылышки в комплект входят?
– Зря смеешься, товарищ Шеховцов, – назвал вдруг Лероя его российским шпионским псевдонимом Ляхов. – У нас процедура поиска нужных для любого конкретного дела идеальных исполнителей в свое время была довольно четко отработана. Особенно во время Отечественной войны. С каким составом полководцев начинали и с каким закончили? А как именно это делалось – книжки почитай. Наши, не американские. Уловил, что я хотел сказать?
– Очень даже уловил. Только из Ойямы Рокоссовский или Жуков не получится…
– Нам в Вашингтоне Жуковых и не надо. Адмиралов Ямамото тоже. Нужен просто здравомыслящий вменяемый человек. Слушай меня внимательно, мне особо недосуг, да и этот канал связи долго держать нельзя… Поэтому исходи вот из чего…
Ойяма пригласил к себе в кабинет Лютенса часа через два после того, как Ляхов закончил свой инструктаж. Лерой в очередной раз был удивлен четкостью и логической безупречностью приводимых «куратором» доводов и практических рекомендаций. Словно действительно выдающийся гроссмейстер разбирал отложенную на турнире претендентов партию и демонстрировал единственному слушателю весь веер вариантов и за черных, и за белых и тут же объяснял, какие из них следует отмести сразу, а какие обещают максимально прямой путь к победе или ничьей, смотря кто на что настроен.
Несколько раз Лютенс попробовал возражать, ссылаясь на объективную невозможность или вызывающую авантюрность предлагаемых решений, но Вадим Петрович немедленно приводил безупречные контрдоводы, основанные на реально случившихся в последние полвека почти аналогичных событиях.
– Я до сих пор пребываю в сомнении, – сказал президент, поглядывая на разложенные по столу бумаги, и доставленные Лютенсом, и какие-то другие, а также на экраны сразу двух включенных лэптопов справа и слева от себя. – Считать ли вас просто курьером, выполняющим данное с непонятной пока что мне целью поручение? Данное неизвестно кем. Неизвестными людьми из несуществующей в нашей стране политической оппозиции? Или вы все же – перешедший на сторону врага двойной агент? А может быть, просто человек, введенный в заблуждение гораздо более опытным противником, находящимся внутри страны или за ее пределами? Или, наконец – истинный патриот, рискующий жизнью ради блага Америки. Видите, сколько почти равнозначных вариантов. Вы в состоянии развеять мои сомнения?
– Dulce et decorum est pro patria mori[93], – произнес Лерой, глядя в глаза президенту.
– Это вы, простите, к чему? – удивился Ойяма.
– Я читал, что именно эти слова произнес полковник Штауффенберг, когда его вывели на расстрел[94]. Все же он мой соотечественник, не пожалевший жизни ради дела, которое считал справедливым. Я сейчас примерно в том же положении. Я понял, что ради сохранения мира на Земле и дальнейшего существования Америки, которой служу, следует рискнуть. Слава богу, что для этого не нужно никого убивать. По крайней мере – сейчас…
Последние слова прозвучали несколько двусмысленно, и президент вполне мог принять их на свой счет. Но, кажется, не стал этого делать. Просто прищурил глаза, отчего стал совсем похож на своего знаменитого предка. В конце-то концов, он сам (скорее повинуясь минутному порыву, а не длительным размышлениям) пришел к тому же выводу, что и этот прежде неизвестный ему лично офицер.[95]
– Вы таким образом оцениваете сложившуюся обстановку? – спросил президент. – И в полном объеме знакомы с доставленными вами документами?
– Да, так и оцениваю. С документами знаком. Перед тем как запечатать пакет на моих глазах, мне позволили их просмотреть. В любой нормальной стране этого было бы достаточно, чтобы арестовать всех упоминаемых там лиц, обвинить их в государственной измене и предать военному суду. Но у нас, что вы должны понимать не хуже меня, придется столкнуться с почти непреодолимыми препятствиями, и исход дела может оказаться совсем не в вашу пользу, господин президент.
У вас нет подчиняющихся лично вам силовых структур, пресса к вам явно недоброжелательна, что я с сожалением наблюдаю последние дни, а значит, и большинство американского народа завтра или послезавтра вполне искренне начнет считать вас исчадием ада. Конгресс и сенат тоже предпочтут вас, как выражаются русские, – сдать. С импичментом затруднений не будет, если те, кто контролирует эти органы народного представительства, сочтут данный шаг целесообразным. Но лично мне кажется, что вариант Рузвельта[96] больше соответствует нынешним нравам, чем вариант обоих Кеннеди. Тем более скоропостижную кончину тоже спишут на русских. Сейчас не то что полвека назад. Не потребуется даже предъявлять никаких доказательств. «Мы точно знаем, что это они!» – вот и вся доказательная база. «А кто не верит или возражает – тоже русский агент».
– Мне крайне неприятно с вами соглашаться, но в глубине души я чувствую, что вы правы. Но это значит, что никакой «великой американской демократии» больше не существует? – в голосе Ойямы прозвучали нотки, более подходящие ребенку, расстроенному тем, что ему вручили правильно сложенную конфетную бумажку без конфеты внутри.
«Эк тебя по мозгам шандарахнуло! – опять по-русски подумал Лютенс, эти переключения последнее время все чаще происходили у него автоматически, без участия сознания. Можно сказать – ситуативно. – И ведь всего лишь убедился, дядюшка, что в голом виде королева Демократия, которой ты поклонялся, страшна, кривобока, покрыта язвами и лишаями. Но главное – между делом приказала тебя, своего верного пажа и паладина, четвертовать. Так, на всякий случай. Обидно, понимаешь!»
Лютенс раньше не верил, что подобной глубины изменения убеждений немолодого, занимающего важный государственный пост человека могут происходить так быстро и, по видимости, достаточно легко. По крайней мере, следов душевных терзаний ни в словах, ни в поведении Ойямы не замечалось. Но напряженная работа мысли была видна, что называется, невооруженным глазом.
Ну а чего же он хотел? Чтобы Ойяма рвал на себе волосы, метался по кабинету и вздымал к небесам руки, роняя с губ бессвязные слова, или с подъемом произносил художественно выверенный монолог в духе незабвенного принца Датского? Не те времена, или, точнее, в любые времена реальные люди, даже коренным образом меняя убеждения, делают это без внешних эффектов. А эффекты, монологи или «исторические фразы» придумывают за них историки и литераторы.
Сам ведь он тоже признал правоту Ляхова и, значит, фактически отрекся от всей своей прежней жизни на удивление легко. Правда, после пережитой клинической смерти. И еще – что ни говори, и он сам, и президент как бы не «стопроцентные американцы», оба несут в себе какой-то другой национальный код, пусть и старательно заваленный целыми горами стереотипов, идеологем, просто бытовых привычек страны пребывания.
Но разве мало известно случаев, когда пробуждается, например, внезапно некое чувство у глубоко ассимилированного европейского или русского еврея? Так остро пробуждается, что он бросает все, меняет данное ему от роду имя на совсем другое, ветхозаветное, и мчится в дикие края, чтобы «с винтовкой за плечами и рукоятками плуга в руках» возрождать «Эрец Исраэль»? По крайней мере, так случилось с сотнями тысяч людей меньше века назад. И прочел это Лютенс в случайно попавшемся на глаза жизнеописании Бен-Гуриона[97].
Вот, очевидно, в момент политического и нравственного кризиса что у него, что у Ойямы на первое место тоже выдвинулись личностные качества тех народов, к которым они принадлежали генетически, а не в силу, так сказать, жизненных обстоятельств.
– Никакой демократии на самом деле не существует. Это просто удобное наименование того общественного устройства, которое в данный момент позволяет господствующему классу решать свои проблемы с минимальными, по сравнению с другими вариантами, затратами, – произнес Лютенс и сам удивился, какая изящная у него выстроилась фраза. А почему бы и нет? Маркс с Энгельсом, придумавшие так называемый «Исторический материализм», весь состоящий из подобных фраз, тоже ведь были немцами.
«Почему среди немцев так много философов? – тут же вспомнился старый анекдот. – А вы их женщин видели?» И перед глазами разведчика возник образ Рыси, как она запечатлелась на так и не стертых им фотографиях[98]. Да уж, с такой о любой философии забудешь, при том, что она сама как раз почти «доктор философии». Вот ведь парадокс. А не оттого ли с ним произошел этот «душевный слом», что он просто-напросто по уши влюбился в «паранормальную девицу» и жизненный выбор сделал еще тогда, на улицах послепутчевой Москвы. И теперь его подсознание всего лишь старательно ищет наиболее удобный и надежный способ добиться от Рыси взаимности. А что – объяснение не хуже прочих, более заумных. Антоний ради Клеопатры тоже от Рима отрекся.
– Разве не демократы в Афинах приговорили к смерти Сократа всего лишь за то, что говорил, что думает, «тем подавая молодежи пагубный пример»? И вас сейчас готовы ликвидировать примерно за это же. А между двумя событиями – двадцать пять веков развития «демократической теории и практики». Слава богу, ни на моей, ни на вашей, господин президент, исторической родине демократия и не ночевала до момента, пока и нас, и вас не оккупировали наши нынешние соотечественники. И двух поколений не прошло…
– Вы не слишком радикально решили менять лошадей на переправе? – пожевав губами, спросил Ойяма. Но осуждения в его голосе Лерой не услышал.
– Мне кажется, господин президент, это нас с вами решили поменять, – ответил Лютенс. – Не спросив нашего согласия. Вы, наверное, в курсе – я потратил почти полтора года, чтобы организовать свержение вашего русского коллеги, и очень много денег налогоплательщиков. Акция не удалась по очень простой причине – мы не учли, что желающих защитить своего президента оказалось значительно больше, чем его противников. Вдобавок они оказались смелее и решительнее. Лидеры оппозиции клялись мне, что в нужный момент выведут на улицы Москвы миллионы протестующих, которые в одночасье сметут опостылевший режим. Как царский или «временный» в семнадцатом году. Каждый протестующий оценивался примерно в сто долларов. Для тех, кто должен был непосредственно нейтрализовывать господина президента, счет шел на десятки тысяч «зеленых спинок». Одномоментно.
А сколько денег ушло на создание и поддержание должного уровня противостояния в российском обществе! И все напрасно. Я там был и все видел своими глазами. Теперь я должен ответить головой за то, что даже за пять миллиардов долларов русские не захотели сменить свой «всем ненавистный кровавый режим» на нашу оккупацию. Вы Достоевского читали? «Братья Карамазовы». Рассуждения Смердякова о том, что глупым русским нужно было сдаться умному Наполеону? Так вот – Смердяковых даже в либеральной Москве оказалось на удивление мало. И все денежки налогоплательщиков, потраченные на свержение режима, в итоге только укрепили его.
А теперь мы должны за все отвечать? Увольте! Я – фигура мелкая, «слон» или «конь», а вас, «короля», решили сменить потому, что не удалось так поступить с Президентом России. Дело не в том, что вы не то чтобы прямо отказываетесь повторить сценарий «кубинского кризиса», а в том, что задаете вопросы, на которые кто-то не хочет отвечать даже вам.
Подумайте, разве нормальный лидер нации, только что избегнувший уготованной ему участи и пользующийся поддержкой армии и большинства народа, поддастся на неуверенный шантаж? Он ведь действительно неуверенный, согласитесь. Нам нечем всерьез пригрозить русским. Разве только угрозой взаимного уничтожения. Какой в этом смысл? Я знаю, что ваш предок, выиграв войну с русскими не так красиво, как ему бы хотелось, грубо говоря – с чудовищными бессмысленными жертвами, неоднократно просил императора позволить ему совершить обряд «сеппуку»…
– У вас неправильные сведения. Маршалу за победу над Россией пожалован титул князя и личного советника императора, – перебил Лютенса президент.
– Простите. Я не столь сведущ в истории Японии и вашего рода. Повторил, что слышал. Но это совсем неважно. Генерал Паттерсон ведь сказал, что Америка к настоящей войне не готова. И на подготовку уйдет не меньше года. Немцы, имея полноценную победоносную армию, уже покорив Европу, восемь месяцев расписывали по пунктам план «Барбаросса». Этого оказалось недостаточно и закончилось очень плохо. Беспилотниками и «Томагавками» войну не выиграть, потребуется несколько миллионов хорошо обученных и мотивированных солдат сухопутных войск. У нас их нет и не будет. Не сорок первый год на дворе, и люди в Америке живут совсем другие. Они в штыковую атаку не пойдут и не поведут в бой торпедоносцы без шанса на возвращение…[99] Значит, вас поставили перед ложным выбором. Неужели это вам не понятно?
Ойяма промолчал, весь поглощенный раскуриванием очередной сигары. Он, нервничая, вчера и сегодня выкурил их больше, чем за предыдущий месяц, наверное.
– Знаете, первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк при всей своей внешней неотесанности и грубости часто говорил умные вещи, достойные занесения в анналы. Вот одна из произнесенных им, не помню, по какому поводу, фраз: «Государственный деятель творить не может. Он может только дожидаться момента, когда раздастся эхо шагов Господних; вот тогда он должен сорваться с места и схватиться за край его одеяния». Мне кажется, сейчас как раз такой момент…
– Вы, вернее, ваши «консультанты» – и мои «друзья» предлагают совершить государственный переворот и превратить Штаты в тоталитарное государство? – по-прежнему без внешних эмоций спросил Ойяма, окутываясь клубами резко пахнущего дыма.
– Кто говорил о «тоталитарном»? Это уже плод ваших личных эмоций. – Лютенс явно дерзил человеку, стоящему неизмеримо выше его. Но сейчас его тон вполне отвечал ситуации. В случае неудачи общая участь их уравняет. – Ни в коем случае, господин президент. О каком перевороте речь? Это ваши «оппоненты» УЖЕ спланировали переворот, и на смену вам придет настоящий диктатор. Латиноамериканского, скорее всего, типа. Те, от чьего имени я говорю, советуют всего лишь повторить действия своего русского «коллеги». Дождаться момента (очень близкого, кстати), когда переворот начнут другие, подавить его с максимальной быстротой и жесткостью (я не говорю – жестокостью, хотя стоило бы), после чего начать реформы.
Еще один «Новый курс». Тут главное – не посягнуть ни на одно из прав и свобод «простого американца», «реднека»[100], напротив того – начать немедленное перераспределение большинства материальных благ «по справедливости», избавиться от мигрантов-паразитов, отменить всяческие велферы для собственных бездельников. «Кто не работает, тот да не ест».
– Начать строить социализм? – впервые за их долгий разговор усмехнулся президент.
– Последняя фраза – из Библии, прошу прощения. Не из программы большевиков. А американцы ведь чтут Библию?
– Смотря когда и в каком смысле. Новая Гражданская война нам не нужна. Да и не будет никакой войны. Нас уничтожат быстрее, чем мы начнем действовать. Вы не представляете, какие силы затеяли эту игру…
– А вот тут вы ошибаетесь, сэр. Эти силы – на самом деле мнимость! Они просто объявили себя «самыми крутыми парнями на раене», и все им поверили. Как говорил кто-то из моих русских приятелей – иногда достаточно хорошего удара прикладом в зубы, чтобы мозги встали на место.
При этих словах Ойяма поморщился, хотя с чего бы? Все его соотечественники последнюю тысячу лет считали именно такой довод самым убедительным. Долго им пользовались, а в последний раз сами стали объектом подобной процедуры.
– Очень может быть, что нам выпал редкостный шанс – немного исправить эту страну, – продолжал свою речь на грани «нейролингвистического программмирования» Лютенс, – приблизить ее к тем идеалам, что декларировали (не берусь утверждать, что они были совершенно искренни) отцы-основатели. Вы же понимаете, должны были успеть понять, что сегодня в Штатах нет ни настоящего президента, ни сената, ни конгресса, ни независимых губернаторов, суда, прокуратуры. Ничего этого нет. Есть власть спрятавшихся в очень глубокую тень «денежных мешков», скорее даже морских контейнеров, набитых деньгами.
Хоть в одной стране мира – по-настоящему независимой, я имею в виду – возможен такой абсурд, как частная эмиссия денег? Я не слышал. Эти люди напечатали зеленых бумажек на сотню триллионов, и девяносто процентов их ничем не обеспечено. Вы как президент можете это прекратить и вернуть страну к нормальной финансовой системе?
Ойяма опять промолчал. В принципе Лютенс не говорил ничего такого, о чем он сам не размышлял бы постоянно, и не только в годы своей легислатуры, намного, очень намного раньше. Только тогда воспринимал это как данность, как закон природы.
Америка – величайшее в мире государство, призванное руководить миром и человечеством. Для того чтобы выполнять эту миссию, она устроена таким именно образом. И власть, и финансовая система, и неизменная двести лет политика. Все другие державы, некогда не менее великие, давно сошли с исторической арены – совсем как Австро-Венгрия – или превратились в третьеразрядные государства вроде Франции. Даже его Япония, по совести сказать, не более, чем пятьдесят первый штат, ничего собой, кроме относительно большого количества все той же черно-зеленой резаной бумаги на банковских счетах, не представляющая.
Но сейчас, в свете событий последних дней, все стало восприниматься совсем иначе. А если действительно решиться? Стать в один ряд с Вашингтоном, Линкольном, Рузвельтом? Превратить Америку в совсем другую страну. Большую, богатую, культурную, но обыкновенную! С настоящей демократией, настоящими правами человека (заслуживающего это звание), невмешательством в чужие дела. Если получится – подлинным, без «большой дубинки» в руке нравственным маяком остального человечества! Но…
Лютенс, казалось, за проведенное в обществе президента время научился легко читать его мысли. По почти незаметным сокращениям мимических мышц, скупым жестам, свистящему звуку втягиваемого сквозь зубы (по национальной привычке, от которой он вроде бы давным-давно избавился) воздуха. Но прежде всего, конечно, помогал проведенный Ляховым инструктаж. Не зря тот называл себя ясновидцем и специалистом по прочим мистическим процессам. Человек, умеющий ходить между мирами. Впрочем, Волович утверждал, что тоже может.
«Интересно, что с ним сделали после того, как Лерой сообщил «куратору» о его предательстве?» – мелькнула не имеющая отношения к теперешним обстоятельствам мысль.
Вадим Петрович довольно подробно изложил, что должен говорить сам Лютенс и о чем, почти наверняка, будет спрашивать его Ойяма, какие доводы способен воспринять и чем приблизительно закончится сегодняшняя беседа. Имелись в запасе у Лероя и несколько эффектных трюков, способных подействовать на воображение человека, никак не подверженного легковерию.
– Вы наверняка хотите спросить меня, поскольку себе этот вопрос уже задали, – «Неужели желания одного человека достаточно, чтобы изменить двухвековую парадигму величайшей из сверхдержав, страны с населением в триста миллионов, но контролирующей еще три миллиарда людей на Земле?» И я вам отвечу – да. Это возможно. Более того, только так настоящие исторические повороты и совершаются.
Не будем говорить о нравственности или безнравственности того или иного исторического деятеля. Знак тут не важен, это дело вкуса. Линкольн сохранил единство Штатов ценой гибели нескольких миллионов человек, и он велик, хотя Конфедераты были совершенно в своем праве, не желая жить в одной стране с «янки». Гитлер почти без усилий превратил Веймарскую Германию в Третий Рейх. Просто знал «болевые точки» своих соотечественников. Ленин и Сталин свергли царя[101] и построили Красную державу, разгромившую Гитлера. То же самое можно сказать о Наполеоне, Александре Македонском и прочих. Горбачев на наших с вами глазах сделал так, чтобы рассыпался в прах Советский Союз. Все остальное – парламенты, «экономические условия», «совокупная воля масс» – это уже вторично.
Главное – это вовремя услышать эхо шагов Господних. Даже мне кажется, что я их уже слышу.
– Вы опасный человек, Лютенс, и я снова не знаю, слушать ли вас дальше или вызвать охрану…
– Что вы выгадаете, сэр, и что рискуете потерять? Я сам по себе для вас опасности не представляю. Но мои слова вас пугают. Вы не привыкли думать в этом ключе. И я мало в чем могу вам помочь лично. Разве что умереть рядом, когда за вами приедут… Как на днях приезжали за русским Президентом.
– А дальше? Вы явно сделали театральную паузу.
– Дальше? Я от имени людей, которые беседовали со мной так же, как мы сейчас говорим с вами, могу пообещать личную безопасность и полную поддержку во всех делах, которые вы сочтете полезными для Америки. Для себя эти люди не хотят ничего… Но это они сломали нашу игру в Москве и спасли русского Президента.
– Так не бывает. У каждого есть какой-то интерес. Большой или маленький, деревенский или глобальный. Один жаждет денег, другой власти, третий – славы! Чего хотят ваши «друзья»?
– Можете верить, можете нет – они на самом деле хотят мира на Земле и чтобы какая-то Америка не диктовала ни одному человеку, как ему жить, кого любить и во что верить.
– Идеалистический абсурд! – не сдержавшись, фыркнул Ойяма. – На самом деле, простыми словами, – они хотят, чтобы Россия заняла место США. Иначе просто не бывает. И вообще, кто, наконец, эти люди? Близкое окружение русского Президента или некое, теперь уже их «теневое правительство». «Двенадцать славянских мудрецов»?
– Иногда эти люди называют себя «Комитетом защиты реальности». И никакого отношения к властям России они не имеют. Я вообще сомневаюсь, имеют ли они отношение к этому миру. Но могущество их велико. Разве вы сами не убедились еще?
– Забавно, – едва слышно пробормотал Ойяма. Как там было написано в гексаграмме «Тай»? «Малое отходит, великое приходит. Городской вал опять обрушится в ров. Не действуй войском. В своем городе изъявляй свою волю! Упорство приведет к сожалению». – Вы говорите абсурдные вещи, Лерой. Однако отчего-то мне хочется вам верить. Возможно, потому, что Конфуций сказал почти то же самое. Но все же каким образом эти люди смогут мне… нам помочь, защитить нас и избежать при этом даже подобия гражданской смуты?
– От вас требуется только решительность на пути, который, я полагаю, вы уже избрали сами. Без моей подсказки. А пока вы будете идти по лезвию меча над пропастью, вас осторожно поддержат. И ничего больше. Ни клятв, написанных кровью, ни даже инструкций вроде тех, что наши послы раздают правителям союзных и дружественных нам государств. Просто помощь и защита от превратностей жизни. Еще раз прошу обратить внимание, эти люди – сами по себе. Договариваться о чем-либо и заключать пакты вам придется с русским президентом и его министрами. Если сохраните свой пост и голову, конечно.
Лютенс посмотрел на часы.
– О! Уже почти семь. Мне кажется, имеет смысл включить телевизор. Что еще интересного придумали ваши враги? Вдруг вы уже низложены?
– Ну и шутки у вас. Но я не против. Включайте.
Мелькнула заставка новостной программы, на экране появилась дикторша, обычно сравнительно миловидная для природной американки, но сейчас непонятно взъерошенная и даже перепуганная. Сразу было ясно – случилось нечто экстраординарное. Русские нанесли превентивный удар? Но тогда президенту доложили бы раньше…
– Страшная и необъяснимая катастрофа! – частила девица, сбиваясь и проглатывая отдельные слова. – Пятнадцать минут назад вертолет главы администрации президента США Кейтлин Мэйден взлетел из Вашингтона и, по дошедшей до нас информации, направился в Кэмп-Дэвид, где сейчас находится господин президент. Спустя четыре минуты, по словам очевидцев, он неожиданно изменил направление полета на прямо противоположное, теряя высоту прошел над набережной Потомака и врезался в опору Арлингтонского моста. После мощного взрыва обломки упали в воду реки. Данных о количестве жертв среди пассажиров проезжавших по мосту автомобилей пока нет, но, по словам очевидцев, вертолет полностью уничтожен взрывом. Вряд ли кто-нибудь мог в нем уцелеть даже при огромном везении. Через несколько минут мы покажем первые снимки с места катастрофы. Официальных данных от полиции пока не поступало. Оставайтесь с нами…
Лютенс щелкнул кнопкой, вопреки просьбе дикторши выключая телевизор. Вот значит как. Получается, Ляхов за два с лишним часа знал о предстоящем? Или догадывался. Он ведь как сказал: «В девятнадцать часов включите новости. Может случиться нечто весьма неожиданное…» Именно так должны говорить ясновидящие, пифии, кассандры, дельфийские оракулы. «Может случиться». А может и не случиться. В любом случае едва ли «куратор» лично приложил к этому руку. По нормальным человеческим меркам подготовить теракт против одного из высших должностных лиц государства так быстро едва ли возможно. Надо было бы иметь своих людей в окружении именно Кейтлин, способных и готовых подложить бомбу и при этом самим остаться на земле. Простого авиатехника или охранника сагитировать на такое достаточно затруднительно, даже за хорошие деньги.
Впрочем… Ляхов и его сотрудники, умея дистанционно, за много тысяч километров, включаться в линии связи, могут, пожалуй, точно так же отключать системы управления самолетов и вертолетов. Но если да – то зачем им сейчас ЭТО?
– Что такое? – с побелевшим лицом повернулся Ойяма к Лютенсу.
– Понятия не имею, сэр. Но, кажется, она сказала, что «у вас нет трех дней»? Сработал принцип «Не рой другому яму»? Или вмешалась богиня Аматерасу, защитив своего отдаленного потомка?
– Это не она, это Блэкентон… – машинально ответил Ойяма. – Кажется, ваши шутки сейчас не совсем уместны.
– А кто сказал, что это шутки? Ну, о мисс Блэкентон сообщений пока не поступало. Подождем. А разве вы приглашали Мэйден сюда?
– В России говорят – незваный гость хуже татарина. А с татарами в старые времена в России происходили очень интересные вещи. Начиная с тринадцатого века по шестнадцатый… Я вам потом расскажу.
Глава восьмая
Волович почувствовал, что сознание возвращается к нему. Это было странное ощущение. Совсем не то что обычное пробуждение от сна, даже самого крепкого. Там все равно сохраняется некоторая связь с реальностью, пусть и искаженная. А сейчас он буквально выплыл из небытия, ничем не отличавшегося от смерти, как ее обычно описывают. Нихиль[102], и ничего больше.
И первое, что он ощутил из обычных человеческих чувств, – не стыд, а какую-то совершенно невыносимую досаду, обиду на весь окружающий мир, столь несправедливый к нему – только что посуливший новую прекрасную жизнь, а вместо этого… Вдруг всплыла в памяти фраза-команда из любимого с детства «Швейка»: «Бросьте его в сортир!»
Да, запах был тот самый…
Потом вдруг смутно увидел жесткое и презрительно-ненавидящее лицо Ляхова, цедящего страшные слова. Потому страшные, что раскрывалась в них истинная суть Михаила, и ни одно оспорить было невозможно.
– Что ты дешевка и продажный писака, я с самого начала знал. Но девчонок, которые тебя выходили, кормили-поили – так спокойно, за три копейки, к смерти приговорить… Даже американцу, шпиону-церэушнику твое паскудство выдержать сил не хватило, сдал он тебя, не захотел грех на душу брать. Воры-законники таких, как ты, живьем в землю закапывают, турецкие султаны любили на тонкие колья сажать… Но я тебя убивать не буду. Слишком легко и просто. Я тебя в гости к товарищу Троцкому отправлю…
Волович слушал это, а чувствовал нечто похожее на то, что мог бы испытывать жених, удачно посватавшийся к дочке купца-миллионщика и уже после сговора пойманный будущим тестем при краже нескольких ассигнаций из небрежно оставленного на столе бумажника. Для очередной пьесы Островского сюжет.
Или можно иначе – он очень хорошо понимал в тот момент Шуру Балаганова, вместо уже почти наступившей «красивой жизни» влекомого милиционерами в ДОПР. Не будет у того пятидесяти тысяч рублей, и навсегда закрылись перед ним «врата великих возможностей». А ему, Михаилу Воловичу, почти миллиардеру и почти министру пропаганды Великой России, уготована еще более страшная участь. Хуже, чем пуля в затылок или долгая смерть на тонком, смазанном бараньим жиром колу.
Сразу вслед за этим он вспомнил, как его, публично обгадившегося уже и в буквальном смысле слова, две девушки, те самые, которых он предлагал господину Лютенсу ликвидировать, чтобы завладеть сокровищами столешниковской квартиры и открыть проход в «прекрасный новый мир», волокут, взяв под локти, по длинному коридору. Одна молча, а другая изобретательно матерясь по поводу необходимости таскать через весь дом семипудового засранца, да потом еще и выбрасывать ковры и дорожки, потому как «все-таки протекает».
И, наконец, вместе с магниевой вспышкой солнца, непонятно откуда возникшего в полутемном тупике коридора, Волович осознал полностью и окружавший его мир, и себя в нем. Такого, как есть, лежащего лицом вниз на грязной, поросшей короткой жесткой травой земле, со штанами, полными густой липкой массы, остывшей и отвратительным компрессом облепившей нежную кожу от поясницы и до колен.
В тот момент, когда с ним случилось это, немалого объема кишечник был полон, что называется, под завязку. Вот «завязка» и не выдержала. Вдобавок спереди штаны тоже были мокрыми сверху донизу, хоть выжимай. И амбре вокруг распространялось прямо непереносимое вопреки известной поговорке, что свое не воняет.
Очевидно, когда приключается «медвежья болезнь», все отвечающие за аромат индолы и скатолы резко повышают свою концентрацию. Так и пот от смертельного страха сильно отличается запахом от того, что выступает у партнеров в процессе акта любви.
Все окончательно осознав и отрефлектировав, скрипя зубами и подвывая одновременно от злобы, стыда и ненависти, он встал на четвереньки. В штанах бултыхнулось, и от приступа отвращения его вдобавок вырвало. Раз, другой, третий, до горькой желчи.
Отдышавшись, Михаил увидел в нескольких шагах, под невысоким обрывом прозрачную речку с довольно быстрым течением. На другом, пологом песчаном берегу метрах в десяти от воды начинались кусты вроде бы орешника, переходящие в довольно густой смешанный лес. И тишина, только посвистывают в кронах невидимые птицы.
Не думая о том, что на дне могут быть коряги или иные опасные предметы (да и откуда им тут взяться?), Волович дополз до кромки обрыва, стянул с себя френч, видимо – инстинктивно, и всей тушей обрушился в воду. Речка оказалась очень холодной, несмотря на небольшую, метра полтора, глубину. Журналист от неожиданности пронзительно вскрикнул, но деваться было некуда. Стоя по грудь в воде, он стянул с себя туфли, штаны и то, что под ними. Опять судорожно сократился пищевод, хотя желудок был уже пуст, и он едва не отпустил свой изгаженный туалет в свободное плавание.
Долго отмывался, от пояса и до щиколоток, потом с песком стирал штаны, трусы, носки. И совсем ни о чем при этом не думал, вот совершенно, воспринимал мир конкретно, как какой-нибудь муравей, в пределах текущих секунд и данной точки пространства.
Только через полчаса или даже больше Волович начал включаться в новую реальность. Выстиранное барахло, только утром бывшее элегантным, с помощью неземных технологий изготовленным костюмом, а теперь потерявшее весь товарный вид, сушилось, распяленное на ветках колючего куста. Михаил сидел голым задом на сложенной в несколько раз рубашке и грустно рассматривал превратившуюся в мокрый осклизлый комок пачку сигарет и бесполезную теперь зажигалку.
«Вот идиот, не догадался вытащить, когда пиджак снимал», – подумал он, и вот тут его разом, словно за обнаженный электропровод схватился, скрутило дикое отчаяние. Наконец, повторно и теперь уже на трезвую голову, он осознал, ЧТО на самом деле произошло. С фотографической точностью вспомнил минуты, предшествующие его появлению здесь, самые последние слова Герты. Они с Людмилой подтащили его, впавшего в полную прострацию, к засветившейся в полутемной мастерской сиреневой рамке, за которой ярко сияла небесная голубизна.
– Ну, счастливого пути, засранец, – будто бы даже с участием произнесла валькирия, и вдруг он ощутил сильный, совсем не женский удар (аж позвоночник хрустнул) между лопатками, от которого головой вперед полетел в очерченный рамкой проем. – Удачи в новой жизни, да укоротит аллах твои дни…
Вот же стерва, жаль, что не вышло Лютенса на нее натравить. Таких не просто убивать надо, таких, чтоб неповадно было, банде оголодавших в лесах моджахедов отдать на потеху…
Но мысль об изощренной мести мелькнула и ушла, вытесненная заботой о собственной судьбе. Что там приказал своим сучкам Ляхов – «выбросить на окраину Москвы, в двадцать седьмой год… В гости к Троцкому… Рабселькором… У нас не только императорская Россия и «другая Америка», у нас и еще параллели имеются…»
Да что же это такое, на самом деле? Кто они такие, откуда все это узнали? Квартиру заимели «нехорошую», почище, чем у Булгакова, проходы разыскали в миры разные… Ну что он за идиот, в самом деле?! – Волович сжал голову руками и снова завыл, раскачиваясь, как хасид на молитве. Все ведь у него было! Даже когда переворот не удался, сумел отмазаться, в доверие, можно сказать, вошел, должность предложили. В самой середине тайн всяческих оказался. Денег вокруг немерено, если они даже не в сейфах, в обычных секретерах кубометрами лежали! Потерпел бы чуток, своим по-настоящему стал, законное право на переходы в иные миры получил…
Они все, и Ляхов, и девки его – быдло ведь тупое, доверчивое. Стоило покрутиться рядом с ними, поулыбаться, слова нужные произнести, ошибки кое-какие признать – вот и приняли за своего, министром пообещали назначить… Где им еще по-настоящему талантливых, креативных людей взять?
«Да нет, не так все!» – Волович вскинул голову, опять заскрипел зубами, он умел это делать так (часто непроизвольно), что еще в студенческой компании особо нервные товарищи, кто посильнее его был, по шее давали. Уж больно громкий и противный звук получался, будто гвоздем по стеклу.
Он вовремя подслушал, что на самом деле Ляхов все про него понял и подруге своей рассказал, мол, мерзавец и подонок Миша Волович, сука, каких мало, предатель урожденный. Использовать таких можно и нужно, по обстоятельствам, но относиться – как к гондону после употребления… Так и сказал, а Людмила, которой Михаил бы, позволь она, колени целовал, и выше все, хихикала при этих словах… И про фотокарточку Ляхов угадал (не мог же знать), что покопался Волович в ящиках письменного стола и нашел там конверт с фотографиями, на которых все их валькирии в разных видах были изображены, в том числе и совсем «ню».
Те самые фотографии, что делались в «оперативных целях» Майей по поручению Ларисы вскоре после прибытия валькирий на Землю и что Секонд передал Фесту, когда тот выбирал себе напарницу-связную. На одной из них Вяземская сидела на мраморном диване у бассейна в «термах баронессы Эймонт»[103] совсем голенькая, в позе андерсеновской русалочки на набережной Копенгагена.
Эту фотографию Волович, впав в вожделение, и украл, в расчете, что едва ли Ляхов просматривает свою коллекцию регулярно, да и пропажу одного снимка из полусотни психологически проще списать на что угодно другое, нежели похищение именно Воловичем за недолгое пребывание в квартире.
Да, угадал Фест. Оч-чень сильные чувства вызывала у Воловича девица, и рассматривал он ее фото почти каждую ночь, теша себя эротическими фантазиями. А если бы сейчас она попала ему в руки…
Но и эти мысли, на короткое время отвлекшие от ужаса текущего момента, тем же ужасом и были смыты. Что толку мечтать о мести подлым девкам, если не представляешь, что с тобой самим тут сделают? Как бы не то же самое, хоть и в переносном смысле. А бросят в тюрьму, как шпиона, может случиться, что и в прямом. И о нравах троцкистских прихвостней и тогдашних тюрем он из литературы представление имел. Тем более из «мемориаловской» литературы, имевшей обычай многократно действительно творившиеся в советской России ужасы преувеличивать. Мало им реально расстрелянного миллиона (а кто разбирался, сколько из них – за дело?), обязательно нужно сообщить, что двадцать, еще лучше – сорок!
Ну ничего, скоро Волович сам сможет убедиться, что там в тех книжках правда, а что за хорошее вознаграждение придумано. Тем более реальность все же параллельная, вместо Сталина – Троцкий и, как верно заметил Фест, – «все свои». Глядишь, и удастся как-нибудь договориться. Не дурак ведь Миша Волович, журналист от бога, и образование получше, чем у здешних «товарищей», пусть даже и Ильф среди них, и Петров, и Олеша с Катаевым, и Булгаков… Он про них все знает, они про него – ничего. Значит, фора есть. И профессиональная подготовка, плюс опыт целого века, очень непростого…
Главное, чтобы на уездном каком-нибудь уровне сразу в концлагерь не законопатили или к стенке не поставили. Да нет, не должны. Вид у него не тот. Любой, самый мелкий гэпэушный начальник заинтересуется, что это за фрукт ему попался. И «наверх» доложит. А с теми, кто «наверху», он сумеет на нужном языке пообщаться.
Не то чтобы Михаил так уж повеселел, но врожденная приспособляемость сама собой включилась. Хоть на половину или даже на четвертушку, но он принадлежал к «избранному народу», а тому опыта выживания не занимать. Только в последнюю войну многим не повезло. Ну, здешние большевики все же «интернационалисты», в самом конкретном смысле этого слова, а не немцы и не поляки.
Весь его организм изо всех сил перенастраивался на иную, научно выражаясь, парадигму[104]: временно забыть обо всем, от низменно-желудочного до возвышенно-идеального (как Михаил вообще это «идеальное» понимал) ради единственной цели – выжить любой ценой. Не реагируя на возможные в будущем «тяготы и лишения», очередные сделки с совестью (кое-какие рудименты этой эфемериды сохранялись даже у него), заранее согласившись с необходимым и достаточным условием – «не останавливаться ни перед какими преступлениями, унижениями, лицедейством».
Прежде всего выжить, а там, мало-помалу, зависимо от обстоятельств, вернуться к привычному уровню потребления, а то превысить оный – бывали и такие случаи. Волович об этом хорошо знал по долгу профессии и врожденной любознательности. Те же самые «ленинские наркомы» («самое образованное в мире правительство», как писали в учебниках по истории партии, внаглую игнорируя тот факт, что там больше половины персонажей не имели за спиной даже полного курса гимназии), наголодавшись в ссылках и эмиграциях, попав на свои посты, первым делом приняли закон о собственном вещевом и продовольственном снабжении.
По десять золотых рублей в день только на прокорм, в раздираемой гражданской войной стране, где на советизированных территориях полфунта сорного хлеба и половинка ржавой селедки считались «усиленным пайком». А товарищ Лариса Рейснер, комиссарша из «Оптимистической трагедии», генеральская дочь и любовница красного комфлота Раскольникова, бывшего гардемарина, ванны из шампанского принимала. В кремлевской столовой черная икра и балыки подавались на столы пудами, особняки членов царской фамилии, богатейших купцов и промышленников, «деятелей культуры и искусства» вроде Кшесинской расхватали в личную собственность, «для улучшений условий быта», как горячие пирожки с ливером на Хитровке, описанной Гиляровским.
Приводится в дневниках Константина Симонова такой случай из жизни «в разные дни войны». При Союзе писателей имелась очень хорошая парикмахерская, где трудился признанный мастер своего дела с дореволюционным стажем. Как-то собралась там небольшая очередь из уезжающих на фронт и вернувшихся с фронта корреспондентов. Разговоры велись, естественно, о том, кто где был, что видел и вообще исключительно на военные темы вплоть до стратегических. Тут парикмахер и спрашивает: «А как вы думаете, товарищи командиры, что на этой войне самое важное?» Ответы посыпались самые разные: артиллерия, танки, авиация, боевой дух народа, гений товарища Сталина…
Мастер слушал, слушал, а потом и сказал, назидательно подняв палец: «Нет, товарищи. На этой войне главное – выжить!»
Много позже Константин Михайлович даже отразил этот эпизод в стихах: «Что самое главное – выжить на этой великой войне, // той шутки бесстыжей не выжечь, как видно, из памяти мне. // Кто жил с ней и выжил, не буду за давностью лет называть… // Но шутки самой не забуду, не стоит ее забывать»[105].
Последнего стихотворения Волович, конечно, не слышал и не читал. Когда он начал входить в сознательный возраст, Симонова, как и многих других, либеральная критика причислила практически к «врагам народа», в полном соответствии со словами Достоевского о том, что «либеральный террор хуже жандармского». Когда пришло их время, они просто поменяли имена в проскрипционных списках и начали преследовать инакомыслящих с гораздо большим азартом, чем агитпроп ЦК КПСС. Те функционеры делали порученное дело спустя рукава и часто – без всякого удовольствия. А наставники юного Миши, и вслед за ними вскоре и он сам, предались борьбе с «наследниками Сталина»[106] с азартом и целеустремленностью хомейнистских «стражей исламской революции».
Но о Симонове как человеке и писателе Волович знал достаточно, чтобы испытывать к нему не только злобу, но и зависть пополам с некоторым почтением. Все ж таки человек и две войны от звонка до звонка прошел, проявляя достойную мужчины храбрость, и шесть Сталинских премий имел (единственный из литераторов!), которые, как ни крути, зря не давались, а вдобавок несли с собой немыслимое, по сравнению с основной массой населения, благополучие. Пожалуй, тогдашние лауреаты жили даже получше нынешних московских «креаклов», именно по «разнице потенциалов» и самоощущениям. Многокомнатная квартира в центре Москвы, дачи в Переделкине и Гульрипше, личный автомобиль, длительные загранпоездки с хорошими валютными командировочными, ежедневные почти посиделки в «Дубовом зале» ресторана Союза писателей или в «Арагви»…
Все это на фоне прочего люда, жившего в перенаселенных коммуналках, что Высоцкий воспел, давившихся в трамваях, считавших копейки на ливерную колбасу в магазине и «макароны по-флотски» в заводской столовой – куда круче, чем ставшие вдруг доступными Воловичу и его компании сибаритские утехи в каком-нибудь «Жан-Жаке». «Дешевка все это, милый Амвросий!» – как писал Михаил Афанасьевич Булгаков.
Ну, пусть не удалось ощутить себя истинным хозяином жизни (помешали в последний момент такие сволочи, как Ляхов и его шлюхи) там – попробуем здесь! Рабселькором меня захотели сделать – а вот хрен вам! Волович еще всех вас продаст, купит и снова продаст, но уже дороже. Он подумал именно так, не задумываясь, чьи слова повторяет.
На теплом ветерке и штаны, и прочее наконец достаточно высохли, только туфли никак не желали. Пришлось надевать как есть. Зато не скукожатся и не потеряют форму, даже наоборот.
Он снова ощупал карманы, одновременно озираясь по сторонам. Интересно, действительно поблизости Москва, или забросили его черт знает куда, в такое место, откуда хоть три года скачи, никуда не доскачешь. Тогда – «таки плохо», как говорил один одесский извозчик из дореволюционного еще анекдота[107].
В карманах ничего по-настоящему полезного не обнаружилось. Никчемная без сигарет зажигалка. Правда – настоящая «Зипо», недавно заправленная. Костер развести или поджечь что может пригодиться. Бумажник во внутреннем кармане с паспортом, водительскими правами, дюжиной кредитных и дисконтных карт. Умеренная сумма денег в российских рублях и нормальных американских долларах. Та самая роковая двадцатка из параллельных САСШ. Перочинный ножик, который он всегда носил с собой из-за наличия в нем маникюрных ножничек и пилочки. Расческа. И все. Да, еще золотые «Филип Патек» на золотом же браслете. Механические. Это, если суметь продать, – по здешним временам огромные деньги.
«Беретту» он выложил из кармана, когда вернулся домой с очередной прогулки. Да, может, и к лучшему. Фляжку для виски тоже оставил у себя в комнате. Собирался наполнить, да не успел. А жаль. Сейчас бы пара хороших глотков не помешала.
Так где он, все же? Непонятно. В «нормальное время» Москва обозначала себя бурым куполом смога днем и световым – ночью. Да и автострад, просто дорог, забитых автомобилями, вокруг было полно, и самолеты мелькали в небе, обозначая направление на любой из аэропортов.
А здесь – тишина, словно на краю света, за Уралом где-нибудь. Хотя вон там, вдалеке, виднеется что-то похожее на насыпь примитивной дороги. Как они здесь назывались – грейдеры[108], что ли? По таким дорогам Бендер совершал свой автопробег. И годы почти те же – в «Золотом теленке», кажется, тридцатый, здесь, как распорядился Ляхов, – двадцать седьмой. Почему, кстати? Не по ассоциации же со «Стульями»?
Волович в очередной раз тяжело вздохнул, словно прощаясь с прежней жизнью. А, хрен с ними со всеми! Голова на плечах уцелела – остальное приложится. И эти самые доллары – могут пригодиться, если сразу в тюрьму не законопатят. Он снял туфлю с левой ноги и спрятал в несколько раз сложенную купюру под стельку. Если очень тщательно станут обыскивать, с распарыванием швов и отвинчиванием каблуков – найдут, конечно, а при беглом досмотре – вряд ли.
Он обвел глазами окрестности и увидел над насыпью, слева, примерно в километре, отчетливый пыльный шлейф. Судя по скорости перемещения – автомобиль. Самые лихие тройки куда медленнее ездили, это только на картинах студии Грекова тачанки несутся с немыслимой скоростью, аж от земли отрываются. Бывало, наверное, и такое, но спринтерски, на дистанцию полуверсты или чуть больше. Лошадь – существо не слишком выносливое, ей силы на короткий рывок нужны, чтоб от прыжка подстерегающего хищника спастись, а в остальном степные скакуны шагом или неспешной рысцой миллионы лет предпочитали по пастбищам перемещаться.
А что за автомобиль? Кто на нем едет и, главное, куда? Если в Москву, так, может, подбросят? Правда, расплатиться ему нечем, не российскими же пятисотками и тысячами? Зажигалкой или ножиком можно, да жалко. Лишиться последнего, а тебя вдобавок в ближайшее отделение ГПУ привезут…
Волович замер в сомнении. Спрятаться под обрывом берега? А зачем? Дальше-то что? Он верно понимал, что легализоваться здесь, в эпоху НЭПа, судя по словам Ляхова, чекистского террора, да еще и троцкизма, ему не удастся. Способностями Остапа Ибрагимовича он не обладал, да и знания об особенностях данного времени, бытовой обстановке, манере держаться и говорить исчерпывались почерпнутым в книгах упомянутых уже Ильфа с Петровым, Зощенко и Булгакова. Ничего серьезнее (в смысле практической пользы) читать не доводилось. И выдать себя за местного – шансов никаких. Лучше уж самому сдаться, грамотно и с расчетом, нежели быть арестованным как подозрительный бродяга. На шпиона он явно не тянет, но если райотделом ГПУ план именно по этой категории недовыполнен, сойдет и такой. Без суда и следствия. А выбирать все равно не из чего.
На самом деле представления о тех далеких годах у «демократического журналиста» были вполне банальные. В духе и на уровне «Детей Арбата» и рассказов Шаламова: «Половина страны сидит, половина сторожит». Интересно бы спросить автора этой чеканной формулы, кто в таком раскладе служил в армии, работал на заводах и в тех же колхозах, сидел не в зонах, а в очень неплохих ресторанах вроде булгаковского «Грибоедова», обслуживал «сидельцев», наполнял хоть какими-то товарами пресловутые «Торгсины» и в них отоваривался, писал книги, ставил спектакли и сочинял симфонии. Ну и так далее…
Михаил притопнул ногой, проверяя, плотно ли стала на место стелька, скрывающая его единственное сокровище, и трусцой побежал в сторону дороги, подбирая на бегу первые слова, с которыми обратится к аборигенам. Если, конечно, машина вообще остановится. И что будет потом? Какой из сюжетных вариантов: «Янки при дворе короля Артура»? «Попытка к бегству»? «Трудно быть богом» или «Эдем» лемовский?
Добежал до кювета на краю действительно покрытого хорошо укатанным гравием, но узкого, едва двум машинам разъехаться, шоссе, остановился, одернул припахивающий, несмотря на стирку, отнюдь не «Шанелью» пожеванный костюм и стал ждать. Встречи с судьбой, литературно выражаясь. С Мойрами[109], если угодно.
Машина сильно походила на «Антилопу Гну» из фильма, но все же была посолиднее и поновее, матово-черного цвета, с двумя запасными колесами в нишах передних крыльев. Решетка радиатора у нее была хромированная, большущие каплевидные фары – тоже. Колеса с множеством блестящих спиц. «Не додумались еще сплошные диски штамповать», – мельком удивился Волович. Или – специально так сделано, для форсу. Что-то по здешним временам крутое, как бы не аналог позднейших «меринов» и «лексусов». В ней ехали трое – «шофер» в кожаной куртке, такой же фуражке-восьмиклинке со сдвинутыми на околыш противопыльными очками, именовавшимися «консервами» (отнюдь не в честь «Кильки в томате», а от латинского слова «охраняю»), и пассажиры, просторно разместившиеся на кожаном заднем сиденье. Один в штатском светло-сером плаще и нахлобученной на уши ворсистой кепке, другой в военной форме.
В тогдашних знаках различия Волович совсем не разбирался, но фуражка с малиновым околышем и васильковым верхом разу напомнила что-то виденное в фильмах, разоблачавших «эпоху большого террора». То самое ОГПУ? Или ГУГБ, черт его знает. Все как в русской поговорке: «Про серого речь, а серый навстречь». Да и кому тут разъезжать по бескрайним полям и лесам, «вдали от шума городского»? Не юным же нэпманским сынкам с подходящими по статусу подружками? Только начальству, партийному или чекистскому.
Автомобиль плавно остановился в пяти шагах от Воловича. Тот, что в форме, сделал повелительно-подзывающий жест рукой. Михаил подошел, стараясь держаться как можно более уверенно.
Военный (или чекист), у которого на таких же васильковых, как и тулья фуражки, петлицах помещались три рубиновых прямоугольника, с минуту держал паузу, будто ждал, что встреченный у дороги человек заговорит первым. Штатский в кепке начал закуривать, чиркая и одну за одной отбрасывая шипящие, но не вспыхивающие спички.
Волович выхватил из кармана «Зипо», щелкнул крышкой, поднес к папиросе высокий язычок пламени.
Человек затянулся, благодарственно кивнул.
– Не угостите ли? – как бы на равных спросил Михаил. Мол, я тебе одолжил, теперь ты…
Штатский протянул раскрытый портсигар. Волович взял толстую, явно дорогую папиросу (еще бы, станут пассажиры такой машины дрянь курить). Чекист (или военный) дождался, пока он тоже прикурит, потом движением пальцев показал, что зажигалку следует подать ему. Михаил подчинился.
И все это – без слов. Даже интересно.
Военный с тремя неизвестно что означающими геометрическими фигурами (странным для мужчины образом Волович милитаристской атрибутикой не интересовался. Современные ему знаки различия российской армии знал, и только) повертел зажигалку в пальцах, рассмотрел накладную эмблему «US NAVI», ничего ему, очевидно, не сказавшую, откинул крышку, понюхал фитиль, пожал плечами, закрыл и протянул Михаилу.
– У нас такие на Путиловском еще в Гражданскую делали. Только из латуни. Ну, что скажешь?
Волович жадно досасывал папиросу. Голова сразу закружилась, зато кулак, сжимавший сердце, вроде чуть ослабил хватку.
– Что скажу? Спасибо, если до Москвы довезете…
Это он пошел ва-банк. А если никакой Москвы на тысячу верст нет поблизости? Или она просто в другой стороне, и эти «из» едут, а не «в».
– Можем и довезти, места хватит, – радушно кивнул военный. И даже замок дверцы отщелкнул, повернув ручку. – Только на вопросик сначала ответьте – кем, собственно, будете и что вас сюда занесло?
Михаил чуть было не ответил, как привык в таких случаях: «Кем буду, только господь бог знает, а пока такой-то», но воздержался. Незачем обострять. В рассуждении ближайшего будущего.
– Да так, – неопределенно пожал он плечами. – Репортером недавно работал. Да вот заплутался по жизни, не пойму даже, куда и как попал…
– Пили сильно? – спросил штатский, слегка улыбнулся. – Дело знакомое. Запой на две недели, очнулся хрен знает где, чуть ли в не Усть-Сысольске[110], и карманы пустые и ничего не помнишь. Так?
– Зажигалка вон сохранилась, – сказал военный. – И клифт совсем новый, пусть и пожмаканный до невозможности. В речку падал, в стогах ночевал?
– Всяко случалось, – не стал вдаваться в подробности Волович.
– Бывает, – сочувственно кивнул штатский. – Итак – имя свое хоть помните? И где работаете? Репортером…
Черт, ну и вопрос.
– Волович фамилия. Михаил… Иосифович. В «Актуальной газете», заведующий отделом…
– В «Актуальной», значит. Это где ж такая издается? В Берлине? Вместе с «Накануне»? Или в Югороссии где? В РСФСР точно нету. Даже подпольных… – военный пристально посмотрел Михаилу в глаза. – Настолько плохо с головой? Шел в комнату, попал в другую. За полторы тысячи верст. Тоже не выходит. Пешком в таких башмачках не пройти, а на поезд без документов не сажают. Да и должны быть у шпионов документы, самые надежные. Хоть в «международный»[111] билет покупай…
– Нет, – как можно тверже ответил Волович. – Тут совсем другое. Мне нужно срочно попасть на прием к по-настоящему ответственному лицу из ОГПУ или ЦэКа партии… Имею крайне важную и секретную информацию…
– Вот как? Может быть, вам прямо к товарищу Менжинскому[112] надо? Или сразу к самому Троцкому?
– Это было бы лучше всего, – без смущения заявил Михаил, смутно помнивший, что Менжинский, кажется, сменил Дзержинского после его скоропостижной смерти. – Но, я понимаю, трудно сразу устроить. Поэтому согласен на встречу с любым человеком, имеющим право принимать самостоятельные решения и напрямую докладывать «наверх». Иначе крайне важная информация просто завязнет в бюрократических каналах.
– Грамотно выражаетесь, – похвалил штатский. – Видно, что образованный человек. И не с похмелья, прошу меня извинить. Как вы думаете – начальник отделения секретно-политического отдела центрального аппарата вас устроит? Сумеет разобраться в сути вашего дела?
Спрошено было без всякой иронии, явно заинтересованно. И сам штатский, и его напарник военный выглядели людьми серьезными и неглупыми. Явно приличнее тех чекистов, что он рисовал в своем воображении всю сознательную жизнь. Шаламов, Солженицын, Конквест[113] о таких не писали.
– Сумеет или нет – это я угадать не могу, но если выслушает с вниманием и не станет сразу «Скорую психиатрическую помощь» вызывать – уже полдела.
Волович вдруг почувствовал себя на удивление спокойно. Совсем не по обстоятельствам. Видимо, от отчетливо проявившегося ощущения, что его здесь ни убивать, ни пытать не собираются, а, наоборот, возможны всякие благоприятные повороты сюжета. Случайно встреченные люди, оказавшиеся именно теми, кто ему был нужен, вполне их человеческий и даже человечный облик, культурная речь… Слишком все это одно к одному, чтобы быть простым совпадением.
Не захотел брести пешком неизвестно куда – вот тебе тут же автомобиль. Упомянул про «ответственных людей» – случайно мимо проезжающие ими и оказались… Интересно как-то все складывается. Тут бы насторожиться? А смысл? С чего бы дальше должно быть хуже? Он перед нынешними властями ни в чем не повинен, а полезен может быть очень даже.
– Что я вам, гадалка? Я привык строгими фактами оперировать, в нашем деле без этого нельзя. И пустых обещаний раздавать не привык. Если б у вас гангрена на ноге оказалась – просто обязан был вас в больничку отправить, пусть и тюремную. То же и с душевными заболеваниями. Гангрена только самому больному опасна, а псих в нужной кондиции кучу людей заразить, а то и перебить может. Я понятно выразился? – завершил свою длинную, философическую, не лишенную литературной образности тираду чекист. – Так что садитесь в машину. Я на переднее пересяду, а вы вот сюда, – указал он на свое место, рядом со штатским. – Кочура моя фамилия, Иван Стефанович. Про должность уже знаете. А это Соболевский Эдуард Сергеевич, тоже наш сотрудник, только из другого отдела…
Машина тронулась, Соболевский снова протянул Воловичу портсигар, и тот опять взял папиросу, поблагодарив кивком и улыбкой. Курить хотелось страшно, кажется, одну от одной бы прикуривал, как дежурный сантехник у них в редакции. Выпить бы еще! Он почему-то подозревал, что у вежливых товарищей нашлось бы, только Михаил постеснялся, что ему, в общем, было несвойственно. Просто раньше он всегда ставил себя заведомо выше собеседника, любого, а сейчас требовалось принять позу покорности. Вот доберутся до места, тогда можно будет спросить, в медицинских целях. Стресс, мол, совсем задавил…
– Может, сразу и начнете излагать? – предложил Соболевский, когда автомобиль набрал крейсерскую скорость около сорока километров в час и катился по грейдеру плавно, будто по новому асфальту на Тверской. Не зря предки на свои машины листовые эллиптические рессоры ставили, вместо амортизаторов, по здешним дорогам – самое то.
– Без протокола, – добавил через плечо Кочура. – Сразу обрисуется, чей вы клиент, наш или… – он неопределенно повертел над плечом правой рукой. – А может, вы пару глоточков принять согласитесь? Легче разговор пойдет…
И достал из «перчаточного ящика», бардачком в народе именуемого, фляжку. Не какую-нибудь посеребренную, шагреневой кожей обтянутую, с инкрустациями и спецпробочкой-дозатором, а самую простую, армейскую, в сером шинельном чехле.
– Не побрезгуйте, коньячок армянский, пять звездочек, просто в стекле с собой возить неудобно, в дороге всякое бывает.
«Не отравят? – опасливо подумал Волович, – или химией какой угостят…» – и тут же вспомнил, что в двадцатые годы фармакохимия вроде до современных высот еще не поднялась. Да и сами хозяева выпьют, наверное.
– Чего же нет? Я после вас. Гостю первому невежливо…
Соболевский слева понимающе фыркнул, Кочура ничего не сказал, свинтил пробку и приложился как следует. Через плечо протянул Воловичу. Тот теперь чиниться не стал, тренированно заглотнул сразу грамм полтораста, а то вдруг больше не предложат, благо через металл и чехол падение уровня напитка в посудине не видно.
Эдуард Сергеевич (из дворян, наверное, подумал Волович, имя-отчество такие, непролетарские) пить отказался. Не объясняя, просто сделал отстраняющий жест. Возвращая емкость Кочуре, Михаил словчился еще глотнуть. В желудке сразу запекло, а вкуса он, собственно, и не почувствовал. Зато голова поплыла должным образом. И настроение подскочило сразу делений на десять. Живем пока, а жизнь тут может оказаться еще поинтереснее, чем дома!
– Так мы ждем, Михаил Иосифович, – напомнил Соболевский.
Коньяк оказался более чем хорош и после всего пережитого ударил в голову не хуже тетратиопентала или чего-то подобного. В смысле воздействия на речевые центры. Голова пока оставалась почти ясной, но язык распустился…
Впрочем, разговорчивость, сопряженная с некоторой развязностью, вроде как у Хлестакова, в минус человеку засчитывалась достаточно редко. Это Волович знал профессионально. Разве только претендент на серьезную должность в банковской сфере или там в административных структурах должен уметь демонстрировать сдержанность и, как говорится совсем в других кругах, «фильтровать базар». Поэтому он, не стесняясь многословия, начал излагать свою историю, должным образом препарированную и переформатированную. Он сразу признал, что попал в этот мир из будущего, причем параллельного (кратко обрисовав при этом теорию пространственно-временных континуумов, как представлял ее из популярных изданий).
Тут же пояснил, что о событиях вековой примерно, судя по автомобилю и употребляемой терминологии, давности представление имеет самое общее, школьный курс истории порядочно подзабыл, а специально послереволюционной эпохой не интересовался, поскольку все его интересы лежат во второй половине девятнадцатого века, да и то в основном в области литературы и прочих искусств.
Не стал упоминать о случившейся «дома» попытке государственного переворота, вообще постарался обойти тему государственного устройства страны, из которой сюда попал. Сказал только, что мировой революции до сих пор не случилось и коммунизма тоже. Живем, одним словом, в условиях «конвергентного общества», где сочетаются элементы капитализма, социализма и иных формаций, научного обозначения не имеющих.
На это Соболевский со вздохом сказал, что ни к чему иному нынешняя половинчатая политика партии и не может привести, со всеми ее заигрываниями с частным капиталом и мелкособственническими инстинктами, махровыми цветами расцветшими при так называемом НЭПе. А также и с примиренчеством в отношении полумонархической, полудемократической Югороссии.
О том, что здесь такое запутанное внешне-и внутриполитическое положение, Волович не знал. Он слышал только, да и то больше между делом, без точной деталировки, о параллельной Российской империи, откуда появлялись валькирии и кое-какие другие люди, но в подробности не вникал. Довлела дневи злоба его, то есть хватало повседневных забот, если перевести со старославянского. В самый последний момент заинтересовался возможностью сбежать вместе с Лютенсом на «ту» Землю, но – не сложилось.
А о том, что есть еще и другая реальность, такая вот, с троцкистской РСФСР, какой-то Югороссией и Новой Экономической Политикой (накрепко связанной в его сознании с именами Ленина и Сталина), Михаил даже и не подозревал. Узнал в последние секунды своего пребывания в прежней жизни, да вот сейчас услышал от сотрудника карательной организации со знакомым названием.
Но собеседников Воловича гораздо больше заинтересовали не причины и поводы его попадания в их мир, а сам механизм процесса.
– Что, вот так просто можно взять и перейти на восемьдесят лет назад? – спросил Кочура, без большого, впрочем, удивления. Как о вещи, ему ранее неизвестной, но находящейся вполне в пределах технических и, так сказать, смысловых возможностей.
Это не слишком удивительно, ибо в стране, только что совершившей фазовый переход «из царства необходимости в царство свободы», живущей в условиях стремительного прогресса во всех областях (благодаря в том числе и всяческим новинкам, регулярно поступающим из Новороссии), грань между возможным и невозможным почти что и не ощущалась. Не зря Алексей Толстой начал свою «Аэлиту» с листочка объявления, посредством которого инженер Лось искал себе попутчика для полета на Марс. Первых читателей знаменитой повести сей литературный прием нисколько не удивил, время было такое – «больших ожиданий», как писал Паустовский. Не похожее на более позднее и забюрократизированное.
И песню не так просто придумали: «Мы покоряем пространство и время, мы – молодые хозяева Земли». Профессор Преображенский превращал дворнягу в товарища Шарикова, другой профессор, Богомолец, обещал Сталину вечную жизнь, за что был удостоен звания академика и собственного НИИ. Партийный деятель, писатель и по совместительству врач, Богданов подходил к проблеме бессмертия с другой стороны, возлагая надежды на переливание крови. Циолковский пророчествовал о скором заселении космоса, философ Федоров вообще замахнулся на всеобщее воскрешение умерших. Такое было время…
Поэтому и вопрос был задан вполне практический, без неуместной ажиотации.
– Получается, что можно, – ответил Волович, – раз я здесь перед вами. Только едва ли я смогу объяснить, как это практически делается. Перед вами, как ни смешно звучит, – жертва несчастного случая и человеческой подлости в некотором смысле. Ну, чрезмерной доверчивости и ревности, как у известного Отелло, я допускаю, – слегка подправил оценку Михаил, увидев, как удивленно дернулась бровь чекиста при слове «подлость».
– Видите ли, я хорошо знаком с директором научного института, занимающегося всякими явлениями, либо отрицаемыми, либо недооцениваемыми официальной наукой. Теория параллельных пространств и связей между ними входит в круг их интересов. А я, как журналист, их деятельность от случая к случаю освещал… И вот надо же случиться, у этого господина Ляхова есть красавица невеста, которую он ко мне без всяких оснований приревновал…
Сидевший рядом Соболевский окинул взглядом непрезентабельно одетого и чрезмерно упитанного репортера и не слишком вежливо хмыкнул, как бы соглашаясь с тезисом, что ревность в отношении «красавицы» была явно необоснованной.
Волович захотел обидеться еще и на него, но вовремя сообразил, что сейчас – неуместно. Просто пропустил междометие мимо ушей.
– Да, приревновал, и вместо того, чтобы выяснить все, как принято между воспитанными людьми, заманил меня в свою лабораторию и внезапно столкнул в некую дверь, ведущую, как оказалось, оттуда – сюда… Я свалился прямо в реку…
Соболевский снова, совершенно бесцеремонно и даже демонстративно втянул носом воздух и сказал, что, к сожалению, речки в Подмосковье не всегда отличаются чистотой. Некультурные селяне сваливают в них навоз и вообще всякую дрянь.
Это тоже можно было расценить как оскорбление, но… Не время, не время.
– То есть историческое, по всем признакам, эпохальное, можно сказать, событие так пошло переплетается с фарсом? – спросил Кочура, окончательно развернувшись на своем сиденье и, положив локти на его спинку, почти в упор разглядывая Воловича. Не боясь, что в столь неудобной позе на первом же приличном ухабе может опрокинуться назад и разбить себе голову о рамку ветрового стекла. – Как если бы Колумб в семейной ссоре получил от жены сковородкой по голове, обиделся, решил развеяться морской прогулкой и случайно открыл Америку?
– Знаете, хоть аналогия и хромает, но что-то в ней есть, – согласился Волович. – Несопоставимость причин и следствий…
А в голову его тем временем начало закрадываться подозрение, что не так все просто. В том числе и с чекистами. Ляхов же сказал, издеваясь, что попросит своих знакомых в этой параллели, видных чекистов и сталинских сатрапов, Агранова, Мехлиса и их куратора, какую-то Ларису, заняться судьбой Воловича в этом мире. Что же за должность у этой Ларисы, если она может «курировать» таких увенчанных четырьмя ромбами[114] товарищей, как вышеупомянутые?
Впрочем, он вспомнил, что имя такое в разговорах между Ляховым и его подругами несколько раз упоминалось. Была она, кажется, женой одного из владельцев квартиры на Столешниковом, да и сама занимала какой-то важный пост в иерархии стоящих над Ляховым людей. С некоторыми из них он встречался, с Берестиным, например, с леди Спенсер, еще с кем-то, а эта самая Лариса ни разу не обозначилась, ни официально, ни в частном порядке. Впрочем, какое это имеет значение? Те люди работали в «имперской параллели», она, выходит, в этой. И еще другие есть, тоже со своими кураторами. Прочно пучок реальностей этим «Братством» схвачен, на самом деле полным идиотизмом было вообразить, что он что-то сможет им противопоставить. Нашли бы хоть на краю любого из доступных им «светов», никакой Лютенс и никакая личная охрана не помогли бы…
Хорошо, хоть жизнь оставили и в одиночку не посадили пожизненно. А так даже и необитаемый остров лучше пули в затылок или нескончаемой вони параши в сыром каменном мешке.
Мысль о параше навеял, скорее всего, неистребимый запашок от штанов. В бензине постирать бы, тогда, глядишь, выветрится. Доехать до места и выбросить все немедленно. А что за место и на что менять? Вдруг да на тюремную робу?
Почти ведь наверняка, думал он, эти люди посланы ему навстречу. Какая-то связь между мирами точно существует, иначе очень уж странным выглядит такое «совпадение» – два чекиста (подходящих специальностей, кстати) неизвестно зачем оказались именно там, куда вышвырнули обгадившегося (в обоих смыслах) Воловича. И совсем при встрече с ним не удивились. Ни обыска, ни проверки документов… И реакция на его появление из «параллельного мира» удивительно вялая.
– Но, знаете, вам всем придется поверить, что так оно и обстоит на самом деле, – продолжил Михаил. – Я в ваших разведке и контрразведке мало что понимаю, однако книг много читал, фильмов смотрел, умных и не очень. Азбука жанра – если агента забрасывают куда-то – его снабжают всем необходимым, и прежде всего надежной, способной выдержать доскональную проверку легендой. Разве не так?
– Так, так, – успокоил его Кочура. – Что еще скажете?
– Раз у меня нет ни легенды, ни снаряжения, ни даже самой примитивной информации о реалиях вашей жизни – какой же из меня шпион?
– Почему же обязательно шпион? – удивился Соболевский. – Бывали, знаете, случаи – преступников или просто нарушителей пиратских, скажем, законов сажали в шлюпку без всего и отталкивали от борта в видимости ненаселенных берегов. Выживешь – помучаешься, подохнешь – туда и дорога…
Волович давно чувствовал, что этот интеллигент в штатском настроен по отношению к нему куда негативнее, чем чекист в форме. Того ситуация, скорее, забавляла. Не принимал он ее близко к сердцу. Или – играют оба давно расписанные роли.
– Упускаете еще вариант, – сказал Кочура, – особо тонкий ход. Забрасывают такого, как вы сейчас есть, именно в расчете, что никто вас за шпиона не примет. Повозятся с вами для проформы и отпустят, как безвредного психа…
– Не выходит, – с сожалением и даже некоторым превосходством над не умеющим мыслить изящно чекистом сказал Волович. – Такой объект, – он ткнул пальцем себе в грудь, – из внимания никто не выпустит, на «вольные хлеба» не отправит. Какое же задание я смогу выполнять, если до конца, до моего конца, компетентные органы будут выяснять, что я и откуда. Даже если не шпион, а просто непонятный артефакт – все равно интересно. И дырку эту, через которую я к вам попал, – до пенсии искать станете. Или чтоб туда проникнуть, или чтобы отсюда законопатить надежно, если ксенофобией страдаете…
– Ксено… – это что? – не понял Кочура.
– Я потом объясню, – пообещал Соболевский. – Попросту – когда посторонних не любят…
– Да кто ж их любит? – согласился тот. – Значит, признаете, что поработать с вами придется плотно? – снова обратился Кочура к Воловичу. – А за исходное примем на веру слова, что попали к нам случайно, без злого умысла… Что, конечно, ваше положение облегчает.
– Но не очень, – добавил Соболевский.
– Понятно, – обреченно вздохнул Михаил. – Дайте папиросу. Куда вы меня везете?
Хмель у него из головы выветрился почти совсем.
– И заодно уж – вы меня специально встречали?
Кочура усмехнулся и прищелкнул языком.
– В Москву везем, как и просили. Прямо в самый центр. Кое-какие формальности выполнить надо.
– Куда ж без них? – обреченно вздохнул Волович. – Не очень больно будет?
Соболевский от души расхохотался, Кочура сдержанно усмехнулся.
– Ну и представления у вас. ГПУ – организация правовая и гуманная, в пределах возможного. Тем более вы ведь сами требовали встречи с руководством. Вот и посмотрим, кто сейчас из руководства свободен и с вами встретиться изъявит желание. Ну а там – как сложится…
Глава девятая
Ехали они ехали, а Москва все не начиналась. По сторонам дороги тянулись сосновые и березовые перелески, то и дело прерываемые полянами, на которых помещались деревни, мелкие, дворов на десять-пятнадцать и не особо зажиточные, судя по вразброс стоящим избам, крытым не то камышом, не то почерневшей от времени соломой. Правда, раз проехали через селение покрупнее, с церковью на холме и несколькими порядками уже не изб, а скорее домов, хоть и бревенчатых, но просторных, иногда и в два этажа, с мезонинами и мансардами, под темно-серой от времени и частых дождей дранкою или, по-местному, щепой. Имелись даже почтовое отделение, две лавки (типа сельпо) и «Чайная с подачей водки и пива». Скорость машины позволяла рассматривать мельчайшие подробности окружающего мира.
Такие точно деревни сохранились в Подмосковье и в начале XXI века, вперемежку с роскошными дворцами «новорусского стиля», где Воловичу доводилось бывать не раз и не два.
Крестьяне и крестьянки, попадавшиеся на глаза, удивляли своей, как бы это сказать, «дремучестью». Бороды и картузы мужиков, платки баб, остальная одежда и обувь (даже лапти Волович увидел впервые в жизни) напоминали не просто о дореволюционном времени, а о прошлом и даже позапрошлом веке (относительно здешнего двадцать седьмого года). И лица были – словно бы даже и не русские, грубыми чертами и странным выражением наводящие на мысли о бесследно сгинувших мерянах, вогулах или «чуди белоглазой». Ни за что не скажешь, что эти люди уже десять лет живут в социалистическом, первом в мире государстве рабочих и крестьян. Не отражается на них эта высокая сопричастность.
Вот у его попутчиков лица вполне нормальные, и в современной Михаилу Москве на улицах в глаза бы не бросались.
Вообще здесь, по прикидкам Воловича, давно должен был уже начаться город, обжитые районы, докуда метро еще при советской власти дотянулось – Речной вокзал, Водный стадион, Сокол. Сокол – это вообще уже центр. А они уже и Окружную дорогу пересекли, а вокруг все деревни да перелески. Первые приличные двух-трехэтажные дома появились только после Ходынки, то есть здесь – Центрального аэродрома, над которым в небе кружили два биплана. А за ними с набором высоты, натужно гудя моторами, на запад направился двухмоторный пассажирский самолет, размером немного больше древнего «Ан-2».
– «Юнкерс», – сообщил Кочура, провожая самолет взглядом. – На Берлин полетел.
– И долго ему туда лететь? – поинтересовался Волович.
– Часа четыре, кажется. Или пять.
– И туалета нет, наверное?
– По нужде сходить, если припрет?
Чекист захохотал.
– Вот, слушай, не интересовался. И вправду, за пять часов прижать может. В ведро, что ли, облегчаться? Особенно дамочкам. Потеха. Приедем, обязательно у ребят из транспортного спрошу, как там это устроено…
– Кто билеты берет, предупреждают, чтоб с утра ничего не ели и не пили, – серьезным тоном сообщил Соболевский. – Дело вкуса, так сказать. Хочешь – сутки в поезде, хочешь – быстро, но терпи.
– Я б лучше в поезде. И поспать можно, и выпить-закусить, и снова поспать. А тут гудит, трясет, навернешься, не дай бог, в буквальном смысле костей не соберут. Ну его на… – махнул рукой Кочура.
За интересным разговором и не заметили, как все же въехали в настоящую Москву. Ленинградское мощенное булыжником шоссе вдруг превратилось в широкую, обсаженную липами магистраль. Справа мелькнул строящийся стадион «Динамо». Вспомнил Волович один из фельетонов Ильфа, где тот писал, как на этих двух километрах киношники «Мосфильма», собрав чуть не все автомобили столицы, снимали «уличное движение в Нью-Йорке».
Машина ехала невероятно медленно для Михаила, едва тридцать километров в час, зато можно было рассматривать жизнь в ее колоритных деталях.
Пересекли Беговую улицу, далеко справа мелькнули купола церкви на Ваганьковском кладбище (тоже тогда самая-самая окраина), впереди замаячили корпуса Белорусского, здесь пока – Брестского вокзала. Началась Тверская-Ямская, переходящая в просто Тверскую, будущую улицу Горького, потом снова ставшую Тверской же.
Михаил жадно смотрел по сторонам, забыв обо всем лично с ним случившемся. Интересно ведь, настоящее приключение! Вот как, оказывается, москвичи жили девяносто лет назад, пусть и не совсем в той, но почти неотличимой реальности. И это не старая поцарапанная кинолента, вроде какой-нибудь «Папиросницы из Моссельпрома», а самая что ни на есть реальность, со всеми ее звуками и не совсем приятными запахами.
Улица вдвое у́же, чем в его время, кое-какие дома кажутся знакомыми, но большинство – совсем другие, довольно затрапезные, без сожаления снесенные при реконструкции. И мощение в основном булыжное, даже в центре, тротуары – узкие, как «сейчас» на Петровке или Кузнецком, только-только двоим разойтись, зато липы вдоль бордюров растут, высокие, с густыми и пышными кронами.
Вывесок очень много, над магазинами, лавчонками, питейными заведениями и столовыми. Все больше государственные, но есть и частные – НЭП как-никак. Примитивно все до предела. Просто название и вид занятий написаны масляной краской по загрунтованной жести или щиту фанеры. В витринах какие-то аляповатые муляжи, страховидные манекены. Круглые афишные тумбы на углах кварталов, с конусообразными навершиями из бурого кровельного железа, для защиты «рекламы» от дождя. В каждом квартале синие и желтые фанерные киоски «Пиво-воды», «Папиросы-табаки», «Мороженое».
На улице людно, но и здесь обстановка, вызывающая странный душевный раздрай. Вроде все это видел Михаил в кино, на рисунках знаменитого не меньше писателя Зощенко художника Ротова. Но внутри ожившей карикатуры ощущения очень неуютные. Любопытство исчезло, опять охватила жуть при мысли, что вот тут, с этими придется сосуществовать. Жизнь прожить и умереть году к пятидесятому, дремуче-сталинскому, да и то, если войны не будет. Они считают себя живыми, спешат по каким-то своим делам, толпятся у ларьков и магазинов, гроздьями висят на подножках до невероятия переполненных трамваев, ползущих ровно со скоростью пешеходов. Но ведь никого из них давно уже нет на свете. Как, впрочем, и сидящих рядом «попутчиков».
Воловичу стало сильно не по себе, возможно, кроме межвременного перехода подействовал и выпитый на абсолютно пустой желудок коньяк. Без закуски.
Но он продолжал смотреть, жадно, как провинциал, в советское еще время чудом попавший на спектакль легендарной «Таганки», когда в ней играл Высоцкий.
Здесь тоже будто режиссер Любимов потрудился. И люди вокруг, на расстоянии вытянутой руки, странные, и одеты странно. Мужчины или в сапогах, или в парусиновых полуботинках, брюках узких и коротких, едва до щиколоток. Многие в «толстовках» или рубашках, похожих на нижние, без воротничков. Все в головных уборах – кепках и картузах в основном. Кое-кто в шляпах и даже тюбетейках. Вроде как Горький на одной из фотографий. Женщины тоже не блещут разнообразием нарядов.
Обратил он внимание на уличный трафик. Легковых автомобилей встретилось всего три. Значит, и ему, если вообще жив останется, ездить вместо такси и иномарок премиум-класса в кособоких пролетках, запряженных лошадью-доходягой с брезентовым фартуком под хвостом, чтоб «санитарию не нарушала»?
Да еще у них же здесь карточная система на все. Не зря Ляхов сказал: «До трех пудов похудеешь, доппаек выпишут…» А три пуда – это сорок восемь килограммов? Значит, на шестьдесят похудеть, да не в фитнес-клубе, под руководством специалиста, у которого сеанс голодания стоит вдвое дороже, чем ужин в хорошем ресторане, а от голода самого натурального, мучительного и безнадежного…
Волович совершенно упустил из виду, что в РСФСР шесть лет уже проводится Новая Экономическая Политика, которую Троцкий придумал еще раньше, чем Ленин. То есть в буквальном смысле никто не голодает, просто количество и качество потребления различается в разы. Но это уж – «каждому по труду»!
При этом Лев Давыдович не собирался, как Сталин, все силы и средства бросать на индустриализацию. Это дело долгое и немедленных, ощутимых и съедобных плодов не сулит. Надо сделать так, чтобы народ ощутил все прелести Советской власти немедленно. И возможности для этого есть. Тяжелой индустрией пусть займутся братья по классу, в промышленно развитых странах. Сам ведь Ильич писал: «Россия в силу тех-то и тех-то условий выступит локомотивом Мировой революции. Но после ее победы снова окажется наиболее отсталым в экономическом смысле, аграрным по преимуществу государством, не сравнимым с Германией, Англией, САСШ». А ей и не надо стремиться стать «передовой». Главное, чтобы она стала достаточно удобной для жизни большинства населения, а Москва и Петроград будут идеологическими центрами и резиденцией «Штаба Всемирной республики труда», откуда и будет изливаться на остальное человечество «свет истины».
Так что Троцкий в сложившихся условиях был совсем не тем человеком, что из него получился в условиях проигрыша борьбы за власть сначала в СССР, а потом и в Мировом коммунистическом движении. И совсем не тем, каким его изображала советская, да и постперестроечная пресса. Все было гораздо сложнее, взять хотя бы ту тонкую игру, что он вел с белогвардейской, но крайне полезной для существования РСФСР Югороссией.
Впрочем, об этом Воловичу еще только предстояло узнать.
А пока лицо его настолько изменилось, что чутко разбиравшийся в тонких душевных движениях «клиентов» и «пациентов» Соболевский заботливо спросил:
– Вам, я вижу, у нас не понравилось? Вполне понимаю. Мне, наверное, в революционном Париже тысяча семьсот девяносто третьего тоже было бы не по себе. Но успокойтесь. В центре – на Кузнецком, Петровке, в Столешниковом жизнь совсем другая. И люди побогаче одеты, и рестораны очень неплохие есть. Вас же это в основном зацепило?
С самым жалким видом Михаил кивнул. Он себя чувствовал сейчас как в очень далеком восемьдесят шестом году. Родители отправили его в пионерский лагерь на Истре. И так ему там сразу не понравилось, что он проплакал весь день, прижимаясь к воспитательнице, которая его старательно утешала. И пусть слова утешения ничего в его положении не меняли, так и пришлось отбыть весь срок, но на минутку все же становилось легче. Тогда, наверное, юный Миша и возненавидел социализм и все с ним связанное, в том числе и лагеря, хоть пионерские, хоть исправительно-трудовые, в которых ему, по счастливому стечению обстоятельств, побывать до сих пор не довелось. По мере взросления и соответствующего воспитания он оформился в «настоящего диссидента», ненависть к лагерному социализму перекинулась и на Россию в целом. Он помнил, что большинству его сверстников пионерская жизнь нравилась. А раз так – значит, Россия страна рабов, зэков и вертухаев, независимо от текущего политического устройства.
И еще больше настроение ему испортило случайное упоминание о Столешниковом с его «нехорошей квартирой». С нее все началось… А где и когда закончится?
– Рестораны, – горько сказал он. – Как будто кто-то меня в них пустит, и откуда у меня возьмутся деньги? Вы же меня сейчас где-нибудь запрете и, боюсь, надолго. Разве не так? У вас тут времена суровые, посложнее наших. Классовая борьба и все такое… Сами же вы – «аппарат пролетарского принуждения и насилия». Это не я придумал, – тут же начал открещиваться он от слов, могущих показаться чекистам обидными, – это то ли Владимир Ильич, то ли Феликс Эдмундович писали…
– Неужто почитывали? – заинтересовался Кочура и, чтобы поддержать гостя, снова протянул ему фляжку. – Не стесняйтесь. Вы нам нужны в бодром расположении духа и полной готовности к сотрудничеству без всякого принуждения, а тем более – насилия. Вот вы не поверите, а ГПУ – пожалуй, самая гуманная организация в РСФСР… – И в ответ на недоуменный взгляд Воловича продолжил: – Любой другой наркомат, а уж тем более – частный трест или синдикат заинтересован только и исключительно выполнением своих уставных обязанностей да извлечением прибыли. Хозрасчет, знаете ли… Мы же, будучи тем самым, что вы сказали, просто обязаны относиться к людям гораздо лучше того, как они о нас думают. Ни в коем случае не нарушать прав и законных интересов, ибо человек обиженный склонен преувеличивать степень собственных неурядиц и винить в них тех, кто, по его мнению, является их причиной…
Видно было, что Иван Стефанович цитирует наизусть и без запинки то ли речь какого-то вышестоящего товарища, то ли должностную инструкцию.
– Так, ребенок в кресле зубного врача ненавидит самого врача и бормашину в его руке, но никак не себя, неумеренно потреблявшего сахар и конфеты…
Тут вступил и Соболевский:
– Знаете, рассказывают такую историю. Когда царь Николай Первый назначил Бенкендорфа шефом жандармов, тот спросил, каковы будут его главные и первоочередные обязанности…
Сделал паузу и хитро посмотрел на Воловича.
– Ну, угадайте…
Михаил растерялся. Надо же, большевики-чекисты, а Николая Палкина вспоминают.
– Я как-то даже и не знаю… Ну, крамолу искоренять, декабристов новых вовремя выявлять… Чем еще жандарму заниматься. О! – вспомнил он читанные на филфаке литературоведческие труды: – За Пушкиным и Лермонтовым, вообще интеллигенцией следить… Чтоб за рамки не выходили.
Соболевский довольно растянул губы в улыбке.
– Не угадали. Николай Павлович извлек из кармана белоснежный платок и протянул Бенкендорфу: «Возьми. Первым делом утри слезы всем униженным и оскорбленным…»
– Про униженных – это, скорее, Достоевский, – не сдержал своего ехидного нрава Волович.
– Значит – у него Достоевский это и позаимствовал, но не суть важно. Главное, вы поняли, в чем высший смысл нашей деятельности.
– Так где Бенкендорф и где ВЧК-ГПУ?
– А никакой разницы, – ответил Кочура, отбирая у Воловича фляжку, к которой тот приложился уже второй раз. – Страна одна, люди одни, значит, и инструмент похожий. Вчера «третье отделение», сегодня ГПУ, завтра…
– МГБ, – снова ляпнул Михаил.
– Как-как?
– Министерство государственной безопасности…
– Тоже нормально, – одобрил Кочура. – Главное, что доску всегда строгают рубанком, хоть в розовый цвет его покрасьте и бантики привяжите… Да мы уже и приехали.
Еще несколько кварталов – и водитель резко крутанул руль. Машина, чуть не зацепив какой-то тарантас, проскочила в устье Кузнецкого моста. Тот почти не изменился. Те же самые дома по сторонам, та же брусчатка. Люди здесь и вправду одеты получше, движутся не спеша и с достоинством. Витрины сияют хорошо вымытыми хрустальными стеклами. Как у Маяковского: «От мух кисея, сыры не засижены. Лампы сияют, цены – снижены!»[115]
Только на углу Большой Лубянки вместо серой восьмиэтажной громады «нового», построенного в начале восьмидесятых корпуса КГБ – длинный желто-бурый дом с окнами первого этажа почти на уровне тротуара и темными зевами туннелей-подворотен. По книгам «Мемориала» Волович помнил, что здесь помещалась зловещая «приемная НКВД», возле которой тысячи (!) несчастных людей сутками стояли на морозе, чтобы узнать о судьбах своих невинно арестованных близких.
Волович, при всех своих недостатках, моментами умел размышлять здраво и логически правильно. Поэтому и подумал, что расхожая, нужная в пропагандистских целях «страшилка» скорее всего тоже вызванное эмоциями и аберрациией памяти преувеличение. Даже в самый разгар «Большого террора», в тридцать седьмом – тридцать восьмом годах едва ли каждую ночь арестовывали «врагов народа» тысячами. Во всех тогдашних московских тюрьмах столько мест нет, да учитывая уже сидевших там уголовников. Если считать, что за три, допустим, года было арестовано полтора-два миллиона человек по всей стране, это, выходит, не больше тысячи в день, от Минска до Владивостока. Население Москвы – процента три от населения СССР, значит, пропорционально возьмем… Полсотни выйдет, с самой большой натяжкой. Да и оперсостава на большее число попробуй найди.
Все эти расчеты он произвел в уме мгновенно, в очередной раз убедившись, что вся его и его друзей «правозащитная» и «антиправительственная» деятельность – то самое, что Розенберг, по-другому, впрочем, поводу, назвал – «Миф двадцатого века»[116]. Начатая предшественниками, может, и из благих побуждений, но все равно под влиянием антисоветской и антироссийской пропаганды, эта «идеология» быстро превратилась в способ зарабатывания легких и больших забугорных денег.
Особенно сейчас. При Советской власти диссидентов хоть сажали иногда, а ныне нужно совершить нечто из рук вон (за что в «колыбели демократии» пожизненное дают), чтобы присесть на годик-другой, и скорее всего – условно.
А когда наконец хозяева попросили безмерно отваливаемые денежки слегка отработать – Президента всего-навсего свергнуть, – не сумели. Дикие арабы своих пачками пускали в распыл, а «самые креативные» – облажались. Сколько-то реальных боевиков убитыми и арестованными потеряли, остальные по щелям расползлись, ожидать, когда за ними придут. А его самого аж вон куда закинуло!
Действительно, не начитался бы в свое время всяких книжонок, начиная с огоньковских статей, не слушал круглосуточного нытья родителей по поводу вечного дефицита и бесконечно длящегося сталинизма и антисемитизма, жил бы себе и жил. Не так, может, богато и увлекательно, без грантов и командировок во все концы света «за счет принимающей стороны», так все же в своей Москве, а не в этой…
Автомобиль прогудел многотональным пневматическим сигналом, глухие железные ворота раскрылись, и Волович оказался внутри этого легендарного здания, мимо которого большую часть «сознательной» жизни ходил со злобой, ненавистью и страхом. Иногда – инстинктивно втягивая голову в плечи. Обычно – когда что-то демонстративно-вызывающее против властей учинял. А его эскапад словно бы и не замечали. Что еще больше раздражало.
Соболевский, не прощаясь, вдруг куда-то исчез, растворившись в лабиринтах огромного здания, а Кочура через несколько постов сопроводил Воловича до высоких двустворчатых дверей в самом конце коридора пятого этажа, обитых вишневой натуральной кожей. («Невинных жертв», промелькнула привычно-ерническая мысль, но здесь как-то самому от такого черного юмора тошно стало). Никакой таблички с фамилией и должностью на дверях не имелось, но судя по тому, что от ближайшей, вдвое меньшей двери с овальным бронзовым номерком «514» эту отделяло не меньше тридцати метров глухой стены, начальник здесь сидел не маленький.
Воловича поразила неподвижная, давящая тишина, царившая внутри «Большого дома», а ведь его кабинеты вроде бы заполняли тысячи людей. И в самих коридорах было пусто и несколько сумрачно, невзирая на яркий солнечный день. Самое простое объяснение – коридоры – это так, элемент декора, а сотрудники перемещаются и водят арестованных по внутренним переходам и потайным лестницам, как в средневековых замках. Иначе рушилось очередное, с детства усвоенное представление о «Доме на Лубянке» как о круглосуточно работающем аналоге пресловутых «чикагских боен», куда с одной стороны бесконечным потоком гонят крупный рогатый скот, а с другой таким же бесконечным потоком грузовиков вывозят «готовую продукцию». Предприятие непрерывного цикла.
Михаилу раньше просто не приходило в забитую стереотипами голову, что сотрудники центрального аппарата обычно лично допросов не проводят и крайне малый процент «политических преступников» удостаивается чести попасть в «святая святых». Отделы и управления наркомата решают принципиальные вопросы управленческого характера, пишут отчеты и составляют аналитические записки. А если какому-то «следователю по особо важным делам» и требуется побеседовать с подозреваемым или обвиняемым, на то есть специальные помещения при следственных изоляторах.
Это, может, людей высоких рангов вроде Бориса Савинкова или бывшего жандармского генерала Джунковского в знак особого уважения доставляли на беседу с начальством сравнимого уровня, а с прочими не церемонились.
На самом деле – если не безответственно болтать языком, а наглядно представить себе семь этажей дома бывшего страхового общества «Россия»[117], днем и ночью переполненных тысячами арестованных, сопровождаемых вдвое-втрое большим количеством конвоиров! Сборный пункт губернского воинского присутствия в разгар всеобщей мобилизации показался бы в сравнении с этим бедламом пансионом для благородных глухонемых девиц. А во что превратились бы через полгода навощенный паркет и весьма по тем временам дорогие ковровые дорожки? Не заставишь же каждого арестованного при входе в здание тщательно очищать обувь от весенней и осенней грязи или переобуваться в войлочные тапочки. Не говоря уже о том, что из сотен выходящих на улицу и площадь окон должны были бы круглосуточно нестись крики и стоны беспощадно пытаемых людей.
Воловичу тут же пришло в голову образное сравнение, вполне пригодное для помещения в какой-нибудь очерк или художественный текст: «Утверждать, что дом ГУГБ ОГПУ – это аналог пыточных подвалов Приказа Тайных дел – почти то же самое, что, бия себя в грудь доказывать, будто в кабинетах наркомата путей сообщения ремонтируют паровозы, а в наркомпроде рознично торгуют мукой и ситцем».
В общем и целом первые же минуты, проведенные Воловичем в цитадели садизма и массовых нарушений социалистической законности, в очередной раз ввергли его в столь любимый представителями креативного класса когнитивный диссонанс, или, проще говоря, шок от несоответствия воображаемого и действительности. Заставили его, как Владимира Ильича перед смертью: «Полностью пересмотреть свои взгляды на социализм»[118].
Кочура без стука распахнул дверь, за которой оказалась довольно просторная, освещенная ярким солнцем приемная с кремовыми прозрачными шторами на высоких, нараспашку открытых окнах. За одним столом миловидная барышня всеми десятью пальцами что-то печатала слепым методом[119] на здоровенном, как строгальный станок, «Ундервуде», попыхивая при этом длинной папиросой, зажатой в сильно накрашенных губах. За другим, в углу, полускрытый буро-коричневым титаническим сейфом, перебирал бумаги сотрудник с двумя квадратиками на петлицах и при «нагане» в ярко-желтой кожаной кобуре.
– Яков Савельевич у себя? – спросил Кочура, и Волович не сразу сообразил, что речь идет о том самом, знаменитом, а также пресловутом Агранове, известном в кругах современной Михаилу либеральной интеллигенции тем, что якобы лично курировал всю литературу и все искусства в Советской России. По слухам, был близким другом Лили Брик и ее «основного» мужа[120]. Недоброжелатели уже в конце ХХ века почти в открытую «намекали», что он не просто занимался политической цензурой, а чуть ли не своими руками задушил Есенина и застрелил Маяковского. Бабеля, правда, не успел, самого расстреляли раньше. Но это в «той» реальности, а здесь он пока что процветал и, для большего соответствия, сменил отчество.
– У себя, сейчас доложу, – ответил вестовой (на адъютанта не тянул малостью чина) и снял трубку.
– Присаживайтесь, присаживайтесь, – радушно встретил гостя Агранов, даже вышел из-за стола и сделал три шага навстречу. Руки, впрочем, не подал, просто указал на глубокое кресло у приставного столика и сам сел напротив. Кочура остался у дверей.
Волович, сильно нервничая – сейчас ведь решится его судьба, возможно, на годы вперед, – пристально рассматривал своего визави. Вполне себе симпатичный мужчина, подтянутый, стройный, лицо без особых семитских признаков. Ни крючковатого носа, ни пейсов. Кипы тоже не носит. На свирепость и садизм ничто не намекает. Лицо отчетливо демонстрирует готовность в следующую секунду изобразить улыбку. Ломброзо отдыхает, как принято говорить. Да и на самом деле – кто из творческой интеллигенции изъявлял бы желание близко общаться с криминальным или просто хамоватым на вид человеком, и откровенничать с ним, тем более.
На таких же, как у Кочуры, васильковых петлицах три рубиновых ромба. На обоих рукавах выше локтя – овальные нашивки с вертикальным красным мечом на фоне серебристого щита. Над левым клапаном гимнастерки из тончайшей, голубоватой с сиреневым оттенком чесучи (для жаркой погоды ничего лучше не придумаешь) – орден Красного Знамени, над правым – почти такого же размера массивный знак из серебра с золотом, повторяющий нарукавную эмблему, только еще и в лавровом венке, с крупной рубиновой римской «Х» у нижнего края[121]. На широком поясном ремне – пистолетная кобура, не большая и не слишком маленькая, в самый раз по его росту и чину.
Импозантный мужчина, ничего не скажешь.
Агранов ни о чем не спросил Кочуру, только коротко кивнул, выслушав доклад. Тот вскинул руку к козырьку и бесшумно вылетел из кабинета, как его тут и не было. Уметь, между прочим, надо – когда они шли по коридорам, кожаные каблуки сапог чекиста стучали по паркету громко и уверенно.
– Итак, значит, Михаил Иосифович, собственный и специальный корреспондент «Актуальной газеты» и еще многих изданий, в том числе и заграничных. Я правильно осведомлен?
«Откуда это он успел? – поразился Волович. – Из машины ему никто не звонил, да и нет здесь такой техники, значит, что же, сам Ляхов и сообщил, прямо оттуда – сюда? Связь, значит, отлажена? А почему и нет, если проход имеется. И обещанная судьба голодного рабселькора мне вряд ли грозит, если и встретили, и к столь высокому чину привезли. Нужен я им…»
Михаил снова повеселел. Сколько уже у него сегодня таких скачков настроения было? Глядишь, в циклотимию, сиречь маниакально-депрессивный психоз, залететь можно. На фоне белой горячки…
– Правильно. Только я ведь не здесь работал. Какие у Советской власти ко мне могут быть претензии? И даже границу я нарушил, если это можно так назвать, не по своей воле. Депортирован, как в наше время выражаются. Причем – незаконно…
– Исключительно по воле пославшей мя жены… – усмехнулся Агранов и закурил, подвинув коробку явно высокосортных папирос «Дюбек» и Воловичу.
«Да, – подумал Михаил, – здесь такой ерундой, как борьба с курением, не заморачиваются. Здесь борьба исключительно классовая – на другую времени не остается».
Он вспомнил архивные фотографии, где делегаты какого-то партийного съезда курят прямо в зале Большого театра во время заседания. И в президиуме, на расстоянии вытянутой руки от самого Ленина! И ничего…
При чем здесь «здоровый образ жизни», если в любую минуту каждый может от белогвардейской или кулацкой пули погибнуть.
«А вот откуда у Агранова эта фразочка? «Стулья» только зимой печататься начнут, если здесь точно по-нашему история развивается. А это не так, раз нет ни Ленина, ни Сталина, а только Троцкий един во всех лицах…»
– Неужели читали, Яков Савельевич? – спросил Волович. – Уже издано?
– Вы тоже знаете? Прелестно, – искренне обрадовался Агранов. – Интересно бы сравнить варианты. У вас кто это произносит?
– Как кто? Отец Федор…
– Странно, у нас он Варсонофий. А слова те же… Надо, надо бы и ваш вариант просмотреть. Наверняка найдутся разночтения куда более существенные. А книга еще не напечатана и даже не окончена, это соавторы черновичок вечерами по главам читают, то у меня на даче, то в писательском клубе…
– Значит, вам все про меня известно, – взял быка за рога Волович. – Тогда и остальное скажите. Вам сообщили о моем прибытии, вы отправили «комитет по встрече», доставили сюда. Дальше что? Какие в отношении меня инструкции? Сразу говорю – согласен на любое предложение: в моем положении гимназистку из себя изображать бессмысленно.
– Верная мысль. Хорошо, если бы ею раньше начали руководствоваться. А так верно – выбирать не из чего. У нас, я вам доложу, уголовное право упрощено до предела. До разумного предела, ибо является выдумкой эксплуататорских классов, начиная с рабовладельческой эпохи. Теперь так – суды руководствуются не пудами томов «Уложения о наказании», а революционным правосознанием и принципами социальной справедливости. Что очень верно, по-моему. У нас нет даже сроков для тюремного или каторжного заключения. Исправительные работы по месту постоянной трудовой деятельности и проживания, или, по усмотрению суда, – там, где «исправляющийся» принесет наибольшую пользу. До тех пор пока назначенная работа не будет выполнена или гражданин не будет признан «исправившимся». В более тяжелых случаях – смертная казнь или изгнание за пределы РСФСР.
– Тоже мне, наказание, – едва не фыркнул Волович, вспомнив Солженицына и его роман «В круге первом».
– Не скажите. Не все так просто. Смотря как, куда и на каких условиях изгонять. Вас вот тоже – «изгнали». И как? Не выглядите вы счастливым. А окажись, случаем, на берегу не Сходни, а Енисея? Но мы отвлеклись. Я действительно в курсе ваших «приключений», и не думайте, что они вызвали у меня одобрение. Мерзавец и предатель всегда остается таковым, независимо от заявленных политических убеждений и общественного строя, который он предает. Вот если бы, допустим, путем долгих и мучительных терзаний вы осознали бессмысленность и обреченность капиталистического способа производства, как сделали это капиталист товарищ Энгельс и много не менее достойных людей, от всей души и не щадя сил включились бы в построение социализма – это одно. Если же вы предаете из соображений личной выгоды – это совсем другое и оценивается по другой шкале. Знаете, Цельсий, Фаренгейт, Реомюр…
Волович совсем не обиделся на Агранова с его «мерзавцем и предателем». Дошел, значит, до того самого края, когда человек полностью теряет самоуважение и то, что принято называть «гонором». Если единственным условием выживания является очевидная противнику «поза подчинения» – значит, надо ее принять. В животном мире точно так все устроено. А кто мы есть, как ни несколько приподнявшиеся над остальными в ходе эволюции высшие млекопитающие? Но раз высшие – должны лучше прочих в окружающем мире ориентироваться.
Попробовал Миша раз в жизни сыграть по-крупному, «да зашел он в пику, а не в черву». Что теперь сделаешь? Слава богу, не пристрелил его Ляхов и не бросил в какой-нибудь тамошний «зиндан». Кое-какой шанс оставил. А для чего? Выходит, что есть у него на Воловича планы. А какие – это постепенно надо разбираться, а пока что – изображать полную раздавленность и соглашаться на любые предложения. Само собой – прежде всего надо бы понять, что собой на самом деле представляет это «царство рабочих и крестьян». Как здесь вообще жизнь устроена?
Волович помнил сакраментальную формулу из только что упомянутой книги, вернее, ее продолжения, которое здесь то ли будет написано, то ли нет: «Если в стране бродят хоть какие-то денежные знаки, должны же быть люди, у которых их много». Наверняка и здесь то же самое. Не говоря даже о таких типажах, как Корейко и сам Остап, самые обычные писатели, художники, актеры, адвокаты (нет, адвокаты вряд ли, судя по тому что Агранов сказал об их правовой системе, адвокату здесь не прокормиться) живут вполне прилично. Раз не разбежались за десять лет по заграницам и в эту загадочную белую Югороссию не эмигрировали. Для кого-то ведь сияют своими вывесками рестораны? И строятся дачные поселки вроде Переделкино, когда «широкие народные массы» обитают в подвалах и коммуналках.
Как там у Булгакова в «Мастере»? «Бескудников, искусственно зевнув, вышел из комнаты. – Один в пяти комнатах в Перелыгине, – вслед ему сказал Глухарев. – Лаврович один в шести, – вскричал Денискин, – и столовая дубом обшита!»
А написано то про двадцать пятый год. Значит, жить здесь очень даже можно, если суметь устроиться, и в «Грибоедове» каждый день ужинать.
Проехав всего по двум здешним центральным улицам, Волович успел заметить вывески не менее пяти ресторанов сравнимого с описанным Михаилом Афанасьевичем уровня. Вполне приличная пропорция. Весь вопрос в том, как оказаться в числе их постоянных посетителей. Даже если поначалу придется, как выражался Салтыков-Щедрин, – «погодить». И даже – «претерпеть». Лишь бы не слишком много и не слишком долго.
– Я не знаю, что там вам обо мне известно, – как можно более спокойно и рассудительно начал Михаил, – судя по вашим довольно оскорбительным словам в мой адрес, информация к вам поступила крайне негативная. И стоило бы разобраться, заслуживаю ли я подобной оценки…
Какое-то время Агранов смотрел на сидящего перед ним человека с веселым изумлением. Нахален братец-то до последней степени. Сам Яков Саулович, то есть теперь Савельевич, не отличался рафинированной дворянской честью и высокими моральными принципами, но с тех пор, как его перевербовали…
Нет, не так – не «перевербовали», а убедили в правильности своих позиций и взглядов Шульгин и Новиков. С этого момента он прекратил всякие психологические и политические метания, честно работал на отведенном ему участке. Способствовал совмещению интересов Советской власти и ведомства, в котором служил, с той геополитической конструкцией, что выстраивали представители всемогущего «Братства». Истинной силы и целей этой организации он даже не пытался постичь, считая, что достаточно и того, в чем он осведомлен. Предателем он себя не считал по очевидной причине – некого и нечего было предавать. Цель революции – создание самого справедливого на Земле общества с его помощью успешно решалась. Никакого ущерба государству рабочих и крестьян он не наносил, напротив. Именно под его руководством успешно ликвидировались все возникающие для РСФСР угрозы, а благодаря существованию Югороссии, контролировавшейся тем же «Братством», система «Русский мир» приобрела устойчивость, сравнимую прочностью с кристаллической решеткой алмаза.
Инструкции от «вышестоящих товарищей» Агранов получал крайне редко, и были они достаточно общего характера, обрисовывающие только очередную цель, но пути ее достижения оставляя на усмотрение…
Но вот сейчас, вернее – ранним утром сегодняшнего дня прозвенел звонок на вид самого обычного телефона, одного из полудюжины, стоявших на его столе, но связывавшего только с представителями «Братства». Без всякой конспирации диск телефона был украшен двуглавым орлом. Иногда с ним говорили люди из посольства Югороссии, расположенного буквально в двух кварталах от Лубянки, на Цветном бульваре, иногда – из Коминтерна. Изредка, бывало, всего раз в два или три месяца удостаивала разговором сама Лариса Юрьевна Левашова, легальный представитель нескольких международных благотворительных, культурно-просветительных и отстаивающих интересы женщин организаций. Милейшая дама, чрезвычайно красивая, остроумная и компетентная, при «специальном» взгляде светло-карих глаз которой Агранова непроизвольно охватывали замешательство и слабость в конечностях. Она и была полномочным, действительно чрезвычайным полпредом «Братства» или, как оно именовалось в секретных документах, – «Союза пяти». Кого «пяти» – государств, конфессий, материков или планет Солнечной системы – нигде не уточнялось.
На этот раз звонили из совсем другой России, о существовании которой Агранов, как и большинство руководителей «партии и правительства», знал, но точного представления не имел. Говорить об этом вслух даже между «своими» не полагалось, как, например, в Ватикане рассуждать о сущности Бога не как метафизической структуры, а конкретного административного лица, расположенного всего на одну ступеньку иерархической лестницы выше ежедневно мелькающего в помещениях своего дворца Папы, в данный момент – Пия за номером одиннадцать.
Один из высших должностных лиц «Братства», Вадим Петрович Ляхов, с которым Агранов до сих пор лично не встречался, но по телефону несколько раз беседовал, сообщил, что на территорию РСФСР, в такое-то место (с точностью до полукилометра), переправлено некое лицо без гражданства, Волович М.И.
Далее следовала объективная, но крайне негативная даже с точки зрения закоренелого чекиста характеристика. На взгляд Якова, такого человека следовало бы просто расстрелять, не затевая каких-то малопонятных игр. Впрочем, не ему судить, иезуиты в подобных случаях все сводили к универсальной формуле: «Ad majorem dei gloriam»[122].
Надо – значит надо. И не такими проблемами приходилось заниматься. А тут ничего сложного – встретить, побеседовать, составить собственное мнение, после чего использовать по усмотрению. Но сохранить живым и работоспособным на случай, если вдруг потребуется его возвращение. А если нет – «он в полной вашей, Яков Саулович, власти». «Савельевичем» Агранова Ляхов почему-то никогда не называл.
И вот сейчас засланец (но не ссыльный, так Агранов решил) пытается посеять у Агранова сомнения в правоте слов существа, как ни крути – высшего. Яков хорошо помнил собственные ощущения, имевшие место во время непосредственных контактов с Шульгиным и Новиковым. Неприятные, нужно сказать, ощущения[123], но зато результат! Только благодаря согласию на сотрудничество Агранов достиг нынешнего положения и уровня благосостояния, уверенности в завтрашнем дне, что самое главное. Никакие чистки и политические пертурбации его не коснутся, пока он работает на «Братство». Два масштабных выступления сначала «правых», а потом «левых» уклонистов были успешно подавлены, в партии и советских структурах проведены тщательные «чистки», кстати, опять же с помощью «Братства» и Югороссии. Троцкий окончательно понял, что только соблюдение «трехстороннего пакта» гарантирует ему личную выживаемость, а делу Мировой революции – перспективу.
Уяснил Лев Давыдович и то, что в кадровых вопросах он волен лишь до определенного предела: людей, поставленных не им, – не ему и смещать. А Агранов был как раз из выдвиженцев. Должность он, с согласия Новикова и Шульгина, выбрал себе сам, и она его устраивала полностью – ни выше, ни «вбок» ему не хочется. Несменяемый начальник ГУГБ ОГПУ – чего еще желать человеку с мозгами, волей и амбициями? И совершенно сказочным «окладом денежного содержания» плюс «промтоварным пайком в натуре» от «Братства», включающим такие, например, забавные вещицы, как электрограммофон с барабаном на двадцать «долгоиграющих» пластинок[124]. Была, правда, у Агранова идея – выделиться из «Объединенного Госполитуправления» и стать наравне с Менжинским «Генеральным», но – «Госбезопасности», как суверенного наркомата. Но с этим – не горит.
В суть его работы никто не лезет, да никто и не имеет права, кроме самого Менжинского, а Вячеслав Рудольфович – большой сибарит, тайный алкоголик и нимфоман, ему тонкости разведки и контрразведки глубоко до фонаря. Система крутится сама собой, Председателю коллегии ОГПУ нужно только на еженедельных совещаниях у товарища Троцкого зачитывать справку о состоянии текущих дел и получать очередные директивы в самом общем виде, каковые доводить до начальников управлений «в части, касающейся…».
Агранов тоже давно переложил черновую работу на двенадцать заместителей и начальников управлений, а сам занимался тем, что ему только и нравится, – контролем в сфере идеологии и культуры, которые есть самая суть государственной политики. Если с культурой (в широком смысле) все в порядке – людей очень легко убедить жить как предписано, делать что сказано и при этом быть счастливыми оттого, что живут в самом передовом и гуманном обществе за всю человеческую историю.
А культурой (литературой, театром, кино, живописью, цирком даже) руководить удобнее и приятнее через личные контакты. Пусть профильный наркомат во главе с товарищем Луначарским, управление агитации и политпропаганды ЦК РКП (б) думают, что они владеют обстановкой и направляют процессы – все отнюдь не так. Конечно, библиотеки там, клубы открывать, книгоизданием и книготорговлей ведать, кружки политграмоты и «ленинский университет миллионов» в каждой артели и при квартальном комитете насаждать – нужно и полезно. Только это ведь все ремесло. Как бревна топором тесать, начиная постройку очередного храма, но храм-то храмом станет, когда отделают все, иконы развесят, утварь по местам в алтаре расставят и правильного попа на амвон выведут!
Директивы директивами, но ты поговори по душам с каждым литератором, режиссером, композитором, дай ему дачу, квартиру, автомобиль и «сверхударный паек» – они тебе «Петра Первого» и «Поднятую целину» напишут. Коньячку в приятной компании пригласи выпить, в запасниках Оружейной палаты позволь порыться, сувенирчик на память взять – «Тамбовские крестьяне», «Путевку в жизнь», «Троцкий в Октябре» и «Незабываемый девятьсот двадцатый» в цвете снимут, «Оптимистическую трагедию» и «Свадьбу в Малиновке» на театре поставят.
А впитав в себя и внешнюю канву, и тайные смыслы, в этих шедеврах содержащиеся, простой (да и не очень простой) трудящийся абсолютно искренне, без всякого насилия над личностью уверует, что нет на свете ничего лучше Советской Социалистической Федерации. И сам он – свободнейший из свободных, ибо свобода – это осознанная необходимость, и «я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». И что хоть живут в белогвардейской Югороссии побогаче (пока!), но кроме как за покупками в Харьков съездить, на отдых в Крым или Кисловодск (нет теплых краев в РСФСР, куда денешься?!) – делать там классово-ориентированному и идейно подкованному гражданину совершенно нечего.
Конечно, творческие люди тоже ведь разные, с амбициями и «понятиями», с собственными идеями, наконец. Кому-то вроде Демьяна Бедного можно прямое партийное поручение дать – отобрази-ка в поэме радость единоличного крестьянского труда на собственной земле, с апелляцией к древнерусским истокам! С другим – иначе. Тоже в дружеском разговоре разъясни, что негоже такому романтику и талантищу немереному в скучной Москве прозябать, неплохо бы в персональном салон-вагоне в Сибирь, на Дальний Восток прокатиться, воспеть героические будни строителей Турксиба, Байкало-Амурской магистрали, владивостокского судоремонтного завода или золотодобытчиков Колымы. Да так воспеть, чтобы молодежь десятками тысяч в добровольцы записываться кинулась…
Вот где высший пилотаж работы с деятелями культуры и искусства, народом самоуверенным, себялюбивым и капризным! Одного вон еле отговорил вешаться, в творческую командировку в Нью-Йорк послал, ужасы империализма описывать в чеканных стихах. Другому намекнул, что роман про Мефистофеля в современной Москве, который он «в стол» пишет (ГосЛИТО и Главреперткомом1 запуганный), очень сейчас к месту придется. И народу интересно будет, и идеологическую кампанию по борьбе с РАППом1 к этому делу подверстать можно.
Помогли референты Агранова писателю с прежней женой развестись и на новой жениться, четырехкомнатную квартиру на Волхонке дали, в Швейцарию на три месяца подлечиться отправили, гарантированные сто тысяч тиража с последующими переизданиями пообещали.
И попутно, ненавязчиво предложил вот здесь, здесь и здесь вставочки пространные сделать, вроде как лирические отступления. И – тезисы готовые извольте получить. Вы же с этими моментиками согласны? Вот и отлично, только обработайте их с присущим вам блеском.
А главное ведь – не только польза делу, самому очень приятно себя меценатом чувствовать, вершителем судеб и людей, и страны в некотором роде. Люди, в свою очередь, Якова Савельевича боготворят. Ни один сексот не доложил, что в творческих кругах об Агранове плохо отзываются. Был как-то один случай, сильно умный (и действительно талантливый) товарищ высказался по пьяному делу в узком кругу, что уж больно хитер чекист и что лучше б от него подальше держаться, пока души дьяволу окончательно не продали. И что, наказал его глава всех разведок и контрразведок, хоть намеком дал понять, что в курсе фрондерства глупого? Никак нет. Немедленно товарищу орден Трудового Красного за прежние заслуги и – в секретари Союза писателей кооптировать[125]. Посмотрим, что он дальше петь будет… А что теперь пить возможностей куда больше представится, а писать – наоборот, так это уже издержки новой должности.
Столь несвойственная должности деятельность начальника ГУГБ уже вызывала косые взгляды наркома культуры и прямые обращения профильного секретаря ЦК к товарищу Троцкому с жалобами на несанкционированную узурпацию Аграновым чужих прерогатив. Но Лев Давыдович, вникнув в суть вопроса, одобрительно посверкал стеклышками пенсне и велел впредь товарищу не мешать, поскольку тот гораздо лучше проводит «линию партии», во избежание «оргвыводов» по отношению к тем, кто этого не понимает.
До Якова это «мнение» немедленно довели, и он счел, что отныне руки у него развязаны. А секретарю ЦК по идеологии, товарищу с незаконченным средним образованием, при случае намекнул «горячим утюгом в грудь», что в Стране Советов неприкасаемых нет, и границы между просто глупостью и сознательным вредительством определяют как раз «органы пролетарской диктатуры», на то поставленные… Дошло моментально до товарища, за три шага первый здоровается, только что шапку не ломает.
И сейчас Агранов, не спеша попыхивая папиросой, держал «МХАТовскую» паузу, разглядывая лицо визави, как цыган лошадь на ярмарке, и прикидывал, насколько впредь «гражданин Волович» может полезным оказаться. Что подл и беспринципен – не беда, главное, против кого и для чего эти свойства использовать. Поесть и выпить любит – тоже плюс. Алексею Толстому компанию составит. Пером бойким отличается – нам такие нужны, косноязычных журналистов пока больше, чем дорошевичей и гиляровских. А писать будет что скажем – хрен ему, а не «свобода слова». В общем, используем ценного кадра из будущего на всю катушку, пока не отзовут. Успеет наших товарищей своим приемчикам обучить, да и сам, глядишь, чем-то необычным порадует.
Агранов хорошо понимал, сколь ценный подарок он получил от «старших товарищей». Это примерно то же, как если бы перед войной с Наполеоном царю Александру предоставить несколько репортеров центральных газет из будущего, с опытом идеологического освещения Мировой и Гражданской войн. Не говоря о методах и приемах прямой пропаганды, они ведь и уровень стилистики поднимут. Как Пушкин и Лермонтов – уровень художественной прозы и поэзии в сравнении с восемнадцатым веком. «А тогда, при Державине и раньше, проза вообще была?» – вдруг задумался Агранов. Не помнил он что-то. Надо будет заглянуть в Брокгауза с Ефроном.
– Что вы там сейчас сказали? – вскинул голову Агранов, настолько погрузившийся в собственные мысли (с ним это нередко случалось, даже Троцкий как-то замечание сделал), что совсем выпустил из внимания последние слова Воловича, на поток ассоциаций с аллюзиями его и натолкнувшие.
– Я сказал, что характеристики, которые вы на меня, видимо, получили, могут и не соответствовать действительности в силу своей субъективности. Знаете, когда в дело замешана женщина, даже очень умные и порядочные люди способны терять объективность…
– Хорошо излагаете, коллега, – с тонкой, понимающей улыбкой сказал Агранов. – Ваш профессионализм подтверждается. Но что касается остального… Женщины, они, конечно… Сколько блестящих биографий испортили, карьер сломали… У вас, случайно, фотографии с собой не имеется? Многие имеют привычку поближе к сердцу держать. А если вдруг об этом становится известно… гм, сопернику… Тогда действительно коллизии могут образоваться.
Фотография Вяземской у Михаила с собой действительно была. Присвоив, он не рискнул держать ее в ящике стола или вообще где-то в отведенной ему комнате, опасаясь обыска в свое отсутствие. Не мог он поверить, что ему действительно оказывают подобающее статусу доверие. И ошибался – все эти дни Фесту было не до того, чтобы еще и шмоны журналисту устраивать. Да и не считал он нужным этим заниматься. Не его уровень, в отличие от самого Воловича, обожавшего подсматривать, подслушивать, рыться в ящиках сотрудников и особенно сотрудниц, вскрывать пароли их компьютеров.
Фотокарточку он слегка обрезал по краям, чтобы поместилась, и спрятал под слегка отпоротой подкладкой бумажника из кожи кобры. Сверху располагались кляссеры для визиток, кредитных карточек и прочего, так что случайно на его «сокровище» наткнуться было невозможно, тем более что бумажник он всегда носил при себе.
Сейчас Михаил заколебался. Сказать «нет» – а вдруг ему еще предстоит полный обыск с досмотром даже и внутренних полостей тела, что чекисты до наших дней практикуют при малейших подозрениях? Тогда его положение еще ухудшится, хотя куда уж… А ему надо любой ценой заручиться доверием и поддержкой этого наверняка очень могущественного человека.
Что ж, будем откровенными, даже чрезмерно.
Волович, делая вид, что крайне смущается, вытащил бумажник, оттянул подкладку и достал фотографию. Протянул Агранову, сбивчиво говоря при этом:
– Так, знаете, получилось… Девушка подарила мне фотографию, а господин Ляхов, он ее начальник, директор научного института, парапсихолог и ясновидец, как-то об этом узнал. Очень может быть, и допросил с пристрастием. Он оказался жутко ревнив… Вот и поступил со мной таким вот образом… Не представляю даже, что он мог вам наговорить обо мне… Я понимаю, вам, возможно, трудно поверить, вы о Вадиме Петровиче, наверное, совсем другого мнения, но вот что есть, то есть… Да сами посмотрите… Из-за такой девушки можно голову потерять и пойти на… Ну, Отелло, и все такое, вы понимаете… Я же не виноват, что так получилось…
Агранов внимательно рассматривал фотокарточку. Вдобавок еще и цветную, изумительного качества. Черно-белых картинок такого типа и в этом времени сколько угодно, и просто «ню», и таких, что тертых жизнью бандерш в краску вгонят, этим Якова не удивишь. Но вот девица на самом деле была чудо как хороша. Агранову еще не отказывала во внимании ни одна женщина, хоть замужняя, хоть народная артистка, и танцы на столе ему целые кордебалеты Большого и Мариинки устраивали…
Но таких, как эта, – ни разу не видел (на самом деле одну видел – Ларису Левашову, тоже оттуда. Но сейчас и о ней не вспомнил, настолько девушка с фото была эффектнее), ни живьем, ни на картинках. Что значит целый почти что век эволюции. И типаж совсем другой, и пропорции фигуры… А лицо! А прическа! Глаза какие выразительные, прямо сияют. А изящные груди с торчащими вверх розовенькими сосками! Ни у одной из его подруг ничего подобного не имелось, обязательно мягкие, рыхлые, отвисшие… И ноги у всех короткие в сравнении с этими, икры толстые… А! Что тут говорить…
Агранов почувствовал сильное, даже чрезмерное возбуждение. Примерно такое, что он испытал лет в четырнадцать, подсмотрев, как гостивший у соседей по даче студент торопливо задирал в зарослях сирени подол сарафана молодой жене хозяина, известного присяжного поверенного Рухимовича, на двадцать лет ее старше. Он даже не успел увидеть самого «процесса», хватило и того, что на Ольге Тимофеевне не было панталон и по глазам ударила белизна чуть округлого живота и большой темный треугольник ниже, между пока еще сжатыми бедрами. Яша увидел это, зажмурился, закрыл лицо руками и побежал, боясь и не желая видеть того, что сейчас начнется. Он с прошлого года был страстно влюблен в соседку и мечтал подсмотреть, как она раздевается в купальне. Даже дырку в заборе почти провертел. И вдруг – увидеть, как ее…
Он тогда упал лицом вниз на лужайку возле крокетной площадки, несколько раз содрогнулся, как раньше бывало только во сне, в трусах стало горячо и мокро, и тут же Яша разрыдался от обиды и разочарования в своем кумире. Такой эмоциональный был ребенок.
Сейчас, глядя на эту бесстыжую девицу – дарить такие фотографии хотя бы даже и любовнику… Между прочим, на любовника для «такой» гражданин Волович явно не тянет. Даже за большие деньги. Разве что по тамошним понятиям мадемуазель совсем и не красавица, а так, вполне средненькая… Серая мышка.
Он так и спросил Воловича – «королева ли это красоты» или рядовая гражданка из третьего тысячелетия.
Михаил вздохнул и ответил, что одна из красивейших, в Москве, как минимум.
– И как зовут?
– Людмила. Вяземская.
– Из князей?
– Точно не знаю. Зато – жандармский поручик, по-вашему…
– О как! – удивился Агранов. – У меня бабы тоже служат, но все как на подбор страхолюдные. Не хотят красивые нашим делом заниматься. И чем же ты, жирная морда, мог такую прелесть покорить? Ни за что не поверю. Фото точно спер и приставал небось внаглую. По пьяни, скорее всего. По-трезвому к жандармке лезть побоялся бы… В общем, хватит.
Швырнул фотографию через стол, хотя мелькнула мысль оставить себе. Для приобщения к делу.
Нет уж, не в свои вопросы лучше не лезть. Даже в таком вроде бы невинном смысле. Не удержишься ведь, начнешь каждые полчаса на нее пялиться. Потом с обычными ничего не получится. Да и вообще кто там их знает, «Братство», парапсихология, прыжки во времени, еще какое колдовство. Приворотит его к этой девке… Ну его на…
Он нажал кнопку звонка. На пороге тут же возник порученец.
– Вызови конвой, Пальцев. В одиночку его, в пятнадцатый номер. Пусть посидит. Потом решу, что с ним делать. Режим стандартный. Книги и курить разрешаю. Передачи тоже. Хотя кто ему их здесь принесет?
Порученец пожал плечами, развел руки и поднял глаза к потолку.
На слова начальника, даже и риторические, следует реагировать. Хотя бы и таким образом.
Стул под Воловичем ощутимо покачнулся. Голова закружилась, и тошнота накатила. Не ждал он такого. Разговор вроде нормальный, деловой пошел, и вдруг – «в одиночку»!
Агранов вскочил, сильной рукой ухватил за грудки, удерживая от падения. Дважды хлестнул по щекам, потом плеснул в лицо водой из стакана.
– А ну, не распускаться тут! Скажи спасибо, что здесь и в одиночку. В Бутырке, в камере на сотню мест куда как веселее…
За спиной Волович уловил движение, обернулся. У двери уже стояли два чекиста с голыми петлицами.
Агранов подтолкнул к ним Михаила.
– Арестованный, руки за спину, – скомандовал один из конвоиров. – Голову не поднимать, по сторонам не смотреть. Шаг вправо, шаг влево считается побегом. Марш…
Ну вот, наконец и прозвучали те самые сакраментальные слова!
Волович глубоко со всхлипом вздохнул и шагнул навстречу неизвестности.
Глава десятая
Из записок Андрея Новикова
…С самого момента возвращения не в первый уже раз я обращал внимание, как изменилось восприятие окружающего родного мира после двухмесячного всего лишь пребывания на слишком своеобразной Второй Земле. Вроде бы там почти все то же самое, но нет. Не только солнечная радиация другая, но еще что-то, ощутимо влияющее на психику. От этого, наверное, все отличия дуггуров от нас и причина столь резкой разницы в направленности эволюции.
За счет другого содержания кислорода в воздухе (не говоря об эманациях и радиациях чего угодно) там возможно существование гигантских инсектов, которые на нашей Земле вымерли еще в Меловом или Юрском периоде. Этим же и иные тамошние чудеса и прелести объяснить можно.
Мне сразу вспомнился депрессивный удар, полученный от дуггуров на Валгалле. И к концу нашего в «Дуггурляндии» пребывания я ощущал почти то же самое, только в значительно смягченной форме. Начал уже сам подумывать о возвращении, во избежание «острого рецидива», но с помощью Скуратова и Надежды все само собой решилось.
Выскочили оттуда – и как из зимнего заполярного Норильска – на Гавайские острова. Хотя сравнение вроде бы выглядит бессмысленным: это на той Земле буйство тропической природы, аквамариновые моря и невероятной синевы небо, отражающиеся друг в друге. На вид – абсолютный рай земной. Но по ощущениям – как раз тот самый Норильск. Пусть и объяснить словами тому, кто там не был, это почти что и невозможно. Ну, если совсем попросту – сильнейшее давление совершенно чуждой ноосферы и не под нас выстроенного биогеоценоза. Просто я за счет перенесенной психической травмы это раньше почувствовал.
Вот и сейчас сидел я перед открытым панорамным окном каюты за своим письменным столом, с обычной чернильной авторучкой над своей тетрадью, записывал кое-что, а больше любовался бескрайним океанским простором, бликами солнечных лучей в ложбинках между увенчанными белыми барашками волнами. Какая красота все-таки! Может, действительно отключиться от всего и прокатиться вместе с Воронцовым вокруг «шарика»? Да не в нашем, оказавшемся довольно неприглядным двадцать первом веке, а в мире Басманова. Какой там у них сейчас год, двадцать седьмой, кажется? Причем – двадцать седьмой в улучшенном варианте, с куда более спокойной международной обстановкой и ощутимо продвинувшимся в сравнении с ГИП прогрессом. Бытовым по преимуществу.
Или на «Призраке» сделать еще одну попытку исполнить юношескую мечту. Прошлый раз курортная кругосветка не удалась по независящим от нас причинам, пришлось вместо отдыха ввязываться в проблемы потомков из две тысячи пятьдесят шестого года, Ростокина с его Аллой из лап оживших покойников и алчных миллиардеров, жаждущих бессмертия, спасать.[126]
Конечно, гораздо романтичнее, если бы сейчас передо мной был иллюминатор в надраенной бронзовой или медной раме, но ради моей прихоти Воронцов не стал бы портить стильную архитектуру «Валгаллы». Иллюминаторы здесь только в помещениях, расположенных в корпусе, – а в надстройке – квадратные и прямоугольные окна, и тем они больше, чем выше расположена палуба и, соответственно, класс кают.
Иллюзию, впрочем, с помощью подобия лемовских «фантоматов», я хоть сейчас могу создать любую. Есть у меня в каюте еще один, имитационный, так сказать, кабинет, копирующий настоящий профессорский в старой московской квартире, и там за нормальным окном – зимняя улица Горького конца пятидесятых годов. Но имитация и есть имитация, годится под настроение, а натуральный вид и свежий морской ветер, шевелящий бумаги на столе, – это совсем другое.
Тут прозвенел звонок, кто-то просил впустить его в каюту. Я посмотрел на телеэкранчик, передающий изображение с видеокамеры над дверью. Этакий аналог прежнего «глазка», очередное свидетельство прогресса. Когда Воронцов «строил» пароход, мы, ребята первой половины восьмидесятых годов, о таких изысках не задумывались. Да их, по-моему, видеокамер размером с винтовочный патрон, еще и в природе не было. У аггров и форзейлей имелись, конечно, но нам тогда просто в голову не приходило такими «девайсами», как сейчас на Большой Земле говорят, заморачиваться.
А теперь есть, и это довольно удобно. Как и многое другое из техники двадцать первого века.
В коридоре стоял Сашка, одетый в подходящие к погоде и ситуации голубые шорты и белую рубашку с короткими рукавами. Вроде как форменная одежда корабельного комсостава для тропиков. С нашивкой «Валгаллы» на рукаве, только без погон. И верно – что же ему, генерал-лейтенантские погоны ВСЮР цеплять? Чересчур манерно, и все роботы и люди из экипажа парохода должны будут каждый раз, увидев его, «во фрунт» становиться? А заслуженные при советской власти погоны медицинского старлейта – тоже смешно.
Он зашел в кабинет, развалился в кресле, немедленно закурил и жестом показал, чтобы я подал ему из бара-холодильника бутылочку пива. Мне вроде как ближе, могу дотянуться не вставая.
– Творишь? – поинтересовался он, кивая на раскрытую тетрадь. К моим записям еще с юношеских лет Сашка относится благосклонно, всегда оказывается в числе первых читателей и часто дает ценные, хотя и ядовитые советы по совершенствованию стилистики и сюжетосложения. При том, что сам не в состоянии ничего литературного изобразить, кроме поздравительной открытки к Новому году и дню рождения (когда их еще писали и посылали).
– Так, помаленьку. Не забыть, чтобы…
– Как будто ты когда-нибудь что-то забываешь, – польстил мне Сашка. Значит, что-то ему от меня нужно. Как минимум – моральная поддержка, неизвестно пока, в чем именно.
– Еще как, – не согласился я. – Канву, хронологию, реперные точки – помню, конечно. А вот нюансы… Если б не записывал по горячим следам, вспомнилось бы сейчас детально, как шли мы (по календарю – полвека назад) вниз по утренней улице Интернациональной в Ессентуках? С утренней электрички в семь двадцать, кажется. Совсем недавно, перед рассветом, прошел короткий дождь, асфальт был еще мокрый, и прибитой пылью пахло, а за оградой Курортного парка птицы свистели и рулады выводили, как на конкурсе имени Чайковского… И ты, помнится, размышлял вслух, удастся ли тебе ту молодую докторшу, с какой мы накануне познакомились, соблазнить, или нет.
– Да, было, – вздохнул Сашка. – Самый разгар «застоя», как потом стали писать, а хорошо было… Не передать.
– Не разгар, а только преддверие. Излет «оттепели». Как Фунт говорил: «еще до угара НЭПа». Ты что-то интересное придумал? Слушаю, – резко сменил я тему.
– Да чего там интересного! Так, поразмышлял немного. Мне представляется, что пока Фест с Лютенсом и Ойямой разбираться будет, ему наша помощь не потребуется, – сказал Шульгин, пружинисто поднялся из кресла, подошел к окну. В отличие от большинства остальных пассажирских палуб, окруженных прогулочными галереями, эта располагалась на два уровня, на шесть с лишним метров выше «Променад-дека», и в окно никто не мог заглянуть походя. И «несанкционированно проникнуть» извне, конечно. Немаловажное преимущество. Моя врожденная латентная паранойя вообще не переносит никаких нарушений «прайвеси», сиречь личного жизненного пространства. Терпеть не могу сидеть спиной к двери. В читальном зале заниматься не мог, если позади меня кто-нибудь пристраивался, сопел и шелестел страницами. Ночью в степи у костра отвратительно себя чувствую. А уж поселиться на низком первом этаже с окнами на людную улицу – лучше одиночная камера в башне замка Иф. И чтоб тюремщик заглядывал в глазок не чаще чем раз в сутки…
– Думаю, не меньше пары суток им будет чем заняться. Пусть пока с привлечением всех заинтересованных сторон выясняют, сама мисс Мэйден грохнулась или ей помогли. И что остальные «слуги демократии» по этому поводу делать будут. Я Фесту предложил подкинуть аэнбэшникам и прессе прилично выглядящую информацию в пользу хотя бы трех взаимоисключающих версий. И невредно бы еще один «эксиденс» организовать, зеркальный, так сказать. С кем-нибудь из враждебного этой «банде четырех»[127] лагеря… Вполне такой необъяснимо случайный…
– Идея хорошая, но есть у меня коррективы, – ответил я. – А прямо сейчас стоит перебросить Лютенсу для поддержки тройку роботов. Мало ли. Вдруг оппоненты решатся на немедленный «острый вариант»? Тут наши ребята и вмешаются. На первый случай больше едва ли потребуется. Только под кого бы их оформить? – сразу подхватил я Сашкину идею. – И чтоб вопросов не возникло, и максимум оперативной свободы…
Шульгин задумался. Действительно, в каком качестве могут появиться в близком окружении президента США и цэрэушного полковника три посторонних человека, чтобы не вызвали подозрения и могли делать практически все, что могут потребовать обстоятельства?
– Не заморачивайся, – тут же сказал я. – Фест твой сильно умный, мировую политику вершить замахнулся, вот пусть и думает. А мы посмотрим. Можешь подсказать – пусть с Лютенсом свяжется, тот свою кухню лучше нас представляет.
– Что, напрямую спросить? – удивился Сашка. – Так, мол, и так, товарищ агент, у меня тут вам для помощи обнаружилось несколько Терминаторов, в каком виде их получить желаете?
– Придуряешься или тормозить стал, как эстонец? – удивился я. – Честертона давно читал? Пусть патера Брауна изобразит. Скажет Ойяме без нажима, что есть у него данные из личных источников о непосредственной угрозе жизни президента, и одновременно – поблизости находятся несколько «паранормальных специалистов». Покруче Рыси, что его самого «сделала». Вот и нужно, мол, сэр, ваше разрешение, при необходимости в игру их ввести. Поскольку иным способом ни президента, ни его самого гарантированно защитить не удастся. Нынешняя охрана Кэмп-Дэвида – кто знает, на чью сторону перейдет в случае чего. Лютенсу дать понять, не драматизируя – мы тоже не всесильны. А наш «шпиен» пусть сам соображает, как «помощников» для президентской службы безопасности залегендировать…
– А что, нормально. Так, может, в натуре именно под валькирий роботов замаскировать? Только опять тот же вопрос – что им там делать?
– Пусть думает, – повторил я. – Потом ему зачет или незачет поставишь, в рамках внезапной инспекторской проверки.
– Зачет или незачет ему пулей в затылок поставят, если не повезет. А в остальном согласен. Его партия, ему и играть, – кивнул Шульгин. – А нам с тобой развеяться пора…
– Не нагулялся еще? – осведомился я, выбирая на подставке одну из полусотни коллекционных трубок, на два года забытых и заброшенных. Надо теперь постепенно заново их обкуривать. Начну, пожалуй, вот с этого «Петерсена». Я взял длинную прямую трубку с серебряным кольцом из настоящего шиллинга восемнадцатого века, одну из первых моих настоящих трубок, а не изделий московской фабрики «Ява», с каких мы начинали. – Анна тебе бубны не выбила за предыдущее?
– А что такого? – сделал удивленные глаза Сашка. – Жена авантюриста и землепроходимца должна быть всегда готова к внезапным разлукам. Вон прежние наши коллеги на самом деле в трехлетние кругосветки ходили, на Аляску или Антарктиду открывать, и без всяких телефонов-телеграфов, заметь, а жены и невесты их ждали.
Он снова опустился в кресло, закинул ногу на ногу.
– Для нее меня всего два с половиной месяца не было. Они с прочими девицами то на Валгалле, то в гостях у Лихарева с женой, то у Воронцова на пароходе кантовались, время и пролетело незаметно. Так что я по ней как по бабе сильнее соскучился, чем она по мне. Сделал что мог, удовлетворил ее в меру моральных и физических возможностей, теперь можно и снова в поход…
С Анной, конечно, у Сашки получилось так же, как со всеми предыдущими подругами, включая первую законную жену. Меня это, признаться, с самого начала не просто удивляло, а моментами просто бесило. Умнейший вроде бы человек, психиатр, между прочим, сексопатолог в частности, а с собственной гормональной системой ничего не мог поделать. С определенной регулярностью у него на эротической почве едва ли не крышу срывало. Охватывала его вдруг страстная до неприличия в кого ни попадя влюбленность. При том, что гораздо более приличные, на мой взгляд, «объекты» и так ему в абсолютной благосклонности не отказывали. В один из таких приступов он и женился на до крайности стервозной бабе.
Влюбленность прошла до окончания «медового месяца», а злобненькая и весьма распутная супруга осталась. Хорошо, аггры помогли от нее сбежать «с концами».
С Анной получилось почти то же самое. Другое дело, что как человек она неизмеримо лучше и выше его «бывшей». Но это никак не объясняет всего остального. А итог его второго брака закономерен – Аня ему просто приелась. Живет он с ней (в обоих смыслах) не чаще, чем месяц в году. Вот и сейчас – не виделся с «девушкой» (в двадцать первом веке так без тени смущения называют даже очень сильно беременных дам) то ли три месяца, то ли два года, за несколько дней и ночей компенсировал себе (ну и ей тоже) все неотреагированные эмоции, и она опять, похоже, не слишком отличается для него от прочих «боевых подруг».
И ведь что интересно, ничуть на этих его свойствах не отразилась трехкратная смена физических оболочек. Переходы в эфирную сущность и обратно.
– В поход, значит, – кивнул я. – А куда именно? Что-то мне в голову никакой достойный пункт назначения не приходит. Разве что в двадцать седьмой год, к Басманову. Или в Англию к Сильвии – нового монарха не престол сажать и всю последующую англо-российскую конфронтацию в утиль сдать. «Русский с британцем – братья навек», – пропел я на мотив популярной в моем раннем детстве песни «Москва – Пекин»: – «Сталин и Мао слушают нас…» и так далее. Так планы вроде другие имелись, кабинетные, я бы сказал.
– Ну, насчет похода я малость загнул, не поход, так, прогулочка…
– Тоже было. Коротенькая прогулочка на Валгаллу чем кончилась? Да и пресловутый наш Одиссей тоже собирался из похода на Трою вернуться «до осеннего листопада». Подумаешь, делов-то – украденную девку у соблазнителя отобрать, законному мужу вернуть да острастку на вассалов навести…[128] Так куда?
– Ты не нервничай, – успокоил меня Сашка. – Никаких новых авантюр. Все чисто в плане уже намеченного. Просто что-то мне страх как захотелось с господами Арчибальдом и Сарториусом увидеться. Просто познакомиться для начала, а то про одного много слышали, про другого – чуть-чуть, но он оказался как раз тем, кого мы так долго искали. «Недостающее звено», можно сказать… Очень, знаешь ли, интересно увидеть человека, который столько лет из всех нас дураков делал.
– Вот тут я с тобой согласен. Ежели готовы проблему радикально решать, вплоть до ампутации, без добровольной помощи и дружеского сотрудничества господина Сарториуса ничего не получится. Помнишь же, что лошадь к воде подвести можно, а заставить пить… – я развел руками.
На остров к Сарториусу мы переправились обычным способом, почти не опасаясь очередных парадоксов. Дуггуры, судя по нашим договоренностям, вмешаться не должны, «Ткань времени» здесь, на ГИП, гораздо прочнее, чем в параллелях, и на пробои реагирует куда спокойнее, чем на линиях, значительно удаленных от «оси» или вообще химерических. Хотя подсознательный страх все равно где-то таился – все же полная разборка на атомы в момент перемещения и мгновенная же обратная сборка наводила на мысль, что с каждым удачным случаем возрастает вероятность сбоя. И неизвестно ведь, на миллионную долю процента или сразу на вполне значимую величину.
Левашов, правда, утверждал, что механизм в его принципе совмещения используется совсем другой: непосредственная стыковка времен и пространств, мгновенная и без зазора, так что организм перемещается в своем подлинном виде, отнюдь не пакетом нейтрино или аналогичных, еще неизвестных науке частиц. Что до сих пор в общем и целом подтверждалось.
Удолин, кстати, в одной из научных дискуссий высказал совсем уже оригинальную идею: субъект, мол, всегда остается сам собой и на одном и том же месте, а как раз реальность смещается и охватывает его, как сапог ногу при примерке. Нога одна и та же, а сапог – бесконечное количество в мастерской у Демиурга. И в твоей воле выбрать тот или другой, посмотреть, прикинуть, остаться ли в нем или попробовать новый, красивее или удобней, в зависимости от настроения или привходящих обстоятельств.
Посмеялись тогда не над самой идеей, а лишь над приемом популяризатора, поскольку ни подтвердить, ни опровергнуть любую из гипотез было решительно нечем. Даже Антон не смог или не захотел добиться от Замка ответа. Сообщил только, что Замок манипулирует пространственно-временными соотношениями, используя несколько другую методику. В чем Воронцов первым, а после него и другие имели возможность убедиться.
Да и какая нам, в сущности, разница, если элементарные частицы, из которых мы состоим, рекомбинировались уже сотни раз, при наших выходах в астрал и иных-прочих взаимодействиях с субстанциями, лежащими вне принципов «материалистического понимания природы»? Если рука и нога поменяются местами – это заметно и неудобно, а если мезоны, глюоны и прочие гравитоны (из которых и состоит весь воспринимаемый нами мир) в любом случае существуют от нескольких секунд до миллионных долей их же, а потом заменяются на другие, неизвестно откуда возникающие на том же месте, то какая нам разница, претерпим ли мы очередную реинкарнацию в следующую минуту или через сто полноценных лет?
Отправляясь навестить затворника, мы в отличие от предыдущих экспедиций никак специально не снаряжались. Арчибальд, судя по всему, снова превратился в послушный инструмент коммуникации с личностью Замка, а также универсального биоробота высшей категории, поэтому готов выполнять любые указания людей – Воронцова и нас с Сашкой – в приоритетном порядке. Так сложилось с самых первых дней контакта, когда и самого Арчибальда в физическом воплощении еще не было, существовала только его идея, проявлявшаяся в ходе нашего общения с Замком через Антона или непосредственно.
А такого качества робот, каким создал себя Арчибальд, в случае необходимости без всяких вспомогательных инструментов мог действовать не хуже пресловутого Шварценеггера в известном фильме. Наверняка даже лучше, поскольку воображение режиссера и сценариста сковывалось многими стереотипами и правилами жанра, робот же, точнее, создавший его Замок, был от подобных ограничений свободен.
Если биороботы «Валгаллы» поражали воображение неподготовленного человека своими способностями и возможностями, как боевыми, так и интеллектуальными, то Арчибальд превосходил их в любом отношении. И на самом деле представлял нешуточную опасность для всего человечества, что успел продемонстрировать неоднократно. Страшилка пятидесятых годов насчет неизбежного «бунта роботов» и захвата ими власти над людьми почти что осуществилась. Но вот именно что «почти». Человеческий (и не только) разум продемонстрировал в очередной раз свое превосходство над «мертвой материей». Неважно, что в данном случае люди имели дело и не с материей вовсе, и отнюдь не с мертвой.
Таким образом, имея в своем распоряжении послушного Арчибальда, никаких превратностей судьбы мы могли не опасаться. Кроме всего прочего, робот умел открывать проходы и между реальностями, и непосредственно в Замок.
Кстати, нужно проверить, вдруг из-за наших с ним манипуляций и «насилия над личностью» он утратил свои сверхъестественные свойства и стал просто универсальной машиной ограниченного применения?
Но оружие мы с собой все-таки взяли, скорее по укоренившейся привычке, чем по действительной необходимости. Потому как оружие, хоть холодное, хоть огнестрельное, непременный признак статуса свободного человека. Ну и, само собой, при прочих равных условиях, какими бы они ни были, дает дополнительный шанс, пусть даже только в моральном плане. Как в знаменитом афоризме Аль-Капоне про доброе слово и пистолет.
Вот пистолеты мы с собой и прихватили. Я – старый добрый «ТТ», модернизированный в соответствии с моими личными вкусами в области эргономики и дизайна и избавленный от врожденных конструктивных недостатков. Ну и бывшие «маузеровские» патроны были переделаны в сторону усиления как останавливающего действия, так и бронебойности. Как раз на случай, если придется стрелять по людям в бронежилетах и не-людям тоже.
Сашка ограничился «Береттой», бывшей «девяносто второй», но тоже претерпевшей некоторые изменения и дополнения в конструкцию с помощью имевшейся у него моделирующей приставки к обычному дубликатору. Ее он заказал, еще когда работал в оружейной мастерской Замка, и она позволяла перед тем, как скопировать изделие, все, что нужно в нем подправить. Например, заменить материал ствола, пружин, рамки, усовершенствовать принцип автоматики и тому подобное. На эту мысль Шульгина подтолкнул, в частности, и прокол, что мы допустили, снабжая дублированным оружием югоросскую армию.
Тогда англичане сумели заметить, что попавшие к ним в руки пулеметы «РПК» абсолютно идентичны, вплоть до забоин и раковин в недоступных эксплуатационным повреждениям местах. Тогда у британских экспертов не хватило воображения для завершающего «гипотезу исследования» вывода, но, чтобы подобные промахи не повторялись, теперь дубликаторы можно было настраивать на внесение в продукцию изменений. С регулируемым шагом процесса – в каждом втором, сотом или тысячном изделии что-то будет другое, от номера до марки стали ствольной коробки.
Это «изобретение» имело и побочный эффект, к слову сказать. С его помощью можно было дублировать бумажные деньги по потребности, не беспокоясь о главной беде плохих фальшивомонетчиков – одинаковых номерах и сериях. Что открывало неограниченные возможности и в чисто финансовой и политических сферах.
Пистолеты разместили «в гражданском варианте» – в наплечных открытых кобурах, по несколько запасных магазинов в патронташах на поясном ремне, сверху, для маскировки – легкие пиджаки из немнущегося и почти невесомого «тропикаля».
Привыкли мы с Сашкой со старых еще времен в нормальных обстоятельствах появляться в людных местах именно в костюмах, иногда и при галстуках. Такой вид всегда внушает окружающим подсознательное уважение, особенно если костюм хорошо сшит и цвет подобран правильно. Кроме того – карманов в пиджаке достаточно и в них много чего можно разместить, не привлекая излишнего внимания, в отличие от всяких жилетов-разгрузок и «тактических» штанов, где те же карманы, рассеянные в беспорядке от щиколоток до плеч, первым делом фиксируют на себе взгляд. Волей-неволей заставляют что противника, что союзника думать – а что же там спрятано и зачем. Иногда подобные мысли полезны: отвлекая от более продуктивных. А моментами и вредны – могут спровоцировать на необдуманные превентивные действия.
Классический костюм в этом смысле выигрышнее, он заставляет смотрящего на тебя человека мыслить стереотипами и штампами вроде того – где он сшит или за сколько куплен, что невредно бы и себе приобрести нечто подобное, или даже – «чего ради эти придурки вырядились именно так, когда все нормальные люди носят шорты и гавайки?».
Столь пространные лирические отступления я себе позволяю тоже из соображений рациональных – перечитывая такого рода мемуарные записи очень легко восстановить не только атмосферу времени и конкретного момента, но и сохранить для потомков и последователей кое-какие драгоценные практические истины, хоть и простые, но для многих неожиданные именно тем, что далеко не все затрудняют себя самыми обычными рефлексиями.
Кстати, именно поэтому увлекательно и полезно бывает читать писателей прошлого из так называемого «второго ряда». Если признанные гении поглощены исключительно мировоззренческими проблемами высших порядков, то такие «жизнеописатели», как Гиляровский, Зайцев, Боборыкин или Крестовский, рассыпают по своим текстам множество подробностей (вроде цены на папиросы или пирожки с визигой в Москве в тысяча восемьсот восемьдесят первом году) навсегда ушедших дней, «истинно великим» попросту неинтересных, а нам сегодня весьма полезных как в эмоциональном, так и познавательном плане.
Робот-оператор в синем рабочем кителе советского образца, но с погонами старшего лейтенанта-инженера Российского Императорского флота (на нагрудном трафарете обозначено имя – Фарадей) провел нас в надежно спрятанный в недрах корабля отсек. Корабельная установка СПВ была, по капризу Воронцова, оформлена в дизайне пятидесятых, а то и конца сороковых годов. Производила, нужно отметить, ностальгическое впечатление обилием крупных рифленых верньеров цвета слоновой кости, блестящих тумблеров, остекленных горизонтальных, вертикальных и круглых шкал, динамиками, затянутыми узорчатой тканью крупного плетения. Ящики процессоров были отделаны «шпоном ценных пород дерева». Никакого сравнения с той примитивной конструкцией, что представлял собой первый опытный образец. То же самое, что «Чайка» пятьдесят девятого года в сравнении с «Фордом-Т» тысяча девятьсот восьмого.
Подозреваю, что две трети «элементов управления» и «контрольных приборов» были декоративными, но какая разница, если функции успешно выполняются и при этом создается полезный для психики эмоциональный фон? Многие годы, проводимые внутри «острова плавающей стали», только такими приятными мелочами и могут компенсироваться, не доводя людей до мизантропии и нервных срывов.
Наверное, в старые времена психика у людей была все же покрепче. По крайней мере, у любимого мною Станюковича. В «Вокруг света на корвете “Коршун”» не отмечается никаких следов депрессии среди экипажа и непосредственно у главного героя, восемнадцатилетнего гардемарина. А ведь они служили на корабликах, лишенных каких бы то ни было бытовых удобств, даже электрического освещения.
Палуба шестьдесят метров в длину и восемь в миделе, загроможденная шлюпками, рубками, вентиляционными раструбами, лебедками, масса рангоута, стоячего и бегучего такелажа – тут тебе и рабочее место, и простор для прогулок между вахтами. Четырехместные, вечно сырые офицерские каюты, освещаемые «безопасной» керосиновой лампой, и матросский кубрик с подвесными койками, в любые морозы обогреваемый подобием печки-буржуйки. В тропическую жару – никаких кондиционеров. Кормежка – солонина да волглые сухари. Затхлая вода из бочек.
Вся медицина – в лучшем случае фельдшер с десятком порошков и мазей в шкафчике. Вокруг – безбрежный океан с волнами, порой вздымающимися выше мачт. И нет профессионального психолога в штате, взамен – старший офицер и боцман с богатым лексиконом.
А нам, вишь ты, непременно благоприятный эмоциональный фон подавай и возможные удобства жизни!
Минута на разогревание ламп (если они имелись в недрах установки), знакомое каждому радиолюбителю древних лет потрескивание и шорохи в динамиках, ни с чем не сравнимый «электрический» запах, которым потянуло из вентиляционных решеток. И раскрылось большое, три на два метра окно. Сквозь него с высоты птичьего, как говорится, полета стал виден остров, буроватый и изрезанный ложбинами и трещинами сверху вниз, как гигантский перевернутый кекс. Сверху он был покрыт густой шапкой непроницаемой для невооруженного глаза зелени, снизу окантован воротником кипящей на рифах белоснежной пены. Красивое, признаться, зрелище.
Левашов, сразу после первого выхода на Валгаллу (где мы увидели следы пребывания поблизости крупного суперкота), ввел непреложное правило. Сначала через одностороннее (чтобы вредная атмосфера или какая-нибудь тварь не ворвалась, воспользовавшись преимуществом в реакции и элементом внезапности) окно осмотреться как следует, а потом уже действовать по обстановке. И коротенький, из семи всего пунктов свод правил безопасности имелся на панели, взятый в рамочку. Каковому своду робот следовал неукоснительно.
– Так, давай снижайся, – распорядился Сашка.
Мы, словно на пикирующем бомбардировщике, провалились вниз. Вершина острова приближалась с такой примерно скоростью.
С расстояния в полсотни метров стала видна полузатененная ветвями деревьев и прочей растительности обширная трехэтажная вилла, построенная в стиле «органической архитектуры» Фрэнка Ллойда Райта[129]… Лужайка перед ней, пересеченная крест-накрест разноцветными дорожками, бирюзовая чаша большого, неправильной формы бассейна. На лужайке, возле классической гранитной балюстрады, отделяющей ее от бездны, – столик под камуфляжным, в цвет островной растительности тентом.
Наблюдения с воздуха хозяин опасается, что ли? Так с пролетающего на одиннадцати километрах «Боинга» не разглядишь, хоть камуфляж, хоть цвета мексиканского флага, а вертолет с авианосца, допустим, или беспилотник с подводной лодки по-любому рассмотрит, что ему нужно.
Я, кстати, в этот момент забыл, что мы уже в другой реальности и свойственные нашему веку опасности и технические достижения здесь не существуют, следовательно, безопасность владельца острова возрастает еще на несколько порядков. Нет здесь никаких спутников-шпионов и вообще никаких заатмосферных аппаратов, и не исчерчено небо регулярными трассами пассажирских суперлайнеров. Раза три в неделю, кажется, пролетает над этим районом (но все равно на две-три сотни миль восточнее) турбовинтовой «Суперконстеллейшн» из Новой Зеландии на Гавайи, и все, кажется. Японо-Австралийская линия пролегает гораздо западнее. Да и авианосцев в мире слишком мало, чтобы без смысла болтаться в Южных морях. Прелесть! Живи и радуйся.
За столиком сидят и, кажется, играют в шахматы два человека.
– Развернись за правый фас виллы. Мы там выйдем, – продолжал командовать Сашка.
Рамка замерла в нужной точке, мы еще раз осмотрели окрестности, не дай бог, инициативный охранник из-за кустов пальнет сдуру из «слонобоя» какого-нибудь картечью. В голову удачно попадет – и гомеостат помочь не успеет.
«Окно» переключили в режим «двери» и чуть не задохнулись от хлынувших в отсек запахов тропической растительности и свежего «прибойного» ветра. Этот самый ветер у берегов, где мощный прибой, очень отличается от того, что дует над океаническими просторами. Ежесекундно многие тонны воды, обрушиваясь на рифы и скалы, разбиваются на мириады мельчайших брызг, возносимых восходящими воздушными течениями к вершине… Получается этакий природный аэратор, весьма полезный для здоровья. Таким образом лечили чахоточных больных в те времена, когда отсутствовало адекватное тяжести диагноза медикаментозное лечение. Бывало, что и помогало.
Здесь пахло столь густо, что едва не закружилась голова от перегрузки фитонцидами, эфирными маслами и прочими прелестями дикой тропической природы. А снизу доносился неумолчный грохот прибоя, не слишком смягчаемый многосотметровой вертикалью, отделяющей вершину от уровня моря.
Но, по всей видимости, через несколько проведенных здесь дней пушечные удары разгулявшихся волн о базальт будут исключены мозгом из списка значимых звуков и перестанут восприниматься, разве что за исключением моментов внезапной смены громкости и интенсивности.
– Теперь жди и наблюдай, – предусмотрительно сказал Сашка оператору, – зависимо, как у нас с хозяином разговор пойдет, скомандуем, отключаться или что. Матрос пусть автомат на изготовку держит, – кивнул Шульгин на вестового, замершего у противоположной переборки. По уставу полагалась на посту вооруженная охрана.
Оператор, подобно нормальному офицеру-специалисту, занятому своим делом, не стал выкрикивать положенных при общении с генералами уставных фраз, просто изобразил нечто среднее между «есть» и «угу». Мол, понял вас, все сделаю, как надо.
Высочайшая все же степень антропоморфности. Заложенная изначально или отработанная в процессе службы под началом Воронцова? Тот и зайца научит спички зажигать.
Мы ступили на гладкие, разноцветные, в хорошо продуманном беспорядке выложенные керамо-гранитные плитки, и я жестом приказал «старшему лейтенанту» закрыть проем, снова оставив проницаемую лишь с его стороны «одностороннюю дверь». Переглянулись, поправили прически и неспешным шагом вышли из-за угла виллы.
Арчибальд при нашем появлении с достоинством, но быстро встал, расправил плечи, как на строевом смотре, чуть заметно поклонился, но ничего не сказал, не получив вводную на стиль поведения и ролевую установку.
Зато господин Сарториус удивление изъявил. Даже некоторую оторопь. Но скорее не фактом нашего внезапного появления, а – сменой действующих лиц. С Воронцовым и Фестом он как-то уже освоился, а мы ему, видимо, чем-то «не показались». Или, наоборот, он имел удовольствие с нашими портретами и подробными досье познакомиться еще в его первую попытку захвата власти над миром.
Но в руки он взял себя достаточно быстро. Все ж таки один из тайных «повелителей», а у тех вся жизнь – нескончаемая партия в покер, где нужно и соображать быстро и нестандартно, и уметь лицо держать. То самое, покерное.
– Чем обязан вашему визиту, господа? – осведомился он, тоже вставая, но не так отчетливо, как Арчибальд. Тонковатые для левантийского типажа губы растянулись в слишком принужденной улыбке. Катранджи в подобных случаях умел демонстрировать куда большую естественность и радушие. – Господа Воронцов и Ляхов отпустили мне целый месяц на… размышления и принятие единственно верного решения. А господин Боулнойз – я привык называть его именно так – оставлен со мной, чтобы скрасить мое одиночество и компенсировать ощущение некоей… несправедливости всего происходящего.
– Это интересно, – оживился Сашка, подвигая к себе ногой стул и нацелившись взглядом на хьюмидор с сигарами, стоящий посередине стола. – Я давний поклонник Сократа и взявшего на себя труд записать его «диалоги» Платона. Впрочем, возможно, никакого Сократа вообще не было, и Платон сам все придумал. Как тот английский граф, Рэтленд, кажется, и жена его Елизавета…
– Шекспироведением изволите увлекаться? – оживился господин Сарториус. Известная психологическая деталь – человек охотно отвлекается от сути дела и подхватывает постороннюю, знакомую и интересную тему. В расчете, естественно, на то, что выиграет тем самым время для анализа и оценки ситуации, заработает какие-то дополнительные очки в глазах партнера (оппонента). На самом же деле, как в данном, например, случае – просто глотает тщательно подобранную наживку. Заболтавшегося, его потом куда проще сдернуть в нужную колею. В самый неподходящий для него момент.
Не зря же мы с Сашкой, осматривая внутренние помещения его виллы через «окно», сразу же обратили внимание на несколько изданий Шекспира на полках в библиотеке, включая даже «прижизненные», и много научной и околонаучной литературы. Что ж, вполне достойное увлечение, характеризующее нашего визави как интеллектуала без всяких кавычек. Я, например, постигал Великого Страдфордца только в виде фильмов и нескольких спектаклей: «Гамлет», само собой, со Смоктуновским, «Двенадцатую ночь» в раннем детстве[130], «Макбета» еще. Ну и «Отелло», тоже давнишний фильм. На прочее не хватило времени и усидчивости. Или чего-то еще, гораздо более важного.
– Не то чтобы так уж увлекаемся, – ответил Шульгин, садясь без приглашения и без позволения же беря длинную и наверняка самую лучшую и дорогую из имеющихся в этой реальности (а может, и в нескольких соседних) сигару.
– Трофей, – счел он нужным пояснить хозяину, на лице которого дернулась какая-то жилка при виде подобной бесцеремонности. – Все имущество здесь – наши трофеи. Остров и все на нем находящееся – завоеванная территория, а вы, естественно, пленник. Это я к тому, чтобы не возникало впредь вопросов о правовых статусах и юридической форме наших взаимоотношений…
Я тоже присел на соседний стул, взял и себе сигару, тщательно осмотрел и понюхал перед тем, как обрезать и закурить.
– Распорядитесь насчет чего-нибудь прохладительного, – сказал я Арчибальду тоном, средним между просьбой и приказанием.
– Но не в буквальном смысле, – тут же вставил Сашка.
Арчибальд, включивший программу дворецкого, изобразил на лице легкое недоумение. К шульгинской манере выражаться требуется привычка.
– Господин имеет в виду холодное пиво, – пояснил я.
– Холодное сухое вино тоже не возбраняется, а также и виски со льдом. Американский генерал Грант, победитель в войне Севера против Юга и будущий президент, именно и называл виски со льдом «прохладительным». Разговор будет долгим, так что несите все, а мы уже по обстоятельствам… – подвел черту под заказом Сашка. И одновременно сделал Сарториусу разрешающий жест. По-римски, опущенным большим пальцем указав на стул. Слов никаких сказано не было, но общий смысл мизансцены в поясняющих ремарках и не нуждался.
Похоже, Сарториусу разговора с Фестом и Воронцовым было мало. Точнее, он принадлежал к типу людей, настолько всерьез воспринимающих свое могущество и высокое служебное положение, что информация, полученная от нижестоящих, достоверной не считалась.
Этот, слава богу, нас, похоже, считал за равных себе. Что это не совсем так, придется уточнить специально.
– Не пойму, на каком основании вы столь бесцеремонно объявляете меня пленником, а принадлежащее мне на совершенно законных основаниях имущество – своими трофеями. Священного права частной собственности никто не отменял, и лишить меня права владения и распоряжения может только высокий суд, юрисдикцию которого я призна́ю…
И гордо вскинул подбородок. Шея господина Сарториуса подводила. Вообще он мог бы выдавать себя за мужчину лет около шестидесяти, вполне бравого и крепкого, но шея своими складками и выступающими жилами и сухожилиями прямо-таки кричала, что хозяину под восемьдесят. Если не «за».
– Вы бы все же сели, милостивый государь. Экий конек-горбунок, – усмехнулся Сашка, не заботясь, что собеседник уловит смысл сравнения. – Только пламени из ноздрей не хватает… Свои филиппики[131] оставьте для клуба пикейных жилетов в славном городе Черноморске. Здесь ваши понты не катят… – Благодаря Сильвии Шульгин владел английским со всеми его тонкостями и диалектами, не уступая известному профессору Хиггинсу[132], поэтому сумел довольно адекватно передать не только смысл самих слов, но и уровень своего отношения к «партнеру». – Это ведь народ, на языке которого мы говорим, придумал пословицу: «Кто взял, тот и прав»? Не знаю вашей подлинной национальности, не знаю даже, есть ли она у вас вообще, но у русских имеется подходящий аналог: «Кто первый встал, того и валенки». Поэтому я бы посоветовал впредь поостеречься аппелировать к Римскому и какому угодно праву, поскольку мы с вами давно вышли за пределы любого правового поля. Нэ-с па? – с французским у Сашки было похуже, но Сарториус понял и это.
– Не могу согласиться, – достаточно твердо ответил он. – На праве и незыблемости частной собственности покоится все здание современной цивилизации. И какие бы эксцессы исполнителя ни случались, к нашему глубокому сожалению, они не могут поколебать…
– Хватит баланду травить, а? – по-прежнему крайне вежливо предложил Шульгин. – Ты (по-английски тоже можно назвать человека на «ты», причем в довольно грубой форме) можешь сейчас же доказать, что все твои деяния последних лет являлись совершенно безупречными с правовой точки зрения?
– Разумеется, я отвечу «да». И все принадлежащие мне адвокатские конторы подтвердят полную прозрачность и юридическую безупречность всех осуществлявшихся мной и моими представителями, а также контрагентами, сделок.
– А мы ведь не о сделках сейчас говорим, пан Шнейдер, – сказал я, переведя латинизированную фамилию визави на более удобный для моих целей идиш, – как вас там, Магнус Теофил? А если проще – Моня, Мотя? – Я не был уверен в том, что Сарториус принадлежит именно к ашкеназской ветви великого народа. Но что семитские корни в нем присутствуют, наряду с десятком других генотипов, это мы выяснить успели.
Он пропустил мой неполиткорректный выпад мимо ушей, зато зацепился за первую фразу и опять принялся доказывать недоказуемое, что ни один из его поступков мы не можем поставить ему в вину, именно – ни один, поскольку в одних случаях происходившее нас не касалось потому, что мы не являемся гражданами Соединенных Штатов и его отношения с президентом и синклитом не задевают нас даже косвенно, во втором случае – мы точно так же не являемся подданными Британской короны, в третьем – вообще обитатели другой реальности и наши претензии столь же смешны, как иск об изнасиловании со стороны дамы, с которой эта неприятность случилась внутри сна, и даже не ее, а вашего…
– Кстати, интересно, – вмешался Шульгин, – а какой состав тяжелее, если в ее сне или в моем?
Сарториус сразу не нашелся что ответить, а Сашка тут же продолжил развивать успех.
– Прежде всего – твои деяния подпадают под решения Нюрнбергского трибунала, приготовление к агрессии, совершение самой агрессии, преступления против человечности и так далее. Опять же – принадлежность к преступным организациям и активная работа в них…
– Это какие – преступные? – вскинулся Сарториус, рассчитывая зацепиться хоть за этот крючок.
– «Хантер-клуб» – раз. «Общество озабоченных гуманистов», «Клуб искателей Странного», «Система», «Черный интернационал»… – загибал Сашка пальцы. «Интернационал» он приплел до кучи, просто предполагая, что такая личность не могла, хотя бы косвенно, не отметиться в делах подобной структуры…
– Это вполне респектабельные, ни в чем противозаконном…
– Молчи, – перебил его я. – Документов, разоблачающих эти «крыши», у нас вагон и маленькая тележка. И свидетели. Вот – Боулнойз!
Арчибальд как раз вернулся в сопровождении двух лакеев, принесших подносы с напитками и подходящей к ним закуской, хотя мы ее и не просили.
Услышав мои слова, он дисциплинированно сдвинул каблуки и по-прусски резко наклонил голову. Жаль, что не набриолиненную. Ему бы пошло́.
– Так точно, Андрей Дмитриевич. Все как есть, доложу под присягой. И архивные документы предоставлю в полном комплекте.
– Это – раз! – снова загнул палец Шульгин. – Твое участие в покушении на тогда еще Великого князя, а ныне Императора Всероссийского, Олега мы тоже докажем. И организацию вторжения на территорию Москвы банд чеченских террористов, украинских бандеровцев и наемников Иностранного легиона – тоже. Все случившиеся при этом человеческие жертвы на тебя повесим, как и материальный ущерб… Кстати, если не ошибаюсь, мы сейчас как раз в реальности, где расположена Российская Империя самодержца Олега Первого. И при возможности он с явным удовольствием предаст тебя суду, причем – военно-полевому. Оснований – хватит. Решимости – тем более.
Сарториус какое-то время молчал, стараясь сохранять бесстрастное выражение лица. Потом движением головы указал одному из своих лакеев, так и стоявших в трех метрах от стола, руки по швам, на бутылку виски. Тот неуловимым движением плеснул в четыре стакана грамм по тридцать.
– Не валяй дурака, лей до половины, – прикрикнул на него Сашка и серебряными щипчиками бросил в свою посудину три кубика льда.
Сарториус выпил, не дожидаясь нас, пожевал тонкими губами, закусывать не стал.
– Но вы, кажется, уже взяли на себя функции трибунала, являясь лицами, безусловно, заинтересованными… – с почти искренним интересом осведомился он. Взял из хьюмидора сигару, формально уже ему не принадлежащую. – И правомочность…
– Какая тебе правомочность? – от всей души удивился Шульгин. – Трибунал учреждает победитель. Дело слушается без участия сторон. Апелляции и просьбы о помиловании не рассматриваются. Приговор приводится в исполнение немедленно…
Похоже, Сарториуса Сашкины слова не слишком испугали.
– И какая вам от этого польза? – спокойно спросил он. – Я достаточно старый человек. Смерть – процесс естественный. Чуть раньше, чуть позже… Смертью меня не испугаешь. А вот вы рискуете потерять слишком многое. Даже не номера банковских счетов и прочие активы…
– Не объясняйте, – сказал я, опять переходя на «вы» и добавляя в голос не то чтобы сочувствие, но – намек на возможное взаимопонимание. – Дальше пойдет речь о ваших связях, контактах, возможности лично влиять на те или иные процессы. О том, что никто, кроме вас, не заставит подконтрольные вам структуры работать уже на нас, а не на кого-то еще… Так?
– Именно так, и против этого вам возразить нечего…
Я от души рассмеялся.
– Как говорил один мой старый знакомый: «Вы совершенно правы, но не в этом вопросе».
Мы не зря с Сашкой готовились к встрече с «почти что Властелином» двух миров. «Почти что» – потому, что он действительно был очень близок к цели, и ближайшей, и той, что рисовалась ему в перспективе. Только вот мы опять вмешались. Ошибка Сарториусом была допущена уже тогда, когда он чересчур нагло вторгся в сферу наших жизненных интересов (как в дело и не в дело любят повторять американцы). Другое дело, что, поглощенные конфликтом с дуггурами и прочими «нечеловеческими» заботами, мы просто не заметили, что в игру вмешался одушевленный кусок синтетики и чего-то еще, заменяющего электронные мозги и компьютерные микросхемы. Арчибальд то есть. А посредством него и Замок, решивший устранить с игрового поля нас и поставить на центральную позицию этого вот сморчка – Сарториуса.
Нет, Замок как таковой, пожалуй, что и ни при чем. Он для этого слишком велик и всеобъемлющ. В любую конкретную секунду человеческими, вообще земными делами занят исчезающе малый сегмент его личности. И вот однажды этот сегмент, создавший для себя оболочку и внутренний мир почти человеческой особи под именем Арчибальд (для нас – Арчибальд, так ему захотелось, такое у него прорезалось чувство юмора), вообразил, что он ничуть не хуже, чем приставленный к Замку (или получивший определенную часть мощностей Замка во временное пользование, для выполнения конкретной задачи) форзейль Антон. Даже – значительно лучше, ибо создан из несравненно более совершенных материалов, со значительно превосходящими гуманоида мыслительными способностями и быстродействием. И потому имеющий право занять его место в Замке, а заодно и на всей Земле.
Очень может быть, что Арчибальд существует столько же, сколько здесь служит Антон, только Антону о нем не было ничего известно. Замку было, но он ничего об этом не сообщал своему… Не знаю, как правильно назвать роль Антона при Замке. Скорее всего, Замку было просто интересно. Если Замок – это как раз и есть Игрок, которого мы представляли чем-то весьма посторонним и высшим по отношению к Гиперсети и всему, что происходит в наших «ячейках», то очень многое, ранее нам абсолютно непонятное, теперь объясняется довольно легко.
Вся эта конструкция как-то сама собой, почти одномоментно сложилась у меня в голове.
Значит, Арчибальд решил заменить в роли мифических Держателей нас с Антоном на Сарториуса с его кодлой. Или кагалом. А Замку это показалось интересным, и он до поры решил не препятствовать упражнениям своего «эффектора». А теперь снова перешел на нашу сторону? Или я чего-то недопонял? Или это – всего лишь очередной круг розыгрыша? Замок сдавал карты и по дружбе подкинул нам обоих джокеров. Чтобы посмотреть, как мы ими распорядимся.
– Понимаете, Шнейдер… Кстати, со мной в школе учился парень по фамилии Шнейдерман… В чем разница, не подскажете?
– Не подскажу. Уже семь поколений моих предков носят фамилию Сарториус, и мне неинтересны ваши ономастические изыскания…
– Ну, на нет и суда нет. Есть Особое совещание. Вот, посмотрите, – я вытащил из кармана флеш-карту и приказал лакею: – Ноутбук принеси, быстро.
Пока тот бегал, мы с Сашкой не спеша выпили, до этого все недосуг было. Задымили очередными сигарами.
– Тысячу долларов стоит? – спросил я, рисуя дымом в воздухе знак вопроса.
– Не интересовался, – ответил Сарториус. – Это вам пока интересны такие вещи, а я мыслю иными категориями. Деньги – на три уровня ниже…
– Что ж, взгляд довольно варварский, но верный. Смотрите сюда…
Я повернул к магнату экран ноутбука, по которому не очень быстро бежали колонки цифр.
– Это все, вы вдумайтесь – абсолютно все номера счетов, на которых лежат подконтрольные вам деньги. Вам и вашим клевретам. То есть с сего момента вы уже нищий, Сарториус. Полностью и абсолютно. Если мы сейчас вышвырнем вас отсюда, предварительно еще и вывернув карманы, чтобы какая золотая или платиновая кредитка не завалялась – вы сдохнете под забором. В том городе, куда мы вас выбросим, потому что уехать в другой будет не на что. Да и куда ехать? Для вас на Земле теперь что Патагония, что Нарьян-Мар или Синцзян-Уйгурский автономный округ. Разница только в климате… Ну, если повезет, в приют для престарелых заберут, только нужно будет костюм потщательнее порвать и испачкать…
Раньше мне не приходилось видеть, только читал, что человек может постареть прямо на глазах. Сейчас убедился в реальности этой метафоры. Вот буквально только что перед нами сидел уверенный в себе крепкий мужчина без возраста и вдруг стал сдуваться, подобно резиновой кукле. Опустились плечи, за несколько минут лицо покрыли морщины, глаза подернулись пленкой. Он, похоже, начал даже сползать со стула, ноги не держали, и задница потеряла сцепление с сиденьем.
– Саш, а ну нацепи ему гомеостат минут на десять, а то еще загнется, упаси бог, – сказал я. Сарториус нам был еще очень и очень нужен. Гораздо в большей степени, чем сам он об этом подозревал, при всем своем самомнении.
Да, деньги – тлен, он правильно сказал. Когда контролируешь печатные станки Штатов и Евросоюза, несколько триллионов на счетах и в ценных бумагах, бог знает на какую сумму реальных ценностей – можно не думать о цене сигар и даже судьбах целых государств с сотнями миллионов населения. А когда вдруг оказывается, что с сего момента не на что гамбургер купить и за самую поганую ночлежку заплатить, взгляд на мир ощутимо меняется.
Хорошо, что его тяжелый инсульт в первую же секунду осознания этой основополагающей истины не расшиб. Возни бы куда больше было. Дело в том, что в первую секунду он элементарно не проникся – в какую бездонную пропасть рушится. Как и в случае, когда человек ночью выпадает за борт быстро идущего судна. Я уже где-то такое писал.
Сарториуса, пожалуй, спасли заторможенность и самоуверенность – даже они иногда могут оказаться полезными свойствами.
Глава одиннадцатая
Опыта финансиста, феноменальной памяти и объема внимания Сарториусу хватило, чтобы за несколько секунд охватить взглядом и идентифицировать несколько сотен строчек, пробежавших снизу вверх по экрану ноутбука. Может быть, там было и не все, какие-то номера и пароли не попали в этот «проскрипционный список», но и того, что Магнус Теофил увидел, ему было достаточно. Девяносто процентов контролируемых «Системой» активов уже фактически принадлежали «гостям». Или – никому, что ничуть не лучше. Неважно, остаются ли они пока что на своих местах или, подчиняясь банковским поручениям, именно сейчас меняют свое местоположение и принадлежность. Достаточно нескольких щелчков кнопками ноутбука или компьютера, и миллиардные суммы по всему миру придут в движение.
Любому специалисту понятно, что невозможно перевести на другие счета все суммы сразу, вдобавок имеются еще пакеты акций, не только консолидированные, но и разбросанные по портфелям сотен миноритарных акционеров, суммы, рассованные по нескольким тысячам хеджевых фондов, складированные в известных местах в виде золотых, платиновых, палладиевых слитков и так далее.
Но главное господа Шульгин и Новиков ухватили правильно – несколько триллионов «дутых» долларов и евро, внезапно обналиченные, выдернутые с тщательно определенных им мест в мировом финансовом обороте и перемещенные к иным владельцам и с другими целями, неконтролируемый сброс акций на всех существующих рынках одновременно мгновенно приведут мировую экономику в хаотическое состояние. Настолько разрушат тщательно выстраиваемую со времен отмены Бреттон-Вудской системы «деривативную»[133] финансовую конструкцию, что мир перейдет в чаемое Сарториусом Средневековье не путем тщательно управляемой эволюции, а мгновенно. И, как выражаются эти русские – «мало никому не покажется». В том числе и им самим. А там – кто его знает. Если они располагают достаточными объемами реальных ценностей и монетарного золота, вполне могут за короткий срок оседлать неизбежный Мегакризис.
Только что Сарториус ощущал себя буквально на грани смерти – настоящей, физической, а не финансовой и политической, что кое-как можно было пережить. А вот ее – не переживешь. Сердце стиснуло ледяной костлявой рукой, так что кровь почти перестала двигаться по сосудам, в ушах зазвенело, и яркий солнечный мир начал подергиваться коричневатой кисеей, вдоль которой вверх и вниз мелькали черные расплывчатые мушки.
Рука потянулась к карману рубашки, где он всегда носил специально для него и узкого круга «директоров» разработанные и изготовленные таблетки, способные даже при массивном инфаркте или инсульте поддержать жизнедеятельность организма вплоть до момента, когда пациент попадет в специальный реанимационный блок, где особо подготовленные врачи – лучшие из лучших – сотворят очередное чудо воскрешения.
Говорят, что ни за какие деньги нельзя купить бессмертие и даже растянуть на десятилетия здоровую полноценную старость, но при наличии ОЧЕНЬ БОЛЬШИХ денег и это постепенно становится возможным. Штат врачей-реаниматоров и геронтологов, настоящих врачей, не шарлатанов, сеть развернутых по всем цивилизованным странам клиник (с таким расчетом, чтобы до одной из них можно было долететь с «места происшествия» не более чем за полчаса), плюс специальные фармацевтические лаборатории стоили дороже, чем вся система здравоохранения такой страны, как Франция, например, или даже Германия. Но, во-первых, на собственную жизнь деньги жалеть глупо, а во-вторых – это тоже инвестиции, и они окупаются, как любое грамотное вложение капитала.
Только вот сейчас вся эта тщательно отработанная система оказывалась бесполезной. Даже если он сумеет проглотить чудо-таблетку и трое врачей «Скорой помощи», постоянно проживавших на острове, сделают все, что от них зависит, до специализированной клиники он не доживет. С инфарктом или инсультом не перенести перегрузки, с которыми придется стартовать комфортабельному реактивному самолету, свободно разгоняющемуся до двух звуковых скоростей. Никуда не денешься – нормальной взлетной полосы на острове нет, а ускорение катапультного старта с трудом переносят даже двадцатипятилетние тренированные пилоты.
Об этом Сарториус в свое время не подумал. Вернее, он думал и об этом, но больше полагался на мистера Боулнойза, который по телефонному звонку должен был организовать ему обыкновенную телепортацию в нужное место. И был уверен, что настолько нужен Боулнойзу, что тот не подведет.
«Значит, вот так и приходит смерть? – подумал Сарториус. – Совсем не страшно. Только бессмысленно. Стоило ли вообще жить, если так банально все кончается?»
Он почувствовал, что его руку перехватили возле кармана, не дав достать целебный пенальчик, и запястье охватывает что-то вроде браслета. Его устроили в кресле поудобнее, под ноги подставили другое, получился ипровизированный диван. Сквозь многослойную мозаику листьев пробивались солнечные лучи, совсем не жаркие, а ветерок с океана был вообще прохладным и очень приятно ласкал щеки и шею.
Сарториус отчетливо ощущал, как уходит боль, рассеивается туман перед глазами, сквозь звенящий шум в ушах снова начинают доноситься звуки прибоя. Он готов был уже попытаться сесть и сказать, что ему гораздо лучше, поблагодарить «гостей» за помощь. Но тут же изощренный мозг интригана и мыслителя с почти вековым стажем остановил телесный импульс.
Ему дано несколько лишних минут на оценку обстановки и выработку решения. Следует ими воспользоваться.
Выходит, и второй, нет, даже третий тайм, сет, круг – назови, как угодно, он проиграл. И с совершенно разгромным счетом. Значит, играл не в свои игры. У него на руках все время оказывалось каре королей, и он считал, что этого вполне достаточно. Тем более имея партнерами этих русских. Ничего собой не представлявших ни по возрасту, ни по положению в жизни. Мальчишки, взявшиеся играть с профессионалом на деньги, сэкономленные на недорогих девочках из второразрядного клуба. А к ним снова пришел флеш-рояль! И сейчас – уже не случайно.
Чтобы поймать его на этой штуке с банковскими счетами, нужно было копать долго и глубоко. И все равно без толку, потому что добыть такую информацию «со стороны» просто невозможно. Никаким образом. Вернее, можно, но только единственным – собрать в одном месте всех финансовых директоров всех его компаний, распорядителей всех фондов, владельцев брокерских контор, аналитиков налоговых инспекций всего мира и очень много «просто доверенных лиц», подвергнуть их бесчеловечным пыткам, и вот тогда… Потратив несколько месяцев машинного времени на перекрестную сверку данных, содержащихся на сотнях тысяч жестких дисков компьютеров, иногда спрятанных в совершенно недоступных местах, не подключенных ни к каким, даже локальным сетям – можно было бы подготовить тот список, что ему только что показали. Никак иначе.
А прежде этого нужно было бы каким-то образом узнать, какие именно люди входят в «круг посвященных», кого следует пытать или запугивать, потому что просто перекупить никого из них невозможно.
Но невозможно отрицать и то, что названный список есть, значит, вся необходимая работа таки была проделана, пусть и неизвестно каким способом. А как работает «телепорт» – известно? Однако он работает. Вот из этой данности и следует исходить. Но если эти люди располагают аппаратурой, способной на такое, почему они не использовали ее тремя годами раньше? И почему об этом ничего не знал Боулнойз? Или знал?
– Слушай, Андрей, – услышал он голос одного из «пришельцев». – Судя по времени и засветке экрана, дедушка раздумал отбрасывать концы. Налился бронзовой силой, насколько это возможно для его возраста. Стометровку за десять и две не пробежит, но кросс трусцой уже вполне доступен.
– Километров на пять? С полной выкладкой? – насмешливо поинтересовался другой.
Прежде всего Сарториуса обрадовал смысл услышанного. Значит, еще поживет, и достаточно долго. Это хорошо. Непонятно только, почему за все время он ни разу не услышал голос мистера Боулнойза, называемого также Арчибальдом. «Гости» обращаются к нему тоже на «ты» и без всякой почтительности. Он настолько не имеет в их глазах авторитета? И как же он ухитрился растерять всю свою мощь и власть? На чем сумели подловить и раздавить ЕГО? Действительно – эти парни на самом деле круты до невозможности. Нет, скорее, до неестественности.
– Садись, папаша, – без всякой почтительности дернул его за плечо тот, кого назвали Сашкой, то есть – Александром. Сарториус русский язык знал достаточно, чтобы понимать все, о чем переговаривались «гости» между собой. Да и странно было бы, если б не знал. Он не сноб какой-нибудь, считающий, что деловому человеку достаточно английского для бизнеса и французского с испанским для легкости общения на отдыхе.
К России и русским он относился всерьез, хоть и со стойкой, с детских лет усвоенной неприязнью и опаской (как к зверям из африканской «большой пятерки»[134]). Они хороши для якобы дружеского застолья, но вступать с ними в деловые отношения, заведомо считая себя «испанцем», а их – «индейцами», – затея для человека с крепкими нервами и ослабленным инстинктом самосохранения. Вполне сравнимо с настоящими сафари, которыми Сарториус увлекался в молодости. Лет до пятидесяти. Так что тайное знание русского языка вполне может сравниться по важности и полезности со штуцером сорок пятого калибра.
– Давай уж попросту теперь. С того света мы тебя вытащили, теперь некоторое время придется предписанный лечащим врачом режим соблюдать и не особо нервничать…
– Да, последний совет сейчас особенно ценен, – скривил губы Сарториус и почти рефлекторно потянулся к стакану с виски, так и стоящему недопитым у края стола.
– Пусть, можно, – ответил Шульгин на вопросительный взгляд Новикова. – Ему теперь много чего можно… Тебе по правде сколько лет, Магнус Теофил? Это я не из праздного любопытства спрашиваю, а чтобы в курсе быть, чего ты в этой жизни из личного опыта знаешь, что – только из книжек да по чужим рассказам.
Прозвучало это так, будто сам Шульгин прожил на этом свете не одну сотню лет.
– Восемьдесят восемь, – словно бы нехотя ответил Сарториус.
Новиков кивнул, словно бы удовлетворенный услышанным.
– И давайте так, раз и навсегда условимся – разговор ведем как взрослые, умные люди. У нас нет никакого желания поминутно ловить вас на лжи или умолчаниях и сначала угрожать, а потом на самом деле прибегнуть к ощутимым для вас репрессиям, – добавил он.
Сарториус попытался что-то сказать, но Андрей остановил его движением руки.
– Подождите. Все, что вы можете возразить, я знаю. Напомню для ясности, что потеря некоторой части капитала и права распоряжаться судьбами человечества отнюдь не равнозначна гораздо более примитивным страданиям, одинаково неприятным и триллиардеру, и пигмею из лесов Итури. Я отчетливо выразился? Имейте в виду, мы не ограничены совершенно никакими моральными рамками…
– В отношении тебя, – вставил Шульгин.
– Вот именно. Вам, с вашим жизненным опытом и той бездной преступлений, к которым вы прямо или косвенно причастны, не следует надеяться, что нас что-либо может остановить, если мы решим, что какая-то степень «жесткого допроса» целесообразна.
– О чем теперь может идти речь, если вам известно ЭТО? – Он кивнул в сторону ноутбука, продолжавшего что-то показывать на экране.
– Папаша не понимает, – с сожалением сказал Шульгин. – Бабло ему зенки застит…
Этого русского выражения Сарториус не смог перевести. Он учил язык по другим учебникам и общался с людьми достаточно культурными, чтобы обходиться без жаргонизмов и обсценной[135] лексики.
– ЭТО нас интересует лишь как инструмент нашей дальнейшей деятельности, – поучающим тоном ответил Новиков. – Как мы это используем – наше дело. А вы нам нужны тоже в качестве инструмента, но другого рода, и одновременно – консультанта по внешнеполитическим вопросам. Именно так. Для вас ведь что Америка, что Россия – одинаково внешние по отношению к центру паутины?
– Но только в том, что касается связей «Системы» с легальными мировыми правителями, – тут же внес коррективу Шульгин. – Во всех остальных вопросах мы тебя и твою кодлу сделали, как пацанов… Посмотри на этого вот, – он невежливо указал пальцем на Арчибальда. Тот подтянулся, как Воробьянинов под взглядом Остапа.
– Консультанта – в чем? – спросил Сарториус. – В уничтожении земной экономики?
– Совсем наоборот. В переводе стрелок. В полной смене так называемой экономической парадигмы. Мы даже капитализм пока не собираемся разрушать. Нам только нужно, чтобы все колесики крутились исключительно в наших интересах. А вы за это получите вполне приличное пожизненное содержание. Позволяющее существовать, ни в чем себе не отказывая (в разумных, естественно, пределах), но никак не вершить судьбы мира. Мы можем оставить вам этот остров, несколько квартир и вилл в разных местах Земли по вашему выбору. Какой-нибудь бизнес, чтобы не скучно было. Или – хобби, по усмотрению. И даже особо не ограничивать свободу передвижения. Поскольку конец поводка остается в наших руках, – непонятно усмехнулся Новиков. – Согласитесь, что жизнь приобретает особую остроту, если знаешь, что она может либо оборваться в любой момент, либо продлиться до очень широких пределов. Вы себя сейчас чувствуете лучше?
– Прямо-таки хорошо, – не удержался Сарториус.
– Порадоваться нужно, – усмехнулся Шульгин. – Другие в восемьдесят восемь или инвалидной коляской пользуются, или вообще фамильный склеп прочно обжить успели… Господин Боулнойз ни разу не намекал на возможность что-то в этом вопросе изменить?
– То есть?
– Вечную жизнь и вечную молодость не обещал?
– Я же не дьявол, – впервые подал голос Арчибальд.
– С этим мы еще будем разбираться. Что не дьявол – это скорее всего. А в остальном…
– Мы тоже не дьяволы, – сказал Новиков, – но можем в ближайшее время слегка перестроить ваш организм. Обновить так, примерно, до сорокалетнего возраста. И поддерживать в избранном состоянии лет около ста. Точнее пока сказать не могу… Интересный вариант?
Уж если чем и можно всерьез заинтересовать очень пожилого человека, так это именно намеком на крепкое здоровье и долгую жизнь. То, что власть над миром дороже личного, причем вполне благополучного существования, – весьма сомнительный тезис. И те, кто нечто подобное утверждает, относительно себя или других, скорее всего, врут. Хотя, конечно, извращенцы встречаются всякого рода. Мало ли в истории известно персонажей вроде пресловутых «солдатских императоров» Рима, рвавшихся на трон, при этом отчетливо зная, что пять или шесть их предшественников лишились жизни, не поцарствовав и по году.
Кроме того, необъятная власть и несметные богатства часто сами по себе внушают иллюзию возможности практически вечного существования. Как это так – я, самый умный, сильный и богатый человек – и вдруг умру? Разве сам факт моей избранности и исключительности не подтверждает то, что я не подвластен примитивным биологическим законам, как и всем прочим, божеским и человеческим?
Сарториус к подобному типу людей явно не принадлежал. Скорее, наоборот – вся его власть и деньги использовались им для максимального продления собственного существования именно от сознания его отвратительной краткости.
И его осведомленность о многих противоестественных способностях Боулнойза (вроде посмертного, но вполне активного членства в «Хантер-клубах» сразу двух, если не больше, реальностей), тем не менее очевидным образом проигравшего этим двум молодым людям по всем позициям, подсказывала, что «гости» владеют знаниями гораздо более обширными. А в том, что поразительное «долгожительство» загадочного ветерана – не розыгрыш, Сарториус имел возможность неоднократно убедиться, поскольку сэр Арчибальд, будучи по документам на сорок восемь лет старше, выглядел вдвое моложе финансиста, при этом вполне свободно оперировал реалиями времен юности и даже самого раннего Магнуса Теофила, причем в таком объеме и с массой подробностей, чего никаким изучением документов не постигнешь.
Да зачем далеко ходить, весомый аргумент – тот сеанс терапии, что «пришельцы» только что провели над ним. Сарториус был достаточно образованным в огромном числе наук человеком, уникальное устройство мыслительного аппарата позволяло за неделю-другую накрепко усвоить то, на что другие тратили по нескольку семестров в самых престижных университетах мира, а долгая жизнь нисколько не ослабила ни памяти, ни способностей.
Поэтому в медицине он разбирался ненамного хуже, чем в политэкономии Маркса, нисколько, на его взгляд, не утратившей своего значения, как и геометрия Эвклида в сравнении со всеми другими геометриями. Исходя из теоретических познаний и личного полувекового опыта пациента самых выдающихся врачей и целителей всех толков и направлений (но не шарлатанов, с теми Сарториус расправлялся беспощадно, в лучших традициях наиболее авторитетных тайных сообществ), он понимал, что только что был на грани клинической, а там – не про нас будь сказано – и биологической смерти.
– Да уж куда интереснее, – честно ответил Сарториус на вопрос Новикова о желании омолодиться и потом жить долго-долго. – И чертовщиной тут не пахнет. Дьявол, насколько я знаю, обходится без помощи техники. Что это у вас за приборчик такой интересный? – спросил он. Ему сразу показалось, что у этого человека вопрос не вызовет неадекватной реакции. Он сразу понял – у «гостей» нет ситуативного распределения на «доброго» и «злого» следователей. Они такие изначально, один действительно человек, с которым Сарториус может разговаривать как с равным, а второй – нет. Он не выше и не ниже, просто психологически совершенно чужд. Будто на самом деле не человек, а инопланетянин.
– Ничего особенного, – вполне благожелательно ответил Новиков и, сняв с руки, протянул на ладони нечто вроде электронных часов с круглым, отсвечивающим травянистой зеленью экраном. И сам прибор (что это не часы, было очевидно), и пружинисто разгибавшийся браслет в два пальца шириной были густо-черного, Сарториус бы сказал – не встречающегося в природе цвета. Даже лучшая китайская тушь ручной работы была, как он помнил, ощутимо светлее.
– Возьмите, застегните на руке…
– На какой? – достаточно глупо спросил Сарториус.
– На любой.
Браслет на ощупь был тоже непонятный – и не камень, и не металл, и не пластмасса. Почему он так решил, Сарториус не понимал, так ощущалось, и все.
Концы браслета сомкнулись на не слишком еще морщинистом и достаточно подвижном запястье. Отложением солей магнат не страдал.
Зеленый экран несколько раз мигнул, словно индикаторный глазок старинного лампового радиоприемника, потом на нем образовался широкий бронзовато-желтый сегмент, оставивший зеленое поле только между подразумеваемыми цифрами «9» и «12» часового циферблата. Одновременно Сарториус ощутил тепло, исходящее от внутренней стороны браслета, и словно бы слабый электрический ток, текущий одновременно в обе стороны.
– И что все это значит? Что это за вещь?
– Мы называем это «гомеостатом». Устройство для сохранения и возобновления устойчивости организма по отношению к внешней среде. Остальное несущественно. Суть в том, что зеленый сегментик показывает ваш жизненный ресурс на текущий момент…
– Не совсем понял. Что, мне осталось пятнадцать минут жизни?
– Пожалуй, чуть больше, – вмешался Шульгин. – Ты на данный момент исчерпал семьдесят пять процентов своего моторесурса. Грубо говоря. То есть без какого-либо вредного для здоровья постороннего вмешательства можешь прожить еще лет десять. Ресурс имеет свойство расходоваться тем быстрее, чем его меньше остается.
– А можете и скончаться скоропостижно, как только что чуть не получилось, – продолжил Новиков. – По истонченной от ржавчины трубе вода может потихоньку течь и течь себе, а скачок давления в системе – и аллес. С вашими сосудами – то же самое. А еще бывают инфекции, несчастные случаи, суициды… То есть – Господь всем обещает вечную жизнь, но никому не гарантирует завтрашний день…
После этой назидательной сентенции все замолчали, и Шульгин предложил выпить еще понемногу. Сарториус отрицательно мотнул головой.
– Вольному воля. Только не думай, что показная умеренность тебя на самом деле от чего-нибудь защитит, – усмехнулся Шульгин. – Это я как специалист говорю. Слишком много на нас действует не поддающихся учету и даже вообще неизвестных факторов, чтобы надеяться, что исключение одного из них хоть немного качнет баланс в нашу пользу…
– Я не в этом смысле. Просто для меня ваши дозы великоваты. Хуже себя чувствую и еще хуже соображаю, – ответил Сарториус.
Какая-то почти дружеская атмосфера вдруг воцарилась за столом. Будто и не сломали только что два почти что дилетанта могущественнейшего на Земле человека. Впрочем, могущество его распространялось лишь на тех, кто соглашался принимать заведомо неравные правила игры. «Если нет – извините! Вычеркиваю», как в анекдоте про приглашение зайца ко льву на обед.
С момента окончания Второй мировой войны СССР был неизмеримо слабее объединенного Запада экономически, в военном, демографическом и многих других смыслах. Однако всего лишь решимости трех его послевоенных правителей не поддаваться на уговоры, угрозы и шантаж оказалось достаточно, чтобы почти полвека сохранять независимость в самом широком смысле. Да и сейчас…
Сарториус, как ему казалось, мог на этой планете практически все что угодно. Но перед сидевшими напротив парнями, сбросившими пиджаки, демонстративно обнажив пистолетные кобуры, потягивающими драгоценное хозяйское виски и дымившие такими же дорогими, изготовлявшимися на заказ и в крайне ограниченном количестве сигарами, оказался совершенно бессильным.
Не помогло ничего – ни спрятанный в промежутке между временами остров, ни деньги, количеством превышающие стоимость всех материальных ресурсов планеты, ни некие тайные силы, обладавшие, по словам Арчибальда, абсолютной властью над пространством, временем и законами природы.
– Если будешь себя правильно вести, подобные мелочи тебя больше беспокоить не будут, – сказал Шульгин. – И моторесурс можно будет восстановить до стопроцентного, и виски сможешь пить «квантум сатис»… Главное, чтобы ты все это правильным образом осознал и сделал правильные выводы.
А какие выводы тут можно сделать, кроме самоочевидных? Так он и сказал.
– Только, пожалуйста, поясните, что вам от меня требуется на самом деле?
– Скажем, если окончательно договорились, – опять вместо Шульгина ответил Новиков. – Мы вам обещанное и приличное содержание на беззаботную и долгую жизнь. Вы нам – полную откровенность и помощь в пределах ВСЕЙ вашей компетенции. Начнем прямо сейчас и с самого простого. Нам требуются списки ВСЕХ людей на всех значительных постах Америки, НАТО, Евросоюза, которые обязаны беспрекословно выполнять ЛЮБОЕ ваше распоряжение, сделанное непосредственно или через доверенных людей. Цепочки передаточных звеньев, если на кого-то у вас не предусмотрен прямой выход. Система паролей или чего-то подобного, чтобы мы от вашего имени могли сами руководить нужными нам субъектами.
Начинайте прямо сейчас. Вам требуются справочные материалы? Скажите, где они хранятся, Арчибальд принесет. А мы пока вместе с вами сделаем несколько телефонных звонков. Хорошо?
Вице-президент Келли впервые за время своей легислатуры[136] начал понимать, как туго приходилось его предшественникам, и американским, и руководившим другими странами во времена острых, мирового масштаба кризисов. Самый яркий пример – последняя Мировая война. Тогда и Рузвельту, несмотря на то что страна была отделена от всех театров военных действий непреодолимыми океанскими просторами и ее ни физическому, ни политическому существованию ничто не угрожало, нужно было работать почти круглосуточно.
Сплетая и расплетая узлы мировой политики, лавируя между Сталиным, Черчиллем, собственными конгрессом и сенатом, военными, финансистами, тайными гитлеровцами, прокоммунистическим лобби и так называемым здравым смыслом, который часто и настоятельно подсказывал, что можно было бы и не вмешиваться во все это, отсидеться на своем континенте, сэкономив сотни тысяч жизней простых американских парней. А с победителем в европейской войне можно было разобраться и позднее, вполне мирным путем.
Велика ли разница – Сталин, Гитлер или кто-то третий правил на расположенном по другую сторону Атлантики континенте? Торговать все равно пришлось бы. Ну, может быть, прибыли у корпораций оказались бы поменьше, так не президентская эта забота…
Келли обратился мыслью именно к Мировой войне, потому что именно призрак Третьей отчетливо замаячил на горизонте. А про Вторую он читал много, даже слишком, наверное, и англо-американские источники, и германские, и советские. Читал, когда собирался полностью посвятить себя науке и готовил монографию, которая должна была наконец свести воедино десятки частных «правд» о том периоде истории в одну «настоящую», окончательную, правду, после которой к изрядно поднадоевшей за семьдесят лет теме можно было бы больше не возвращаться. Как не ломает больше никто копья по поводу войны Первой. Есть общепринятая точка зрения, а измышления отдельных диссидентов никого давно уже не интересуют.
Если честно признаваться перед самим собой, профессор Келли понятия не имел, как предстоящая война может выглядеть. Его представления о характере современных войн начинались и заканчивались послевьетнамской эпохой, потому что и Вьетнамская, и предшествовавшая ей Корейская показали, что Америка больше не в состоянии мобилизовать свой трехсотмиллионный народ на «нормальную» – в понимании Келли – войну массовых армий. Дело не в том, что у страны не хватит экономических и чисто военных ресурсов. Мобилизационный потенциал Америки даже без учета многочисленных союзников (а союзников у США было много, не то что у России) достигал тридцати миллионов человек, и промышленность была в состоянии все эти миллионы, сотни и сотни дивизий вооружить и снабдить всем необходимым.
Беда была в том, что великая держава провалилась в ту самую яму, которую так старательно рыла все пятьдесят лет «холодной войны». Обладая всесокрушающим ядерным оружием и зная, что соперник обладает им же в сравнимых количествах, «суперкилл», то есть десятикратное взаимное уничтожение, было гарантировано, Штаты сделали ставку на фактор не столько даже экономический, как моральный.
Разоружить противника до боя, объяснить ему, что мир на любых условиях лучше войны, да вдобавок подкрепить это утверждение демонстрацией того потребительского рая, что наступит, «когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся». Демонстрировать пришлось на собственном примере, постоянно повышая жизненный уровень «простых американцев» и населения значимых в геополитическом смысле стран.
Одновременно всеми возможными способами приходилось сбивать уровень пассионарности того же самого населения. Своего и чужого. Потому что совершенно очевидно – человеку, готовому с однозарядным ружьем покорять Дальний Запад или пробираться через заснеженные перевалы Аляски в погоне за «золотой американской мечтой», кормящемуся, по словам Джека Лондона, «медвежьим мясом» – не навяжешь обывательский идеал – сыто хрюкать на берегу собственного бассейна, разъедаясь гамбургерами до полной непристойности.
А «исторического противника» можно заставить согласиться на роль младшего партнера, только внушив большинству его жителей мечту об «американской мечте». Но для этого пришлось сначала американцев и европейцев отучить думать, забыть понятия чести и человеческого достоинства, с младенчества ампутировать стремление хоть к каким-то возвышенным идеалам. Без этого никак – на том поле противник переигрывал «свободный мир» без труда.
Вот в итоге и оказалось, что, не говоря о возвышенных материях, на Западе просто не осталось бойцов! Из тридцати миллионов потенциальных призывников невозможно набрать приличных солдат больше, чем на пару дивизий, и как ты ни насыщай армию суперсовременной электроникой, сверхточным оружием, не осыпай дождем зеленых бумажек за сам факт согласия послужить несколько месяцев вдали от родины, дистанционно уничтожая «врагов Америки и демократии», – это не армия. Не та армия, с которой можно затевать войну с державой, пусть экономически вдесятеро слабейшей, но способной выставить на фронт столько воинов, сколько потребуется, независимо ни от каких теоретических расчетов.
И, вдобавок, по-прежнему никуда не делся тот ракетно-ядерный кулак, способный превратить всю территорию «благословенных штатов», на которую больше двухсот лет не ступала нога иноземного солдата (а если не считать англичан и канадцев «иноземцами», то и вообще никогда), в радиоактивную пустыню.
Поэтому Келли, в глубине души понимая все вышесказанное, исполнял то, что ему несколько месяцев назад приказал Сарториус – готовил сразу множество проектов, которые следовало запустить после переворота в России и прихода к власти марионеточного правительства. И экономических, и политических, гарантировавших теперь уже окончательное разоружение и расчленение мистической «страны-монстра», всемирного пугала. Одновременно делалось многое для внезапного отстранения от власти ненадежного Ойямы и замены его на самого Келли. Точно так, как в сорок пятом «красный» Рузвельт был заменен на своего вице-президента, «суперъястреба» Трумэна.
В идеале намечался полный демонтаж всего механизма «американской демократии» и сооружение на его месте чего-то компактного, легко управляемого и приспособленного к противостоянию «вызовам времени».
И, что бы там ни воображали «ястребихи», с которыми вице-президенту выпало работать над грандиозной, иначе не скажешь, задачей, нужно решительно переводить экономику США на «военные рельсы». Как это было сделано в сорок первом году. Правда, тогда за производимую военную продукцию платили золотом «союзники», отчего сказочно разбогатели американские рабочие и возник «средний класс», а теперь затягивать пояса придется именно им. «Союзники» за минувшие семьдесят лет научились требовать за свою лояльность денег, денег и денег. Зря, что ли, вместо гигантского профицита сороковых-пятидесятых годов США имеют почти двадцать триллионов долга? Тоже проблема.
В целом перспективы «проекта» вырисовывались довольно туманные.
То есть, конечно, большинство корпораций готово немедленно получить государственные заказы на изготовление военной техники и снаряжения в любых мыслимых и немыслимых количествах (с предоплатой, естественно), только никому не было известно, что именно требуется армии для настоящей войны, поскольку о «настоящей» в высоких штабах забыли и думать.
Последний лейтенант и даже сержант-контрактник, заставшие вьетнамскую войну, выслужив свое, ушли в отставку лет пять назад, и больше ни один офицер в армии, в том числе и четырехзвездные генералы, представления не имели, как вообще воевать с как минимум равным противником. «Буря в пустыне» – это не война, да и в ходе нее было допущено столько накладок и откровенной бессмыслицы, что даже Саддам Хусейн, если б его генералы не были подкуплены на корню, легко сбросил бы экспедиционный корпус в Персидский залив.
Смутно помня о сражениях с японским флотом – Мидуэй и прочее, – адмиралы требовали авианосцев. Десятками, атомных, в сто и более тысяч тонн каждый. А то, что ракетный залп русской подводной лодки «Гранитами» или «Москитами» гарантированно топит любого «Рональда Рейгана» ценой в три миллиарда долларов – так это уже из другой оперы. Адмиралы воевать с кем-то сильнее Гренады или Ирана не собирались.
Но поставленная задача никуда не девалась – придумать что-то такое, чтобы русские испугались и пошли бы на переговоры с заранее оговоренными условиями. А времени на подготовку какой-нибудь осмысленной (и подкрепленной отмобилизованной армией) провокации вроде убийства эрцгерцога Фердинанда или взрыва крейсера «Мэн»[137] практически не было.
То есть устроить что-то подобное довольно легко – хотя бы вторжение армий «Прибалтики» на территорию Белоруссии и Псковской области с целью возвращения «незаконно отторгнутых территорий». А любые ответные действия «Союзного государства», хоть пистолетный выстрел в сторону западной границы, подать как полномасштабную агрессию «Российской империи» против всего НАТО, привязав все это к недавнему выступлению русского президента. Заодно и подавление московского мятежа можно подать как звенья одного и того же «византийского плана».
Дело только в том, что для развития любой провокации нужны подготовленные вооруженные силы в российском приграничье и соответствующий накал общественного мнения как в самих США, так и в государствах-лимитрофах[138]. А ни того, ни другого как раз и нет.
Келли про себя уже решил, только не сформулировал это отчетливо – первую часть «проекта» он выполнит. Не так уж трудно свергнуть слабого, уже загнанного в угол Ойяму. Тем более – специальными людьми начинается параллельная реализация второго этапа операции, очень нестандартно задуманного политтехнологами из финансируемого Сарториусом «Бюро практической футурологии». Готовы документы, подтверждающие острый конфликт между главой президентской администрации Кэйтлин Мэйден, госсекретарем Лаурой Блэкентон, советницей по национальной безопасности Анной Пиксман и директором АНБ Каролиной Прайс как раз на почве соглашательской позиции президента в отношении России. Намека о том, что крушение вертолета Мэйден явно подстроено кем-то из них, пока будет достаточно. Уже имеются, но пока держатся в тайне от прессы смонтированные аудио– и видеозаписи, работающие на эту версию.
А сам Келли до поры остается полностью в тени. В высшем руководстве страны кипит свара, дошло уже и до убийств, но вице-президент вне и выше конфликта, он пытается твердо удерживать государственный руль в эти судьбоносные часы. «Его час» наступит несколько позже.
Вице-президент, как и сам Ойяма, и Лютенс (морально подготовленный Фестом), думали сейчас в одном направлении. С разными целями, но в одном. Пожалуй, в сложившихся обстоятельствах единственно верном. С этой демократией по-американски пора завязывать. Хватит, наигрались, довели страну почти до ручки. Требуется всего одно, но очень яркое событие, сравнимое по эффекту со взрывом Манхэттен-центра в 2003 году, унесшего более десяти тысяч жизней. Тогдашний президент не сумел воспользоваться этим подарком судьбы, ограничился всего лишь некоторым расширением прав спецслужб и собственных полномочий как главнокомандующего, в «угрожаемый период».
Но это тоже немало. Келли при хорошо организованном «подарке судьбы» сумеет воспользоваться этими полномочиями. Прежде всего – объявит сенат, конгресс и Верховный суд всего лишь совещательными органами «до особого распоряжения». А все члены этих «совещательных органов», вздумающие что-то возражать, будут немедленно интернированы. По никем не отмененному «Закону об антиамериканской деятельности» от 9 мая тысяча девятьсот пятидесятого года.
Все-таки прецедентное право – великое изобретение англосаксонской законотворческой мысли. Посадили по этому закону на электрический стул мужа и жену Рознблюм[139] – никто особенно и не пикнул. Были какие-то петиции и ходатайства о помиловании от Всемирного Еврейского конгресса – но и только. Сейчас ситуация гораздо благоприятнее, в «свободном мире» не существует вообще никакого «общественного мнения». Кроме пары-другой маргинальных журналистов малотиражных газет.
А дальше уже действовать по обстоятельствам. При поддержке и по указаниям Сарториуса.
Вице-президент снял трубку телефона и, услышав с той стороны провода голос председателя комитета начальников штабов Паттерсона, предложил ему встретиться в ближайшие часы где-нибудь «на нейтральной территории».
– Видите ли, Шелтон, – обратился он к генералу по имени, что позволял себе нечасто. Это означало намек на особую доверительность предстоящей беседы, – последние события настолько выбили известный вам «кружок» из колеи здравого смысла, что мне моментами делается очень не по себе. Я думаю, серьезным мужчинам есть что сказать друг другу без посторонних ушей.
– Где? – без лишних вопросов и дежурных фраз спросил генерал.
– На полпути между вами и мной есть один отель… Название у него должно быть вам близко по роду занятий. Просто езжайте прямо, никуда не сворачивая, в мою сторону и читайте вывески по правой стороне. Думаю – не ошибетесь. Я вас буду ждать в апартаментах на третьем этаже. Они там только одни…
Код был достаточно примитивен, и меры предосторожности – смешные, но Келли рассчитывал как раз на то, что ни одна из внушающих ему острую неприязнь «леди» (хоть и велено было считать их союзницами) именно сейчас не занята прослушкой его общегородского телефона. Теперь мало кто пользуется столь архаичной техникой, совершенно не имеющей никакой защиты. Известный принцип, но действенный, особенно когда имеешь дело с дилетантами.
То, что одна из «дам» – мисс Прайс возглавляла мощнейшую и технически даже «переоснащенную» спецслужбу мира, на самом деле не имело никакого значения. Для того чтобы инструмент проявил все свои качества, нужно уметь им пользоваться. Профан и в электронный микроскоп увидит меньше, чем Левенгук в свой самодельный, изготовленный еще в семнадцатом веке. А толкового советника рядом с директрисой нет, большинство высокопоставленных сотрудников ненавидит ее лютой ненавистью, а те, кто надеется выслужиться, потакая злобной лесбиянке, – сплошь бездари, это Келли давно выяснил.
Он собирался обсудить с генералом крайне важные моменты предстоящей работы, застолбить, так сказать, участки и договориться о дележе добычи. Насчет того, как быть в случае проигрыша, вице-президент не задумывался по свойству характера.
Он уже направился к выходу на внутреннюю лестницу, минуя лифт, как в кармане особым сигналом загудел мобильный телефон. Это не было вызовом, его просто оповещали, что нужно подняться в комнату спецсвязи. Сарториусу что-то срочно понадобилось, и он нарушил им же установленный график.
Голос «биг босса» звучал ровно, но Келли, регулярно общавшемуся с ним несколько лет, показалось, что он в достаточной мере возбужден или расстроен. Аппаратура была очень хороша и передавала тончайшие оттенки не только голоса, но и дыхания. А вдалеке слышалось что-то похожее на шум прибоя. Эту деталь Келли на всякий случай отметил.
– Дональд, как у вас обстоят дела?
Келли начал было докладывать в подробностях, хотя за сутки мало что произошло, кроме расписанных по пунктам и согласованных пропагандистских мероприятий. Ну, еще и кое-что, связанное с «трагической гибелью» Кэтлин Мэйден. Полиция на самом деле ничего не могла раскопать, намекающего на теракт или отрицающего таковой. Контрразведка – тем более. Их в основном учили подгонять факты под заранее утвержденные выводы, а по куче исковерканных обломков, все еще полностью не поднятых со дна реки, определить причину катастрофы – не их профиль. Там авиаинженерам, экспертам-трассологам, пиротехникам и паталогоанатомам месяц нужно только на предварительные исследования. И то при условии, что не будет хорошо спланированного противодействия.
Зато пресса и телевидение захлебывались. «Русский след» был объявлен сразу, теперь в ход шли архивные материалы про все подобные деяния царской разведки, ВЧК-ГПУ-НКВД-МГБ (названия все звучные, непонятные, как раз во вкусе обывателя нужной степени возбудимости и внушаемости). На пару дней накала заготовок хватит, а там еще что-нибудь придумаем.
Так и сказал Келли Сарториусу. И еще добавил, что его несколько удивляет полная индифферентность русской дипломатии и средств массовой информации. Понятно, что в Москве сейчас царит кровавый террор и никакая оппозиция нос из-под веника высунуть не решается, но ведь и официозные, просто лояльные к власти издания молчат, как будто им рты скочем заклеили. Очевидно, такая команда поступила – игнорировать клевету до тех пор, пока власть не сообразит, что же ей делать. По принципу «Любое ваше слово может быть использовано против вас». Или еще проще – «Ноу коммент», да и все.
– Слушайте меня внимательно, Дональд, – медленно и веско произнес Сарториус. – Все отменяется. Вы поняли – отменяется…
– Не понял, – тупо ответил Келли. – Что отменяется? Как? Почему?
– Неужели вам платят деньги за умение задавать сразу так много вопросов? – прозвучал саркастический голос. – Я был уверен – за выполнение распоряжений. Спрашивать – не ваша прерогатива. Но раз вам уже заплачено – повторяю медленно и раздельно: отменяется – все! Вам следует просто вернуться к своим непосредственным обязанностям. Не думать больше ни о конфликте с Россией, ни о кампании против президента, ни о совместных действиях с дамами, которые вам так не нравятся. Лучше всего – вообще обо всем забудьте. У вас есть один прямой начальник – президент Соединенных Штатов. С этого момента – вы его верный слуга. Почти как мой. Исполнять все, что он прикажет. Вы поняли – все! Вежливость, компетентность, послушность, лояльность. Это отныне ваш девиз. Ничьи больше указания, мнения, посулы и угрозы вы не должны принимать во внимание. Ничьи – генпрокурора, верховного судьи, Папы Римского. Кроме моих, конечно, и лиц, мною специально уполномоченных. Запомните пароль и отзыв. Когда его услышите – считайте, что перед вами я собственной персоной.
А то, что вы договорились о встрече с Паттерсоном, – вдруг сменил тему «босс», – это правильно. Поезжайте немедленно и объясните ему то, что услышали от меня. Никакого конфликта нет и не ожидается. У председателя комитета начальника штабов есть один Верховный главнокомандующий – президент. Только его прямые указания, отданные в письменном виде генералу, следует исполнять. Находящиеся в пределах трехчасовой досягаемости от Вашингтона мобильные части привести в состояние повышенной боеготовности. На случай не войны с Россией, а внутренних беспорядков, которые могут спровоцировать безответственные элементы. Свой годовой оклад содержания генерал Паттерсон в виде премии за беспорочную службу получит на свою «личную» карточку в течение ближайшего часа. Объясните ему это. Надеюсь, он вас поймет правильно и нам не придется случайно потерять столь ценного и авторитетного специалиста. Ваше жалованье от моего Фонда с этого момента удвоено. Я доступно объяснил? Повторять не надо?
– А как же?.. – вице-президент не удивился, что «хозяин» уже знает о только что состоявшемся разговоре с генералом. Это было в порядке вещей. Он хотел спросить, что делать с редакторами и владельцами средств массовой информации, работающими сейчас, что называется, на износ, использующих все самые грязные и недопустимые что с юридической, что с профессионально-этической точки зрения приемы. Но такая им на днях пришла команда, отменяющая все законы и принципы, кроме безоговорочного исполнения приказа.
Собеседник на той стороне провода понял, что обеспокоило Келли. Не придется ли ему отвечать за чужие грехи. Средства массовой информации до сих пор принято считать «четвертой властью», неподконтрольной даже и президенту, не говоря о «вице». Что это давно не так – кому положено знают. Но вдруг, случайно, кто-то из медиамагнатов забыл об этом ненадолго?
– Не ваша забота. Все, кому положено, получат соответствующие инструкции. Вам понятно? – снова переспросил Сарториус.
– Понятно, – промямлил в трубку Келли, абсолютно ничего не понимая, но твердо зная, что когда «босс» говорит подобным тоном, нужно исполнять, не задумываясь. Прикажет немедленно прыгнуть вниз головой с крыши небоскреба – придется прыгать, уповая на то, что это тоже элемент «общего плана» и его подхватят в воздухе и переправят в нужное место. В худшем случае он просто разобьется вдребезги об асфальт, тротуары или крыши проезжающих внизу автомобилей. Но хоть смерть будет быстрая и куда менее неприятная, чем то, что ждет его в случае неповиновения.
С лицами, допущенными к высшим тайнам, проводились инструктивные занятия, на которых разъяснялись все выгоды от ревностного несения службы и отрицательные последствия нерадивости, злоупотреблений своим новым положением и прямого предательства.
Выгоды были более чем очевидны – пожизненно гарантированная карьера (правда, лишь та, что будет предопределена свыше), иммунитет от любых возможных в жизни государственного деятеля или бизнесмена недоразумений и случайностей, заоблачные оклады, премии, бонусы и иные блага жизни.
Например, только что, судя по словам Сарториуса, Келли стал богаче на сто миллионов долларов. Причем сумма эта не облагалась налогами и не должна была попасть в поле зрения каких угодно контролирующих органов – хоть финансовой разведки, хоть Комитета по этике государственных служащих и выборных лиц. Этой трансакции просто не увидят, как не увидят и того, каким образом используются средства со специальных счетов специальных лиц.
Значит, сейчас же придется с неукротимым энтузиазмом и беззаветностью поворачивать руль на сто восемьдесят градусов. Хорошо, что лично ему это особых трудов не составит. Он не успел совершить никаких необратимых действий, и даже таких, за которые ему пришлось бы не отвечать даже, а просто оправдываться, хотя бы в узком кругу соратников по гольф-клубу.
А очередной этап грязной работы опять будут исполнять другие. Нелегко придется «акулам пера, гиенам эфира и шакалам ротационных машин», как некогда обозвал сотрудников американской прессы какой-то советский журналист-международник еще во времена «холодной войны». Но если «босс» сказал, значит, сориентируются и сделают, что надо, улыбаясь и элегантными движениями стряхивая дерьмо с лацканов белоснежных смокингов.
Генерал Паттерсон уже ждал вице-президента в отеле с действительно милитаристским названием «Мост Ватерлоо»[140]. Пусть владелец имел в виду не место знаменитого сражения, а всего лишь фильм, в котором играла несравненная Вивьен Ли, любившая останавливаться здесь, бывая в Вашингтоне. В качестве музейной достопримечательности посетителям показывали ее туалет площадью пятьдесят квадратных метров, где унитаз и биде располагались в зарослях тропических растений зимнего сада, а стены покрывали триста расположенных под разными углами зеркал.
Генерал, несмотря на вежливое приглашение портье, на экскурсию в туалет не пошел. Сразу поднялся в названные Келли апартаменты и сейчас широкими шагами мерил холл между выходящими во внутренний дворик окнами, застекленными от пола до потолка, и обширным кожаным диваном, перед которым на журнальном столике расторопный стюард уже расставил кофейные приборы, пепельницы, графин виски и вазу со льдом.
– Что у вас случилось? – недовольным голосом спросил Паттерсон вице-президента. Ему не нравилось все происходящее – и эта конспиративная встреча, словно скопированная из дешевого шпионского фильма, и тот разговор, что состоялся на заседании Совета безопасности с президентом, и бессмысленная круглосуточная работа штабистов, за которую он их засадил с заданием скомбинировать из многих, накопленных за десятилетие планов, начиная с пресловутого «Дропшота»[141], вариант хотя бы теоретически выигрышной войны против России. Превентивной, разумеется, и с абсолютно невыполнимым граничным условием: «Без использования оружия массового поражения».
Потом, когда все кончится (как обычно – пшиком!), эти разработки, итоги «мозгового штурма» трех десятков шизофреников, в которых приличные в общем офицеры были превращены приказом Паттерсона, можно будет направить на конкурс самых идиотских исследований и открытий. На соискание «Шнобелевской премии».
– Налейте-ка по стаканчику, – предложил генералу вице-президент. – Вам понравится то, что я скажу…
Генерал послушно разлил в стаканы виски на три пальца. Старый вояка все же, хотя и не слышал в своей жизни ни свиста направленных в него пуль, ни разрыва снарядов. Разве что на полигонах. Так служба сложилась.
– За что пьем? Русские согласились на безоговорочную капитуляцию? – без усмешки, но подпустив в голос нужную интонацию, спросил Паттерсон.
– Примерно. Только – мы согласились!
Паттерсон сначала выцедил дымно пахнущий маслянистый напиток, похрустел кусочком льда.
– Еще раз, пожалуйста. То же самое, но помедленнее и конкретнее.
– Капитулируем мы. Поступило указание свернуть все намеченные мероприятия, прекратить кампанию в прессе и, как я догадываюсь, начать с русскими переговоры о новой «Разрядке» (это слово вице-президент произнес по-русски. Если не о всеобщем и полном разоружении.
– От кого поступило? – глупо спросил генерал. Это звучит слишком литературно, но у него и челюсть отвисла, и глаза полезли из орбит.
«Как бы удар не хватил», – обеспокоился Келли. Но генерал молча хлопнул еще одну добрую порцию виски, три раза подряд пыхнул сигарой и приобрел прежний элегантный и респектабельный вид.
– Так от кого?
– Как будто я знаю, – хмыкнул Келли. – Возможно – прямо от господа Бога…
– Не от президента?
– Шелтон, меня слегка удивляет ваша наивность, – сказал вице-президент, указывая на диван. – Давайте присядем. Стоя пить – дурной тон. Мы же не в салуне. Когда в Америке президент что-нибудь решал? После Рузвельта, конечно.
– Кеннеди, – блеснул Паттерсон эрудицией.
– Недолго, – мельком отметил Келли. – Команда поступила оттуда, где все всегда решается. В том числе – «Быть иль не быть».
– Это – когда как. В нашем случае – всей этой симпатичной зелено-голубой планетке. Всегда мечтал посмотреть на нее из космоса, да, видно, уже не придется. Годы не те.
– Не отвлекайтесь, Дональд. Я изнемогаю от любопытства и жажду подробностей. А то жизнь последнее время начала казаться мне пресноватой…
– Тогда слушайте и не перебивайте. Вам, взрослому человеку, не нужно объяснять, что подарки под рождественскую елку ночью кладет не Санта-Клаус, а кто-то совсем другой. Но подарки от этого не перестают быть подарками. В нашем с вами случае тот, кто распределяет подарки, может завернуть в красивую бумагу некоторое количество пластита. Количество зависит от того, насколько серьезной сочтена ваша вина. Иногда отрывает только пальцы, иногда на воздух взлетает весь дом. Чтобы этого не случилось, нужно вести себя очень хорошо и правильно и ни в коем случае не огорчать… Ну, пусть все же его зовут Санта-Клаус.
Генерал помотал головой, показывая, что ничего не понимает, но спорить с собеседником не собирается. Готов слушать дальше.
– В нашем с вами случае где-то там, – Келли неопределенно покрутил рукой с растопыренными пальцами в воздухе, – в Лапландии, наверное, решили, что наш президент – лучший из всех президентов, бывших и будущих. Мы должны ему служить, его защищать, ему поклоняться, если прикажут…
Его прервал сигнал телефона Паттерсона, сообщающий, что пришло какое-то СМС-сообщение. Генерал нажал кнопку, посмотрел на экран, и брови у него полезли вверх, стремясь соединиться с нижней границей волос.
– Что там у вас? – осведомился Келли. – Не сообщение ли из вашего банка?
– Откуда вы знаете?
– Просто попытался угадать. Сколько?
– Полмиллиона ровно. И что мне теперь делать с налоговой инспекцией и Комиссией по этике?
– Наплевать. Распоряжайтесь этой суммой как ни в чем не бывало. Наверное, господин президент со вчерашнего дня повысил вам оклад жалованья. Видите – Санта-Клаус пока нами доволен. Не будем его разочаровывать и в дальнейшем. Если вы вздумаете сомневаться в тех поручениях, что я буду вам передавать от его имени, очень велик шанс, что на Арлингтонском кладбище прибавится мраморных табличек. Но не будем больше о грустном. Вы принимаете условия игры?
Генерал посопел носом, пыхнул сигарой, сделал очень большой глоток из предупредительно наполненного вице-президентом стакана.
– Я всего лишь генерал. У меня есть Верховный главнокомандующий. Меня с первых дней в училище сержанты отучили даже задумываться над смыслом получаемых приказов. Эта привычка оказалась очень полезной в дальнейшем… – Генерал с любовью и гордостью покосился на звезды, украшавшие его погоны. – Мой ответ вас устраивает, Дональд?
Василий Звягинцев Фазовый переход. Том 2. «Миттельшпиль»
Глава двенадцатая
Даже по столь серьёзному и, прямо сказать, не слишком частому во всей двухвековой истории Белого дома случаю, как загадочная гибель главы администрации, Ойяма не поехал в Вашингтон. А следовало бы – с печальным видом походить по мосту, посмотреть на извлечённые с дна Потомака обломки, после чего «обратиться к нации» с призывом сохранять спокойствие и дежурными словами в стиле глуповского градоначальника: «Не потерплю!» и «Разорю!»[1].
Он решил хотя бы так для начала обозначить собственную позицию: президент – не шериф и не детектив полицейского отделения, ему не пристало суетиться и изображать служебное рвение, особенно в том случае, если от него ничего не зависит. А для прочувствованных слов время ещё будет. Например – похороны.
Кроме того, следует отучать нацию от популизма. Настоящий правитель должен появляться перед народом (или обращаться к народу) только в предусмотренных церемониалом или, наоборот, действительно экстраординарных случаях. Вроде объявления войны или безоговорочной капитуляции[2]. А тут – ну, что же, бывает. Все мы смертны или, как сказал Лютенс, цитируя какого-то русского писателя: «Да, человек смертен, но это было бы ещё полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чём фокус!»
Документов, доставленных ему Лютенсом от русских «экстрасенсов» (Ойяма предпочитал называть их в ходе внутренних монологов именно так, чтобы не забрести в такие дебри мрачной мистики, из которых, сохранив рассудок, выбраться сложно), было вполне достаточно, чтобы прекратить любые неуместные, на его взгляд, разговоры со своим «ближним окружением». Достаточно уже наговорили, в других странах и на массовые отставки хватило бы, и на судебные процессы.
Мысль о том, что разговоры могут прекратиться и не по его инициативе, он загонял в самые дальние уголки сознания. За истекшие полвека так и остался тайной подлинный сценарий убийства братьев Кеннеди. Неизвестно, например, велись ли с ними предварительные переговоры и делались ли какие-либо взаимоприемлемые предложения. Или вопрос был решен попросту, как на военно-полевом суде – без участия сторон. То есть с ним могут поступить быстро и чётко: пистолет в ящике стола и два человека, на которых он здесь в какой-то мере может рассчитывать, – не защита. А охрана из морских пехотинцев за деньги или по чьему-то приказу может просто отвернуться, пока его будут убивать или «увозить в неизвестном направлении». И в Древнем Риме так бывало, и в средневековой Японии, и в Европе в совсем уже близкие времена.
Правда, неведомый «друг», в совершенстве владеющий японским и знающий Конфуция (то ли сам господин «паранормальный Ляхов», то ли некто, стоящий над ним), обещал помощь. Но стоит ли верить представителям вражеской, в общем, стороны, наверняка ведущим собственную игру? Хотя ситуативно они сейчас, пожалуй, на одной стороне, а это уже немало для человека, которому собственный госсекретарь в лицо пообещала не больше трёх дней жизни. Или хотя бы не жизни в буквальном смысле, а жизни в качестве президента США.
Ойяма нажал кнопку селектора и приказал начальнику собственной службы безопасности (де-юре просто руководителю группы личных бодигардов), коммодору Гедеону Брэкетту отвечать на любые телефонные звонки, от кого бы они ни исходили, что президент в курсе случившегося, но внезапно почувствовал сильное недомогание, врач сделал ему необходимые инъекции и до завтрашнего утра не велел будить. Причин для беспокойства нет, но с неотложными вопросами пусть обращаются к вице-президенту.
– А как же?.. – удивился коммодор, подразумевая непреложные требования официального протокола и ханжеской морали – непременно лично засвидетельствовать скорбь и негодование по поводу трагической гибели известной особы, к которой Брэкетт, впрочем, не питал даже тени «христианских чувств».
– Именно поэтому, – ответил Ойяма. – Мисс Мэйден зачем-то летела сюда, хотя я её не приглашал. Возможно, она должна была сделать предложение, от которого трудно отказаться. Но карта легла не так. Пусть делают следующий ход. А мне немедленно сообщают все факты, что будут выясняться в ходе расследования. От моего имени позвоните Генеральному прокурору, министру юстиции и директору ФБР. Ну, сами знаете, что сказать…
– Я понял, сэр.
Брэкетт, всю жизнь прослуживший в военно-морской разведке и приставленный к президенту его личным другом, начальником этой самой разведки вице-адмиралом Шерманом, хорошо понимал, что началась Очень Большая Игра. В которой ему прямо сейчас приходится делать выбор, скорее всего означающий жизнь или смерть и сюзерена, и его лично. Нравы Белого дома и соответствующих служб он знал досконально. Что президент никак не может быть причастен к катастрофе вертолёта, он тоже понимал. Не было у него ни нужного времени, ни соответствующих возможностей. В то же время – погибшая глава президентской администрации принадлежала к самым яростным его врагам. Значит, закручивается гораздо более хитрая интрига, чем можно было предположить поначалу, и руководит ею опытная рука. Опытная именно в сложных многоходовках, а таких способностей у известных ему «персонажей первого плана» коммодор не замечал.
– Может быть, стоит запросить подкрепления… у адмирала?
Это предложение сразу обозначило сделанный Брэкеттом выбор. Фактически он признавал, что Рубикон перейдён. И то, что президенту США придётся вопреки всем инструкциям, обычаям и действующей иерархической системе привлекать для своей защиты посторонние силы в обход надлежащих процедур, уже как бы подтверждает – они вдвоём решили, впервые за полтораста лет, переступить вроде бы невидимую, но всем очевидную черту.
Против президента его противники имеют прецедентное право использовать любые средства, от мягких увещеваний до импичмента и пули в затылок, он же – только те, что прописаны в Конституции. И попытка выйти из «мелового круга» опять же автоматически включает механизм морального или физического устранения строптивца.
Правда, заодно следует отметить, что давным-давно никто не представляет, а что же случится, если обречённая на заклание жертва всё же решит сопротивляться всеми доступными ей средствами? Не было на памяти ныне живущих политиков таких случаев.
Разбомбить столицу европейского государства или оккупировать страну на другом конце света президент США может, а вот использовать силовой приём против решившей его устранить компании джентльменов из какого-нибудь гольф-клуба с неприметным названием – ни в коем случае. Да большинству такое и в голову никогда не придёт, так же как, допустим, назвать с трибуны Конгресса лидера оппозиционной партии «грязным ниггером», а не «достопочтенным сэром».
– Спасибо, Гедеон, я обдумаю этот вопрос. А пока делайте то, что я уже сказал. И вот ещё – по любому транспортному средству, наземному или воздушному, разрешаю открывать огонь, «если покажется, что они представляют угрозу». Одна очередь трассирующими – предупредительная, следующие – на поражение. Да, запрет на пользование любыми средствами связи с внешним миром, кроме моих и ваших, остаётся в силе. Даже стоит его усилить. Служебную передающую аппаратуру тоже отключить. И приставить к радиоцентру наблюдателя из ваших людей. Понимающих в этом деле.
– Будет исполнено, сэр! Переходим на режим осадного положения?
– Считайте, что да. Фактически. Но постарайтесь, чтобы внешне всё выглядело… Прилично.
– Есть, сэр! Кстати, хочу, чтобы вы знали – охрана Кэмп-Дэвида способна отразить нападение не более чем роты противника, если она будет штатно вооружена и действовать всерьёз. Боеприпасов у морских пехотинцев – на час хорошего боя.
– Ещё раз спасибо, Гедеон. Надеюсь, до такого дело не дойдёт.
Со сразу посуровевшим и затвердевшим лицом коммодор вышел из кабинета. Вообще говоря, ничего экстраординарного в приказе президента не было: верховный главнокомандующий вправе, ни с кем не советуясь, вводить те меры безопасности, что посчитает нужными. В «особый период», который он может объявить тоже единолично, советоваться с Конгрессом и Сенатом просто технически невозможно. А политически – зачастую нецелесообразно.
Имелась лишь одна тонкость – и отдавший приказ, и тот, кто его получил, прекрасно понимали, что случайных, заведомо принадлежащих преступным кланам и синдикатам «наземных и воздушных транспортных средств» в ближайшее время здесь появиться не может. Ну, не Колумбия всё же. Русский десант ещё менее вероятен. Прилетят или приедут такие же «государственные служащие» с чьим-то приказом. В крайнем случае – сотрудники частной военной компании вроде «Блэкуотера», тоже получившие «официальный заказ». В любом случае первый же выстрел будет подобием залпу по форту Самтер[3]. То есть – началом второй Гражданской войны. Пусть поначалу совсем локальной. Но эпидемия чумы, от которой в четырнадцатом веке вымерло две трети населения Европы, тоже началась с укуса единственной, заражённой bakterium pestis блохи.
Могущественная сверхдержава на самом деле держится на нескольких, две сотни лет соблюдаемых по умолчанию правилах, и если от них вдруг отказаться, вся конструкция начнёт рушиться. Грохота и жертв, пожалуй, будет больше, чем при исчезновении советской власти. Русские, они к политическим и военным катаклизмам привычнее, и инстинкт самосохранения у них включается вовремя. Особенно после опыта 1917–1922 годов. И к идее вовремя согласиться выполнять приказы тех, кто знает, что делать, они относятся без инстинктивного предубеждения. «Командовать парадом буду я!» – очень хорошая формула утверждения легитимности вождя любого уровня.
Пока президент инструктировал Брэкетта, а потом звонил адмиралу Шерману, Лютенс тоже не бездельничал. Ляхов заверил его, что за Кэмп-Дэвидом ведётся постоянное наблюдение, и никаких эксцессов исполнителей допущено не будет, причём аккуратно и по возможности без лишнего шума. В этом Лерой почти не сомневался, имел возможность убедиться, как в аналогичной ситуации это было проведено в Москве. Девяносто процентов даже руководящих работников о попытке государственного переворота узнали только задним числом. Причём – очень задним!
«Зеркальность ситуации» его на самом деле не то чтобы слишком уж поражала, просто заставляла задумываться глубже, чем разведчик привык. Большую часть жизни удавалось обходиться стереотипами, штампами, приближающимися по своей твердокаменности к инстинктам. Имелся набор вариантов, могущих случиться на тех или иных уровнях его и коллег по деятельности. Сообразно им и стоило поступать – при работе в странах третьего мира, союзнических европейских, заведомо враждебных вроде Китая или России. И совершенно неважно, что эти стандартные реакции чем дальше, тем отчётливее демонстрировали свою несостоятельность, несоответствие реалиям меняющегося мира.
В этом, наверное, и заключается суть англосаксонского взгляда на мир: «Если действительность не совпадает с нашими о ней представлениями, то тем хуже для действительности». Десятки раз за послевоенные (после Второй мировой, естественно, ни одна другая война ХХ века права приниматься за точку отсчёта, «до» и «после», не удостоилась) годы тайные операции ЦРУ и Госдепа с треском проваливались, из вооружённых конфликтов разной степени интенсивности США выползали с сильно помятыми боками и выбитыми зубами, образно выражаясь, но здравых выводов из давних и совсем свежих поражений не делалось.
Что из Корейской, Вьетнамской, Иракской войн, что из операций «Фокус» и «Мангуста»[4], что из бесконечных «цветных революций», переворотов и контрпереворотов, организуемых Штатами по всему миру без всякой, в общем, разумной цели. Виднейшие теоретики военного дела давно уже сформулировали: «Война имеет смысл, если послевоенный мир будет лучше довоенного». Геополитическое же и внутреннее положение Америки с каждой новой попыткой ощутимо ухудшалось. По всем параметрам – от коллапса экономики и стремящегося к бесконечности государственного долга до зашкаливающего антиамериканизма, государственного и бытового, по всему миру.
Действительно, при некотором напряжении воображения легко было представить, что неизвестным (как бы даже внеземным или потусторонним) силам для чего-то потребовалось учинить государственный переворот всё равно в какой великой державе. Точнее, не всё равно. Именно в России или в США. Китай и прочие, тоже якобы значительные государства, члены ЕС и БРИКС эти силы интересовали мало. Совсем как в старой русской поговорке (или просто – практическом наблюдении): «Сруби столбы, заборы повалятся сами».
Логика не совсем понятная, поскольку изменение государственного устройства или полная ликвидация одной из этих держав должны привести к совершенно разным последствиям для мироустройства планеты Земля. Но это если руководствоваться человеческой логикой, а никакой другой Лютенс не владел.
Значит, надо отвлечься от эсхатологических[5] проблем и заняться более конкретными.
Историю Лерой знал достаточно хорошо, заодно изучал разные философские учения и даже исторический материализм. Это не слишком помогало в практической работе по названным выше причинам, но позволяло считать себя мыслящим существом, способным к рефлексии. Он ведь по сути своей был немец, а не «настоящий американец», тем более – вынужденный нередко выдавать себя за русского.
Но ничего выходящего за пределы всё тех же стереотипов Лютенс придумать не мог. Убрать с доски Ойяму могло потребоваться только силам, твёрдо взявшим курс на войну с Россией «до победного конца». Это выглядело крайне глупо в свете уже произошедших событий. Если только целью неизвестно кого не является полное уничтожение планеты Земля. Никакой иной исход просто невозможен в случае «Reductio ad absurdum»[6].
Но сразу возникает очевидное противоречие. Успех плана «Мангуста» к немедленной войне не вёл. Наоборот, он мог означать окончательное установление «однополярного мира» под властью США. То, что не получилось сразу, в 91-м и нескольких следующих годах. Тогда шансы были великолепные, да вот воображения «владыкам мира» не хватило. Решили, что «конец истории» сам по себе уже наступил. Когда сообразили, что всё не так, пришлось импровизировать, а в импровизациях англосаксы не сильны.
Зато Китай в этом варианте в расчёт мог не приниматься. Его превозносимое многими «экономическое могущество» было столь эфемерным, что несколькими точными ходами легко могло быть обрушено, со сведением Срединной империи к уровню заштатнейшей страны третьего мира, обладающей несколькими очагами более-менее технологических производств. Ровно в объёме бытовых потребностей тех же США. Остальные полтора миллиарда китайцев пусть хоть траву едят – их проблема.
А вот в случае краха «верхушечного заговора» в США (аналогично случившемуся с московской «Мангустой») и превращения конкретно Ойямы в полновластного, в российском стиле, президента, причём своей властью и даже жизнью обязанного этой самой России, возможны (как пишут в объявлениях) варианты.
Очень даже интересные и представляющие непосредственно Лютенсу широкое «окно возможностей». Как минимум – должность чрезвычайного и полномочного посла США в Москве. С последующим карьерным ростом как по дипломатической линии, так и по основной специальности. Чем плохо – в сорок с небольшим лет стать директором ЦРУ, АНБ, а лучше – единой, по типу российских НКВД и КГБ, организации? Да ещё и распространяющей своё влияние на две Земли сразу. Игра безусловно стоит свеч. Риск же, если вдуматься, лично для него не так уж велик. Главное, раньше времени не засветиться в глазах тех, кто в силах его мельком, походя, убрать с доски. Сам ведь по себе он фигурка маленькая, с тех высот, где решения принимаются, почти незаметная.
Лютенсу сейчас крайне необходимо было переговорить с несколькими хорошими знакомыми, сидевшими на не слишком заметных, но достаточно важных постах в центральных аппаратах ЦРУ и ФБР. Связывали их давние, чисто служебные отношения. Как говорится – ничего личного. Для совместных выпивок, поездок на рыбалку, охоту, партии в бридж или покер у всех имелись совсем другие приятели. А вот для того, чтобы работа шла успешно, каждому профессионалу нужны «верные люди» в самых разных организациях, с которыми приходится или придётся взаимодействовать. Поделиться неофициально информацией, свести с кем-то в обход стандартных процедур, переложить важную бумажку из «долгого» ящика в «быстрый» и наоборот – много чего могут сделать друг для друга «рыцари плаща и кинжала», почти вся деятельность которых проходит в балансировании на неуловимых границах между законом, целесообразностью, корпоративными и личными интересами.
И сейчас он рассчитывал получить сведения, жизненно важные для него и почти ничего не стоящие для других, не знающих об их ценности. И в благодарность поделиться собственной, крайне конфиденциальной информацией о ближайших перспективах. Его друзья – люди сообразительные, смогут ею воспользоваться правильно. Как биржевые игроки, своевременно получившие сведения о грядущем «чёрном четверге» 29-го года[7]. В итоге с прибылью окажутся все. Даже в ближней перспективе, не говоря о дальнейшей.
Только связи у него не было. Обратиться к Брэкетту, раскрыв перед ним часть своих карт? Попробовать бы можно, но Лерой знал пуританскую упёртость коммодора, унаследованную от предков-первопоселенцев. Это человек, которому невозможно что-то объяснить с позиций логики и практической целесообразности. Он и президенту служит не потому, что разделяет его ценности и мировоззрение, а лишь в силу верности – подобию феодальной вассальной клятвы. И доказывать с фактами в руках тоже бессмысленно – раз приказано не допускать «гостя» до телефона и лэптопа, значит, приказ будет выполнен, невзирая на то, что этот запрет вредит сейчас самому «сюзерену».
Тогда уж проще к самому президенту обратиться, тот хоть способен на разумные доводы реагировать. Но вот этого Лютенс предпочёл бы избежать. До последней крайности. Наверняка придётся объяснять, с кем и о чём он собирается говорить, а там и до обсуждения дальнейших замыслов дело дойдёт. А это пока лишнее. Сказано ведь: «Не умножай сущности…» Нужно придумать что-нибудь попроще, сохраняя при этом свободу воли и маневра.
Он всё же специалист в своём деле и должен суметь найти выход в этой, не самой сложной ситуации. Давненько он не работал полевым агентом, но не зря ведь русские говорят, что мастерства не пропьёшь. С момента прибытия в Кэмп-Дэвид Лютенс наблюдал и запоминал. Абсолютно всё. Это могло пригодиться на случай любого развития событий, придётся ли отсюда бежать или, наоборот, участвовать в обороне резиденции, если враги предпримут попытку штурма по той же схеме, что действовали в Москве противники русского президента.
Почему бы и нет, цель ведь похожа, и школа у исполнителей одна и та же. Пусть там действовали русские боевики, а здесь будут американцы, сама операция планировалась по лекалам ЦРУ, аборигенам это ответственное дело не доверили. Сам же Лютенс не доверил, и, пожалуй, напрасно. Но тут ведь тот же самый психологический и оперативный тупик получался – доверь русским действовать по собственному усмотрению, и ты сразу потеряешь над ними контроль, не сумеешь среагировать, если что-то пойдёт неправильно и «партнёры» начнут решать собственные проблемы, а не те, что определены тобой. А работая по чужой указке, «из-под палки», как у них говорится, они, русские, то ли специально, то ли по ставшей уже генетической привычке обязательно начнут вредить, превращая самые безупречно проработанные схемы в их полную противоположность.
И так случается практически всегда за последнюю тысячу лет: как татаро-монголы в этом убедились, так и ныне ещё живущие «специалисты» по насаждению на российской почве «демократии» и «рыночной экономики». Обязательно любые намерения, хоть благие, хоть не очень, становятся поперёк горла их инициаторам. А сами русские, сплюнув и перекрестившись, продолжают жить по собственному разумению, как бы это ни бесило весь «цивилизованный мир».
Вот поэтому Лерой решил действовать так, будто сам сейчас тоже русский, согласно псевдониму и кое-какому опыту. Опять же памятуя уроки, преподанные «куратором». Полностью, конечно, перенастроиться не удастся, не тот исходный материал, но по-любому американцы, организуя свои системы безопасности, исходили из собственных представлений, значит, просто надо прикинуть, где оставлены «дырки», именно в силу разного восприятия реальности.
Лютенс непроизвольно усмехнулся. Интересная аналогия в голову пришла – по ассоциации с происхождением того, кого он пытается спасти и потом использовать в своих целях. Вот сидят у общего котла десяток самураев и торопливо хватают зёрнышки риса палочками, зная, что наесться всё равно не получится – риса мало, едоков много. И тут кто-то, раньше имевший дела с «северным соседом», выхватывает «из-за голенища» (условно говоря) приличных размеров деревянную ложку и начинает ею орудовать. Пока остальные сообразят, что происходит, он успеет насытиться. Второй раз такая штука может и не пройти, но в первый – наверняка!
Лютенс устроился с сигаретой на скамеечке в тени кустов, с видом на пруд. Хорошо, тихо – живи и радуйся. Так не дают. Неужели действительно можно организовать всё так, чтобы свою короткую жизнь прожить, если чем и рискуя, то только для собственного удовольствия? На маунт-байке с горы спускаясь или к акулам в гости с видеокамерой ныряя.
Наверное, можно, если то, что Ляхов со своей командой задумал, осуществится. Ну, несколько сотен или тысяч человек ликвидировать придётся, но не миллионы же. Вот разориться могут миллионы действительно. Но всё равно же не так обнищают, как в Нигере каком-нибудь или Сомали. Подумаешь, беда: из совета директоров компании – на автосборочный завод, гайки крутить. Из Госдепа – в парикмахерши…
Лютенс засмеялся, представив себе нечто из придуманного, как оно наяву будет. Да нет, вряд ли упомянутые господа работать захотят, скорее в бандиты и проститутки подадутся. По профилю, так сказать.
С этими русскими пообщаешься – невольно в стихийные коммунисты потянет. Не зря каждый из них – пусть подсознательный, но враг свободного мира, даже те, кто с наших рук кормился и в вечной преданности клялся. Вроде как Волович – невольно снова вспомнился верный помощник и «почти что друг». Как он там сейчас, интересно? Ликвидировали его уже или ещё допрашивают в «пыточных подвалах»? Лютенс прекрасно знал, что никаких таких подвалов давно не существует, но стереотип есть стереотип. Как при слове «инквизиция» сразу представляются монахи в сутанах с капюшонами, «испанские сапоги» и аутодафе, так «Россия» ассоциируется с медведями, снегом, водкой и этими самыми подвалами. Что бы там ни было, но жизнь «независимому журналисту» сохранят едва ли. Слишком много знает и слишком подл, чтобы подвергнуться «перевоспитанию». Дали ему чересчур мягкосердечные товарищи одну попытку, и чем она закончилась?
Но тут же разведчик забыл об этом малопочтенном персонаже. Дело нужно делать, хоть и сидя в расслабленной позе и наслаждаясь щебетаньем и посвистами неизвестных экзотических птичек, порхавших в кронах деревьев.
Какие в поместье вообще есть средства связи? Кроме штатных, находящихся под постоянным надзором операторов и охраны. Сотовые телефоны у прислуги? То ли есть, то ли нет. Он никогда не интересовался порядками на режимных объектах вроде этого. Не было необходимости, да и не по чину. Вполне возможно, что это общее правило – сдавать любые гаджеты при входе на охраняемую территорию. Ещё что? «Воки-токи» морпехов. Несерьёзно, едва на пару миль достают. Радиостанции на служебных машинах. Те тоже под присмотром, близко не подойдёшь, не то чтобы внутрь залезть и начать настройки гонять.
Решение пришло быстро. Не зря он о «русском стиле» подумал. Да почему обязательно о русском? Это же Честертон, кажется, писал, где лучше всего спрятать лист. Причём в том рассказе говорилось: «Чтобы спрятать мёртвый лист, он сажает мёртвый лес»[8].
Ему, слава богу, сейчас этого не нужно, но никто не может утверждать, что нечто подобное не придётся проделать завтра. Логика событий вполне может развернуться в ту самую сторону. Тем более, очень похоже, что некто уже приступил к аналогичной процедуре, иначе, что может означать внезапная трагическая гибель мисс Мэйден? Потребовалось ли убрать именно её по той или иной причине или сама она не представляет никакого интереса, но для определённых целей требуется, чтобы её место стало вакантным?
В то, что крушение вертолёта могло быть роковой случайностью (каковых случайностей из расчётов отнюдь не следует исключать), Лютенс как раз совсем не верил. Принять такое допущение – значит вывести партию за рамки дедуктивного или, наоборот, индуктивного анализа. Злонамеренная акция превращается в фарс. Что так оно очень часто и бывает, Лютенс отказывался признавать, и это стоит отнести на счёт теперь уже немецкой составляющей его личности. Русские весьма почитают знаменитую триаду: «Авось, небось да как-нибудь»[9], а немцу лучше стократно обыгранное и обхаянное: «Ди эрсте колонне марширт, ди цвайте колонне марширт…»[10]
Значит, что мы имеем? Какой вариант попытки нарушения «радиомолчания» придёт в голову безопасникам в самую последнюю очередь?
Правильно – что пресловутый запрет на связь с внешним миром захочет нарушить сам президент. Эта ситуация ими скорее всего вообще не принимается во внимание. «Хозяин барин, что пожелает, то и сделает», значит, всё внимание к остальным обитателям резиденции.
А у президента имеется весь комплект – и сотовые телефоны, и проводные, и специальная защищённая линия, и оптоволоконный кабель, отводка от вашингтонской «горячей линии». Радиорубка с всеволновыми приёмопередатчиками, что-нибудь по линии Пентагона, как положено Верховному главнокомандующему. Лютенс раньше просто не интересовался этим вопросом, а сейчас начал считать и понял, что наверняка о многих деталях обычного понятия не имеет. Вон в дальнем углу парка двухэтажное здание виднеется, сплошь всякими антеннами утыканное, там и космическая связь наверняка, и вообще что-нибудь такое, о чём в популярных журналах не пишут. Да ему это знать и ни к чему. Самое лучшее решение – самое простое.
Не рисковать, пытаясь дозвониться до своих приятелей, которым придётся долго объяснять суть дела, да и то неизвестно, получится с одного раза или нет. А времени на обстоятельные разговоры у него не будет. Кроме наружной слежки наверняка есть и видеокамеры, прослушка во всех более-менее значимых помещениях. Сам по себе факт попытки связи с внешним миром не так страшен, сравнительно правдоподобное объяснение он всегда придумает, но вот содержание его разговоров посторонним знать нельзя ни в коем случае. Значит, проще сразу выходить на «куратора», одной кодированной фразой сказать, что нужно, а потом пусть сам думает, как довести его информацию, мысли и рекомендации до «друзей».
Ляхов оставил ему два телефонных номера для экстренной связи, в нью-йоркском и сан-францисском офисах своего «института», ещё чей-то мобильный и адрес электронной почты. Вот, наверное, к компьютеру бы проще всего подобраться. Тут их наверняка несколько, для хозяина, жены – первой леди, возможно, и в других помещениях президентского дома есть стационарные аппараты или небрежно оставленные лэптопы. Никто же не готовился заранее к нынешнему «чрезвычайному положению». Осталось найти способ выяснить, где удобнее и безопаснее осуществить свой замысел.
Больше двух часов Лютенс бродил по аллеям, несколько раз обошёл президентский коттедж, прорабатывая способы замотивированного туда проникновения. Но ничего исполнимого в голову не приходило. Вспомнил даже русский фильм «Семнадцать мгновений…». Увы, воздушной тревоги, чтобы попасть в комнату связи, в ближайшее время ждать не приходилось, а часовой у входа наверняка проследит, чтобы «гость», по его словам, идущий к президенту «по делу», не отклонился от маршрута.
Проблема, как часто бывает, разрешилась почти что сама собой, «без» и даже «вопреки» потугам рационального мышления.
Лерою просто захотелось пить. День всё-таки был достаточно жарким, и обед слишком острым, в мексиканском стиле. Идти в своё бунгало, где имелся кулер с ледяной водой, не хотелось, да и вода не казалась подходящим к случаю напитком. Гораздо лучше бы выпить пива, а то и хорошего сухого вина. Калифорнийского, но можно и мозельского. На первом этаже гостевого дома, вокруг которого располагались несколько бунгало, в одном из которых жил он сам, Лютенс ещё утром заметил нечто вроде буфета или бара, и чёрный стюард там в глубине шевелился. Если и сейчас открыто – чего ещё желать. Никаких ограничений в этом смысле на него не налагалось, сам он не «при исполнении», а размышлять и строить планы в культурных условиях куда приятнее.
Лерой снова подивился, что русская фразеология приходит ему на ум здесь даже чаще, чем в самой России. Причём эти «культурные условия» – это ж ещё с советских времён, когда выпивка в рюмочной противопоставлялась «поллитре на троих» в подворотне или в кустах на детской площадке.
Бар действительно функционировал, несмотря на то что, по наблюдениям Лютенса, никаких гостей, кроме него, в Кэмп-Дэвиде сейчас не было. Так он и спросил представительного негра лет сорока, одетого в нечто среднее между смокингом и ливреей.
– Вы совершенно правы, сэр. Гостей в доме сегодня нет. И вчера, кроме вас, не было. Я даже удивился, что вы не заглянули. Однако заведению полагается работать. Офицеры охраны после смены заходят, старший обслуживающий персонал… Здесь много людей, сэр, которые с удовольствием выпьют стаканчик кока-колы или чего-нибудь покрепче… Вам что предложить?
Мысль о том, что можно действительно позволить себе «покрепче», показалась ему привлекательной. Склонности ведь никуда не делись, невзирая на события последних дней, а сам факт того, что он «употребил», может сыграть на руку. Злоумышленник «в логове врага» никогда не станет вести себя подобным образом. Снайпер не курит в засаде, автогонщик не пьёт перед стартом…
– Пожалуй. Виски?
– Какой сорт предпочитаете? Вот карточка. Или – перед вами, – негр широким жестом указал на стойку у себя за спиной.
Выбор на самом деле был неплох. По пять-шесть шотландского и ирландского дорогих сортов, ромы и водки, включая даже непатриотичную теперь и особенно здесь «Столичную» из Москвы. Вин тоже хватало. Вот пива разливного не было, только бутылочное и в банках европейских стандартов по 0,33 и 0,5 л. Жаль, в России и в Германии он бутылок, а тем более жестянок не признавал. Всё время чувствовался привкус то консервантов, то металла.
– Двойную «Катти Сарк», «Кёниг Пильзнер» большую, фисташки…
Бармен посмотрел на Лютенса с уважением. Похоже, в Кэмп-Дэвиде работали люди куда более сдержанные. Или – слабые в коленках.
– У стойки желаете или за столик подать?
– За столик. Я вон там сяду, возле кондиционера… Курить можно?
– Президент у нас курящий, потому не возбраняется. Только по вечерам нельзя, когда людей, особенно женщин, много. Возьмите пепельницу…
Как раз в это время, переговорив с адмиралом Шерманом об усилении охраны и о том, как это сделать наилучшим образом, не привлекая излишнего внимания, Ойяма снова впал в задумчивость. Такое с ним случалось время от времени. Наверное, тоже что-то от генетического кода. За неимением цветущих вишен, слив (не сезон), а также полной луны на небосводе приходилось довольствоваться подручными средствами. Он просто уселся на гладко выструганные, теплые от солнца доски веранды, так, чтобы его нельзя было увидеть извне.
Место для резиденции выбиралось с умом, никаких «господствующих высот» вокруг него не было. Наоборот, основная территория, покрытая лесом с пересекающими её в разных направлениях аллеями и тропинками, с небольшим озером и гольфовым полем занимала обширное плато, плавно понижавшееся во все стороны. Но широких горизонтов тоже не открывалось, везде взгляд упирался в часто стоящие сосновые стволы и густые кустарники. Поэтому президент для фиксации внимания обычно останавливал взгляд на видневшейся в дальней перспективе странной металлической конструкции, считающейся крайне дорогой и имеющей глубокий смысл инсталляцией какого-то признанного гения, почитаемого одним из предшественников Ойямы, скорее всего Клинтоном.
Иногда «это» вызывало у воспитанного совсем на других канонах президента только раздражение, иногда – желание понять, что за смысл кроется в причудливо переплетённых бронзовых лентах, никелированных швеллерах и ржавых двутаврах. То есть выходило так, что мастер трудился не зря, какие-то мысли и эмоции его творение вызывало. И неплохо способствовало вхождению в медитацию, отвлекая от конкретностей окружающей обстановки.
Ойяма понял, особенно после разговора с Лютенсом, что рациональным образом принять судьбоносное решение ему едва ли удастся. Слишком большое количество факторов, часто – взаимоисключающих, пришлось бы учесть, к тому же никак невозможно просчитать реакции и поступки огромного числа людей, тем или иным образом уже вовлечённых в водоворот событий, повлиять на которые кардинально не может никто, но зато способен давать свой импульс, только усиливающий общий хаос.
Не зря же столь достойный политик и полководец, как Наполеон, считал необходимым и достаточным просчитать любое своё начинание хотя бы процентов на тридцать, предоставляя остальное игре непредставимых случайностей.
С наполеоновских времён сложность общественно-политических систем неизмеримо возросла, как и число субъектов, способных оказывать на них воздействие. Просто за счёт увеличения общей численности дееспособного населения и скорости прохождения и обработки информации. Изучив карту, ознакомившись с донесениями нижестоящих командиров и данными разведки, Бонапарт мог принимать решение, исходя из того, что за ближайшие сутки в обстановке мало что изменится, а сведения о совокупных результатах начатой сегодня масштабной операции станут доступны анализу лишь через несколько дней, а то и на будущей неделе.
А вот сегодня обстоятельства могут меняться намного быстрее, чем обычный человек способен осмыслить происходящее, просто догадаться, что случилось нечто и мир вокруг уже совсем не тот, как минуту назад.
Поэтому единственный способ сохранить контроль за происходящим – перестать быть обычным, выйти за рамки общепринятых стереотипов, здравого смысла, законов (в том числе и законов природы), правил, обычаев и традиций. В 1904 году японцы демонстративно и грубо нарушили принятые среди цивилизованных людей законы войны, напав на русских в Чемульпо и Порт-Артуре без объявления войны и вопреки международному праву. Это в конце концов и принесло им победу в неравной битве. А «мировое сообщество» спокойно проглотило потрясение основ, ибо совершено оно было нужными людьми, в нужное время и в нужном месте и, как тогда казалось, отвечало интересам большинства великих держав. Через тридцать с небольшим лет англосаксы, голландцы и прочая окрестная шваль сообразили, что едва ли стоило так уж радоваться поражению России, но было поздно. Старательно выкормленные из рук, вооружённые и получившие карт-бланш на реализацию любых планов в Китае, Корее и СССР японцы от всей души принялись уничтожать своих «благодетелей». Совершенно так же, как это делал Гитлер в Европе.
Кстати, сами американцы за шесть лет до «первой русско-японской» поступили не менее «остроумно» и подло. Формально ничего не нарушая, они создали «казус белли», взорвав на рейде Гаваны собственный крейсер «Мэн». Плевать на сотню своих моряков, зато Испания была объявлена агрессором и война началась «по всем правилам», с соответствующей нотой и формальным объявлением.
Вот и сейчас – Ойяма должен перестать быть тем, за кого принимает его американский истеблишмент и кое-кто повыше, а когда он сделает то, что смутно пока рисуется его воображению, тогда возмущаться будет поздно. Придётся традиционалистам принимать новую реальность как данность. Был Вестфальский мир, был Ялтинско-Потсдамский[11], теперь возникнет… Никто пока не знает, как его назовут.
И неважно, что для этого придётся пойти на сделку с русскими, до сих пор кажущуюся немыслимой всем «сильным сего, свободного, мира». А главное – не с русскими как с государством Российская Федерация, а вначале с очень непонятными силами, выглядящими как русские и базирующимися преимущественно в России. Будет ли это сделкой с дьяволом или пактом с богами – будущее покажет.
Внутренним взором Ойяма видел себя на вершине, в блеске и сиянии славы и могущества, мудрым и авторитетным правителем, далеко перешагнувшим границы так называемой демократии и тому подобной чуши. Надо только суметь выжить несколько ближайших дней, за которые всё и решится. А для этого…
Президент вернулся в реальность, освежённый, полный бодрости и внутренней силы. Внешней, впрочем, тоже. Каждая клеточка его организма просто переполнялась энергией. Ойяма пружинисто вскочил, сделал несколько упражнений боевой гимнастики. Всё великолепно, тело слушается его, как никогда. В таком состоянии можно приступать к великим деяниям.
Ойяма достал из кармана просторной куртки, напоминающей одновременно пижаму (не спальную, а курортную) и кимоно, телефон. Он любил на отдыхе свободные одежды, в отличие от Рейгана, например, который и в старости расхаживал дома в узких джинсах и ковбойских сапогах на завышенном каблуке.
Хотел было вызвать к себе Лютенса, но тут же вспомнил, что «курьер» тщательно обыскан и избавлен от всех предметов, могущих исполнять функции средств связи. Не только мобильных телефонов, но подозрительно выглядевшего массивного хронометра с многими дополнительными циферблатами и кнопками, и портсигара с встроенной зажигалкой. Вскрывать и изучать эти предметы специалисты пока не стали, всё же раздражать раньше времени человека с неопределённым статусом не хотелось. Просто заперли в номерную ячейку на проходной и выдали на руки ключ.
Тогда президент набрал трёхзначный номер Брэкетта и велел найти и доставить в библиотеку «коллегу из ЦРУ», то есть, конечно, мистера Лероя из нашего посольства в Москве. Этими словами Ойяма обозначил коммодору статус, который он считает нужным пока что сохранять за «гостем».
Выпив за два приёма очень неплохое виски, Лютенс не торопясь потягивал пиво, тоже отличное. Американцы, честно сказать, в пиве, как и в кофе, ничего не понимают, и то, что подают в обычных барах, как правило, редкостная дрянь, адаптированная под вкусы аборигенов. Но здесь пиво было настоящее, сваренное и разлитое в Германии, без дураков.
Изредка затягиваясь в меру крепкой, ещё в Москве купленной сигаретой «Русский стиль», Лерой перебирал варианты. Пока что ничего не получалось. Подняться здесь на второй этаж и пошарить по комнатам в поисках компьютера, лэптопа или просто подключенного к внешней сети телефона мешал бармен. Никакого повода попасть в административный корпус тоже не было. Любой замок он вскрыл бы за полминуты подручными средствами, но и этой полминуты у него не будет. Поскольку ещё день на дворе и все его передвижения наверняка отслеживает не одна пара глаз. Стоит свернуть с естественных маршрутов – сразу подойдут и вежливо спросят, куда и зачем сэр направляется.
Ночи ждать ещё долго, и тоже не факт, что бунгало, любые другие помещения и вся территория не напичканы ноктовизорами, тепловизорами, масс-детекторами и прочей охранной электроникой. Это не считая собак, с которыми после захода солнца предпочитают патрулировать парк и внешний периметр охранники. Значит, что, тупик?
Лютенс был уверен, что нет. Выход обязательно найдётся, и лежит он на поверхности, только пока ещё не виден. А если вот так?
– Стоун, – обратился он к бармену, прочитав имя, обозначенное на бейдже. – У вас есть лэптоп?
– Есть, сэр, – ответил тот, ничуть не удивившись вопросу. – Разумеется, есть. А у вас разве нет?
– И у меня есть. Только в нём батарея села. Забыл зарядить, когда из дома уезжал…
Говорить о том, что ноутбук у него изъяла охрана, он не стал. Зачем личный гость президента (а кем он мог быть ещё?) будет терять лицо в глазах прислуги. Дела джентльменов лакеев не касаются. Обычно.
– Можно в сеть включить… – теперь в голосе Стоуна прозвучал намёк на недоумение. Мол, неужели господин не понимает таких простых вещей?
– Можно, – согласился Лютенс. – Но для этого придётся вставать и идти в своё бунгало. А мне лень. Одолжите мне свой, буквально на несколько минут. Я не сбегу с ним, честное слово…
Нормальная шутка в устах чуть подвыпившего, добродушного белого господина.
– Нет проблем, сэр. Но имейте в виду, вай-фая в Кэмп-Дэвиде нет. Только по оптоволоконному, и только для тех, кому положено…
– Мне Интернет не нужен. Мне с флэшки кое-что прочитать срочно надо…
– Тогда нормально. Сейчас принесу, сэр, – закивал головой и расплылся в улыбке негр. Прямо Дядя Том какой-то. Долго тренировался, наверное, чтобы избранному имиджу соответствовать. А в душе, небось, совсем другое прячет! До первого подходящего случая.
«А случай очень скоро может представиться, – незаметно передёрнул плечами Лерой. – Очень даже скоро».
Стоун скрылся за дверью позади барной стойки и через минуту вернулся с приличных размеров ноутбуком в блестящем алюминиевом корпусе.
– Благодарю. И налейте ещё пива…
Лютенс откинул крышку, включил аппарат. Всё же профессионализм сотрудников охраны резиденции оставляет желать лучшего. «Издержки демократии», снова усмехнулся он. Как быстро произошла перенастройка личности. Всего неделя общения с Ляховым, Рысью и их помощниками – и он уже полностью «on the other side»[12]. Совсем недавно ему бы и в голову не пришло иронизировать по такому поводу. Обыскать-то его обыскали и изъяли всё, что сочли подозрительным, а вот на брелок от связки ключей внимания не обратили. Сочли изящную фигурку обнажённой девушки с выразительными формами, вырезанную из отполированной пальцами, чуть желтоватой слоновой кости, не представляющей угрозы «национальной безопасности».
Отчего-то в «тоталитарных государствах» вроде России или бывшей ГДР спецслужбы работали гораздо тщательнее и, так сказать, более творчески, чем в свободном мире. Или тут обратная зависимость – врождённая способность и даже почтительное уважение граждан к разведывательной и контрразведывательной деятельности предопределяет внутреннее устройство государства?
На самом же деле внутри брелока прятались сразу две флэшки – с памятью на двадцать гигабайт и адаптер для выхода в Интернет по сетям сотовых телефонов. Никакой вай-фай не нужен.
Есть! Соединение установлено. Лютенс быстро набрал почтовый адрес (американский, кстати, не московский), оставленный ему Ляховым. Быстро набрал две фразы: «Нуждаюсь в связи помимо любых обычных способов. Крайне срочно. Влад.». Оперативный псевдоним получился из сокращённого имени, под которым он значился в фальшивом удостоверении репортёра одной из московских газет, совсем даже не оппозиционной, чтобы не привлекать излишнего внимания властных структур.
Вот и всё. «Дело сделано, сказал слепой». Лютенс произнёс эту цитату из «Острова сокровищ» вслух, на этот раз по-английски, как в первоисточнике.
И сразу переключился с Интернета на воспроизведение с обычной флэшки. Открыл на какой попало странице длинный отчёт о проделанной в Москве работе и углубился в него. Служба есть служба, и докладывать по начальству всё равно придётся, если, конечно, мир в ближайшее время не перевернётся с ног на голову, а возможно, как раз наоборот.
Так и будет он сидеть здесь, покуривая и прихлёбывая пиво, наслаждаясь прохладой и одиночеством, пока не получит какой-либо ответ от «куратора». На этот самый лэптоп или «помимо обычных способов», на что Вадим Петрович большой умелец.
Всё же интересно – на самом ли деле изучение всякой эзотерики и прочей мистики реально способно настолько расширять человеческие способности или дело всё же в чём-то другом? Разумных ответов напрашивалось только два. Нет, вернее, три, подумав, решил Лютенс.
Или это некие новые разработки русских учёных, не раз уже удивлявших мир совершенно неожиданными открытиями, неизвестным образом попавшие в руки безусловно частного лица, господина Ляхова. Что это именно так, Лерой не сомневался, «государственных людей» он, что называется, нюхом чуял, не такое уж сложное дело – отличить «вольного стрелка» от чиновника, тем более весьма высокого ранга.
Второе – проделки инопланетян. Сколько бы ни было написано трудов, опровергающих возможность существования внеземного разума, и сколько бы фантасты ни писали «за», Лютенс с чисто практической точки зрения в множественность обитаемых миров непоколебимо верил. С чисто научной точки зрения. Бесконечность остаётся бесконечностью, сколько раз её ни дели на что угодно, даже на самоё себя. Если во Вселенной бесконечное число не только звёзд, но и целых Галактик, значит, бесконечно и число вращающихся вокруг звёзд планет. Среди них – бесконечное число землеподобных и столько же населённых разумными существами, в том числе и гуманоидами, обогнавшими землян в развитии. Другое дело, что они могут быть разнесены с нами по времени и находиться от Земли на бесконечно большом расстоянии. Но ведь тогда должно существовать бесконечное число способов преодолевать бесконечные расстояния за бесконечно малые отрезки времени…
Такая вот забавная умственная игра. Которая может быть опровергнута одним только способом – признанием единого для всего Мультиверсума[13] Господа Бога, который в неизречённой милости своей, а также с учётом неисповедимости своих же путей устроил мир таким образом, что в нём может существовать только одна планета, населённая разумными обитателями. Ему больше и не нужно, чтобы через созданных им людей осознавать смысл собственного существования и принимать положенные почести от существ, устроенных «по образу и подобию». Что за Нарцисс без зеркала и зачем другая женщина человеку, «влюблённому в одну особу страстно»?
Понятно, что появлением на Земле «пришельцев» можно объяснить практически всё, но смысла в таком объяснении немного.
Ну и третье: Ляхов и вся его команда – всё-таки пришельцы, но не из других миров, а из человеческого будущего. Причём – не очень далёкого. Этот вариант вполне универсален, позволяет ответить на любой почти вопрос, в том числе и насчёт «параллельной Земли». Мало ли, что наплёл Волович насчёт того, что там, «по ту сторону», – наше прошлое, тридцатые или двадцатые годы, даже двадцатидолларовую бумажку показал, очень убедительно выглядевшую. Рассказать всё можно для «прикрытия легенды», и дензнак отпечатать. Даже сегодня на хорошем принтере подобную изготовить можно, а что будут уметь люди через десять или двадцать лет? Год назад и о возможности создания «3D-принтера» никто не подозревал.
И какой из всех этих построений следует вывод? Конкретно для него, Лероя Лютенса. Как ему поступать в предложенных обстоятельствах? Конечно, так, как уже решил. Хоть люди из будущего, хоть всемогущие экстрасенсы знают, что делают, и знают, как и для чего. Ставший у них на пути заведомо проиграет. Хотя бы только текущее мгновение своей жизни. А проиграв его – и всю партию, которая для самого Лютенса означает не более и не менее, чем вся оставшаяся жизнь. Будет ли она долгой и счастливой или короткой и отвратительной – зависит только от его поведения здесь и сейчас.
За окном бара он заметил вдруг возникшую суматоху. Только что на прилегающих аллеях и лужайках было тихо и безлюдно, и вдруг замельтешили охранники, явно исполняя внезапно поступивший приказ. Явно кого-то ищут. А кого, если не его, «гостя»? Заглядывают в бунгало, которые видно отсюда, направляются к дому, где он сейчас отдыхает. С чего бы это вдруг? Засекли всё же его выход в Интернет? Или дело не в нём, а поступило некое сообщение о заложенной бомбе, например, или о том, что на территорию проник злоумышленник?
Непохоже, тогда тревога была бы всеобщей, с воем сирен и подъёмом всего личного состава.
Значит, первое.
Лютенс хотел было выдернуть флэшку, потом передумал. Зачем ломать легенду? Да, попросил лэптоп, нужно было кое-что освежить в памяти. А «исходящее письмо» он сразу стёр. Могли, конечно, и записать, если у них подходящая аппаратура была наготове, ну, как-нибудь перед президентом оправдается. У них ведь кое-какое взаимопонимание уже достигнуто. Вот в этом ключе и будем строить линию поведения.
На пороге бара появился секьюрити в штатском в сопровождении сержанта морской пехоты. Тот – с коротким «Хеклер-Кохом» на плечевом ремне[14].
– Мистер Лютенс? Вот вы где. Пойдёмте, вас немедленно хочет видеть президент.
– Пойдёмте. Только сейчас пиво допью. Не люблю оставлять. Сколько с меня? – повернулся он к бармену, одновременно закрывая лэптоп и выдёргивая флэшку.
– Ничего, сэр. Для гостей – бесплатно, – самой широкой из своих улыбок расплылся Стоун.
«Неужели такие громадные и белые зубы – собственные?» – не совсем к месту подумал Лютенс. А вслух сказал: – Спасибо. Было очень вкусно и мило, – и, чуть понизив голос, добавил: – Настоящий коммунизм.
Глава тринадцатая
Лютенс, направляясь к выходу из бара, услышал сзади и слева, почти возле самого уха тихий голос Ляхова:
– Не торопись. Сначала загляни в туалет…
Разведчик уже ничему не удивлялся, раз и навсегда согласившись, что в этом мире существует много такого, о чём он раньше не подозревал. Так и коренные обитатели Америки понятия не имели, что рядом с ними, буквально рукой подать, располагается Старый Свет, населённый людьми, умеющими творить чудеса ничуть не менее удивительные, чем Лютенсу сейчас демонстрирует русский «профессор необъяснимых явлений». Обо всех этих чудесах индейцы узнали, только когда на континент хлынули толпы, а скорее даже – орды переселенцев. И очень быстро научились использовать изобретения белых людей. Прежде всего – виски и огнестрельное оружие.
Так что и за себя Лютенс не опасался – научится всему, что сам Ляхов и его помощницы умеют. Если, конечно, ему будет предоставлена такая возможность. Но пока вроде ничто не говорило об обратном.
В обширном «предбаннике», как мысленно он назвал по-русски помещение перед туалетными кабинками, кроме четырёх раковин умывальника помещался низкий стол вроде журнального с несколькими пепельницами и кубическими, обтянутыми пластиком банкетками вокруг. А на стене висел большой плоский плазменный экран. Очевидно, здесь так заботились о посетителях, что предусмотрели желание курящих посетителей не отрываться от просмотра футбольного или бейсбольного матча даже на несколько минут. Или – слушать комментатора, сидя на унитазе. Даже диарея не в силах помешать настоящему болельщику.
Лютенс убедился, что сопровождающие за ним следом не пошли, остановился напротив телевизора, догадываясь, что «куратор» вновь использует оный в качестве транслятора. Удобно, ничего не скажешь, если есть техническая (или мистическая) возможность «садиться на волну», как говорят радисты.
Действительно, экран тут же и осветился, появился Вадим Петрович, выглядевший, как нормальный диктор новостного канала. За его спиной имелась даже карта Соединённых Штатов, рельефная, от пола до потолка. Хорошая маскировка, если вдруг кто внезапно и войдёт, сразу ничего не поймёт, а дальше уж Ляхов наверняка придумает, как выходить из ситуации. Да просто отключится, перебросив сюда картинку с любого подходящего американского.
– Что у тебя случилось, зачем связь просил? – без предисловий осведомился Вадим Петрович.
Лютенс объяснил, тоже предельно кратко, сложившуюся обстановку и необходимость войти в контакт со своими коллегами, которые могут помочь…
– Хорошо. Связь тебе сам президент организует, когда ты передашь ему то, что я тебе сейчас скажу. Кое-что продемонстрируешь и потом передашь. А для полного твоего спокойствия и вашей с «шефом» безопасности я направлю к вам несколько своих ребят. Особо подготовленные специалисты в любой области. В том числе и паранормальной. Умеют предвидеть ближайшее будущее, владеют всеми приёмами охранной деятельности и контртеррористической борьбы. Заодно – обеспечат постоянную связь с «Институтом». Или эвакуируют в случае крайней необходимости – есть с ними нужная аппаратура. Два мужчины и девушка. Симпатичная, хоть и не «Рысь». Легенда, она же – чистая правда – сотрудники моего института, прибывшие на помощь тебе и президенту. Так ему и доложишь. Задача – объяснить Ойяме, что тебе необходимо предоставить полную свободу действий, с правом выезда за пределы «лагеря»[15].
– Не знаю, получится ли. У меня всё отобрали, не только телефоны, секьюрити по пятам ходят. Сейчас – за дверью стоят.
– А ты ему вот так примерно скажи: «Господин президент, не мешайте мне, поскольку только полная свобода маневра поможет должным образом защитить и ваши, и общенациональные интересы. Даже в строгой изоляции я могу многое, но на свободе – намного больше. Вот первое доказательство – ровно через пятнадцать минут, по моей команде, сделанной помимо всех ваших предосторожностей, антипрезидентская кампания в прессе и эфире прекратится. Ещё через полчаса, если договоримся, телевидение и радио начнут вещать то, что МЫ С ВАМИ им прикажем. Газеты в силу технических причин сделают это только завтра в утренних выпусках». Можешь добавить: «Хотите жить и править дальше – больше мне не мешайте. И увидите, как мимо вас начнут с пугающей многих регулярностью носить трупы ваших врагов…»
Ляхов закончил свою тираду и как-то многозначительно усмехнулся.
– Всё запомнил? Пора идти, сопровождающие уже забеспокоились…
– Как вы сказали, – в некотором обалдении переспросил Лютенс, – вся кампания во всей прессе? Антипрезидентская и антироссийская? И как это будет выглядеть?
– Мне самому интересно, как именно такой пируэт будет оформлен. Но что будет – гарантирую. Антипрезидентская прекратится сразу, – он посмотрел на часы, – уже через восемь минут. Антироссийская сойдёт на нет постепенно. Наверняка найдутся гораздо более интересные темы…
– Звёзды подсказали? – съязвил Лютенс.
– Скорее – чьи-то внутренности. Как там в Риме назывались гадальщики на потрохах? Не авгуры?
– Не помню точно. Кажется – гаруспики, если память не подводит. Читал, что это был один из самых надёжных методов…
– Вот видишь. Мои ребята будут ждать связи в близких окрестностях. Телефон – три шестёрки, три девятки. Назовёшь себя, они подтвердят готовность. Дальше – по обстоятельствам. В общем – до скорого. Главное, с шефом порешительнее держись. За тобой я, Россия и все потусторонние силы…
Экран погас. Лютенс сполоснул руки, вытер бумажным полотенцем и ногой толкнул дверь. Охранник и морпех отклеились от стенки, которую они подпирали по обе стороны двери.
– Подслушивали? – с противной улыбочкой спросил Лерой, испытывая острое желание хамить этим парням, слишком явно изображающим из себя тюремщиков. Могли бы и поделикатнее с гостем президента. – Что-нибудь интересное услышали? Вряд ли, – ответил он сам себе, – кишечник у меня работает аккуратно. Ну, пойдёмте, что ли, президент заждался…
В нём билась сейчас весёлая сила. Он поверил Ляхову. Врать в таких делах никто не будет. И никто на свете не в состоянии из Москвы подключиться к телевизору в резиденции президента США. Захотелось как-то обозначить и свою сопричастность к явлениям, превосходящим человеческое понимание. Пожалуй, думая о должности посла в Москве, он чересчур занизил планку притязаний. Место, конечно, публичное и почётное, Спасо-хаус[16] пошикарнее, чем Белый дом в Вашингтоне, но всё же не то. Надо будет подумать…
И ещё он чувствовал себя, как янки при дворе короля Артура, возложивший все свои надежды на предстоящее солнечное затмение. Случится – он жив и на коне. Ошибочка вышла – придётся узнать, каково оно: гореть на костре. От чего раньше умрёшь – от удушья или от болевого шока? Интересная тема.
Президент выглядел, на взгляд Лютенса, не совсем соответствующим обстоятельствам образом. Любой здравомыслящий человек, особенно такого уровня информированности, как Ойяма, должен был сейчас пребывать в состоянии сосредоточенном и в некотором роде подавленном. Потому что окружающая действительность не создавала никаких причин для оптимизма. Даже самый благоприятный вариант развития событий не сулил ни малейшего просвета. В наилучшем раскладе – сохранение статус-кво. А в этом самом «кво» не было ничего приятного. Ни собственное окружение, ни правила игры он поменять не мог, да, кажется, не очень и хотел. Так, по крайней мере, это выглядело со стороны, с точки зрения достаточно стороннего, но искушённого в политике и психологии человека. Такого, как Лютенс.
А то, что президент если и поверил письмам, полученным от Ляхова, и словам самого Лютенса, то они не пересилили заложенный в него стереотип, было достаточно очевидно. Усилить свою охрану и на время укрыться в Кэмп-Дэвиде – согласился, но на что-то большее – едва ли. Наверное, с его точки зрения, пойти против двухсполовиновековой традиции – почти то же самое, что искренне верующему ради спасения своей земной оболочки отречься от Христа и Грядущего Царствия Небесного.
Да ведь и действительно, если вдуматься, от него, достигшего этого поста не собственными усилиями и достоинствами, а поставленного на него волей людей, даже и к так называемому «американскому народу» имеющих весьма косвенное отношение, трудно ожидать воли и решительности Наполеона или великих диктаторов ХХ века. Те, с каким бы знаком ни оценивать их деяния, все как один демонстрировали качества, которых не было ни у одного нынешнего правителя – и достигали поставленной цели. А если и терпели неудачу, то только потому, что сталкивались с умом более изощрённым и волей ещё более несгибаемой.
Такой вот случился в первой половине XX века каприз истории – поместить в тридцатилетний отрезок времени сразу десяток (а пожалуй, и больше, если считать деятелей «второго плана», вполне имевших шанс тоже стать «первыми) людей, с разной степенью результативности, но с равным упорством воплощавших в жизнь собственные представления о должном мироустройстве – и до неузнаваемости это мироустройство изменивших.
Не говоря о таких титанах, как Ленин, Сталин, Гитлер, Рузвельт, Черчилль (опять же безоценочно, только по факту степени воздействия на судьбы человечества), имелись в обойме Муссолини, Франко, Чан Кайши, Мао Цзэдун, Де Голль, Салазар, Перон, а также персоны совсем уже местечкового масштаба, но всё равно не чета нынешним слабодушным и продажным «менеджерам» бывших великих держав: Маннергейм, Пилсудский, Хорти, Антонеску…
Благодаря столь странной концентрации в одном месте и в одно время всех этих «пассионариев» первая половина прошлого века получилась более чем оживлённой и увлекательной[17].
Были – и вдруг все разом исчезли. Везде им на смену пришли люди, серые до неприличия, как раз такие, чтобы резко осадить человечество в его экзистенциальном порыве, аккуратно, почти без потрясений превратить борцов в жителей «города дураков»[18], мечты о «пыльных тропинках далёких планет» – в реальность корыта с пареными отрубями и селёдочными головами.
Ойяма тоже не принадлежал к лидерам, готовым со шпагой в руке кинуться на собственный «Аркольский мост»[19]. Однако сейчас он был не просто бодр, а как бы просветлён, глаза у него блестели, можно было подумать, что президент встряхнулся чем-нибудь вроде умеренной понюшки кокаина. Но данных о подобных пристрастиях Ойямы у Лютенса не имелось.
Президент не просто вежливо, но с явной благожелательностью поздоровался с «гостем», или «посланником». Лерой не понимал, в каком качестве хозяин его сейчас воспринимает. Но первый же вопрос прозвучал отнюдь не безобидно:
– Мне доложили, что вы ведёте себя, как человек, сильно чем-то обеспокоенный. Вот этот фокус с лэптопом бармена – зачем он вам понадобился?
– Какой фокус? Мне действительно нужно было просмотреть кое-какие документы, а ваши секьюрити лишили меня доступа…
– Хм! А мне показалось, что вы пытаетесь установить связь со своими сообщниками «на воле». Ну, будем считать, что имели место просто помехи в системах контроля. Это сейчас не имеет значения. Вы знаете, после длительных размышлений я решил, что помощь от ваших «знакомых» принять можно. Но, естественно, на моих условиях. Я в любом случае – сильнейшая сторона в переговорах, а русский президент блефует, пусть и достаточно талантливо. Условия будут простые: они обеспечивают мою безопасность, мы заключаем тайное соглашение о сотрудничестве и взаимной помощи, но публично русские признают свою неправоту и соглашаются взять назад большинство тезисов, которые мой коллега изложил, не подумав, находясь в состоянии сильного душевного волнения. Никаких юридических последствий такое признание иметь не будет, мы всего лишь дадим нашим недоброжелателям кусок мяса, в который они вцепятся и не станут нам мешать в главном…
А мы тем временем продолжим наши тайные консультации и выйдем, в конце концов, на взаимоприемлемое соглашение, которое в нужное время можно будет и опубликовать.
Разумеется, то, что я сказал, – это самая грубая схема. Каркас. Над деталями можно будет поработать, если сойдёмся в главном.
Сможете вы исполнить роль моего спецпредставителя? Такие вещи нужно обсуждать лично – ни телефону, ни Интернету я не доверяю. Тем более, сейчас любой текст можно исказить как угодно.
– Вроде Гарри Гопкинса?[20] – усмехнулся Лютенс. Он сразу раскусил замысел Ойямы. Не так уж глупо. Он, в принципе ничем не рискуя, одномоментно получил бы от русских всё, что требуется, чтобы вновь взять ситуацию внутри страны и вне её под свой контроль, ничего практически не предлагая взамен, кроме «конфиденциальных» договорённостей. А цена им, как известно, копейка в базарный день. Америка и от подписанных по всем правилам договоров отказывалась, не моргнув глазом.
Тем более, такие «частные переговоры» могут быть в любой момент свёрнуты «без объяснения причин», и в любом случае Ойяма, если даже вообразить его кристальной честности рыцарем, через два года перестанет быть президентом. И всё на этом. Америка вся в белом, партнёр, как всегда, в дерьме.
Между прочим – и Лютенс это хорошо знал – такие штуки регулярно проделывали каждый второй из американских президентов, и очень немногим потом приходилось «отвечать за базар». Лерой машинально произнёс последние слова по-русски и вслух.
– Что вы сказали?
– Так, сорвалось с языка. Раз мы говорим о русских. У них это означает, что давать пустые обещания небезопасно.
– Да? А у них в данном случае есть выбор?
«Ты бы лучше подумал, есть ли он у тебя!» Но этого вслух он говорить не стал.
– Видите ли, сэр, мне кажется, вы недооцениваете серьёзность положения. Неужели вы не задумываетесь, что означает развязанная против вас кампания травли? С Никсоном и Клинтоном и то обходились помягче. Я предполагаю, это очень грубый намёк на то, что ваша судьба предрешена. И неприятность с мисс Мэйден – из того же ряда. Вам как бы демонстрируют варианты. Всего час назад я слышал по CNN такое, что…
– А я так не считаю! – перебил его Ойяма. Голос президента приобрёл ощутимый металлический оттенок. – Если русские согласятся, на первом этапе мы обезоружим моих противников. А затем… Я не хочу говорить, что мы станем обсуждать дальше, но, уверяю, внакладе не останется никто. Ни русские, ни я, ни вы…
– Не смею с вами спорить, сэр… – Лютенс заметил, что они разговаривают стоя. Президент с порога взял быка за рога и не догадался пригласить «будущего спецпредставителя» присесть, к столу или в кресло.
Он слегка кашлянул и выразительно посмотрел в сторону дивана, кресел и журнального столика между ними.
– Ах да! Простите, Лерой. Садитесь, конечно, возьмите сигару. Не желаете ли виски?
Лютенс пожелал. Разговор предстоял долгий, и он не собирался слишком уж демонстрировать президенту свою подобострастность. Не в том они сейчас положении. Если Ойяма этого до сих пор не понял (а похоже, что так) – тем хуже для него.
– Я только что получил сообщение…
– От кого и каким образом? – вскинулся президент.
– Вы правильно угадали. С помощью лэптопа бармена. У наших друзей есть методы. Да вы и сами это знаете. Так что ваши предосторожности оказались излишни. Не совсем, не совсем, – поспешил он успокоить собеседника. – Вся ваша охрана, в том числе и коммодор Брэкетт, остаётся в уверенности, что я надёжно изолирован и потому специального интереса не представляю…
– А на самом деле?
– На самом деле мне предложено довести до вашего сведения следующее: русские не собираются ни в чём извиняться и ничего уступать. Их позиция тверда и неизменна – или полностью равноправные отношения, или им придётся обсуждать эту тему несколько позже. И необязательно с вами.
– Это угроза?
– Ни в коем случае. Предложение действительно честного и равноправного сотрудничества. В результате лично вы получите всё, о чём мечтаете, даже пожизненное президентство, если оно вас действительно интересует. Меня просили также передать, что в их распоряжении есть средства настоять на своём, причём средства эти будут использованы отнюдь не ими, но в их интересах.
– Есть средства? Тогда зачем им я и вообще все эти разговоры?
– Они хотят, чтобы всё выглядело естественно. Нельзя слишком сильно расшатывать миропорядок. Сами подумайте: если даже не брать во внимание то, чем закончили своё существование Третий рейх и Японская империя – и я и вы имеем к этим странам некоторое отношение, и их судьба нам не безразлична, – стоило ли достижение первоначальных целей тех жертв, которые эти страны понесли в ходе войны? Да и антигитлеровская коалиция тоже. А ведь всё можно было решить совершенно иначе. Просто отойти от «общепринятых» методов дипломатии и поговорить на другом языке и с иных позиций. Думаете, Рузвельт не сумел бы договориться с Микадо, оставшись с глазу на глаз?
Как раз о чём-то подобном – о необходимости выхода из плоскости повседневных представлений – Ойяма и размышлял во время медитации…
– Интересно, – сказал он. – И о чём бы я говорил, допустим, с моим русским коллегой, если бы встреча состоялась? Прямо сейчас. Как нам не расшатать миропорядок?
– Для начала мне сказали: «Чтобы продемонстрировать наши возможности и одновременно морально поддержать господина Ойяму, мы отдаём команду прекратить развязанную против него «антиамериканскими элементами» кампанию диффамации. Когда президент убедится, что так и случится, разговор может быть продолжен».
Лютенс демонстративно посмотрел на запястье, где не было часов, перевёл взгляд на высокие напольные, напоминающие башню лондонского Тауэра.
– Включите телевизор, сэр…
– Ну, это уж полная чушь. Они смеются над вами, а вы хотите сделать идиотом меня. Что значит – «отдаём команду»? Как? Кому? На это не способен даже я! Если я соберу здесь, у себя всех владельцев и главных редакторов медиахолдингов и прочих независимых СМИ и обращусь к ним с предложением изменить свою политику, согласно моим указаниям, мне сначала рассмеются в лицо, а потом окончательно смешают с дерьмом и грязью. Обмажут смолой и обваляют в перьях…
– А если в ответ им будет дано понять, что в случае саботажа часть из них будет расстреляна, а остальные сгниют в тюрьмах и лагерях? – с долей задумчивости спросил Лютенс. – И тут же найдутся люди, которые займут их место и начнут проводить правильную политику.
– Для этого нужно сначала совершить государственный переворот фашистского типа… – причём возмущения или негодования в голосе президента не было. Так, размышление по поводу. Или – мысли вслух.
– На нашей планете это такая редкость последние пять тысяч лет?
– А как же с идеалами демократии? Собственно, только их защита и оправдывает существование Штатов все двести лет…
– Демократия! – презрительно выдохнул Лютенс. – Я последнее время много думаю о ней. То, что мы готовили в Москве, – это демократия? А то, что сейчас делают с вами в Америке? Какое это вообще имеет отношение к демократии? У нас что, как в Швейцарии или Исландии, проводят ежемесячные плебисциты по любому важному вопросу? Или вас выбрали свободные люди, свободно отдав за вас свои голоса, как за Эйба Линкольна в своё время? Я бы вам посоветовал хотя бы наедине с собой или с глазу на глаз между нами прекратить произносить апофатические[21] речи… Демократия – это просто название того мироустройства, которое удобно власть имущим в данный момент. Поэтому толпе внушается представление об её абсолютной ценности. Ради такой «демократии» мы уничтожили много неудобных для нас способов правления, образов жизни и даже цивилизаций. Ну, так теперь давайте ради этой же демократии уничтожим её саму (как термин, разумеется, а в идеальном смысле пусть она где-то присутствует) и установим нечто, более нас устраивающее.
– Да вы философ, Лерой. И довольно радикальный…
– Как там у Ремарка? «Пессимистом становишься, когда размышляешь о жизни, а циником – когда видишь, что с ней делают другие». Или в этом роде, точнее не помню. Кроме того, господин президент, разве я сказал, что ВЫ отдадите приказ медиамагнатам? Его уже отдал кто-то другой…
– Красиво сказано, – это я о цитате из Ремарка. – И, как в большинстве случаев бывает с известными писателями, ради красного словца. Что же касается угрозы русских…
– Угрозы? – не понял Лютенс.
– Именно! Но мы всё время отвлекаемся. Что там с нашей прессой? Она уже забилась под диван от страха перед… Перед кем, Лерой? Давайте просто посмотрим.
И они посмотрели. По той самой CNN как раз шло представительное ток-шоу, на котором ОЧЕНЬ значительные аналитики и политологи горячо обсуждали тупик, в который загоняют Америку такие жалкие, ничтожные личности, как «этот парень в Белом доме». Говорили настолько горячо и в то же время доказательно для среднего налогоплательщика, что Лютенсу стало не по себе. Он снова посмотрел на часы. «Солнечному затмению» пора бы и начаться.
Вдруг экран телевизора пошёл рябью, мигнул, вместо изображения появилась заставка, тут же исчезла и возникла голова дикторши, с несколько растерянным видом пролепетавшая:
– По техническим причинам наша передача прерывается. Окончание можно будет посмотреть в записи позднее или на нашем интернет-портале…
И тут же пошла реклама средства для чистки ванн и унитазов. Очень к месту и по теме.
Президент, торопливо нажимая тангету пульта, пробежался по всем принимаемым в Кэмп-Дэвиде эфирным и кабельным каналам. Потом они молча повернулись друг к другу. Президент с горестным недоумением в глазах, а Лютенс – со скрытым торжеством и одновременно с чувством облегчения. Такого действительно не могло быть, но тем не менее случилось. Окончательно доказывая, что мир перевернулся и никогда уже не будет прежним. А сам он вовремя успел поставить все свои фишки на «двойное зеро».
Внешне в телевизорном мире всё обстояло, как обычно. Шли кинофильмы, старые и новые, всяческие ток-шоу, юмористические программы со смехом за кадром, вполне авторитетно доказывающие инопланетянам, если они смотрят земные программы, что говорящая на английском часть человечества давно и окончательно впала в радостное слабоумие и эту планету можно брать голыми руками.
Попадались и очень приличные программы вроде «Дискавери» и «Мира оружия», географические, из жизни животных, для садоводов и кролиководов, домохозяек и безработных, для евреев, белых протестантов и белых православных, для латиноамериканцев и афроамериканцев. Не было только ни слова о президенте Соединённых Штатов.
О нём и раньше сообщали не так уж часто, больше в новостных программах или политических обзорах, если имелся весомый повод. Но на фоне вакханалии последних дней, когда на экранах одинаково часто возникали русский и американский президенты, всё более и более демонизируемые, теперешняя пустота выглядела почти ирреально.
Пустоты в буквальном смысле, впрочем, не было. Новостей со всех концов мира хватало: и про исламских террористов, и про пожары в Австралии, про бои в секторе Газа, про засуху в Мали… А где свежего материала у редакторов под руками не оказалось, крутили повторы.
Обычный, среднестатистический зритель, скорее всего, ничего бы и не заметил, настроенный поглощать сиюминутные порции «пищи духовной» и мгновенно забывать виденное и слышанное вчера. Без такого свойства психики «хомо телевизионикус» существование этого жанра было бы попросту невозможно, иначе политикам и обозревателям приходилось бы всё время держать в уме то, что они говорили и обещали вчера, позавчера, неделю и месяц назад, и половине из указанных персон пришлось бы подавать в отставку, а второй половине – идти по миру…
Но ни Ойяма, ни Лютенс «среднестатистическими» не были и сразу осознали полную нереальность случившегося.
– Но как это возможно? – почти по-детски растерянно спросил президент.
– Очевидно, так, как я и сказал. У кого-то нашёлся способ объяснить тому (или тем), кто заправляет всем этим бедламом, что команду «Стой, стрелять буду!» нужно исполнять мгновенно и не раздумывая.
– Но как? – снова повторил Ойяма. – Вы хотите сказать, что все американские средства массовой информации управляются из одного источника, как в самом тоталитарном государстве? – наивность пожилого уже человека и опытного политика привела Лютенса в умиление, смешанное с неясной тревогой. Как же человеку со столь примитивно устроенными аналитическими структурами мозга можно вообще управлять чем-то, кроме электромобильчика на поле для гольфа?
– Мне кажется, сэр, дело обстоит ещё хуже. В тоталитарных государствах хотя бы известно, кто именно управляет и откуда, а мы с вами вдруг узнаём совершенно случайно, что в своей стране понятия не имеем, кто командует парадом…
– Подождите, Лерой, – отмахнулся Ойяма. Он снял трубку прямой связи с пресс-секретарём Госдепартамента, ещё одной «мисс», Бэкфайр, не такой отвратительной внешне и внутренне, как её начальница Блэкентон, своей улыбчивостью и предупредительностью даже слегка симпатичная, но всё равно дура дурой. Несмотря на свою фамилию[22]. Умный и честный человек на такой должности проработать больше суток не смог бы чисто физически.
– Добрый день, Лора, – президент постарался, чтобы голос звучал как можно более нейтрально. – Вы сегодня телевизор смотрели?
– Да, сэр, – с некоторой заминкой ответила она.
– И как ваши впечатления?
В трубке послышалось странное сопение. Нос у неё внезапно заложило, что ли?
– Ответьте мне, Лора. Не нужно пытаться одновременно включать скайп и мимикой и жестами объяснять мисс Блэкентон, с кем вы говорите. Я спрашиваю вас. Вы поняли?
Эту Лору приходилось постоянно переспрашивать, поняла ли она смысл получаемых указаний, и всё равно их для неё дублировали на бумаге восемнадцатым шрифтом, потому что она была дальнозорка, а очки надевать не желала из принципа. Ойяма такую и в горничные бы не взял, но выбирал и тут не он.
– Да, сэр, поняла.
– Что поняли?
– Мне не нужно сейчас разговаривать с леди Госсекретарём.
– Правильно. Разговаривайте только со мной. А она пусть слушает, если вы её уже подсоединили. Что вам показалось необычным в сегодняшнем эфире?
Длинная пауза. Потом Лора ответила:
– Только что внезапно по всем каналам перестали упоминать вас и ваше имя…
– Для вас я и моё имя – разные вещи?
Тишина, сопение в трубке.
– Ладно, это вопрос философский. Давайте проще. Перестали, но должны были. А вы все нужные материалы передали информагентствам? Вовремя?
– Да, сэр. Весь новостной блок подготовлен ещё вчера вечером… И пожелания по дальнейшему… Ой!
Очевидно, Блэкентон, наверняка слушавшая этот сюрреалистический разговор, показала сотруднице кулак. Или ещё что-то, похуже. Но едва ли к стулу пресс-секретарши был подведён электроток.
– Не стоит так беспокоиться, Лора. Вы всё сделали правильно и вовремя. От вас только это и требовалось. Теперь ответьте – вы уже озаботились узнать хотя бы в одной компании, почему материалы не поставлены в эфир вовремя. Почему прервались уже шедшие передачи?
– Да, я звонила в …. – Она назвала несколько наиболее крупных медиакорпораций с максимальным охватом аудитории по большинству штатов. – Со всеми имелись договорённости о сотрудничестве, планы публикаций, согласованы сетки вещания и всё, что положено…
Каждый ответ из неё приходилось вытягивать буквально клещами, поскольку она и вообще была слабовата по части импровизаций в нестандартных ситуациях, а сейчас, с одной стороны, её донимал президент (всё же – президент!), а с экрана лэптопа жестикулировала, закатывала глаза к небу, стучала пальцем по виску и вообще пыталась донести непонятные, наверное, ей самой указания непосредственная начальница. Фигура зловещая, способная уволить без объяснения причин и выходного пособия, и судись потом, не с ней, а со всем Госдепартаментом. Процесс века: «Бэкфайр против Соединённых Штатов»!
Видимо, пресс-секретарь выбрала самый простой вариант. Она положила трубку, чтобы потом сослаться на сбой в системе и спокойно выслушать инструкции Блэкентон.
Лютенс усмехнулся и указал президенту на соседний аппарат. Прямая защищённая связь с госсекретарём. Тут не отмажешься ссылками на неполадки. Если только просто трубку не возьмёт, имитируя своё отсутствие на месте, но такие вещи легко проверяются. Не вошёл же заговор в такую стадию, что государственные служащие, все, снизу доверху, уже начали полностью игнорировать своего президента. Но на такой случай тоже есть «кое-что с винтом», как говорят в России.
Госсекретарь трубку подняла. Тоже понимала, что не настало ещё время «бросать жребий и сжигать мосты». Хотя была очень близка к этому.
– Слушаю вас, господин президент…
Ойяма растянул губы в улыбке, которая наверняка показалась бы мисс Блэкентон очень неприятной, если бы она её увидела. Но включать видеосвязь президент не считал нужным.
– Это я готов вас выслушать. Что у вас пошло не так? И почему вы мне об этом не докладываете? Три дня ведь ещё не истекли…
– Я вас не понимаю, сэр.
– Не прикидывайтесь глупее, чем вы есть. Это уже будет перебор. Прощаясь, вы сказали: «у вас нет трёх дней», чтобы разобраться в обстановке и принять решение, как поступить с русскими. Названный срок прошёл, и я решил спросить: что вы имели в виду? Если превентивный ядерный удар со стороны Москвы – то почему мне об этом не доложила военная разведка? Если что-то внутриполитическое – то где директор ФБР и мисс Прайс, кстати? Может быть, вы скрываете от меня какую-нибудь особо конфиденциальную информацию о намерениях русских? Это – как минимум ошибка с вашей стороны.
Когда Блэкентон прошипела то ли угрозу, то ли намёк, Ойяма не стал вступать с ней в диалог, голова была занята другим. Но сейчас, после общения с Лютенсом и предъявленных им доказательств «открытой игры» со стороны русских, настроение у президента было совсем другое.
– Вы меня неправильно поняли. Я хотела сказать, что время не ждёт и любая задержка с самой решительной реакцией с нашей стороны может быть превратно истолкована противником. И не только противником. Конгресс и наши союзники в Европе будут разочарованы… А сейчас это крайне нежелательно.
– То есть и сейчас вы настаиваете, что я должен взять на себя всю полноту ответственности за развязывание как минимум очередного «карибского кризиса»? При том что русские, кроме наведения порядка у себя в столице и нескольких заявлений, требующих исключения «двойных стандартов» из наших отношений, никаких однозначно враждебных действий так и не предприняли…
– В этом и заключается их агрессия! Они сорвали демократическое волеизъявление своего народа, подавили силой оружия очередной порыв к свободе граждан крупнейшей мировой державы, а это неизбежно вызвало бы переформатирование международной обстановки в нашу пользу. Более того, их президент в ультимативной форме объявил, что больше не признаёт самих основ международного права…
– Международное право – это когда мы делаем, что хотим, а остальные – то, что мы им прикажем? – заинтересованным тоном, будто эта мысль только что пришла ему в голову и очень его удивила, спросил Ойяма. На самом деле он и сам считал, что дела должны обстоять именно таким образом, и всякая попытка поставить этот постулат под сомнение – ересь не меньшая, чем 95 тезисов Мартина Лютера[23]. Только у него хватало ума не начинать борьбу за заведомо проигранное дело, сколь бы справедливым оно ему ни казалось, а исходить из реальных обстоятельств и соотношения сил.
Кроме того, ему хотелось немедленно морально уничтожить мисс Блэкентон и всю её стаю. Физически бы тоже неплохо, но это уже задача второго порядка.
Госсекретарь издала сдавленное шипение. Она раньше президента догадалась, что обстоятельства изменились, но не могла найти в себе сил признать это и «сменить флаг». Хуже того – она не понимала, где, так сказать, «точка бифуркации». Вице-президент Келли, исполнявший роль «верховного координатора» их проекта, вдруг перестал отвечать на её прямые телефонные звонки, а когда она попробовала связаться с ним через помощника, получила ответ, что господин вице-президент «вне зоны доступа».
Это наводило на самые тревожные мысли. Плюс демарш медиасообщества. Никто не счёл нужным хотя бы поставить её в известность о причинах тщательно согласованной кампании.
И теперь до чрезвычайности самоуверенный тон основного объекта акции.
– Вы так и не доложили мне, что всё-таки случилось и почему без всякого предупреждения и согласования со мной вы взяли на себя ответственность за изменение нашей политики? – продолжал нажимать Ойяма. – Информационная кампания дезинформации (интересный вышел каламбур, отметил про себя президент) развивалась вполне успешно, и вдруг… Вы получили какие-то новые сведения о реакции мирового сообщества? Или решились на это, посовещавшись в узком кругу? Такого стиля работы я одобрить не могу. Так объяснитесь же, наконец, дьявол вас раздери!
Ойяма придумал интересный ход, окончательно запутывающий мозги Блэкентон и тем, кто за ней стоял. Он никак не мог допустить, что сейчас «за него» вдруг начала играть та же сила, что позавчера была «против». Гораздо логичнее верить Лютенсу, что это его «друзья» каким-то образом надавили на неизвестный самому президенту «клан», сумевший тайно захватить контроль над всей американской прессой, радио и ТВ. Именно над всей, за исключением, может быть, мельчайших, действительно независимых (но не от «крутых парней» своего посёлка) FM-радиостанций и газетёнок с тиражом в сто экземпляров.
Поэтому он и давал понять госсекретарю, что с самого начала был в курсе «замысла», тот соответствовал его некоей многослойной интриге (японец же!), а сама она использовалась втёмную. Но теперь вот что-то поменялось, и её решили сделать виноватой. Повесить на неё всех собак, как говорится.
На такое фурия (а то и гарпия[24]) американской дипломатии была категорически несогласна:
– Вот тут я, господин президент, совершенно ни при чём. Всё, что требовалось от моего ведомства, исполнялось точно и в срок. А отчего вдруг машина забуксовала – вопрос не ко мне. Я как раз немедленно связалась с господином Тафтом Хартли, как вы знаете, он контролирует большинство лояльных нам ресурсов, но его не оказалось на месте…
– Даже для вас? – не преминул воткнуть очередную шпильку Ойяма.
– Даже для меня. Его помощник, Джереми Свит, заявил, что шеф уехал на рыбалку, для него это святое с начала уик-энда, телефонная связь с ним в это время только односторонняя, он не терпит, когда его отвлекают звонками. «Нет в мире таких новостей, которые не могут подождать, пока он ловит рыбу».
Лютенс опять фыркнул. Он знал эту фразу, и не Хартли её придумал[25]. Наверняка подсказал кто-то из русских. Да, у них действительно «всё схвачено».
– А что касается изменения информационной политики, то секретарь сказал, что мистер Хартли приказал циркулярно всем своим изданиям немедленно свернуть «это дело». Он, дескать, в таком уже возрасте, что нужно о Боге думать и внуков воспитывать, а не втягивать мир в очередной виток войн и революций… Что касается денег, то они ему уже давно не нужны, жаль, что слишком поздно он это сообразил. Достроить дворец и сад из «Тысячи и одной ночи» в Калифорнии ему хватит, хватило бы времени…
– Вот как! Очень интересно, – протянул Ойяма. Ему и вправду было интересно, какие доводы нашлись у русских, чтобы буквально за несколько часов перевоспитать старика Хартли, человека желчного и неуступчивого настолько, что любой осёл или мул по сравнению с ним показался бы образцом толерантности и послушания. Он пережил девять президентов, и с любым из них разговаривал, как южанин-плантатор, не с рабами, конечно, но примерно как с надсмотрщиками на своих плантациях. А ведь кроме Хартли есть и ещё фигуры, калибром поменьше, но тоже цепко держащие свой сегмент. И если они вначале согласились делать одно дело со своим давним конкурентом, а потом так же дружно, тоже синхронно с ним, свернули программу…
На самом деле русские тут были совершенно ни при чём. Медиамагнату очень рано (не было ещё и пяти утра, но «капо ди капи»[26] на такие пустяки внимания никогда не обращал) позвонил Сарториус и не терпящим не только возражений, но и вопросов тоном распорядился тему дискредитации американского и русского президентов, вообще взаимоотношений двух стран временно вычеркнуть не только из программ, но и из памяти главных и просто редакторов. Переключиться на проблемы внутриамериканские, Африки и Латинской Америки. Вплотную заняться популяризацией Доктрины Монро[27], которая не только молодёжью, а всеми ныне живущими американцами основательно подзабылась. Когда же Хартли по привычке всё же начал задавать посторонние вопросы, Сарториус без всякого пиетета перед личностью и авторитетом собеседника впрямую намекнул, что мир полон случайностей, и привёл в пример всем известного Джека Лондона, строившего себе в начале XX века громадный «Дом волка» неподалёку от владений самого Хартли.
Писатель и левый журналист не внял вовремя намёкам владельцев Сан-Францисского порта, что лучше бы писателю продолжать свои увлекательные романы о золотоискателях Аляски и туземцах южных морей, чем лезть в совсем его не касающиеся профсоюзные дела. И как-то так совпало, что после очередного предупреждения в дом попала молния, и он сгорел дотла, всего за неделю до того, как хозяин собрался туда переселяться. До сих пор в поместье Глен-Эллен высятся краснокирпичные закопченные стены и тянутся к небу трубы 18 каминов, внутри которых так и не загорелся огонь. Только снаружи.
Тафт Хартли строил свой сказочный дворец уже почти полвека на вершине горы над шоссе Лос-Анджелес – Сан-Франциско, идущим по кромке океана, и назвал его по-испански «La Cuesta Encantada» – «Чарующая высота». Неизвестно, сколько сотен миллионов, а скорее, много миллиардов вложил магнат в это сооружение, приснившееся ему во сне в двадцатилетнем возрасте. Увидел, восхитился, задумался и начал строить. Из Европы вывозились купленные на корню и разобранные на пронумерованные кирпичи средневековые монастыри и замки со всей обстановкой; так же поступали с мавританскими дворцами и мечетями с минаретами стран Магриба. Римские статуи, фонтаны и термы воспроизводились один к одному с оригиналов или описаний. И всё это компилировалось на одной территории, в единый комплекс, да ещё с ощутимым влиянием собственных фантазий и предпочтений целой группы талантливых, но иногда «с приветом» дизайнеров.
Получалось нечто до ужаса эклектичное, но одновременно и чарующее соединением несоединимого. Все склоны и вершина горы покрывали дендропарки и вольеры с дикими животными пяти континентов. Доходчиво описать это невозможно, нужно хотя бы один раз увидеть. Но мало кому удавалось посетить 200 гектаров земного рая, 5 рыцарских башен, 7 минаретов, 156 комнат и залов, 6 бассейнов, 60 туалетов, 78 спален и много, много чего ещё…
И вот об этой прелести, достроить до идеала которую не хватало всего лишь десятка лет, которые Хартли был намерен прожить во что бы то ни стало, Сарториус отозвался более чем пренебрежительно и намекнул… Даже вообразить этот ужас был не в силах «владелец заводов, газет, пароходов». А что привести свою угрозу в исполнение таинственный и страшный человек был в состоянии одним движением бровей, Хартли нисколько не сомневался. «Против молодца – сам овца».
Поэтому, приняв прописанные для экстренных сердечных спазмов таблетки, Хартли за полчаса отдал необходимые распоряжения поднятым по тревоге 10 секретарям и 17 референтам, после чего отбыл на рыбалку в открытое море. А уже порученцы принялись за дело с обычным для них жаром. Каждый отвечал за свой участок головой и очень хотел её сохранить.
Аналогичные команды получила вся линейка магнатов меньшего калибра. А уже владельцы и редакторы в какой-то мере «независимых» изданий, услышав о «финте Хартли», сообразили, куда дует ветер. Вот и вся загадка.
– Такое изменение позиции мистера Хартли вас ни на какие мысли не наводит? – вкрадчиво осведомился Ойяма. – Остальные массмедиа, я так понимаю, совершенно добровольно последовали его примеру?
– Очевидно, так… Зато видели бы вы, что сейчас творится в Интернете…
– Мне это неинтересно. К Интернету я вообще не очень хорошо отношусь, а уж сейчас – особенно. Я думаю, найдётся кому обратить внимание на поведение провайдеров и блогеров, представляющих собой нечто значимое. А в остальном – у нас ведь демократия, не правда ли? Поэтому в рамках лучшей в мире американской демократии, которая отнюдь не равнозначна анархии, я прошу вас немедленно заняться своими непосредственными служебными обязанностями, пока тоже не появилось непреодолимого желания посвятить уик-энд рыбалке. Или чем вы там увлекаетесь?
Например, неплохо бы для начала позвонить своему коллеге, русскому министру иностранных дел, и объяснить, что публикации в прессе и выступления отдельных конгрессменов и сенаторов не имеют никакого отношения к взвешенной американской внешней политике. Что правительство США расценивает последние московские события как исключительно внутреннее дело Российской Федерации и выражает удовлетворение быстрым и вполне соответствующим требованию момента наведением порядка.
Такими именно словами всё изложите. От себя можете добавить, что находите нужным, но не выходящее за рамки сути моего тезиса. И ещё – я надеюсь, что с этого момента вы полностью сосредоточитесь на том, что наши предшественники называли «разрядкой международной напряжённости». В ином качестве вы мне не нужны.
Ойяма аккуратно положил трубку на рычаги (аппарат был нарочито старомодный, повторяющий дизайн ранних тридцатых годов), даже не попрощавшись.
– Отлично провели партию, сэр, – не скрывая восхищения, сказал Лютенс. Он до последнего боялся, что Ойяма дрогнет, начнёт юлить и маневрировать перед агрессивностью своей ближайшей помощницы. А «самурай» проявил даже больше жёсткости, чем Лерой надеялся.
Президент приложил правую ладонь к сердцу и слегка поклонился.
– Простите, сэр, – поспешил извиниться Лютенс. Его ли дело – оценки главе сильнейшего государства мира давать? – Но держались вы действительно великолепно. Я представил себя на месте «простого американца», которому вы и служите, и подумал: «Да, именно такой президент и нужен сейчас Америке!» А что касается некоторой доли несогласных… Думаю, большинство из них поведёт себя подобно мистеру Хартли. Это наиболее разумные. А для остальных как раз и существуют наши многочисленные демократические учреждения. От финансовой полиции до Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Последние 25 лет о ней как-то подзабыли. Но она ведь существует, люди получают зарплату и чем-то, наверное, занимаются? Если вы не против, я бы мог взять на себя задачу максимальной активизации её деятельности.
– Займитесь, Лерой, займитесь. Это очень интересная мысль. Свежий, так сказать, взгляд на проблему…
– Немедленно. Только вы отдайте приказ Брэкетту, чтобы прекратил считать меня «подозрительным объектом». Мы с ним равны по воинскому званию, пусть поймёт, что равны и по положению. Просто каждый в своей отрасли. И мне нужен телефон. Требуется связаться…
– С кем? – насторожился Ойяма.
– Всего лишь с сотрудниками американского отделения «Института паранормальных явлений»…
– Русскими агентами, проще говоря?
– Не знаю, чьи они агенты – русских, Бога или Сатаны. Но в данный момент эти люди располагают не доступной никому больше информацией и умеют влиять на текущую действительность… Я бы сам никогда в это не поверил, но вы только что имели возможность убедиться. Мисс Блэкентон изменилась, не правда ли?
Ойяма потёр пальцами подбородок, после чего рука сама потянулась к коробке с сигарами. Так часто курить вредно, он это понимал, но что поделаешь – осязательные ощущения от тугого, шершавого свёртка табачных листьев между пальцами и ароматного, горьковатого дыма во рту ускоряли мысль и помогали сохранять душевное равновесие. Лиши его этого сейчас – и он просто не сможет думать так, как требуют обстоятельства.
– У неё нечеловеческое чутьё, – задумчиво сказал президент. – Именно – нечеловеческое…
– Простите, но, пожалуй, вам сейчас, не теряя времени или, точнее – темпа, нужно переговорить с советником по национальной безопасности, директорами ФБР, ЦРУ и АНБ. Не вступая в какие-либо дискуссии, поставить непосредственные задачи на сегодняшний день. Обстановку обрисуете сами, а им поручите принять все меры к недопущению массовых беспорядков, прежде всего в столице, исключить возможность несанкционированных заседаний Конгресса и Сената, просто не дать им возможности собраться «в числе более восьми человек».
– А почему именно восьми? – удивился президент.
– Не знаю. Вспомнилась статья из российского, ещё царского времени, «Уложения о наказаниях». Там везде присутствует эта сакральная цифра. Любые беспорядки, устроенные восемью и менее единомышленниками, – это просто беспорядки, произошедшие, возможно, случайно и без злого умысла. А больше восьми – уже бунт, мятеж, революция…
– Чушь какая-то, – недоумённо поднял брови Ойяма. – Вечно эти славяне придумывают не пойми чего…
– Да едва ли славяне. Ещё древние философы, не то Зенон, не то Сократ, задавались вопросом, с какого количества зёрен начинается куча? И не могли дать ответа. Эта апория даже во все учебники вошла. А неизвестный русский законник взял и установил: «С восьми!» И попробуйте с ним поспорить…
– Достаточно, – махнул рукой президент.
– А начальнику военно-морской разведки и председателю комитета начальников штабов прикажите поднять по тревоге и иметь под руками, в их личном распоряжении, хотя бы несколько полностью боеготовых рот, а лучше батальонов. На всякий случай…
Лютенс распоряжался, а Ойяма только кивал, будто так и надо.
– Я сейчас попробую связаться и договориться о встрече с этими сумасшедшими учёными или колдунами, не знаю, что правильнее, и буду постоянно держать вас в курсе дела. Смелее, сэр, возможно именно сейчас мы с вами поворачиваем руль истории, как ни напыщенно это звучит. Если всё удастся, с завтрашнего утра мир не будет прежним. Извините, если в чём-то превысил свои полномочия и вторгся в область ваших прерогатив…
– Ничего, Лерой. В такие моменты не до субординации. Но вы уверены, что мы поступаем правильно? Всё же это очень отдаёт государственным переворотом… Традиции американской демократии…
– Salus populi suprema lex esto![28] – торжественно, будто вообразив себя римским трибуном, провозгласил Лютенс. – Я не думаю, что новая мировая война такое уж благо для американского и всех прочих народов в сравнении с некоторой корректировкой утративших сейчас подлинный смысл понятий двухсотлетней давности.
Паттерсон с Келли, немного увлекшись, перевалили уже за половину графина. Виски действительно было неплохим, а тема разговора – настолько заумной и, попросту говоря, опасной, что оба высоких должностных лица дружно согласились бы с точностью русского присловья: «Тут без поллитры не разберёшься». Если бы его знали. Но, и не зная, пришли к аналогичной мысли инстинктивно.
Вице-президент, раскрасневшийся и распустивший узел галстука, стараясь не выходить за рамки подробностей совсем уже секретных и, безусловно, не называя имён, растолковывал генералу систему управления Соединёнными Штатами, сложившуюся на текущий момент. Как сам её представлял. Представлял достаточно верно, но в самых общих чертах, поскольку и ему никто не сообщал значимых подробностей.
Для него, например, мистер Сарториус был тоже неким передаточным звеном между официальными властями страны и группой анонимных «акционеров», владеющих всеобщим контрольным пакетом, выражаясь в терминах Марксова «Капитала» – «Треста трестов»[29]. То есть для него оставалось неизвестным, что «Система» работает не только в пространстве – финансовом, политическом и географическом, но и во времени тоже. Более того – между временами. Аналогично «Хантер-клубу», где умершие полтора столетия назад члены имеют право решающего голоса и участвуют в моделировании и формировании будущего. И наоборот, естественно.
Но и того, что рассказал Келли, для генерала было откровением. Он всю жизнь мыслил категориями, расположенными как минимум двумя уровнями ниже. В понятных ему терминах – как штаб батальона или бригады воспринимал решения штабов корпуса или армии. Их воля, воплощённая в боевом приказе, не обсуждаема и священна, а ход мысли вышестоящего оператора, составившего этот приказ, доступен лишь «в части, непосредственно касающейся». Иначе успешно служить просто невозможно.
Сейчас же Келли приоткрывал ему тайны именно «корпусного или армейского звена», в масштабе которых и власть командира батальона, непререкаемая для солдат и офицеров, ничтожна, и реальная роль этого же батальона на генеральной стратегической карте – в лупу не разглядишь. Хотя, конечно, без согласного действия множества таких батальонов и рот любая, самая гениальная операция потерпит крах, едва начавшись.
Сначала, в процессе ещё трёх или четырёх глотков, Паттерсон всё сказанное вице-президентом осмысливал, а потом начал задавать вопросы, иногда наивные, а иногда бьющие в самую точку, как раз в те детали, которых с «горних высот» не видно. Это в Российской армии в служебное время даже за лёгкий алкогольный запах можно поплатиться очень жестоко, а в американской вести заседание военного совета или командовать боем, то и дело прикладываясь к фляжке, – вполне нормальное дело. В последнее время «общественность» стала обращать на взаимоотношения должностных лиц с алкоголем чуть больше внимания, но – за счёт повышения толерантности к наркотикам. Трудно сказать, что лучше.
– Сложность в том, дорогой Дональд, что у меня в распоряжении практически нет подразделений или соединений «постоянной готовности», как называется это у русских. Те, что есть, – далеко отсюда, и их очень мало. А те, что близко… – Генерал обречённо махнул рукой.
– Разве кто-нибудь собирается воевать? На всякий случай вывести на улицы Вашингтона два десятка бронетранспортёров, набитых вооружёнными парнями. Стрелять им в любом варианте не придётся. Просто обозначить, что сила – у нас. А махать дубинками и стрелять патронами с перечным газом умеют полиция и национальная гвардия…
– Так-то оно так, – начал Паттерсон, и тут в кармане его рубашки особым образом, сразу обозначающим вызывающего, загудел телефон.
– Президент, – почему-то шёпотом сказал генерал и поднял палец к потолку.
Глава четырнадцатая
– Мне кажется, что ситуация созрела до нужной кондиции, – сказал Шульгин после того, как Сарториус, заглядывая в предложенные ему конспекты, переговорил с десятком своих клиентов и контрагентов. – Похоже, как мы с РСФСР и Югороссией тогда вопрос решили. И сейчас есть ощутимый шанс, что без чрезмерных мировых потрясений американцы сами всё у себя сделают. Причём так, что подавляющее большинство из них будет довольно случившимися переменами. «Отнять и поделить» – это мощный лозунг. Мобилизующий. Если до крайности не доводить, конечно. Получив солидную прибавку к доходам и увидев, как правительство о народе заботится, означенный народ непременно в умиление придёт. За исключением законченных паразитов, разумеется. Да и тех к делу пристроить можно будет, опять же, если народ этого захочет… Машинка запущена, пусть работает. Если там найдутся несогласные и с твоими ребятами вендетту затеют – «делу мира и социализма» только на пользу.
– Вы что, на самом деле социализм в мировом масштабе возрождать решили? – очень сильно удивился Сарториус. Пока что из тех разрозненных фрагментов мозаики, которыми являлись только что отданные распоряжения и указания, никак не вырисовывалась для него общая картина. А картина, судя по всему, намечалась монументальная, грандиозная даже. Так выходило, когда своим изощрённым умом пантократора[30], каковым Магнус Теофил считал себя «на полном серьёзе», он пытался экстраполировать последствия того, что начали реализовывать его теперь уже партнёры.
Применительно к Новикову и Шульгину термин этот казался ему вполне подходящим. Как бы могущественны ни были люди, сумевшие без видимых усилий согнуть его «в бараний рог» и «заставить плясать под свою дудку», Сарториус был уверен – править миром без его солидарного и равноправного участия они не смогут. Слишком много его элементов, находящихся в неустойчивом динамическом равновесии, необходимо постоянно учитывать, слишком много будет постоянно возникать новых коллизий, с которыми человек, не знающий конструкции десятилетиями сплетаемой трёхмерной паутины, не справится. Не справится просто от нехватки турбулентной, многоразрядной информации, сколь бы выдающимися общими способностями он ни обладал.
Так, самый лучший пилот неминуемо разобьётся, если вдруг в ночном полёте отключатся все системы управления и контроля. Какое-то время ещё будет сохраняться состояние «равномерного и прямолинейного движения», но первое же изменение любого из тысяч возможных внешних воздействий неминуемо вызовет катастрофу, более или менее растянутую по времени.
И Сарториус при всём желании или под какими угодно пытками не сможет передать новым хозяевам положения все свои бесчисленные связи со множеством людей, знание их сильных сторон и слабостей, научить способам эффективного воздействия на каждого, а главное – поделиться способностью безукоризненно точной реакции на хаотическое, броуновское движение миллионов пар «причина – следствие», из которых, как и из атомов и молекул, состоит весь реально существующий и воображаемый мир. Воображаемый до тех пор, пока одно из воздействий не переведёт некую возможность в реальность, превратив тем самым сколько-то не менее перспективных реальностей в неосуществившиеся, а значит, как бы и иллюзорные варианты.
Подобными умствованиями Сарториус занимался всегда, сколько себя помнил, и очень рано научился какую-то часть своих эманаций разума переводить в плоскость принятия и осуществления решений, а большую – сохранять в качестве питательного субстрата[31] для последующих идей и свершений.
Похоже, что хотя бы на данном этапе Новиков и Шульгин априори придерживались такого же мнения. Им собственными средствами, даже с помощью Шаров и Арчибальда, элементарно не хватит времени, чтобы найти и перехватить все системы управления и каналы связи, которыми легко и свободно манипулирует Сарториус.
Так же Новиков не смог бы почти полгода руководить СССР в самые тяжёлые предвоенные и первые военные дни, если бы не имел в распоряжении всю полноту памяти и личных способностей Сталина.
Но признавать их нынешнюю взаимозависимость с пауком-магнатом Сарториусом «братья» отнюдь не собирались. Много чести. Более чем на шаг-другой ему «план боя» раскрывать необязательно.
– Что мы решили, а к чему только присматриваемся – это сейчас вам знать совершенно ни к чему, – ответил Новиков. – Умножая знания – умножаешь скорби. А также свою от них зависимость. «Социализм» же в данном случае всего лишь фигура речи. Был такой международный журнал лет 30 назад – «Проблемы мира и социализма». Да вы, наверное, помните. Довольно интересный. Так мы пока только первой частью этой формулы заняться намерены. По каковой причине вас сейчас покинем. Обещаю, что ненадолго. А если вам вскоре звонить начнут те, у кого доступ есть, с информацией о текущем моменте, кляузами друг на друга, вопросами, предложениями и претензиями – выслушивайте в присутствии Арчибальда, пристойным способом обещайте принять решение и в нужный момент дать необходимые «ценные указания». Не мне вас учить. А «указания» подскажет мистер Боулнойз. В случае затруднения доложит нам, а мы уже определимся и спустим директивы. Доходчиво?
– Вполне. Только… – Сарториус замялся.
– Ты снова о своём здоровье? – усмехнулся Шульгин. – Помирать экстренно расхотелось? Не переживай… – Он снова пристегнул на руку «властелина мира» браслет. Показал на слегка расширившийся за последние часы зелёный сектор. – Видишь? Динамика положительная. Организму дан позитивный толчок, и он, избавившись от патогенных факторов, мобилизует имеющиеся ресурсы. В ближайший месяц точно не умрёшь и даже бодрее себя почувствуешь. Аппетит, предупреждаю, резко повысится. Моментами – до неприличия. Надо же потери массы и энергии возмещать. А через сколько-то времени повторим. В зависимости от результатов текущей деятельности. Публике вроде тебя поводок слишком отпускать нельзя, сразу в голову дурацкие идеи приходить станут. Проверено.
– Чтобы не скучали здесь – получи´те задание на дом, – сменил тему Новиков. – Вместе с Арчибальдом нарисуйте нам несколько динамических карт мировой экономики. У него образование вполне подходящее, и все справочные материалы в голове. Рассчитайте, исходя вот из этих соображений, – протянул Сарториусу лист бумаги. – Каким образом без катастрофических последствий, но быстро и крайне решительно следует начать переход к реальной, согласующейся с Марксом схеме. «Количество бумажных денег в обращении равняется сумме стоимости имеющихся товаров и услуг, делённой на скорость оборота платёжной единицы». Так, кажется? Я политэкономию давно сдавал, но кое-что помню. То есть экономика должна быть в обозримое время приведена к состоянию равновесия. С чётким разделением на наличные и безналичные, «инвестиционные» деньги и последующим переходом на всемирный золотой стандарт… Чтобы, значит, никаких больше долларов, фунтов и прочих деривативов…
Разумеется, при этом полностью исключить, с использованием ваших и наших возможностей, межгосударственные вооружённые конфликты высокой интенсивности. Гражданские беспорядки при этом, – Сарториусу показалось, что Новиков ему слегка подмигнул, возможно, намекая на известные события трёхлетней, кажется, давности[32], – следует пресекать со всей решительностью. Не останавливаться перед изъятием из обращения единиц ради блага миллионов.
– Ваша идея в принципе не слишком расходится с моими долгосрочными проектами, – кивнул Сарториус, ободрённый диагнозом и прогнозом в части собственного здоровья. – Я тоже предполагал в ближайшее десятилетие перестройку мировой экономики с выходом на уровень практически простого воспроизводства. Вплоть до перехода большинства стран и территорий к почти полностью натуральному хозяйству. При этом управляемость мира повышается до бесконечности. Сугубая монетарность обращения, кредиты только под залог реальных ценностей…
– Или – фунт собственного мяса, – вставил Новиков.
– Что? Ах да, Шекспир, «Венецианский купец»… Там, кстати, Шейлок прогорел на том, что не учёл ограничительного параметра – при изъятии мяса не пролить ни капли крови и взять ровно фунт, не больше и не меньше. Ваши условия похожи…
– Отчего же? Мы таких ограничений не ставим. Если десяток-другой миллионов офисных сидельцев вынуждены будут заняться производительным трудом – это не катастрофа…
– Вы очень недооцениваете грандиозность потрясений, что ждут человечество, – вздохнул Сарториус. – Это будет ненамного легче новой мировой войны…
– Удивительная заботливость. Вы всю жизнь были таким альтруистом или стали им только сейчас? – заинтересованно спросил Новиков. – Не помню, кто сказал: «Мы начинаем раздавать добрые советы, когда теряем способность подавать дурные примеры». Помнится, всего неделю назад вы старательно споспешествовали возникновению третьей мировой войны… Она как способ решения ваших проблем не вызывала столь острой реакции отторжения? Наверное, потому, что расплачиваться сейчас придётся вам и всему вашему классу, в марксовском опять же смысле…
– Вы, оказывается, ничего не поняли, – с осторожным торжеством в голосе ответил Сарториус. – О мировой войне речи не шло. Это могло показаться только со стороны, при беглом взгляде. Идея состояла в том, чтобы с минимальными потерями сменить власть, а потом и государственное устройство как в России, так и в США. В два этапа. А уже потом… Кстати, «Мой класс», как вы выразились, в целом как раз потеряет гораздо меньше прочих, живущих собственным трудом. – Сарториус явно вступил на привычную стезю. – Он, конечно, значительно сократится в размерах, но какое дело коралловому рифу в целом, – он указал рукой на океан, где многокилометровая дуга прибойной пены обозначала границы рифа, – до потери какой угодно своей части… Пятнадцать миль он длиной или две – это всё тот же дезинтегрированный надорганизм. Для уцелевшей части ничего не изменится. Велика ли беда – потерять четыре дворца из семи и девять миллиардов из двенадцати. Сохранив остальное не в сомнительных бумажках и реальной звонкой монете. Это ведь далеко не то же самое, что лишиться возможности обедать каждый день в привычном ресторане или кафе и перейти на благотворительную похлёбку.
– Сравнения у вас чересчур книжные, господин бывший триллиардер. – Андрей постарался вложить в голос максимум язвительности. – И вы просто пока не осознали степень своего падения. Жить на жалованье, пусть и достаточно большое, – совсем не то, что повелевать царствами… Не задумывались, почему во времена Великой депрессии разорившиеся бизнесмены, ещё не успев узнать вкуса той похлёбки, что вы упомянули, тысячами выбрасывались из окон небоскрёбов или кончали с собой иным способом? А вот рабочие, уволенные с заводов Форда, спокойно отправлялись строить автостраду через Долину смерти, на рузвельтовское пособие, ухитряясь при этом радоваться жизни доступными им способами?
Сарториус задумался. И, очевидно, плодотворно, поскольку заметно погрустнел.
– В общем, как поётся в «Интернационале», – добил его Шульгин, – владыкой мира будет труд! Неважно какой, но всё же труд, а не надувание финансовых пузырей. Ох, предвижу я весёлые времена. Так что не скучай, бывший горский князь, а ныне трудящийся Востока. Распишите с Арчибальдом всё, как надо. Чтоб и овцы сыты, и волки целы. Если получится.
Отозвав в сторону Арчибальда и коротко с ним переговорив о чём-то наедине, Шульгин приглашающе махнул рукой Новикову.
– Сейчас без Левашова и Воронцова обойдёмся, – сказал он, с некоторой как бы печалью осматривая вершину острова со всеми строениями и безбрежность океана и неба за парапетом. Как будто бы ему вдруг захотелось задержаться здесь на неопределённый срок, отстранившись от нестихающего потока мировых и личных проблем. – Воспользуемся любезностью Замка, его методики, говорят, стопроцентно надёжны и мировой континуум не сотрясают, поскольку не имеют к нему никакого отношения…
По подсчётам Новикова, предлагаемый Замком в лице Арчибальда вариант пространственно-временных перемещений был вроде бы четвёртый – кроме левашовского СПВ, аггрианского блок-универсала и вылетов в астрал по методике Константина Васильевича Удолина.
То, что изобрёл Маштаков, скорее всего являлось неким вариантом одного из трёх первых способов, но могло оказаться и чем-то совершенно оригинальным. Ни времени, ни образования на то, чтобы вникать в подобные тонкости, у Андрея всегда не хватало. Но то, что по технологии Маштакова удавалось попасть не просто в ближайшую параллель, а именно в «боковое время», наводило на размышления.
– А зачем нам сейчас в Замок? – спросил Новиков. – Вроде бы у нас были несколько другие планы.
– Посоветоваться надо…
Ясно, с кем посоветоваться. Андрей спорить не стал. У Замка с Шульгиным сложились в некотором смысле гораздо более «близкие» отношения, чем с остальными и даже Воронцовым, первооткрывателем. То ли Александр сумел одной из созданных мыслеформ войти в резонанс с какими-то составными частями личности Замка, то ли, наоборот, – во время нескольких реинкарнаций, пережитых Шульгиным, его «молекулярная копия», случайно или запланированно, приобрела некоторые несвойственные человеку, но имманентные[33] одной из сущностей Замка черты.
– Ну, надо так надо…
Переход в сферу действия Замка, хоть с помощью Антона, хоть «по-удолински», через астрал, происходил без всяких эффектов, театральных или физических. Просто в момент одного из движений век, пресловутый «миг» – реальность вокруг менялась, как кадр на киноэкране. Моргнул – и вокруг уже не островной сад Сарториуса, а один из каменных крепостных двориков, неотличимо похожий на те, где друзьям доводилось бывать не один раз.
Опять здесь, как накануне отплытия «Валгаллы», – щемяще прекрасное «индейское лето». Густо-синее, но одновременно и чуть выцветшее небо. Почти неподвижный, чистый и прозрачный во всех смыслах воздух, с неуловимым холодком, будто принесённым с Севера, где уже выпал снег. Истёртые, словно по ним действительно ходили сотни лет тысячи людей, большие плиты белого камня, выстилающие двор, усыпаны жёлтыми с красной изнанкой листьями канадского клёна.
И тишина – глубокая, почти невозможная во «внешнем мире», но живая, не пугающая, как в затхлом воздухе бетонного бункера, а, наоборот, умиротворяющая. Такая, что в самый раз, усевшись на грубо вытесанную каменную скамейку, отдаться неконтролируемому полёту воображения и эмоций, вдыхать этот воздух и ждать, когда ветерок, пробравшись между зубцов высоких стен, шевельнёт сухие листья и они с шуршанием поползут, опираясь на свои пятипалые кончики. Пока не упрутся в основание сложенной из гранитных блоков стены и замрут там. А к ним будут присоединяться всё новые и новые, и за недолгое время наберётся их целая куча. И тогда её можно будет поджечь, чтобы насладиться непередаваемым запахом осени. Как в далёком-далёком детстве.
– Опять мы одни тут, на миллионы лет и миллионы километров вокруг, – со странной интонацией сказал Шульгин.
– В первый раз, что ли? – пожал плечами Новиков. – Пришли – ушли, когда по своей воле, когда по чужой. Советоваться где собираешься? В твоём баре или…
– Да ты не торопись. Дай в настроение прийти. Воздухом подышать. Хорошо тут, спокойно. Покурим без спешки. Можно на берег океана прогуляться. Здесь поблизости я в тот раз «Виллис» оставил. Интересно, цел ли?
– А куда денется?
В ответ на риторический вопрос Сашка только пожал плечами. Может, стоит, где стоял, с ещё тёплым после поездки мотором. А то – растворился, как исчерпавшая свою функцию иллюзия.
– Теперь у нас времени много, бесконечно много, – продолжил он прошлую фразу. – И, дай Бог, – в нашу пользу. Когда захотим, тогда и вернёмся…
Что-то в интонациях Шульгина показалось Андрею странным. Он будто бы не своей волей говорил, а транслировал чужие слова, спокойно и равнодушно, при том что мимика оставалась прежней, живой. В небо Сашка смотрел с интересом, доступные взгляду закоулки Замка, лестницы, переходы и балкончики осматривал профессионально, будто искал признаки засады или просто чужого здесь пребывания.
Что-то эта метаморфоза наверняка значила, как и достаточно внезапное Сашкино предложение переместиться с острова Сарториуса сюда. Попутно мелькнула мысль, неуместная сейчас, пожалуй: «А есть ли у того острова собственное имя, зафиксированное в лоциях или хотя бы присвоенное нынешним хозяином, или так он и остаётся Островом? Так же как Замок – Замком, без дополнительных обозначений».
– У тебя с головой и нервами всё в порядке? – без околичностей спросил Новиков. Это в книжках и кино любят по каждому пустяковому поводу разводить массу догадок и домыслов, часто выливающихся в полноценную мелодраму, в то время как достаточно было бы просто задать прямой вопрос. Намного бы проще стала жизнь персонажей, но гораздо беднее – кино и литература. Пьеса «Отелло» из трагедии превратилась бы в бытовую драму, а то и фарс, вроде «Двенадцатой ночи».
– Почему вдруг спрашиваешь? – повернулся к Андрею Шульгин. Они настолько давно и хорошо знали друг друга, что обычно понимали настроения и состояния без лишних слов, уточняя лишь некоторые, внезапно возникшие обстоятельства. Или – если существенное значение вдруг приобретали события, случившиеся с одним из них в другое время и в другом месте.
– Выглядишь несколько не от мира сего. Говоришь не с теми интонациями. Или думаешь о чём-то сильно постороннем, или…
– Или я – это вдруг снова не я? Ну, не совсем я. Так подумал?
– В этом роде. Вдруг Замок опять взял управление на себя…
– Это – вряд ли. Хотя ничего утверждать не берусь. На этих уровнях естества может происходить всё что угодно, и мы никогда ничего не заметим, если нам не разрешат специально. Как внутри Ловушки. Превратись мы сейчас в головоногих моллюсков – и без разницы. Так и будем на дне морском сидеть, или плавать, обмениваться информацией доступными нам способами, считая, что всё идёт самым естественным образом…
– Нет, тебя точно в дебри чёрной меланхолии потянуло. Так ведь раньше у вас депрессивная фаза циклотимии называлась? – уточнил Новиков, имея в виду основную (или первую) профессию друга.
– Не в меланхолии дело. Просто вот вернулись сюда, и как-то сразу прежнее настроение нахлынуло, ну, сам помнишь… Перед самым первым уходом отсюда. Когда я тебя в «спецквартиру» повёл…[34]
– Ну, тогда повод был, – сразу вспомнил те дни Новиков.
– Сейчас, наверное, тоже есть, – пожал плечами Сашка, – только в глаза не бросается. А вот ощущение, что мы – почти Держатели, в Замке сразу пропадает. Очень мы с ним несовместимые величины. Давай наверх поднимемся, – указал он на узкую каменную лестницу без перил, четырьмя маршами идущую вверх вдоль крепостной стены. – Грамотно сделано – если отступать по ней спиной вперёд, правой рукой с мечом удобно рубить, ещё и сверху вниз, а противнику, наоборот, никак не размахнуться. Трупы атакующих будут на идущих позади валиться, вдобавок ступени положены с небольшим наклоном наружу, а тёсаный камень от крови скользкий…
Кто же это, создавая Замок, такими мелочами озаботился? Едва ли просто копировали существующие на Земле образцы – чувствуется чужая архитектурно-фортификационная мысль. Значит, и за неизвестно сколько парсеков отсюда и феодализм имел место, и гуманоиды, штурмовавшие твердыни соседей-баронов…
С высоты стены в одну сторону виден был кусочек океана – остальное заслоняли две ближайшие башни и высящийся посередине центрального шестиугольного двора донжон. Зато материковая часть видна на десятки километров во всех направлениях. Вьётся среди невысоких, заросших вереском холмов мощённая красным кирпичом «дорога в никуда», на которую некогда прямо с балкона своей абхазской дачи переставил Воронцова Антон.
Горная гряда, почти перпендикулярная океанскому берегу. Горы низкие, сильно выветренные, покрытые пятнами дубовых рощиц посередине лугов, похожих на альпийские. Пейзаж, постепенно подёргиваясь синеватой дымкой и теряя отчётливость, у самого края горизонта сливался с ещё одной скалистой грядой, отблескивающей снежными шапками на самых высоких пиках.
– Вон там, – Шульгин указал рукой в сторону ложбинки между холмами километрах в пяти от стены, – мы с Антоном вскоре после моего возвращения с Валгаллы сидели, за жизнь беседовали. Он меня начал вербовать, с Сильвией предложил поработать… Тогда всё и началось…
– Почему тогда? А не с первого выхода на Валгаллу? Или даже с моего знакомства с Ириной?
– То само собой. А это уже нынешняя конкретика пошла. Отказался бы я, подзадержаться решил – и по-другому всё получилось бы…
– Забывать ты начал, братец, – ничего б ты не задержался, – возразил Андрей. – И мы все. Помнишь, как нас отсюда в шею выталкивали? Спасибо, пароход разрешили Диме построить, а то бы – «с вещами на выход»: на Валгаллу снова высадили или прямо в Москву…
– Да, действительно, – каким-то пустым голосом ответил Шульгин. – Сейчас у меня похожее настроение. Или – ощущение, чёрт его знает.
– Тогда зачем ты меня сюда тянул? – Андрея начал раздражать бессмысленный, как верчение педалей на велотренажёре, разговор.
– Почувствовал, что надо. Замку, наверное, хочется пообщаться без свидетелей, – ответил Сашка. – И даже не то что без свидетелей, а без всяких наведённых полей. Вариантов и теней реальностей. Сколько их за эти годы образовалось, прямо слоёный пирог, если считать каждый поворот сюжета и хроносдвиг. От нас ведь, по правде сказать, от тех, прежних, мало что осталось…
Шульгин присел на край парапета между двумя зубцами, вытащил из нагрудного кармана слегка помятую пачку. Тем самым, из молодости, жестом резко встряхнул, захватил губами за край фильтра на две трети выскочившую сигарету.
Андрей пальцами вытащил соседнюю, щёлкнул зажигалкой. Опустился на тёплые камни рядом с Сашкой.
– Мало, кто спорит, – согласился он, выпуская струйку дыма в опять ставший неподвижным воздух. – Я недавно «Дневники» Симонова листал и сейчас вспомнил. Вот он, к примеру, весной тридцать девятого на Халхин-Голе воевать начал и до сентября сорок пятого так и оттянул, как медный котелок. И повидал больше, чем любой солдат и офицер действующей армии. На фронтах и в тылу. В нём, думаешь, много от того эстета осталось, кто с друзьями и подругой в «Метрополе», только что в форму переодевшись, прощался? Как раз когда «жить стало лучше, жить стало веселей»[35]. Только что из этого следует?
– Наверное, то, что Замок понадеялся – вот зайдём мы к нему на огонёк, сядем рядком, поговорим ладком – и на что-то он нас опять подпишет. И не этих, тёртых-битых, а тех… – с какой-то неясной печалью в голосе ответил Шульгин.
– Об этом и размышляешь, прислушиваешься – превращаться начал или пока нет? – делая вид, что не принимает слова друга всерьёз, с усмешкой спросил Новиков.
– Вроде того. А ты?
– Я – в норме. Чуть зацепила ностальгическая грусть, так она у меня всегда появляется, когда в прежние места возвращаюсь. Из раньшего времени. Мне даже в последние те годы по Москве ходить было неприятно. Слишком уж грубо целые улицы нашего детства сносили. А оказывался там, где старое ещё оставалось, – печалился, что это уже не отсюда…
– У всех свои проблемы, – усмехнулся Шульгин. – Но так или иначе, а надо всё же узнать, чего он от нас хочет. Здесь – себя не оказывает. Так всё же – где он нас принять желает? Мы и это угадывать должны? Нет чтобы попросту сказать…
– Пойдём в бар. Мы с ним там последний раз разговаривали?
– Да кто его знает? Не упомнишь. Но сдаётся, всё же в кабинете…
– В кабинет не тянет, – признался Андрей. – Давай в твой, лошадиный… Сядем, растормозимся, вспомним, как впервые в него зашли. Глядишь, как раз и войдём в нужное настроение…
– Нам нужное или ему?
– А вот это как раз несущественно…
Бар был точно такой, как в тот день, когда Шульгин закончил оформлять его цветными витражами-ню. Те же драпированные стены без окон, неяркая подсветка замаскированных ламп, имитирующих свет зимнего пасмурного дня. Приподнятый над ковролиновым полом подиум, ведущие на него несколько низких, но широких полукруглых ступеней. Деревянная, окованная старой, вытертой локтями медью стойка с многоцветьем этикеток на бутылках самых причудливых форм. Слева – несколько старинных пивных бочек, торчащие из них причудливой формы начищенные бронзовые краны.
Запах, который невозможно идентифицировать, но безусловно приятный и задевающий романтические струнки подсознания, – старым деревом немного пахнет, дымком и воском догоревших свечей, разными, но одинаково волнующими духами нескольких только что вышедших отсюда женщин… И ведь не вспомнить сейчас – так ли пахло здесь прошлый, позапрошлый, все другие разы или букет составлен только что, под настроение. Или – для нужного настроения.
Шульгин в своё время добавил к предложенному антуражу несколько витражей, точнее – стеклянных фотопанно, где были изображены в натуральную величину очень симпатичные девушки в разных интерьерах и в разных степенях полуобнажённости. Одна так даже верхом на великолепном коне во время стремительной скачки по летней южнорусской степи. Все модели – из числа его бывших подружек, с полным портретным сходством, но, понятное дело, слегка идеализированные. Подлинный соцреализм – изображение не того, что есть на самом деле, а того, что должно быть[36]. Тут убавлено, там прибавлено. Ноги чуть подлиннее, талии потоньше, груди твёрже и формой идеальнее, как у роденовских красоток, глаза больше, волосы пышнее. Кто был знаком с прототипами – узнает, не ошибётся. Но впечатление получит совсем другое. Ошеломляющее! Мол, где же были мои глаза тогда?! Или – знать бы, что под скромным платьем она – такая?!
Музыка… Ну, с музыкой всё нормально – микст из мелодий шестидесятых-семидесятых годов. Негромко и именно на тех инструментах, какие нужно – кларнет, саксофон, труба, – все на своём месте. Никто никого не заглушает, не подавляет дурными децибелами, сумасшедшими соло бас-гитары или ударной установки. Будто бы в соседней комнате собрался и наигрывает для своих оркестрик крепких профессионалов, решивших тряхнуть стариной.
Налили по рюмочке, кому чего захотелось, опять закурили. Ну, хозяин, мы к твоим услугам. Что ещё нужно для конфиденции, уж такой, что конфиденциальней не придумаешь? Вне всякого времени и пространства…
– Правильно всё поняли, – как они ни ждали, а всё равно внезапно зазвучал словно бы со всех сторон знакомый мягкий баритон, интонированный, как у профессионального чтеца-декламатора. Сильно усовершенствовался Замок, поначалу он своим синтетическим голосом напоминал только что научившегося говорить глухонемого.
– Я действительно хочу, чтобы вы вспомнили, какими были тридцать лет назад. До того, как мы впервые встретились.
– Тридцать? – одновременно спросили оба, а Новиков продолжил: – Да неужели тридцать?
– Календарно – да. А со всеми перемещениями, выходами в астрал, сменой эфирных, тонких и прочих тел – вообще сказать невозможно. Это вне обычной хронологии.
– Тогда нужно судить чисто биологически. Выходит лет пять-шесть, не больше, – возразил Новиков.
– Ничего не выходит, особенно если учесть, что вы гомеостатом бесконтрольно пользовались и более-менее продолжительное время абсолютно непоследовательно существовали в трёх разных веках. То плюс семьдесят, то минус сто двадцать, и ещё несколько континуумов, вообще не имеющих отношения к хронофизике данных пространств. Мотогонки по спутанным кольцам Мёбиуса – интересная аналогия?
Согласимся – физиологически вам по-прежнему нет и сорока, но это тоже не по-настоящему, психологически – даже мне неизвестно сколько. Поэтому единственно корректная точка отсчёта – год начала перемещений, реинкарнаций и трансмутаций. А с неё прошло как раз тридцать лет. Согласны?
Замок говорил тоном принимающего зачёт доцента, и опять не верилось, что они слышат голос не человека, вообще не «существа», хоть гуманоидного, хоть нет, а некоей «субстанции», циркулирующей в хитросплетении узлов и струн Гиперсети. Отчего-то именно сейчас эта мысль пришла в голову сразу обоим друзьям, хотя за те самые «неизвестные годы» они по многу раз возвращались к теме Замка и их с ним взаимоотношений.
Очевидно, всё это как-то увязывалось с самим фактом их очередного сюда прихода и непонятного настроения Шульгина. Именно потому, что настроение Сашки показалось Новикову странным, он и взял на себя лидирующую роль в разговоре. Не в первый раз.
– Согласны, а куда денешься? Так оно в конце концов и выходит. Я, когда со своим дружком, Юрой Александровым, журналистом-политологом, в нынешней Москве впервые с тех пор встретился, он меня сразу просчитал. Ну не сразу, – поправился Андрей, – в начале второй бутылки. Я и залегендировался, и загримировался, старался держаться, как интеллигентный «новый русский» из их сериалов. И всё равно прокололся. На взгляде. Как он на меня заорал тогда: «Ты что, бля, прямо из семьдесят пятого явился, немым укором?»[37] Было у нас кое-что как раз с тем годом связано… Ну, ладно. Считай, мы из восемьдесят четвёртого так и не выкарабкались. Как Басманов из своего двадцатого. Сколько его ни пытались здесь «социализировать» – по нулям.
– Сейчас у него вроде девушка из валькирий появилась, – слегка улыбнулся Шульгин. – К свадьбе дело идёт, я слышал.
– Хочешь, поспорим, она к нему поедет, а не он в Гвардию Олега… – будто обычный «третий из компании», поддержал тему Замок.
– Видно будет, – отмахнулся Шульгин. – Лучше бы кончал волам хвосты крутить. Что тебе опять надо, всемогущий ты наш? – повернулся он в сторону тех драпировок, за которыми, как ему казалось, прятался динамик, вещавший голосом Замка. – То Антон твой возвышенными идеями головы морочил, сейчас ты скоро час к снаряду подходишь, никак не разродишься. Ну?
– Вот этого и хочу, о чём сказал. Чтобы вспомнили, какими были тридцать лет назад.
– Так. Вспомнили. Дальше…
– Помните, вопросы у вас возникали, как можно левашовскую СПВ «на всю катушку» использовать?
– Помним, – опять вместо Шульгина ответил Новиков. – Хохмили в основном, чтобы крыша с места не сдвинулась от осознания грандиозности случившегося. Блок американских сигарет с оптового склада утащили, а не из спецбуфета, чтоб продавщице за «злоупотребление» голову не открутили. Тогда вообще с посягающими на пайку «власть имущих» не церемонились.
– Такие жалостливые были? – с оттенком иронии спросил Замок. – Тогда чего завскладом не пожалели?
– У того другие возможности. Усушка-утруска, путаница в накладных, недовложения в пункте отправления. Отмажется… – ответил Новиков. – Вернее, «отмазался», скорее всего.
Шульгин встал, подошёл к дверце «синтезатора», потыкал пальцами в кнопки, вернулся с двумя высокими бокалами чего-то зелёного и пузырящегося. Поставил на столик. Сделал глоток, задумчиво почмокал губами.
– Ты читать умеешь? – спросил он, явно обращаясь к Замку, поскольку на Андрея в этот момент не смотрел.
– На каком языке? – Замок, похоже, был удивлён бессмысленностью вопроса.
– На русском, на английском. Неважно. Был такой писатель… – Сашка пощёлкал пальцами, пытаясь вспомнить. – Ну, рассказ назывался «Я – это другое дело». У нас напечатан в конце шестидесятых, в красненьком томе «БСФ»…[38] Вспомнишь?
– Не проблема. Том десятый. Автор – Фредерик Пол. Ты эти слова имеешь в виду? – Замок подтвердил свои актёрские способности. Будто великий Качалов или ведущий многих радиопередач «для детей и юношества» Борис Толмазов, он прочитал с выражением и с нужными интонациями: – «Кто может поручиться за человека, который вдруг почувствует себя богом? Предположите, что какой-нибудь человек стал единственным обладателем секрета, дающего ему возможность проникать сквозь любые стены, в любое закрытое помещение, в любой банковский сейф. Предположите, что этому человеку не страшно никакое оружие. Говорят, что власть разлагает. Что абсолютная власть разлагает абсолютно. Можно ли себе представить более абсолютную власть, чем та, которой обладал Коннот? Человек, который, не боясь наказания, мог делать всё, что ему взбредёт на ум? Ларри был моим другом, но я убил его совершенно хладнокровно, понимая, что человека, владеющего тайной, которая может сделать его властелином мира, нельзя оставлять в живых.
Я – это другое дело».
– Молодец, – похвалил Сашка. – Раз сразу нашёл цитату, значит, понял? Нас сначала было трое, сейчас – несколько десятков. И никто друг друга не убил. И никто не захотел стать властелином мира, хоть персональным, хоть коллективным. Имей в виду, мы ведь не только это читали. Много другого тоже. И «за», и «против». Выбор, как видишь, сделали…
– Потому я и решил иметь с вами дело. С самого начала. С Воронцовым познакомился, проверил, кто он такой и чем живёт. Направил его к вам. Тоже неплохо получилось. Лариса, при всем её своеобразии и первоначально острой к вам неприязни, в первый же вечер с вами совпала. Наталья, наполовину придуманная Дмитрием, наполовину мною… Даже – Сильвия без особых душевных терзаний перешла на вашу сторону. А дальше уж вы сами систему выстраивали. Братство…
– Люди одной серии, – грустно усмехнулся Новиков. – Значит, всё правильно. Только смысла как-то маловато. Сами поразвлекались, да и то сомнительно, а человечеству с этого что? Спасали мы его? А может, без нас и спасать бы нужды не было…
– Глупость говоришь, – строго перебил Замок. – Люди на фронтах умирали, вообще не зная, чем через три года час или день, выигранный на безымянной высоте, обернётся…
– Возвышенно, – сказал Шульгин, опять закуривая, словно Штирлиц, для стимуляции специфического воображения. – Неужто сам так мыслишь или подобный психологический заход в набор стандартных программ входит?
– Мы эту тему, кажется, с самого начала обсуждали, – без обиды ответил Замок. – Впрочем, если ты всё же вернулся туда, то всё правильно…
Новиков, услышав эти слова, вдруг с удивлением ощутил, что на самом деле поменялся. Вот прямо только что. Ощущения стали ярче, впечатления от окружающего – непосредственнее, а воспоминания подёрнулись сепией времени, как фотографии на старинной бумаге «Бромпортрет». Механическое это вмешательство в его нервно-психическую деятельность или нечто вроде нейро-лингвистического программирования? «Вы бодры и веселы. Вы полны сил. Все ваши проблемы ничего не значат. Вы радостны, вы счастливы, вы здоровы!»
Не так грубо, конечно, но методика схожая.
Или всё же как с Натальей? Сначала Замок внутри себя её смоделировал, Воронцову предъявил для проверки степени соответствия, а потом эту идеальную матрицу на реально существующую, очень даже не идеальную женщину наложил. Внешность каким-то образом «подрихтовал», воспоминания подтёр, черты личности какие ослабил, какие усилил. А главное, внушил, что весь смысл её существования – это быть рядом с Воронцовым, верной женой и надёжной подругой на всю жизнь. А остальное, что она получила (Наталья ведь сама заметила, что спать легла самой обычной, перевалившей за всё те же роковые тридцать одинокой женщиной «нелёгкой судьбы», а проснулась доброй красавицей, в этот же день встретившей своего «капитана Грея»), – это как приложение к любви и награда за верность. Верность, тоже слегка придуманную. В настоящей жизни она отнюдь не монашествовала, но в зачёт пошло то, что в её памяти давнишний курсант Фрунзенки остался самым лучшим из всех бывших у неё мужчин.
А сейчас Замок начал манипулировать уже ими?
Впрочем, глупое слово, ставшее вдруг очень модным среди «креаклов». Убедить человека, что правильнее служить и при необходимости голову сложить «за друга своя», чем сдаться в плен и пойти в полицаи, – это манипуляция?
Или манипуляция – это только когда «лоха разводят на бабки»? Но в любом случае очень многие на вид умные люди при любой попытке довести до них информацию, расходящуюся с общепринятой в их кругах, начинают тут же кричать о «манипуляциях». На самом деле речь идёт совсем о другом.
– Неужели вы так до сих пор и не поняли, что всё, что вы делали, в основном – по собственной воле…
– В основном? – тут же прицепился к слову Шульгин.
– Конечно, в основном. Часто обстоятельства вмешивались, но решения вы всё же сами принимали. Так я продолжу? Всё, что вы делали, в итоге оказывалось на пользу. Вам и людям. Те, что в Югороссии сейчас живут, могли бы вовсе не существовать, кто от голода и «испанки» умер бы, кто в эмиграции сгинул. А они благодаря вам живут, на благо Отечества и счастливо. Да и в оставшейся РСФСР сейчас получше, чем при «едином СССР». А это же вы создали те миры.
В Отечественную войну на сколько миллионов людей благодаря тебе, Андрей, и Берестину больше выжило? И насколько послевоенная история гуманнее будет? Ежова вовремя устранили… Сталину характер чуть поменяли… Не зря же его в нынешнее время даже на ГИП всё больше людей добрым словом вспоминают. И какого вспоминают? Тобой Андрей, и тобой, Саша, придуманного, а не того, что на самом деле жил. И так далее, по мелочи. Не могу сказать, что хоть где-то от вашего вмешательства стало хуже. С отдельными личностями, конечно, по-разному случилось, но история такими категориями не оперирует… Выходит, мы не ошиблись.
– Мы? – спросил Новиков.
– Мы, – согласился Замок. – Я и Антон. Перед тем, как Воронцова пригласить и в ваши разборки с агграми вмешаться, думали – стоит ли? Не лучше ли уничтожить изобретение Левашова, избавить тебя от общения с Ириной, вычеркнуть Берестина, застрявшего в парадоксе? Вся ваша литература утверждает, что самое главное – не допускать аборигенов до современных технологий. Ле Гуин, «Планета изгнания», и культовая – «Трудно быть богом»…
– Верно, – согласился Новиков. – Я когда «Трудно быть богом» прочёл, с нашим историком заспорил. Он тоже Стругацкими увлекался и с Руматой был вполне согласен. Нельзя, мол, лишать цивилизацию её собственного пути и выбора. Я его и спрашиваю: а как тогда с Монголией? С Киргизией, Казахстаном, Тувой? Мы ж их из самого глухого феодализма в социализм затащили, минуя целую историческую формацию, а то и две. Вооружили, свою систему управления установили, ненужным им наукам обучать стали, заводов понастроили и кочевников к станкам приставили, в космос запустили – это можно? Он чего-то плёл-плёл, а потом закончил, как положено: «Не занимайся демагогией. Тут – исторический материализм, а там – фантастика»…
– И ты тут же вставил: «А там – базовая теория феодализма. Почему у нас «базовой социализма» нет?» – то ли спросил, то ли констатировал Шульгин.
– Верно, вставил. Но он на меня «стучать» не стал, махнул рукой и ушёл, прекратил дискуссию.
– Ну и почему же вы инструкции нарушили? – вернулся к исходной теме Новиков.
– Да потому что сами такие же. Антон среди своих «диссидент», за что и бессрочный срок получил, я… – тут он замолчал, не стал распространяться, но Сашка с Андреем вольны были догадаться, что на каких-то уровнях и Замок по отношению к другим… Замкам? Или иным каким структурам – тоже инакомыслящий.
– Молодцы. Значит – наверняка разумные существа, если поперёк инструкций и приказов идти умеете, – без всякой иронии сказал Новиков.
– Спасибо на добром слове, – поблагодарил Замок. – Решили мы, одним словом, оставить всё, как есть, и посмотреть, в какую сторону дела повернутся. Признаться, всем давно надоела эта бесконечная партия… Представляете – шахматная партия на тысячеклеточной доске, без ограничения времени.
– Представляем, – кивнул Шульгин.
– Не ошиблись мы, – со странной интонацией сказал Замок. – Намного интереснее стало. И не только нам. Главное – вы сумели ухитриться не использовать почти ничего, что могло бы кардинально перевернуть историю, точнее – её законы, и законы природы заодно. Почти всё время на краешке допустимого удерживались. Не поверите – ни в одном из известных мне миров с таким не сталкивался.
– Так это ж не мы такие идеальные, – заскромничал Шульгин, – это, наверное, просто национальный характер в его идеальном воплощении…
Новиков, не сдержавшись, хохотнул. Разговор получался интересный, и спешить было совершенно некуда. Что ли, пива какого-нибудь суперкласса взять, прямо из пивоварни? Впрочем, это успеется, лучше разобраться прежде, к чему Замок сей симпозиум затеял. Многолетняя привычка – страх опоздать. Неизвестно куда, неизвестно зачем.
– Ты тоже по собеседникам соскучился? – спросил Андрей. – Или действительно дело есть? Может, мы сейчас в чужие забавы зря ввязываемся? Фёст с Секондом, и кому ещё интересно, пусть продолжают, а мы в сторонку отойдём? На «Призраке», как собирались, вправду сплаваем кругосветку… А у них… Дайяна вот в игру на нашей стороне включается. Девочек её полторы сотни, со всеми своими умениями и способностями такие интриги завертеть могут… Что там Сильвия с Ириной…
– Не торопись. Каждому своих забот хватит. А вы, раз к собственному миру прикоснулись, довели бы дело до конца…
– До какого конца? Двусмысленно звучит, не находишь?
– До естественного. Наверное, с детства помните слова товарища Сталина. После пятьдесят шестого года вдруг забыли, что это он сказал, но всё равно повторяли от имени Партии: «Социализм, так сказать, победил у нас полностью, но не окончательно, поскольку до тех пор, пока существует капитализм, возможны всякие варианты… Необходимо избавиться от капиталистического окружения…»
– Прав товарищ Сталин оказался, – мрачно сказал Шульгин, а Новиков начал вспоминать, действительно ли тот такое говорил или это потом уже придумали «спичрайтеры»? Впрочем, у Сталина спичрайтеров не было, он и речи и книги сам писал.
– Так ты нам что, предлагаешь заняться реставрацией социализма? – удивился Андрей, так и не вспомнив. – Не потянем, точно знаю. Нету, как говорится, непримиримого конфликта между производительными силами и производственными отношениями. А также и «партии нового типа», способной возглавить такое мероприятие. А без партии – никак. Братство не потянет… – повторил он слово, очень в данном случае уместное.
– Нет такого у меня в мыслях, – если бы у Голоса были руки, он бы возмущённо замахал ими. – Социализм должен вызреть в недрах общества, а не экспортироваться извне. Сами видите, как некогда осчастливленные братья не только к социализму, но и к вам ко всем, к России относятся. Идея моя прямо противоположного характера. В рамках прямого противостояния социализма и капитализма социализм не выстоял. Почему – сейчас обсуждать не будем. А если наоборот? Сначала стать сильнее всех на свете, а потом уже посмотреть, способен ли капитализм выстоять «во враждебном окружении».
– Во враждебном – это в чьём?
– В вашем. Почему вы никак не можете выйти из дихотомии – капитализм-социализм? Создайте новую формацию, в которой вы окажетесь сильнее…
– «Что будет после коммунизма?» – мы дискутировали об этом в десятом классе, пока диспуты ещё поощрялись, – сказал Шульгин, но в глазах его что-то блеснуло. Замок сумел его зацепить…
– Сарториус старается возвратить феодализм, точнее – неофеодализм, – как бы продолжая мысль друга, сказал Новиков.
– Он может стать вашим помощником, – ответил Замок. – И Катранджи тоже. Всё, чем занимаются они, – это Не-капитализм, а значит, до поры до времени они на вашей стороне. А чем будет новая формация – я и сам сказать не могу. В тех мирах, что я знаю, не только законы физики другие, там и марксистское понимание истории отсутствует, как и сама история…
– Интересно. – Новикову немедленно захотелось выяснить, как может выглядеть мир, где не существует истории, пусть и не марксистской, пусть по Ясперсу или Тойнби… Но он решил, что актуальнее сейчас другое. – Интересно, но я всё равно не врубаюсь, на что ты нас сейчас толкаешь…
– Вы же занимаетесь сейчас вместе с Фёстом и Сарториусом Ойямой и вообще Америкой?
– Так… Но…
– И ваша конечная цель?
– Как будто ты не понимаешь. Предотвратить войну. В идеале – добиться полного равноправия. Как у Высоцкого «И что нам с Америкой драться? Левую нам, правую им, а остальное – китайцам», – улыбнулся Шульгин, вспомнив песню времён «культурной революции» и советско-китайского конфликта.
– Не получится. Америка с Россией на равных сосуществовать не могут. Россия бы смогла, но они – нет. А главное – не захотят. Вывод?
– Ceterum censeo Carthaginem esse delendam[39], – словно на уроке латыни в институте отрапортовал Шульгин с великолепным произношением уроженца Палатинского холма. Восьмидесятипятилетний преподаватель-полиглот Василий Михайлович был бы доволен.
– Верно. Катон в конце концов своего добился. А вы чем хуже?
– Ну, я не знаю. Задачка сложновата будет, – ответил Новиков, соображая, что именно хочет от них Замок. Америку он мог бы уничтожить и сам. Ещё до её возникновения, ему это раз плюнуть.
– С какой стороны посмотреть. Я ведь не зря вам напомнил, что вы очень деликатно пользовались оказавшимися в распоряжении артефактами. В основном как средством транспорта, аптечкой «Скорой помощи» и бесплатным супермаркетом. Верно?
– Куда вернее. С одной стороны, опасались, как бы чего не вышло, а с другой – неспортивно как-то. Что за интерес велосипедную гонку на мотоцикле выиграть или значок альпиниста перед строем получать, поднявшись на Эльбрус вертолётом? – подтвердил Андрей.
– А если противник в засаде с пулемётом, а ты из спортивного интереса желаешь его пращой поразить, как Давид Голиафа, хотя «Шмель» под рукой имеется? А рота на голом поле лежит и ждёт, попадёшь ты пулемётчику в лоб или он тебя положит, после чего начнёт твоих бойцов на выбор крошить, очередями и одиночными…
– Научился образно выражаться, – покрутил головой Шульгин и снова потянулся за сигаретой. – Я тебя правильно понял: «Мочите их всех, а я освобождаю вас от химеры, именуемой совестью»?
– Мне с самого начала очень нравился твой стиль мышления. Иначе бы и начинать сотрудничать не стоило. Подумай сам – в состоянии сейчас нынешняя Россия при нынешнем руководстве и экономическом положении без войны поставить Америку на колени вместе со всеми её союзниками? – Замок как бы даже усмехнулся.
– Сомневаюсь, – вместо Шульгина ответил Новиков. – Думаю даже, что и теперешние противники Америки перебегут на её сторону, когда увидят, что вся мировая конструкция рушится. О чём останется мечтать угнетённым неграм Африки и московским интеллигентам, если исчезнет морковка перед носом? Выйдет – не выйдет, а надежда есть: вырваться из своей Уганды или «Рашки», переплыть океан, получить грин-карту, сесть на велфер и любоваться прибоем в Майами. Не станет морковки, и что? До конца дней махать кетменём на плантации, сидеть в офисе и сознавать, что именно ты «тварь дрожащая», и никакого «права» не имеешь и иметь не будешь…
– Совершенно верно. А раз Россия сейчас выиграть не может и Запад с ней не справится, то в лучшем случае сохранится зыбкое равновесие, «мирное сосуществование» до очередного «кубинского кризиса». Значит, вопрос надо решать кардинально. Всего-навсего использовать возможности Братства, оно у вас теперь вполне солидно доукомплектовалось, а главное – всю вашу технику по полной программе. Сколько раз вы между собой обсуждали: «А что, если…»? – Замок опять «усмехнулся».
Новиков согласился, что да, обсуждали и не раз признавали, что почти любую проблему, встающую перед ними, вообще перед человечеством, способны решить с помощью СВП, дубликатора, Шаров и блок-универсалов. А их, с присоединением к Братству Дайяны и её контингента, у них теперь уйма. Андрей даже не знал, сколько именно, но несколько сотен – точно. Да роботы Валгаллы. А это значит… На самом деле хоть с Америкой, хоть со всей Землёй сразу можно сделать что угодно. Можно. А дальше?
Случайно ли и аггры, и форзейли, и сам Замок бог знает сколько столетий использовали только «Стратегию непрямых действий». Значит, предвидели непредсказуемые последствия и опасались их.
– А ты об этом не беспокойся. Как раз сейчас опасаться нечего. Я просчитал – это самый безвредный на данный момент вариант. Вы можете и угрозу войны ликвидировать легко, и всю мировую карту перекроить – сил хватит. Возьмётесь?
– Взяться – проблем нету, – привычным жестом снова пожал плечами Шульгин. – Сколько раз нас Антон так разводил. Теперь ты лично взялся. Антону не доверил вербовку?
– Какая вербовка? Я вам разве что-то необычное или бесчестное предлагаю? Вы же без моего совета, как только вернулись, сразу в эти дела сами полезли. Довели ситуацию до кризиса…
– В чём кризис? – тут же спросил Новиков, просчитывая в уме свои последние действия и прогнозируемые последствия. – Ходов на пять-шесть вперёд партия смотрится хорошо. Конечно, если на той стороне играет Алёхин или Капабланка…
– А если просто сумасшедший? Или авантюрист вроде Остапа? Наберёт полную горсть фигур и… – Замок не хуже самого Андрея умел доводить до финала невысказанную мысль собеседника.
– Вариант, – согласился Новиков. – Так кризис-то в чём?
– Ойяма не справится с ролью. Всей помощи, что вы запланировали, не хватит. От покушений вы его прикроете. Сарториус подключит все свои каналы. И – без ощутимого результата. То есть, конечно, в пределах своей компетенции он сделает всё, что вы прикажете, но выстраивающаяся реальность уже за пределами его и всей его организации компетенции. У них же не получилось переиграть вас и ликвидировать Олега?
– Не получилось, – согласился Шульгин. – А мы ведь действовали только «в пределах возможности». Разве что корниловцев послали на помощь Великому князю «через два мира». Остальное – чистый реализм.
– И у вас «в пределах возможного» не получится. США – это ведь не Третий рейх какой-нибудь, и не СССР даже. У них я даже не знаю, что за личностью нужно быть, чтобы двухсотлетнюю «программу» поломать. Вы у дуггуров побывали. Всё поняли?
– Основное постигли – там с Высшими вы что-то решать можете, а с низшими – никак. Инстинкты убеждением не перебьёшь. Так и американцы. Как только их президент начнёт делать «не то» и его даже поддержат какие-то силы, у всех остальных включится другая программа, замкнутая, скажем, на «Билль о правах». Или на прецедент времён войны Севера против Юга. И получите вы гигантское гуляйполе с никому не подчиняющейся армией, сотнями баз по всему свету, с ядерным и термоядерным оружием. И…
– Я понял, – сказал Новиков. – Значит, если мы имеем дело с огромным роем человекообразных насекомых, нужно парализовать нервные узлы у каждого, не вступая в дискуссии?
– Образно говоря – так. Но как это будет выглядеть на практике…
– Я уже почти знаю, как, – встал с кресла Шульгин, как бы подчёркивая этим свою готовность и решимость. Походкой Юла Бриннера подошёл к бару, в его же манере налил две оловянные стопки виски. Толчком руки послал одну вдоль стойки, указал пальцем на неё Новикову.
Андрей тоже подошёл. Ему было интересно, что за ход изобрёл Сашка. Наверняка способный удивить даже Замок. Какая он ни суперличность с бесконечным объёмом памяти, а наверняка до полноценного Держателя, а может, даже и Кандидата в чём-то недотягивает. Иначе зачем бы он всё время возвращался к ним со своими идеями, не реализуя их лично. Не хватает ему самой некоей малости, чтоб ощутить себя на равных с человеком. Так здоровенный мастиф или «кавказец» без труда может загрызть любого человека, но под правильным взглядом успокаивается, прижимается брюхом к земле и дружелюбно машет хвостом.
– Только скажи сначала, как дальше быть с «Мальтийским крестом» и всем к нему относящимся?
– А в чём вопрос? Пусть всё идёт, как идёт. Ваши товарищи с Англией разобраться сумеют, а когда вы здесь закончите, объединение ещё легче пойдёт…
– Ну, тогда хорошо, – согласился Шульгин и выцедил свой «золотоискательский» стаканчик. – Мы с Андреем сейчас пойдём к себе, отдохнём немного и какой-никакой плантик набросаем. Нельзя же сразу, с бухты-барахты. Я так думаю, Ойяма, Лютенс, Арчибальд пусть всё, что мы уже наметили, делают. А мы из-за плеча станем партнёрам в карты заглядывать и прикуп менять, по обстоятельствам. Я всё же не люблю оглоблей крушить, когда можно финкой обойтись. А всё, что нужно, мы сделаем, не беспокойся. Только по-своему, ты уж извини…
– На это я, как вы наверняка догадались, и рассчитываю, – снова изменившимся, спокойным и даже чуть-чуть просительным тоном ответил Замок. – Вам ведь только направление обозначить нужно, верно?
– Бывает, что и с «обозначением» не всегда хорошо складывается. «Он шёл на Одессу, а вышел к Херсону»[40], помнишь? Но мы постараемся не заблудиться…
Глава пятнадцатая
Далеко Воловича не отправили. Десять маршей вниз по широкой чугунной лестнице с ажурными ступенями, накрытыми ковровой дорожкой, и изящными перилами в стиле «модерн». Но пролёт на уровне каждого этажа перекрыт частой металлической сеткой. При страховом обществе «Россия» такого не было, это уже новые хозяева устроили, чтобы, значит, подследственные вниз головой не бросались, уклоняясь таким способом от справедливого наказания пролетарского суда. А то поначалу имели место «прецеденты». Сам Савинков ухитрился, правда, не в пролёт бросился, а в открытое окно шестого этажа. Так с тех пор окна тоже снабдили небьющимися стёклами и следят, чтоб в основном запертыми были.
Десять маршей – это пять этажей, значит. И на первом – довольно просторная площадка, массивная дубовая дверь вправо, в общий коридор, а влево – тоже тяжёлая, прочная, но без резьбы и накладных украшений. За ней – явно недавно изготовленная, без всяких декадентских изысков решётка, причём не сварная из арматуры (это Михаил машинально отметил), а собранная из довольно небрежно выкованных прутьев квадратного сечения и полос в два пальца шириной, сквозь которые прутья были продеты. Что скажешь – тюрьма всё же, а не Оружейная палата, и век двадцатый в самом начале, весь пронизанный пережитками девятнадцатого и восемнадцатого тоже.
За решёткой вниз вела лестница уже обычная, каменная, с простыми перилами.
Сопровождающий нажал белую фарфоровую кнопку звонка в простенке между дверью и решёткой, после чего та не открылась автоматически, как ждал Волович. Видимо, это был просто условный сигнал, чтобы, к примеру, охрана не начала стрелять без предупреждения. Немолодой конвойный с четырьмя треугольниками в петлицах достал из кармана приличных размеров ключ, похоже, тоже кустарной работы, трижды провернул его в накладном, большом, как том энциклопедии, замке.
Волович вздрогнул. Верно писал кто-то: «Лязг тюремных запоров ни с чем не спутаешь и никогда не забудешь». Второй раз он вздрогнул и испытал приступ тошноты, когда за ним закрылась дверь камеры.
Вот и убедился он на личном опыте, что столь презираемый им «русский народ» гораздо более креативен, чем весь цвет «объединённой оппозиции», теперь уже «бывшей». «От сумы и от тюрьмы не зарекайся» – когда ещё догадались предки о наличии такой закономерности и облекли её в литературную форму. До сих пор к себе он эту поговорку не примеривал, да и вспоминал её не часто. Уверен был, что уж кого-кого, а «самогó Воловича» власть тронуть не посмеет. Американский посол не позволит. А вышло всё не по его, а согласно народной мудрости.
В «приёмном покое» его даже обыскивать не стали. Чего ради? Вешаться или вены вскрывать захочешь – дело хозяйское. Без тебя здесь жили и дальше проживут. Чего-то, пригодного для рытья подкопа сквозь полутораметровые стены фундамента, в кармане не пронесешь. Это только в романе Хмелевской героиня творит чудеса с помощью заколок и роет тоннель пилочкой для ногтей. И вообще новичок пока что не осужденный, не подследственный и не административно-арестованный, а так. Постоялец.
Корпусной[41] выдал ему тонкий, но почти новый матрас, набитый ватой, две серые простыни, тоже ватную подушку размером чуть больше среднестатистической головы в профиль, синее колючее одеяло с жёлтой надписью «ноги» с одного края. Забота, однако, а также указание на то, что предшественники могли, в большинстве своём, ложиться под это одеяло без простыни, с неизвестно когда мытыми ногами.
Впрочем, когда, кривясь от брезгливости, Михаил спросил: «А насекомых у вас тут нет?» – надзиратель глянул на него коротко и недобро:
– У нас – нет. А у тебя – сейчас проверим.
И Воловича отправили в так называемый «санпропускник», где фельдшер предпенсионного возраста с тремя кубиками в петлицах велел ему раздеться догола, грубо, но быстро и сноровисто, как цыган лошадь на базаре, осмотрел, и в рот заглянул, и в другие места. Ткнул пальцем в свисающий волосатый живот.
– Так и запишем – «зеркальная болезнь». Нуждается в казённой диете. Семён, – без паузы крикнул фельдшер, и на пороге возник парень явно из заключённых, судя по манерам – не исполняющий наряд, а пристроившийся здесь на постоянную должность.
– Как обычно. Постричь, побрить, если что – политанью[42] смазать. Мыла ему дегтярного плесни и ветошь кинь какую-нито. А ты, слышь, – повернулся он к Воловичу, – на волю передай, чтоб мыла хорошего прислали, мочалку, полотенце. А то у нас здесь не Сандуновские бани с пивом и девочками… Из собачки мыло-то у нас, дохлой причём.
Захохотал собственной шутке и тут же потерял к пациенту всякий интерес. Не стесняясь, полез в медицинский шкаф в углу, нацедил в мензурку прозрачной, характерно пахнущей жидкости.
– Это не тебе, – уловил он взгляд Михаила. – Ты своё надолго отпил, если, упаси бог, не навсегда…
Теперь журналист, выбритый «везде», распространяя вокруг себя действительно жутковатый аромат грязно-серого мыла и напоминающей об аде и всём ему сопутствующем лечебной мази, сидел на узкой шконке, опершись локтями о железный, покрытый жёлтым линолеумом столик под полукруглым окном у самого потолка. Через частую решётку были видны край асфальтированного приямка, краснокирпичная стена и узкая, ровно в ладонь, полоска голубого неба над краем крыши. Да и то, чтобы увидеть эту полоску, надо было присесть и сильно вывернуть вбок шею.
Сама же камера была размером чуть-чуть больше вагонного купе. Как раз настолько, чтобы на цементном возвышении поместилась «чаша Генуя»[43], сильно пахнущая хлоркой, и медный водопроводный кран над полукруглой раковиной с обколотой эмалью.
Михаил тихо плакал, вспоминая об унижениях, пережитых в течение этого, так хорошо начавшегося дня, и думая о том, что ждёт его впереди. Вдруг да и придётся сдохнуть здесь, то ли завтра, то ли через много-много лет, и никакой аббат Фариа не придёт скрасить его одиночество.
Слёзы текли по пока ещё полным и гладким щекам, попадали на губы, он чувствовал их вкус, но не вытирал глаз. Со слезами, говорят, горе быстрее уходит.
Действительно, минут через десять жизнь ощутимо повернулась к лучшему. Брякнула дверца «кормушки», и в камеру заглянул надзиратель.
– Фамилия? – заученно спросил он, хотя только что сам записывал Михаила в толстую амбарную книгу химическим карандашом.
Волович назвался.
– Инициалы полностью. И вставать надо, деревня, когда к тебе обращаются. Ну ничего, научишься ещё. На шконке днём сидеть можно, лежать нельзя. Тоже запомни. Передать тебе велено… – Он протянул в окошко коробку папирос, такую же, как лежала на столе у Агранова, и коробок спичек, непривычно большой, не картонный, а из тонкого шпона. С красной надписью «Доброфлот» и изображением кособокого биплана. И спички в нём были втрое толще обычных, с крупными красными головками. Терка на боках коробка похожа на наждак. Видать, фосфорный состав требует куда больше энергии для воспламенения, чем почти веком спустя…
– Слышь ты, Волович, – как-то понизив голос, сказал надзиратель, – дай папироску попробовать. Дорогущая, нам на такие не разориться. Только ты смотри молчи, что я просил. Сам угостил, и всё. А за мной не заржавеет, не боись. На прогулку пойдём, я на часы особо смотреть не стану…
«И здесь коррупция», – привычным штампом подумал Михаил и тут же сообразил, что вещь-то эта в его положении очень даже неплохая. «Коррупция» в смысле. Я тебе – дарёную папироску, ты мне – лишние полчаса прогулки. А если б строго по правилам всё – кому от этого лучше?
Корпусной удалился, чтобы покурить «господскую» папиросу сидя, со всей неторопливостью. Десять лет «пролетарской» власти для него ничего не значили. Как были «чёрная кость» и «господа», так и остались. Кто-то из первых превратился во вторых и наоборот, иные остались при своих. Видел он бывших жандармских ротмистров с нынешними «шпалами» и ромбиками. А он, надзиратель с двадцатилетним стажем, как сторожил, кого пришлют «сверху», так и сторожит. И его уж точно с сидельцем хоть из восемнадцатой, хоть из любой другой камеры местами не поменяют.
Следующий раз, когда толстяку «настоящую» передачу принесут, нужно будет намекнуть, чтоб целой коробкой поделился. Хороши папироски, в меру крепки и духовиты.
Выкурив две папиросы подряд и слегка успокоившись, Волович начал размышлять конструктивнее. Что случилось – случилось, теперь надо в этой жизни устраиваться. Даже и в тюрьме одни живут хорошо, другие так себе, третьи – совсем плохо. И Шаламова он читал, и Солженицына. Других – тоже. Правда, те о лагерях писали, а здесь – следственная тюрьма. «Внутрянка». Особо не развернёшься. Хотя, слышал он и такое, – специальных соседей в чужие камеры подсаживают. Когда из заключённых «стукачей», когда «сотрудников». Или просто послушать, о чём люди говорят, или на психику в интересах следствия повлиять. Выгоду и здесь получить можно. Правда – и это он тоже слышал – убивают иногда таких «наседок», так совсем дурных, наверное. Кто его здесь, с такой внешностью и такими манерами, за банального стукача примет?
Но это – предложить должны. Самому напрашиваться – заведомо продешевить.
Тут же мысль соскользнула на параллельную тему. «Продешевить» – это из области товарно-денежных отношений. А как тут вообще с этим? Кроме одной-единственной двадцатидолларовой бумажки из «параллельного мира», у него не было совсем ничего. Ни часов золотых (их теперь Агранов, наверное, носит), ни обручального кольца. Если даже на волю выйдешь – двадцать долларов не деньги, новую жизнь с ними не начнешь…
И вдруг Михаила как кувалдой по голове стукнуло! Какие двадцать долларов, о чём он?
Те, что он на Столешниковом утащил и Лютенсу показывал, – да, из «другого мира»! Но – этого ли? Там уже двадцать первый век идёт. И история двадцатого какая-то другая. Насколько он успел узнать, никаких «двух Россий» и красного диктатора Троцкого в мире Вяземской и её подруг не было. Император был. Олег Первый. А здесь – наша «настоящая» история, персоны всё известные, просто небольшая развилочка на исходе Гражданской войны образовалась. Так с какого же… здесь та бумажка из «будущего» деньгами окажется?
Волович, торопливо докурив и бросив окурок на пол (пепельницы ведь не дали), снял туфлю, извлёк из-под стельки вчетверо свёрнутую купюру. Развернул, просто так уже, для очистки совести.
Стоп! Это что такое? Денежка была явно не та. Ту он тщательно рассматривал, и сам, и с Лютенсом. А эта походила на прежнюю только размером. Цвет – серовато-белый. Дизайн – примитивный, можно сказать. Как на коленке делали. Никакого президентского портрета, даже просто картинки какой-нибудь, типа как на евро – нету. На вексель банковский больше всего похоже. Но – номинал тот же – двадцать! И вот написано – «Подлежит размену на золото по цене 0.1 тройская унция за один доллар САСШ». Это ж что получается? Подменили купюру, когда сюда выбрасывали? Позаботились, чтобы был у него капитал, основной и оборотный? Не просто мстили, значит, а операцию внедрения проворачивали? Оч-чень интересно!
А второй вариант? Если в квартире на Столешниковом – выходы в три разные реальности, и в совершенно одинаковых кабинетах стоят одинаковые секретеры, но набитые разными валютами, «имеющими хождение» за пределами этого странного помещения, так, может, при переносе Воловича и деньги под нужную реальность подстроились? Автоматически. Или – магически.
Абсурд вроде бы. А всё остальное – не абсурд?
Лучше вот что прикинем. Если это – настоящие здешние деньги и «Торгсин» их принимает, как упомянул Ляхов и как описано у Булгакова, например, то какой выходит курс?
Насколько Волович помнил, царский золотой рубль содержал что-то около ноль восьми десятых грамма. Советский золотой червонец нэповских времён – старому был равен. Весил, значит, тоже восемь граммов. Будем считать – и здесь так же. Зачем иначе? А тройская унция – это примерно тридцать два грамма? Тогда один доллар – три и две десятых. Значит, какой получается курс? Да, почти три доллара за червонец. Двадцать долларов – почти семь золотых. Само по себе звучит. Но, не зная текущих цен, нельзя понять, много это или мало. А чего гадать-то?
Перевернул папиросную коробку. Всё есть, марка, где изготовлены, когда… Ишь, ты! Ростов. Донтабак. Товарищество на паях. Ну да, Ростов ведь здесь вроде у белых? Импорт, значит. Да и откуда в средней России хорошему табаку взяться? Самосад да махорка. А вот цена не указана. Ну да, конечно, НЭП, свободное ценообразование…
Постучал в «кормушку» на двери.
– Эй, корпусной…
Послышались неторопливые шаги.
– Чего вам?
Ишь ты, на «вы» теперь, значит. Тоже хорошо.
– Возьмите, любезнейший, ещё папироску. Даже две. Только подскажите, совсем запамятовал, сколько такой «Дюбек» сейчас стоит? Я вообще другие курю. Вроде и незачем знать, а зудит… В тюрьме о чём только не думается.
– Это верно, – согласился надзиратель, прихватывая из коробки три. Мол, кто считает.
– Чего ж не подсказать, подскажу. «Дюбек», значит, этот – сорок, смотря, где брать. Да тут только за коробку с бумажками золотыми – полцены. А в россыпь не продаются. Заграничный товар, чего хотите? Желаете, как сменюсь, приобрету для вас? И курева, и чего там ещё нужно. Если денег дадите. Да вы не сомневайтесь, у нас без обмана. И инструкция дозволяет. Если не изъяли – можешь тратить, на запрещённое нельзя, да. А так можно…
Волович отметил разговорчивость надзирателя. Вроде б ему по должности молчать больше полагается. А с другой стороны – правила внутреннего распорядка разъясняет. Обязанность, наверное.
– Денег нет пока. Но, может, с воли передадут. Дозволяется?
– Можно, если не «лишенец» вы. Пять рублей в месяц можно.
– Благодарю. А сколько, к примеру, сейчас самые дешёвые папиросы стоят? Я, сам понимаешь, дешёвых не курил, а сейчас… Пятёрка всего, говоришь, в месяц. Не разгуляешься.
– Можно и разгуляться, – хмыкнул надзиратель. – Смотря, к чему кто привык. У меня вон жалованье – двадцать шесть целковых с двугривенным. Да двенадцать за выслугу. При казённой кормёжке и одёже. Вот и считай – что много, что мало. А папиросы самые дешёвые – рассыпные «Ира» – три копейки десяток. Только горлодёристые больно, и табак сыплется. А если для экономии, но чтоб вкус хоть какой – «Север» рекомендую. Сам их курю. За полтину сотня. А если кто уважает – махорка. И духовито, и карману не накладно. Копейка – четверть фунта.
«Чёрт его знает, – подумал Волович, – припрёт – и до махорки скатимся. Копейка всего!».
– Спасибо, уважаемый. А прогулка у нас когда?
– Прогулка вам сегодня не положена. Только завтра. Когда сопроводиловка с литерой режима содержания придёт. А пока просто отдыхайте. Ладно уж, до отбоя разрешаю на шконке полежать. Только если услышите – засов на входе гремит, – сразу вставайте. Налетит проверка со шмоном, то есть – карцер могут прописать. А мне – замечание. Совсем нам это не надо.
Надзиратель оглянулся, хотя в коридоре никого не было, и ещё понизил голос:
– У нас в случае чего и водочкой разговеться можно. Но только в выходной, когда на допросы не зовут и проверок не бывает. Целковый бутылка.
Волович удивился странному соотношению цен на табак и спиртное. Но спросил иначе:
– А чего ж так дорого-то?
Ясно, что надзиратель цену загоняет «по обстоятельствам», а настоящая-то какова?
– За риск, барин, да за услугу. Как в кабаке хорошем – вдвое от магазинной. По-божески, я так считаю…
– Да-да, по-божески. Но пока денег нет, говорить нечего…
– Тогда отдыхайте, барин.
Михаил с облегчением улегся на жесткую шконку и принялся размышлять о причудах нэповского ценообразования и тюремной экономики. Надо же – главная тюрьма страны, а такие вольности! Впрочем, он вспомнил: двадцатые годы, после конца Гражданской, вообще были достаточно вегетарианскими. На Соловках вон, журнал зэки издавали, и подписаться на него можно было в любой точке страны. И, тоже читал у кого-то, там передовикам и политическим в лагерном ларьке водку по выходным продавали.
Просидел в своей камере Михаил ровно трое суток, бросаясь, словно циклотимик[44], из отчаяния в надежду и обратно. Часто плакал от жалости к себе и несправедливости этого мира, вдруг повернувшегося к нему своей омерзительной харей. Будто забыл, что неоднократно в своих статьях и выступлениях в «той жизни» неистово хаял безвыходность российской действительности, то болото, в которое погрузилась страна и выбраться из которого поможет только очистительный огонь всенародного бунта. Неважно, что «бессмысленного и беспощадного», главное – единственно способного смести ненавистную власть.
А иногда ни с того вдруг веселел, убедив себя, что терзания его долго не продлятся, ибо справедливость на земле всё же есть и такой человек, как он, не только не сгинет в пучине безвременья, но будет возвышен и чем-нибудь облечён, а враги, напротив, посрамятся и расточатся…
Раньше никогда бы он не поверил, но на второй день вдруг вспомнил знаменитую «молитву Серафима Саровского»[45] и твердил её часами, до полного отупения.
На допросы его отчего-то не вызывали, хотя прочих соседей по коридору – постоянно выводили. С шести утра и до отбоя по коридору гремели сапоги конвойных и гораздо более тихие шаги подследственных. Голосов почти не было слышно – надзиратели говорили шёпотом и в основном – внутрь камер, через кормушки, чтоб остальные не слышали. А заключённым на переходе между камерой и кабинетом следователя запрещалось не только говорить, но и поднимать глаза выше задников сапог идущего впереди «выводного».
На прогулки Михаил ходил в специальный загон на крыше, обнесённый решёткой, перемотанной колючей проволокой. Домов выше «Лубянки» поблизости не было, разве что с колокольни «Иван Великий» в бинокль можно было бы сам этот забор рассмотреть, а за ним – просто смутные колеблющиеся тени человеческих фигур. Гулял он всегда один, час перед обедом и полтора, а то и два перед ужином.
Кормили в принципе сытно, но пищей, какой Волович не ел, считай, никогда. Припахивающие гнильцой мутные щи из квашеной капусты и прошлогодней картошки, перловая или гречневая каша с кусками хрящей и отдельными волокнами неизвестно чьего мяса. Чёрный, кисловатый хлеб, далеко не «Бородинский», фунт к обеду. Утром и вечером ещё чай, жидкий, конечно, но с куском рафинада в половину спичечной коробки. Хочешь – в кружку бросай, хочешь – так грызи. И опять тот же хлеб, но – по полфунта.
Папирос ему больше не передавали, и на второй уже день красивая жизнь кончилась. Раз или два удавалось стрельнуть у корпусного тот самый «Север», просто так, а на третий мужик предложил сменять на две папиросы пустую коробку от «Дюбека». Михаил сначала удивился, потом вспомнил из читаных книг, что в нынешние времена, да и попозже такие коробки, как и спичечные этикетки, имели у пацанов определённую меновую стоимость. Вот и этот решил подарок детям или внукам сделать. А что – вещь! Одна золотая фольга как красиво блестит и шуршит! Волович не растерялся и запросил пять. Корпусной помялся, но согласился.
Довольный первым коммерческим успехом в этом мире, журналист растянулся на шконке и не спеша закурил, растягивая удовольствие. Дрянь порядочная, если вспомнить тот же «Давидофф», но куда денешься, если «уши пухнут»?
После завтрака четвёртого дня замок камеры лязгнул в неурочное время.
– Волович? – соблюдая ритуал, уточнил корпусной и, убедившись, что клиента за минувший час не подменили, объявил: – На выход. С вещами.
«С вещами» – значит, сюда он больше не вернётся. На волю, на этап или в расстрельный подвал, как повезёт, но данный жизненный цикл завершился.
Вещей у Михаила не имелось никаких, но ритуал есть ритуал.
Идя по коридору, Волович посетовал, что не оказалось в тюрьме «бытовой комнаты». Его кое-как выстиранный, жёваный костюм очень бы неплохо было проутюжить как следует, глядишь, прибавилось бы респектабельности. А так – не бомж, не бродяга, а чёрт знает что. «Бывший интеллигентный человек», как раньше выражались, коротко – «бич».
Ничего не объясняя, вывели в передний, примыкающий к воротам «на волю» двор, не то чтобы втолкнули, но не очень деликатно подсадили в тюремный фургончик на базе какого-то здешнего «Форда» или «Ганомага», установленный на такие хлипкие колёса со спицами, что было удивительно – как «это» вообще может ездить, не рассыпаясь на составные части.
Стенки у «чёрного ворона» были фанерные, правда, стянутые изнутри железными полосами. Но всё равно – не впечатляло, несмотря на то что на таких именно «самобеглых колясках» людей вполне успешно довозили до расстрельных полигонов. Или «полигоны» – это из другого будущего, сталинско-ежовского? Как бы там ни было, но Михаилу стало очень не по себе. Слегка успокоило, что сопровождающий сел вперёд, рядом с водителем, оставив «узника совести» наедине со своими страхами и этой самой «совестью», на узкой деревянной скамейке перед зарешёченным окном без стекла. Чтобы не задохся, наверное, и не угорел от выхлопных газов, которые ощутимо натягивало в «салон».
Ехали с полчаса. Экипаж нещадно трясло на неровном булыжнике, сменившем брусчатку центральных улиц. За окном тянулись ряды одно– и двухэтажных домов, причём среди вторых было много «комбинированных» – низ каменный, верх бревенчатый или из тёса, крашеного или простого, посеревшего от дождей и времени. Замоскворечье.
Волович плохо представлял, где в двадцать седьмом году кончалась Москва «с нижнего края». У Калужской заставы, кажется. А дальше что? Варшавское шоссе, Чертаново, Бирюлёво – в те времена глушь едва ли не домонгольская. Не зря улица, которой они сейчас ехали, называлась Ордынкой. Дорога в Орду, то есть!
Однако машина вдруг свернула направо, и Михаил увидел далеко впереди плохо гармонирующие с прочим ландшафтом конструкции Крымского моста. Не доезжая, свернули налево, примерно вдоль границ будущего Парка имени Горького (если его надумают здесь построить).
Проехали ещё с полверсты и остановились возле краснокирпичного пятиэтажного дома-громадины, похожего на гигантский сундук и за счёт высоты потолков сравнимый с современными Воловичу десяти-, двенадцатиэтажками. Дом был вплотную окружён всё теми же райцентровского вида строениями, на многих из которых видны вывески вроде «Моссельпром», «Мясная лавка», «Керосин и сопутствующие товары». Последнее слегка Михаила развеселило. Он все же был стилист. Какие товары сопутствуют керосину? Движки трактора «Фордзон-Путиловец»? Лампы? Фитили? Жестяные бидоны? Или бензин, лигроин, соляр, прочие продукты перегонки нефти?
Надо будет зайти, узнать, если представится возможность.
«Воронок» объехал дом по периметру и остановился у одного из подъездов.
– Выходи, – бросил конвоир, отпирая снаружи обычный висячий замок.
– И где это мы? – осведомился Волович, тщетно пытавшийся вспомнить, видел ли он здесь этот дом в своё время. Это сейчас он господствует над местностью, а потом мог и потеряться в новой застройке. Или – снесли. И не такое сносили в «эпоху реконструкции». Сухареву башню, например, храм Христа Спасителя. Хотя – зачем? Дом он и есть дом, добротный, стены кирпичей в пять, да, пожалуй, и больше. Века простоит.
– Третий Дом профсоюзов. А на верхнем этаже – общежитие сотрудников. Велено там разместить…
– Это что ж меня к сотрудникам вдруг причислили? – удивился Михаил. – Неужто заслужил? Без собеседования, без отдела кадров?
На отвлечённые темы конвоир, несмотря на рубиновый кубик в петлицах, рассуждать, очевидно, не умел.
– Ага, как же! Держи карман. Вот тут в пакете всё про тебя расписано. Кому надо – прочитают. А на словах сказано, что «поселяется под гласный надзор». Чтобы, значит, не заморачиваться. Всегда под рукой будешь…
Волович вздохнул. Надзор так надзор. Он помнил, что в «старое время» был ещё и «негласный». Но всё же по-любому не тюрьма. А, можно сказать, первый шажок вверх по неизвестно куда ведущей лестнице. Будет правильно себя вести – глядишь, в писари произведут. Хотя рукой он писать давно разучился, да и на «Ундервуде»[46] практики никакой.
Ладно, нужда научит.
Сам по себе «гласный надзор» оказался вещью совсем не страшной. Комендант общежития, бойкий румяный парень с лёгким акцентом коренного московского татарина: «Товарищ Хурматулин, можно просто Фёдор, Фетхулла вам не выговорить» – отвёл его в самый конец коридора, отпер крашенную ядовито-синей краской невысокую дверь. На жестяном овале номер – «77». Надо же – счастливый!
За дверью оказалась комната настолько странная, что Михаил сразу и не понял. От двери к полукруглому окну – проход метра четыре длиной и полтора шириной. Чуть выше, чем в рост человека. А по сторонам – крутые скосы, повторяющие форму крыши, по бокам от слухового окна[47] спускающиеся почти до самого пола. В одной из образованных скосом ниш, правой – казарменная тумбочка и узкая железная солдатская кровать, без всякой пружинной сетки. Просто на поперечных прутьях – настил в три доски, поверх – матрас типа тюремного. Правда, подушка попышнее, не пуховая, конечно, но и не ватная. С пером. И одеяло приличное, двойное байковое, оранжевого какого-то цвета, с синими полосками.
Слева в такой же нише – навесной фанерный шкафчик, фанерный же конторский однотумбовый стол и обшарпанный венский стул.
Чтобы лечь на койку, нужно сначала сесть на неё, потом повернуться и ноги вытянуть. Тюремная камера даже поудобнее была, полных двенадцать квадратов, успел шагами измерить, потолок хоть и сводчатый, но трёхметровый, а здесь полезной площади восемь едва наберётся. А ходить – как трамваю по рельсам – от двери до окна и обратно.
– Что, не нравится? – весело спросил комендант. – А на двенадцать коек номерок не желаете ли? Однако велено в отдельной поселить. И ещё удобно – сортир и умывальник как раз напротив, не придётся до другого конца полста саженей лупить, когда припрёт. – Фёдор весело рассмеялся. Похоже, его всё в этой жизни радовало. – И не воняет совсем, у нас чистота, в очередь все дневалят. Твоя очередь не скоро дойдёт, аж в конце того месяца. Повезло тебе, тот, кто перед тобой здесь жил, – успел отдежурить. Ладно, пошли со мной…
В конторке коменданта Волович получил две бязевые простыни и наволочку, с чёрными инвентарными номерами, оттиснутыми, наверное, Кузбасс-лаком[48], а также пропуск на вход в общежитие. Он уже обратил внимание, когда только вошёл, что у толстенной дубовой двери стоял часовой с кавалерийским карабином без штыка. Да и комендант был при пистолете неизвестной Воловичу модели, в большой бурой кобуре толстой, почти подошвенной кожи.
– У нас строго. Раз ты не сотрудник, а поднадзорный – выход разрешён с семи утра, возвращение – не позже восьми вечера. Опоздаешь – на первый раз наряд вне очереди, потом можно и в карцер. Совсем ночевать не придёшь – найдут и обратно вернут, откуда привезли. Дошло?
Волович грустно кивнул. Имея в виду перспективу возвращения в тюрьму. А ночная московская жизнь его пока не интересовала.
– Да ты не бзди! – утешил его Хурматулин. – Жизнь у нас клёвая. А тебе так особенно. На службу не ходить. Гуляй, жри да спи. «Пока не требует поэта к священной жертве Аполлон!»
Волович уставился на коменданта в полном изумлении.
– Чего пялишься? Думаешь, ты тут один умный, а прочие пальцем ковыряются? Сам знаешь, где. Я два класса медресе и три класса ремесленного кончил. Пушкина много чего наизусть знаю. Теперь смотри сюда. Вот талоны на питание. – Он протянул с десяток скреплённых вместе листов голубой рыхловатой бумаги, из которой в давние, едва сохранившиеся в памяти времена делали билеты в кино. И с такими же отрывными полосками «Контроль» по правому краю. Даже с перфорацией. Но нанесённой вручную, специальным зубчатым колёсиком на деревянной ручке.
– Завтрак, обед, ужин. Время указано. И число. Опоздал – голодный. И назавтра не отоваришь. Померла так померла. – Снова жизнерадостный смех. – Столовая на первом этаже, со стороны Москва-реки. Вот это – талоны на махорку. Десять пачек в месяц. Бумага для закрутки – своя. Лучше всего – с отрывного календаря. Курительная – дорого. Газетная – горло дерёт, и вредно – свинца много.
Волович подивился такой заботе.
– И – вот тебе. От товарища Менжинского на мелкие расходы. Ежемесячное пособие.
Комендант протянул три жёлтые рублёвые бумажки, похожие на те, советские, только в два раза больше и вертикального расположения реквизитов.
– В каком смысле? – не понял Михаил.
– В том самом. Заботится о тебе председатель ОГПУ. Как раз месяц два раза в день на трамвае проехать хватит. Это рупь восемьдесят. Газету почитать захочешь – ещё по две копейки в день. Ну и попить вдруг в городе потребуется. Три стакана в день без сиропа или один – с сиропом «Свежее сено». – Фёдор опять чему-то засмеялся. – Из реки пить не советую, из уличных фонтанов – тоже. А ты же не верблюд, так?
Пришлось согласиться, что именно «не верблюд». В каком угодно смысле. И подивиться чётко отмеренной заботе Вячеслава Рудольфовича, товарища Менжинского.
– А здесь у вас КВЧ[49] есть?
– Есть, как без этого, – удивился комендант.
– Газеты, журналы получают?
– Обязательно. Названий не меньше десяти…
– Вот, выходит, тридцать копеек я уже сэкономил. На пиво, скажем. А?
– Хорошо сообразил, – хлопнул ладонью по столу комендант. – Только смотри, сильно не напивайся. Так-то можно, а на рогах приползёшь… Сотрудникам – гауптвахта, а тебе даже и не знаю. Карцера недельку можно отвесить? – предположил он.
– Много на тридцать копеек напьёшься… – нейтрально сказал Волович.
– Да на Хитровке самогоном два раза в хлам нажраться можно.
– Два раза не выйдет…
– Почему? Как раз, – проявил знание предмета комендант.
– Один раз напьёшься, на второй раз денег не оставят. Отнимут, – вспомнил очерки Гиляровского Михаил.
– Тоже верно соображаешь. Тогда там купи, принеси, а здесь, дома, и выпьешь, чтоб никто не видел…
В общем, содержательно поговорили. Волович напоследок спросил: можно ли где-то здесь погладить костюм?
– Да, он у тебя, как из вошебойки. Рядом с сортиром бытовая комната. И сапоги почистить, подшиться, погладиться. Прям счас и иди. Утюги с утра, наверное, ещё горячие.
Таким образом, Волович узнал, что такое «паровой утюг», тяжеленное сооружение, раньше виденное только в Политехническом музее, да и то очень давно. Угли внутри на самом деле остыть не успели, и кое-как «интеллигент» справился с этим чудом технической мысли прошлого века, а не позапрошлого, как было бы ещё вчера. Поучил гладить через мокрую тряпку его совсем молоденький парень с двумя кубиками в васильковых петлицах, надраивавший пуговицы «Асидолом» через картонную полоску с прорезями, защищавшую сукно от ядовитой, резко пахнущей нашатырём мази.
Посмотрел на себя в зеркало, скривился от вида остриженной «нулевой» машинкой головы и отсутствия привычных усов, прошёлся сапожной щёткой по туфлям и отправился «покорять Москву». Решив, что первым делом нужно купить кепку или фуражку, бугристой лысиной сверкать неудобно, да и не ходят здесь без головных уборов.
Агранов эти же три дня тоже маялся, хотя и по-своему. Загадочный подарок ему покоя не давал. К тому, что «Андреевское братство» ему зла не желает, он давно привык. Какое уж тут зло? Сначала не убили, хотя могли целых три раза, и вполне за дело. Пощадили, перевербовали, возвысили, гарантировали, при сохранении лояльности, все возможные жизненные блага и удовлетворение любых разумных потребностей, как материальных, так и духовных, карьерных в том числе. Даже организовали несколько поездок в Югороссию, на отдых в Крым и Кавказские Минеральные Воды. В деньгах не ограничивали.
Вот в свой мир, мир далёкого будущего, не пускали. С самого начала Андрей Дмитриевич объяснил, что свойства мироздания таковы, что, попав к ним, обратно он уже вернуться не сможет. А это Якову было совсем ни к чему. Здесь он на месте, достиг всего, чего мог возжелать в самых бредовых мечтах тогда, до революции. А в будущем что? В качестве музейного экспоната жить прикажете? Пьесу Маяковского «Клоп» он прочитал, одобрил, разрешил к постановке и для себя соответствующие выводы сделал.
«Каждый человек необходимо приносит пользу, будучи употреблён на своём месте». Вот именно, на своём.
Но с появлением Воловича устоявшаяся жизнь словно бы дала трещину. Агранов не понимал смысла происшедшего, и это беспокоило, как периодонтитный зуб, словно бы выступающий из десны и при каждом удобном случае, при разговоре даже, цепляющийся за противостоящие и за язык, отчего простреливает болью, не очень сильной, но изматывающей своим постоянством.
Стоит ли верить Ляхову, сказавшему, что журналист ссылается в прошлое навечно и поступить с ним Яков может по своему усмотрению. Найдёт в изгнаннике какую-нибудь для себя пользу – хорошо. Нет – пусть хоть под забором сдохнет.
Как раз в это опытный чекист поверить не мог. Даже и на собственном примере видел, что «кадрами не разбрасываются». Каким бы негодяем на самом деле ни был опальный журналист, едва ли «Братство» стало так заморачиваться, хоть из гуманных соображений, хоть из прямо противоположных. Если не посадили и не расстреляли, значит – имеют на него определённые виды.
Сослали сюда. Зачем? Просто «укрепить» кадровый резерв? Нам он на хрен собачий не нужен, а тебе пригодится? Верится, но с трудом. В качестве агента «глубокого залегания»? Бессмысленно. Агранов и так «с потрохами» принадлежит «Братству», ни следить за ним не надо, ни держать при нём «серого кардинала».
Не вникая, есть ли вокруг другие, работающие независимо от него агенты «Братства», начальник ГУГБ знал, что во всех его делах полностью осведомлена Лариса Юрьевна, аппарат которой, гласный и негласный, пронизывал всю систему управления РСФСР. Даже к товарищу Троцкому она входит «без доклада».
Как и её муж, «товарищ Левашов». Но тот занимается лишь «особо важными делами», да и то словно нехотя. Без азарта. Однако – до невозможности умный человек. Недавно представил проект первой в мире радиостанции «Новый Коминтерн» с круглосуточным вещанием на весь мир, а сейчас, говорят, подумывает над передачей с Шуховской башни движущегося изображения. Целый институт создал во главе с инженером Зворыкиным, за большие деньги выписанным обратно из Америки.
Кстати, и военную форму для Красной Армии и ОГПУ вместе со знаками различия предложил Троцкому тоже Левашов. А в политику совсем не лез, хотя Агранов знал, что он входит в самую верхушку руководителей «Братства».
Якова вдруг осенило – девушка с карточки, что носил с собой Волович, неуловимо похожа на Ларису Юрьевну. Лицо, вроде совсем другое, прочие стати, но если раздеть Левашову и посадить в той же позе рядом с Вяземской – не ошибёшься: по глазам, по повороту головы – из одного гнезда птички. Да и взгляд, не сказать чтобы совсем уже… но скромности в нём – абсолютный ноль.
Агранов, как уже говорилось, обладал богатым (моментами даже слишком) воображением и, представив себе Ларису Юрьевну в позе Вяземской, немедленно её возжелал, причём со страшной силой. Тут в нём, видимо, сказалась кровь «двоюродных братьев», саудовских арабов-салафитов, именно так реагирующих на каждую европейскую, да и любую другую женщину без хиджаба, паранджи и прочих деталей туалета, защищающих нравственность мусульманских мужчин.
Вот где, наверное, недостижимый предел его возможностей – днем, при солнечном свете, хотя бы даже в этом кабинете, неторопливо раздеть смутно улыбающуюся и щурящую свои глаза дикой пантеры «товарищ уполномоченную» и приступить… Чтобы она от страсти визжала, кусалась и царапалась. А потом посадить её, укрощённую и расслабленную, с растрёпанными волосами и сумасшедшими глазами, на колени, и поить своей рукой северянинским «шампанским с ананасами».
Как там дальше?
Если бы такое случилось, Агранов наверняка избавился бы от единственной занозы в душе, мешавшей ему в полной мере наслаждаться отпущенной ему жизнью. Потому что Лариса Юрьевна была красивейшей женщиной из всех, что он знал, и единственно совершенно недоступной. Точно как полная луна на полночном небе. Совсем вот рядом вроде бы, ан нет.
Когда тяга к Левашовой становилась непреодолимой, а это случалось каждый раз, когда им приходилось встречаться, по делу или случайно где-нибудь в кабинетах Совнаркома, Коминтерна или ЦК, Агранов вызывал по телефону для доклада в личный конспиративный номер гостиницы «Савой» (всего полсотни шагов вниз по Пушечной от Главной конторы) известную Лилию Брик-Каган, подругу и музу всё того же Маяковского, пятнадцать лет посвящающего ей все свои стихи и отдающего почти все гонорары. Не зря поэт перед смертью признался: «Мне и рубля не накопили строчки!»
Эта женщина, против чар которой не мог устоять почти ни один «богемный» человек в обеих столицах и далеко за их пределами, сначала передавала чекисту накопившиеся материалы к досье добрых двух десятков выдающихся деятелей литературы и искусства, на словах излагала свежие слухи и сплетни. А уже после этого он с ней воплощал в жизнь самые раскованные фантазии, что вызывала у него роковая Лариса Юрьевна. Брик ни от чего не отказывалась, знала, на сколь тонкой ниточке держится её благополучие.
А вот, оказывается, существует на свете и ещё девушка, пособлазнительнее Левашовой. Глядя на снимок, телом и лицом – безусловно «да», но вот интересно, способна ли она при личном общении пробуждать тёмную, безумную, колдовскую страсть? Судя по поведению Воловича и замусоленности фотографии – очень даже вполне. И она там наверняка не одна такая. Не бывает, чтобы все – обыкновенные, затрапезные, и вдруг среди них неизвестно откуда расцветает такой бутон…
Агранов хрустнул суставами пальцев, выругался, отгоняя наваждение, подошёл к раскрытому в сторону Китай-города окну. Прикурил от пляшущего в руке огонька спички. Чёрт, разволновался, хоть опять сексотку вызывай. Нельзя так распускать воображение! Но постой-ка, братец, сказал он сам себе. Что-то в неуместных, казалось бы, не по чину и возрасту даже мыслях промелькнуло рациональное. Очень какая-то тонкая, вроде осенней паутинки зацепка. Потянув за которую, очень осторожно, можно… А что можно?
Разобраться, кто и что есть «товарищ Волович» и для чего его сюда сунули. Главное – не спешить. Мысль не спугнуть. Что тут за связь вдруг возникла – Волович, его девка на карточке, Лариса… Лариса! Вот. И совсем не в том смысле, что обычно, она пришла сейчас на ум. Совсем даже наоборот.
Но пока нужно хоть приблизительную картинку происходящего выстроить. Что мы на данный момент имеем?
В качестве шпиона Волович «Братству» здесь не нужен. Других хватает. И по характеру на «полевого агента» не тянет. Трус. Слабохарактерный. В камере часто плакал, причём не на публику, а будучи уверен, что его никто не видит. Хорошие агенты, напротив, в подобной ситуации моментами сбрасывают маску, выходят из образа. Поганенького, честно сказать, в данном случае образа. Трудно даже и вообразить, как и для чего подобный можно использовать.
Но как бы там ни было, он сейчас здесь. Итак?
Не шпион. Да и те, кто его забрасывал, отлично знали, что с его легендой свободы, нужной для результативной разведработы, не получить и через годы. Всегда будет и на примете и на крючке.
Агент-провокатор? Опять не годится. Кого и как он может провоцировать? Если бы действительно имело место противостояние между РСФСР и Югороссией, тогда да, «агентура влияния» нужна. А если налицо кукольный театр, напоказ Западу и для удержания в узде собственных слишком рьяных «коммунистов». На самом деле Троцкий запросто встречается с Врангелем лично, часто общается по специальной телефонной линии, и любые сколь-нибудь серьёзные внешне– и внутриполитические шаги, включая повестки партийных съездов, тщательно согласовываются и с ОСВАГом[50], и с представителями «Братства»…
Размышления с торопливым хождением вдоль и поперёк необъятного кабинета, прерываемым остановками у конторки в углу, за которой Агранов, как это было широко распространено в девятнадцатом и начале двадцатого века, любил работать стоя. Считалось, что это полезно для позвоночника и спасает от геморроя. Яков бегло набрасывал толстым синим карандашом одному ему понятные схемы и писал обрывки каких-то фраз, просто для фиксации мелькающих на разных уровнях сознания идей и образов.
Он ведь действительно был очень умным человеком – Новиков с Шульгиным в нём не ошиблись с самой первой встречи. Начальник ГУГБ из Якова получился прямо отличный, не хуже того же Берии или германских коллег – Гейдриха с Шелленбергом. Причём фантазии у этого было даже больше, плюс глубокая любовь к искусствам, своеобразно преломлённая. Да и Удолин по своей линии не стал бы водиться, с кем попало. И сейчас Агранов выстраивал интересную и непротиворечивую схему предназначения и использования Воловича, рассуждая одновременно и за Ляхова, приславшего сюда журналиста, и за себя.
Конструкция вырисовывалась до крайности интересная. Весьма многослойная. Если всё сойдётся, у Агранова появятся исключительные возможности контролировать само «Братство»! Не в том смысле, конечно, как «Братство» контролировало его, но – хотя бы быть в курсе многих вещей, которые от него скрывают или просто не доводят до сведения.
Глядишь, в итоге и он сможет повести дела так, что ему предложат должность внутри организации, а не послушного исполнителя вне её, пусть и сколь угодно высокопоставленного.
Примерно такая же разница, как между капитаном британской разведки и курируемым им магараджой Джайпура. Хотя, с другой стороны, магараджой быть, пожалуй, всё же приятней. Но это можно обдумать позже.
Агранов, наконец, отбросил карандаш, собрал все исписанные и исчёрканные листы и убрал их в сейф, оставшийся от прежних хозяев. Изготовленный в 1897 году на заводе Крейтона в Або[51], он был настолько просторен, что в него нужно было входить, чтобы воспользоваться одним из десятка «несгораемых» шкафов поменьше, похожих на вокзальные автоматические камеры хранения будущего. В сейфе имелись освещение, вентиляция и, как современное дополнение – спецтелефон. Гораздо более секретный и «прямой», чем тот, что стоял у него на приставном столике у письменного стола.
Для смелости, точнее, чтобы унять внезапно возникшую внутреннюю дрожь, он открыл крайнюю дверцу, где был спрятан небольшой бар, или, как принято говорить здесь – буфет. В отличие от своего несостоявшегося преемника – Ежова, Яков считал дурным тоном прятать бутылки со спиртным в книжном шкафу, за томами Маркса и Ленина. Налил чуть больше ста граммов тоже получаемого из Югороссии армянского коньяку, «дёрнул» без закуски, закурил. Два вентилятора в потолке мгновенно вытягивали дым. Присел к откидному столику, снял телефонную трубку. Набрал на передней наклонной панели с большими квадратными кнопками три цифры.
Пошли гудки, низкие и мелодичные, совсем не те, что в московской городской и кремлёвской сетях.
После пятого абонент ответил.
– Здравствуйте, Лариса Юрьевна, – сказал Агранов, предварительно сглотнув слюну. – Вы меня извините, что я так, по собственной инициативе…
– Ничего страшного, Яков, в чём вопрос? – от её журчащего, низковатого для местных женщин голоса у главного чекиста ёкнуло сердце и бриджи стали тесными. Привычно, как много лет подряд.
– Мне кажется, что нам с вами нужно встретиться. Немедленно. Лучше – прямо сейчас. Вы позволите, я к вам подъеду?
До её резиденции в бывшем особняке одного из богатейших купцов старой России и одновременно мецената не хуже Третьякова или Щукина, на углу Гоголевского бульвара и Сивцева Вражка, ехать было минут пятнадцать всего. Агранов несколько раз там бывал и всегда восхищался великолепными интерьерами и коллекцией картин и скульптур. Особняк этот, не разграбленный в первые послереволюционные годы, а, наоборот, находившийся под усиленной охраной, Троцкий широким жестом подарил Левашову и Ларисе под представительство «Союза друзей РСФСР» (была и такая «крыша» у «Братства»).
– Это так срочно? – в голосе Ларисы прозвучали, как показалось Агранову, игривые нотки. Этим она всегда его поражала и ещё больше возбуждала. Посередине крайне серьёзного, даже жёсткого разговора вдруг могла как-то двусмысленно улыбнуться, состроить глазки, полностью сбивая собеседника с мыслей и настроения. Или – наоборот, шутить, улыбаться и неожиданно сказать такое, от чего прошибал холодный пот и хотелось спрятаться под стол.
– Мне кажется – да. Я…
– Если «кажется» – это серьёзно. Креститься не нужно. И ко мне ехать не нужно. Я сейчас не дома. Сама приеду. Минут через сорок. Устроит?
– Конечно, Лариса Юрьевна. Ещё раз простите, что осмелился…
– Кончай вы… Яков, – отчётливо выговорила непечатное слово Лариса. Именно – в своём стиле. Приведя собеседника в замешательство. Лицом к лицу такой приём ещё лучше действовал. Свободным и совершенно непринуждённым (правда, только с глазу на глаз) употреблением непечатной лексики она как бы ставила себя перед начальником ГУГБ в положение римской аристократки, не стеснённой по отношению к нижестоящим абсолютно никакими условностями.
– Ты не приказчик и не лакей. Ты – сам знаешь, кто. И веди себя, исходя из этого. Я буду не одна. У меня к тебе тоже вопросы есть…
И положила трубку.
Агранов криво улыбнулся и вернулся в кабинет. Позвонил в комендатуру и распорядился о переводе Воловича в общежитие и неусыпном за ним наблюдении не менее трёх опытных «филёров», по старорежимному выражаясь.
– А то своей головой его голову заменишь, – пообещал Яков начальнику третьего отделения секретно-политического отдела.
Вытянулся на диване, заложив руки за голову, и стал ждать.
«Какие это, интересно, у неё ко мне вопросы? То не было, не было, а стоило самому позвонить – и вдруг появились. Ладно, послушаем. То, что она меня обматерила, – хорошо. Ещё раз подчеркнула, что видит во мне достойного сотрудника. Человека на своём месте. Но – не одна явится! С кем же это?»
«Представительница» прибыла, как и обещала. Ровно через сорок минут. Пришла, как всегда, «без доклада», то есть и внизу её пропустили беспрепятственно, и помощник в приёмной не осмелился «товарища Левашову» задержать хоть на полминуты, чтобы начальника предупредить.
Вошла, одетая как бы и по здешней моде и по погоде за окном, но неуловимо нездешняя. Туфли на невысоком каблучке сшиты лучше, чем московские сапожники умеют. Чулки цвета хорошего чая искрятся на ногах и обтягивают их с немыслимым изяществом. Не шёлк, другое что-то, но ведь не спросишь между прочим. Он вообще избегал прямо смотреть на её ноги, бёдра, грудь. В глаза – это пожалуйста. Мы люди одной профессии, нам скрывать нечего. Плащ вроде как чесучовый, рыжеватый с искрой такой, пояском туго подпоясан. Глаза и губы едва-едва подкрашены, почти незаметно, но оттеняет. Волосы тоже подстрижены похоже на здешнее «каре». Да вот не так выглядят. Попышнее гораздо, подлиннее, и тонкая прядка этак поперёк правой брови пущена! Если прошла пешком в этом виде хоть несколько кварталов по московским улицам – завтра все модницы с ног собьются, что-то подобное себе соображая. Только – куда им!
А за ней – вот уж кого совсем бы не хотел видеть Агранов – вошёл Кирсанов Павел Васильевич. Красавец мужчина гвардейской выправки, с пронзительными синими глазами и бледным лицом, кое-где почирканным шрамами.
Официально – полномочный представитель Международного комитета помощи нуждающимся, а также Красного Креста и Нансеновского комитета по правам человека. Придумают же такое! Всем, кому надо, известно – обычный он бывший жандармский ротмистр, ныне – югоросский полковник, кавалер многих орденов и Первопоходник. Заодно состоит при Левашовой начальником собственной её милости Службы безопасности.
Не доверяет всё же ОГПУ Лариса Юрьевна, не верит, что никто её здесь пальцем не тронет. Или – не только её личной безопасностью занимается коллега, но и в фаворитах состоит? Такой может! Говорят, перед семнадцатым годом у него серьёзная интрижка с одной из Великих княгинь была. Потому и не расстреляли ту княгиню в сибирских шахтах, а сумел жандарм её спасти и вывезти за границу, и сейчас она в Париже блистает в салонах «спасёнными от большевиков» бриллиантами.
Ну а теперь, вполне возможно, Левашовой помогает тоску разгонять. Известно же – на того только можно положиться, кто тебя искренне любит. Как вон Потёмкин «матушку Екатерину».
Зависть к полковнику, допущенному к телу, сдавила горло Агранову. Даже захотелось расстегнуть пуговицу гимнастерки на вороте.
Кирсанов бегло осмотрел кабинет, подошёл к открытому окну, выглянул, потом сел боком на широкий подоконник, достал из кармана синего в тонкую красную полоску костюма золотой портсигар. Какие носят все члены «Братства». Только монограммы на крышках рисунком отличаются и сортом драгоценных камней.
Лариса Юрьевна тоже такой постоянно при себе имеет то в сумочке, то в кармане плаща. А однажды по летнему времени, надев сарафан без карманов, в чулок портсигар прятала, Яков не упустил намётанным глазом. Сигареты заграничные изумительного аромата в нём держит. Угощала Агранова несколько раз.
– Ну так что у вас тут случилось? – подходя вплотную и протягивая для пожатия руку, спросила Лариса. На тонком запястье полыхнул сразу несколькими бриллиантами интересный браслет.
– Сейчас доложу, – сказал, осторожно пожимая её ладонь, Агранов. Мог бы и не так уж осторожно, кисть у дамочки сильная, явно не вышиванием и игрой на пианино тренированная.
– Присаживайтесь, – указал он на кресла возле журнального столика в углу между глухой и торцевой стенами. – Чаю желаете, кофе или ещё чего? И вы, Павел Васильевич, сюда идите, что вы там…
– Мне – кофе. Павлу Васильевичу можно и «ещё чего»… – благосклонно ответила Лариса, прошла к креслу и села, закинув ногу на ногу. Так закинула, что пришлось совсем отвернуться, якобы – вызывая помощника из приёмной.
Распорядился насчёт угощения, углом глаза посмотрел, поправила ли гостья юбку? Да, чуть одернула, прикрывая колено и то, что дальше. Слава богу, а то ведь мысли совсем разбегутся. И так в брюках непорядок, хорошо, что гимнастёрка длинная, по последней военной моде.
– Так что, Яков Саулович? – вместо Ларисы спросил бесшумно подошедший Кирсанов. – Что-то действительно серьёзное случилось? Поделитесь, не томите. По моим данным, «На Шипке всё спокойно»[52].
Глава шестнадцатая
То, что отвечать приходилось Кирсанову, Якову совсем не понравилось. Он ведь рассчитывал на приватный разговор с Ларисой Юрьевной, надеясь самым аккуратным образом обыграть тему Воловича для получения новой информации и, возможно, с её помощью добиться дальнейшего упрочения своих позиций. А присутствие Кирсанова переводило ситуацию в некую другую плоскость.
Так-то они с Павлом Васильевичем состояли в превосходных отношениях, случалось, даже выпивали «не по-детски», но вот когда он и Лариса являются к нему вместе, без предупреждения, тут стоит задуматься. И ещё Агранова раздражало и обижало, чего скрывать, то, что вот жандарм этот – из местных, из аборигенов времени, а принят в «Братство» (или только в «Союз пяти», как часто называли действующее в этой реальности подразделение?), а ему, при всей его безупречной службе, такой чести до сих пор не оказано.
– Если б действительно случилось что серьёзное – я бы и доложил, как положено, – ответил Агранов, в собственном кабинете стараясь держаться хозяином положения. – Просто непонятность некая наблюдается, вот я и решил посоветоваться, всего лишь. С вами, Павел Васильич, с вами, Лариса Юрьевна, – он, не вставая, изобразил полупоклон и даже руку к сердцу поднёс, – с Александром Ивановичем и Андреем Дмитриевичем у нас давние отношения, с вами со всеми у меня тоже неясностей не возникало. Или решались они не отходя от кассы… – Агранов употребил новое, с наступлением НЭПа возникшее выражение, при старом режиме и тем более – военном коммунизме его не было. Стало оно вдруг очень популярным, и вкладывалось в него намного больше, чем первоначально подразумевалось в ничем не примечательных табличках в магазинах: «Проверяйте деньги, не отходя от кассы».
– А тут контакт у меня с Вадимом Петровичем Ляховым произошёл, и не совсем я понял, в чём суть вопроса… – Агранов старался изъясняться предельно аккуратно, чтобы и тени нелояльности к одному из «братьев» не прозвучало, и в то же время присутствующие поняли, кого именно чекист считает своими настоящими руководителями.
– А не понял – чего же не переспросил? – тонко улыбнулась Лариса, давая понять, что пилотаж Якова поняла и оценила.
– Да особо и времени переспрашивать не было. Сначала и мысли такой не возникло… Звонок сверху – сами понимаете! В общем, давайте я по порядку, с самого начала, если вы не очень торопитесь.
– Нет, нет, не беспокойся, не торопимся, – успокоил Агранова жандарм. – Всегда приятно и полезно пообщаться с информированным человеком. Вот и сейчас…
Он поудобнее расположился в кресле, раскрыл портсигар, взял сигарету, а его так и оставил на столике, повернув, как бы невзначай, полированной внутренней крышкой к чекисту. Поднял за ножку хрустальную рюмку. Здесь коньяк ещё не догадались наливать в большие бокалы.
Агранов до сих пор не сумел выяснить истинных пристрастий этого человека. По одним данным из вполне информированных источников, Кирсанов чуть ли не монашествующий – не курящий, не пьющий (вообще), к женскому полу (как, впрочем, и к мальчикам) – безразличный. То есть ни в борделях его не наблюдали, ни в самых респектабельных «Домах свиданий», где инкогнито предавались изысканному разврату «мадамы и мадемуазели» из лучших партийно-советских и нэповских семей. Постоянной любовницы из местных у него здесь тоже не было, такие вопросы начальник ГУГБ лично держал на контроле.
А по собственному опыту общения знал, что Петр Васильевич и выпивал с удовольствием, и покуривал, но крайне аккуратно. Без фанатизма. Его шутка о том, что алкоголь в умеренных дозах полезен в любых количествах, с подачи Агранова разошлась в руководящих кругах, хотя её автором считали самого Якова.
Он весьма детально передал свой разговор с Ляховым и всё, связанное с Воловичем, с момента его появления на берегу речки Сходни вплоть до сего момента. Включая результаты наблюдений в тюремной камере и аккуратного ночного обыска. Про обнаруженные в башмаке двадцать долларов Агранов тоже сказал.
– Что же тебя так встревожило? – спросил Кирсанов, по лицу которого Агранов понял, что шутки кончились и «полковник» заинтересовался вопросом всерьёз.
– Да вот всё вместе, по совокупности. Я ж на своём месте уже семь лет сижу, плохо ли, хорошо… Кое-чему подучился, – ответил Агранов с некоторым намёком на гораздо более долгий профессиональный опыт собеседника.
– Раз сидишь, значит – хорошо, – успокоила его Лариса Юрьевна и снова поменяла ноги местами. Изумительный приём, чтобы сбивать человека с мысли и настроя, правда – не всем доступный. Ещё точнее – доступный-то всем особам женского пола, только в ряде случаев могущий вызвать совершенно противоположный эффект.
– Смысла! Смысла в этой акции не вижу, так, как она проводится. Ни с какой стороны. Вы все меня знаете – что приказано будет, то и сделаю, или обеспечу… Не захотели там сами этого репортёришку кончать – скажите. Разъясним[53] в лучшем виде. В тюрьме передержать, сколько нужно – то же самое. На любом режиме, к вашим услугам. Работой обеспечить, хоть по специальности, хоть на лесоповале – в наших силах. Даже побег за границу устроить можем, в целях дальнейшего внедрения. А тут… – Агранов развёл руками в горестном недоумении.
– И денежка эта. Откуда бы она у него там взялась? Я человек осведомлённый, но только в пределах своей компетенции (счёл нужным подчеркнуть Яков). Никто мне не говорил, но могу догадаться, что граница между нами и вами охраняется получше, чем у нас эстонская или финская. Даже мне за неё прогуляться не доверили (ещё один как бы случайный проговор, понимаю, мол, всё, не смею спорить, но слегка обидно всё же), а деньги, значит, отсюда туда проникают. Но зачем они там, если хождения, из всего следует, иметь не могут?
– Хороший анализ, Яков, – профессиональный, – одобрил Кирсанов, так и не выпивший свою рюмку, ухитрявшийся крутить её в пальцах, ни капли не проливая. Просто престидижитатор какой-то. – И что у нас в науке логике после анализа следует?
– Да вроде синтез, если пока других партийных указаний нет, – сострил Агранов.
– Вот вы не поверите, Лариса Юрьевна, – снова повернулся к даме Агранов, – я ведь не то чтобы в правомочности товарища Ляхова усомнился, я только вообразил, так, в порядке свободного полёта…
– Учебного, – вставил Кирсанов.
– Простите?
– Это там, – жандарм махнул рукой в сторону окна, – один писатель афоризмами балуется. Так у него написано: «Многие не возвращаются на базу даже из учебного полёта воображения»[54]. Но ты продолжай…
– Что – вообразил? – спросила Лариса.
– Да вот о вас именно и вообразил. Про вас про всех. И Павла Васильевича тоже. Вы ведь в наше время как бы и случайно попали, мне Александр Иванович давно ещё говорил. Или нет, это Удолин про них сказал, когда мы первый раз пересеклись… Попали случайно и начали действовать. По обстоятельствам… Войну вот Гражданскую переиграли, при активном участии Павла Васильевича, кстати. А то так бы и сидел в Стамбуле неизвестно в каком качестве… – Агранов позволил себе совсем маленькую дерзость, именно из-за присутствия здесь Ларисы. С глазу на глаз от подобного намёка точно бы воздержался.
– А если и товарищ Волович с подобной целью сюда переправлен? – вкрадчиво спросил он. – Как писал господин Мэхен – «Fleet in being». В нашем случае человек, который должен повлиять на мироздание самим фактом своего появления…
Сказал и по взгляду Ларисы понял, что выиграл. Уж какие там внутри «Братства» разборки и подводные течения – ему не узнать до поры, но вот именно сейчас он попал в струю. Или в тех самых пресловутых трёх зайцев. Довёл информацию именно до той, до кого следовало. Продемонстрировал свою полную лояльность и вдобавок подтвердил собственный профессионализм. Да ещё и сдал какие-то козыри Кирсанову. Вне зависимости от того, в какую игру он играет. Вернее – они с Ларисой играют. Не зря же она его с собой привела. А почему, кстати, привела? Не могла же она знать, о чём у них с Аграновым речь пойдёт. Значит, что-то ещё подразумевается. Задумали они что-то, и ему, Якову, некая роль прописана. И не просто – «кушать подано».
А кроме того, снова стало чекисту мучительно интересно – любовники они или нет? Очень уж запросто друг с другом держатся. На ножки её жандарм как-то уж очень равнодушно смотрит, будто совсем его в этой обстановке они не волнуют. В другой насмотрелся. И по типу как-то они друг другу подходят. Представить Ларису в объятиях Кирсанова было совсем не трудно. Гораздо проще, чем красотку с фотографии – в постели с Воловичем.
Он не мог знать, что у Павла с Левашовой вопрос был решён раз и навсегда. Состоялся у них разговор в кейптаунском отеле, ещё в англо-бурскую войну. Там Лариса раздевалась в присутствии Кирсанова, и были они не просто наедине, а на совместном задании, достаточно рискованном[55]. В общем-то – могла бы хоть дверцей шкафа прикрыться, но не сочла нужным. И стыдливостью с юности не отличалась, и нравилось ей эпатировать некоторых мужчин. Тем более – как бы и оперативная необходимость в её «стриптизе» присутствовала.
И словно невзначай у неё вышло, что намекнула она напарнику: удивлена, мол, что мои прелести и сам процесс раздевания никак на тебя не действуют. Любому ведь нормальному мужику должно быть понятно, что если вот сейчас он на неё кинется, то сопротивления не встретит. Даже при её всем известном стервозном характере отдастся без всякого. Откровеннее уже не скажешь.
А Павел ответил совершенно спокойно, как обычно, сидя на подоконнике и пуская на улицу дым сигары. Здесь ему по легенде полагалось почти непрерывно курить сигары, причём самые дорогие. В блокадном Кейптауне, где уже и бурский самосад не всегда купишь.
– Ты ещё не научилась в разведке работать, пусть и задатки у тебя несомненные. Одно из первых, что следует запомнить, – вот это вот, – он указал сигарой ей на грудь и ниже, – пока ты на задании, не более чем разновидность оружия, которым в нужный момент потребуется воспользоваться. Или нет. Отнюдь не озабочиваясь как проблемой морали, так и собственных удовольствий. Эмоции исключаются полностью. Любые. Я это давным-давно постиг, когда меня в питерских дворцах великие княжны в будуары приглашали, «ируканские ковры посмотреть». Просто говорил себе, что – импотент от рождения. И всё. И дело делал, и лишних проблем не возникало, со стороны «сильных мира того». А мы, Лариса Юрьевна, на задании сейчас, так что запомни мои слова, раз и навсегда. Дольше проживёшь…
– Какой ты скучный и отвратный тип, – только и нашла она тогда, что ответить, чуть не швырнув ему в бесстыжие глаза зажатый в кулаке бюстгальтер. Но урок запомнила. Жаль, что никто ей его не преподал полтора десятка лет назад. Впрочем, тогда бы она и не стала той, кем является сейчас. Нимало об этом не жалея.
– Интересно мыслишь, Яков Савельевич, – медленно сказал Кирсанов. – Что ж, давай согласимся с твоей идеей. И ты веди себя так, как тебе Ляхов предложил. Полностью на своё усмотрение. Сочти этот факт не заслуживающей твоего высокого внимания прихотью «всяких там…». Но смотри, конечно, что вокруг твоего клиента станет происходить. И мы, со своей стороны…
– Как думаешь, Павел, заслужил наш товарищ маленькое вознаграждение за сообразительность и образцовое выполнение возложенных на него обязанностей? – спросила неожиданно Лариса Кирсанова, вставая с кресла с замедленной грацией пантеры и одёргивая юбку.
– Думаю – вполне, – кивнул тот и, наконец, всё же выпил свою рюмку.
– Тогда, может быть, так – устроим ему экскурсию с ужином в Москву победившего капитализма? Господина Воловича сюда переправили, а мы – наоборот. Чтобы лучше понимал товарищ Агранов, сколь сложно и разнообразно устроен мир?
Яков испытал редкое в последние годы чувство полной и решительной победы. Попал он всё же в центр мишени, хоть и стрелял зажмурившись.
Допустят его до тайн мира будущего. А значит, и в этом статус его ощутимо изменится к лучшему.
Выходит, он крупно подыграл Ларисе с Кирсановым в какой-то «потусторонней» интриге, знать о которой ему совершенно незачем. Для личного спокойствия. Однако – не всё просто и у них в «Братстве» обстоит. Как во всякой, честно говоря, достаточно разветвлённой организации, занимающейся одновременно массой разнообразных, нередко – взаимоисключающих дел.
– Когда? Сегодня? – спросил Агранов, внешне сохраняя полную невозмутимость.
– Да можно и прямо сейчас. Только переодеться бы надо… – ответила Лариса.
– А – как? Не знаю, как у вас одеваются…
– Значит, у нас и переоденешься. Павел поможет.
Вдруг Агранову пришла ещё одна интересная мысль. Вполне в тему, как бы развитие предыдущего, но одновременно… Можно свой нездоровый интерес удовлетворить.
– Да, кстати, Лариса Юрьевна. Упустил я сразу, отвлёкся на другое. У Воловича этого, кроме долларов, ещё фотография с собой была. Цветная, очень высокого качества…
– Ну! – подогнал намеренно неторопливую речь чекиста Кирсанов.
– Девушка там изображена. Невероятно красивая, почти такая, как вы, Лариса Юрьевна, – непринуждённо польстил кураторше Яков. – При этом – совершенно обнажённая. Но – без всякого непотребства. Просто – очень хороший постановочный снимок в стиле «Ню»…
– Девушка, говоришь? – заинтересовалась Лариса. – А ну, опиши подробно. Всё, что запомнил. А запомнить должен был много. Долго, небось, смотрел, – понимающе улыбнулась она, зная и натуру Агранова, и здешнее положение с подобного рода печатной продукцией. Печальное, прямо сказать, положение. Никаких «Плейбоев» и прочих «Журналов для мужчин» не издаётся, за рубежом – тоже. А самопальная черно-белая порнопродукция формата шесть на девять мало что скверного качества, так и содержанием или примитивна, или отвратительна. Проще и полезнее в Щукинский музей ходить, картинами Рубенса и скульптурами Родена любоваться.
Сама она эротическими сюжетами не интересовалась (если только не оперативными видеозаписями чьих-нибудь интимных развлечений), но с юных лет знала о том, насколько до всяких «весёлых картинок» падки мужчины, в остальном – вполне приличные.
Лариса не ошиблась, всё Яков запомнил, включая и детали интерьера, попавшие в кадр.
Кураторша не удержалась, хлопнула в ладоши и засмеялась.
– Людмила, больше некому. – Лариса вспомнила, как сразу после прибытия «валькирий» на Землю на её даче в Кисловодске она, сразу отметив исключительные физические данные «гостий», лично организовала фотографирование девушек в бане и в других подходящих ситуациях[56]. Сразу просчитав, как это может пригодиться для дальнейшего использования в оперативной работе.
Не ошиблась. Кое-чьи снимки, увеличенные до «павильонных форматов»[57], самому императору Олегу показывали. И их величество выражал своё монаршье удовольствие и «высочайшее благоволение».
– Ну и козёл, ну и сволочь… – возмутилась Лариса. – У Ляхова, получается, спёр. И возможности имел, гадёныш, старательно в квартире порыться. Такое всё же не разбрасывают, где попало. Спасибо, Яша, опять ценная информация. А к чему ты, уж честно признайся, именно сейчас про это дело вспомнил? Ты ж у нас не филёр на стажировке, совсем даже нет, должен бы сразу, когда говорил, что Вадим из ревности сюда Воловича забросил, и про фото вспомнить…
– Да знаете, Лариса Юрьевна, постеснялся просто, – Агранов изобразил даже некий намёк на смущение, – при вас о голых карточках рассказывать. Неприлично просто… Мало ли что подумаете…
– Ага, ага, конечно. Вы тут все такие деликатные, товарищи рабоче-крестьянские вожди. Это ж Крупская[58] не так давно приказала в учебниках по живописи всю обнажёнку удалить или «приодеть» по возможности. Вот цирк, представляю – Даная в постели в розовых панталончиках с кружевами. И ты, что ли, Яша, из таких? А ведь врёшь, сразу вижу. Скажи уж – девушка в душу запала и хочешь ты у меня сейчас спросить, много ли ещё таких на той Земле имеется, и нельзя ли с кем-нибудь из них познакомиться. Сразу отвечаю – много. И до многих мне далеко, чего там! – Она делано вздохнула и даже взмахнула рукой.
– Познакомиться – тоже не проблема. А остальное… Девушки у нас раскованные, если что – могут и в морду без предупреждения. Так что – ничего не обещаю…
Агранов с искренним изумлением уставился на тонко усмехающуюся женщину. Да, вот это – класс. И мысли его прочитала в подробностях, и ответила на все сразу в подобающей форме. Тогда ведь наверняка и всё, что он о ней самой думает, – знает. И в каких ситуациях и позах себе представляет. Нет, лучше от неё подальше держаться, и думать в её присутствии исключительно о вещах служебных и скучных.
«Хотя, – Яков внутренне усмехнулся, – ей, может быть, весьма льстит, с какой неистовостью он её хочет. И, чем чёрт не шутит, когда-нибудь она решит проверить… Нет, нет, вот об этом – не надо!»
Когда все они уже вышли из кабинета и Яков запирал хитрый замок на три оборота ключа, несмотря на переполнявшую его радость, чекист не мог не думать: «а для чего всё-таки Лариса явилась к нему сама, да ещё и с Кирсановым?» О том, что он позвонит ей, «полпредша» едва ли догадывалась, он сам решился это сделать, так сказать, экспромтом. А раз она не знала темы предстоящего разговора – для чего ей был нужен жандарм рядом?
В свою Москву пригласить?
Так это и по телефону легко сделать. «Жду, мол, вас, Яков Савельевич, тогда-то и там-то. Форма одежды – свободная…»
Или – у них была какая-то цель, но он, Агранов, своим сообщением их планы поломал и вынудил работать по другому, наскоро придуманному сценарию?
Интересно, интересно…
Волович отправился на первую прогулку в Москву с очень большой опаской. Наслышан был о бешеном разгуле преступности во времена НЭПа, книги читал, фильмы смотрел вроде «Рождённая революцией» и «Путёвка в жизнь». С другой стороны – красть и отнимать у него было совершенно нечего. Гол, как сокол[59]. Оттого в этом смысле можно было быть относительно спокойным.
Гораздо страшнее был сам факт погружения в чужую, давно исчезнувшую жизнь. Вроде как схождение в Аид. Ведь абсолютно все люди, что он здесь увидел и ещё увидит, – давно умерли. Едва ли есть хоть один, кого Михаил мог бы встретить там, у себя – живым. А это очень неприятно – оказаться среди бесконечного числа покойников, прикидывающихся «не-мёртвыми». Он-то и на кладбищах бывать не выносил, скопление могильных плит вокруг Воловича буквально душило, а ещё хуже – непрерывное мелькание перед глазами дат, разделённых чёрточкой. Ум за разум заходил от беспрестанных упражнений на вычитание и автоматического сравнения возраста покойников с собственным.
Однако на самом деле всё оказалось не таким уж страшным. «Человек не скотина, ко всему привыкает».
Подождав всего около получаса на остановке, Михаил втиснулся в трижды переполненный автобус марки «Лейланд», больше похожий на дореволюционный катафалк. Представить было невозможно, как это разболтанное сооружение, нещадно дымящее тридцатисильным, кажется, мотором, ухитрялось влачить полсотни пассажиров по плохой булыжной дороге.
Сразу и навсегда Волович понял, что ни Зощенко, ни Ильф с Петровым ни в коей мере не очерняли «советскую действительность», напротив, весьма её приукрашивали. Просто потому, что для них она была нормой. С некоторыми, заслуживающими порицания отклонениями.
С измятыми чужими локтями боками, оттоптанными ногами, стократно обматерённый и названный разными другими словами за буржуйскую внешность и нерасторопность, он, наконец, вывалился вместе со всей толпою на конечной остановке, на Смоленском рынке.
Зато удалось сэкономить целый пятак: кондуктор так и не смог до него добраться, а передавать рубль через «граждан» Волович справедливо счёл крайней глупостью. Заодно выяснил, что это трамвай во все века и на всех маршрутах стоил три копейки, а автобус как средство более современное и даже роскошное (почти такси) – от пяти копеек до гривенника, зависимо от протяжённости пути.
А пятак, к вашему сведению, – как раз стопка водки «на розлив». Именно в ней Михаил сейчас испытывал немыслимую потребность. Такие переживания, такие приключения, стресс, который не пережила бы половина московских «креаклов» – и четвёртый день ни капли!
Увидев рядом с воротами рынка синий фанерный киоск, на котором красовалась откровенная, лишённая всякого ханжества вывеска «Моссельпром. Водка – пиво», Волович испытал чистую, незамутнённую радость.
Ларёчник в белом, но порядочно грязном фартуке и военной фуражке без кокарды зачерпнул ковшиком на длинной ручке прозрачную водку из лужёной «ендовы» (вспомнил журналист название ёмкости), аккуратно вылил в гранёную стограммовую стопку. С краями налил, и ни капли мимо. Михаил сглотнул порцию мгновенно и только потом заметил, что ларёчник (или – целовальник?) протягивает ему кусочек чёрного хлеба грамм тоже на сто, с уложенными сверху двумя маленькими кильками.
– Закусите-с, «тычком» не положено, – вежливо сказал тот.
Сервис, однако, и забота о здоровье трудящихся[60].
Мир сразу окрасился в куда более оптимистические цвета, хоть и Смоленская площадь ничем не напоминала ту, какой она станет почти веком спустя, и денёк был не слишком солнечный.
– Изволите повторить? – верно понял настроение клиента ларёчник.
Очень хотелось, пусть водка и уступала по всем параметрам и кристалловской, и «Кауфману». Но сорок в ней точно было, хотя и ёмкость не опечатана, и приборов слежения не заметно. Тогда, как и во времена Гиляровского, контроль был персонифицирован: разбавлен продукт – можно и в рыло получить, опять же «не отходя от кассы». И Уголовный кодекс за такое стихийное проявление «гражданской активности» не наказывал.
– Пока хватит, благодарю вас, лучше пива кружечку…
Невиданная на «Смоленке» вежливость странного клиента слегка даже шокировала ларёчника. Пиво подал почтительно, присовокупив к нему два серых бубличка, посыпанных крупной солью. Только что не добавил: «Извольте, вашсиясь!» И выдал сдачу – восемьдесят пять копеек мокрыми медяками и серебряными гривенниками, пятиалтынными и двугривенными – все эти наименования по-прежнему были здесь в ходу. В общем – куда милее звучит, чем эрфэшные «пятихатки» и тысячи.
Не спеша выцедив вкусное, холодное, ни на процент не разбавленное пиво, обозревая при этом намётанным репортёрским глазом окрестности, Волович закурил и степенно двинулся в сторону «старого» Арбата. Он-то, Михаил знал, архитектурно почти не изменился за прошедшие (в обратную сторону, как киноплёнку отмотать) годы. Только пешеходной зоны не было, фонарей и плитки. Взамен тот же неизбежный булыжник на мостовой, да трамвайные пути занимают половину проезжей части. А здания никуда не делись, стоят, как и в следующем веке, и вывесок на стенах, над дверями и витринами не меньше, лишь содержание другое, да качество исполнения.
Такой именно Арбат, до реконструкции, Михаил помнил едва-едва. Ему было лет пять, кажется, когда началась тотальная перестройка улицы[61], и застрял в памяти почему-то дождливый и туманный день и он сам, едущий с матерью в трамвае мимо этих самых зданий. Но картинка сохранилась сероватая и мутная, как на недодержанной в отработанном проявителе фотографии. Сейчас же всё прямо лезло в глаза своей насыщенностью, цветами, запахами, бытовыми деталями.
А вот и искомое! Знаменитый «Дом с рыцарями» на углу, и над четырёхстворчатыми дверями входа – вывеска, составленная из разноцветных электролампочек: «Торгсин». Ниже, помельче, обычными буквами – «Московский городской трест розничной торговли».
Волович проверил, на месте ли заветная двадцатка, и вошёл. Солидного вида швейцар со старорежимной бородой (в Советской России бороды отчего-то носили только священники и швейцары самых солидных заведений. Ну, ещё некоторые академики и товарищи Луначарский с Красиным. Но те в основном – эспаньолки) покосился на него подозрительно, однако ничего не сказал.
«Прошёл фейс-контроль по самому краешку», – подумал Михаил.
Магазин буквально поражал! Размерами, роскошью отделки и ассортиментом товаров. Не Воловича, конечно, поражал, видевшего «Ашаны» и «Икеи», а простого московского обывателя, даже в Югороссии никогда не бывавшего. Пять, а пожалуй, шесть торговых залов анфиладами уходили вправо и влево от вестибюля, сверкая электрическими люстрами и массой зеркал на стенах и даже потолке. Прилавки, стеллажи и полки до самого верха (а это метров шесть) были заполнены штуками тканей всех сортов и расцветок, заставлены обувью местной и заграничной, массой разновидностей существовавшей тогда бытовой техники (например, патефонами, радиоприёмниками и фотоаппаратами от аккуратных немецких «Леек»[62] до массивных, из красного дерева с бронзой «ФК»), посуды и прочей утвари. В следующих залах ряды вешалок занимали готовые костюмы и платья, мужские и женские, плащи, пальто и шубы. Ещё дальше шли отделы галантерейный, гастрономический, кондитерский, винно-водочный и табачный.
Богатство в целом неописуемое! Каждый москвич, располагающий валютой (в том числе и югорусскими «колокольчиками»[63]), золотом и серебром (за исключением самородных), обработанными драгоценными камнями, мог приобрести здесь всё, что доступно было жителям Европы и Америки. Одеться с ног до головы, заполнить квартиру лучшей мебелью, коврами и техникой, загрузить холодильные шкафы и буфеты лучшей провизией и напитками.
Было б только, чем платить. А судя по количеству людей в магазине – состоятельных людей в столице хватало. Причём здесь в отличие от иной, ленинско-сталинской реальности ОГПУ людей, располагающих платёжными средствами, не арестовывало и не заставляло под страхом тюрьмы и даже расстрела сдавать имеющиеся ценности бесплатно. Здесь игра велась «по-честному». НЭП – значит, НЭП.
А если у кого не имелось валюты – здесь же, в обменном пункте, бумажные «совзнаки» можно было обменять на фунты и доллары или – югоросские золотые червонцы.
В отличие от НЭПа предыдущего, имевшего место быть на ГИП, здесь «Братство» не сочло нужным позволять Троцкому вводить в РСФСР «золотой стандарт». На территории одной фактически страны, пусть и с двумя системами власти, иметь две золотые валюты показалось ненужной расточительностью. Тем более что, привязав «совзнак» к югоросскому (фактически – царскому червонцу), обеспечивалась дополнительная «управляющая цепь», не позволявшая, например, товарищу Троцкому проводить самостоятельную «интернационалистскую» политику. Не сильно напомогаешь зарубежным «братьям по классу» и наладишь «экспорт революции», имея в распоряжении лишь раскрашенные бумажки с серпом и молотом. Зато эти «бумажки» беспрепятственно обменивались всей советской партгосноменклатуре на югоросскую валюту по особому курсу в специальных отделениях Госбанка.
Прочие граждане РСФСР должны были следить за котировками, публикуемыми на первых полосах центральных и губернских газет, и, если имели свободные средства, играть на скачкáх цен и курсовой разнице. Чтобы удачно отовариться в этом, например, «Торгсине», сегодня выгоднее было покупать, скажем, астраханский балык и чёрную икру на червонцы, а немецкую аппаратуру – за рейхсмарки. Но это уже для специалистов, гражданин с улицы запутался бы и гарантированно «пролетел».
Волович минут пятнадцать просто наблюдал сие великолепие, не выглядевшее жалко даже на фоне его воспоминаний. Дело в том, что сам антураж магазина, соотнесённый с повседневной жизнью «за витриной универмага»[64], демонстрировал идею «потребительского рая» столь наглядно, что уже не имело значения отсутствие на полках айфонов, плазменных телевизоров или кроссовок со встроенными диагностическими комплексами. Совсем как у всё того же, постоянно приходящего на память Маяковского с его поэмой «Хорошо!».
Потом он вспомнил, за чем пришёл. Ничего почти из того, что ему требовалось для обустройства в новой жизни, было не доступно.
Достаточно скромный шерстяной костюм, к примеру, стоил целых пятнадцать долларов, а их-то и всего двадцать. На всё про всё. Но самым необходимым обзавестись всё равно нужно было. Как бы там дальше ни сложилось.
Сделав по магазину несколько кругов, приценяясь и манипулируя в уме цифрами и суммами, достаточно ничтожными, но для него сейчас – гигантскими, он, наконец, подошёл к кассе галантерейного отдела. И вовремя, а то на него уже начали коситься охранники, которых здесь было не меньше, чем в магазинах Москвы двадцать первого века. И неудивительно – ворья и просто предприимчивых людей вроде Остапа Бендера (а ведь это как раз его год, двадцать седьмой!) в городе полным-полно. Поди уследи за каждым. Невзирая на то что магазин государственный, под контролем НКВТ и НКВД[65].
Заодно Михаилу пришло в голову, что магазин, где он находится, почти один в один похож на описанный Булгаковым в «Мастере и Маргарите». Правда, тот располагался, кажется, не на Арбате, а как бы на Садовом кольце, в районе нынешнего МИДа. («Нынешнего» в том смысле, что раздвоение личности у Воловича до сих пор не закончилось). Ну а чего удивляться – Михаил Афанасьевич и сейчас здесь живёт, неподалёку, ещё не переехал на новую квартиру в Лаврушинском, и описывал он в «Мастере», судя по всему, год этак двадцать пятый.
Волович при всех его несимпатичных качествах в литературе разбирался прилично, что, впрочем, никакого положительного влияния на его моральный облик до сих пор не оказало.
Двадцатку он протянул кассирше с сильной внутренней дрожью – а вдруг как окажется «неправильной», и пожилая тётка с внешностью и повадками одесской бандерши выхватит из-под огромной никелированной кассы «Националь» с массой кнопок (зачем их столько, чтобы просто сумму обозначить и чек пробить?) и большой, как у военной мясорубки, ручкой сбоку костяной милицейский свисток и оглушительно засвистит.
Однако обошлось. Тётка мельком глянула бумажку на просвет, увидела водяные знаки и равнодушно бросила банкноту в ящик.
Денег хватило, чтобы приобрести небольшой тёмно-вишнёвый саквояж типа врачебного, и почти наполнить его всякой необходимой в жизни культурного человека мелочью – от бритвы с банкой мыльного порошка «Лотос» до пяти пар шёлковых носок, трусов и маек. А то ведь чувствуешь себя свинья свиньёю, пусть здесь это понятие подразумевает гораздо больше степеней свободы. Как у Ильфа – можно, идя к врачу, вымыть всего одну ногу. Если уже в кабинете убедишься, что не ту – конфуз, конечно, а в остальном – нормально.
И ещё осталась сдача – почти пять долларов. Цены для держателей валюты – просто улётные, как станет принято выражаться лет через восемьдесять. В общем – ничего странного, просто признак существования в мире «реальной экономики», где и в развитой стране заработок «доллар в день» считается вполне достойным. А что говорить о таких разрушенных семилетней войной странах, как Россия? Здесь и десять центов деньги, «в переводе на мягкую пахоту»[66].
Наконец Волович добрался до табачного отдела. Выбор продукции поражал больше даже, чем в других залах «Торгсина». Дело в том, что только здесь Михаил увидел больше разноцветных коробок, сортов и марок папирос, сигар и сигарет, чем в любом магазине «своей» Москвы, особенно после принятия идиотского закона о запрете выставлять эту продукцию на прилавки и витрины.
Сигарет здесь, возможно, было и поменьше, в тогдашней РСФСР особым спросом они не пользовались, зато уж папирос было море разливанное. И тот «Дюбек», которым угостил его Агранов, не выглядел самым дорогим и роскошным.
Но что действительно шокировало Воловича, так это знакомые жёлтые пачки с верблюдом. Он искренне считал «Кэмел» послевоенным изобретением, этаким брендом «плана Маршалла». Выпущенным наряду с «Кентом», «Мальборо», джинсами и дисками с записями «Битлов» в том числе и для того, чтобы усилить в сталинском и послесталинском СССР недовольство властью. Вот, мол, что нормальные люди курить, носить и слушать должны! А вы нам «Приму» с «Памиром» суёте, да Зыкину из каждого утюга.
У него аж на сердце потеплело, словно старого друга в чужом городе встретил. На все деньги, цента не оставив «на развод», приобрёл ровно четыре блока, не в картонных коробках, а завёрнутых в пергаментную бумагу, и ещё семь пачек россыпью. Несколько расстроило, что сигареты были без фильтра, но это уже не такая беда.
Сначала он хотел закурить сразу, как вышел из магазина, но передумал. Экономить теперь придётся, когда ещё валюта опять появится? И курить нечасто, зато со вкусом, толком и расстановкой. Тогда наличный запас месяца на три можно растянуть. А «пайковую» махорку можно приберегать, а потом на Сухаревском рынке продать. Пустяк, может, заработает, но всё же какие-то деньги.
На верандочке пивной, что на углу Арбата и Николопесковского переулка, он присёл, заказал ещё сто грамм «Очищенной» и кружку пива с всё той же стандартной закуской, бесплатной, что при его средствах – прямо подарок.
Водку он выпил и сигарету докурил, наслаждаясь ароматом и мягкостью вкуса. Никакого сравнения даже и с лучшими местными папиросами. А вот пиво допить не получилось. Только-только он расслабился, погрузившись в мысли о том, что жизнь более-менее начинает складываться, что, может быть, стоит сходить в ту самую знаменитую редакцию «Гудка», где трудятся Ильф с Петровым, Олеша, Булгаков и ещё кто-то, про которых рассказывал на журфаке легендарный Ясен[67], знавший большинство из них лично. Глядишь, удастся продать какой-нибудь рассказик, стилизованный. Или, наоборот, – супермодернистский по нынешним временам. На фельетоны замахиваться рано – реалий жизни не знает, в политической линии не осведомлён. Это уже на Агранова надежда – разъяснит, если захочет, чем Михаил может быть полезен советской власти.
И все его приятные мысли и планы, сопровождаемые глоточками совсем неплохого «Трёхгорного» пива и дымком ещё одной (гулять так гулять!) сигаретки, в очередное кратчайшее мгновение были разрушены, так же как четырьмя днями раньше другие планы на другую жизнь.
К нему вдруг, появившись из-за угла совершенно бесшумно и незаметно, подсели два гражданина (очень здесь популярное обращение и просто обозначение незнакомого лица, заведомо не принадлежащего к «товарищам»). Один в так называемой «английской» кепке с большим козырьком и откидными клапанами, застёгивающимися на макушке большой пуговицей, другой – в обычной отечественной «восьмиклинке». Кепки первыми бросились в глаза, потом уже костюмы, из дешёвых (как здесь выглядят дорогие, Волович успел увидеть в «Торгсине») и совсем неприметных цветов, что-то вроде перепревшего конского навоза.
– Товарищ Волович? – спросил «англичанин».
– Он самый. А вы, простите? – Михаила кольнуло смутное чувство тревоги. Людям ОГПУ нет нужды спрашивать, они должны знать его в лицо. Даже те, с кем он не встречался, наверняка бы имели фотографию, а спутать его с кем-то из местных жителей трудно, вернее – совсем невозможно.
– А мы бы хотели считаться вашими друзьями. Только здесь разговаривать не слишком удобно. Давайте проедем в более подходящее место…
И что ему прикажете делать? Кинуться бежать с криком «Караул! Грабят!» в надежде на то, что заявление о «гласном надзоре», под который он определён, – не пустая трепотня и кто-то за ним сейчас из сотрудников Агранова присматривает? А если нет? И что, если «эти» при малейшем трепыхании с его стороны начнут стрелять? И куда он побежит в чужом и чуждом городе? Была б «своя» Москва – шанс имелся. Лавируя в толпе, всегда заполнявшей Арбат, добежать до метро и там затеряться, рванув против потока выходящих, перескочив через ограждения на идущий вниз эскалатор… О том, что ни ловкости, ни сил, ни дыхания у него на такой финт не хватило бы, Михаил не подумал. Бессознательно приравнял себя к Фёсту Ляхову и его валькириям. Да, сюда бы Людмилу с Гертой, они бы показали…
Но «понты подержать» всё равно требовалось:
– Зачем другое место, «друзья»? Здесь очень даже уютненько, тень, прохожие не мешают, буфетчик далеко. Говорите, что вам от меня требуется. И от кого вы всё же? Знакомых у меня в Москве много, а вас не припомню… А ежели ГПУ или милиция – документик извольте.
Михаил, вспоминая фильмы и книги об этом времени, постарался как можно больше соответствовать. Изобразить нечто между Остапом и хоть бы даже и Жегловым. Нотки, свойственные Высоцкому, в голос подпустил.
– Сказали – «в другое», значит, в другое. А трепыхаться станешь… – Второй, в восьмиклинке, криво усмехнулся, показав через раз гнилые и обломанные зубы. Откинул полу пиджака и продемонстрировал торчащий из-за ремня «наган».
– Пойдёмте, Волович, действительно, не стоит посреди улицы цирк разыгрывать. А то ведь и вправду…
Воздух, заполненный скрежетом трамвая, тормозящего у близкой остановки, лязгом железных тележных ободьев по брусчатке и беспрерывными пневматическими гудками автомобилей, разгоняющих бессмысленно перемещающихся через проезжую часть пешеходов, прорезала пронзительная трель милицейского свистка. Здесь это был непременный атрибут милиционеров, дворников и иных лиц, причастных к охране порядка. Свистком предупреждали правонарушителей, сзывали на помощь постовых с соседних перекрёстков, вообще демонстрировали, что власть действует. И, что удивительно, лица, к власти непричастные, свистками не пользовались, хотя вроде бы и могли в некоторых случаях облегчить свою работу, сбивая милицию с толку.
В сторону их веранды бежал парень в непременной кепке с длинным козырьком, белой рубашке, в сандалиях на босу ногу и узких полосатых брюках (коломянковых[68], что ли – совершенно не к месту вспомнил Волович старые книги). Михаил с неожиданной в нём прытью и гибкостью присел за спинку стула. Парень свистел, надувая щёки, и рвал на бегу револьвер или пистолет из брючного кармана. Потому Волович и спрятался, успев подумать, что таскать оружие таким образом – редкая глупость, и «чекист», похоже, сильно попал! Чего-чего, а бандитско-милицейских боевиков в своём времени Михаил насмотрелся…
Щербатый невероятно быстро выхватил из-под ремня свой «наган» и несколько раз выстрелил, сначала от живота, а потом и с вытянутой руки.
Свистевший споткнулся, упал ничком и по инерции сколько-то проехал на животе по влажному и скользкому булыжнику. Рысак извозчика, под которого должен был залететь парень, взвился на дыбы, пролётка развернулась, в неё врезался тарахтящий таксомотор «Рено» на рахитичных колёсах. Закричали и завизжали сразу много голосов. С разных сторон заливались всё новые свистки.
Человек в английской кепке схватил Воловича за ворот френча и поволок в переулок, а второй остался прикрывать отход, стреляя так быстро, будто в руках у него не «наган», а «стечкин».
Почти тут же с противоположной стороны Арбата захлопал пистолет ещё одного гражданина в штатском, то ли из следящих за Воловичем чекистов, то ли случайно оказавшегося на месте происшествия сотрудника.
От ресторана «Прага» бежал постовой, придерживая рукой шашку, тоже бешено свистящий и одновременно тянущий из кобуры свой револьвер.
Сразу за углом стоял развёрнутый носом в сторону Сивцева Вражка чёрный автомобиль с кузовом «кабриолет», довольно высокого класса. Тент на блестящих хромированных, коленчатых рычагах поднят. Мотор работал на малых оборотах, попыхивая из трубы скверно пахнущим дымом. Понятное дело, бензин здесь, наверное, вообще безоктановый. Шофёр сидел за рулём, ещё один человек высунулся из задней дверцы, поднимая большой чёрный автомат с круглым диском величиной с хорошую сковороду.
«Томпсон», – вспомнил Волович фильм «В джазе только девушки».
– Если кто погонится – стреляй! – крикнул «англичанин», с размаху вталкивая Михаила в салон, так что он сильно ударился коленом о подножку и взвыл от боли.
Автомобиль рванулся вперёд, дверцы захлопнулись. С Арбата никто не успел появиться. Щербатый своё дело сделал. И его не ждали. Или у него был свой план эвакуации, или – расходный материал. Это, конечно, вряд ли. Вооружённый человек, знающий проходные дворы, имел в арбатских лабиринтах хорошие шансы уйти, не слишком и рискуя. Если пуля не догонит, конечно.
Немного придя в себя, Волович с удивлением осознал, что мёртвой хваткой сжимает ручку своего драгоценного саквояжа, кроме которого у него опять ничего в этом мире не осталось. Ни койки в общежитии ОГПУ, ни заботы комиссара первого ранга госбезопасности[69] Агранова.
Ехали достаточно долго, сначала – несколько кварталов – на предельной скорости, а потом, выскочив переулками на Волхонку, водитель сбросил скорость. Вокруг Кремля, в весьма жиденьком потоке машин, но мощном – пролёток и телег, покатился по Ильинке до Покровских Ворот, а там, опять переулками, – к Курскому вокзалу и дальше.
Трое его похитителей, включая шофёра, молчали, ну и Михаил не высовывался, сидя на полу между сильно пахнущими ваксой сапогами. В этом мире тип и качество обуви значили для определения статуса даже больше, чем в близких Воловичу креативных кругах. Если не актёр, иной какой интеллигент вроде вузовского профессора, а из руководящих товарищ, партийный, советский, хозяйственный (о военных само собой речи не идёт), то носил он обычно сапоги. Даже и при хорошем шевиотовом костюме. Вот у этих сапоги были явно дорогие, из тонкой шевровой кожи, стачанные по хорошим колодкам.
То и дело утыкаясь в них лбом и носом, оценить товар[70] было несложно. Где-то на подъездных путях вокзала кабриолет остановился, и Михаила без злобы, но и не церемонясь, пинками направили к жёлтому пассажирскому вагону, с накладными бронзовыми буквами «Международный» вдоль борта.
Внутри вагон оказался салонного типа: за тамбуром и купе проводника – просторное помещение с большим продолговатым столом посередине, жёсткими стульями вокруг, кожаным диваном и деревянным буфетным шкафом в дальнем углу. Люстра на шесть рожков с матовыми колпаками под потолком.
А рядом с тамбуром сохранились два обычных одноместных купе, с дверьми не сдвигающимися, как Волович привык, а нараспах открывающимися в проход. И много дуба, красного дерева в отделке вагона и начищенной то ли бронзы, то ли меди вокруг, в избыточном даже количестве.
Волович опять вспомнил информацию из во множестве и бессистемно прочитанных книг. Всё время ему теперь приходилось вспоминать всякие никчёмные вроде бы детали и подробности, разбросанные по совсем не научно-популярным, а самым обычным художественным книгам, и особенно – злободневным фельетонам, Михаила Кольцова например. После Гражданской войны возможности с комфортом перемещаться по стране практически не было. Самолёты, кажется, регулярно летали только по трём маршрутам из Москвы – в Ленинград, Нижний Новгород и Минеральные Воды. Автодорог с твёрдым покрытием – считаные километры. Да и куда в тогдашних автомобилях без риска доберёшься, кроме соседнего уездного города? В Ленинград из Москвы поездка на отечественном «НАМИ-1» или даже роскошном «Паккарде» превратится в очередной сиквел радищевского «Путешествия из Петербурга в Москву». И по срокам, и по впечатлениям. Заправок нет, автосервисов нет, а нормальный пробег шины по здешним просёлкам – вёрст сто, да и то едва ли.
Поэтому все сплошь достаточно ответственные работники[71] обзаводились персональными вагонами. Даже поэт Демьян Бедный имел собственный классный салон-вагон, на котором мог месяцами разъезжать по стране с максимальным комфортом. Совсем уже высокие чины вроде членов Политбюро или председателей Коллегий пользовались личными поездами (!), где имелись и салоны, и вагон-баня, и вагон-ресторан, вагоны для обслуги и охраны, а бывало, что и передвижная типография. Чтобы какой-нибудь декрет в пути принять, тут же его распечатать и на станциях по ходу следования распространять.
Поэтому, оказавшись в аналогичном салоне, Волович сразу сообразил, что оказался в руках кого-то из товарищей, оппонирующих ОГПУ, но недостаточно сильных, чтобы законным образом переместить объект в сферу своих интересов. Большого ума не требовалось догадаться – ничего хорошего такая перемена участи ему не сулит.
Но, с другой стороны, Агранова он не слишком заинтересовал, если всё ограничилось переселением из тюрьмы в курятник общежития и трёхрублёвым вспомоществованием. А эти товарищи, возможно, предложат что-то поинтереснее. Причём игра, похоже, затевается непростая, раз в самом начале уже пошли трупы. Из «Томпсона» на Арбате десяток-другой человек положить беспорядочным огнём – нечего делать!
В салоне, кроме похитителей Воловича, оказалось ещё два человека. Гораздо более серьёзного вида. Оба возрастом около сорока лет или слегка «за». Один – вроде как научный работник, если судить по выражению лица и пенсне, другой – да чёрт его знает! Фуражка и китель железнодорожные с непонятными Михаилу петлицами и нарукавными нашивками, а лицо и особенно взгляд могли принадлежать хоть практикующему экстрасенсу, хоть сотруднику контрразведки. Впрочем, на железной дороге в то время и своя прокуратура была, и вооружённые силы – «стрелки НКПС», значит, скорее всего и какие-то особые отделы.
Ох и попал ты, Михаил, ох и попал! Расплачиваешься теперь за невинное желание за границу сбежать от своих благодетелей, прихватив с собой валюты, как в солдатской поговорке про патроны: «Мало, но больше не унести». А ведь мог бы сидеть сейчас на Столешниковом и развлекаться болтовнёй с барышнями, которые вне боя всё же девушки со всеми положенными (и очень занимательными) частями тела, на которые смотреть – не насмотреться.
Или отправился бы прогуляться по бульварам, в окружении соратников и почитателей, выживших в заварухе последних дней, естественно, регулярно подкрепляя силы во встречных кафешках и барах.
А вместо этого думай со страхом, не подведёт ли снова вегетативная нервная система. Уж больно неприятно всё вокруг выглядит. Словно заседание выездной «тройки».
И, от страха собрав в кулак остатки врожденной наглости, Волович спросил, обращаясь к «англичанину», как к лицу более остальных знакомому, если этот термин здесь уместен.
– Это и есть ваше «более подходящее» место? И вправду неплохо. А мы куда-нибудь поедем или так, для конспирации?
Он подвинул к себе ближайший стул и сел, поскольку не видел оснований стоять. Не перед судом же, действительно.
– И скажите мне наконец, в чём причина этой, как бы выразиться, эскапады?
Слово показалось ему подходящим и по времени, и по обстоятельствам.
– Нас же просто убить могли. Тщательнéе бы следовало…
– Ишь ты! – удивился «железнодорожник». – Соображает. Вас, простите, товарищ Волович, как по отчеству?
– Иосифович…
– Ну вот, Михаил Иосифович, считайте, что вы на самом деле у друзей. А то ведь Агранов – действительно страшный человек. Удивляюсь, как вам вообще позволено было одному на улицу выйти…
– На живца, – негромко сказал напарник путейца, который в пенсне. – Нас на него и ловили. Только слегка просчитались. Недосмотрели. Тут товарищ Волович нам подыграл, место уж больно удачное для своего отдохновения выбрал…
В это время тот боевик, что с «Томпсоном», положил автомат на стол, стволом к двери, и потрошил саквояж Воловича. Хоть там и «потрошить» было нечего. Вещь новая, только что купленная, с магазинной этикеткой. И барахлишко в ней ничем не примечательное. Наидешевейшее из наличествовавшего. Как некогда будут писать в рекламах: «Дешевле только даром».
Автоматчик повертел в руках блоки сигарет, бросил их обратно, одну из рассыпных пачек откупорил и тут же закурил.
– А ничего…
Остальные не обратили на него никакого внимания, только Михаил ещё больше разозлился. Вот сволочь – как своим распоряжается.
– Что у друзей – это хорошо, – согласился Волович. – Только кое-кто из друзей меня так ловко из-за стола выдернул, что я и пиво своё допить не успел. У вас не найдётся? А можно и покрепче, нервы-то не железные…
– Никаких вопросов, – кивнул «железнодорожник». – Изобрази, Валя, – это уже автоматчику. – Вину свою мы загладить должны, да и вы разговорчивее станете. Беседа у нас долгая, надеюсь, будет…
– И душевная, – добавил «учёный».
В это время что-то за стеной громко лязгнуло, вагон дёрнулся, так что стоящие едва успели ухватиться за что придётся.
– Яйца оторвать такому машинисту, – спокойно сказал «товарищ» в пенсне, но никто не изобразил намерения немедленно претворить эту идею в жизнь.
– Да, долгая, а душевность – по обстоятельствам. Прокатимся ну хоть до Тулы и обратно. Или в другом направлении желаете?
– Можно до Александрова, там за окном виды красивее… – продолжал наглеть Михаил.
– Никаких возражений, – опять кивнул «железнодорожник». – На Окружную выедем, я распоряжусь…
Вагон медленно пополз, точнее, как всегда, сначала поползли назад столбы и ближние постройки, а потом только стало понятно, что поехал вагон, а всё прочее остаётся на своих местах.
«Валя» поставил на стол бутылку «Шустовского», импортированного из Югороссии коньяка, открытую зелёную жестяную банку с красной икрой и такую же, но синюю – с чёрной. Хрустальную маслёнку, тарелку с французской булкой и нож. Следом появились три (!) очень массивные хрустальные стопки, специальные энкапээсовские, чтоб на ходу со стола не сваливались.
– Чем богаты, Михаил Иосифович. Вагон-ресторан ещё не подцепили. Выпьем за знакомство?
Выпили, только они трое, Волович, «железнодорожник» и «в пенсне». Остальным, значит, не по чину.
Закусили, Волович жадно, остальные – символически.
– Давайте ещё, – сказал «железнодорожник», но налил только Михаилу.
Тот торопливо сжевал целых три бутерброда, потом подряд опрокинул две стопки.
– Вы меня простите, – извинился он, ещё жуя, – пять дней ничего, кроме тюремной каши, не ел.
«Друзья» понимающе кивнули, но ничего не ответили.
Четвёртые пятьдесят грамм достигли желудка. Сразу стало хорошо и почти уже не страшно.
Волович закурил свой «Кэмел», откинулся на стуле.
– А теперь, Михаил Иосифович, давайте по порядку, – предложил «в пенсне». – Кто вы, зачем прибыли в Москву, почему вас тут же арестовал и почти сразу отпустил Агранов и какое отношение вы имеете к Югороссии и её здешним полпредам? Видите, у нас не допрос под протокол, а просто дружеская беседа. Расскажете всё, что нас интересует, тогда перейдём к следующим номерам нашей программы. Идёт?
Волович кивнул и снова потянулся к бутылке. Потому что ни на один вопрос он не имел правдоподобного ответа, а говорить истинную правду… Нет, я с вас смеюсь, как часто говорил Мишин дедушка, самый настоящий одессит, хоть и с двумя высшими образованиями.
Глава семнадцатая
После первых же слов президента Паттерсон почувствовал себя несравненно лучше. Всё ж таки одно дело, когда разговор на сомнительную тему ведёт с тобой вице-президент, при живом начальнике никакой реальной властью не обладающий, и совсем другое, если лично Верховный главнокомандующий отдаёт недвусмысленные приказы.
Паттерсон (с помощью предварительно употреблённых нескольких «дринков») даже набрался смелости и попросил господина президента облечь свои распоряжения и инструкции в письменную форму. Неважно, какую именно, лишь бы под рукой был собственноручно подписанный Верховным документ.
Впрочем, как мудро заметил мистер Ойяма:
– Лучше всего, мой дорогой Шелтон, не доводить до ситуации, когда вам придётся давать кому-то объяснения, кроме меня, естественно. В обстановке, которая может сложиться в результате вашей нерешительности, очень многие люди предпочтут обходиться без процедур, с которыми по традиции сопряжено «парламентское расследование». Я понятно выражаюсь?
– Да, сэр. Достаточно понятно. – Паттерсон сглотнул подступивший к горлу комок. Страшно, слов нет, но для чего-то ведь носит он по четыре звезды на плечах? Военному человеку на роду написано хоть раз рискнуть по-крупному, иначе в очередном учебнике его не упомянут даже в примечаниях.
– И ещё, – продолжил президент, – я хочу, чтобы вы поняли простую истину – не следует думать, что те методики, что мы используем за пределами Штатов, неприменимы внутри страны. По каким-то там замшелым и всеми забытым причинам. Если мы добиваемся успеха, игнорируя не нами и не для сегодняшнего дня придуманные «правила игры» в окружающем мире, то следует распространить эту полезную практику и на внутренние дела. Чем, в конце концов, какой-нибудь штат Оклахома лучше Гватемалы или Ливии, а его губернатор – тамошних диктаторов? Особенно если вдруг начнёт вести себя неправильно с точки зрения высших интересов нации. Вы меня поняли? – с нажимом повторил Ойяма.
– Да, сэр. Я хорошо вас понял. Просто я смолоду привык, что американцы отличаются от других… народов. И с ними не принято обращаться, как с… гватемальцами. Всё же… неотчуждаемые права гражданина и тому подобное… Наша исключительность…
Судя по голосу, генерал был не то чтобы растерян, а оказался в состоянии человека, вот только что узнавшего, подобно герою Достоевского, что Бога нет. И тогда какой же он штабс-капитан?
Да… Даже на самых высоких должностях урождённые «ВАСПы» остаются в той или иной степени муравьями. С несколько большим по объёму нервным ганглием, заменяющим мозг, в котором помещается в нужное число раз большее количество потребных для отправления функции инстинктов. Времена таких личностей, как Ф.Д. Рузвельт или генералы Эйзенхауэр, Брэдли, Маршалл[72], безвозвратно прошли.
Ойяма это сразу уловил, хотя о Достоевском даже и не вспомнил. Паттерсона следовало одёрнуть. Привести в чувство, чтобы снова начал функционировать согласно Программе, подразумеваемой наличием четырёхзвёздных погонов на плечах.
– Отвыкайте! Вы солдат, а на войне обстановка может меняться каждую минуту. Не мне вас учить. Вспомните, в сорок первом году весьма оперативно согнали в концлагеря всех японцев, а они были гражданами США не в первом поколении. Чем остальные лучше? И разве в силу «исключительности» наших американцев мы сохраняем для них смертную казнь и многосотлетние сроки заключения? Неужели с «высшими существами» так обращаются? Европейцы и даже русские давно от подобного отказались. Как вы думаете, почему?
Вопрос был, прямо скажем, не из тех, на который легко ответить человеку, давно разучившемуся думать самостоятельно, а тем более – выстраивать умозаключения, в просторечии называемые силлогизмами[73].
– Поразмышляйте на досуге, но только после того, как с прочими проблемами разберёмся. А пока просто выполняйте мои, и только мои, приказы. Письменное подтверждение вы получите. Теперь следующее. Вы сейчас один или с кем-нибудь занимаетесь перспективным планированием, что я вам поручил при последней встрече?
«Вот, дьявол, неужели он уже всё знает и установил за нами слежку?» – подумал генерал и тут же решил, что, вступая в «президентскую команду» и надеясь на крупный выигрыш, начинать со лжи и даже умолчаний – стратегически невыгодно. Более того, ведёт к катастрофе ещё на «стадии развёртывания войск».
– Да, со мной сейчас вице-президент. И только что изложил мне почти слово в слово то, что вы сейчас сказали. Я думал, вы его и прислали…
– Да ну! Старина Дональд? – восхитился президент. – Ну и чутьё у человека. Дайте-ка ему трубочку…
Паттерсон протянул вице-президенту свой аппарат.
– День добрый, мистер Келли. Очень рад вас слышать. Я всегда знал, что вы – надёжный помощник. Оказывается, даже лучший, чем я предполагал. Шуточка с прессой – ваша заслуга?
– В какой-то мере… – не стал вдаваться в подробности Келли.
– Великолепно сделано. А – зачем? – вопрос прозвучал внезапно и резко, как щелчок ковбойского бича.
Отвечать требовалось быстро, чтобы президент понял, что его «вице» давно определился со своей позицией и действует отнюдь не под влиянием минутного каприза или чьей-то угрозы – «Великолепной четвёрки» дам либеральной сексуальной ориентации прежде всего. Впрочем, уже тройки. И не факт, что число их и дальше не продолжит сокращаться. Жаль, он не слышал, что говорил Ойяма генералу. Но и по ответам того можно о многом догадаться.
– Я давно уже пришёл к выводу, что нынешняя конфигурация власти, и персональная и… вообще, больше не соответствует базовым интересам Америки. Сегодня всё же не восемнадцатый век…
Как с вышки вниз головой прыгнул, без подготовки и даже не раздеваясь. Плохо будет, если не рассчитал и соприкоснётся с водой плашмя. А то и вообще – в бассейне не окажется воды!
– Правильно мыслите, Дональд. Далеко не восемнадцатый… И кроме сиу и команчей есть противник пострашнее. Хорошо. Работайте пока с генералом, если нашли общий язык. Чтобы было проще, имейте в виду – на специалистов Феликса можете рассчитывать полностью. И как на организацию достаточно интеллектуальную, и как на физическую поддержку…
Феликс – это был вице-адмирал Феликс Гораций Шерман, начальник военно-морской разведки США, человек, на которого Ойяма мог рассчитывать просто как на личного друга, готового на всё, как это бывало в почти забытые Америкой суровые времена первопроходцев и золотоискателей. А если это «всё» подкреплялось авторитетом Верховного главнокомандующего и позволяло свести счёты с омерзительными шлюхами (этот термин применим к лесбиянкам?), наложившими свои когтистые наманикюренные лапки на святая святых любого государства – разведку, контрразведку и «национальную безопасность», – Шерман готов был свернуть им головы своими руками. И силы, и ненависти хватило бы.
– Это очень хорошо, – с удовлетворением ответил Келли. Военно-морская разведка – гораздо более полезный инструмент в предстоящей борьбе, чем сомнительные войска Паттерсона. – Могли бы вы, сэр, передать нам прямо сейчас какой-нибудь документ, подтверждающий наши особые полномочия, чтобы в случае чего у иных должностных лиц сомнений не возникало?
В трубке на несколько секунд наступила глухая тишина, видимо, президент отключил звук и с кем-то ещё разговаривал.
– Хорошо, – наконец ответил Ойяма. – Так будет правильнее. Это генерал подсказал, он вообще любит письменные приказы, или вы сами додумались?
– Это обычная практика, сэр. Устные распоряжения – для незначительных поручений. А в нашем случае…
Все трое старательно избегали хоть как-то сформулировать суть и смысл «случая». Очень сложно людям, воспитанным на опыте многих поколений предков и предшественников в священном преклонении перед Конституцией и Законом, признать вслух то, что уже давным-давно совершилось – ещё при Вудро Вильсоне или первом президентском сроке Рузвельта. Как католическому епископу заявить перед телекамерами, что большая часть его клириков – гомосексуалисты-педофилы. Равноценно и президенту – согласиться, что Конституция и Закон повешены на гвоздик в отхожем месте, и только их ксерокопии регулярно демонстрируются толпе, чтобы она верила, что живёт в самом демократическом и правовом государстве этого погрязшего в смуте, хаосе и грехах мира.
– У вас лэптопы с собой? – спросил Ойяма.
– Да, сэр. И у меня, и у генерала. Адреса вы знаете?
– Найду, – хмыкнул президент, и буквально через пять минут перед каждым из заговорщиков на мониторах появился аутентичный текст. На официальном бланке с грифом и всеми положенными юридическими и канцелярскими атрибутами значилось:
«В соответствии с установлениями Конституции США, всеми законно принятыми Поправками к ней, имеющимися прецедентами и сложившейся практикой государственного управления наделяю сроком на 59 дней, начиная с… числа такого-то месяца текущего года предъявителя сего вице-президента США Дональда Келли (Председателя объединённого комитета начальников штабов видов вооружённых сил США Шелтона Паттерсона) чрезвычайными полномочиями по исполнению моих поручений и приказов без согласования с какими бы то ни было органами государственной власти и управления США (Конгресс, Сенат, Верховный Суд, Министерство обороны и т. д). Вице-президент (Председатель комитета начальников штабов) также наделяется правом на указанный срок отдавать (на основании моих письменных инструкций) от моего имени приказы и распоряжения любым должностным лицам, в том числе и выборным, включая Губернаторов штатов и командующих формированиями Национальной гвардии, безусловно обязательные к исполнению. Неисполнение распоряжений вице-президента (Председателя комитета начальников штабов) влечёт за собой немедленное отстранение от должности с привлечением в случае необходимости к военно-полевому суду по законам военного времени или заключению под стражу до личного рассмотрения дела по существу Президентом Соединённых Штатов Америки».
Распоряжение (или, точнее, «Мандат»[74] в терминологии Французской или Русской революций) было заверено электронной подписью президента.
В документе как таковом не было ничего из ряда вон выходящего. По Конституции и законодательству США президент имел право без согласования с Конгрессом объявлять войну любому иностранному государству, каковая война должна была быть прекращена в случае неодобрения её Конгрессом не позднее чем через 60 суток после начала. В реальности же из более чем двухсот войн, которые вели США на протяжении своей не слишком долгой истории, лишь пять были утверждены Конгрессом, остальные президент вёл «по своему хотению».
Точно так же президент имел право вводить военное положение на территории страны, подчинять себе подразделения Национальной гвардии, переводить их в состав Вооружённых сил, использовать против собственных граждан ЛЮБОЕ оружие и ЛЮБЫЕ меры «в масштабах, которые он считает необходимыми», как было специально оговорено, для подавления массовых беспорядков и вообще действий, «препятствующих исполнению законов и нормального функционирования государственных институтов».
Хитрость и даже цинизм подобной нормы заключались в том, что (теоретически) если Конгресс, Сенат и Верховный Суд сочли бы действия президента неправильными, они могли их отменить и даже инициировать процедуру импичмента неугодного президента. Но опять же – не ранее чем через 59 дней и после дебатов и обсуждений, которые могли оказаться и бесконечными. Кроме того, может случиться, что к истечению указанного срока все три почтенные организации останутся без кворума. Мало ли какие коллизии за долгих два месяца подстерегают человека (какое угодно количество людей), который, как утверждал Воланд, «внезапно смертен». Или, если без «крайностей», две трети «представительного органа» решат именно в это время отдохнуть где-нибудь вне пределов устойчивой телефонной связи.
Одним словом, в Конституции США были заложены все необходимые положения, позволяющие без особых сложностей перейти к самому крутому тоталитаризму. Отсутствовал даже столь слабый, но всё же сдерживающий фактор, как международное право. Юридическая система США не предусматривала главенства каких угодно договоров и соглашений над внутренними законами. На решения хоть Генеральной Ассамблеи ООН, хоть самогó Совета Безопасности американцы тоже обращали внимание только тогда, когда им этого хотелось. Каприз возникал…
Получалось, что, просто не допустив собрания Конгресса и Сената, переубедив или купив верховного судью, попросту уволив без объяснения причин генерального прокурора и забыв назначить нового, президент мог править страной не хуже Гитлера, с той же эффективностью и столь же бесконтрольно.
Граждане как таковые фактически не могли бы этому самовластью что-либо противопоставить. Реальных партий в стране не было, традиций самоорганизации для революции или бунта – тоже. Клубы геев или кружки любителей кактусов – это не совсем то, что «штурмовые отряды» Рема или «Рот фронт» Тельмана.
Даже единой Церкви в стране не было, чтобы пастыри, «затворив храмы» и прекратив совершение таинств, поставили бы светскую власть на колени, как это сделал папа Григорий с королём Генрихом[75].
Какое-то сопротивление «произволу» могли бы оказать четыре миллиона хорошо вооружённых членов «Национальной стрелковой ассоциации», но, во-первых, они были точно так же разобщены в масштабах страны, как и любые другие общественные организации, а во-вторых, в силу своих глубинных консервативных и совершенно неполиткорректных убеждений как раз они охотно поддержали бы второй «Новый курс»[76] президента Ойямы.
А если ещё в твоих руках вся банковская система и почти сто процентов средств массовой информации! За исключением, может быть, нескольких мелких сельских газетёнок и радиостанций FM, обслуживаемых полунищими энтузиастами. Кстати, грамотно подойдя к вопросу, как раз эти СМИ из глухой «одноэтажной Америки» легче всего поставить на службу «Новому порядку». Под всем понятным лозунгом: «За старую добрую родину, против вредных влияний»[77].
Конечно, с точки зрения правоведов и правозащитников, подписанные президентом «мандаты» являлись грубейшим нарушением так называемого духа законов, прецедентов и самой Конституции со всеми её поправками. И на самом деле этот шаг ставил крест на привычном стереотипе «североамериканской демократии», примерно как поручение в 1933 году Гинденбурга Гитлеру сформировать германское правительство и занять пост рейхсканцлера зачеркнуло саму идею Веймарской республики[78].
И, самое главное – с момента вручения президентским клевретам «мандатов» в стране не оставалось сил, способных хоть как-то воспрепятствовать всевластию обозначившегося «триумвирата». Именно так, поскольку, если не принимать во внимание неизвестные Келли и Паттерсону факторы, без них, непосредственных исполнителей, президент оставался бессилен. Любое его распоряжение, противоречащее уже достигнутым договорённостям, легко блокировалось с помощью этих самых бумажек. Собственных, не зависимых от партнёров силовых структур у президента не было. В этом они были полностью уверены, зная, как им казалось, гораздо больше, чем Ойяма мог предположить.
При осознании открывающихся перспектив и у вице-президента, и у генерала случился приступ неконтролируемого веселья, сопровождавшегося ещё несколькими порциями действительно превосходного виски (с каждым глотком оно становилось всё лучше и лучше, что противоречило всем имеющим отношение к винокурению законам и располагалось в области прикладной психологии).
– С такой индульгенцией и карт-бланш в одном флаконе мы теперь можем делать всё, что в голову взбредёт! – несколько опрометчиво воскликнул Паттерсон.
– Нужно только, чтобы в голову взбредало то, что способствует успеху нашего дела, иначе… – многозначительно поднял палец Келли.
– Кому вы говорите? Я старый солдат и знаю великолепную формулу Наполеона: «Ordre et contrordre – desordre!»[79] Этим я и займусь сейчас. В нашем с вами состоянии мы только на это и годимся – отдавать идиотские приказы. А завтра подумаем и над умными. Вы согласны?
– Пожалуй, вы правы, – задумчиво водя пальцем по завиткам цветочного узора на скатерти, ответил Келли. Он не чувствовал себя таким уж пьяным, но, глядя на уровень напитка в графине, понимал, что это иллюзия.
– Знаете, Дональд, я знаю место, где мы сможем сейчас очень хорошо поразвлечься. Пока позволяет время. Не очень далеко отсюда. Там есть девушки-связистки в офицерских чинах, которые именно поэтому никогда не обвинят нас в «хорасменте»[80].
– Стоит ли? – задумался Келли, на самом деле уже решивший воспользоваться предложением генерала. Действительно, затевать государственный переворот и трусливо опасаться обычного вечера с понятливыми девушками?! Вот сорвётся всё, поставят их к стенке, как полковника Штауфенберга с друзьями-генералами, – и вспомнить нечего будет. Нет, особым пуританином он и до этого не был, но вот иметь дело с военнослужащими дамами, да «при исполнении», ему не приходилось.
Он представил, как, одной рукой нескромно лаская мисс лейтенанта или даже миссис майора, другой рукой сует ей под нос документ: «Неисполнение распоряжений предъявителя сего влечёт за собой отстранение от должности с преданием военно-полевому суду». И захохотал.
Собираясь увидеться с посланцами Ляхова, в ожидании прибытия начальника военно-морской разведки Лютенс предложил президенту, перед тем как начать разбираться с высшими руководителями «силовых» (как это называется в России) ведомств и прочими значительными фигурами из Совета национальной безопасности, кабинета министров и своей Администрации, выступить с обращением к народу. Это будет шаг неожиданный для противников, ни к чему формально не обязывающий, но способный значительно снизить накал страстей в обществе и выбить оружие из рук тех, кто до сих пор рассчитывает учинить очередной «управляемый хаос», теперь уже на территории непосредственно Соединённых Штатов. И под прикрытием этого хаоса и растерянности неготовых к потрясениям государственных институтов лишить американцев не только «свободы и стремления к счастью», но и самой жизни[81].
– Пожалуй, Лерой, это будет правильно. Всегда полезно нанести упреждающий удар…
Кому же не знать этой истины, как потомкам двух наций, особо изощрённых в подобных действиях?
– Вы набросайте основные тезисы, как вам это обращение видится, а я потом подредактирую на свой стиль. Двух часов вам хватит?
– С избытком. Только разрешите мне где-нибудь уединиться. Не люблю размышлять на людях…
– А я думал, вы по своей специальности умеете думать и принимать мгновенные решения в любой обстановке…
– По специальности – да. Но спичрайтером президента я ещё не работал… Позвольте взять ваш лэптоп. Или любой другой. Я ручкой писать давно разучился…
– А как же вы русского изображали? – съязвил президент. – У них что, тоже распространены лэптопы и компьютеры?
– Удивитесь, но имеются. Не меньше, чем у нас. А то и больше. Русские здесь напоминают американских индейцев. Суровые, даже жестокие люди, но, как дети, обожают всякие гаджеты. Зеркальца, бусы, винчестеры. Сейчас вот их кумир – электроника. Айфоны, айподы и прочее у них поступают в продажу раньше, чем у нас начинают рекламировать, – непонятно чему усмехнувшись, сказал Лютенс, а сам с сожалением подумал, что даже в девятнадцатом веке руководители цивилизованных государств лучше ориентировались в международной обстановке, да и реалиях повседневной жизни, чем сейчас. Что там ни писали бульварные листки, но и Бисмарк, и Гладстон и Линкольн точно знали, что русские не ездят по Невскому проспекту на пьяных медведях с балалайками. В Первую мировую никто не удивился, что сильнейший в мире тяжёлый бомбардировщик «Илья Муромец» изобрели и построили именно русские. А Кеннеди легко поверил после полёта Гагарина, что Хрущёв штампует межконтинентальные ракеты, «как сосиски», отчего полтора десятилетия мир прожил в относительном покое и благоденствии.
А вот нынешние «лидеры», путая Бирму с Бангладеш и Иран с Ираком, охотно верят своим советникам, утверждающим, что Россия находится где-то на 190-м месте в мире по уровню жизни населения и на 205-м, после Зимбабве и Сомали, по «человеческому потенциалу». И что Грузия, например, получив триста американских советников и двадцать «Хаммеров», легко разгромит средневековую Российскую армию.
Бедная Америка! Её ждут в недалёком будущем трудные времена. Пресловутый «когнитивный диссонанс» во всей его красе, помноженный на «объективные экономические трудности». Вдруг и за очень короткий отрезок времени придётся понять, что американцы – отнюдь не раса «окончательных и исключительных сверхчеловеков», и их пресловутый «жизненный уровень» сохранится только у тех, кто действительно умеет делать что-то необходимое окружающим и при этом конкурентоспособное. И «Чёрный обелиск» Ремарка[82] станет очень для многих едва ли не настольной книгой.
– Возьмите, что вам нужно, там, на полке у секретаря, – махнул рукой Ойяма и, похоже, потерял к своему новому «спичрайтеру» интерес, сосредотачиваясь перед звонком ещё нескольким «суперVIP-персонам». В целях самоутверждения и зондажа обстановки.
Лютенс удобно устроился в расположенной напротив кабинета президента гостиной на кожаном диване рядом с открытым окном. С помощью возвращённых ему по распоряжению президента устройств проверил, нет ли поблизости подслушивающей, подсматривающей и передающей аппаратуры. Таковой не оказалось, всё же следить за «большим боссом» в его личных помещениях коммодор Брэкетт считал неэтичным. Тем более – не зная, кто из сотрудников-технарей может его выдать президенту или использовать приспособления, в которых сам коммодор не разбирался, в собственных интересах или по заданию «врагов нации».
Он снова вышел на связь с Ляховым, чем, похоже, несколько вывел куратора из обычной эпикурейской флегмы. Так сложились их отношения, что Лютенс видел Вадима Петровича исключительно в этой маске – человека, излишне даже спокойного, неторопливого в словах и жестах. Малоэмоционального, понимающего вкус в напитках и табачных изделиях, почти равнодушного к женским чарам (опытный в таких делах разведчик сразу заметил, что все прелести и стати Рыси оставляют Ляхова равнодушным).
– Что у тебя опять случилось? – недовольно спросил Ляхов, проводивший, похоже, какое-то совещание. По крайней мере, на заднем плане в кадре сидели и стояли люди, среди которых он немедленно узнал и Рысь, о которой только что подумал. Теперь она была в военной форме, не слишком похожей на нынешнюю российскую, но с характерными, классическими русскими погонами. Старший лейтенант, или поручик, если она тоже из той России.
Лютенс коротко и чётко, чтобы ещё больше не раздражать сильно занятого человека, доложил о сути разговора с президентом и о полученном задании.
Ляхову это понравилось.
– Молодец, юнкер. Поздравляю поручиком![83]
– Я уже полковник, – обиделся Лютенс.
– Это ты где-то там у себя в прериях полковник. Да хоть и маршалом назначат, если всё выгорит. А у меня пока поручик. И скажи спасибо. С речью вы хорошо придумали. Но теперь это не ко мне. У проекта появились другие кураторы. С ними и обсуди. Сейчас переключу…
Пока Лютенс раздумывал, снова закуривая, к добру ли для коня такая смена кучера на переправе, монитор несколько раз мигнул, и на нём появилось изображение мужчины лет около сорока, сильно напоминающего итальянского актёра Марчелло Мастроянни в молодости. Только короткие английские усы и зачёсанные на левый пробор волосы были тёмно-соломенного (палевого, если по Далю) цвета, а глаза – серо-голубые, с оттенком хорошей ружейной стали. И взгляд у этого персонажа был… Ну, если бы Лютенс был женщиной, он назвал бы его «раздевающим», а тут сразу и не подберёшь термин. «Пронзительный» – не слишком подходит. Скорее, наверное, «проницательный», «понимающий» и «снисходительный» тоже. Как у опытного, всё про своих прихожан знающего священника или даже – настоятеля монастыря, проводящего душеспасительную беседу с заблудшим, нуждающимся в наставлении.
«С этим посложнее будет», – сообразил Лерой, хотя совсем недавно именно Ляхов поражал его некоей «сверхчеловечностью». Или, может быть, даже «надчеловечностью». В сравнении с большинством известных Лютенсу людей.
– Будем знакомы, мистер Лютенс, – слегка улыбнулся уголками рта новый куратор. – Пока вы «за рубежом», ваш русский псевдоним вспоминать не будем. Меня Александр Иванович зовут. О вас я всё, на первый случай нужное, знаю. Дальше будем взаимно углублять свои отношения. Воинское звание моё – генерал-лейтенант, в разное время руководил самыми разнообразными ведомствами, имеющими отношение к «чтению в сердцах», как выражался Салтыков-Щедрин. Так что поймём друг друга, я надеюсь. Люди считают, что работать со мной легко и приятно… – При этих словах он снова улыбнулся, до крайности располагающе. И улыбка была на самом деле человеческая, ничуть не похожая на те, что по пятнадцать раз в минуту расточали друг другу сам Лютенс, его начальники, подчинённые и даже любовницы.
«Ох и непрост господин генерал-лейтенант, ох и непрост, – подумал Лерой, – но я явно перешёл на другой уровень. Взвешен и признан достигшим нужной весовой категории…»[84]
– Так что там у тебя? – Лютенс ещё не привык к манере Шульгина переходить с «вы» на «ты» и обратно в ходе разговора с одним и тем же человеком, в зависимости от темы, эмоционального настроя и того, как он в каждую текущую минуту своего партнёра позиционировал. Кроме того, такая методика очень способствовала дезориентации собеседника и поддержания в нём нужного уровня тревожности, если он был достаточно умён и чувствителен. А также заставляла всё время думать не только о главной теме разговора, но и о том, каким образом коррелируются его слова с этими «ты» и «вы».
Лютенс повторил свою идею, уже превратившуюся в руководящее указание сверху. Как это обычно и бывает.
– Что ж, это всегда полезно, с народом пообщаться верховному правителю. Особенно так, как с ним давно никто не разговаривал. Или вообще никогда. Мне говорили, ты парень эрудированный. Историю знаешь. Помнишь сталинское «Братья и сёстры! К вам обращаюсь я, друзья мои!»?
– Не то чтобы помню, но читал, – осторожно ответил Лерой.
– Это хорошо. Вот и вам, для эффекта, что-нибудь столь же нестандартное и запоминающееся сейчас подошло бы. Это, знаешь ли, очень важно – с чем очередной правитель в историю входит…
– Очередной? – не понял Лютенс.
– Именно. Кто его знает, вдруг именно с этой речи начнётся новая эпоха во главе с новым принципалом[85]. – Шульгин снова улыбнулся. – Что бы тебе такое… соразмерное подсказать?
Шульгин сделал вид, что задумался, хотя на самом деле занятие это было ему несвойственно – решения и ответы на самые замысловатые вопросы приходили к нему мгновенно, часто раньше, чем собеседник успевал закончить фразу. За эту способность, кстати, его в своё время пригласил в аспирантуру славившийся своей проницательностью и одновременно авторитарностью профессор, автор нескольких монографий, изданных под грифом «ДСП», а то и «Секретно».
«Столь редкая способность свидетельствует не только о быстром и правильном способе мышления, но и о непробиваемой уверенности в себе. Если он ещё студентом не давал договорить профессору и моментами ставил того в тупик, подобно Сократу, то я с ним сработаюсь. В рот мне пусть стоматолог заглядывает…» Примерно так будущий научный руководитель и покровитель ответил директору и парторгу института, когда те усомнились в возможности и необходимости зачислять в «закрытую» аспирантуру ничем не примечательного врача со стажем «не по профилю», имевшего две тройки во вкладыше к диплому и известного «не слишком восторженным» образом мыслей.
– Как насчёт чего-то вроде Первой речи Цицерона против Катилины?[86] Помнишь его или вы в неизмеримой гордыне своей вообразили, что классическое образование уже не нужно в век богомерзких гаджетов и «позитивных знаний»?
Шульгин как бы невзначай сбился на стилистику сенатора, оглашавшего звуками своей «золотой латыни» своды римского Форума (или тот заседал под открытым небом?) две с лишним тысячи лет назад.
– Да кое-что помню, – смутился Лютенс. – «Доколе же, Катилина, будешь злоупотреблять нашим терпением?» И вы думаете, что сегодня это до кого-то дойдёт?
– А дальше не помнишь?
Лерой виновато развёл руками.
– Тогда что же берешься рассуждать? Как вчера ведь написано! Стиль каков! А напор?! Люди будут слушать и плакать. Только имён никаких не называть, подсократить кое-что, осовременить слегка. Нет, ты представь – весь мир, затаив дыхание, будет слушать, поражённый тем, что довольно-таки затруханный, пардон, функционер вдруг явил миру лицо не мальчика, но мужа!
Шульгин немедленно преобразился, словно вспомнив годы, когда ему доводилось, пусть и с крошечными ролями, выходить на сцену Вахтанговского театра. Глаза загорелись, и голос зазвенел, имитируя на русском звучание «золотой латыни». Начал, словно бы по памяти, цитировать наиболее ударные пассажи и периоды:
«Доколе же ты, Катилина, будешь злоупотреблять нашим терпением? Как долго ещё ты, в своём бешенстве, будешь издеваться над нами? До каких пределов ты будешь кичиться своей дерзостью, не знающей узды?»
«О, времена! О, нравы! Сенат все понимает, консул видит, а этот человек всё ещё жив?»
«Ведь высокочтимый муж, верховный понтифик Публий Сципион, будучи частным лицом, убил Тиберия Гракха, пытавшегося произвести лишь незначительные изменения в государственном строе, а Катилину, страстно стремящегося резнёй и поджогами весь мир превратить в пустыню, мы, консулы, будем терпеть?»
«О, бессмертные боги! В какой стране мы находимся? Что за государство у нас? В каком городе мы живём? Здесь, здесь, среди нас, отцы-сенаторы, в этом священнейшем и достойнейшем собрании, равного которому в мире нет, находятся люди, помышляющие о нашей всеобщей гибели, об уничтожении этого вот города, более того, об уничтожении всего мира!»
– Как звучит! Главное – актуальненько так. В общем, открой Интернет, скачай первоисточник – и вперёд! Позаимствуй всё, что вписывается. Главное – тональность, методику убеждения сохрани. Массы от этого отвыкли, потому и сработает… Не к Сенату обращайся, ко всему народу, и вместо Катилины держи перед глазами собирательный образ наиболее отвратных вам с президентом персон. Обвиняй, в чём хочешь, всё равно доказательства предъявлять не потребуется. Как в Ираке: Саддама повесили, и концы в воду… Было у него бактериологическое оружие, не было – кому теперь интересно?
Да, не забудь штук пять цитат на латыни, поблагозвучнее, где надо, вставить. Как у нас при советской власти классиков даже в кулинарные книги втыкали. И работало ведь…
Лютенс тут же набрал на клавиатуре требуемое название. Быстродействие Интернета в президентской резиденции было великолепным, и вот уже он смотрел на строчки параллельного, английского и латинского, текста на экране.
– Там и концовка хороша, обрати внимание, – сказал Шульгин, наблюдавший за его манипуляциями.
«Поэтому пусть удалятся бесчестные; пусть они отделятся от честных, соберутся в одно место; наконец, пусть их, как я уже не раз говорил, от нас отделит городская стена. Заверяю вас, отцы-сенаторы, мы, консулы, проявим такую бдительность, вы – такой авторитет, римские всадники – такое мужество, все честные люди – такую сплочённость, что все замыслы его вы увидите раскрытыми, разоблачёнными, подавленные и понесшие должную кару!»
Да, в несколько осовремененном виде подобная речь просто вгонит в ступор многих и многих отечественных и зарубежных аналитиков. Одни начнут искать скрытые смыслы в самом тексте, другие – причины возвращения к политической архаике, третьи, самые умные, – отгадывать, с какой целью подброшены варианты разгадок и в чём кроется истинный замысел «хитроумного японца».
Самого же Лютенса больше интересовало: «Кто же он есть, его новый куратор, этот самый Александр Иванович?» Загадка личности говорящего с ним человека волновала сейчас Лютенса гораздо больше, чем пришедшийся к месту совет. Похоже, сменив куратора, он поднялся на сколько-то там ступенек во внутренней иерархии загадочного «Института». Только что казавшийся недостижимо высоким по положению, Ляхов явным образом находился заведомо ниже генерал-лейтенанта, решившего взять работу с Лютенсом и президентом под личный контроль.
Непонятно только, представляет ли он некие государственные «силовые структуры», руководящие «паранормальными учёными», или точно так же олицетворяет нечто надгосударственное. Даже – трансцендентное[87], решившее вмешаться в дела потерявшего все и всяческие ориентиры человечества.
– Спасибо, Александр Иванович, – как можно более уважительно, но и с должной степенью независимости поблагодарил он, отодвигая ноутбук. Закурить хотелось нестерпимо, и он позволил себе неторопливо достать зубами сигарету из пачки, глядя мимо своего визави, щёлкнул «Зипой». – Думаю, что идея ваша граничит с гениальностью. Не только потому, что народ будет удивлён, заинтригован и почти что перевербован. Главное – те, кому стоит бояться, испугаются до колик в животе именно неопределённостью угрозы вместе с её жёстко задекларированной неотвратимостью… Я сейчас же приступлю…
– Вот и отлично, – улыбнулся Шульгин «улыбкой номер шесть», как в своё время острили друзья, посмотрев «Лимонадного Джо»[88]. – Не стесняйтесь вызывать меня при первой же необходимости. Просто наберите хоть на компьютере, хоть на любом айфон-айподе три звёздочки, потом RM[89] и ещё три звёздочки. Знаете, в своё время ходил анекдот, у Симонова приводится. За что сняли в сорок четвёртом году главного редактора «Красной звезды» Ортенберга? Вроде никаких претензий не было даже у Сталина. Оказывается, за несообразительность. Когда ему поставили «вертушку»[90], он подумал, что это, чтобы он звонил. А на самом деле – чтоб ему звонили. Ну и…
Лютенс вежливо усмехнулся, не совсем уловив, в чём именно юмор «анекдота».
– Так вы не бойтесь, звоните. И вообще ничего не бойтесь. Пока вы с нами. Наверняка ведь подумали, что будущая речь президента – прямой путь к «ночи длинных ножей»[91] или сталинскому «Большому террору». А потом и вас ликвидируют, как слишком много знающего. Будьте спокойны. Какие-то репрессии наверняка будут, но это ваше внутреннее дело. В любом случае тысяча-другая вовремя устранённых «оппозиционеров» не в пример предпочтительнее бесконечной «холодной» или, упаси бог, «горячей» войны. А за себя не опасайтесь. Именно потому, что мы почти всемогущи, нам нет необходимости быть излишне подозрительными. Ваши грядущие перспективы в американском истеблишменте ограничиваются только вашими амбициями. Ну и умственными способностями, естественно. С этим у вас пока всё в порядке, насколько я успел заметить. Одним словом – за работу, товарищ!
Шульгин сделал жест, будто собирается где-то за пределами экрана отключиться от связи, но остановил руку на полпути.
– Вот чёрт, совсем забыл! Старость, наверное, подступает. Сейчас вам перекину список поручений для беззаветно перешедшего на нашу сторону генерала Паттерсона и вице-президента. А чтобы не тревожить по каждому несущественному поводу главу государства и Верховного главнокомандующего – дам вам пароль. Услышав его, Келли исполнит ЛЮБОЕ ваше распоряжение, хоть головой вниз с крыши бросится, и передаст соответствующие поручения всем, от него зависящим. Так что вы этим «словом»[92] не злоупотребляйте. Сегодня скажете «вице», что список мероприятий, обозначенных в предписании, надлежит начать исполнять немедленно и со скоростью, что была принята в Рейхсвере и Вермахте[93], традиции армии США пусть забудет. Все перекрестные согласования и утверждения отменяются. Я доходчиво выразился?
…Сашка стоял у окна, выходящего во дворы между Столешниковым переулком и Петровкой. Снаружи снова моросило. Мелкий дождь пополам с крупным туманом шуршал по крышам флигелей, застилал перспективу. Уже через сотню метров очертания соседних домов и нескольких старинных, дореволюционных ещё, наверное, лип терялись в сероватой мгле. По-своему уютно и наводит на романтические мысли. Как раз в такой же примерно денёк они с Андреем стояли на перекрёстке тогда ещё проспекта Маркса и улицы Горького, подняв воротники одинаковых, жутко модных тогда светло-зелёных плащей с погончиками и кокеткой. Курили в кулак то ли «Шипку», то ли «Солнце» и присматривались к пробегающим мимо девицам в рассуждении с кем-то познакомиться. Если мелькнёт что-то заслуживающее…
– Хорошо ты с ним поговорил, – сказал Новиков, вставая с кресла и потягиваясь. – Спина что-то затекла, давно серьёзно спортом не занимался…
Подошёл к окну, стал рядом.
– Погодка – в самый раз. Может, до «Националя» прогуляемся? Кофейку в том самом эркере попьём…
Снова он совершенно точно попал в кильватер Сашкиной мысли, что было не так и сложно. Мимика Шульгина для Андрея – открытая книга. О чём может подумать человек, задумчиво глядящий на характерный метеоролого-топографический ландшафт по ту сторону заплаканного стекла, да ещё позволивший себе слишком явно взгрустнуть. Не вопрос для хорошо знающего его друга, тем более – давно и успешно практикующего психолога. Где-то даже – «пара»…
– Можно и прогуляться. Давненько мы там не были. Не разочароваться бы только…
– Да нет, говорят, сейчас всё на высочайшем уровне, и сервис, и прочее…
– Я не об этом, – сделал Шульгин рукой отстраняющий жест. – Не видал я сервисов. Если б они ту атмосферу сохранили. А как думаешь, – резко сменил он тему, – амеры, те самые, простые и простодушные, наживку проглотят?
– Считаю, что да. Чем они лучше веймарских немцев или наших дураков в девяносто первом? Хохлы вон говорят – «Хай гирше, та инше», а здесь ведь им и «инше» и «слаже» пообещают. Ладно, пошли. Вернёмся, понаблюдаем за реакцией олигархических масс «колыбели демократии» на текущие события…
В лучших традициях конспирологических романов и фильмов на площадке перед пентхаусом, просторно расположившимся на крыше шестидесятиэтажного небоскрёба, под вечер встретились шесть человек. Каждого из них при всех внешних различиях никто не спутал бы с представителями третьего сословия (оно же – пресловутый «средний», а также «креативный» класс), хотя последние три десятка лет даже миллиардеры, за исключением самых экстравагантных, старались быть как все, иногда доходя до абсурда вроде Билла Гейтса, знаменитого, а также пресловутого.
Господа, рассевшиеся в ротанговых креслах на осторожном отдалении от балюстрады, отделяющей лужайку перед коттеджем от пропасти, густо заставленной то бетонными, то стеклянными зданиями пониже, дружно извлекли из карманов пеналы с сигарами. «Здоровым образом жизни» они явно не озабочивались. К тому же сигара с точки зрения медицины почти безвредна для сердца и лёгких, зато весьма полезна для центральной нервной системы. А возможно, и для вегетативной тоже. И ещё сигара говорит о своём курильщике, о его статусе и психологическом портрете ничуть не меньше, чем марка часов или расцветка и материал галстука. Как говорил Оскар Уайльд: «Если дорогой костюм – это символ статуса, то стильный галстук – символ успеха».
– Ну и как мы на всё происходящее должны реагировать? – спросил после всех обменов приветствиями и непременных на англосаксонском «парти» фраз Латимер Нортон, газетно-журнально-телевизионный магнат, значительно опередивший по числу подконтрольных ему фирм и корпораций знаменитого Хёрста[94], хотя и уступавший уже упоминавшемуся Тафту Хартли.
– Что вы хотите сказать на самом деле, а не обиняками? – тут же отреагировал Джек Бернстайн, номинальный владелец массы хеджинговых, форексных, трастовых и один бог знает каких ещё финансовых компаний и фондов. Фактически он являлся обычным топ-менеджером в руководимой Сарториусом «Системе», но его реальное, без всяких налогов и сборов жалованье, замаскированное под прибыль от бизнеса, превышало полмиллиарда долларов в год. То есть неосведомлёнными людьми он вполне мог считаться полноценным олигархом и самостоятельным игроком.
Примерно в этом же качестве пребывали и остальные участники данного собрания. Никаких принципиальных возражений против смены курса их «большим боссом» они не имели и иметь не могли, поскольку зависели от него, что называется, «с потрохами». О структуре «империи» «шефа» они имели самое смутное представление, не зная даже, является ли Сарториус верхушкой пирамиды или всего лишь высшим по отношению к ним «передаточным звеном».
Но люди они все были достаточно умные, выдающиеся специалисты в отраслях, смотрящими за которыми были поставлены, обладали определённым, правда ориентированным только «сверху вниз» чувством собственного достоинства, и им хотелось разобраться, только между собой, что же происходит на самом деле и чем может закончиться.
Таких, как они, у Сарториуса было несколько десятков, и не только в США, а и по всему миру, включая Китай и Россию, но сейчас только эти шестеро успели созвониться и договориться о встрече. Прежде всего потому, что первой начало «фазового перехода» ощутила на себе именно медиасфера, с которой все были так или иначе связаны.
– Я хочу сказать, что моего уровня компетенции не хватает, чтобы понять, к чему организовано всё ныне происходящее и чем это может закончиться.
– Вы что же, сомневаетесь в обоснованности полученных вами инструкций? – с долей угрожающего ехидства спросил Нат Вайнер – политтехнолог над всеми политтехнологами «свободного мира».
– Не говорите чепухи, Натан. Никто ни в чём не собирается сомневаться. Мы все в одной лодке и не нуждаемся в проверке на лояльность. Но, чтобы наилучшим образом исполнить свою часть общего дела, полезно бы представлять картину целиком, а не заглядывать в дырочку на скрывающее её покрывало.
– Образно, – одобрил Вайнер, – только входит ли в условие задачи ознакомление вас с «картиной целиком»? Не боитесь выйти за рамки?
– Картины? – несколько раз пыхнув сигарой и выпустив большое ровное кольцо дыма, с наивной улыбкой спросил четвёртый собеседник, Мальком Форст, курировавший Федеральную резервную систему, Международный валютный фонд и что-то ещё.
– Картины, если угодно. Нам никто не поручал влезать глубже, чем положено, – ответил Вайнер.
– А разве кто-нибудь влезает? – шутливо выставил перед собой ладони Лорд Харадон, у которого «лорд» было не титулом, а именем. Принадлежал он к какому-то восточному племени, только никто не знал, к какому именно – армянам, ассирийцам, индусам или давно ушедшим в небытие хазарам. Наверное, поэтому он курировал финансовое положение и политический настрой всех более-менее значимых инородческих диаспор обеих Америк и Евразии. – Мы в дружеском кругу просто обмениваемся мнениями. За это нас никто не упрекнёт, пока мы исполняем свои должностные обязанности. Тем более, я надеюсь, мы достаточно давно и безупречно служим, чтобы внедрять в наши ряды шпионов и доносчиков, как говорят в России – «стукачей». Я, например, полностью уверен, что намечающийся поворот в государственной политике этой страны никоим образом не затронет наших с вами интересов. Напротив…
– А я вот беспокоюсь, – сказал шестой участник собрания, Уинтворт Мак-Кей, самый главный адвокат, барристер, солиситор, атторней и прочая[95]. Неофициальный, конечно. «В миру» он владел довольно солидной и авторитетной, но всего одной адвокатской конторой. – Мне эта страна небезразлична, и я обеспокоен…
– Чем же? – подался вперед Вайнер.
– Как раз намёком на внезапный, неконтролируемый слом существующей системы, чреватый хаотическим и разнонаправленным развитием событий. Как в России после внезапного краха коммунизма…
– Но там как раз всё удалось взять под контроль очень быстро, – возразил Вайнер, который здесь был словно бы на особом положении. «Капо ди капи», как это называлось в Италии, «надсмотрщик над надсмотрщиками».
– Это вам только кажется, – опять смутно улыбнулся Хардон. – Уж я-то знаю… Коллега Уинтворт по-своему прав. Ведь что случилось позавчера?
– Что вы имеете в виду?
– Латимер получил распоряжение экстренно объявить всем подконтрольным ему владельцам медиабизнеса, всем без исключения, прекратить ранее начатую кампанию и переключиться на работу по реализации неких «тезисов». Под страхом неполучения никакой рекламы, ни от кого, и одновременного повышения цен на аренду помещений в пять раз и более. Это ведь «большевизм» в чистом виде! Ещё два-три шага в этом направлении, и Америка превратится в бывший СССР или нынешнюю Северную Корею!
– А вам-то что? – с издевательской интонацией спросил Вайнер, против обыкновения затянувшийся сигарным дымом. И не закашлялся при этом. – Заодно прошу заметить, что столь неприятный всем нам Тафт Хартли, «кот, гуляющий сам по себе», получил аналогичное указание раньше вас, немедленно его исполнил и уехал якобы на рыбалку. Куда-то в сторону Кариб… В неизвестном направлении.
– Плевать мне на Хартли, пусть его там кашалот или гигантский спрут сожрёт! А мы? Мы же с вами, независимо от рода занятий, все капиталисты и граждане Свободного мира! Как-то даже странно об этом напоминать…
– Какой вы капиталист? Да и я тоже, – пренебрежительно сказал Мальком Форст. – Мы все – наёмные работники. И совершенно неважно, как называется строй, при котором мы трудимся и получаем жалованье! Да-да, именно жалованье, никак не прибавочную стоимость, которую открыл Маркс. Этот же Маркс писал об «азиатском способе производства», который не капитализм, не социализм и даже не феодализм. Однако и при нём некоторые люди жили очень неплохо. Поэтому я бы предложил, отнюдь не «выходя за рамки», о чём коллега Вайнер нас благоразумно предупредил, всё же обсудить, как нам, здесь присутствующим, морально и практически подготовиться к предстоящему «фазовому переходу». Коллега Лорд, я правильно помню восточную поговорку: «На Аллаха надейся, а верблюда привязывай»?
– Совершенно правильно. Я как раз хотел предложить то же, что и вы, исходя из этой именно поговорки. А откуда вы подцепили этот ваш «фазовый переход»?[96] И что это вообще такое? – заинтересовался Харадон.
– Один умный человек сказал. А объяснять долго. Последний раз что-то подобное было в пятом, кажется, веке. Когда после Рима началось Средневековье…
– Но тогда же ужас, что творилось, – инстинктивно поёжился Натан Вайнер, генетически не выносивший природных, а тем более финансовых и политических катаклизмов.
– Для кого как, уважаемый, для кого как, – философски возразил Харадон. – Варвары, после вонючих землянок поселившиеся в виллах патрициев и взявшие себе жён из лучших римских фамилий, насколько я помню, чувствовали себя очень неплохо…
Глава восемнадцатая
В «Национале» зал, где они заняли столик у окна, тот же самый, что много-много лет назад, был ощутимо другим, чем раньше. Не сказать, чтобы в чём-то хуже, просто другим, и всё. Вид сквозь панорамное угловое окно эркера, оформленное богатыми, собранными в этакие фестоны, бордовыми с золотом шторами, показался чужим. Только здание напротив, прежде Госплан, а теперь – Государственная Дума, осталось прежним, всё остальное из какой-то придуманной жизни.
Наблюдая окружающую их действительность, друзья всё больше склонялись к мнению, что они находятся совсем не на ГИП, а на линии, отслоившейся от неё совсем недавно, в день их «ухода», отчего изменения пока заметны только им, получившим возможность наблюдать жизнь как бы со стороны или же – «из дальних странствий возвратясь». Для прочих, обычных граждан всё если и менялось вокруг, то совершенно естественно, как собственное отражение в зеркале, перед которым бреешься каждый день. А увидел бы вдруг там себя же, но сразу постаревшим на тридцать лет, сильно бы отреагировал, эмоционально!
Вот и здесь. Другие стулья в ресторанном зале, бывший раньше однотонно-гладким потолок расписан, словно в Сикстинской капелле. Чугунные изваяния под восемнадцатый век на мраморных и малахитовых колонках, пальмы в кадках по углам. Эклектика ещё та. Стиль «Сделайте мне красиво!». Официанты одеты по-другому, папки меню оформлены иначе и предлагаемый выбор блюд и напитков не совсем тот. Даже в сравнении с тем, что они видели здесь же несколько лет назад, когда, впервые проникнув обратно на ГИП, заглянули одним из вечеров сюда же.
Впрочем, это как раз не слишком удивительно – в этой Москве всё менялось с лихорадочной, как некогда было принято выражаться, быстротой. Исчезло множество зданий, стоявших на своём месте чуть не веками, на их месте возникали иногда вполне симпатичные, иногда жутко уродливые новоделы. Бог знает во что превратилась Манежная, двадцать лет пробывшая «имени 50-летия Великого Октября площадь», в просторечии сразу же, в шестьдесят седьмом, получившая удобную кличку «полтинник».
Так что же говорить об интерьере одного из бесчисленных московских «заведений общепита» при гостинице, с некоторых пор именуемой «Националь. Отель люксури коллекшн»! Глупо, конечно. Та же «смесь французского с нижегородским», что процветала в России начала девятнадцатого века.
Впрочем, им, нынешним, виднее. Это их мир и их жизнь. Однако старого, привычного оформления было жалко. Тем более что чувствовалась во всём какая-то трудноуловимая неправильность. Никак не получалось сообразить, в чём она заключалась. Не зря же Лем в «Сумме технологий» писал, что, находясь внутри фантомата, невозможно определить, иллюзия вокруг или реальность. Тогда откуда ощущение? Что-то из окружающего выглядит вполне достоверно, а от другого отчётливо разит грубой подделкой. Как в театре – из зала декорации выглядят вполне пристойно и достоверно, а взглянешь на них из-за кулис – совсем другое впечатление.
Но задумываться об этом всё время нельзя – умом сдвинешься. Проще и разумнее принимать всё, как есть, повторяя на всякий случай мантру: «Ловушка, я в тебя не верю».
Об этом сейчас и говорили Новиков с Шульгиным, не преминув отметить, что непременно приходят к теме неадекватности окружающей реальности именно после очередного возвращения из пространственно-временных экспедиций.
– Такое впечатление, что Шекли с его идеей Искажённого мира прав больше, чем Антон…[97] – меланхолически сказал Сашка, помешивая серебряной с позолотой ложечкой кофе, который совершенно в этом не нуждался из-за отсутствия в нём сахара.
– Ещё бы не прав. Особенно последние слова: «Бессмысленно провести жизнь в попытках выяснить, есть ли у нас жизнь, которую можно как-то провести…» – согласился Новиков.
– Посему пусть папаша Марвина продолжает пасти крысиные стада, мамаша безмятежно нести яйца, а мы так и будем бесконечно мчаться вверх по лестнице, ведущей вниз…
– Если не остаётся ничего другого – как мы решили ещё в первую зимовку на Валгалле, – подвёл итог время от времени всплывавшей в разговорах между ними теме Андрей. – А знаешь, что я ещё придумал?
– Ну? Неужто можно придумать что-то оригинальное после всего, что было?
– Выходит, можно. Разумеется, только в «сфере чистого разума». Старика б Удолина сейчас сюда, его мнение спросить. Мне отчего-то кажется, что именно наши попытки возвращения на ГИП из параллелей каждый раз вызывают этакое «весеннее обострение». Что он скажет по этому поводу с чисто мистических позиций?
– Скажет… Он такое скажет… – Сашка обречённо махнул рукой. – Ему, с пережитками первой половины четырнадцатого века, наши с тобой проблемы… Но давай позовём, – весьма нелогично продолжил он, – делов-то. Свяжусь сейчас с адмиралом – пусть найдёт и переправит (подходяще одетого и проинструктированного) в свободную кабинку здешнего туалета. А мы пока давай приступим. Ностальгировать так ностальгировать. И стул разверни: в эту сторону, вверх по Тверской ничего особо оскорбляющего взоры не просматривается, не то что новая «Москва» и церетелевские уродства…
Хорошо было ещё и то, что пришли они в «Националь» в удобное время – посетителей совсем мало, в их эркере на три столика, кроме них, – никого. Поблизости – тоже. Само собой, и «цена отсечения» здесь срабатывает. Не так много даже и в Москве людей, готовых без особого повода забежать в один из самых дорогих кабаков, оставить полумесячную зарплату за кофе, графинчик негарантированно армянского коньяка и несколько валованов с икрой, когда буквально в двух шагах можно «шикануть» за вдесятеро меньшую сумму. Это попозже вечером появятся люди, которым и сотня тысяч – не деньги.
Удолин появился ровно через полчаса, под донёсшийся с Красной площади перезвон курантов. Хотя там, где его нашёл Воронцов, времени прошло гораздо больше, поскольку профессор успел и переодеться сообразно учёному званию, исходя из реалий XXI века, и выглядел свежевыбритым, хорошо причёсанным, практически трезвым.
– Привет, привет, дорогие друзья, – расцвёл он в старорежимной улыбке, с любопытством разглядывая интерьер. Кивнул неопределённо, то ли одобрительно, то ли с сомнением, и присел на предупредительно выдвинутый Шульгиным стул. – Недурно, совсем недурно. Однако я бы сказал, что в момент открытия, в девятьсот втором году, здесь было попристойнее. На мой тогдашний вкус, конечно. Меня тогда помощник градоначальника, бывший мой студент, пригласил. Очень всем понравилось. Как бы символ наступившего двадцатого века, от которого так много ждали. Куда как больше, чем здесь от теперешнего двадцать первого. А сейчас да, пошловато, пошловато… Прав был, ох как прав Мережковский со своим «Грядущим хамом»…
Друзья охотно с ним согласились.
– Закажите что-нибудь, Константин Васильевич, – Шульгин указал на спешащего к ним, довольно представительного официанта более чем средних лет, – да и поговорим…
При этих словах в глазах Удолина что-то промелькнуло.
«Неужто опасается, что сейчас начнём про обстоятельства его бегства расспрашивать? – подумал Новиков. – Два года прошло, а какую-то вину за собой чувствует? Да нет, на него не похоже».
– Как же не заказать, обязательно закажу. Всё-таки это весьма приятно, когда можно не обращать внимания на правую колонку в меню…
– А то вы раньше, «до исторического материализма», так уж обращали, – приподнял бровь Шульгин.
– Превратные, превратные у вас представления, Александр Иванович, о материальном положении профессуры Императорских университетов. Побогаче, конечно, жили, чем рядовой обыватель, но шиковать… Отнюдь! Приличная съёмная квартира в центре (это если казённой не положено), одеться прилично, у хорошего портного, заметьте, не в «Готовом платье», книги покупать, журналы выписывать. Пулечку по субботам расписать – далеко не всегда выиграть получалось. Так что рестораны – только по большим праздникам. Рублей двадцать пять – тридцать в месяц на такие дела мог выделить, и всё. В основном в трактир к Тестову хаживал, там за три рубля и накормят, и напоят, так что из-за стола не встанешь…
Удолин, по застарелой привычке, активизированной предстоящим ужином в хорошей компании, включился в режим «непрерывного огня» и настроился плести кружева ассоциаций, стремительно удаляясь от стартовой посылки.
– А разве?.. – попытался включиться в тему Новиков, но тут же и получил ответ на ещё не заданный вопрос.
– Вы забываете, что я тогда числился всего лишь экстраординарным профессором, по кафедре всеобщей истории. Не присяжным поверенным, не модным гинекологом… Те зарабатывали, да. Тысячи зарабатывали, виллы на Капри строили, как этот ваш пролетарский… Горький, да! Ему тогда за печатный лист платили больше, чем мне за месяц лекций в университете. «Босяцкие рассказы», вот именно! А со своих… побочных интересов я совсем никаких доходов не имел. Не алхимией занимался, золота из дерьма не изготавливал, вот именно. Не семнадцатый век, покойников, знающих тайны пиратских кладов, в московские морги не каждый день привозили, знаете ли…
– Ну, вечная жизнь и технология выходов в астрал – тоже неплохо, – возразил Шульгин. – На врачах экономили. Знаменитый Боткин, я читал, по двадцать пять рублей за визит брал. Независимо от результата.
Давно они так вот с Удолиным не беседовали, на приватные темы, успели соскучиться по его манере.
– Кто же спорит… Хорошие врачи тогда были в цене, пусть супротив нынешних и десятой доли не умели. Но вальяжность, апломб, высочайшая культура общения… Лучше многих новомодных медикаментов помогало… Временами…
Удолин спохватился, увидев, что официант так и стоит рядом с отсутствующим лицом, делая вид, что даже и не слышит, о чём гости разговаривают. А может, и вправду не слышит. Профессиональная способность. Если вникать в непрерывную, много лет подряд с обеда и за полночь, болтовню клиентов, свободно умом подвинешься. Да и клиент – он ведь разный бывает. Заметит в глазах хоть тень заинтересованности – неприятностей потом не оберёшься.
Впрочем, в сталинские времена, в которые всем пожить довелось, практически вся обслуга подобных заведений сексотами в НКВД числилась. Так что слушали внимательно. Да и сейчас, наверное…
– Сообрази-ка нам, любезнейший… – и Удолин перенёс острие красноречия на новую жертву, став вдруг крайне похожим на профессора Опира во время обеда с Жилиным[98].
К сути вопроса, ради которого Удолин и был извлечён с Валгаллы, удалось перейти только минут через сорок, когда профессор основательно насытился и привёл в нужный тонус свои физическую, тонкую и эфирную составляющие. Похоже, на Валгалле он питался крайне нерегулярно, и в основном консервами, подъедая некогда созданные «Братством» многолетние запасы. К охоте ни он, ни прочие члены его некромантской команды склонности не имели, и не только по высшим соображениям, но и от обычной лени.
Мало того, что бродить целыми днями по окрестным лесам в поисках подходящей дичи, а потом ещё и возиться со свежеванием и готовкой желающих не находилось, так ещё и оружие нужно было чистить со всем тщанием, ибо за грязь и нагар в стволах Шульгин взыскал бы куда строже, чем просто за мусор, разбросанный во дворе. Тот давний урок, когда Сашка заставил «колдунов и чародеев» в метель долбить большими саперными лопатами мерзлый грунт и закапывать отходы своей жизнедеятельности, запомнился твёрдо.
А почему компания основательно обосновалась именно в форте Росс, а не в более тёплом и близком к культурным центрам замке под Царьградом? Константин Васильевич заявил, что Валгалла, в силу своего названия и удачного межзвёздного расположения, идеально подходит для научных изысканий в потусторонних сферах. Человеческое психополе вместе с ноосферой якобы там отсутствуют. И всяческой мистикой можно заниматься в комфортных условиях, вроде как астрономам предпочтительнее устанавливать телескопы на вершинах гор, где атмосфера потоньше и воздух чище… Да и к звёздам ближе, коротко хохотнул он при последних словах, показавшихся ему остроумными.
Шульгина, так и оставшегося первым и последним комендантом форта, это вполне устраивало. Оставленные людьми дома, даже такие основательные, как терем из брёвен диаметром в аршин, ветшают и разрушаются поразительно быстро. Да и собачкам присмотр нужен.
– Давно хотел спросить, Константин, как оно, под вашим углом зрения, не мерещится порой, что мы каждый раз возвращаемся «не туда»? – спросил Андрей, когда профессор жестом патриция велел официанту очистить стол от пустых и полупустых тарелок и извлёк из крокодиловой кожи портсигара, едва помещавшегося в боковом кармане пиджака, длинную и тонкую бледно-зелёную сигару.
«Тоже из моих запасов, – отметил Шульгин, – хорошо ребята устроились. Прямо посередине скатерти-самобранки. Года на полтора пожрать и выпить должно хватить».
– А вам, Андрей, это что, только сейчас в голову пришло? Неужто Гераклита до сих пор не читали? Как только мы хоть на мгновенье выпадаем из потока, та вода, в которой пребывали, утекает навсегда, а новая уже и по химическому составу другая, и по температуре… Я точно помню, что мы именно об этом уже говорили, и даже этими же самыми словами. Или не с вами, а с Олегом и Ларисой? – Он потёр пальцами виски.
– Склероз? – сочувственно осведомился Шульгин, исключительно чтобы поддеть собеседника. Так-то он прекрасно знал – обычным биохимическим и психическим процессам некромант почти не подвержен. Вон одного из его коллег, пирующих сейчас на Валгалле, сожгли живьём, было время, с соблюдением нужных ритуалов, и то выкарабкался без особого ущерба, просто тело пришлось очень долго почти по молекулам собирать, для полной идентичности.
– Какой там склероз, – отмахнулся Удолин. – Принцип неопределённости всего лишь. О котором мы, в сущности, и говорим. Либо достоверна личность, с которой я общаюсь, но прочие факторы пребывают в динамике, либо наоборот. Вот согласитесь, об обстоятельствах нашего, гм, скажем так, расставания на «второй Земле» у нас с вами сохранились не совсем совпадающие воспоминания?
– Не могу спорить. И это уже не в первый раз. А обстоятельства вашего спасения из лап Агранова не рознятся, ни у нас с Андреем, ни у вас, ни у Якова[99]. Это как?
– И об этом мы рассуждали. Это ведь было наше первое знакомство? Эрго, никаким коррекциям извне оно не подверглось и не могло подвергнуться. А вот каждая последующая встреча уже происходила в контексте предыдущих, подвергалась воздействию колебаний мирового эфира в той или иной степени. В общем, такая же разница, как при просмотре кинофильма-экранизации известной пьесы и посещении разных её постановок на театре. Даже если артисты те же, и режиссёр, текст канонический, однако… А если режиссёр поменяется, да актёры начнут дурака валять, отсебятину нести…
– Это только нас с вами касалось? – заинтересовался Новиков. В этом аспекте они проблему, пожалуй, не обсуждали.
– В интересующем вас смысле – пожалуй. Если меня устранить, получится просто другая пьеса.
– Но мы в данный момент, – Андрей для убедительности даже пристукнул ладонью по столу, – на той же исторической последовательности, как нам кажется…
– А почему, если не секрет, у вас именно сейчас этот вопрос возник? И весьма остро, раз меня на краю света, причём в буквальном смысле, разыскать не затруднились. За что я вам, кстати, весьма благодарен. – Он осмотрелся по сторонам и, отставив левую руку с зажатой между пальцами сигарой, снова потянулся к графинчику. – В вашем форте иногда такая «вельтшмерц»[100] накатывает. Всё же пятьдесят парсеков от ближайшего человеческого жилья – многовато. На психику давит…
– Временной перепад на удивление крутым оказался. Раньше несколько дней, ну неделя деформации, а тут – целых два года. Вот изменения в глаза и бросились, – ответил на содержательную часть тирады Удолина Андрей.
– Это для кого как. Для меня – месяца полтора мы не виделись. Для супруг для ваших, – он изобразил полупоклоны в сторону каждого из друзей, – примерно столько же. Для Воронцова с пароходом – даже не берусь сказать. А если конкретно вот здешнюю Москву брать и параллель императорскую, для тех, кто в них безвыездно пребывал, тут да, те самые два года и получаются.
– И вы, репатриировавшись с Валгаллы, ничего не замечаете? Сюда вы вернулись или в какое-то другое измерение?
– В данный момент? Нет, не замечаю. Только вы неправильно вопрос ставите. Так астрально-эфирно сложилось, что освоенные нами сюжеты, альтернативы, как вы выражаетесь, в которых мы как бы «прописку» имеем, для нас уже по-любому жёстко фиксированы. Помните про «скорпиона в янтаре»? Этот янтарь вы теперь можете хоть на другой конец земли пересылать, в золото, серебро или платину обрамлять – скорпиону не холодно и не жарко. Улавливаете? Вот когда и если он из своего янтаря выберется – тогда для него что-то новое и интересное может начаться… Если от соприкосновения с воздухом иных эпох тут же в прах не рассыплется…
– Да, наговорили вы, Константин Васильевич, – покачал головой Новиков. – То в лес, то по дрова…
– А чем дальше в лес, так не лучше ли ну его на хрен? – добавил Шульгин, тоже закуривая. С Удолиным разговаривать, конечно, интересно и полезно, познавательно зачастую, но уж больно утомительно.
– Не в нашей воле, увы, Александр Иванович. Но мы так и не добрались до сути вашей проблемы, коллеги. Что вас, так сказать, непосредственно подвигло призвать меня из космических далей?
– Помните Радищева? «Поглядел я окрест, и душа моя уязвлена стала»? – осведомился Новиков, машинально, как советский разведчик в Германии, разминая сигарету.
– Помню, конечно. А какое отношение? Здесь, по-моему, не в пример приличнее, чем на дороге из Петербурга в Москву, да ещё в восемнадцатом веке поздней осенью…
Далеко не чужд красот слога и воображения господин профессор.
– Понимаете ли… Там, в ваших эмпиреях, – Шульгин указал сигаретой на потолок, где действительно плыли облака по синему небу и парили какие-то амурчики с ангелочками, – не до злобы текущего дня. А здесь, на земле… Оставили мы младших товарищей без присмотра, они и пустились во все тяжкие. Опять мир на грань гражданской войны вкупе с третьей мировой ядерной поставили. Не по своей вине, – тут же оговорил он, – а исключительно естественной логикой катящегося под гору автомобиля без руля и тормозов…
– Вот как? А я и вправду ничего не заметил. Значит, эфир ещё недостаточно возбудился и возмутился. Но я вашему чутью и стратегической оценке вполне доверяю. И что в итоге? Коньячку извольте вам плеснуть? Весьма недурственный продукт.
– Семь тысяч рублей бутылка стоит, – улыбнулся Новиков, с интересом ожидая, среагирует ли профессор нужным образом.
Не подвёл. Тоже расплылся в улыбке:
– И стоит того, сын мой, и стоит… В царских рублях, может, дороговато было бы, а в нынешних – ничего.
– А в итоге, Константин Васильевич, сидим мы и размышляем. Никаких иных путей к нормализации обстановки что в России, что на планете Земля в целом не просматривается, кроме как…
– «Приказ принять решительные меры и гарнизон к присяге привести…» – процитировал Новиков. – В этом примерно роде. Кардинально решить вековую проблему. Хирургически, если угодно. Течение истории показало, что приличным образом сосуществовать англосаксонская цивилизация с российской не могут. При этом постоянная агрессия, политическая, экономическая, да и военная, исходят только с одной стороны. Россия уже триста лет только и повторяет: «Давайте жить дружно», моментами уподобляясь в некотором смысле обычному юродивому, напрочь выпавшему из реальности. Терпеть такое положение уже просто бессмысленно. Не проще ли оправдать возлагаемые на нас надежды и сделать уж то, чего от нас веками ожидают?
– Уничтожить англосаксонский мир? – не в шутку заинтересовался Удолин.
– Не так, чтобы совсем, – пожал плечами Шульгин. – Сердца наши полны жалости. Просто отнять у них все опасные предметы, которыми они так упоённо размахивают, и чётко очертить границы, внутри которых они могут реализовывать своё «стремление к счастью». Ничего больше. США – «Америка для американцев», от канадской границы до мексиканской. Гавайи и Аляска – уже лишнее. Их гордым «кузенам» привычный слоган оставить: «Правь, Британия, морями!» Но какими? Ирландским и половиной Северного. Вполне достаточно для самоуважения и прибрежного рыболовства.
России тоже лишнего не надо, просто обеспечить себе, впервые в истории, безопасность, разумную и достаточную. Чтобы не осталось в мире сил, с которыми мы не могли бы справиться без всеобщей мобилизации и бесчисленных жертв.
– Уже придумали, как? – деловито спросил профессор.
– Придумать-то придумали. У нас всё же и жизненный опыт специфический. С самого рождения с одной главной мыслью жили – «кто кого?». Причём ежедневно и ежечасно убеждались, что мы – за мир, а вот они только и ждут момента. Сейчас архивы раскрылись, и оказалось – так оно и было. Всё ж таки в СССР никто с трибун партийных съездов не кричал: «Лучше быть мёртвым, чем звёздно-полосатым». С тех пор ничего не изменилось. А пора бы. Одним словом, дело вот в чём – вопрос один, и, кроме вас, на него никто не ответит.
– Что за вопрос?
– Выдержит ли эфир и «мировое равновесие» такой фазовый переход? Не свалится ли в водоворот неуправляемого хаоса, в то самое безнадёжное инферно, о котором писал Ефремов?[101]
– Конечно, вы надеетесь на переход без мировой термоядерной войны? И без какого-либо ущерба для России, для «Братства», для ваших грандиозных планов слияния русских цивилизаций? – Друзьям послышался в голосе Удолина некий, не слишком старательно замаскированный сарказм.
– Вот-вот, – в тон ему ответил Новиков, – чтобы все остались здоровыми и богатыми… Конечно же, мы намереваемся обойтись не только без термоядерной, но и без самой скромной локальной войнушки. Но – с применением фантастической для человечества техники, нашей, аггровской и форзелианской. В полном объёме. Вы же знаете – как ни странно, но ни те, ни другие своих реальных возможностей в противостоянии цивилизаций не использовали. Действовали исключительно «мягкой силой». Даже аггры, когда поняли, что проигрывают однозначно. А чего бы им терять, казалось? Но – сохранили верность принципам и проиграли. Осталась Дайяна со своей Базой, курсантами и складами, набитыми Шарами, гомеостатами и блок-универсалами. Хотя даже она одна могла нас в пыль растереть, как брамин муравья сапогом, просто в отместку…
Андрей сделал паузу, помолчал, глубоко затягиваясь и медленно выпуская дым в приоткрытую форточку.
– Так случайна ли эта сдержанность? Из-за настоящей опасности «перебора» они вели себя, как энтомологи в заповеднике? А может, просто правила игры соблюдали? Мы до сих пор дёргаемся, «проклятые вопросы» себе и мирозданию задаём (сейчас, кстати – тоже), верим, что люди вокруг и мы сами – субъекты чего-то, по малообразованности называемого «историческим процессом». И поверить, что конь в шахматах буквой «Г» не ради какого-то высшего смысла ходит, а просто так – не можем… Воспалённый уровень самоуважения не позволяет!
Новиков неожиданно для себя потерял недавнюю рассудительность и сократическую философичность. Начал горячиться, как в молодости во время популярных тогда институтских и даже общегородских диспутов на животрепещущие темы вроде «Кто нам сегодня нужнее, физики или лирики?» или «Кого мы не возьмём с собой в коммунизм?». Политизацию таких диспутов власть старалась не допускать, но получалось у неё это плохо. Потому в процессе медленного «похолодания оттепели» прикрыли и эту «лавочку». Как раз в раннебрежневские годы. Впрочем, после шестьдесят восьмого года этот процесс стал общемировым[102].
– Мы тоже бессмысленных жертв не хотим, – докурив, слегка сбавил он тон, – ни с чьей стороны. И на этом свою тактику и стратегию строим. Однако впервые придётся согласиться с реальной гибелью многих людей с Главной исторической… До этого – ну, не всерьёз как-то всё происходило. Давно забытая Гражданская война, семьдесят лет назад завершившаяся Отечественная… Про англо-буров и говорить не стоит. Все уже давно случилось, в книжках описано, погиб от наших забав кто-то в тех иных реалиях или нет – никакой разницы. По-любому к моменту наших упражнений все персонажи давно лежали в своих могилах. Ту историю переигрывать – что пьесы Шекспира к своим вкусам адаптировать. И автору, и его текстам сугубо до фонаря. Не керосинового даже – масляного. А сейчас… Не на муляже, на живом человеке тренироваться ампутации делать. Мы понимаем, конечно, что вред, предотвращённый многократно, превышает вред, нанесённый в процессе этого самого предотвращения… Однако предотвращено что-то там или нет – это абстракция, а делаемое здесь и сейчас – сугубая и зримая реальность. Ногу уже отпилили, а гангрена, оказывается, в умозрительном плане – не предполагалась!
– Всё то же: «Цель оправдывает средства», – академическим тоном, безоценочно произнёс Удолин. – Насколько я понимаю, вас волнует правомерность применения этого принципа?
– Скорее – нет, – ответил Шульгин. – Оправдывает – не оправдывает, из той же обоймы хохмочка, что и «С какого числа зёрен начинается куча?». Вопрос в другом – само такое «потрясение основ» в виде привнесения в мир новых сущностей чего-то вроде схода лавины не инициирует?
– Вас только это беспокоит?
– Только. Всё остальное сделано до нас и без нас. Если угодно – сейчас ситуация типа августа девятьсот четырнадцатого. Первая мировая – это было очень плохо. Но если бы кто-то тогда взял и смешал уже розданные карты? Как, «прекрасный старый мир» продлился бы на многие десятилетия или человечество в шестнадцатом или восемнадцатом пришло бы к чему-то ещё более ужасному? Например, сразу начало бы войну тысячами тонн иприта и люизита, выливаемыми с дирижаблей на Париж, Берлин и Лондон?
Удолин долго молчал, глядя в потемневшее окно. На Тверской уже включилось уличное освещение и засияли бесчисленные рекламные конструкции. Жестом совершенно автоматическим некромант взял со стола фужер, плеснул в него коньяка до половины, выцедил, как воду, погружаясь в транс. Новиков с Шульгиным тихо встали, отошли к окну, чтобы случайным посторонним звуком не помешать процессу.
Получивший от Новикова приличную мзду, официант деликатно рассаживал постепенно прибывающих гостей подальше от эркера. Но честно предупредил, что, как только свободных мест в зале не останется, лафа закончится.
– Вы же мне за восемь посадочных мест выручку не компенсируете? И мэтру тоже.
– Нормально, не переживай, через часик уйдём. Тогда таблички и снимешь. Кстати – заговоров мы тут не плетём, можешь в МГБ не стучать. Режиссёры мы, нам просто в тишине сценарий нового фильма обсудить надо…
– И к чему это? – спросил почти шёпотом Шульгин, опершись ладонью о подоконник. Хотя только что чётко подыгрывал Андрею, безукоризненно подавая нужные реплики. Как по написанному. – Так страшно стало, что благословение потребовалось получить? Не замечал за тобой такого…
– Страшно – не страшно, а сомнения присутствуют. Наполеон тоже, говорят, перед тем как вторгаться в Россию, всю ночь не спал, вокруг палатки бегал. И Цезарь, помнишь, жребий бросал на берегу Рубикона. Всё ж таки действительно, обратной дороги не будет.
– А когда у нас она была? Как ты решил помочь Ирине из шестьдесят шестого Берестина вытаскивать, так и амбец… Или – ещё раньше. Когда согласился с дважды бросившей тебя женщиной по третьему разу отношения возобновить…
– Вот про это – давай не надо. Касательно же «спасения» Берестина… Тогда ощущение было, что не всерьёз всё это. Кино снимаем, в исторические реконструкции играем. А сейчас – по-настоящему. Я ж не просто так болтал, я чувствую… Главная историческая всё-таки. Это как спинной мозг оборвать. Руки-ноги сразу отнимутся. Если наоборот – неприятно, но не фатально. Здесь вместо рук и ног – параллельные реальности… А какой экзитус – ты лучше меня знаешь.
– Опять тебя в рефлексии понесло. В отпуск надо…
– Какой уже раз собираемся? Да не выходит никак, только запутывается всё, – с едва заметным напряжением ответил Новиков. – А деда я пригласил, чтобы он со своей точки в Гиперсеть заглянул. Не с твоей, не с моей. Он ведь, в отличие от нас, предрассудков не имеет, наших планов не знает. И все параллели для него равноценны. Что увидит, то и скажет. Не в первый раз…
– Сказал бы мне, я б на «Книге перемен» погадал. Толку столько же…
– Конфуций не в теме. Геополитика при нём другая была…
– А ему без разницы: США и Россия или гунны и царство Мин…
– Эй, товарищи, – раздался голос Удолина. – Я вернулся. И вы возвращайтесь.
Возвращаться было недалеко, три шага всего лишь.
– Сразу хочу вас успокоить. Никаких новых потрясений от вашего вмешательства в этот реал не предвидится. И историческая линия по всем признакам та самая, что и раньше.
– Та, значит, та, – с долей сомнения в голосе согласился Шульгин. Ему, как говорится, по большому счёту результат очередной авантюры был не то чтобы безразличен, но – нервов не щекотал. По-настоящему увлекательна была самая первая, двадцатого года. Там действительно азарт присутствовал, даже зашкаливал моментами. Молодые совсем были, энтузиазмом переполненные, затея переписать историю казалась до чрезвычайности заманчивой. Душевных сил было немерено, исторический оптимизм наличествовал.
– Меня, собственно, всерьёз только одно интересует…
– Возрастёт ли в результате ваших действий сумма человеческого счастья? – по-мефистофельски приподнял бровь Удолин. Но иронии в его голосе не было.
– С каких это пор вы начали рассуждать в подобных категориях? – удивился Новиков. – Вот бы никогда не подумал. Вы как-то всё больше «по ту сторону добра и зла».
– Отнюдь, друг мой, отнюдь. Мы всегда на стороне добра, в самом каноническом его понимании. И счастье, причём на Земле, а не на небе, входит в непременный комплект, если хотите. Вы ведь, сражаясь с большевиками, ещё тогда, – он неопределённо махнул рукой, но вышло – в сторону Столешникова, – не о наживе и не о власти думали, а чтобы людям лучше стало? Не так?
– Да так всё, так, только с этим счастьем… Всё время «Понедельник» вспоминается и НИИЧАВО[103]. Попроще бы – станет ли жизнь на планете безопаснее, сумеем ли мы прекратить трёхсотлетнее безумие, получится ли у России впервые после Батыева нашествия пожить, как в какой-нибудь Швейцарии? Нас не трогают, мы никого… А иначе зачем вообще затеваться?
– Сами всё не хуже меня знаете. Пример перед глазами имеете – ту Россию. Почти сто лет спокойно жили, и опять на грани мировой войны.
– Да для нашей бы сто лет – предел мечтаний. А там пусть потомки разбираются. Особенно если с Олеговой Империей объединимся, врангелевскую подтянем, в перспективе и ростокинскую. – Шульгин посмотрел на часы, как будто ему было куда торопиться. Перевёл взгляд на стол, с которого официант убрал всё, кроме рюмок, и как-то незаметно подал вновь полный графинчик с сопутствующим в виде тонко нарезанного, посыпанного сахарной пудрой лимона и большой розетки, полной ломтиков развесного горького шоколада. Он коньяк не заказывал, точно. Значит, профессор ухитрился, входя в транс, или уже прямо из него сделать посыл «услужающему», который его уловил и немедленно исполнил.
– Известно ведь – свято место пусто не бывает. «Уйдут жестокие из сильных, придут сильные из слабых». Так, кажется? – ехидно улыбнулся Удолин, демонстрируя знакомство со сравнительно современной литературой.
– Приблизительно. Но, допустим, с «жестокими» мы разберёмся, а на «слабых» того же Катранджи напустим. Наш сукин сын среди прочих, не наших, порядок наведёт, и «пусть расцветают сто цветов», а мы будем ими любоваться, из безопасного далека… – ответил Новиков.
– Катранджи не Катранджи, и свои здесь найдутся. Главное – вовремя очередного «крысиного волка» под своим контролем вырастить и в нужный момент, по миновании надобности, – ликвидировать. И начать готовить следующего… – продолжил мысль Шульгин.
– Да, такая конструкция может просуществовать достаточно долго. Но вы догадываетесь: подобная «справедливость» в вашем понимании – это жесточайшая несправедливость в глазах миллионов других людей? В глазах коллективного бессознательного доброй половины цивилизованного мира вы, точнее – Россия целиком окажется узурпатором свобод, мировым жандармом, кем там ещё принято её обзывать? Они не привыкли и не захотят жить «по русским лекалам».
– А нам какое дело? Запретить бандитам грабить на больших дорогах – по-любому благое дело… А если они перестанут грабить – пусть живут, как хотят. России нет дела до их «имперских комплексов».. Как и им не должно быть до наших. В девятнадцатом веке Бразилии и империи Николая Первого пришлось бы очень постараться, чтобы найти повод и возможности для вооружённого конфликта. Хотя Бразилия была тоже вполне себе империя[104]… – Сашка потянулся к графину. Не зря ведь французы говорят: «Ле вин э тире, иль фо ле буа!»[105]
– Осталось уточнить – кого считать бандитом, что такое «грабить» и где пролегает «большая дорога», – ухватил рюмку Удолин, не переставая изрекать очередной софизм.
– А вот уже бы и хватит, – неожиданно резко перебил его Шульгин. – Достал ты своими философиями. Вы там со своей кодлой скоро совсем по-человечески говорить разучитесь. Обратно бы вас в «Высокое средневековье»[106] вернуть – сразу б мозги проветрились. На любую из тамошних «больших дорог». С мешком золота и без оружия… «Суха теория, мой друг!» Дальше знаешь?
– Всё, всё, молчу, – замахал свободной от рюмки рукой профессор. – Скорее всего правы вы, а не я. Мы не буддисты, почему и должны признать, что всякое деяние предпочтительнее недеяния…
– Короче, можно считать, что «научное заключение» от специалиста получено и летальными последствиями для человечества намеченная операция не грозит? – попытался подвести итог никчёмной, в общем-то, беседе Андрей.
– Для человечества – безусловно, нет. На всём доступном обозрению протяжении Гиперсеть сохраняет и целостность, и обычную структуру. Но что касается судеб отдельных личностей… Едва ли утверждение о том, что атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки приблизили окончание войны и обеспечили невиданное в прошлом процветание человечества, может являться утешением для тех людей, что имели несчастье попасть под означенный удар. И для их родственников…
Новиков обречённо сплюнул, символически, конечно, и отвернулся к правому окну с видом на Иверские ворота и кремлёвские башни, подсвеченные прожекторами.
…Среди списка «неотложных мероприятий», переданного Шульгиным Лютенсу, содержалось и весьма интересное предписание президента США военному министру, председателю комитета начальников штабов, морскому министру и главкому ВМФ. Этим документом означенным лицам предлагалось незамедлительно начать в условиях строжайшей секретности, не ставя в известность правительства и военные власти соответствующих государств, экстренную передислокацию ВСЕХ подразделений, частей и соединений сухопутных войск США, ВВС, ВМС и морской пехоты в места их постоянного расквартирования. В случае отсутствия таковых (очень многие базы изначально формировались как самостоятельные подразделения, не имеющие кадрового ядра на собственно американской территории) следовало или размещать выводимые войска в уже имеющихся военных городках и базах, или отправлять «излишний персонал» в долгосрочный оплачиваемый отпуск. Кроме того, рекомендовалось в качестве разновидности «внезапной проверки боеготовности» отработать методику размещения войск на неподготовленной местности, в условиях, приближенных к боевым.
Большую часть техники и снаряжения предлагалось оставить на месте, превратив бывшие военные базы в «базы хранения» под присмотром минимально необходимого числа рядовых, специалистов и офицеров. В последующем, по опыту окончившейся семьдесят лет назад Второй мировой войны, намечалась широкая распродажа «излишков» государственным учреждениям «стран пребывания» и частным лицам. В сороковые годы такие распродажи принесли военному министерству США миллиардные, практически не учитываемые прибыли, сказочно обогатили всех, причастных к этой «акции», и обеспечили население разорённых войной стран дешёвой одеждой, обувью, техникой и оружием.
Прочитав эту бумагу, Лютенс сначала испытал состояние, близкое к шоковому, пока вникал в смысл слов и фраз с позиции сотрудника ЦРУ и просто должностного лица вчерашней Америки. Для него это выглядело не то чтобы странно – просто дико, ни с чем не сообразно, катастрофически и предательски. Что значит – ликвидировать военные базы, на создание густой сети которых по всему миру потрачено столько сил, денег, пролито крови (в основном – чужой)?! Только эти базы и позволяют держать остальное человечество за горло то просто «железной рукой», то рукой, одетой в «бархатную перчатку».
Уйдёт Америка с Филиппин, Гуама, Диего-Гарсии, Гренландии, из Германии, Японии, Испании, Италии, Нидерландов, Панамы, Турции и прочая, и прочая, и прочая (как завершали титул российского императора, устав перечислять его титулы и владения) – что останется от её «грозной мощи» и «мягкой силы». Куда вмиг исчезнет «несокрушимая свобода»?
Дочитал до конца, подумал немного, хмыкнул и покрутил головой, как Сухов в «Белом солнце пустыни» – «Павлины, говоришь!». Если он уже не полковник Лютенс, а сотрудник «Института» Владимир Шеховцов – то очень остроумная и своевременная инструкция к нему в руки попала. Даже президенту её в руки сейчас давать не надо. Передать сразу Келли и пароль, сообщённый Шульгиным, назвать – пусть крутится. Что интересно – и его, и генерала Паттерсона, и сотню как минимум высокопоставленных вояк всех родов войск это предписание обрадует до чрезвычайности. Не передать, как обрадует. Ничуть не меньше, чем их советских коллег, от генерал-полковников до прапорщиков обрадовал в своё время ельцинский указ о бесконтрольном и экстренном выводе армии из стран Варшавского пакта и бывших союзных республик. Какой там, к чертям, Клондайк! Это намного, намного богаче, а главное – интереснее.
Представить, например, генерала или адмирала с Субик-Бея на Филиппинах, получившего этот приказ. Он полчаса соображает, потом проводит экстренное совещание с ближайшими друзьями и приглашает на чашку кофе своего смуглого коллегу, главкома тамошних ВМФ, к примеру. Ещё через несколько часов генерал или адмирал N становится обладателем роскошной виллы на одном из самых прелестных островов и очень приличного счёта в банке Манилы. А филиппинский коллега завтра же открывает оптовую и розничную торговлю всем, что ему приглянется в бывших американских владениях.
А если учесть, что всего подобных баз на Земле более восьмисот, а старшего, среднего и младшего комсостава на них раз в сто больше (способного воспользоваться пролившимся золотым дождём), то президент Ойяма получает очень солидную поддержку не последних в этой стране людей.
Кто окажется в стороне от делёжки пирога – будет доволен, что вернулся домой из надоевших тропиков или промороженной Гренландии, с хорошими «отпускными» и возможностью на всю катушку отвлечься от «тягот и лишений военной службы». А заплатить «ветеранам» можно будет много, исходя из того, что на содержание системы баз ежегодно тратилось почти полтораста миллиардов долларов. И заплатить – в рассрочку, чтобы обещаниями следующего «транша» купить лояльность репатриированных вояк, а то и использовать их в случае вполне вероятных социальных потрясений.
Лютенс немедленно связался с вице-президентом по защищённому видеоканалу и передал ему копию «распоряжения».
– Сейчас же вместе с Паттерсоном переработайте это в полноценный приказ и под грифом «Совершенно секретно» передайте всем заинтересованным лицам, причём для командующих эскадрами флота и начальников всех видов военных баз сделайте пометку: «К исполнению приступить немедленно по получении. Распоряжения вышестоящего руководства, относящиеся к данному «исх. № …» подлежат выполнению только в части, уточняющей практические мероприятия по реализации поставленной задачи. В случае попыток противодействия исполнению данного приказа немедленно докладывать лично Председателю комитета начальников штабов, одновременно используя все предоставленные вам права для его выполнения».
– Можете сказать генералу, чтобы подработал с учётом неизвестных нам с президентом тонкостей служебных взаимоотношений, но суть должна остаться неизменной, – счёл нужным подчеркнуть Лютенс, ввернув ключевое «нам с президентом» как бы между прочим, как деталь общеизвестную и самоочевидную.
Само собой, использовал пароль от Сарториуса, чем полностью исключил какие бы то ни было неуместные вопросы со стороны второго лица в государстве.
«А я же тогда какое? – с лёгким сарказмом спросил он самого себя. – Пока не отменили пароль, не первое ли? Вот что значит вовремя выйти на московскую улицу и заговорить с нужным человеком! А свернул бы тогда не налево, а направо, неизвестно где сейчас и был бы…»
Тут разведчик попал в самую точку. Мировые события развивались бы приблизительно так же, как сейчас, но из механизма выпал бы совсем незначительный «винтик», отсутствия которого не заметил бы ни один человек на Земле. Да сам бы он и не помыслил, что только что мог превратиться в вершителя судеб Америки и «делателя президентов», да вот прозевал свой шанс…
– Простите, господин Лютенс, – всё же набрался смелости и спросил Келли, – господин президент хорошо представляет себе последствия этого шага? – и потряс выдернутым из принтера листом бумаги. – Это ведь необратимо…
– Вам бы лучше спросить не у меня, а у господина Сарториуса, – ответил Лерой, хорошо проинструктированный Шульгиным, предвидевшим подобные вопросы, и не только со стороны вице-президента. – Пусть вас не заботят геополитика и интересы косовских албанцев, которых после ухода наших войск непременно начнут резать сербы. Подумайте, чтобы чего-то подобного не случилось с вами…
Сейчас Лютенс был в своей тарелке и разговаривал с только что недосягаемо высоким чиновником так, словно расплачивался со всеми начальниками, портившими ему жизнь последние двадцать лет. И он не забыл, какие отвратительные чувства испытывал, разговаривая с послом США в Москве и представляя, что его ждёт в Вашингтоне, если там решат повесить на него всех собак за провал операции «Мангуста».
Вице-президент намёк понял и, будь он немцем, непременно щёлкнул бы каблуками и вытянулся перед Лероем, рявкнув «Яволь!». Но Келли был американцем и изъявил понимание просто сдержанным кивком и резиновой улыбкой.
– Да, вот ещё. – Лютенс извлёк из папки очередной лист. – Это тоже для генерала, пусть доведёт до морского министра и всех флотских начальников вплоть до командиров кораблей первых рангов. Имеется информация о возможных террористических актах, направленных именно против флота. Мы принимаем все необходимые меры, но… Поэтому – всем боевым кораблям классом выше фрегата, как находящимся в портах и иностранных базах, так и в открытом море, НЕМЕДЛЕННО покинуть места своего пребывания и полным ходом направиться к ближайшим отечественным базам – Норфолк, Сан-Диего, Бремертон, Сан-Франциско, Пёрл-Харбор. Любые задачи и приказы, выполняемые флотом в настоящее время, с момента получения сего отменяются, о чём обязательно сделать записи в вахтенных журналах.
Немедленно же организовать на всех кораблях и судах тщательные проверки на предмет обнаружения посторонних взрывных устройств, фактов подготовки актов саботажа, организовать выявление неблагонадёжных лиц из состава экипажей кораблей и берегового персонала. Особое внимание обратить, сами понимаете, на кого. Русских шпионов искать не надо, отработанный номер. Забыть об их даже теоретическом существовании. Враг внутренний сейчас принадлежит к мусульманам террористических толков, национальным и прочим меньшинствам, внутриамериканским сепаратистам всех мастей, либералам и глобалистам… От них исходит подлинная опасность, вне зависимости от доказанности конкретного злоумышления!
Секунду Лютенс смотрел на ошарашенное, меняющее цвет от красного до бледного через серовато-зелёный лицо вице-президента.
– Да-да, вы не ослышались. Всякие политкорректность, толерантность, мультикультурализм и прочая ерунда с сего момента отменяются. Враг есть враг, и не нужно прятаться под одеяло в надежде, что там он вас не достанет. Что? Вы не понимаете, при чём здесь глобалисты? Поясняю. Америка превыше всего! Она не должна жертвовать собственными интересами и интересами своего народа ради никому теперь не нужных абстракций. Глобалисты – враги настоящей, коренной Америки, они хотят растворить её в мутном бульоне «общечеловеческих ценностей». А никаких таких ценностей нет! Если нужно повысить пенсии американским рабочим, мы откажемся содержать НАТО, кормить пять миллиардов бездельников на всех континентах и ссориться с Россией и Китаем ради каких-то Грузии или Эстонии. Вам понятно? – в голосе Лютенса зазвучали нотки прусского фельдфебеля, кем наверняка был кто-то из его многочисленных прямых и побочных предков. – Такая теперь генеральная линия!
Келли ещё раз кивнул, уже пониже, и улыбка у него не очень получилась. Трудно всё-таки урождённому американцу переносить слишком резкие смены парадигм. Для них это нечто вроде острой декомпрессии при подъёме с глубины. Не все выживают.
Лютенс отключил аппарат и вытер пот со лба. Налил себе виски в стакан «на три пальца», раскурил сигару. Хороший получился разговор. Умеет он, оказывается, перевоплощаться даже на таком уровне. Как-то не замечал за собой раньше подобных способностей. С ними, пожалуй, можно претендовать и на вице-президентский пост. Вон как этого построил.
Здравомыслие при всех маниловских и даже хлестаковских мечтах Лероя отнюдь не оставило. Он доцедил виски, ещё раз-другой затянулся сигарой и подумал, что без воздействия Ляхова, а то и господина Шульгина не обошлось. Слишком уж сильно поменялась стилистика его поведения. Он ведь не играл сейчас, он действительно был человеком, которому наплевать на чины и звания собеседников, настолько он ощущает себя выше их и – право имеющим!
Вот именно – всего за несколько дней из твари дрожащей, пусть и числящейся высокопоставленным сотрудником одной из могущественнейших спецслужб мира, он превратился в действительно имеющего право разговаривать с вице-, а то настоящими президентами тем тоном, каким только что общался с Келли.
И, самое невероятное, – он сам не испытывал по отношению к своим кураторам ничего подобного тому, что только что продемонстрировал вице-президент при одном намёке на некоего Сарториуса. О них он думал и говорил с ними, как с равными. Стоящими выше, знающими и умеющими больше – но всё равно равными. Как рыцари из-за стола короля Артура.
Интересное чувство, совершенно непривычное. И удивительно приятное.
Глава девятнадцатая
Приказ Верховного главнокомандующего (о котором он сам до сих пор ничего не знал) был, как и положено, доведён генералом Паттерсоном до всех поименованных лиц. Реакцию он вызвал неоднозначную, как принято выражаться. Поскольку министр обороны, министр ВМС, командующие родами войск и многие не первые, но весьма значительные фигуры военных ведомств не только были «личностями» сами по себе, с собственными политическими взглядами и точками зрения на многие относящиеся к деятельности и функциям вооружённых сил вопросы, но и представляли интересы различных кланов и группировок американского истеблишмента.
Некоторые были вполне лояльны к президенту и правящей партии, назначенные на свои должности нынешней администрацией, другие, из категории «несменяемых», занимали позицию крепких профессионалов – «мы будем делать своё дело и свою карьеру, а что там творится на Капитолийском холме и вокруг – не знаем и знать не хотим». Третьи принадлежали к «жёсткой оппозиции» и держались на своих местах как раз потому, что президент и даже его весьма шаткое «большинство» в Конгрессе и Сенате были слишком слабы, чтобы сместить этих людей или хотя бы убедить их играть по общим правилам.
В ряде случаев даже Сарториус не имел на многие круги и группы достаточного влияния. По принципу – «по воробьям из пушек не стреляют». Система «сдержек и противовесов» американского государства работала достаточно эффективно, и общая геополитическая линия, нужная и выгодная Сарториусу и его клану, выдерживалась. Так чего же более? Пока не вставал вопрос о превращении США в «корпоративное» государство по типу муссолиниевской Италии или «тоталитарное» гитлеровского типа, видимость свободной игры политических сил была даже полезна.
К примеру – куда выгоднее для «американской демократии» стереть в порошок неугодного военного, политика или финансиста, обвинив его от имени горничной отеля в попытке изнасилования, чем дать основание «врагам Америки» увязать репрессии, иногда очень жёсткие, с «независимой точкой зрения» того же командующего Тихоокеанским флотом.
Как раз он первый счёл возможным заявить Паттерсону о своём несогласии с приказом, долго и возбуждённо доказывал, что подобное граничит с государственной изменой, независимо от того, кто именно принял решение. Да хотя бы и президент. Не для того Америка семьдесят лет после Второй мировой войны выстраивала систему своей военной и военно-морской мощи, чтобы одномоментно от всего этого отказаться! А что начнётся в тех странах, откуда уйдут оперативные соединения флота?
– Вы плохо помните события семьдесят пятого года, когда американцы и миллионы южновьетнамцев панически бежали из Сайгона? Завтра же по всей Юго-Восточной Азии начнётся дикая резня наших сторонников, – брызгал слюной прямо на экран монитора потерявший всю свою респектабельность и холодную сдержанность адмирал флота Гарольд Макэлрой.
– Вы тех событий тоже не помните, – осадил собеседника Паттерсон. – Разве что по телевизору картинки видели… – усмехнулся он.
– Я как раз тогда начинал службу и именно во Вьетнаме, – огрызнулся адмирал.
– Значит, за сорок лет должны были усвоить, что приказы положено выполнять, независимо от того, нравятся они вам или нет. Иначе вам придётся доживать свои дни без этих шикарных нашивок до локтя. «Увольнение с позором»[107] я вам могу обещать прямо сейчас. А военный суд может принять ещё более строгое решение. Вас это не волнует?
– Вы не посмеете! – почти взвизгнул лощёный адмирал с элегантной, «голливудской» причёской густых, платиновой седины волос.
– Посмею, Гарольд, и ещё как! – Паттерсон подсунул прямо под объектив видеокамеры лист президентской «индульгенции». – Читайте. Если не одумаетесь в ближайшие две минуты, славные ВМС США продолжат своё плавание уже без вас. А главный военный прокурор, прочитав этот же документ и моё представление, отвесит вам ровно столько, чтобы всю оставшуюся жизнь вы проклинали этот день и эту минуту…
Паттерсон не выносил моряков, а этого – в особенности. Были у него на то серьёзные основания. И сейчас он откровенно наслаждался, унижая Макэлроя, у которого звёзд на погонах было столько же, сколько у него самого, да вдобавок одна широкая и четыре средние нашивки на рукавах пошитого у лучших портных Сан-Диего кителя.
Адмирал шумно выдохнул воздух и кивнул, кусая губы:
– Будь по-вашему. Но не думайте, что я забуду этот разговор, сэр!
– Ничего не имею против, сэр! Но ещё раз обращаю ваше внимание – вы обязаны выполнить приказ точно и в срок. И примите все меры к недопущению возможных террористических актов. Пусть ваши люди перероют свои корабли от киля до клотиков и озаботятся выявлением всех «неблагонадёжных». Не смею вас больше задерживать.
Адмирал несколько секунд смотрел на погасший экран, облегчая душу доступными английскому языку ругательствами, а потом вдруг замолчал и задумался. Чего-то он, пожалуй, не уловил. Обстановка «за бортом» явно изменилась. И сам приказ, и документ президента, позволяющий Паттерсону такой тон и такие действия, – всё это означает резкую смену курса по команде флагмана «Поворот все вдруг!». И что бы он сам сделал с командиром корабля, вздумавшим запрашивать у него, комфлота, объяснений по поводу этого семафора, а тем более – выразившим протест против такого маневра.
Да, думать надо и по своим каналам попытаться узнать о настроениях в Белом доме и вокруг. А свои, и очень влиятельные, каналы у него до сих пор были. С выходом на людей, способных и Паттерсону с его бумажками голову скрутить, и кое-кому повыше. Только пора ли это делать прямо сейчас или немного подождать развития событий – Макэлрой ещё не понял.
…Прямо из пустого «холла» ресторанного туалета, где, на удивление, не было ни одного человека, как и в дюжине кабинок следующего помещения, Новиков с Шульгиным и профессор снова переправились в Замок. Теперь формула этой «операции» была внесена в память блок-универсалов, и одно нажатие кнопки соединяло любое место любой из реальностей с точкой последнего пребывания в Замке. Нужно было просто сделать шаг сквозь на мгновение ставшую прозрачной зеркальную стену розового с белым кафельного зала туалета и оказаться посередине всё того же, полусумрачного, но расцвеченного яркими, праздничными, почти голографическими витражами бара.
Переход осуществлялся хоть и с помощью аггрианского прибора, но по принципиально иной, форзелианской методике[108], не «пробивавшей» напрямую реальный пространственно-временной континуум, а как бы всего лишь замыкая друг на друга находящиеся в одном многомерном пространстве ячейки Гиперсети. Там, где никаких понятий о времени и расстоянии в «человеческом» смысле вообще не существует. Оттого в материальном мире этот процесс никак не отражался и на него не воздействовал.
Теперь они могли сколь угодно долго решать свои дела в Замке и в любой из разрешённых параллелей, и вернуться на ГИП по собственному желанию в любое из мгновений, следующих за их перемещением в Замок, но ни в коем случае не предшествующее ему! Но если Воронцов, Левашов или кто угодно другой передал бы им сигнал о необходимости возвращения, то обратный переход был возможен лишь в момент «после вызова». На первый взгляд – пресловутый парадокс, а при более внимательном рассмотрении – всё вполне логично.
Зато здесь их сразу охватил покой. Примерно такой, что испытывают солдаты, отведённые с передовой на переформирование. Будто зашли за гряду холмов, отрезавших звуки даже артиллерийской стрельбы, – и сразу получили приближающуюся к ста процентам гарантию, что ни с кем из них в ближайшее время ничего плохого не случится. Само же по себе «ближайшее» – понятие очень растяжимое.
Тысячу лет назад написано, а не прибавить, не убавить, несмотря на весь так называемый «культурный и технологический прогресс человечества».
Ужинать по времени было ещё рано, да и смысла никакого, только что ведь из-за стола, пусть и весьма лёгкого. Вновь садиться – когда голод даст о себе знать, и тогда уже, как в прежние времена, основательно, за полночь, и чтобы застольная беседа сопровождала ужин. Как в диалоге Платона «Пир», к примеру. О чем там Сократ с приятелями рассуждали? О вреде пьянства, кажется, и о прелестях любви. Или наоборот. Перечитать бы невредно[109].
Жаль только, что компанию им составят только эти девушки с витражей. Посмотрели бы они сейчас, повзрослевшие на тридцать лет, как их приукрасил и какими сохранил для истории, не только земной, но и галактической, их бывший приятель.
День сегодня у друзей получился до чрезвычайности длинный и перенасыщенный, информационно и эмоционально. Хорошо бы отвлечься чем-то совсем посторонним, интересным и необременительным. Верхом бы покататься по окрестным прериям в компании глядящих из глубины подсвеченных голограмм девиц. Выяснить, наконец, практическим путём, можно ли действительно, без крайне неприятных последствий носиться по степям сумасшедшим аллюром только лишь в кружевных панталончиках и кружевных же, по моде тех времён, золотистых чулках, вставив в стремена алые туфельки на высоченных шпильках.
Еще тогда, только закончив это произведение искусства и своих эротических фантазий, Сашка подвергся критическим нападкам товарищей, знавших толк в верховой езде. Они подробно объяснили другу, как именно будет выглядеть и как выражаться прелестная Людмила, если он заставит её на самом деле прокатиться в подобном наряде хоть пару километров.
Шульгин, в свою очередь, ссылался на античные изображения амазонок, скакавших верхом совсем голыми, да вдобавок и без сёдел.
– А тут, если седло бархатом крытое, а чулки и трусы где надо кевларом подшиты, так и вполне нормально… Главное, шенкелями[110] держаться!
Как давно всё это было…
На лифте поднялись к своим номерам, в которых жили с самых первых дней появления в Замке и где всё осталось точно таким же, как в момент «Исхода», отплытия на только что построенной «Валгалле» в неизвестность. Переодеться в одежду попроще и заодно слегка перенастроиться на прежний психоэмоциональный стиль.
– А дальнейшие планы какие? – спросил Удолин.
– Пойдёмте в оружейную мастерскую, – предложил Шульгин. – У меня давно уже одна идейка завелась, да всё руки не доходили. Посмотрим, позволено ли мне будет её воплотить…
– С чего такие сомнения – раньше ведь Замок не препятствовал, – спросил Новиков. – С карабином тем, с автоматами…
– Видишь ли… – Шульгин вдруг замолчал. – Не буду пока ничего говорить. Сразу автоматике задание предложу…
Слова друга Андрея слегка удивили. Чего уж только они в Замке не творили, начиная от похода в «нечеловеческие» его секции и горизонты и заканчивая созданием зоны, защищённой от самого Замка, по принципу известного парадокса:[111] «Может всемогущий Бог создать камень, который сам не сумеет поднять?» Замок сумел, и теперь где-то в лабиринте этажей, коридоров и лестниц так и стояла стилизованная под довоенную коммуналку квартира, в которую Замок никаким образом не мог проникнуть, в облике ли Арчибальда или любой другой ипостаси.
Зато из неё однажды удалось попасть вроде как в Москву девятнадцатого века, оказавшуюся иллюзией, а сквозь иллюзию – за пределы «пространства Замка». Та ещё вышла шуточка[112]. Наглядно, между прочим, доказавшая, что и Замок можно обмануть. На каждый хитрый приём, понятно, только один раз его взять можно. Но кто сказал, что умный человек следующий раз ещё что-нибудь свеженькое не придумает, для нечеловеческой сущности непостижимое? Есть же в Галактике раса, у которой отсутствует понятие времени. Вообще. Нормальному землянину их образ жизни и мышления тоже сугубо непонятен.
– Нет, молодые люди, ваши смертоубийственные железки меня не прельщают. Исключить человека из числа ныне живущих можно гораздо проще и аккуратнее без их помощи, а с точки зрения эстетики есть творения человеческого гения не в пример более привлекательные. Так что я, с вашего позволения, лучше в библиотеку направлю свои стопы…
Моментами в голове у профессора что-то перемыкало, и он начинал говорить вычурно и старомодно, хотя вполне владел языком, применительно к каждому историческому периоду и социальной группе собеседников.
– Вы там поаккуратнее, в библиотеке, – предупредил его Андрей, вспомнив о своих в ней приключениях[113]. – Бывает, привидения материализуются, персонажи книг опять же. Монстры всякие между полками подстерегают. И учтите, что каждый зал тянется на километры, и дорожных указателей нет. Если заблудитесь, просто подходите к ближайшему лифту, какой увидите на перекрёстках галерей, входите и нажимайте любую кнопку. Довезёт, куда надо…
– Я это уже неоднократно слышал, от вас в том числе, – ворчливо ответил Удолин. – Не учите меня работать с библиотеками. Я, кстати, и в Вавилонской бывал, и в той, что попытался описать Умберто Эко[114]. Так что не нужно меня стращать… Лучше не забудьте позвать, когда соберётесь ужинать.
Новиков с чувством лёгкой грусти, что охватывает почти любого человека при посещении мест, где ему в молодости было хорошо, ходил по своему номеру, заглядывая в ящики и трогая забытые или просто брошенные в суете эвакуации предметы. Как будто и не минуло почти тридцать лет с тех дней, когда он разговаривал отсюда по телефону с Воронцовым, предупреждая его о необходимости срочно готовить пароход к выходу в море. Поскольку в Замке оставаться стало уже критически небезопасно…
Рядом с телефонным аппаратом на тумбочке лежал плоский испанский пистолет «Лама Омни», одно время (пока не наигрался) ему очень нравившийся. Пыли на пистолете и лакированной поверхности тумбочки собралось ровно столько, как если бы он ушёл из номера недели две назад и горничная с тех пор не убирала…
Конечно, не убирала, вон и пепельница стоит с двумя окурками. Один сожжён до фильтра, другой длинный, смятый, словно тогда Новиков затушил его в спешке и нервничая.
Андрей нашёл в шкафу сильно вытертые вельветовые джинсы[115] и рубашку типа «сафари» с короткими рукавами, переобулся в невесомые мокасины, сплетённые из тонких кожаных ремешков, пистолет привычно сунул сзади слева за ремень, предварительно проверив, есть ли патрон в патроннике. Без оружия он давно уже чувствовал себя, как без штанов в людном месте (кроме пляжа), да и вообще Замок – это хуже, чем кантовская «вещь в себе». Столкнёшься в коридоре с супертарантулами вроде тех, на которых испытали впервые Сашкины «ртутные карабины» – уж лучше самому застрелиться, чем ждать, пока он использует на тебе свою методику внешнего пищеварения. Впрочем, тринадцать патронов с экспансивными пулями в магазине давали шанс и отбиться – от паука по крайней мере.
В мастерскую они прошли через несколько галерей, напоминающих залы Петербургского (для них по старой памяти – Ленинградского) артиллерийского музея, только были они ещё длиннее, мрачнее, потому что за стрельчатыми окнами в стенах трёхметровой толщины располагался не уставленный пушками всех времён и народов двор, а не пойми что. В какие-то иные планы бытия выходили эти окна, и смотреть в них не хотелось. Как с космической станции – на океан Соляриса.
По сравнению с музеем в этих галереях лежало на полках и стояло в открытых пирамидах и застеклённых витринах раз в пять, наверное, больше единиц «ручного стрелкового оружия». То есть абсолютно всё, что было изготовлено серийно, хотя бы самыми малыми партиями на оружейных заводах и в мастерских Земли с момента изобретения унитарного патрона и по настоящий момент. С тех пор как Андрей с Сашкой были здесь последний раз, количество экспонатов значительно увеличилось – больше четверти века как-никак на ГИП прошло. Отчего и протяжённость залов заметно возросла.
Но по странной прихоти (или – тонкому расчёту) Замка в музее не было никаких конструкций из «параллелей», тем более – продукции военно-технического гения иных, внеземных цивилизаций.
Сама «оружейная мастерская», где Шульгин конструировал свой карабин под «ртутные пули», осталась такой же, словно они покинули её час назад. Так же стояли у стены и валялись на столах для разборки-сборки и чистки ранние прототипы карабина, чем-то изобретателя не удовлетворившие. Замок всё сохранил в неприкосновенности. Снова окурки в пепельнице (свежие, только что затушенные) и полупустая коньячная бутылка на столике рядом со стеклянной дверцей репликатора. Не только огнестрельные изделия, изготовленные согласно введённой в компьютер программе, за ней возникали при правильно введённой команде, но и кое-что попроще.
– Знаешь, мне снова немного не по себе, – сказал Новиков. – Не для нормальной психики всё это. Четверть века прошло, а окурок, что я тогда раздавил, чуть ли не дымится…
– И коньяк, наверное, не выдохся. Что тут поделаешь – загадки природы. Если всё это имеет место – так и должно быть.
– Да понимаю я всё. А так, моментами, аж передёрнет вдруг.
Андрей сел боком на край стола, достал портсигар, а Шульгин разлил в серебряные чарки не допитый в прошлый раз по не зависящим от них причинам «Арарат ОС»[116]. Тогда они, получив возможность продегустировать почти все знаменитые марки, сочли, что от добра добра не ищут, и в основном употребляли люксовые отечественные сорта.
– Ну, чтоб не передёргивало. Считай, на полчасика опять в молодость вернулись.
Андрей медленно, как густой ликёр, выцедил терпкий напиток с отчётливым дубовым привкусом. Без всяких ароматизаторов «идентичных натуральным». Всё ж таки заливали в бочки этот «будущий нектар» ещё в шестидесятые годы. В школе они тогда с Сашкой учились.
– Да, пожалуй, – вздохнул он.
Посидел несколько минут, как бы ни о чём не думая, рассеянно затягиваясь и выпуская дым… Да, «Дым». В спрятанных внутри стенных панелей динамиках (или вообще просто в воздухе) вдруг негромко зазвучала тех же примерно лет песня с этим названием[117]. Умели тогда трогающие души мелодии писать. Не то что та бредятина, доносящаяся теперь из проезжающих по улицам автомобилей, с громкостью, за сто метров рвущей барабанные перепонки.
А чего зря удивляться? Развивались, развивались и доразвивались до машин с кондиционерами, круиз-контролем, массирующими водительскую задницу креслами и динамиками, вбивающими в уши сто пятьдесят децибел «тамтамной сонаты» племени мумбо-юмбо.
– Спасибо, – повинуясь неожиданному чувству, сказал Новиков в сторону источника мелодии.
– Кому это ты?
– Кому ещё – ЕМУ. Угадал настроение, заботливый наш, – ответил Андрей. – Ладно, проехали. Давай, говори, что ты на этот раз придумал, – спросил он Сашку, тоже к чему-то прислушивающемуся. Очень возможно, он сейчас слышал совсем другое, например, чуть не до слёз трогавшие его когда-то «Осенние листья»[118].
– Сказал же – молча всё делать буду… – отмахнулся тот.
Шульгин пересел на вертящееся кресло перед клавиатурой здешнего компьютерного терминала, не слишком похожей на общепринятую. Но когда они впервые попали в Замок и обучались, в том числе и электронной премудрости, в их «земной» жизни «ПК» ещё не было, только Левашов привозил из плаваний самые первые «Эпплы» и «Макинтоши», которые использовал далеко не по прямому назначению. Так что форзелианские адаптированные устройства они сразу восприняли как данность. Потом уже к «человеческим» пришлось привыкать.
Сашка щёлкал кнопками довольно долго, используя некоторые дополнительные панели, в том числе и сенсорные. Наблюдать за этим было скучно, и Андрей пошёл в ближайший экспозиционный зал, присмотреть себе пистолет «из новых», а то действительно как ретроград какой-то, дальше «вальтеров» и «беретт» не продвинулся. Замок, будто истинный коллекционер, собрав все мыслимые раритеты, не пропускал теперь ни одной новинки, шагая в ногу со временем.
К разочарованию Новикова, прогресс и в области стрелкового дела фактически завершился, как в автостроении и авиации. Конструкторы в основном развлекались внешним дизайном да эргономикой, в чём, по мнению Новикова, не слишком преуспели. Как кому, а ему хоть пресловутый «08», хоть браунинг «Хай пауэр» казался милее и удобнее, чем всякие заполняющие новые витрины «FNX», «Глоки» и «Чезеты».
Аналогично в двадцать первом веке обстоит и с машинами – разве сравнишь «Хорьх» тридцать восьмого года[119] с какой угодно из современных моделей? Есть ли сейчас такая, чтоб увидел и сердце замерло? Не «Порше» же «Кайенн» и не «Форд Навигатор» – помесь элитного катафалка с дизайнерской мыльницей.
Он повертел в руках постмодерновый на вид, сделанный наполовину из лёгких металлов и углепластика пистолет. Пострелять бы, конечно, стоило, для сравнения, но и тут едва ли что-то кардинально изменилось. Ну, выбивал он из Марголина девяносто семь из ста на двадцать пять метров в круглую мишень. Даже если из этого сделаешь девяносто девять (что заведомо вряд ли) – что толку? А кто в принципе нормально стрелять не умеет – так ему лучше дробовиком двенадцатого калибра пользоваться.
Когда Андрей вернулся в мастерскую, Сашка уже допил остатки первой бутылки, сотворил вторую такую же и вдобавок пепельницу наполнял окурками с пугающей скоростью.
Хорошо, что он давно уже пользуется не своим исходным физическим, а «восстановленным» эфирным телом. То есть с какой угодно точки зрения, кроме удолинской некромантской, Шульгин как был человеком, так и остался, но в силу определённых обстоятельств одной из семи своих астральных составляющих он лишился, и пришлось её с помощью Антона заменить следующей оболочкой, придав ей необходимые свойства. Разницы практически никакой – ни биохимической, ни генетической, – как если бы у человека вместо выпавшего зуба вырос новый. Вырос и вырос, что тут такого.
Разница заключалась лишь в том, что теперь и без гомеостата его организм был многократно меньше подвержен воздействию всевозможных вредных факторов окружающей среды.
Убить его из огнестрельного оружия было по-прежнему можно, кожные покровы в подобие кевлара не превратились, но вот разного рода инфекции, яды, жёсткое излучение на организм Шульгина почти не действовали, потому что, став физическим, тело всё же сохранило некоторые свойства эфирного, а мировой эфир, как известно, с материальным на атомно-молекулярном уровне взаимодействует слабо.
Поэтому Сашка мог бы сейчас не курить табак, а вдыхать, допустим, дым горящего фенолформальдегида. Удовольствия, конечно, никакого в отличие от хорошей сигареты, но и вреда тоже.
В этом вся и тонкость разных некромантских и прочих магических штучек, которых вокруг, с момента тесного контакта «Братства» с Удолиным, становилось всё больше. Как в известном рассказе Шекли «Опека».
Все фигуранты (если можно так выразиться) команды Константина Васильевича, как известно, неоднократно на протяжении минувших веков подвергались разным видам мучительных казней то инквизицией, то маврами, то более сильными коллегами по ремеслу, однако и ныне продолжали существовать в сравнительно первозданном виде. И все (что особо удивительно) оставались жизнелюбами, эпикурейцами в самом широком смысле этого термина. То есть огонь костра, допустим, при соблюдении должных ритуалов их, конечно, сжигал, но – как бы и не насовсем. Всегда оставалось что-то, из чего можно было возродиться. А вот всяческая пища, напитки и прочие радости жизни на них действовали совершенно по-человечески, только с бóльшим эффектом и без обычных для «нормальных» людей последствий. Не зря Шульгин приходил в ярость, глядя, как они старательно, с полной самоотдачей распивают и поедают старательно наполненные им в своё время винные и продуктовые погреба форта. Причём не убирая за собой.
А в эпоху позднего Средневековья, как выяснилось, их даже новомодный, из Америк завезённый сифилис не брал![120]
– Ну, что тут у тебя? – спросил Андрей, видя, что друг вертит в руках устройство, напоминающее одновременно автомат Калашникова, английский «Стерлинг» и некое оружие будущего из фантастических фильмов. Намётанный глаз выхватывал отдельные элементы того, другого и третьего, при этом было понятно, что «машинка» вполне себе оригинальная.
– Да вот. Как раз то, что я говорил. Удастся в очередной раз обмануть Замок или нет… – ответил Сашка, странно улыбаясь. Как будто в детстве, совершив какую-то пакость, напряжённо ждёт, чем это для него закончится. Сумеет «отмазаться» или получит «по полной программе». Неважно, от кого.
– В чём, собственно, обмануть?
– Антон же утверждал, что галактическими законами запрещено снабжать недоразвитые расы «нечеловеческой» техникой? Мы согласились, получили «адаптированных» роботов и сумели вернуть им исходные ТТХ. Потом с «квартирой» моей. Замок тоже не врубился, что я на самом деле прошу и какие из реализации моей просьбы могут быть последствия. А теперь я решил сконструировать не существующее на Земле ручное оружие, работающее на неизвестных принципах. Возможно – даже с нарушениями земных же законов природы. Но – вполне популярное в западной фантастике. В нашей отчего-то почти не упоминается[121].
Вслух я ничего о своих намерениях не говорил, даже думал в ту сторону как можно осторожнее. Просто ввёл задание в достаточно автономный, как мне объяснил Скуратов, компьютер, обслуживающий Музей и мастерскую. Он уже привык, что я ему всякие нестандартные задания давал, например сделать для карабина какой-нибудь компенсатор, хоть и антигравитационный. Получилось. По теории отдача с моим патроном под ртутные пули и с герлиховским сужением ствола[122] должна была быть как у ПТР, а в натуре вышла не сильнее, чем у СКС. В суть принципа я не влезал – не для слабых умов задачка.
А компьютер-конструктор в том смысле автономный, что Замок как личность не контролирует его постоянно, как и другие свои органы и эффекторы. Ты же не следишь, за исключением особых случаев, за выработкой надпочечниками и панкреасом адреналина и инсулина? Только когда прижмёт как следует, начинаешь анализы делать. Так и Замок. Помнишь, как мы в неположенные уровни залезли?
– Ещё бы не помнить. – Новиков передёрнул плечами[123].
– Вот я и решил, что если компьютер задание сглотнёт, то и будет его выполнять, исходя из своих межгалактических возможностей. А Замок этого не заметит…
– Ну, вроде получилось…
Шульгин вскинул «автомат» к плечу, навёл ствол на самую обычную мусорную корзину, куда бросали использованную ветошь после чистки оружия.
Сашка обычным движением плавно выбрал спуск. Выстрел, которого Андрей инстинктивно ждал, не бабахнул, даже не лязгнули детали затвора. А корзина исчезла. Совсем. Как её и не было. Не осталось ни горстки пепла, ни запаха.
Сашка опустил оружие и довольно ухмыльнулся:
– Ну, как?
– Куда ты её закинул? В прошлое, в будущее, в астрал? – стараясь не подыгрывать Шульгину, почти равнодушно спросил Андрей.
– Если бы! Как у Стругацких в «Полдне» – превратил в воздух и солнечный свет. Это, видишь ли, молекулярный деструктор. Может ли он существовать на самом деле – я понятия не имел. Но кому-то из фантастов, скорее всего – западных, такая штука в голову пришла, он его в свою книжку вставил, и … Как говорил то ли Маркс, то ли Жюль Верн: «Всё, что один человек способен вообразить, другие могут осуществить». Маркс вон «пролетарскую революцию» вообразил, и тут же нашлись дураки…
Ну а я компьютеру объяснил, что имею в виду, как, на мой взгляд, это должно работать, и предложил воплотить в заданных параметрах, не ограничивая себя в полёте фантазии и не опасаясь плагиата, если такая штука где-то уже запатентована. Вот он и воплотил. Теперь ещё можно над дизайном и прочими прибамбасами поработать, кое-что мне не совсем нравится. Но действующий прототип – вот он! Ближе к идеалу, чем пулемёт «максим» к «ПКМ». На дистанцию до двухсот метров разлагает на молекулы любой органический объект с фокусируемым углом раствора луча в сколько-то там градусов, угловых минут и секунд. В общем – как раз примерно медведь целиком в зону поражения входит…
– А если больше? Динозавр, например? – искренне заинтересовался Андрей.
– Это уж… – пожал плечами Сашка. – Какая-то половина или треть деструктируется. Остальное следующими выстрелами убирать придётся, если надо. Но то, что останется, тебя уже точно не обидит…
– Забавно. – Андрей достал очередную сигарету. – И стопроцентная поражаемость, и никаких следов. Был человек, и нету… Удобно. Особенно для киллеров.
– Ага. Только для законопослушных граждан ещё более. В случае самообороны, чтоб потом на нарах не париться. Как в том фильме: «Вещей нет, начальник, кражи не совершал!»
– Портативности бы добавить. Чтоб в кармане помещался. И вообще на оружие не походил. А то наши портсигары так всё же не умеют. Сжечь, расплавить, парализовать – да, а чтобы бесшумно и бесследно… А нормальный ствол зачем и магазин?
– Да я именно как автомат это себе представил. Стреляет из верхнего обычными патронами… Ну, не совсем обычными, тут тоже хитрости есть, но всё же. В основе «45 АПК», только гильза в полтора раза длиннее. Пули можно экспансивные, можно бронебойно-зажигательные. Бой на сотню метров то как у «АКМ», то как у «Томпсона», по вкусу, но легче и портативнее того и другого. А второй ствол – это уже сам деструктор. Издалека за подствольник сойдёт… Главное, работает идея. А вариаций на тему сколько угодно наклепать можно…
– Эх, Александр Иванович, – раздался вдруг знакомый баритон, звучавший на этот раз весьма сокрушённо. – Я всё время вас недооцениваю. Стоит только из внимания выпустить – вы тут же начинаете безобразия вытворять и все мыслимые законы попирать…
Друзья оглянулись. В проёме двери стоял Арчибальд-настоящий (его массогабаритная копия сейчас присматривала за Сарториусом), засунув большие пальцы рук за поясной ремень. И смотрел на них с тем же примерно выражением, как учитель слесарного и токарного дела Николай Николаевич, застигший их за изготовлением в школьной мастерской деталей гениально спроектированного самопала.
Ну один в один ситуация, будто и не прошло с тех пор четыре десятка лет.
Но то, что Замок немедленно не приступил к репрессиям, а прислал для разборки на месте всего лишь Арчибальда, внушало надежду. Договориться скорее всего удастся. Вопрос лишь – на каких условиях. Учитель труда, нестарый ещё фронтовик, лишённый понятий о «правах ребёнка» и «ювенальной юстиции», отвесил каждому по хо-орошему подзатыльнику, после чего забрал ствол, пружину и заготовки спускового механизма, усадил на лавку и, не стесняясь нецензурной лексики, объяснил, что им всем троим (именно!) грозит по нынешним законам за такое «народное творчество».
– А что за претензии, друг? – не растерялся Сашка. От обращения «друг» «сердце» у Замка таяло, как сливочное мороженое в августовскую жару. Не раз проверено. – Это ж пока просто эксперименты…
– Надо мной? – вполне благодушно спросил Арчибальд.
– Над возможностями собственного разума и психики. Да ты всё и сам слышал. Времена нам предстоят тяжёлые, использовать мы решили всю имеющуюся в нашем распоряжении технику, а тут вдруг кинулись – кое-чего не хватает. Причём сущей мелочи – как прибора бесшумной и беспламенной стрельбы в арсенале разведчика. Авиационный или ракетный удар на цель вызвать по радио может, а часового у ворот по-тихому снять нечем. Вот и пришлось заняться самодеятельным техническим творчеством. Мы, знаешь, в детские годы не избалованы были, развлекательной индустрии не существовало, оборонная промышленность из отходов танкостроения только заводные машинки весом в полкило и велосипеды «Орлёнок» «по ширпотребу» штамповала, поэтому сами изощрялись, как могли. Благо, кружков всяких в Домах пионеров хватало…
Иногда Сашка, подражая Удолину, начинал плести словесные кружева, забалтывая слушателя до полной потери ориентации во времени, пространстве и «сфере чистого разума». А уж когда взял курс уроков у Виктора Скуратова, нобелевского лауреата за труды по машинным и нечеловеческим логикам, так стал моментами вообще непереносим.
По крайней мере, с Арчибальдом предыдущих версий справлялся без особых усилий.
Ещё одна тайна природы, кстати, не разрешённая даже профессорами чёрной и белой магии из команды Удолина. Каким это образом машина с околосветовой скоростью прохождения нервного импульса и на сотни порядков большим числом нейронов, аксонов и прочего ухитряется проигрывать человеку, имеющему мозг весом полтора килограмма и до ужаса медленные, на биохимических реакциях основанные процессы мышления?
Причём именно при решении задач, где нельзя воспользоваться простыми аналогиями или тупым перебором вариантов, пусть и со скоростью миллиард операций в секунду.
Так, компьютер выиграл матч у Каспарова, но большой вопрос – обыграл бы он Капабланку или Алёхина? И тот и другой блистали именно в комбинационной игре.
– Вот я и подумал, – не умолкал Шульгин, – всякое может случиться, поскольку мы решили лично в Кэмп-Дэвид наведаться. Терпеть ненавидим по глобусу боевыми действиями руководить. Мы, знаешь, как генерал Скобелев – в белом кителе с шашкой впереди атакующих колонн! И роботы не всегда под рукою окажутся, чтобы своими телами командиров прикрыть. Опять же – наличие ненужных трупов в неподходящем месте может сильно осложнить ситуацию. Во всех детективных книжках почти все сюжеты именно вокруг этих самых трупов крутятся. Начиная с первой страницы.
А я в институте химию, физику, биологию и прочие сопутствующие науки изучал, откуда знаю про межмолекулярные связи, слабые и сильные взаимодействия между атомами и тому подобное. Не может быть, думаю, чтобы братья по разуму, даже с временем управляющиеся, не знали, как дистанционно эти самые связи мгновенно ликвидировать…
Арчибальд поднял руку, чтобы остановить поток Сашкиного красноречия.
– Ты совершенно прав, Александр, ты ничего не нарушил в рамках своей компетенции и в очередной раз доказал изощрённость своего разума. Я бы, конечно, не позволил заполучить такое оружие от меня. В определённых случаях оно может представлять угрозу для самого существования человечества…
– Знаем, читали, – включился в разговор Новиков. – У нас фантасты чего только не придумали. Про «Абсолютное оружие» Шекли слышал? Потому, я так понимаю, Саша и ограничил свою «пушку» имеющимися параметрами. Оцени. И дальность, и ширину луча предусмотрел, и даже то, что она только по органике работает. Даже случайно промахнувшись, дом не обрушишь или там мост… Не говоря о возможности дематериализовать целую планету. Притом что без всякого твоего участия мы легко можем организовать взрыв склада атомных боеголовок под Скалистыми горами…
– Да, всё верно. Я уже оценил, потому никаких репрессий к вам применять не собираюсь. Забавляйтесь своей игрушкой. Но других не получите. Я вообще, наверное, запрещу всем эффекторам выполнять любые ваши команды без согласования со мной.
– Ну, ты даешь! – очень натурально возмутился Сашка. – Это я что же, за разрешением на каждую кружку пива бегать к тебе должен? Тогда, знаешь, лучше мы вообще с тобой связываться не будем, раз такое неприкрытое нарушение элементарных прав личности…
Это тоже был испытанный приём. Замок очень хотел, чтобы люди с ним именно «дружили», а не имитировали хорошие взаимоотношения из страха или корысти. Он ведь, познакомившись с Воронцовым, сразу начал терпеть не слишком деликатные выходки, а потом и прямой шантаж последнего. Наверняка ведь, чтобы не утратить налаживающегося взаимодействия, и Наталью для него создал. Переформатировал обычную, в общем, женщину в идеальную подругу, совсем немного вмешавшись в структуру личности. И теперь на подсознательном скорее всего уровне Дмитрий считает себя Замку обязанным. А очень возможно, что всеобщая любимица Наталья Андреевна в определённом смысле тоже немного Арчибальд. Влияет на мужа согласно заданной программе, как хорошая жена, никак себя не расшифровывая. Новиков об этом сразу же задумался, как только Воронцов их познакомил, и наблюдал за этой оригинальной парой сколько уже лет, но никаких отклонений от нормы не заметил.
К Андрею с Шульгиным Замок относился аналогично: существовать без регулярного взбадривания их выходками давно уже не хотел и, наверное, не мог.
– Во-первых, мне этот «деструктор» ещё до ума доводить надо. Без изменения ТТХ, – успокоил Сашка Арчибальда. – Когда будет готов – вторую копию для Андрея сделаем. И всё. Даже пистолетный вариант пока отложу…
– Ну хорошо, хорошо. Заканчивай свою игрушку. Беды от неё в ваших руках, пожалуй, и никакой. А чтобы никто другой не воспользовался – предохранитель типа «свой-чужой» добавь. А в дальнейшем… Такой вариант вас устроит: если вы придумаете ещё что-нибудь, способное коренным образом изменить земные законы природы или существующий на Земле порядок мироустройства, вы предварительно обсудите это со мной? – сказал Арчибальд, тоже садясь на край стола и беря у Новикова «деструктор», чтобы его рассмотреть повнимательнее.
– Для этого нам придётся изучить полный список действий, способных привести к названному тобой результату, – откровенно уже веселился Шульгин. – А то мне это напоминает случай из советских времён, когда я давал подписку о неразглашении служебных и государственных тайн. Вполне нормальным образом поинтересовался, нельзя ли предварительно ознакомиться, что в нашем институте к таковым относится. На что получил аргументированный ответ – «перечень служебных и государственных тайн сам по себе проходит по категории секретности высшей, чем уровень положенного вам допуска». И на всякий случай мне степень допуска ещё на одну ступеньку понизили. Что оказалось впоследствии весьма для меня полезным. Я хоть получил право проводить отпуск по собственному усмотрению, а не в ведомственном пансионате за колючей проволокой. Но за границу всё равно не выпускали, даже в Болгарию.
– Ибо оттуда вплавь легко можно переправиться в Турцию, – пояснил неизвестно для кого Новиков. Замок все тонкости жизни в СССР знал и без него.
– Давай без демагогии, Саша, – устало сказал Арчибальд. – Я ещё подумаю, как от тебя обезопаситься. А теперь не перейти ли нам к делу?
– Какому? – удивился Шульгин.
– За которым вы пришли. Как вам Америку добивать. Я прав?
– Ну, не совсем, – осторожно ответил Андрей. – Никого мы добивать не собираемся, мы люди мирные, последние тысячу лет только защищаемся. То от хазар, то от монголов и тевтонских рыцарей одновременно, то от шведов, поляков, англов с франками. От немцев неоднократно. Надоело немного. Неужели, думаем, русские люди такого же права на мирную спокойную жизнь не имеют, как подданные монакской династии Гримальди? С времён Куликовой битвы ребята на троне сидят, и никто на них за это время ни разу не напал, не оккупировал, не присоединил и не ассимилировал. Вот и мы так хотим устроить. На данный момент только Штаты этой благодати мешают…
– Упрощаешь, Андрей, – сказал Арчибальд.
– Кто б говорил! Это ж ты «хантеров» подучил сразу в двух реальностях перевороты устроить, чтобы мир не под российской, не под американской властью жил, а под твоей лично…
– Это не я, это тот, кто изображал меня, какого мы дезактивировали, – ушёл в отказ Арчибальд.
– Не будем вдаваться… – кивнул Новиков. – Так вот, то, что мы затеяли, – это не война в каком угодно смысле, это – фазовый переход, я уже говорил. Футурологи о нём чёрт знает сколько текстов понарисовали, а мы попробуем на практике. А то так и помрём, оного не увидев.
– Идею Фазового перехода человечества на гармоничный путь развития мы тоже с Антоном прорабатывали, – как бы слегка виновато сказал Арчибальд. – Только аггры всегда успевали сильный контрход найти, в итоге всё возвращалось к исходной позиции, только «по спирали», как Энгельс правильно отметил. Вообще наблюдательный был человек, исторический провидец, можно сказать. Как он здорово про Первую мировую за сорок лет угадал: «Восемь или десять миллионов солдат будут душить друг друга на полях Европы. А потом короны будут дюжинами валяться на мостовой и не найдётся никого, чтобы их поднять…»
Жаль, что слишком поздно удалось его связку с Марксом разорвать. А то бы этот господин по партийной кличке «Генерал» мог бы, лет с тридцати в неё ввязавшись, много интересного в реалполитике совершить…
– И когда же у вас эти переходы намечались? – заинтересовался Новиков.
– Да много раз. В эпоху реформ Александра Второго. Почти весь период между Франко-прусской войной и Первой мировой. Сколько благоприятных моментов было. Глобализация в начале ХХ века, когда цивилизованного населения на Земле было куда меньше пресловутого золотого миллиарда. Перевод энергии, затраченной на Первую мировую войну в русло цивилизационных перестроек пяти тогдашних империй и США. Тройная развилка Ленин – Сталин – Троцкий ещё до революции. Исключение гитлеровского варианта с плавной эволюцией Веймарской республики в некоммунистическую, но социалистическую державу… Видите, сколько было шансов? И всё время корабль, вильнув, возвращался на прежний курс. Только встреча Антона с Воронцовым, а потом и с вами разорвала эту патовую ситуацию.
– Кто вам мешал так же радикально разобраться с агграми аналогично, но без нас и до нас? – спросил Шульгин.
– А кто мешал Ивану Грозному сделать всё то же, что Пётр Первый, только полутора веками раньше? – вопросом на вопрос ответил Арчибальд.
– Роль личности в истории?
– Или – недозрелость ситуации в целом. Уровень технологий и мыслительные способности римлян или персов вполне позволяли им наладить массовое производство арбалетов, к примеру. Но – не додумались. А гораздо менее культурные европейцы в X или XI веке вдруг приняли их на вооружение. Значит, сошлись воедино некие малозначительные по отдельности факторы…
– То есть ты хочешь сказать, что за многие века «позиционной войны» с агграми вам никакие «революционные» методы выхода из тупика в голову не приходили, а мы сыграли роль как бы генерала Брусилова, вдруг догадавшегося, как без артиллерийской и танковой мощи англо-французов глубоко эшелонированную оборону прорвать? Притом что фортификация австрийцев была лучше немецкой, а русское материально-техническое оснащение – гораздо хуже, чем у Антанты.
– Наверное, можно сказать и так. Ни мы, ни аггры раньше не сталкивались с командой вроде вашей. Чтобы сразу несколько почти готовых Держателей мира в одном месте собрались, да ещё и тесными дружескими связями соединенные, причём таким образом, что в любом деле ваши способности аккумулировались, а не взаимно гасились, как чаще всего и бывает. К тому же, заметь, Воронцов и Берестин до определённого момента с вами знакомы не были, а подтянулись почти одновременно, словно стрелки компаса к отметке «Норд».
Сильвия предпочла перейти на вашу сторону, хотя с Антоном знакома была давным-давно и ничего подобного ей раньше в голову даже прийти не могло… Как антилопе выйти замуж за жирафа. А теперь, кстати, и Дайяна, по всему судя, согласна стать одной из вас. На устраивающих её условиях, конечно. На этом фоне вы вдруг заводите со мной разговор о «фазовом переходе». Не кажется странным?
– Как в известном анекдоте. «Майор Иванов посмотрел на часы и ударил Рабиновича по лицу. И я решил, что пришло время…» – без тени усмешки сказал Андрей. – А раз пришло – пойдём в более подходящее помещение и проведём один эксперимент. В рассуждении проверки наших личных способностей и возможности совмещения их с твоими способностями. А уже потом ты Сарториуса в гости пригласишь.
– Зачем он здесь? – каким-то сварливым тоном спросил Арчибальд. Моментами он очеловечивался до невероятности, как бы сам забывая, что он всего лишь временно автономная деталь гигантского механизма.
– Чтобы впечатлился. Мысль мне в голову одна пришла, – ответил Новиков. – Похоже, и он кое-чего важного недоговаривает по поводу земных раскладов, и ты некую тему старательно обходишь. Захотелось нам очную ставку вам устроить. Глядишь, не сойдёмся во взглядах, так бросить всё не поздно…
– Что-то я тебя, Андрей, не понимаю, – будто бы внутренне напрягся Арчибальд.
Ерунда, конечно, андроид, он и есть андроид. Но если Замок захотел, чтобы его реакция на слова Новикова выглядела именно так… Значит, зачем-то это ему нужно.
– Пойдём в адмиральский кабинет, там обстановка больше нашей затее соответствует, глядишь – и поймёшь…
Глава двадцатая
– Нам, собственно, нужно оппонентам кое-какой наглядный урок преподать, – сказал Шульгин Арчибальду, когда они разместились в по-старинному уютном и особым образом волнующем некие глубинные струны души кабинете царского морского министра Григоровича[124], слегка приспособленного Воронцовым под собственные вкусы[125]. С самого начала у друзей сложилось нечто вроде традиции: всякие важные проблемы обсуждать именно в нём.
Наверное, аура особая здесь скапливалась, поскольку вся мебель и большинство книг, фотографий на стенах, модели кораблей и всяческие сувениры из дальних стран были подлинными. Это давно никого из «Братства» не удивляло, с вещами куда невероятнее приходилось сталкиваться, но поначалу поражало – как это по нескольким фотографиям не декорацию помещения воспроизвести, а извлечь из определённого момента прошлого оригинал, подменив его копией?
Причём, чтобы не вносить ненужных колебаний в ткань тогдашней действительности, подмена была произведена в тот промежуток времени, когда в связи с известными событиями семнадцатого года адмирал был уволен с должности и, понятно, отлучён от дорогих ему предметов обстановки и накопленных за многие годы книг и сувениров, а его преемник ещё не приступил к исполнению обязанностей. И знать не знал, разумеется, какова истинная ценность и степень подлинности доставшейся ему обстановки.
В противном случае могла нарушиться некая эфирная связь между исторической личностью и окружающей его материальной и нематериальной средой, ретроспективно деформироваться порядок причин и следствий. Как в известной китайской притче о полководце, проигравшем так много сражений оттого, что не был должным образом соблюден ритуал его похорон[126].
В ящике стола Новиков нашёл коробку сигар, служившую им своеобразным маркером, позволявшим судить о степени реальности окружающего мира в Замке. Если за тридцать минувших лет коробка всегда оказывалась на том же самом месте, качество и сорт сигар оставались неизменными и их количество убывало строго в соответствии с расчётами, которые Андрей и Шульгин вели независимо друг от друга, значит, с известной долей определённости можно было предполагать, что кабинет этот не является фантомом и химерой.
Закурили, после чего Арчибальд по всем правилам драматургии спросил Сашку, какой именно урок и кому он собирается преподать и в чём должна заключаться его, Замка, роль.
– Иначе ведь ты не стал бы затевать эту столь конфиденциально обставленную беседу?
– В правильном направлении мыслишь, – похвалил Арчибальда Шульгин. – Я передал американцам через Лютенса предупреждение о том, что в ближайшее время возможны масштабные теракты против их вооружённых сил и что самое для них правильное – побыстрее сматываться в места постоянной дислокации. Потому как они не в состоянии защитить даже сами себя, не говоря о населении стран, находящихся «под американским зонтиком». Немцы в оккупированных советских городах не боялись гулять по улицам и вести почти обычную жизнь, как и наши солдаты в Афгане в самоволки бегали, а амеровские вояки в глубоко дружественных странах меньше чем ротой под прикрытием бронетехники за пределы своих баз предпочитают не высовываться.
– Понятно, но многословно, – с видом истинного джентльмена, хантера Боулнойза, которому претит выслушивать лишние, самоочевидные сентенции, ответил Арчибальд. – Передал предупреждение. Теперь считаешь, что нужно эту угрозу подтвердить фактами. Что нужно от меня? Разве у вас самих мало возможностей? Или – не хочешь руки пачкать? Не стыкуется с вашими прежними заявлениями. Решились решать вопросы кардинально – так идите до конца. Не перекладывайте ответственность…
Сказал и замер с благородным выражением породистого лица.
– Вот и видно, что мыслить тонкими категориями тебе ещё учиться и учиться. Это ж тебе не преферанс, где заучил, что «дама бьётся, своя и чужая» – и вперёд. Ещё и не дослушал, а уже выводы на уровне «клуба пикейных жилетов» делаешь, – с лёгким сожалением и сочувствием в голосе сказал Новиков. – Теракт мы какой хочешь без твоей помощи учинить можем. Сердце не дрогнет и руки тоже – после всего, что эти ребята на Земле натворили. Хоть атомную станцию можем взорвать. Но – ни к чему это. Как говаривал всё тот же Остап: «Низкий класс, не чистая работа». А вот устроить такую диверсию, чтоб по масштабам не слабее нью-йоркской была, но зрелищнее и без жертв – это голову нужно иметь…
– Излагай, интересно услышать, насколько вы умнее меня, – с намёком на вызов сказал Арчибальд. Новикову стало интересно, способно ли такое явление, как Замок, обижаться на слова человека, или он только научился (да и то не до конца) имитировать подходящие к случаю эмоции. Наверное, в той части, что отведена под человекоподобие, всё же может. Раз обладает аналогом свободы воли.
– Некоторое время назад, выступая перед Конгрессом по поводу выколачивания очередных фондов и дотаций на флот, министр обороны Макэлрой, мотивируя необходимость заказа очередного авианосца, заявил, что «любой пятиклассник знает – АУГ (авианосная ударная группировка) США не может быть уничтожена ни одной державой мира, настолько она сильна и сбалансирована». На основании этого достаточно спорного утверждения министр сделал ещё более спорное, вернее – алогичное. «Именно потому, что АУГ мощны и неуязвимы, мы делаем на них главную ставку, имея их десять, считаем нужным построить ещё две!» Речь министра была встречена аплодисментами, и ни один народный избранник, хоть от правящей партии, хоть от оппозиции, не задал простой вопрос: если даже ОДНА АУГ неуязвима и способна решать в Мировом океане ЛЮБЫЕ задачи, зачем их двенадцать? На крайний случай хватило бы двух – одна в море, одна на профилактике. При этом только авианосец, без «свиты» из крейсеров, эсминцев, подводных лодок, транспортов и прочего, стоит от пяти до двенадцати миллиардов долларов, а его годовое содержание обходится в полтораста миллионов. Опять же – только самого авианосца…
– И что? – спросил Арчибальд. – Вам жалко денег налогоплательщиков?
– Нисколько. Но очень бы было забавно показать всему миру, американскому народу, Конгрессу и адмиралам, чего на самом деле стоят их «неуязвимые» игрушки…
– И как вы собираетесь это сделать? – очевидно, Арчибальд за несколько секунд извлёк из всеобщего информационного поля нужные сведения и с видом знатока сообщил, что не видит способа без использования десятка-другого самых совершенных в мире российских противокорабельных ракет «Гранит» потопить любой из находящихся в строю американских авианосцев.
– Или – близким ядерным ударом, – завершил он свою тираду.
– Гроссмейстер знал только ход Е2–Е4, – засмеялся Шульгин. – Ты повторил то, что пишут ангажированные или просто глупые «специалисты». А если мозги включить?
– Можно с помощью пространственного совмещения заложить в жизненно важные места корабля несколько тонн взрывчатки. Склады боеприпасов, топливные цистерны, сам ядерный двигатель… Но это вызовет огромные жертвы, а вы, кажется, хотели их избежать? – с некоторой ядовитостью отметил Арчибальд.
– Незачёт, – спокойно сказал Новиков. – Теперь смотри, как просто решаются самые сложные задачи при нестандартном подходе. Извлеки из памяти «Пятнадцатилетний капитан» Жюля Верна и сделай ещё одну попытку…
Прямо перед заставленной книжными шкафами стеной кабинета Арчибальд развернул в воздухе аналог плазменного телеэкрана три на четыре метра. Изумительная разрешающая способность, превосходящая естественные возможности человеческого глаза, позволяла примерно с километровой высоты наблюдать великолепную картину полуденного, почти штилевого Тихого океана где-то между Филиппинами и Марианскими островами.
По густой аквамариновой глади, словно позируя для рекламного ролика «Флот США ждёт тебя, доброволец!», эффектным ордером двигалась именно АУГ в полном составе: авианосец «Рональд Рейган» и его сопровождение четырьмя кильватерными колоннами. Эффектное зрелище, кто будет спорить! Два крейсера ПВО типа «Тикондерога», дивизион противолодочной обороны в составе четырёх эсминцев, несколько фрегатов и корветов, две подводные лодки типа «Лос-Анджелес» в надводном положении, полдюжины танкеров и транспортов снабжения, плавучая мастерская выглядели с высоты отлично выполненными моделями, разыгрывающими в бассейне сцены из морской жизни.
За кораблями тянулись скрывающиеся за горизонтом белоснежные кильватерные струи, не смешивающиеся между собой. Они разлиновали гладь океана, словно идеально вспаханные борозды – целинную степь. Такое сравнение пришло в голову Новикову, хотя цветовая гамма в том и другом случае отличалась кардинально.
– Красиво плывут, – сказал Новиков, а Шульгин тут же вспомнил с детства любимый фильм и продолжил:
– Вон та группа в полосатых купальниках…[127]
– Ну, товарищ Арчибальд, начинаем? Покажите, на что вы способны, – предложил Андрей.
Авианосная группа во главе с «Рональдом Рейганом» была выбрана без каких-либо идеологических соображений, не играло роли, что намеченная жертва носит имя автора слогана «СССР – империя зла» и программы «Звёздных войн». Просто возглавляемая им АУГ (которую вполне можно назвать и эскадрой) оказалась в идеально подходящей для замысла точке Мирового океана и как раз в нужное время. Если угроза и её исполнение разделены достаточно долгим периодом, всякий воспитательный эффект пропадает, а только на него и делался расчёт. Материальными потерями американцев не очень-то запугаешь, а вот на психологические страшилки они ловятся, как голодная рыба на вкусную наживку.
Арчибальд, выслушав предложение друзей, которое ему неожиданно понравилось своей изящностью, немедленно определил на карте местоположение всех американских АУГ. Всего их на данный момент имелось в природе одиннадцать, при этом одна, согласно военно-морской доктрине, всегда находилась на профилактическом или текущем ремонте, а десять – в той или иной степени боеготовности. Сегодня четыре авианосца отстаивались в базах, а шесть выполняли задачи, приближённые к боевым, в морях. В Средиземном, Аравийском, Северном, Карибском. А «Рейган» вот очутился, на свою беду, в Филиппинском.
Для «торжественной порки», как выражался Я. Гашек, подошёл бы и головной в серии атомных авианосцев, «Нимиц»[128], движущийся сейчас в сторону Панамского канала. Но от точки, где технически исполнимо было впечатляющее «происшествие», его отделяли ещё почти сутки хода, и предполагаемое число ни в чём не повинных жертв могло оказаться слишком большим. А «Рейган» уже был фактически на месте, и, если его командиры поведут себя правильно, в соответствии с уставами и инструкциями, экипаж отделается только «лёгким испугом».
Арчибальд нашёл в непосредственной близости от курса АУГ подводную скалу, то ли гранитную, то ли базальтовую, не отмеченную на картах, поскольку заострённую её вершину отделяли от поверхности добрые пятьдесят метров. Как и предполагали Шульгин с Новиковым, Замку приподнять эту скалу на каких-то сорок метров ничего не стоило. Всего лишь – в какое-то число раз увеличить объём составляющих пик неодушевлённых каменных пород. А также и несколько видоизменить форму его верхней части соответственно поставленной задаче.
Ну и, конечно, навести авианосец, которому предназначалась роль нового «Титаника», на предназначенную ему скалу.
Не зря Новиков предлагал Арчибальду перечитать Жюля Верна. Как известно, негодяй, пират и работорговец, судовой кок шхуны «Пилигрим» по имени Негоро подложил топор под судовой компас, и герои романа попали вместо Южной Америки в Экваториальную Африку.
Сейчас, при всём прогрессе в области навигации, повторить такую штуку было ненамного труднее. Магнитные и гироскопические компáсы по-прежнему входили в стандартные наборы судовых курсоуказателей, но на практике такие продвинутые и уважающие себя мореходы, как американцы, на своих «лучше всех в мире построенных и оснащённых кораблях» предпочитали доверять компьютерным и спутниковым системам инерционной навигации. А, как известно, чем совершенней техника, тем легче её вывести из строя. А уж организовать незначительные, никакими приборами не улавливаемые помехи – тем более. Замку нужно было всего лишь внести небольшие поправки в электромагнитные, гравитационные и прочие поля, окружающие район движения эскадры. Как приближающийся грозовой фронт искажает работу радиостанций, так и эти микровоздействия согласованно вносили нужные поправки в показания одновременно всех гирокомпасов, компьютеров, спутниковых джипиэс, сохраняя на экранах дисплеев и всех имеющихся репетирах исходные цифры курса, координат, скорости. При этом истинный курс флагмана и сопровождающих плавсредств совсем ненамного отклонился к зюйду. С точностью до угловых секунд[129]. Даже очень наблюдательный штурман по положению солнца на небе ничего бы не заметил, слишком незначительна была поправка. Да и двигаться новым, ведущим к смертельной опасности курсом авианосной группе предстояло не больше двух часов, даже немного поменьше, потому что…
– Как раньше говорилось на Российском флоте: «Команда имеет время обедать. Свистать к вину и на обед!» – к случаю вспомнил Шульгин. – Распорядись, любезнейший, – обратился он к Арчибальду.
– И не забудьте Удолина позвать, иначе он обидится, – добавил Новиков.
Когда до встречи с рифом оставалось меньше получаса, Арчибальд окончательно уточнил курс авианосца. Как и предполагалось, отклонение на десять с половиной градусов до сих пор не заметили ни на одном из кораблей эскорта. Всё-таки разбаловались люди за последние полвека. Раньше вахтенный начальник каждые десять-пятнадцать минут обязательно поглядывал на показания главного путевого компáса, устраивая рулевому выволочку за каждый градус колебаний вправо-влево. Сейчас на мостиках авианосца и других крупных кораблей имелись, по уставу, вполне работоспособные магнитные, прошедшие устранение девиации компаса, только никому и в голову не пришло бы их расчехлять. Да и этот нетривиальный шаг ничего бы не дал: магнитное поле Земли вокруг эскадры контр-адмирала Паркера исказилось в точном соответствии с изменением всех остальных параметров.
– Скорость группы – двадцать два узла, – сообщил повернувшимся к экрану гостям Арчибальд. Удолин тоже не ушёл, покончив с обедом. Ему тоже было интересно воочию понаблюдать, как работает магия применительно к военно-морским делам. Потому что, с его точки зрения, магией являлись системы мышления, при которых человек осознанно обращается к неким тайным (для большинства окружающих) силам с целью влияния на события, а также реального или кажущегося воздействия на состояние материи; символическое действие или бездействие, направленное на достижение определённой цели сверхъестественным (для нынешнего уровня познания) путём.
Так что дистанционные манипуляции Арчибальда с полями, электронными устройствами и деталями рельефа земной поверхности полностью под это определение попадали. Сам некромант тоже умел в этой области многое, но, так сказать, несколько на других уровнях и в других планах бытия.
– Начинай ускорение, – сказал Шульгин. – Плавненько, но чтобы к месту встречи клиент подошёл на всех своих тридцати двух узлах… У «Титаника» было примерно двадцать пять? Вот и посмотрим, чего стоят сто лет прогресса в теории непотопляемости…
– Циник, – без осуждения произнёс Новиков.
– А чего циник? – возмутился Сашка. – Я читал – на «Титанике» и сталь корпуса была не та, и отсеки неправильно расположены, и теория остойчивости и непотопляемости неотработанная, наш цусимский опыт не учитывала. А теперь, после Второй мировой, они же умные?
Командующий АУГ контр-адмирал Абель Паркер, командир «Рейгана» коммодор[130] Леви Вудбери и командир авиакрыла кэптэн Дэвис Лонг сидели за откидным столиком на правом крыле мостика шестого яруса центральной надстройки-острова авианосца. Они обсуждали всего час назад полученный шифрованный приказ командующего Тихоокеанским флотом[131] прекратить выполнение всех текущих задач и немедленно следовать в Сан-Франциско, на базу Резервного флота, где и ждать дальнейших указаний.
Поговорить было о чём. Приказ сам по себе звучал странно. «Рейган» входил в состав Седьмого оперативного флота и постоянно базировался на японских Йокосука и Пёрл-Харбор. В Сан-Франциско он ни разу не заходил за всю свою жизнь, да и для размещения целой авианосной группы тот порт был мало приспособлен. Но – приказ есть приказ.
Правда, до места назначения – почти семь тысяч миль, и шлёпать туда почти две недели. Значит, намечается нечто чрезвычайное и непонятное одновременно – это же сколько топлива и прочих расходных материалов уйдёт на перебазирование полутора дюжин кораблей, семидесяти самолётов и почти тридцати тысяч офицеров, специалистов и матросов!
На всякого рода мысли наводило и распоряжение о тщательной проверке кораблей и баз на предмет возможного терроризма и саботажа, выявлении лиц, имеющих или могущих иметь отношение к антигосударственной и антиамериканской деятельности (в чём тут разница, моряки пока не поняли, но она несомненно была, раз в секретном министерском документе эти два определения стояли рядом и не через запятую, как синонимы).
Особый интерес и в целом удовлетворение вызвал пункт об исключении из флотского лексикона самого термина «политкорректность». Отныне все вещи и явления следовало называть своими именами, а не прятаться за эвфемизмами.
– Это что же, теперь в случае чего я могу, как встарь, назвать матроса «грязный ниггер», и он не подаст на меня в суд, а «общественность» и журналисты перестанут впадать в истерику, если я выгоню с корабля всех педиков и лесбиянок, невзирая на чины и должности? – хищно оскалил зубы коммодор Вудбери.
– Всё это стоит как следует обдумать, а пожалуй, и попытаться выяснить причины происходящего по личным каналам, – задумчиво ответил адмирал. – У каждого, надеюсь, есть такие.
Возражений слова командующего не встретили, поэтому адмирал и старшие офицеры АУГ, не произнося вслух ничего лишнего, решили приступать к реализации приказа не особенно спеша. А пока что просто занялись тем, что на Руси зовётся «военно-морской травлей». Тут можно, забыв о чинах присутствующих, порассуждать о высокой политике, вспомнить интересные случаи из морской практики. Ну и о женщинах, разумеется, поговорить, проведя сравнительный анализ стáтей и умений сослуживиц, число которых на эскадре достигало едва не пятой части офицеров и матросов (половина, увы, – не той ориентации, после известного вердикта Верховного суда) и штатских японок и филиппинок лёгкого поведения.
А сама по себе новая боевая задача казалась скорее приятной – переход через весь Тихий океан (это почти четверть экватора), приличные выплаты «за дальний поход» и иные, связанные со сменой места дислокации. Да и возможность отдохнуть от надоевшей азиатчины в одном из самых красивых и культурных городов США – сама по себе многого стоит.
Минут через пятнадцать адмирал предложил спуститься к нему в салон и немножечко выпить, «для прояснения обстановки», как он выразился. «Сухой закон» в походе для личного состава, конечно, существовал, но на высший и старший комсостав он не распространялся, люди взрослые и ответственные, сами знают, чего, когда и сколько.
Адмирал Паркер вдруг напрягся, взглянув на державшийся по правой раковине[132] крейсер «Банкер Хилл». Опыта ему хватило, чтобы мгновенно заметить непорядок.
– Смотрите, Леви, – окликнул он командира авианосца, – с чего это мы вдруг увеличили ход? Разве была команда?
Действительно, гигантский корабль явно шёл гораздо быстрее, чем всего полчаса назад. Прибавил не меньше пяти узлов.
– Что за чёрт? Я ничего такого не приказывал! Да и с мостика ничего не докладывали! Что там вытворяет этот Гэтсби? – Коммодор имел в виду своего старшего помощника, заменявшего командира в ходовой рубке.
Вудбери дёрнул тяжёлую стальную трубку телефона прямой связи, закреплённую на переборке.
– Чарли, в чём дело? Что значит в чём? Мы ускоряемся, ты разве не видишь?
– Ничего страшного, кэп, всё под контролем. Я просто решил немного погонять механиков. Проверить, не спят ли они. Заодно уточнить, как быстро мы сумеем набрать полный ход. Вдруг русские прилетят по нашу душу? Ха-ха-ха!
Больше, чем слова и действия помощника, коммодору не понравился его смех.
– Да он что, травкой обкурился, если не хуже? – повернулся командир к адмиралу, не слышавшему слов из рубки.
– Сэр, с Гэтсби что-то не в порядке. Он сказал, что для тренировки решил дать авианосцу полный ход. На случай, если русские прилетят…
– На этот случай нужно отрабатывать разворот против ветра, – вставил командир авиакрыла, – а не гонку за ним. Мои птички хоть и не поршневые, но взлетать против ветра любят всё-таки больше.
– Пойдёмте в рубку, – сказал адмирал. – Сами посмотрим, что там творится.
«Рональд Рейган» продолжал набирать обороты. На жидкокристаллическом дисплее лага выскочили уже цифры «28». Когда адмирал с командирами и свитой присоединившихся по пути штабных офицеров, нюхом учуявших настроение своего шефа и возникших в переходах «острова» как бы из ниоткуда, появились в длинной дугообразной рубке, удивительно малолюдной по сравнению с её размерами и количеством пультов, экранов, джойстиков и манипуляторов абсолютно непонятного постороннему человеку назначения, скорость авианосца подходила к тридцати.
Коммандер Гэтсби повернул к адмиралу улыбающееся лицо.
– Очень хорошо идём, сэр. И это при том, что мы уже год не проходили докования…
– Вы что, пьяны? Или сошли с ума? Кто вам позволил такие шуточки на вахте? – Адмирал смотрел на коммандера, не понимая, что происходит. Подчинённые ему офицеры очень хорошо знали, что Паркер не выносит ни малейших вольностей в общении. Даже лишнее слово или неподходящий к обстоятельствам жест мог вызвать взрыв неконтролируемых эмоций. А Гэтсби нагло усмехался и разговаривал, будто с приятелем в портовом кабаке.
– Да вы!.. Я! Немедленно вон из рубки!..
Коммандер пожал плечами, искренне не понимая, из-за чего этот шум, и тут палуба под ногами у всех ощутимо дёрнулась. И откуда-то издалека донёсся странный шипящий скрежет.
Историю «Титаника» знают практически все, кто по книгам, кто по фильму с Ди Каприо. Какое-то количество интересующихся людей усвоило и с десяток конспирологических версий, охватывающих почти все популярные темы – от пришельцев до очередного заговора «сионских мудрецов».
«Рональд Рейган» не был суперлайнером, на котором собрали несколько десятков миллиардеров, чтобы разом погубить их в ледяных водах Атлантики, не был застрахован на оправдывающую его гибель сумму. На его постройку пошло не бросовое железо, «трескающееся в холодной воде», а самые качественные сорта современной стали, однако он точно так же был обречён на гибель, как и его «предшественник» веком раньше.
В его реальной жизни и службе скорее всего не произошло бы никаких сверхъестественных случайностей, а от превратностей судьбы и вражеского оружия он был защищён максимально возможным на нынешнем уровне развития техники и военно-морского искусства образом. Авианосец мог эффективно поразить лишь близкий ядерный взрыв – ракетной боеголовки, мины или торпеды. Или одновременное попадание десятка мощных противокорабельных ракет типа российского «Гранита».
Но на вариант, реализованный по человеческому замыслу, но нечеловеческой и, возможно, сверхъестественной силой, конструкция корабля рассчитана не была.
Пусть толщина листов корпуса «Титаника» была всего 20 миллиметров котельного железа, а бортовая противоторпедная защита «Рейгана» состояла из самой современной броневой стали, нескольких слоёв кевлара, бортовых коффердамов, нескольких вертикальных водонепроницаемых переборок – для напоминающей очертанием гигантский утюг верхушки рифа, направленной остриём навстречу жертве, это не имело никакого значения. Если веком раньше выступ обыкновенного, даже, говорят, слегка подтаявшего льда вскрыл борт лайнера на протяжении ста с лишним метров, то несокрушимому граниту (горной породе, не российской ракете) ни малейшего сопротивления не смогли оказать все изыски нынешних судостроителей.
При этом, кроме разницы в твёрдости льда и скалы, нужно учитывать, что «Титаник» с массой в три раза меньшей, чем у авианосца, двигался со скоростью около двадцати узлов, а «Рейган» стараниями подвергшегося некоторой корректировке психики старпома успел разогнаться до полных тридцати.
Этих факторов оказалось вполне достаточно, чтобы, воткнувшись в правую скулу авианосца на более чем пятиметровую глубину, заострённая вершина легко и плавно вспорола его борт на всём протяжении. Словно консервный нож жестяную банку, прорезала триста метров всеми возможными способами усиленной обшивки, от форштевня почти до транцевой кормы. Как раз посередине между противоторпедными булями и ватерлинией.
Сопротивления разрезаемого корпуса хватило, чтобы «Рейган» почти до нуля сбросил свой стремительный ход, а тысячи тонн воды, в первые же секунды столкновения хлынувшие внутрь двух сотен отсеков, на которые был разделён корабль, затопили большинство электрогенераторов, помещений постов живучести, водоотливных систем и мгновенно остановившихся турбозубчатых агрегатов, передававших энергию парогазовых турбин на огромные винты.
На гигантском (как положенный набок небоскрёб) корабле почти сразу погасло основное освещение, а аварийное начало включаться очень неуверенно и зачастую не там, где нужно.
«Рональд Рейган» отличался от остальных авианосцев своего класса тем, что на нём большая часть механических, гидравлических и пневматических систем была «революционно» заменена на электрические. В обслуживании так, конечно, проще, особенно если заведомо не собираться воевать с достойным противником. Зато поговорка про яйца и корзину сразу себя оправдала. Могучее «чудо современных технологий» почти мгновенно превратилось в беспомощно тонущий стальной сундук, борьба за живучесть на котором не только бессмысленна, но и невозможна. Даже броненосцы времён Цусимы были лучше к ней приспособлены.
Коммодору Вудбери хватило минуты, чтобы понять масштаб катастрофы – достаточно было, цепляясь за ступеньки скобтрапа на переборке рубки, шипя от боли в сбитых коленках, встать с покрытого стального настила мостика, на который повалились все, на нём находившиеся, включая адмирала. На авианосце вообще мало кто удержался на ногах из шести тысяч членов команды и авиакрыла – кроме тех, кто в момент столкновения успел ухватиться за что-нибудь надёжное или кому просто некуда было падать.
Не говоря о сразу сброшенных в море законом Ньютона сотнях по делу и без дела находившихся вблизи от края полётной палубы матросов, офицеров, авиатехников, за борт начали сползать и валиться в воду рядами выстроенные на взлётной, рулёжной и посадочной палубах для техобслуживания «Супер-Хорнеты», «Викинги» и «Орионы». От сверхмассированного поступления воды в отсеки одного борта корабль тотчас же получил ощутимый и всё увеличивающийся крен.
Сквозь прозрачную, как в бассейне на вилле коммодора, бирюзовую воду командир авианосца увидел мрачную громаду уходящей в глубины океана скалы – убийцы его корабля и погрузившийся в глубь корпуса узкий, будто специально заточенный клык её вершины.
Сколько было сил, он прокричал единственно верную, хотя и запоздавшую команду:
– Стоп машина! Малый назад!
Коммодор надеялся, что, погасив инерцию авианосца, он сумеет удержать его пришпиленным к этой проклятой скале. Лишь бы она поглубже воткнулась в нутро корабля, не вывернулась из раны, не разорвала ахтерштевень и не отпустила «Рейгана» в свободный полёт до самого дна. А глубина Филиппинского моря, согласно лоции, в среднем около четырёх километров, достигая чуть северо-восточнее, в Марианской впадине, целых одиннадцати.
– Немедленно аварийно глушить реакторы! – нарушая нерушимое правило при живом командире на мостике не командовать, заорал адмирал, с курсантских времён всю жизнь отслуживший на атомных авианосцах и усвоивший это правило лучше, чем католический священник «Патер ностер»[133]. Что бы там ни было – первым делом глушить реактор, если возникла угроза затопления судна. Всё остальное – потом.
Автономные источники питания системы управления и защиты вместе с самими приборами находились в помещениях надстройки, а реакторные отсеки и ведущие к ним коммуникации от аварии не пострадали. Поэтому «выстреленные» быстродействующими приводами внутрь активной зоны кадмий-гафниевые стержни прекратили цепную реакцию практически мгновенно. Теперь авианосец мог спокойно тонуть – ближайшие полсотни лет корпуса реакторов морская вода не разрушит, а что там с ними случится дальше на многокилометровой глубине – этот вопрос пусть волнует следующие поколения.
Со всех сторон к потерпевшему аварию «Рейгану» кинулись корабли сопровождения. Эсминцы начали подбирать с воды сброшенных в неё людей, благо вода была вполне курортной температуры и акул поблизости не замечалось. Крейсера приготовились швартоваться к бортам, чтобы помочь исполину удержаться на плаву. Глупая затея, продиктованная скорее инстинктами, чем разумом, – как может десятитысячетонный крейсер удержать махину в сто тысяч тонн, причём втрое более высокую? Единственно, чем они могли помочь, – это более-менее организованно снять экипаж, прежде всего совершенно бесполезных на тонущем корабле лётчиков и техников.
К счастью экипажа, немая молитва коммодора, вознесённая к небу, дошла до адресата без задержки, и авианосец повис на скале, удерживаемый как каменным остриём, так и сохранившими герметичность отсеками левого борта. У командира с адмиралом мелькнула даже надежда, что корабль удастся спасти. Но при одном-единственном условии – если комфлота согласится направить к месту аварии целую эскадру спасательных судов, оснащённых понтонами и всем прочим необходимым. Тогда, может быть, удастся заделать трёхсотметровую рану в борту, откачать несколько десятков тысяч тонн воды и как-то отбуксировать «Рейгана» к ближайшей суше, до которой несколько суток хода.
Но все эти прожекты возможны, если ближайший месяц сохранится штилевая погода. А Тихий океан – тихий только по названию, и в этих широтах шквалы и тайфуны совсем не редкость.
– Ну всё, – откинулся на спинку кресла Шульгин, напряжённо наблюдавший за происходящим на телевизионном экране. – Теперь амерам можно спокойно забыть об Украине, Ближнем Востоке и чудесах природы вроде Бермудского треугольника. И им, и европейцам на ближайшие пару недель тем для обсуждения хватит. Не всё наш «Курск» в дело и не в дело поминать.
– Теперь надо в западную прессу и в Интернет грамотные вбросы сделать – от имени исламских террористов подходящее заявление, что-нибудь про подпольную организацию на флоте, решившую отомстить продажному правительству. «Коммодор Вудбери – новый капитан Саблин»[134], или «Рейган» – новый «Потёмкин»! – продолжил его слова Новиков.
– А совесть не мучает? – вдруг спросил Арчибальд, пристально глядя на Шульгина.
Удолин, услышав это, презрительно фыркнул и демонстративно налил себе полбокала коньяку. До этого почти час удерживался от «стимулирования магического статуса».
– С чего бы это? – искренне удивился Сашка.
– Ну… По вашей вине погибли ни в чём не повинные люди. И последствия могут быть… неожиданные.
– Ты что, за идиотов нас держишь, или сам… не того? – поинтересовался Шульгин почти равнодушным голосом. – Если кто и погиб – так по твоей вине. Мы-то как сидели, так и сидим. Никого не трогали, починяли примус. Это всё ты учинил. Я сейчас скажу – а невредно бы на Америку хороший астероид уронить, и ты это тут же изобразишь. Кто будет виноват?
Арчибальд словно бы несколько растерялся. Очевидно, его псевдомозг или псевдоличность Замка опять что-то неправильно рассчитали. Хотя и непонятно, какой именно реакции они ждали от много чего повидавших в этой жизни «братьев» и мистика-некроманта, у которого вообще крайне своеобразное отношение к проблемам жизни и смерти.
– Давай колись, – довольно грубо сказал Сашка. – В чём твой прикол? Сначала согласился со всеми нашими теориями, потом устроил это вот «происшествие», – он указал на телеэкран, – а теперь интересуешься НАШИМ моральным состоянием…
– Да всё нормально, Саша, – успокаивающе похлопал его по плечу Арчибальд, в голосе которого опять зазвучали свойственные непосредственно Замку нотки. – Я просто решил посмотреть, насколько серьёзны ваши намерения. Знаешь ведь: «Каждый мнит себя героем, видя бой со стороны». А вдруг бы вы сейчас не выдержали, начали действительно рефлексировать по поводу не придуманных, как раньше, а вполне конкретных жертв…
– Поздновато спохватился, – ответил Новиков. – Когда людей в июль сорок первого посылал – не сомневался, а сейчас. Что-то мне твоё поведение перестаёт нравиться. Может, и правда – послать и вас, и всё остальное по известному адресу и заняться исключительно личными делами вне вашего пристального внимания?
– Нет, ну я сказал – всё! – Арчибальд даже пристукнул ладонью по столу. – Закроем эту тему. Давайте думать, как сделанное использовать с максимальной пользой. И ещё я вам одну интересную деталь американской политической жизни решил открыть. Для полноты картины. Только господина Сарториуса сюда тоже нужно позвать. Ему ещё интересней, чем вам, будет.
– Зови. Только смотри, чтобы он не успел сообразить, что ты и тот Арчибальд, который с ним сейчас за бонну работает, – несколько разные люди.
– Уж этому меня можешь не учить, – благодушно улыбнулся андроид. Новикову показалось, что он, как настоящий человек, слегка устыдился своей не слишком умной и неделикатной выходки и сейчас радуется, что о ней согласились забыть.
…Подмены Сарториус на самом деле не осознал, да и не было у него такой возможности. Внешне «Арчибальды» были неразличимы, в пределах обычных разговоров на бытовые темы – тоже. А глубже ни Сарториус, ни «Арчибальд-дубль» не погружались. Каждый – по собственным причинам.
Хозяин острова и бывший кандидат во «Владыки мира» сидел на привычном месте в тени тропических растений, овеваемый океанским бризом, заменяющим любой кондиционер, и разбирал сложную позицию из трактата, посвящённого некоторым аспектам игры в «Го»[135]. И с долей раздражения посмотрел на своего тоже бывшего «партнёра» и нынешнего стража, исполняющего заодно функции дворецкого. Он не любил, чтобы ему мешали. Хотя раньше, когда Арчибальд был для него загадочным и всемогущим представителем сил «не от мира сего», он ни за что не позволил бы изъявить даже подобие неудовольствия какими угодно словами и действиями этого человека.
А вот последнее время Сарториус с большим, но до поры тщательно скрываемым удивлением наблюдал за превращением мистера Боулнойза из соразмерной с собой фигуры в довольно-таки примитивную личность. Уж как-то не похож был всемогущий повелитель (или кукловод) «Хантер-клуба» – организации, перед которой моментами робел и сам Сарториус, – на нынешнего, словно бы без всякого энтузиазма играющего роль себя-прежнего.
Однако относил он эти изменения не к подмене одного человека другим, «двойником» или неким «големом», а всего лишь к тому, что, попав под воздействие таких сверхличностей, как Воронцов, Ляхов, Ньюмен и Грин, мистер Боулнойз просто сломался. Почти как сам Магнус Теофил.
Сарториус разбирался в людях более чем великолепно, иначе он никогда не стал бы тем, кем являлся до последнего времени. Не смог бы создать сразу в двух реальностях мощные, по влиятельности едва ли не превосходящие «Хантер-клуб» организации: «Клуб искателей странного» и «Общество озабоченных гуманистов». Да, пожалуй, по влиятельности в пределах североатлантического истеблишмента они «хантеров» превосходили, только – не владели его мистическими технологиями.
Поэтому он сразу поверил, что люди, внепространственным образом появившиеся на его острове и сразу загнавшие его в безвыходный тупик, – сильнее и могущественнее и его самого, и Боулнойза. Это было видно по поведению «охотника»: как он в присутствии гостей сник и потерял девяносто процентов своей самоуверенности и, не будем стесняться этого слова, харизмы.
Сам Магнус Теофил исходящую от гостей силу тоже немедленно ощутил. Настолько, что ему и в голову не пришло даже просто спорить с ними, выторговывать какие-то преференции для себя и своей «всемирной корпорации».
Но вот что случилось с Боулнойзом? Или, если уж верить в разные потусторонности, сила характера и просто Сила вручались ему истинными хозяевами как оружие заступающему на пост часовому? Только тогда он становился чуть ли не «царём и богом в зоне действительного огня», мог без суда и следствия застрелить любого за нарушение, в обычных обстоятельствах не тянущее и на умеренный штраф.
А стоит это оружие и эти права у него изъять с помощью магической (опять же) формулы «Пост сдал – пост принял» – и снова станет он самым обычным, иногда даже заслуживающим жалости подневольным человечком.
Что-то такое с вице-президентом «хантерского клуба» и произошло.
А вот первые гости, Вадим и Дмитрий, вели себя легко, раскованно, бесцеремонно, если угрожали страшными карами и самой смертью, то очень по-светски, с умеренной дозой юмора даже. И выглядело всё это, как если бы два взрослых, сильных парня проводили воспитательную работу с хулиганистым недорослем, на которого и обычный подзатыльник тратить незачем. Сам всё поймёт и дружкам раз навсегда закажет неправильно поступать. Хотя бы – в этом районе. Границы района тоже были определены вполне доходчиво.
Потом они ушли, но через несколько дней явились другие. И Сарториус понял, что эти стоят гораздо выше в иерархии представляемой ими организации. Чувствовалось это сразу и никаких дополнительных объяснений не требовало. И говорили предельно жёстко, предъявив такие документы, что «Властелин мира» фактически и скоропостижно скончался от обширного инфаркта, который давно и терпеливо ждал своего часа.
Но умереть окончательно Сарториусу не дали эти же господа, назвавшиеся английскими именами, и даже с рыцарскими приставками. И умереть не дали, и пообещали омоложение и долгую-долгую, по его нынешним меркам – практически вечную жизнь.
Господа Ньюмен и Грин за предложенные блага потребовали не как Мефистофель бессмертную душу, а всего лишь искреннюю, честную и с приложением всех сил (которых уже начало заметно прибавляться) помощь в переустройстве существующего на Земле политического и финансового миропорядка.
Сам Сарториус спешил возродить на планете новое средневековье и неофеодализм, да ещё и успеть пожить при этом строе. «Таинственные незнакомцы»[136] собирались учинить нечто другое, но быстрый умом магнат в мгновенном озарении тут же сообразил, что конечный результат их проекта будет не слишком отличаться от его собственных планов.
Последние дни он в основном занимался исполнением полученных от Ньюмена и Грина инструкций, касающихся, так сказать, приведения в «полную боевую готовность» всех подконтрольных Сарториусу и его «Системе» структур в США и за их пределами. Нужно было сделать так, чтобы приказы, которые начнут поступать вскоре, исполнялись мгновенно и без всяких ненужных вопросов. Какими бы дикими эти приказы и распоряжения ни казались исполнителям – людям отнюдь не последним в этом мире. Причём им было нужно дать понять, что любые попытки саботажа или просто промедления закончатся настолько плохо, что и самого закоренелого негодяя и подонка оторопь возьмёт.
Проще говоря, все зависимые от Сарториуса персоны должны превратиться в енотов из рассказа Каттнера про хогбенов. Там эти еноты, должным образом загипнотизированные, сами приходят на полянку, приносят с собой дрова, разжигают костер, сами с себя сдирают шкуры и помогают друг другу устроиться жариться на вертелах.
Пока что нужную степень управляемости проявили медиамагнаты. Очередь за остальными.
Иногда Сарториусу приходила в голову мысль: «А каковы же должны быть подлинные руководители этой, только что в открытую заявившей о себе организации?» Скорее всего людьми в полном смысле слова они, наверное, уже не являлись. Ибо представить себе «обычных людей», и при этом настолько сильных, чтобы и Ньюмен, и Грин согласились служить при них простыми исполнителями, он просто не мог. Мешали стереотипы, которые не в силах были заглушить даже способности, приобретённые в Игре.
– Магнус, вас приглашают, – сказал Арчибальд, остановившись в трёх шагах и с некоторым пренебрежением глядя на разложенную доску 19×19 линий и две нефритовые чаши с камнями, тёмно-рубиновыми и молочно-белыми. Всего в игре используется 180 светлых камней и 181 тёмный. Почему так – никто не в состоянии ответить. Не меньше трети камней уже было выложено на доску в понятном только Сарториусу порядке. Судя по выражению лица, он уже решил этот этюд и готов был несколькими движениями кардинально изменить позицию. А ведь задача была весьма сложной, о чём и говорилось в «Наставлении», переведённом с японского трактата «Детальный анализ партий мастера Ву», пятнадцатого, кажется, века.
Арчибальд помнил, что Сарториус неоднократно повторял: «Эта игра – один из способов познания Вселенной, модель мироздания. При помощи этой игры постигаются закономерности окружающего мира, выстраиваются оптимальные взаимоотношения между людьми, соразмеряются время и пространство. Хотя партнёры ничего не говорят во время игры, расставляемые на доске камни выражают всё, что они думают».
Арчибальду, ещё тому, прежнему, что действительно был реинкарнацией Замка, одно время было интересно наблюдать за занятиями Сарториуса, и он пытался понять, в чём же заключается приписываемый игре смысл. И даже начал овладевать её основами. Но однажды Сарториус сказал, что число возможных позиций на «большой доске» (бывают ещё и «малые», 13×13 и 9×9) приблизительно равно ставосьмидесятизначному числу и превышает количество атомов во Вселенной. После этого Замок утратил к «Го» всякий интерес. Какой смысл заниматься делом, результат которого станет известен намного позже коллапса не только этой Вселенной, но и всего Мультиверсума?
Но Сарториус так не считал и ежедневно посвящал несколько часов занятиям с доской и камнями, находя в неожиданных комбинациях кажущиеся ему верными и мудрыми ответы на любые возникающие вопросы.
Вот сейчас, кстати, он пытался найти в игре подтверждение некоторым возникшим у него в ходе обдумывания предписаний «хантеров» стратегическим конструкциям.
– Кто приглашает и куда? – поднял голову от доски Сарториус.
– Сэр Говард приглашает вас на завтрак…
– Что за завтрак, куда? – не понимал магнат. Слишком он свыкся со своим изолированным мирком, чтобы мгновенно перестроиться, вспомнить, что за пределами острова продолжается «обычная» жизнь.
– К себе приглашает, – не стал вдаваться в подробности Арчибальд, сделал шаг в сторону, и Сарториус увидел у него за спиной, прямо посередине площадки, высокие двустворчатые двери, широко распахнутые, а за ними вполне дворцовый интерьер восемнадцатого века, с анфиладой уходящих в бесконечность, богато украшенных залов.
Сарториус много чего видел в этой жизни, но вот в Москве и Петербурге ему бывать не приходилось, возможно – из-за странного предубеждения против этой непонятной ему страны. А к непонятному он относился с недоверием и опаской. Оттого и не видел в натуре дворцов Петергофа, Кремля, не ходил по залам и галереям Эрмитажа. А то, что открылось сейчас за неизвестно откуда взявшимися дверями, как раз очень напоминало внутренний вид этих архитектурных объектов, с фото– и видеоизображениями которых он, разумеется, был знаком.
Не слишком осознавая, что он делает, Магнус Теофил встал и шагнул к дверям. Потрясение, даже после всего, уже виденного и слышанного, было слишком велико, тем более что случилось совершенно неожиданно. Оторваться от глубокой погружённости в Игру и увидеть такое – это удар по психике не слабее, чем ведро холодной воды, выплеснутой на парочку, увлечённо кувыркающуюся в постели.
Глава двадцать первая
Перешагнув незримый порог, Сарториус оказался в большом двухсветном зале, сияющем навощённым узорчатым паркетом, в три ряда украшенном по стенам картинами в золочёных рамах, колонками с мраморными скульптурами и венецианскими зеркалами в рамах, не уступающих пышностью картинным.
Господа Ньюмен и Грин появились откуда-то сбоку, и сразу Сарториус их даже не заметил, слишком поглощённый подстройкой организма под смену не только окружающего антуража, но как бы и всех жизненных обстоятельств. Совсем разные вещи – разговаривать даже с очень могущественными людьми, сидя на садовой скамейке собственной виллы или – в подавляющей роскоши красивейших на Земле дворцовых интерьеров. Только вот сами хозяева были одеты подчёркнуто просто, словно для короткой загородной прогулки. Никаких шитых золотом мундиров с пышными эполетами или багряных тог византийских базилевсов.
А у самой двери в свободной позе остановился Боулнойз, как бы ставший выше ростом и расправивший плечи. Его здешняя обстановка, сразу видно, не удивляла, будто не раз приходилось тут бывать. Того, что «макет» остался на острове, а «настоящий» Арчибальд находился здесь изначально, Сарториус, конечно, не заметил. Пусть и уловил не объяснимую словами разницу.
– День добрый, господин Магнус. Ничего, что я так, полуофициально? Самочувствие как, обмороков, головокружений, ночных кошмаров не случалось? Аппетит, стул? – всё это сэр Говард произнёс слитно, одной фразой, шагая навстречу с протянутой рукой и, похоже, копируя чьего-то персонажа – комического земского врача.
– Здравствуйте. Нет, спасибо. Всё у меня хорошо. Самочувствие просто прекрасное, я уже и забыл, что такое бывает. Ваше лечение просто чудодейственное. Я сегодня в бассейне двадцать кругов проплыл и завтракал с большим аппетитом… – невольно заразившись стилем Грина, ответил Сарториус.
Ньюмен стоял на том же месте и слегка улыбался. Идти к гостю с распростёртыми объятиями явно не собирался. Ждал, когда сам подойдёт, закончив специфический разговор с товарищем.
– Уже завтракали?! Ах, какая жалость. А мы только собираемся. Дай, думаем, и коллегу пригласим. Ну да, разница поясного времени – не учли. Ладно, не беда, назовём это вторым завтраком. Или ранним обедом. И так и так поговорить всё равно нужно… Вы не знаете, почему дипломаты все свои дела решают за разными видами застолий? Это – за ужином обсудят, то – за деловым завтраком. Не знаете? И я не знаю…
Немного придя в себя, Сарториус задумался: а что это вдруг случилось и отчего умеющий быть пугающе-серьёзным сэр Говард так паясничает? Что это должно означать?
На самом деле это не означало совершенно ничего, если пытаться понять что-то, касающееся самого сэра Говарда. А Шульгин избрал такой стиль просто для того, чтобы как раз и заставить клиента впустую тратить мыслительную энергию. Всегда лучше иметь дело с человеком, в той или иной мере сбитым с толку.
По мозаичному, натёртому натуральным воском паркету, на котором Сарториус всё время боялся поскользнуться, упасть и сломать шейку бедра, хозяева и гость прошли в сравнительно небольшой зал, или большой кабинет, разделённый на два уровня широкими антресолями светлого дерева, сплошь уставленными застеклёнными книжными шкафами. Книг там было, наверное, тысячи три. Или пять. Внизу же помещались письменный стол, большой кожаный диван и несколько таких же кресел, напоминающих хорошо выбритых и покрашенных в шоколадный цвет гиппопотамов, точнее – их задние половины, причудливо расставленные на огромном персидском ковре со сложным орнаментом. Некоторые знатоки утверждают, что «настоящие» ковры можно читать, как те же книги, и в их узорах часто зашифрован некий тайный смысл. А иногда – просто издевательства над профанами.
В одном из кресел сидел пожилой господин с полуседой бородкой и листал толстую книгу необычайно грациозными и широкими жестами сухощавой, но явно сильной руки. Увидев незнакомого человека в окружении хозяев этого дворца, он едва заметно кивнул головой, давая понять, что гостя заметил, но до официального представления уделять ему специального внимания не намерен.
Испытав короткий приступ раздражения – слишком уж часто магнату давали понять степень его обыкновенности, если не сказать хуже, – Сарториус продолжил осмотр кабинета. В простенках развешаны были прямые и кривые сабли, шпаги, мечи, ятаганы – он не слишком разбирался в каком-либо оружии, холодном в том числе. Его «оружие» было другого рода – финансовое или организационное, точнее, организационно-финансовое, поскольку деньги и любые их производные всё же вторичны в сравнении со знаниями и умениями, позволяющими материальными средствами завладеть и пользоваться.
Только ли из-за наличия большого количества оружия, совсем не декоративного, явно бывавшего в деле, или оттого, что оформлял кабинет-библиотеку человек с какими-то другими, чуждыми эстетическими принципами, магнату здесь не понравилось. Несмотря на всё дружелюбие, изъявляемое хозяевами.
Сам по себе факт перехода в иную плоскость бытия Сарториуса совсем не удивил и тем более не напугал. С подобным ему уже приходилось сталкиваться во время той, первой, неудачной попытки захватить господствующие высоты в мире Великого князя Олега. Ну да, кавалерийский наскок, разведка боем, после которой не страшно и отступить для подготовки настоящего удара.
Правда, с «настоящим» вышло ещё хуже. Катастрофой и разгромом всё кончилось. «Конница разбита, армия бежит. Враг вступает в город, пленных не щадя…» Ну и так далее. А уж гвоздя там в кузнице не оказалось или чего-то другого – теперь совершенно неважно. Сарториус не относился к числу людей, излишне рефлектирующих. О причинах поражения можно размышлять и рассуждать, когда есть надежда на реванш. А если её нет, то нужно просто приспосабливаться к новым обстоятельствам. К изменению правил Игры или вообще к другой игре.
Окончательную точку в процессе уничижения «владыки полумира» сэр Говард поставил, когда, положив на стол большой чистый лист плотной, слегка шероховатой бумаги и несколько толстых, остро заточенных цветных карандашей, вдруг обратился к Сарториусу, назвав его подлинным, родителями данным именем, о котором он и сам уже почти забыл. С тех пор как достиг того необходимого[137] рубежа, преодолев который нет больше нужды руководствоваться «человеческими» правилами и законами, в том числе и обязанностью иметь постоянное имя и подтверждающие его документы.
Сарториус старательно затёр все следы, ведущие из его прошлого в теперешнее настоящее, и был совершенно уверен, что нет больше на свете человека, знающего, откуда в мире появился Магнус Теофил Сарториус и кем до этого была персона, имеющая ещё с десяток вспомогательных имён.
Вот здесь он испытал нечто похожее именно на мистический ужас. Словно стал свидетелем, а точнее – участником некромантской процедуры возвращения в мир давно и надёжно скончавшегося субъекта. Слово «человек» тут как-то не слишком применимо. А если бы он ещё узнал, что листающий книгу господин именно профессиональным некромантом и является, его эмоция стала бы ещё глубже.
– Да что вы так побледнели, уважаемый? – заботливо спросил мистер Ньюмен. – Опять с сердцем плохо? А с чего бы? Мой товарищ разве ошибся? Вам, может, выписки из документов предъявить, подтверждающих, так сказать… И на отца вашего с матушкой все положенные бумаги продемонстрировать не затруднимся… Да вы не расстраивайтесь так. Мы тайну личности хранить умеем. Равно, как и врачебную. Тем более что тайна этого, хранения в смысле, не сказать что и заслуживает. Кому сейчас интересно, кем когда-то был и сейчас не известный никому человек? Даже нам это без разницы, можем на Сарториусе пока остановиться. А там, глядишь, сами захотите к истокам вернуться. Даже забавно будет. Вам, вам, не нам… Если не хотите – можете в Россию переселиться, у вас там тоже корни есть. Фамилию, имя-отчество подберём истинно русские, из Мамина-Сибиряка что-нибудь… Но пока давайте всё же к делам нашим вернёмся. Время на размышления у вас было. Смотрите сюда…
Новиков начал рисовать на листе нечто довольно сложное, напоминающее принципиальную схему старинного лампового радиоприёмника. На первый взгляд запутанно и бессмысленно, но если запомнить, что те или иные символы обозначают, и не торопясь прослеживать направления и пересечения соединяющих эти символы линий, то мнимая сложность быстро исчезнет. Всё станет так же понятно, как постигшему грамоту – смысл, содержащийся в расставленных на книжной странице в надлежащем порядке букв того или иного алфавита.
Через полчаса, не больше, они уже общались с хозяином острова и несостоявшимся «Властелином мира» на одном, так сказать, языке.
– Нам всего и требуется, чтобы каждый из подвластных вам начал реализацию своей части общего плана. Им не нужно ничего согласовывать друг с другом, даже если между ними существуют некие деловые или личные отношения…
– Простите, это может повести к дезорганизациям, «накладкам» всякого рода, – возразил Сарториус, имевший в подобных «коалиционных» операциях немалый опыт. – Без детального согласования, конечно, не объясняя всего замысла, но минимальная координация необходима…
– Как раз это пусть вас совсем не беспокоит. Примите, как данность, что вот это, – Шульгин указал на лист, – всего лишь элемент гораздо более сложной конструкции…
Сарториус попытался представить и почувствовал, что голова начинает идти кругом. Не зря же значительное число блестящих по всем основным признакам студентов таких вузов, как советского ещё времени МФТИ и МИФИ, курсу примерно к третьему слегка (а то и очень основательно) повреждались в рассудке. Всего лишь от необходимости наглядно представлять себе абстракции высших порядков и оперировать ими. Даже создатель теории «многомировой интерпретации» Хью Эверетт не смог вынести «бездны собственной премудрости» и скончался в возрасте пятидесяти лет с совершенно расстроенным рассудком.
– И вам себя сверх меры перегружать не стоит, – сочувственно добавил Новиков. – Даже невзирая на то, что качество нашей медицинской помощи гарантирует от обычных в таком возрасте неприятностей…
Прозвучала эта фраза, с обычным для господ Ньюмена и Грина тембровым выделением некоторых слов, словно на письме – курсивом или подчёркиванием, вроде и успокаивающе, но всё равно двусмысленно.
– Ещё раз простите, – не успокаивался Сарториус. – Ведь если начнёт реализовываться вот эта, допустим, линия, – он указал карандашом, какая именно, – немедленно начнутся катастрофические процессы вот здесь, здесь и здесь… Полностью неуправляемые. Вы же должны понимать, что вообще вся мировая система работает до тех пор, пока поддерживается иллюзия её управляемости. Вы понимаете – иллюзия! Она рухнет – и что тогда станет со всем вашим планом? Вспомните недавний ипотечный кризис! Стоило людям усомниться в выгодности инвестиций в недвижимость – и рынок жилья рухнул. Фондовые индексы…
– Вообразите, что именно эти «катастрофические», как вы выразились, процессы и являются целью данного этапа операции. Избавление человечества от иллюзий! И если все исполнители будут неуклонно следовать полученным инструкциям, не забивая себе голову побочными идеями, то дальше… – Новиков показал карандашом на несколько развилок и нарисованных прямо поверх них квадратиков и кружков, – может образоваться такая вот коллизия. Полностью укладывающаяся в некую «базисную теорию», на основе которой всё и планируется…
При всём старании Сарториус не мог себе вообразить упомянутой «базисной теории». Теории – чего?
А потом подумал, что, когда даже в пределах одной корпорации он начинал отдавать распоряжения членам советов директоров, начальникам отделов, владельцам аффилированных банков и прочим исполнителям, никто из них тоже не догадывался и не мог догадаться, что кажущиеся сегодня и здесь непонятными эти распоряжения могут завтра вызвать панику на бирже в Гонконге, падение курса фунта в Лондоне и переход, допустим, «Дженерал моторс» под негласный контроль «Ай Ти Ти». А в сухом остатке – семь-восемь дополнительных нулей в сумме активов корпорации и неплохие бонусы исполнителям.
Ну вот сейчас он сам оказался в аналогичном положении, с этим надо смириться, только лишь. При подведении баланса, никак не раньше, станет известно, кто выиграл, а кто проиграл.
– Вы правильно начинаете понимать, – кивнул Ньюмен, пристально наблюдавший за мимикой и прочей идиомоторикой «пациента». – Мастера Андерсона тоже многие болельщики хотели назвать сумасшедшим, когда он пожертвовал Кудерицкому ферзя и две ладьи. Однако не прошло и часа…
– Вы только не забудьте напомнить своим «смотрящим», что любые попытки саботажа или каких-нибудь «инициатив» будут караться немедленно и с максимальной строгостью. Начиная с самого верха и по нисходящей… Ну, я думаю, с дисциплиной в вашей «фирме» всё в порядке. А то мы сами можем организовать парочку показательных акций… – таким же академическим тоном добавил Шульгин-Грин. – Вот господин Боулнойз конкретно этими вопросами и займётся. Нам совсем не нужно, чтобы описанное Клаузевицем «трение»[138] начало себя оказывать. Смазкой придётся вовремя озаботиться.
Сарториус посмотрел на Арчибальда. Он снова изменился – опять это был твёрдый, явно умный и целеустремлённый человек. Такому знатоку человеческой натуры, как Магнус Теофил, никаких слов и поступков для подтверждения этого не требовалось.
Неужели на него так влияет присутствие «хозяев»? Или он сам по себе умеет включать и отключать те или иные функции и свойства своего организма и личности? Требуется быть главой мощнейшей тайной организации – пожалуйста. Нужно поработать надзирателем и одновременно дворецким при высокопоставленном пленнике – тоже никаких вопросов. Интересно! Прямо не человек, а робот какой-то.
Кстати, а люди ли в таком случае и эти любезные господа?
Сарториус подумал так и сам испугался своей мысли. Ещё услышат!
Нет, не его это дело. Он, как Боулнойз, тоже превратится в функцию, и ничего больше. А дальше видно будет.
– Кстати, господин Сарториус, – вдруг подал голос так всё время и просматривавший свою книгу господин, словно бы вообще не обращавший внимания на присутствие в библиотеке других людей. Листал страницы, делая на широких полях пометки оправленным в серебро старомодным, девятнадцатого ещё века карандашиком, курил, пуская дым в жерло холодного камина, отхлёбывал нечто явно алкогольное из высокого стакана. – Я вам так и не представлен, мои друзья слишком увлеклись конкретными делами, чтобы подумать о такой мелочи. Так вот – Удолин, Константин Васильевич, экстраординарный профессор Московского и Петербургского университетов, не нынешних, разумеется, а ИМПЕРАТОРСКИХ! Также – почётный член многих иностранных академий…
– Мм-м… Очень приятно, господин Удолин. Императорских – это каких? Из второй реальности?
– Отнюдь. Самых настоящих, основанных соответственно императрицей Елизаветой Петровной в 1755-м и императором Петром Алексеевичем в 1724-м… С каковых пор и имею честь, а равно и удовольствие…
У Сарториуса голова окончательно пошла кругом, но он ни на секунду не усомнился в том, что профессор говорит правду. Поверил сразу и безусловно. И это наполнило его очередной порцией оптимизма. Вот же человек, живёт уже триста лет, а выглядит на пятьдесят с небольшим, и голос молодой, приятный и убедительтный, студентам, наверное, нравится его слушать. С тысяча семьсот какого-то там года…
– Да, да, я понял, очень приятно, – закивал головой, как китайский болванчик, Сарториус. – Ну, а как зовут меня, вы, естественно, знаете…
– Ещё бы, – снисходительно усмехнулся Удолин. – Мог бы рассказать о ваших посмертных путях, что вас ждали, если бы мои товарищи вовремя не вмешались. Но, я думаю, у нас ещё будет повод… Нет, нет, не сегодня и не завтра, – замахал он рукой, увидев, что собеседник снова покрывается меловой белизной с прозеленью. – Ещё очень не скоро, а точнее не скажу, а то всё равно ведь начнёте дни считать… Давайте о другом. Вы что-нибудь слышали о такой организации – «Дети американской революции»?[139]
Лицо Сарториуса искривила мгновенная, тут же спрятанная гримаса.
– Что такое? Вам неприятно об этом говорить. Но всё-таки придётся. – Удолин широким жестом указал на ближайшее к себе кресло. – Вы садитесь, садитесь. И это, Александр, – обратился он уже к Шульгину, – пусть наш «дворецкий» озаботится обедом. Вы когда ещё о завтраке говорили…
– Сделаем, Константин Васильевич. По большому протоколу? – кивнул и чуть прищёлкнул каблуками Сашка. Пусть гость ещё раз задумается, кто же здесь есть кто?
– Коньяк будете? – спросил Удолин Сарториуса. – Нет? Напрасно. Чрезвычайно способствует укреплению жизненных сил и долголетию, посмотрите хоть на меня. Это я, кстати, завёл в кругах тогдашней научной интеллигенции моду на хорошие коньяки. А то, словно кучеры, водку хлестали, причём плохую… Так вот, о «Детях». Эта организация мне с самого начала очень не нравилась, когда они там появились, в семьсот девяностом, кажется? Неприятные люди, фанатики, кальвинисты, жестоки и жадны до невозможности. Куда до них пресловутым «сионским мудрецам» и поклонникам богини Кали…[140]
Удолин внимательно посмотрел в глаза Сарториуса.
– Вижу, они вам тоже не нравятся. А как же так получилось, что эти ортодоксы оказались вне сферы вашего влияния? Неужели так трудно было справиться? Или – что?
Профессор подался вперёд, наклоняясь к собеседнику, и стал вдруг очень похож на Ленина с одной из многочисленных, посвящённых вождю знаменитых картин художника (не поэта) Бродского[141].
– Вы же сами должны всё знать, – ответил Сарториус, отстраняясь.
– Мы-то знаем, а вот почему вы в наших беседах мягко обошли эту тему? – поинтересовался Новиков. – Вроде договорились о полной откровенности в обмен на…
Сарториус печально вздохнул:
– Видите ли, эта тема как бы и не имеет отношения к нашим делам…
– Не вам судить, – голос Андрея стал ощутимо жёстче. – По какой причине вы не можете контролировать этих «деток» и какую часть реальной американской политики контролируют они?
Отвечать Сарториусу сильно не хотелось, но деваться было некуда:
– Больше ста лет назад моими предшественниками было заключено соглашение о разделе сфер влияния. «Дети» оставили за собой полное право решать, что есть «истинный американизм», и принимать любые меры к его сохранению. Нам предоставлена полная экономическая и политическая свобода в раз и навсегда установленных рамках. Вот вам пример – в обмен на полученные за военные поставки во время Второй мировой войны миллиарды и «невнимание» соответствующих структур к торговым операциям с Германией нам пришлось согласиться на вице-президента Трумэна[142]. И так далее…
– Они настолько сильны? – как бы удивился Удолин, неприятно пощёлкивая пальцами.
– В тех вопросах, что их интересуют, – они всесильны. Любая попытка конфликта с их руководством заканчивается смертью и полным разорением несогласных… Уж на что популярен был Кеннеди и его клан… Одного брата, президента, убили, второй брат, генеральный прокурор, получил недвусмысленный намёк – забыть об этом неприятном инциденте и заняться семейными делами. Не послушался, решил тоже баллотироваться – убили и его. И опять никаких концов. Было ещё несколько случаев, не только в США, но и в других странах. С тех пор установился статус-кво.
– Поэтому вы предпочитаете жить на своём острове и в другой реальности? – догадался Удолин.
– В том числе и поэтому…
– Ну, как говорят в России, не так страшен чёрт… Как я понимаю – вам было просто стыдно признать, что какие-то там… Они что, по-вашему, потусторонние существа? Так я, к вашему сведению, специалист в этом вопросе. Навыками экзорцизма владею…
– Я бы не советовал вам недооценивать противника, – осторожно сказал Сарториус.
– А почему – противника? – вдруг спросил Шульгин. – Очень может быть, что на определённом этапе они окажутся нашими верными союзниками…
– Сами об этом не подозревая, – тихо хихикнул довольно уже расслабившийся Удолин. – А вы – просто о них забудьте. Вам своих забот довлеет…[143]
– Только сами как следует поверьте, Магнус, – сказал Новиков, – именно что окончательно поверьте (знание тут ни при чём) – никакие ухищрения и самые хитроумные выдумки, на которые вы мастер, кто же спорит, не в состоянии больше что-то в вашем положении изменить. В ту сторону, которую вы считаете для себя предпочтительной. Выбор прост до удивления – печальный конец от рук хоть «детей», хоть кого угодно, если мы раздумаем вас защищать, или – жизнь, причём настоящая, полноценная жизнь, о какой вы давно успели забыть. Как будто снова вернутся ваши сорок лет, вы поймёте, что бодры, здоровы, полны энтузиазма и вам совсем не хочется круглосуточно просиживать в офисах, перелистывая пыльные бухгалтерские книги и вычисляя проценты со сложных процентов, чтобы пополнить свои активы ещё на миллиард или пять.
Вам захочется скитаться по миру, встречать в портовых тавернах прекрасных женщин и отважных мужчин, которые могут стать вашими друзьями. Вы сможете взойти на палубу парусного клипера и отправиться на другой край света в поисках того, что стоит искать. Прожив свои восемьдесят шесть, вы, кажется, так ни разу и не имели возможности понять, что такое настоящая жизнь… – Андрей произнёс эти слова совершенно искренне, в надежде, может быть, слегка наивной, что они затронут какие-то ещё уцелевшие струны в душе прожжённого циника, человека без принципов, убеждений, имени и родины.
Но скорее всего надежда эта не была такой уж наивной. Андрей за минувшие годы, которых набралось уже раза в три больше, чем биологических лет, узнал, повидал и передумал слишком много, чтобы так примитивно заблуждаться. И вполне наглядно представлял себе состояние человека, последние лет двадцать почти ежедневно задумывающегося – а не последний ли день он сегодня живёт, сам ли ляжет вечером в свою постель или его ложем станет прозекторский стол и каков будет неизбежный конец – мгновенным, от обширного инфаркта, инсульта, оторвавшегося тромба, или затянется на многие годы в инвалидной коляске, в больничной палате под аппаратом круглосуточного гемодиализа и искусственной вентиляции лёгких.
А то, помилуй бог, случится, как у израильского премьера, Ариэля Шарона, кажется, проклятого каббалистами по древнему обряду[144] и десять лет пролежавшего в коме, причём, как утверждают знатоки, – парализованным, слепым и глухим, но в полном сознании.
И вдруг этому человеку предлагаются, практически бесплатно (подумаешь – всего лишь отказ от претензии на гипотетическую власть над миром и контроль над несколькими триллионами условных денежных единиц), здоровье, молодость, свобода. Свобода от изнурительного, чисто сизифова бега в беличьем колесе, погони за недостижимой в принципе целью.
При этом достаточная часть его состояния останется при нём – достаточная, чтобы прожить ещё хоть сто лет, ни в чём себе не отказывая, но готовая немедленно обратиться в пыль при любой попытке использовать её «не по назначению».
Вся трудность, с точки зрения Андрея, заключалась только лишь в том, что за свою излишне долгую жизнь Сарториус на подсознательном уровне уверовал в свою «экстерриториальность» от обычного мира. И в то, что подконтрольные триллионы (хоть в долларах, хоть в золотых динарах) способны решить любой вопрос. Если уж папа римский за сравнительно умеренную мзду послушно выполняет любые просьбы Сарториуса, изложенные даже не лично, а по банальному телефону, то так ли далеко до следующей инстанции?[145]
Поэтому даже доводы разума не всегда способны поколебать такой, можно сказать, инстинкт.
Однако «Дети американской революции» эту проблему, кажется, решили?
И на «Земле дуггуров» Андрей с Шульгиным узнали много интересного именно насчёт работы с инстинктами. Человеческими и гораздо более сложными, чем принято думать.
Что ж, «торжественной порке» Сарториуса пока предавать не стоит, но несколько наглядных примеров преподать придётся. А то так и будет терзаться мыслью о возможности перегрызть цепь, на которую его посадили всерьёз и надолго. Тщетные же надежды, как известно, только отвлекают от плодотворной работы. Эта идея была реализована в «шарашках» сталинской поры, а на восемь веков раньше сформулирована Данте в «Божественной комедии». Над воротами ада была помещена сентенция: «Оставь надежды, всяк сюда входящий!» Мол, покорись своей участи и прими как данность, что амнистии не будет. Вообще. Даже при смене власти и политического режима.
– Скажите, Магнус, вы в курсе, каков на сегодняшний день золотой запас Соединённых Штатов? – внезапно спросил Шульгин.
– До килограмма не скажу. И чтобы выяснить объёмы частных депозитов, потребуется некоторое время. А насколько известно мне – и это достаточно достоверные данные – в хранилищах Федрезерва на Манхэттене и в форте Нокс на данный момент наличествует от восьми тысяч ста до восьми тысяч девятисот тонн в слитках разного веса и разных стандартов, англо-американских и европейских…
– А откуда такой разнос – восемьсот тонн? Даже так, навскидку – сорок миллиардов долларов по сегодняшнему курсу. Вы балансы своих корпораций тоже с такими допусками сводите? – участливо поинтересовался Новиков.
– Разумеется, нет. Но здесь всё иначе. Это ведь только оценочные данные. По отчётам разных лет. Реальный аудит с взвешиванием каждого слитка не проводился никогда. Попытки были, не скрою. И Конгресс интересовался, и Министерство финансов. Некоторые из президентов тоже любопытство проявляли. Особенно когда в прессе всякие спекуляции на эту тему начинались. То будто никакого золотого запаса вообще нет, он давно распродан, то наоборот, что Америка утаивает сданные ей «на хранение» активы третьих стран. Таких, кстати, почти шестьдесят. Которые своё золото здесь хранят…
– А смысл? – удивился Шульгин. – «Жену отдай дяде, а сам…» – Он постарался перевести эту русскую поговорку на английский максимально близко к менталитету собеседника. Тот коротко хохотнул, уловив скабрёзную составляющую.
– Начиная с предвоенного, то есть до Второй мировой, периода очень многие страны, в страхе перед агрессором, сначала Германией, потом СССР, передавали свои золотые запасы за океан. Вы же примите во внимание и психологию правителей. Если придётся (и удастся) сбежать, то куда? Сюда же, в благословенные и непобедимые Штаты. А будь ты королём или премьером в изгнании, но за тобой, пусть формально, числятся сколько-то тонн «всеобщего эквивалента» – ты не бедный родственник, а вполне почтенная фигура. По крайней мере, на жильё и еду хватит… – Сарториус сказал и задумался. Словно бы примеряя к себе подобную участь.
– Но я так понимаю, что лично вы – не декоративный президент «этой страны», а вполне авторитетная фигура – отчего вы, при ваших возможностях, не знаете точного количества? Это ведь, как ни крути, и финансовый козырь, и геополитический…
Новиков спросил и изобразил нетерпеливое ожидание ответа.
Опять Сарториус перед дилеммой – соврать, рискуя, что спрашивающий сам знает ответ и лишь проверяет «клиента», или сказать правду, теряя последние остатки самостоятельности. Похоже, выбрал второе:
– Прежде всего даже я не в состоянии без лишней огласки организовать столь масштабную ревизию. Как вы себе вообще представляете процедуру пересчёта и взвешивания почти полумиллиона слитков? Заодно тогда уж надо и пробирный анализ провести. Поскольку отчего не предположить, что какая-то часть золота давно подменена на свинец или вольфрам? Поэтому приходится брать на веру косвенные данные. Но у меня их столько, что я практически не сомневаюсь – золото в наличии, и его примерно столько, сколько значится по инвентарным книгам…
– Кроме того, – как бы подсказал Андрей, – эти самые «плюс-минус восемьсот тонн» – отличный стратегический резерв. Ими можно манипулировать, ничем не рискуя. Правильно организованная инвентаризация займёт больше времени, чем один или даже два президентских срока. Так зачем действующему президенту входить в конфронтацию со знающими людьми и искать лишних приключений? А любопытных уровнем пониже заставить молчать ничего не стоит. Так?
– Вы сами знаете, что так, – пожал плечами Сарториус. – Но раз уж мы играем теперь на одной стороне, поделитесь – чем вас заинтересовал этот не столь уж существенный момент? На сегодняшний день округлённая стоимость золотого запаса США – примерно четыреста миллиардов долларов. Но это цена, так сказать, потенциальная: начните вы им торговать в серьёзных объёмах – она сразу покатится вниз. А те активы, что контролирует моя «Система» и о которых вам известно, – больше пятнадцати триллионов.
– Вы ведь сами знаете, Магнус, что это – самый большой из мыльных пузырей, что надувало человечество. И зачем хотите предстать перед нами глупцом – не понимаю. Все ваши деривативы, долговые обязательства, «ценные бумаги», та макулатура, которую гонят станки типографий Федрезерва, – мусор. Опавшие листья в осеннем саду, как выразился бы наш друг Ойяма-сан. Вы финансист, да и вообще опытный человек, неплохо поживший…
– И мечтающий пожить ещё, – меланхолически уточнил Шульгин.
Сарториус только шумно втянул носом воздух и стиснул зубы, ничего не возразив.
– Вы должны помнить Великую депрессию, захватили хоть краешком, и немецкая гиперинфляция тогда только-только закончилась. Если забыли, могу дать перечитать Ремарка, «Чёрный обелиск», – продолжил Андрей.
– Незачем. Я всё помню. И понимаю, что вы имеете в виду, – со вздохом сказал Сарториус.
– Так точно. Может случиться так, что всю вашу предстоящую долгую жизнь (мы от своих обещаний не отказываемся) вам придётся, как и написано в Библии, «добывать свой хлеб в поте лица». Например, строить очередные автострады, только уже не на американских равнинах, а в местах более отдалённых, там, где будут платить какие-то реальные деньги или просто кормить. Ведь курс вашего «зелёного» может легко сравняться с зимбабвийским – миллиард к одной какой-нибудь «У.Е». А в качестве «у.е.» – буханка хлеба!
– Зачем вы всё это мне говорите? Кажется, соглашение уже достигнуто и я пообещал его выполнять…
– Пообещать – это одно. Жениться на девушке мужчины обещают гораздо чаще, чем реально идут под венец, – долго не куривший Шульгин наконец не выдержал, подошёл к полузадёрнутому шторой окну и, повернув начищенную бронзовую ручку, открыл правую створку.
Стёкла в рамах были, очевидно, очень толстые, со стопроцентной звукоизоляцией, потому что только сейчас, вместе с порывом сырого прохладного ветра, в комнату донеслись мерный гул длинного, скорее всего – океанского прибоя и хаотический перестук перекатываемой волнами гальки.
Потянулся к портсигару и Новиков.
– Нам нужно, чтобы вы раз и навсегда усвоили всю неоднозначность текущего момента. А без демонстрации некоторых физических опытов нормальный человек с трудом верит, что Земля вертится вокруг Солнца, а не наоборот. Вот, смотрите…
Новиков щёлкнул пультом, и засветился экран почти двухметрового по диагонали плазменного монитора.
Сначала камера словно спланировала с километровой высоты, показывая белое двухэтажное здание, похожее на тюрьму, обнесённое несколькими рядами бетонных заборов и колючей проволоки, перемежаемых густыми зелёными насаждениями. Всё это находилось посреди огромного, пустого, как полковой плац, квадрата, по периметру которого шла ещё одна мощная ограда со сторожевыми башнями по углам.
– Узнаёте? – спросил Андрей.
– Конечно. Это и есть форт Нокс. Но что за суматоха там происходит?
Камера опустилась пониже, и стало отчётливо видно, что суматоха действительно имеет место. Примерно как в муравейнике, на который беспечный прохожий бросил непотушенный окурок. И по внешнему периметру, и внутри него бегали солдаты в форме, с оружием и в касках, в воздухе кружились сразу четыре чёрных «Апача». Новиков прибавил звук, и стало слышно завывание мощной сирены.
– Как будто началось внезапное нападение индейцев на блокгауз переселенцев, – предположил Шульгин. – Только масштаб другой, и врага не видно…
Новиков нажал очередную кнопку на пульте, и Сарториус увидел внутренность форта, его нижние уровни, судя по тому, что в длинных бетонных коридорах не было ни одного окна. Зато имелись перекрытые снаружи решётчатыми тамбурами, точнее – шлюзами в виде вложенных друг в друга стальных клеток круглые, трёхметрового диаметра двери. Они напоминали сильно увеличенные герметические люки между отсеками в старых подводных лодках. Но были отчего-то бронзовыми или просто выкрашены в такой цвет.
На дверях имелись мощные, чуть не в половину диаметра дверей, маховики кремальерных замков.
Новиков двинул камеру вперед, и она будто прошла сквозь дверь, показывая то, что так тщательно скрывалось за ними. Несколько длинных, пятидесятиметровых залов с выкрашенными светло-серой краской стенами. И все они были пусты. Совершенно, ни бумажек на полу, ни строительного мусора. Ни-че-го. Словно не просто освободили помещение от мебели и всего, что там ещё хранилось, но и пылесосом прошлись после этого.
Камера развернулась, снова демонстрируя дверь, теперь изнутри.
Края её грубым, едва ли не нарочито неровным швом были приварены к не менее массивной, чем сама дверь, раме.
А по всем коридорам форта завывали сирены, мигали, словно в фантастическом боевике, красные и синие лампы, бежали по лестницам и переходам люди. В армейской военной форме, каких-то ведомственных, однообразного покроя костюмах и гражданской одежде тоже.
– Ну, что вы на это скажете? – осведомился Новиков, продолжая крупным планом показывать соседние, столь же пустые казематы.
– Что это значит? – недоумённо спросил Сарториус.
– Данный эпизод приключенческого фильма можно назвать: «Охрана внезапно обнаруживает, что сокровищница султана пуста». Или проще: «В форте Нокс выявлена небольшая недостача материальных ценностей». Вы же видите – золота здесь больше нет.
– А возможно, никогда и не было? – впервые за всё время общения подал голос Арчибальд Боулнойз.
Эту акцию Шульгин с Андреем обдумывали очень давно, как только наметились первые успехи Левашова в экспериментах над пространственно-временным совмещением. В годы самого что ни на есть цветущего и развитого застоя. Привычно рассуждая на какие угодно темы, в том числе и касающиеся приобретающей всё новые, подчас весьма экзотические формы «холодной войны», кто-то из них, скорее всего Шульгин, высказал подобную идею. «А если взять и одномоментно вывезти к нам в Союз весь американский золотой запас? Тогда уж точно ихнему империализму полный трындец!»
Как было принято, эту тему обыграли со всех доступных сторон, обсудили механизм – вот уж действительно ограбление века. Пуще того – не века, а всех времён и народов. Хотя тут возникли разногласия. Новиков, как специалист, утверждал, что ограбление испанцами индейцев было всё же помасштабнее, а Сашка доказывал, что там – совсем другое дело. Не ограбление вовсе, а процесс эксплуатации колоний, тем более – растянутый на много десятилетий. А вот так, чтобы одномоментно хапнуть «всю кассу» сверхдержавы, – такого в истории не было.
Посчитали и возможную прибыль Отечества (о том, чтобы использовать акцию в корыстных целях, и мысли не было. Казалось забавным перекинуть добычу в кремлёвские подвалы, например, а потом пригласить «лично Леонида Ильича» полюбоваться).
По тогдашним ценам (до отмены Бреттон-Вудской системы)[146] стоимость всего американского золотого запаса составляла около двадцати миллиардов долларов, то есть едва ли десятую долю ВВП, и потеря такой суммы едва ли сильно сказалась бы на «реальной экономике». Однако именно в эти годы США переживали серьёзные, налагающиеся друг на друга экономический, политический и, можно так сказать, идентификационный кризисы. Некоторые советские и западные экономисты даже считали, что в середине семидесятых СССР практически выиграл «холодную войну». Не хватило, что называется, последней соломинки, чтобы переломить спину буйволу.
Так что идея Новикова – Шульгина под влиянием тогдашних настроений родилась и в случае реализации имела верный шанс роль этой самой соломинки и сыграть. Если бы ещё у власти в Советском Союзе находились умные, отважные и решительные вожди, способные, по военной терминологии, чётко уловить «мёртвую точку», когда противник уже исчерпал свои ресурсы и продолжает наступать просто по инерции, нанести внезапный контрудар, ввести в прорыв подвижные соединения… Попросту – повторить в «мирных условиях» Сталинград или Курскую битву.
И они ведь тогда действительно были убеждены, несмотря на общепринятые в среде интеллигенции фрондёрские настроения, что поражение США и соответственно победа СССР будут для «всего прогрессивного человечества» несомненным благом. А желанные «свободы» появятся сами собой, когда исчезнет «враг внешний».
На новом витке исторической спирали друзья снова вернулись к этой же мысли, и вдобавок теперь у них на самом деле была реальная возможность претворить свои «мыслеформы» в объективную реальность.
Нынешнее изъятие золотого запаса у «мирового гегемона» на фоне всех остальных запланированных вмешательств в текущий исторический процесс должно было сыграть прежде всего психологическую роль. Вроде как падение курсов акций в «чёрный вторник» двадцать девятого года[147].
Сама по себе операция особого труда и сложностей не составила, раз уж решено было не ограничиваться в силах и средствах. Воронцов выделил нужное количество андроидов из экипажа «Валгаллы», на которых возложили стратегическую роль, вроде как на «тяжёлый танковый корпус прорыва Резерва Верховного Главнокомандования». Нужно было только провести очередную перенастройку исполнителей.
Старт акции «Антимидас»[148] (тоже словечко из «прежних времён», так Новиков когда-то назвал одного знакомого, в руках которого всё, к чему бы он ни прикоснулся, превращалось в дерьмо. В переносном, конечно, смысле, но и не совсем) был назначен ровно за сутки до того, как Сарториус стал свидетелем её финала.
Непосредственного участия Новикова с Шульгиным здесь не требовалось, свою работу они сделали и могли спокойно заниматься кэмп-дэвидской частью плана. А роль руководителя с удовольствием взял на себя Воронцов. Ему тоже было интересно проявить себя в несколько неожиданной ипостаси «супергангстера». Куда там Аль-Капоне![149] Масштабы не те.
Детальную проработку операции Дмитрию помогли выполнить «роботы-штабисты». Получив задание, они с помощью Шаров изучили планировку хранилищ, систему электроснабжения, оповещения и связи форта, численность, организацию службы, дислокацию и должностные инструкции военной и ведомственной (этакий спецназ Минфина) охраны.
Андроиды за несколько часов узнали больше любого инженера, двадцать лет обслуживавшего свой участок, напичканного самого разного рода охранными устройствами комплекса хранилищ и всего форта в целом. А равно и тех «администраторов», что разрабатывали, осуществляли и контролировали многослойную и многоуровневую систему безопасности главной сокровищницы страны.
Аналогично тщательно была изучена ими и система обслуживания и охраны хранилища Федрезерва в Нью-Йорке. Там, в гранитных пещерах Манхэттена, на глубине двадцати пяти метров размещалась вторая половина американских запасов «жёлтого металла». Защищена она была не хуже, чем в форте Нокс, пусть и не с такой театральностью. Одна только дверь в «главный сейф» весила девяносто тонн, а сколько всяких «противоугонных устройств», от суперсовременных до механических, первой половины прошлого века было понатыкано на пути с поверхности к этой самой двери! Ни в какой компьютерной «стрелялке» такого не увидишь. Воронцову при рассмотрении представленных роботами документов и видеозаписей сразу вспомнились рассказы грабителя египетских пирамид из ефремовской «Великой Дуги».
Но самое смешное, что сразу отметил Дмитрий, сам опытный технарь по минно-взрывному делу и неплохой военно-морской администратор, – маниакальные усилия создателей этих «пещер Аладдина», трудившихся над постоянным совершенствованием систем безопасности больше восьмидесяти лет (получая при этом прекрасное жалованье и неограниченное финансирование), были абсолютно бессмысленны. Они указывали лишь на то, что люди эти, начиная с вполне вменяемого в других вопросах Ф.Д. Рузвельта, в детстве начитались волшебных сказок и другой достаточно низкопробной литературы.
В голове у них засела мысль, что некие злодеи в один прекрасный день попытаются взять штурмом сокровищницы и вывезти тысячи тонн золота в какие-то ещё более тайные и недоступные места. Бредовость такого предположения, элементарное желание смоделировать по степени убывания вероятности линейку угроз для целости своих сокровищ никому не приходила в голову. Напротив, почти каждое высокое должностное лицо, имевшее отношение к проблеме «золотого запаса», чуть не ежедневно придумывало новые фантастические варианты ограблений и спускало вниз проекты всё более безумных директив по их предотвращению.
Целые поколения высококвалифицированных специалистов тратили жизни на эту ерунду. Чего стоила хотя бы система доступа в основное хранилище. Дверь, способная выдержать даже направленный взрыв нескольких тонн (!) пластита, запиралась особо сконструированным кодовым замком, открыть который могли только собравшиеся вместе десять (!) членов правления хранилища, вводя каждый свою часть цифро-буквенной комбинации в определённом порядке. Порядок этот по какому-то алгоритму регулярно изменялся особым, только для этого предназначенным компьютером, не имеющим никакой связи с внешним миром и включаемым в нужное время специально на то поставленным оператором, тоже до невозможности засекреченным. Сами же члены правления каждый раз, непосредственно в шлюз-тамбуре перед дверью, получали свой «номерок» и предупреждение, что паузы между набором фрагментов кода не должны превышать одной минуты, иначе система блокируется и начинается расследование причин…
Жалея, что роботам доступна только имитация чувства юмора, а на самом деле рассмешить их невозможно, Воронцов хохотал в одиночку, по мере поступления всё новых и новых элементов этого безумного пазла, порождённого не то бюрократической паранойей, не то утончённым, в чисто британском стиле, сюрреалистическим остроумием некоего «сумрачного гения», озверевшего от беспросветной тупости окружающего мира.
Адмирал без всякого калькулятора, в уме, как привык на службе, посчитал восьмидесятилетние затраты на этот абсурд и получил итог. Не меньше четверти стоимости бдительно охраняемых сокровищ уже улетело как раз на собственную охрану. И никому из финансово-надзорных ведомств как-то не пришло в голову, что за сравнительно смешную сумму можно этих десять членов правления вкупе с оператором просто купить. Хранилище они откроют. А дальше-то что делать с грузом, требующим для своей перевозки сто пятьдесят железнодорожных вагонов или триста восьмиосных трейлеров? Спрятать похищенные сокровища негде, а довезти до ближайшего морского порта и погрузить на пароход – более чем малореально. Дмитрий вполне серьёзно думал, что просто сложить все эти слитки штабелем на подходящей площадке и назначить для охраны караульную роту было бы в тысячи раз дешевле и не менее безопасно.
Заодно он снова удивился, как нация с таким уровнем мышления своих «лучших представителей» смогла выбиться в «мировые гегемоны», даже при наличии теоретически почти невозможного сочетания природно-географических, политических и экономических условий. Словно на самом деле кто-то ставил эксперимент с гипотезой исследования «А что будет, если?..».
Ну, теперь «Братство» тоже переходит от локальных, вынужденных вмешательств в сюжет довольно бездарно написанной пьески к масштабной его правке. Как раньше режиссёры это делали, тот же Мейерхольд с гоголевской «Женитьбой» или «Лесом» Островского[150].
С курсантских лет, а то и раньше Воронцов помнил чеканную формулу: «Все самые сильные крепости берутся изнутри» (хотя и не совсем был с ней согласен). Но сейчас операция планировалась именно так. Ничего не штурмуя, не взламывая и уж тем более не вынося на поверхность.
Первым делом его андроиды отследили всю систему видеонаблюдения внутри хранилищ. Как Дмитрий и предполагал, девяносто процентов камер, а также масс-детекторов, инфракрасных барьеров и прочей следящей техники было установлено на пути от предзонника охраняемого периметра, на всём протяжении внутренних коридоров, маскирующих подземные этажи здания, на лестницах и в лифтовых шахтах.
Надёжно, с многократным перекрытием контролировались шлюз-тамбуры перед дверями хранилищ и подходы к ним. Имелись даже спрятанные в торцах коридоров пулемёты, простреливающие подходы к дверям сплошь, без «мёртвых пространств».
А вот внутри хранилищ – совсем другое дело. Видеокамеры там, конечно, тоже были, но всего по четыре на зал. И всё. Причём включались они только после того, как начинались манипуляции с дверными замками. Вот, пожалуй, единственно рациональное решение, отмеченное Воронцовым. На самом деле всё просто и разумно. Те, кому положено, вошли. Любой их шаг наблюдается в режиме реального времени и вдобавок записывается. И картинка, и звукоряд. Люди уходят. Сколько вошло, столько и вышло. Дверь закрывается. Освещение гаснет. Камеры выключаются. За чем и за кем наблюдать? Останься в хранилище некто «неучтённый», он просто-напросто умрёт через несколько часов – подвалы герметичны, вентиляция отключается вместе с освещением.
Вот оно и найдено, то самое «слабое звено».
О возможности проникать в наглухо запертые помещения, через пятиметровые бетонные стены и девяностотонные броневые двери, не догадывался даже «великий Гудини»[151].
Но с помощью всё того же совмещения, сейчас только пространственного, андроиду требовалось несколько секунд, чтобы оказаться в хранилище. В полной, абсолютной в буквальном смысле темноте. Ни единого фотона здесь не было и не могло быть. Кстати, когда робот уже начал действовать, руководствуясь только запечатлённой в памяти картинкой зала и расположения объективов видеокамер, Воронцов испытал что-то вроде недоумения. Физику он знал в пределах училищного курса, ну и кое-что сверх того понаслышке. Общаясь с Левашовым и в дни совместной службы, и уже в «Братстве», Дмитрий много чего от того нахватался. Но вот задуматься о проблеме «запертой комнаты» (не в детективном, а в физическом смысле) ему ни разу не представилось необходимости. А ведь есть над чем!
Фотон, насколько известно, элементарная частица, квант света, так сказать. Долгоживущая, фактически – вечная. Сквозь непрозрачные преграды не проходит вроде бы. Следовательно, наполненное фотонами помещение даже после выключения внешнего источника должно всё равно оставаться освещённым? Ибо деться вечноживущим фотонам некуда, они и должны бы метаться со скоростью света от стены к стене, для них непроницаемой. Никуда же не девается из закрытой ёмкости вода, тоже состоящая из атомов, но те – всё равно из элементарных частиц.
Воронцов решил непременно расспросить об этом Олега. Как только закончит с этой операцией.
Робот за пять минут на ощупь нашёл все камеры и заклеил их толстым светонепроницаемым пластырем. Хотя и было установлено, что они включаются автоматически при открытии двери, но вдруг американцы придумали какой-нибудь необнаруженный датчик, включающий камеры при попадании света в объективы. В принципе это была совершенно излишняя предосторожность, потому как именно многоуровневая и медлительная система безопасности не позволит вовремя принять действенные меры против неизвестно как проникших внутрь хранилища похитителей. Только для того, чтобы собрать вместе всех «членов правления», владеющих кодом, может потребоваться не один час. Они же не сидят круглосуточно в форте, у них и личная жизнь имеется.
Но по замыслу акции требовалось сохранять её в тайне до нужного момента.
Всё. Робот включил фонарик, проверяя качество своей работы и одновременно подавая сигнал, что дело сделано. Теперь можно открывать «окно» с поста управления СПВ на «Валгалле» и приступать к следующему этапу. Даже получив свободный доступ в хранилище, выгрузить из него, пусть и с помощью андроидов, во много раз более сильных и быстрых, чем человек, триста с лишним тысяч слитков (если принять за стандарт вес в семьсот девяносто пять унций, или двадцать пять килограммов) – задача непростая. Воронцов просчитал и это. Если установить в хранилище ленточный транспортёр и подавать на него по два слитка в секунду – потребуется почти двое суток непрерывной работы. И ещё столько же – чтобы повторить то же в Нью-Йорке. Многовато для операции, смысл которой именно в секретности и молниеносности.
Время – вот самый лучший защитник набитых золотом пещер, чего тоже не смог сообразить прямолинейный, как рельс, американский ум.
Дмитрий перебрался внутрь подвала. Воздух там был затхлый и какой-то «выдохшийся», словно «Нарзан» в долго простоявшей открытой бутылке. Как будто молекулы кислорода фильтровались сквозь бетон быстрее, чем азот и углекислый газ. И пахло как-то странно. «Золотом», – с внутренней усмешкой подумал Воронцов. А почем бы и нет? За столько лет такая масса металла должна же хоть насколько-то испаряться? В трюмах кораблей, особенно немолодых, всегда ведь пахнет ржавым железом.
Пусть и имел он привычку к глухим отсекам, трюмам и коффердамам, где сухопутному человеку обычно очень не по себе – клаустрофобия сразу начинается, но здесь и Дмитрий чувствовал себя некомфортно. Едва ли только от того, что вокруг немыслимая толща бетона и скал. Очевидно, кроме специфического запаха золото испускало какую-то эманацию, влияющую на психику. Где-то Воронцов читал, что в состав современных слитков входит значительная доля металла, много веков и тысячелетий назад существовавшего в виде согдийских, парфянских, римских и греческих монет, священных сосудов и украшений египетских красавиц эпохи Древних царств[152]. Вот каким-то образом и аккумулировалась тогдашняя аура, а при такой концентрации золота она, наверное, фонит не хуже урана или плутония. Бог знает что от этой радиации подцепить можно.
Надо бы поторапливаться.
Хорошо, что ещё в 1921 году Югоросской реальности они с Ириной, занимаясь модернизацией старых черноморских броненосцев, придумали способ демонтажа и выгрузки на берег взорванных англичанами машин и котлов. Те, уходя из Севастополя в 19-м, без всякой военной необходимости, просто чтобы досадить русским, хоть красным, хоть белым, привели в полную негодность четыре сравнительно боеспособных додредноута, а единственный уцелевший новый линкор, «Воля» (бывший «Император Александр Третий», будущий «Генерал Алексеев»), увели с собой в Стамбул.
По всем техническим канонам без вскрытия палуб и разборки надстроек, требовавших огромной и оттого бессмысленной затраты времени и сил, задача эта была невыполнима. Воронцов, решивший во что бы то ни стало восстановить Черноморский флот и одновременно понимавший всю утопичность этой затеи, буквально измучился, пытаясь найти какое-нибудь нетривиальное решение.
И в какой-то миг его осенило, преисполнив самоуважением и гордостью. Решение было простым и гениальным. А подсказало его воспоминание о том, как аггры, охотясь за Ириной, запеленговали исходящее из квартиры излучение оставленных ею там приборов и каким-то образом вырезали из дома всю квартиру целиком. Хорошо ещё, что сам Олег сумел выскочить без потерь.
Дмитрий отправился тогда к Ирине и изложил ей свой замысел. Она всё поняла сразу, но разочаровала – с одним блок-универсалом изъять нужную деталь возможно, но переправить в нужное место и потом вернуться за следующей помешает принцип неопределённости. Промахнёшься или пространственно, или по времени. Но остановиться Воронцов уже не мог, он чувствовал, что решение всё равно где-то рядом. Так и оказалось.
Это вроде как с тем классом простых по сути задач, для решения которых всего и нужно, что выйти за пределы с детства усвоенных стереотипов.
С одним универблоком не получится, а если использовать ещё и левашовскую СПВ? То есть работать внутри уже созданного канала, находящегося в континууме вне обычного времени и пространства.
Повторяя то, что однажды уже получилось, Воронцов набрал заранее определённую комбинацию на клавиатуре блок-универсала (теперь и он имел собственный, подаренный Фёстом из той добычи, что они с Секондом взяли на базе Дайяны). Словно театральный прожектор на сцене, слегка флюоресцирующий луч высветил часть подвала, попадающую в зону захвата. Вопреки всем законам физики зона имела чётко очерченные прямоугольные границы. Метров по пять в ширину и высоту, около десяти в глубину. Осталось поместить внутрь этой «коробки» участок хранилища с несколькими рядами стеллажей, не задевая краёв соседних, нажатием следующей кнопки ввести заранее заданные координаты точки назначения. И свернуть поле здесь, в подвале.
Вот и всё. Яркое, уже забытое солнце Валгаллы-Таорэры сияет в глаза, едва заметно перейдя полуденный рубеж в не по-земному синем небе. Давно Дмитрию не приходилось здесь бывать, всё ходил по морям на стальной тёзке планеты.
После «золотого подвала» воздух поражал свежестью, густотой и обилием запахов. Будто у Воронцова вдруг резко обострилось обоняние, почти как у собаки-ищейки.
Он посмотрел на знакомые башенки терема, сверкающую под солнцем не хуже настоящего золота бериллиевую бронзу крыши, отсвечивающие оконные стёкла. Захотелось войти внутрь, подняться в свою комнату, просто вспомнить…
«Ладно, зайду, но не сейчас», – пообещал он сам себе.
Временнýю точку перехода Воронцов выбрал так, чтобы не влететь в никчёмный парадокс, не встретиться с самим собой и с кем-то из их компании. Где-то посередине между последним посещением форта Шульгиным и переселением сюда Удолина с компанией. А то есть и ещё микропараллель, локальный мирок, в котором живут, ни с кем не соприкасаясь, жена наркома Шестакова с детьми и егерь – бывший старший лейтенант Российского Императорского флота Власьев. А может, и не живут уже, на каком-то пересечении миров тот Шульгин в роли Шестакова вернул их домой, в Москву. А там как раз война собирается, и что с ними всеми, включая наркома и Сталина, будет? А может, на этой ветке их же стараниями ничего и не случится?
Дмитрий отмахнулся от не к месту пришедших реминисценций[153].
Повинуясь одному движению пальца и воздействию непостижимых, но объективных законов природы, тонн пятьсот (двадцать пять кубометров) золота аккуратно переместились на лужайку перед оградой. Вместе с металлическими стеллажами. Вот что значит глазомер – уровень пола хранилища точно совпал с поверхностью планеты. Только один трёхтонный стеллаж опасно накренился, попав опорой на участок земли помягче. Остальные стояли, как тут всегда и были. Дмитрий хмыкнул, подивившись сюрреалистичности картины, и вновь открыл переход.
За пять приёмов весь товар был переправлен, а залы хранилища стали пустыми и гулкими. Два андроида, протянув с парохода кабели, наскоро, но прочно приваривали изнутри дверь к раме. Это уже просто так – искусство ради искусства. Интригу всегда нужно закручивать поинтереснее. Воронцов посмотрел на ручной хронометр и приказал одному из роботов замкнуть контакты тревожной сигнализации. Будет гарнизону форта «внезапная проверка боеготовности».
…Дмитрий вспомнил историю, рассказанную давным-давно одним сослуживцем, у которого отец работал на Московском Монетном дворе. Дело было ещё в шестидесятые годы. Из вполне герметичного хранилища, не такого навороченного, как это, но с вполне себе серьёзной системой охраны вдруг начали пропадать мешочки с металлическими рублями. По пятьсот штук в каждом. И пропадали они с пугающей регулярностью. Никто ничего не мог понять чуть ли не год. Что там творилось на всех уровнях – невозможно описать. А монеты продолжали пропадать. И неизвестно, сколько бы это длилось, если бы не случай. После очередной пропажи сыщик заметил валяющийся неподалёку от двери юбилейный рубль[154]. И только тогда догадались. Под броневыми дверями склада готовой продукции имелись вентиляционные щели шириной примерно в два пальца. Сообразительные охранники одной из смен изготовили особый крюк, которым сдёргивали с полок и подтаскивали к двери мешочек. Прорезали его бритвой и всю ночь по одному вытаскивали эти самые рубли. Потом забирали и сам брезент. Как уж они их потом выносили «на волю» – другой разговор. А не откатился бы случайно тот рубль в сторону – так и осталась бы в веках легенда о «запертой комнате».
Теперь у американцев будет аналогичная.
В следующие два часа Воронцов с роботами очистили и манхэттенское хранилище. А на Валгалле перед оградой терема выстроились несколькими неровными группами (всё же стопроцентной точности перемещения достичь не удалось) полки, уставленные брусками «жёлтого металла». Наверное, никогда ещё с товаром такой стоимости не обращались столь небрежно. Бросить под открытым небом, без охраны четыреста кубометров, если по объёму. Хорошая получилась производительность труда. Обычные матросы всем экипажем едва ли за неделю бы управились.
Вот и пусть здесь пока полежит. Никуда не денется. Разве что кванги доберутся в одной из своих экспедиций. Но они народ честный, у друзей-благодетелей воровать не станут. Разве один брусочек в научных целях прихватят. Золотовалютного обращения у них ведь не существует.
– Я точно знаю, что было, – с жаром ответил на шутливую реплику Арчибальда Сарториус. – Тонна туда, тонна сюда, но было же! Все разговоры в Интернете, что золотой запас США давно распродан, – полная чушь и дешёвая провокация. Технически невозможно вывезти и продать такое количество золота, чтобы мировой рынок этого не заметил…
– Да как вам сказать, – почесал подбородок Новиков. – Говорят, что перед смертью Сталина золотой запас СССР составлял почти три тысячи тонн, а после Горбачёва осталось всего триста…
– Ну, это совсем другое дело. Все знали, кому следовало, где, сколько, кому и почём Советы продавали свой металл. И длилось это почти тридцать лет.
– У вас тоже – минимум с сорок пятого года, – не согласился Андрей.
– Но здесь же нет вообще ничего, даже свинцовых муляжей… – не успокаивался магнат.
– Букара выхлебала, – вдруг вспомнил Шульгин сценку из фильма «Мичман Панин», где кочегар Камушкин (артист Куравлёв) демонстрирует корабельному врачу исчезновение бинтов, ваты и прочих медикаментов с хирургического столика.
– Что такое «Букара»? – почти дословно повторил реплику штабс-капитана Баха Сашка.
– «Над этим много лет бьются профессора чёрной и белой магии. Пока – безуспешно», – блеснул памятью Шульгин, а ведь фильм смотрел ещё будучи школьником. Но вот запомнилось[155].
– Вас же не очень удивило не так давно, каким образом танковую роту и батальон террористов перебросили в параллель князя Олега? – спросил Новиков. – Вы ведь тогда к этому руку приложили? Ну, тогда туда, сейчас отсюда. Сие знаменует гармонию природы…
– Это не я. Это вот он. – Сарториус, испугавшись, что ему станут «шить» ещё и то забытое дело, указал на Арчибальда.
– Но вы же были в курсе? Правда, сейчас это неважно. Как вы считаете, шум большой поднимется по поводу такой пропажи?
– А это уж как вам угодно. Прикажете – никто ничего не узнает.
– Вот и хорошо. Сейчас свяжитесь, с кем надо, пусть панику прекращают. Двери им всё равно не открыть, они изнутри заварены, сами видели. Не знаю, сколько дней бетон долбить придётся. Скажите – тревогу считать учебной, а всех, кто излишнее любопытство проявит, – убедите помолчать. Как – на ваше усмотрение. – Шульгин подвинул Сарториусу стоявший на столе старомодный, начала ХХ века, телефонный аппарат. – Звоните…
– Как? – не понял Сарториус.
– Да как обычно. Считайте – это обычный проводной аппарат. Набирайте нужный номер, каким бы он ни был, и говорите…
Шульгин снова встал и подошёл к окну.
Воронцов сидел в своей каюте, смотрел в переднее окно на каскады белой пены, вылетающие из-под форштевня после каждого схода парохода с волны, и на золотой слиток, водружённый на откидной столик для карт у правой переборки. Трофей, можно сказать, или сувенир. Как повторял артист Бурков в фильме «Зигзаг удачи»: «Будет что вспомнить!»
Интересно, для чего можно приспособить переброшенный на Валгаллу «всеобщий эквивалент»? России оно не нужно, разве что для шантажа. Любое количество золота и в любом виде можно изготовить дубликатором прямо в кремлёвских подвалах, если возникнет в том необходимость. Может – действительно квангам отдать для всякого рода технических и ювелирных поделок? На это они мастера.
Крышу ещё можно на тереме перекрыть, чтобы как у Высоцкого: «Купола в России кроют чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал». Листами толщиной в сантиметр. Воронцов опять усмехнулся. Теперь уже Лермонтов вспомнился. «А жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, – такая пустая и глупая шутка».
Для нас-то, выходит, действительно «шутка», а для остальных? Ведь то, что они сейчас делают, по своим масштабам обещает перекрыть последствия «Великой Октябрьской социалистической». В целом, если разобраться, человечеству, а главное – России, хуже не будет. Лучше – пожалуй. Но вот сотням миллионов так называемых простых людей в цивилизованных странах, чьё благополучие так или иначе связано с полвека уже надуваемым гигантским мыльным пузырём?
Он вспомнил, как полгода назад на несколько дней они с Натальей выбрались в нынешнюю Москву, где не были вдвоём ни разу со всё того же восемьдесят четвёртого года. Просто развеяться, погулять, посмотреть, как теперь люди живут.
Впечатления, конечно, остались, как говорится, сложные, но в целом, пожалуй, лучше того «коммунизма», который представлялся в молодости. Не далёкий, через тысячелетия, как у Ефремова или Мартынова, не «Мир Полдня» Стругацких, а «реальный», обещанный XXII съездом партии и лично Никитой Сергеевичем на 1980 год. Если не вдаваться в подробности здешней жизни, а просто, как туристы, смотреть по сторонам, на улицах, в магазинах, прочих «достопримечательных объектах» – очень даже впечатляет.
Сидя в кафе с Фёстом и его девушкой, любуясь на перспективу Гоголевского бульвара и восстановленный храм Христа Спасителя, они как раз коснулись заинтересовавшего Воронцова момента – отчего так много среди всяческой обслуги, продавцов, барменов, охранников, зазывал при бесчисленных кабаках и трактирах молодых, крепких, гвардейского роста и «призывного возраста» парней. Иногда неприятно услужливых, иногда глядящих на клиента с почти пролетарской ненавистью.
– Вы ж поймите, Дмитрий Сергеевич, это и есть «общество потребления», к которому все так стремились. Особенно – родители этих самых ребят. Ваши ровесники, кстати…
Вряд ли Вадим собирался «старшего брата» поддеть, но прозвучало именно так.
Воронцов сделал вид, что не обратил внимания.
– И хорошо «потребляют»? В наше время, кстати, – повторил он словечко и интонацию Ляхова, – всякого рода услужающие, при дефиците состоящие, официанты, продавцы вообще, а уж мясники в особенности, богачами считались. Но уважением не пользовались. Заискивали перед ними некоторые, но от того ещё больше презирали. А у вас как?
– Ну, акценты сместились, конечно. И не богачи, и насчёт уважения… В открытую не презирают, но люди, серьёзными делами занятые, таких не уважают, это точно. А с другой стороны – куда им всем деваться-то? И работы настоящей на всех нет, да и психология… Вот этот пацан – Фёст указал на широкоплечего парня лет двадцати пяти, разливавшего пиво, – тысяч двадцать здесь получает, Ну, чаевые кой-когда. Кормится бесплатно. Но и всё. А пойди он в армию на контракт – тысяч пятьдесят заработает, а то и больше. И служба опять – уважаема, только далеко не всеми. Вот и выходит… – Вадим махнул рукой.
А сейчас Воронцов думал, что в «новом мире», который может возникнуть в ближайшее время, огромному количеству парней, подобных тому бармену, придётся всё же идти или на военную службу, или к станку, или в поля – трактористом, комбайнёром, чабаном.
Потребность в лакеях не исчезнет совсем, конечно, но испарятся, «впадут в ничтожество» девяносто процентов тех, кто сейчас обеспечивает их работой. Слесарям, трактористам, настоящим людям «умственного труда» просто некогда будет слишком часто по кабакам и клубам болтаться. Всё придёт в некое соответствие.
Только один вопрос: как пройдёт эта очередная «перестройка»? Согласятся ли эти «профессиональные», или, как выразился один здешний госдеятель, «квалифицированные» потребители и их обслуга на мирный переход из бесчисленных офисов и контор к станкам и в поля? Или опять начнётся очередной период смуты и бунта, как всегда – «бессмысленного и беспощадного».
Но и оставлять всё как есть, опять «отойти в сторону», удалиться «под сень струй», на Валгалле или в Югороссии, – уже невозможно. Правильно сказал недавно Новиков – чувство вины и долга не даёт покоя.
Так что пусть всё идёт, как идёт, с Божией и нашей помощью. Это ведь своего рода телеология[156], всё, что случилось или произошло. Существовавшее для каждого из членов «Братства» предназначение сначала свело их вместе, а потом (или одновременно) запустило тот самый процесс, что и продолжается до нынешнего момента. Отказаться, сойти с этого пути невозможно по определению. Как раз потому, что никто не знает – способен ли твой отказ хоть что-нибудь изменить или окажется всего лишь ещё одним шагом в предписанном направлении, но уже с противоположным знаком.
Похоже, думал Воронцов, пора всю мощь «Братства» к делу подключать. Новиков с Шульгиным, как и в самый первый раз, процесс инициировали, а теперь им одним не справиться. Что бы они сами по этому поводу ни думали. Начинается, как бы это поделикатнее сказать, – «головокружение от успехов», как некогда товарищ Сталин свою статью об итогах первого года коллективизации озаглавил.
Только, чтобы обид никаких не было, нужно кое-какие моменты предварительно согласовать. А то решали всё больше моменты, «непосредственно вытекающие», а теперь вот на оперативный простор выходим, тут другая степень взаимодействия сил и средств нужна.
В Замок Воронцов переместился, никого не беспокоя, с помощью «синхронизатора», что Антон вручил ему ещё в Сухуме, в преддверии всего за той «случайной встречей» последовавшего[157]. Сарториус как раз говорил по телефону, раздавая инструкции боссам подконтрольных структур, иногда не имевшим никакого формального отношения к той теме, что им поручалась.
– Докладаю, господа-товарищи, товар успешно доставлен во франко-порт, – вспомнил давнюю манеру общения с этими именно «товарищами» Воронцов. – Вот, наконец, и сбылось гениальное предвидение Владимира Ильича. Пролетариат наконец может понастроить себе нужников из пресловутого металла. Не банальных унитазов, как некоторые сейчас, а именно классических нужников, о которых у Даля написано: «Нужник – отхожее место, куда отходят за нуждой, сортир». Целиком, и стены, и крыша, и пол с очком…
– Ну да, только в профильные листы прокатать надо, – согласился Сашка.
– А жарковато летом не будет? – засомневался Андрей.
Минут пять ещё поизощрялись на «заданную тему», выпили по рюмочке. Сварганили дельце на много миллиардов, отчего бы этот случай не отметить? Тут бы и шампанского не грех спросить, закурили.
– Я, собственно, не совсем по этому вопросу к вам заскочил, – заметил Дмитрий. – Хотел предложение сделать…
– Кому? – заозирался Шульгин. – На данный момент незамужних барышень поблизости не наблюдается…
– Придётся тебе, за неимением. Как там у ваших глубокопочитаемых? «Предлагаю считать сумерки сгустившимися»?[158] А я предлагаю первый этап затеянной нами операции считать выполненным и ближайшую задачу – достигнутой…
– Ну-ка, поясни, – заинтересовался Шульгин.
– Извольте-с. Президента Юэсэй в известное положение поставили. Деваться ему теперь некуда. Этого господина тоже к общему знаменателю привели, – указал он на Сарториуса. – Механизм переформатирования не только наших со Штатами отношений, но и самого «объекта акции» запущен. Я правильно понимаю?
– Ну, в общих чертах, – осторожно сказал Новиков. Воронцов был такой человек, в общении с которым расслабляться не стоило. Как и в невинных на первый взгляд беседах с Сократом, что наглядно изобразил Платон в своих «Диалогах».
Дмитрий удовлетворённо кивнул.
– А вот тот самый «общий резерв», что необходим для решительного развития наметившегося успеха, мы предусмотрели?
– То есть? – снова спросил Новиков, по глазам Сашки поняв, что тот уже начинает соображать, к чему ведёт речь адмирал.
– Да вы же уже всё поняли, – с видом преподавателя, которому больше не нужно разжёвывать студентам прописную истину, сказал Воронцов. – За дальнейшим развитием событий нам просто не уследить. Физически. Как всем известному Штирлицу, завербовавшему, кроме Бормана, ещё Кейтеля с Кальтенбруннером. Получал бы он информацию о делах в рейхсканцелярии, ОКВ, РСХА. Отслеживал что-то там на уровне гауляйтеров и штабов армий. А что ниже? Приказ не дошёл до исполнителя, неправильно понят, просто проигнорирован, ибо «на местах виднее»… А тут ведь нужен постоянный мониторинг – что сделано, какой результат, соответствует ли замыслу или срочно надо что-то менять. Объёма внимания и времени не хватит…
– Ах, вот ты о чём, – согласно кивнул Новиков. – Пожалуй. Тут нам и Сарториус с Арчибальдом плохая подмога.
– Что и требовалось доказать.
– И с каким предложением ты пришёл?
– Как будто можно придумать что-то новое. На «внутреннем фронте» немедленно замкнуть все существующие спецслужбы друг на друга. Пусть начинают взаимную «охоту на ведьм». Пресса соответственно переключается на беспрерывное освещение постоянно раскрываемых заговоров, тайных сетей исламистов, буддистов, сионистов, сторонников возрождения империи ирокезов, возвращения Техаса Мексике и так далее. Лютенс поднимает архивы эпохи маккартизма[159] и повторяет всё, что тогда было – в десятикратном масштабе. Как у нас в тридцать седьмом. Чем бессмысленнее и страшнее, тем лучше. Но – никаких упоминаний о России, коммунизме и тому подобном. Только коррупция, борьба за передел сфер влияния внутри страны, превращение Америки в тоталитарное государство, исламский терроризм… Масоны, сионские мудрецы, «Чёрные пантеры»[160], «мировая закулиса», да кто угодно подняли головы, чтобы совместными усилиями сокрушить «американскую мечту»…
Воронцов закончил свой пассаж и с интересом ждал реакции друзей и Арчибальда. Сарториус продолжал говорить по телефону в дальнем углу библиотеки и ничего этого не слышал.
– Долго готовился? – спросил Новиков.
– Да как тогда с вами на пароходе поговорил, так и начал размышлять. Помните, был у Ленина такой труд – «Заметки постороннего»? Вот и я как некий «посторонний» начал проигрывать «на картах» разные варианты. Думаю, дойдут ребята до «точки невозврата», тут и мои соображения на что-то пригодятся…
– Пригодятся, отчего бы нет? – кивнул Новиков. – Что ж мы, по-твоему, совсем в детство впали? Рановато ещё. Мы и сами примерно так же, как и ты, мыслили. Сейчас не двадцатый год в России, когда лёгкого толчка хватило, чтоб всю историю поменять. Ни вдвоём, ни впятером Штаты на шестнадцать румбов не развернуть. Как и нашу «Валгаллу» рулевым веслом. И соображения на «вторую фазу операции», как ты выразился, у нас есть. Интересно бы сравнить, что у тебя ещё, кроме прозвучавшей декларации. Насчёт маккартизма и «пантер» подсказка к месту. Про мексиканцев мы думали, собирались даже кое-что покруче завернуть… А что ты под «общим резервом» понимаешь?
– То же, что и учебник стратегии генерала Леера. Не учтённые противником силы, превосходящие возможности обороняющейся стороны парировать наносимый ими удар…
– То есть? – до сих пор не понимая, что Дмитрий имеет в виду, спросил Шульгин. Арчибальд тоже не выглядел школьником-отличником, с трудом удерживающимся от того, чтобы не закричать: «А я знаю, а я знаю!» Один Удолин по-мефистофельски усмехался, довольный, что его идеи с использованием «Детей американской революции» чем-то совпадают с соображениями Воронцова.
Похоже, Дмитрий действительно придумал нечто, выходящее за плоскость обыденных представлений. Словно бы житель двухмерного мира, догадавшийся, что такое «высота», и научившийся ею пользоваться. А сами они слишком долго общались с представителями если и гуманоидной, но только по некоторым внешним признакам, цивилизации, в действительности полностью и совершенно чуждой человеческому мышлению.
Даже нобелиат Скуратов испытал острый приступ комплекса неполноценности, догадавшись, что те «нечеловеческие логики», что он исследовал в своих трудах, так же соотносятся с действительностью, как излюбленные математиками N-мерные пространства или физиками – «абсолютно чёрное тело».
Вывихивая мозги в попытках осознать, что на самом деле собой представляет мышление «высших дуггуров» (а те людей, похоже, в общебытовом плане воспринимали гораздо адекватнее)[161], участники экспедиции, в какой-то мере и временно, конечно, утратили привычную связь с земной реальностью. Отчего и не смогли, как это умели раньше, с лёту уловить ход мыслей Воронцова.
Впрочем, следует признать, Дмитрий с первых дней знакомства ухитрялся ставить в тупик оригинальностью и вызывающей нестандартностью своего мышления не только компанию своего сослуживца Левашова, но даже и самого Антона.
– Вы, по-моему, слышали о завершении автономного существования мадам Дайяны с её пансионом благородных девиц и не менее благородных юношей…
– И слышали, и видели, – осторожно сказал Шульгин.
– Так вот, означенная мадам Дайяна, с которой вы знакомы гораздо ближе, чем я…
– Ну, не настолько уж ближе, – с двусмысленной улыбочкой сказал Шульгин, которого с первого дня знакомства, несмотря на все неприятности, что она им доставила, главная аггрианка весьма интересовала в весьма прозаическом плане. Действительно ли она может оказаться столь же интересна как женщина, как обещает её внешность и некоторые детали поведения, или это всего лишь иллюзия, и она – не более чем зримое воплощение возложенной на неё функции. Вроде Арчибальда.
– Это – твоя проблема, – сочувственно сказал Воронцов. – Никто не мешает дерзнуть…
– Где уж нам. Ещё превратит в козлёночка…
– И это в лучшем случае, – согласился Дмитрий, сохраняя полную серьёзность. – Но в остальном она пошла нам навстречу до крайних пределов. Признала свой вассалитет по отношению к «Братству» и предложила использовать возможности возглавляемой ею Школы в полном объёме…
– Вон ты о чём, – даже слегка присвистнул Новиков. – Лихо!
– На том стоим, – пожал плечами Воронцов. – Начинал бы ты трудовую биографию не в белом врачебном халатике, а вроде меня – безвестным летёхой, ещё без самостоятельного допуска, да при командире – дураке и садисте… Или повесился бы, или научился мыслить нестандартно.
Дмитрий повернулся к окну, которому, согласно антуражу, следовало бы выходить на Неву с Петропавловской крепостью на том берегу. На самом же деле из него виден был безбрежный серый океан слева и цепь невысоких холмов, поросших редкими, деформированными постоянными ветрами соснами вдоль тянущегося примерно к юго-востоку полуострова. Унылое, но завораживающее зрелище.
– А вот и снежок пошёл, – сказал он.
Действительно, с низкого рыхлого неба цвета махорочного пепла довольно густо сыпал снег, на волнах и на мокром пляже исчезающий бесследно, а на суше уже не тающий.
– Зима пришла, а мы и не заметили, – с какой-то грустью продолжил он. – Но зима или лето, а воевать всё одно надо. Означенная мадам Дайяна предоставляет в наше распоряжение (я с ней вчера на эту тему уже говорил) две сотни своих курсантов и курсанток, подготовленных как раз к подобной деятельности. Кое-кто из них специализировался на европейских и даже азиатских странах, но это дело поправимое. И даже сама готова возглавить Северо-Американскую резидентуру. Уж чего-чего, а опыта ей не занимать…
– Кто бы спорил, – согласился Шульгин. – Только как-то это…
– Не по правилам, ты хочешь сказать?
– В этом роде. Только вроде бы избавили Землю от инопланетного нашествия, и снова? Выходит, аггры всё-таки выигрывают свою партию?
– Вот Арчибальд с нами за одним столом сидит. Вы оба ничего не имеете против Ирины и… – он многозначительно глянул на Сашку, – Сильвии. Дайяна ни на что большее не претендует. Вы же ничего не имели против самостоятельности Сильвии в Англии, и не только?
– Ну, так, значит, так, – неожиданно быстро согласился Шульгин. Очевидно, намёк на его бывшие «особые отношения» с леди Спенсер достиг своей цели.
– Как ты это видишь?
– А что тут видеть? Для начала все они, кого мы отберём, переправляются в Штаты в качестве совершенно частных лиц. По мере необходимости Лютенс, да и камрад Сарториус подскажут, на каких участках им потребуются легальные сотрудники. Ну и мы, со своей стороны, тоже подумаем. Представляете, они, имея Шары, да под руководством Дайяны, которая будет свободна от ограничений, что на неё прежний статус и должностные инструкции накладывали, смогут взять под контроль все узловые точки и все ключевые фигуры Штатов. Конгресс, Сенат, Госдеп – всё…
– Эк ты разошёлся, – покачал головой Новиков. – Остапа понесло… Не так всё просто. Мы ту же картинку немного по-другому видим. Полторы сотни помощников и помощниц нам, натурально, не помешают, но…
– Пускать козла в огород… – из глубины своего кресла бросил Удолин.
– Да я же пока так, в плане общих рассуждений. Подработаем детали, диспозиции напишем, – слегка сдал назад Воронцов.
– И тебя над Дайяной смотрящим поставим, – улыбнулся Новиков.
– Я могу и сам справиться, – возразил Шульгин. – Зачем усложнять контуры управления?
– Друзья, друзья! – воззвал Удолин. – Любите вы поговорить. А наш уважаемый Арчибальд жестами показывает, что обед готов и столы накрыты. Может быть, прервёмся на какое-то время?
– Абсолютно правильная мысль, – согласился с профессором Воронцов. – Заодно вопрос у меня, уже на другую тему. Вы не слышали, что там с американским авианосцем приключилось? Мне вахтенный сказал – по радио что-то очень кратко и бессвязно передали. Я и подумал…
– Неизбежная на море случайность, – ответил излюбленной присказкой Воронцова Сашка.
Глава двадцать вторая
Волович не успел наклонить горлышко бутылки над стопкой, как «железнодорожник» твёрдо, но без излишней грубости отобрал у него коньяк.
– Достаточно, пожалуй. Не в кабаке всё же. Вам вопросы задали. Ну и начинайте отвечать. По порядку. Волович Михаил Иосифович. Это мы знаем. Возраст, род занятий, происхождение, сословие… Так, чисто справочно.
На первые два пункта он ответил честно – тридцать шесть лет, журналист. Дальше запнулся. Происхождение? Не дворянин точно. Не купец, не крестьянин. Раньше писал в анкетах – «из служащих». А здесь как?
– Родители – педагоги, – попробовал он выкрутиться. – Предыдущие два поколения тоже. А ещё раньше – мещане, пожалуй.
«Пенсне» хмыкнул и что-то записал карандашом в блокнот. Михаила всегда раздражало в чужих текстах распространённое: «Сделал пометку». Пометки коты и собаки делают, а люди пишут.
На какую ерунду внимание отвлекается, чтобы хоть на несколько секунд оттянуть «момент истины». Или, как в том анекдоте – «Пока не началось».
– Забыли, в каком сословии числились? А ведь не мальчик уже к семнадцатому году были, университет, наверное, окончили. Какой, кстати?
– Московский, разумеется, – ответил Волович, тут придумывать ничего не надо.
– Факультет?
– Филологический.
– У кого учились? – изобразил живой интерес «пенсне». – С какого года по какой?
Михаил впал в ступор. Сказать правду, что поступил в девяносто шестом? Не поверят. Ему тогда пять лет должно было быть, если «тысяча восемьсот». А про «девятьсот» лучше и не заикаться.
– Не помню, – только и выдавил он.
– Удивительно. С чего бы вдруг такая амнезия? Сословия не помните, когда и у кого учились – тоже забыли. Однако говорите грамотно, культурно, ни в каких житейских реалиях не путаетесь, рубли в валюту и обратно переводите без усилий. Сигареты вон американские выбрали, а не папиросы «Ира», «что остались от старого мира». Интересно это всё. И товарищ Агранов вас не в больницу Кащенко отправил, а сначала в тюрьму, потом в своё общежитие. На вольное поселение, так сказать… Вас самого это не удивляет?
Волович, в голове у которого слегка плыло всё, и не от коньяка поверх водки и пива, а просто так, словно перед обмороком, обречённо пожал плечами:
– Устал удивляться. В тюрьме четыре дня в потолок смотрел, только этим и занимаясь…
«Железнодорожник» сочувственно вздохнул:
– Ну хоть где работали, в каких газетах и журналах? Пусть не название, пусть только направление… Специальные, ведомственные или для широкой публики? Фельетоны писали, уголовную хронику или про политику? За большевиков, против?
Волович помотал головой.
– Как хотите – не помню. Чтобы не растягивать допрос – сразу скажу: не помню ничего с момента появления на окраине Москвы. Причём в воде. Как бы очнулся от холодной воды. Вылез на берег, стою, озираюсь. Тут автомобиль подъезжает. С чекистами. Сажают и везут. На Лубянку. К тому, кого вы назвали Аграновым. Он меня расспрашивал почти о том же, что и вы. Потом в тюрьму отправил. Из тюрьмы – в общежитие. Я спросил коменданта – мне разрешили прогуляться в город. Там встретились ваши люди. Доставили сюда. Вот всё, что я могу вам честно сообщить… Про газеты? Тоже не могу сказать. Ни названия, ничего. Кажется, политикой я занимался. Про выборы какие-то писал… Про демонстрации несогласного с властями народа…
Сказал и, внутренне сжавшись, стал ждать, что будет дальше. Последние фразы он приплёл специально. Насколько он помнил историю, последние «свободные выборы» здесь были только в Учредительное собрание. Десять лет назад. Тогда же и демонстрации антибольшевистские были. В то же время говорил он чистую правду. На борьбе за «чистые выборы» и против «антинародного режима» имя, можно сказать, себе сделал. Тут хоть на детекторе лжи проверяй – честен он, как на духу.
Вообще люди, к которым он попал, казались ему гораздо страшнее Агранова. Если только они не подосланы Аграновым же, чтобы взять его, так сказать, с другого конца. Но верилось в это слабо. Зато Михаил каким-то верховым чутьём понимал, что по-любому говорить и им, кто он и откуда, никак нельзя. Поверить-то они скорее всего поверят (как и Яков), люди серьёзные и явно неглупые, сообразят, что никакой вражеский агент такую «легенду» лепить не станет. Разве что за сумасшедшего примут, но нет, эта тема уже поднималась и отработана.
А раз поверят, то начнут вытягивать из него абсолютно всё, что он знает о «другом мире». А главное – будут добиваться, чтобы выдал секрет «перехода». И цель. Ну и что он ответит? Значит, единственная разумная тактика – до последнего изображать потерю памяти. Как бы нелепо это ни выглядело. Впрочем, почему так уж нелепо?
Он много чего читал и слышал о самых разных вариантах амнезий, ретроградных и антироградных, полных и «мозаичных», о выпадениях памяти строго выборочных. Бывают ещё и конфабуляции, сиречь ложные воспоминания при полностью сохраненных качествах личности, опровергнуть которые при отсутствии документальных доводов невозможно. И ряд других, крайне интересных повреждений мыслительного процесса. То есть подкован был Михаил в этой теме гораздо лучше, чем бухгалтер Берлага со своими жалкими магараджами, кунаками и слонами. А что вы хотите – XXI век, время всеобщего увлечения психическими расстройствами, извращениями и психоанализом.
«Железнодорожник» встал и, перегнувшись через стол, два раза быстро, сильно и очень больно ударил Воловича по лицу раскрытой ладонью. В голове зазвенело, как от хорошего нокдауна, и было это вдобавок гораздо обиднее, чем удар кулаком.
– За что? За что вы меня бьёте? – откинулся Михаил на спинку стула, чувствуя, что из носа потекла кровь. Ему захотелось сжаться в комочек и спрятаться под стол. Вдруг не найдут. Или – оказаться в уютной и спокойной тюремной камере ГПУ. О Москве XXI века отчего-то даже не вспомнил. Мир вокруг сжался до сиюминутной реальности, какие там прошедшие и будущие времена! Чистый инфинитив[162].
– А чтобы дурака не валял, – спокойно ответил «пенсне». – Давай я тебе чуть подробнее обстоятельства времени и места изложу, раз ты филолог. Как и я. Окончил тот же факультет в девятьсот десятом. Так что кое-что ещё помню. И что ты с университетским образованием – вижу. Тут не прикинешься. Что в ту, что в другую сторону.
– А я вот помню, как бывший камергер дворником успешно много лет прикидывался, – неизвестно к чему сказал Волович. Видимо, просто по привычке не оставлять без ответа ни одну реплику собеседника.
– Чушь! Час-другой – ещё можно, да и то немыслимо театрально выйдет. А больше нет – простая моторика выдаст. О вербальных сбоях и принципах построения силлогизмов говорить даже не будем.
Михаилу всё здесь было дико и невероятно, но этот разговор, после двух ужасных пощечин, вообще выходил за любые рамки. Кафка, натуральный Кафка.
«Железнодорожник» усмехнулся каким-то своим мыслям и ещё раз ударил Воловича. Прежним образом.
– Так о чём я? – как бы не заметил этого «пенсне». – Меня, кстати, Ардальон Игнатьич зовут, а товарищ заместитель управляющего дорóгой – Станислав Стефанович. Так вам удобнее будет и заодно понятнее, что только полное и чистосердечное признание и согласие на сотрудничество обеспечат вам дальнейшее существование. Иначе какой нам смысл перед вами раскрываться? То есть или вы с нами, или…
– Паровозная топка, – без выражения продолжил его мысль Станислав Стефанович. – Никаких следов, даже запаха не останется, дым из трубы с хорошей тягой идёт, и сразу в атмосфере рассеивается. Куда удобнее, чем в стационарном крематории…
Михаилу стало совсем плохо, он с удовольствием провалился бы в беспамятство, но не получалось. И сфинктеры, на удивление, сохраняли тонус, хотя услышанное сейчас было куда страшнее того, что сказал ему Ляхов на прощание.
– Да товарищи, дорогие, – рыдающим голосом проговорил он, – всё же я прекрасно понимаю. Но нечего мне вам сказать, как вы не хотите поверить? Агранов три часа меня допрашивал и убедился, что не вру я! Сказал, расставаясь: «Живите, вспоминайте, нам спешить некуда. Тюрьма не хуже клиники Ганнушкина…[163] А то и к нему самому обратимся». Думаете, мне самому легко? Ну это как спросонья бывает. Помнишь, кажется, сон во всех деталях, а попытаешься удержать – сразу как туман рассеивается. И у меня сейчас так же. Кажется – была у меня жизнь, как у всех людей, учился, работал, вот язык культурный сохранился, вы правильно заметили, и всё, что умел, – вроде бы умею. Увидел сигареты в «Торгсине» – потянуло купить, знал, что вкуснее и удобнее папирос. Но где их курить научился, где раньше покупал – полный мрак. Ничего не могу воспроизвести из прошлого. Как мать звали – и то не скажу, а четыре дня промучился, вспоминая. Помню, однажды на праздник какой-то, Новый год, кажется, напился сильно – и тоже утром ничего понять не мог. Ни где я, ни что за женщина со мной лежит, и почему она совсем раздетая, а я совсем одетый, даже в туфлях… Сейчас – почти то же самое.
Ардальон Игнатьич кивнул боевику-автоматчику, тот исчез в ближнем тамбуре, вернулся с метровым куском резинового садового шланга. И без всякого предупреждения начал наотмашь хлестать Воловича по чему придётся, не трогая при этом головы.
Больно было до невероятности, даже через одежду. Михаил вывалился из полукресла, упал на пыльную ковровую дорожку в позе эмбриона, пряча голые кисти рук между колен. Откуда-то в голове билось знание, что таким шлангом легко можно перебить тонкие кости, а тогда будет совсем плохо.
– Хватит пока, – услышал он голос Ардальона. – Для вразумления – хватит…
Напрасно люди выдумывают всякие изощрённые методики пыток. От иголок под ногти до магнето полевого телефона. Не говоря уже о химии. На самом деле если есть какая польза от прогресса в пыточном деле, так это экономия сил самого дознавателя. А так результат одинаковый. Волович уже готов был сказать всё, что угодно, и подписать, что подсунут, если б потребовалось. Одно останавливало – сознание того, что «признание» только ухудшило бы его положение. Обычно пытаемый только ради этого и начинает говорить – чтобы перестали мучить. Хоть расстрельную статью на себя взять, лишь бы вот сейчас перестали.
А в его положении? Чем больше скажешь, тем больше дашь палачам повода продолжать, в надежде узнать «главную тайну». И ничем их не убедишь, что как раз её-то и не знаешь. Раз сначала молчал, а потом признаваться начал, а теперь снова замолчал, значит, нужно ещё добавить. И расколешься, до донышка, никуда не денешься.
Не так стройно и логично рассуждал Михаил, пока шланг изощрённо гулял у него по почкам, по рёбрам, по ягодицам и бёдрам. Но если бы перенести клочья раздёрганных мыслей на бумагу, в стройном порядке, отделив от всплесков тёмной вегетатики, получилось бы нечто похожее. По сути.
Его подхватили под руки, кое-как утвердили в углу поездного дивана, на стуле бы он не усидел. «Путеец» помахал перед его лицом картонной папкой вместо веера, посмотрел в зрачки, хмыкнул удовлетворённо:
– В порядке клиент. Здоровущий, соответственно фамилии…
Михаилу сунули в рот зажжённую сигарету. Его собственный «Кэмел». Губы и зубы были целы, поэтому затянулся он нормально, только рукой сумел дотянуться до сигареты с третьего или четвёртого раза. Тремор, боль в плечах и дискоординация. Но ничего, получилось.
Бил автоматчик умело, ничего не скажешь. Пока хлестал – глаза на лоб от боли вылезали, а сейчас вроде и ничего, так, ноет, саднит кое-где, но вполне терпимо.
Очевидно, эти мысли отразились на его лице, потому что Ардальон, присевший напротив, сказал участливо:
– А вы не обольщайтесь, Михаил Иосифович. Это вас для первого знакомства приласкали просто. Чтобы в курс дела ввести. А если Валерьян всерьёз возьмётся, как раз всё время между «сеансами» будете от боли волком выть и кровью мочиться. А чтоб с собой чего богопротивного не сделали, наручнички на ночь надевать будем. Вот и думайте, что оно лучше – форс держать или по-хорошему сказать, о чём спрашиваем…
– Да нечего мне сказать, нечего, понимаете вы это? – почти заорал Волович, едва успев подхватить выпавшую сигарету. – Вы ж умный на вид человек, образованный. Неужели не видите – никакой я не шпион, не агент белых и иностранных разведок. И не Джордано Бруно – не из-за чего мне на костёр идти, муки терпеть. Про Агранова всё сказал, как было. А больше нечего! И ни про каких представителей Югороссии ничего не знаю. И что такое – Югороссия ваша…
– Стоп, стоп, уважаемый. Тут язык чуть придержите. Ничего, значит, не знаете. И про Югороссию тоже. Даже не слышали? А где ж вы жили всё это время?
Похоже, господин «пенсне» только сейчас задумался всерьёз. Поначалу ему всё казалось простым и понятным. Взяли человека, неизвестно откуда доставленного прямо в «Центральный аппарат» ОГПУ, а не в рай– или даже губотдел, к примеру. С которым сам Агранов беседовал долго и с глазу на глаз. Такого удостаивались лишь «весьма важные персоны». Резиденты зарубежных разведок, например, или контрреволюционеры с именем, как тот же Савинков. А потом совсем непонятное началось. Подержали три дня во «внутрянке», на допросы больше не вызывали, это достоверно известно. И сидел в одиночке, ни к кому его не подсаживали, ни в роли «наседки», ни, наоборот, для «раскрутки». Надзиратель за непомерные для него сто рублей каждую минуту отсидки «загадочного узника» им по полочкам разложил.
А потом вдруг взяли и отпустили. Пусть и под «гласный надзор», но отпустили же! И что это может значить?
Потому и решили взять этого человечка к себе, поработать с ним. В борьбе с ренегатской властью нельзя ни одного шанса упускать, а этот шанс представлялся весьма и весьма перспективным.
Только сработали, теперь Ардальону это стало понятно, топорно до крайности. Что поделаешь, все опытные товарищи повыбиты или перебежали на сторону Троцкого с Аграновым. Импровизировать приходится с теми, кто есть. Но задача трудной не казалась. Изъять человека, поговорить с ним по-доброму или как получится, повлиять на струны, те или иные, он и выложит что-нибудь важное и интересное. Наверняка. Тогда и дальше работу планировать можно.
Но сразу всё не так пошло. Наперекос. И всерьёз думать приходится начинать в самой невыгодной позиции.
Ардальон Игнатьевич, фамилию имевший почти фельетонную – Лютиков, был человеком одновременно и умным, и моментами жестоким, почти до патологии. Отчего знающие его поближе люди за глаза называли – «Злютиков», и он, когда нужно, умело маневрировал между двумя этими прозваниями, а также и ипостасями.
Подпольный свой нынешний псевдоним придумал тоже без затей, но со смыслом – «Шило». И он, и напарник его, Станислав Стефанович Выдревич («Тормоз»), принадлежали к глубоко законспирированному, на словах и по материалам партийных съездов давно разгромленному, идейно и физически, «левому уклону» в партии. Левее некуда. Но не совсем того плана, что имел место в «настоящем» СССР, при товарище Сталине.
Здесь «левые», они же «твёрдокаменные ленинцы» (почему должны были бы считаться скорее «правыми»), полностью отрицали всё, что происходило в стране и в партии с того самого рокового дня, когда «белые» нанесли «красным» сокрушительное поражение в Таврии, а товарищ Ленин скоропостижно скончался. Бессовестно поступил, нужно сказать, – бросил соратников на произвол судьбы и под власть «Иудушки» Троцкого.
А тот, понятное дело, тут же и проявил всю свою подлую сущность «межрайонца»[164], заключил с белыми мир, ещё более «похабный», чем пресловутый «Брестский», отдал им самые населённые и плодородные губернии и оставил в «помещичье-буржуйском рабстве» миллионы рабочих и крестьян. При этом никого из «твердокаменных» не интересовало то, что в Югороссии помещиков не существовало в принципе и вся земля была поделена «по едокам» среди вполне свободного крестьянства. И было оно вполне довольно наконец наступившим «мужицким счастьем».
Поначалу ждали, что возмущённые трудящиеся сметут и в Стране Советов ненавистного «Иудушку», но – не вышло. Если Брестский мир сам собой через полгода «приказал долго жить», то Харьковский держится уже почти семь лет.
А в РСФСР пышным цветом расцвел так называемый НЭП (хотя правильнее было бы – расцвела), то есть тот же, слегка задрапированный красной материей капитализм. И партия перерождается на глазах. Революционные лозунги заменили троцкистские «Учитесь торговать!» и «Обогащайтесь!», несмотря на то что Х съезд РКП заявил, будто НЭП является только «тактическим отступлением», при сохранении за партией «командных высот в политике и экономике» и курса на «полную и окончательную победу в мировом масштабе».
Первый раз «левые» попытались исправить положение и вернуть власть в свои руки в начале двадцать первого. Второй – в двадцать пятом. Не получилось[165]. Дошло до того, что Троцкий позвал на помощь против бывших «товарищей» врангелевских золотопогонников, которые и залили Москву святой пролетарской кровью.
Однако не смирились истинные революционеры. Царских застенков, виселиц и каторги не боялись, три года рубились с «беляками» на просторах России, от Каменец-Подольска до Читы, так не склонять же голову перед предателем «рабочего дела»!
Нет, склонить-то можно, признать «былые ошибки», «разоружиться перед партией», а там посмотрим, чья возьмёт. Не может же миллионная партия и многомиллионный народ так и жить покорно, набивая брюхо «кулацкими подачками»[166] и «объедками с барского стола»[167], неотвратимо скатываясь туда, откуда Ильич, не жалея сил и самой жизни, тащил их и тащил, к свободе и свету?!
Лютиков и Выдревич, как и многие сотни таких же «леваков», сумели в своё время не подставиться, не попасть в мясорубку и молотилку чуть не ежеквартальных «чисток» и «месячников критики и самокритики». Наоборот, как большевики с дореволюционным стажем, вполне заслуженно состояли членами ЦК и занимали серьёзные административные должности, вполне справляясь с возложенными на них обязанностями.
И параллельно продолжали беспощадную подпольную борьбу, заново восстанавливая разгромленные ячейки, накапливая силы, внедряя своих людей во все структуры не до конца разложившейся партии. «Сдавали» ОГПУ продавшихся нэпманам бюрократов-ренегатов, не за страх, а за идею трудясь в РКИ[168] и партгосконтроле, до абсурдных пределов расширяя их права и компетенцию. При случае – физически уничтожали тех не подлежащих перевоспитанию «предателей», до кого могли дотянуться. Находили и «в своём коллективе воспитывали» новых единомышленников, жаждущих справедливости и «всемирной коммуны», писали программные статьи и поощряли творческую молодёжь, мыслящую в правильном направлении. Один перспективный юнец написал и даже напечатал в университетской многотиражке поэму, где были прошедшие мимо внимания редактора слова:
Вот такие и подхватят ленинское знамя, сегодня испохабленное «проституткой Троцким». Прав был Ильич, когда заклеймил его так, на века, задолго до того, как всё случилось. Рассмотрел своим всевидящим взором его подлую натуру…
Нашлись свои люди и в ОГПУ, в близком окружении самого хитрого и опасного из предателей, Якова Агранова. Доложили они немедленно, что подобрали где-то люди из секретно-политического (а почему именно из него, кстати?) отдела странного человека и что лично начальник ГУГБ им занимался. А всем известно – главный инквизитор на мелочовку не разменивается.
Вот о чём говорили чекист с беспамятным бродягой – неизвестно, прослушки в аграновском кабинете не имелось. И потом в тюрьму ненадолго посадили «гостя из ниоткуда», а потом совсем отпустили. Вопрос – зачем?
Самое простое решение – взять, да и поспрашивать.
Ну вот, взяли. И что? Молчит, говорит, что не помнит ничего.
А если правда? И Агранов на самом деле умнее их всех. Не сумел ничего добиться, не стал пытать до смерти, а взял, да отпустил. Пусть погуляет. Глядишь – найдётся кто-то, кто «гостем» заинтересуется.
И зачем-то этот самый Агранов вышел на связь с югороссами. С непонятной их «полпредшей» и жандармом кадровым. На него материалы нашлись, и довольно подробные, в архивах Петроградского охранного отделения. Про довоенную службу. И про военную нашлось, и про службу у белых. На расстрел гражданин Кирсанов давным-давно заработал. А вот даже и не маскируется. Под прежней фамилией по Москве ходит. Дипломатический паспорт его защищает. Ничего, придёт время, от пролетарской пули не спасётся.
Но что-то ведь этих персон в личности «гостя» заинтересовало?
Значит, и не их он агент?
Лютиков сам решил заняться этим непонятным персонажем. А он ведь не просто «какой-то там»! Он руководитель МГК[170] «коммунистов-ленинцев», он же по совместительству заведующий «партийной контрразведкой», он же, легально и официально, – заместитель директора[171] МГУ «по общим вопросам». Проверенный товарищ, с дореволюционным стажем, давно бы ему прямой путь в наркомы или секретари ЦК, а не хочет. «Пролетарскую скромность» проявляет.
А для подпольщика его нынешний пост хороший, удобный – оклад жалованья очень приличный, паёк «академический», квартира при университете, где, как и в его служебном кабинете, под разными предлогами десятки людей ежедневно бывают, не уследишь. График работы – свободный, масса времени и одновременно неограниченные возможности работать с тысячами студентов и студенток, которые есть самый подходящий, перспективный материал для грядущей, четвёртой по счёту и окончательной революции.
То стихотворение про Ганг и прочее как раз один из членов университетского литобъединения написал. Разве согласятся такие ребята до старости «общество всеобщей средней зажиточности» строить? А кроме «Общества Самых Молодых Гениев» ещё сотен пять уже подготовленных идейных бойцов-практиков в университете имеется, некоторые – с опытом Гражданской войны. Прочие в кружках Осоавиахима и Всевобуча занимаются[172]. И оружия припасено достаточно. Половина военных складов Московского военного округа под контролем. Момент бы только нужный пришёл.
«Но если этот Волович – не гэпэушный агент и не белогвардейский – тогда чей? И агент ли вообще? Агентов разве так готовят и забрасывают? – Лютиков только сейчас к этой простейшей мысли пришёл. До этого азарт голову закружил, как же, большая тайна в руки сама идёт! С самим начальником ГУГБ связанная! – И легенды у них всегда – не подкопаешься: и снаряжение по легенде, да и сами по себе люди другие. А этот – жирный хлюпик. И голова пустая, и карманы. Во взгляде никакого характера не просматривается. А разве без характера в шпионы можно? Нет, в шпионы-то можно, если на своём месте сидишь и какие-то секреты связнику сбрасываешь, деньги за то получая. А вот в «закордонники», в диверсанты, в резиденты, допустим, в «агенты глубокого залегания» – таких самый последний дурак не возьмёт».
«Стоп, стоп, – мелькнула хвостиком мысль. – Карманы, говоришь, пустые? А доллары тогда откуда?»
Об этом он вполне дружелюбно спросил Михаила, даже ещё полную стопку налил, чтобы, значит, зла не держал.
…Не следует всё же забывать, что Волович, при всех его негодяйских качествах, был человеком из следующего столетия, на генетическом уровне усвоивший его ни с чем не сравнимый опыт. Об истории, в том числе и новейшей, и о психологии знал больше, чем все здешние учёные и политики. С теми аспектами этих наук, о которых в двадцать седьмом году ещё и задумываться не начали.
Поэтому дать нужный ответ ему труда не составило.
– Когда в тюрьме переобувался, под стелькой бумажку нашёл. Как туда попала – понятия не имею. Но довольно давно она там лежала – сильно грязная и на сгибах потёртая была. Воняла, прошу прощения. Мыть пришлось и сушить, да и то кассирша в Торгсине долго купюру в руках вертела…
– Ботинки ж ваши были?
– Мои, без сомнения. Понял, о чём вы. Значит, сам я деньги туда и положил. Когда и зачем – упаси бог, не знаю. Не помню и этого.
– Почему «упаси»? «Ей-богу» надо говорить, – машинально поправил Ардальон.
– Наверное, вы правы. Но уж как сказалось. А знаете что? – вдруг загорелся идеей Михаил. – Давайте вместе моей загадкой займёмся. Как Шерлок Холмс и Ватсон у Конан Дойла. Вы заинтересованы, а уж я – неизмеримо больше хочу истину, значит, установить. Я буду вам говорить всё, что вспомню, вы – анализировать и силлогизмы строить.
– Слышь, Шило, а парень дело говорит, – вдруг вмешался Выдревич. – Забить его мы завсегда сможем, хоть насмерть, а кому от этого лучше станет? А если вместе помаракуем, он, даже если и вражина настоящая, куда больше вольно или невольно выболтает, да и нас на мысли какие наведёт…
– Какая из него вражина? – резонно спросил Лютиков. – Ни беляк, ни из троцкистов, на простого вора – и то не тянет. Просто – «Таинственный незнакомец». И ты, Тормоз, сегодня же найдёшь в своих энкапээсовских больницах самого лучшего психиатра. Или правда, самого Ганнушкина – пусть они этого перца нам на молекулы разложат…
Вагон, после короткой остановки на каком-то полустанке, вышел за пределы очень тогда компактной Москвы, фактически – в пределах Окружной железной дороги, и резвее застучал колёсами по частым стыкам. За окнами потянулись то берёзовые, то осиновые, то еловые перелески.
– Мне вот чрезвычайно интересно, как это при полной потере памяти вы ухитрились сохранить свою личность нетронутой, и даже такие хитрые вещи не забыли, что такое доллары, как их до «товарного вида» довести, куда с ними бежать и на что потратить… Удивительная прямо избирательность, – задумчиво сказал Выдревич, вернувшийся к уже затронутым Воловичем моментам. Сейчас он как-то незаметно утратил вид жестокого пыточных дел мастера и стал вполне располагающим к себе путейским инженером. – Правда, я и не психиатр. У них там, бывает, такое случается…
– Меня тоже это удивляет. Знаете, есть впечатление, что в меня будто какая-то программа вложена… не та, о которой вы подумали, – предупредил Волович, заметив недоумение в глазах собеседников, – не школьная программа и не какая нибудь «Готская»…[173] В моём понимании «программа» – это нечто вроде диска, что вставляется в «механическое пианино». Понятно? Или проще сказать – как бы глубоко загипнотизирован я. Велено всё лишнее забыть, а что для чего-то нужно – оставили. И я ни малейшего понятия не имею – человек ли я ещё или неведомо чей инструмент, умеющий говорить и двигаться…
«Вон как хорошо завернул! – с гордостью подумал Михаил. – Пусть теперь мозгами ворочают. Объясню им, что самое правильное теперь – ждать, когда «программа» снова себя покажет. То есть повторить то, до чего Агранов уже додумался…»
Но Лютиков и без него понял, к чему клонит непонятный персонаж. Только подобный вариант его совсем не устраивал. Ждать неизвестно чего, неизвестно сколько и что получить взамен? Пшик! Как в известной сказке?
Дверь, ведущая в тамбур, тихо открылась, и в салон неуловимо-стремительными движениями, словно бы даже и несвойственными обычным людям, скорее – каким-то тропическим змеям, втекли сразу три человека, вооружённых короткими пистолет-пулемётами, раза в три более компактными и лёгкими, чем американский «Томпсон», чудо техники двадцатых годов.
– Всем не двигаться, – скомандовал один из ниоткуда возникших бойцов, лицом удивительно напомнивший Воловичу тех морских пехотинцев, что защищали дачу президента во время неудачного путча. – Руки за голову. Все! Стреляем по коленям, если что, а это больнее, чем в лоб…
Спорить никто не стал, только у Лютикова быстро-быстро задёргалась щека. Застарелый тик, в нормальных обстоятельствах себя не проявлявший. Волович как-то сразу понял, что для него, похоже, события поворачиваются к лучшему. Эти парни с автоматами, похожими на милицейские «АКСУ», явно из «нашего» времени.
Но вошедший вслед за ними человек к «нашим» никак не относился. Одетый в элегантное сиреневое летнее пальто, широкополую шляпу, с лицом «нордическим», но вполне современным для начала двадцатого века, с пронзительно-синими глазами, он вызывал невольное уважение и некоторый холодок в животе.
– День добрый, коллеги, – поздоровался он с Лютиковым и Выдревичем, стягивая тонкую кожаную перчатку с правой руки. – У вас здесь курят? – Он потянул носом. – Ну, тогда и я. Куда едем, кстати?
– Да так, просто по окрестностям катаемся, – ответил Лютиков, справившийся с тиком. – А что у нас заинтересовало белую контрразведку?
– Я присяду? – так же вежливо спросил закуривший толстую папиросу из золотого портсигара, неоднократно виденного Воловичем у своих московских «знакомых», очередной гость.
– Да ради бога, Павел Васильевич, – заулыбался Выдревич. – Пусть ваши люди опустят оружие. Мы сопротивляться не собираемся. Так понимаю – у нас появились некие общие интересы?
– Как вы хорошо умеете угадывать, товарищ, – ответил яркой улыбкой гость. – Именно общие интересы, о которых следует говорить конфиденциально. Пусть ваши люди в тамбур отправляются. Но без глупостей. Мои ребята за ними присмотрят. А мы поговорим обстоятельно и не торопясь… На темы, могущие представлять весьма серьёзный и взаимный интерес для всех присутствующих.
Волович не поверил себе, но странный, явно знакомый его похитителям гость, представляющий ещё большую, чем они сами и, наверное, Агранов, силу, краешком губ улыбнулся ему и вроде бы даже подмигнул.



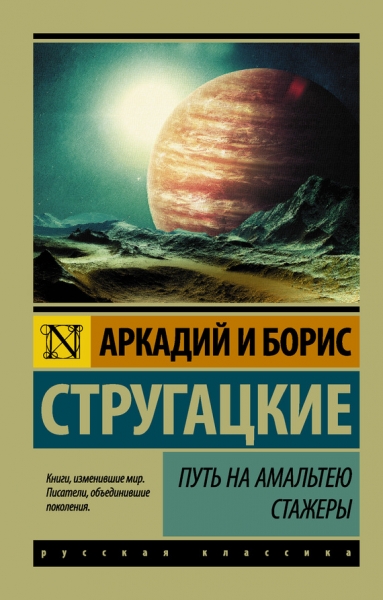

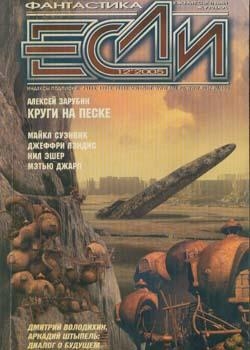
Комментарии к книге «Одиссей покидает Итаку. Книги 14-21», Василий Дмитриевич Звягинцев
Всего 0 комментариев